Андрей Валентинов Дезертир
Вполне справедливо утверждение, что в этом мире нет ничего мертвого и то, что мы называем мертвым, лишь изменилось…
История сделает только одно: она пожалеет людей, всех людей, ибо всех постигла горькая доля.
Томас Карлейль. История Французской революции.Действие 1 Некий шевалье пытается найти «Синий циферблат», или Париж в 1793 году
Небо было серым и плоским. Оно находилось совсем рядом – только протяни руку. Но я знал – это мне не по силам. Я не мог двинуться, не мог даже закрыть глаза, чтобы очутиться в спасительной темноте. Все потеряло смысл перед беспощадной истиной, близкой и безликой, как эта неровная, шершавая небесная твердь.
Я умер.
Я умер, и умер давно.
Голоса возникли внезапно – неясные и приглушенные, хотя говорили, как мне почудилось, совсем рядом. Вначале я не мог разобрать ни слова, но затем смысл стал доходить, словно кто-то, сжалившись, вновь даровал способность понимать уже ненужную мне человеческую речь. Те, что никак не хотели оставить меня в покое, были чем-то недовольны, голоса звучали раздраженно и зло.
– Еще один!
– Да пошли отсюда! Он же мертвый!
На миг я испытал облегчение. Да, я мертв, и пусть меня оставят в покое – одного, под серым холодным небом. Но голоса не стихали, они звучали все ближе, и вот небо дрогнуло. Вначале я не понял, но затем кто-то далекий и невидимый подсказал: меня приподняли, мне повернули голову…
– Хорош!
– Брось его, сержант! Вон их сколько!
Надо мной склонились тени – неясные, размытые контуры, в первый миг показавшиеся громадными, неправдоподобно высокими. Небо исчезло, мою голову вновь повернули, темная тень коснулась шеи…
Удивленный свист. Призрак, склонившийся надо мной, распрямился.
– Живой! Гражданин лейтенант, этот жив!
Жив? Я хотел тут же возразить, но не смог даже шевельнуть губами. Наверное, этот, кто подошел ко мне, на войне совсем недавно, если путает такие очевидные вещи…
…На войне! Я вспомнил! Меня убили на войне. Но не в бою, а как-то иначе. Впрочем, это уже все равно. Сейчас тот, кого назвали лейтенантом, подойдет и велит оставить меня в покое. Я мертвый, все, что со мной хотели сделать, уже сделано…
Второй призрак – такой же неясный, еле различимый на фоне серого неба, на миг оказался совсем рядом.
– Да, живой… Странно, он же весь в крови!
На миг я ощутил обиду и злость. Что они там, ослепли? Почему меня не хотят оставить в покое? Что им нужно?
– Приколоть, гражданин лейтенант?
Если бы я мог усмехнуться, то, конечно, сделал бы это. Нашли чем напугать! Меня, мертвого!..
– Погоди, гражданин Посье. Посмотри документы…
Меня вновь приподняли, темное пятно оказалось у самого лица. Кажется, обшаривают карманы… И вновь я ощутил злость – за такие вещи расстреливают! Мародеры! Был бы я жив…
Снова свист – удивленный, даже растерянный.
– Деньги! Ого! Гражданин лейтенант!
– Фальшивые?
На мгновение мне захотелось, чтобы деньги, которые они вытащили у меня из карманов, оказались непременно фальшивые. Из олова. Или даже из свинца, еле покрытого серебром…
– Настоящие вроде… Гражданин лейтенант! Вот! Вот!
– Что это?
Заминка. Тени были по-прежнему рядом. Что-то их заинтересовало, что-то необычное. Я уже понимал – не деньги. Что-то лежало у меня во внутреннем кармане, и это «что-то» сейчас внимательно разглядывается теми двумя, которые никак не хотят оставить меня в покое.
– Гражданин… Гражданин Шалье…
Голос звучал совсем по-другому – негромко, виновато. Тень склонилась совсем близко…
– Гражданин Шалье! Вы меня слышите?
И вновь хотелось объясниться. Я не Шалье! У меня была фамилия, было имя – когда-то, когда я был жив. Но эта фамилия звучала совсем иначе! Наверно, меня спутали с каким-то другим человеком – с гражданином Шалье, который действительно жив, которому, конечно же, надо помочь…
– Да…
Вначале я не понял, откуда донесся голос, но затем с изумлением сообразил, что это мои губы шевельнулись и это я попытался ответить – негромко, еле слышно…
– Гражданин Шалье! – Теперь в голосе лейтенанта звучала радость. – Все в порядке! Вы среди своих! Я – лейтенант Дюкло из роты Лепелетье![1] Сейчас позовем врача…
– Не надо, лейтенант. Я не ранен…
Я ответил, не думая, хотя и не солгал. Врач мне не нужен, и я не ранен. Но откуда-то издалека, словно с края света, донеслась странная мысль. Солгал не я, солгал он. Я, кем бы я ни был когда-то, не среди своих. Свои не называют друг друга нелепым словом «гражданин». И в той армии, где я когда-то служил, не было и не могло быть никакой роты Лепелетье. Роты должны иметь номера…
И вдруг я понял, что призраки исчезли. Вместо неясных расплывчатых силуэтов передо мной были люди – обычные молодые парни в синих шинелях с белыми ремнями. Тот, что слева, наверно, лейтенант – на его треуголке я заметил большую трехцветную кокарду…
Трехцветную? Я ощутил какую-то странность. Кокарда не должна быть трехцветной! Она должна быть белой! И шинели не могут быть синими! Синее носят враги…
Все стало на свои места. «Синие»! Мы так и называли их – «синие»! Каратели… Убийцы… Рота Лепелетье – кажется, тот, кем я был раньше, слыхал о такой!
– Вы – из Внутренней армии?
– Так точно, гражданин национальный агент![2] Только вы не разговаривайте. Нельзя вам! Эй, где там врач?
Национальный агент? Эти слова мне ничего не сказали, но теперь я уже понимал, что случилось. Меня приняли за другого – за национального агента Шалье, который в отличие от меня жив и даже не ранен. И виной этому документ – тот, что вытащили из внутреннего кармана моего камзола. И вдруг я вспомнил, как выглядит этот документ – большая, плотная, чуть желтоватая бумага, сложенная вчетверо, с загнутым уголком. Да, эту бумагу я помнил, как и то, что я не имел к ней никакого отношения. Мне ее дали – перед самым концом, перед тем, как я увидел склонившееся надо мною серое небо…
– Где тебя носит, гражданин? Скорее!
Эти слова относились явно не ко мне. Рядом были по-прежнему двое, но вместо молодого парня в треуголке – того, кого лейтенант называл гражданином Посье, оказался кто-то другой – средних лет толстячок с небритым подбородком и в совершенно штатского вида шляпе.
– Где тебя носит, гражданин Леруа? Скорее!
Сейчас все выяснится! Этот Леруа (неужели нельзя сказать «господин Леруа»?) явно врач. И каким бы он ни был скверным врачом, он, конечно же, определит, что я мертв. И тогда меня оставят в покое. В покое… Большего мне не хотелось, да и невозможно мечтать о чем-либо другом такому, как я. Ведь мне уже ничего не надо…
И тут я вновь ощутил беспокойство. Нет, я ошибался! Что-то мною не сделано! Что-то важное! Да, в этом-то все и дело! Они принимают меня за живого, потому что я сам не могу отпустить себя! Серое небо совсем рядом, но туда дорога закрыта, потому что не сделано нечто важное – настолько, что я готов притвориться живым, как бы нелепо это ни звучало…
Я ощутил холод. Кажется, кто-то – наверно, все тот же гражданин Посье, нескладный рябой парень в косо сидящей шинели, – принес воду, много – целое ведро, и сейчас этот, с небритым подбородком, пытается что-то сделать с моим лицом. Они что, решили меня умыть? Я чуть не рассмеялся, но затем сообразил. Кровь! Ведь я весь в крови – лицо, рубашка, камзол, плащ. Я истек кровью – и незачем отмывать ее. Впрочем, сейчас все выяснится…
– Что с ним?
Голос лейтенанта – резкий, нетерпеливый. Гражданин Леруа почему-то медлит с ответом. Экий бестолковый! А может, мне попросить этих, в синем, сделать то, из-за чего я не могу успокоиться? Конечно, они враги. Внутренняя армия – шайка озверевших от крови санкюлотов,[3] убийцы и грабители. Я воевал с ними, пока был жив. Но я мертв, у мертвых не бывает врагов! Я попрошу, и они сделают. Но для этого надо вспомнить, что именно мною не исполнено. Я должен приехать… Нет, я должен найти… Но ничего не вспоминалось, а тот, кто подсказывал мне откуда-то с края света, замолчал.
– Странно, не могу найти рану… По-моему, он не ранен, гражданин лейтенант!
– То есть как? А кровь?
Я чуть не фыркнул от возмущения, слушая этот вздор, но решил пока не вмешиваться. Разница между живым и мертвым слишком очевидна, ее заметит даже гражданин Леруа, пусть он и трижды шарлатан. Жаль, я ничего не могу вспомнить! Сейчас они уйдут…
– Наверно, контузия, гражданин лейтенант. Это, похоже, не его кровь…
Меня вновь приподняли, осторожно сняли плащ, чьи-то пальцы расстегнули рубашку…
– Да… – лейтенант изумленно покачал головой. – Странно… Гражданин Шалье!
Стало ясно – от меня не отстанут. Я кажусь им живым. Но, может, воспользоваться этим?
– Я не ранен… гражданин лейтенант…
Слово «гражданин» далось с немалым трудом, но дальше пошло легче. Даже голос окреп, и я вдруг понял, что могу двигать руками, могу приподняться…
– Я не ранен. Меня контузило…
– Ясно! – Лейтенант резко встал. – Носилки! Живо!
– Погодите!
Я попытался подняться, меня тут же подхватили и помогли присесть. Небо исчезло. Я увидел поле, голые черные деревья и дорогу – узкую, неровную, ведущую куда-то за дальний лес.
– Число… Какое сегодня число?
– Первое фримера,[4] гражданин Шалье. Первое фримера Второго года…
Я даже не удивился, хотя прекрасно помнил, что месяцы в году называются иначе. Пусть будет фример. Пусть будет Второй год. Не это сейчас важно…
– Где мы?
– В трех лье от Лиона, гражданин Шалье. Мы получили приказ вернуться в Париж…
Лион…[5] Слово упало в пустоту. Мне ничего не говорило это название. Хотя нет, что-то вспомнилось, и это «что-то» было слишком очевидным. Я умер в Лионе. Бротто! Конечно! Моя смерть называлась именно так! Бротто! Но что это? Имя? Кличка?
– Если вам нужно в Лион, гражданин Шалье, мы…
– Нет.
В Лионе мне делать нечего. Незачем вновь глядеть в глаза собственной смерти. Но мне не нужен и Париж. Мне нужен… Мне нужен…
«Синий циферблат»!
Странное название на миг удивило, но затем я понял. Тот, кто подсказывает мне откуда-то с края земли, наконец сжалился. «Синий циферблат»! Я должен добраться туда! Добраться как можно скорее, иначе будет поздно! Я и так потратил слишком много времени, пока лежал здесь, возле голого черного поля, рядом с такими же мертвецами, как я сам…
– Хорошо!
Я отстранил руку сержанта, попытавшегося поддержать мой локоть, и медленно встал. Теперь я уже мог видеть все – поле, лес, красные черепичные крыши деревни на горизонте и толпу небритых парней в плохо сшитых синих шинелях. Рота Лепелетье – те, кого мы не брали в плен. Каратели из Внутренней армии, месяц назад переброшенные из Бретани. Там они входили в состав Третьей Адской колонны генерала Россиньоля… Да, тот, кем я был раньше, помнил все это – и многое другое. Но теперь это не имело значения. Эти голодранцы, не умеющие даже правильно подогнать шинели, неспособные отличить мертвеца от живого, отвезут меня в Париж. Теперь я был уверен: «Синий циферблат» – что бы ни означали эти странные слова – находится именно там. Я постараюсь успеть. Я должен успеть: живой ли, мертвый – не имело теперь никакого значения.
Небо вновь стало далеким и тусклым. Тяжелые тучи закрывали солнце. Так и должно быть – ведь сейчас уже фример. Фример – последний осенний месяц Второго года Республики. Французской Республики, Единой и Неделимой, основанной на вечных и священных принципах Свободы, Равенства и Братства. Свободы – от Бога и совести, Равенства – перед ножом гильотины и Братства – в безымянных братских могилах, присыпанных негашеной известью… Пока я был жив, я делал все, чтобы уничтожить Чудовище. Жаль, не хватило жизни. Жаль, что даже сейчас, мертвому, мне приходится быть среди врагов. Рота Лепелетье – именная, отборная, из последних подонков предместья Сен-Марсо. Теперь я помнил и это. Странно, но ненависть исчезла, словно оставшись где-то там, в ушедшей жизни. Теперь мне было все равно. Я мог откликаться на прежде ненавистное слово «гражданин», говорить с этими парнями в синих шинелях, даже улыбаться. Теперь это уже не имело значения…
Итак, я смотрел в тусклое, покрытое тяжелыми тучами небо и слушал, как скрипит несмазанными колесами телега. Мы ехали медленно, останавливаясь в каждой деревне, и мне то и дело хотелось поторопить лейтенанта Дюкло, чтобы он не медлил. Мне надо найти «Синий циферблат»! Он был где-то впереди, я чувствовал это! Чувствовал – но каждый раз заставлял себя сдерживаться. Да, я спешу, но торопить этих парней нельзя. Идти быстрее они не могут – обувь плоха, у большинства ноги разбиты в кровь, и любой нормальный командир остановился бы в ближайшей деревне минимум на неделю. Лейтенант Дюкло делает, что может. Мне даже начал нравиться этот нескладный парень, из которого в настоящей армии вышел бы неплохой сержант. К сожалению, сын мебельщика из Сен-Марсо выбрал другую дорогу. И очень жаль, что он слишком любит поговорить. В каждом селе лейтенант непременно выступает перед испуганной толпой крестьян, разъясняя им суровую мудрость Конвента, решившего сровнять с землей город Лион и основать на его месте Свободную Коммуну. И сейчас, в дороге, он, не имея слушателей, то и дело подходит к моей телеге, пытаясь завести беседу. Хорошо еще, гражданин Леруа каждый раз объясняет ему, что национальный агент Шалье нуждается в покое и отдыхе…
Гражданин Леруа не оставлял меня своей опекой. Я уже успел наслушаться о контузиях, черепно-мозговых травмах и всем прочем, имеющем, по мнению ротного эскулапа, ко мне самое прямое и непосредственное отношение. Спасало одно – лекарств в саквояже этого медицинского светила давно не водилось, а посему мне рекомендовался лишь полный покой, что меня вполне устраивало. Вначале я посчитал небритого лекаря полным олухом, но потом понял – гражданин Леруа не виноват. Со стороны я действительно похож на контуженого. Я решил не спорить – пусть все идет своим чередом…
– Гражданин Шалье, вы не спите?
Проще всего было ответить: «Сплю», а еще лучше – промолчать, но, похоже, нечистый решил дернуть меня за язык.
– Нет. Наверно, на всю жизнь выспался.
Это чистая правда. Спать совершенно не тянуло. Хотелось просто лежать, глядя в небо и ни о чем не думая. Но поговорить стоило, ведь лейтенант может что-нибудь знать о «Синем циферблате»…
– Я хотел у вас спросить. Мы тут с ребятами… то есть с гражданами, разговаривали…
Я уже давно приметил любопытную подробность. «Синие» называли друг друга исключительно на «ты», как и положено истинным голодранцам-санкюлотам. Мне же все, включая лейтенанта, говорили «вы». Похоже, тут не обошлось без той бумаги, что ныне, вновь сложенная вчетверо, лежит в кармане моего камзола.
Толстая желтоватая бумага с отогнутым краем. Большие неровные буквы. «Французская Республика, Единая и Неделимая… Комитет общественной безопасности… Именем Республики… Всем военным и гражданским властям… Предъявитель сего, гражданин Жан Франсуа Шалье…»
– Так они меня спрашивают… Только поймите меня правильно, гражданин Шалье…
В голосе лейтенанта слышалась неуверенность, и я его хорошо понимал. Ибо Жан Франсуа Шалье, национальный агент, посланный от имени Республики, Единой и Неделимой, с важным и секретным поручением и имеющий право пользоваться всеми видами транспорта, равно как изымать в свою пользу любые суммы из гражданских и военных казначейств, мог понять лейтенанта и неправильно, а в этом случае сына мебельщика не защитит и вся его рота. Порукой тому подписи, стоящие под последней строчкой удостоверения. Страшные подписи, способные лишить дара речи даже лейтенанта из Сен-Марсо: Робеспьер… Вадье… Шовелен… Амару… Бийо-Варенн…
– Разговоры у нас идут, гражданин Шалье… Давно идут, еще с лета. Будто в самом Конвенте… Ну плохо, в общем…
– Плохо? – Я чуть не рассмеялся. С чего это в сатанинском логове будет хорошо?
– Будто измена там. И не просто в Конвенте. Говорят, в каком-то из комитетов…
Я даже привстал от неожиданности. Плохи, похоже, дела у Единой и Неделимой, если о таком болтают лейтенанты!
– Ведь что получается, гражданин Шалье! Мы уже восьмой месяц воюем, сначала в Бретани, потом у Лиона. Считай, десятки деревень прошли, если не сотни. Хлеба-то везде – завались! Урожай в этом году – девать некуда! А в Париже хлеба нет. Вот отец пишет – очередь с вечера занимают, и то не каждому хватает. И разве это хлеб – серый, с отрубями…
Я чуть было не ляпнул, что гражданам санкюлотам отруби в самый раз, но вовремя прикусил язык. А действительно, почему?
– Париж – большой город, – начал я осторожно. – Крестьяне напуганы, не спешат везти хлеб. Кроме того, не все хотят продавать хлеб по «максимуму»…[6]
Лейтенант помотал головой:
– Я с крестьянами говорил… Многие хлеб в Париж везут, а он – как сквозь землю. Это первое… Потом осел этот…
– Осел?!
Мне показалось, что я ослышался, но Дюкло тут же повторил:
– Осел, гражданин Шалье. Когда мы из Нанта уходили, местный представитель – гражданин Каррье – праздник устроил. Ну процессия, песни – все как обычно. А потом смотрим – впереди осел идет. Гражданин Каррье приказал на осла епископскую митру надеть, а к хвосту Библию привязать…
Я прикрыл веки, чтобы этот парень не заметил мой взгляд. Жаль, что я мертвый…
– Там же все верующие, гражданин Шалье! Как же так можно? Потом гражданин Каррье приказал на площади иконы сжигать и книги священные. В Нанте церкви все закрыли… Вы бы видели, как женщины плакали!
– А мужчины уходили в отряды Шаретта и Рошжаклена,[7] – не сдержался я и понял, что когда-то уже слыхал об этом. И об осле, и о закрытых церквах, и об арестах священников…
– Мы хотели в Париж написать, в Конвент. Ведь это провокация, хуже не придумаешь! А потом пришел «Монитор» из Парижа… Так там такое же гражданин Шометт[8] устроил. И совсем недавно – в Лионе. Я даже к гражданину представителю Фуше[9] ходил, а он мне сказал, что это борьба с фанатизмом. Какая же это борьба?!
Я с интересом покосился на лейтенанта. А парень неглуп!
– Гражданин Фуше приказал все часовни и церкви при кладбищах закрыть. А потом собрать Библии, требники – книги, в общем, – и на могиле Шалье[10] сжечь…
Наши глаза встретились, и рот лейтенанта удивленно открылся. Я поспешил усмехнуться:
– Не родственник. Однофамилец.
Гражданин Дюкло, тут же успокоенный, кивнул, но я знал, что солгал этому парню. Точнее, сказал лишь часть правды. Я, конечно, не имел никакого отношения к безумному Шалье, вождю лионских якобинцев, которому отрубили голову двенадцатью ударами тупого топора. Но тот Шалье, чей документ спрятан у меня в кармане, был его двоюродным братом. Подумалось и о другом: такое «родство» может пригодиться…
Тут лейтенанта отвлекли – что-то случилось с одной из повозок, – и я был избавлен от необходимости отвечать на его скользкие вопросы. Хотя для себя я уже давно дал ответ. Конечно, никакой измены в Конвенте нет. Если не считать того, что все эти «граждане представители» – цареубийцы и преступники, чье место – рядом с гражданином Шалье Лионским, которого добрые горожане отправили на плаху. И чем больше Единая и Неделимая будет совершать подобное, тем лучше. Глаза откроются. Они уже открываются…
Эти дни, проведенные в повозке на старом колючем сене, позволили привыкнуть к нелепому ощущению – мертвеца среди живых. Я уже знал, что со стороны кажусь вполне обычным человеком. Я сменил залитую кровью рубашку и попытался очистить плащ и камзол. Те, кто нашел меня, после некоторого раздумья пришли к выводу, что я был контужен в бою у дороги, где какой-то «синий» отряд столкнулся с бойцами армии Святого Сердца. Меня попытались вынести из боя, но те, кто меня нес, были убиты – или ранены, – и кровь их залила меня с ног до головы. Такая версия всех устроила, и я, конечно, не спорил, хотя знал, что эта кровь – моя. Носить покрытый засохшей кровью камзол было неприятно, но я не спешил расставаться с ним. Камзол был частью меня – прежнего, настоящего, того, кем я был. А тот, кем я был прежде, похоже, отличался предусмотрительностью.
Это я понял в первый же день, когда постарался незаметно осмотреть свою одежду. Итак, во внутреннем кармане лежало сложенное вчетверо удостоверение национального агента, в боковом – толстая пачка ассигнатов, которая столь удивила сержанта, решившего обшарить покойника. Деньги – более восьмисот ливров – оказались настоящие, хотя цена этим бумажкам была невысока. Но под подкладкой камзола я нащупал нечто более интересное – тяжелые кружочки, размером (память не подвела и на этот раз) как раз с гинею, которую чеканил двор Его Величества Георга Английского. Двадцать гиней и еще одна монета, какая-то странная. Не удержавшись, я попросил нож и аккуратно достал монету из тайника.
…Три ливра – новенькие, сверкающие хорошим серебром. На одной стороне – крылатый Гений со стилосом, пишущий на большой грифельной доске, возле которой пристроился маленький галльский петух. Нелепая надпись «Царство Разума», и год – не Второй, а истинный – 1793-й. На другой – номинал, непонятная буква «А» и, конечно же, надпись «Французская Республика». В общем, обычная монета, на которую можно прожить целый день, а то и два (благо не ассигнат, а настоящее серебро), если бы не одна странность. Край был испорчен – слева от крылатого Гения чьи-то руки аккуратно вырезали небольшой треугольник. Конечно, деньги обрезают, особенно высокопробные, но здесь дело было в чем-то другом. Я спрятал монету и решил пока ее никому не показывать.
Итак, тот, кем я был раньше, предусмотрел если не все, то многое. За эти дни мне уже не раз приходилось задумываться над непростым вопросом – кем я был? Вначале думалось, что невозможность вспомнить собственное имя будет не давать покоя, даже сводить с ума. Но вышло иначе. Я почему-то совсем не волновался. Просто ко многим загадкам прибавилась еще и эта. Впрочем, кое-что я понял сразу. Тот, кого нашли возле вспаханного поля, воевал за Родину и Короля, защищая Лион от орд Кутона и Колло д'Эрбуа. Но смерть встретила его не там, он погиб в самом Лионе, и имя его смерти – Бротто. Я чуть было не спросил у лейтенанта Дюкло, что означает это странное имя, но что-то удержало. Лишь потом я понял, в чем дело. Мне – нынешнему – незачем знать, кем был я раньше. Жизнь прожита, и мне осталось одно – добраться до Парижа и найти «Синий циферблат». А дальше все устроится само собой, ведь мне, мертвому, абсолютно нечего опасаться. Если я и волновался, то не за себя, а за то, что оставил в «Синем циферблате». Но и об этом я старался пока не думать. Успею – Париж совсем близко.
В ближайшей деревне, где отряд намеревался остановиться на ночлег, нас ждал сюрприз. Деревня оказалась битком набита солдатами, но не из Внутренней армии, а почему-то из Западной. Вскоре все разъяснилось. Один из отрядов армии Святого Сердца, прорывавшийся из Лиона на север, столкнулся с батальоном Внутренней армии и был вынужден свернуть прямо на парижскую дорогу. Неудивительно, что в Париже началась паника, и две сотни драгун, которые ждали отправки куда-то на границу с Бельгией, были брошены в сторону Лиона. Здесь, возле этой деревни, и произошла встреча. Кто-то из беглецов сумел уйти, но большая часть – около полусотни – была изрублена возле самой околицы. И теперь победители весело праздновали успех. На деревенской площади местные «патриоты» накрыли столы, Дерево Свободы – неказистый тополек с высохшей кроной – было украшено трехцветными лентами, а хор, состоявший все из тех же «патриотов», пел «Марсельезу» и «*!*З*!*a ira» до полной хрипоты.
Рота лейтенанта Дюкло, пришедшая к шапочному разбору, была встречена тем не менее весьма приветливо, и на площади принялись устанавливать новые столы. Не желая участвовать в подобном сонмище, я сослался на строгие рекомендации гражданина Леруа и пристроился в сторонке – в совершенно пустом деревенском кабачке, завсегдатаи которого присоединились к толпе «патриотов». Хозяйка – дама чудовищной толщины, с тройным подбородком – была рада закормить своего единственного клиента до смерти, но обедать я не стал и внезапно понял, что очень хочу курить. То, что я прежний не брезговал табаком, стало ясно почти сразу, как только я обследовал карманы камзола. Странно, но трубки я не нашел ни там, ни в карманах плаща, более того, крошки табака показались какими-то необычными. Не трубочный табак – но и не нюхательный. И я ощутил суетное любопытство. И сейчас, пользуясь удобным моментом, я попросил у хозяйки табаку.
Как я и думал, она выложила на стойку несколько пачек трубочного – очень неплохого, виргинского, но я покачал головой и попросил чего-нибудь другого. Почтенная дама пожала необъятными плечами и заметила, что если у «гражданина» куры денег не клюют…
На стойке оказалась деревянная коробка, обклеенная золотистой бумагой. Я чуть не хлопнул себя по лбу. Конечно! Именно это мне и нужно. «Папелито»,[11] а попросту говоря, папелитки – маленькие, на дюжину затяжек каждая. Испанский табак, но не темный, а легкий, ароматный, не чета грубому трубочному.
На радостях я купил всю коробку и с удовольствием сделал первую затяжку. Выходит, такому, как я, все-таки кое-что может доставить удовольствие. Похоже, привычки не умирают вместе с человеком. Мне даже показалось, что табачный дым напоминает мне о чем-то давнем. Я пристрастился к папелиткам не здесь, во Франции, но и не в Испании. Там, где я впервые закурил, было полно трубочного табака, самого лучшего, виргинского, но я стал курить именно папелитки. Кажется, я даже спорил на эту тему с моим другом… Нет, с моим бывшим другом, с которым мы потом почему-то поссорились. Я говорил ему, что здесь, в Виргинии, курят даже барышни, а он усмехался и пытался доказывать дикую нелепицу, будто курение вредно для здоровья. Эту чушь ему поведал некий докторишка из Бреста, где мой друг когда-то командовал полком. Да, он усмехался и уверял меня… «Через пять лет вы пожелтеете, как китаец, Франсуа! И не жалко вам легких!..»
Я вспомнил! Франсуа. Мое имя! Не Жан Франсуа, как написано в сложенной вчетверо бумаге, а просто Франсуа! Нет, не просто! За Франсуа должен был следовать долгий шлейф имен – второе, третье, четвертое, даже, кажется, пятое. Как у моего друга, которого звали Мари Жозеф Поль Ив Рок Жильбер дю Матье де Ла Файет. Маркиз де Ла Файет, с которым мы вместе пили дрянное виски в штате Виргиния, недалеко от деревни Маунт-Вернон…
Да, я вспомнил. Мой бывший друг Мари Жильбер де Ла Файет четыре года назад предал Родину и Короля, перейдя на сторону мятежников и убийц. Наверно, я ненавидел его, но теперь ненависть ушла, и я горько пожалел, что его сейчас нет рядом. Он бы помог – ведь там, в Америке, мы помогали друг другу во всем. Под Йорктауном, где мы обложили лорда Корнуэллиса, Мари Жильбер командовал дивизией, а я…
Но тут источник памяти, столь щедро напоивший меня в этот вечер, иссяк. Наверно, это к лучшему, поскольку и того, что я вспомнил, было более чем достаточно. Меня звали Франсуа. Франсуа… Именно так должен был позвать меня Всевышний после того, как я встретился со смертью по имени Бротто. Но меня не позвали. Тот, кто носил когда-то имя Франсуа, не сделал того, что должен, в чем поклялся…
Да, поклялся! Даже странно, что я понял это только сейчас. Там, в оставшейся позади жизни, я в чем-то поклялся, и эта клятва не исполнена до сих пор. Но я не могу ее нарушить, хотя и не помню, какой я дал обет. Ясно одно – это как-то связано с «Синим циферблатом». Клятва не отпускает меня, она сильнее смерти, важнее вечного блаженства…
Я попытался успокоиться. Может, это все было именно так. А может, это всего лишь догадка, такая же смутная, как тени, что обступили меня, загораживая близкое – такое близкое! – небо.
На площади, куда я все-таки завернул, произошли немалые перемены. Столы исчезли, толпа потеснилась в стороны, а в центре, неподалеку от Дерева Свободы, собралась небольшая группа людей, весьма несходных друг с другом.
В центре стоял толстяк в распахнутой офицерской шинели – командир эскадрона. Рядом с ним терся блеклого вида худощавый субъект в черном английском пальто и криво сидевшей шляпе. А за ними трое здоровяков с палашами наголо охраняли двоих – связанных, с черными повязками на глазах. Подсказки не требовалось. Я уже успел услыхать, что в скоротечном бою удалось взять двоих пленных. Очевидно, славные драгуны Западной армии решили завершить праздник достойно, по-якобински.
Поискав глазами, я нашел лейтенанта Дюкло, стоявшего в первом ряду, и поспешил отойти подальше. Того и гляди, этот сын мебельщика не вовремя вспомнит, что я национальный агент, и предложит стать поближе. И тут я впервые по-настоящему пожалел, что мертв. Будь я жив, будь я не один, будь у меня хотя бы пистолет! Но пистолет, конечно, не поможет. Мне скрутят за спиной руки и поставят рядом с этими двумя. Конечно, убить меня не смогут, но смерть, которая сейчас навестит эту площадь, – не моя смерть. Ее не зовут Бротто…
Худощавый субъект махнул рукой. Постепенно толпа стихла, и тип в английском пальто, достав из-за пазухи внушительного вида бумагу, принялся что-то выкрикивать. Я не стал вслушиваться. Все и так ясно: Республика Единая и Неделимая… Враги нации, схваченные с оружием в руках… Впрочем, что-то в этой страшной сцене было не так. Да, я видел такое – совсем недавно, когда был еще жив, но видел не совсем то или не совсем так. Обычно эти разбойники используют гильотину. Ее даже таскают с собой – «бритва», как я помнил, полагается каждому полку, а то и батальону. Но сейчас ее не оказалась, и на этих пленных ребят придется тратить свинец… Да, гильотины не было, но мне показалось, что я видел и такое – но как-то иначе. Сейчас этот мерзавец дочитает свою бумагу, кивнет толстяку в шинели…
Толстяк что-то приказал – впрочем, что именно, я понял, хотя и не слышал слов. Конвоиры отошли в сторону, и шеренга солдат с мушкетами шагнула вперед. Да, что-то в этой сцене было не так. Конечно! Драгунам мушкеты не полагаются, и те, что сейчас будут стрелять, вовсе не драгуны, а знакомые ребята из роты Лепелетье. Похоже, победители решили сделать небольшой подарок лейтенанту Дюкло. Они разбили врага, но честь расстрелять безоружных предоставлена их братьям-патриотам из Внутренней армии. А может, этот толстяк-капитан и его люди просто не хотят пачкать руки. В конце концов, они солдаты, а не каратели…
Те двое стояли неподвижно, и на груди у одного я разглядел небольшое пятнышко, похожее на кровь. Но это не кровь. Даже издалека я догадался – вырезанное из красного шелка изображение сердца с королевским вензелем в центре. Когда-то и я носил такое. Святое Сердце, знак армии, оборонявшей Лион…
Я затаил дыхание. Да, все так и было! На моей груди – знак Святого Сердца, я стою перед шеренгой солдат, правда, глаза мои не завязаны, и я вижу красные от водки лица с безумными вытаращенными глазами. Офицер в синей шинели командует: «Огонь!»…
Тот, что стоял слева, внезапно поднял голову. Его крик: «Да здравствует Король!» слился с воплем толстяка. В уши ударил грохот…
Я закрыл глаза. Нет, мне нельзя видеть такое. Я вновь пережил свою смерть, только прежде видел ее совсем по-другому. Не со стороны, не из безопасного далека, а лицом к лицу, и вспышки выстрелов ослепили меня, бросив на землю. Да, так я встретил смерть. Смерть по имени Бротто…
– Гражданин Шалье! Гражданин Шалье!
Я открыл глаза и понял, что лежу на знакомой повозке, укрытый двумя синими шинелями, а рядом со мной – кому же еще быть? – лейтенант Дюкло.
– Вы слышите меня? Гражданин Шалье!
– Слышу…
Я приподнялся и обнаружил, что уже утро и мы вновь не торопясь двигаемся по дороге. Оставалось поинтересоваться, что со мной приключилось, но лейтенант поспешил внести ясность:
– Вы всю ночь без сознания пролежали. И весь вечер. Мы уже не знали, что делать…
Весь вечер? Значит, меня не было на площади? Я пошарил рукой и нащупал знакомую деревянную коробку. По крайней мере, испанские папелитки мне не привиделись…
– А что было вчера?
– Праздник, – Дюкло пожал плечами. – Погуляли с гражданами драгунами! Жаль, вас не было, гражданин Шалье!
Вчера был праздник… Значит, расстрел мне привиделся? Или для этого санкюлота праздника без казни не бывает?
– Они… Драгуны разбили… какой-то отряд, – неуверенно начал я, и лейтенант согласно закивал:
– Да! Этих – из Святого Сердца. Но они уже не опасны! С тех пор, как мы Руаньяка «побрили»…
Фамилия внезапно показалась знакомой. Или это тот, кто подсказывает мне, поспешил внести ясность?
– Маркиз де Руаньяк, генерал-майор армии Его Величества, был гильотинирован в Лионе…
– Точно! – Дюкло рассмеялся. – Жаль, что увидеть не пришлось! Мы как раз его шайку добивали! «Побрили» маркиза! Теперь его армии конец! Говорят, гордый был – страх! На эшафоте чуть ли не целую речь произнес! Ну ничего, теперь пусть сколько хочет болтает со святым Петром!
– Нет… – Я помолчал и вдруг понял, что знаю об этом. – Маркиз де Руаньяк ничего не говорил на эшафоте. На нем был белый солдатский мундир и знак Святого Сердца. Говорил его друг, виконт Пелисье…
Слова замерли на языке. Почему-то вдруг стало страшно, хотя я ничего не помнил – ни эшафота, ни красного знака на белом мундире. Тот, оставшийся вдалеке, в очередной раз подсказал мне, но от этой подсказки стало не по себе. Наверно, я знал маркиза. Или по крайней мере видел его – на мне ведь тоже когда-то был знак Святого Сердца…
– А-а-а! – охотно подхватил Дюкло. – Вы, наверно, гражданин Шалье, тогда в Лионе были! Вам ведь по должности положено!
Я не очень помнил, что положено по должности национальному агенту, но на всякий случай кивнул.
– Хотел бы я посмотреть, как этого белоручку «брили»! – Лейтенант вздохнул. – Мы же с ним два месяца воевали! Ни дня покоя! Пресси[12] – тот в городе отсиживался, а Руаньяк – то здесь, то там! Все в спину ударить норовил! Сколько раз за ним гонялись, а он – словно привидение! Ночью здесь, а наутро – в двадцати лье! Наши уже шутить начали, что он не человек, а призрак. Его так и звали – Оборотень!
Я постарался усмехнуться. Это, похоже, задело гражданина Дюкло, и он обиженно хмыкнул:
– А как еще сказать? Я ведь сам видел! Прижали мы его однажды к самой Луаре. У Понт-де-Веля это было, в начале октября…
Похоже, в горячке спора гражданин Дюкло внезапно вспомнил, как правильно называть месяцы.
– Два дня с ним возились, а он таки прорвался, мерзавец! Мы в Лион вернулись… Ну не в Лион, там еще «белые» были, а к Тарантану, это в двух лье… Так в ту самую ночь, когда мы под Понт-де-Велем дрались, Руаньяк лично наших под Лионом атаковал! Его все узнали – он без шляпы был… Оборотень! Говорят, один патриот его выследил и святым крестом припечатал, а то бы ушел…
Я мысленно пожалел, что, пока был жив, не добрался до этого, столь догадливого «патриота». Впрочем, заинтересовало другое.
– Гражданин Дюкло, честно говоря, странно слышать! Оборотни, привидения, святой крест…
– Оборотень! – упрямо повторил лейтенант. – Это уж точно!
И вдруг мне стало не по себе. Этот молодой парень с кашей в бестолковой башке не так и ошибается. Я не встречал оборотней, но знал, что по земле бродит неупокоенный мертвец. Мертвец, которому почему-то очень надо найти какой-то «Синий циферблат»…
– Я и не скрываю, что верующий, – продолжал Дюкло, немного сбавив тон. – Да разве я один? В каждой деревне все верят, и даже в нашей роте, считай, половина! А как же иначе? Вот гражданин Робеспьер правильно говорит: атеизм дворяне придумали, чтобы распутству предаваться и народ обманывать!
Робеспьер… Четкая, ясная подпись на сложенном вчетверо документе… Я понял, что когда-то ненавидел этого человека. Но не просто ненавидел. Почему-то он меня очень интересовал. Нет, не так! Тому, кем я был раньше, этот якобинец был нужен, даже очень нужен!
– Если священник присягу принял, то пусть служит. – Похоже, эта тема явно волновала лейтенанта. – Все зло от тех попов, что присягать не хотят. Недаром гражданин Робеспьер говорит, что надо принять закон о свободе совести…
И тут я понял, почему интересовался тем, кто первый расписался на моем документе. Робеспьер – самый умный и самый опасный из всей шайки, захватившей власть во Франции. Этот осла с митрой между ушами по улице водить не будет! Он прекрасно понимает, как дорог Бог простым людям – и вандейским крестьянам, и лионским мастеровым, и даже лейтенанту Дюкло из Сен-Марсо…
– Ну вот, – подытожил мой собеседник, – ежели выходит, что Бог есть, значит, и Дьявол имеется. И такие, как Руаньяк, с Дьяволом спутались, потому что иначе им Республику не победить. Ну да теперь уже все в порядке! Тому патриоту, что маркиза этого на эшафот притащил, надо памятник из золота ставить!
Развивать эту тему дальше я не стал, а лейтенанта отвлек кто-то из его орлов, в очередной раз обнаруживший, что колесо у одной из телег вот-вот слетит. Жалко лишь, что не удалось повернуть этот странный разговор в столь нужном мне направлении – к «Синему циферблату»…
Ближе к вечеру рота внезапно остановилась. Где-то впереди послышались громкие голоса, крики, и тут грянул выстрел. Я даже не открыл глаза, привычно отметив, что стреляли не из пистолета, но и не из мушкета, а из чего-то другого, не иначе охотничьего ружья. Крик повторился, затем голоса, пошумев, постепенно стихли. И тут все-таки глаза пришлось открыть. Подоспевший сержант передал мне просьбу гражданина Дюкло – лейтенант просил подойти в голову колонны.
Вначале я ничего не понял. Колонна уперлась в небольшой мостик, который оказался перегорожен двумя опрокинутыми телегами. За телегами толпились странного вида личности, которых я вначале принял за разбойников. Причем не нынешних, а за тех, что описываются в детских книжках. Бородатые, в чем-то напоминающем черные трико, в жутких красных колпаках, которые обычно носят каторжники. Солдаты роты Лепелетье по сравнению с ними смотрелись истинными гвардейцами.
Дюкло был тут же, наскоро объяснив ситуацию. Оказывается, я не очень ошибся. Перед нами были все-таки разбойники, правда не книжные, а самые обыкновенные – отряд из предместья Сент-Антуан в полной санкюлотской амуниции. Приглядевшись, я понял, что уже видел подобные чучела. Трико назывались «карманьолой», а красный каторжный колпак – «колпаком Свободы». Перегороженная же телегами дорога объяснялась совсем просто. Два дня назад в одной из газет (лейтенант Дюкло тут же уточнил – в «Отце Дюшене», издававшемся гражданином Эбером[13]) кто-то, чуть ли не сам гражданин Эбер, тиснул статью о том, что отряд роялистов из армии Святого Сердца переоделся в «синюю» форму и идет прямо на Париж. Прочитав сие откровение, в Сент-Антуане ударили в набат, поспешив послать несколько отрядов в красных колпаках наперехват. Попытки объясниться с красными колпаками оказались на редкость неудачны. В том же номере газеты было напечатано, что рота Лепелетье – краса и гордость санкюлотов из Сен-Марсо – возвращается в Нант, дабы добить проклятых шуанов. Посему вождь красных колпаков решил проявить бдительность, и дело дошло, как я и слышал, до пальбы – правда, покуда в воздух.
История меня позабавила, и я мысленно поздравил гражданина Эбера. Хорошая вышла статья! Жаль, что все рано или поздно разъяснится. Для разъяснения меня и пригласили – лейтенант вовремя вспомнил о бумаге со страшными подписями.
Менее всего хотелось вмешиваться, но стало ясно – деваться некуда. Тем более гражданин Дюкло уже успел оповестить вождя красных колпаков, что с ротой следует «сам» национальный агент Шалье. Я вздохнул и достал из внутреннего кармана бумагу.
Меня подвели к Главному Колпаку: краснорожему верзиле, по виду – типичному мяснику. Вождь смерил меня крайне подозрительным взглядом, скривился и с явным недоверием уткнулся в документ. Шли секунды, и я не без злорадства подумал, что грамотностью Главный Колпак не отличается. Наконец красная рожа вновь скривилась.
– Не так составлено…
Этого я не ожидал, как, впрочем, и гражданин Дюкло. Он попытался было возмутиться, но краснорожий вождь покачал головой:
– Не так, говорю! Ежели гражданин Шалье от Комитета безопасности послан, то первым должен гражданин Вадье расписаться, потому как он председатель, а не гражданин Робеспьер.
Я не испугался – пугаться мне нечего. Напротив, такая бдительность позабавила, тем более я понял – Красный Колпак прав. Документ составлен не совсем по форме. Но в то же время тот, кем я был прежде, твердо знал – бумага настоящая. А подпись гражданина Робеспьера оказалась первой по какой-то важной причине.
– Вот чего, – рассудил вождь. – Я сам с гражданином национальным агентом поговорю. Наедине.
И вновь лейтенант пытался возразить, но я тут же согласился. Мне все равно – почему бы и не поговорить с мясником из Сент-Антуана?
Синие шинели и красные колпаки отошли на несколько шагов. Мы остались вдвоем. Вождь оглянулся и неожиданно подмигнул:
– Так что, отряд в твоем распоряжении, гражданин Шалье. Какие приказания будут?
Похоже, я все-таки растерялся, но вовремя вспомнил, что молчание – золото.
– Ищут тебя, гражданин Шалье. Мне гражданин Шометт так и передал: встретишь, мол, гражданина национального агента – в его распоряжение переходишь. Так сам гражданин Робеспьер приказал.
– А переодетые роялисты? – не удержался я.
Красная рожа расплылась в усмешке:
– Ну то гражданину Эберу виднее! А тебе, гражданин Шалье, в Париж возвращаться надо. Ищут тебя. Волнуются сильно.
Наконец все стало ясно. Тот, чье удостоверение оказалось у меня в кармане, – важная персона. Настолько важная, что кое у кого не хватило терпения дождаться его возвращения…
– Ежели надо, мы с тобой в Париж вернемся, – заключил Главный Колпак. – А нет – дальше пойдем. Тут неподалеку целое кубло «белых» – добрые патриоты рассказали. Мы уже одного попа взяли, как раз неподалеку…
Мяснику явно не хотелось возвращаться в Париж. Его ждала охота – и куда более интересная, чем травля зайцев. Конечно, можно было вернуть этих каторжников в Париж, но тогда придется возвращаться вместе…
– Можете идти дальше, – решил я. – Попа передадите лейтенанту Дюкло…
– Ага! – Красная рожа понимающе кивнула. – Только вы его – попа этого – прежде чем «брить», поспрошайте. Он не из простых, чего-то явно знает. Будет упираться – двиньте пару раз…
Дальше слушать я не стал и повернулся, чтобы подозвать гражданина Дюкло.
Окончание этой истории можно было не смотреть. Я вернулся к повозке, решив на привале поговорить с лейтенантом о пленном священнике. В конце концов, этот сын мебельщика – верующий…
Все оказалось даже проще, чем я думал. Как только солдаты начали раскладывать костры – на этот раз рота заночевала прямо в поле, – Дюкло отозвал меня в сторону.
– Не знаю, чего и делать, гражданин Шалье. Священник этот…
– А что священник? – самым равнодушным тоном поинтересовался я.
– Странный он какой-то… Вы бы с ним сами поговорили.
Признаться, этого я не хотел. Не знаю почему, но разговаривать с несчастным не тянуло. Однако отказываться было нельзя.
– Хорошо. Так, говорите, странный?..
Священник сидел у костра, обхватив руками худые колени. Он и на священника был не очень похож. В мохнатой пастушеской куртке, деревянных башмаках, в странной войлочной шапке. Только волосы подстрижены не по-крестьянски. Наверно, на этом бедняга и попался. Красные колпаки – народ внимательный.
Я подошел поближе, не решаясь начать разговор. Почему-то меня охватила странная робость. Мне уже нечего бояться – тем более этого несчастного. Но что-то останавливало, не давало заговорить.
Сидящий у огня поднял голову, и наши глаза встретились. Не больше мгновения мы смотрели друг на друга – и вдруг случилось то, чего я никак не ожидал. Священник отшатнулся, вскочил, рука поднялась вверх.
– Изыди!
– Святой отец! – растерялся я. – Мне надо с вами…
– Изыди! – Большие темные глаза блеснули. – Изыди, откуда пришел, посланец ада!
Я облегченно вздохнул. Бояться нечего. Кем, кроме посланца ада, может быть для неприсягнувшего священника национальный агент Шалье?
– Святой отец, – повторил я, – мы должны разобраться. Может… Вероятно, вы арестованы незаконно…
– Я не верил… – священник медленно провел ладонью по лицу. – Прости мне неверие мое, Господи… Ты, мертвец, притворившийся живым, ты, посланец Сатаны, уйди! Vade retro!
Я похолодел. На миг темная фигура у костра исчезла, превратившись в неясный колышущийся силуэт. И вдруг мне почудилось, что это я стою у костра, на мне косматая пастушеская куртка, а передо мною в неясном свете огня – жуткая нелепая фигура, словно сошедшая с фрески Страшного суда. Вздутое посиневшее лицо, покрытое трупными пятнами, скрюченные руки с искривленными отросшими ногтями, лопнувшая на груди рубашка, покрытая почерневшей кровью. Ноздри ощутили омерзительный запах разложения. «Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе…»[14]
Ничего не соображая, я зажмурил глаза и быстро перекрестился. Когда я вновь осмелился взглянуть, все вернулось на свои места. Костер, испуганный человек в пастушеской куртке…
– Ты не обманешь меня крестным знамением, нелюдь! – голос священника звучал хрипло и тихо. – Уйди прочь! Вернись к тому, кто прислал тебя…
Странно, я досадовал, что бравые ребята из роты Лепелетье никак не могут понять, кого они нашли возле лионской дороги. Но теперь, когда передо мною наконец был зрячий, меня объял ужас.
– Отче! – в отчаянии воскликнул я. – Я добрый католик! Я… я был добрым католиком! Я не виноват! Я сам не знаю, что происходит!
Священник упрямо потряс головой. Я рванул рубашку, чтобы показать крест, который, как я хорошо помнил, должен висеть на груди, – серебряный крестик с чернью на тонкой цепочке, – но пальцы поймали пустоту. Креста не было. И тут я сообразил, что его не было и прежде – с того момента, как меня окликнул лейтенант Дюкло. Этот крестик принадлежал тому, кем я был раньше…
– Святой отец! – Я с трудом перевел дыхание. – Кем бы я ни был, я хочу вам помочь. Я хочу помочь…
Но ответа я не дождался. Священник медленно опустился на колени и закрыл глаза. Я понял – он беседует с Тем, Кто не пустил меня на такое близкое небо…
– Что с вами? – озадаченно поинтересовался лейтенант Дюкло. – Вы, гражданин Шалье, извиняюсь, белый весь!
– Белый? – грустно усмехнулся я. – Не синий?
– Все мы «синие»! – рассмеялся лейтенант. – Мне этот поп так и сказал – мертвец ты, мол, лицо у тебя синее… Или черное, уже не помню. Я потому вас и позвал…
– Так он… И вам такое говорил?
– Ну да! – Гражданин Дюкло покачал головой. – Я представился, а он: мертвец ты, и рота твоя – мертвецы. Уйди, мол, в ад, откуда пришел…
Внезапно я почувствовал облегчение – невиданное, невероятное. Несчастный просто сошел с ума! Он ничего не понял! В его глазах я обычный «синий», которых его больной разум посчитал – всех, скопом – синерожими упырями.
– Наверно, те, из Сент-Антуана, с ним переусердствовали, – осторожно заметил я.
– Они могут! – охотно согласился лейтенант. – Так чего с попом делать будем? Его в Биссетр[15] надо – там таких и держат!
– Если он действительно неприсягнувший, – напомнил я, – его отправят не в Биссетр, а на гильотину.
– Да всем им, неприсягнувшим, туда дорога, – неуверенно начал лейтенант. – Хотя жалко – он ведь больной, за себя не отвечает… Но я ведь не могу его отпустить!
Да, отпустить пленного гражданин Дюкло не имел права. Расстрелять – мог, а вот отпустить – нет. Лейтенант задумался, а потом махнул рукой:
– А, чего мы все о такой ерунде! Гражданин Шалье, бледный вы какой-то… Выпить бы вам!
– Лекарства? – начал было я, но по усмешке гражданина Дюкло понял, что речь идет не о лекарстве. Точнее, не о том, что мог бы прописать ротный лекарь гражданин Леруа.
Лекарство оказалось в огромной бутыли из темно-синего стекла. Сержант Посье, которому была доверена борьба с пробкой, возился подозрительно долго, но наконец одержал-таки победу над непокорным сургучом. Гражданин Дюкло нетерпеливо хмыкнул, подставил кружку и протянул мне:
– Вы первый, гражданин национальный агент! Пять ливров против одного, что не угадаете…
– Состав лекарства? – уточнил я, покосившись на гражданина Леруа, нетерпеливо поглядывавшего то на кружку, то на бутыль. Я решил никого не томить и поднес кружку ко рту.
– Осторожней! – запоздало предупредил доктор. – Это не вино, это…
– Овернский грапп! – Я выдохнул воздух и несколько секунд ждал, пока успокоится огонь, вспыхнувший у меня в желудке.
– Угадали, – разочарованно вздохнул лейтенант. – Видать, повидали вы свет, гражданин Шалье! Эх, пропали пять ливров!
Я только хмыкнул, сообразив, что действительно знаю, что это – овернский грапп, причем не самый лучший, поскольку настоящий грапп никогда не дерет так горло. Значит, этот скорее всего не из южной Оверни, а с севера, да и виноград не самого удачного урожая.
Тем временем кружка пошла по кругу, причем гражданин Леруа так и не решился выпить полную, заявив, будто медицина давно установила, что вина если и полезны для здоровья, то только в небольших дозах, а грапп – даже не вино, а просто издевательство над виноградом. Он же предпочитает помар, в крайнем случае кло-де-вужо, но исключительно из Бургундии. Тут уж не выдержал сержант Посье, с возмущением заявивший, что помар пусть пьют монашки в обители Святой Цецилии, а кло-де-вужо из Бургундии годится исключительно в качестве уксуса. Кло-де-вужо можно пить лишь то, что изготовлено на западе Шампани, а лучше и его не пить, а пить светлое воллене из той же Шампани. Если же употреблять что-нибудь из бургундских, то исключительно нюи, но не всякого урожая, а лучше всего 1779 и 1783 годов.
Этот выпад привел гражданина Леруа в изрядное волнение, и он решил прибегнуть к авторитету науки, сославшись на мнение какого-то Себастьяна Мерсье,[16] а уж Себастьян Мерсье лучше знает, какие вина во Франции стоит пить, а какие – нет…
Увидев, что дело дошло до Себастьяна Мерсье, лейтенант Дюкло подмигнул мне и заявил, что этот Мерсье – явный аристократ, а патриоты должны пить исключительно грапп, после чего предложил выпить по второй, причем по полной.
Вторая кружка граппа разом сняла все вопросы. Доктор, изрядно покраснев лицом, прикрыл глаза, вероятно, уйдя в размышления о науке, а лейтенант с гражданином Посье внезапно заговорили о театре. Похоже, это было продолжением давнего спора, начатого не сегодня и не вчера. Предмет дискуссии поначалу меня удивил, но затем я понял: санкюлоты из Внутренней армии верны себе – сержант решительно заявил, что гражданин Шометт, прокурор Парижа, должен наконец озаботиться и закрыть большинство этих вертепов, а еще лучше – все. Актеров же, предварительно изъяв из их среды явных контрреволюционеров, должно направить на изготовление селитры и рытье братских могил на Блошином кладбище.
Такой максимализм не пришелся по душе лейтенанту. Он считал, что театр – надежное подспорье в деле патриотического воспитания всех добрых французов, а посему надлежит лишь запретить ненужные и вредные произведения слуг деспотизма – всяких там Корнелей, Расинов и прочих Мольеров (что, впрочем, гражданином Шометтом уже сделано), изъять из прочих пьес старорежимные обращения «сударь» и «господин», заменив понятными и близкими каждому патриоту словами «гражданин» и «товарищ» (что тоже сделано, хотя и не всюду), и следить, чтобы не ставились такие контрреволюционные пьесы, как «Друг законов». Впрочем, лейтенант был полностью согласен с необходимостью революционной чистки театров. По его мнению, следовало первым делом отправить под «бритву» весь бывший Королевский театр в полном составе, что, впрочем, тоже делается, ибо большая часть актеров-контрреволюционеров уже арестована.
Придя к частичному согласию, гражданин Дюкло и сержант предложили выпить за друга санкюлотов гражданина Шометта, а заодно и за гражданина Ру.[17] Я не стал спорить и походя поинтересовался, не знают ли уважаемые граждане улицу Синий Циферблат. Или площадь. Или переулок. Там, как я пояснил, находится какой-то театр, весьма патриотический по духу, который мне очень советовали посетить.
Патриоты глубоко задумались, а затем покачали головами. Увы, такой улицы, равно как площади или переулка, они не знали. Название же сочли хотя и не контрреволюционным, но весьма странным. Во всяком случае, ни в предместье Сен-Марсо, ни в Сент-Антуане, ни в центре Парижа подобного названия они не встречали. Сходить же мне лучше всего в театр имени Марата, где ставят такие патриотические пьесы, как «Проводы добровольцев в Северную армию» и «Дерево Свободы».
Третья кружка граппа, да еще без закуски – вещь серьезная. В гражданина Леруа ее пришлось попросту вливать, после чего ротный лекарь стал из красного пунцовым и медленно осел на расстеленный на земле плащ. Остальные остались сидеть, но речь их начала немного походить на наречие ирокезов. Я почти перестал вслушиваться, отвернулся, вдохнул холодный осенний воздух и вдруг понял, что совершенно трезв, словно пил не всесокрушающий огненный грапп, а упомянутое доктором кло-де-вужо.
Да, я был трезв, и страх, ненадолго отступивший куда-то в темноту, никуда не делся. Он вернулся и сейчас был вновь рядом. Только теперь я начинал понимать весь ужас случившегося.
Все эти дни, лежа на повозке, укрытый двумя шинелями, я как-то не задумывался о простой и очевидной вещи. Мертвые не возвращаются. А если возвращаются – то не по божьей воле. Странно, я даже ни разу не вспомнил о Творце! А ведь когда-то я был добрым католиком! И теперь этот священник…
Да, порою я веду себя почти так же, как любой нормальный человек. Но потерявший ногу тоже чувствует боль в несуществующем колене! Фантомная боль! Я – такой фантом, помнящий свои привычки и слабости, но не помнящий самого себя. Священник что-то увидел. И я увидел тоже – его глазами. А если так, то чья воля лишила меня покоя? Моя собственная? Или чья-то еще? Тогда кто Он? Во всяком случае, не Тот, в Кого я когда-то верил и Кому служил несчастный пленник…
Наутро, когда рота не торопясь собиралась в путь (похоже, в тот вечер дегустация граппа происходила не только возле нашего костра), гражданин Дюкло виновато доложил, что священник бежал. Точнее, попросту ушел, ибо он, лейтенант Дюкло, поставил часового слишком далеко, а тот задремал, поскольку овернский грапп, как известно, не чета всякому кло-де-вужо или тем более помару.
Мы взглянули друг другу в глаза, я молча кивнул, увидел ответную усмешку и вдруг вспомнил чьи-то слова, сказанные очень давно. Да, тогда был какой-то спор, и кто-то сказал… И я сказал, что мы выиграли эту войну еще 27 декабря 1790 года, когда был принят декрет о неприсягнувших священниках. Добрые французы могут отвернуться от Короля, но никогда не предадут своего кюре. Значит, остается ждать, пока ослы в митрах заставят задуматься даже таких, как лейтенант Дюкло. Вандея и Бретань – только начало. Ведь и Шалье Лионский, чью голову никак не мог отрубить тупой топор, тоже начал с разгрома церкви Святого Сульпиция…
Больше о священнике мы не говорили, тем более предстоял короткий, но важный переход. К полудню мы должны миновать Севр, а значит, к вечеру рота будет в Париже. В Париже, где мне нужно найти «Синий циферблат»…
Гражданин Дюкло принялся приводить своих бойцов в вид, достойный истинных патриотов, я же вернулся на свою повозку, решив не суетиться зря. Скоро я буду в Париже и смогу наконец все выяснить…
Нет, не смогу! Все не так просто! Все совсем не просто!
В сказках и легендах призраки могут возникать ниоткуда и так же незаметно исчезать. Но я – кем бы ни был – не призрак. Для всех я – обычный человек, пусть несколько странный, потерявший память, забывший, кто он. Даже не так! Я – солдат армии Святого Сердца с чужими документами, совершенно не знающий – не помнящий – великий город, куда мне предстоит попасть. Я наверняка бывал в Париже и не раз, может, даже жил там, но надеяться, что тот, кто иногда подсказывает мне, будет выручать и дальше, слишком наивно. Тот Париж, где я когда-то бывал, уже не существует. Есть санкюлотский Париж, сердце трижды проклятой Республики, город, убивший своего Короля, растерзавший Королеву…
И в этом городе мне не поможет чужой документ. Прежде всего, национального агента Шалье будут искать. Его уже ищут. Значит, мне следует исчезнуть. Но исчезнуть в Париже трудно. Из слов гражданина Дюкло я уже знал, что граждане якобинцы позаботились об этом. Город разделен на секции, каждая из которых отвечает за порядок на своей территории. Ни одна гостиница, ни один домовладелец не примет постояльца без гражданского свидетельства, выданного секцией. Более того, он обязан тут же заявить о «подозрительном». Ко всему еще – патрули, облавы и просто бдительные прохожие. И – Революционный Трибунал, быстро «разъяснявший» каждого, кто вызвал сомнения. Мне нечего бояться смерти, но до «Синего цифеблата» добраться не дадут…
Отряд не спеша двигался вперед, вдоль дороги по-прежнему темнели голые, в черной влажной коре, деревья, а небо было все то же – серое, низкое. Небо, куда мне не было пути. Как жалко, что меня не оставили возле черного вспаханного поля!..
…Итак, мне требуется другой документ – обычное гражданское свидетельство, выданное одной из секций. Я должен раствориться, исчезнуть… что не так и сложно. Достаточно подстеречь в глухом переулке неосторожного «патриота», предъявить свой пропуск и потребовать его гражданское свидетельство. После чего одним «патриотом» станет меньше…
Нет, не станет. Я вдруг понял, что мне, нынешнему, запрещено убивать. Кем, почему, я не знал, но этот запрет был столь ясный, столь очевидный, что я тут же отбросил мысль о чужом документе. Да и это не поможет. Из слов лейтенанта я знал, что гражданское свидетельство нужно регулярно регистрировать. Значит, требуется что-то другое…
Вдали показались красные крыши Севра, и я вдруг понял, что уже бывал здесь. Севр, чуть дальше – Сен-Клу. Но ничего более не вспоминалось. Просто тот, кем я был когда-то, приоткрыл еще один краешек ушедшей жизни. Я уже почти добрался. Остается миновать заставу, а затем…
«Затем» наступило не сразу. Возле заставы Сент-Антуан нам пришлось задержаться, причем надолго. Оказывается, байка, пущенная в лихой газетенке гражданина Эбера, отозвалась сильным эхом. Роту Лепелетье не ждали, более того, появление полутора сотен вооруженных молодцов вызвало настоящую тревогу. Напрасно лейтенант Дюкло тыкал под нос стражам в уже знакомых красных колпаках и карманьолах свой мандат, напрасно солдаты, чуя близкий дом, драли глотки. Стража выставила вперед стволы мушкетов и даже выкатила две пушки. Пушки были, правда, времен Бертрана Дюгесклена, но даже с такими, когда они смотрят тебе в лицо, лучше не связываться. Рота поутихла и принялась ждать.
Похоже, лейтенант Дюкло надеялся, что я предъявлю свой документ, дабы внести ясность в ситуацию, однако именно этого делать явно не следовало. Лейтенанту я пояснил, что мои полномочия действительны лишь вне Парижа и, кроме того, порядок есть порядок. В конце концов добрые патриоты разберутся, что перед ними не переодетые шуаны, а краса и гордость парижских санкюлотов.
Разбирались уже в полной темноте. Появился какой-то юркий субъект в шляпе с перьями и в чем-то, напоминающем грязное полотенце, натянутое поверх шинели. Чуть позже стало ясно, что это не полотенце, а трехцветная перевязь, правда, изрядно потерявшая свой вид. Субъект оказался кем-то из депутатов Конвента, специально посланный разобраться. Оказывается, якобинский ареопаг уже два часа дискутирует, что делать с ротой Лепелетье – пустить в Париж или не просто пустить, а устроить празднество с торжественным маршем к Манежу и пушечной пальбой.
Тут уж даже самые заядлые санкюлоты не выдержали, заявив гражданину депутату, что они больше полугода не были дома и пусть он со своими коллегами сам марширует на площади у Манежа, если им всем в Конвенте больше нечего делать. А насчет пушечной и прочей пальбы, то рота Лепелетье охотно эту пальбу устроит, причем в самое ближайшее время, если ее не пустят в город. Депутат махнул рукой, вполне человеческим голосом пожаловался на обилие идиотов и приказал нас пропустить – под свою ответственность.
Мы шли гулкими пустыми улицами, распугивая патрули, а я все глядел по сторонам, пытаясь угадать, где мы и куда двигаемся. Я не узнавал город. Все казалось чужим, непонятным. Нет, одному мне не разобраться. Значит, спешить нельзя, надо дождаться утра…
Дожидаться пришлось в каком-то подобии сарая, куда рота свалила оружие перед тем, как разбежаться по домам. Лейтенант Дюкло решил проявить истинный героизм и остаться на месте, дабы оное оружие не растащили. Меня это вполне устраивало, поскольку деваться было некуда, а отпускать гражданина Дюкло не хотелось – наутро он был мне нужен. А посему мы легли прямо на шинелях у двери, которую для верности заложили оглоблей, лейтенант уснул, а я долго лежал с закрытыми глазами, вновь и вновь продумывая свой замысел. Конечно, ничего хитрого изобрести нельзя, но иногда и самые простые задумки срабатывают.
Наутро нас сменили, и мы поспешили в секцию. Грозный оплот санкюлотизма разместился на втором этаже грязной старой харчевни. Там в это утро было людно – готовился праздник по поводу возвращения славных бойцов из победоносного похода. Этим было занято и руководство секции, вероятно, сочинявшее подходящие к случаю речи – в прозе и стихах. Но для нас сделали исключение. Меня и лейтенанта тут же приветствовал желтолицый, худой, словно жердь, тип, оказавшийся председателем секции 10 Августа, фамилию которого я не запомнил, да и запоминать не собирался.
Пока председатель сжимал в братских объятиях гражданина Дюкло (они были не только соседями, но и дальними родственниками), я бегло осмотрелся. Помещение секции имело истинно революционный вид, то есть выглядело донельзя убого. Поверх давно не штукатуренных стен красовался лозунг «Свобода, Равенство, Братство или Смерть», напротив помещалась криво исполненная надпись «Смерть – тиранам!», а в углу стоял гипсовый монстр в красном колпаке – бюст, изображающий то ли кого-то из якобинских вождей, то ли просто местного домового. Стены были оклеены афишками с декретами, причем некоторые из них умудрились прикрепить вверх ногами.
Объятия окончились, и лейтенант Дюкло повернулся, дабы представить меня гражданину председателю, но я решил, что пора брать дело в свои руки. А посему, не дожидаясь представления, я самым решительным образом потребовал разговора наедине. Председатель только моргнул и поспешил согласиться. Как выяснилось, ко всему прочему он еще и заикался. Не д-дожидаясь п-приглашения п-пройти к ст-толу, я присел на табурет, милостиво кивнул столпу местного якобинства и поинтересовался, не слыхал ли он случайно о таком ведомстве, как Комитет общественной безопасности.
Лицо председателя начало менять свой цвет, становясь из желтого зеленоватым. Не дослушав до конца уверения в том, что сей орган рев-в-волюционной в-власти ему, п-председателю, хорошо и-известен, я вновь милостиво кивнул и задал следующий вопрос: не знает ли он – тоже абсолютно случайно – некоего гражданина по имени Максимилиан Робеспьер.
Слушать п-подробный от-твет я не стал. Достав удостоверение, я вручил его председателю, посоветовав прочесть – и лучше не один раз, а дважды. А трижды – еще лучше.
Похоже, гражданин председатель в полной мере воспользовался моим советом, причем по мере чтения лик его все более зеленел, заодно покрываясь обильным потом. Это был хороший знак – больной явно дозрел. К месту вспомнилось, что коллеги гражданина Леруа имеют обыкновение бить пациентов колотушкой по лбу, дабы те погружались в спасительное забвение перед операцией. Оставалось достать колотушку.
Услыхав наконец, что он в-все п-понял и п-полностью уразумел, с к-кем имеет д-дело, я поинтересовался, известно ли гражданину председателю, для чего служит «национальная бритва». На этот раз ответ п-последовал нез-замедлительно, но никоим образом меня не удовлетворил. Пришлось пояснить, что «национальная бритва» бреет не только аристократов и заговорщиков, но и спекулянтов, а также, и не в последнюю очередь, расхитителей народного добра. А заодно тех, кто им потворствует. Например…
В тот вечер у костра, когда мои собеседники перешли на ирокезский язык, я все-таки кое-что услыхал, а услыхав, запомнил. Не то чтобы в секции 10 Августа творились особо большие безобразия. Но кошка знает, чье мясо съела, особенно когда приходится иметь дело с людьми и комитетами, охотно пускающими в ход «бритву».
Ж-жалкие оп-правдания я выслушивал приблизительно с п-полчаса. Затем мне надоело, и я, зевнув, спросил, куда делись средства, полагавшиеся славной роте Лепелетье. Ведь мундиры большинству пришлось справлять за свой счет, а Коммуна, как известно, такие средства выделила. Лицо председателя из зеленого стало черным, словно он прибыл из Санто-Доминго. Руки заскользили по столу, схватили толстую тетрадь, начали лихорадочно листать страницы. Я покачал головой, посоветовав оставить это для Революционного Трибунала и лично для гражданина Фукье-Тенвиля.[18] Меня же сейчас интересуют не столько эти мелочи, сколько простое и весьма любопытное обстоятельство: кто и почему организовал в секции 10 Августа торговлю гражданскими свидетельствами.
Я только начал развивать эту тему, но понял, что этак можно и перебрать. Смотреть на гражданина председателя стало неприятно. В конце концов, пытки отменил еще Его Величество Людовик XVI, а сидящий передо мною якобинец – не самый страшный из злодеев. Поэтому я заверил гражданина председателя, что в его личной честности Комитет не сомневается, однако дело есть дело, а посему я уполномочен для начала получить два чистых бланка оных свидетельств, дабы сравнить с теми, что изъяты у задержанных врагов Республики. Бланки должны быть с подписями, дабы сравнить и оные.
В заключение я заверил, что все, по-видимому, скоро разъяснится, однако посоветовал не особо разглашать наш разговор. Ведь если к торговле столь важными документами секция не имеет отношения, то по поводу прочего дело может обернуться несколько иначе. Более того, наш разговор лучше всего немедленно забыть, дабы не портить радостный праздник по поводу возвращения героев из роты Лепелетье, разгромивших в кровавых боях бесчисленные полчища врагов Республики, Единой и Неделимой…
Итак, у меня на руках были два бланка гражданских свидетельств. Начало понравилось. Мне даже показалось, что я далеко не впервые беседую по душам с гражданами «патриотами». Дело оказалось нетрудным, хотя и достаточно противным. Оставалось надеяться, что к намечаемому празднику лик гражданина председателя вновь приобретет нормальный желтый цвет.
Прощаться со своими спутниками из понятного благоразумия я не стал. Следовало уходить из Сен-Марсо. Но уходить не просто так. Национального агента Шалье вполне могли проследить от заставы до секции 10 Августа. Но дальше его след должен потеряться.
На соседней улице я зашел в более или менее пристойную лавку и купил длинный теплый плащ. Мой старый, покрытый пятнами крови, уже никуда не годился. Его я выбросил в ближайшей подворотне, а в соседней лавке приобрел большой саквояж и уже немодную, но достаточно респектабельную шляпу с узкими полями. Кажется, такую носили в Англии лет пять назад. Я невольно усмехнулся: скорее всего, тот, кем я был когда-то, мог считаться изрядным снобом в одежде. В нагрузку к шляпе мне была вручена трехцветная кокарда. Я не стал спорить и нацепил ее на самый верх.
Новый вид меня вполне устраивал – если бы не плохо выбритый подбородок, тот, кто глядел на меня из зеркала, мог вполне сойти за солидного буржуа. С подбородком все решилось в ближайшей цирюльне, после чего можно было покидать Сен-Марсо, но я чувствовал, что в моем новом облике чего-то не хватает. Подумав, я прошел еще пару кварталов и уткнулся в лавку старьевщика. Лохматый еврей долго не мог понять, в чем дело, но, когда я пошелестел ассигнатами, наконец хмыкнул и, порывшись в груде хлама, вручил мне очки. Очень симпатичные очки с толстыми стеклами, здорово менявшие мое лицо. Конечно, стекла в очках были самые обыкновенные – прием старый, но очень эффективный.
В фиакр, который мне удалось поймать у оживленного в это утро Птичьего рынка, садилась уже не сомнительная личность, которую бы задержал первый же встречный патруль, а достойный гражданин, который – если судить по внешнему виду – платит налог никак не меньше марки серебра.[19] Оставалось довершить остальное, и я велел ехать прямо в центр, к Ситэ.
Фиакр неторопливо катил по улицам – то широким, то узким, мелькали дома, площади, переулки, и я понял, что совершенно не узнаю город. Почему-то думалось, что при свете дня я все-таки что-то сумею вспомнить – или тот, кто подсказывал мне, решит помочь. Но Париж оставался чужим, и стало ясно, что мне суждено утонуть в этом каменном море. В незнакомом городе трудно что-то найти – зато легко найдут тебя.
К счастью, кучер, сообразив, что имеет дело с приезжим, охотно взял на себя роль чичероне. Что ж, я ничего не помнил, зато вполне был способен запоминать. К сожалению, мой первый вопрос остался без ответа. Гражданин кучер никогда не слыхал о «Синем циферблате». Или слыхал, но забыл. Во всяком случае, это не в центре, не у Пале-Рояля и не у Старого рынка. А вот эти места гражданин кучер знал отменно и охотно оными знаниями делился. Итак, улица Сен-Жак, когда-то знаменитая своими коллежами. Вот они, все три: Людовика Великого, Дю Плесси и Королевский. Конечно же, все – «бывшие», как не преминул уточнить кучер. Над коллежем Людовика Великого развевалось трехцветное знамя, а над Королевским и того хуже – черное. Дальше, хотя и с другой стороны, пошли монастыри, тоже, конечно, «бывшие»: огромный – Святого Бенедикта и совсем маленький – Матюринцев. Кучер со знанием дела добавил, что монахов из обители Святого Бенедикта перебили еще в сентябре 1792-го, а вот «попы-матюринцы» умудрились улизнуть, только аббата удалось схватить и отправить «под бритву».
Я слушал, не перебивая, хотя больше всего на свете хотелось двинуть всезнайку по шее и велеть замолчать. Нет, я должен слушать – и запоминать. Итак, улица Сен-Жак, с которой мы свернули налево – к Термам Юлиана и еще одному монастырю – Премонтре. Чуть дальше, как пояснил кучер, находится знаменитая улица Кордельеров и еще более известный монастырь, где собираются истинные патриоты – друзья гражданина Дантона.
Туда мы не поехали, а свернули направо. Район мне неожиданно понравился – тихий, всюду узкие переулки, проходные дворы. Внезапно я понял, что надо будет остановиться где-нибудь поблизости. Это почти что центр: чуть дальше – Ситэ и Дворец Правосудия, а сразу же за рекой – Лувр. Итак, я отпустил разговорчивого кучера и осмотрелся.
Да, район оказался неплох. В ближайшей же лавке на углу я купил то, чего мне еще недоставало, – несколько рубашек, неплохой темный камзол и под цвет его – кюлоты, там же переоделся, выбросив все старье, кроме камзола. Камзол я спрятал в саквояж, решив подробно исследовать его чуть погодя.
Оставалась одна мелочь. В ближайшей кофейне, полупустой в этот утренний час, я попросил перо и чернила, после чего уселся в дальний угол и достал бланк гражданского свидетельства. Итак, я уже не национальный агент Жан Франсуа Шалье. Я просто Франсуа. Франсуа… Фамилия должна быть простой – но не слишком, я ведь не Жак Боном[20] в красном колпаке! Что-нибудь обычное, лучше всего название какого-нибудь небольшого городишки. Что-нибудь вроде Памье, Нанси, Ренна или Люсона… А почему бы и нет? Я усмехнулся и тщательно, стараясь, чтобы скверное перо не оставило кляксы, вывел: «Гражданин Франсуа Люсон». Неплохо! Люсон – обычный город, хотя и древний. Помнится, сам Ришелье был там епископом.
Итак, теперь гражданин Франсуа Люсон должен найти себе временное пристанище. С этим проблем тоже не было. Стоило мне свернуть на небольшую, покрытую неровным старым булыжником улочку, как в глаза бросилась огромная яркая вывеска – «Гостиница «Друг патриота». На всякий случай я остановил молочницу, деловито спешившую по своим важным делам, и поинтересовался по поводу цен и тараканов. Молочница охотно сообщила, что «Друг патриота», который, вообще-то говоря, все называют по-старому – «Вязаный кошелек», – гостиница из вполне приличных, а мамаша Грилье, которая содержит ее после смерти супруга, – гражданка строгая и к тараканам, и к постояльцам. Так что в «Кошельке» всегда порядок, буйство и непотребство пресекаются безоговорочно, а вот сидр там пить не надо. Сидр лучше всего пить чуть дальше, в кабачке «Третий сапог», который сейчас называется «Герои-марсельцы». Улица же эта именуется Серпант, а дальше идет улица Пуатевэн, а дальше – Кладбищенская, где кладбище Дез-Ар…
Молочница явно настроилась рассказать мне всю здешнюю историю с географией. Я понял, что не пропаду. Похоже, каждый парижанин готов часами вести беседы на подобные темы. Но мне пока вполне хватило, и я направил свои стопы к гостинице «Друг патриота».
Мамаша Грилье, совершенно квадратная особа неопределенных лет в огромном белом чепце и с вязаньем в руках, изучала мое удостоверение не меньше пяти минут, после чего, продолжая вязать, неопределенно хмыкнула и наморщила лоб:
– Секция 10 Августа, значит?.. Знаю, там граждане сознательные. А почему вы остановились не в Сен-Марсо, гражданин Люсон?
Здесь явно не теряли бдительности, но к этому я был готов, сообщив, что прибыл в славный город Париж по заданию нашего (место благоразумно уточнять не стал) якобинского клуба, значит, и дела мне предстоят здесь, в центре. А из Сен-Марсо каждый день не наездишься, потому как мы – патриоты, а не какие-нибудь там аристократы, у которых гинеи под подкладкой зашиты.
– Это верно, гражданин, – мамаша Грилье одобрительно кивнула и бросила взгляд на вязанье. – «Аристо» я и на порог не пущу! Ну что ж, лишнего с вас, гражданин, не возьму, потому как вы с виду как есть патриот. Настоящий, не из тех, что рванье носят и в колпаках красуются!
Эге! Похоже, красные колпаки на улице Серпант не в чести! Впрочем, удивлялся я недолго – колпаки носит голытьба из Сент-Антуана и Сен-Марсо, а мамаша Грилье как-никак – хозяйка гостиницы.
– Расписывайтесь, гражданин! – Вязанье было отложено в сторону, и передо мной возникла громадная тетрадь в черной обложке. – Поскорее, гражданин, скоро «связку» привезут…
– Как? – на всякий случай поинтересовался я, подумав, что речь идет о дровах или в крайнем случае постельном белье.
Ответом был взгляд, полный недоумения.
– А у вас как это называется? Или вы своих аристократов по одному «брить» возите? Ну так, наверно, у вас городишко, гражданин, маленький!
Я начал понимать. «Связка» – людей связывают и везут «брить»…
– Я, гражданин, ни одной «связки» не пропустила! Мне там место добрые люди всегда занимают – у самого эшафота, чтоб ничего не пропустить. А сегодня «связка» знатная – герцогиня… Страсть люблю, гражданин, когда этих дамочек-аристократок «бреют»… Герцогиня, два ее прелестных щенка, трое бриссотинцев[21] проклятых… Всего двадцать четыре! Маловато, конечно, ну да скоро побольше будет! Так что расписывайтесь, пора мне. Сейчас позову гражданина коридорного, он вам поможет…
Хорошо, что вязание требует определенного внимания, и мамаша Грилье не удосужилась взглянуть в лицо своего нового постояльца. Нет, я почувствовал не страх и даже не гнев. Бессилие – бессилие хотя бы на день, хотя бы на час уйти от Смерти. Еще одна Смерть сидела передо мной в деревянном кресле с высокой спинкой. Смерть ловко орудовала спицами и спешила на свой праздник, где головы отрубают уже не людям, а «связкам». Да, мне никуда не деться от Смерти – я прибыл в Ее заповедник, в Ее царство.
Я долго лежал на широкой низкой кровати, глядя в белый, в тонких трещинах, потолок. Сил не было. Странно, что я вообще способен двигаться, разговаривать, даже улыбаться. У меня не осталось сил даже на ненависть, а ведь когда-то я ненавидел этих мерзавцев, этих людоедов, бросивших Францию – мою Францию! – под нож «национальной бритвы». Господи, как я их ненавидел! Но сейчас я чувствовал лишь боль – фантомную боль, которая не может убить, но от которой нет спасения.
Наконец я пересилил себя, встал и, наскоро разложив свой нехитрый скарб, занялся камзолом. Сперва я вынул из-под подкладки гинеи – новенькие, тяжелые, сверкающие, после чего начал аккуратно, пядь за пядью, исследовать плотную ткань. Усилия оказались не напрасны. У самого воротника пальцы нащупали что-то странное. Вскоре передо мною лежала сложенная вчетверо тонкая пергаментная бумага. Сердце замерло – удача! Я прежний, похоже, предусмотрел почти все. Может, сейчас я увижу адрес «Синего циферблата»…
Увы, там были только цифры. Несколько аккуратных строчек – и ни одной буквы. Увы, я прежний оказался слишком предусмотрительным. 1, 23, 11, 12, 19… Это мне ничего не говорило. Конечно, шифр и, конечно, не очень сложный. Такие записи следует расшифровывать быстро. В то же время это едва ли что-нибудь примитивное. Цифры не просто заменяют буквы – такое разгадывается за час. Нужен ключ – но этот ключ мне уже не принадлежал…
Я вновь упал на кровать, закинул руки за голову и прикрыл веки. Разгадка была рядом, совсем близко. Если удастся вспомнить хоть что-нибудь! Ведь это зашифровывал я сам – на крайний случай, самый крайний, подобный нынешнему! Что же я мог придумать?
Вновь поднеся бумагу к самым глазам, я принялся всматриваться в ровные строчки. Пять записей, очень небольших. Скорее всего адреса и фамилии – что еще можно прятать? Но тогда у меня должна быть с собой книга, причем самая невинная и обычная, какую можно купить в каждой лавке. А еще лучше – две или три книжки, одна из которых – настоящая. Но листать на сон грядущий надлежит все, иначе опытный глаз заметит, какую из книг брали в руки чаще. А остальное – просто. Буквы заменяются цифрами согласно тексту, причем номер берется каждый раз иной. Например, сначала «а» будет, скажем, «3», а потом – «21»…
Это я помнил. Когда-то приходилось пользоваться подобным нехитрым приемом наряду с иными, куда более сложными. Например, эту бумагу можно прогладить утюгом… Нет, еще раз поглядев на странную записку, я сообразил, что на такой бумаге тайнопись не проявится. Зато пергаментная бумага не размокнет в воде – и не впитает кровь.
Я вновь пробежал глазами по шифру. Какая жалость! Вот уж действительно, давно мне ведом терпкий вкус греха…
Я замер. Что за чушь? Почему…
…Давно мне ведом терпкий вкус греха…
Ах, вот оно что! Все-таки я вспомнил… Вспомнил…
Давно мне ведом терпкий вкус греха, И пропасть черную уж зрю издалека, Черны грехи мои, но злато облаченья Меня слепит и гасит все сомненья…Конечно, это могло быть случайностью. Несколько строчек, заблудившихся в памяти. Но могло быть и иначе. Тот, оставшийся вдалеке, подсказал. Ведь не обязательно иметь с собой книгу! Достаточно помнить наизусть десятка три строк…
Я бросился к столу, положил перед собой записку… и через несколько минут разочарованно вздохнул. Нет, ничего не получалось. Может, просто в памяти всплыла какая-то ненужная чушь. А может, я вспомнил не с самого начала – и, конечно, не все. Жаль. Поистине, черны грехи мои…
Я выписал строчки на отдельном листке и попытался вспомнить, откуда сие. Не Мольер, конечно, не Корнель. Что-то определенно поновее, причем автор явно нечасто беседует с музами. Впрочем, дорога оставалась открытой. В Париже немало любителей поэзии…
Стук в дверь прервал невеселые мысли. Решив, что это коридорный, точнее «гражданин коридорный», я быстро спрятал бумаги и хотел крикнуть «Да!», но решил проявить революционную вежливость и подошел к двери.
– Гражданин Люсон?
Девушка… Или молодая женщина, но никак не старше тридцати. В углах губ змеились морщинки, но глаза светились молодо, ярко. Дорогая накидка, на голове странная круглая шляпка…
– К вашим услугам… гражданка.
Говорить даме «гражданка» – поистине преступление перед французским языком. Но мало ли кто бывает в заведении мамаши Грилье?
– Чем могу служить?
Поначалу мелькнула мысль о скучающей соседке по этажу. Но я тут же сообразил – соседке ни к чему надевать теплую накидку.
– Разрешите ваше удостоверение?
Я чуть было не ляпнул: «А ваше?», но прикусил язык. Шутки кончились. Взгляд гостьи был холоден и суров.
Бумагу из Сен-Марсо она изучала долго, хотя и не так, как мадам Вязальщица. Наконец гостья кивнула и слегка улыбнулась.
– Извините. Здравствуйте, гражданин Люсон!
– Здравствуйте, гражданка… – начал я, пряча бумагу. Намек был понят. Девушка вновь улыбнулась и покачала головой:
– Это неважно. Вам просили напомнить… «Некогда против трехсот мириад здесь сражалось четыре…»
На миг я оторопел, а затем улыбнулся в ответ. Похоже, без знания поэзии в Париже не сделаешь и шага. Например, без стихов Симонида Кеосского в переводе Ракана.
– «…Тысячи ратных мужей Пелопоннесской земли. Путник, пойди, возвести нашим гражданам в Лакедемоне…»
– Благодарю вас… – Улыбка исчезла, лицо вновь стало суровым. – Ваш друг просил передать… «Гражданин! Твой подвиг во имя Республики, Единой и Неделимой, высоко оценен. Но враги нации не дремлют. Они куют смертельное оружие, чтобы поразить Революцию…»
Странно слушать такое, тем более не в дурной пьесе, а в жизни. Да и в дурной пьесе этакая дичь воспринималась бы плохо. Но внезапно показалось, что я слышу совсем другой голос – мужской. Негромкий, холодный, как лед…
– «Ты будешь нужен, гражданин! Пока же советую тебе добродетельно отдохнуть, но вспомни наш спор и не пей шампанское, ибо шампанское – яд свободы. Прощай и до скорой встречи!»
Вам повторить? – девушка вновь улыбнулась, заговорив своим нормальным голосом. Я покачал головой, почувствовав горькую обиду. Стоило путать следы, пугать до полусмерти достойного патриота в Сен-Марсо, цеплять дурацкие очки! Нашли! Вернее, нашли не меня, а национального агента Шалье, который, оказывается, любил шампанское…
– Нет, спасибо, я запомнил. Может, зайдете?
– Надо идти, – девушка вздохнула. – Много поручений, он сейчас очень занят, даже ночами не спит…
– Погодите! – Я попытался собраться с мыслями. – Я… Я давно не был в Париже. Не посоветуете ли, как здесь… гм-м, добродетельно отдохнуть?
– Театр Оперы. Сегодня. Для вас будет билет в третьей ложе на фамилию Люсон…
Вот даже как? Кажется, моя гостья восприняла вопрос излишне серьезно.
– И что там дают?
Она на миг задумалась.
– Кажется… Да, сегодня патриотическая опера граждан Гийара и Лемуана «Мильтиад при Марафоне». Стоит послушать, гражданин Люсон. Очень хорош второй акт, особенно хоры… И вам просили передать, что билет будет оставляться вам каждый вечер… Мне надо спешить. До свидания.
Попрощаться я не успел. Гостья исчезла, а я остался стоять у двери если не в полной растерянности, то в состоянии весьма близком к этому. Наконец я вздохнул, достал коробку с папелитками и закурил, пытаясь осмыслить случившееся.
Впрочем, осмысливать было нечего. Меня, вернее национального агента Шалье, нашли – быстро и безошибочно. Мои уловки оказались поистине дилетантскими. Очки с простыми стеклами! Впрочем, тот, кто назывался «другом», похоже, вполне одобрял мое поведение. Более того, советовал скрываться и дальше. А место в третьей ложе Оперы – на крайний случай, если понадобится экстренная встреча.
И еще. Пароль – Симонид в переводе Ракана – был мне, похоже, известен. Очевидно, гражданин Шалье поделился не только сложенной вчетверо бумагой.
Я лежал на кровати, докуривая уже вторую папелитку подряд, и с тоской думал, что влезаю в какую-то скверную и абсолютно ненужную мне историю. Правда, бояться нечего – в случае чего я просто посмеюсь этим «друзьям» в лицо и предложу отправить меня на гильотину. Но от меня не отстанут. Говорят, колдуны способны ловить призраки и прятать их в бутылки, чтобы демонстрировать гостям. Нет, попадать в бутылку нельзя!
Вечер наступил быстро – хмурый ноябрьский вечер, точнее, вечер месяца фримера Второго года Республики. Увы, время потрачено зря. Цифры на пергаментной бумаге оставались всего лишь цифрами, и никто – ни «гражданин коридорный», ни соседи-постояльцы знать не знали никакого «Синего циферблата». Кто-то вспомнил, что так назывался кабачок в Марселе, но циферблат там был не синий, а желтый.
Можно было расспросить почтенную мамашу Грилье, но мадам Вязальщица почему-то наводила на меня ужас. Слушать рассказ об очередной «связке» совершенно не тянуло.
Оставалось последнее – сходить в Оперу. Дорогу мне уже объяснили – прямо по улице, затем направо, потом по мосту через Сену… Лучше, конечно, взять фиакр, хотя вечером «граждане кучера» требуют двойную плату. А еще лучше не ходить ни в какую Оперу, поскольку, как ни крути, а Опера ничуть не лучше Королевского театра, который в полном составе отправлен, к радости всех истинных патриотов, в тюрьму Маделонет. Мне же советовали посмотреть что-нибудь истинно патриотическое – «Триумф Республики» в театре Марата, что на улице Сен-Виктор, или «Границу» в театре на улице Турнон. А еще лучше посмотреть и послушать хороший патриотический водевиль, благо их ставят везде – хотя бы «Еще один кюре» граждан Радэ и Дефонтена, где паразиты священники представлены так, что обхохотаться можно.
Напутствуемый подобным образом, я пообещал подумать и направил свои стопы по безлюдной в этот поздний час улице Серпант.
Честно говоря, я не знал, что и делать. Конечно, смотреть «Еще одного кюре» я не собирался, равно как искать театр Марата. Меня вообще не тянуло в театр, но не пойти сегодня в Оперу означало, что я почему-то пренебрег настоятельным приглашением «друга». Возможно, «друг», хотя и занятый, если верить моей гостье, многими важными делами, не забудет разузнать – пустовало ли место в третьей ложе. А может, даже пришлет кого-нибудь, знавшего гражданина Шалье в лицо. Или заглянет в театр сам – на минутку, чтобы поздороваться и поинтересоваться, не совратился ли национальный агент Шалье на шампанское…
В этом случае следовало, конечно, не выходить на улицу и завтра же поискать другую гостиницу, использовав второй – чистый – бланк. Но, подумав, я отбросил эту мысль. Меня нашли сегодня, найдут и завтра. Если «друг» хотел бы незаметно взглянуть на меня, то не приглашал бы в Оперу – это можно сделать куда проще. Возможно, национальный агент Шалье действительно приятельствовал с неведомым «другом». Обыкновенному агенту не станут передавать пожелание не пить шампанское. Может, Шалье любил оперу, и «друг» решил сделать ему подарок, абонировав ложу?
Возле Оперы было людно. Глядя на фиакры, с трудом пробирающиеся через толпу, на оживленных людей, одетых отнюдь не в колпаки и карманьолы, я вначале не поверил своим глазам. Выходит, в Париже – царстве Смерти – еще осталось что-то, напоминающее обычную нормальную жизнь? Люди модно одеваются, ходят в Оперу, у них хорошее настроение… Выходило, что так. Внезапно я почувствовал зависть и нечто похожее на смущение. Для Оперы мой наряд – весьма респектабельный, если смотреть с улицы Серпант, – совершенно не годился. Вместо плаща и камзола следовало надеть редингот и повязать не шарф, а галстук… Похоже, когда-то я очень следил за такими вещами. Нелепые очки внезапно стали давить на переносицу, и я еле удержался, чтобы не снять их тут же и не выбросить прямо на булыжник. Очки в Опере! Засмеют! Одно дело – лорнировать дам, другое – пялиться на них через стеклышки в роговой оправе…
Суета сует! Я опомнился и нерешительно поглядел на ярко освещенный портал. Что делать? Не идти – опасно, пойти… Но ведь девушка не передала мне приказ! Это лишь совет, которым я могу и не воспользоваться. Может же национальный агент Шалье, равно как добрый республиканец Франсуа Люсон, устать с дороги! Ведь я приехал не с Форжских вод!
Еще не зная, на что решиться, я вновь оглядел площадь, заметив как раз напротив сияющей огнями Оперы нечто, напоминающее ее уменьшенную копию. Первый этаж большого дома был ярко иллюминирован, возле входа теснились люди, на мостовой стояло несколько колясок и фиакров. И вдруг мне показалось, что я припоминаю. Нет, не припоминаю, просто пришла очередная подсказка. Здесь, как раз напротив театра, находится знаменитая лавка. Нет, не лавка! Кафе! Оно называется весьма странно, каким-то именем, причем иностранным…
Кафе именовалось «Прокоп». У самого входа красовалась изрядно исполненная мраморная доска, извещавшая, что сие заведение основано в 1681 году от Рождества Христова (слова «Рождества Христова» оказались закрашены) добрым парижанином Франческо Прокопом Куто родом из Сицилии. Больше ста лет назад! Похоже, у сицилийского парижанина оказалась легкая рука!
Толпиться не хотелось, но вскоре я заметил, что публика большей частью не заходит, а совсем наоборот. Очевидно, это были зрители, спешившие на представление. Решившись, я пропустил какого-то щеголя, резво выскочившего из дверей, и прошел внутрь.
Господин Франческо Прокоп Куто, равно как его наследники, оказались на высоте. Минут пять я разглядывал роскошное убранство – зеркала (настоящие венецианские), ковры (издалека могущие сойти за персидские), хрустальные люстры. На стенах темнели портреты. Не без удивления я узнал д'Аламбера, Гольбаха, Бюффона. Здесь что, отделение Академии наук?
Столики пустели на глазах. Очевидно, для заведения Прокопа наступал мертвый час. Я решил не ждать официанта, а подошел прямо к стойке, мраморной, украшенной затейливой резьбой – змеящимися виноградными лозами. За стойкой возвышался солидного вида щекастый гражданин с трубкой в зубах. Увидев меня, он мгновение-другое оценивающе приглядывался, затем величественно кивнул:
– Добрый вечер, гражданин! Решили не идти на первый акт?
– А что, стоит опоздать? – Я присел напротив и вновь с интересом огляделся. Да, солидное заведение!
Мой собеседеник подумал, выпустил изо рта устрашающего вида синеватое облако и с достоинством резюмировал:
– Первый акт можно пропустить. Это точно! – Он подумал и заключил: – Впрочем, и второй тоже. Безобразная опера!
Мысль мне понравилась. Лучше посидеть тут, выпить кофе. Интересно, а какой здесь кофе?
Я поглядел в угол, где обычно находится жестяная колонка с краном и жаровней, но ничего похожего не заметил. Хозяин, явно отличавшийся проницательностью, вновь выпустил целую тучу дыма и покачал головой:
– И не ищите, гражданин! Кофе в бочке не варим! У нас кофе по-стамбульски, на песке. Вам крепкий? С сахаром?
– Крепкий, без сахара, – не думая, ответил я.
– Тогда вы – добрый патриот, – удовлетворенно заметил хозяин и, достав джезву, принялся священнодействовать.
Хотелось спросить почему, но я сдержался. Впрочем, мне тут же пояснили:
– Доброго патриота всегда узнать можно. Добрые патриоты сахар не употребляют, потому как сахара в Республике не хватает. Зато кофе пьют самый крепкий, дабы самим крепче стать.
Я несколько удивился, и вдруг в словах хозяина мне послышалось что-то знакомое. Добрые патриоты…
– Добрые патриоты не пьют чай, Франсуа! Добрые патриоты пьют кофе! Привыкайте!
Мари Жильбер де Ла Файет протягивает мне большую дымящуюся кружку, и я осторожно отхлебываю крепкий горький напиток. Мой друг смеется и качает головой:
– Но мадам Марта кофе варить так и не научилась. Увы!
Да, мадам Марта, в доме которой, именуемом Маунт-Вернон, мы только что были в гостях, варит кофе в большом чугунном котле. Однако ее супруг – высокий, чуть сутуловатый человек с яркими голубыми глазами – находил сей кофе превосходным. Впрочем, разговаривая с ним, я менее всего думал о вкусе темного напитка. Я называл этого человека «господин генерал», и в разговоре – очень важном, секретном – речь шла…
– Прошу вас, гражданин! Самый крепкий!
Я очнулся, кивнул и осторожно взял большую фаянсовую чашку. Воспоминание не отпускало. Высокий, чуть сутуловатый человек… Бросив взгляд в дальний угол, я вздрогнул – на меня смотрело его лицо – гипсовое, холодное. В жизни этот человек совсем другой, хотя ныне именуется совершенно чудовищным титулом – Его Высочество Мощь и Сила, Президент Соединенных Штатов Америки и Протектор их Свобод. Впрочем, обычно его зовут, как и прежде – просто «генерал»…
– А это – знаменитости, – хозяин вновь верно оценил мой взгляд. – Которые из гипса, те – просто из уважения. А портреты – это, стало быть, посетители.
Гипсовых знаменитостей, включая того, у кого я пил сваренный в котле кофе, оказалось четверо. На остальных я и глядеть не стал. А вот портреты…
– Они что, здесь все бывали? Бюффон, Гольбах…
– И Вольтер тоже бывал, – хозяин довольно ухмыльнулся. – Только портрет его сняли пока – уж больно мухи гражданина философа засидели. Подновим – снова повесим! А чего удивляться? Покойный господин Прокоп, земля ему пухом, за-ради этого заведения целых три дома купил, да перестроил, да зеркала повесил. А кофе? Такой раньше только в «Синем циферблате» варили. В «Синем циферблате» – и у нас…
– Что?!
Кофе внезапно потерял вкус. «Синий циферблат»! Оказывается, там варили очень хороший кофе…
– Ну, это когда было! – махнул рукой хозяин и вновь с достоинством выпустил облако сизого табачного дыма. – Лет тридцать тому! А потом тамошний хозяин помер, а наследник вместо кофе стал сидр подавать. Сидр, прости господи! Ровно в деревне!
Я вытащил папелитку, закурил и стал глядеть в сторону, боясь бросить лишний взгляд на хозяина. Не спугнуть! Достойный гражданин разговорился, сейчас главное – не мешать…
– А, «папелито» курите! – в голосе прозвучало явное неодобрение. – И совершенно напрасно, гражданин! Я вам так скажу – испанцы только табак переводят! Трубка – это дело правильное! И кофе мы варим правильно! Честно говоря, гражданин, покойный господин Прокоп кофе варить не очень-то умел. Он вначале у одного грека служил. Или армянина, уже не упомню. Того звали как-то странно. Хатарюн, что ли? Ну, дело там не пошло. А потом господин Прокоп изловчился и переманил одного парня аккурат из этого самого «Синего циферблата». Тот кофе варил, я вам скажу! Мой дедушка рассказывал, что ложка в кофе стояла! Больше одной кружки в день такого не выпьешь! Вот с того времени и…
– А «Синему циферблату» не повезло, – равнодушно бросил я, по-прежнему глядя в сторону.
– А сами виноваты! Место у них неплохое, клиентов хватало. Нечего было на сидр переходить! Было кафе, стал кабак, прости господи! А так бы конкурировать пришлось, ведь это рядом совсем. Три квартала…
– К северу? – Я вовремя вспомнил, что на юге – Сена.
– А, бывали там! – хмыкнул хозяин. – К северу, понятно. Три квартала, да налево, площадь Роз. Да какие там розы, гражданин! Сами небось видели – ни деревца, ни кустика…
Я уже не слушал. Все оказалось очень просто! Три квартала, несколько минут ходьбы. Хотелось вскочить, броситься к двери…
Но я вовремя сдержался. Сейчас поздний вечер. Такие кабачки, где наливают сидр, обычно в это время уже закрыты. А я ведь даже не знаю, кого там искать! Хозяина, слугу, служанку? А может, искать никого не надо, мне там могли просто оставить письмо… Нет, надо ждать. Завтра утром…
Хозяин продолжал что-то рассказывать, я кивал, кажется, даже отвечал, не думая, вернее, думая совсем о другом. Кажется, все скоро кончится. Плохо ли, хорошо, но кончится. Я у цели, я почти у цели…
Обратно я решил идти пешком, благо дорога запомнилась. Улицы были пусты, если не считать патрулей, неторопливо бродивших по ночному городу. Пару раз меня останавливали, но придираться к доброму гражданину Люсону, возвращавшемуся в гостиницу «Друг патриота», никто не стал. Я отвечал, почти не соображая, что говорю. Все вокруг стало казаться нереальным, странным: ночные улицы, дома с плотно закрытыми ставнями, усатые физиономии патрульных. Внезапно я ощутил, насколько устал. Весь день я притворялся живым – и, похоже, притворялся неплохо. Но как это тяжело! Господи, как это было тяжело! Мне ведь уже ничего не нужно – и никто не нужен! Скорее бы настало утро – утро, несущее покой…
Я шел около часа и вдруг сообразил, что заблудился. Похоже, память все-таки подвела. Этого еще не хватало! Я оглянулся – незнакомая узкая улица, впереди – низкий серый забор… Да, где-то я ошибся. Наверно, перейдя мост через Сену, я свернул направо, а надо было…
Я вновь осмотрелся, но вокруг никого не было. Добрые патриоты мирно спали, а граждане патрульные отчего-то не почтили эту улицу своим неусыпным вниманием. Спросить дорогу оказалось не у кого, и я неторопливо пошел вперед вдоль серого забора, сложенного из грубого рваного камня. Под ногами тоже был камень, и внезапно показалось, что я уже в могиле – в каменном склепе, откуда нет выхода. Я резко выдохнул, взглянул наверх, но на небе, покрытом тяжелыми тучами, нельзя было разглядеть даже самой маленькой звезды. Могила… Сырая, холодная могила.
Я закусил губу – до боли, до солоноватого привкуса крови. Да, все так. Но разве я мог надеяться на что-то иное? Еще немного, совсем немного! Добраться до гостиницы, упасть на кровать, дождаться утра, взять первый встречный фиакр… Но сначала надо найти дорогу.
И тут я услыхал стон. Негромкий, еле слышный. Я быстро оглянулся, но никого не заметил. Почудилось? Я вновь осмотрелся и тут заметил у самого забора что-то похожее на темную груду тряпья. Мгновение-другое я стоял, не зная, что делать, а затем решительно шагнул вперед.
Пока я шел, стон повторился. Я ускорил шаг – и через минуту сомнения исчезли. То, что издалека казалось бесформенным темным пятном, на самом деле было человеческой фигурой. Кто-то сидел у стены, у холодной сырой стены, опираясь спиной на рваный камень.
– Что с вами? Вам помочь?
Ответа долго не было. Наконец послышалось негромкое:
– Оставьте меня.
Я вздрогнул – голос был женский. Молодая женщина в странном рубище, похожем на темное покрывало… Нищенка? Но что ей тут делать в холодную осеннюю ночь?
– Вы больны? Я позову врача…
– Нет. Я не больна.
Она подняла голову, и наши глаза встретились. В ее взгляде я не уловил ничего – только странную пустоту. Мелькнула догадка, что передо мной – слепая. Но я тут же понял – нет, дело в другом…
– Оставьте меня, сударь. Я не больная. Я… Я мертвая.
Слова ударили, словно обухом. Я умер! Я умер давно… Мертвец встретил мертвеца!
– Так не бывает, сударыня! – На миг я закрыл глаза, пытаясь собрать остатки воли. Я мертв, но эта несчастная – жива. Ей надо помочь…
Ее рука оказалась неожиданно теплой. Пульс бился ровно и четко. Я облегченно вздохнул.
– Сейчас кого-нибудь позову… Кто вы, сударыня? Где вы живете? Вас надо отвезти домой.
В пустых недвижных глазах внезапно мелькнула боль.
– Я – никто. Оставьте меня, сударь! Меня… Я должна… Я обязательно должна… Я не помню!
Я окончательно пришел в себя. Бедняжка просто больна. Красивая молодая женщина, очень приметное лицо, небольшая родинка на левой щеке, пряди светлых волос, выбивающиеся из-под покрывала. Похоже, с нею случилось то же, что и с несчастным священником, попавшим в руки красных колпаков…
– Подождите!
Я огляделся и с облегчением заметил вдали, в неярком свете фонаря троих парней в синих шинелях. Патруль! Наверно, впервые в жизни я обрадовался патрулю «синих».
– Подождите минуту, – повторил я. – Сейчас мы вам поможем…
К сожалению, граждане патрульные не отличались толковостью. У меня потребовали гражданское свидетельство, долго его изучали, затем решили, что здесь не хватает света, а посему надо подойти ближе к фонарю… Когда вопрос со мной разъяснился, меня наконец соизволили выслушать. Увы, когда мы подошли, у стены уже никого не было. Несчастная женщина исчезла, и я мысленно выругал бестолочей санкюлотов, а заодно и себя самого. Как можно было оставлять ее одну? Ищи ее теперь по холодному ночному городу!
Я попытался объяснить, что следует организовать поиски, поскольку ночь ожидалась холодная, да и лихих людей в этаком безлюдье встретить совсем немудрено. На это мне было категорически заявлено, что «меры» будут приняты, а мне следует отбыть по месту жительства, ибо нечего «доброму патриоту» бродить ночью по улицам. На физиономиях граждан санкюлотов при этом читалось явное желание спровадить меня подальше, дабы не путался под ногами. Моя просьба разрешить мне остаться и поискать пропавшую самому была пресечена самым решительным образом, и один из парней взялся проводить меня до угла улицы Серпант. Она оказалась совсем рядом – я действительно сделал лишний поворот и теперь был вынужден пройти по улице Л'Эпереон до ближайшего перекрестка. Напоследок я спросил, что это за место, и равнодушный ответ парня в синей шинели заставил вздрогнуть. Кладбищенская улица… Там, за серой каменной стеной, кладбище Дез-Ар. Неудивительно, что бедная, потерявшая разум женщина бродила по этим мрачным местам. И я еще раз пожалел, что оказался столь нерасторопен.
Ночью ударил мороз. Утро выдалось холодное, а уличную брусчатку и красные черепичные крыши покрыл тонкий слой свежего хрустящего снега. Удивительно, но спал я крепко, без сновидений. На душе было странное спокойствие, словно все главное уже сделано. Наверно, такое чувство бывает перед похоронами, когда дроги поданы, факельщики выстроены в ряд, священники читают молитву, и осталось лишь спокойно идти за катафалком до близкого погоста. Фиакр, который я поймал сразу за углом, оказался под стать дрогам – старый, скрипящий, да и кучер попался мрачный и неразговорчивый, словно и в самом деле собирался везти меня на кладбище, а не на площадь Роз. Впрочем, мне было не до разговоров. Я глядел на красивый и чужой город, покрытый первым осенним снегом, и думал, что все случившееся похоже на сон. Сейчас эти улицы, дома, река, покрытая у берегов тонким неверным льдом, исчезнут, и я вновь увижу серое, такое близкое небо, а вокруг будет старая пожелтевшая трава и черные деревья, стерегущие лионскую дорогу. Зачем я здесь? Скорее бы все кончилось…
Я не сразу услыхал голос кучера. Очнувшись, я понял, что мы стоим, вокруг – невысокие двухэтажные дома, окружавшие маленький, мощенный старым булыжником пятачок. Площадь Роз была подозрительно безлюдна, лишь над трубами клубился дым, а у входа в хлебную лавку толпилась небольшая очередь совершенно безнадежного вида.
В первый миг я растерялся. Почему-то казалось, что я узнаю это место сразу. Нет, ничего не вспоминалось, а тот, кто иногда подсказывал мне, на этот раз молчал. Я не спеша обошел всю площадь, заметив несколько подозрительных взглядов, брошенных на меня из очереди, и в растерянности остановился. Нет, я представлял это место совершенно иначе…
– Кукареку, гражданин! Чего ищете?
От неожиданности я вздрогнул, оглянулся, но никого не увидел.
– Кукареку! Не туда смотришь, дылда!
Я действительно смотрел не туда. Следовало нагнуться, чтобы заметить того, кто так оригинально меня приветствовал. Мальчишка – маленький, в рваной куртке, еще более рваных штанах и огромных деревянных башмаках. Чумазая рожица ухмылялась, и эту ухмылку ничуть не портило отсутствие переднего зуба. В довершение всего голову огольца украшала огромная шляпа, налезавшая ему на самые брови. На шляпе красовалась большая трехцветная кокарда.
– Кукареку, – вздохнул я. – Чего надо, малыш?
– Я вам не малыш! – Рожица внезапно приобрела суровый вид. – Меня Огрызком кличут, а вообще-то я – гражданин Тардье, вольный санкюлот секции Обсерватории. А вы, гражданин, выкладывайте, чего ищете, а не то я патруль кликну…
– Действительно кликнешь? – поинтересовался я, в который раз оглядывая площадь. Ничего похожего ни на кафе, ни на кабачок. Ни вывески, ни открытых дверей, ждущих посетителей…
Малец задумался, наконец хмыкнул:
– Не, не кликну. Потому как у вас вид, гражданин, вполне патриотический. И кокарду вы носите! А вы говорите, чего надо, может, и найдете – с моей помощью!
– «Синий циферблат», – решился я. – Это кабачок, там сидр подают…
Внезапно глаза гражданина Огрызка стали очень внимательны, он оглядел меня с головы до ног и наконец решительно заявил:
– Три ливра, гражданин! Как раз мне на «петрушечницу» будет.
– На что? – удивился я, доставая пару ассигнатов.
– Сразу видно, деревня! – Оголец сплюнул, растер плевок деревянной подошвой и снисходительно пояснил: – «Петрушечница», гражданин, это агромадный ломоть говядины с петрушкой, да с маслом, да с уксусом. Полное объедение для тех, кто понимает! Только… вы мне не то дали. Я три ливра просил! А вы мне бумажки даете.
– А ты точно здешний? – полюбопытствовал я. – «Петрушечницу» заслужить надо!
В ответ послышался свист.
– Здешний! Да я здесь каждый булыжник по имени знаю! И меня все знают! Я летом обычно прямо тут, на площади, и ночую. Навес здесь летом ставят, очень удобно. А зимой больше по чердакам. Холодно, правда…
Я вновь взглянул на санкюлота из секции Обсерватории, хотел спросить, где же его родители или хотя бы родственники, но понял, что такой вопрос ни к чему. Парень живет на улице, носит деревянные башмаки на босу ногу и хочет заработать на кусок хлеба с говядиной.
Я достал гинею и показал ее гражданину Огрызку.
– Проведешь – твоя! Знаешь, что это?
Вновь послышался свист, на этот раз изумленный.
– Золото Питта! С портретом злодея и тирана Георга III!
– Держи!
Гинея тут же оказалась в его грязной лапке, оголец подпрыгнул, отчего шляпа съехала на ухо, и внезапно завопил что есть силы:
Король Георг хотит напасть На Францию – ха-ха! За это мы в его дворец Подпустим петуха!После чего, спрятав гинею за щеку, совершенно нелогично закончил:
– А лучше бы вы мне, гражданин, три ливра дали!
Подобная щепетильность показалась мне странной, малец же, потоптавшись немного на месте, поглядел на меня как-то нерешительно и наконец вздохнул:
– Ну чего, пошли, гражданин Деревня!
Идти оказалось совсем недолго – не больше десятка шагов. Обычный дом, мимо которого я уже прошел не меньше двух раз, – старый, двухэтажный, под красной, припорошенной снежком черепичной крышей. Только двери и окна первого этажа оказались заколоченными крест-накрест, а на одной из дверных створок красовался цветной бумажный плакат.
– Вот он, – гражданин Огрызок кивнул на закрытые двери и снова сплюнул. – Был «Циферблат», да весь вышел. Закрыто именем Революции! Папашу Молье, что заведение держал, с «бритвой» повенчали, а кабачку, понятно, – каюк!
Все еще не веря, я зачем-то потрогал дверь, взглянул на плакат, на котором красовалась знакомая надпись «Республика, Единая и Неделимая…», и вдруг почувствовал, что все вокруг исчезает, покрывается серым плотным туманом, проваливается в никуда. Вот и пришел… И эта дверь оказалась закрытой. Зря, все зря! Господи, все зря! Надо было остаться там, у лионской дороги, где небо казалось таким близким…
– Да чего с вами, гражданин? – детский голос донесся откуда-то из невероятного далека. Я с трудом открыл глаза и вновь увидел шершавые доски, закрывшие вход. – Чего с вами? – мальчишка дергал меня за руку, и в его голосе уже слышалась тревога. – Да вы ж сейчас на землю брякнетесь! Захворали, что ли?
Я покачал головой и вдруг понял, что в самом деле сейчас упаду. Оставалось сесть у холодной стены, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. И вдруг мне вспомнилась женщина на пустой ночной улице. «Оставьте меня! Я не больная… Я мертвая…»
Все-таки я не упал и остался стоять, правда, для этого пришлось уцепиться рукой за твердое сырое дерево. Я даже нашел в себе силы улыбнуться:
– Все в порядке, гражданин Тардье! Скажи, кроме хозяина, здесь кто-нибудь еще жил? Кто-нибудь остался?
Малец задумался.
– Не-а, – наконец изрек он. – Тетка Анна-Мари, супруга ихняя, еще в прошлом году померла, и служанка померла. Двое слуг еще было, они наверху жили, так, когда старого в Консьержери потащили, они со страху небось до самой Мартиники сбежали. А вы кого ищете?
– Никого, – вздохнул я. – Уже никого…
Действие 2 Некий шевалье занят не своими делами, или Кладбище Дез-Ар
Тьма была вязкой, густой, она была всюду, перед глазами плавала чернота, и я исчез, растворился в этой тьме, став ее бессильной частью. Время пропало, исчезли мысли, сгинула боль. Только какое-то странное чувство легким эхом еще отзывалось в меркнущем сознании. Тоска? Разочарование? Думать не хотелось. Тьма скрывала мир, и это приносило облегчение. Долго, долго, почти вечность я оставался наедине с бесконечной ночью, и менее всего хотелось возвращаться обратно – в отвергнувший меня мир, чужой и жестокий…
Этот мир не исчез. Самым краешком, каким-то маленьким уцелевшим обрывком сознания я понимал, что лежу на кровати, на жестком плотном покрывале, рядом – прямо на полу – черной грудой сброшен плащ, в окно струится неяркий солнечный свет, но все это было очень далеко, за темнотой. Уже утро, я пролежал так весь день и всю ночь, не сняв камзола, даже не сбросив туфли. Впрочем, ни эта комната, ни это холодное утро уже не имели ко мне никакого отношения.
Я слышал и голоса. В коридоре шумели, кто-то громко спорил возле самой двери, затем, кажется, послышался легкий скрип. Сознание – тот жалкий обрывок, что еще оставался у меня, – фиксировало происходящее спокойно и равнодушно. Да, дверь скрипнула, кто-то стал на пороге, кто-то вошел и остановился у моей кровати…
Меня позвали, но это было не мое имя. Звали другого – того, к которому я не имел отношения. Не имел. Не хотел иметь…
– Гражданин Шалье! Гражданин!
Кто-то потряс меня за плечо – и внезапно тьма исчезла. Я ощутил боль – и страх. Снова… Снова меня не хотят оставить в покое…
– Гражданин Шалье!
Того, кто стоял надо мной, я никогда не встречал. Крепкий чернявый парень в модном сюртуке, глаза внимательные, настороженные… Он не один – кто-то сидит в кресле в дальнем углу.
– Вы что, с открытыми глазами спите?
Тон был спокойным, но в этом спокойствии проблескивали искры нетерпения. Я вздохнул. Что ж, национального агента Шалье все-таки нашли. Сейчас лучше всего признаться – и тогда все кончится по-настоящему. Дважды не умирают, но эти двое найдут способ избавить меня от необходимости оставаться в этом мире. Они мастера – мастера Смерти…
Я невольно улыбнулся – и внезапно замер. Нет, я напрасно роптал! Я не смог узнать, что ждало меня в «Синем циферблате», но оставался еще один путь. Я попытаюсь понять, кем я был! И тогда дорога обязательно приведет к тому, что еще держало меня на земле! Они ищут Шалье – а я буду искать…
– Доброе утро, граждане!
Я не спеша встал, поправил камзол, провел руками по волосам. Да, в комнате двое, дверь плотно закрыта, плащи гостей брошены на спинки стульев, а тот, второй, что обосновался в дальнем углу, сидит, почему-то отвернувшись.
Я подошел к тазу, плеснул в лицо воды и долго вытирался толстым льняным полотенцем. Наконец вновь поправил волосы и присел на кровать.
– Я, кажется, не приглашал вас, граждане!
Чернявый, похоже, слегка растерялся, но тут послышался голос того, второго, – негромкий, чуть дребезжащий:
– И были абсолютно правы, гражданин Шалье. Но, к сожалению, гражданин Шовелен, которого вы ждали, не сможет прийти. Он в Западной армии, и, боюсь, надолго. Отныне вы будете работать с нами.
– Амару, – чернявый подал широкую короткую ладонь. – А это – гражданин Вадье.
Гражданин Вадье медленно встал – и я чуть не присвистнул, не хуже юного санкюлота Тардье. Мой второй гость был копией Вольтера – по крайней мере, копией его портрета работы Гудона. Длинный нос, глубоко посаженные маленькие глаза, ехидная усмешка. Правда, этот Вольтер был слегка потолще и помоложе, вдобавок носил большой темный парик, но сходство все же поражало.
Было еще одно существенное различие. Философ не сотрудничал с Комитетом общественной безопасности, а тем более не был его председателем. Вадье, Амару, Шовелен – подписи, стоящие на удостоверении национального агента Шалье.
– Как вы меня нашли?
Гости переглянулись, а я между тем прикинул, что, вероятно, с Шалье сотрудничал отсутствующий здесь гражданин Шовелен. Эти двое с Шалье никогда не встречались. И кроме того, моя вчерашняя гостья, похоже, никак с ними не связана. О «друге» они не догадываются…
– Это было нетрудно, – гражданин Вадье снисходительно усмехнулся. – О вас доложили с Сент-Антуанской заставы. Остальное, как вы понимаете…
– Мы знали, что вы – человек очень осторожный, – быстро заговорил чернявый Амару. – Значит, вы постараетесь достать новые документы. Легче всего вам это сделать в Сен-Марсо…
– Поэтому мы отдали приказ проверить все гостиницы и пансионы, дабы установить, кто из новых постояльцев предъявил гражданское свидетельство, выданное секцией 10 Августа. – Вадье покачал головой. – К сожалению, эта работа заняла чуть больше времени, чем я думал. Наши люди, увы, не всегда расторопны…
Я кивнул, еле удержавшись от ответной усмешки. Всесильный и всевидящий Комитет Вольтера в черном парике искал меня больше двух суток. «Друг» справился с этим за пару часов.
– Итак, гражданин Шалье… – Амару выжидательно поглядел на меня, затем на гражданина Вадье, но оба мы молчали. Поэтому чернявый заговорил сам: – Мы понимаем, вы хотели бы отдохнуть. Вы это, конечно, заслужили, гражданин Шалье. Работа, которую вы вели в Лондоне и Кобленце, а особенно в Лионе, выше всяких похвал. То, что вы сумели уничтожить Руаньяка, – это настоящий подвиг…
– И если гражданин Шалье пожелает, в его честь будет устроено празднество с общественным обедом и шествием к храму Разума, – гражданин Вадье хихикнул и потер руки. – Если хотите – увенчаем вас лавровым венком. Можно – пальмовым…
– А дубовым? – охотно отозвался я. – Как в Древнем Риме?
В ответ – довольное хихиканье. Гражданин Вадье почесал кончик длинного носа и откинулся на спинку стула:
– В Древнем Риме, гражданин Шалье, дубовым венком награждали за спасение товарища в бою. Вы же отправили Руаньяка, который считал вас своим товарищем, аккурат на эшафот.
Я вздрогнул. Шкура национального агента Шалье показалась мне внезапно свинцовой.
– Эшафот был построен напротив Лионской биржи. Над нею повесили трехцветный флаг, а рядом – черный…
Слова вырвались сами собой. Я видел это! Нет, не я! Видел тот, кем я был прежде. Красивое двухэтажное здание, построенное совсем недавно, с лионским гербом над крышей. Герб, впрочем, был тоже завешен черным…
– Помню! – Вадье кивнул. – Я ведь тоже жил когда-то в Лионе, гражданин Шалье. Но этого здания уже нет. Гражданин Кутон приказал снести его в первую очередь.
Снести? Что за глупость! Зачем? Но я тут же вспомнил. Французская Республика, Единая и Неделимая, постановила: город Лион будет уничтожен до основания!
– Кстати, вы были правы, – в разговор вновь вступил гражданин Амару. – Помните, в последнем докладе вы предсказали, что армия Святого Сердца постарается скрыть смерть Руаньяка? Поэтому мы и решили казнить его привселюдно, но… Но сейчас этой шайкой снова командует какой-то Руаньяк!
Я вспомнил рассказы, слышанные от славных бойцов роты Лепелетье. Маркиз де Руаньяк умел появляться в двух местах одновременно, уходить из любых ловушек. Теперь, похоже, он решил обмануть саму Смерть!
– Но это ничуть не умаляет вашей заслуги, – подхватил Вадье. – Настоящий Руаньяк мертв – и это главное. Мы избавились от очень опасного врага. Вы сами писали гражданину Шовелену, что Руаньяк – страшнее Вандеи, страшнее даже Кобленца. Лион показал, что вы правы.
Я старался смотреть в сторону, чтобы проницательный старик не перехватил мой взгляд. Успокаивало лишь то, что настоящий Шалье, скорее всего, мертв, как и преданный им Руаньяк. Как и я сам…
– Надеюсь, мы вам достаточно воздали хвалу? – гражданин Вадье сцепил на колене длинные узловатые пальцы и вновь усмехнулся. – Или продолжить?
Я покачал головой. Этот разговор пора заканчивать. Ведь меня могут спросить о том, что знал настоящий Шалье!
– Мы хотели бы узнать… – Амару встал, прошелся по комнате. – Вы ведь были рядом с Руаньяком почти до самого конца, он вам верил… Как он оценивал то, что случилось в Лионе? Я имею в виду, неудачу восстания…
– Почему – неудачу? – Слова вновь вырвались сами собой, и я сообразил, что знаю ответ. Я помнил! Неизвестно откуда, как, но помнил!
Внезапно захотелось курить. Я подошел к столу, раскрыл коробку с папелитками и тут же заметил удивленный взгляд старика. Похоже, гражданин Шалье курил что-то другое. Или вообще не курил. Впрочем, привычки могут меняться. Я с удовольствием затянулся, присел и, помолчав, начал. Слова рождались одно за другим – не приходилось даже задумываться.
– Лион – не поражение. Это блестящий успех антиякобинских сил. Впервые удалось объединить всех, от бриссотинцев до роялистов, под единым – белым – знаменем. Это – первое…
Амару осторожно присел на стул и замер. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться ему в лицо.
– Хочу напомнить, лионское восстание никто не готовил. Оно вспыхнуло само собой, из-за нелепых выходок местных якобинцев – таких, как Шалье Лионский. И армию Святого Сердца позвали на помощь только через месяц. И все же удалось почти на полгода задержать у Лиона целую республиканскую армию. Под влиянием Лиона восстали Марсель и Тулон. Тулон, по-моему, до сих пор не капитулировал…
Меня слушали затаив дыхание. Странно, ни о чем подобном я не думал – и не вспоминал. Сейчас вместо меня говорил кто-то другой…
– Это – второе. Восстания в Лионе, на юге и, конечно, в Вандее на целый год лишили Республику возможности вести наступательные операции на внешнем фронте. Это – третье. Третье, но не главное…
Наверно, следовало замолчать – говорить такое гражданам инквизиторам было опасно. Но мне не хотелось останавливать того, другого. Он говорил из могилы – и пусть эти двое, считающие себя победителями, послушают!
– Лион – это опыт! Удачный опыт единого антиякобинского фронта. И этот опыт будет применен в ближайшее время, но уже не в Лионе, не в Нанте, а непосредственно в Париже. Если армия Святого Сердца сумела объединиться с добрыми лионцами, то почему бы не сделать этого же с добрыми парижанами?..
Я перевел дыхание и на миг прикрыл глаза. Тот, кто подсказывал мне из-за черной пелены, мог быть доволен. Я стал его голосом. И, кажется, этот голос здорово напугал моих незваных гостей!
– Мы догадывались… – Вадье сжал тонкие бесцветные губы и покачал головой. – Я говорил еще в сентябре… Но в Париже не осталось сторонников Бриссо – об этом Комитет позаботился.
– Но есть другие, – я вновь еле удержался от усмешки. – Кто такие бриссотинцы? Болтуны, краснобаи – и трусы. А вот если против якобинцев выступит голытьба Сент-Антуана… И совсем не обязательно, чтобы знамя было белым. В Лионе тоже вначале подняли красное. Не так давно якобинцы сумели натравить голытьбу на бриссотинцев. А ведь те были виновны лишь в том, что стояли у власти. У власти, которая не могла снабдить народ хлебом. Хлеба, кажется, по-прежнему не хватает…
– Санкюлотский бунт, – тихо проговорил Амару. – Санкюлоты под белым флагом… Какой ужас!
– Вы правы, – Вадье вздохнул. – Беднота уже сейчас готова разорвать любого, кто чисто одет и ездит в экипажах. Вчера толпа напала на одного молодого человека. Бедняга только что сшил себе новый редингот. Ему оторвали руки. Не отрезали, не отрубили – оторвали! О гражданке Мерикур[22] вы, наверно, уже знаете… А впереди – зима, хлеба уже сейчас не хватает…
– А кое-кто из наших товарищей спешит подлить масла в огонь! – резко бросил Амару. – Эбер в каждом номере предлагает резать богатых, этот сумасшедший Ру даже из тюрьмы призывает к восстанию, и даже гражданин Шометт… А ведь он – прокурор Коммуны! Мы не можем заставить его замолчать!
– Руаньяк прав, – перебил Вадье. – Его агентуре есть чем заниматься в Париже. Но мы примем меры, обязательно примем! Второго Лиона не будет!
Теперь мы, все трое, молчали. Стало слышно, как скрипят повозки за окнами, как мамаша Грилье распекает кого-то из «граждан коридорных». Я тоже молчал, не зная, что делать. Почему-то думалось, что удастся узнать нечто важное о себе самом. Не о Руаньяке, погибшем на гильотине, не об исчезнувшем шпионе Шалье, а о том, кто встретил смерть по имени Бротто. Но надежда обманула…
– Поэтому вы останетесь на нелегальном положении, – Вадье грустно усмехнулся. – Мы ведь действительно хотели рассекретить вас и ввести в состав Комитета. Так что насчет праздника в вашу честь я почти что и не шутил. Но сейчас началось что-то странное в самом Комитете. Вы нам понадобитесь в ином качестве… Гражданин Амару, расскажите.
Амару кивнул, на минуту задумался и затем заговорил – быстро, но четко, словно актер, хорошо выучивший роль. В его речи прорезался странный акцент. Я на миг задумался и понял – пикардийский. Чернявый откуда-то с запада…
– Это связано с ликвидацией Ост-Индской компании, гражданин Шалье. Вы, наверно, знаете, в октябре Конвент принял декрет…
Внезапно я потерял всякий интерес к разговору. Какое мне дело до интриг, заговоров, всей этой бесполезной суеты? Все, что можно узнать у этих двоих, я уже узнал. Кажется, я не просто защищал Лион в рядах армии Святого Сердца. Я знал маркиза де Руаньяка, слышал его голос, он доверял мне. И я видел его гибель на гильотине – на площади у Лионской биржи. Перед тем, как сам встретился со смертью по имени Бротто…
Однако приходилось слушать. Может, рассказ чернявого натолкнет на какую-то ниточку, на еле приметный следок. Но имена были незнакомы, а вся история напоминала дешевый авантюрный роман.
Еще в октябре – Амару, к счастью, называл месяцы по-старому, без всяких нивозов и брюмеров, – Конвент принял решение ликвидировать знаменитую Ост-Индскую компанию, причем на самых выгодных условиях. Дело прошло почти незамеченным, но 14 ноября, то есть совсем недавно, депутат Шабо выступил в Конвенте, заявив, что ликвидация компании – это афера, на которой нажились не только ее хозяева, но и многие депутаты, получившие немалые взятки. Шабо обвинил многих – и «левых», соратников Эбера, и «правых» – друзей Дантона – Делоне и Фабра д'Эглантина. А главное, он сообщил, что за всем этим стоят роялистские заговорщики барон де Батц и банкир Бенуа. Особо досталось Комитету общественной безопасности, который якобы все знал, но ничего не предпринял…
– А вы действительно знали? – поинтересовался я, глядя на взволнованного гражданина Амару. Тот пожал плечами:
– Шабо приходил ко мне накануне. Я велел ему молчать. А что мне было еще делать? Этот дурак… Если он, конечно, дурак…
Я понял и усмехнулся.
– Так это была ваша операция?
– Ну конечно! – чернявый махнул рукой. – Такое проделывалось не в первый раз! Нам нужны были деньги на специальные операции. Дантон нам помог – он впервые провернул нечто подобное еще год назад. Де Батц через этого банкира должен был реализовать фонды компании в Англии и Швейцарии. Де Батц, конечно, негодяй, но не признаваться же в Конвенте, что он наш сотрудник! Ну а в результате…
– А в результате, – неторопливо заговорил гражданин Вадье, недобро кривя узкие губы, – в результате операция сорвана, скомпрометирована масса народу, де Батц перепугался и ударился в бега. Наш Комитет под ударом… Кто выиграл?
– Тот, кто остался чистым, – предположил я.
Амару хмыкнул:
– Таких мало. Правда, есть один человек… Именно к нему побежал Шабо, когда я отказался арестовать де Батца. Именно этот человек велел ему выступить в Конвенте. И сейчас он… этот человек… требует провести самое тщательное расследование. Скорее всего, арестуют Делоне, возможно – д'Эглантина. Эбер ходит белый и пытается оправдываться. Эбер! Никогда его таким не видел. А этот…
– Не он один, – негромко добавил Вадье. – Никто из его Комитета не затронут. Очень красиво получилось…
Меня не тянуло разгадывать ребусы, но тот, кто подсказывал мне, решил эту несложную задачку и продиктовал ответ. Ответ был прост. «Чистым» оказался Комитет общественного спасения и его председатель. Тот, чья подпись стояла первой на документе национального агента Шалье. Гражданин Максимилиан Робеспьер, давно уже невзлюбивший как Эбера, так и Дантона, а заодно и своих «братьев» из конкурирующего Комитета безопасности. Да, действительно красиво получилось! Но я-то тут при чем?
– Выход один, – продолжал Амару. – Найти де Батца и уговорить его дать показания перед Конвентом. Ни мне, ни другим не поверят – мы ведь в списке гражданина Шабо. Но де Батц боится. Ведь если в этом случае он выполнял наш приказ, то за иные грехи ему не оправдаться. Он слишком замаран…
– Агент-двойник, – понял я, и Амару согласно кивнул:
– Даже хуже. Де Батц – авантюрист, он торговал информацией налево и направо. Говорят, барон связан даже с организацией д'Антрега. Но нам он бывал очень полезен…
– Найдите де Батца! – Черный парик гражданина Вадье дрогнул. – Вы же знаете его еще по Лондону! Найдите – и уговорите дать показания…
– Обещайте ему безопасность! – подхватил Амару. – И деньги – сколько он хочет. Впрочем, что ему обещать, вы сами знаете.
Я знал этого барона? Нет, его знал не я, его знал национальный агент Шалье! Но фамилия показалась почему-то памятной. Может, и я прежний был знаком с этим авантюристом? И он тоже знал меня – настоящего?
– Он прячется, но, скорее всего, появляется иногда в «Фарфоровой голубке» – это неподалеку, секция Пик, – продолжал Амару. – Барону некуда деваться из Парижа, его приметы известны всем заставам. Постарайтесь управиться побыстрее…
– И соблюдайте осторожность, – заключил Вольтер в черном парике. – Лучше всего днем не выходить из гостиницы.
– А в Оперу сходить можно? – самым невинным тоном поинтересовался я.
Гости переглянулись, и на губах гражданина Вадье я заметил знакомую усмешку.
– Ну конечно, вы же любитель оперы! Гражданин Шовелен рассказывал… Нет, в Оперу лучше не ходить. По крайней мере, пока. Никто, кроме нас, не должен знать, что вы в Париже.
Я покорно кивнул, окончательно убедившись в любопытном обстоятельстве. Эти двое не знали о «друге», не знали о третьей ложе в Опере, не знали о приглашении…
Гости уже откланивались, причем гражданин Амару вновь попросил поторопиться с розысками де Батца, обещая заглянуть через пару дней. С трудом дождавшись, пока дверь закроется, я извлек из коробки новую папелитку и закурил, пытаясь привести мысли в порядок. Все не так уж и плохо. Занятые своими интригами, граждане из Комитета общественной безопасности сами подсказали, по какой дороге идти. Дороге, которая оборвалась у «Синего циферблата»…
Спешить я все же не стал. Даже если я найду де Батца… Интересно, почему они уверены, что мне это по силам? Наверно, национальный агент Шалье неплохо знал не только барона, но и его укрытия в Париже. Но я ведь не Шалье! Если де Батц знает меня прежнего, то, возможно, постарается любой ценой избежать этой встречи…
Так ничего и не решив, я спустился вниз – и столкнулся нос к носу с мамашей Грилье. Деваться было некуда. Пришлось выслушивать упреки за то, что я ее изрядно напугал, ибо целый день не выходил из комнаты и даже на стук не отзывался. И если бы не добрые граждане, сумевшие таки до меня достучаться, пришлось бы ломать дверь, поскольку ее долг, как хозяйки, бдить, дабы с гражданами жильцами ничего скверного не сотворилось, а равно чтобы упомянутые граждане сами не сотворили чего во вред Революции. При этом мадам Вязальщица поглядывала на мою скромную персону с явным недоверием. Спасло лишь то, что приближалось время очередной «связки» и мамаша Грилье спешила на площадь Революции, где ее почтенные товарки уже заняли ей место у самого эшафота.
Нам было не по дороге. Немного подумав, я покинул «патриотическую» гостиницу и, поймав фиакр, попросил отвезти себя туда, где добрые парижане могут приодеться. Как выяснилось, лучше всего это сделать в Пале-Рояле, то есть, конечно, не в Пале-Рояле, а во Дворце Равенства, где модные лавки по-прежнему к услугам тех, у кого в кармане имеются не только бесполезные бумажные ассигнаты.
Я подобрал себе новенький редингот, галстук и темную шляпу. Заодно купил трость и монокль, который смотрелся все же приличнее, чем очки. Добродетельный буржуа из провинции исчез, а вместо него на меня из тусклого зеркала глядел пресыщенный жизнью щеголь, брезгливо щурившийся через круглое стеклышко монокля. Что ж, в этаком виде вполне можно и заглянуть в Оперу. Сделать это надо, ибо я не был там уже два вечера. Пустующая ложа может вызвать у моего «друга» вопросы, а объясняться еще и с ним никак не хотелось. Хотя бы потому, что «друг» наверняка знает настоящего Шалье. Правда, он мог не утерпеть и лично заглянуть в Оперу. Оставалось надеяться, что тот, кто не советовал мне пить «яд свободы», по-прежнему очень занят.
В этот вечер давали «Ипполита и Арисию» Рамо, и народу у ярко освещенного здания Оперы оказалось куда больше, чем два дня назад. Я с трудом пробился в роскошное, отделанное золотом фойе – и тут же понял, что уже бывал здесь. Когда, с кем – память молчала, но я помнил эти стены, расписной потолок, широкие марши ярко освещенной мраморной лестницы. На душе стало горько, и я еле сдержался, чтобы не уйти обратно, на темную площадь. Я был, я радовался жизни, я ходил в Оперу…
Конечно, я бывал не совсем в этой Опере. Очевидно, в прежние времена фойе не портили огромные лупоглазые бюсты Марата и Лепелетье, равно как трехцветная тряпка над лестницей. Такие же бюсты я заметил в зале, который был прекрасно виден из третьей ложи. Ложа, как мне и было обещано, оказалась записанной на имя гражданина Франсуа Люсона, причем, несмотря на переполненный зал, три места из четырех пустовали.
Я ждал увертюры, но оркестр внезапно заиграл «Марсельезу». Очевидно, без этого в столице Республики не обходились даже в Опере. Зал встал, но тут же послышались шиканье и свистки. Похоже, далеко не вся публика восхищалась творением артиллерийского капитана Руже ле Лиля. Но оркестр доиграл «Марсельезу» до конца и только после этого взялся за Рамо.
Музыку я тоже помнил. Вернее, узнавал. Я слышал эту оперу и даже мог припомнить сюжет. В Афинах правит престарелый Тезей. Его жена, развратная Федра, хочет погубить своего пасынка Ипполита, но у того есть невеста – верная Арисия…
Постепенно все исчезло. Музыка захватила, унесла с собой, и я уже не видел и не слышал ничего, кроме того, что происходило на близкой сцене. Нет, сцена тоже исчезла, я был там, в далеких Афинах, где безумный Тезей проклинает своего невиновного сына и ничто – даже любовь Арисии – не может спасти юношу…
На сцене вновь была Федра – торжествующая, уверенная в себе. Федра – воплощенное зло, ее ярко нарумяненное лицо – словно лик Смерти… Я прикрыл глаза – и вдруг понял, что в ложе я не один. Кто-то сидел рядом. Я осторожно повернулся – и увидел веер. Яркий веер, которым та, что сидела рядом, прикрывала лицо. Затем веер исчез, и на меня взглянула бархатная маска. На незнакомке было роскошное, хотя и несколько старомодное платье, но, странное дело, ни на шее, ни на пальцах я не заметил украшений.
Я хотел что-то сказать, но тонкий палец прикоснулся к губам. Я кивнул – очевидно, Бархатной Маске хотелось дослушать первый акт до конца.
А конец уже близко. На сцене гонец, принесший весть, которую с нетерпением ожидает Федра. Колесница Ипполита опрокинулась – царевич мертв. Проклятье отца сбылось…
В зале уже горел свет, а я все медлил, не решаясь повернуться. Сейчас вновь придется играть чужую роль. Зачем я это делаю? Мертвец играет мертвеца – такого не увидишь даже в Опере!
Когда я наконец повернулся, ложа оказалась пуста. Удивившись, я вышел в фойе, но женщина в маске исчезла. Похоже, она и не собиралась говорить со мной. Достаточно и того, что «друг» узнает о моем появлении. Конечно, богатое платье и маска меняют человека, но не узнать ту, что навестила меня в гостинице, было трудно. Я вспомнил, что на женщине не было украшений, и невольно усмехнулся. Похоже, «друг» верен себе. Если шампанское – «яд свободы», то браслеты – не иначе как «кандалы».
Начало второго акта я помнил. Мертвый Ипполит недвижно застыл на смертном ложе, и так же недвижна фигура Арисии, припавшей к груди мертвеца. Слезы уже выплаканы, девушка замерла, не в силах вымолвить ни слова…
И вот снова Федра. Царице мало смерти Ипполита. Ее ненависть не угасла. Еще жива Арисия – из-за любви к ней молодой юноша отверг домогательства мачехи. И теперь Федра собирается рассказать ей все. Рассказ длится долго, но Арисия молчит. Царица удивлена, она начинается злиться, но девушка не произносит ни слова…
Внезапно я подметил одну странность. В первом акте я почти не прислушивался к словам, но теперь убедился, что текст, явно мне знакомый, стал каким-то другим. Наконец я понял. «Цари» и «царицы» исчезли. Вместо этого на сцене появились «градоправитель» и «градоправительница». Выходит, Республика, Единая и Неделимая, позаботилась обо всем, даже о «чистоте» либретто. Впрочем, опера не стала от этого хуже. Великое творение Рамо осталось таким же прекрасным. Прекрасным – и страшным.
…Федра уходит – и Арисия встает. Руки воздеты к Небу, молчаливому Небу, допустившему преступление. Голос девушки звенит, моля о справедливости. Этого не должно быть! Это не должно было случиться…
Мне подумалось, что на этом лучше бы все и закончить. Все и так ясно – справедливости нет на земле, и едва ли она есть даже на Небе. Еврипид и Корнель написали о безвинной гибели одного молодого парня. Республика, Единая и Неделимая, губит таких парней «связками» – и Небо молчит…
Впрочем, Небо не молчит. Гремит гром, молнии прорезают сцену, и Великий Зевс изъясняет свою волю. Злодейка Федра будет покарана, а несчастный Ипполит – безвинная жертва преступной страсти – вновь возвращен к жизни. Появляется Deus ex machinae – Зевсов сын Асклепий – и волшебным жезлом прикасается к груди бездыханного Ипполита…
Музыка гремела, преступную Федру волокли в темницу, Тезей прозревал, а Арисия обнимала воскрешенного Ипполита. Хор пел о справедливости, о каре, которая неизбежно постигнет злодеев, а мне внезапно стало скучно. Так не бывает! Погибшие не возвращаются. Даже если они вновь появляются среди живых, они остаются мертвыми, и им ни к чему уже любовь и преданность. Да и не спешат боги восстанавливать справедливость. Греки знали это, в давнем мифе говорилось совсем о другом – Асклепий воскресил царевича против воли Зевса. И молния сожгла того, кто преступил закон Неба. Ипполит – живой ли, мертвый – исчез, погибла Федра, погиб Тезей. А несчастная Арисия – была ли она вообще?
На этот раз в кофейне «Прокоп» было людно. За столиками не оказалось свободных мест, и я с трудом протолкался к стойке. Хозяин, рассылавший «мальчиков» налево и направо, тут же заметил меня и ухмыльнулся:
– Рамо слушали, гражданин? Вам крепкий? Без сахара?
Память у него была неплохая.
– Без сахара, – согласился я. – Очень крепкий.
Наследник достойного Прокопа кивнул, что-то шепнул очередному «мальчику» и вновь повернулся ко мне:
– Ну и как вам постановка?
– Градоправительница Федра хороша, – усмехнулся я. – А «Марсельеза» еще лучше.
– Сильно свистели?
– Не очень. Больше шикали.
– Ну, это ничего, – подытожил хозяин. – Да вы садитесь, гражданин! Вон, место освободилось!
Действительно, одно место за маленьким столиком у окна было свободно. Я поблагодарил и хотел последовать его совету, но хозяин предостерегающе поднял руку:
– Только вы с тем парнем… что за столиком… поосторожнее. Не в себе он.
Странно, тот, кто сидел у окна, никак не производил такого впечатления. Статный черноволосый парень в прекрасно сшитом сюртуке, пышный галстук завязан по последней моде.
– Шарль Вильбоа, – шепнул хозяин. – Журналист. Вы с ним не разговаривайте! У него три дня назад погибла невеста. Так что вы лучше…
Я кивнул. На душе было скверно. Еще одна смерть. Бедный гражданин Вильбоа!
Кофе оказался еще крепче, чем в прошлый раз, вдобавок настолько горячий, что приходилось пить мелкими глотками. Внезапно захотелось курить. Я достал папелитку и нерешительно поглядел на соседа:
– Разрешите?
Последовал кивок, и я с удовольствием закурил, стараясь не смотреть в сторону черноволосого парня.
– Вас тоже предупредили?
Голос гражданина Вильбоа был совершенно спокойным, но это спокойствие сразу же показалось каким-то ненастоящим, словно стеклянным.
Я не стал переспрашивать.
– Предупредили.
– Да, наш хозяин – чуткий человек, – по неподвижному бледному лицу мелькнула горькая усмешка. – Лучше бы молчал! Мы бы тогда могли побеседовать с вами о том, что граждане актеры сотворили с Рамо и почему плох второй акт. Вы бы не чувствовали неловкости, а я… Я мог бы просто поговорить.
Он хотел ненадолго забыться. Нет, не забыться – просто отвлечься.
– А вы говорите, сударь! Если хотите, можно и о Рамо…
Он покачал головой, явно пропустив мимо ушей контрреволюционное «сударь».
– Рамо солгал. Вернее, не он, а господин Корнель. Мертвых не вернешь…
Оставалось согласиться, но я ограничился коротким кивком.
– Впрочем, в нынешнем Париже даже Асклепий не смог бы помочь. Она погибла на гильотине…
Я понял. Впрочем, о чем-то подобном я догадывался с самого начала.
– А ведь она была просто актрисой!
– А Мария-Антуанетта была просто Королевой Франции! – не выдержал я.
Гражданин Вильбоа чуть заметно прищурился, его большие, глубоко посаженные глаза потемнели, став совсем черными.
– Вы правы… Мария-Антуанетта была просто Королевой. А Мишель – просто актрисой Королевского театра, не пожелавшей перейти на сторону гражданина Тальма. Вы знаете, что такое «черная эскадра»?
Этого я не знал, но гражданин Вильбоа не стал пояснять. Впрочем, я и так помнил. Актеры бывшего Королевского театра отправлены в тюрьму Маделонет. Актрисе, которую звали Мишель, повезло еще меньше.
– Вот, – на стол лег небольшой медальон. – Ее портрет. Извините, всем показываю. Не знаю почему…
Я нерешительно взял медальон в руки. Почему-то мне очень не хотелось его открывать. Но я понимал этого несчастного парня.
…Актриса по имени Мишель улыбалась мне с маленькой, прекрасно выписанной миниатюры. Высокая прическа украшена трехцветной лентой – очевидно, портрет выполнен совсем недавно. Я взглянул на молодое, беззаботное лицо, и вдруг мне почудилось – с портретом что-то не так. Да, определенно не так! Художник о чем-то забыл…
– У нее на лице была родинка, – вырвалось у меня. – На левой щеке!
Шарль Вильбоа равнодушно кивнул:
– Да. Родинка ее ничуть не портила, но художник рассудил иначе… Вы видели ее спектакли?
Почему я не сказал «да»? Господи, почему я не сказал «да»?
– Нет, – выдохнул я, понимая, что не должен этого делать. – Я видел ее не там…
«Оставьте меня, сударь! Я не больная… Я… Я мертвая».
Лицо на портрете было совсем иным. Та, что я встретил у серой кладбищенской стены, не улыбалась, у нее не было трехцветной ленты в волосах, но это была, без сомнения, она. Актриса бывшего Королевского театра по имени Мишель.
– Простите, господин Вильбоа, за такой вопрос… У вашей невесты есть сестра? Или близкая родственница, очень на нее похожая?
Молодой человек покачал головой, и я решился. Вдруг – чудо? Вдруг – девушка жива? Значит, ей нужна помощь, а кто же поможет ей, приговоренной Революционным Трибуналом?
– Господин Вильбоа, два дня назад я видел девушку, очень похожую на вашу невесту. Я встретил ее около десяти вечера на Кладбищенской улице…
– Там, где кладбище Дез-Ар… – тихо проговорил Вильбоа.
– Да.
Лицо парня оставалось прежним, но я догадывался, чего стоит ему это спокойствие. Наконец он поднял голову:
– Мишель… Ее отвезли на это кладбище. Родители уговорили выдать тело. Там, на кладбище, кажется, мертвецкая… Завтра должны быть похороны.
Я молчал – говорить было нечего. Кажется, мне уже приходилось слыхать о мнимо умерших, похороненных заживо, тех, кто просыпается в душной могильной темноте. Но всем им не рубили голову «национальной бритвой».
– Понимаю, что вы можете думать, – наконец заметил я. – Солгать о таком способен лишь последний негодяй. Но я сказал правду. Я пытался помочь этой девушке, но она исчезла. Готов поклясться чем угодно, что два дня назад она была жива. Жива, но очень больна…
Наши глаза вновь встретились, и мне показалось, что я чувствую его боль. Боль, которую невозможно вынести, нельзя выкричать…
– Я вам благодарен, сударь, – голос Шарля был ровен и спокоен. – Я вам верю. Вероятно, какая-то несчастная заблудилась ночью…
– Да, конечно, – я поспешил встать. – Извините, что так не вовремя заговорил.
Не став ждать ответа, я поклонился и поспешил покинуть шумное кафе. На душе было скверно, словно я и вправду солгал несчастному парню…
За окном стоял сырой холодный туман, сквозь который еле заметно светили неяркие фонари, а я все не мог заснуть. Папелитки в деревянной коробке быстро подходили к концу. Завтра – еще один день. Трое суток я уже в Париже, но так и не смог даже приблизиться к разгадке. А все казалось так просто – найти «Синий циферблат», поговорить с хозяином…
Впрочем, возможно, и это ничего бы не решило. Вполне вероятно, покойный папаша Молье просто не узнал бы меня. В этом кабачке могло быть место встречи – не больше. Да, иначе не получалось. Кабачок – не гостиница, там не спрячешься. А может, все было совсем по-другому?
Гадать не имело смысла. Эта страница перевернута, осталось прочитать следующую. А что на ней написано, подсказали почтенные граждане из Комитета общественной безопасности. Де Батц! Двойной агент, авантюрист, торговец чужими тайнами, специалист по грязной работе. Да, я знал его! Что-то связывало нас, и уж, конечно, этот штукарь сможет многое вспомнить. Возможно, я бывал в Париже, встречался с ним, о чем-то беседовал…
Но пасьянс складывался плохо. Де Батцу незачем откровенничать со мной. Он и встречаться не станет – ведь по его неглупой голове плачет «национальная бритва»! Надо быть полным дураком, чтобы поверить обещаниям гражданина Вадье. Итак, де Батц скрывается и ни на какой разговор не пойдет.
Я подошел к окну и долго смотрел в туманную серую мглу. Наверно, я все-таки великий грешник. Что же я сделал такого, что меня не отпускают с отвергнувшей меня земли? Праведникам обещан рай, грешникам – ад… Что обещано мне? Еще недавно я думал, что это встреча в «Синем циферблате». Но, выходит, придется пачкать руки о господина де Батца? Какое мне дело до всей это возни? Зачем я здесь?
Туман, клубившийся за окном, внезапно подступил к самым стеклам, затем мягко, беззвучно начал заполнять темную комнату, неся с собой промозглый холод. Исчезли стены, оконные переплеты, исчез я сам. Остались лишь тени – как тогда, у дороги, но теперь я знал: выхода нет, сейчас подует ветер – такой же холодный, зимний, – и меня унесет куда-то прочь, в вечное путешествие без смысла и цели. Тень, не нашедшую покоя…
Я зажмурился, схватился за холодную стену, стараясь не упасть. Нет, нет, нет! Кем бы я ни был, кем бы ни стал теперь – сдаваться нельзя. Иначе я действительно навек потеряю себя – как та несчастная девушка у серой кладбищенской стены…
Я сел к столу, зажег свечу и нашарил на дне коробки очередную папелитку. Спорить не с кем, и некуда жаловаться. Мне надо найти де Батца. Значит, я его найду!
Слабость отступила, и я вновь, фраза за фразой, принялся вспоминать разговор с двумя почтенными якобинцами. Итак, де Батц скрывается. В «Фарфоровой голубке» его, скорее всего, не будет, но там есть некто, всегда готовый передать барону весточку. Но как уговорить де Батца встретиться? Никакой человек в его положении не решится…
И тут меня осенило. Ну конечно! Барон не станет рисковать и встречаться с национальным агентом Шалье! Но ведь если мы с ним были знакомы, то он знал меня…
Я еле удержался, чтобы не ударить кулаком по столу и не расхохотаться. Господи, как все просто! Если бы и все прочее было этому под стать!
Вполне довольный собой, я принялся расстегивать рубашку, желая как следует выспаться перед завтрашним днем, но внезапно остановился. Что-то не так. Я что-то не сделал. Или что-то сделал неправильно…
Что? Я начал быстро вспоминать. «Друг», граждане Амару и Вадье, мадам Вязальщица, поход в Оперу… Да, Опера! Я в чем-то ошибся! Может, следовало заговорить с Бархатной Маской? Нет, нет, тут все правильно… Значит, что-то другое? Кафе «Прокоп», чашка горячего горького кофе…
Да, чашка горячего кофе, красивая фаянсовая чашка с изображением морских корабликов. Я ошибся. Я не должен был рассказывать этому парню… Но ведь он не поверил мне!
Я горько усмехнулся. Конечно, не поверил! В такое не поверишь… Но он все равно пойдет туда! Пойдет в безумной надежде, которая сильнее разума, сильнее логики…
Еще не обдумав ничего до конца, я начал быстро одеваться. Редингот ни к чему, значит, плащ, шляпа с трехцветной кокардой… И бумаги – все, что у меня есть. Ночью фиакр не поймаешь, но до Дез-Ар меньше получаса ходьбы.
Кладбищенская была пуста, даже фонари не горели, отдав улицу во власть холодной сырой мглы. Тучи стали ниже, и в воздухе вновь закружились снежинки. Я быстро огляделся, никого не заметив, и пошел вдоль серой стены. Вот место, где я встретил несчастную. Сегодня здесь было пусто, тонкий слой снега лежал нетронутый, и я понял, что тут за последние часа два никто не проходил. Может, я зря волнуюсь? Даже если Шарль Вильбоа решил прийти сюда…
Нет, он придет не сюда! Кладбище Дез-Ар! Там, в мертвецкой, лежит та, чей портрет он мне показывал.
Я вновь оглянулся, прикидывая, где могут быть кладбищенские ворота. Стена тянулась вправо и влево, теряясь в снежной дымке, и я понял, что искать придется долго. Оставалась ограда.
Я попытался подпрыгнуть, но каменщики постарались на совесть. Ограда была высока – куда выше моего роста. Поймать руками край стены не удалось. Я чертыхнулся, попробовал снова – без толку. Решив, что все-таки придется искать ворота, я быстро двинулся вниз по улице и вдруг увидел дерево. Высокое, старое, стоявшее почти впритык к ограде.
Остальное оказалось несложным. Вскоре я был уже наверху. Сев на холодный камень, я заглянул за стену. Там тоже был камень – долгие ряды старых надгробий, саркофагов, крестов, мраморных ангелов, воздевающих глаза к темному небу. Все это покрывал снег, словно мать-природа набросила саван на этот уголок Смерти.
Я спрыгнул вниз – и понял, что совершил ошибку. Все исчезло. Остались лишь несколько высоких надгробий, окруживших меня со всех сторон. Пройти между ними было почти невозможно, разве что протиснуться. Но за ними были новые кресты, новые равнодушные ангелы. Все это тонуло в густом сумраке, а снег падал все гуще, словно я действительно оказался в густом лесу, где не сыщешь ни дорог, ни тропинок.
Я пробирался долго, чертыхаясь на каждом шагу и поминая недобрым словом тех, кого гордыня подвигла на возведение этих каменных лабиринтов. Внезапно я поймал себя на мысли, что нормальный человек в этаком месте да в такое время давно бы вопил во всю глотку от страха. Я поглядел на очередного мраморного идола и горько усмехнулся. Нормальный человек… Интересно, чем можно напугать меня? Если это Царство Мертвых, то я – вполне желанный гость. Даже не гость – подданный. Так сказать, гражданин…
Наконец мне повезло. За очередным саркофагом, на этот раз гранитным, открылась аллея – узкая, покрытая нетронутым белым снегом. Я поглядел по сторонам. Слева – долгий ряд памятников, исчезающий в серой мгле, но справа я заметил какое-то высокое строение. Это мог быть склеп, но я решил рискнуть. Вскоре я понял, что не ошибся. Часовня – старая, с отбитым крестом над острой крышей и изуродованными изваяниями святых слева и справа от входа.
Я ожидал, что на дверях будет замок, но внезапно заметил слабый свет, идущий из глубины. Тут же вспомнились давние байки про нечисть, собиравшуюся ночами в разрушенных храмах. Я еле удержался от смеха, вовремя вспомнив, где нахожусь. Смеяться в таком месте – грех, но рассказы про клыкастых вампиров и ламий с осиными ногами почему-то показались в этот миг неимоверно глупыми.
Дверь скрипнула. Я заглянул в темный проход – свет шел из глубины. Прикрыв створку, чтобы не напустить снега, я шагнул вперед, когда внезапно услыхал какой-то шум. Кто-то стоял совсем близко, сбоку от входа, где тень была особенно густа.
– Добрый вечер! – проговорил я как можно вежливее. – Мне нужен сторож…
– Он спит, гражданин. И предупреждаю – у меня в руке пистолет. Вы стоите на свету, так что постараюсь не промахнуться!
Голос был женский. В нем не слышалось страха, скорее в нем звенел азарт. На миг я почувствовал себя дичью.
– Франсуа Люсон, – отрекомендовался я, решив не делать резких движений. – Стрелять в меня не стоит – это едва ли имеет смысл. Мне нужна помощь, сударыня.
– Меня зовут Юлия Тома, и я буду защищать мои трупы до последнего. А имеет ли смысл в вас стрелять, покажет опыт. До сих пор результаты были положительные. Так что на мою помощь можете не рассчитывать.
Выражение «мои трупы» показалось забавным, если, конечно, в таком месте может быть что-либо забавное. Внезапно до меня дошло – здесь же мертвецкая!
– Мадемуазель, если вы думаете, что я покушаюсь на тела достойных граждан, пребывающих в этом месте, то налицо явная ошибка…
– Подойдите к свету.
Я сделал еще шаг и увидел в глубине часовни несколько высоких столов, на которых мирно пребывали чьи-то останки, прикрытые простынями. Чуть дальше стояло нечто странное, похожее издали на огромные винные бутыли.
– Теперь повернитесь, гражданин.
Я развел руками и повиновался. Осмотр длился недолго. Послышался глубокий вздох.
– Кажется, перепутала… Вы не похожи на гробозора. Но, между прочим, гражданин, можно было и постучать! У входа висит молоток, так что незачем было пугать меня до полусмерти!
– Поверьте, сударыня, это менее всего заметно! – ободряюще заметил я, пытаясь догадаться, кто передо мной. Внезапно меня осенило. – Так, вероятно, вы врач, мадемуазель Тома?
– Только не «мадемуазель». Когда я слышу это слово, то так и кажется, что далее последует какая-нибудь пошлость. Да, я врач, работаю здесь с разрешения медицинского отдела Коммуны, и эти трупы – мои. Итак, чем могу служить?
Гражданка Тома шагнула вперед, и я наконец мог рассмотреть ту, чей покой так бесцеремонно нарушил. Сначала я увидел пистолет – огромный, старинный, странно смотревшийся в маленькой, словно детской, руке. Да и сама гражданка Тома едва доставала мне до плеча, однако вид имела решительный, серые глаза под стеклами очков смотрели с явным вызовом, вздернутый нос, покрытый веснушками, довершал общую картину. Лохматая меховая шапка, какую можно встретить разве что в Лапландии, странно сочеталась с дорогим английским пальто, поверх которого был надет ослепительно белый фартук.
– Рассматривать меня излишне, – гражданка Тома вздохнула и спрятала пистолет. – Лживые комплименты по поводу своей внешности могу выслушивать только от моего жениха, а все прочее обсуждать не собираюсь. Итак?
– Итак, – я принял вызов. – Поскольку, как человек воспитанный, обойтись без комплимента все же не могу, то прежде всего спешу уверить, что только очень мужественный человек решится работать с гражданами покойниками в таком месте, да еще ночью. А потревожил я вас, гражданка, по очень простой причине. На этом кладбище сейчас могут находиться некий молодой человек и некая дама. Очень вероятно, им понадобится помощь.
Стекла очков блеснули.
– Во-впервых, мужество, гражданин Люсон, здесь совершенно ни при чем. Днем кладбище работает, и мне для исследований остается лишь вечер. Сегодня, как видите, заработалась допоздна. Вынуждена вас разочаровать: тех, кто нуждается в помощи, я ни сегодня, ни вчера не видела, зато за последний месяц у меня уже пропало два трупа, так что в помощи нуждаюсь именно я, однако гражданин Деларю, наш сторож, имеет обыкновение спать в любое время суток, прежде всего ночью… Не смею вас задерживать, гражданин Люсон!
– Еще раз извините, гражданка, – я поклонился как можно вежливее и шагнул к двери. Значит, ни Шарль Вильбоа, ни та, что была так похожа на его несчастную невесту, сюда не заходили.
– Погодите! – внезапно услыхал я. – Вы что, намереваетесь их искать? Сейчас?!
– Ждать нельзя, – откликнулся я. – Боюсь, уже и так поздно.
Повернувшись, я заметил, что гражданка Тома пребывает в явной нерешительности. Наконец она вздохнула:
– Ладно. Пойду с вами, а то вы обязательно сломаете ногу в этих лабиринтах. Погодите, возьму саквояж…
Она исчезла, но вскоре вернулась, уже без фартука, неся в одной руке черный докторский саквояж, а в другой – огромный замок.
С замком, изрядно старым и ржавым, пришлось возиться вдвоем. Наконец часовня была надежно заперта, и мы быстро пошли по уже знакомой мне аллее.
– Боюсь, придется бродить до утра, – гражданка Тома на миг остановилась и озабоченно поглядела вперед. – Кладбище большое и чудовищно беспорядочное…
– Снег, – подсказал я. – Он засыпал дневные следы, и если кто-то пройдет…
Ответом был удивленный взгляд.
– Странно видеть человека, способного мыслить логически. Точнее, не странно, а очень приятно. Считайте, что мы обменялись комплиментами, гражданин Люсон.
Мы прошли немного вперед, затем вновь остановились.
– Туда, – рука в темной перчатке решительно указала на небольшую поперечную аллею. – Выйдем к центру. Там старые склепы, и если кто-то пожелает спрятаться, то лучшего места не найти.
Аллея была узкой, и мы шли, почти касаясь плечами. Точнее, ее плечо было как раз на уровне моего локтя.
– А зачем трупы воровать? – поинтересовался я.
В ответ гражданка Тома прямо-таки фыркнула от возмущения:
– Естественно, для черной мессы! Мы, ведьмы, прямо-таки обожаем потрошить трупы, особенно на шабаше! Неужели не понятно?
– Вы имете в виду врачей-конкурентов? – сообразил я.
– И их тоже. Но главным образом это студенты бывшего Королевского медицинского коллежа. Раньше они платили гробозорам, но теперь денег ни у кого нет, зато появилась возможность украсть чужой труп.
– В смысле – ваш? – наивно уточнил я.
– В смысле – мой! Эти бездельники крадут мою работу! А между прочим, добиться разрешения на проведение опытов было не легче, чем взять Бастилию…
– Погодите!
Внезапно мне показалось, что слева, за очередным мраморным саркофагом на высоких гнутых ножках, мелькнуло что-то темное. Я подождал – но тщетно.
– Показалось? – Девушка протерла очки и кивнула. – Пойдемте. Мне вначале тоже мерещилось бог весть что. Но это поистине мелочь по сравнению с первым посещением анатомического театра. Кошмары снились больше недели, а в темную комнату меня нельзя было загнать даже штыками!
Аллея стала слегка расширяться, из серого сумрака проступила уродливая громада старого склепа.
– Там главная аллея, – девушка указала рукой куда-то вперед. – В этих склепах летом ночуют граждане бездомные, но сейчас слишком холодно… Вы не из полиции?
– Нет, – отверг я эту возможность. – А что, похож?
– Не похожи. На грабителя могил тоже не тянете. Скорее вы смахиваете на очень воспитанный призрак какого-нибудь шевалье времен Регентства.
Я невольно вздрогнул. Она, конечно, шутила…
Мы обошли склеп и сразу же увидели главную аллею. Ее покрывал тонкий ровный слой снега, на котором четко были видны свежие следы.
– Мужчина, – определила гражданка Тома. – Судя по ширине шагов – где-то вашего роста. Во всяком случае, это не гражданин Деларю.
Мы пошли по следам, которые вели вдоль аллеи. Слева и справа темнели склепы, один другого выше и мрачнее.
– Безобразие! – девушка наморщила носик. – Потратить столько денег, столько сил на такое уродство! Вот уж поистине Старый Режим!
Я только моргнул, не зная, что ответить. Наконец поинтересовался:
– А при Республике граждан покойников будут выбрасывать собакам? Или… Так сказать, учитывая трудности снабжения продовольствием…
– Не смешно! – гражданка Тома даже топнула ногой от возмущения. – Республика научится воздавать должное умершим без этой помпы! Мой отец еще десять лет назад предлагал построить специальные печи для кремации…
– Стойте!
След свернул на узкую боковую аллею, тянущуюся между склепами. Похоже, тот, кто прошел перед нами, здесь останавливался и чего-то ждал. Или просто стоял в нерешительности.
– Эти двое, которым вы так трогательно стремитесь помочь, надеюсь, не очень опасны? – осведомилась девушка. – Я взяла пистолет, но, боюсь, порох в запале подмок…
Я не ответил – просто не знал. К тому же след вновь стал ровным, тот, кто шел, явно ускорил шаги…
– Здесь!
Перед нами была дверь склепа – полуоткрытая, перекошенная, чудом держащаяся на одной петле. След поднимался по засыпанным снегом ступенькам и исчезал за порогом.
– Я захватила фонарь, – девушка деловито расстегнула саквояж, но я покачал головой:
– Не сейчас. И разговаривайте шепотом.
Недоуменный взгляд из-за очков я проигнорировал. То, что уцелело от моей памяти, уже подсказало: такая дверь опасна. Из-за дверей стреляют. Из-за дверей могут ударить стилетом. Похоже, не первый раз – и не второй – приходилось стоять на таком пороге.
Я поднимался по ступенькам медленно, стараясь ступать след в след. Из-за двери пахнуло сыростью и гнилью. Я прислушался. Тихо, очень тихо. Но эта тишина мне почему-то очень не понравилась, и я решил ждать. Прошла минута, другая…
– Гражданин Люсон! – девушка дисциплинированно перешла на шепот, но я предостерегающе поднял руку. Ждать, ждать… Что-то там, в мертвой темноте старого склепа, не так!
И вот наконец я услышал… Легкий шорох, словно кто-то поскреб пальцами по камню. Стон – негромкий, полный боли… И я понял, что опоздал.
– Эй! – крикнул я, на всякий случай отодвигаясь от двери. – Гражданин Вильбоа!
Ответа не было, но затем вновь послышался стон – такой же тихий, безнадежный…
– Фонарь! – я резко обернулся, ругая себя, что так поздно спохватился. – Я вхожу первым! Пошли!
Но вскоре стало ясно, что предосторожности излишни. Все, что могло случиться за этими мрачными стенами, уже случилось.
Два надгробия, старые, из темного камня, с уродливыми ангелочками по углам. Огромное распятие на противоположной стене. Разбитые цветные стекла в узких стрельчатых окошках. Этот дом мертвых давно не приводили в порядок. Свет фонаря скользнул по полустертой латинской надписи. «Anno Domini…» Но разбираться, в какое лето Господне упокоились хозяева склепа, не было времени. Смерть снова посетила эти стены.
Тело той, которую я встретил у кладбищенской стены, – обнаженное, со скрюченными пальцами широко раскинутых рук – лежало возле дальнего надгробия. Тело – но не голова. Голова пристроилась поодаль, свет фонаря отразился в широко раскрытых глазах…
Мне не солгали. Актриса по имени Мишель погибла на гильотине три дня назад.
Но не все в склепе были мертвы. Гражданин Шарль Вильбоа лежал на пороге, прижимая руку к груди. Темная лужа крови медленно растекалась по полу, исчезая в щелях между каменными плитами.
– Отойдите!
Голос гражданки Тома звучал настолько решительно, что я и не подумал возражать. Осторожно переступив через кровавое пятно, я подошел к мертвой женщине. Да, это она. Мертвый рот скалился, кончик почерневшего языка выглядывал из-за белоснежных зубов, словно отрубленной голове стало отчего-то весело. Я мельком отметил, что страшная рана на шее давно почернела и засохла. Да, все верно. Та, которую звали Мишель, погибла не здесь – и не сейчас.
На обнаженном теле ничего не было, кроме маленького серебряного крестика. Я взглянул на ступни – снег, облепивший ноги, еще не успел растаять…
– Помогите его поднять!
Я поспешил ко входу. Гражданка Тома героически пыталась приподнять раненого. Вдвоем дело пошло быстрее. Я хотел спросить, что с ним, но тут неровный свет фонаря осветил резную рукоять. В груди парня торчал нож – слева, где сердце…
Девушка уже возилась в саквояже, доставая корпию, сверкающие сталью хирургические принадлежности и какие-то стеклянные баночки. Я принялся осторожно расстегивать промокшую кровью рубашку.
– Не вздумайте трогать нож! – резко бросила гражданка Тома. – И вообще, лучше подумайте, как нам достать экипаж. Его нужно доставить в больницу.
Я решил было не спорить, но взглянул на белое, как мел, лицо Вильбоа, на посиневшие веки и бесцветные губы и покачал головой:
– Нож надо вынуть сейчас. Вынуть – и немедленно наложить тугую повязку. Иначе он истечет кровью…
Внезапно я понял, что действительно знаю, как накладывать такие повязки. Да, похоже, я не только воевал. Глаза уже искали что-нибудь подходящее. Корпия у нас есть, а затянуть можно обрывком рубашки. И – тепло. Надо его обязательно чем-то укрыть…
– Он и так уже истек кровью, – гражданка Тома устало вздохнула и поправила очки. – Как он еще жив, не понимаю! Впрочем, терять нам нечего. Берите лампу и светите!
Мне понравился ее тон. У девушки было главное, что необходимо врачу. Она не терялась – даже в таких ситуациях, как эта.
С ножом мы провозились долго, и я все время боялся, что перевязывать нам придется уже труп. Но Вильбоа был жив – грудь еле слышно вздымалась, в горле хрипело…
Я уже рвал на части то, что осталось от его рубашки, когда послышался скрип. Я был слишком занят, чтобы оборачиваться, но сразу понял – кто-то поднялся по ступенькам, заглянул в дверь…
– Смерть Христова! Убивають… Убивають!!!
Первые три слова были сказаны шепотом, последние же слышали наверняка не только в Сен-Клу, но и в Версале. Что-то тяжело скатилось с крыльца.
– Убивають! Господа-граждане! На помощь! Злодеи! Как есть злодеи!
– Проснулся, – равнодушно бросила девушка, осторожно поворачивая раненого. Я понял – речь шла о стороже, достойном гражданине Деларю.
Крики не стихали. Сторож вопил столь истово, что я бы не удивился, если б следом зазвучал набат. Но обошлось без набата. Впрочем, кому надо, тот слышал, и когда мы наконец завершили перевязку, в двери уже ломились знакомые фигуры в карманьолах и красных колпаках.
Бог весть какое чудо случилось этой ночью, но сержант, начальник караула, сразу же сообразил, в чем дело. Один из граждан санкюлотов тут же помчался на улицу за фиакром, а остальные расстелили шинель, чтобы переложить раненого и отнести его к воротам. Я отозвал начальника караула в сторону и коротко рассказал о случившемся. Тот внимательно проглядел мое гражданское свидетельство, кивнул и попросил зайти днем в ближайший полицейский участок на улице Сент-Андре, чтобы помочь составить протокол.
Я понял, что больше мне делать здесь нечего, разве что ловить по темным аллеям гражданина Деларю. Бедняга Вильбоа теперь в руках бога и эскулапа, а та, что считала себя мертвой, – умерла навеки. Что-то жуткое свершилось в старом склепе. Странно, но меня совсем не тянуло узнать, что именно. Я чувствовал страшную усталость – Смерть, царившая в этом городе, не отпускала меня ни на час.
Гражданка Тома была слишком занята, наблюдая, как бедного парня пытаются осторожно поднять на шинелях, и только огрызнулась, когда я попытался попрощаться. На всякий случай я дважды повторил адрес гостиницы мамаши Грилье, после чего откланялся и неторопливо пошел прямо по свежим следам к воротам.
Утром выглянуло солнце, и улица Серпант сразу же показалась уютной, даже праздничной. Спешить было некуда. Спустившись вниз, я выслушал подробный рассказ мамаши Грилье о том, сколько усилий требуется, дабы граждане постояльцы чувствовали себя как дома, а также ее соображения, что именно следует делать с проклятыми спекулянтами, из-за которых не купишь ни хлеба, ни сахара. Соображения оказались весьма продуманными, включая установку «национальных бритв» напротив каждой булочной и конфискацию всего имущества, движимого и недвижимого, у тех, кто посмеет завысить цены хотя бы на один денье. При этом достойная хозяйка орудовала спицами особенно истово, а я все пытался понять, что именно она вяжет. Спросить, однако же, так и не решился, а мадам Вязальщица, очевидно, почуяв во мне родственную душу, поделилась своим соображением на весьма важную и щекотливую тему. Оказывается, в последнее время мамаша Грилье начала постепенно разочаровываться в «национальной бритве». По ее мнению, «бритье связками» теряло свой воспитательный характер, превращаясь в обыкновенную рутину. Вздохнув, мадам Вязальщица припомнила славные деньки, когда гильотины еще не было и врагов нации просто вешали на фонарях. Преимущество фонаря перед «бритвой» состояло, по ее мнению, в том, что в первом случае граждане сами принимают участие в расправе над аристократом или спекулянтом, превращая казнь в настоящий народный праздник. В августе 1789-го она, гражданка Грилье, лично воткнула в рот какому-то откупщику, которого уже поднимали на фонарь, целую охапку сена. Дергавшийся в петле откупщик с сеном в зубах стал поистине украшением улицы.
Достойная хозяйка даже раскраснелась при этих воспоминаниях. Похоже, она была готова беседовать на столь близкую ее душе тему бесконечно, но я, воспользовавшись секундной паузой, поинтересовался у гражданки Грилье, далеко ли отсюда кафе «Фарфоровая голубка».
Цвет лица гражданки Грилье из просто красного тут же стал сине-бело-красным. Оказывается, «Фарфоровую голубку» в Париже знает каждый патриот. В этом кафе собираются истинные друзья народа – якобинцы, а находится сие заведение аккурат в секции Пик, которая выдвинула в Конвент самого гражданина Робеспьера. Мое желание выпить кофе в таком месте, похоже, окончательно убедило ее в моей полной благонадежности.
«Фарфоровая голубка» заметно отличалась от «Прокопа». На стенах вместо портретов Гольбаха и Бюффона красовались яркие плакаты с изображением дюжих санкюлотов, поражающих гидру контрреволюции. Свободное пространство украшали надписи, выполненные от руки, весьма различного содержания. Самым невинным было обещание некоего Жака свернуть шею «поганому уроду» гражданину Люлье. Часть надписей оказалась закрашенной, но поверх уже ползли новые руны.
Народу, несмотря на ранний час, было немало. Публика, сидевшая за столиками, ожесточенно дымила трубками и громко обменивалась репликами. Вначале показалось, будто в славном заведении происходит какая-то грандиозная ссора, но я быстро понял, что это попросту привычная среди истинных якобинцев манера разговора.
У стойки, за которой бледно светился луноподобный лик хозяина (лунная поверхность вблизи оказалась, как и говорит астрономия, изрыта изрядными кратерами и бороздами), толпилось с полдюжины «патриотов». Один из них держал в руках газету и что-то читал вслух. Бросив беглый взгляд, я заметил, что газета именуется «Отец Дюшен». Невольно подумалось, что поклонники листка гражданина Эбера случайно обнаружили в своей компании грамотного и теперь спешат узнать свежие новости.
Я заказал кофе, мельком отметив, что сей благородный напиток истинных патриотов готовится здесь в огромной кастрюле, и с сожалением вспомнил заведение Прокопа. Впрочем, кофе меня не интересовал. Зато сам я сразу же привлек всеобщее внимание. Похоже, в подобном месте собиралась лишь «своя» публика.
Чтение «Отца Дюшена» продолжалось, но я то и дело ловил на себе косые взгляды. Случайно оглянувшись, я заметил, что и луноликий хозяин разглядывает мою скромную персону самым беспардонным образом. Впрочем, уловив мой взгляд, он поспешил отвернуться.
Я решил, что пора. Отхлебнув того, что здесь именовалось кофе, я встал и прокашлялся, словно актер перед ответственным монологом. Чтец замолк, и вся публика воззрилась на меня.
– Граждане патриоты! – воззвал я. – А известно ли вам, что сие заведение, посещаемое истинными якобинцами, – тут я сделал легкий полупоклон в сторону слушателей, – этот оплот патриотов из секции Пик, время от времени навещает враг Нации и Республики, шпион, авантюрист и провокатор барон де Батц?
Ответом мне было глухое молчание. Шум за столиками стал заметно тише, а рот хозяина раскрылся подобно гигантскому кратеру.
– Так пусть ведает сей де Батц, что его разыскивает добрый республиканец Франсуа Люсон, который проживает в гостинице «Друг патриота», что на улице Серпант. Прошу передать ему это при первой возможности.
С минуту стояла поистине мертвая тишина, а затем поднялся шум, куда пуще прежнего. «Патриоты» переглядывались, кое-кто усмехался, но в основном в глазах светилось любопытство.
Расчет был прост. Никакой сыщик не станет делать подобного заявления. Меня запомнят и, без сомнения, расскажут остальным. И уж, конечно, найдется добрая душа, которая передаст все барону. Ему опишут мою внешность, а у матерого шпиона должна быть неплохая память на лица…
– К сожалению, гражданин, такой возможности мы пока лишены, – якобинец, читавший «Отца Дюшена», ухмыльнулся не без злорадства. – Однако же обещаем, что, как только де Батц будет арестован, мы передадим ему ваши слова. Кстати, где вы квартируете?
Тон не вызывал сомнений, но я наивно моргнул и повторил адрес. Якобинец вновь ухмыльнулся:
– Можете не сомневаться, гражданин, мы не забудем.
Я ожидал, что эта публика тут же кликнет патруль, но почему-то этого не случилось. Чтение листка гражданина Эбера продолжилось, а я, сочтя свой долг выполненным, допил кофе и не торопясь пошел к выходу. У самых дверей я обернулся – и заметил растерянный, полный недоумения взгляд хозяина. Похоже, я старался не зря.
По пути в гостиницу я вспомнил, что обещал заехать в полицейский участок. Объясняться не хотелось, но появление стражей порядка в заведении мамаши Грилье меня совершенно не устраивало. Итак, я велел кучеру ехать на улицу Сент-Андре. По дороге я пытался составить более или менее убедительное объяснение случившегося на кладбище Дез-Ар, но ничего путного в голову не лезло.
В комиссариате всем было явно не до меня. Только что стражи порядка притащили двоих карманников, которые громко орали, утверждая, что они брали Бастилию, а посему невинны и неподсудны. Изрядно потолкавшись в небольшой приемной, я наконец поймал за фалды какого-то чиновника, пробиравшегося к выходу с изрядной кипой бумаг под мышкой. Говорить со мной ему очень не хотелось, но я не ослаблял хватки и вскоре узнал, что «кладбищенским делом» занимается комиссар Сименон.
Комиссара удалось обнаружить в маленькой комнате на втором этаже, половину которой занимал огромный стол, заваленный бумагами. Гражданин Сименон оказался под стать столу – столь же огромен и квадратен. На загорелом лице грозно топорщились прокуренные до желтизны усы. Громадная лапища сжимала неправдоподобно маленькое перо, которым комиссар водил по бумаге. Рядом высилось громоздкое чугунное пресс-папье, способное напугать самого отъявленного злодея.
Мое появление никак не обрадовало хозяина кабинета. Послышалось рычание, после чего мне было велено убираться ко всем чертям и не мешать занятым людям работать. Но я не убрался и поспешил представиться. Гражданин Сименон произнес нечто вроде «гм-м» или «хм-м» и начал медленно приподниматься.
Зрелище комиссара полиции во весь рост способно напугать и не такого человека, как я, но я собрался с силами и остался на месте. Наконец гражданин Сименон вздохнул, вновь присел и кивнул на табурет, сиротливо стоявший посреди комнаты.
– Странно получается, сударь, – заявил он, пощипывая левый ус. – Я, видите ли, только что выписывал ордер на ваш арест. Любопытно выходит, а?
Я немедленно согласился, присовокупив, что рад избавить его от лишней писанины. Внезапно вид усача стал сердитым, даже грозным.
– А известно ли вам, сударь, что ваша личность нуждается в востребовании для изъяснения обстоятельств дела, связанного с покушением на убийство, равно как с нарушением имущественных прав?
Что все сие значило, я и не пытался понять, всем видом изобразив полную покорность и готовность к «изъяснению». Комиссар мне понравился, его усы – тоже, а обращение «сударь» – в особенности.
– Готов дать показания, – подтвердил я. – Однако же жажду узнать о предъявленном обвинении.
Усы гражданина Сименона стали дыбом.
– Изволите шутки шутить, сударь? Я – закон, со мной не шутят! Суть же обвинения состоит в том, что вы совместно с девицей Тома…
– Гражданкой Тома, – мягко поправил я. В ответ вновь послышалось рычание.
– …С девицей Тома злодейски покушались на жизнь госпо… э-э-э… гражданина Вильбоа, и сие покушение не увенчалось полным успехом по причинам, от вас никак не зависящим. Кроме того, вы совместно с вышеизложенной девицей преступно торговали телами законно умерших госпо… э-э-э… граждан, с разрешения муниципалитета имевших временное пребывание в мертвецкой кладбища Дез-Ар.
Я с облегчением вздохнул – бедняга Вильбоа жив. Но остальное мне никак не понравилось. Похоже, дела «девицы Тома» плохи.
– Однако же, сударь, – начал я, пытаясь попасть в тон, – смею обратить ваше внимание на нижеследующее пояснение, которое прошу всенепременно занести в протокол…
«Нижеследующее пояснение» почти не расходилось с фактами. Я лишь кое-что упростил. С гражданином Вильбоа мы встретились в кафе «Прокоп», где «вышеизложенный Вильбоа», находясь в состоянии глубокой меланхолии, якобы сообщил, что намерен посетить «вышеозначенное» кладбище, поскольку от кого-то слышал о призраке своей невесты, который якобы был замечен на примыкающей к «вышеозначенному» кладбищу улице. Опасаясь за жизнь и рассудок «вышеизложенного Вильбоа», я поспешил на кладбище и вместе с тоже «вышеизложенной» гражданкой Тома попытался предотвратить несчастье. Увы, все, что мы могли, это оказать бедняге первую помощь.
Комиссар поставил точку, нахмурился, перечитал протокол, после чего извлек из груды бумаг какой-то листок и долго сверял его с моими показаниями.
– Должен заметить, сударь, – молвил он наконец, – что показания ваши изрядно совпадают с показаниями девицы Тома, равно как с показаниями госпо… гражданина Гара, сержанта Национальной гвардии. Однако же они никак не поясняют и не проясняют таких важных обстоятельств, как нахождение в склепе трупа, э-э-э, гражданки Мишель Араужо, невесты вышеозначенного… гм-м… гражданина Вильбоа, равно как ваше нахождение в подозрительной близости от тела все того же гражданина, равно как многое другое. А посему, сударь, ваши показания никак не изъясняют сие дело.
Я мысленно согласился с усачом, но решил, что пора переходить в наступление.
– Насколько я понял, гражданин комиссар, вышеозначенная гражданка Тома арестована?
– А известно ли вам, сударь, что вопросы в этом месте и за этим столом задаю я? – грозным тоном воззвал гражданин Сименон, но я покачал головой:
– Нет. Уже не вы.
Страшный документ, извлеченный мною из внутреннего кармана камзола, изучался не менее пяти минут. Лицо комиссара побурело, а рука вцепилась в пресс-папье. Я невольно поежился: чугунное пресс-папье в этаких лапищах – смертоносное оружие…
– Но это незаконно, сударь! – с трудом проговорил гражданин Сименон, причем голос его подозрительно дрогнул. – Это вмешательство в криминальное расследование! Мой дед, сударь, самого Картуша ловил! Я, сударь вы мой, лично графиню де ла Мотт арестовывал![23]
– «Всем властям, гражданским и военным», – напомнил я. – Именем Республики, Единой и Неделимой, гражданин Сименон! Первое: гражданку Тома немедленно освободить. Второе: советую забыть вашу прежнюю версию и придумать что-нибудь более правдоподобное.
– Придумать! – комиссар чуть не всхлипнул от огорчения. – Вы думаете, господин… э-э-э… гражданин Шалье, мы тут сказки сочиняем?
Комиссар походил теперь на охотничьего пса, которого оттаскивают от законной добычи. Впрочем, огорчение длилось недолго. Рыжеватые усы шевельнулись.
– При зрелом размышлении… Исходя из вышеизложенного и учитывая нижеследующее… Выходит, сударь, что перед нами не иначе как самоубийство!
– Попытка! – усмехнулся я, мысленно пожелав гражданину Вильбоа всяческого здравия.
– Находясь в черной меланхолии, го… гражданин Вильбоа проникает на территорию указанного кладбища, совершает похищение трупа законноумершей гражданки Араужо, имеющего временное пребывание в мертвецкой оного кладбища, после чего…
– Гражданка Тома, – напомнил я. – Подписывайте ордер.
– А я, представьте, забыла ваш адрес! – гражданка Тома развела руками и растерянно улыбнулась. – Помню, вы говорили про какую-то гостиницу…
Вид у достойного доктора был изрядно встрепанный, словно у попавшего в бурю воробья. Лапландская шапка окончательно сползла на ухо, а вместо двух пуговиц на пальто торчали лишь обрывки ниток.
Я поймал фиакр. Девушка, решительно отведя мою руку, легко взобралась на сиденье и знакомо фыркнула:
– Ну почему даже такие, как вы, все время пытаются намекнуть на женскую неполноценность? Я еще, гражданин Люсон, не инвалид!
Проглотив этот суровый выговор, я пристроился рядом и вопросительно взглянул на гражданку Тома. Та устало вздохнула:
– Улица Старого Жака… Господи, когда же я домой доберусь?
Для гражданки Тома я по-прежнему был Франсуа Люсоном. Причину ее освобождения я объяснил просто: мои показания подтвердили то, в чем девушка напрасно старалась уверить служащих комиссариата.
Фиакр медленно катил по направлению к Сене, и я заметил, что мою спутницу явно клонит в сон.
– Ну и ночь! – она потерла ладонью лицо и наморщила нос. – А все из-за вас, гражданин Люсон!
– Да, мне следовало остаться… – начал я, но девушка покачала головой:
– И ничего вам не следовало! Это мне надо было внимательнее слушать. Мне, между прочим, вначале почти поверили, но потом, естественно, поинтересовались вашим адресом. А я… К сожалению, тот санкюлот, с которым вы говорили, тоже не отличался хорошей памятью. Ну и меня сочли преступницей, а вас – сообщником. Пришлось обживать общую камеру в компании с гражданками воровками и гражданками проститутками. Правда, не без пользы – некоторые их разговоры представляют немалый интерес для медицины…
Она бодрилась, но я видел, что девушка смертельно устала. И немудрено! Фиакр еле-еле полз, а на мои просьбы ехать быстрее гражданин извозчик отвечал что-то невразумительное о ценах на овес. Только через полчаса мы переехали Сену.
– Еще долго! – вздохнула гражданка Тома. – Страшно неудобно, если нет своего экипажа! У моего покойного батюшки была коляска, но по нынешним временам такая роскошь по карману лишь военным поставщикам… Или депутатам Конвента.
Она бросила на меня любопытный взгляд, но я сделал вид, что не расслышал.
– Как я понимаю, ваш отец тоже был врачом?
Она кивнула:
– Александр де Тома, врач Королевской академии. Ну а я просто Тома… К счастью, Республика, избавив меня от приставки «де», дала возможность продолжить то, что делал отец.
– Это вы насчет трупов? – невинно поинтересовался я.
Очки воинственно блеснули.
– Да! Именно насчет трупов, гражданин Люсон! Господи, стоит поговорить с такими, как вы, и я начинаю думать, что во Франции до сих пор действует инквизиция! И вы, наверно, считаете себя образованным человеком?
Я несколько смутился, но атака только началась.
– Великий Везалий умер из-за таких, как вы! Но разве дело в нас, медиках? Из-за дикости и невежества личностей, подобных вам, гражданин Люсон, людей не только неправильно лечат или не лечат вообще, но и хоронят заживо! Отец считал, что каждый пятый покойник становится таковым уже под землей! Если бы вы видели то, что видела я…
Вновь вспомнились жуткие байки, которых я, похоже, в свое время наслушался.
– Некий почтенный горожанин в Марселе, – замогильным голосом начал я, – похоронил супругу в семейном склепе. Через год в склеп вошли, чтобы установить серебряную табличку на гроб, и узрели оный гроб отверстым, а покойницу – лежащей у дверей. Долго, долго мучилась старушка… У вас что, в часовне гальваническая батарея?
Только сейчас я сообразил, что могли означать странные емкости, замеченные мною в глубине мертвецкой.
– Странно, – задумчиво молвила девушка, – а вы, оказывается, что-то понимаете… Да, там гальваническая батарея, очень мощная. Ее соорудил еще отец. Когда я чувствую, что с моим, так сказать, пациентом не все в порядке, я прибегаю к помощи электричества. Кстати, за последний год мне удалось спасти троих. Двое до сих пор живы…
– Постойте! – В памяти мелькнуло что-то, давно слышанное. – Кажется, несколько лет назад какой-то врач предложил построить при каждом кладбище специальную лабораторию с лейденскими банками… И еще он предлагал распылять в воздухе уксус.
– Мой отец, – кивнула гражданка Тома. – К сожалению, к нему мало кто прислушался. Вас не шокирует подобная тема?
Я покачал головой. Интересно, что сказала бы гражданка доктор, узнав, кто я на самом деле? Нет, она слепа – как и все остальные. Тот, кто не пустил меня на серое небо, позаботился об этом…
Наконец фиакр остановился. Девушка вздохнула, выглянула из-под шапки. Послышался облегченный вздох.
– Приехали! Гражданин Люсон, приглашаю вас выпить кофе в моей скромной компании. Или вы, как истинный ретроград, не пьете кофе?
– Пью, – тут же откликнулся я. – Хотя и ретроград.
Напрашиваться в гости не хотелось, но я понимал, что после всего случившегося гражданке Тома не хочется оставаться одной. Все-таки для двадцатилетней девушки подобные приключения – это чересчур. Даже для дочери доктора Александра де Тома.
В небольшой квартирке, разместившейся на втором этаже старого особняка, царил полный беспорядок. Мне было велено не смущаться и не удивляться. Гражданка Тома жила без прислуги – по той же причине, что и без экипажа, а времени на домашние дела не оставалось. Меня разместили в кабинете на продавленном диване, для чего пришлось скинуть прямо на пол дюжину толстых фолиантов и несколько вываренных добела берцовых костей. Пока гражданка Тома приводила себя в порядок, я перелистал пару книг, убедившись, что имею дело с анатомическими атласами. Наскучив бездельем, я предложил свои услуги в важном и серьезном деле – растопке печи на кухне, не топленной уже не менее трех дней. Печь была огромной и очень красивой, выложенной голландским кафелем по моде начала века, но тянула из рук вон плохо. Вдобавок ее давно не чистили, так что пришлось взяться за дело всерьез. Сняв камзол, я закатал рукава и принялся орудовать кочергой. Дело уже дошло до дров, когда в кухне появилась гражданка Тома – на этот раз без очков и лапландской шапки.
– Убедительно, – заметила она. – С печью сражаться вы умеете. А также, если судить по вашим движениям, неплохо танцуете. Не спорьте, такое легко заметить… Итак, гражданин Люсон, не притворяйтесь санкюлотом. Вы типичный «аристо», как сейчас модно говорить.
– Я и не спорю, мадемуазель де Тома.
Она топнула ногой:
– Прекратите! Я же вас просила! «Мадемуазель»! Знаете, отец хотел приучить меня к «свету». Наслушалась! «М-мадемуазель! Я м-мечтаю стать б-бабочкой и кр-ружить вокруг вашей шляпки! Ах, суда-р-р-рыня, я ощущаю стр-р-расть!»
Я покосился на нее и стыдливо промолчал.
– Ладно! На сей раз вам прощается, гражданин де Люсон. Мойте руки, а я займусь кофе…
– Дю Люсон, – внезапно вырвалось у меня. Девушка не обратила внимания, а я изрядно растерялся. Моя выдуманная фамилия должна звучать именно так – я был абсолютно уверен. Но почему? Когда я заполнял гражданское свидетельство, мне просто пришло на ум название маленького городка…
Оставалось вымыть руки. Когда я вернулся на кухню, гражданка Тома уже колдовала со странным устройством, напоминающим ведерко, но почему-то с двумя носиками. Похоже, кофе в Париже варили по-всякому.
В воздухе струился пряный аромат, и я уже предвкушал первый глоток, когда из глубины квартиры послышался негромкий звук. Девушка удивленно обернулась:
– Это в дверь. Странно…
Теперь и я понял – стучал молоточек, подвешенный у входной двери. Тут же вспомнились моржовые усы комиссара Сименона.
– Я открою. Не выходите из кухни.
Пока я возился с засовом, в дверь продолжали колотить – гости были настойчивы. Я порадовался, что согласился зайти к девушке. Если это из комиссариата…
Но я ошибся. Дверь отворилась, и на пороге возник некто, при виде кого мои опасения исчезли. Такие не служат в полиции.
Невысокий, слегка склонный к полноте молодой человек, одетый в безупречный редингот, растерянно взглянул на меня и изумленно произнес:
– Нет! О, нет! О Небо! Нет, нет!
– В каком смысле? – поинтересовался я, замечая некоторую странность. Модный наряд гостя никак не сочетался с буйной черной шевелюрой, явно не знакомой с ножницами куафера. Черные волосы дыбились, спадали с плеч, словно сей молодой человек прибыл прямиком из прерий. Индейская прическа плохо сочеталась с очками в дорогой золотой оправе.
– О, нет! – повторил незнакомец. – Небо, ты не допустишь!
– Входите, – вздохнул я. – Гражданка Тома как раз варит кофе.
Глаза за стеклами очков моргнули, но спорить гость не стал и покорно проследовал на кухню. При виде гражданки Тома, расставлявшей по столу чашки, он вновь окаменел.
– О Юлия! О-о!
Я начал догадываться. Кажется, мне уже приходилось слышать об этом молодом человеке.
– О Юлия! О-о! Ты не в узилище! Твои прекрасные руки не закованы в глухое железо! О Небо, ты караешь, но ты и исцеляешь!
Теперь уже моргнул я. Гражданка Тома отнеслась к этой тираде значительно спокойнее:
– Добрый день, Альфонс! Гражданин Люсон, это мой жених.
Все стало на свои места.
– Знакомьтесь сами, я занята.
Я представился. На меня поглядели несколько недоуменно.
– Альфонс д'Энваль, – наконец выдавил из себя молодой человек. – Смею спросить вас, сударь, в чем причина…
– Моего пребывания в обиталище гражданки Тома? – понял я. – Увы, сударь, причину эту никак нельзя назвать случайной…
– Юлия! – Лицо индейца вспыхнуло. – Я услыхал черную весть, но, боюсь, истина… О, истина еще чернее!
– Садитесь, граждане, – невозмутимо предложила девушка. – Кофе надлежит пить горячим. Сахара, к сожалению, нет…
Я с удовольствием последовал этому указанию. Гражданин д'Энваль также присел к столу, но даже не притронулся к чашке.
– Юлия! О Юлия! – наконец вымолвил он. – Мне передали, что вы арестованы, что вас ввергли в темное узилище, а вы… О-о!
Девушка пожала плечами:
– Ну что тут странного, Альфонс? Мы с гражданином Люсоном провели вместе часть ночи. А теперь, прежде чем он покинет меня, должна же я напоить его кофе!
На индейца стало жалко смотреть. Я понял – пора вмешаться.
– Гражданин д'Энваль! – торжественно провозгласил я. – Я сорву покров с этой страшной тайны…
– Не надо! – гражданка Тома поморщилась. – Альфонс, гражданин Люсон этой ночью помог мне спасти жизнь одному бедняге. Точнее, наоборот, это я ему помогла. А потом он позаботился, чтобы меня выпустили из полиции. Кстати, я ждала вас!
Молодой человек снял очки и растерянно заморгал. Затем попытался что-то сказать, но без особого успеха.
– Я ведь послала вам записку еще утром, Альфонс! В комиссариате спросили, кто бы мог за меня поручиться… Знаете, Альфонс, сидеть в обществе проституток не очень приятно!
– Я не мог… – молодой человек вздохнул и прикрыл глаза. – Когда я узнал… О-о! Весь мир словно покрылся тьмой! Я видел лишь ваше лицо, ваше прекрасное лицо, Юлия! Мне казалось, что мое сердце уже перестает биться! О, простите меня!
Девушка вновь пожала плечами:
– Да ерунда, в общем! Однако это не повод появиться у меня в доме и начать ревновать с порога.
– О, я виноват! Но разум мой помутился. И когда увидел я мужчину в вашем обиталище… О-о!..
– Прекратите ревновать! – девушка поморщилась. – Гражданин Люсон, по-моему, самое время вам рассказать, что вчера произошло. Для Альфонса это будет полезно – он обожает подобные сюжеты. Может, его следующая пьеса вызовет больший интерес у публики.
Бедолага д'Энваль вновь попытался что-то сказать, но снова безуспешно. Я мысленно пожалел его. Быть женихом гражданки Тома – не сахар.
– Ладно, – решил я. – Расскажу все, что видел. А вы уж сами думайте, как все это объяснить…
И я рассказал все, точнее, почти все. О национальном агенте Шалье этим двоим знать ни к чему.
Выслушав меня, Альфонс д'Энваль ограничился тем, что вновь произнес: «О-о!» На этот раз «О-о!» прозвучало особенно выразительно. Гражданка Тома отреагировала не сразу, и в голосе ее звучало явное сомнение:
– На месте этого усатого комиссара я бы вам не поверила. И на своем месте – тоже… Дело в том, гражданин Люсон, что тело этой актрисы привезли в нашу мертвецкую четыре дня назад. На следующий день оно пропало. Поверьте мне, эта несчастная была мертва. Ergo…
– Ergo, – подхватил я, – та, что встретилась мне у кладбища, была не Мишель Араужо. Но это была она.
Гражданка Тома покачала головой:
– Ерунда! Ночью я успела еще раз взглянуть на тело. Извините за подобные подробности, особенно за столом, но такие признаки, как трупные пятна… Ладно, не буду, но и вы мне поверьте. Она погибла несколько дней назад. А что касается гражданина Вильбоа, то вы, похоже, правы – он сам ударил себя ножом в грудь. Впрочем, на рану еще стоит взглянуть… К счастью, бедняга плохо знал анатомию. Наверно, он поверил вашему рассказу, примчался на кладбище, никого не встретил, зато нашел тело своей невесты…
– Ив Добино, – внезапно произнес индеец.
– Прекратите, Альфонс! – возмутилась девушка, но тот упрямо покачал головой:
– Вы не верили, Юлия! Вы говорили, что один случай ничего не доказывает. И вот судьба…
– При чем тут судьба! – гражданка Тома покачала головой. – Альфонс! Да повзрослейте вы наконец!
– Я вам верю, гражданин Люсон. – Индеец протер очки и внимательно поглядел на меня сквозь толстые стекла. – Выслушайте же историю, столь сходную с этой и столь же покрытую мраком великой тайны, тайны Вечности. О Вечность, о-о!..
– Не надо! – девушка помрачнела. – В вашем исполнении, Альфонс, все это будет выглядеть слишком инфернально. А история, увы, простая. У меня был пациент, Ив Добино. Его нашли без сознания в собственной постели. Рядом с ним лежал труп. Очень похоже на то, что было вчера, только та несчастная – не его невеста, а просто некая дама, с которой он был знаком. Ее казнили за два дня до этого. Добино утверждал – да и сейчас утверждает, что встретил ее на улице вечером и, во всяком случае, к нему в квартиру она поднялась своими ногами. Труп я осматривала – как и самого Добино. Сейчас он в Биссетре и, боюсь, никогда не выйдет оттуда. Обычный, хотя и тяжелый случай помешательства…
Я не стал спорить. Говорить на эту тему не хотелось, но д'Энваль не сдавался:
– Вы не верите в Тайну, Юлия! Ваша профессия… О-о, ваша ужасная профессия!
Девушка фыркнула, и молодой индеец понял, что продолжать не стоит.
– Гражданка Тома, – решился я. – Представим невозможное – мертвец ходит среди людей. Как вы его сумеете отличить от живого?
– Роговица глаза, – последовал мгновенный ответ. – Гражданин Люсон, не поддавайтесь Альфонсу! Он верит в колдунов, ламий, оборотней и призраки погубленных невест, поэтому публика разбегается в ужасе, когда его пьесу все-таки решаются поставить.
Я пожалел беднягу драматурга. Однако уверенность девушки заставила задуматься. Она – врач. Она, похоже, очень хороший врач. Она видит меня – и ничего не замечает…
– Наверно, мне пора, – я встал. – Благодарю за кофе, гражданка Тома! Оставляю вас вдвоем…
– И ничего не оставляйте! – отрезала девушка. – Я чертовски устала, хочу спать, а вечером мне снова работать! Так что, гражданин Люсон, забирайте Альфонса и отправляйтесь по своим делам!
Индеец попытался возразить, но тщетно. Я вновь подумал о трудной судьбе того, кто решился стать женихом доктора Тома.
Мы уже прощались, когда девушка, прервав на полуслове излияния Альфонса, повернулась ко мне:
– Гражданин Люсон! Прежде чем я вас выпровожу, позвольте сказать спасибо. Этой ночью вы спасли беднягу Вильбоа от смерти, а сегодня днем – одну особу от прелестей каталажки. Знакомство с вами бывает полезным…
Пожатие маленькой руки было твердым и решительным.
– Кстати, можете проявить благородство до конца и навестить гражданина Вильбоа. Он в лечебнице Урсулинок, это на Монпарнасе. Врачи там неплохие, но все остальное…
– Я сам… – начал было гражданин д'Энваль, но дверь со стуком закрылась перед нашими носами.
– Итак, вы драматург, – констатировал я, когда мы вышли на улицу. – Пишете пьесы про ламий и вурдалаков.
Молодой индеец усмехнулся:
– Юлия попросила вас не подпадать под мое влияние, друг мой. Зато под ее влияние вы уже подпали. Она – необыкновенная девушка, ее красота ослепляет… О-о, ее красота! Но не все дано понять даже самым прекрасным!
Он не шутил. Курносая физиономия гражданки Тома для него сверкала солнцем.
– Я не считаю себя драматургом. Я – революционер. Я тот, кто служит Великому Духу Перемен, кто несет Бурю в вековечное болото!
Это понравилось мне значительно меньше. На служителей оного «духа» и прочих «буреносцев» я уже насмотрелся.
– Я не беру Бастилий, – понял меня д'Энваль. – Моя Бастилия не из камня. Но сокрушить ее куда труднее…
Вдали показался фиакр. Мы переглянулись.
– Вы собрались пройти тропой Милосердия и навестить несчастного, сломленного Злой Судьбой… – неуверенно начал молодой человек.
С минуту я переводил, затем кивнул:
– Да, но я не знаю, где эта больница.
– Я провожу вас. Мой долг велит споспешествовать вам, гражданин Люсон.
Я покосился на него, но спорить не стал. Кажется, этот индеец – не такой плохой парень.
На этот раз мы ехали быстрее, очевидно, с овсом у гражданина кучера было все в порядке. До лечебницы оказалось неблизко, но гражданин д'Энваль не дал мне скучать. Похоже, ему очень хотелось объясниться. Вскоре я узнал, что он все-таки драматург, написавший уже с дюжину пьес, три из которых были поставлены небольшим театром, что приютился возле бывшего Пале-Рояля. Впрочем, свою миссию индеец воспринимал значительно шире.
– Разве вы не видите, о друг мой, что перемены в обществе – ничто по сравнению с переменами в Царстве Духа, – увлеченно повествовал он. – Дух! О-о, Дух! Вот что главное! Дух Старого Порядка – вот наша Бастилия!
– Осел в митре с Библией, привязанной к хвосту, – не выдержал я. – Уже наслышан!
– Нет! Нет! То, что вы имеете в виду, – чудовищно! Я чту Творца! Но не того, о котором вещают полуграмотные кюре! Я верю в Творца, явившегося в огне и буре! Творца, пробудившего народ от вековой спячки! Народ – вот наша Библия! Его голос – это голос истинного Писания!
Признаться, мелькнувшая у меня мысль оказалась не самой удачной. Хотя почему бы гражданину д'Энвалю не быть из числа пациентов доктора Тома?
– Непонятно? – грустно улыбнулся молодой человек. – Увы, я чувствую в вас человека, далекого от Царствия Духа! Если говорить низменным языком газет, я… Нет, мы! Мы создаем новую литературу! Нет, новую культуру!
– «Вперед, сыны отчизны милой! – без всякого энтузиазма откликнулся я. – Мгновенье славы настает!»
– Нет! Гражданин Руже де Лиль сочиняет так, как писали еще сто лет назад… Гражданин Люсон, почему Гомера считают великим?
Я немного растерялся. Впрочем, моего ответа, кажется, не ждали.
– Гомер велик, потому что воплотил в себе силу греческой нации. Он лишь Гефест, но сталь, из которой выкованы его поэмы, создал народ.
– И что тут нового? – удивился я, оглядываясь по сторонам и пытаясь на всякий случай запомнить дорогу. – Гомера, по-моему, чтят уже сотни лет!
– Чтят грека Гомера, – усмехнулся индеец. – Но ничего не хотят слышать о французских и немецких Гомерах, которые ничуть не ниже, ничуть не слабее! О-о! Каждый народ велик! Если мы отдернем завесу, наброшенную «классиками», то за нею найдем великие сокровища, созданные народами Европы! И не только Европы!
– Ирокезы, например, – не выдержал я, но гражданин д'Энваль меня, кажется, не услышал.
– Каждый народ создавал «Илиады»! Каждый! И мы говорим… Нет, мы действуем! Великий Макферсон[24] уже доказал, что даже в дикой Шотландии создавались великие шедевры. А Франция! Мы найдем! О-о, мы найдем! Мы достанем из-под спуда…
Похоже, у моего нового знакомого не хватило дыхания.
– Ну, а ведьмы и ламии, – уже более спокойным тоном продолжал он, – это то, о чем рассказывал народ. Немцы называют сие «фольклор». Даже сказки, даже темные предания – это тоже сокровища. Братья Гримм в Германии уже собирают народные сказки и легенды. Они знают, они ведают, где искать великие творения…
Тут фиакр остановился, и гражданин д'Энваль был вынужден прерваться.
Лечебница Урсулинок была огромна. Понадобилось не менее получаса, прежде чем нам удалось найти палату, где лежал несчастный Вильбоа. Гражданка Тома не ошиблась. Лечебница явно знала лучшие времена. Больные лежали прямо в коридорах, на матрацах, набитых соломой, воздух был затхл и тяжел. Шарлю Вильбоа изрядно повезло – ему досталась небольшая светлая палата с кроватью возле самого окна. Но оценить это бедный парень не мог – он был без сознания. Взглянув на белое, словно высеченное из мрамора, лицо, на синюшные пятна под глазами, на бесцветные губы, я понял – дела его плохи.
С врачом – молодым, рыжим и очень озабоченным, удалось поговорить буквально на ходу. Доктор пожаловался на то, что в больнице не хватает врачей, лекарств тоже недостает, а у гражданина Вильбоа сильнейшая потеря крови, что само по себе опасно, но не исключено также заражение…
Врач убежал в соседнюю палату, а к нам подошла немолодая женщина в скромном сером платье и чепце, оказавшаяся старшей сиделкой. Одежда не обманула, я сразу понял, что передо мной – монахиня.
Сестра Тереза работала в лечебнице уже больше тридцати лет. Когда полгода назад монастырь Урсулинок закрыли, она осталась в больнице. Добрые «патриоты» не возражали, но категорически потребовали носить «гражданский» наряд.
Увы, сестра Тереза ничем нас не порадовала. Вильбоа был плох, и единственная надежда оставалась не столько на лекарства, сколько на заботливый уход и питание. Но сиделок в больнице было немногим больше, чем врачей, а якобинская Коммуна уже второй месяц не отпускала деньги на питание больных. Сама сестра Тереза присматривала сразу за тремя палатами.
Гражданин д'Энваль долго рылся в карманах своего редингота и наконец извлек оттуда несколько ассигнатов и два серебряных ливра. Я окончательно убедился, что молодой индеец, несмотря на близость к Духу Перемен, не такой уж плохой парень. Конечно, его ассигнатов не хватило бы надолго, поэтому я добавил полдюжины гиней.
Сестра Тереза, ничего не спросив, спрятала золото и твердо обещала сегодня же нанять для больного сиделку, а также позаботиться о приличной еде. Мы уже уходили, когда монахиня внезапно посмотрела мне прямо в глаза и попросила задержаться. Мы отошли в угол, где нас, кроме бесчувственного Вильбоа, никто не мог услыхать.
– Сын мой, я хочу сказать – вам и вашему другу, – нерешительно начала она. – Вы поступили, как…
– Не стоит, сестра, – перебил я. – Вы ведь хотели говорить не об этом.
Она кивнула, нерешительно помолчала и наконец вновь поглядела мне в глаза:
– Да, сын мой. Не об этом.
Внезапно я почувствовал страх. Не об этом… Я уже догадался – о чем.
– Я не врач, сын мой, но я долгие годы хожу за больными. Не только несчастному, что лежит рядом с нами, нужна помощь. Я имею в виду вас.
Да, она что-то увидела. О чем-то догадалась.
– Если вы не врач, – голос мой внезапно стал хриплым, – то почему…
– Глаза. Глаза, сын мой. Мне не нужно пробовать пульс или исследовать жизненные соки, как это делают те, кто учился медицине. Глаза – они не лгут… Вам надо срочно к врачу, сын мой!
«Роговица глаза»! Доктор Тома говорила о том же.
– Если я болен, сестра, – нерешительно начал я, – то чем именно?
Монахиня покачала головой:
– Это лучше узнать у врача. Но узнать надо как можно скорее.
– Один священник, – решился я. – Он посчитал меня мертвецом.
– Господь с вами, сын мой! – Худая натруженная рука поднялась в крестном знамении. – Тот, кто сказал это, – преступник или безумец! Гоните прочь такие мысли, сын мой! Но вам нужен врач – и срочно. А за то, что вы сделали, – спасибо. Если вы верующий, я благословлю вас. Впрочем, – она впервые улыбнулась, – если нет – все равно, да пребудет с вами Господь!
Я склонил голову и быстро вышел из палаты. Недоумевающий гражданин д'Энваль последовал за мной.
Кажется, он что-то спрашивал, но мысли мои были далеко. Сестра Тереза – она тоже слепа? Или… Или слеп я сам? Что было бы, попроси я гражданку Тома взглянуть мне в глаза?
Лишь на улице я очнулся и передал молодому индейцу благодарность сестры Терезы. Альфонс начал что-то говорить о Духе Милосердия, но не довел свою мысль до конца, заметив идущий в нашу сторону фиакр.
– Мой долг велит мне покинуть вас, друг мой, – произнес он нерешительно. – Однако же спор наш, начатый по дороге сюда, нуждается в завершении. В следующий раз напомните мне, чтобы я поведал вам о своем дяде…
Я обещал, прибавив, что ежели доведется в ближайшее время встретить кого-нибудь из местных Гомеров, то я непременно сообщу об этом достойному служителю Духа Перемен гражданину д'Энвалю.
Зал Оперы сверкал огнями, гипсовые болваны в красных колпаках пялили слепые глаза, актеры, выряженные в знакомую синюю форму, уже в третий раз выходили на поклон, и я понял, что мне пора. Вечер прошел впустую. Патриотическое действо «Праздник Федерации, или Торжество Республики» оказалось необычайно долгим и скучным. Я честно высидел до конца, жалея бедолаг актеров, вынужденных петь куплеты о Дереве Свободы и танцевать санкюлотскую пляску «Деревянные башмаки». «Действо» наводило тоску, и я понял, что зря потратил вечер. В ложе номер три я был совершенно один, и нигде, ни в зале, ни в фойе, я не заметил Бархатную Маску. Наверно, и ей сегодня нет дела до национального агента Шалье.
Было поздно, и я решил не заходить в знакомое кафе, тем более оно навевало невеселые воспоминания. Памятливый хозяин вполне мог спросить, не ведаю ли я, что сталось с добрым патриотом гражданином Вильбоа, а на эту тему беседовать совершенно не тянуло. Итак, я поспешил, сел в вовремя подвернувшийся фиакр и велел ехать на улицу Серпант.
Добродетельные обитатели «Друга патриота» уже предавались Морфею, и пришлось минуты две колотить молотком в дверь, прежде чем мне догадались открыть. Сонная гражданка Грилье долго ворчала, что негоже истинным патриотам возвращаться столь поздно, да еще в таком виде. Редингот вкупе с моноклем и тростью пришелся ей определенно не по душе. Заверив мадам Вязальщицу, что в следующий раз непременно надену карманьолу и красный колпак, я прошел на второй этаж – и внезапно понял, что вечер еще не кончился. Полутемный коридор был пуст, за тонкой стеной слышался чей-то мощный храп, но я уже знал – меня ждет сюрприз.
Приоткрытая дверь подтвердила мои догадки. Свет не горел, и я сразу же почувствовал себя неуютно. Мой силуэт на фоне освещенного коридора – слишком хорошая мишень. Мелькнула мысль поднять переполох и запустить в комнату гражданку Грилье со спицами наперевес, но я тут же понял – это лишнее. Бояться поздно. Все, что со мною могло случиться, – уже случилось. Смерть по имени Бротто осталась позади, и никакой поздний гость уже не способен меня напугать.
Я беззаботно ввалился в комнату, наугад швырнул в угол трость и уже повернулся, чтобы зажечь свечу, когда услыхал негромкое:
– Не надо!
Я обернулся. Кто-то сидел в углу, занимая стул, облюбованный гражданином Вадье. Но это был не Вадье и не Амару, хотя голос – негромкий, испуганный – сразу показался мне знакомым.
– Не надо! – повторил гость. – Садитесь, дю Люсон, и не делайте лишних движений. Не буду объяснять, почему.
– Во-первых, «гражданин дю Люсон», – мягко поправил я. – А во-вторых, гражданин де Батц, если вы поднимете пальбу, то можете считать себя покойником.
С минуту он раздумывал, а я имел время сообразить, что не ошибся. Мой поздний гость, нацеливший на меня пистолеты, – это разыскиваемый по всему Парижу шпион и авантюрист де Батц, когда-то знавший меня как дю Люсона.
– Вы правы… гражданин дю Люсон, – послышался нервный смех. – Мне отсюда не выйти, но предупреждаю – я и так одной ногой в могиле. Мне нечего терять!
– Кроме жизни, – спокойно отозвался я, присаживаясь на кровать и скидывая редингот. – С вашего разрешения, барон, я закурю.
Горящий трут на миг высветил сжавшуюся в углу нескладную фигуру в черном плаще до пят и старинной шляпе с широкими полями. Папелитка оказалась последней, и я подумал, что завтра придется покупать новую коробку.
– На этот раз вы влипли крупно, – продолжал я самым беззаботным тоном. – Комитет общественной безопасности мечтает вытащить вас к решетке Конвента…
– Наслышан! – де Батц вновь рассмеялся. – Еще бы! Теперь все они замараны по уши! Согласитесь, проделано ловко…
– …Но глупо, – подхватил я. – Для вас – глупо. Теперь без вашей головы им не обойтись.
– Прекратите пугать! – его голос сорвался на крик. – Хватит и тех проповедей, что мне приходилось слышать от вас в Лондоне!
Итак, мы действительно знакомы. Значит, де Батц может знать не только мое имя…
– Вы приходили в «Фарфоровую голубку». Зачем? Разве я вам что-то должен… гражданин дю Люсон?
– А разве нет?
Я спрашивал наобум, но не ошибся. Тень в углу беспокойно заворочалась.
– Сейчас для меня наступили плохие времена. Боюсь, я ничем не смогу помочь Святому Сердцу. Передайте де Руаньяку, если он жив, что я выполнил все – все, что обещал вам и ему. Теперь я жду, что и вы поможете мне. Помните, вы обещали!
Итак, я не ошибся. Де Батца загнали в угол, и он пришел за помощью. Интересно, что я ему обещал?
– Когда мы с вами встречались в Лондоне, гражданин барон, ни я, ни маркиз де Руаньяк еще не знали, сколь близко вы знакомы с Комитетом общественной безопасности. С какой стати теперь я должен вам помогать?
Послышалось возмущенное сопение.
– Ерунда! Вы прекрасно знали, как и на кого я работаю! Я был вам нужен – и вы использовали меня! Имейте в виду, я действовал честно! Я не выдал никого из людей д'Антрега! Никого! Я не выдал Поммеле! Я не выдал Николя Сурда! Но если меня арестуют…
Я почувствовал омерзение. Предатель был жалок и отвратителен, но все еще грозил, пытался торговаться. Конечно, если его поймают, он выдаст всех.
– Не поможет! – заметил я как можно спокойнее. – Вам даже спасибо не скажут. Картуш на эшафоте выдал всех своих подельщиков, но это не спасло его от колеса!
На этот поучительный пример меня натолкнули семейные воспоминания славного комиссара Сименона. Похоже, мои слова подействовали.
– Вы… Вы не так меня поняли, господин дю Люсон! – голос барона теперь звучал жалко и просяще. – Я не это имел в виду! Помогите мне! Я передам вам одного агента… Нет, я передам вам троих! Один из них имеет отношение к проекту «Лепелетье»!
Я сразу же вспомнил славную роту лейтенанта Дюкло. Но барон, очевидно, имел в виду нечто иное.
– Мне нужны документы. Но не фальшивые, а настоящие, на мое имя. Меня должны выпустить из Парижа! Помните, вы обещали! Сейчас именно тот случай!
– С этим вам лучше обратиться к гражданину Робеспьеру, – предложил я. – По-моему, только он способен вам помочь. Имейте в виду, у гражданина Вадье и у половины Конвента на вас несколько иные виды!
– Но вы же обещали!
Он был в отчаянии. Я молчал, прикидывая, что лучше всего оставить все как есть. Ищейки гражданина Вадье выкурят этого мерзавца из его норы, затем барона заставят выложить все в Конвенте, а потом отправят «бриться» на радость гражданке Грилье и прочим «вязальщицам». По крайней мере, один смертный приговор Революционного Трибунала окажется справедливым. Но я уже знал – так поступить нельзя. Спасая свою шкуру, мерзавец выдаст всех – и тех, кого он назвал, и других, мне неизвестных.
– Хорошо, господин де Батц. Я попытаюсь вам помочь…
Он вскочил, но я поднял руку:
– Погодите! Я еще не закончил. Я попытаюсь помочь, но хочу, чтобы вы мне ответили на некоторые вопросы.
– Да! Да! Конечно! Я готов!
Судя по голосу, он и вправду был согласен на все. Оставалось правильно спросить…
– Кого из моих людей в Париже вы знаете?
Я чуть было не упомянул «Синий циферблат», но вовремя прикусил язык.
Де Батц вздохнул:
– Понимаю… Вы никогда мне не верили, господин дю Люсон! Нет, никого из ваших людей я не выдал. Хотя бы потому, что не знал – и не пытался узнать. Я ведь человек осторожный и не желаю наживать себе такого врага, как армия Святого Сердца. Знаю лишь то, что можно прочитать в «Мониторе», и то, что рассказывали вы…
– Напомните! – велел я, чувствуя, что на этот раз де Батц и вправду весьма разоткровенничался.
Смех – хриплый, злой.
– А вы, гражданин дю Люсон, рассказывали приблизительно то же, что и «Монитор». Я тоже люблю пускать такие байки – про сотню шпионов во всех комитетах и клубах. Иногда помогает. Но безопасность вы мне обещали! И даже, если помните, дали слово!
Я невольно поморщился. Связывать себя словом в подобном деле, да еще с такой личностью! Впрочем, де Батц не лгал, и это было самым важным.
– Допустим, барон… А что вы узнали обо мне лично? И не говорите, что не пытались узнать!
– Полно! – Из угла послышался тяжелый вздох. – Я никому о вас не рассказывал! К тому же узнать что-либо о вас в Лондоне было сложно, а в Париже – и того сложнее. Вы изволили появляться в самый неожиданный момент, словно хромой бес у господина Лесажа…
Я почувствовал, что смертельно устал. Несколько минут разговора с этим негодяем стоили скачки в десяток лье. И все зря! Господи, все зря!
– Я, конечно, человек наблюдательный, – из угла послышался смешок. – Совершенно ясно, что вы не парижанин, что в прошлом не привыкли считать деньги, кроме того, вы всегда следите за модой и предпочитаете лондонские моды парижским…
Я грустно улыбнулся. Увы, наблюдательность гражданина шпиона ничем не могла мне помочь.
– Кроме того, из одной вашей обмолвки стало ясно, что в прошлом вы были полковником Королевской армии и что Его Величество направил вас в Америку для тайных переговоров с Вашингтоном. Там вы были вместе с Ла Файетом, которого ненавидите лютой ненавистью. Подозреваю, что именно с вашей подачи де Руаньяк вынес бедняге маркизу смертный приговор…
«Патриоты пьют кофе, Франсуа! Привыкайте!» Мари Жильбер дю Матье, маркиз де Ла Файет… Смертный приговор? Я вдруг ощутил ужас. Нет, не может быть! Мы же друзья! Как я мог, Господи, как же я мог!.. На миг я почувствовал к себе – прежнему – почти то же, что сейчас ощущал, разговаривая с де Батцем.
– Хорошо! – я встал. – Мое настоящее имя?
Де Батц не шевельнулся. Затем вновь послышался смешок:
– Боитесь? Все-таки боитесь? А хорошо бы почитать вам мораль, как вы читали мне! Нет, имени – настоящего – вы мне сообщить не изволили, а я, признаться, не был особо любопытен. Могу лишь заключить, господин дю Люсон, что вас зовут Ксавье. Во всяком случае, в одном нашем разговоре – помните? – вы упомянули святого Ксаверия именно в этом смысле.
Ксавье? Не Франсуа? Впрочем, это уже не важно. Все бесполезно. Все зря!.. Как жаль, что нельзя просто прогнать этого мерзавца – прямиком на площадь Революции.
– В ближайшие дни я зайду в «Фарфоровую голубку», господин де Батц. Просто выпью кофе и уйду. Поверьте, это великая жертва, ибо кофе там премерзкий. Это будет означать, что я достал нужные документы. Приходите сюда поздно вечером, как сейчас…
– Господин дю Люсон! – барон вскочил, бросился ко мне, но я отшатнулся:
– Уходите! И быстро, пока я не передумал!
Черный плащ на миг замер, а затем бесшумно устремился к двери. Я подождал, пока он выйдет, закрыл засов и медленно опустился на стул. В комнате было темно, но я чувствовал, как подступает истинная Тьма, за которой бездна – неведомая, бездонная… Я ничего не узнал! Ничего!
Я вздохнул, пошарил в деревянной коробке, но вспомнил, что папелитки кончились. Еще и это! Я заставил себя встать и зажечь свечу. Тьма не исчезла, она лишь отступила к углам, все еще готовая броситься вперед, затопить, лишить разума. Господи, что я делаю на этой земле, в этом чужом страшном городе?
Я вновь присел к столу, сцепил зубы и положил перед собой чистый лист бумаги. Все против тебя, Франсуа Ксавье…
И вдруг мне стало легче. Барон не солгал! Святой Ксаверий и вправду имел ко мне прямое отношение! Франсуа Ксавье – мои имена! Наверно, и маленький городишко Люсон, стоящий посреди унылых пустошей, по которым бродят худые грязные овцы, вспомнился неспроста. Недаром и тогда, и сейчас я выбрал такой псевдоним.
Итак, мне, Франсуа Ксавье дю Люсону, пока не очень-то везет в славном городе Париже. Что ж, значит, мой путь оказался еще труднее, еще дольше. Но я не могу исчезнуть, раствориться без следа, словно призрак в лучах рассветного солнца. Не могу – и не хочу! Первое, что я должен сделать…
Перо вывело на бумаге большую цифру «1». Бедняга Шарль Вильбоа не должен умереть! Это мой грех, и мне его искупать. Но этого мало, надо проследить, чтобы желтоусый гражданин Сименон в приступе служебного рвения не испортил жизнь симпатичной очкастой девушке, которая так вовремя встретилась мне в ту ночь.
Теперь – «2». Подлец де Батц должен уехать из Парижа! Иначе пострадают многие – трус поспешит всех выдать, даже ведая, что это его не спасет. Де Батц почему-то уверен, что я могу ему помочь. Значит… Значит, я ему помогу!
И, наконец, «3»… Я развернул знакомый листок с рядами цифр. Почему я не начал именно с этого? Тот, кем я был, не зря зашил этот листок за подкладку камзола. Что там сказано о грехе?
Давно мне ведом терпкий вкус греха, И пропасть черную уж зрю издалека…Внезапно я чуть не рассмеялся. Уже не гражданин ли д'Энваль изваял сии вирши? Ну, а если не он, то кто-то, ему наверняка известный…
Я аккуратно подчеркнул тройку и внезапно понял, что Тьма, окружавшая меня, исчезла. Остались обычные тени, которые не в силах разогнать грошовая свечка. Комната стала уютной и спокойной, словно я жил здесь уже много лет. Я вновь поглядел на листок. 1,2,3… Нет, я ошибся. Первым делом следует купить новую коробку папелиток. Жаль, что лавки закрыты и придется мучиться до утра…
Действие 3 Некий шевалье ведет расследование, или Кто такие «дезертиры»
– Тем не менее это было так, гражданин комиссар, – Шарль Вильбоа устало прикрыл глаза. – О чем я свидетельствую и требую занести мои слова в протокол с наивозможнейшей точностью.
Его голос звучал тихо, но твердо. Гражданин Сименон засопел и неуверенно поглядел на исписанный лист.
– Итак, вы утверждаете, госпо… э-э-э… гражданин Вильбоа, что после вышеозначенной встречи с неизвестной личностью в вышепоименованном заведении, известном как «Прокоп», вы взяли фиакр и направились на упомянутое вами кладбище Дез-Ар…
Шарль Вильбоа очнулся вчера, на третий день после случившегося. И вот сегодня его навестила весьма представительная делегация. Кроме усатого комиссара и моей скромной персоны, в палате присутствовала гражданка Тома, невозмутимо пристроившаяся в углу. Гражданин д'Энваль, сюда не допущенный, в эти минуты мерил шагами больничный коридор.
– …На оном кладбище вы заметили следы на снегу, проследив которые вы попали в склеп семейства д'Арманвилей. В упомянутом склепе внимание ваше привлек обнаженный труп особы, в которой вы узнали…
Бледные губы дернулись.
– Мне тяжело еще раз вспоминать это, гражданин комиссар. Давайте я подпишу…
Вновь послышалось сопение. Гражданин Сименон медленно поднялся и протянул протокол вкупе с пером. Мы помогли Шарлю приподняться, и под бумагой появилась его аккуратная подпись.
– В этом случае…
Гражданин Сименон бросил хмурый взгляд в мою сторону. Я сочувственно вздохнул.
– В этом случае, – желтые прокуренные усы стали торчком, – да, я вынужден прекратить это дело, черт меня дери!
– Не надо повышать голос! – Очки гражданки Тома сверкнули. – Здесь больной, гражданин комиссар!
Очевидно, гражданин Сименон учел это обстоятельство, поскольку рык, им изданный, звучал еле слышно.
– Да! Я вынужден закрыть это дело по причинам, никак не связанным с объективным ходом вышеизложенного расследования…
Я стоически выдержал новый выразительный взгляд, брошенный в мою сторону.
– Однако же, госпо… граждане, как лицо частное, вынужден заявить, что ваши показания есть не что иное, как ложь, направленная на сокрытие имевших место быть фактов. Вы лгали, дамы и господа!
– Даже я? – невинно осведомилась гражданка Тома.
Гражданин комиссар вновь обиженно засопел:
– Сударыня… То есть гражданка! Смею вам напомнить, что на допросе девятого фримера, то есть вчера, вы изволили показать, что характер ранения вышепоименованного гражданина Вильбоа допускает возможность нанесения оного ранения самим присутствующим тут господи… Тьфу ты, прости господи, гражданином. Однако же вызванные для обследования имевшего быть ранения граждане Адаль и д'Асси, члены Коро… тьфу! – бывшей Королевской медицинской академии, показали обратное. Эту рану гражданину Вильбоа нанес кто-то иной, о чем имеется соответствующее заключение.
Гражданка Тома невозмутимо сняла очки и принялась их тщательно протирать. Комиссар вновь вздохнул – на этот раз уныло – и грузно приподнялся.
– Граждане! – жалобно произнес он. – Но так ведь нельзя! Взываю к вашим чувствам верноподданных Его… О господи, я хотел сказать, к гражданским чувствам! Вы покрываете преступников, кои…
– Карать уже некого, – тихо проговорил Вильбоа. – Пусть будет все как есть, гражданин Сименон…
Комиссар помотал головой и, тяжело ступая, направился к выходу. У двери он внезапно остановился.
– Вы думаете, что горазды полицию обманывать, молодые люди? – произнес он, не оборачиваясь. – Я в полиции, дамы и господа, уже третий десяток лет! Думаете, я крестик не заметил?
Пустив эту парфянскую стрелу, он с тяжелым вздохом вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь.
– Не понимаю! – гражданка Тома пожала плечами. – Какой еще крестик?
Мы с Вильбоа переглянулись.
– На шее бедной мадемуазель Араужо был крестик, – негромко напомнил я. – Если бы тело переносили…
Я хотел добавить об отрубленной голове, но не решился. Бледные губы больного на миг искривились гримасой. Девушка вновь пожала плечами:
– Все равно не понимаю… И вообще вести подобные разговоры в присутствии больного считаю совершенно излишним! Так что, гражданин Люсон, пожелайте гражданину Вильбоа скорейшего выздоровления – и прошу на улицу!
Решив не спорить, я наклонился над кроватью. Вильбоа улыбнулся краешком губ:
– Спасибо… Вы зайдете ко мне?
Я кивнул – нам было о чем поговорить. Сегодня я успел в лечебницу за полчаса до комиссара и сумел изложить Шарлю нашу версию случившегося. Но мы оба знали, что желтоусый гражданин Сименон не так уж далек от истины…
В коридоре ко мне тут же бросился истомившийся ожиданием гражданин д'Энваль. Я улыбнулся:
– Ведайте истину, друг мой! Отныне ржавые цепи не грозят гражданке Тома! Ее не ввергнут в сырую темницу…
– Шутите? – Взгляд индейца был полон укоризны. – Разве можно смеяться над любовью, которая… О-о, сколь горьки ваши насмешки!.. Значит, следствие окончено?
Я кивнул, и гражданин д'Энваль облегченно вздохнул.
– Друг мой! – торжественным тоном проговорил он, но я предостерегающе поднял руку:
– Следствие окончено, и не будем больше об этом. Гражданка Тома сейчас у больного. Лучше, если мы подождем ее на улице.
Гражданин д'Энваль не возражал, и мы покинули больницу. Я был не прочь кое-что узнать у индейца, но ему, похоже, было не до меня. Я даже позавидовал – хорошо, когда чье-то лицо для тебя сияет, словно солнце…
Гражданка Тома не вышла, а буквально выбежала на улицу, поправляя шляпку, которую она сегодня надела вместо своего лапландского чудовища. Гражданин д'Энваль бросился навстречу, но девушка махнула рукой:
– Альфонс! Мне некогда вас выслушивать! У меня важный консилиум, я опаздываю, а вы даже не догадались поймать фиакр! Ага, кажется, вот он!
Она бросилась вперед, оставив бедного Альфонса с широко открытым ртом. Я покачал головой, но решил не усугублять ситуацию. Проводив глазами экипаж, молодой человек вздохнул:
– Мне в Тюильри, гражданин Люсон. Но в отличие от Юлии я совершенно не спешу. Мы могли бы с вами прогуляться до Нового Моста.
Это полностью совпадало с моими планами. Однако гражданин д'Энваль был явно не расположен к беседе, и, чтобы отвлечь его от меланхолии, я напомнил о нашем последнем разговоре.
– А! – вспомнил он. – Я обещал вам рассказать о моем дяде! Извольте, хотя мысли мои сейчас, признаться, далеко… Однако же…
Мне было, честно говоря, тоже не до его семейных воспоминаний, но я решил дать индейцу выговориться. Спросить о нужном я еще успею.
– В тот день, друг мой, мы вели беседу о народных преданиях, кои суть истинное сокровище, завещанное нам предками. Сколь велико это сокровище, о-о! Вы, как понял я, человек скептический, далекий от истинного восторга…
Я не очень понял, что есть упомянутый «восторг», но был вынужден согласиться. Далек – и весьма.
– Вы не верите… Знаете, друг мой, неверие – один из страшных плодов, выросших на древе Старого Порядка. Грех аристократии не только в гордыне. Они виновны и в том, что лишили народ истинной Веры…
– В домовых? – не удержался я.
Ответом была горькая усмешка.
– Знаете, друг мой, вы рассуждаете так же, как моя Юлия. О-о, как трудно, как тягостно бывает мне иногда! Сколь нелегко нам понять друг друга! Неверие ничуть не лучше суеверия!
– Дядя, – напомнил я.
– Дядя… Да, то, что я вам расскажу, поведал мне он. Но истинным героем той давней и поистине удивительной истории был мой дед, Огюст д'Энваль. В те годы он служил королевским егермейстером в Нормандии…
День десятого фримера выдался солнечный и неожиданно теплый. Идти по тихой, залитой солнцем улице было приятно, и я впервые подумал, что этот город можно полюбить. То спокойный, то похожий на карнавал, красивый, не сходный ни с одним городом в мире… Жаль, что я попал в него слишком поздно…
Я слушал своего спутника вполуха, а он, увлекшись, рассказывал о своем деде – великом охотнике, знатоке тайных троп и звериных повадок. Дядя моего индейца – Николя д'Энваль – пошел по стопам отца, и они вместе проводили целые месяцы на диких пустошах у Руана. Но двадцать лет назад им пришлось покинуть Нормандию. Его Величество Людовик XV повелел своим егермейстерам отправиться в далекую Овернь…
– Вы, наверно, уже поняли, друг мой, – тихо проговорил д'Энваль. – Я хочу рассказать вам о Жеводанском Волке. Или о Звере – как называл его дед. Наверно, вы уже слыхали досужие сплетни об этой истории. Но мне ведома истина!
Я еле удержался, чтобы не пожать плечами. Жеводанский Зверь… Да, что-то такое я слыхал. Кажется, какой-то волк нападал на людей…
Слушать охотничьи байки не хотелось, но я не перебивал. Все равно, гражданин индеец ответит мне сегодня на некий вопрос. А пока можно послушать и о Звере…
Мои предположения оправдались. Отец и сын д'Энвали отправились в Овернь, чтобы убить гигантского волка, который уже успел погубить более сотни крестьян. За чудище была обещана огромная награда, его выслеживали, посылали против людоеда целую драгунскую роту, но жертвы множились, а Зверь оставался неуловим…
– Мой дед был опытным охотником, гражданин Люсон. Он первый догадался, что у Зверя есть постоянное логово. Три месяца они с дядей обходили овернские леса, и наконец следы привели их к маленькой деревеньке Бессейр недалеко от Жеводана… И там они встретили его…
– Волка? – поинтересовался я, чтобы поддержать разговор.
– Нет. Антуана Шастеля.
Сказано это было таким тоном, будто речь шла о самом Враге рода человеческого. Впрочем, Антуана Шастеля, лесничего и смотрителя охотничьих угодий, за глаза так и называли – Дьяволом. По слухам, в прошлом Дьявол был пиратом. Поговаривали также, будто смотритель много лет прожил у берберов, которые посвятили его в колдовские тайны. Странный, нелюдимый, он целыми неделями пропадал в Теназейрском лесу. И как только странный лесничий уходил в очередной обход, возле Жеводана появлялся Зверь.
Огюст д'Энваль почуял неладное, но Дьявол не пожелал встречаться с королевским егермейстером. Он исчез в лесной глуши, а на следующий день Зверь убил двух женщин, которые спешили на ярмарку…
Вдали показался Новый мост, блеснула под солнцем серая гладь Сены, и я понял, что следует поторопить гражданина д'Энваля-младшего.
– Итак, сей Антуан Шастель был оборотнем?
– Не верите? – усмехнулся индеец. – Король тоже не поверил. Он отозвал деда и прислал взамен де Ботерна, полковника артиллерии. Он бросил против Зверя целую армию. С пушками…
– Ну и? – История наконец меня заинтересовала.
– Де Ботерн убил большого волка и даже получил награду. Но Зверь продолжал нападать. Это длилось еще два года. Тогда мой дед вместе с дядей вновь приехали в Бессейр. Они уговорили крестьян устроить облаву. Зверь был убит…
– Аминь, – присовокупил я.
– …Его убил Шастель-старший, отец смотрителя. Убил серебряной пулей. Зверь погиб, и с тех пор никто не видел Антуана Шастеля по прозвищу Дьявол.
Я улыбнулся. Понравилась не столько сама байка, сколько тон, которым она рассказана. Парень верил – и это было забавно.
Д'Энваль внимательно поглядел на меня и покачал головой:
– Странно, гражданин Люсон. Вы мне не поверили…
– Не вам, – вновь улыбнулся я. – Вашему дяде. Наверно, он был изрядный шутник.
– Значит, вы тоже шутили, когда рассказывали о Мишель Араужо?
От неожиданности я остановился. Гражданин д'Энваль взглянул мне прямо в глаза:
– В ту ночь, у кладбищенской стены, вы встретили девушку, которая была уже три дня мертва. Это правда?
Я медлил. В конце концов, было темно, я мог обознаться…
– Да. Это правда.
– Юлия верит только в науку. О-о, сколь она заблуждается! Я знаю – наука не может объяснить все. Она не может объяснить даже то, что люди видят своими глазами.
Я не нашелся, что ответить. Индеец был прав. Я видел погибшую девушку, и она казалась мне живой. Он видел меня – живого…
– Вы больше ничего не хотите рассказать мне, гражданин Люсон?
Парень не отводил взгляда. На мгновение я заколебался, но тут же понял – не стоит. Возможно, молодой индеец – единственный, кто поверит мне. Но это ничем не может помочь. Скорее напротив…
Я заставил себя усмехнуться и не торопясь направился дальше. Д'Энваль мгновение помедлил, а затем молча последовал за мной. Мы перешли мост и вновь остановились.
– Мне сейчас прямо, – индеец кивнул в сторону широкого бульвара. – Вам направо… Кстати, будет время, заезжайте в гости. Я живу на улице Вооруженного Человека. Очень современное название, правда? Найти меня легко, там есть единственный четырехэтажный дом, его называют Дом советника Клюше… Приятно было побеседовать, гражданин Люсон!
– Взаимно, – кивнул я. – Кстати, никак не могу припомнить… Откуда это? «Давно мне ведом терпкий вкус греха…»
– Как? – удивился он.
Я улыбнулся как можно беззаботнее:
– Какой-то монолог. «Давно мне ведом терпкий вкус греха, и пропасть черную уж зрю издалека…»
– «Черны грехи мои, но злато облаченья меня слепит и гонит прочь сомненья», – кивнул д'Энваль. – Монолог кардинала Лотарингского. «Карл IX», акт первый. Сочинение гражданина Мари Шенье.[25] Из-за этого все и случилось…
Я вопросительно поглядел на него. Молодой человек пожал плечами:
– Неужели не слыхали? Четыре года назад гражданин Шенье представил эту пьесу в Королевский театр. Смею заметить, пьеса слабая, и часть актеров отказалась играть. Тогда гражданин Тальма обвинил их в измене народу и Революции. Этих бедняг назвали «черной эскадрой»…
– Да, помню…
Я ничего не знал об истории с пьесой Шенье, но о «черной эскадре» упомянул бедняга Вильбоа. «Черная эскадра», брошенная в тюрьму Маделонет…
– Гражданин Тальма добился постановки и доказал свой истинный патриотизм. О-о, сей гражданин – настоящий патриот!..
Теперь, когда речь не шла о Духе Перемен и о ненайденных «Илиадах», гражданин д'Энваль разговаривал почти как обычный человек. Симпатичный парень, начитавшийся какой-то ерунды…
– Говорят, именно Шенье и Тальма потребовали от Конвента арестовать этих бедняг, – тихо проговорил индеец. – Не знаю… Я знаком с Шенье, он и его брат – очень честные люди, но Мари мнит себя новым Корнелем… Ну а Тальма… Бог ему судья!
Мы расстались, и я долго бродил по набережной, бездумно глядя на спокойную речную гладь, по которой неслышно скользили низкобортные черные баржи. Возвращаться в гостиницу под неусыпный надзор мадам Вязальщицы не тянуло. Впрочем, достойная гражданка, скорее всего, еще не вернулась с площади Революции, куда привезли очередную «связку». Людей считают «связками» – аристократов, лионских горожан, крестьян Вандеи, актеров Королевского театра… Что я мог сделать? Пока был жив, я пытался…
Холодный ветер внезапно ударил в лицо. Я остановился, посмотрел вверх на голубое безоблачное небо и горько усмехнулся. Обман! И тут обман! Неверная лазурь скрывает истинное Небо – серую неровную твердь, куда мне не было доступа…
Оставалось найти ближайшую книжную лавку, купить патриотическую пьесу гражданина Шенье и разобраться с цифрами на пергаментной бумаге. Да, это надо было сделать, но что-то не давало покоя, как тогда, после встречи с несчастным Шарлем Вильбоа.
Я медленно шел по набережной и перебирал события последних дней. Нет, ничего особенного не произошло. Правда, беспокоило молчание моих добрых «друзей» Амару и Вадье. Да и с де Батцем следовало что-то придумать… Но не это смущало. В конце концов, не поздно исчезнуть, вписать новое имя в пустом бланке гражданского свидетельства…
Я горько усмехнулся. Одно фальшивое имя вместо другого!.. Нет, не это главное. Главным были слова старой монахини, которые все эти дни не давали покоя. Сестра Тереза поняла, что со мною что-то не так. Через ее руки прошли тысячи больных, ее трудно, невозможно обмануть. «Вам надо к врачу, сын мой!» Она поняла, что я болен. Болен – но не мертв!
Я вновь остановился, почувствовав, как бешено забилось сердце. А если она права? Почему я так уверен, что там, у лионской дороги, глаза открыл мертвец, которого не пустили на Небо? Мне кажется… Нет, я это чувствую! Но ведь чувствам не всегда можно верить, люди сходят с ума, теряют рассудок, и тогда им мнится такое, что не привидится в самом жутком кошмаре!
Сестра Тереза права. Кто бы я ни был, мне нужно знать правду. К врачу? Почему бы и нет? Конечно, не к такому коновалу, как гражданин Леруа из роты Лепелетье. Но ведь есть другие! Например, курносая девушка в очках, которая не боится проводить ночи на старом кладбище…
Гражданка Тома долго всматривалась, затем сняла очки и покачала головой:
– Только не говорите, что вам опять надо искать кого-то на нашем любимом кладбище! С меня вполне хватит и одного раза!
Я ждал ее у старой часовни не менее часа. Девушка появилась, когда вокруг уже стояли ранние синие сумерки.
– Вы почти угадали, – улыбнулся я. – Некий страждущий опять нуждается в вашей помощи, Юлия.
Взгляд, брошенный в мою сторону, способен был испепелить.
– Если вы ждете, что в ответ я буду называть вас Франсуа, то напрасно! И если вы вздумаете вручить мне букет, который прячете за спиной…
Я подал ей лиловые астры и развел руками. Несколько секунд я ждал, что цветы полетят мне прямо в лицо, но гражданка Тома ограничилась новым, не менее выразительным взглядом.
– А теперь объясните, как все это следует понимать, гражданин Люсон?
«Мадемуазель!» – хотел начать я, но вовремя прикусил язык.
– Гражданка Тома! Эти астры считайте своеобразным извинением за доставленные вам неприятности. А также за те, которые я могу доставить впредь.
– Уже доставили. – Девушка повертела в руках букет и покачала головой: – Гражданин «аристо»! У меня нет времени на подобные любезности. Я пришла работать… Впрочем, за цветы – спасибо. Хотите зайти… Франсуа?
Приглашение в мертвецкую было сделано самым светским тоном. Не подав и виду, я поклонился, после чего Юлия достала ключи, и мы занялись замком. Наконец ржавый металл поддался, и мы оказались в знакомом полумраке.
– Сейчас зажгу свет…
Девушка долго возилась с лампой, после чего мы прошли внутрь. Знакомые столы, тела под белыми простынями, еще один стол – на этот раз пустой. И – огромные лейденские банки, соединенные толстыми проводами. Смотреть лишний раз на покойников, «имеющих временное пребывание», не тянуло, и я занялся гальванической батареей. Между тем девушка зажгла еще две лампы, и в мрачном помещении стало немного светлее.
– Ну вот! – Юлия развела руками. – Мой персональный Аид. Мертвецкая там, за дверью, а здесь пребываю я и те, с кем мне интересно. Сегодня двое новеньких… А посему, гражданин Люсон…
– Франсуа, – напомнил я.
Она поморщилась:
– Сначала цветы, потом этакая фамильярность… Нет, мне не нравится!
– Тогда – Франсуа Ксавье, – предложил я.
Она пожала плечами:
– Хорошо. Итак, Франсуа Ксавье, свое любопытство, которое, похоже, и привело вас сюда, вы уже удовлетворили, а посему…
– Еще минуту! – я поднял руку. – Гражданка доктор, некий страждущий действительно нуждается в помощи. Или по крайней мере во врачебном совете.
– Я принимаю по вторникам, средам и пятницам с десяти утра в клинике бывшей Королевской академии. Скажите своему страждущему…
– Он перед вами.
Очки блеснули.
– Если за этим последует очередная пошлость…
– Мадемуазель! – подхватил я. – Мое сердце, э-э-э, стр-р-радает и р-р-разрывается… Нет, Юлия, к сожалению, я не шучу.
Девушка быстро подошла ко мне, крепкие пальцы обхватили запястье, рука легла на лоб.
– Не выдумывайте! Пульс нормальный, температуры нет. Если вас мучит ревматизм…
– Глаза, – подсказал я. – Помните, вы говорили?
– У вас что-то со зрением? Помнится, сегодня утром вы были в очках…
Собираясь в лечебницу Урсулинок, я действительно надел фальшивые очки. Конечно, предназначались они не для Юлии, а исключительно для гражданина Сименона.
– Роговица глаза, Юлия. Посмотрите!
– Боитесь катаракты? Ладно, идите к свету…
Осмотр длился долго. Я терпеливо ждал, стараясь не моргать. Странно, я не волновался. Обычный врачебный осмотр. Почему-то вспомнился пустой стол у меня за спиной…
– Травмы были?
– Что? – растерялся я.
– Травмы, – нетерпеливо повторила она. – Черепные… Вам не понятно?
Я замер. Значит, старая монахиня права! Или…
– Контузия, – я вспомнил лионскую дорогу и растерянных парней в синей форме. – Кажется…
– Головные боли? Потеря памяти?
Внезапно все вокруг начало расплываться. Знакомая серая пелена окутала часовню, свет ламп померк, превратившись в странное желтоватое пятно…
– Сядьте! Да садитесь же!
Я открыл глаза и сообразил, что сижу на неудобном деревянном табурете. Юлия стояла рядом, протирая очки.
– Часто бывает такое?
– Н-нет! Дело не…
– Позвольте об этом судить специалисту!
Девушка надела очки, пододвинула другой табурет – на этот раз трехногий – и аккуратно присела на краешек.
– Давайте так, Франсуа. Мы встретимся завтра, и вы мне подробно все расскажете. Наверно, вам придется обратиться к кому-нибудь более сведущему, чем я…
Теперь она говорила совсем иначе – мягко, спокойно. Я понял – она говорила с больным. С больным?
Лампы вновь горели ярко, серая пелена исчезла, пропала слабость. Я встал:
– Дело не в этом, Юлия. Скажите, я – жив?
– Идите к черту!
Девушка вскочила, опрокинув табурет.
– Вы – истинный мужчина! Гордыни, претензий – на миллион, а как что-то заболит… Можете успокоиться, умрете вы весьма не скоро! Завтра приходите в больницу академии к десяти, а сейчас убирайтесь и не мешайте работать!
Я не обиделся. Стало ясно – она тоже слепа. Напрасно я затеял все это! Ей не увидеть! Даже сестре Терезе – и той не дано понять все до конца. Несчастный безумный священник – вот кто разгадал меня. Ему не мешал разум – наш горделивый разум, пытающийся все объяснить, свести к очевидным причинам…
– Извините, Юлия! – я постарался улыбнуться как можно более виновато. – Но я предупреждал заранее о неприятностях…
Девушка быстро взглянула на часы и покачала головой:
– Все! У меня нет больше времени! Можете уходить, можете оставаться, но я буду работать!
Она решительным шагом направилась к ближайшему телу, укрытому белой простыней. Миг – и простыня взлетела в воздух. Гражданка Тома быстро оглянулась, схватила лежавший на табурете фартук и, накинув его, осторожно прикоснулась к голове мертвеца.
– Вы еще здесь? – бросила она немного насмешливым тоном. – Убирайтесь, гражданин Люсон, а то ненароком в обморок упадете!
Это был вызов. Впрочем, принять его было просто. Я не боялся. Перед ней лежал мертвец. Мертвый человек, такой же, как я…
– Один раз я сдуру притащила сюда Альфонса. Он хотел писать какую-то пьесу – чуть ли не про вампиров. Хорошо, что у меня была здесь нюхательная соль! Больше подобных опытов я не провожу.
– А какие проводите?
Я подошел ближе. На деревянном, обитом цинком столе лежал старик – худой, желтый, с пальцами, изуродованными ревматизмом.
Доктор Тома вздохнула:
– Все-таки решили мне мешать! Прежде всего я произвожу вскрытие. Естественно, не всех, а тех, кого мне позволяют. На этом кладбище хоронят бедняков – за счет Коммуны, и эти граждане в полном моем распоряжении. А вообще-то я изучаю посмертные изменения. Эту работу начал отец… Вы как, еще стоите на ногах?
Она быстро осмотрела мертвеца и вновь накрыла его простыней.
– Ну, здесь ничего интересного… Альфонс, бедняга, хотел набраться впечатлений. Я предложила ему ассистировать при вскрытии…
Она засмеялась, и я пожалел бедного индейца.
– Ладно, посмотрим, что тут…
Белая простыня вновь взлетела вверх. Девочка – лет десяти. Синеватые губы чуть раскрыты, на лице застыла гримаса боли. Я вздохнул. Похоже, мой вздох был услышан.
– Что, уже? Это вам не сказки сочинять об отрубленных головах, разговаривающих в корзине гражданина Сансона! Стойте!
Я замер. Девушка схватила зеркальце, приложила к губам несчастной, затем долго держала руку на запястье.
– Нет… Но что-то тут не так!
Она подняла худую ручонку той, что лежала на страшном столе, подержала, затем осторожно опустила.
– Окоченения нет! Франсуа!
Я понял – и шагнул к ней. Юлия закусила губу, несколько мгновений размышляла, затем решительно кивнула:
– На стол! На тот, где батарея! Помогите!
Я не колебался. Вдвоем мы подняли несчастную и осторожно перенесли в глубь часовни, уложив на большой деревянный стол, возле которого я заметил многочисленные провода и какие-то стальные предметы, похожие на большие гвозди.
– Вы сможете привести в действие батарею?
Вопрос застал меня врасплох. Я покачал головой.
– Ну вас к черту! – Юлия застонала от нетерпения. – Какая от вас польза? Я что здесь, единственный мужчина?
– Сейчас – да, – согласился я. – Поэтому прежде всего сохраняйте спокойствие.
– И это вы мне говорите?!
Яростно блеснув стеклами очков, она направилась к батарее темных стеклянных сосудов и принялась быстро откручивать какие-то краны, подключать провода.
– Не понимаю! – она отступила на шаг, плечо дернулось. – Какого дьявола?!
– Не волнуйтесь, – повторил я. – Сейчас заработает…
Ее рука схватила лежавшие возле стола плоскогубцы, и мне показалась, что ими сейчас запустят прямо мне в голову. Но Юлия ограничилась тем, что топнула ногой и принялась возиться с каким-то хитрым переплетением проводов. Внезапно послышался негромкий низкий гул. Ударила искра – и в воздухе резко запахло озоном.
– А вот теперь действительно надо успокоиться.
Она повернулась ко мне и внезапно улыбнулась:
– Нужно несколько минут… Хотите, расскажу, как все началось?
Я кивнул. Юлия оглянулась, взяла толстые резиновые перчатки и принялась неторопливо надевать.
– Отец хотел быть детским врачом. Но однажды – он тогда только начинал учиться в Королевской академии – ему пришлось нанести визит своему дядюшке. Тот был, представьте себе, епископом в Мо. Не бывали? Маленький такой городишко… В тамошнем соборе хранятся мощи святого Адильберта. Дядюшка, естественно, не утерпел и сводил туда моего отца. И представьте себе…
Батарея уже искрила вовсю. В воздухе стоял низкий ровный гул. Юлия быстро оглянулась:
– Уже скоро… Так вот, сей святой при жизни был величайшим грешником. Однако когда наконец упокоился в грехах и его принялись отпевать, то грешник внезапно поднялся во гробе и начал повторять слова литургии. Потом лег во гроб и оставался нетленен еще двадцать дней, пока его не похоронили в крипте собора…
– Беднягу похоронили заживо, – понял я.
– …И причислили к святым. Типичная каталепсия! Отец заинтересовался, ну и… Так что я имею полное право считать святого Адильберта своим покровителем… Ну, пора!
Она осторожно поправила какие-то проводки, затем взяла в руки то, что я принял за гвоздь, – острый стальной штырь, соединенный проводом с одной из лейденских банок. Внезапно я вспомнил то, что совсем недавно видел на сцене. Асклепий, сын Громовержца, воскрешает Ипполита. Тогда тоже сверкали молнии…
Юлия поднесла стальное острие к груди той, что неподвижно распростерлась на деревянном столе. Удар! Из стального жала полыхнула белая искра, и в тот же миг тело вздрогнуло, словно марионетка, которую дернули сразу за все веревочки. Спина прогнулась, задрожали руки…
Юлия бросилась к телу, наклонилась…
– Нет… Еще!
Снова удар. Страшная нескладная марионетка, казалось, пытается подняться, встать. Но как только стальное жало оторвалось от груди, тело вновь замерло.
– Но почему? – Юлия поглядела на меня, словно надеясь найти помощь. Я заметил в ее глазах растерянность, даже отчаяние.
– Еще раз, – предложил я.
Она кивнула и вновь взялась за Асклепиев жезл.
Удар! Голова девочки мотнулась в сторону, и внезапно синие губы дрогнули…
– Есть!
Юлия наклонилась над телом, затем облегченно вздохнула:
– Сердце… Кажется, получилось!
Она вновь склонилась над девочкой и принялась резкими движениями массировать грудь. Губы лежавшей на столе вновь шевельнулись, послышался тихий стон. Дрогнули веки…
Я стоял, не решаясь двинуться. То, что совсем недавно казалось нелепой сказкой, теперь происходило наяву. Курносая девушка в нелепых очках бросила вызов Смерти. Бросила – и… победила?..
– Помогите! – Юлия вытерла вспотевший лоб. – Надо продолжать массировать сердце.
Я сбросил оцепенение и подошел к столу. Когда я прикоснулся к груди той, что совсем недавно казалась трупом, то ощутил легкое тепло. Девочка жила!
– Сильнее! – Юлия нетерпеливо притопнула ногой. – Сильнее и резче! Вот так!
Через минуту девочка вновь застонала. Юлия провела рукой по ее лицу, приподняла веко…
– Что-то не так… Отойдите!
В ее голосе теперь слышалась тревога. Я повиновался, и девушка вновь склонилась над той, которую пыталась вырвать у Смерти. Прошла минута, другая…
– Нет… – Юлия растерянно взглянула на меня. – Сердце остановилось…
– Батарея! – напомнил я. – Скорее!
Она кивнула и вновь взялась за свой волшебный жезл. Удар! Еще! Белые искры били в недвижное тело, заставляя его дергаться на холодных деревянных досках, но я уже понял – чудо не свершилось. Смерть, на миг отпустившая свою жертву, вновь явилась, чтобы взять свое. Наконец Юлия отложила бесполезный жезл, долго слушала пульс и вдруг тихо застонала.
– Но почему? Почему! Я все делала правильно!
Внезапно я понял, что она плачет. На миг это поразило меня даже больше, чем все виденное, но я тут же опомнился.
– Юлия, успокойтесь!
Я обнял ее, девушка вновь застонала, всхлипнула:
– Я все делала правильно! Почему? Господи, почему?!
Ответить было нечего. Вернее, у меня было что сказать, но едва ли бы это помогло. Гальваническая батарея и стальной стержень – слабое орудие против Силы, которой Юлия попыталась бросить вызов.
– Вы сделали все, что могли… – начал я, но девушка резко мотнула головой:
– Нет. Я в чем-то ошиблась! Эта девочка могла бы жить! Понимаете? Жить!
– Понимаю.
– Ни черта вы не понимаете! – Юлия рванулась, подбежала к батерее и резким движеним дернула какой-то рычаг. Гул стих, мелькнула последняя искра, и в часовне наступила тяжелая, вязкая тишина. Я подошел к мертвой девочке и укрыл тело простыней.
– Вы курите? – резко бросила Юлия. – Конечно, курите! Дайте одну папелитку и убирайтесь. Мне нужно работать!
Я достал из кармана коробочку с папелитками и вдруг понял – гражданке Тома нельзя оставаться здесь. Какой бы железной ни казалась мадемуазель доктор, она всего лишь двадцатилетняя девушка, которая может изображать бесстрастного ученого перед гражданином Альфонсом д'Энвалем, но не передо мной. Сейчас я уйду, и Юлия останется одна наедине с телом той, которую не удалось спасти…
– Гражданка Тома, у вас есть часы?
Часами я так и не обзавелся. Девушка порылась в кармане пальто и сунула мне серебряный брегет.
– Собирайтесь! Как раз успеем на второй акт…
Она не поняла, но я уже направился к ближайшей лампе.
– Что вы делаете?
Я погасил фитиль.
– Снимайте фартук, и поехали. Саквояж можете оставить здесь. Где замок?
– Но…
Погасив лампы, я вытащил Юлию наружу и занялся замком.
– Куда… Что вы себе позволяете? – возмутилась наконец девушка, но я крепко взял гражданку Тома за руку и потащил к выходу.
– Пустите! – рванулась она. – Вы… Я…
– Мы едем в Оперу, мадемуазель! И не вздумайте спорить!
– Какую еще Оперу? Никуда я не поеду!
На полутемной сцене недвижно застыли шеренги закованных в латы афинян. Завтра – бой. Горстка эллинов бросает вызов полчищам Дария. Позади – родной город. Нельзя потерпеть поражение, нельзя погибнуть – надо только победить…
Хор пел негромко, но постепенно голоса крепли, и музыка заполняла зал. В слова я не вслушивался, да они были и не важны. Те, кто завтра выйдет на Марафонское поле, бросают вызов не просто персидским полчищам. Они бросают вызов самой Смерти – безнадежный, отчаянный, но они верят в победу, поскольку верить больше не во что…
Патриотическая опера граждан Гийара и Лемуана «Мильтиад при Марафоне», проигнорированная мною несколькими днями ранее, оказалась не так и плоха. Отсутствие сюжета и барабанная риторика с обязательным упоминанием «Республики» и «Свободы» почти не замечались благодаря чудесам, творимым актерами. Да и музыка была хороша – неожиданно сильная, сдержанная, она впечатляла, заставляя сопереживать тем, кто был на сцене. Наверно, почтенные авторы думали восславить нынешних «Мильтиадов», просиживающих кресла в Конвенте. Но я думал о вандейских крестьянах, сражавшихся, чтобы не пустить «адские колонны» генерала Россиньоля к родным очагам, о мальчиках из армии Конде, умиравших под белым знаменем с золотыми лилиями, и о Лионе. Сколько же мы дрались? Четыре месяца? Больше? Без боеприпасов, без провизии, без надежды…
Юлия застыла в кресле, молча глядя на сцену. Я не был уверен, что она обращает внимание на нюансы творения граждан Гийара и Лемуана. Наверно, у нее перед глазами стояло лицо бедной девочки, успевшей вздохнуть, может быть, даже увидеть неяркий свет ламп в старой часовне – и вновь уснувшей, уже навеки. Я понимал, что Юлии сейчас больно, но пусть лучше она переживет эту боль здесь, в странном фантастическом мире Оперы, чем среди обитых цинком столов. Вряд ли я заслужу благодарность… но это не так и важно.
Хор уже гремел, огни горели ярче, отражаясь в стальных латах, над горизонтом медленно разгоралась заря. Скоро утро – утро последнего боя…
И тут я почувствовал легкое прикосновение. Вначале я подумал о гражданке Тома, но та по-прежнему глядела на сцену, не обращая на меня ни малейшего внимания. Я скосил глаза и заметил сложенный веер. Кто-то незаметно вошел в ложу и теперь стоял сзади – тихо, стараясь не дышать. Впрочем, я уже догадывался – кто. Встав, я осторожно повернулся. Бархатная Маска приложила палец к губам и кивнула на дверь.
В широком коридоре было пусто. Моя таинственная знакомая быстрым движением сняла маску, улыбнулась и протянула руку:
– Добрый вечер, гражданин!
На ней было все то же роскошное платье – и по-прежнему ни одного украшения. Я улыбнулся:
– Добрый вечер, гражданка! Я сегодня не один…
– Не страшно.
Она оглянулась, затем заговорила быстро и тихо, почти шепотом:
– Вы должны увидеться с де Батцем и уговорить его покинуть Париж. Его показания в Конвенте повредят Республике.
Я еле удержался, чтобы не хмыкнуть. Почему-то я так и думал. Только вместо «Республика» следовало назвать вполне конкретное имя.
– Вот документы. Его пропустят до границы.
В мою руку лег конверт из плотной бумаги. Я молча кивнул.
– И еще… Ваш друг просил передать…
Лицо ее изменилось, другим стал голос. Мне вновь показалось, что со мной говорит кто-то иной.
– «Гражданин! Не верь ложным друзьям Свободы! Предатели ищут предателя – не стань же предателем сам! Прощай!»
На этот раз «друг» перестарался. Шарада вышла слишком затейливой. Я хотел переспросить, но незнакомка улыбнулась и протянула руку:
– Удачи, гражданин Шалье!
Не успел я поинтересоваться, в чем именно, как она уже исчезла.
– Вероятно, вы собирались в Оперу с той дамой?
Оказывается, гражданка Тома оказалась куда более наблюдательной, чем мне думалось. И теперь, когда мы покидали огромное, сияющее огнями здание, не преминула поинтересоваться. Не став переспрашивать: «С какой именно?», я вовремя вспомнил гражданина индейца.
– Темная страсть соединила нас, – сообщил я замогильным голосом. – И она же развела нас по обе стороны зияющей пропасти, имя которой… О-о, это имя!..
– Не паясничайте! – Юлия оттолкнула руку, которую я необдуманно попытался ей предложить, и топнула ногой: – Вы невозможны, гражданин Люсон! Вы настоящий «аристо»!
– Увы, мадемуазель де Тома, – вздохнул я.
Ответом был огненный взгляд, который едва не испепелил меня на месте. Девушка нетерпеливо повернулась:
– Здесь где-то стоянка фиакров… И не вздумайте меня провожать, из-за вас у меня пропал весь вечер! Если вы еще раз придете ко мне на работу, то мигом вылетите за дверь.
Я молча поклонился.
– Да! Я вас непременно выставлю, потому что вы… Потому что вы… В общем, спасибо, Франсуа Ксавье!
Я удивленно поднял глаза. Она улыбалась.
– И не забудьте зайти в больницу академии! Я покажу вас кое-кому из специалистов. Не ухмыляйтесь, когда вы ухмыляетесь, у вас совершенно невозможный вид.
Я и не думал ухмыляться, но спорить, конечно, не стал. «В общем, спасибо…» Признаться, я не рассчитывал и на это…
Давно мне ведом терпкий вкус греха, И пропасть черную уж зрю издалека. Черны грехи мои, но злато облаченья Меня слепит и гонит прочь сомненья…Кардинал Лотарингский был поистине отвратителен – не столько из-за упомянутых грехов, сколько благодаря многословию, которым обильно наделил его драматург-патриот гражданин Шенье. Монолог, в котором перечислялись злодейства уже осуществленные и еще более – задуманные, длился целых три страницы. Дальше читать не стоило. Я отложил книжку и задумался.
Книжек было две. Первая издана в октябре 1789-го, вторая вышла в свет на год позже. В обеих была помещена знаменитая пьеса. Как удалось выяснить в книжной лавке, куда я зашел еще вчера, больше опус Мари Шенье не издавался. Итак, можно было попытаться.
Правда, то, что книжек оказалось две, смущало. В обеих имелись предисловия. Я бегло ознакомился с первым, подписанным «Патриот Красной Эскадры». В нем обличались происки граждан Нодэ и Дазенкура, мешавших постановке революционной пьесы по смехотворным, с точки зрения «Патриота», причинам – из-за ее «якобы» низкого художественного уровня. Как объяснял «красноэскадровец», художественный уровень творения Шенье вообще не имеет особого значения. Сие утверждение подкреплялось фразой самого Камилла Демулена о том, что «Карл IX» двинул «наше дело» больше, чем штурм Бастилии. Итак, «дело» торжествовало, а граждане Нодэ и Дазенкур теперь обживали тюрьму Маделонет.
Второе предисловие написал лично гражданин Мари Жозеф Шенье. Ознакомившись с ним, я узнал, что «в прошлые времена» народ являлся рабом «деспотизма» и несчастные поэты были вынуждены заниматься «лестью и курением фимиама». Зато теперь… Зато теперь автор-патриот, по собственному признанию, «задумал и написал трагедию, которую только Революция могла осуществить постановкой на сцене». Гражданин Шенье скромничал. Чтобы поставить пьесу, понадобилось посадить почти всю труппу Королевского театра!
Я развернул листок пергаментной бумаги. Цифры… Тот, кем я был раньше, скорее всего, воспользовался одним из этих изданий. Вероятнее всего, первым. Впрочем, монолог кардинала Лотарингского не претерпел особых изменений. Итак, если 3 – это «в»…
Через десять минут я вытер вспотевший лоб и разорвал в клочья лист ни в чем не повинной бумаги. Ничего не получалось! Буквы толпились бессмысленным немым строем. Нет, монолог главного советника Карла IX явно не подходил. Тогда что?
Я попытался представить себя на месте того, кем был раньше. Зачем вообще записывать эти несколько строчек? Ничего не стоило выучить их наизусть. Едва ли я, прежний, мог предвидеть, что стану призраком – без памяти, без имени. Значит, я писал не для себя. Предположим, в Париже я мог рассчитывать на чью-то помощь. В таком случае я мог бы передать кому-то этот листок хотя бы для того, чтобы мне организовали встречу. Тот, для кого он предназначался, знает шифр. Скорее всего, такие же книги стоят у него в шкафу. Этим шифром может быть написана не только сия бумага, значит, тому, неизвестному, придется думать, как сохранить тайну. А это нелегко. Допустим, обыск. Агенты гражданина Вадье переворачивают все вверх дном, находят шифрованные записи. Дальнейшее понятно – они попытаются искать ключ во всех найденных книгах. Работа долгая, но агентов у гражданина Вадье хватает. Очередь доходит до опуса гражданина Шенье. Агент, уже усталый и раздраженный, открывает начало пьесы, пытается подставить цифры… И отбрасывает книжку в сторону! Впрочем, если он – человек дотошный, он берется за предисловие…
Оба предисловия – и «Патриота», и самого гражданина Шенье – ничего не дали. Я невольно хмыкнул. Теперь даже самый старательный агент отложит книгу в сторону, чтобы взяться за другую. А между тем…
Я взял первую из книжек и взглянул на обложку. Виньетки, гирлянды, крылатые гении, отчего-то с мечами… А вот и текст! Итак: «Свобода. Равенство. Братство. Мари Жозеф Шенье. Карл IX, или Варфоломеевская ночь. Трагедия в пяти актах и девяти явлениях, поставленная на сцене Королевского театра…»
Перо вновь забегало по бумаге, но на этот раз буквы стали складываться в нечто хорошо знакомое: «Поль Молье, Си…»
Я перевел дыхание, заставив себя успокоиться. Радоваться рано. Еще рано! Возможно, радоваться вообще не придется…
«Поль Молье. «Синий циферблат». Площадь Роз».
Я закурил, ощутив нежданную горечь во рту и невесело усмехнулся. Да, «Синий циферблат». Запись шла первой, значит, была самой важной. Увы, эта дорога закрыта навсегда…
Вторая строчка была короткой и тоже заставила усмехнуться:
«Де Батц. «Фарфоровая голубка».
Сегодня утром я вновь навестил знаменитое кафе и честно просидел там с полчаса, ловя на себе любопытные взгляды. Похоже, мой первый визит не был забыт. Но мерзавец де Батц ничем мне не поможет. Бог ему судья…
Третья строчка. Теперь я спешил, надеясь, что эта дорога мною еще не испробована. Но прочитанное не обрадовало, скорее удивило:
«Пьер Леметр. Альбер Поммеле. Николя Сурда».
Два имени были знакомы – их называл де Батц. Кажется, он упомянул, что Поммеле и Сурда – люди из организации д'Антрега. Но это ничего мне не говорило. Пьер Леметр шел первым, значит, именно к нему мне следовало обратиться вначале. Но я не помнил этих имен. Увы, адреса я – прежний – предпочел не записывать. Возможно, мой предполагаемый помощник знал, как их найти. Нет, этот путь пока закрыт…
Четвертая строчка также удивила. Вначале даже показалось, что я попросту перепутал. Пришлось свериться, убедившись, что никакой ошибки нет:
«Депутат Жак Ножан. Сен-Марсо».
Сен-Марсо! Выходит, прочитай я эту запись еще в дороге, мне не надо было бы покупать нелепые очки, подделывать документы, тратить время на ненужные разговоры и встречи. Достаточно было спросить у лейтенанта Дюкло адрес гражданина депутата…
Папелитка догорела, и я поспешил закурить новую. Нет, не все так просто! То, что неизвестный мне гражданин Ножан оказался в списке, еще не значит, что я найду там помощь. Этот человек был мне нужен, но нужен ли ему я? Нет, спешить нельзя…
Последняя строчка. Я медлил, надеясь, что именно там я найду таинственный «сезам». Несколько букв, скорее всего, фамилия. Свеча уже догорала, когда я наконец вывел первую букву – «Д»…
Нет, сезам не отворился. Фамилия – неизвестная, ничего мне не говорящая – Дюпле. Просто Дюпле – без имени и адреса…
Свеча догорела. Я не стал зажигать новую, хотя следовало еще раз прочесть записи и, запомнив, превратить их в пепел. И эта надежда не оправдалась. Странно, я почему-то не расстроился, словно знал все заранее. Наверно, потому, что давно понял: путь на серое небо не будет легким. Идти придется долго, а я уже устал. Господи, как я устал!..
Ночью дверь бесшумно отворилась – и тень, черная с головы до пят, проскользнула в комнату. Я был готов и, не зажигая света, передал призраку запечатанный пакет. Кажется, он пытался что-то сказать, но мне не о чем было говорить с бароном де Батцем. Дождавшись, пока тень исчезнет, я запер дверь – и забыл о нем навеки…
В этот день Шарль Вильбоа выглядел значительно бодрее. Увидев меня, он весело усмехнулся и отложил толстую книгу in octavo, которую перед этим штудировал.
– Читаете? – Я присел на койку. – Значит, дело пошло?
Его рукопожатие было теплым и твердым. Я окончательно убедился – дело действительно идет на лад.
– Утром принесли, – Вильбоа кивнул на книгу. – Сегодня ко мне начали пускать, и, представьте себе, гражданин Люсон, обнаружилось, что у меня целая толпа друзей…
– Журналисты – люди дружные, – кивнул я.
– Ну… – Шарль развел руками. – То, что забежал Демулен,[26] это еще понятно. Мы с ним действительно приятели. Но Эбер! Впрочем, гражданин Эбер собирается тиснуть статью о том, что я стал жертвой злодейского покушения аристократов…
Тон его мне понравился. Та страшная отчужденность, которую я заметил при нашей первой встрече, исчезла. Шарль, конечно, бодрился, но уже не походил на человека, потерявшего душу.
– Кстати, – глаза парня стали серьезными, – мои друзья собрали денег. Как я понял, кто-то из вашей компании заплатил за мое лечение…
– И эти деньги, – подхватил я, – вы отдадите сестре Терезе для другого больного, у которого с друзьями хуже.
Он на миг задумался, затем кивнул. Я между тем с интересом раскрыл книгу. Она сразу же показалась необычной. Увидев заголовок на латыни и дату издания, я едва удержался, чтобы не присвистнуть.
– Редкая, – понял меня Вильбоа, – 1625 год, издание отцов-иезуитов. Вчера я написал записку приятелю, у него дядя книготорговец…
– «Житие и деяния благочестивых отцов Гильома, епископа Мосульского, и Петра, епископа Памье», – с трудом разобрал я. – Помилуйте, гражданин Вильбоа, что это?
– Ага! Заинтересовались? – журналист приподнялся на подушках и неуверенно оглянулся. – А знаете, гражданин Люсон, я бы попытался встать и прогуляться. Хотя бы по коридору…
Я хотел было возразить, но решил, что парень прав. Он жив – и хочет чувствовать себя живым.
Мы выбрались в коридор и медленно прошли к большому окну, выходящему во двор. Вильбоа остановился и вздохнул:
– Все. Постоим. Так вот, о книге. Я ее когда-то читал… Нет, не читал, просматривал, а сейчас решил изучить основательнее. Написана в начале XIII века достаточно любопытной личностью – кардиналом Ансельмом Орсини, одним из отпрысков этого разбойничьего рода. Отец Гильом – его учитель, а Петр, как я понимаю, близкий друг…
– Гильом – епископ Мосульский? – вспомнил я.
– Интересно, правда? Да, под конец жизни он возглавлял епархию в Мосуле при потомках знаменитого атабека Имадеддина. А вообще сей Гильом – весьма ученая личность, богослов и автор знаменитой в свое время книги о святом Иринее. Но мне куда любопытнее не он, а отец Петр…
Признаться, меня не очень интересовали жития почтенных епископов. Я надеялся узнать у гражданина Вильбоа нечто, касающееся современности, но решил не торопиться. Всегда полезно выслушать собеседника.
– Отец Петр, иначе Петр Нормандец, принял трудную епархию. Памье – это рядом с Тулузой, в те годы – катарское гнездо… Впрочем, меня заинтересовали не катары.
Вильбоа умолк, а я вдруг понял, что разговор этот неслучаен. Шарль куда-то клонит, все это неспроста.
– Кардинал Орсини пишет, что в Памье была смута. Некие демоны нападали на людей, в результате пейзане озверели и взяли замок, где оные оборотни имели место пребывания. Одно из чудищ закололи на месте, после чего голову, как пишет Орсини, «видом ужасную», водрузили на пику…
– И? – не выдержал я.
– И через пару дней сей демон снова явился во плоти! Ну отец Петр провел крестный ход, силы Врага расточились…
Я понял. Шарль Вильбоа и не пытался уйти в седую старину. Демон явился во плоти…
– Там есть объяснение? – вновь не выдержал я.
Шарль покачал головой и усмехнулся:
– Задело? Да, объяснение есть – и прелюбопытное. Но об этом поговорим в следующий раз. А сейчас…
Он взглянул мне прямо в глаза.
– Мы – я, вы и симпатичная девушка в очках – дружно ввели следствие в заблуждение. Признаться, менее всего хотелось изображать самоубийцу. Я – неверующий, гражданин Люсон, но в этом вопросе полностью солидарен с церковью. Впрочем, вы уже догадываетесь…
– Вы не кончали с собой, – кивнул я. – Вас ударили ножом. Кто?
Он метнул на меня быстрый взгляд, губы внезапно сжались и побелели.
– Вы знаете.
Да, я знал. Догадаться было несложно, особенно когда я взглянул на рану. Не только комиссар Сименон и почтенные доктора из бывшей Королевской академии разбираются в подобных вещах.
– Итак, вас пыталась убить Мишель Араужо.
Вильбоа не ответил, затем бросил взгляд в окно и медленно повернулся.
– Пойдемте. Я, пожалуй, прилягу…
Я помог ему – сил у парня еще было в обрез, и мы медленно двинулись по коридору. У двери палаты он остановился.
– Вы догадались, гражданин Люсон. Я хочу понять – что это было? Я не верю в Творца, в Дьявола и бесов. Но я не склонен верить и гражданам ученым с их «не может быть». Это – было. И я хочу найти объяснение… Вы мне поможете?
– Да.
Это было то, на что я надеялся. Если мы поймем, кем была несчастная Мишель, то станет ясно, кто такой я сам. И уже потом можно думать о дальнейшем…
Шарль кивнул и уже взялся за ручку двери, когда я спохватился:
– Погодите!
Оглянувшись и не заметив ничего опасного, я мгновение молчал, не решаясь, и наконец поглядел ему в лицо:
– Сейчас я назову несколько имен. Вы журналист, вы многих знаете…
Во взгляде Вильбоа мелькнуло удивление, но затем он пожал плечами и кивнул.
– Пьер Леметр, – начал я. – Николя Сурда. Альбер Поммеле…
– Альбер Поммеле – помощник Тальена,[27] комиссара в Бордо, – немного подумав, сообщил Вильбоа. – Остальных не знаю.
– Жак Ножан…
– А-а! – Шарль усмехнулся. – Личность более чем известная! Вождь санкюлотов из Сен-Марсо. Говорят, его боится сам Робеспьер.
Вот даже как? Впрочем, подумать об этом можно было и позже. Оставалось спросить о Дюпле, но что-то удержало. Может, тот, кто иногда подсказывал мне, в последний момент толкнул под локоть. С этой короткой фамилией что-то не так. Во всяком случае, спрашивать об этом нельзя…
Мадам Вязальщица прямо-таки излучала недовольство:
– Нет, вы только подумайте, гражданин Люсон! Разве добродетельные граждане так себя ведут?
– Как? – изумился я, прикинув, что речь может пойти о курении в комнате.
– Добродетельные граждане, должна вам сказать, не ставят других в неловкое положение! Добродетельные граждане всегда должны сообщать, когда они вернутся, чтобы мне было что сказать вашим гостям!
Ах, вот оно что! Спицы в крепких руках гражданки Грилье сверкали, как молнии, а я решал несложную задачку. Вряд ли де Батц решится вновь заглянуть ко мне. Значит, либо Бархатная Маска, либо…
Гражданин Амару удобно пристроился у окна, читая газету. Увидев меня, он поднял руку и усмехнулся:
– Salve, гражданин!
– Давно ждете? – самым светским тоном поинтересовался я, прикидывая, что визит несколько запоздал. Появись сей гражданин днем раньше, кто знает, может, и судьба мерзавца де Батца решилась бы не так легко.
– С полчаса, – Амару сложил газету и спрятал ее в карман сюртука. – Воспользовался временем, дабы почитать «Монитор». Странно, под пером граждан журналистов хаос в Конвенте начинает напоминать дебаты в Палате общин…
Я столь же безмятежно кивнул, присел к столу и достал папелитку. Хотелось поторопить чернявого, но делать этого не стоило. Хотя бы потому, что он сам явно затруднялся начать разговор. Значит, дела не так и хороши…
– Кстати, вам письмо, – кивнул он. – Смею предположить, от дамы.
Белый конвертик на столе заставил лишь на мгновение удивиться. Размашистая надпись «Гражданину Франсуа Ксавье Люсону» тут же все объяснила.
– Вы разрешите?
Амару всплеснул руками и вновь достал «Монитор». Я сломал печать.
«Гражданин Люсон! – гласило послание. – То, что вы не изволили явиться в больницу, еще раз разоблачает вас как истинного мужчину – хвастуна и труса, боящегося даже взглянуть на ланцет или зонд. Желаю приятно провести время в Опере!» Вместо подписи стояла большая Т и размашистая закорючка.
– Надеюсь, ваши дела сердечные… – медовым тоном начал чернявый, и я решил, что пора ставить его на место.
– Гражданин Амару! – отрезал я. – Данное письмо написано врачом, к которому я обратился по поводу контузии. Кстати, из-за наших с вами дел я так и не попал на прием.
– Извините! – Амару растерянно моргнул. – Клянусь, не знал! Кстати, вы не правы, к врачу следовало пойти, тем более наши дела…
Фраза зависла, но то, что дальше должно следовать «плохи», сомнений не вызывало.
– Де Батца придется отпустить. Сказал бы «с богом!», но в данном случае больше подходит «ко всем чертям!».
Итак, оправдываться не придется. Более того, чернявый сам напрашивается.
– Почему? – как можно суше поинтересовался я. – Комитет изменил свои планы?
– Комитет… – Гражданин Амару заерзал на месте, словно в табурете обнаружился трехдюймовый гвоздь. – Комитет общественной безопасности счел более полезным для Республики не усугублять ссору между товарищами…
Хотелось сказать что-нибудь вроде «Ага!», но обошлось и без этого. Не доведя свою поучительную мысль до конца, Амару резко взмахнул рукой:
– К черту! Пусть гражданин Вадье сам повторяет эту чушь! Наверно, вы уже поняли, гражданин Шалье. Нас приперли к стенке. Приперли – и продиктовали условия капитуляции. Мы прекращаем расследование в обмен на неприкосновенность членов комитета.
– Эбер и д'Эглантин под амнистию не подпадают, – понял я.
Чернявый кивнул.
– И многие другие тоже. К тому же на нашем Комитете все равно остается пятно. Да, переиграли вчистую! Точнее, переиграл…
Имя не было названо, но этого и не требовалось. Мы хорошо поняли друг друга.
– Поэтому… – Амару улыбнулся, причем тон его вновь стал совершенно безмятежным. – Поэтому Комитет общественной безопасности решил не усугублять ссоры между товарищами и заняться истинными врагами нации. Ввиду этого…
Из внутреннего кармана появился небольшой конверт.
– Одно письмо вы уже прочли. Теперь прочтите другое. Предупреждаю, его содержание – государственная тайна. Впрочем, вы сейчас сами убедитесь.
Убеждаться в этом не тянуло. Какое мне дело до волчьих выводков, сцепившихся в смертельной схватке? Чума на них всех! Менее всего хотелось продолжать ненужную игру…
Впрочем, письмо вначале позабавило. Некий гражданин Энин (вероятно, в недавнем прошлом д'Энин) многословно распинался в верности Французской Республике, Единой и Неделимой, причем особенно упирал на то, что слухи о его продажности, обсуждавшиеся в начале сентября на заседании Комитета общественного спасения, есть вымысел злодеев, злоумышляющих на вышепоименованную Республику. Гражданин Энин подробно перечислял тех, у кого он не брал взятки, причем список выходил внушительный…
Хотелось спросить «Ну и что?», но я решил вновь прочитать письмо. Похоже, гражданина Энина поймали на горячем, он пытается оправдаться, причем самым нелепым образом. Но почему сие государственная тайна?
– Я бы этому не поверил, гражданин Амару!
– Я тоже, – согласился чернявый. – Но беда даже не в том, что бывший граф д'Энин – наш посол в Османской империи. Соль в том, что Энин узнал об обсуждении его дела на Комитете от испанского посла в Венеции Симона де Лас Казаса. Не буду напоминать, что с Испанией мы находимся в состоянии войны…
– Сговор с врагом, – вздохнул я. – Злодейский сговор.
Амару резко встал. Я поглядел на чернявого и тоже поднялся.
– Не делайте вид, что не понимаете, гражданин Шалье! Заседание Комитета общественного спасения от 2 сентября, где речь шла об Энине, было совершенно секретным! Надеюсь, вам не надо пояснять, что такое Комитет общественного спасения? И вот мы узнаем, что сведения об этом заседании распространились до Венеции!
И вдруг мне стало весело. Вспомнился разговор с лейтенантом Дюкло. Как бишь говорил этот малый? «Измена в комитетах»? Вот это да!
– Намекаете на шпиона, гражданин Амару?
– Не намекаю! – Лицо чернявого дернулось. – В Комитете общественного спасения действует вражеский агент. Хочу напомнить, что Комитет обсуждает такие вопросы без секретарей. Значит, шпион – кто-то из членов Комитета!
Его тон меня не обманул. Несмотря на пафос, достойный самого гражданина Тальма, сквозь патетику проглядывало хорошо скрытое злорадство. Еще бы! Граждане патриоты из Комитета спасения обвинили подельщиков из Комитета безопасности в продажности. Но это поистине мелочь перед обвинением в шпионаже. Как говорят пруссаки, «реванш». Да еще какой «реванш»!
– Это все? – невинным тоном поинтересовался я.
– Нет, конечно! – чернявый не выдержал и победно ухмыльнулся. – Наши товарищи в Кобленце и Лондоне перехватили несколько донесений от агентов д'Антрега. А там уже не сплетни о моральном облике гражданина Энина! Там сведения о наших военных планах!
Теперь уже гражданин Амару и не думал скрывать торжества:
– Таким образом, шпион в Комитете связан с организацией д'Антрега, а та продает сведения эмиграции. Ну, что скажете, гражданин Шалье?
Я решил поддержать игру.
– В такой ситации лучше всего арестовать весь Комитет общественного спасения!
Чернявый мечтательно улыбнулся – идея явно понравилась. Но затем последовал тяжелый вздох.
– Увы! Не сейчас…
Наверно, он уже видел, как граждан Робеспьера, Кутона и Сен-Жюста везут в единой «связке» на площадь Революции – в красных косынках, с оторванными воротниками и наскоро остриженными волосами на затылке…
– Сейчас надо найти этого человека!
Я глядел на этого голодного волка и начинал понимать, что тот, кем я был раньше, много отдал бы за такой разговор. Волчьи стаи сцепились – значит, это шанс для тех, кто остался верен Белому знамени. Очень хороший шанс! Но мне это уже не нужно. Моя война кончилась в Лионе, где я встретил Смерть по имени Бротто…
– Итак, мы бросаем все силы на это дело. Д'Антрег, конечно, не де Батц, он серьезный враг. Поэтому надо сделать все возможное – и невозможное тоже!
Он выжидательно поглядел на меня. Менее всего хотелось давать советы, но молчать нельзя. Поэтому я начал совсем не с того, чем бы занялся на его месте:
– Курьеры. Я бы…
Амару покачал головой:
– Не получается! Еще в августе мы перехватили трех курьеров д'Антрега. С сентября – ни одного! Мы перекрыли границу, усилили контроль на заставах… Но не это самое странное…
Он нерешительно оглянулся, словно в комнате мог прятаться агент вездесущего д'Антрега.
– Самое странное, гражданин Шалье, в том, что сведения из Парижа попадают в Лондон и Кобленц на второй-третий день!
– Как? – Мне показалось, что я ослышался.
Амару криво усмехнулся:
– Интересно, да? Но это еще как-то можно допустить. Чисто теоретически, конечно… Но в двух случаях между принятием решения на Комитете и поступлением бюллетеня к принцу Конде прошло максимум двенадцать часов. А вот это уже…
– Голубиная почта, – предположил я. – Или монгольфьеры…
Чернявый достал из кармана очередную бумагу:
– Я только что из обсерватории. Взял сводку погоды за сентябрь, октябрь и ноябрь. В те дни, когда агенты д'Антрега должны были запустить монгольфьер… Или голубя, что более вероятно… Ветер должен был им здорово помешать. Все может быть, конечно…
Я еле удержался от дальнейшего обсуждения голубей-буревестников и всепогодных монгольфьеров. Ребята д'Антрега славно обставили этих всезнаек! А как – не так уж важно.
– Есть куда более простой путь, гражданин Шалье. Комитет спасения, в общем, невелик. Двенадцать человек. Многие из них постоянно в разъездах. Таким образом, достаточно выяснить, кто присутствовал на тех заседаниях, которые стали известны врагу…
Он достал очередную бумагу и положил на стол.
– Жанбон и Приер-старший отпадают, их не было в Париже. Бийо-Варенн, Ленде и Колло д'Эрбуа тоже…
Знакомое имя заставило вздрогнуть. Колло – неудавшийся актер, краснолицый, с дергающейся правой щекой. Именно ему поручили уничтожить Лион.
– А на других заседаниях, более поздних, не было Сен-Жюста и Приера-младшего. Итак, остаются…
– Робеспьер, – подсказал я.
Амару вздохнул.
– Я серьезно, гражданин Шалье! Робеспьер и Кутон… Нет, это невозможно. К тому же Кутон тоже отсутствовал на одном из заседаний. Зато остальные… Карно[28] – бывший королевский полковник. Барер – этот вообще, между нами говоря, сволочь. И Эро де Сешель…
Сейчас Амару и вправду походил на волка – февральского волка, взявшего верный след.
– Таким образом, Комитет общественной безопасности поручает вам, гражданин Шалье, заняться этими тремя. Способы, методы – на ваше усмотрение. Но нужен результат!
Его темные глаза сузились, на губах появилась мечтательная улыбка. Он уже видел «результат» – громогласный скандал в Конвенте, арест «роялистского шпиона» – и полный триумф ведомства гражданина Вадье. А там можно готовить и «связку».
Мне стало противно. Предатели ищут предателя… Стоп, а ведь я это уже слыхал!
– Вы знали кое-кого из людей де Батца, – Амару встал, собираясь уходить. – Нажмите на них. Возможно, они связаны с д'Антрегом. Впрочем, вы человек опытный, не буду вас учить… Удачи!
Я поблагодарил с самым серьезным видом, но, когда дверь закрылась, едва удержался от смеха. Удачи! Этот чернявый, похоже, уверен, что я начну рыть землю ради амбиций пыточного ведомства гражданина Вадье! Разуверять его я не собирался, но куда забавнее то, что удачи мне желали уже не в первый раз. Правда, мой таинственный «друг» имел в виду нечто иное. «Предатели ищут предателя. Не стань же предателем сам!» Хороши же нравы в этом якобинском клубе!
Выходило и вправду забавно!
Потолок – давно не метенный, с легкими клочьями паутины по углам, покрытый тонкими причудливыми трещинами, казался далекой таинственной страной, которую я наблюдаю с монгольфьера – всепогодного монгольфьера, способного за несколько часов долететь через все заставы и посты до тихого Кобленца. Нет, сейчас Кобленц, в котором я, похоже, бывал до войны, совсем другой. Там армия – последняя армия Королевства Французского. Кажется, я не захотел там служить… Почему? Почему я поехал в Лион?
На это ответить было нечего. Ответы знал тот, другой, который остался в городе Лионе. Мне уже ни к чему его заботы, его планы…
Я не спешил. И не только потому, что не очень представлял свой следующий шаг. Просто я уже начинал понимать – мой путь может вести в никуда. Возможно, никто так и не поможет мне узнать то, ради чего я здесь. И что тогда? Что делать призраку, который так и не нашел покоя?
Потолок начал медленно отдаляться, клочья паутины превратились в серый промозглый туман, знакомая комната исчезла, став огромным бескрайним полем, и я вновь ощутил себя лежащим на холодной осенней земле. Окровавленная рубашка прилипла к груди, неподвижные глаза, не отрываясь, смотрели вверх, пытаясь увидеть небо. Но небо исчезло, вокруг был только серый сумрак, становившийся с каждой минутой все гуще…
Я отогнал наваждение и заставил себя встать. Нет, довольно! Поддаваться нельзя! Еще немного, и серое безумие обрушится на меня, и я стану таким же, как несчастная Мишель Араужо. А безумцу все равно, жив он или мертв.
За окнами уже синели ранние сумерки, и я понял, что в этих четырех стенах оставаться нельзя. Ехать на очередную барщину в Оперу не тянуло, равно как посещать мертвецкую на кладбище Дез-Ар. Можно заглянуть в какой-нибудь театр, ведь не одна же Опера в Париже! Но слушать «Марсельезу» и смотреть очередной «Триумф Республики» не хотелось. Посидеть в кафе? Но в «Прокопе» я и так бываю слишком часто…
Внезапно вспомнилось – улица Вооруженного Человека, дом советника Клюшо. А почему бы и нет? Почему бы не послушать историю про очередного Жеводанского Волка?
– Вы? – гражданин д'Энваль удивленно моргнул. – Что-нибудь слу… Что-то с Юлией?!
Вид у индейца был весьма забавный, и я поспешил успокоить бедного парня:
– Я не всегда несу несчастья. На этот раз просто зашел в гости. Приглашали?
Гражданин д'Энваль моргнул еще раз, после чего надел на нос очки и облегченно вздохнул:
– О друг мой! О-о! Несчастия последних дней слишком тяжким грузом легли на мою израненную душу! Простите меня! Простите – и прошу в мою скромную обитель.
Услыхав знакомый тон, я понял, что с израненной душой молодого человека все в полном порядке, и охотно проследовал в «обитель», где, впрочем, скромностью и не пахло. Это я понял сразу, поскольку дверь мне отворил лакей в богатой ливрее, что в наше время по карману далеко не всем драматургам.
Да, гражданин д'Энваль определенно не бедствовал. В комнате, куда мы попали, я первым делом заметил огромный кофейник чистого серебра, так непохожий на ведерко, в котором варила кофе гражданка Тома. Кофейник окружали чашки китайского фарфора с затейливыми драконами. На большом фарфоровом же блюде красовались пирожные.
Я оказался не единственным гостем. В большом вольтеровском кресле восседал крепкого вида мужчина с густой шевелюрой странного черно-рыжего оттенка и с такой же бородой. В одной руке он держал пирожное, в другой – огромное павлинье перо, которым время от времени делал пометки на лежавшем прямо между чашек листке бумаги.
– Вижу, скромная трапеза в разгаре? – заметил я, присаживаясь рядом.
– Э-э-э, – явно растерялся индеец. – Ну такое у меня не каждый день, конечно… Просто сегодня… В общем, прошу знакомиться… Это мой друг, шевалье… э-э-э… гражданин Люсон, а это…
– Д'Иол, – широкая лапища взметнулась над столом. – Что пишете, гражданин? Комедии, драмы, трагедии?
– А что лучше? – осторожно поинтересовался я.
– Только не трагедии, – бородач вновь уткнулся в бумаги. – Трагедии сейчас не смотрят. Комедии смотрят, но комедию труднее продать…
– Гражданин д'Иол – известный… – нерешительно начал индеец, но здоровяк махнул рукой:
– Альфонс, не отвлекайся! А вы, гражданин Люсон, ознакомьтесь…
Сказано это было таким тоном, словно мне предстояло ознакомиться с ордером на арест. Но дело ограничилось всего лишь визитной карточкой упомянутого гражданина д'Иола, оказавшегося драматургом и владельцем литературного агентства со странным названием «Второй клин». Вслед за визитной карточкой последовал пустой бланк договора, отпечатанный в типографии.
– Напишете – приносите! – сурово добавил д'Иол. – А ты, Альфонс, смотри! Срок ставим полугодовой с расторжением договора в случае отказа в постановке. А этот пункт вообще не годится. Что значит: «Администрация вправе вносить изменения в пьесу»? Они тебе такое там внесут! Значит, добавляем: «С письменного согласия автора»…
Я решил не мешать. Похоже, бородач свое дело знал. Вскоре я убедился, что под пером д'Иола договор начинает приобретать совершенно непробиваемый вид.
– И в следующий раз ничего без меня не подписывай! – мрачно добавил бородач. – Понял?
Индеец покорно кивнул.
– А твою последнюю вещь пристроим в «Фейдо»… Нет, сделаем лучше – предложим одновременно в «Фейдо» и в Театр Нации и поглядим, кто заплатит больше. Та-а-ак, надо будет организовать пару рецензий в «Театральной газете»… Гражданин Люсон, а вы бы не взялись за драму?
Сраженный его напором, я со стыдом признал, что не имею должного таланта, равно как и опыта.
– При чем здесь талант? – поразился д'Иол. – Это у Корнеля талант! Нужна драма в трех действиях, лучше всего без всякой политики. Театр Дорианкура с руками оторвет. Они недавно открылись, сидят без репертуара… Ладно, подумайте, но не очень долго. Все, Альфонс, я пошел, мне еще работать… Гражданин Люсон, мой адрес на карточке, заходите. Кстати, можете написать комедию, но не очень большую, акта на два. Пристроим в театр Ладзари.
Гость с шумом исчез, индеец поспешил следом, а я решил проявить инициативу и, найдя чистую чашку, занялся кофейником. За этим важным занятием меня и застал гражданин д'Энваль.
– О, друг мой! О-о! – воскликнул он, всплеснув руками. – Я даже не догадался предложить вам кофе…
– Но вы были заняты, – улыбнулся я.
– Да! Меня хотели здорово провести с договором в Театре Юных Патриотов, но гражданин д'Иол вовремя разоблачил их умысел…
– Гнусный умысел, – не удержался я – Гнусный и преступный!
– О-о, да! Но благодаря гражданину д'Иолу… Ах, что за человек! Поверите ли, друг мой, без него я бы пропал!
– А он и сам пишет? – поинтересовался я.
Ответом был изумленный взгляд.
– Помилуйте! Кто же не знает д'Иола! За последний год он написал одиннадцать… нет, двенадцать пьес! Вы разве не смотрели «Двух Геркулесов»?
Пришлось признаться в полном своем невежестве. Индеец принялся горячо рассказывать о новой драме плодовитого драматурга со странным названием «Моисей учиняет иск», а я еле удержался, чтобы не улыбнуться. Странно, совсем близко идет война, «адские колонны» Россиньоля жгут деревни, «синие» и «белые» сцепились в смертельной схватке на полях Шампани, горит непокорный Тулон. А еще ближе – тут, прямо под окнами, людей целыми «связками» волокут на площадь Революции. И в то же время… А может, так и должно быть? Может, и хорошо, что в этом безумии все еще пишутся пьесы, авторы спорят с издателями…
– А что вы сейчас пишете? – поинтересовался я.
– Увы… – индеец вздохнул, – то, что я пишу, даже гражданин д'Иол не пристроит… Я пишу пьесу «Сен-Дени».
Знакомое название удивило. Сен-Дени – королевское аббатство, усыпальница владык Франции!
– Вы, наверно, знаете, гражданин Люсон, что два месяца назад Конвент постановил уничтожить все памятники деспотизма. В том числе и королевские могилы.
Я кивнул. Да, это я помнил…
– В Сен-Дени приехал гражданин Жавог, собрал рабочих… А дальше…
Он оглянулся, словно под столом мог прятаться сам гражданин Вадье.
– Я не выдумал это! О-о! Мне рассказывали… Когда вскрыли могилу Генриха IV и вытащили его тело, один негодяй ударил Короля по лицу. И ночью Король встал, дабы покарать нечестивца!
Внезапно я поверил. Мертвый Король, тот, кто когда-то спас Францию, встает, чтобы отомстить за поруганную страну…
– Это, конечно, не поставят… – вновь вздохнул индеец, – но…
– Поставят! – не выдержал я. – Обязательно поставят! И, надеюсь, очень скоро…
Наши глаза встретились, и д'Энваль виновато улыбнулся:
– Нет-нет! Я не это имел в виду! Я вовсе не хотел писать о политике. Меня привлек сюжет – Сила, неведомая, но грозная…
Парень испугался. Знай, какой документ спрятан у меня в кармане, он испугался бы еще не так. Похоже, и драматургам не удавалось забыть, в каком городе и в какой стране они живут.
– Не будем об этом, – заявил я самым непринужденным тоном. – Лучше расскажите о своих штудиях. Как там французские Гомеры?
Индеец встрепенулся, глаза под толстыми линзами вспыхнули.
– Вы не поверите, друг мой! На следующий день после нашего разговора мне удалось найти… Вернее, мне просто повезло. О-о, великий случай! Один мой приятель вернулся из Бретани, где нашел удивительную вещь. Вот…
Из ящика стола был извлечен толстый лист бумаги. Нет, не бумаги – пергамента. Красная киноварь буквиц, цветные заставки, странные непривычные литеры, идущие слитно, без разрывов…
– Из какой-то книги? – предположил я.
– Рукопись! Рукопись, друг мой! Не позже двенадцатого века! Представляете?
Я вспомнил Шарля Вильбоа. Тот занялся житиями блаженных отцов. А о чем пойдет речь тут?
– Вот… – индеец прокашлялся. – Я разбирал всю ночь, это на старофранцузском… Слушайте!
Он помолчал, закрыв глаза, а затем принялся читать – негромко, но быстро и четко:
Безжалостно Роланд разит врага, Но он в поту, в жару и жив едва. От боли у него темно в глазах: Трубя, виски с натуги он порвал. Он хочет знать, вернется ль Карл назад, Трубит из сил последних в Олифан. Король услышал, скакуна сдержал И говорит: «В горах беда стряслась. Племянник мой покинет нынче нас. Трубит он слабо – значит, смерть пришла. Коней пришпорьте, чтоб не опоздать. Пусть затрубят все наши трубы враз». Труб у французов тысяч шестьдесят, Им вторит дол, и отзвук шлет гора, Смолкает смех у мавров на устах. «Подходит Карл!» – язычники вопят.[29]Д'Энваль умолк, переводя дыхание. Наконец с сожалением вздохнул:
– Увы, это все. На обратной стороне ничего не сохранилось… Но даже это! О-о! Понимаете?
– Французская «Илиада»? – улыбнулся я.
– Возможно! Какая-то древняя поэма. Наверно, Карл – это Карл Великий. Или, может быть, Карл Мартелл. А Роланд…
– Роланду, похоже, не повезло, – констатировал я. – Желаю вам отыскать остальное!
– К сожалению, даже это сейчас не издашь, – вздохнул индеец. – Король…
– Замените на «градоправителя», – не утерпел я. – И будет «Песнь о гражданине Роланде и градоправителе Карле»…
Парень окончательно смутился, и я решил, что пора прощаться.
– Погодите! – встрепенулся индеец, когда я попытался откланяться. – Вы же пришли по делу…
Я развел руками, но Альфонс упрямо покачал головой:
– Друг мой! Сколь обидно сознавать, что богиня Доверия не благословила наш разговор! О-о, поверьте мне, я поистине достоин того, что вы не решаетесь мне поведать!
С минуту я переваривал его тираду, после чего попытался возразить, но гражданин д'Энваль оставался непреклонен:
– Чувствительное сердце, друг мой, трудно обмануть! Вам ведома Тайна! Тайна, которой вы хотите поделиться со мной, но не решаетесь.
Я горько усмехнулся. Тайна? Да сколько угодно! Например, во всесильном Комитете общественного спасения завелся шпион…
– Мои тайны вам не понравятся, гражданин д'Энваль.
– Нет! – Глаза за стеклами очков блеснули. – Мы оба верим! О-о! Мы оба верим в силы, недоступные пониманию суетного ума!
Да, парень что-то чувствовал. Несмотря на толстые линзы, он оказался куда более зрячим, чем глубокоуважаемая доктор Тома. Но молодой индеец ничем не сможет помочь…
– Если… Если вам понадобится помощь, дорогой друг! – парень словно читал мои мысли. – Не отталкивайте мою руку! Дорога, которой вы идете, трудна…
– Хорошо, – я заставил себя улыбнуться. – Обещаю.
Вечер выдался сырым и неожиданно холодным, и набережная Сены, днем шумная и оживленная, была теперь совершенно пуста. Фиакр медленно тащился прочь от Нового моста, и я имел вдоволь времени, чтобы обдумать случившееся. День выдался нелегкий, но вспоминать его не хотелось. Все складывалось не так. Чем мне помогут интриги чернявого Амару или восторженная вера Альфонса д'Энваля? Вильбоа… Пожалуй, только он мог как-то продвинуть мое безнадежное дело. Но даже если мы поймем, что случилось с несчастной мадемуазель Араужо, поможет ли это мне? С тем же успехом можно лечь под скальпель гражданки Тома…
Внезапно впереди в сером вечернем сумраке обозначилось нечто, весьма мне знакомое. Издалека это нечто напоминало ветряную мельницу. Мельница была небольшой, но весьма бойкой – крылья неустанно вращались, издавая при этом веселый свист. На мельнице косо сидело чудовищного вида рубище, а сверху красовалась помятая шляпа с высокой тульей. Мельница бежала вприпрыжку, причем с такой скоростью, что тихоходному фиакру понадобилось не менее пяти минут, дабы поравняться с ней.
Я велел кучеру остановиться и выглянул наружу:
– Гражданин Тардье? Не поздно ли гуляете?
Мельница еще раз подпрыгнула, пронзительно свистнула и волшебным образом обернулась нахального вида мальцом с площади Роз.
– Кукареку, гражданин Деревня! Гуляю, когда хочу! Для того и Бастилию брали!
– Подвезти? – предложил я.
Снова свист – на этот раз полный презрения.
– Вот еще! Пусть в колясках «аристо» катаются!
– «Аристо», гражданин Огрызок, катаются в каретах, – поучительно заметил я. – А это фиакр.
Малец смерил меня долгим взглядом и скривился:
– Что фиакр, что карета! Катите себе, гражданин Деревня, раз вы решили в «марочники» записаться!
– Ладно! – решил я. – Давай прогуляемся.
Фиакр неспешно покатил дальше, а мы остались на темной набережной. Мальчонка втянул голову в плечи и поежился:
– Ну? Мы гуляем или как? А то стоять холодно!
Я покосился на его одеяние, ставшее со времени нашей последней встречи еще более живописным, и покачал головой:
– Хоть бы ты себе куртку купил! Ну, пошли!
Мы двинулись по набережной. На этот раз гражданин Огрызок уже не размахивал руками, а шел тихо, засунув руки в то, что когда-то было карманами.
– Купил! – буркнул он после долгого молчания. – Я не «марочник», чтобы куртки покупать!
– Давай по порядку, – предложил я. – Во-первых, кто такие «марочники»? А во-вторых, куртку можно было купить на ту гинею, что я тебе дал.
– Не дали, а заплатили, гражданин! – огрызнулся малец. – Я не попрошайка! А «марочников» гражданин Мирабо[30] выдумал. Не знаете, что ли? Это те, кто марку серебра в год платит! Ну, мы им показали!
– Оно и видно! – я поглядел на санкюлота из секции Обсерватории и понял, что парень замерз до костей.
– Держи! – я снял плащ, но гражданин Тардье оскалился и отскочил в сторону:
– Не лезьте вы со своим тряпьем, гражданин! Нам чужого не надо!
Я понял, что этим вечером мой юный знакомый явно не в настроении.
– Небось не ужинал?
Ответом было вполне внятное пожатие плеч. Я задумался.
– Я тоже не ужинал. Здесь можно где-нибудь перекусить, гражданин Тардье?
На этот раз ответ был дан не сразу. Наконец Огрызок печально вздохнул:
– Есть тут одна дыра. Для лодочников… Там супец подают. С потрохами…
В «дыре» было полутемно и очень грязно, но суп, невообразимо горячий и остро пахнущий, действительно подавали. Ломаться гражданин Тардье не стал и тут же схватился за ложку. Ел он жадно, но от второй миски отказался, а краюху хлеба, ни разу не укусив, спрятал за пазуху.
– Для сопляков, – пояснил он. – Жрать хотят, а ничего не умеют…
Мы вновь вернулись на набережную. Заметив, что мой спутник немного оттаял, я решил все-таки разобраться:
– Вот что, гражданин Тардье! Выкладывай, да по порядку!
– Да чего выкладывать? – Малец с явным сомнением воззрился на меня, но затем вздохнул: – Да, в общем, так себе. С площади Роз турнули, я сейчас тут ночую, на старых баржах. И двое сопляков привязались, корми их! Дать бы им по шее, так жалко – малые еще…
– А где же ваша Коммуна? – не выдержал я. – Какого черта!
Он не ответил, и я понял, что дела действительно «так себе». Зима на носу. Одна морозная ночь, и этим ребятам уже не проснуться.
– Тебя нужно отправить в приют. И твоих сопляков тоже.
– Вот еще! – Глазенки гражданина Тардье блеснули. – Держи карман шире, гражданин Деревня! Знаю я эти приюты! Кормят, как воробьев, а сторожат, словно каторжников! Не, я лучше работать пойду…
– Грузчиком? – поинтересовался я.
– Сами вы грузчик! – вновь окрысился мальчонка. – Я, между прочим, три месяца в типографии работал. Чтоб вы знали, я грамотный. Хотите, любую афишу прочту? Я даже стихи знаю!
– «Король Георг хотит напасть…» – вспомнил я.
– Не, настоящие! Вы небось такие в деревне своей и не слыхали!
Внезапно он остановился, широко расставил ноги и начал вещать, то и дело срываясь на петушиный фальцет:
Нет, этих рабских стран отныне я не житель! Уйду, уйду я вдаль искать себе обитель! Приют, где жизнь моя смирит свой буйный бег, Могилу, где мой прах найдет себе ночлег, Где золото господ с душой убийц холодных Не впитывает кровь страданий всенародных, Где с подлым хохотом оно нам не поет, Что чересчур плаксив и слишком сыт народ; Где без насильников рукой животворящей Снимаем мы дары земли плодоносящей!Последние слова он проорал во все горло, после чего глубоко вздохнул и покосился на меня.
– И ты такое выучил? – невольно восхитился я. – Я бы язык сломал!
– Хе! – малец победно усмехнулся. – Долго учил. Особенно это слово, как его… А, «плодоносящей»! Это, гражданин Деревня, сам Андре Шенье написал! Мы его набирали. Ну а потом типография ахнула… А сейчас – плохи дела. Которые постарше, и те без работы. Эх, надо в Сен-Марсо перебираться!
– Вот как? – удивился я. – У меня там знакомые есть.
– Правда?! – гражданин Тардье даже подпрыгнул от восторга. – Может, вы самого гражданина Ножана знаете?
Фамилия показалась знакомой. Даже очень знакомой. Жак Ножан, вождь санкюлотов Сен-Марсо. Тот, кого боится сам Робеспьер…
– А почему ты думаешь, что в Сен-Марсо будет лучше?
– Ха! Известно почему! – гражданин Огрызок бросил на меня очередной снисходительный взгляд. – Жак Ножан никому пропасть не даст! Он так и сказал – в Сен-Марсо не будет бездомных! И голодных не будет! Хоть по краюхе хлеба, а каждый получит. Там всяким «марочникам» – не жизнь, зато нашему брату… А скоро гражданин Ножан и с Конвентом разберется!
Он не шутил, и мне тоже стало не до шуток. Жак Ножан собирается разобраться с Конвентом. Санкюлоты Сен-Марсо хотят предъявить счет гражданам якобинцам…
– Ну и буча там будет!
– Как?! – поразился я.
– Буча! Вы чего, гражданин, простых слов не знаете? Гражданин Ножан своих ребят к Тюильри приведет. Пустят кой-кому леща за пазуху! Так что приходите! Если вы, конечно, гражданин, настоящий патриот…
– Наверно, настоящий, – предположил я.
– Да кто вас знает, гражданин Деревня? Вы-то мне не доверяете!
– Почему? – я даже остановился от удивления. – Я – тебе?
– А то я не вижу! – Его давно не мытая физиономия внезапно нахмурилась. – Доверяли бы – дали три ливра… Ладно, чего с вами болтать? Вон моя баржа! Кукареку, Деревня! Я тебе за похлебку должен…
Гражданин Огрызок махнул рукой и сгинул в темноте. Я растерянно оглянулся, но понял, что остался один.
Шарля Вильбоа в палате не оказалось. Не оказалось его и в коридоре. Пришлось выйти во двор, где я наконец-то обнаружил нашего больного, причем не одного. Шарль прогуливался в компании с темноволосым молодым человеком, чем-то похожим на гражданина Амару, но куда более приятного вида. Темноволосый поддерживал Шарля под руку, при этом оба весьма оживленно беседовали. Увидев меня, Вильбоа махнул рукой:
– Гражданин Люсон! Присоединяйтесь!
Парень улыбался – дела его явно шли на поправку.
– Не рано еще бродить? – поинтересовался я, подойдя поближе.
– Я ему и г-говорю, – темноволосый укоризненно покачал головой. – В-вечно он не слушается!
Странно, но даже заикался он как-то приятно. Во всяком случае, не в пример приятнее, чем председатель секции 10 Августа.
– Д-демулен, – черноволосый улыбнулся. – Лучше просто Камилл.
– Люсон.
Я пожал тонкую сильную ладонь, и тут только до меня дошло.
– Камилл Демулен? Вы…
– Н-нет, нет! – парень замахал руками. – Если вы спросите, зачем я б-брал Бастилию, то сразу говорю – брать я ее не собирался! Я только в-влез на столик в кафе и п-предложил всем честным патриотам спасаться б-бегством. Я не в-виноват, что они побежали именно к Бастилии!
Камилл Демулен… Прокурор Фонаря… Правая рука Дантона… Странно, я не чувствовал ненависти к этому темноволосому. Обаятельный парень, и улыбка приятная, давно такой не видел…
– Кстати, Т-тюильри я тоже не штурмовал. Я даже спрятался у себя в т-типографии, и Жорж меня д-долго искал, чтобы всучить пистолет. Он з-забыл, что я с детства боюсь оружия… Поэтому оставим эти страшные м-материи и поговорим о гражданине Вильбоа. Гражданин Люсон, взываю к вашему здравомыслию и прошу объяснить этому свихнувшемуся на м-мистике индивиду…
Я понял. Похоже, Шарль не терял времени даром.
– Гражданин Люсон в курсе, – кивнул Вильбоа. – Рассказывай дальше!
– Н-нет, но посудите сами! – Демулен вздохнул и покачал головой. – Вчера по м-милости Шарля я выглядел полным идиотом, когда говорил с г-городским комиссаром. Представляю, что он обо мне подумал…
Он вновь вздохнул и заговорил совсем тихо, хотя вокруг не было ни души:
– В комиссариате зарегистрированы двадцать девять д-дезертиров…
– Простите? – удивился я. – Каких дезертиров?
– Я просил Камилла узнать, были ли случаи, когда погибшие на гильотине возвращались, – негромко пояснил Вильбоа.
И тут до меня начало доходить.
– Двадцать девять!
– Д-да. Точнее, двадцать девять сообщений д-добропорядочных граждан, узревших своих б-ближних и дальних с головой, п-почему-то находящейся на плечах!
– Выходит, Камилл, вы вовсе не выглядели идиотом, – как можно спокойнее заметил я. – Похоже, не мы первые обратили на это внимание.
– Об-братили! – Демулен взмахнул рукой. – В двадцати двух случаях добропорядочные г-граждане попросту обознались, в трех случаях стражам п-порядка пришлось иметь дело с сумасшедшими…
Подсчет оказался несложен. Мы с Вильбоа переглянулись.
– П-поэтому, Шарль, не вздумай писать на эту тему, иначе г-гражданин Эбер сочтет г-гильотину слишком слабым средством и предложит заменить ее т-торжественным сжиганием врагов народа заживо, причем устроит аутодафе прямо на п-площади Революции. С н-него станется…
– Но почему – дезертиры? – не удержался я.
Демулен развел руками:
– Сей п-полицейский юмор нам, смертным, понять м-мудрено. Вероятно, речь идет о том, что указанных г-граждан направили по вполне конкретному адресу, а они решили слегка изменить м-маршрут. Все, я п-побежал громить гражданина Эбера в ст-тихах и п-прозе. Шарль, выздоравливай и б-бросай глупости! Гражданин Люсон, можно вас?..
Мы отошли в сторону. Гражданин Демулен быстро оглянулся:
– У него очередной сд-двиг, а это плохо… Гражданин Люсон, хочу вам сказать сп-пасибо – за Шарля. М-мы, его, так сказать, д-друзья, оказались последними свиньями. Спасали Отечество, к-которому от этого, п-подозреваю, ни тепло ни холодно, а н-надо было спасать его. Я узнал только на т-третий день, но это меня никак не извиняет… В общем, спасибо и от меня, и от Жоржа. Т-толку от нас мало, но если что-то понадобится… И даже если не п-понадобится – все равно, б-берите нас за шкирку и т-трясите…
О ком это он? Переспрашивать было неловко, но внезапно до меня дошло. Жорж! Жорж Дантон! Тот, кто опрокинул трон и поднял руку на Короля!
– Я читал предисловие к «Карлу IX», – заметил я, стараясь, чтобы наши взгляды не встретились. – Там вас цитируют…
– Не н-напоминайте! – Демулен замахал на меня руками. – Гражданин Шенье п-пришел ко мне с саблей, п-причем очень острой…
Он улыбнулся и протянул руку. Я помедлил какой-то миг, но все-таки не смог не поддаться его обаянию. Цареубийца… Тот, кому никогда не будет пощады – ни в этом мире, ни в мире ином. Но я подал ему руку… Господи, что же это со мной?
– Вот… – Вильбоа выровнял стопку бумаг и криво усмехнулся. – Как говорит Камилл, граждане дезертиры…
Мы перебрались в палату, и я не без труда уговорил Шарля вернуться в койку. Я понимал, что парню надоело лежать, но не мог забыть, каким он был всего несколько дней назад. С этим шутить не стоило.
– Те самые четыре дела, гражданин Люсон…
Я кивнул, но внезапно почувствовал, что меня совсем не тянет читать документы, написанные ровным писарским почерком. Дезертиры. Вернувшиеся ниоткуда и ушедшие в никуда…
– Ваш случай – пятый, – как можно спокойнее заметил я.
– Да. Сделаем так. Берите два дела, читайте, а завтра обменяемся… Кстати, я обещал вам рассказать о версии Его Высокопреосвященства Ансельма Орсини.
Вначале я не понял, но потом память подсказала. Толстая книжица in octavo, изданная братьями-иезуитами. Житие блаженных отцов-епископов.
– Вероятно, не обошлось без нечистой силы, – предположил я без особого интереса.
Вильбоа усмехнулся:
– Я тоже так думал. Тринадцатый век, в разгаре Альбигойская резня, святой Доминик только что организовал святейшую инквизицию. Что еще можно придумать? А между тем…
Порывшись в бумагах, он извлек небольшой листок:
– «Простота объяснения есть не меньший соблазн, чем его отсутствие. Простое объяснение зачастую означает лишь еще большее удаление от истины, которая никогда не бывает общепонятной и доступной обычному сознанию…» Это из рассуждений монсеньора Орсини. Специально выписал. У него неплохая латынь, почти без вульгаризмов, но, что самое любопытное, он действительно не ищет простых ответов. Случай с оборотнем он объясняет вовсе не тем, что сей несчастный был связан с Вельзевулом. По мнению отца Ансельма, мы имеем дело с другой расой людей.
– Что? – поразился я. – Расой? Он так и пишет?
– Нет, конечно. – Похоже, мое изумление позабавило гражданина Вильбоа. – Он пишет «genus» – род. Другой род людей, отличающийся от нас многим, в том числе и, так сказать, реакцией на смерть…
Пришлось задуматься, причем надолго. Но ничего толкового в голову не приходило. Другой род людей… Почему? А главное…
– Но, гражданин Вильбоа, даже если допустить такое, то все равно все мы смертны! Что люди, что собаки…
– «…Которая никогда не бывает общепонятной и доступной обычному сознанию…» – негромко повторил Вильбоа. – Странно, тринадцатый век! Гражданин Люсон, с точки зрения упомянутого «обычного сознания», вы правы. Но как быть с амебой?
– Простите? – не понял я.
– Лет сорок назад господин Левенгук открыл мельчайших тварей, которых полно в каждой капле воды. Амеба – что-то похожее на прозрачный мешочек с жидкой кашей. Так вот, она не умирает. Она делится пополам. Раз, потом еще раз… Так что, все мы смертны?
Пример не убедил. Мало ли что творится в капле грязной воды! Но слушал я уже внимательнее.
– Итак, Орсини пишет, что ему вместе с его учителем, отцом Гильомом, довелось познакомиться с людьми, которые сами себя людьми не считали. Они звались дэрги или логры. Последнее название нам, кстати, хорошо известно из легенд о короле Артуре. Так вот, отец Ансельм считает, что логры имеют две сущности…
– Две души? – удивился я.
Шарль покачал головой:
– Нет, он пишет именно «сущность». Конечно, такое понять действительно трудно. Но он приводит такой любопытный пример. Сросшиеся младенцы – два туловища, две головы… Не бывали в Музее академии? Так вот, у логров эти две «сущности» срослись. Но одну – обычную, человеческую – мы видим, а вот вторую – нет…
Я честно пытался понять, но рассуждения монсеньора Орсини все равно казались слишком мудреными.
– Погодите, гражданин Вильбоа… Откуда он это взял?
– Видел, – спокойно сообщил Шарль. – Своими глазами. Как и мы с вами. И если мы решили верить самим себе, поверим на минутку и ему. Так вот, если убить человеческую сущность логра, его невидимый «близнец» погибает не сразу. Он как бы борется за жизнь – и создает на время видимость жизни. Но ненадолго, ведь один «близнец» уже мертв…
Я невольно поежился – сравнение вышло страшноватым.
– Позвольте, Шарль, но как же эти бедняги вообще умирают?
Вильбоа кивнул:
– Орсини пишет и об этом. Когда смерть естественная, то она, так сказать, поражает обоих «близнецов» одновременно. А человеческое оружие способно убить лишь человека. Кстати, вспомните – всяких оборотней и даже колдунов полагалось убивать с особым ритуалом. Не для того ли, чтобы погубить обе «половинки»?
– Допустим, – решил я. – Но только допустим! В таком случае откуда эти логры взялись?
По лицу гражданина Вильбоа промелькнула усмешка.
– Понятия не имею! И Орсини тоже не представлял. Впрочем, мы с вами тоже весьма слабо знаем, откуда взялись люди. Если, конечно, не повторять первую главу Книги Бытия… Орсини пишет, что Господу виднее, кого творить. Впрочем, одну версию он приводит. Помните? Из той же первой Книги Моисеевой? «В то время были на Земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им: это сильные, издревле славные люди».[31] Чем вам не логры?
– Дети ангелов, – усмехнулся я. – Заблудившиеся, потерявшие память ангелята…
– Другой версии у нас пока нет, – пожал плечами Вильбоа. – Признаться, несколько напоминает творения господина Перро…
– Скорее господина Казотта,[32] – вырвалось у меня.
– Пожалуй… Но, знаете, перечитав книгу Орсини, я стал вспоминать все, что мы знаем о лограх. И ведь что получается? Сплошные колдуны, оборотни, чародеи. То исчезают, то появляются неведомо откуда, живут то в озере, то где-то под озером…
Невольно вспомнился индеец д'Энваль со своим Жеводанским Зверем.
– Я к вам приведу одного молодого человека, гражданин Вильбоа. Он, правда, не логр, зато чистокровный ирокез. Вот ему ваша версия придется определенно по душе.
– А вам? – Шарль помолчал, затем вздохнул. – Вижу, не убедил…
– Дело не в этом, – я невольно задумался. – Вы меня, конечно, не убедили, да и сами едва ли в такое поверили. Ладно, пусть будет версия. Но чем это нам поможет? Извините за такой вопрос, Шарль, но у мадемуазель Араужо в предках числились логры?
– Нет, – парень отвернулся. – Дед у нее – португалец, отсюда и фамилия… Я понимаю, версия странная, но другой у нас нет. Кроме того, после прочтения этих залежей, как выразился бы Камилл, полицейской мудрости…
Он кивнул на бумаги, а затем принялся не торопясь их разбирать. Я не стал спорить, хотя древние предания как-то слабо вязались с якобинским Парижем. Предки несчастной невесты гражданина Вильбоа были португальцами. Мои предки… Я впервые по-настоящему пожалел, что не могу вспомнить свою фамилию. Но и это не поможет. Даже если тысячу лет назад мои пращуры породнились с таинственными лограми, этого уже не упомнит ни один герольдмейстер. Разве что у меня в предках сам Ланцелот Озерный… Хотя он, кажется, не логр, а ирландец…
– Вот… – Шарль протянул мне стопку бумаг. – Дело о какой-то Мари дю Бретон и выдержки из дела об убийстве Лепелетье…
– Как? – поразился я. – Лепелетье де Сен-Фаржо? Цареубийца?
Поистине, призрак зловещего якобинца не давал мне покоя!
– Он самый, – согласился Вильбоа. – Дело было громкое. Помню, сам немало писал об этом. Ну, остальное мне… Кстати, о каком это ирокезе вы говорили?
– Жених гражданки Тома, – улыбнулся я. – Его индейского имени не знаю, а пишет он под фамилией д'Энваль.
– Альфонс д'Энваль? Я его неплохо знаю. Он ко мне заходил, кажется, позавчера… Очень неосторожный молодой человек!
Сразу же вспомнился наш разговор. «Сен-Дени», пьеса о мертвом Короле…
– Неосторожный? – удивился я как можно естественнее. – Вы имеете в виду его… творчество?
– Да при чем тут творчество? – махнул рукой Вильбоа. – Он ведь бриссотинец! Дружил с Барбару, бывал у Петиона. Если не врут, пользовался благосклонностью самой мадам Ролан.[33] Кстати, навещал ее в тюрьме… Его хотели арестовать еще в июне, но мы с Камиллом заступились. Кстати, был слушок, что Шарлотта Корде перед тем, как зайти в гости к гражданину Марату, навестила своего давнего знакомого д'Энваля…
Я не нашелся, что ответить. Альфонс, любитель старинных манускриптов и собиратель народных баек, – знакомый Корде! Хотя почему бы и нет? Что я о нем знаю? Хорошо, что я не стал с ним откровенничать!
– Я его не осуждаю, – продолжал Вильбоа. – Тогда, года два назад, трудно было еще разобраться. Помню, в мае 92-го к Жоржу зашел Пьер Верньо, так они до утра спорили, что лучше – республика или монархия. Жорж вдвоем с Камиллом защищали Его Величество буквально с пеной у рта. А с Барбару я и сам дружил. Да и кто с ним не дружил! Вот Андре Шенье…
Невольно вспомнился разговор с гражданином Огрызком. Я усмехнулся.
– «Уйду, уйду я вдаль искать себе обитель! Приют, где жизнь моя смирит свой буйный бег…»
– «…Могилу, где мой прах найдет себе ночлег», – негромко закончил Шарль. – Звучит страшновато – особенно теперь. Прямо-таки о наших с вами делах…
Я молча кивнул, не желая развивать эту тему. Да, не всем дано даже это. Не всех пускают на серое близкое небо…
– Я вас расстроил? – удивился Вильбоа. – Помилуйте, гражданин Люсон, сейчас Альфонсу ничего не грозит. По крайней мере, пока.
Я вновь кивнул, собрал бумаги и молча встал. Вильбоа проводил меня внимательным взглядом, но ничего больше не сказал. И мне вдруг показалось, что этот парень о чем-то догадывается. Почему бы и нет? Если даже отставной бриссотинец д'Энваль смог что-то разглядеть своими близорукими глазами…
Уже уходя, я внезапно обернулся и задал вопрос, который давно не давал мне покоя.
– Гражданин Вильбоа, – начал я, пытаясь найти правильные слова, – вы – человек достаточно влиятельный…
– Я? – Темные глаза удивленно мигнули. – Помилуйте…
– Не все дружат с Демуленом. Не все называют гражданина Дантона Жоржем. Могу предположить, что вы – член Якобинского клуба…
– С момента основания, – парень горько усмехнулся. – Кажется, понял, можете не договаривать… Вы хотите спросить, почему я не смог спасти Мишель?
Да, я хотел узнать именно это. Получалось что-то страшное, поистине невозможное – Вильбоа дружил с теми, кто убил его любовь!
– Вы, похоже, не очень разбираетесь в здешней кухне, гражданин Люсон…
– Пожалуй, – не выдержал я. – Зато могу сказать, что это кухня – адова!
– Можете не декларировать свои политические симпатии, – вздохнул он. – Я – человек наблюдательный и давно заметил, какого вы цвета… Мишель поступила очень неосторожно. Она играла главную роль в «Памеле» Невшато. Именно за эту постановку Театр Нации…
– Королевский театр, – вновь не сдержался я.
– Да, бывший Королевский театр был закрыт решением Комитета общественного спасения. Это же решение предусматривало арест всей труппы. Освободить Мишель, даже временно, до суда, мог тоже только Комитет гражданина Робеспьера. Ни Камилл, ни Жорж… гражданин Дантон… в этот Комитет не входят. Более того, у гражданина Дантона сейчас скверные отношения с… Не буду уточнять.
Я кивнул, вспомнив задушевные беседы с гражданами Вадье и Амару.
– Жоржа обвиняют в «снисходительности». Жоржа! Того, кто взял Тюильри! Поэтому мы решили подождать – суд должен быть не скоро. Но при обыске у Мишель нашли письма ее брата, он сейчас в Лондоне. Письма были, признаться, очень откровенными. А дальше – просто. Следователь доложил в Комитет, тот проголосовал за немедленный суд. Все случилось быстро – за несколько часов, мы просто не успели вмешаться. Ну, а из конторы гражданина Фукье де Тенвиля вырваться сложнее, чем из упомянутого вами ада… Камилл бросился к Робеспьеру, они ведь друзья детства. Но даже Робеспьер не может отменить приговор…
– Даже он? – поразился я. – Да что же за порядки в вашей преисподней?
– Знаете, гражданин Люсон, – усмехнулся Шарль, – я рассказал о вас Камиллу – несколько дней назад. Просто рассказал. А он мне и говорит: «Ск-кажи своему спасителю, чтобы уносил н-ноги! Д-добрые патриоты уже след в-взяли…» Признаться, не знал, как вам и рассказать…
– Ноги уносить? – хмыкнул я. – Не дождутся! Итак, подписи Робеспьера мало…
– Мало даже решения Комитета спасения. Нужны подписи Вадье, Робеспьера и прокурора Шометта. А с Шометтом столковаться не легче, чем с Эбером, будь он трижды неладен!.. Имей я хотя бы дня два, то просто попытался бы устроить ей побег. Но приговоры приводятся в исполнение в течение двенадцати часов… Поэтому отнеситесь к предупреждению Камилла серьезнее…
– За предупреждение – спасибо, – кивнул я. – Только гражданину Демулену тоже стоит подумать. Помните сказку про ученика чародея?
– Камилл употребил другое сравнение, – Шарль зло усмехнулся. – Месяц назад он сказал Жоржу: «Мы с тобой вырастили свинью. Свинью, жрущую своих детей…»
Я развел руками – поистине, лучше не скажешь.
– Гражданин Люсон!
В голосе звенел металл. Услыхав такое, хотелось замереть на месте с поднятыми руками. Но я лишь хмыкнул и не спеша обернулся.
Гражданка Тома была бела от гнева. Стекла очков сверкали, как зеркала, которыми Архимед сжег римский флот.
– Между прочим, я сплю по шесть часов в сутки. Утром я занимаюсь больными, а вечером – покойниками. И если вы не хотите, чтобы я занялась вами утром, придется перенести это занятие на вечер!
Меня подстерегли аккурат у входа в заведение гражданки Грилье. Доктор Тома сидела на козлах небольшой коляски, сжимая в руке длинный кнут. В первый миг показалось, что кнут предназначен исключительно для моей скромной персоны.
– Я жду вас целый час, гражданин Люсон! За этот час я могла бы принять пятерых больных! Все, поехали – и только посмейте спорить!
Конечно, спорить я не решился. В таких условиях самый строгий военный устав рекомендует безоговорочную капитуляцию.
Мы ехали долго, но все мои попытки завести разговор игнорировались, если не считать ответом посвистывание кнута над головой бедной лошади.
Наконец слева показалось огромное здание с белыми коринфскими колоннами и широкой мраморной лестницей. Гражданка Тома дернула вожжи, изрекла: «Стой!» и, пока я рассуждал, кому это сказано – мне или лошади, быстро спрыгнула вниз.
– Вам что, Франсуа Ксавье, особое приглашение требуется?
Я не стал ждать упомянутого приглашения и без ропота проследовал вверх по лестнице, после чего был отведен на второй этаж. У двери я хотел поинтересоваться, куда мы попали, но гражданка Тома ограничилась тем, что подтолкнула меня в спину. Толчок вышел изрядный.
Я очутился в комнате, где меня первым делом приветствовал улыбающийся скелет, греющий свои кости у окна. Другой скелет, правда, обтянутый кожей и одетый в черный костюм, сидел за невысоким столом, заваленным бумагами и человеческими костями. Увидев меня, скелет в черном встал. Я не удивился, если бы последовало радостное замечание о вовремя прибывшем обеде, но вместо этого услыхал негромкий, слегка дребезжащий голос:
– Вы га-асподин Люса-ан? Пра-аходите, па-ажалуйста. Здесь кушетка, присаживайтесь…
Мы познакомились. Скелет в черном оказался доктором д'Аллоном («д'Алла-ан, ма-ая фамилия, ма-ала-а-дой чела-авек»), а скелет у окна – обычным учебным пособием для студентов.
– Мадемуазель де Та-ама меня предупредила, – доктор д'Аллон вздохнул и стал не торопясь водружать очки на худой длинный нос. – Итак, сударь, у ва-ас все признаки тяжела-ай ка-антузии – обма-ароки, неадекватная реакция…
– Вскрывать будете? – не выдержал я.
Последовал тяжелый вздох, маленькие глазки оценивающе смерили меня с ног до головы.
– Па-ака ва-аздержимся, ма-ала-адой человек, а-аднако в дальнейшем… Снимите, па-ажалуйста, плащ…
За плащом последовали камзол, жилет и рубашка. Меня осматривали долго, наверно, не меньше, чем раба на аукционе в Санто-Доминго. Затем снова послышался глубокий вздох.
– Галлюцинациями стра-адаете?
– Страдаю, – согласился я. – Сейчас мне кажется, что я в каком-то странном месте, вокруг скелеты…
– А-астраумно, а-астраумно, ма-аладой чела-авек! Ну, можете а-адеваться…
Я повиновался, после чего был выставлен за дверь, и в кабинет ворвалась гражданка Тома. Пробыла она там не меньше получаса. За это время я успел как следует изучить местность, узнать, что заведение, куда меня отконвоировали, – бывшая Королевская медицинская академия, и принять целый парад несчастных в повязках и с костылями, бродивших взад-вперед по коридору. Наконец гражданка Тома вышла из дверей, причем вид у нее был весьма озабоченный.
– Ну что? – усмехнулся я. – Поехали на вскрытие?
– Подойдите, пожалуйста, к свету, – каким-то странным тоном попросила она.
Мы отошли к окну, и Юлия осторожно повернула мою голову:
– Нагнитесь, будьте добры…
И тут я понял – глаза! Кажется, я напрасно веселился…
– Не понимаю…
Юлия сняла очки и устало провела ладонью по лицу.
– Первый раз со мной такое. Тогда, в часовне, я заметила… Вернее, мне показалось, что ваши глаза… Нет, не буду; такое вслух лучше не произносить. К счастью, я ошиблась. Наверно, свет…
– А что ска-азал доктор? – я заставил себя усмехнуться.
– Именно это. Я ошиблась, у вас обычная контузия, последствия которой малоприятны, но вполне излечимы. Сон, хорошая еда…
Я не спорил. Тогда, в часовне, она и в самом деле что-то увидела. Сейчас же, при ярком живом свете, девушка вновь ослепла.
– Извините, что применила к вам форменное насилие, – по ее лицу промелькнула виноватая улыбка. – Надеюсь, вы не станете особо надо мной изгаляться?
– Подумаю, – нахмурился я. – А может, вам сначала на лягушках потренироваться?
– Вы! – Ее глаза знакомо блеснули. – Вы… Вы… Вы – симулянт, Франсуа!
Внезапно мне захотелось ее погладить – как гладят маленького обиженного ребенка.
– Я не симулянт, Юлия, – слова вырвались сами собой. – Я просто дезертир.
Действие 4 Некий шевалье отправляется в весьма странное путешествие, или Часовня Святого Патрика
В этот вечер в комнате было как-то особенно темно, возможно, из-за туч, с полудня нависших над парижскими крышами. Пришлось зажечь еще пару свечей. Вглядываясь в мелкие аккуратные строчки, я начинал понимать, отчего почти все мои знакомые щеголяют в очках. Читать после заката, да еще при здешних узких окнах – верный способ испортить зрение. Там, где я жил, окна совсем другие – широкие, почти во всю стену, да и свет казался иным, куда более ярким, даже в глухую осеннюю пору. Там, где я жил… Интересно, где? В Лионе? Нет, в Лионе дома такие же, как в Париже. Широких окон во всю стену я там не видел…
Я закурил очередную папелитку и отложил в сторону прочитанные бумаги. Их было немного – всего три. Дело гражданки Мари дю Бретон, уроженки города Ванна, осужденной Революционным Трибуналом 5 июня сего года, 1793-го от Рождества Христова, от провозглашения же Французской Республики, Единой и Неделимой, Первого.
Если бы не последний листок, история несчастной мадам дю Бретон показалась бы совершенно обычной и даже скучной. Рядовой эпизод из жизни якобинской преисподней. Наверно, такое случается каждый день. В очереди возникла ссора…
Итак, 2 июня упомянутого года в очереди за хлебом возникла ссора. Некая неизвестная особа обвинила «якобинских разбойников» в том, что хлеба нет уже больше полугода, а за теми крохами, что иногда все-таки подвозятся, приходится занимать очередь еще с вечера. Часть очереди данную особу поддержала, другие же проявили сознательность и кликнули караул Национальной гвардии. В результате трое «зачинщиц» оказались под арестом. Поскольку «неизвестная особа» благополучно скрылась, под суд попали именно они. Двоих вскоре выпустили, а вот третьей здорово не повезло.
Не повезло, как нетрудно было догадаться, упомянутой Мари дю Бретон. Несмотря на частичку «дю», данная особа имела происхождение отнюдь не дворянское. Зато ее муж, к этому времени уже покойный, в свое время служил сержантом гвардии Его Величества…
Какая-то странность заставила остановиться и вновь просмотреть записи, сделанные аккуратным писарским почерком. Мадам дю Бретон из Ванна. Насколько я помнил, этот порт находится именно в Бретани. Многие простолюдины, приезжая в Париж, берут себе подобные фамилии, на слух напоминающие дворянские. Но дю Бретон – фамилия, которую Мари получила от мужа. Остается предположить, что сержант дю Бретон (или его предки) – тоже из Бретани.
Впрочем, к «делу» гражданки дю Бретон это не относилось, поскольку упомянутый супруг скончался в 1787 году, оставив вдову с тремя детьми. На следствии Мари дю Бретон сообщила, что после того, как она перестала получать полагавшуюся ей королевскую пенсию, семья бедствовала, и очень часто дети ложились спать голодными.
Я невольно покачал головой. Трое детей! Пенсию отменили, очевидно, осенью 1792-го, когда гвардия была ликвидирована. Да, вдове пришлось тяжко…
Свидетели дружно указали, что «упомянутая вдова Бретон» активно желала смерти «якобинской шайке», в том числе самому гражданину Неподкупному, называя его «ублюдком» и «кровопийцей». Вину несчастной женщины усугубило и то, что на ней, единственной из арестованных, не было трехцветной кокарды.
Утром пятого июня гражданка дю Бретон предстала перед Трибуналом и вместе с другими, как указывалось в документе, двадцатью тремя «контрреволюционерами» была приговорена к смерти. В тот же вечер вся «связка» была отправлена на площадь Революции, где ее, вероятно, имела возможность наблюдать гражданка Грилье. Приговор был приведен в исполнение, о чем составлен надлежащий акт, выписка из которого прилагалась.
Да, дело выглядело буднично – если бы не последний листок. Бесстрастным, истинно полицейским языком неизвестный мне чиновник комиссариата извещал, что утром следующего дня, то есть 6 июня все того же Первого года Республики, «вышеупомянутую вдову Бретон» заметили возле ее дома. Ошибка исключалась, ее опознали соседи, булочник и даже патрульный Национальной гвардии. Правда, выглядела «вышеупомянутая» весьма странно, на вопросы не отвечала, более того, не узнавала даже своих соседей. Из ее речей, «весьма бессвязных», можно было лишь понять, что Мари дю Бретон желает увидеть своих детей, которым, как следовало из ее слов, вот уже три дня нечего было есть.
Задержать гражданку дю Бретон не решились, но сообщили в местную секцию. Когда прибыл патруль, выяснилось, что «вдова Бретон» направилась к себе домой, «дабы повидать вышеупомянутых детей, якобы лишенных присмотра». «Якобы» – ибо дети после ареста матери были направлены в местный приют (бывший приют монастыря Святого Лазаря). Это и пытались втолковать несчастной соседи, но та, судя по всему, ничего не поняла.
Мари дю Бретон нашли на пороге дома. Она была мертва. Прибывший полицейский врач установил, что несчастная погибла «по причине отсечения головы» не менее полусуток назад, как и гласил «вышеприведенный» акт о казни…
Я прикрыл глаза – читать такое было трудно. Вспомнился старый сырой склеп, обнаженное тело с серебряным крестиком – и страшный обрубок шеи с торчащей желтой костью…
Я так и не понял, что решила всезнающая парижская полиция вместе со своими коллегами из ведомства гражданина Вадье. Расследовать дело не стали, но и закрыть, похоже, не решились. «Дезертирство» вдовы дю Бретон, двадцати девяти лет, из третьего сословия города Ванна, постарались особо не афишировать, однако же копия упомянутого дела была передана лично гражданину Амару.
Выходит, чернявый тоже в курсе этой странной – и страшной – истории! Правда, трудно сказать, воспринял ли он ее всерьез. У гражданина Амару полно дел поважнее…
Я закурил новую папелитку и покосился на внушительного вида бутыль, стоявшую на подоконнике. По уверению того, кто мне ее всучил, в бутыли был настоящий грапп, причем даже не овернский, а марсельский. Но пить не хотелось. Собственно, емкость предназначалась для гостей. Гражданин Вильбоа завтра собирался выписаться из больницы и заглянуть ко мне с визитом, а молодой индеец, оказавшийся ко всему прочему знакомцем Шарлотты Корде, прислал записку, также обещая нагрянуть в гости. Приходилось быть во всеоружии…
Вторая стопка бумаг оказалась куда более внушительной. Неудивительно, ибо речь в ней шла не о скромной сержантской вдове, а о самом гражданине Лепелетье де Сен-Фаржо, чей гипсовый бюст, увенчанный красным каторжным колпаком, стоял справа от входа в зал Оперы.
Биографию якобинского апостола я читать не стал. Достаточно и того, что я помнил. Цареубийца был вовсе не мебельщиком из Сент-Антуана и не медником из Сен-Марсо. Гражданин Лепелетье, владевший дюжиной мануфактур, успел неплохо обогатиться еще при Старом порядке, щедро используя привилегии, предоставлявшиеся Его Величеством французским предпринимателям. Но Сен-Фаржо оказался из тех, кто кусает кормящую его руку.
15 января все того же Первого года Республики гражданин Лепелетье зашел пообедать в ресторацию Феврье, что в Пале-Рояле (в то время уже «бывшем»). Достойного якобинца можно понять – он выполнил тяжкую, но столь нужную Революции работу. Только что гражданин мануфактурщик, вместе с большинством Конвента, проголосовал за казнь «изменника и врага народа» Луи Капета. Неудивительно, что гражданин Лепелетье, приложивший немало усилий, чтобы и остальные обагрили руки в крови Короля, решил утолить голод, правда, не краюхой хлеба с солью, а изысканным раковым супом и мясом по-бургундски.
С супом было покончено быстро, но до десерта дело не дошло. Некий, как было указано в протоколе, «коренастый гражданин с черными волосами и синим лицом…».
Мне показалось, что зрение начинает шалить. Синим лицом? Я протер глаза – все верно. «Синим лицом, небритым подбородком, одетый в широкий камзол…»
Выходила какая-то чушь. Добро, если бы сей документ составил гражданин д'Энваль из племени ирокезов. Но это писал не он, а сотрудник городского комиссариата! Уж там служат люди, знающие цену каждому слову!
Приходилось верить. Итак, «коренастый с синим лицом» спросил у гражданина Лепелетье… Нет, не так. Дотошный чиновник воспроизвел весь разговор – краткий, но поучительный:
«– Вы Лепелетье? Вы голосовали по делу Его Величества?
– Я подал голос за смерть.
– Негодяй! Ты мне и нужен!»
Для чего именно, стало ясно буквально в тот же миг. «Коренастый с синим лицом» выхватил саблю «из-под широкого камзола» и проткнул так и не съевшего десерт Лепелетье насквозь. Случившийся тут же хозяин ресторана гражданин Феврье попытался проявить патриотический пыл и задержать коренастого, но получил сильный удар рукоятью сабли по носу, после чего уже ничто не мешало владельцу широкого камзола беспрепятственно скрыться.
Пока граждане якобинцы волочили хладный труп мануфактурщика прямиком в Пантеон, полиция не теряла времени даром. Убийцу опознали – и Феврье, и четверо иных «добропорядочных граждан». Его хорошо знали – Антуана Пари, бывшего королевского гвардейца. Правда, видеть его здесь никак не ожидали, хотя бы потому…
Хотя бы потому, что Антуан Пари, как показали иные «добродетельные граждане», был убит при штурме Тюильри 10 августа прошлого – 1792 – года. Его фамилия была напечатана в газетах, а прах похоронен на Блошином кладбище вместе с остальными защитниками дворца.
Тот, кто составлял бумагу, похоже, испытывал противоречивые чувства. Во всяком случае, я вновь встретил знакомое слово «якобы». Якобы убит, якобы тело выставили в окне второго этажа, где оно пробыло до 13 августа…
А 15 августа Антуан Пари был арестован на набережной Сены патрулем Национальной гвардии. При аресте он оказал сопротивление, более того, грозил, что «еще не все сделал, что должен». Патруль, очевидно газет не читавший, счел задержанного обычным «контрреволюционером» и направил в тюрьму Аббатства, где содержались несколько десятков гвардейцев, уцелевших после резни.
Итак, тюрьма Аббатства. Пари пробыл в ней всего две недели. Допросить его не успели, а потом было поздно, ибо в воскресенье 2 сентября бывший гвардеец встретил свою вторую смерть.
Похоже, тот, кто составлял документ, уже перестал удивляться. Факты, только факты… Вечером 2 сентября толпа осадила конвой, доставлявший в тюрьму три десятка арестованных священников. Сопротивления конвой не оказал, и двадцать девять несчастных были убиты на месте. Сумел скрыться лишь один. В тоне, которым об этом писалось, явно слышалось сожаление. Итак, двадцать девять убиты, один бежал – а толпа, почуяв кровь, бросилась к тюремным воротам.
Далее шла выписка из показаний некоего Станисласа Майара. Сей гражданин, в свое время, оказывается, лично зарубивший коменданта Бастилии, теперь возглавил революционную «тройку», решившую разобраться с заключенными в тюрьму Аббатства «аристократами». Судьба сорока двух гвардейцев была решена сразу. На жаргоне гражданина Майара это называлось «отправить в Лафорс». «Лафорс» находился тут же – обреченных закалывали заранее припасенными пиками. Впрочем, некоторым пик не досталось, их добивали топорами.
…Внезапно вспомнилось – секция Пик, оплот гражданина Робеспьера. Выходит, название дано не зря!
Гвардейцы встретили гибель по-разному. Но среди просьб о пощаде, проклятий, предсмертных криков гражданин Майар все-таки запомнил ледяное спокойствие Антуана Пари. Со словами «Плевал я на вашу смерть!» он шагнул прямо в толпу – и через минуту его голова уже красовалась на пике…
Так… Я вновь прикрыл глаза и откинулся на спинку стула, приводя мысли в порядок. Гражданин Пари явно прибавил хлопот славным якобинцам. Гвардеец плевал на смерть – и это не было бравадой. Хотя бы потому, что через четыре месяца «коренастый с синим лицом» человек вошел в ресторацию Феврье…
Последняя бумага оказалась совсем свежей, недельной давности. Уже после первых строчек стало ясно – Смерть, два раза промахнувшись, все-таки взяла свое. Труп находившегося в розыске Антуана Пари был обнаружен в одной из деревенских гостиниц Пикардии. К изумлению местных национальных гвардейцев, взломавших дверь запертого номера, тело не только не подавало признаков жизни, но и было покрыто многочисленными ранами, причем кровь давно запеклась, а в воздухе явно слышался запах разложения. При этом, судя по показаниям хозяйки, Антуан Пари прибыл в гостиницу накануне, находясь в добром здравии. Правда, хозяйку смутил странный цвет лица постояльца – синий, словно тот был с перепоя…
Еще раз просмотрев документы, я сообразил, что пропустил нечто важное, и вновь вернулся к началу. Антуан Пари, дворянин, зачислен в Королевскую гвардию в 1784 году… Стоп, откуда он родом? Ответ я нашел тут же – будущий гвардеец родился в Бриньогане. Название мне ничего не говорило, и я пожалел, что не догадался купить карту.
Одна из свечей предательски мигнула и погасла. Я хотел зажечь новую, но передумал. Читать больше не стоит, да и главное я уже понял. И это главное…
Глоток граппа обжег горло. Я с трудом перевел дыхание. Меня не обманули – в бутылке оказалось именно то, что обещано. И вновь, как когда-то у костра, я понял, что огненный напиток не пьянит. А ведь кружка граппа способна свалить с ног королевского гвардейца! Такого, как покойный Антуан Пари…
Амару ждал меня в центре Вандомской площади возле полуразрушенного пьедестала, где когда-то поднимал копыта бронзовый конь Короля-Солнца. Я не помнил этих мест, но говорливый кучер успел подробно поведать и о разрушенном монументе, и о Клубе якобинцев, выходящем окнами на площадь, и даже о подземном ходе, когда-то прорытом под площадью: некий шевалье пожелал быть похороненным аккурат под копытами королевского коня. Очевидно, именно его кости, если, конечно, склеп уцелел, попирал сейчас башмаками гражданин Амару, кутавшийся в теплый длинный плащ. Утро действительно выдалось на диво холодным.
– Я получил вашу записку, – начал я. – Мы же договаривались…
Амару кивнул и поморщился:
– Все к черту! Сегодня чуть не подал прошение об отставке. К счастью, вовремя вспомнил, что с моей должности уходят только на площадь Революции…
Сама площадь Революции находилась в пяти минутах ходьбы, но я специально попросил кучера, чтобы тот объехал ее стороной. Смотреть на хитрое изделие доктора Гильотена не хотелось даже издали.
Чернявый нерешительно оглянулся.
– У нас на первом этаже кофейня, но вам там показываться не стоит. Мы и так нарушаем правила…
«У нас», очевидно, означало в Якобинском клубе, здание которого стояло совсем рядом. Спорить я не стал – пить кофе в подобном месте не тянуло.
Мы свернули налево и оказались на широкой улице, почти пустой, несмотря на то, что утро уже вступило в свои права.
– Давно тут не были? – усмехнулся Амару, заметив, как я оглядываюсь. – Да-да, та самая. Улица Сент-Оноре. Самый короткий путь из Консьержери до площади Революции. Через час здесь будет не протолкнуться.
Я понял – именно по этой улице возят смертников. «Связками», как скотину на убой. Где-то здесь проводит долгие часы мадам Вязальщица. Впрочем, она занимает место поближе к площади.
– Дом впереди видите?
Я пожал плечами. Дом казался совершенно обыкновенным, разве что излишне скромным для этих мест.
– Если это дорога на тот свет, то здесь, вероятно, проживает Цербер?
Амару бросил на меня быстрый взгляд.
– Действительно не знаете? Или…
Оставалось удивиться как можно естественнее.
– Здесь действительно квартирует Цербер. Друзья обычно зовут его Максимилианом Робеспьером. Вон, второй этаж – его окна…
Окна второго этажа оказались закрыты ставнями. Внезапно представилось, как гражданин Неподкупный выглядывает в щелку в ожидании первой телеги с обреченными. Оттуда, со второго этажа, превосходный обзор…
Мы завернули в небольшое кафе. Амару здесь явно знали. Хозяин махнул полотенцем, и один из «мальчиков» принес нам полный дымящийся кофейник.
Я ждал начала разговора, но чернявый не спешил – цедил кофе, время от времени настороженно поглядывая по сторонам. Наконец он оставил чашку, наклонился через стол и впервые улыбнулся.
– У меня уже мания преследования, гражданин Шалье. Все кажется, что за соседним столиком сидит какой-нибудь дружок Шометта или Эбера, не к ночи будь помянут! Итак…
Он держал паузу, и я воспользовался этим, чтобы закурить. Амару хмыкнул:
– Вот видите! Смотрю и думаю, почему вы бросили трубку и перешли на «папелито». Гражданин Шовелен рассказывал, что подарил вам в Лондоне какую-то особую трубку из турецкой вишни…
Я не ошибся – тот, чей документ лежал у меня во внутреннем кармане, действительно курил трубку. Амару наблюдателен. Возможно, он заметил не только это.
– Меня подменили, – сообщил я, пуская кольцо дыма. – Я не агент Шалье. Я страшный роялистский шпион!
– К сожалению, нет, – Амару даже не улыбнулся. – Много бы я дал, чтобы вы были шпионом! Черт! Они что там, у д'Антрега, невидимки? Даже де Батц не смог до них добраться!
Спорить я не стал, но порадовался, что барон – из страха или из жадности – не был достаточно откровенен с чернявым.
– Я попросил вас прийти, гражданин Шалье, потому что дело зашло слишком далеко. Мы были согласны потерпеть месяц-другой, чтобы закончить операцию красиво. Но сейчас не до красоты. Сегодня утром я узнал, что в Кобленце получили сведения о проекте «Лепелетье»…
Поистине, гражданин де Сен-Фаржо не давал мне проходу! Впрочем, то, о чем узнали в Кобленце и на что намекал де Батц, едва ли прямо связано с мануфактурщиком-цареубийцей.
– Если шпион сидит к Комитете общественного спасения, – я развел руками, – следовало ожидать…
Амару как-то странно посмотрел на меня и мрачно усмехнулся:
– О проекте «Лепелетье» ни разу не докладывали на Комитете общественного спасения. Он вообще не проходит по бумагам Конвента. Его финансирование ведется из фонда «Вальми»…
Чернявый вновь сделал паузу, очевидно, давая мне возможность оценить сказанное. Я кивнул, хотя, конечно, ничего не понял. Вальми – возле этого городишки «синий» генерал Келлерман слегка потрепал маршала Брауншвейга…
– Весь проект состоит из трех отдельных программ. Даже если среди исполнителей имеется предатель, весь проект он «засветить» не сможет. Карно – и тот знает только о двух программах из трех. И вот, пожалуйста…
– Но кто-то же знает обо всем, – осторожно заметил я.
Амару кивнул:
– Да, конечно. Знает гражданин Робеспьер. Но у него нет технической документации. Во всяком случае, не должно быть. А именно она попала в Кобленц.
Я отвернулся, чтобы случайный взгляд не выдал моих чувств. Да, похоже, осиное гнездо зашевелилось! Кто-то изрядно ткнул туда палкой…
– Кроме Робеспьера, проектом занимается кто-то из членов Комитета. Но кто – мне не говорят, гражданину Вадье, впрочем, тоже. Но этот неизвестный – не обязательно предатель. Проект «Лепелетье» – масса документов. Не исключено, что в этом случае шпион сумел завербовать кого-то из помощников своего коллеги. Выход один – выйти на группу д'Антрега. Вчера и сегодня я встретился со всеми нашими, кто сейчас в Париже. Вы – самый опытный, гражданин Шалье. Только вы работали с подпольем…
Обнадеживать чернявого не хотелось, но молчать было нельзя. К тому же появился удобный повод узнать нечто новое.
– Что вы можете мне сообщить сверх этого, гражданин Амару?
– Спрашивайте… Но ничего не обещаю.
– Суть проекта? Назначение?
Чернявый молча покачал головой. Я задумался.
– Тот, кто помогает Робеспьеру. Кто это может быть?
Амару усмехнулся:
– Сен-Жюст, Приер-старший и Эро де Сешель. Все трое подходят.
Из этой троицы я кое-что слышал только о Сен-Жюсте. Этот недоросток на каждом углу хвастался, что еще за несколько лет до Смуты публично оскорбил Королеву. Тогда Ее Величество простила наглеца. Два месяца назад гражданин Сен-Жюст лично руководил судом, отправившим Королеву на эшафот…
– И последнее, гражданин Амару. Вы думаете, что шпион и помощник Робеспьера – разные лица?
Чернявый пожал плечами:
– Так думает гражданин Вадье. Но лучше вам поговорить с ним лично. А пока – спешите! Они взяли нас за глотку, еще немного, и…
Я с удовольствием допил кофе, пожалев, что не могу слегка пооткровенничать с чернявым. Я представил, как вытянется его физиономия, когда гражданин «комитетчик» узнает, кто перед ним, и еле сдержал улыбку. Хорошо, когда можно бросить в лицо таким, как он: «Плевал я на вашу смерть!» Ничего, еще успею. Пока же не грех кое-что узнать…
– Мои полномочия, гражданин Амару? Я давно не работал в Париже…
Чернявый пожал плечами:
– Формально – не меньшие, чем у Шометта или Реаля.[34] Но вы правы, здесь, в Париже, все не так просто. Любое ваше решение могут немедленно оспорить. Впрочем, право ареста за вами остается. Кроме делегатов Конвента, конечно…
– Ареста? – я невольно хмыкнул, вспомнив разговор с Вильбоа. – А освобождения?
– В каком смысле? – Амару был явно удивлен. – Вас самого не тронут, вы неприкосновенны. А освобождать… Если что, обратитесь ко мне, но и я не всемогущ. Здесь, увы, Париж. Без санкции Шометта и визы гражданина Робеспьера нельзя освободить даже уличного воришку. Кто у вас расписался на пропуске от Комитета спасения? Бийо-Варенн? Его подписи мало…
Я кивнул, стараясь глядеть в сторону. То, что с удостоверением национального агента Шалье что-то не так, я понял давно. Выходит, чернявый не знает, что первым на документе расписался именно Неподкупный! Он, а не гражданин Вадье! Да, интересно получается…
– Пойду, – Амару встал и поморщился. – У нас новая напасть. Гражданин Ножан из Сен-Марсо собирается брать приступом Конвент. Робеспьер по этому поводу срочно простудился, а гражданина Вадье скрутила подагра. Разбираться, естественно, мне!..
Ножан из Сен-Марсо! Тот, кто стоял в моем списке предпоследним и о ком с таким пылом повествовал гражданин Огрызок. Если он и вправду приведет своих санкюлотов в Тюильри, то такое зрелище пропустить поистине грех!
Шарль Вильбоа закашлялся и судорожно глотнул воздух.
– И вы… И вы это пьете, гражданин Люсон?
– Грапп, – самым наивным тоном пояснил я. – Марсельский. Слабо вам, парижанам?
Полкружки граппа – первое, чем я встретил своего гостя. Вильбоа, выписавшийся утром из больницы, уже успел обегать, по его словам, весь город и теперь завернул ко мне, в «Друг патриота».
Шарль вытер выступившие на глазах слезы и осторожно поставил кружку на стол.
– Ужас… Как такое можно пить? Судя по вашему фанфаронству, гражданин Люсон, вы родом как минимум из Гаскони!
Я лишь развел руками. Край, где даже осенью светит солнце, где широкие окна постоянно открыты свежему морскому ветру…
– Во всяком случае, это полезнее, чем ваше северное пойло, – невозмутимо парировал я. – Патриоты не пьют кло-де-вужо!..
– Так говорил бедняга Барбару, – Шарль грустно улыбнулся. – Он тоже южанин, как и вы… Бог мой, когда он привел сюда марсельцев,[35] на него смотрели, как на святого! Робеспьер даже предлагал поставить его бюст в Законодательном собрании…
– Теперь он предпочитает ограничиться лишь головой гражданина святого, – кивнул я. – Что там наш друг Камилл говорил о свинье?
Вильбоа не ответил, затем не спеша выложил на стол стопку бумаг. Моя часть уже лежала наготове, но я не спешил.
– Можно пару вопросов, гражданин Вильбоа?
Пожатие плеч. Взгляд – странный, какой-то нерешительный.
– Гражданин Люсон… Франсуа… Я обязан вам жизнью и не собираюсь забывать этого. Но на вопросы военного… и иного характера отвечать не буду. Не имею права.
Я не ошибся. Шарль давно понял, какого я цвета. Не хотелось смущать парня, но я решил все же попытаться.
– Всего один шпионский вопрос. Фонд «Вальми».
Вильбоа, похоже, колебался. Наконец вздохнул:
– Ладно! Это уже, собственно, не тайна. О фонде писали не только у нас, но даже в лондонских газетах. Фонд «Вальми» – бывшие королевские ценности, ранее хранившиеся в Гард-Мебле. В сентябре 1792 года их собирались конфисковать, но по приказу Дантона они были тайно изъяты. В газетах напечатали о похищении, даже арестовали каких-то воришек. Теперь это главный секретный фонд Республики. Вначале он составлял 26 миллионов ливров в золоте и драгоценностях. Теперь там значительно больше. Из этих денег была куплена победа при Вальми – маршал Брауншвейг получил знаменитый «Голубой бриллиант» весом в 120 карат. Сейчас фонд финансирует все наши секретные операции. Говорят, именно из-за этих денег поссорились Бриссо и Робеспьер…
– Забавно, – согласился я. – Вожди Революции не могут поделить дамские колье. Интересно, сколько хлеба для добрых санкюлотов можно было приобрести за «Голубой бриллиант»?
Вильбоа пожал плечами. Впрочем, развивать тему я не стал.
– А теперь по-настоящему шпионский вопрос, Шарль. Город Бриньоган, где это?
– Бретань. Маленький городишко, живут в основном рыбаки. Поблизости знаменитая церковь Святого Иринея, которую недавно сжег гражданин Россиньоль. Я там бывал до войны. А что?
Я чуть не присвистнул от удивления. Недаром я запомнил это название. Бретань!
– Бретань! – повторил я вслух. – Любопытно получается, гражданин Вильбоа! Дело в том, что оба мои «дезертира», – я кивнул на бумаги, – родом из Бретани. А ваши?
– Один, – последовал быстрый ответ. – Некто граф Элоа, уверявший, что он потомок герцогов Бретонских. Никакой он не граф и не потомок, но действительно родом из Ванна…
– Как и несчастная Мари дю Бретон, забывшая надеть трехцветную кокарду! Ладно, Шарль, кажется, пора обменяться впечатлениями.
Он слушал внимательно, время от времени делая быстрые пометки свинцовым карандашом на обрывке бумаги. Я старался не увлекаться, но все же не удержался, чтобы не обратить внимание на совпадения – странные, пугающие…
– Так, – наконец подытожил Вильбоа, проглядывая записи, – что из всего этого следует?
– Что мы не сошли с ума, – медленно, убеждая самого себя, проговорил я. – Это было.
– Да… – помолчав, согласился Вильбоа. – Это было, и мы не сошли с ума. В Париже много безумцев, но никто бы не смог выдумать такие подробности.
– Все совпадает, – кивнул я. – Дезертиры почти ничего не помнят. И всем им надо что-то сделать.
…Нет, не им – нам. Я прикрыл глаза и вновь увидел небо – серое, неровное. Оно было так близко – только протяни руку. Но нас не пустили, бросив назад, на отвергнувшую нас землю – потерявших память, забывших обо всем. Отпустили назад – завершить несделанное. Мари дю Бретон хотела накормить детей, Антуан Пари – отомстить, несчастная мадемуазель Араужо – встретить своего жениха, а я… А я пытался найти «Синий циферблат», чтобы исполнить клятву – клятву, которую я забыл вместе со своим именем.
– Что с вами, Франсуа?
Я очнулся и в первый миг никак не мог понять, где нахожусь. Почему-то казалось, что вокруг – черное вспаханное поле, такие же черные деревья – и синие мундиры из славной роты Лепелетье, добивающие раненых. Нет, это уже было… Или мне все чудится и подо мной по-прежнему холодная земля?..
– Ничего, – проговорил я как можно спокойнее. – Пройдет.
Голос прозвучал странно – хрипло, точно чужой. Вильбоа покачал головой:
– Гражданка Тома мне на вас целый час жаловалась! И лечиться вы не желаете, и ее чуть ли не третируете. Я грешным делом уже подумывал… А вы, похоже, действительно больны, Франсуа!
– Легкая контузия, – я наконец-то смог улыбнуться. – Защищал Республику, Единую и Неделимую, от внешних и внутренних врагов. И перестаньте намекать, Шарль! У гражданки Тома имеется жених.
Вильбоа произнес нечто вроде «ум-гу», и я решил, что все-таки заставлю его выпить еще полкружки граппа. Будет знать!
– Ладно, поглядим мою «связку», – Шарль разложил бумаги и взял в руки первую стопку. – Начнем с простого…
– Погодите, Шарль, – я помедлил, не решаясь продолжить. – Извините за вопрос, но следует разобраться во всем до конца. Когда я встретил Мишель Араужо, она повторяла одно и то же: «Я должна…» Как и все прочие. А потом мы находим вас. Что все-таки случилось? Почему?
Лицо его дернулось – и вдруг застыло, как тогда, за столиком в «Прокопе».
– Я нашел Мишель в склепе. Просто шел по кладбищу – и вдруг услыхал ее голос. Сейчас бы я, наверно, сошел с ума от страха, но тогда даже не особенно удивился. Когда я вошел, она бросилась ко мне. Было темно, но мне почему-то показалось, что на ней нет одежды. Она говорила очень быстро, невнятно, но я все-таки понял. Она говорила о моей клятве…
Шарль на миг умолк, а затем продолжил – все с тем же ледяным спокойствием:
– Полгода назад, когда мы… В общем, мы поклялись, что будем вместе жить – и вместе умрем. Конечно, ни я, ни она не думали о смерти. Знаете, тогда, ночью, я сразу понял, что с Мишель что-то не так. Словно это уже не она… Мишель все твердила, что не хочет оставаться одна, потом обняла меня. На поясе я всегда ношу нож… Вот и все, Франсуа.
– Извините, – повторил я. – Вы правы, это была уже не она. Оттуда не возвращаются прежними.
Шарль кивнул, а я подумал, что не меня одного держала на этой земле клятва. Клятва, не пустившая на серое небо… Господи, не дай стать таким, как несчастная Мишель!..
– Все в порядке. – Лицо парня вновь стало прежним, он даже улыбнулся. – Будем считать это случаем номер три… Итак, продолжим. Случай, чем-то подобный вашему. Некий бродяга, именем Жан, родства не помнящий, по прозвищу Полтора Куска…
Бродягу арестовали на рынке 15 мая, когда он пытался разменять фальшивый ассигнат. Несмотря на уверения Жана, родства не помнящего, что этот ассигнат он попросту вытащил из чьего-то кармана, трибунал признал его участником заговора фальшивомонетчиков и отправил на площадь Революции. Телега с «фальшивомонетчиками» проследовала мимо окон гражданина Робеспьера, а вечером следующего дня Полтора Куска вновь появился на рынке. Его арестовали только через неделю. В камере он, по свидетельству соузников, плакал и просился на волю, где у него имелось какое-то «дельце». А наутро на соломе нашли труп – безгласный и безголовый. Тюремный врач констатировал, что Полтора Куска умер не менее шести дней назад.
– И у него было какое-то дело, – подытожил Вильбоа. – Все как и раньше. Но вот последний случай… Вы Калиостро помните?
– Кого?! – поразился я.
– Джузеппе Бальзамо. Проходимца, что выдавал себя за восточного мага. Дело об ожерелье Королевы!
Странно, но это я помнил. Более того, кажется, был знаком с этим странным человеком…
– Бальзамо арестовали, и он просидел пару месяцев в Бастилии. Это все знают. Но менее известно, что по этому делу арестовали одного его знакомого, который тоже уверял, будто он маг и заодно египетский масон. Они сидели в соседних камерах. Так вот, это и был граф Элоа…
…Калиостро вскоре выпустили, его соседу повезло меньше. Ибо самозваный «граф Элоа» оказался запутан не только в дело воровки де Ла Мотт. К знакомцу Калиостро имела серьезные претензии Святая Католическая Церковь…
– Секта граалитов. Не слыхали? Вот, это нечто вроде их визитной карточки, – Вильбоа протянул мне очередной листок бумаги. – Секта очень старая, возникла веке в четырнадцатом. Основатель – какой-то брат Алоизиус из миноритов. Их прокляли еще на Феррарском соборе…
На листке я заметил несколько строчек на непонятном языке – и герб, странный герб с графской короной, лишенной обруча, и непривычного вида крестом.
– Я писал о них когда-то, – продолжал Вильбоа. – Странные люди, признаться! Они уверены, будто знают, где хранится Святой Грааль. Между прочим, в этом уверены не они одни; Калиостро, если помните, тоже говорил нечто подобное. Но граф Элоа не забывал прибавлять, что они, граалиты, – истинные христиане, а вот Католическая Церковь – синагога Сатаны. Даже в те либеральные времена такое не прощалось!
…Отсидев в Бастилии, граф Элоа вышел на свободу за год до начала Смуты, после чего исчез и объявился в Париже осенью 1792 года. Он пытался подать прошение в Законодательное собрание о регистрации «Истинной Церкви Святого Грааля», но добился лишь того, что сам был арестован как контрреволюционер и эмигрант. В апреле 1793-го беднягу граалита потащили в Революционный Трибунал…
– А вот тут уже интересно, – Шарль взял в руки очередной лист, исписанный аккуратным полицейским почерком. – В отличие от остальных он оказался очень разговорчив. Настолько, что его чуть не признали невменяемым. Вот, пожалуйста… «Обвиняемый утверждает, что состоит в непосредственном общении с Высоким Небом…»
– Как? – удивился я.
– Высоким Небом – так записано. Далее… «Обвиняемый неоднократно заявлял, что случилось явное недоразумение, поскольку он, как истинный логр, не подлежит никакому человеческому суду, ни светскому, ни церковному…» Итак, снова логры!
– Наверно, он тоже читал книгу монсеньора Орсини, – предположил я.
– И еще добавьте – спятил. Присяжные, между прочим, так и подумали, но граждане медики признали графа полностью вменяемым. Последствия очевидны…
Я вспомнил пустынную улицу, ведущую к площади Революции. Поистине дорога в ад широка! Дорога, идущая мимо закрытых ставнями окон…
– Остальное понятно, – предположил я, – граф Элоа попал в очередную «связку»…
– И был направлен на свидание с гражданином Сансоном.[36] А через два дня…
Графа нашли на ступенях церкви Святого Роха. Теперь уже никто бы не признал его здоровым – несчастный плакал, никого не узнавая, и бормотал нечто совершенно непонятное. Священник, пытавшийся ему помочь, рассказал, что Элоа каялся в ереси и молил Всевышнего даровать ему смерть. Национальные гвардейцы уже спешили к церкви, чтобы исполнить желание несчастного, но в последний момент Элоа исчез. Священник сообщил прибывшему патрулю, что бедняга пошел искать святого Патрика, который якобы может ему помочь. Поиски ничего не дали, но на следующий день графа заметили возле кладбища Невинноубиенных Младенцев. Больше о графе Элоа никто ничего не слыхал.
– А теперь смотрите, Франсуа! – Шарль Вильбоа разложил документы четырьмя стопками. – Двое родом из Бретани. Совпадение?
Я пожал плечами. Если и совпадение, то странное.
– Ну, гражданин Полтора Куска и сам, наверно, не знал, откуда родом, но вот граф… Смею вам напомнить, родина логров – именно Бретань.
– Король Артур правил в Камелоте, – вздохнул я. – Это вы прочтете в любой детской книжке. А Камелот, как известно…
Вильбоа хмыкнул:
– Под боком у гражданина Питта Младшего. Да, в детских книжках и у Мэллори написано именно так. Но это выдумали уже в Новое время. А вот в средневековых текстах сказано, что логры, они же дэрги, обитали прежде всего во Франции, а их столица находилась где-то неподалеку от нынешнего Ванна. Мэллори же, как истинный британский патриот, перенес Артура вместе со всем его королевством в туманный Альбион.
Я тут же вспомнил гражданина индейца. Уж он-то, наверно, знает!
– Итак, пока все сходится, – заключил Вильбоа. – Бретань, логры…
– Король Артур и Ланцелот Озерный, – я покачал головой. – Шарль, ничего не сходится! Я, конечно, не столь опытен, как гражданин Сименон, но будь я на его месте…
Я вспомнил желтые прокуренные усы достойного комиссара и невольно улыбнулся.
– Смотрите, Шарль! То, что трое бедняг – из Бретани, вовсе не означает, что они потомки рыцарей Круглого стола. Да, странновато, конечно, но в Париже живут тысячи бретонцев. Бог весть, что все сие может значить! Теперь ваш Элоа…
Я представил, что мог чувствовать этот человек, и пожалел бедолагу.
– Он сектант и, что бы там ни говорили медики, человек не вполне нормальный. Вероятно, он верил, будто знает, где Грааль, и вполне искренне считал себя логром. И вот этот несчастный приходит в себя. Он ничего не помнит и не понимает, кроме одного – он должен был умереть, но почему-то жив. Наверно, бедняга решил, что Высокое Небо, которому он поклонялся, почему-то отвергло своего сына. В ужасе он бросается к ближайшему храму…
– Святой Патрик, – негромко напомнил Вильбоа.
– Ну, не знаю… – растерялся я. – В его состоянии…
– Святой Патрик крестил не только ирландцев. По некоторым преданиям, именно он – креститель логров. Так что в своем безумии граф Элоа был удивительно последователен.
– Остается найти его самого, – заключил я. – Знать бы, где обитает Святой Патрик…
Этого знать нам было не дано, но я уже твердо решил, что заставлю гражданина д'Энваля прояснить некоторые подробности. Зря, что ли, я слушал байки про Жеводанского Волка?!
– Значит, логры вас не устраивают, гражданин Люсон? – Вильбоа сложил бумаги и спрятал их в большой кожаный портфель. – Другой версии у меня для вас нет.
– Кроме Всевышнего, – вырвалось у меня.
Ответом был недоуменный взгляд. Пришлось пояснить, хотя менее всего хотелось говорить на эту тему с якобинцем.
– Господь почему-то рассудил именно так. Эти несчастные остались на земле по Его воле. Может, это кара, может – награда…
Вильбоа долго молчал, затем покачал головой.
– Я уважаю ваши убеждения, Франсуа. Но я – атеист. Перефразируя Лапласа, могу сказать: для моих рассуждений не требуется бог. Даже если он есть, какое ему дело до гражданки дю Бретон или до нас с вами?
– И до всей Франции, – вновь не выдержал я. – Франции, убившей Короля и растоптавшей Церковь!
Наши глаза встретились, и Вильбоа первым отвел взгляд.
– Я не стану спорить с вами, Франсуа. Вы – «белый», я – республиканец. Мы ничего не докажем друг другу. Странно, правда? При других обстоятельствах мы бы вцепились друг другу в горло…
– Уже нет, – негромко проговорил я. – Уже нет, Шарль. Моя война закончилась.
Да, моя война закончилась – в тот миг, когда я повстречался со Смертью по имени Бротто. Или даже раньше? Не тогда ли, когда на моих глазах тяжелый треугольный нож из темной стали обезглавил де Руаньяка? Я стоял совсем рядом и мог даже видеть, как неслышно шевелятся побелевшие губы, читая молитву, как они брезгливо дернулись, когда палач прикоснулся к плечу командующего армии Святого Сердца…
– Я мог бы спросить, кто вы? – вновь заговорил Вильбоа. – Я мог бы спросить, чем вам помочь?
«Это не так сложно, – хотел сказать я. – Мне нужно совсем немного: «Синий циферблат» – и клятва, которую я не в силах выполнить». Но якобинец Шарль Вильбоа, друг Камилла Демулена и Жоржа Дантона, не в силах мне помочь – как не могу этого я сам и, возможно, не сможет никто в этом заповеднике Смерти, именуемом славным городом Парижем.
– А гражданин Давид предлагает все это снести! – Альфонс д'Энваль широко раскинул руки, словно пытаясь стать на пути указанного гражданина. – Все! Собор, эти дома, улицы. О, человеческая глупость! О-о!
Позади остались тихие улочки Латинского квартала, а впереди, закрывая небо, высилась темная громада собора Богоматери. Именно сюда затянул нас индеец после небольшой прогулки по закоулкам Старого Ситэ.
Оказались мы здесь, в общем-то, случайно. Утром, перекусив в небольшом трактире на углу, я вернулся в «Друг патриота», обдумывая некий визит, который представлялся мне все более и более полезным. Однако не успел я выкурить первую папелитку, как в двери постучали и на пороге появился молодой ирокез собственной персоной. За ним, в полутьме коридора, грозно поблескивая стеклышками очков, обозначился призрак гражданки Тома – в шляпке и мужском широкополом плаще.
Вначале я решил, что меня намерены отвезти на вскрытие к гражданину д'Аллону. Но гости вели себя мирно, и мне оставалось предположить, что гражданку доктора просто выгнали с работы. Все оказалось проще. День, который я по наивности принял за вторник, оказался «днем Декады». Французская Республика, Единая и Неделимая, милостиво разрешила в этот день всем добрым патриотам предаваться отдыху – вместо отмененного воскресенья. Неугомонный д'Энваль решил пригласить меня на прогулку. Я без особых колебаний согласился – думать можно и прогуливаясь.
Индеец хотел проплыть по Сене на небольшой барке, возившей влюбленные парочки и просто любопытных по воскресным (то есть «декадным») дням с запада на восток и обратно. Но день выдался еще прохладней, чем предыдущий, вдобавок дул сильный ветер, гонявший белые барашки на обычно спокойной реке, и гражданка Тома решительно заявила, что конечным пунктом нашего плавания непременно станет больница академии, а то и мертвецкая на кладбище Дез-Ар. Индеец попытался спорить, но после первой же фразы чихнул, что вызвало зловещую ухмылку его невесты. Наконец был найден компромисс. Через реку мы все-таки перебрались, правда по мосту, и решили пройтись по тихому в этот «декадный» день Латинскому кварталу, где ветер не в силах проникнуть за вековые стены старых домов, сгрудившихся вдоль узких улочек, помнивших еще Абеляра и святого Сугерия.
Гражданин д'Энваль воспрял и более часа рассказывал нам какие-то давние байки об отчаянных школярах средневековой Сорбонны и о забытом поэте по имени Франсуа Виллон, воспевшем здесь каждый кабачок, а впоследствии угодившем на Монфоконскую виселицу. Под этот веселый рассказ мы прошли весь университет, миновали маленькую, устланную брусчаткой площадь и оказались у собора.
– Разрушить это! – индеец вновь воздел руки к покрытому облаками небу. – О, слепота!
– А зачем разрушать? – деловито осведомилась гражданка Тома, оглядывая собор так, словно перед ней был очередной пациент из числа безнадежных. – Хотя… С точки зрения современного градостроительства…
– О господи, Юлия! О-о!
От волнения Альфонс даже помянул Творца, что случалось с ним нечасто.
– Очевидно, гражданин Давид желает воздвигнуть здесь бронзовую статую Свободы-Равенства-Братства высотой в четверть лье, дабы ее было видно даже из Лондона, – предположил я. – Причем сия статуя будет вращаться и петь «Марсельезу»…
– Вы почти угадали, друг мой, – вздохнул индеец. – Гражданин Давид желает построить тут Дворец Республики. Но почему здесь? Собор Богоматери не просто красив, он уникален! Такого больше нет!
– Вы ошибаетесь, гражданин д'Энваль, – поспешил уточнить я. – Это уже не собор Богоматери, а храм Разума с гражданином Шометтом в качестве верховного шамана.
Об этом мне рассказала лично гражданка Грилье. Мадам Вязальщица приняла активное участие в разгроме храма. Средь оскверненных стен граждане якобинцы устроили шабаш с актрисой Кандейль в качестве воплощения упомянутого Разума. Якобинский Разум был гол, зато обильно напудрен.
– Чушь! – поморщилась гражданка Тома. – Все это, конечно, чушь и мумба-юмба, но я читала, что собор не представляет особой ценности. Варварская средневековая архитектура, полное отсутствие гармонии…
Похоже, она напрочь забыла клятву Гиппократа, поскольку д'Энваля едва не хватил удар. Глотнув воздуха, он едва удержался на ногах, отчаянно замахал руками и наконец выдохнул:
– Юлия! О, что вы говорите! О-о! Как можно повторять бредни господ классиков! Это же готика! Великая французская готика!
– Архитектура готов, – отрезала гражданка Тома. – Очень впечатляет!
Слушать этих молодых людей было забавно. Влюбленные спорят об архитектуре. Вероятно, по остальным вопросам у них полное единство взглядов.
– Готика! О-о! – Индеец раскраснелся, очки сползли на нос, грозя упасть прямо на булыжники мостовой. – Это самое великое, что создали французы! Посмотрите! Здесь нет ни одной прямой линии, как у этих скучных римлян, чьи храмы больше походят на казармы! Надо быть слепым…
Говорил он долго и столь же горячо. Я поймал насмешливый взгляд гражданки Тома и поспешил отвернуться. Да, собор прекрасен, и поистине надо быть гражданином Давидом, чтобы поднять руку на этого древнего Голиафа. Готика, классика – разве в этом дело? Это все равно что вонзить секиру в тысячелетний дуб – и посадить на его месте нелепый саженец под названием Дерево Свободы…
– Нет, нет! – Д'Энваль с неожиданной ловкостью подхватил падающие очки. – Этого не будет! Нет, не будет, о-о! Мы устроим здесь музей, Музей Франции, Музей Средневековья…
Индеец вздохнул, переводя дыхание, а затем принялся тщательно протирать очки.
– У вас, похоже, иная точка зрения, гражданин Люсон? – Юлия повернулась ко мне, и голос ее прозвучал неожиданно серьезно.
Я улыбнулся и развел руками – не хуже молодого ирокеза.
– О гражданка Тома, о-о! Ваша проницательность…
– Моя проницательность, как сказал бы Альфонс, бродит в потемках. Такой «аристо», как вы…
– Мой друг! – поспешил вмешаться ирокез. – Не слушайте ее! А вы, Юлия, поистине ничем не лучше гражданина Давида! Гражданин Люсон – не «аристо»! Он – единственный, кто понимает, что такое истинная культура, истинная красота…
Я весьма удивился, девушка же покачала головой:
– Альфонс, можете не волноваться. Я не собираюсь отправлять нашего Франсуа Ксавье к гражданину Тенвилю…
– Спасибо, – не преминул вставить я.
– …Просто не могу забыть, как вы вместе с гражданином Давидом всего год назад…
Она не стала договаривать, но этого хватило. Индеец явно скис. Похоже, бриссотинское прошлое гражданина д'Энваля было не особо безоблачным.
– Я ошибался, – Альфонс улыбнулся достаточно жалко. – О, как мы все ошибались, о-о! И вы, Юлия…
– Но я не предлагала устанавливать гильотины в каждом квартале! – отрезала девушка. – Я врач, а не убийца!
Пора было вмешаться. Беднягу индейца было жаль. Драматург в золотых очках никак не походил на кровожадного санкюлота. Очевидно, Альфонс из тех людей, что постоянно увлекаются чем-то новым. Сегодня – средневековыми рукописями, вчера – изделием доктора Гильотена.
– Мир вам! – изрек я. – Гражданка Тома, не становитесь фурией! А вы, гражданин д'Энваль, забудьте о депутате Давиде и аггелах его и просветите меня в вопросе о лограх и святом Патрике.
Именно это я хотел узнать у любителя манускриптов. Индеец моргнул, отчего очки вновь чуть не упали с носа.
– Логры? О, логры! Ну-у…
– Пора домой, – решительно заявила гражданка Тома. – Холодно! Если вас, граждане, интересует всякий хлам, то поговорите по дороге.
Индеец не нашелся, что ответить, и покорно поплелся за девушкой. Я мог лишь в очередной раз посочувствовать Альфонсу. Удивительно, что он еще не начал заикаться, подобно гражданину Демулену. Интересно, как у того с личной жизнью?
– Логры жили во времена короля Артура, – сообщил д'Энваль, когда мы вновь углубились в узкие улочки Латинского квартала, направляясь к набережной. – А король Артур правил в Камелоте, и у него был меч под названием Эскалибур… Но, честно говоря, вам лучше почитать Мэллори, друг мой. Меня сейчас интересует древняя Франция. Логры – это Англия…
Я понял, что надеялся напрасно. Вильбоа оказался куда больше подкован в логрском вопросе.
– Ну, а святого Патрика во Франции почти не знают, – продолжал Альфонс. – Единственную церковь его имени в Париже закрыли еще в прошлом веке…
– Здесь была церковь Святого Патрика? – насторожился я. – Где?
Несчастный граф Элоа не смог найти помощи у святого Роха. И тогда он пошел искать защиту у крестителя логров…
– Кладбищенская церковь, – пожал плечами индеец. – Вернее, катакомбная. Где-то под кладбищем Невинноубиенных Младенцев. Ее основала ирландская община… Или даже не ирландская, точно, признаться, не помню… При Людовике Солнце церковь закрыли.
Я замер. Кладбище Невинноубиенных! Графа Элоа в последний раз видели именно там! Катакомбы!
– На кладбище есть вход в подземелье, – внезапно заявила гражданка Тома, казалось, не обращавшая внимания на наш разговор. – Я видела эту церковь.
– Вы?! – Мы с Альфонсом изумленно переглянулись.
– А что тут такого? – девушка недоуменно пожала плечами. – Пять лет назад ратуша создала комиссию по переносу старых клабищ. Отец был товарищем председателя. Кто-то предложил перенести останки с центральных кладбищ города в катакомбы. Там еще в Средневековье были какие-то захоронения… В общем, когда комиссия собралась осмотреть подземелье, я к ним, так сказать, примкнула. Из научного любопытства.
– И церковь Святого Патрика… – напомнил я.
– Обычная часовня, несколько захоронений, костница. Где-то в получасе ходьбы, если спускаться от кладбища Невинноубиенных… Вы что, туда собрались, Франсуа Ксавье?
– Ну-у… – немного растерялся я.
– И не думайте! Хотя бы потому, что сейчас все входы в катакомбы под охраной Национальной гвардии. Требуется специальный пропуск – уж не знаю, за чьей подписью. Да и вообще, там сыро и холодно, живо подхватите горячку…
Я и не думал спорить. Конечно, сейчас в катакомбах и холодно, и сыро, входы под охраной бдительных граждан в синих шинелях… Интересно, кому они подчиняются? Не гражданину ли Демулену? А если не ему…
– Друг мой! – Горячий шепот д'Энваля прервал мои размышления. – Если вы и вправду собрались туда, в мир мрака…
– И не думайте, Альфонс! – отрезала Юлия. – Никуда я вас не пущу! И вас, Франсуа Ксавье, тоже! Объектов для вскрытия мне вполне хватает!
Ирокез сник, а я не удержался от улыбки, прикидывая, что лучше: найти Вильбоа или ехать сразу к его заикающемуся приятелю?
– Шарль зд-десь! – Демулен улыбнулся, и я вновь подумал, насколько обаятелен этот якобинец. – П-прошу в гости! У н-нас нечто вроде мальчишника по поводу д-дня Декады и отъезда моей супруги.
– Если это из Конвента, гони к свинячьим чертям! – прогремел из глубины квартиры густой бас. – Надоели эти засранцы, мать их! А если это Робеспьер или кто-нибудь из его говенного Комитета – спусти его с лестницы!
Я почувствовал, как моя челюсть начинает отвисать.
– Н-не удивляйтесь, – шепнул Демулен. – Это Жорж, он всегда т-такой. Проходите.
Я едва успел снять плащ и отдать невозмутимому лакею шляпу, как дверь отворилась и в прихожую выглянул Вильбоа.
– Вы? – Похоже, мое появление его изрядно удивило. – Что-нибудь случилось?
– Заезжал к вам, – пояснил я. – Но мне сказали, что вы у Камилла.
– И п-правильно, – заключил Демулен. – Прошу, з-заходите. Мы как раз собирались ужинать…
– Да кого там черти на хрен принесли? – вновь прогудел бас. – Выпить не дают, мать их!.. Камилл, Шарль, куда вы пропали, черт вас раздери?!
Не успел я войти в комнату, как на меня надвинулось что-то огромное, широкоплечее…
– А это еще кто?! – прогремело над ухом. – Вандейцы что, уже Париж взяли?
– Именем Короля! – охотно отозвался я. – Руки вверх, гражданин Дантон!
Великан на миг оторопел, но тут же громыхнул хохот, от которого мелко зазвенела люстра.
– Правильно! Смелость, смелость и еще раз смелость! Если б я был на месте говнюка Шаретта, то давно уже превратил бы засранцев этого скотоложца Россиньоля в итальянскую вермишель! Да хрен там, в вермишель! В говно! Будем знакомы, гражданин! Я – Жорж Дантон, меня боятся все, кроме Камилла, но он тоже меня боится, иначе не бегал бы к этому евнуху Робеспьеру каждую неделю, чтобы плакаться в жилетку…
– Это г-гражданин Люсон, – поспешил вставить Демулен, – к-который…
– А-а! Спаситель нашего Шарля! – Широкая лапа по-медвежьи сжала мою кисть. – Очень рад, хотя, говорят, вы истинный «аристо»…
– Жорж! – попытался вмешаться Демулен, но гигант резко взмахнул рукой, отчего по комнате пронесся не ветер, а целый ураган.
– Лучше, мать его, быть настоящим «аристо», чем валять дурака с красными колпаками и карманьолой! Вы бы видели, гражданин Люсон, этого говнюка из говнюков Филиппа, прости господи, Эгалите,[37] когда он переодевался сапожником и пытался изображать из себя санкюлота! Какого хрена! Если ты аристократ – то будь аристократом…
– И не п-превращайся из Дантона в д'Антона, – самым невинным тоном добавил Камилл.
Послышалось грозное сопение, сменившееся, однако, добродушным смехом.
– Уел! Что было, то было! Когда ты приезжаешь в Париж из такой навозной дыры, как мой Арси-сюр-Об, приходится привлекать к себе внимание. Кстати, Камилл, разве не в моей конторе ты изрядно зарабатывал на дворянских титулах?
– А ты нам не рассказывал, Жорж! – вставил Вильбоа, похоже, давно привыкший к подобным эскападам гражданина Титана.
– И сейчас не буду! Сначала мы выпьем, иначе на кой хрен я сюда, спрашивается, приперся? Вы чего пьете, гражданин Люсон?
– Грапп, – сообщил я, заметив в глубине комнаты стол, густо уставленный бутылками.
– Ка-ак? – Титан обомлел. – А-а! Понял! Вы южанин, не иначе из проклятой Жиронды, где все пьют грапп и любят Бриссо. Нет, грапп мы пить не будем, мы будем пить шампанское, хотя один мой знакомый недоносок считает, что оно – яд свободы!
Яд свободы? В этом было что-то знакомое!
– П-прошу к столу, – вставил Демулен. – Все готово.
– И не проси, сами догадаемся, – рявкнул исполин и круто развернулся по направлению к батарее бутылок. – Шарль, разливаешь ты, а то Камилл зальет нас, как обычно, с ног до головы.
Первая бутылка была выпита в мгновение ока, затем открыли вторую, после чего по требованию Титана – и третью, которую он осушил уже сам, без нашей помощи.
– Лучше! – подумав, констатировал гражданин Дантон. – Денек был говенный, но кончается не так плохо… Так вот, о титулах, господа и граждане. Первые два года я в этом вонючем Париже ни хрена не мог заработать. А потом догадался – стал вести дела тех ублюдков, что мечтали получить дворянство. Ну, мы с них и лупили, правда, Камилл?
Демулен улыбнулся. Похоже, это воспоминание доставило ему немалое удовольствие.
– Представляете, гражданин Люсон, последнее дело я выиграл за день до штурма Тюильри! До сих пор помню – какой-то Эссон хотел стать д'Эссоном. Он побыл им часа четыре – пока я не свистнул Барбару с его волками-марсельцами и мы все разом не кинули корону вместе с дворянством и прочей херней в нужник. Ну, марсельцы! Помнишь, Шарль, как мы с ними чуть не подрались? Эти говнюки, гражданин Люсон, только приперлись в Париж, стали требовать девок и водки. Представляете? Толпа в пятьсот голодных вонючих парней, забывших, что такое бритва и полотенце, зато злых, как бесы! Водки я им поставил, а с девками вышла целая история…
Грубое, иссеченное шрамами лицо довольно ухмылялось. Ему было что вспомнить – Титану, свергнувшему тысячелетнюю монархию. Я вдруг подумал, что таким и должен быть Дьявол. Не мелкий бес господина Лесажа, а истинный Дьявол, сумевший искусить Францию и бросить страну против Короля. Огромный, грубый, страшный – и дьявольски обаятельный. Нет, не обаятельный! Это слово казалось слишком слабым. В Титане ощущалась сила, невероятная мощь, способная увлечь любого – и друга, и врага…
Воспользовавшись тем, что гражданин Дантон стал язвить гражданина Демулена, называя его «робеспьеровской рептилией», я подмигнул Шарлю.
– Есть новости? – понял он.
– Святой Патрик. Церковь в катакомбах возле кладбища Невинноубиенных.
– Кой хрен вы там шепчетесь? – грянул Дантон. – Опять заговоры против, мать ее, Республики, Единой и Неделимой? Поскольку эта зеленая свинья Робеспьер уверен, что я главный заговорщик, мне тоже хочется поучаствовать! Или вы просто по девкам собрались?
Мы с Вильбоа переглянулись. В конце концов, помощь нам понадобится, хотя бы чтоб попасть в катакомбы.
– Я хочу написать о парижских подземельях, – начал Шарль. – Там есть…
– …ревматизм! – буркнул Титан. – Черт побери! Почему я не позакрывал к свиньям собачьим все газетенки, пока был министром! Это все ты, Камилл! Свобода слова, свобода слова, мать ее! Писаки хреновы!
Шарль с невозмутимым видом выслушал сию грозную тираду, а затем поднял руку, словно ученик в классе.
– Слова сказать не дадут! – рыкнул исполин. – Да понял я, понял! Вы чего, вампиров искать собрались? Полгода назад является ко мне один говнюк, англичанишка гребаный. Кинг, кажись, его звали… Нет, не Кинг. Стокер, что ли? И давай молоть, что, мол, гражданин Дантон, давайте изведем вампиров, которые из трудового народа кровь пьют. Я, мол, все вампирские места знаю, и в катакомбах самое их гребаное кубло!
– А-а! П-помню! – Демулен усмехнулся. – Он н-не Стокер и не англичанин. Мак-Каммон, шотландец из Глазго…
– Один хрен! Думал его с лестницы спустить, а потом пожалел и говорю – приведи ко мне одного вампира, тогда поглядим…
Внезапно мне показалось, что Титан рассказывает эти байки не зря. Небольшие глаза смотрели из-под густых бровей трезво и внимательно. Титан был непрост. Впрочем, в ином случае он и не стал бы Титаном.
– Приходит он через неделю, язык на плече, словно за ним с борзыми гнались. Выследил, кричит. Живет один, совсем рядом, днем спит, ночью по крышам лазит, а на вид – чудище чудищем. Плюнул я, говорю – веди! Привел…
Тут уже засмеялся Вильбоа. Похоже, эту историю знали все.
– И кто же это оказался? – поинтересовался я.
– Байи, наш бывший мэр. Худой, как смерть, глаза красные, одевается в черное, днем спит, а ночью на звезды смотрит – астроном, мать его! И рожа жуткая, испугаться можно с непривычки. Ну, я захожу – и в лоб: ты, гражданин Байи, вампир и кровь людскую пьешь! А он: гражданин Дантон, наши политические разногласия я в таком тоне обсуждать не собираюсь!
Когда мы отсмеялись, гигант махнул рукой:
– Ладно, Шарль, пропуск я тебе сделаю, только ты там не увлекайся. Мы катакомбы не зря стережем. Вампиров там нет, зато швали разной полно. И недорезанные всякие прячутся. Там, говорят, пара ходов есть – за город ведут. Смекаете?
Объяснений не требовалось. Городские заставы надежно охранялись, и такой ход мог спасти жизнь не одному десятку «недорезанных». Не зря «синие» стерегут входы! Пропуск мне, собственно, и не нужен, но я буду не один, а предъявлять удостоверение национального агента в присутствии Шарля не хотелось.
– Мы и сами там ходили, – хмыкнул Титан. – В прошлом августе. Зараза де Манд, которого я потом приказал шлепнуть, перекрыл весь центр. Пушки, говнюк, поставил! Ну, жалко стало ребят на распыл посылать, я и тряхнул одного субчика, что в старой Ратуше штаны протирал. Он мне карту принес – древнюю, еще с ришельевских времен. Так мы по катакомбам до самого Тюильри два батальона перебросили. У швейцарцев дворцовых мозги из ушей полезли, когда наши ребята, как черти из преисподней, выползли на свет божий перед самыми воротами. Ну, мы им мозги эти и вправили! А сейчас подумаешь – для кого старались?! Эти ублюдки тогда под лавками отсиживались, из сортиров не вылазили! Робеспьер, Рожа Зеленая, целую неделю неизвестно где прятался, потом приходит, парик поправляет и давай, засранец, учить про добродетель! Я ему говорю: в Париже хлеба на два дня, в Северной армии – измена, в Вандее резня, а он: главное, мать ее, добродетель, а посему, гражданин Дантон, уступи место тем, кто в отличие от тебя не пьет, не курит и не ругается. Давай, говорю, мы кабинет формируем, возглавляй министерство внутренних дел. Вы бы эту Рожу Зеленую видели! Перепугался и снова – прыг в сортир! Только в сентябре и появился – на готовенькое!.. А ну его на хрен! Шарль, открывай следующую!
Шампанское несколько подняло настроение, и Титан принялся вновь посмеиваться над Демуленом, обвиняя того в прирожденном роялизме. Оказывается, в коллеже именно Камиллу поручали писать стихи к приезду Его Величества. Читал же оные вирши приятель и одноклассник Демулена, которому и доставались все лавры. Правда, однажды королевская карета прибыла в проливной дождь, и вместо лавров Камиллов приятель заработал не менее ведра грязи. Гражданин Дантон видел в этом некую аллегорию, ибо оного одноклассника звали Максимилианом де Робеспьером. Демулен отшучивался, а мне невольно подумалось, что неспроста Титан постоянно поминает Зеленую Рожу. Видать, припекло!
Под этот веселый разговор мы смогли обменяться с Шарлем несколькими фразами. Я предложил не терять времени и завтра же заглянуть в таинственную церковь. А поскольку вдвоем идти скучно, взять с собой гражданина ирокеза. Толку, понятно, с него немного, но будет кому нести фонарь. Кроме того, я ему почти что обещал.
Вильбоа поморщился, но не возражал, добавив, что постарается взять у Жоржа карту – ту самую, времен Ришелье. А поскольку в катакомбах нет ни дня, ни ночи, идти лучше всего под вечер, когда на кладбище Невинноубиенных будет безлюдно.
Пора было уходить, но что-то мешало. Я внезапно понял – Титан. Возможно, я уже не увижу этого человека. Страшного человека, воплощавшего все то, против чего я дрался под белым знаменем армии Святого Сердца.
Воспользовавшись тем, что Вильбоа в дуэте с Камиллом принялись крыть почем зря гражданина Эбера, который, по их словам, являлся истинным позором для журналистского племени, я незаметно подошел к Дантону, пристально разглядывавшему полупустую бутылку, словно в надежде, что оттуда выскочит джинн. Заметив меня, гигант покосился в мою сторону, но ничего не сказал.
– Господин Дантон, – негромко произнес я. – Можно вас?..
Титан бросил быстрый взгляд на Демулена и Вильбоа, домывавших до полной белизны кости издателя «Отца Дюшена», и медленно встал.
– Давайте поговорим, сударь. Хотя, видит бог, это бесполезно…
И он, и я понимали друг друга. Конечно, Титан давно уже догадался, с каким трудом я выговариваю «гражданин». И наш разговор действительно бесполезен, но все-таки…
Мы отошли к окну, Дантон быстро оглянулся и вздохнул:
– Какого черта, господин Люсон! Разве Камилл вас не предупреждал? Ублюдки гражданина Шометта уже готовы растащить вас по косточкам! Бегите из Парижа!
Я покачал головой. Да, похоже, мое мирное пребывание в «Друге патриота» заканчивается. Впрочем, это меня мало беспокоило.
– У меня к вам вопрос, господин Дантон.
Лицо Титана потемнело, отчего старые шрамы стали особенно заметны. Когда-то нос исполина был сломан, и кости срослись плохо…
– Я уже все сказал вашим эмиссарам. Я могу взять миллион ливров – но не продаюсь за миллион. После того, как этот ублюдок Питт отказался спасти Людовика – когда это еще было можно, – мне не о чем говорить с вами.
– У меня личный вопрос, – повторил я.
– Личный, личный… – буркнул Титан. – Если насчет моих женщин, то я уже отчитывался в этом гребаном Конвенте. Всем интересно, с кем я сплю…
Я невольно улыбнулся.
– Не об этом. Наверно, мы видимся в последний раз, господин Дантон. Скажите, зачем вам все это? Вы свергли Короля, уничтожили Церковь, разрушили монархию. Зачем это было вам, Жоржу Дантону?
Маленькие глаза блеснули – гигант принял вызов.
– Зачем? А вы спросите у вулкана, зачем он извергается! Спросите ураган! Или вы думаете, что я это все придумал? Захотел – и взял Тюильри, захотел – сверг Короля…
– Это сделала чернь, – перебил я. – Толпа, для которой просто пожалели картечи! Но вы были вождем! Вы – а не кто-то другой!
Титан шумно вздохнул:
– Ничего-то вы не поняли, господа «белые»! Десять столетий вы дразнили народ, доводили его до бешенства, а когда наконец вулкан проснулся и рванул к гребаной матери, бросились к потокам лавы со своими шпажонками. Я… Мы смогли хотя бы ненадолго обуздать вулкан, чтобы Франция не превратилась в груду пепла. В августе Париж мог стать пустыней – и мы спасли город. В октябре пустыней могла стать вся Франция – и мы спасли Францию. Кто мог сделать больше? Кто, скажите? А потом я просто ушел и теперь хочу одного – чтобы вся эта сволочь оставила меня в покое. Или вы тоже думаете, что Жорж Дантон хотел стать тираном?
Я покачал головой:
– Нет! Вы не хотели стать тираном. Но почему так? Ведь народу, вашему народу, теперь живется в сто раз хуже, чем при Короле! Вы же умный человек…
Он ответил не сразу; наконец по его грубому, словно высеченному из темного камня лицу промелькнула усмешка.
– Где вы все были весной 89-го? Тогда все можно было устроить без крови. Как мы все тогда надеялись! А теперь – поздно. У всего есть свои законы, гражданин «аристо». У Революции – тоже. Волна дойдет до конца – и лишь потом начнется откат. Надо сделать так, чтобы уцелело хоть что-нибудь. Неужели вы думаете, что сможете вернуть старый порядок? Его уже нет, есть новая страна и новые люди…
– И эти «новые люди», господин Дантон, скоро захотят прикончить вас, – перебил я. – И вам придется бежать без оглядки из этой вашей «новой страны»!
– Францию не унесешь на подошвах сапог! – Титан выпрямился, и мне стало не по себе от его взгляда. – Я останусь, черт побери! Меня можно убить только вместе с Революцией! Я – Жорж Дантон, сударь! Эти шакалы не посмеют…
Мне было что возразить, но я внезапно заметил – Демулен и Вильбоа стоят рядом, вслушиваясь в каждое наше слово. Камилл был бледен, губы Шарля беззвучно шевелились, словно он хотел что-то сказать, но не решался.
Титан улыбнулся, грузно шагнул вперед, обнял друзей за плечи:
– Смелее, смелее, старые кордельеры![38] Мы еще повоюем! Мы покажем этому господину, что такое люди 92-го года! А если придется подохнуть, то умрем не хуже, чем добрый санкюлот Иисус! Мне ведь как раз тридцать три, правда, Камилл?
Странно, но в этот миг он не показался мне святотатцем. Словно этот адвокат из Арси-сюр-Об имел право сравнивать себя с Тем, Кто когда-то пришел к людям, чтобы спасти всех Своей кровью…
Чтобы не опоздать, я прибыл к кладбищу Невинноубиенных Младенцев заранее и теперь неторопливо прогуливался возле ворот, радуясь, что догадался купить теплый шарф. Очередной день месяца фримера выдался поистине зимним. Под ногами потрескивал лед, покрывавший замерзшие лужи, а из низких туч неспешно падали колючие снежинки. Да, рано начинается зима в этом году – от Рождества Христова 1793-м, от основания же Республики, Единой и Неделимой, – Втором…
Шарль появился внезапно. Почему-то думалось, что он подъедет в фиакре, но Вильбоа просто вынырнул из-за ближайшего угла, причем так быстро, что я даже вздрогнул от неожиданности.
– Заходил в местный Наблюдательный комитет, – пояснил он, когда мы обменялись приветствиями. – Надо было зарегистрировать пропуск. Граждане попались весьма бдительные, но подпись Жоржа их успокоила… Вы уверены, что мы поступаем верно?
Я пожал плечами:
– Если мы решили распутать это дело, то пока другого пути нет. В конце концов, наберетесь впечатлений для очередной статьи… Кстати, что это у вас?
«Это» висело у пояса. Шпага – короткая, в темных кожаных ножнах. Вильбоа несколько смутился:
– Я подумал… Наверно, смешно выгляжу?
– Отнюдь! – я невольно улыбнулся. – У вас очень воинственный вид. Так и хочется назвать вас «де Вильбоа». Разрешите?
Эфес пришелся как раз по руке. Внезапно я понял, что соскучился по тонкому стальному жалу. Рука дрогнула, и я еле удержался, чтобы не сделать выпад – быстрый, неотвратимый, как меня когда-то учили. Да, я умел фехтовать! Я очень хорошо фехтовал когда-то, и теперь тело само напоминало об этом…
– Испанская, – сообщил я, возвращая шпагу. – Похоже, середина прошлого века. Хороша в ближнем бою, но против настоящей итальянской слабовата.
– Вас ничем не удивишь, Франсуа, – развел руками Шарль. – Действительно испанская, еще моего прадеда… Мы что, ждем кого-то?
– Нашего друга из прерий, – напомнил я. – И если я не ошибаюсь, этот фиакр…
Фиакр неспешно вынырнул из-за угла. Послышалось громкое «Тпру-у!», коляска остановилась…
– Или у меня что-то со зрением, – невозмутимо заметил Вильбоа, – или это не гражданин д'Энваль.
«Скорее всего, второе», – хотел ответить я, но ограничился лишь неопределенным «Н-да!». Ибо тот, кто приехал… Вернее, та, что приехала…
– Мерзнете? – Очки гражданки Тома блеснули. – Так вам и надо! В дальнейшем обещаю вам горячку и скоротечную чахотку, а также…
– Мадемуазель! – восхитился я. – Вас ли мы имеем счастье лицезреть?
– Меня! – Очки вновь блеснули. – Прежде всего хочу сказать, что Альфонса я с вами не пущу! У него насморк, и вообще не с его здоровьем заниматься подобными глупостями! А вы…
Мы с Шарлем переглянулись.
– Мадемуазель! – повторил я. – Надо ли понимать, что вы связали беднягу Альфонса…
– Всего лишь заперла! А вы… Хороша парочка – один только что с того света, по второму больница плачет! Как врач, я строжайше запрещаю вам даже думать о каком-то там подземелье…
Мы учтиво поклонились, Вильбоа даже шаркнул ногой.
– В общем, я приехала забрать вас отсюда…
Я поймал ее руку с грозно воздетым кулачком и поднес к губам. Гражданка Тома резко отшатнулась, и внезапно я заметил в ее глазах слезы.
– Ну почему меня никто не хочет слушать?! Если б я была мужчиной, вы бы не смели так себя вести! Вы… Вы… Вы издеваетесь!
Внезапно мне вновь захотелось погладить ее по коротко стриженным волосам – как тогда, в часовне. Маленькая девочка, которая играет в доктора и обижается на взрослых, не принимающих ее игру всерьез.
– Юлия, мы все равно туда направимся, – как можно спокойнее заметил я. – Это такая же данность, как эпидемия чумы…
– Вы хуже, Франсуа Ксавье! – огрызнулась девушка. – А от вас, гражданин Вильбоа, я такого, признаться, не ожидала! Ну что вы там забыли?
Мы вновь переглянулись.
– Пару недель назад гражданин Люсон зашел к вам в часовню и сказал, что требуется помощь, – негромко проговорил Шарль. – Считайте, что история повторяется.
– Вы серьезно? – Похоже, она растерялась, но быстро пришла в себя. Очки вновь вызывающе блеснули. – Я вам верю, граждане, поскольку у вас обоих удивительная способность нарываться на неприятности. А посему иду с вами, и посмейте только со мною спорить!
– Хорошо! – решил я. – Врач может понадобиться, и кроме того, вы сможете показать нам часовню. Надеюсь, мадемуазель, вам не надо намекать, что впредь мои приказы следует выполнять беспрекословно?
Она фыркнула и топнула ногой:
– Мужлан! Я куда охотнее буду слушать приказы гражданина Вильбоа!
Шарль улыбнулся, чем подлил масла в огонь.
– Вы оба – больные! Вы обязаны слушаться врача, и… и… Хорошо, я согласна, но отныне буду думать о вас еще хуже, хотя это почти что невозможно! Жаль, что я не мужчина и не могу вызвать вас на дуэль! Ну, чего вы стоите? Решили схватить горячку прямо здесь?
Впереди, сколько хватал глаз, тянулись долгие ряды серых надгробий. Ни деревца, ни кустика – только камни, старые, покрытые трещинами и полустертыми надписями, и совсем новые. Некрополь. Город мертвых.
– Сюда! – осмотревшись, определил Вильбоа, когда мы миновали ворота.
«Сюда» относилось к невысокому строению, несколько напоминавшему сторожку. Однако двери оказались обиты толстым железом, а у порога скучал небритый парень в знакомой синей форме.
– Назад! – буркнул он, не поднимая глаз. – Запрещено, граждане!
– У нас пропуск… – начал было Вильбоа, но «синий» не желал слушать:
– Я сказал – назад! – Старое, плохо чищенное ружье дернулось, черный зрачок ствола смотрел в нашу сторону. – Ходят всякие! Приказ Коммуны…
Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул другой гвардеец, держа мушкет наперевес.
– Смирно! – негромко скомандовал я, чувствуя омерзение при виде этого сброда, смевшего надеть форму. Пусть вражескую – все равно.
– Чего «смирно»?! – возмутился было первый. – Не старый режим!..
– Молчать! – Внезапно меня охватило холодное бешенство. – Оружие к ноге! Руки по швам, негодяи! Вздохнете – пристрелю!
У меня не было пистолета, не было даже ножа, да и не желал я пачкать руки об этих недомерков. Просто на миг я стал прежним, словно тот, ушедший навсегда, проснулся, чтобы защитить самое святое для тех, кто носит форму, – порядок. Порядок, начинающийся с выбритых щек и кончающийся у подножия престола. Ради этого я жил, ради этого – умер…
Какой-то миг они колебались, но затем в глазах блеснул страх – привычный вековой страх Жака Простака перед разгневанным барином. Я еле удержался от усмешки. Тот, кто вышел из-за двери, наскоро застегивал шинель, первый уже стоял, неуклюже прижимая мушкет к правой ноге.
– Осмелюсь доложить! – Второй гвардеец наконец-то застегнулся и неуверенно прокашлялся. – Так что, мы караул от пятой роты Национальной гвардии секции Гравилье. Старший наряда сержант Бомоль. За время несения службы…
– Вольно! – вздохнул я. Собственная выходка показалась верхом нелепости. Учить дисциплине этих обормотов! Все равно что муштровать баранов…
– Гражданин Вильбоа, предъявите пропуск!
Сержант Бомоль, похоже, не на шутку растерялся и только через пару минут сообразил, что держит бумагу вверх ногами. Наконец последовал облегченный вздох.
– А-а! Все понятно, граждане! Прошу, заходите!
Внутри не было ничего, кроме грубо сколоченного стола, двух табуретов и еще одной двери в глубине. На столе возышались несколько пустых бутылок и два масляных фонаря.
– Вход за той дверью, – негромко подсказал Шарль. – И фонари…
Я кивнул и подошел к столу. К счастью, оба фонаря оказались полностью заправлены.
Сержант уже возился с замком. Наконец дверь подалась. Пахнуло сыростью.
– Вот карты у нас нет, – виновато заметил второй гвардеец. – Отобрали. По приказу гражданина Шометта…
Я поглядел на Вильбоа. Тот понял и похлопал себя по груди. Очевидно, старинный план времен великого кардинала был им не забыт.
– Вы там, граждане, осторожнее, – напутствовал нас сержант. – А то мне отвечать придется перед гражданином Дантоном…
– Это уж точно, – пообещал я. – А за то, что не бреетесь, он с вас нашивки живо сорвет! Растяпы!
Внезапно я представил, как Титан с рычанием сдирает с ополоумевшего гвардейца сержантские нашивки, и еле удержался, чтобы не расхохотаться. Увидев гражданина Дантона, этот горе-вояка просто помрет на месте – от страха. Или впадет в каталепсию, на радость гражданке Тома…
Лестница, за нею – тьма. Из подземелья несло теплой сыростью. Ступеньки были скользкими, и я пару раз еле удержался на ногах, пока не освоился с неровным камнем, то и дело норовившим вырваться из-под башмаков. За моей спиной громко дышала доктор Тома. Шарль шел сзади, высоко держа фонарь. Нога не без труда нащупала ровную площадку. Я поднял светильник и огляделся.
– Прихожая, – негромко заметил Вильбоа, водя фонарем из стороны в сторону.
На прихожую это, однако, ничуть не походило. Небольшой зал, белые неровные стены, три широких прохода. Над одним из них черной краской была нарисована стрела. Под ногами зачавкала грязь, огни фонарей отразились в неглубоких лужах…
– Куда-то пришли, – констатировал я. – Шарль, давайте карту!
– Не надо. – Юлия кивнула в сторону центрального прохода: – Туда, где стрела. Специально нарисовали для самых непонятливых.
Я невольно улыбнулся. Девушка пыталась сохранять прежний задор, но голос ее звучал уже не так решительно. И немудрено!
– Все-таки посмотрим, – Вильбоа развернул карту и поднес ближе к фонарю. – По-моему, мы здесь…
Вход на плане мы нашли сразу, но далее начиналось хитрое переплетение извилистых коридоров, пересекавшихся несколькими более или менее прямыми проходами. А главное, ничего похожего на часовню на карте не оказалось.
– Где-то тут, – палец гражданки Тома указал на одно из ответвлений. – Думаю, не собьюсь. Там как раз кончается гипс.
Гипс? Я оглянулся и тут же понял. Белые стены!
– Здесь добывали гипс, – подвердил Вильбоа. – Ничего загадочного, обычные штольни. А дальше – сланец или что-то в этом роде.
– Совершенно верно, – девушка, похоже, вновь обрела уверенность. – Ни привидений, ни ламий, так что моему Альфонсу тут совершенно нечего делать. Как и вам тоже, граждане!
Проигнорировав последние слова, я подошел к проходу под черной стрелой.
– Я иду первый, вы, Юлия, за мной…
– Так точно, мой генерал! – Маленькая ладошка взлетела к шляпке. – Или мне вначале побриться?
Я только вздохнул, не желая в очередной раз вступать в словесную драчку, но в последний миг не сдержался:
– Цените свое место в строю, мадемуазель! Великий Конде приказывал лекарям идти исключительно в хвосте колонны, дабы вида не портить.
После таких слов следовало ожидать любых последствий, но девушка внезапно рассмеялась:
– Ценю, мой генерал! И вообще вы превосходно поставили на место этих болванов, Франсуа Ксавье. Я чуть сама не стала по стойке «смирно»… Ну, мы идем?
– Погодите! – Вильбоа расстегнул плащ и вытащил из-за пояса небольшой пистолет. – Возьмите, гражданин Люсон.
Я протянул руку – и внезапно отдернул, словно рукоять была из раскаленного железа. Нет, не могу, не имею права!..
– Не стоит, – самым спокойным тоном заметил я. – Стрелять тут, похоже, не в кого…
– Но… – Парень явно удивился. – Может, вы, гражданка?
– Уберите эту пакость! – послышалось возмущенное фырканье. – Я вам не мушкетер! Поразительно! Двое взрослых мужчин боятся пройти четверть лье!
– Пошли! – скомандовал я и первым шагнул под черную стрелу.
Под ногами скрипела галька, занесенная сюда в давние времена беспокойными водами Сены, свет фонарей отражался в ослепительно белых стенах, а впереди была сырая тьма, уходящая вдаль сколько хватал глаз. Проход вел прямо, время от времени слегка уклоняясь то в одну, то в другую сторону. То и дело попадались поперечные штольни – низкие, едва в человеческий рост. Изредка фонари высвечивали темные пятна, оставленные свечами, и надписи, большей частью цифры. Невольно подумалось, что в прежние времена катакомбы были разбиты на участки, во всяком случае, после тройки на стене появилось «4», затем «5»…
После семерки проход расширился, выводя в небольшой зал. Свет упал на что-то четырехугольное, странной формы…
– Стойте! – скомандовала Юлия. – Здесь два прохода…
Пока она с помощью взятого у Шарля фонаря изучала обстановку, я, не удержавшись, подошел к странному предмету. Ящик – но какой-то перекошенный, почему-то с колесами…
– Тачка, – подсказал Вильбоа, незаметно подошедший сзади. – Кто-то гипс ковырял.
Я чуть не рассмеялся. Ну конечно! Обычная тачка, только перевернутая. А вот и заступ, небольшая кирка…
– Что вы там нашли, граждане? – послышался голос Юлии. – Надеюсь, что-то стоящее?
– Вам на это лучше не смотреть, мадемуазель! – замогильным тоном отозвался я. – Такое не для ваших глаз. О-о! Да не узрят они того, что навеки скрыла тьма!..
– Что?! В таком случае…
– Нет! Нет! Юлия, не надо! – заспешил Шарль. – Вам такое и вправду… Это страшно!
Свет фонаря стал быстро приближаться.
– Не ходите сюда! – трагическим шепотом воскликнул я, преграждая путь. – Там… Там это… Это!
– Да отойдите же!
Девушка рванулась вперед, чуть не сбив меня с ног. Я благоразумно отступил в самый темный угол, заметив, что Вильбоа тоже последовал моему примеру.
– Это тачка! – железным голосом констатировала девушка. – Как вас прикажете понимать, граждане?
– Ну-у… – начал было Шарль, но не выдержал и захохотал. Я сдержался, но это стоило немалых усилий.
Из темноты послышалось что-то, напоминающее шипение разгневанной кошки. Я невольно поежился.
– Шутим, значит, – отозвалась наконец гражданка Тома. – Очень смешно, граждане! Франсуа Ксавье, от вас я иного и не ожидала, но вы, гражданин Вильбоа…
– А что я сказал?.. – невинно заметил Шарль, но вновь не удержался от смеха.
– Я с вами больше не разговариваю, граждане! С обоими! Все, пошли, но имейте в виду, больше с вами встречаться я не собираюсь!
Похоже, Юлия все-таки обиделась. Не дожидаясь нас, она свернула в левый проход и быстро пошла вперед. Нам с Вильбоа пришлось прибавить шагу, чтобы не потерять из виду огонь ее фонаря. Мельком я успел заметить очередную цифру у пересечения штолен. Но вместо ожидаемой восьмерки там стояло почему-то «79»…
– Итак, здесь по-прежнему добывают гипс, – заметил я.
– В основном скульпторы, – согласился Вильбоа. – Из компании гражданина Давида.
Я вспомнил гипсовых болванов в красных колпаках, пялящих слепые глаза, и невольно усмехнулся.
– В общем, тихие места, – продолжал Шарль. – Даже обитатели Двора Чудес[39] здесь не любили бывать, разве что забегали ненадолго. Слишком все на виду. Конечно, здесь прятались – во времена Лиги, например, но это не катакомбы Святого Себастьяна…
Я хотел переспросить, но внезапно вспомнил. Длинные ряды ниш, костницы, полные желтых остовов, странной формы кресты – и рыбы, всюду изображения рыб. Катакомбы Святого Себастьяна в Риме! Выходит, и там приходилось бывать…
– Вот наша клоака – дело другое. Там и вправду можно встретить что угодно – и кого угодно…
– Клоака – это водосборники? – поинтересовался я, поглядывая на очередную черную цифру. За «79» шло почему-то «93».
– Да, средневековая канализация Парижа. Я когда-то писал об этом. Пришлось пару раз заглянуть. Вот там, я вам скажу!..
– Погодите! – я замер, прислушиваясь. Вокруг стояла вязкая тишина, чуть впереди негромко отдавались шаги гражданки Тома, но мне все-таки показалось…
– Думаете, сзади? – понял меня Вильбоа. – Но откуда?
– Наверно, почудилось, – решил я. – Так что там с клоакой?
Свет фонаря вновь осветил очередной перекресток, и я не без удивления обнаружил новую цифру – «104». Внезапно это перестало мне нравиться.
– Там целый город, – начал мой спутник, похоже, не обративший внимания на странности местной арифметики. – Еще в Средние века в клоаку отвели несколько рек…
– Стойте! – не выдержал я. – Юлия! Гражданка Тома!
Ответа я не дождался, но шаги стихли, затем начали приближаться.
– Шарль, давайте карту!
– Но… – удивился он. – Почему?..
– На всякий случай!
Вильбоа извлек из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист, развернул его, поднес к свету. Я подсветил фонарем.
– Что, кто-то уже ногу сломал? – Юлия вынырнула из темноты, словно настоящее привидение. – Я, между прочим, предупреждала…
– Мы, кажется, здесь, – Вильбоа указал на один из проходов.
– Цифры, – напомнил я. – Там есть цифры?
– Какие цифры? – соизволила удивиться гражданка Тома, подходя ближе. – Не надо нам никаких цифр! Я дорогу помню…
Цифры были. От входа вел прямой проход, пересекаемый штольнями. В районе пересечений я увидел знакомое «4», «5», «6». Вот и небольшой зал, где стоит зловещая тачка…
– Два прохода, – констатировал Шарль. – Один начинается с девятки…
Да, один из проходов продолжал привычный отсчет. «10», «11». Другой тоже имел обозначение. У первого перекрестка я заметил номер «32». «32»! Не «79»!
– Последняя цифра – «104», – напомнил я. – Где же это мы?
Увы, карта молчала. Самый дальний перекресток был обозначен номером «62», далее проходы становились безымянными.
– Карта старая, – с некоторым сомнением в голосе предположил Вильбоа. – За последний век могло все измениться…
– Мы теряем время! – напомнила гражданка Тома. – Я взялась вас отвести на место, так что будьте добры…
– Сланец, – внезапно заметил Шарль. – Здесь уже должен быть сланец!
Действительно, на карте почти сразу же после перекрестка Зловещей Тачки тянулась неровная линия, за которой пространство карты покрывала легкая штриховка.
– Может, мы еще не пришли? – Вильбоа спрятал карту и неуверенно огляделся. – Хотя…
– Перестаньте! – девушка топнула ногой и нетерпеливо вздохнула. – Так мы вообще никуда не придем! Все, пошли, и учтите, я с вами по-прежнему не разговариваю!
Всюду был гипс – белый, чистый, под ногами по-прежнему хлюпали лужицы и поскрипывала мелкая галька. Вокруг стояла тишина, лишь изредка слышались удары капель, срывавшихся с сырых сводов. Цифры исчезли, последняя, которую я сумел заметить, была «167». Зато появились кресты – небольшие, странной формы, они пауками проступали на белой поверхности.
Шли мы уже больше часа. Гипсовые штольни тянулись все дальше, и я начинал понимать, что легкой прогулкой перед ужином дело, похоже, не ограничится. Четверть лье, которые обещала гражданка Тома, давно уже позади.
Это явно понял не только я. Вильбоа несколько раз останавливался, доставал карту и недоуменно оглядывался. Даже гражданка Тома держалась уже не столь уверенно. Во всяком случае, теперь, сменив гнев на милость, она перешла из авангарда к основным силам. Втроем и вправду стало веселее. Свет двух фонарей разгонял черноту, и можно было подумать, что мы просто гуляем по ночной парижской улице.
Шарль некоторое время тешил нас байками про ужасы парижской клоаки, рассказав жуткую историю «рыжего дьявола», несколько недель наводившего ужас на весь Монпарнас. Дьявол, имевший логово в самом глухом закутке сырого подземелья, на поверку оказался орангутаном, сбежавшим из королевского зверинца. Гражданин Вильбоа лично изловил чудище, впрочем, и не пытавшееся оказать сопротивление. Более того, Шарль едва смог вызволиться из могучих объятий голодного и насмерть перепуганного зверя, который бросился к нему и не отпускал, пока не очутился в родной клетке. Очевидно, житье в клоаке показалось бедному «дьяволу» куда горше неволи.
Я посмеялся, Юлия отделалась неопределенным хмыканьем, Вильбоа же присовокупил, что орангутан был сущим ангелом по сравнению с шайкой бродяг, от которых пришлось отстреливаться в течение целого часа. Такого добра в клоаке, как выяснилось, более чем достаточно.
Наконец проход вновь расширился. Белые стены отступили, откуда-то подул легкий ветерок. Гражданка Тома удовлетворенно вздохнула и остановилась:
– Кажется, пришли! Почему-то казалось, что это ближе, но… Сейчас поворот, за ним – зал…
Проход резко свернул влево. Внезапно на белой стене я заметил крест – наверно, уже сотый по счету. Внизу темнела надпись.
– Ого! – Вильбоа подошел ближе. – Кому-то очень не повезло!
Черная свечная копоть складывалась в страшные слова…
– «Все убиты. Умираю последним. Боже, храни короля Генриха!» – голос Юлии дрогнул. – Что это?
– Год! – Вильбоа забрал у меня фонарь и осветил нижнюю часть стены. – «1572 Anno Domini»… Господи, год Варфоломеевской ночи!
– Кто-то из гугенотов, – предположил я. – Пытался здесь спастись…
Я оглянулся, словно надеясь увидеть скелет в простреленной насквозь кирасе. Но от того, кто молил Творца за своего Короля, не осталось ничего – даже тени…
– А Генрих Наваррский в этот час уже перешел в католичество, – горько усмехнулся Шарль. – Юлия, вы видели раньше эту надпись?
– Нет, – немного растерялась девушка. – Но… Мы тогда шли целой толпой, разговаривали… Я помню этот поворот!
– Остается убедиться, – я взял фонарь у Вильбоа и шагнул вперед. – Да, тут что-то есть…
Вначале мы увидели только тьму. Она окружила нас со всех сторон – теплая, сырая, пахнущая известью. Стены исчезли. Я поднял лампу повыше – свет упал на неровный потолок, на котором были заметны следы ударов, в давние годы сокрушавших хрупкий гипс.
– Зал, – констатировал Вильбоа. – И куда теперь?
– Кажется… – Юлия на миг задумалась. – Туда!
Она решительно шагнула во тьму, держа фонарь в вытянутой руке. Я поспешил следом. И вот свет отразился на знакомой белой поверхности. Юлия остановилась, быстро оглянулась…
– Вот!
Арка – грубо вырубленная, неровная, украшенная голгофским крестом. Над нею – небольшая икона. Я посветил ниже и заметил ступеньки, ведущие вверх.
– Что я вам говорила!.. – торжествующим тоном начала гражданка Тома, но внезапно осеклась: – Ступеньки… Почему здесь ступеньки?
– Не иначе, выросли, – предположил я. – Кстати, кто там на иконе?
Мы подошли поближе. Икона была старой, из потемневшего серебра. Трудно сказать, кого имел в виду мастер, но, во всяком случае…
– По-моему, это дама, – заметил Вильбоа самым светским тоном. – По крайней мере, я представлял святого Патрика несколько иначе.
– Юлия, что скажете? – осведомился я.
На девушку было жалко смотреть. Она втянула голову в плечи, несколько раз с совершенно безнадежным видом взглянула на равнодушный серебряный лик и внезапно всхлипнула.
– Франсуа… Шарль… Я… Мы…
– Нашли не ту часовню, – кивнул я. – Сейчас будем кому-то отрывать голову. Начнем с ушей…
Бедная девушка отшатнулась, словно и вправду опасаясь за свои ни в чем не повинные уши.
– Франсуа, не надо, – осторожно начал Вильбоа. – В конце концов, у нас есть карта…
– И фонари, которые погаснут через полчаса, – охотно согласился я. – Ну, раз уже пришли, давайте поглядим.
Ступенек было семь, за ними оказалось небольшое круглое помещение – и еще одна арка, на этот раз украшенная надписью.
– «Святая Клотильда, помилуй нас», – разобрал Вильбоа. – Кажется, с дамой вопрос разъяснился. А это что?
Прямо в проходе лежало нечто темное, странной формы. От деревянной рукояти остался лишь прах, ржавчина проела железо…
– Алебарда, – рассудил Шарль. – Чем дальше, тем интереснее!
Он оказался провидцем. В большом темном помещении ничего, кроме остатков алтаря, когда-то сложенного из неровных гипсовых плит, не напоминало о святой Клотильде. Зато в углу темнела огромная груда ржавого железа. Старые кирасы, высокие островерхие каски, рассыпавшиеся при первом прикосновении наконечники копий…
– Кажется, аркебуза, – Шарль поднял с пола нечто бесформенное с огромным широким раструбом. – Впрочем, ручаться не могу… Ага, смотрите!
На белой стене темнела огромная надпись, выполненная ярко-красной краской.
– «Святая Лига! Боже, убей всех гугенотских собак!» – прочитал я. – Кажется, христианским всепрощением здесь и не пахло! Шарль, можете написать статью. По-моему, весьма поучительно.
– Тайное убежище Католической Лиги, – Вильбоа пнул ногой одну из касок, превратив ее в труху. – Да, поучительно. Что, однако, не облегчает нашего положения. Давайте-ка поглядим на карту!
Мы расстелили план поверх какой-то кирасы, я поднес фонарь.
– Юлия! – позвал Вильбоа. – Присоединяйтесь!
Ответа не было. Похоже, гражданка доктор все еще опасалась за целостность своих ушей.
– Не понимаю, – наконец заметил Шарль, несколько минут тщательно водивший пальцем по карте. – Правда, здесь какой-то крестик…
– От перекрестка Тачки вели два прохода, – рассудил я. – Но тот, по которому мы пошли, очевидно, свернул в сторону. Вернее, свернули мы. А на карте его попросту нет, наверно, пробили позже…
– Граждане! Вы меня не растерзаете? – послышался дрожащий голос, и из темноты появилась несчастная заплаканная гражданка Тома. – Я… не знаю, как это получилось!.. Я не хотела…
– Кто вас знает, Юлия? – обреченно вздохнул я, хотя и понимал, что добивать бедную девушку грешно. – Но поскольку всем нам грозит долгая и мучительная смерть…
– Франсуа, прекратите! – не выдержал Вильбоа. – Юлия, нам ничего не грозит!..
– Если мы погасим один фонарь, – закончил я. – Масла осталось немного, будем экономить. Ну какие предложения? Вернемся?
Ответом было унылое молчание. Мне и самому не хотелось возвращаться, но блуждать среди сырого гипса, да еще в полной темноте!..
– Дорогу я помню, – вздохнул наконец Вильбоа. – Кресты, потом эти цифры…
– Да, – я встал. – Пошли!
Уходя, я обернулся. Груда ржавого оружия, красная краска на белом гипсе, развалины алтаря… Два века назад здесь шла война. Лигисты резали гугенотов, гугеноты убивали лигистов – и за что? Месса или обедня? Какая чушь! Страшно подумать, но века через два и наша война, того и гляди, покажется потомкам дикой нелепостью. Нет, не может быть! Мы дрались за Францию, за Короля, за Церковь! Но ведь и герцог Гиз думал, что спасает отечество…
Уже на ступеньках я остановился. Точнее, что-то остановило – то ли легкий шорох, не походивший на звон очередной неосторожной капли, то ли тьма впереди, показавшаяся особенно густой… Я замер. Сзади о чем-то переговаривались мои спутники, в руке чуть слышно потрескивал фонарь, но я уже знал: мы не одни. Кто-то был впереди, за черным пологом, и этот кто-то тоже всматривался в темноту. Впрочем, мой фонарь упрощал ему задачу.
Медленно, стараясь не делать резких движений, я повернул голову:
– Шарль! Девчонку за стену! Оружие!
Больше всего я боялся, что Вильбоа начнет, как и всякий штатский, многословно требовать объяснений, а то и появится в проходе – со вторым фонарем, чтобы неизвестный ни в коем случае не промахнулся. Но сзади молчали, затем до меня донеслось негромкое: «Есть!», и почти тут же – возмущенный голос гражданки Тома, протестовавший против насилия. Впрочем, протестовала Юлия, следует отдать ей должное, все-таки шепотом.
Я не двигался, затем стал медленно поднимать фонарь, надеясь отогнать тьму еще на несколько шагов – что оказалось ошибкой. Я понял это почти сразу, но сделать ничего не успел. Из темноты донесся грохот, в глаза ударила вспышка – и фонарь плеснул во все стороны стеклом и горящим маслом.
Да, я ошибся, но тот, кто стрелял, – тоже. Если он думал ослепить меня, то это удалось лишь наполовину. Через миг я уже был внизу, вжимаясь в мокрую гальку, покрывавшую пол. Пламя уже гасло, но света вполне хватило, чтобы разглядеть черный силуэт у противоположной стены. Я невольно хмыкнул. Будь у меня пистолет, разбитый фонарь стоил бы этому Вильгельму Теллю простреленной головы. Впрочем, незачем быть столь кровожадным. Все-таки он стрелял по фонарю…
– Франсуа! Где вы? – послышался растерянный голос Вильбоа, но я не стал отвечать. Вдруг Вильгельм Телль хорошо стреляет на звук?
Внезапно впереди, совсем близко, послышался шорох. Неизвестный был рядом, он двигался тихо, почти бесшумно, и лишь скрип гальки выдавал его. Я быстро обернулся. Только бы Шарль не вздумал высунуться…
– Бросай оружие, синяя сволочь! – молодой задорный голос прозвучал буквально над ухом. – Выходи по одному, а не то…
Вначале я не поверил своим ушам, затем все-таки понял и едва удержался от смеха. Вот так встреча!
– А не то – что? – я повернулся к неизвестному, надеясь на его здравый смысл. Если уж он решил вступить в переговоры…
Тишина молчала, затем тот же голос, но уже растерянный и даже робкий, повторил:
– Бросай оружие, синяя… Смерть Христова! Господин дю Люсон, это вы?
Нельзя сказать, что последняя фраза привела меня в восторг. Слишком часто меня стали узнавать в славном городе Париже! Но это все же лучше, чем начинать боевые действия с сомнительным исходом.
– К вашим услугам, – я встал и принялся приводить в порядок плащ. – Если вы еще будете так любезны и зажжете фонарь…
– Конечно! Сию минуту, господин дю Люсон!
Я оглянулся и заметил в проходе темный силуэт. Похоже, Вильбоа решил прийти мне на помощь. Я не стал его прогонять – стрельба явно откладывалась.
Фонарь вспыхнул. Невысокий молодой человек с военной выправкой, которую не могла скрыть нелепая санкюлотская одежда, шагнул ко мне, но, не доходя двух шагов, остановился, став по стойке «смирно».
– Господин полковник! Лейтенант армии Его Величества Сурда к вашим услугам!..
Лейтенант Сурда! Ну, конечно, Николя Сурда! Имя в списке!
– Что за церемонии? – Я пожал широкую крепкую ладонь, начиная понимать, что когда-то хорошо знал этого человека. Молодое, чуть скуластое лицо – и глубокий шрам, пересекающий его наискось. Похоже, лейтенант Сурда – задира не только на словах. Конечно, я знал его не в санкюлотском тряпье. И он тоже помнил меня другим…
– Извините, господин дю Люсон, – парень вновь смутился. – Я, так сказать, проштрафился. Фонарь вам разбил… Но, смерть Христова, менее всего ожидал встретить вас здесь!
Кое-что прояснилось. Де Батц не ошибся относительно моего прежнего звания. Впрочем, не это интересно. Сурда, скорее всего, из организации д'Антрега, он хорошо знал меня – прежнего…
– Шарль! Юлия! – позвал я. – Выходите, война отменяется.
Из прохода появился мрачный Вильбоа с двумя пистолетами наготове. Из-за его плеча выглядывала любопытная физиономия гражданки Тома.
– Николя Сурда! – лейтенант коротко поклонился и внезапно широко раскрыл глаза: – Мадемуазель де Тома? Бог мой, вот так встреча! Вы меня не помните?
Да, мир оказался тесен. Впрочем, Юлия явно не спешила признавать прежнее знакомство.
– Помилуйте, мадемуазель! – заволновался лейтенант. – Я ведь знаком с вашим батюшкой, бывал у вас… Конечно, еще без этого, – рука на миг коснулась страшного шрама. – Я сын Антуана Сурда, мой отец…
– Помню, – без всякого энтузиазма откликнулась девушка. – Вы были почему-то уверены, что хорошо танцуете котильон. И, между прочим, все время наступали мне на ноги.
Сурда растерянно поглядел на меня, словно ожидая помощи. Но не в моих силах было защитить его от гражданки Тома. Впрочем, пора было овладевать инициативой, иначе лейтенанта могло потянуть на расспросы.
– Итак, господин Сурда, что вы тут делаете?
– Но… – парень удивленно оглянулся в сторону темного зала. – Вероятно, то же, что и вы. Только что проводил «Анжуйской дорогой» нескольких бедолаг, теперь возвращаюсь…
– «Анжуйская дорога»! – поразился Вильбоа, до этого молчавший и поглядывавший на бравого лейтенанта с явным подозрением. – Подземный ход, по которому анжуйцы проникли в Париж? Но ведь это легенда!
Сурда улыбнулся, и я тут же вспомнил разговор с Титаном. Да, «синие» не зря стерегли катакомбы!
– Мы ищем часовню Святого Патрика, – пояснил я. – Но, похоже, сбились с дороги.
Николя кивнул:
– Так точно. Это совсем не здесь. Честно говоря, вы здорово промахнулись.
Я покосился на гражданку Тома, и та поспешила отвести взгляд.
– Если желаете, я вас провожу. Я в общем-то спешу, но… Отсюда идти минут сорок.
Я поглядел на своих спутников и кивнул. В конце концов, наше знакомство со святой Клотильдой завершилось не так уж плохо.
Гипсовые штольни кончились. Теперь мы шли среди черных ровных стен. Свет фонарей отражался в тысячах мелких блесток, покрывавших камень. На этот раз мы не следовали каким-то определенным проходом. Сурда вел напрямик – через переплетение штолен, с удивительным искусством находя дорогу в черном хаосе. Можно было догадаться, что бывший королевский лейтенант проводит в катакомбах немало времени.
Вильбоа и Юлия шли чуть сзади, явно давая нам с Николя возможность поговорить. Но я решил не спешить с вопросами. Сурда молод, разговорчив, а значит, и сам подскажет, о чем спрашивать.
– Признаться, мы уже не ожидали увидеть вас живым, – начал он, как только мы покинули зал. – О гибели армии Святого Сердца «синие» твердят на каждом перекрестке… Маркиз де Руаньяк жив?
– Он погиб. Гильотинирован в Лионе.
Я вновь увидел огромную площадь, залитую мягким осенним солнцем. Помост, высокий широкоплечий человек в белом солдатском мундире с ярко-красным пятнышком на груди – знаком Сердца Христова…
– Сволочи! – парень скрипнул зубами. – А Жан? Виконт Пелисье?
– Тоже…
Отвечать было тяжело. И не только потому, что я видел, как погибли эти храбрые люди. Где-то там, совсем близко, притаилась и моя смерть – смерть по имени Бротто.
– Это ужасно! – вздохнул Сурда. – Господи, ну почему так вышло? Смерть Христова! Мы все так верили, что Лион сумеет продержаться до прихода войск Конде! А главное – без Руаньяка будет в сто раз труднее. Без него – как без знамени…
Я вспомнил разговор с гражданами из Комитета общественной безопасности. Похоже, они того же мнения. Недаром армия Святого Сердца пытается скрыть смерть командующего.
– Такого, как он, уже не найти, – с горечью продолжал лейтенант. – Преданного Королю, смелого – и жестокого…
Внезапно я почувствовал боль – прямо в сердце.
– По-вашему, жестокость – достоинство?
Сурда покачал головой:
– Понимаю. Сам такой! Представьте, не могу заставить себя выстрелить в безоружного. А в нашей войне надо быть беспощадным, как Руаньяк. На кровь отвечать кровью! Смерть Христова, только так! То, что он расстреливал не только «синих», но и всех, кто им помогал, вешал комиссаров, убивал тех мерзавцев, что предали Церковь и присягнули Конвенту, – это правильно. Предатель Ла Файет был его другом – но он приговорил негодяя к смерти! Только так можно победить!
«Патриоты пьют кофе, Франсуа!» Мари Жильбер дю Матье маркиз де Ла Файет… Выходит, Руаньяк был тоже с ним знаком? И, похоже, не просто знаком…
– Жаль, Ла Файет не попал к вам в руки. А то чертовы австрийцы никак не решатся сунуть этого предателя в петлю…[40]
– Погодите! – не выдержал я. Слушать такое я не мог. Мальчишка слишком легко говорил о смерти. Конечно, он ведь знаком с ней только понаслышке! Неужели Руаньяк и вправду был таким? Но я уже знал – да, именно таким. А что же делал я? Я – прежний, каким я был до того солнечного дня в Лионе?
Вокруг был по-прежнему черный камень, и оставалось лишь удивляться, как лейтенант находит дорогу. Перекресток, еще один, поворот… Я мельком оглянулся – Вильбоа вел Юлию под руку, а та испуганно поглядывала по сторонам. Немудрено! В этом каменном чреве неуютно даже таким, как я!
– Постойте! – Вовремя вспомнился список на пергаментной бумаге. – Мне нужно встретиться с Поммеле…
– Конечно! – ничуть не удивился Сурда. – Он скоро вернется из Бордо. Смерть Христова! Вот нервы у человека! Я бы на его месте придушил это подлеца Тальена, как только увидел…
Поммеле – помощник Тальена, Вильбоа, кажется, упоминал об этом. Похоже, именно Поммеле здесь главный. Лейтенант – птица мелкая, исполнитель…
– И еще… – я перешел на шепот. – Все мои связи исчезли. Вы… вы не могли бы помочь?
– Охотно, – также шепотом откликнулся Сурда. – Назовите имя, адрес…
– «Синий циферблат», – решился я. – Кабачок на площади Роз. Там…
Уточнять я не стал. Вдруг этот смелый парень знает? Ведь кто-то же помогал мне в Париже!
Сурда помолчал, припоминая, затем вздохнул:
– Нет. Никогда там не был. Поммеле тоже ничего мне не говорил. Но я съезжу, узнаю…
Сердце вновь ударило болью, и я невольно удивился. Странно, я, мертвый, чувствую это. Впрочем, и такое бывает. Фантомная боль – как в ампутированной ноге, в оторванном пальце. Призракам тоже бывает больно…
– Не надо, – с трудом выговорил я. – Там уже никого нет.
Я прикрыл глаза. Напрасно, все напрасно! Я почувствовал, что свет фонарей начинает гаснуть, тьма густеет, становится вязкой, горячей…
– Господин дю Люсон! Смерть Христова, что с вами?
Очнувшись, я сообразил, что стою, прислонившись к сырой холодной стене, а все остальные окружили меня, растерянно переглядываясь.
– Ничего, – с трудом выговорил я. – Пошли.
– Тоже мне, ничего! – возмутилась Юлия. – Вам надо срочно в больницу! Господин Сурда, если вы имеете на этого самоубийцу хоть какое-то влияние…
Вильбоа молчал, но внезапно я уловил его взгляд – странный, настороженный…
– Отставить! – выдохнул я. – Мадемуазель! С завтрашнего дня я в вашем полном распоряжении. Может быть…
Возмущенное фырканье было ответом. Но я уже пришел в себя. Надо идти. Уже близко.
Стены вновь посветлели, но это был уже не гипс, а известняк. Слева и справа стали попадаться ниши, а над проходом снова появились номера. Проход вильнул, и тут же послышался радостный вопль гражданки Тома:
– Ага! А вы не верили! Все, как я говорила!
Спорить не стоило, тем более что мы действительно пришли.
…Ни ступенек, ни арки. Черное неровное отверстие, низкое, едва в человеческий рост. Наверху – странный рельеф, почти полностью стесанный еще в давние годы. Почему-то показалось, что когда-то это была птица – огромный орел, распластавший широкие крылья.
– Прошу! – лейтенант Сурда улыбнулся. – Часовня Святого Патрика! Признаться, не понимаю, что тут интересного…
– А это дорога назад! – весьма невежливо перебила гражданка Тома, подбегая к одному из проходов. – Я вспомнила! Вспомнила!
Николя вновь усмехнулся:
– Совершенно верно, мадемуазель! Заблудиться здесь, признаться, мудрено… Сударыня! Господа! С вашего разрешения… Мне надо срочно вернуться…
– Конечно, – кивнул я. – Большое спасибо, лейтенант! Как мне вас найти?
– Как обычно, – крайне удивился Сурда. – Адрес надежный… На крайний случай, – он оглянулся и перешел на шепот, – здание бывшего Морского министерства. Сторож – Жиль Беко. Спросите меня или Пьера Леметра…
Мы обменялись поклонами, и лейтенант исчез в одном из проходов.
– У вас очень полезные знакомые, гражданин Люсон, – заметил Вильбоа, до этого внимательно разглядывавший рельеф над входом.
– Зазнайка и хлыщ! – возмущенно бросила Юлия. – В свое время он еще смел за мной ухаживать! Мой батюшка перестал пускать его в наш дом…
Я вспомнил беднягу индейца, рассудив, что лейтенанту еще повезло.
– А теперь господина Сурда разыскивают все секции Парижа, – прибавил Вильбоа. – Между прочим, он вне закона. Вначале я сомневался, но, когда заметил шрам… Знаете, Франсуа, мне показалось, что сей господин – какой-нибудь лигист, заблудившийся здесь два века назад… Впрочем, к месту он нас доставил. Вы не находите, что это не очень похоже на часовню?
Спорить не приходилось. Орел над входом – странная визитная карточка даже для святого Патрика.
– Остается войти, – рассудил я. – Шарль, на всякий случай держите пистолеты под рукой.
Но оружие не понадобилось. Узкий неровный проход был пуст, под ногами скрипел битый известняк, а на стенах я заметил странные надписи – не по-французски, но и не на латыни. Впрочем, останавливаться мы не стали. Проход резко расширился…
– Однако, – растерянно заметил Вильбоа. – Если это часовня…
Длинный зал, высокие своды, сходящиеся под самым потолком. Серые стены с жалкими остатками побелки. Всюду битый камень…
Фонари отогнали тьму, и она забилась в дальний угол, туда, где должен быть алтарь. Мы не спешили. Вильбоа медленно осматривал стены, поднося фонарь вплотную к неровному камню. Наконец он хмыкнул:
– Смотрите!
Мраморная плита, врезанная в серый известняк. Здесь уже работали не зубилом, а тонким резцом. Лик святого был спокоен и строг. Благословляющий жест руки, контур нимба над непокрытой головой…
– Здесь надпись… – Вильбоа осторожно провел пальцами по мрамору. – Латынь… Какая-то странная латынь. «В лето Господне 1425-е освящен сей храм…»
– «…именем святого Патрика, крестителя Бретани, Ирландии и народа дэргского, – нетерпеливо перебила Юлия, заглядывая через его плечо. – Да будет сие бывшее капище служить Христу, святому Патрику и…» Не понимаю…
– «…высокому Небу», – негромко закончил Вильбоа, поворачиваясь ко мне. – Помните, Франсуа?
Я кивнул. Высокое Небо, которое чтили дэрги. Дэрги, обычно именуемые лограми…
– Это я поняла! – Юлия сняла очки и принялась их тщательно протирать. – Остается узнать, граждане, причину, по которой вы потащили меня через все катакомбы в эту дыру!
– Мы? Вас? Потащили? – как можно вежливее отозвался я.
– Да! – Очки уже были на месте, стекла сверкали вызовом. – Вы изволили намекнуть, что здесь требуется врач…
Мы с Вильбоа переглянулись.
– Это безобразие! Мы…
– …Еще не все осмотрели, – я кивнул в сторону алтаря. – Шарль, посветите.
Сначала мы увидели крест. Огромный, черный, глубоко врезанный в мягкий известняк, он поднимался к тонущим во мгле сводам. Под ним темнел четырехугольник двери. Ни икон, ни распятия…
– Узнаете? – кивнул Вильбоа.
– Постойте! – Крест действительно показался знакомым. – На том документе, что вы мне показывали…
– Крест Святого Грааля. Святая Католическая церковь не очень его привечала.
– Я ошиблась, – решительно заявила гражданка Тома. – Сюда надо было действительно отправить Альфонса, предварительно повязав ему теплый шарф. Мое присутствие…
Я шагнул в черный проем. Вильбоа, держащий фонарь, чуть отстал, но даже в темноте я сразу же понял, что мы опоздали. Привычный запах сырого камня исчез, сменившись другим, тоже знакомым – сладковатым, приторным до горечи. Луч света упал на серый неровный пол…
– Господи! – Вильбоа замер в проходе и внезапно перекрестился.
Трупы лежали всюду – мужские, женские, в одежде и без. Некоторые уже превратились во прах, другие еще сопротивлялись натиску разрушения. Тщетно! Оскаленные в страшной гримасе лица, черные глазницы, уже не способные увидеть свет…
Сзади тихо вскрикнула Юлия. Внезапно я пожалел, что позволил девушке пойти с нами. Ей незачем видеть такое…
– Головы! Вы видите, Франсуа?..
Даже в свете фонаря было заметно, как побелело лицо Вильбоа. Он словно вновь пережил то, что случилось с ним на кладбище Дез-Ар.
– Да, странно… – гражданка Тома уже пришла в себя. – Головы почему-то отделены от тел.
Она наклонилась над ближайшим трупом. Тление уже вступило в свои права, но можно было догадаться – старик, богато одетый, с массивным золотым перстнем на узловатом пальце…
– Уже не меньше месяца… Голова отделена от тела каким-то острым предметом…
– Этот предмет обычно называют «национальной бритвой», – негромко подсказал я. – Его действие вы можете увидеть на площади Революции.
– Вы думаете?.. – Юлия растерянно оглянулась. – Но зачем? Тайное кладбище?
– Нет. Они…
Я поглядел на Шарля и не стал договаривать. Вильбоа вымученно улыбнулся, с силой проведя рукой по лицу.
– Все в порядке. Уже прошло… Нет, Юлия, эти несчастные пришли сюда сами. Как моя Мишель. Пришли, чтобы умереть…
– Чепуха! Быть такого… – Девушка не договорила и вновь наклонилась над одним из тел. Я отвернулся – смотреть не было сил. Они уже нашли покой под сенью креста Святого Грааля. Мне не дано даже это…
– Вот! Смотрите!
Вильбоа с трудом протиснулся по-над стенкой, стараясь не наступать на тела. Он первым заметил надпись, сделанную совсем низко, над самым полом. Я поспешил следом.
– Как будто писали лежа, – Шарль наклонился и покачал головой. – Это не краска! Неужели?..
– Кровь, – закончил я. – К сожалению, очень похоже.
– «Господи! Святой Патрик и Высокое Небо! – голос парня дрогнул. – Помилуй своих проклятых детей!»
Я закрыл глаза. Высокое Небо – серое, словно высеченное из влажного известняка. Такое близкое – и такое недоступное. Господи, помилуй своих проклятых детей!..
Действие 5 Некий шевалье и его друзья переживают удары злой Судьбы, или Революционная Инквизиция
– Гнусные негодяи – Питт, премьер британский, и Казалес, посланец злокозненного Кобленца, в полном от-чаянии. Все их мерзкие интриги против Французской Республики, Единой и Неделимой, терпят фиаско. Об этом Питт превосходным драматическим баритоном сообщает понурому Казалесу, отвечающему слуге деспотизма великолепным тенором. Наконец, спевшись, оба решают направиться к главному тирану – королю Георгу, который, как известно, «хотит напасть» на указанную Республику, да все как-то не решается…
Героико-комическая опера «Народы и короли, или Трибунал Разума» граждан Тосса и Сизо-Дюплесси шла при переполненном зале. На этот раз никто не шикал при исполнении «Марсельезы». Более того, по требованию публики творение Руже де Лиля исполнили дважды, причем партер пытался подпевать хору, отчего стены Оперы, непривычные к подобному кошачьему концерту, начали мелко подрагивать. Сами актеры, впрочем, пели превосходно, да и играли неплохо. Гнусный негодяй Питт – с огромным брюхом, в широкополой черной шляпе со страусиным пером и с непременной недопитой бутылкой портвейна в руке – мне чрезвычайно понравился.
…Дуэт между тем превращается в трио. Король Георг – тоже баритон – обещает возглавить интервенцию двунадесяти держав против Французской Республики. Увы, к ужасу драматического баритона и тенора, монархом-злодеем внезапно овладевает припадок безумия, и он пускается в пляс, горланя комические куплеты.
А в это время отважный британский санкюлот Джон ползет по сцене, дабы выследить и разоблачить заговор коварного врага…
В Оперу я идти не собирался. Впечатлений и так хватало, к тому же хотелось просто посидеть за чашкой кофе и как следует все обдумать. Но как только ранние сумерки накрыли город, я почувствовал страх. Такого со мною не было уже давно. Я боялся закрыть глаза – мертвые лица с пустыми глазницами скалили желтые зубы, скрюченные пальцы ловили воздух…
Я выкурил три папелитки подряд и, не выдержав, стал быстро собираться. Редингот, бесполезный монокль, трость. Мягкое золото лож, бархат огромного занавеса, крылатые Гении, летящие по расписному потолку, – все это могло отвлечь, хотя бы ненадолго, всего на пару часов. И не так важно, что происходит на сцене. Пусть даже это горячечный бред граждан Тосса и Сизо-Дюплесси.
…Действие между тем перемещается в Палату общин. На сцене страдает лирический тенор – депутат Грей. Он тоже злодей, но тайный: на словах прославляет Республику, Единую и Неделимую, но на деле более всего на свете боится высадки доблестных парижских санкюлотов на берегах Темзы. Не меньшими злодеями оказываются баритон и бас – депутаты Фокс и Шеридан, предлагающие коварный план: приветствовать французов-освободителей, но втайне подготовить их полное избиение, а заодно отравить праздничный пирог, который будет выставлен у Лондонского моста. Злодеи, увлекшись составлением оного плана, не замечают отважного британского санкюлота Джона, который ползет по сцене, дабы разоблачить и этот коварный замысел…
Вернувшись из нашего странного путешествия, мы ненадолго заехали к гражданину Вильбоа, но разговора не получилось. Шарль был бледен и холодно-спокоен – как тогда, у «Прокопа». Похоже, он держался из последних сил. Мне и самому было не по себе, да и гражданка Тома изрядно скисла, перестав даже огрызаться. Итак, разговор решили отложить, тем более что ничего путного в голову не приходило, а спорить с гражданином Вильбоа по поводу дэргов и секты граалитов не тянуло.
…А в это время истинные дети трудовой Британии – лондонские санкюлоты – собираются на «митинг», то есть попросту потолковать. Хор, разбившись на несколько частей, подробно исчисляет злодейства британских лордов вкупе с тираном-безумцем Георгом. И вот в самый распев, когда хор уже гремит в полную мощь, появляется отважный британский санкюлот Джон. У бесстрашного героя оказывается превосходный бас, и этот бас уверенно разоблачает вражеские козни, призывая санкюлотов Лондона к восстанию. Хор охотно отзывается, и под сводами оперы звучит: «К оружию, кокни! Джентльменов – на фонарь!»
Бархатный занавес опустился под восторженный рев зрителей, обозначая конец первого акта, и я окончательно успокоился относительно судьбы братского британского народа. Республика вкупе с гильотиной ему обеспечена.
Из ложи, где я по-прежнему пребывал в гордом одиночестве, уходить не хотелось. Я уже сообразил, в чем дело. Сегодняшнее представление было бесплатным и предназначалось для активистов санкюлотских секций. Встречаться с подобной публикой не тянуло. Мой редингот, рассчитанный на «старую» Оперу, мог вызвать немало вопросов. Оставалось сидеть в ложе, разглядывая лупоглазые бюсты в красных колпаках, и гадать, какие еще козни изобретет негодяй Питт вкупе с иными врагами трудовой Британии.
Свет уже начал гаснуть, когда я услыхал за левым ухом чье-то легкое дыхание. Итак, мое одиночество нарушено. Я уже мог догадаться, кем именно. Только Бархатная Маска способна появляться столь бесшумно…
Занавес пополз вверх, открывая декорацию, изображавшую набережную Темзы, но проблемы революции в Британском Королевстве внезапно перестали меня интересовать. Итак, меня вновь нашли. Честно говоря, я и рассчитывал на что-то подобное. Похоже, национальный агент Шалье пользовался нынче немалым спросом.
Бархатная Маска застыла в кресле, даже не глядя в мою сторону. Рука сжимала веер, тонкие губы слегка улыбались. Я вдруг подумал, что при иных обстоятельствах эта дама могла пользоваться немалым успехом. Но шпионки не бывают красивыми. По крайней мере для меня.
…Доблестные французские войска уже высаживаются у причалов. Народ хватает короля Георга и вяжет его толстыми канатами. У злодея Питта вырывают бутылку с портвейном и сбивают с головы шляпу. Однако гнусный негодяй Грей, надев красный колпак, уже приступает к выполнению своего зловещего плана. Из-за кулис вновь выползает отважный британский санкюлот Джон…
– Добрый вечер, гражданин, – голос был тихий, да и говорила Маска странно, не оборачиваясь, словно меня и не было рядом. – Вашему другу нужен совет…
– Добрый вечер, гражданка, – таким же шепотом откликнулся я. – Думаете, нас подслушивает санкюлот Джон?
Внезапно она улыбнулась. Тонкая рука сорвала маску.
– Вы правы. Просто учусь говорить шепотом. Он считает, что это необходимо для моей работы. Говорить, одеваться и двигаться – это самое главное…
Точно то же мог бы сказать о себе любой актер. Впрочем, шпионское ремесло чем-то сродни сценическому.
– Итак, совет, гражданин Шалье… Друг хочет узнать, можно ли остановить гражданина Вадье. А если можно, то как?
Пояснений не требовалось. «Предатели ищут предателя». Большие комитеты вцепились друг другу в глотку.
– Лучше всего арестовать, – с самым серьезным видом предложил я. – Но не только одного гражданина Вадье, а и весь Комитет безопасности.
Маска на миг задумалась – точь-в-точь как гражданин Амару.
– Рано, – послышался вздох. – Он считает, что сначала Вадье должен разобраться с Эбером и Дантоном. Но, может, стоит договориться?
Я еле удержался от улыбки. Выходит, «друг» забеспокоился? Похоже, комитетчики взялись за дело всерьез!
– Не выйдет, – не без тайного злорадства заметил я. – Во-первых, Вадье решил послать мяч обратно – после дела с Ост-Индской компанией. А во-вторых, они напуганы. Шпион начал передавать в Кобленц слишком важные сведения.
Она вновь задумалась, слегка постукивая веером по бархатной обивке ложи. Я поглядел на сцену – там негодяй Грей вкупе с Шериданом и Фоксом заправляли ядом огромный пирог с трехцветным кремом. Отважный британский санкюлот Джон выглядывал из-под стола и подмигивал зрителям…
– Сделаем так, – Маска развернула веер и вновь с легким треском сложила его. – Вы встречались с людьми д'Антрега?
Я хотел сказать: «Нет», но внезапно ответил: «Да».
Она удовлетворенно кивнула:
– Поговорите с Пьером Леметром. Потом мы с вами встретимся. До свидания, гражданин!
Я не успел даже попрощаться. Легкое дуновение ветерка – и ложа опустела. Похоже, Маска добилась немалых успехов в умении двигаться.
…А между тем британский народ радостно встречает французскую армию-освободительницу, не ведая о начиненном ядом пироге и притаившихся в кустах заговорщиках с большой пушкой наготове. Представитель Конвента в деревянных башмаках, карманьоле и огромном каторжном колпаке торжественно разрезает пирог, лондонский люд готов вонзить свои трудовые челюсти в отраву. Я даже вздохнул от нетерпения. Где же отважный британский санкюлот Джон? И вот наконец он, собственной персоной, причем не один, а с негодяем Греем, которого он волочит за шкирку. Гремит бас – добрые лондонцы узнают о заговоре. Кусок пирога подносят мерзавцу Грею для дегустации…
Пока вождь английских вигов ползал по сцене (не хуже самого санкюлота Джона), моля о прощении и каясь в грехах, я, перебрав в памяти недавний разговор, отметил один любопытный поворот. Маска советовала мне увидеться с Леметром. Допустим… Но! «Потом мы с вами встретимся». Что значит «потом»? Откуда ей знать, когда я увижусь с неуловимым подпольщиком? Или Маска просто неудачно выразилась?
…Гнусные негодяи Фокс и Шеридан в бессильной злобе против трудового народа наводят пушку прямо на мирный «митинг». Ничего не подозревающие граждане танцуют карманьолу, а между тем фитиль уже подносят к запалу. Где же Джон, черт побери?! А вот и он! Оказывается, отважный санкюлот уже успел подмочить порох. Интересно, чем и как? Однако негодяям Фоксу и Шеридану не до подобных размышлений. Трудовой народ бросается к мерзавцам…
Зал вскипел аплодисментами. Они не смолкали до самого конца, пока на сцене не была торжественно водружена гильотина, а отважный британский санкюлот Джон, ставший главой Революционного Трибунала, не пообещал немедленно отправить «бриться» всех врагов народа – от тирана Георга до «лицемеров и предателей» из числа паршивых либералов. Грянул хор, прославляя будущую Мировую Коммуну. На миг мне показалось, что гипсовые монстры в красных колпаках зловеще усмехнулись. Слева от сцены корчил свою обезьянью рожу Марат, а справа ухмылялся некто длинноносый, с пухлыми берберийскими губами. Всмотревшись, я невольно покачал головой. Мой старый знакомец Лепелетье де Сен-Фаржо с голой грудью и в непременном красном колпаке! Тут же вспомнились слова чернявого Амару. Проект «Лепелетье» – что задумали наследники этого длинноносого? Может, нелепая история, только что представленная на сцене, не так уж и нелепа? Может, длинноносый ухмыляется не зря?
Альфонс д'Энваль из племени ирокезов надрывно кашлял, но наотрез отказывался выпить теплого молока, густо приправленного зловещего вида микстурой, приготовленной лично гражданкой Тома. Он предпочитал кашлять, всем своим видом показывая, что недоволен жизнью вообще, а нашими скромными персонами в особенности.
К гражданину индейцу я попал совершенно случайно. Мы договорились встретиться у Вильбоа, но в назначенный час гражданка Тома не прибыла, прислав записку с извинениями. Оказывается, хрупкое здоровье ее впечатлительного жениха потребовало особой заботы. Я предложил Шарлю навестить болящего, но Вильбоа отказался. Его вид мне нравился все меньше и меньше. Парень молчал, не отвечал на вопросы и явно хотел остаться один. Уже в который раз я ругал себя последними словами за то, что согласился помочь ему в этом странном расследовании. Да, мы что-то узнали – и еще больше увидели. Но разве Шарлю стало от этого легче? Он хотел знать правду – но не всякую правду можно вынести.
У гражданина д'Энваля оказались иные заботы. Индеец был обижен – на меня, на Юлию, а заодно и на себя самого. Уже в который раз он, давясь кашлем, возмущался «ложными друзьями», не взявшими его в подземные странствия. Положение усугублялось тем, что гражданка Тома категорически отказывалась что-либо поведать о нашем путешествии, вероятно, из желания не волновать больного. Это благое намерение имело совершенно противоположные последствия. Альфонс отставил в сторону молоко и разразился таким приступом кашля, что даже мне стало не по себе.
– О, неблагодарные друзья! О-о! – доносилось сквозь кашель. – О вы, бросившие меня в тяжкой беде!
– Давайте расскажем, – не выдержал я. – В конце концов, лишнее мнение не помешает.
Кашель гражданина д'Энваля немедленно стих, но Юлия только фыркнула:
– Не вижу необходимости, гражданин Люсон! Подобные рассказы не для больных!
Бедняга Альфонс закатил глаза, и я понял, что дела плохи.
– Беру ответственность на себя, – заявил я, стараясь не замечать яростного блеска очков гражданки Тома. – А вы, друг мой, сначала выпейте молоко…
И я рассказал все – с того момента, когда на Кладбищенской улице я встретил несчастную, потерявшую разум девушку.
Д'Энваль слушал, не проронив ни слова, причем кашель его куда-то исчез. Затем индеец глубоко вздохнул, причем лицо его приняло самое скорбное выражение.
– Значит, вы мне не доверяли? О-о! Я ведь знал! Я догадывался…
– Альфонс, не мелите ерунду! – не выдержала Юлия. – Рассказ гражданина Люсона об этих, с позволения сказать, «дезертирах» лишен и логики, и научного смысла!..
– А я вам верю! – Глаза индейца горели, словно он уже видел всю эту историю, воплощенную в очередной пьесе. – Я ведь говорил вам, Юлия! Вспомните Добино!..
– Чушь, чушь, чушь! – гражданка доктор оставалась непреклонной. – Во-первых, все это можно – и должно – объяснить без всякой чертовщины. Гражданин Люсон встретил у кладбища девушку, чем-то похожую на Мишель Араужо, а в подземелье мы просто нашли тайное кладбище – хотя бы той же секты граалитов. Ну, а во-вторых…
Юлия задумалась, затем решительно сверкнула очками:
– Логрская теория гражданина Вильбоа не выдерживает ни малейшей критики. Слишком много натяжек! Даже если все это правда…
Мы с индейцем невольно переглянулись. Оказывается, Юлия могла допустить и такое!..
– Я говорю «если»! Но пусть это правда. Зачем искать так далеко? Самое простое – самое верное…
– Вы находите эту историю простой? – не выдержал я.
– Она сложна не сама по себе. Трудность в нашем незнании. Что такое смерть? Не в философском, а в конкретном значении?
Я вздрогнул. Да, смерть вполне конкретна. Моя даже имела имя…
– Это сложнейший физиологический процесс, пока совершенно не изученный. Мы все привыкли, что определенные изменения в организме несовместимы с жизнью и приводят к необратимым последствиям…
– Это вы о гильотине? – вновь не выдержал я.
– К примеру, гильотина, – кивнула девушка. – Отделение головы от туловища приводит к известному итогу. Однако в любом правиле бывают исключения. В тысяче случаев механизм срабатывает, а в тысяча первом дает сбой. Сейчас в Париже ежедневно погибает более сотни человек, по всей Франции – больше тысячи. Это настоящая пандемия – пандемия смерти. А между прочим, механизм массовой гибели людей еще никто не изучал. Я читала некоторые книги о средневековых эпидемиях. Тогда гибли тысячи, но порою встречались совершенно невероятные случаи исцеления. Я бы сравнила это, – она на миг задумалась, – с массовой бойней. Рука мясника устает и порою бьет неточно. Смерть все равно наступает, но не так и не в тот момент. И чисто теоретически можно предположить…
– О чем вы, Юлия! О-о! – растерянно перебил д'Энваль. – Смерть – это таинство, это темное покрывало…
– Помолчите, Альфонс! – отмахнулась девушка. – Я хорошо помню, как вы вели себя на вскрытии! Так вот, можно предположить, что в некоторых случаях механизм не срабатывает. Точнее, срабатывает неточно. Отсюда – феномен ваших «дезертиров». Повторяю, все это чисто теоретически…
От ее спокойных слов веяло холодом. Смерть – мясник… Нет, скорее усталый палач, неточно наносящий удар. Как тот молодой доброволец, который двенадцать раз бил топором по шее Шалье Лионского…
– Значит, просто случай, – проговорил я вслух. – Один из тысячи…
Один из тысячи, которого не отпустили на серое небо, такое близкое, такое доступное – протяни руку. Просто лотерея, страшная лотерея, в которую играют добрые французы в лето от Рождества Христова 1793-е. И никаких тайн…
– Нет, не все так просто, Юлия! Ваша теория…
– Это не теория! – резко возразила девушка. – Я совершенно не уверена в самом посыле. Но если принять его за аксиому…
– Вы считаете без хозяина, – перебил я, вспомнив наш спор с Вильбоа. – Без Того, Кто взвесил все судьбы…
Очки блеснули, но я поднял руку:
– Погодите! Все или почти все «дезертиры» не успели сделать что-то важное.
Мари дю Бретон не успела покормить детей, неистовый Антуан Пари – отомстить. У каждого – свое, у каждого – свой «Синий циферблат»…
– По-вашему, желание одного человека сильнее законов природы? – Юлия возмущенно пожала плечами. – Это уже чересчур!
– Не желание, – поправил я. – Воля.
– Поповщина и клерикализм! – Девушка резко встала. – Стыдно слышать от такого образованного человека…
– А я согласен с вами, друг мой! – быстро заговорил д'Энваль. – Воля – о, наша воля, она сильнее смерти, сильнее…
Девушка фыркнула, и молодой индеец смущенно умолк.
– На этом дискуссию прекращаю! – Юлия резко прошлась по комнате. – А вам, Франсуа Ксавье, следует завтра же направиться в лечебницу…
– У вас нет сердца, Юлия…
Девушка резко обернулась и замерла. Д'Энваль медленно встал.
– Увы, это так! О-о! Сколь скорбно сознавать это, но истина пронзает меня, словно отравленный кинжал! Да, у вас нет сердца! Вы не верите в Бога, вам смешны человеческие чувства, вам недоступно то святое, что дорого каждому человеку… И вы не любите меня!
– Что?!
И тут я понял – слова гражданина д'Энваля, больше похожие на горячечный бред, достигли цели. Девушка побледнела, в глазах мелькнула растерянность.
– Альфонс! Вы понимате, что говорите?
– Да! – Похоже, индейца понесло. – Вы не любите меня! О-о! Я верил вам, почитал вас, словно богиню, а вы… Вы забываете меня ради своих низменных увлечений, ради других мужчин, с которыми…
«Заткнись!» – чуть было не сказал я, но понял – поздно. Лицо девушки странно дернулось, дрогнула закушенная губа…
– Франсуа Ксавье, – ее голос дрогнул, – убедительно прошу вас проводить меня домой. Здесь мне больше незачем находиться.
– О-о! – Альфонс сжал голову руками и рухнул на диван. – Вы решили добить меня, вы, лишенная сердца!.. Уходите! Уходите с ним! Уходите к нему! Уходите, дабы предаться с ним…
Внезапно мне показалось, что я нахожусь в каком-то нелепом провинциальном балагане. Пьеро обвиняет в неверности Коломбину. Что за ерунда?! Он что, спятил?
– Прекратите! – возмутился я. – Альфонс! Немедленно извинитесь перед Юлией…
Вместо ответа я услыхал что-то напоминающее мычание. Д'Энваль раскачивался из стороны в сторону, закрыв уши руками. Внезапно мне захотелось поднять его за ворот рубашки и как следует встряхнуть, а если не поможет…
– Я ухожу, – послышался негромкий и внешне спокойный голос девушки. – Вы остаетесь?
На улице я долго не решался заговорить. Юлия упорно молчала, глядя в сторону.
– Послушайте, – наконец начал я. – То, что произошло, нелепо…
Она резко обернулась и выдернула руку, которую, вероятно по забывчивости, подала мне, когда мы выходили из подъезда.
– Я могла бы сказать, Франсуа Ксавье, что это – не ваше дело. Но я так не скажу. В данном случае вашей вины, как ни странно, нет. Альфонс иногда бывает невозможен… Кстати, пусть его слова не тешат ваше самолюбие. Альфонс готов ревновать меня даже к памятнику Генриху IV…
– Я просто хотел извиниться…
– Незачем! – она резко дернула плечом. – Хотя не могу не признать, что вы приносите одни неприятности!
Спорить я не стал. Странно, но получалось именно так. Бедняга Вильбоа, теперь эти симпатичные влюбленные…
– Вы правы, гражданка Тома. Сейчас я провожу вас домой, и мы больше не увидимся.
Честно говоря, я надеялся, что Юлия возразит, но девушка так и не сказала ни слова.
На стук в дверь я вначале не обратил внимания. Я никого не ждал и менее всего был рад незваным гостям. Но те, что стояли в коридоре, оказались настойчивы. Снова стук – на этот раз лупили кулаком, затем на дверь обрушилось что-то тяжелое, железное. Я встал и, уже догадываясь, кто заглянул ко мне на огонек, отодвинул засов.
В дверной проем заглянула щекастая физиономия, увенчанная засаленной треуголкой с трехцветной кокардой. Послышалось удовлетворенное «Ага!», и на пороге появился первый гость. Он был изрядно толст, в старом поношенном сюртуке, зато с широкой перевязью (тоже трехцветной) через все брюхо. За поясом у трехцветного торчали два дуэльных пистолета.
Вторым вошло странное создание в балахоне и чепце, небритое и с большим, изрядно ржавым мушкетом. Присмотревшись, я сообразил, что это все-таки женщина, а кажущаяся небритость объясняется слабым знакомством с полотенцем и мылом. Вслед за мушкетером в чепце появился желтолицый санкюлот в полной карманьоле и красном колпаке, который волок нечто, напоминающее оглоблю. Оглобля никак не желала пролазить в двери, и красноколпачнику пришлось изрядно повозиться, дабы втащить ее в команту. Когда это наконец удалось, стало ясно, что это не оглобля, а пика, увенчанная кривым наконечником с трехцветной лентой.
Я принял этот внушительный парад стоя. Теперь кое-что стало ясно – и присутствие мадам Вязальщицы в неурочный час, и любопытные взгляды коридорных…
– Мы к вам, гражданин Люсон, – с достоинством проговорил толстяк. – И вот по какому делу…
Да, Вильбоа и Демулен не зря предупреждали! Дальнейшее можно было и не объяснять, но отказать себе в беседе со столь колоритными личностями просто грешно.
– А кто это «мы»? – самым невинным тоном осведомился я.
Гости переглянулись.
– Мы – это Наблюдательный комитет секции Нового моста, – соизволил пояснить толстяк. – Моя фамилия Шондер, я отвечаю за всех подозрительных на территории нашей секции.
– За всех? – восхитился я.
– За всех, – немного подумав, сообщил гражданин Шондер. – Так что мы к вам, гражданин Люсон. И вот по какому делу…
– Заарестованный ты! – перебил санкюлот в красном колпаке. – Так что собирай вещички, «аристо»!
– Но за что? – воскликнул я, прикидывая, что удостоверение национального агента здесь может не помочь. Едва ли эта публика вообще умеет читать.
– А потому как ты, гражданин Люсон, контра недорезанная! – охотно пояснил санкюлот. – По тебе «бритва» плачет!
Оставалось узнать, что такое загадочная «контра». Вопрос явно застал красноколпачника врасплох. Он задумался, но тут вмешалась Небритая Женщина:
– Ты, гражданин, контрреволюционер. А значит, контра! Так что собирай вещички!
Выражение мне понравилось, но стало ясно – шутки кончились.
– Предъявите ордер! – велел я, все больше убеждаясь – объясняться с гражданами из Наблюдательного комитета бесполезно. Значит, следует поступить иначе.
– Ордер? – толстяк явно обиделся. – Есть у нас ордер! Самим гражданином Шометтом подписанный! Мы, гражданин, порядок знаем!
Я повертел в руках залапанную грязными пальцами бумагу с грифом «Единая, Неделимая» и пожал плечами:
– Но за что?
– А за то, контра, – вновь вмешался санкюлот, – что у тебя гражданское свидетельство не зарегистрировано и не продлено, и гости к тебе ходят подозрительные, и шутки ты над Республикой горазд шутить…
– Исчерпывающе, – согласился я, надевая плащ и пряча в карман папелитки и огниво. – Кстати, кому мне за все это спасибо сказать?
– Спасибо ты, гражданин, в Революционном Трибунале скажешь, – прогудела Небритая Женщина. – А сообщили о тебе сознательные граждане – гражданка Грилье и гражданин Олив, старший коридорный. Все, «аристо», двигай!
Редингот, трость и шляпу я брать не стал. В местах, куда я направлялся, театральный наряд ни к чему.
В коридоре и на улице уже собралась изрядная толпа, дабы полюбоваться арестованной «контрой». Мне желали всего доброго, а также скорейшей встречи с гражданином Тенвилем и гражданкой Луизеттой.[41] На улице нас ждал фиакр, что сразу улучшило настроение. Идти в тюрьму пешком не тянуло.
Ехали долго. Я смог вволю полюбоваться славным городом Парижем и выслушать от своих спутников весьма продуманные и яркие суждения о Старом порядке, аристократии, священниках, а заодно и о бриссотинцах вкупе с фейанами.[42] Беседа была столь интересна, что я даже пожалел, когда мы наконец прибыли. Заведение, куда меня доставили, имело крепкие стены, решетки на окнах и забор, охраняемый парнями в синих мундирах. Мне любезно пояснили, что все это называется тюрьмой Сен-Пелажи и отсюда для таких, как я, путь один – на площадь Революции.
В тюремной канцелярии мною занялся подслеповатый чинуша, которому приходилось водить носом по бумаге, чтобы попасть пером в нужную графу. Однако играть уже надоело. На вопрос о фамилии я заявил, что намерен разговаривать только с вышестоящим начальством. Я уже был готов подкрепить свое требование бумагой, лежавшей во внутреннем кармане камзола, но чинуша оказался весьма сговорчивым. Подумав, он заметил, что такого матерого заговорщика, как я, охотно выслушает сам гражданин Леба, член Комитета общественной безопасности.
Меня провели в кабинет, где за облезлым дубовым столом восседала личность в белом парике и больших очках. Разглядывать внешность гражданина Леба я не стал. Убедившись, что мы остались одни, я достал страшную бумагу и с любезным поклоном передал ее комитетчику. Белый парик склонился над столом…
– О господи!
Из-под парика выглянули ошалелые глаза. Гражданин Леба глотнул воздуха, снял очки и моргнул.
– Г-гражданин Шалье? Но… Как же так?!
– Бывает, – сочувственно заметил я. – И что будем делать?
Он вновь уткнулся в бумагу. Послышался тяжелый вздох.
– Недоумки! Господи, какие недоумки!
Спорить я не стал. Между тем гражданин Леба вновь надел очки и достал чистый лист бумаги.
– Прошу извинить, гражданин! Сейчас я оформлю ваше освобождение…
Я невольно задумался. Проще всего поступить именно так, но проще – не всегда значит правильнее…
– Погодите, гражданин Леба! Вы, наверно, уже догадались, что я и есть – контрреволюционер и заговорщик Люсон.
– Мне о вас рассказывал гражданин Шовелен, – улыбнулся комитетчик. – Я догадывался, что вы в Париже, но…
– А теперь представьте, – перебил я, – вы арестовали контрреволюционера и заговорщика Люсона. Это видела половина Парижа. Заговорщика привозят в тюрьму – и отпускают. Что скажут другие заговорщики, с которыми этот «аристо» знаком? Мне предстоит встреча с людьми д'Антрега…
Да, лишние вопросы мне не нужны. А они, конечно, будут – и у лейтенанта Сурда, и у других. Из тюрем Республики, Единой и Неделимой, просто так не выходят.
Леба помянул черта, чертову мать и все их потомство. Было заметно, что комитетчик изрядно расстроился.
– Но… Что же делать, гражданин Шалье?
Я вновь задумался. Можно, конечно, тихо исчезнуть, но тогда вопросы возникнут у других. Например, у моего чернявого знакомого…
– Вот что, – решил я. – Отправьте меня в одиночку. И позовите гражданина Амару. Пусть придет завтра утром…
Одиночка оказалась размером со средней величины гроб, однако большего мне и не требовалось. Я постелил плащ на твердый лежак и устроился со всеми удобствами. Странно, но вид узилища неожиданно взбодрил. Может, потому, что попавшему сюда легко на время забыть обо всех проблемах, кроме одной – как выбраться. Задерживаться здесь я не собирался, но следовало продумать, как использовать этот нелепый арест с наибольшей пользой. В конце концов, говорят, даже змеиный яд целебен. Значит, из пребывания в Сен-Пелажи тоже можно извлечь выгоду. Пусть и небольшую.
Днем меня не тревожили, зато ночью я услыхал стук. Стучали в стену – удар, короткий промежуток, затем еще, еще. Вначале я удивился, а потом вспомнил – арестантская азбука! Тот, кто взывал ко мне, оказался настойчив, и я, дабы не прослыть невежей, ответил: удар, пауза, еще удар, еще. Похоже, там, за стеной, обрадовались, поскольку стук возобновился с утроенной силой. Увы, этим языком я не владел, поэтому не без сожаления отказал себе в дальнейшем общении с соседями. Остаток ночи ушел на иных соседей – крыс, решивших освидетельствовать нового жильца. К утру я окончательно убедился, что разговоры про тюремную скуку – не что иное, как злостная ложь. Скучать здесь явно не приходится.
Амару появился не утром, а ближе к полудню. Я уже начал скучать, но вот наконец двери отворились, и небритый надзиратель, позвякивая связкой ключей, повел меня в канцелярию, где уже ждал чернявый.
– Республика, Единая и Неделимая! – воскликнул я, с удовлетворением заметив, что вид у комитетчика весьма удрученный.
Гражданин Амару скривился, словно я помянул по меньшей мере черта.
– Шутите? Самое время!
– Отчего же? – возразил я, присаживаясь на колченогий табурет. – Сколь славно пострадать за отечество!
– Я бы этому Шометту башку оторвал! – Кулак чернявого врезался в стол. – Мы же его, ублюдка, предупреждали! Ни одного ареста без нашей санкции!
– Наверно, я был чересчур подозрителен. Во всяком случае, Сурда мне поверил…
– Что?! – чернявый даже подскочил. – Вы встретились с Николя Сурда?
Я пожал плечами с самым невозмутимым видом.
– Теперь это уже бесполезно. Меня «засветили». Так это, кажется, называется? Кто из людей д'Антрега мне поверит? Шпион роялистов угодил прямиком в Сен-Пелажи, затем перед ним извинились…
Я умолк, предоставив гражданину Амару додумать остальное. А вывод был очевиден – операция сорвана. Так что гражданам из Комитета безопасности следует поискать другого национального агента. Пусть он и берет след…
– Более того, – добавил я, дабы все стало ясно, – на месте гражданина Сурда я бы выстрелил такому счастливчику в затылок – на всякий случай.
Амару пробормотал: «Еще бы!» – и вновь умолк. Теперь следовало выждать.
– Давайте так, – наконец заговорил он. – Все, что можно, мы сделаем. Все! Вы – один из самых опытных агентов, гражданин Шалье. Придумайте! Если надо, можно организовать побег…
Я представил, как перепиливаю решетку, как спускаюсь по шелковому шнуру с пятого этажа. Впрочем, можно еще вырыть подкоп…
– Спасибо, гражданин Амару. Кстати, много побегов было из Сен-Пелажи?
– За последний год – один…
– Вот именно, – кивнул я. – Очень достоверно! А если кто-то из людей д'Антрега служит в вашем ведомстве?
Полюбовавшись вволю его растерянной физиономией, я решил, что пора его утешить. А то чернявый, того и гляди, оставит меня за решеткой – для моего же блага.
– Дайте чернил.
Пока Амару пододвигал чернильницу и суетливо искал перо, я достал пустой бланк гражданского свидетельства. К счастью, в этой суете меня не догадались обыскать.
– Его надо заверить.
Чернявый взглянул на бумагу, кивнул и быстро поставил свою подпись. Я взял перо и, чуть подумав, вписал в пустую графу: «гражданин Франсуа…» Запоминать еще одну фамилию не хотелось, и я, не мудрствуя, добавил: «Ксавье». Итак, гражданин Франсуа Ксавье. Сойдет!
– Мы выйдем сейчас вместе, и вы проводите меня до ворот. А гражданин Люсон должен вернуться в камеру. Надеюсь, вы понимаете, что его должны содержать строго и в полной изоляции?
Амару изумленно раскрыл глаза, но тут же понял и усмехнулся:
– И в железной маске! Будет сделано, гражданин…
Он выжидательно поглядел на меня, но я отмолчался. Называть свою новую фамилию не хотелось.
– И учтите, ничего не могу обещать. Ничего! Вы понимаете? Мне придется все начать сначала.
– Да, да, конечно! – в голосе чернявого звучало облегчение. – Но мы верим вам, гражданин Шалье! Только вы…
Дальше можно было не слушать. Теперь, что бы ни случилось, торопить меня не станут. Выходит, и от тюрьмы бывает польза!
Мы расстались за воротами, договорившись, что я сам навещу чернявого по одному из двух названных им адресов. В крайнем случае я могу пойти прямо к гражданину Вадье. В этом тоже был резон – искать меня не станут – по крайней мере несколько дней. А это меня тоже вполне устраивало. Напоследок Амару пообещал как следует разобраться со всеми «ублюдками», приложившими руку к моему аресту. Это не обещало ничего доброго ни гражданке Грилье, ни гражданину старшему коридорному, ни толстяку с трехцветной повязкой через брюхо. Наверно, следовало бы за них заступиться, но почему-то я этого не сделал. Возможно, не нашел нужных слов.
Я уже принялся оглядываться по сторонам в поисках фиакра, когда внезапно почувствовал на своем плече чью-то руку.
– Т-только не говорите, что это не вы. Иначе моя в-вера в человечество будет окончательно подорвана!
Я не спеша обернулся. Камилл Демулен улыбался, но вид имел крайне растерянный.
– Н-надеюсь, вы не п-перестреляли всю охрану, г-гражданин Люсон, п-поскольку в моей коляске вот-вот слетит колесо и п-погони она не выдержит…
– Если всех уже перестреляли, то и гнаться некому, – рассудил я. – Слава Республике, гражданин Демулен!
– В-вовеки аминь! Вопросы п-потом, уходим!
Он схватил меня за локоть и потащил куда-то за угол.
– Погодите, Камилл! – я попытался вырваться, но безуспешно. – Знаете, в моей компании сейчас может быть опасно.
– Д-да? – Синие глаза блеснули. – П-правда? Знаете, Б-бастилию тоже было опасно брать, но я ее все-таки в-взял. Скорее, т-там коляска. Хорошо, что я – человек б-богатый. Иногда это может помочь…
За углом действительно обнаружилась коляска. Демулен подтолкнул меня, вскочил сам и кивнул кучеру.
– П-поедем к Шарлю. Там расскажете про свой анабазис. Признаться, п-поражен. Как раз шел в-вас проведать в узилище…
– Так вы приехали из-за меня? – поразился я.
Демулен лишь улыбнулся, и я почувствовал нечто вроде стыда. А если бы за решетку упрятали не меня, а этого симпатичного заику, смог бы я поступить так же? Он ведь знает, кто я!..
– Шарль хотел идти к Жоржу, – продолжал Камилл, похоже, не пришедший еще в себя от неожиданности. – Но Жорж сейчас даже не член этого д-дурацкого Комитета. Слушайте, Франсуа, вы что, б-бежали?
– Меня выгнали, – сообщил я не без гордости. – За дурное поведение. Поэтому мне сейчас нужно найти место тихое – и желательно очень спокойное…
– Устроим! – Демулен махнул рукой. – Это как раз не п-проблема. К сожалению, проблема в д-другом…
Его тон мне внезапно не понравился. Что-то случилось – и не со мной.
Дверь нам открыл Вильбоа. Увидев меня, он растерянно моргнул и, кажется, хотел перекреститься, но раздумал.
– Вы? – На бледном лице мелькнула улыбка. – Впрочем, вопрос дурацкий, можете не отвечать… Камилл, как тебе удалось?
– Мне?! – Демулен хмыкнул. – Я встретил нашего г-гражданина «аристо» мирно гуляющим в-возле Сен-Пелажи, к-как будто так и должно б-быть!
– Хорошо! – Лицо Вильбоа сразу же стало серьезным. – Проходите.
Да, что-то случилось. И не со мной. Вернее, не только со мной. Я окончательно убедился в этом, когда дверь в комнату отворилась, и в полутьме коридора блеснули знакомые очки.
– Добрый день, гражданка Тома! – произнес я как можно веселее. – Каким ветром?
Девушка не ответила, лишь лицо ее странно дрогнуло. Да, похоже, дело плохо!..
Когда мы разместились в креслах, я достал из кармана последнюю папелитку и повернулся к Вильбоа:
– Кто?
– Ну, прежде всего, вы, – невесело усмехнулся он. – Вас арестовали вчера днем, а вечером…
– Они взяли Альфонса, – тихо проговорила Юлия. – Он в Консьержери. Я узнала только два часа назад.
Я чуть было не спросил, за что, но вовремя сдержался. За что – ясно. Вопрос в другом…
– В чем его обвиняют? Официально?
– Еще н-не знаем, – так же тихо ответил Демулен. – К сожалению, в Консьержери просто так не п-пускают. Это даже не Сен-Пелажи.
Я кивнул. Объяснения были излишни. Консьержери – прихожая. Прихожая, ведущая прямо на площадь Революции.
– Сделаем т-так, – продолжал Камилл. – Вы, Франсуа, останетесь здесь и не к-кажете носа, пока я не вернусь. А мы с Юлией поедем к Жоржу. Н-надо получить пропуск в этот ад.
Никто не спорил. Демулен улыбнулся и кивнул Юлии. Девушка встала, но у дверей внезапно обернулась:
– Я рада, что вы живы, Франсуа Ксавье! В прошлый раз мы плохо с вами поговорили. Простите…
Я не успел даже ответить – Юлия исчезла. Демулен коротко поклонился и последовал за ней. Хлопнула дверь в коридоре.
– Вот так, – негромко произнес Вильбоа. – А теперь пусть мне кто-нибудь объяснит – хотя бы вы, – что происходит?
– Почему аристократ дю Люсон не в Революционном Трибунале? – понял я. – Шарль, не могу – пока не могу. Рискну лишь заявить, что за свободу я не платил чужими головами. Очень надеюсь, вы мне поверите…
Вильбоа ответил не сразу.
– Пожалуй, поверю. Скажите, Франсуа, тот ангел, что отверз вам врата темницы, не может проделать то же для д'Энваля? Я не очень люблю этого молодого человека, но сейчас не до подобных сантиментов. Кроме того, он жених Юлии, а ей, как вы знаете, я обязан такой безделицей, как жизнь.
Оставалось задуматься. Мой чернявый ангел из Комитета общественной безопасности не из тех, кто без особой нужды совершает добрые дела. Но, с другой стороны…
– Я попытаюсь, Шарль. Мне нужно пару дней. Надеюсь, в Революционном Трибунале накопилось достаточно дел…
Вильбоа кивнул:
– Обычно гражданин Тенвиль не спешит, так что время у нас есть. Признаться, я куда больше боялся за вас, Франсуа… Кстати, не успел поблагодарить. Спасибо!
– За что? – удивился я. – Пока за мною добрых дел не замечалось.
Он покачал головой, затем отвернулся.
– Кроме одного, Франсуа. Этим утром вы вновь спасли мне жизнь. Правда, вполне возможно, без всякого на то желания…
Я хотел вновь удивиться, но что-то удержало. Кажется, я начал понимать.
Вильбоа медленно встал и прошел к стоявшей в углу конторке.
– Это письмо, – в его руке оказался большой, густо исписанный лист бумаги. – Я почти закончил. Точнее, это завещание. Оставалось поставить точку…
Я уже понял какую – свинцовую. Это было именно то, чего я опасался с того самого часа, когда мы вернулись из катакомб.
– Но тут появился Камилл, и я решил, что у меня еще остались кое-какие дела… Понимаю, что вы думаете, Франсуа. Я ведь говорил, что не признаю самоубийства. Но мне действительно незачем жить. По крайней мере, так мне казалось еще сутки назад.
– Шарль, послушайте… – начал было я, но Вильбоа покачал головой:
– Я и сам могу привести все возможные доводы. Но попытайтесь понять и вы. Дело не только в Мишель. Все мы живем из-за чего-то – или благодаря чему-то. С Мишель я познакомился летом 1789-го, как раз через два дня после взятия Бастилии. Я ведь был тогда вместе с Камиллом. И вот Мишель погибла, а то, ради чего мы жили…
– Бросьте! – не выдержал я. – Вы хотите сказать, что поняли, какому богу служили? Только сейчас заметили рога и копыта?
Вильбоа ответил не сразу, его голос звучал тихо, еле слышно.
– Мы хотели, чтобы люди были свободны. Чтобы их не бросали в тюрьмы одним росчерком пера. Мы хотели, чтобы Франция не голодала, чтобы народ не оскорбляли на каждом шагу. Что в этом плохого, Франсуа? Весной 89-го мы надеялись, что Людовик нас поймет – ведь он тоже любил Францию! А потом… Недавно Жорж сказал страшную фразу: «Революция сошла с ума!» Да, это так. Революция убила мою Мишель. Моя Революция! И если я виноват… Я написал… Это не только мои мысли, так думает Камилл – и не он один. Может, еще не поздно. Если сейчас остановить террор, ввести в действие конституцию, провести выборы, объявить амнистию… Может быть, еще есть шанс…
– Конституция, выборы, амнистия, – повторил я. – Может быть. Впрочем, ни Вандея, ни армия Святого Сердца не сложат оружия. И кто сделает это? Не Робеспьер же! Не Вадье, не Фукье-Тенвиль!
– Это мог бы сделать Жорж.
Я вспомнил грубое, покрытое шрамами лицо Титана. Да, этот человек может почти все. Почти – потому что спасти несчастную Францию способен только Тот, в Кого не верит ни Шарль, ни сам гражданин Дантон.
– Через пару месяцев будет уже поздно, – закончил Вильбоа. – Робеспьер натравит Жоржа на Эбера, а потом прикончит и его. Но и гражданину Неподкупному не спастись, когда поднимутся санкюлотские секции… Вы ведь знаете Жака Ножана?
– Санкюлотский вожак из Сен-Марсо? – удивился я. – Кажется, он собирается штурмовать Конвент?
Жак Ножан – еще одно имя в моем списке. Тот, кем так восхищался гражданин Огрызок.
– Ну, думаю, до штурма дело не дойдет – пока, во всяком случае. Но кое-кому придется туго. Это будет завтра, ближе к вечеру. Если хотите, я достану вам пропуск в Тюильри. Я и сам там буду – Жорж просил написать статью…
– Согласен, – кивнул я. – Вы достаете пропуск, пишете статью, а все мы вместе будем выручать нашего друга ирокеза. Вот вам программа жизни – конкретная и очень нужная.
– Убедили, – Шарль наконец-то улыбнулся. – Вы хорошо умеете убеждать, Франсуа. Я уже как-то хотел спросить, не смогу ли я помочь непосредственно вам…
– Пропуск в Тюильри, – усмехнулся я. – И – забыть все глупости, что вы наговорили. Если Революция сошла с ума, то кто-то должен сохранить холодную голову. Иначе Франция превратится в Биссетр. Кстати, где находится Морское министерство?
Огромное четырехэтажное здание на улице Шарлеруа зияло пустыми окнами, массивные дубовые двери были забиты крест-накрест, а от каштанов, когда-то росших у входа, остались одни уродливые пеньки. Несмотря на запустение, место внезапно показалось знакомым. Да, я тут бывал – давно, когда каштаны еще вздымали свои кроны, а над входом красовался огромный герб с золотыми лилиями. Странно, я почти не узнавал Париж, но это место вспомнил сразу. Когда-то я приходил сюда…
«…Жалеете, что не уплыли с Лаперузом,[43] Франсуа? Ничего, я вам покажу настоящих индейцев! Кстати, я вам не говорил? Они избрали меня вождем. Представляете? Так что теперь я дю Матье де Кайевла. Хотите тоже стать вождем, Франсуа? Перья вам пойдут!»
На маркизе де Ла Файете белая форма полевого маршала. Вчера мы обмывали его новые эполеты, а сегодня наш путь лежит сюда, в Морское министерство, где надо договориться о посылке фрегата. Америка ждет – Его Величество решил напомнить проклятым англичанам о славе Рокруа. Флот Рошамбо и де Грасса отплывет еще не скоро, и наше оружие, которое мы привезем в Бостон, придется в самый раз.
Ла Файет весел, он смеется и обещает познакомить меня с индейской красавицей по имени Белая Сова. Оказывается, маркиза, ставшего великим вождем Кайевла, хотели женить на дочери какого-то местного шамана, и бедняга Мари Жильбер едва сумел отбиться от этой чести. Правда, головной убор с перьями он надел все же не зря – Союз шести племен поднял томагавки против англичан.
Мы смеемся и поднимаемся по белым мраморным ступеням. Двери открыты, привратник склоняется в поклоне…
Я прикоснулся к холодному влажному дереву. Нет, сегодня мне здесь не откроют. Когда же это было? Лаперуз – почему мой друг вспомнил о нем? Выходит, я хотел уплыть на его фрегатах куда-то в Тихий океан? Говорят, Его Величество уже на эшафоте спросил палача, что слышно о Лаперузе. Но отважный капитан исчез, и спасательная экспедиция д'Антркасто вернулась ни с чем…
Я стоял у забитого досками входа, не решаясь отойти, словно могло произойти чудо. Двери откроются, и мы с моим другом поднимемся по высокой лестнице – вместе, как вместе служили в полку черных мушкетеров, а позже месили грязь под Йорктауном, где Рошамбо так славно помог генералу Вашингтону. А потом мы, тоже вместе, собрались в Маунт-Вернон, где я впервые закурил испанские «папелито». «Через пять лет вы пожелтеете, как китаец, Франсуа! И не жалко вам легких?» Ла Файет улыбался – беспечно, весело, война подходила к концу, а впереди была целая жизнь. Якобинцы приговорили его к смерти. И то же сделал Руаньяк! Почему я молчал? Почему не заступился за друга? Что я вообще делал среди бойцов армии Святого Сердца?
Я горько усмехнулся и медленно побрел вдоль огромного облупившегося фасада. Что за вопросы? Я делал то, что и другие, – убивал, убивал, убивал. Пока не убили меня самого. Мы квиты, и мстить некому…
За особняком темнели голые зябнущие деревья. Кажется, здесь был парк. Если пройти сквозь него, то можно обойти здание. Где-то там черный ход…
Чугунные ворота исчезли, от решетки остались жалкие обломки, а половина деревьев лишилась веток или превратилась в уродливые пни. Было холодно, и я вспомнил, что месяц фример уже перевалил за середину. Впереди нивоз, мерзлая парижская зима – и отмененный Новый год. Год от Рождества Христова 1794-й. Тридцать пять лет… Вначале я не понял, почему эта странная цифра всплыла в памяти, но затем невольно покачал головой. Тридцать пять лет, Франсуа Ксавье! 2 января, день рождения. Мне исполнится тридцать пять. Исполнилось бы…
У черного хода были заметны признаки жизни. Дверь оказалась полуоткрыта, а слева от крыльца дымилось что-то, напоминающее самодельную печурку. Я оглянулся, но, никого не увидев, поднялся по ступеням и постучал.
Вначале за дверью было тихо, но затем послышались шаркающие шаги. Я еще раз вспомнил то, что сказал на прощание лейтенант Сурда. Жиль Беко, сторож. Назваться, спросить Сурда или Пьера Леметра…
– Чего надобно, гражданин?
Из полутьмы на меня смотрело морщинистое лицо под невообразимого вида шапкой. Выцветшие глаза были равнодушны и пусты.
– Вы Жиль Беко?
– А? – Ладонь сложилась рупором возле оттопыренного уха, выглядывавшего из-под шапки. – Не слышу ничего! Совсем, понимаете, оглох!
Я чуть было не поверил, но вовремя вспомнил, что стучал в дверь – и он меня услыхал. А стук был совсем негромкий…
– Я Франсуа дю Люсон, сударь…
– А?! Ой, не слышу, сынок!
Он слышал. Выцветшие глаза скользили по моему лицу. Внезапно взгляд старика стал острым, внимательным.
– Вроде и вы, господин дю Люсон. А вроде и нет.
Голос был тихий – и очень интеллигентный. Стало ясно – Жиль Беко такой же сторож, как я – национальный агент.
– Не похож? – усмехнулся я. – Глаза другие?
– И глаза другие, – старик покачал головой. – И весь вы другой. Но голос ваш, не спутаешь… Проходите, сударь!
Я вновь оглянулся. В старом парке было пусто, но долго стоять здесь все равно не стоило.
– Нет, – заторопился я. – Господин Беко, мне нужен Пьер Леметр…
Николя Сурда ничем не мог мне помочь. Оставались двое, но Поммеле не было в Париже.
Сторож задумался, затем вздохнул.
– По правде, не должен был вам говорить… Но я вас знаю, господин дю Люсон, вы зря не спросите. Господин Леметр сюда редко заходит – опасно стало. Поищите его в церкви Святого Евстафия. Это на Монмарате, знаете?
– Где? – кажется, я ослышался. – Простите, как?
– Давно у нас не были? – По хмурому лицу промелькнула улыбка. – Господа санкюлоты переименовали. Был Монмартр, стал Монмарат. Господин Леметр там почти каждый вечер бывает. Только вы осторожнее, сударь…
– Обещаю.
Я попрощался и быстро пошел обратно, к разбитым воротам. Итак, Монмарат, церковь Святого Евстафия…
Вечером пошел снег, и узкие улочки Монмартра сразу же побелели. На чистом сверкающем покрывале почти не было следов. Холод и снег прогнали добрых парижан с улиц под ненадежные крыши. Я отпустил фиакр в начале улицы Маленького Жана, ведущей на самый верх Монмартрского холма. Где-то там, если верить разговорчивому кучеру, и находилась бывшая церковь Святого Евстафия.
Остаток дня ушел на обустройство. Квартира, куда отвез меня Камилл, оказалась очень маленькой, из тех, что зовут «кавалерками», зато необыкновенно удобной. Она имела целых три выхода, причем один – по скрипящей деревянной лестнице – вел во двор, а еще один – на крышу. Я невольно поразился такой предусмотрительности, но Демулен лишь хмыкнул, пояснив, что квартира эта – не простая. Два года назад ее подыскал лично гражданин Дантон, дабы спрятать от бравых полицейских комиссаров одного своего сварливого приятеля, имевшего счастливое свойство постоянно цапаться с властями. Упомянутый приятель жил в ней около двух месяцев и в конце концов воспользовался ходом, ведущим на крышу. Мир оказался тесен – сварливого знакомца звали Жаном Полем Маратом, по чьей милости Монмартр потерял свое имя, а бедняга д'Энваль угодил в Консьержери. После бегства Друга Народа по хрустящей черепице гражданин Дантон сохранил за собой столь удобное убежище – на всякий случай.
Новости не порадовали. Демулену удалось узнать, что при обыске у д'Энваля нашли письмо Шарлотты Корде. Наверно, только ирокез мог хранить такое! Да, нашему Роланду пришлось туго! «Трубит он слабо – значит, смерть пришла. Коней пришпорьте, чтоб не опоздать!..»
Дабы отогнать невеселые мысли вкупе с призраком Марата, я зашел в ближайшую лавку, где, к своей радости, обнаружил пару бутылок граппа. Не овернского, не марсельского – лиможского. Лиможский грапп поистине страшен, особенно для человека непривычного, зато вполне годится, чтобы прогонять злых духов.
Я медленно поднимался по узкой улице, больше похожей на горное ущелье, и не торопясь прикидывал, что мне искать в бывшей церкви. Если Пьер Леметр действительно там, можно будет спросить… Нет, спрашивать сразу нельзя, Леметр может что-то почуять, насторожиться. Я бы на его месте отослал странного гостя подальше – и сам бы постарался исчезнуть. Но иного выхода нет. Он – последний, кто может знать о «Синем циферблате». Он – и еще Поммеле. Больше надеяться не на кого.
Ближе к вершине холма стал чувствоваться ветер. Внизу, в скопище улочек, он терял силу, но здесь задул вовсю, с завыванием, словно демоны преисподней вырвались на волю и обрушились на утонувший во тьме город. Окна старых двуэтажных домов были плотно закрыты ставнями, на заснеженной улице исчезли последние прохожие, и мне показалось, что город вымер. Великий город, столица великой страны, – холодный, темный, засыпаемый снегом, продуваемый ледяным ветром. Париж, город Смерти, которая имеет здесь тысячи лиц, тысячи дорог…
Я чуть не прошел мимо. Церковь, точнее, небольшая, хотя и высокая церквушка с изящным шпилем, оказалась зажатой между двумя домами. Она даже отступила в глубину на несколько шагов, словно надеясь спрятаться от неблагодарных людей, забывших Творца. Но я знал – бесполезно. Граждане санкюлоты, переименовавшие древний Монмартр, добрались и сюда. Интересно, что здесь? Склад? Очередной Театр Юных Патриотов? Или просто мерзость запустения?
Уже с улицы я заметил над входом, где когда-то висела икона, знакомую белую вывеску с огромными черными буквами. Такого я уже насмотрелся. «Французская Республика, Единая и Неделимая. Свобода, Равенство, Братство – или Смерть». Небогатый выбор предоставляет Республика своим гражданам! Куда больше меня интересовала надпись, скромно приютившаяся сбоку. Буквы были поменьше, зато содержание – не в пример любопытнее. Я взбежал по заснеженным ступенькам и всмотрелся.
«Французская Республика. Академия наук. Лаборатория электричества».
Вначале я не поверил своим глазам. Лейденские банки, стержни, бьющие белыми искрами, – здесь? И что тут делать Пьеру Леметру?
Мелькнула и пропала мысль о странной шутке гражданина Жиля Беко. Нет, старик не шутил. Церковь на месте, граждане санкюлоты ее действительно закрыли, и оставалось узнать, что из этого всего следует.
Высокая черная дверь была полуоткрыта, поэтому я не стал стучать и осторожно потянул на себя тяжелую створку. В глаза ударил свет – невиданный, яркий, и сразу же остро запахло озоном. Я невольно зажмурился, а когда наконец решился открыть глаза, то застыл в немом изумлении. Прямо в лицо мне светило солнце – маленькое, ярко-желтое, издающее легкое, едва различимое шипение. Солнце находилось на высоком металлическом шесте, а вокруг…
Треск, ослепительная вспышка, резкий запах озона – и все исчезло. Солнце погасло, остался лишь почерневший шест, огромные лейденские банки, стоявшие по углам небольшого нефа, – и несколько молодых людей, застывших в почтительном удалении от отгоревшего светила.
– Есть! Есть! – в уши ударил громкий крик. – Сколько секунд?
– Двадцать одна! – ответил другой голос. – На две больше!
– Двадцать две! – поправил кто-то. – Граждане, ура!
Когда «ура» отгремело, молодые люди принялись деловито разбирать стальной шест и откручивать многочисленные проводки, тянувшиеся к гальванической батарее. Разговор стал тише, и я уловил лишь малопонятные рассуждения о влиянии воздуха на процесс окисления.
Стало ясно – молодым людям явно не до меня. Мешать не хотелось, и я, пройдя чуть вбок, принялся осматриваться. Да, кое-что оказалось знакомым. Гальваническую батарею я уже лицезрел – причем тоже под церковными сводами; стальной шест явно предназначался для искусственного солнца, горевшего целых двадцать две секунды, а столы, заваленные бумагами и незнакомыми приборами, особой загадки не представляли.
Наконец один из молодых людей соизволил обернуться. На меня глянули удивленные, ничего не понимающие глаза. Я поспешил снять шляпу и отвесить самый любезный поклон.
– Поздравляю! Двадцать две секунды!
– А-а! – парень улыбнулся. – Спасибо! По две секунды в день!
Я невольно прикинул: сегодня их солнце горит менее полуминуты, но через год…
– Вы что, решили разорить торговцев свечами?
– И маслом тоже, – охотно откликнулся другой парень, возившийся возле одной из лейденских банок. – Через пару лет в Париже ночью на улицах можно будет читать газету! Вы, наверно, из отдела благоустройства Коммуны? Гражданин Леметр вас ждет.
Гражданин Леметр? Я постарался сохранить на лице непринужденную улыбку, но невольно вздрогнул. Леметр здесь? Почему-то мне казалось, что этот человек скрывается где-нибудь в темном подвале, в развалинах, а то и в черных штольнях катакомб. Что делать ему тут, где светит солнце, стальное солнце, рожденное из лейденской банки?
– Пойдемте! – Тот, кто первым заговорил со мной, вытер тряпкой руки и, кивнув мне, направился в глубь нефа, туда, где когда-то был алтарь. Теперь там стояли высокие ширмы, на которых висели какие-то таблицы, графики, диаграммы. В центре находилась небольшая дверца.
Не успели мы подойти, как она растворилась и на пороге появился высокий широкоплечий человек – седой, с загорелым лицом, на котором странно смотрелись яркие голубые глаза. Человек стоял как-то странно, и, только когда я заметил прижатый к боку костыль, все стало ясно. Вместо правой ноги у голубоглазого чернела толстая деревяшка.
– Добрый вечер, гражданин! – голос оказался гулкий, низкий – и чрезвычайно добродушный. Совсем иначе смотрели глаза. В них было изумление – и страх. Голубоглазый явно не ожидал этой встречи.
– Вы от гражданина Реаля? Прошу, хе-хе, прошу! Как вам наши чудеса?
Страх исчез, взгляд стал добродушным, под стать голосу, и чуть-чуть ироничным.
– Отменно! – отозвался я. – Только, чтобы освещать улицы, понадобится слишком много лейденских банок.
– Это вы, хе-хе, справедливо! – Огромная мускулистая рука сжала мою кисть. – Это вы верно подметили, гражданин…
– Ксавье, – поспешил я. – Франсуа Ксавье.
– Леметр. Очень, хе-хе, приятно!
Голубые глаза на миг потемнели, но тут же стали прежними.
– Спасибо, граждане! – одноногий повернулся к молодым людям. – Завтра в девять. Все, все, коллеги, по домам, а не то нас закроют, хе-хе, за нарушение Декларации прав человека!
Послышались огорченные голоса. Похоже, эти ребята были не прочь продолжать работу всю ночь. Но Леметр покачал головой:
– По домам, граждане! Я сам все выключу… Гражданин, э-э-э, Ксавье, прошу!
Я проследовал за ширму. Там меня встретила еще одна лейденская банка – поменьше, и большой стол, ломившийся от приборов. Разглядывать их я не стал. Пока меня интересовал деревянный табурет, на котором я и устроился.
Леметр долго стоял в дверях, затем задвинул щеколду и грузно опустился на небольшую скамью. Голубые глаза смотрели в упор, и мне стало не по себе. Наконец одноногий вздохнул.
– Признаться, поражен. Если бы о вашей смерти сообщили только господа «синие», я бы отнес это на счет их распаленного республиканского воображения. Но меня известили те, кому я обязан верить…
Он знал все: кто я, кем был раньше. Достаточно спросить… Но я вдруг понял, что не хочу знать правду. Не хочу! Возможно, Тот, Кто не пустил меня на серое небо, не зря лишил памяти Своего раба…
– Примем все как есть, – с трудом выговорил я, стараясь не глядеть ему в глаза. – Я здесь. Будем считать это научным фактом.
Леметр долго молчал, затем вновь встал и, тяжело опираясь на костыль, подошел к двери. Он долго возился со щеколдой, наконец открыл ее, выглянул наружу…
– Ушли… Видели их? Приятно работать с этакими! Ни бога, ни черта не боятся! Еще лет двадцать назад такие, как они, думали только о дуэлях и дамочках. Вот он, наш будущий, девятнадцатый век! Сохранить бы их в этом аду! К сожалению, даже академия не в силах надежно защитить. Недавно эти сволочи арестовали Лавуазье…
Фамилия показалась знакомой.
– Лавуазье? Откупщика налогов при Калонне?
Леметр покачал седой головой.
– Помилуйте, Франсуа! Откупщика! Лавуазье – великий химик, наша гордость! Это чудовищно! Я не утерпел, плюнул на конспирацию, пошел к господину де Робеспьеру. Он на меня смотрит, Рожа Зеленая, и цедит сквозь зубы: «Гражданин Леметр, Революции не нужны химики! Да и сами вы весьма подозрительны, гражданин академик!» Ну конечно! Их Революции нужен исключительно гражданин Сансон… Впрочем, – по лицу его вновь промелькнула усмешка, – вам, военным, химики тоже нужны исключительно, хе-хе, для приготовления пороха. К тому же вы, Франсуа, конечно, пришли по делу. Вы всегда отличались, хе-хе, деловитостью…
Это был упрек. Похоже, в прежнее время мы не всегда ладили. Но это уже не имело никакого значения.
– Да, по делу.
Страх исчез. Не так важно, за кого он принимает меня – за живого или за воскресшего мертвеца. Леметр что-то знает, это – главное.
– Дело касается и меня, и вас. С чего начнем?
Пожатие широких плеч, взгляд, полный иронии.
– Как всегда – с вас. Вы – гость, кроме того, ваши дела по традиции, хе-хе, на первом месте.
На мгновение я почувствовал, как перехватывает дыхание. Всего один вопрос, короткий вопрос. Кто я? Кто? Но я уже знал – об этом спрашивать нельзя. И не потому, что Леметр может не ответить…
– Я давно не был в Париже. К сожалению, мои люди куда-то исчезли…
– «Синий циферблат», – нетерпеливо перебил он. – Знаю, знаю, Сурда говорил. Увы, рад бы помочь, да нечем. Я узнавал – хозяина арестовали за какую-то мелочь, кажется, донес сосед… Увы, в наше время хватает и мелочи… Я не был знаком с вашим человеком – как и со всеми прочими агентами Святого Сердца. Рискну напомнить, Франсуа, что вы никогда не рассказывали мне о своих связях в городе. И не без вашей подачи Кобленц не очень-то доверял нам. Уже тогда я вам намекал, что это неразумно. Впрочем, скоро приедет Поммеле, поговорите с ним. Вы, кажется, ему верили чуть-чуть побольше, чем мне, хе-хе, грешному. Как же, вы с ним военная косточка, куда мне, штафирке!..
Вспомнился де Батц. По-видимому, тот, кем я был прежде, и в самом деле не отличался доверчивостью. Значит, и здесь ничего не вышло. Зря! Все зря… Правда, оставался еще Поммеле. Последний шанс…
– Спрошу, – кивнул я. – Похоже, вы были правы. Что ж, давайте о вашем деле… Мне удалось выяснить, что Комитет гражданина Вадье ищет шпиона в Комитете общественного спасения. Они узнали…
Его лицо дрогнуло, рука, сжимавшая костыль, побелела.
– Убедительно бы просил… повторить…
Я понимал, что может чувствовать этот смелый человек, но порадовать его было нечем.
– Они знают, господин Леметр. Вадье ищет шпиона в Комитете общественного спасения. И он догадывается, что это дело организации д'Антрега.
– Что? – Огромные ладони сжались в кулаки, глаза блеснули. – Вы уверены? Вы понимаете, что говорите?
– Увы, да…
Леметр потер рукой лоб:
– Невозможно! Помилуйте, это действительно невозможно! Никто из моих людей – ни Сурда, ни даже Поммеле – не знает этого человека! Я и сам не знаю его! Связной? Нет, отпадает…
Я вспомнил рассказ чернявого. Испанский посол!
– Сведения пришли из Венеции…
– Венеция! Д'Антрег! Ну конечно! – Кулак ударил по столешнице. – Он всегда любил хвастаться! Пыль в глаза пускать! Господи, как я этого боялся! Мало того, что он попросту торгует нашими бюллетенями…
Леметр не договорил, крепкие пальцы шарили по столу, и я понял – д'Антрегу, буде им доведется встретиться, придется туго.
– Ладно, – наконец вздохнул он. – Когда-то это должно было случиться. Остается подумать о последствиях.
– Вашему человеку лучше всего затаиться, – заметил я. – А может, вообще исчезнуть.
– Ну нет! – Леметр уже пришел в себя и даже нашел в себе силы улыбнуться. – С какой стати? Вы понимаете, чего стоит такой агент? Это ключ к победе! Нет, поступим иначе… Им нужен шпион? Они его получат! Скажите, – толстый указательный палец смотрел в мою сторону, – будь вы Вадье, на кого подумали бы в первую очередь?
Я напряг память. Амару уже успел просчитать. Двенадцать членов Комитета, но под подозрением всего четверо: Робеспьер, Барер, Карно и Эро де Сешель. Но я знал и другое. Чернявый говорил о проекте «Лепелетье». С ним могли быть знакомы всего трое. Да! Всего трое – Сен-Жюст, Приер и… Эро де Сешель!
– Если вашего человека зовут Эро де Сешелем, господин Леметр, то я бы ему не позавидовал.
– Де Сешель, – голубоглазый нахмурился. – Любопытно получается, Франсуа! Четыре месяца назад я стал получать письма. И в каждом – отчет об очередном заседании Комитета спасения…
– Как? – поразился я. – Просто письма?
Леметр хмыкнул и почесал подбородок.
– Удивлены? Я вначале решил, что все – конец! Вычислили, пронюхали – и подкидывают улики, чтобы сразу – на площадь Революции. Но, как видите… Я жив, никто из моих людей не арестован, а информация подлинная.
– Можете показать письма?
Он пожал плечами, встал и долго рылся в бумагах, заваливших стол. Наконец протянул мне несколько листков бумаги.
– Последнее. Не успел сжечь.
Красивый женский почерк. Таким пишут любовные послания и списки белья для прачечной. Но, прочитав первые строчки, я вдруг услышал голос, мужской голос – холодный, полный равнодушного презрения. Казалось, неизвестный брезгливо морщится, выдавая тайны господ якобинцев.
– Он делает это не из-за денег, – не выдержал я. – Но тогда почему?
– Не потому, что он наш друг, – вздохнул Леметр. – Эта сволочь играет в свою игру. Хотел бы я знать, в какую именно. Но я тоже теряюсь в догадках – как и гражданин Вадье.
Друг? Это сразу же напомнило о чем-то знакомом. Друзья бывают всякие. Предатели ищут предателя…
– Предупредите связного. Приносит же кто-то письма!
Леметр развел руками.
– Увы! У меня нет десятка агентов, чтобы дежурить круглые сутки возле дома. С утра я ухожу, возвращаюсь ночью. И кроме того, я не рискну доверить такую тайну даже Сурда. Он, как вы знаете, горяч, а это, увы… Конечно, этого, извините за выражение, сукина сына следует предупредить. Все-таки заработал – честно… Но главное – вправить мозги д'Антрегу. Ну этим я займусь прямо сейчас!
Я задумался. Моя война кончилась – в тот день, когда я встретил смерть, которую звали Бротто. Но дело, оставшееся от того, кем я был раньше, оказалось слишком сложным. К тому же был еще бедняга ирокез, попавший в плен к «синелицым». И лишняя зацепка…
– Вы предупредите д'Антрега. Я – вашего человека. Дайте письмо!
Леметр не ответил. Я представил себя на его месте. Агент, стоящий целой армии. Тайна, за которую жертвуют жизнью – и своей, и чужой…
– Если бы я не знал, кто вы, – голос прозвучал глухо, еле слышно. – Франсуа, ведь оттуда, куда вы попали, обычно не возвращаются! Но вы вернулись.
Я молчал – сказать было нечего.
– Если бы я не знал, кто вы, – повторил Леметр и, вздохнув, передал мне письмо. – Держите! Будь вы предателем, все мы давно прокатились бы мимо окон господина де Робеспьера. Найдите этого человека – и велите ему быть осторожнее. Надеюсь, это все же не Сешель…
– Почему? – удивился я. – Не все ли равно?
– Я знаю Сешеля. Давно знаю. Большего негодяя видеть, признаться, не доводилось. Он ведь чистых кровей – из бургундских Сешелей, потомок Лотаря. Хуже его разве что подлец Эгалите. Не хотелось бы заступаться за такого перед Трибуналом… Ничего не хотите передать д'Антрегу?
– Передать? – удивился я. – Разве что пусть держит язык за зубами.
Внезапно Леметр расхохотался:
– Представляю его физиономию! Узнать, что вы живы, в Париже и вдобавок намекаете на его язык! Как бы он не проглотил его, хе-хе, на радостях! Ну, кажется, пора…
Он вытащил часы из жилетного кармана, щелкнул крышкой и неторопливо поднялся.
– Желаете взглянуть? Помнится, я обещал, хе-хе, продемонстрировать…
И тут до меня начало доходить. Леметр собирается разговаривать с д'Антрегом… сейчас?! Но ведь д'Антрег в Венеции! Что там рассказывал чернявый? Монгольфьеры, голубиная почта…
Леметр уже хозяйничал у стола. Бумаги были отодвинуты в сторону, приборы – непонятные железки, почему-то обмотанные медной проволокой, – сдвинуты к краю…
– Вот, прошу…
Я встал и нерешительно шагнул вперед. Что это, господи?
Деревянная доска, толстая, покрытая темным лаком. На ней два стальных цилиндра, какая-то коробочка, кажется, медная, провода – и маленький колокольчик. Сбоку – высокая колба, заполненная чем-то серым, похожим на стальные опилки. От нее к окну – толстый провод…
– Позвольте… Но… каким образом?
– Нравится, хе-хе? – Леметр явно был доволен моей реакцией. – А ведь простейшая вещь! Даже удивительно, что до нее додумались только сейчас! Еще год, два – и подобное начнут применять всюду. Но пока…
Он поколдовал с проводами, и тут же послышалось легкое шипение. Сверкнула белая искра – заработала стоявшая в углу гальваническая батарея. Леметр положил широкую ладонь на рычажок, укрепленный сбоку от одного из цилиндров, вновь взглянул на часы…
– Еще пять минут… Объяснить? Или и так все ясно, господин, хе-хе, черный мушкетер?
– Химики придумывают порох, господин академик, – невольно усмехнулся я. – Мушкетеры стреляют. Объясните!
Он удовлетворенно потер руки.
– А ведь все так просто! Особенно после того, как великий Декарт допустил существование эфира, а Ньютон всерьез занялся передвижением электрических разрядов в атмосфере. Когда идет гроза, в эфире появляются волны – электрические. Эти волны легко уловить…
Ладонь прикоснулась к колокольчику.
– Это грозоотметчик. Когда приближается электрический разряд, он звенит. Эту игрушку изобрели еще пять лет назад. Ну что, хе-хе, догадались?
Загорелое лицо улыбалось. Похоже, Леметру было весело ставить в тупик бывшего черного мушкетера. Да, все верно. Мушкетеры стреляют. Химики изобретают порох. Колокольчик звенит при грозе… Я представил, как за высоким стрельчатым окном сгущаются тучи, где-то далеко, у самого горизонта, уже сверкают молнии…
– Этот прибор может предупредить о приближении грозы, – неуверенно проговорил я. – И… И можно узнать, насколько гроза сильна…
– Неплохо, хе-хе, неплохо, – одобрил Леметр. – С этого мы и начинали. Ну что, подсказать? Вот если бы вы, Франсуа, отсидели год-другой в Бастилии, то догадаться было бы легче!
В Бастилии? Похоже, мой собеседеник – мастер загадывать загадки! Но я уже чувствовал азарт. Тюрьма – и эта старая церковь. Узник Бастилии – и академик Леметр. Нет, не так! Узник Бастилии – и подпольщик Леметр, которому надо срочно «вправить мозги» неосторожному графу д'Антрегу… Темная камера, ночь, невидимые соседи за стеной…
Догадка поначалу ошарашила, но затем я внезапно почувствовал уверенность. Как бишь он изволил выразиться? Простейшая вещь? Ну, не такая и простейшая…
Я подошел к столу, покосился на ухмылявшегося академика и легко ударил костяшками пальцев по дереву. Стук! Стук! Стук! Короткая пауза… Стук! Стук!
– Арестантская азбука, господин Леметр! Если сигналы можно было бы не только принимать, но и посылать…
Усмешка исчезла, голубые глаза взглянули пристально, в упор. Губы сжались.
– Браво, Франсуа! Браво! Неужели сами догадались?
Я развел руками. Леметр покачал седой головой:
– Да… Признаюсь, посрамлен в своем, хе-хе, неверии! Ну, значит, остальное объяснять не нужно.
– Это? – я кивнул на колбу с серыми опилками.
– Да. Когерер. Провод идет на крышу, там мы установили, хе-хе, громоотвод. Изобретение друга Французской Республики гражданина Франклина. Так, во всяком случае, считается. Монмартр… Простите, хе-хе, Монмарат – самая высокая точка в Париже, волнам ничто не мешает…
– Неужели до самой Венеции? – поразился я, кивая на странный прибор. Все еще не верилось – гальваническая банка, пара цилиндров, колокольчик, колба с опилками под названием когерер…
– До Венеции, Лондона и Кобленца. Пока… Через несколько лет можно будет посылать привет прямиком друзьям Франклина в Филадельфию. Верите?
– Нет. Пока еще – нет.
Я представил себе океан – тысячи лье без единого клочка суши, темно-серые волны, уходящие за горизонт, неизведанные глубины, откуда нет возврата. Если бы на фрегатах Лаперуза был такой когерер, д'Антркасто успел бы вовремя…
– Воля ваша, сударь! Ну, пора…
Он вновь взглянул на часы, достал из кармана камзола листок бумаги, развернул, положил перед собой. Не удержавшись, я подался вперед. На листке не было букв, только точки, выстроившиеся в долгий ряд. Леметр уловил мой взгляд, подмигнул, щелкнул переключателем на одном из цилиндров. Широкая ладонь легла на рычажок. Дзинь! Колокольчик ожил. Дзинь, дзинь, дзинь…
Я застыл на месте, не решаясь пошевелиться. Как просто! Арестантская азбука, посланная в эфир. Неуловимая, неслышная… Гражданин Вадье может окружить Париж целым легионом санкюлотов, перекрыть все дороги, отменить пропуска, может повеситься от злости – или сунуть голову в черном парике под «национальную бритву». Дзинь, дзинь, дзинь – позвякивал колокольчик. Увы, господа якобинцы, увы… Вам придется сначала выдумать такую же «простейшую вещь». А ваши мозги сейчас заняты совсем другим…
Не знаю, сколько я простоял, глядя, как загорелая рука нажимает на рычажок, слушая, как негромко позвякивает колокольчик. Наконец Леметр шумно вздохнул и, достав огромный платок с кружевами, вытер вспотевший лоб.
– Пока все… Ну, будем ждать ответа. Впрочем, ему никуда не деться.
– Д'Антрегу? – понял я, все еще не веря. Неужели в эти минуты в далекой Венеции граф уже читает невидимое послание? Нет, не читает, наверно, перед ним тоже – долгие ряды точек, их еще следует расшифровать…
– Я посоветовал срочно подготовить пару ложных бюллетеней и обязательно указать фамилию нашего, хе-хе, шпиона.
– Какую? – удивился я.
– Это я подскажу ему в следующий раз – когда вы назовете мне подлинную. Лучше всего, чтобы гражданин Вадье занялся де Сешелем. Отличная кандидатура! Признаться, не верится, что этот негодяй нам помогает. Зато для гражданина Вадье сей господин всем, хе-хе, хорош. Бывший аристократ, дружил с Бриссо… А потом мы кое-что подкинем и сами – чтоб, хе-хе, понадежней было. И еще денег попросим. Иначе гражданин Вадье, того и гляди, хе-хе, не поверит!
Я кивнул – расчет был точен. Эро де Сешель отправится на эшафот за чужие грехи. Внезапно в душе шевельнулось странное чувство. Жалость? Негодование? Или просто омерзение? Убить врага в бою – одно, а ударить из-за угла…
– Пойду! – я отвернулся, чтобы не встречаться взглядом с этим странным человеком. Казалось, его не в чем упрекнуть. Потом, когда Франция воскреснет, одноногий, наверно, станет пэром. И Руаньяк тоже не остался бы без награды! Руаньяк, сжигавший деревни, убивавший пленных и – приговоривший к смерти моего друга. И меня бы тоже наградили. Еще бы! Все вместе мы убивали врагов – свинцом, шпагой, картечью – или невидимыми волнами в эфире…
Оставалось узнать у голубоглазого его адрес. Комитет гражданина Робеспьера заседает каждый день, и, вполне возможно, уже завтра…
За окнами была ночь, неярко горели свечи, и тени обступили нас со всех сторон. Лицо Демулена, сидевшего рядом со мной, казалось в сумеречном свете старым, словно Прокурор Фонаря уже перешагнул седьмой десяток. Вильбоа черным силуэтом застыл у окна, Юлия сжалась в комок в огромном кресле, утонув во тьме.
– Н-ничего, – вздохнув, повторил Камилл. – Жорж сказал, что н-ничего не поделаешь. Надежда одна, сейчас б-бриссотинцев почему-то не т-трогают, семьдесят два депутата с-сидят в Аббатстве уже полгода…
– Д'Энваль – не депутат, – негромко возразил Вильбоа. – И еще это письмо…
Да, наш ирокез угодил в западню. То, что удалось узнать за день, не обещало ничего хорошего.
– Неужели они не понимают? – голос Юлии звучал глухо, еле слышно. – Альфонс – не политик, он просто…
– П-просто дружил с Барбару, – Демулен покачал головой. – Просто навещал мадам Ролан. И п-просто переписывался с К-корде…
Никто не ответил – Камилл был прав. Пусть в гости к бывшему министру Ролану и его знаменитой супруге ходило пол-Парижа, пусть перед отважным марсельцем преклонялся сам Робеспьер, пусть злосчастное письмо так и не было прочитано бедолагой Альфонсом – в тот день он вообще уехал из Парижа. Мене, такел, фарес! Республика, Единая и Неделимая, постановляет…
– Когда суд? – как можно спокойнее поинтересовался я. Растравлять рану не хотелось, но вопрос не был праздным. Если у нас будет еще дня три…
– Через четыре дня, – негромко проговорил Вильбоа. – Гражданин Тенвиль готовит амальгаму.
Странное слово удивило, но переспрашивать я не стал. Бог с ним, с их людоедским языком!
– Почему… – Юлия не договорила, послышался резкий вздох. – Почему так называется?
Похоже, гражданка доктор за делами тоже не удосужилась выучиться якобинскому арго.
– К-как в химии, – отозвался Демулен, – соединяем т-трудносоединимое. Берем од-дного фальшивомонетчика, д-двух воровок, шпиона и двадцать невиновных. Получаем к-коварный заговор шпионов, воров и фальшивомонетчиков. Изобретение г-гражданина Фукье-Т-тенвиля… Извините, Юлия…
А еще говорят, что революции не нужны химики! В эту минуту я был готов извиниться перед Пьером Леметром. Нет, сантименты излишни, с этими негодяями все средства хороши!
– Пойду! – гражданка Тома встала. – Спасибо вам, граждане! Завтра попытаюсь поговорить с одним человеком. Может быть… Не провожайте меня.
Мы переглянулись. Я сделал знак остальным и поспешил вслед за девушкой. Заметив меня, она удивленно повернулась:
– Вы что, Франсуа Ксавье, не слышали? Я не нуждаюсь в вашей помощи!
– Юлия… – начал я, но девушка махнула кулачком:
– Идите к черту, Франсуа, с вашим рыцарством! Вы что, думаете, я не знаю, кто вы? Вы – жалкий «аристо», к тому же совершенно больной и ко всему еще – трус! А если у вас все-таки хватит смелости, идите завтра же к доктору д'Аллону, я договорилась… Что вы делаете?! Прекратите немедленно!
Я отпустил ее руку, которую умудрился сжать слишком сильно. Обижаться было нельзя – Юлия едва держалась. Другая на ее месте давно уже билась бы в истерике – или просто лежала без чувств.
– Никуда не ходите, Юлия. Ни с кем говорить не надо.
– Что? – В ее близоруких глазах мелькнула боль. – Как смеете вы, вы… Вам все равно, что с ним случится…
– Смею, гражданка Тома. И мне не все равно, что станется с господином д'Энвалем. Говорить ни с кем не надо, потому что это очень опасно – для вас. Альфонс не обрадуется, увидев вас на эшафоте.
– И вы еще притворяетесь рыцарем! – девушка фыркнула и отвернулась. – Не желаю вас больше слушать…
Хлопнула входная дверь. Я обернулся – Демулен и Вильбоа стояли возле дверей.
– Вы правы, Франсуа, – негромко проговорил Вильбоа. – Но она вас все равно не послушает. Я ей уже объяснял, что, если дело попало в Трибунал, спасти человека почти невозможно. Разве что заступятся Робеспьер или Вадье…
– Жорж не сможет п-помочь, – помолчав, добавил Камилл. – Ему сейчас надо спасать Фабра д-д'Эглантина, и д-дай бог, если он и вправду существует, чтобы это уд-далось. Юлии лучше в-всего уехать из П-парижа, вам, кстати, тоже…
– Всенепременно, – кивнул я, думая совсем о другом. – Шарль, как там с пропуском в Тюильри?
Белые, неряшливо покрашенные стены стыдливо прятались под трехцветными драпировками. Долгие ряды скамеек амфитеатром спускались вниз, где в окружении знакомых лупоглазых бюстов стояла высокая черная трибуна. Из-под побелки потолка стыдливо проглядывали силуэты полуобнаженных нимф. И над всем этим чернели громадные буквы, казалось, готовые обрушиться на переполненный зал. «Французская Республика, Единая и Неделимая. Свобода, Равенство, Братство – или Смерть». И здесь, в зале Конвента, в сердце Революции, выбор для собравшихся был тоже весьма невелик…
Места для публики были устроены сзади, в некотором удалении от последнего ряда. Под сводами зала стоял легкий гул, и приходилось прилагать усилия, чтобы расслышать очередного оратора. Но делать этого явно не стоило. Худой маленький человечек в черном камзоле с большой трехцветной перевязью уже с полчаса обещал «сорвать покрывало» с некоего заговора, грозившего самому существованию «Единой, Неделимой». Поскольку покрывало никак не хотело срываться, оратор дважды доставал кривой турецкий кинжал и приставлял его к груди, обещая «полить кровью истину». Собравшиеся, однако, никак не реагировали на это предложение, и я решил, что подобные заявления здесь в порядке вещей. Похоже, остальные думали сходно. Не только публика на галерке, но и граждане депутаты переговаривались, писали записки, а то и просто читали газеты. Человечек дернул шеей, вновь выхватил кинжал… Я отвернулся.
– У вас совершенно замерзший вид, – заметил Вильбоа, деловито водивший свинцовым карандашом по бумаге. – Вам надо было выпить кофе. Или, гм-м, граппа…
Я мечтательно вздохнул. Глоток граппа… Или даже два…
– Увы, не успел! Боялся опоздать. Вы правы, замерз изрядно. Это доказывает, Шарль, что ремесло шпиона не только гнусно до невозможности, но и опасно для здоровья.
Вильбоа хмыкнул и вновь уткнулся в бумагу. Похоже, журналист счел все сказанное шуткой. Я, конечно, шутил. Отчасти…
Напротив огромного дома на улице д'Орсе, где проживал гражданин академик, кто-то установил нелепую чугунную скамейку, сидеть на которой не рекомендовалось даже в хорошую погоду. Но выбирать было не из чего, и я, купив по дороге роскошный букет бледно-лиловых хризантем, с самым безмятежным видом просидел на ледяном чугуне целое утро и часть дня, лишь иногда позволяя себе пройтись, дабы слегка размять ноги. Прохожие, очевидно, принимали меня за ненормального влюбленного, что имело свои преимущества. Во всяком случае, ни патрули, ни привратник не заинтересовались моей скромной персоной…
Человечка сменил на трибуне некто необъятных размеров, в большом рыжем парике. Под сводами прогремел вопль «Отечество в опасности!». Я понял – дальше можно не слушать. Сейчас появится кинжал…
На прощание Леметр уточнил, что письма на его имя передают привратнику. Разумнее было, конечно, устроиться в самом доме, предварительно сунув под нос гражданину консьержу удостоверение национального агента. Разумнее – и куда теплее. Но меня очень тянуло проверить одну догадку. Если я окажусь прав, то чугунная скамейка – лучшее место. Особенно если поднять воротник и надвинуть шляпу на самый нос…
А на трибуне были уже двое. Какой-то верзила в высокой черной шляпе с белыми перьями, вцепившись в толстяка, пытался стянуть его вниз, а тот отчаянно сопротивлялся, при этом дико вопя, словно с него сдирали скальп. Я услышал звон колокольчика за председательским столом – и тут же вспомнил церковь Святого Евстафия. Звоните, граждане якобинцы! Вот уж истинно – сотрясение воздухов!
– Не впечатляет? – поинтересовался Вильбоа, на миг оторвавшись от своих записей. – Действительно, сегодня они какие-то снулые. Ничего, скоро зашевелятся!
Я пожал плечами, вспомнив отзыв Титана об этом сонмище. Да, отсюда, с галерки, грозный Конвент и вправду напоминал сборище шутов. Но обманываться нельзя. Эти нелепые арлекины залили кровью всю Францию – и не собираются останавливаться. Отважный британский санкюлот Джон уже ползет по Ковент-Гарден…
Букет я вручил первой встречной девчушке – маленькой, остроносой, в коротком пальто и миниатюрной шляпке. Ответом был изумленный взгляд, затем – растерянная улыбка. Я поклонился и поспешил к ближайшей стоянке фиакров. День прошел не зря, и я не напрасно мерз на холодном чугуне. Все вышло удачно – удачнее, чем я думал…
Теперь трибуну осаждала целая толпа. Мелькали кулаки, в неярком свете масляных ламп сверкнула шпага. Кто-то истошно вопил, беспрерывно звенел колокольчик председателя…
– И ради этого вы свергали Короля? – не выдержав, прошептал я. – Какого черта, господин якобинец!
– А что, очень мило! – Шарль невозмутимо покосился на бушевавших арлекинов. – Понимаете, Франсуа, сейчас – безвременье. Когда на трибуне был Жорж, все они превращались в кроликов. Сейчас он ушел, и кролики резвятся. Но это ненадолго. Скоро Максимилиан приучит их прыгать через трость!
Я представил себе кроликов, прыгающих через трость, – и вздохнул. И это стадо думает, что управляет Францией!
– Эти уже спеклись, – понял меня Вильбоа. – Год назад здесь были совсем другие люди. Кое-кто сейчас на фронте, кое-кого уже засыпали известью… Болото!
Я не стал спорить. Эти полчаса, которые мы с Шарлем провели под сводами Тюильри, прошли все-таки недаром. Я окончательно убедился, что все вершат не болтуны, собравшиеся в бывшем Зале Больших Приемов. Хозяева не здесь, они в тиши кабинетов. Хозяева заняты, очень заняты, им нет дела до этих крикунов…
– Кукареку, гражданин Деревня!
На этот раз петушок пропел почти что шепотом. Вначале я решил, что юный патриот гражданин Огрызок испытывает глубочайшее почтение к этим стенам, но, услыхав громкое «Ап-чхи!», сообразил, что дело совсем в другом.
– Простудился, гражданин Тардье?
– Простудишься тут, – хриплым басом прошептал мальчонка. – Да вам-то чего? Жалеть будете? Нужна мне ваша жалость!
Его рожица, украшенная внушительными синяками, была почти черной – то ли от копоти, то ли от пыли. Но глазенки сверкали непримиримой яростью. В жалости юный санкюлот не нуждался.
Я поспешил познакомить гражданина Огрызка с «другом гражданина Дантона» и столпом якобинской прессы, не забыв добавить, что они – коллеги. Как-никак юный санкюлот тоже имел отношение к печатному слову. Вильбоа с самым серьезным видом пожал худую грязную лапку, затем снял плащ и укутал огольца. К моему удивлению, гражданин Тардье не стал сопротивляться. Похоже, имя Дантона заставило его на время онеметь.
Я пристроил мальца рядом, между собой и Вильбоа, попросив подвинуться красноносую ведьму с вязаньем – не иначе, родную сестру мамаши Грилье. Воспользовавшись этим, гражданин Тардье грозным шепотом принялся что-то рассказывать Шарлю о печатных станках и свинцовом наборе. Тот слушал, кивал, а затем, к моему изумлению, вручил мальчонке свою визитную карточку. Тот с важным видом кивнул и спрятал ее за пазуху.
Между тем в зале стало тише. Драчуны разошлись, а председатель беседовал с каким-то типом в синей форме.
– Идут! – прохрипел Огрызок, выглядывая из складок плаща. – Ну, будет буча!
– Сен-Марсо? – усмехнулся я.
– Ну! Ведь чего я пришел-то! Вы же мне, гражданин Деревня, обещали! Небось забыли уже!
– Три ливра? – вспомнилась его странная просьба.
На меня взглянули серьезные, совершенно взрослые глаза.
– Ошибочка, значит, гражданин Деревня! Не просил я у вас ничего! Так и запишите!
Я не стал спорить. Ошибочка – так ошибочка. Странный паренек…
– Сказали вы, гражданин, что с ребятами из Сен-Марсо знакомы. Помните? А то мне моих сопляков пристроить надо! Совсем охляли, того и гляди, окочурятся. А у них в Сен-Марсо таких подбирают…
Ах, вон оно что! Мне стало стыдно. Голодный раздетый мальчонка заботится о других мальцах, а я даже не вспомнил.
– Обязательно, – улыбнулся я. – Пристроим!
Между тем в зале ветер крепчал. Возле председателя уже собралась целая толпа, депутаты вставали, переглядывались, кто-то бросился к окну, кто-то (я глазам своим не поверил) скользнул за портьеру. Председатель замахал руками, зазвонил в бесполезный колокольчик… И тут где-то совсем рядом загремели барабаны.
На миг наступила мертвая, страшная тишина, но вот под сводами раздался истошный вопль: «Идут! Идут!», и болото превратилось в разбушевавшееся море. Граждане депутаты бегали по проходам, кто-то рвал бумаги, разбрасывая белые клочья во все стороны, в зале стоял гул – а барабаны гремели уже совсем близко, заглушая крики, стенания, звон колокольчика. Двери дрогнули, высокие белые створки разлетелись, словно крылья…
– Ух ты! – только и мог выговорить гражданин Тардье, выглядывая из глубин плаща. – Сила!
Сила входила в зал. Впереди шли барабанщики – мальчишки в карманьолах и красных колпаках, выглядевшие ничуть не старше моего кукарекающего соседа. Худые лица казались суровыми и сосредоточенными, руки мерно двигались, выбивая дробь, огромные деревянные башмаки с грохотом врезались в наборный паркет. Я невольно хмыкнул: здорово же пуганула граждан якобинцев эта мелюзга! За строем мальчишек рослые парни в синей форме несли знамена – трехцветные, с названиями секций, и непривычные – красные, словно пропитанные густой венозной кровью. А дальше ряд за рядом шли люди – старые и молодые, в форме и карманьолах, в серых плащах и рабочих блузах. Немало было и женщин, но не в привычных чепцах, а в платках и красных косынках. Пик, которых я уже успел насмотреться, не было, зато у каждого за плечом висел мушкет. Эти люди не играли в войну. Они были войной.
Это понял не только я. Зал застыл, смолкли голоса, граждане депутаты разом потеряли всякий запал. Теперь они действительно казались кроликами – кроликами, угодившими прямиком в волчью стаю.
Гости быстро и деловито заняли проходы. Короткая команда – и позади председательского места выросла молчаливая шеренга с мушкетами в руках. По краям стали знаменосцы. Внезапно один из парней в синей форме и треуголке с трехцветной кокардой показался мне знакомым. Я всмотрелся – и покачал головой. Да, тесен мир! Бравый лейтенант Дюкло стоял в окружении славных бойцов роты Лепелетье. Я обрадовался – по крайней мере с гражданином Огрызком и его «сопляками» проблем не будет.
Председатель тем временем растерянно оглядывался. Наконец, на что-то решившись, он встал и звякнул колокольчиком. В зале наступила мертвая тишина. Внезапно я представил, что знамена за трибуной не трехцветные, не красные – белые, с золотыми лилиями. Сердце замерло. Еще недавно, еще совсем недавно я был готов отдать все ради этого…
– Гра-аждане! – послышался неровный шатающийся голос. – Нас при-ишли, а-а-а-а, приветствова-ать секции, а-а-а, Сен-Марсо…
Похоже, председатель и сам не был уверен в том, что сказал. Зал ответил легким гулом. Председатель взмахнул руками, словно отгоняя призрак; легко зазвенел колкольчик.
– Наш, а-а-а, коллега депута-ат, а-а-а, Ножан… Прошу тебя, а-а-а, гражданин…
Зал вновь зашумел – на этот раз погромче. По проходу, мимо расступившихся парней в синем, быстро шел высокий широкоплечий человек, одетый в старый потертый сюртук. Ни парика, ни шляпы – большая лобастая голова уверенно сидела на короткой шее, коротко подстриженные волосы уже тронула ранняя седина. Человек подошел к трибуне, оглянулся и легко ударил широкой ладонью по темному дереву. Это подействовало лучше любого колокольчика – зал мгновенно стих.
– Он слесарь, – шепнул Вильбоа. – Четверо детей, двое – приемные. Жена умерла год назад…
Журналист не отрывал взгляда от трибуны, сжимая в руке свинцовый карандаш, на коленях лежал чистый лист бумаги. Похоже, начиналось самое главное.
– Да здравствует Республика, граждане! – сильный, густой голос, в котором слышалась откровенная насмешка, заполнил зал. – Разрешите сразу же исправить ошибку. Приветствовать вас мы не собирались.
Председатель дернулся, по залу прокатилось негромкое эхо. Ножан развел руками:
– Но поскольку объявлено, то делать нечего. Итак, приветствую вас, граждане депутаты, от имени секций Сен-Марсо…
Аплодисменты были робкими, какими-то стыдливыми. Ножан склонил голову набок, словно прислушиваясь.
– Рабочему человеку, признаться, с этой трибуны выступать страшновато. Мы и говорить-то правильно не умеем. Речь должна состоять из экспозиции, констатации, аргументации… Дальше не помню, подскажите, граждане!
Зал молчал, и лобастый вновь развел руками.
– Я и говорю – трудно. Знаете, когда на Вормском рейхстаге Мартина Лютера хотели арестовать и сжечь, на дверях собора появилась листовка. Там было написано примерно так: «Я не могу красиво говорить в защиту доктора Лютера, но у меня под рукой десять тысяч вооруженных парней». Нас в Сен-Марсо несколько больше…
На миг зал словно проснулся. Шум хлестнул в окна, достиг высокого потолка – и снова стих. Ножан спокойно ждал, скрестив руки на груди.
– Будем считать это экспозицией, граждане. Теперь к делу. Мы здесь, чтобы внести некоторую ясность. Нас, рабочих, почему-то считают, во-первых, попрошайками, каждый день просящими хлеба, а во-вторых, людоедами, которым надо ежечасно швырять отрубленные головы…
Зал молчал. Я мельком взглянул на Вильбоа. Тот быстро водил карандашом по бумаге, не сводя глаз с трибуны. Гражданин Тардье высунулся из своего кокона и прилип к барьеру, вцепившись ручонками в плюшевое покрытие.
– Тут явное недоразумение, граждане! Хлеба мы не просим. Хлеб и все прочее мы покупаем за собственные деньги, которые честно зарабатываем. Просим же мы – или, ежели хотите, требуем, – чтобы хлеб этот в Париж регулярно привозили и продавали по справедливой цене. В октябре 89-го мы уже приходили к вам по этому поводу. Тогда нам посоветовали штурмовать Версаль, чтобы потребовать хлеб у Короля. Мы так и сделали. Но теперь Короля нет, так что придется разбираться на месте…
– Роялист! – послышался чей-то отчаянный вопль.
Ножан покачал головой:
– Вот-вот! Кстати, Король тогда был совершенно ни при чем, поскольку снабжением города занимался муниципалитет. Ну, это к слову… Теперь второе. Мы вовсе не в восторге от изобретения доктора Гильотена, тем более уже сейчас больше половины всех казненных – не аристократы, а беднота. А что будет завтра? Между прочим, когда вы тащите на эшафот женщин и детей за то, что они, видите ли, аристократы, это и в самом деле похоже на людоедство…
На этот раз кричали долго. Лобастый спокойно ждал, наконец легко хлопнул широкой ладонью по трибуне.
– Полгода назад бедняга Жак Ру уже пытался вам это объяснить. Теперь он в тюрьме…
– Не за это! – проорал кто-то, вскакивая с места. – Ру – изменник!
– Еще бы! Он был настолько откровенен, чтобы признать очевидную вещь: при Старом порядке рабочим жилось лучше…
В ответ послышался даже не крик – рев. Кролики, забыв страх, вскакивали, размахивали руками, в толпе мелькнул уже виденный мною турецкий кинжал…
– Вы бросили его за решетку, вместо того чтобы спросить: а, собственно, почему? Почему в Париже безработица, почему за ассигнаты нечего купить, почему рабочие голодают? Может, мы просто лодыри?
– Это временные трудности! – с места вскочил некто, высокий и худой, как жердь. – Нельзя падать духом, гражданин Ножан!
– Да мы и не падаем, – лобастый, похоже, весьма удивился. – Достаточно подсчитать, сколько добровольцев выставили мы, а сколько – буржуазные секции. Кто воюет в Вандее? Кто сейчас штурмует Тулон? Гражданин Карно, вы здесь? Подтвердите!
Шум постепенно стих. То ли у кроликов проснулась совесть, то ли они догадались взглянуть на ряды молчаливых парней с мушкетами, застывших в проходах.
– Да, мы не умеем красиво говорить. Зато считать научились. Давайте посчитаем…
В руках Ножана появился листок бумаги.
– Итак, пять лет назад Париж производил следующее…
Это было уже непонятно, по крайней мере для меня. Структура производства, объемы экспорта, масштабы товарооборота, Льежские ярмарки, поставки в Англию и Голландию… Ножан говорил легко, почти не заглядывая в бумагу, и я понял, что он хорошо подготовился. Странное дело, его слушали. Более того, кое-кто пытался поправлять, подсказывать. В конце концов даже я начал понимать – Сен-Марсо и Сент-Антуан работали на экспорт: мебель, тонкое полотно, дорогие безделушки, даже перчатки для лондонских денди. Теперь война, Франция отрезана блокадой, а Республика, Единая и Неделимая, не спешит с новыми заказами. Рабочие готовы выпускать все, что требуется, но правительство предпочитает платить втридорога за контрабанду и товары из далекой Америки.
– Выходит, мы вам не нужны? – Ножан спрятал бумагу и обвел глазами зал. – Будь здесь гражданин Тюрго, он бы подсказал, какую часть дохода мы приносили бюджету Королевства Французского!
– Это временно! – вновь вскочил длинный. – Поймите, гражданин Ножан, нужно немного потерпеть…
– Да! Да! – подхватили голоса. – Нам всем трудно…
Похоже, так думали все же не все. По залу пронесся смешок. Ножан тоже улыбнулся.
– Сочувствую, граждане! Но вам все же платят по восемнадцать ливров в день. Немного, конечно, но дожить до лучших времен все-таки можно… Знаете, обычно говорят: когда нечего дать, дают свободу. Так вы когда-то и сказали Королю. Но почему вы не хотите дать свободу нам? Вы отправили на гильотину Ле Шапелье,[44] но его закон живехонек…
Теперь слова падали тяжело и мерно. Запрет стачек, запрет рабочих союзов, максимум заработной платы, полицейский контроль над секциями, Конституция, которую приняли, но забыли ввести в действие. И – аресты, аресты, аресты…
Я затаил дыхание. Все верно! В этих словах было что-то знакомое, уже слышанное…
– После того, как вы арестовали беднягу Ру, у меня была интересная встреча. С одним роялистом…
Ножан спокойно переждал яростные крики зала. Похоже, слесарь лукавил – оратор он был превосходный.
– Этот роялист – очень смелый и очень умный человек. Он сказал мне приблизительно то же, что вы слышали. И предложил подумать. Догадываетесь, о чем?
Догадаться было несложно. И прежде всего мне. Имя в списке! Мечта маркиза Руаньяка – санкюлоты под белым флагом! Похоже, мы уже были знакомы с гражданином Ножаном…
– Он добавил еще кое-что. Вы, Третье сословие, каждый раз бросаете в бой нас, рабочих. Мы, Четвертое сословие, брали Бастилию и Тюильри, мы изгнали бриссотинцев, мы воюем на фронтах, льем пушки, делаем порох. А что взамен? Как вы думаете, он прав или нет?
В этот миг мне показалось, что Ножан смотрит прямо на меня. Конечно, такого не могло быть, слишком далеко трибуна, но я невольно отвел глаза.
– Долой! Долой! С трибуны! – депутаты вскочили с мест. – Вне закона! Вне закона! Долой красное знамя!
– Вот я и говорю, – невозмутимо кивнул Ножан. – Позавчера вне закона Марат, вчера – Ру, сегодня – я. Не нравится красное знамя? Почему?
– Это бунт! – крикнули из зала. – Мятеж!
– Да ну? – лобастый резко повернулся. – А чем мы с вами занимаемся последние четыре года? Когда мы защищаем вас – это революция, когда себя – мятеж. Знаете, поневоле задумаешься: а не разнести ли к чертовой матери вашу бакалейную лавочку? Помните, как в мае мы окружили Манеж и взяли вас за жабры? Понравилось?
В зале стоял рев, некоторые, особо рьяные, уже рвались к трибуне. И тут вновь ударили барабаны – мерно, грозно. Граждане кролики замерли на месте, кое-кто стал пятиться…
– Не будем ссориться! – Ножан взмахнул рукой, и в зале наступила тишина. – Просто давайте начнем сначала. Гражданин Сиейес,[45] где вы?
Призыв остался без ответа. В зале послышался смех, кто-то крикнул: «За портьерой!» Я невольно поглядел на трехцветную драпировку. Похоже, там действительно кто-то прятался. Я покосился на Шарля, тот уловил мой взгляд и кивнул в сторону портьеры. Я усмехнулся – мы поняли друг друга.
– Когда-то вы хорошо написали, гражданин Сиейес. Давайте вспомним! Что такое Третье сословие?
– Ничто! – хором ответил зал.
– А чем оно хочет стать?
– Чем-то![46]
– Вот видите! Гражданин Сиейес, вы еще за портьерой?
В зале уже стоял хохот. Я невольно поразился – этому лобастому ничего не стоило управлять стадом, именуемым Конвент. Не зря имя депутата Ножана оказалось в моем списке! Если бы он только захотел…
– Мы тоже были ничем. И тоже хотим стать чем-то. Это законно?
Ему не ответили. Ножан немного подождал и вновь развел руками:
– А по-моему, законно! Успокойтесь, граждане Третье сословие! Сен-Марсо никогда не поднимет белый флаг. И не потому, что мы вас любим. Просто реставрация не даст нам ничего. Вы-то не пропадете, адвокаты всегда нужны…
Кто-то вновь вскочил, послышались крики, но лобастый только махнул рукой:
– Бросьте! Даже при Старом режиме вы были чем-то! Вас приглашали на Генеральные Штаты, вы платили свою марку серебра и голосовали в парламентах. А мы были действительно ничем. И теперь никогда и никому не уступим наше право считаться людьми! Ни вам, ни принцу Конде. Вы – не Революция. Вы только примазались к ней. Революция – это мы!
– Гражда-анин Ножан! – председатель наконец вспомнил о колокольчике. – Ва-аше время…
Лобастый слегка повернул голову:
– Вы правы! Наше время еще не наступило. Но оно придет, граждане адвокаты и мануфактурщики! Так что давайте считаться друг с другом! Секции Сен-Марсо требуют: хлеба и Конституции! Долой террор! Долой грызню в Конвенте! Кончайте войну! Республика для всех!
Зал молчал, но через мгновение разразился криками. Ножан, уже сошедший с трибуны, резко повернулся:
– Что-то не так? Ах да, забыл! Вы, кажется, привыкли, что вас приветствуют песнями и танцами. Извините, поем мы плохо, но можем сыграть. А спляшете вы сами…
Барабаны вновь ожили, и молчаливые ряды рабочих колыхнулись и двинулись к выходу. Кто-то поднял повыше красный флаг и взмахнул им прямо над головой вросшего в кресло председателя.
– Жорж их предупреждал! – Шарль вскочил, возбужденно глядя на гудящий зал. – Если бы не Ножан, они просто всем оторвали бы головы!
– Сила! – удовлетворенно прохрипел гражданин Тардье и громко чихнул. – Оторвали б – лучше было! Ну, чего я вам говорил? Вот это – наши!
– Кукареку! – согласился я. – Пошли!
– Куда это, гражданин Деревня? – возмутился было Огрызок. – Я еще с гражданином Вильбоа…
– Сопляков пристраивать. Забыл, оглоед?
– Сами вы оглоед, – тут же отреагировал малец. – А на вас, гражданин Вильбоа, вся надежда…
Бравого лейтенанта Дюкло я нашел на площади возле сквера, где он строил свою роту. Заметив нас, он махнул треуголкой:
– Да здравствует Республика, гражданин Шалье! Я сейчас!
Через минуту он уже был рядом, мои пальцы стиснула крепкая рука.
– А я вас сразу заметил, еще в зале! Как здоровье-то? Оклемались?
– Лучше не придумаешь, – кивнул я. – Лейтенант, познакомьтесь с гражданином Тардье…
Огрызок не без опаски взглянул на гражданина Дюкло, немного подумал и протянул ручонку:
– Слава Республике, гражданин! А вы настоящий или буржуа?
Получив заверение, что он, Дюкло, хотя и в синей форме, но самый настоящий потомственный санкюлот, гражданин Огрызок несколько оттаял. Между тем я шепнул лейтенанту, чтобы он провел нас к Ножану. Дюкло немного подумал, кивнул и начал протискиваться через толпу. Мы последовали за ним.
– А помните наш разговор, гражданин Шалье? – Дюкло повернулся и кивнул на громаду Тюильри. – Все-таки мы их дожали!
– В каком смысле? – удивился я.
– О священниках, помните? Все-таки приняли Декрет о свободе совести! Сам гражданин Робеспьер настоял! Мы у себя сразу две церкви открыли…
Ответа моего он ждать не стал и вновь нырнул в толпу. И вновь, как когда-то, я не знал, что и думать. Они свергли Короля, но жалеют священников. Уничтожили страну, но жалеют женщин, которых «синие» посылают на гильотину. Четвертое сословие, люди, которых мы совсем не знаем. Впрочем, гражданин Робеспьер отреагировал удивительно быстро. Неглуп, Зеленая Рожа!
Наконец мы не без туда пробились в самую гущу толпы. Ножан стоял в окружении нескольких женщин в красных косынках, которые чего-то возбужденно требовали. Лобастый негромко отвечал, то и дело кивая в сторону дворца. Я подошел поближе, Ножан оглянулся – и наши взгляды встретились.
– Вы? – В серых глазах мелькнуло удивление. – Разве я не дал ответ?
– Исчерпывающе, – согласился я. – И дай-то бог вам не ошибиться.
Вблизи он выглядел значительно старше, молоды были глаза – и яркие губы, странно смотревшиеся на худом костистом лице.
– Не будем спорить. – Я вытащил из толпы Огрызка, прятавшегося за чьими-то спинами, и поставил его перед собой. – Вот привел к вам одного гражданина. У него на попечении двое других граждан, и все они очень хотят есть. Надеюсь, вы не дадите им пропасть…
Малец с минуту глядел на лобастого, широко раскрыв рот, затем опомнился и сердито взглянул на меня:
– И ничего мне давать не надо! Вы его не слушайте, гражданин Ножан! Вот сопляков моих и вправду пристроить требуется, а то уже пухнуть начали. А я и сам не пропаду, не маленький! Так что не путай, Деревня!
Действие 6 Некий шевалье получает ответы на свои вопросы, или Смерть по имени «Лепелетье»
Ночь уходила, над неровными черепичными крышами одиноко горела белая поздняя звезда. Тучи ушли, и над замершим городом раскинулось темное небо – холодное, как и эта декабрьская ночь. Ночь месяца фримера…
Папелитка догорела, но я не двигался, глядя в приоткрытое окно. Белая звезда не отпускала, манила, она казалась единственной реальностью среди черного молчаливого города, похожего на сбывшийся ночной кошмар. Да и не было ли все это сном? Резкие контуры крыш медленно теряли очертания, таяли, покрывались серым туманом. Все исчезало, оставалось лишь заснеженное поле, холодная земля – и белая звезда надо мной. Предрассветные сумерки срывали нестойкий колдовской покров, оставляя лишь холодную спокойную истину. Нет Парижа, нет черных крыш, нет холодной комнаты и погасшей свечи на столе. Есть только поле, лионская дорога, голые тополя, идущие куда-то за горизонт. Я вернулся. Я никуда не уходил с этого страшного места. Мне просто пригрезилось…
Я заставил себя встать, закрыть окно и зажечь свечу. Серый туман отступил, исчез за окном, за темными шторами. Все может быть. Я, призрак, попал в царство призраков. Но даже если так, любое дело следует доводить до конца. А остальное уже не в моей власти.
На стол лег чистый лист бумаги, и я, взяв перо, стал быстро записывать. Первое – «Синий циферблат». Второе – «Фарфоровая голубка», барон де Батц, третье – Николя Сурда…
Уже не в первый раз меня посещала странная мысль. Мертвый, лишенный памяти, я делаю именно то, что должен был, останься я живым. Я шел по собственному следу, словно призрак, не решающийся покинуть знакомые места. Но я уже не был прежним, и мои метания по чужому страшному городу, городу Смерти, становились все более бесполезными. «Синий циферблат»… Может, там ничего и нет? Может, и это фантомная боль, ненужные обрывки исчезнувшей памяти? Впрочем, круг замыкался, и я чувствовал – скоро развязка. Так ли, иначе, но все для меня кончится. Серое небо было близко – только протяни руку…
Рассвет пришел как-то незаметно. Спать не тянуло, хотя я всю ночь не сомкнул глаз. Сквозь ставни нехотя сочился бледный утренний свет, и ночные призраки на время оставили меня. То, что я делаю, бесполезно, но иначе поступить просто нельзя.
…Шаги я услыхал издалека – легкие, быстрые, но неровные, словно человек то и дело оступался. Кто-то вошел в ворота, остановился под моими окнами…
Я застегнул камзол и, не особо торопясь, превратил листок с адресами и фамилиями в серый пепел. В том, что ранний гость спешил ко мне, сомнений не было, но я не собирался следовать примеру прежнего квартиранта. Наверно, гражданин Марат был мастак лазить по неровным черепичным крышам. Впрочем, и это его не спасло. Мне же опасаться нечего.
Шаги уже были на лестнице, на миг они замерли перед дверью, и я представил, как гость ищет молоточек, висевший на медной цепочке слева от входа. Когда послышался первый, неуверенный удар, я шагнул к двери.
– Вы?!
Странно, я еще не потерял способность удивляться. Впрочем, отвечать гражданка Тома не стала. Она даже не подняла головы, и стекла ее очков внезапно показались мне погасшими и мертвыми.
– Ваш адрес дал мне Шарль… Мне можно войти?
Даже голос стал другим – тусклым и безнадежным. Я вдруг представил, как говорю «нет», и девушка безмолвно поворачивается…
– Заходите! Правда, у меня ни чая, ни кофе… – произнес я как можно веселее, хотя уже понимал, что мой наигранный оптимизм бесполезен, даже хуже.
– У вас есть водка…
Она глядела куда-то в сторону, старательно пряча взгляд. Разыгрывать роль весельчака не имело смысла, и я посторонился, пропуская Юлию в комнату. Шляпка полетела прямо на пол, рука дернула верхнюю пуговицу пальто. Я попытался помочь, но она резко рванулась, словно я прикоснулся к ране:
– Не смейте! Не смейте меня трогать.
– Юлия! – растерялся я. – Помилуйте…
– Вы что, не видите – я грязная! Грязная!
Мелькнула и пропала нелепая мысль, что девушка явилась прямиком из мертвецкой, забыв вымыть руки. Юлия сбросила пальто и опустилась на стул.
– Франсуа, я же просила…
– Ах, да!
Я плеснул граппа в глиняную кружку – иной посудой обзавестись не удалось. Девушка выхватила ее из моих рук, резко выдохнула воздух, отпила – и зашлась в кашле…
– Ну и дрянь! Что вы там курите, дайте! Скорее!
Я открыл коробку с папелитками, Юлия наугад выхватила одну, повертела в руке…
– Нет! Что за мерзость! Не буду… Франсуа Ксавье, не смейте на меня смотреть!
Хотелось спросить: «Что с вами?», но я уже понимал – такой вопрос ничего не даст.
– Юлия, – осторожно начал я. – Альфонс… Он жив?
Она быстро кивнула.
– Да… Процесс через три дня. Франсуа, я догадываюсь, на что похоже мое поведение…
– Помилуйте, – попытался вставить я, но девушка резко мотнула головой:
– Дайте сказать! Я веду себя как ненормальная… Но я и есть ненормальная, мне некуда идти и…
– Еще граппа?
Молодой ирокез жив, значит, в любом случае не все потеряно. Немного успокоившись, я налил еще полкружки, и Юлия, выпив залпом, откинулась на спинку, сняв бесполезные очки.
– Ну и гадость! Нет, не поможет… Мне надо искупаться в спирте… Нет, и это не поможет… Простите, ради бога! Только не прогоняйте! Не могу никого видеть, кажется, все уже все знают, тыкают в спину пальцами… Господи, как это омерзительно!..
Я закурил и отошел в сторону. Что бы ни случилось, ей следует выговориться. Иначе будет еще хуже. Было ясно – она на пределе, еще немного, и нервы не выдержат…
Внезапно Юлия рассмеялась – нервно, хрипло:
– Никогда не думала, что все это так мерзко! Мне казалось, что профессия врача все же делает людей более… Не знаю, циничными, что ли? А я – как горничная из хорошего семейства…
Смех оборвался, девушка застонала и внезапно закрыла лицо ладонями.
– Наверно, это называется истерика… Франсуа, пожалуйста, не смотрите на меня! Я, конечно, зря сюда пришла, но мне стало страшно, я не могла…
Она резко встала, подошла к окну и, рванув ставню, глубоко вздохнула.
– Душно… Вы что, никогда не проветриваете? Что вы за человек, Франсуа Ксавье! Иногда вы так можете разозлить…
Я не сдержал усмешки, благо девушка стояла ко мне спиной. Пусть говорит!
– Ладно, слушайте! – Она вновь присела и, схватив ни в чем не повинную папелитку, бросила ее обратно в коробку. – Все равно я должна кому-то рассказать, можете, если хотите, смеяться – только потом, не при мне. Наверно, со стороны это действительно смешно. Горничная впала в истерику…
Она помолчала, затем резко мотнула головой:
– Ладно, слушайте исповедь горничной! Альфонс мне как-то читал одну пьесу, немецкую, кажется. Очень похоже! Только я не умею произносить монологов… В общем, так. Я говорила с Дантоном, говорила с Шометтом… Знаете такого?
– Прокурор Коммуны, – кивнул я. – Кажется, он не любит гражданина Дантона.
– Не любит… Но сказал то же самое, только не так вежливо. У Альфонса нет ни малейших шансов. Никаких! Понимаете?
Она перевела дыхание, схватила кружку, но тут же отставила ее в сторону.
– Нет, пока не буду. Слушать исповедь пьяной горничной будет совсем омерзительно… Тогда я спросила, что можно сделать. Странно, но гражданин Шометт был очень откровенен. Он сказал, что единственный шанс – отложить процесс. Если Альфонса не будут судить вместе с остальными, то пройдет еще несколько дней, может, недель. О нем могут попросту забыть. Многие бриссотинцы сидят уже полгода, их не трогают…
Я вновь кивнул: кажется, Вильбоа упоминал об этом. Но не все из друзей Бриссо были знакомы с убийцей Марата…
– К сожалению, список уже утвержден. Чтобы его изменить, нужно решение какого-то из комитетов…
И это было известно. Более того, на это я и делал расчет.
– Тогда я вспомнила. У отца был знакомый, его сын сейчас – довольно известный политик. Он… Нет, не буду! Кто он, не так важно, но это в его силах. Я пошла к нему…
– Он требует денег? – понял я. – И много?
Она улыбнулась – жалко, растерянно.
– Денег? О чем вы, Франсуа? У вас плохо с воображением! Деньги ему не нужны, он человек очень богатый, хотя и якобинец. И, между прочим, дворянин… Не понимаете?
Я понял, все понял. Богатый, преуспевающий, ему не нужны деньги… Да и какие деньги у доктора Тома?
– Горничная пришла к графу просить пощады для своего жениха… Кажется, в той пьесе было именно так. Ну, а граф… Нет, граф, по крайней мере в той пьесе, все-таки удостаивает горничную целого монолога, а этот… Этот не стал зря тратить времени. Он засмеялся и просто приказал мне раздеваться…
– Хватит, – не выдержал я. – Юлия, не надо!
– Нет! Я должна… Я не могу держать это в себе… Надеюсь, вы все забудете, Франсуа, – и меня, и то, что я говорю, но я должна… В общем, горничная не решилась спорить с графом. Граф обещал… Твердо обещал, если она будет покорной. Что ж, горничная была покорной – очень покорной, а граф оказался чрезвычайно изобретателен. А потом к графу зашли друзья…
Она резко наклонила бутыль, грапп полился на стол. Я поспешил подойти, но Юлия дернула рукой:
– Не надо… Потом. Я не очень понимаю, что делаю… Знаете, я лечила одну проститутку из Пале-Рояля, она любила откровенничать, так что могу сравнить. Я хуже проститутки, они не позволяют такое. Во всяком случае, не все и не всегда… Этот… Этот тип живет на пятом этаже; когда они сделали, так сказать, перерыв, я подошла к окну и хотела броситься вниз – голой, как была. Но я надеялась, что он все-таки поможет. Я не могла даже умереть! Вы понимаете, Франсуа, что такое, когда нельзя даже умереть?
– Да, – вырвалось у меня. – Понимаю!
– Нет… Не понимаете, Франсуа Ксавье! А кончилось все не как в трагедии, а как в водевиле. Когда их фантазии иссякли, мне надавали пощечин и выкинули за дверь, а вслед кинули одежду. Вот и все. На прощание этот молодой человек посоветовал мне отдаться Сансону. Сказал, что у меня теперь есть некоторый опыт. Ну, а если я пожалуюсь, то он для начала сдаст меня в полицию, и там меня высекут. За проституцию. А если не уймусь – отправят в Консьержери…
– Как его зовут? – Я встал и подошел к вешалке, где висел плащ. – Его имя?
– Вы его убьете? – На лице Юлии мелькнула горькая улыбка.
– Да, – кивнул я. – Убью…
Странно, еще совсем недавно казалось, что моя рука уже никогда не сожмет эфес шпаги. Таким, как я, убивать нельзя. Но сейчас я понимал Антуана Пари.
– Хотите отомстить за поруганную невинность? – Юлия с трудом встала и шагнула ко мне. – Бросьте, Франсуа Ксавье! Сейчас не времена Генриха III, вас просто отправят на гильотину. И я не для того пришла к вам. Просто мне надо было с кем-то поговорить и… Час назад я стояла на берегу Сены и думала, стоит ли жить. Один шаг – и все кончится, не надо будет помнить, чувствовать – каждый миг, каждую секунду… Но ведь Альфонса это не спасет! Франсуа, сделайте что-нибудь! Мне все равно, кто вы – тайный роялист, агент Комитета безопасности, рыцарь, который поехал за Граалем и заблудился… Помогите! Ради бога! Ведь вы верите в Бога, я знаю…
Она замолчала, но я не спешил с ответом. Обнадежить легко, но тем страшнее будет разочарование. Она готова схватиться за соломинку. Но я – плохая соломинка.
– Почему вы думаете, что я из ведомства гражданина Вадье? – поинтересовался я самым спокойным тоном. – По-моему, я не давал повода…
Она усмехнулась – сквозь слезы.
– Я виновата… Когда Альфонса арестовали, я почему-то подумала, что вы… И потом, когда вы так быстро вернулись из Сен-Пелажи… Извините, Франсуа! Демулен сумел узнать – на Альфонса донесли его знакомые из театра «Фейдо». На вас тоже донесли, хозяйка гостиницы, кажется. Вот такая я плохая, гражданин Люсон! Теперь я сказала все.
– Спасибо, – кивнул я. – Менее всего хотелось быть в ваших глазах секретным осведомителем.
Бумага, лежавшая во внутреннем кармане, внезапно стала жечь грудь. Нет, я не шпион, не национальный агент Шалье, предавший и убивший Руаньяка. Но всей правды я тоже сказать не мог. Слишком страшна и невероятна эта правда…
– Сейчас вы выпьете еще пару глотков и ляжете спать. Я запру вас, сидите тихо и никому не открывайте. Потом я вернусь и отвезу вас домой. Вопросы?
Юлия покачала головой:
– Нет. Сейчас вы поможете мне найти фиакр, я сама поеду домой и буду долго мыться. А потом буду реветь – пока не засну. И не вздумайте спорить, Франсуа Ксавье! Из вас получается хорошая нянька, но сейчас мне нянька не нужна. Вы не ответили мне…
Я вздохнул – лгать не хотелось.
– Хорошо, Юлия, слушайте. Сейчас я поеду к одному очень большому якобинцу и попытаюсь обменять голову на голову. Мне могут не поверить, могут даже арестовать. Но я сделаю, что смогу…
– Голову на голову? – вскинулась она. – Что вы такое говорите? Чью голову?
– Еще не знаю, – я заставил себя усмехнуться. – Может, мне просто удастся их обмануть. Как паршивому купцу на большой ярмарке…
Молчаливый лакей в богатой ливрее по-хозяйски оглядел стол, смахнул салфеткой невидимые пылинки и бесшумно удалился.
– Начнем с бисквитов, – гражданин Вадье заговорщически усмехнулся. – Контрабандные – и совсем свежие. Бисквиты предпочтительно макать в вино. Любите подогретое вино?
На этот раз на председателе Комитета общественной безопасности не было парика, и короткие седые волосы делали его еще более похожим на Вольтера. Не знаю, любил ли Вольтер вино и испанские бисквиты. Но, во всяком случае, и дом его, и стол были куда поскромнее. Гражданин Вадье явно питал склонность и к старому серебру, и хрусталю, и к китайскому фарфору. Граждане якобинцы не переставали удивлять.
– Очень хорошо, что зашли, гражданин Шалье! – Тонкая рука подняла крышку одного из блюд, ноздри жадно втянули воздух. – Отменно, отменно! Жан сегодня постарался. Очень скучно завтракать одному…
Завтракать я совсем не собирался, но с порога был схвачен и усажен за стол. Спорить не хотелось. Повод еще найдется.
– Итак, начнем! Предлагаю куропатку, а потом… Смелее, смелее, гражданин Шалье! Кстати, вы деньги получили?
– Какие? – удивился я, присматриваясь к куропатке. Да, неизвестный мне Жан, не иначе – повар гражданина председателя, свое дело знал.
– То есть? – Седые брови удивленно дрогнули. – Ваши деньги! Ну, я устрою этому Амару! Сначала прошляпил ваш арест, теперь и это…
– Фонд «Вальми»? – не удержался я. Получать иудино серебро – нет, хуже, каиново золото – не тянуло, но будет странно, если национальный агент откажется от денег. К тому же они действительно могут пригодиться.
– «Вальми»? – Серебряная вилка, нацеленная на несчастную куропатку, дрогнула. – Вы шутите?
На всякий случай я улыбнулся и отхлебнул вина. Оно действительно оказалось подогретым, причем с корицей и чем-то незнакомым, пряным.
– Если вам потребуются деньги из секретного фонда, то задержек не будет, поверьте! Но… Давайте не будем пока о делах! За завтраком положено сплетничать – легко, ненавязчиво… Чем вы меня потешите?
В эту минуту он и в самом деле напоминал скучающего барина. Этакий Пококуранте из романа господина Вольтера.[47]
– Вчера Жак Ножан чуть не разнес весь Конвент, – самым светским тоном сообщил я. – Гражданин Сиейес спрятался за портьерой, а гражданин председатель к концу начал заикаться.
– Отменно, отменно, – повторил Вадье и причмокнул. – А хорошо он сказал, а? Насчет бакалейной лавочки? Впрочем, белый флаг они не поднимут, а это главное. Помните наш первый разговор? Руаньяк все же ошибся… Ну, а моя сплетня тоже хороша. Вчера запретили один спектакль – «Празднество Разума», сочинения гражданина Сильвана Марешаля. И знаете за что?
– Скрытый роялизм, – предположил я. – Фейанство, бриссотизм…
– Холодно, холодно, – Вадье вновь причмокнул. – Напрягите воображение!
– Господи, как его? – Я вспомнил вчерашний «Монитор»: – Модерантизм?
– Увы, не угадали. Пьеса гражданина Марешаля запрещена за пропаганду зловредного атеизма!..
– Что?!
– Атеизм, – Вадье мило улыбался. – Гнусное богомерзкое учение, столь противное духу нашей Святой Католической церкви.
– Аминь, – заключил я. – Неужели правда?
Улыбка исчезла, маленькие, глубоко посаженные глаза сверкнули.
– Дожили! Между прочим, кое-кто уже готовит показательный процесс. Против, так сказать, осквернителей. Понимаете, гражданин Шалье, к чему идем?
– Постойте! – я невольно заинтересовался. – Недавно принят Декрет о свободе совести, в Сен-Марсо открывают церкви…
Вадье кивнул:
– И не только там. Только что принято секретное решение – будем праздновать Рождество. Судя по всему, Пасху тоже. Кому-то хочется возродить старый добрый католицизм – на радость нашим пейзанам. А идиоты вроде Шометта и Фуше с их антирелигиозными карнавалами и сожжением икон сему весьма способствуют… Ну, а если будет религия – наша, якобинская, – значит, будет и якобинский Папа…
Он помолчал и, поморщившись, отодвинул тарелку. Похоже, наш разговор отбил у гражданина председателя всякий аппетит. Интересно, кого он имеет в виду? Не того ли, кто так трогательно заботится о свободе совести?
– Ладно, не обращайте внимания! Просто я помню времена, когда протестантов сжигали – на кострах. Не приходилось видеть? А я вот застал. И теперь, кажется, вновь запахло гарью.
В Республике, Единой и Неделимой, давно уже пахло гарью, но я не стал уточнять.
– Итак, ваши дела, гражданин Шалье. Насколько я понял, вы пришли с хорошими новостями.
Темные глаза смотрели в упор. Я невольно вздрогнул. Теперь этот человек ничем не напоминал ни вольтеровского героя, ни самого Фернейского Старца. Передо мной был Великий Инквизитор Революции.
– Человек из подполья согласен выдать шпиона в Комитете спасения.
Его лицо не дрогнуло, лишь в глазах вспыхнуло что-то бесовское. Вспыхнуло – и погасло.
– Сколько?
С ответом я не спешил. Наверно, запроси я сейчас миллион, он выдал бы, не колеблясь. Золота – краденого, награбленного, конфискованного – они не считали.
– Не все так просто, гражданин Вадье.
Торопиться не следовало. Пусть предложит сам.
– Личная амнистия? Право возвращения во Францию?
– Это тоже… Но проблема в том, что он, этот человек, не поверит на слово. Нужны гарантии. И не бумажки – бумажкам он не поверит…
– Разумно, – Вадье задумался. – Но все остальное сложнее. Шпионов не награждают орденами, к тому же ордена мы отменили. Но если речь пойдет о политических уступках…
– Все проще, – перебил я, вспомнив слова одноногого. – Нужны будут, конечно, деньги. Но, кроме этого, вы должны освободить нескольких заключенных.
Вадье поморщился. Я понял – из пасти Великого Инквизитора вырывали добычу, а это куда неприятнее, чем раздавать краденые миллионы.
– Кого? – наконец без всякой охоты поинтересовался он. – Надеюсь, этот ваш человек понимает, что мои возможности не безграничны?
Пора было ставить точки над «i».
– Это он как раз понимает, гражданин Вадье! Впрочем, как и то, что возможности шпиона в Комитете спасения поистине не имеют границ!
Лицо Вадье вновь дернулось, и я понял, что стою на верном пути.
– Люди д'Антрега тоже читают газеты. И не только «Монитор», но и «Отца Дюшена», равно как «Старого кордельера». Скандал с Ост-Индской компанией привел их в восторг. Говорят, д'Антрег сказал, что скоро он лично спляшет карманьолу на вашей могиле. А на могиле гражданина Робеспьера споет «*!*З*!*a ira»!
Едва ли граф д'Антрег обладает столь развитым воображением. Но меня вдохновили вчерашние слова лобастого из Сен-Марсо.
Великий Инквизитор начал бледнеть. Затем лицо залилось краской.
– Сволочи! Они доиграются! Я прикажу удвоить караулы у застав, прикажу обыскать каждый закоулок! Ни один их проклятый курьер не проскочит!
Я отвернулся, сделав вид, что рассматриваю бронзового Пегаса, стоявшего на изящном маленьком столике. Вадье мог поставить по целой дивизии у каждой заставы. С тем же успехом можно ловить граблями ветер или обыскивать черную тьму парижских катакомб.
– Ваше мнение? – голос Великого Инквизитора прозвучал хрипло, словно карканье. Я еле удержался от улыбки.
– Хочу напомнить, гражданин Вадье, что начал переговоры с подпольем по вашему приказу. Мое мнение: заговорщиков следует истреблять, а не подкупать. То, что мы делаем, – на грани измены. Я по-прежнему считаю, что вы обязаны обнародовать все данные в Конвенте и добиться роспуска Комитета общественного спасения.
Лицо Вадье из красного стало малиновым. Губы дрогнули.
– Это… Это государственный переворот, гражданин Шалье!
– Да ну? – удивился я. – Совсем недавно один высокопоставленный деятель государства тоже был уличен в переписке с врагами. Его звали Людовик XVI.
– Не в этом дело. Вы правы – переворотом больше, переворотом меньше…
Великий Инквизитор уже успел успокоиться. Лицо вновь стало обычным, на тонких губах даже появилась улыбка.
– И мы это сделаем! Котерия гражданина Робеспьера получит свое! Но… Не сейчас! Пусть сначала задушат Эбера и Дантона. Кроме того, мы еще не готовы…
Он не стал договаривать, да этого и не требовалось. Волчья стая, правившая Единой и Неделимой, готовилась к очередной кровавой схватке. Наверно, Великий Инквизитор уже видел себя на месте Зеленой Рожи. Но руки были коротки – пока что…
– Хорошо, убедили! Кого надо освободить?
Я замер. Слова так и рвались с языка, но спешить не следовало. Ради этой минуты и затеяна вся игра. Ради глупого ирокеза в золотых очках – и тех, кто мог ждать меня в «Синем циферблате». Ждать – и не дождаться. Нет, спешить нельзя!
– Речь идет о нескольких людях. Пока мне назвали одно имя – Альфонс д'Энваль, драматург.
Вадье на миг задумался.
– Давайте расположимся поудобнее. Не могу размышлять над тарелками…
Мы вышли из-за стола, на котором остывала забытая куропатка, и пересели в кресла, стоявшие у высокого стрельчатого окна. Кресла оказались под стать гражданину Вадье – вольтеровские. Усевшись поудобнее, он легко дотронулся до маленького колокольчика.
Лакей вынырнул словно из-под земли. Вадье, не удостоив его даже словом, пошевелил в воздухе тонкими изящными пальцами. Слуга исчез, через минуту появившись с большим черным портфелем. Великий Инквизитор движением брови отослал лакея, после чего с несколько брезгливым видом принялся извлекать из недр портфеля какие-то бумаги.
– Так, д'Энваль, – наконец проговорил он. – Альфонс д'Энваль, драматург… Странно…
Быстро проглядев несколько документов, он повернулся ко мне.
– Вы представляете, о ком идет речь?
«О благородном воине из племени ирокезов», – чуть было не ответил я.
– Понятия не имею, гражданин Вадье. Возможно, д'Энваль сам по себе и не нужен тому человеку…
– Проверка на искренность, – кивнул Великий Инквизитор. – Разумно, разумно… Дело вот в чем, гражданин Шалье. Мы вполне можем освободить д'Энваля. Через три дня. Ваш, гм-м, контрагент согласится?
Через три дня – процесс! Внезапно я ощутил страх. Вадье слишком быстро согласился! Так не должно быть!
– Трудно сказать. Но, как я понял, д'Энвалю грозит гильотина…
– Грозила, – кивнул Инквизитор. – До вчерашнего дня. Видите ли, гражданин Шалье… Смею напомнить, что Людовик XVI, о котором вы только что упомянули, в свое время запретил пытки. С точки зрения революционного правосудия, это не всегда разумно, особенно на публичных процессах. Подсудимые порой бывают необыкновенно упорны. Гражданин Фукье-Тенвиль уже дважды предлагал вернуться к доброй старой дыбе, но его пока не послушали.
Он вновь причмокнул губами, то ли посмеиваясь над кровожадным Тенвилем, то ли действительно сожалея о палаче с ременным кнутом в руке.
– Поэтому на каждом процессе нам нужен свидетель. И лучше всего – из числа подсудимых. Тогда все идет достаточно гладко и даже красиво. Ну, а взамен этот свидетель получает редчайшую возможность сохранить голову на плечах. Революционное правосудие, гм-м, необыкновенно гуманно. В некоторых, конечно, случаях…
Я не поверил. Не мог поверить. Не хотел…
– Так вот, гражданин д'Энваль проявил редкое благоразумие. Мы согласились – особой вины за этим молодым человеком и нет, одна болтовня, а на письмо Корде мы, так и быть, закроем глаза. После процесса д'Энваль получит свободу. Ну, может, и не сразу, через денек, через два…
Я вспомнил Юлию и понял, что граждане атеисты правы. Господь не творил людей. Этим занимался кто-то другой. Жить среди этих кадавров не имело смысла.
– Таких сознательных граждан сейчас называют «наседками». Или «баранами». Такое, признаться, забавное слово…
«Наседка»? Нет, сказано слабо! Д'Энваль – не наседка. Благородный Роланд превратился в людоеда. В Жеводанского Зверя…
– Жеводанский Зверь, – произнес я вслух. – Знаете о таком?
– Как? – Маленькие глаза удивленно блеснули. – Волк-каннибал? Позвольте, позволье! Д'Энваль! Родственник егермейстера! А знаете, остроумно! Правда, волк съел не менее трех сотен, а этот молодой человек отправит на эшафот всего два десятка, но вы правы, сравнение – хоть куда!
Я встал – сидеть рядом с этим остроумцем не было сил. Каким же идиотом я был! Странствующий рыцарь спасает попавшего в беду благородного юношу. Спас…
– Уже уходите? – Вадье явно растерялся. – А… Кофе? С пирожными!
Я с трудом перевел дыхание – во рту было сухо, словно я целый час глотал раскаленный песок.
– Надо спешить. Меня торопят…
Инквизитор сокрушенно вздохнул.
– Тогда приходите завтра – лучше к обеду. Будет индейка и… И тогда уж без кофе я вас точно не отпущу. Разве что в Консьержери!
Великий Инквизитор улыбался – тонкой, истинно вольтеровской улыбкой. У гражданина Вадье было превосходное настроение.
Слежку я заметил сразу, как только привратник в ливрее открыл дверь подъезда. В двух шагах, возле старого каштана, стоял скучающий молодой человек в штатском, еще один прогуливался чуть поодаль. Первой мыслью было вернуться к гражданину Вадье и потребовать, чтобы он урезонил излишне ретивых шпионов, но что-то удержало. Молодые люди в штатском вели себя слишком открыто. Так не следят. Просто мне давали понять, что моя скромная персона – в надежных руках.
Я, не особо торопясь, направился к стоянке фиакров. Молодые люди побрели следом, бросая рассеянные взгляды на крыши окрестных домов. Через несколько минут я окончательно убедился – Комитет общественной безопасности тут ни при чем. У моих спутников военная выправка – и они совершенно не умеют шпионить. К тому же походка – странная, непривычная. Это не легкий шаг пехотинца, не кавалерийская «раскорячка». Они ступали твердо, словно земля не держала, шаталась под ногами.
Возле стоянки я специально замедлил шаг, чтобы дать им возможность проявить инициативу. Так и случилось. Один, тот, что стоял у каштана, поспешил загородить мне путь:
– Здравия желаю, гражданин дю Люсон!
Небольшой шрам на щеке, загорелое лицо. Такой загар не получишь под парижским небом. Запахло тропиками, далеким теплым морем… Вот почему у парней такая походка, словно они ступают по палубе!
Можно было, конечно, объяснить, что гражданин дю Люсон надежно заперт в Сен-Пелажи, а я – всего лишь Франсуа Касавье. Но зачем?
– Слушаю вас.
Он на миг задумался, затем четко и раздельно проговорил:
– Флагманский корвет Лаперуза назывался «Астролябия»…
Что ж, бывает! Бархатная Маска цитировала Симонида в переводе Ракана. Но стихи я помнил, а вот по поводу маркиза де Лаперуза… Впрочем, выбирать не приходилось.
– Лаперуз держал свой флаг на фрегате «Буссоль». Кстати, «Астролябия» – тоже фрегат, а не корвет.
– Так точно. Двадцатидвухпушечный! – парень широко улыбнулся. – Прошу, гражданин дю Люсон…
Все-таки пароли надо придумывать пооригинальнее. Что-нибудь насчет мебели, например. «У вас продается венецианский шкаф?»
Меня провели к коляске. Второй моряк – тоже загорелый, с большим синим якорем на запястье, вскочил на козлы. Знаток фрегатов устроился рядом со мной.
– Здесь близко, гражданин дю Люсон. Извините, если нарушили ваши планы, но – приказ…
– Давно из тропиков? – не утерпел я.
Большие голубые глаза удивленно блеснули.
– Полгода… Но, извините, откуда?..
– Просто угадал, – мне стало весело. – В следующий раз вам надо будет припудрить лицо.
Моряк сокрушенно вздохнул. Да, шпион из него явно не получился.
Ехали мы действительно недолго. Широкая улица, большое четырехэтажное здание, часовые в знакомой синей форме…
– Пропуск на вас зарегистрирован, – негромко пояснил моряк. – У нас тут строго.
Где именно «у нас», я уже догадался, хотя никогда тут не бывал. Ведомство гражданина Ипполита Карно. Из логова Великого Инквизитора я попал прямиком в шатер Агамемнона.
Мы прошли на третий этаж. В приемной меня встретил адъютант, на этот раз в полной форме – морской. Теперь уже можно не сомневаться, кому я обязан всем этим. Адъютант обменялся быстрым взглядом с моими сопровождающими, на мгновенье исчез за высокой дверью…
– Проходите! Командор Поммеле вас ждет.
Я улыбнулся. А еще говорят – конспирация! Хотя – совсем неглупо. Гражданину Вадье и в голову не придет…
Альбер Поммеле был высок, широкоплеч, красив и загорел, словно гвинейский негр. Я невольно поразился – он что, из Полинезии?
– Вы явно вернулись с Таити, – заявил я вместо «Здравия желаю!». – Где вы умудрились?
– Это? – Поммеле провел рукой по подбородку. – В прошлый раз, Франсуа, вы спросили то же самое. Увы, дальше Бордо не был. Старый загар не сходит. Восемь лет в Карибском море, я же вам рассказывал…
Франсуа? Значит, он для меня – просто Альбер…
– Альбер, как понять этот абордаж? Вы бы еще бриг на колесах за мной прислали!
Поммеле засмеялся. Его рукопожатие было твердым, словно я прикоснулся к корабельной доске. Взгляд зацепился за что-то странное. На правой руке у командора не хватало мизинца…
– За абордаж – извините, но в Морское министерство сейчас лучше не ходить, Сурда уехал на пару дней, а с Леметром… В общем, нам надо поговорить не в его присутствии. Как там Вадье? Клюнул?
– Акула готова заглотнуть крючок, – улыбнулся я. – Вопрос в наживке…
Менее всего хотелось заниматься сейчас этим делом. Но Поммеле рассчитывает на меня. Вернее, не на меня – на того, кем я был раньше. Кого он, похоже, неплохо знал…
– Наживка… – командор задумался. – Да, конечно… Кстати, вы не заметили, что Леметр стал каким-то странным? Представьте, его чуть удар не хватил, когда вы появились. Он почему-то был уверен, что вы погибли.
Я развел руками, хотя знал ответ. Для моряка я был, похоже, просто «дю Люсоном». Академик же знал правду.
– Как там в Бордо? – поспешил я, дабы не усугублять ситуацию. – Что поделывает гражданин Тальен?
Лицо Поммеле сразу же стало суровым. Глаза блеснули.
– Знаете, еле удержался! Если б он был чуть меньшей сволочью, чем на самом деле…
– Как?! – удивился я.
– Гражданин Тальен – изрядный мошенник. За деньги – очень хорошие деньги – он готов на все. Даже на добрые дела. Кое-кого удалось спасти – прямо из-под ножа. Иногда пороки бывают небесполезны… Ну, давайте займемся нашим любителем добрых дел. Узнали?
– Почти…
Это было правдой – отчасти. Я не видел этого человека, не слыхал его имени, но часы, проведенные на холодной скамейке, позволили сделать вполне определенный вывод. Очень определенный…
Поммеле задумался:
– В общем, можете не спешить. Наживку для гражданина Вадье мы уже приготовили.
– Де Сешель?
Нет, я не жалел неизвестного мне якобинца. Но то, что готовилось, ничем не лучше убийства из-за угла…
– Совершенно верно. Сешель – редкая сволочь, с ним они провозятся долго, и у нашего человека будет передышка. А главное – мы не ошибемся. Это не Сешель. И не Барер. Вот…
Листок бумаги, знакомый женский почерк. Тот, которым следовало писать любовные письма и списки белья. Но на этот раз речь шла об артиллерийском орудии. Калибр, вес заряда, скорострельность. Тут же – аккуратный чертеж.
– Именно это Леметр уже начал передавать д'Антрегу. Проект «Лепелетье».
– Пушка? – удивился я.
– Сразу видно, что вы, Франсуа, вдыхали морскую соль только одной ноздрей, – усмехнулся командор. – Это коронада. Так называемая Большая коронада Греноваля.[48] Последний и самый удачный его проект. Лучшее морское орудие в мире, насколько мне известно. Именно такие коронады будут установлены на этом корабле…
– «Лепелетье»?
– Совершенно верно. Проект «Лепелетье» – это строительство военного корабля совершенно нового типа. Такие корабли в перспективе должны полностью сокрушить флот Великобритании и обеспечить наше полное господство на море. Если, конечно, эксперимент удастся. Работы начались с благословения Гаспара Монжа[49] два года назад. Строительство ведется на верфях Бреста, там сейчас совершенно закрытый район…
– Значит, вам все известно? – я повертел в руках листок и положил его на стол. – Наш человек зря старался?
Поммеле покачал головой.
– Толком я ничего не знаю. Ни я, ни Тальен, ни даже Карно. Военное ведомство фактически отстранено от работ. Мы послали специалистов – и все. Это проект Робеспьера, а курирует его кто-то из Комитета спасения…
Я кивнул – нечто подобное рассказывал Амару.
– Весь проект состоит из трех программ. Первая – непосредственно корабль. Его строят те, кто спускал на воду «Город Париж» и «Марсельскую Коммерцию». Вы знаете – таких кораблей нет даже у англичан. Вторая – «Арсенал». Насколько я понимаю, это строительство мастерских по обслуживанию и ремонту. И наконец – вооружение. Пятнадцать Больших коронад Греноваля. Так вот, мы не просили у нашего человека в Комитете эти сведения. Он стал передавать их сам. Признаться, было очень интересно…
Командор взял в руки листок и легко подбросил его на ладони.
– Очень интересно, Франсуа! Особенно после того, как в Бордо совершенно случайно удалось узнать – это не те пушки!
Наверно, мой вид ему понравился. Поммеле засмеялся и откинулся на спинку кресла.
– Здорово, правда? Суть в том, Франсуа, что на «Лепелетье» будут действительно установлены коронады Греноваля, но… в два раза мощнее, чем эти! Что-то страшное, невиданное!
Удивление прошло быстро. Я пожал плечами:
– Либо нашему человеку подсунули неверные данные. Либо…
– Либо он сделал это сам! – подхватил командор. – Тысяча чертей! Вот это игра! Англичане будут ждать морское чудище, а им навстречу выплывет сам Вельзевул!
– Остальные сведения подлинные? – поинтересовался я, заранее зная ответ.
– Конечно! Все, что касается политики, передвижений войск, планирования сухопутных операций, – все верно. Но ради такого сюрприза можно заплатить и дороже! Это же решит судьбу войны!
Я не стал спорить. Возможно, командор прав, и это умная игра «синей» разведки. Но что-то шептало – истина еще сложнее. Особенно если я не ошибся и все-таки угадал.
– Так вот, это, конечно, не Эро де Сешель. В Комитете его используют, как мясника. Его, Тальена, Колло д'Эрбуа…
Колло д'Эрбуа… Огромная площадь, толпа, высокий эшафот – и треугольный нож, залитый кровью. Колло д'Эрбуа – палач Лиона.
– Это не фигуры. Так что мы с чистой совестью можем нанизывать наживку для акул из Комитета безопасности.
Я вновь пожал плечами. Наверно, месяцем раньше я бы смог оценить эту операцию – красивую операцию смелых людей из группы д'Антрега. Но сейчас Поммеле говорил совсем с другим человеком. «Синие» посылают на гильотину. «Белые» – жалят из-за угла.
– А сам корабль? – поинтересовался я, чтобы не говорить больше об обреченном Эро де Сешеле.
Поммеле улыбнулся – хитро, по-заговорщически. На стол лег новый лист бумаги – чуть побольше.
– Это стоило приблизительно столько же, сколько моя голова, если меня все-таки раскроют. Прошу…
Свинцовый карандаш. Быстрые, легкие линии. Тот, кто рисовал это, знал свое дело. Волны, несколько чаек, вдали – узкая полоска берега. Корабль…
– К сожалению, эскиз, – негромко пояснил командор. – Зато подлинный. Таким будет «Лепелетье»…
Таким? Длинный корпус, низкие, странно скошенные борта, короткие толстые огрызки вместо гордых мачт и что-то, напоминающее толстые цилиндры, растущие прямо из-под палубы. Вот и пушки – чудовищные коронады Греноваля, – но не установленные вдоль борта, а собранные в батареи, каждая – в большой круглой башне. И всюду – на бортах, на палубе, на стенках башен – тонкий свинцовый карандаш нанес странную штриховку, еле заметные миниатюрные точки. Корабль не стоял на месте, он двигался, оставляя за собой вспененный бурун…
– Сдаюсь, – наконец вздохнул я. – Объясните!
– Увы, – Поммеле развел руками. – Еще недавно мне казалось, будто я знаю о кораблях все. Могу лишь предположить, что весь корпус бронированный. Заметили штриховку? Причем броня не медная, как на «Городе Париже», а стальная. Более того… Более того, у меня есть невероятная догадка, что весь корпус тоже стальной. Коронады размещены в башнях, очевидно, эти башни можно разворачивать…
– Но ведь такое чудище не сдвинуть с места! – невольно вырвалось у меня. – Никакие паруса…
– А их и нет. Как и весел. Ну что? Впечатляет? Могу добавить, что для проекта удалось контрабандой доставить из Англии станки Вилкинсона[50] и несколько новейших паровых машин Уатта.
– А это? – я указал на странные цилиндры.
Поммеле усмехнулся:
– Похоже на дымовые трубы. А вот зачем – понятия не имею. Вот так, Франсуа! Через несколько месяцев этот монстр выйдет в море.
– Если у него нет парусов, – прикинул я, – если ему не нужен ветер… Господи, да ведь в безветренную погоду он без преград войдет в Темзу!
– Плюс коронады Греноваля, – кивнул командор. – А теперь, Франсуа, посоветуйте, что мне делать. Я могу попытаться достать чертежи. А дальше? Передать в Кобленц?
«Конечно!» – хотел ответить я, но что-то удержало. В Кобленц – значит принцу Конде. А принц Конде тут же передаст это…
– У англичан нет ничего похожего, – понял я. – Для Франции – это шанс…
– Наконец-то добиться господства на морях, – подхватил Поммеле. – Этот корабль – наше будущее. Его нельзя оставлять «синим», но отдавать англичанам тоже нельзя. Вот почему я приказал ничего не передавать д'Антрегу. Надо что-то решить. Если б я был уверен, что через полгода над Парижем будет развеваться флаг с лилиями…
Я покачал головой. Нет, за полгода не успеть. Господа якобинцы вооружили четырнадцать армий. Вандея и Тулон блокированы, Марсель и Лион пали…
Как бы поступил на моем месте тот, прежний? Я осторожно взял в руки рисунок. Жуткий стальной монстр, ощетинившийся коронадами, рассекал волны, подталкиваемый неведомой мощью. Дьявол! Морской Дьявол! Гражданин Лепелетье может спать спокойно в своем гробу – его имя поистине станет бессмертным!
Внезапно я усмехнулся. Загадка проста – «синим» не оставлять, англичанам не отдавать…
– Я бы его угнал, Альбер! Угнал и спрятал. А в нужный час вывел бы в море под белым флагом.
– Что?! – командор даже привстал от неожиданности. – Угнать корабль! Но ведь это… Это…
Я только усмехнулся. Корабль! Подумаешь, железная лохань с каминными трубами! Мы четыре месяца не сдавали Лион – почти без пушек, без пороха, без хлеба.
– Угнать… Угнать и спрятать… – бормотал Поммеле, что-то прикидывая. – Экипаж подобрать нетрудно… Корсика… Или Балеары… Нет, Корсика, там сейчас Паоли,[51] с ним у нас контакты. Есть гавани на западном побережье…
Внезапно он щелкнул пальцами:
– Эх, пропадай, голова! Тысяча чертей! Франсуа, надеюсь, мы будем на капитанском мостике вместе?
Я чуть не сказал «да», но тут же опомнился. Это не моя война. Моя закончилась – давно, еще в Лионе. В тот яркий солнечный день…
– Я не моряк, Альбер. Я даже не попал к Лаперузу. Вы справитесь сами.
Надо было уходить. Командор Поммеле ничем не мог мне помочь. Ни он, ни одноногий академик, ни отважный лейтенант Сурда…
– Погодите, Франсуа! – моряк явно растерялся. – Мы же с вами еще ничего не обсудили! Я даже не отчитался о тех деньгах…
Деньги? Я пожал плечами. Сегодня все говорят о деньгах…
– Нет, нет! – Командор тоже встал и решительно указал мне на стул. – Извольте присесть, Франсуа! Я обязан отчитаться! Сорок тысяч ливров – это… Ведь это деньги армии Святого Сердца! Помните? Вы же сами дали мне адрес – площадь Роз, «Синий циферблат»…
Дыхание перехватило, замерло сердце – и я без сил опустился на стул. Да, все верно – «Синий циферблат», площадь Роз… Но почему – деньги? Разве их я искал? Разве из-за денег…
– Итак, сорок тысяч ливров. Мне передал их господин Молье, – Поммеле заглянул в какую-то бумажку, – двадцатого августа. К сожалению, через неделю он был арестован. Насколько мне известно, на следствии Молье никого не выдал… Эти деньги подполье распределило следующим образом…
Его голос стал еле слышен, затем вообще сгинул, и меня охватила странная звенящая тишина. Все оказалось так просто! Я прежний отвечал за секретный фонд подполья. Папаша Молье, хозяин «Синего циферблата», где когда-то наливали прекрасный сидр, хранил это золото. Сорок тысяч – деньги немалые, это оружие, это спасенные жизни. Наверно, я был человеком очень ответственным…
– Франсуа! Что с вами? Франсуа!
Похоже, меня спрашивали об этом не в первый раз. Не знаю, откуда взялись силы, но я все-таки смог открыть глаза.
– Вы… Вы больны? – Поммеле стоял рядом, в руке – стакан с водой…
– Да… Я… – Слова рождались мучительно, с неимоверным трудом. – Альбер, бога ради… В «Синем циферблате»… Что там было?
– Там? Насколько я знаю, ваша конспиративная квартира… Выпейте, Франсуа! – командор протянул мне стакан, но я покачал головой. – Выпейте, на вас же лица нет!
Я хлебнул воды, и мне почудилось, что она пахнет серой…
– Мы там с вами пару раз встречались, и вы мне сказали, что хозяин – господин Молье – хранит деньги Руаньяка. Но Руаньяк разрешил нам ими воспользоваться, я и осмелился… Да что случилось?
– Н-ничего.
Я медленно встал, с трудом удержавшись, чтобы не рвануть ворот камзола. Белый галстук внезапно показался удавкой.
– Спасибо, Альбер. Надеюсь, вы угоните это чудище. И… не ищите больше меня!
– Но почему? – Поммеле растерянно вертел стакан в руке, затем резко поставил его на стол, расплескав воду по зеленому сукну. – Франсуа, если вам нужна наша помощь… Понимаете, мы очень рассчитываем на вас…
Я покачал головой.
– Поздно… Считайте, что я погиб…
– Господин дю Люсон! – Глаза командора блеснули. – Напомню вам ваши же слова. Мы, те, кто поклялся защищать Короля и Отечество, будем сражаться до конца. Живыми – а если понадобится, то и мертвыми!
– Ну, если так… – я горько усмехнулся. – Можете считать меня дезертиром.
Вокруг была серая тьма, плотная, непроницаемая, дышавшая холодом и безнадежностью. Странные тени скользили мимо, исчезая без следа и вновь рождаясь, чтобы беззвучно сгинуть в сером сумраке. Я исчез, меня больше не было, но проклятое сознание не желало умирать вместе со мной. Почему я еще здесь? Что им надо от меня? И кому это – «им»?
Тени сгущались, мертвые лица скалились, в ушах звучал далекий хохот. Призракам было весело, они смеялись – или это тоже чудилось? Неужели это смерть? Неужели мне не осталось ничего, кроме этого серого тумана? В чем я провинился перед Тем, Кто судит и карает? Или Он тоже ни при чем и прав Вильбоа со своими древними сказками? Может, древняя логрская кровь, о которой я забыл, как забыл и обо всем прочем, привязывает меня к этому проклятому миру? Неубитый близнец, цепляющийся за ненужную жизнь… Или все проще – Смерть, усталый палач, неловко нанесла удар? Смерть, которую звали Бротто… Бротто… Бротто… Черная равнина, продуваемая холодным осенним ветром…
Черная равнина, продуваемая холодным осенним ветром. Под ногами – неровная земля, за спиной Рона, несущая свои серые воды на далекий юг, где в домах – широкие окна, где люди не боятся сквозняков и пьют терпкий грапп. Но я не дома, мне никогда не вернуться. Лион – прекрасный Лион, окровавленный, в черных клубах дыма, – за рекой. Мой последний город, последний рубеж. Там, за рекою, – площадь, окруженная старинными домами, высокий эшафот, на котором еще не остыла кровь. Там, у эшафота, я все решил. В тот миг, когда треугольный нож обрушился вниз, и я понял, что должен уйти…
Мы, обреченные, только что перешли мост, нас много, длинная шеренга связанных по двое бредет к огромному рву, возле которого уже стоят убийцы в синих шинелях. Другие – в такой же синей форме – подгоняют нас, словно стадо. Мясникам некогда, бойня в самом разгаре…
– Господи, господи, господи… – шепчет кто-то совсем близко. Я не оборачиваюсь, не гляжу вперед, где на белом коне гарцует краснорожий детина в шляпе с трехцветной кокардой. Я хорошо его знаю – бывшего актера, бездарного, завистливого – и необыкновенно жестокого. Вот он, Колло д'Эрбуа, якобинский проконсул, – пьяный, с саблей наголо. Он тоже спешит, торопит убийц, в воздухе висит ругань. Скорее, скорее! Третий день здесь, на черной плеши, именуемой Бротто, Республика, Единая и Неделимая, подводит черту под лионским мятежом. Гильотина не справляется, не хватает даже веревок – но есть еще пушки, есть картечь. Пленные копают рвы – несколько уже засыпано, но чуть дальше роют новые, еще шире, еще глубже…
Крик – кто-то вырывается, падает под ударами прикладов. Его подхватывают, ставят на ноги – и гонят дальше. И вот мы уже стоим у рва. Колло кричит, бьет нерасторопных палачей эфесом длинной сабли. Кто-то начинает нас считать, сбивается, начинает снова. Но Колло машет рукой – ни к чему! Скорее, скорее, пушки уже готовы, черные жерла целят в лицо…
– Господи, господи, господи… – хриплый надрывный голос бьет в уши. Крик – отчаянный крик сотен обреченных – растет, ударяет в равнодушное небо и эхом рушится на землю, превращаясь в пушечный гром. Дым окутывает нас, словно серый осенний туман, но мы еще живы, пьяные канониры взяли неверный прицел…
– Господи, господи, господи…
Голос стихает до шепота, и тут небо вновь обрушивается на нас, засыпая черными комьями холодной осенней земли. Крик становится тише, но Смерть все еще медлит – и палачи в синем бросаются ко рву. Патроны кончились, в ход идут штыки, но я еще жив, хотя лицо, грудь, руки – все залито кровью. Колло не спеша слезает с коня, его шатает, сабля волочится по земле, он тоже подходит ко рву, красное лицо морщится, сабля нехотя, дрожа поднимается вверх. Мимо! Пьяный палач вновь морщится, вырывает из-за пояса пистолет…
Смерть по имени Бротто не спешит, медлит, словно смакуя каждый миг нескончаемой кровавой агонии. Но вот наконец неверная голубизна исчезла, пропала черная плешь проклятой равнины, и я увидел серое небо – такое близкое, доступное – протяни руку…
Сначала вернулась боль – боль в давно переставшем биться сердце. Я открыл глаза и понял, что ничего не кончилось. Я, расстрелянный на равнине Бротто, упавший в кровавое месиво мертвых тел и засыпанный комьями холодной земли, все еще здесь, в отвергнувшем меня мире. Я не ушел, не смог…
Рука уткнулась в резную стойку кровати. Значит, я сумел добраться сюда, в маленькую комнату, которую делит со мною призрак доктора Марата. Сумел добраться, скинуть камзол, упасть на покрывало… За окном неярко светило солнце, пробиваясь сквозь низкие снеговые тучи. Полдень… Сколько я пролежал здесь? Сутки? Больше?
Я встал, нашел на столе недокуренную папелитку и долго чиркал огнивом. Первая же затяжка заставила закашляться, и я усмехнулся, вспомнив предупреждение Ла Файета. Он прав, даже такому, как я, курево в конце концов начинает раздирать горло. Интересно, где сейчас Ла Файет? Год назад, спасаясь от гильотины, мой друг пытался бежать в Голландию, но был задержан австрийским разъездом. Может, ему даже повезло. Якобинцы не простили бы ему, как не простил Руаньяк. Маркиз де Руаньяк, командующий армией Святого Сердца, не щадивший никого и ничего не прощавший… А что, если бы именно мне приказали расстрелять Ла Файета? Чем я лучше Жеводанского Волка?
На столе стояла глиняная кружка. Я пригубил и поморщился. Грапп! Тот, что не допила Юлия. Наверно, она уже узнала, что ирокеза д'Энваля смерть обошла стороной. Впрочем, откуда? Сам Альфонс едва ли признается в том, что согласился стать палачом. Пока это тайна – грязная тайна Великого Инквизитора, – и бедная девушка, наверно, сходит с ума…
Я плеснул воды из глиняного кувшина, вытер лицо полотенцем и принялся не спеша одеваться. Рука уткнулась в колючий подбородок, я заставил себя достать бритву. Холодная вода помогала плохо, сталь больно скребла щеки, но я вытерпел до конца. Теперь камзол, белый галстук… Можно идти, искать фиакр в ближайшем переулке и ехать к Юлии. Она должна узнать, что д'Энваль не погибнет. Только это – остальное потом. Надо посоветовать ей не идти на процесс, а лучше – предупредить Вильбоа. Да, именно так! Потом… Но у меня будет еще время на «потом»…
Еще у подъезда я заподозрил неладное. Окна гражданки Тома оказались закрыты ставнями. Я знал этот странный парижский обычай – прятаться от ночи, но сейчас был день. Если она не открыла окна…
Я взбежал по лестнице и только на первой площадке сообразил, что в подъезде нет привратника. Это тоже никак не походило на Париж, пекущийся о чистоте и порядке. Подъезд открыт, у входа никого нет…
Дверь знакомой квартиры на втором этаже оказалась полуоткрыта. Я взялся за черный молоточек и замер в нерешительности. Будь я по-прежнему дю Люсоном, эмиссаром подполья, то давно бы уже ушел, бежал, исчез. В такие двери стучать опасно.
– Заходите, гражданин!
Мне открыли без стука. На пороге стоял плечистый молодец в штатском. На круглом жирном лице сияла улыбка.
Я отступил на шаг, но из двери уже выбегали крепкие ребята в одинаковых коротких фраках. Меня отбросили к стене, к горлу прижалось холодное дуло пистолета…
– Не двигаться, сволочь!
Привычные к подобной работе руки шарили по карманам. Кто-то развернул гражданское свидетельство, поднес к свету. Послышался удивленный свист:
– Та-ак… Секция 10 Августа, Франсуа Ксавье… Гляди, сам Амару расписался! Ну, ловкачи!
– Ищите дальше, – посоветовал я. – Во внутреннем кармане.
Растерянность прошла. Только теперь я начал понимать, что так и должно было случиться. Если бы я догадался раньше!..
На этот раз обошлось без свиста. Руки, державшие меня, разжались.
– Мы… Мы извиняемся, гражданин Шалье! Нас не предупредили!..
Теперь на их сытых физиономиях был страх. Шакалы посмели схватить волка. Ну что ж…
– Я от Вадье. Докладывайте!
Парни переглянулись. Тот, кто встретил меня в дверях, почесал затылок.
– Ну… Мы все уже написали. В квартире устроена «мышеловка», за весь день никого не было. Вы – первый…
Пояснений не требовалось. Я кивнул:
– Гражданин Вадье недоволен. Почему арестованная не в Сен-Пелажи? Что за самодеятельность?!
Сен-Пелажи – первое, что пришло в голову. В Париже сейчас два десятка тюрем.
– Но… – щекастый совсем растерялся. – Был приказ! Только в Консьержери! Как особо опасную! Я… Я покажу…
Консьержери – Прихожая Смерти. Сердце дрогнуло…
– Не надо… Мне фиакр – быстро!
Можно было заехать к Вильбоа, к Камиллу, даже к Титану. Но я понимал – бесполезно. Из Прихожей не выпускают.
Огромный коридор, шириной с целую улицу. Большую улицу, куда трудно попасть, но еще труднее – выбраться. Даже мое удостоверение помогло не сразу. Пришлось звать начальника караула, писать заявление. К счастью, Юлия была не в секретной камере, куда доступ закрыт даже людям из Комитета безопасности, не имеющим отношения к расследованию. Арестованную за контрреволюционную деятельность бывшую дворянку Юлию Тома определили в общую камеру. Как мне объяснили – прямо по коридору, затем налево…
Вокруг были решетки – толстые, с человеческую руку, за ними – еще один коридор. Гуманные революционные законы позволяли гулять между стеной камеры и решеткой. Редкие посетители могли пообщаться через стальные прутья, даже пожать руку. Впрочем, такое едва ли позволялось – тюремщики стояли у каждой камеры.
Я шел, не оглядываясь. Вокруг негромко переговаривались люди – много людей: мужчины, женщины, дети. На миг показалось, что я – в огромном сыром склепе, а вокруг – призраки, несчастные души, не нашедшие покоя…
– Франсуа?
Я вздрогнул – Юлия стояла у решетки. Оказывается, я уже прошел почти весь коридор.
Ее лицо было белым как мел. Как те, другие, лица, которые я видел в старой часовне.
– Нет, вы все-таки сумасшедший, Франсуа Ксавье! – Бледные губы на миг сложились в подобие усмешки. – Вы что, в самом деле вообразили себя Дон Кихотом?
Хотелось спросить о чем-то обычном, может, даже поговорить о Рыцаре печального образа, но я понимал – времени мало.
– Юлия, в чем вас обвиняют? Если можно, поточнее…
– Теперь вы напоминаете прозектора, гражданин Люсон! – Юлия сняла очки и устало провела рукой по лицу. – Диагноз отвратительный – тюремный заговор. Попытка организовать побег группе особо опасных врагов народа…
– Но почему? – не выдержал я. – Какое отношение…
– Еще не поняли? – Ее лицо помертвело. – Я ходила сюда на свидания с гражданином д'Энвалем. Он дал показания…
– Нет… – Мне показалось, что я вижу сон – жуткий, невероятный. – Д'Энваль дал показания… на вас?!
– Все как в той пьесе, Франсуа Ксавье! Над бедной горничной надругались, а потом решили повесить… Знаете, я не могу обвинять Альфонса – даже сейчас. Я его видела – это какой-то другой человек. Наверно, его пытали…
Я вспомнил сожаления Великого Инквизитора о дыбе, но не стал ничего говорить. Пусть бедная девочка думает, что ее жениха сломала боль, а не обыкновенный страх. Страх, превращающий рыцаря в каннибала…
– Хорошо, что вы пришли, Франсуа! Боюсь, Альфонс рассказал не только обо мне. Надо предупредить Шарля. А вы… Спасибо за все – и прощайте! Жаль, что я не успела затащить вас к доктору д'Аллону, но к нему вы пойдете сами. Это мое завещание, Франсуа Ксавье.
Она улыбалась, и я постарался улыбнуться в ответ.
– Завещание? Сходить к врачу?
– Да, – кивнула она уже безо всякой улыбки. – И жить долго – за меня, за всех, кто попал сюда. Переживите этих убийц, Франсуа! Кто-то же должен выжить!
Слова показались внезапно знакомыми. «Кто-то из нас должен выжить, Франсуа! Назло им! Назло этим убийцам…»
– Юлия… – Я помолчал, пытаясь найти верные слова. – Они не всесильны! Есть Тот, перед Кем их могущество – ничто! Он оставил меня и, наверно, был прав. Но вы… Я сделаю, что смогу. Надейтесь!
– Бога нет, Франсуа Ксавье, – девушка устало вздохнула. – Я не могу надеяться даже на вас, хотя вы и вправду похожи на заблудившегося Дон Кихота. Здесь, в Консьержери, ни для кого нет надежды. И прошу вас, не говорите ни с кем из этих негодяев. Особенно с ним…
Я понял. С ним – с тем, кто обещал спасти ее жениха.
– Мне незачем их просить, Юлия. Просто кое-кого я возьму за глотку. Во всяком случае, попытаюсь.
Она покачала головой:
– Не вздумайте! Я не хотела называть его имя, но… Дайте слово, что не вызовете его на дуэль. Поверьте, этот мерзавец не оценит вашего благородства.
– Даю, – охотно согласился я. – Я убью его как-нибудь иначе.
– Нет, ни в коем случае! Просто предупредите Шарля. И гражданина Демулена тоже. Его зовут Эро де Сешель, он член Комитета общественного спасения.
Эро де Сешель, потомок Лотаря, предавший свой славный род… Эро де Сешель! А я еще сомневался!..
– Бог есть, Юлия! И вы это только что доказали. Теперь мне будет легче… Не буду прощаться.
– Нет! – Девушка на миг закрыла глаза, затем медленно подняла голову. Наши взгляды встретились. – Прощайте, Франсуа! Если вы верите в своего Бога, помолитесь за меня. За меня… и за Альфонса. Да поможет вам Он, как вы пытались помочь мне! И не смейте больше приходить сюда, камеры и так переполнены… Постойте! Глаза! Господи, что у вас с глазами?!
Она увидела! Здесь, на пороге смерти, она все-таки увидела…
Я поклонился и, не отвечая, пошел обратно по широкому гулкому коридору. Кажется, Юлия звала меня, но я не стал оборачиваться. Ни к чему! Зачем ей еще и мои заботы, тем более ни она, ни Шарль со своими древними преданиями не смогут мне помочь. Как и я сам. Как и Тот, Кто не пустил меня на близкое серое небо…
Я шел мимо стальных решеток, слышал тихие голоса, и мне вновь показалось, что я – в Царстве Мертвых, в Дантовом аду, где души погибших ждут последнего Суда. Разве что от хвостатого Миноса легче дождаться пощады, чем от гражданина Фукье-Тенвиля…
Уже возле самого выхода пришлось остановиться. Двое тюремщиков оттеснили меня в сторону, жестом велев обождать. Кого-то вели по коридору. Двое с мушкетами впереди, еще двое – сзади. Я невольно обернулся. Женщина – высокая, худая, на бледном лице – большие темные глаза. Усталый равнодушный взгляд скользнул по мне – легко, не узнавая. Но этот взгляд швырнул меня назад, на стальные решетки, я закрыл глаза, сцепив зубы, чтобы не закричать. Я знал ее! Я помнил! Помнил!..
«…Прошу знакомиться, Франсуа! Андриена – мой лучший друг, жена, а также – великомученица». Жильбер де Ла Файет усмехается, я тоже улыбаюсь, женщина качает головой и протягивает тонкую руку в белой перчатке. «Не кощунствуйте, Жильбер! Я просто ваша жена… Рада с вами познакомиться, маркиз!» Позади – Америка, долгое плавание на фрегате «Альянс», мы с Жильбером в его замке Шаваньяк в самом сердце Оверни, где в домах широкие окна, где веселые смелые люди не боятся сквозняков и пьют терпкий грапп…
Я отвернулся. Стыд жег горло. Андриена де Ноайль маркиза де Ла Файет прошла мимо, не узнав того, кого принимала в своем доме, кому жала руку, – меня, Франсуа Ксавье Оноре Жана Пьера Батиста дю Люсона, двенадцатого маркиза де Руаньяк, главнокомандующего армии Святого Сердца. Безжалостного мстителя, убийцу и – неправедного судью, приговорившего своего друга к смерти. Друга, с которым мы вместе окружали проклятых англичан под Йорктауном, пили ром на флагманском корабле адмирала де Грасса, а потом вели переговоры с высоким широкоплечим человеком, неловко носившим старый полковничий мундир времен Семилетней войны. Генерал Вашингтон, еще не ставший Его Высочеством Мощью и Силой, Президентом США и протектором их свобод, был очень заинтересован в военной помощи Королевства Французского…
Я догадывался! Я почти догадался, когда увидел страх в глазах Пьера Леметра. Поэтому так и не решился спросить о себе…
Приближался вечер, и я понял, что не застану Великого Инквизитора дома. Впрочем, найти его было просто. Всесильные комитеты гнездились в правом крыле Тюильри, и окна кабинета гражданина Вадье выходили как раз на сквер, возле которого лейтенант Дюкло строил свою роту.
Меня пропустили сразу. На якобинском Вольтере был знакомый черный парик, смотревшийся вкупе с темной мантией несколько странно. Всесильный глава Комитета безопасности внезапно напомнил мне провинциального нотариуса.
Вадье был не один. В углу верхом на стуле пристроился чернявый Амару, а возле окна стоял кривоногий коротышка в густо напудренном парике. Увидев меня, он дернул длинным носом, широко раскрыл рот и внезапно попятился.
– Слава Республике, граждане! – сообщил я, без спросу усаживаясь в кресло как раз напротив Великого Инквизитора.
– Слава! – вздохнул Вадье. – Прошу знакомиться…
– Да мы, кажется, знакомы, – я смерил взглядом коротышку, поспешившего захлопнуть рот и нахмуриться. – Гражданин… Шовелен, если я не ошибаюсь?
– Это он! Он! Он!!! – коротышка подпрыгнул и внезапно ухватил себя за нос – не иначе от избытка чувств. – Стража! Скорее зовите стражу!
– Помилуйте, зачем? – Вадье переглянулся с чернявым, тот пожал плечами. – Мы с маркизом де Руаньяком прекрасно потолкуем без всякой стражи.
– Охотно! – улыбнулся я. – Господин Вадье, мне нужны четыре приказа на освобождение из Консьержери. Со всеми подписями, но чистые – без имен.
Великий Инквизитор кивнул.
– Взамен, дорогой маркиз?
– Имя. В течение трех дней. С вами свяжутся…
– Он… Он! Не верьте! – вновь возопил гражданин Шовелен. – У него кинжал… Пистолет… Мушкет…
Великий Инквизитор бросил беглый взгляд на Амару. Чернявый понял все без слов. Минута – и схваченный за шиворот гражданин Шовелен с воплями вылетел в коридор.
– Отменно. – На губах Инквизитора мелькнула истинно вольтеровская улыбка. – Дорогой маркиз! Назовите хотя бы одну причину, почему мы обязаны вам поверить…
– Две, – тут же отозвался я. – Шпион передал нам фальшивые сведения. Коронады Греноваля на самом деле вдвое мощнее, чем он сообщил. Мы – народ мстительный, господин Вадье. И кроме того, ваши разборки доставляют нам, верным слугам Его Величества, истинное наслаждение. Надеюсь скоро увидеть оба ваши комитета на площади Людовика XV. Простите, на площади Революции.
Комитетчики вновь переглянулись.
– Коронады Греноваля… – медленно проговорил Вадье. – Господин де Руаньяк, как вы думаете, «Лепелетье»… Это чудище… поплывет?
Он не шутил. Похоже, Вольтера в черном парике действительно интересовало мое мнение.
– Если этим занимался сам Гаспар Монж, – осторожно начал я, – то почему бы и нет?
Вадье покачал головой:
– Увы, я скептик. Машины Уатта… Не знаю, не знаю. Впрочем, мы это обсудим с вами за обедом. Надеюсь, вы не забыли об индейке?
Он порылся в монблане бумаг, заваливших стол, достал небольшую серую папку.
– Вот бланки. По всей форме, с номерами. С подписями хуже. Должны расписаться Шометт, Робеспьер и я. За мной задержки не будет…
– Вы не поняли, господин Вадье, – перебил я как можно мягче. – Мне нужны четыре бланка. Со всеми подписями. Со всеми! Понимаете?
Великий Инквизитор вздохнул, словно мольеровский Гарпагон, и протянул мне несколько листков со знакомым грифом «Единая, Неделимая».
– Здесь подписи Шометта и моя. Гражданин Робеспьер не подписывает пустые бланки. Можете, конечно, попытаться…
Спорить я не стал. Похоже, Вольтер говорил правду. Ну что ж, значит, для меня еще осталась работа…
– Удостоверение сдайте. – На губах Великого Инквизитора сияла самая очаровательная улыбка. – А то, знаете, неудобно как-то. Да и не выпустят вас отсюда…
Я достал страшный документ и положил на стол.
– Чудесно, чудесно… Кстати, мой коллега Шовелен очень беспокоится о здоровье национального агента Шалье…
– Пусть не беспокоится, – уверенно заявил я. – Этому мерзавцу здоровье уже ни к чему.
– Которому? – хмыкнул Амару, и мы дружно рассмеялись. Да, приятная собралась компания! Душевные люди граждане инквизиторы!
…Я не помнил, что именно случилось с Шалье. Но тот, кто иногда подсказывал мне, был уверен – предатель мертв. И убил его я – маркиз де Руаньяк. В тот яркий солнечный день, когда толпа собиралась на площадь и палачи уже пробовали на беззащитных овцах собранную с вечера гильотину…
– Думаю, горевать вы не будете, – добавил я, когда мы отсмеялись. – Шалье был двойным агентом. Похоже, деньги он получал не только в вашем Комитете.
Об этом я начал догадываться еще в дороге, когда изучил удостоверение. Лишняя, агенту его ранга не полагающаяся подпись, конечно, могла быть случайностью. Но появление Бархатной Маски поставило все на свои места.
– И еще одна мелочь, – заметил я самым наглым тоном. – По поводу денег. Мне их, кажется, обещали. Во всяком случае, жалованье национального агента я отработал честно.
Вадье кивнул чернявому, и тот протянул мне тяжелый сверток. Я взял каиново золото не колеблясь. Мне оно ни к чему, но если Юлию удастся выручить…
– Не забудьте про индейку, – услыхал я уже в дверях. – Приятно, знаете, побеседовать с умным человеком…
Я шел по улице – широкой красивой улице Сент-Оноре. Шел страшной дорогой, не имевшей конца. Консьержери, Сент-Оноре, площадь Революции, Вечность… В этот час улица уже опустела – сестры и братья мадам Вязальщицы разошлись по домам, обсуждая очередную «связку». Город Смерти, самое место для такого, как я. Я тоже не жалел пота на ее кровавой ниве. Маркиз де Руаньяк не щадил врагов. «Белые» убивали «синих», «синие» убивали «белых» – страшное колесо катилось дальше. До тех пор, пока в яркий солнечный день я не понял, что надо уйти…
Привратник приоткрыл дверь, но пускать меня не собирался. В этом доме не любили посторонних. Впрочем, маркиз де Руаньяк не был тут посторонним. Дом Дюпле – адрес, стоявший последним в моем списке. Я не стал ждать, пока плечистый парень достанет пистолет, оттягивавший карман ливреи, и попросил позвать гражданку Элизабет Дюпле.
– Вы? – Бархатная Маска растерянно улыбнулась. – Но… Мы же не договаривались!..
– Обстоятельства, мадемуазель, – улыбнулся я. – Доложите обо мне.
Сейчас на ней не было ни маски, ни роскошного наряда. Скромное серое платье, белоснежный чепец, передник. Такой и должна быть девушка из народа. Скромная девушка, достойная невеста Вождя Революции гражданина Максимилиана Робеспьера. Сам зеленолицый тоже присутствовал здесь – в виде мраморного бюста, презрительно щурившегося на незваного гостя. Я поглядел на каменную личину и, не удержавшись, подмигнул.
Второй этаж, широкая прихожая, и вновь гражданин Робеспьер – на этот раз в виде портрета. Над Неподкупным витала богиня Свободы с колосьями в руке, а под ногами корчился презренный Деспотизм в виде огромного рака. Вождь попирал рака желтым башмаком и пучил глаза.
– Сейчас доложу, – Элизабет мельком взглянула на огромные настенные часы. – Он, правда, работает. Завтра большая речь в Якобинском клубе…
Я развел руками, заранее сожалея о своей бесцеремонности. Мадемуазель Дюпле вздохнула и направилась к высокой белой двери, над которой висела ветка лавра. Вероятно, в этом доме любили остро приправленный суп. Вернувшись через минуту, она взяла из моих рук плащ, внимательно оглядела камзол, стряхнув невидимые пылинки, и одобрительно кивнула:
– Хорошо… Он не любит неопрятности. Имейте в виду, в кабинете только один стул – для него.
Я даже не улыбнулся. В этом доме не шутили. Здесь священнодействовали.
Несколько мгновений я постоял под лавром, затем усмехнулся, спрятал ненужные очки и толкнул дверь…
– Вы не находите, маркиз, что есть нечто страшное в священной любви к Отечеству?
Он стоял у огромного стола – маленький, в оливковом камзоле и кремовых кюлотах. Пышный белый галстук почти закрывал подбородок. Недвижное желто-зеленое лицо под густо напудренными волосами напоминало восковую маску.
Я не глядел на него. Мой взгляд не отрывался от окон – высоких, чисто вымытых. Там, за ними, была улица Сент-Оноре – дорога в Вечность…
– Ради Отечества мы готовы на все. На все, понимаете? Думаю, вы должны меня понять…
– Репетируете завтрашнюю речь, господин де Робеспьер? – хмыкнул я. Притворяться не было нужды. Он узнал меня, я – его.
Напудренная голова слегка дрогнула.
– Нет… С тех пор, как мне доложили, кто вы на самом деле, я постоянно думаю о любви к Отечеству. Здесь нет парадокса. Вы – один из самых страшных врагов Республики, маркиз. Но вы любите Отечество. Да, в этом есть что-то страшное…
– Разрешите присесть, – самым прозаическим тоном заметил я. – Не люблю говорить стоя.
Узкие плечи слегка дрогнули. Вождь Революции небрежным движением кивнул на стул – действительно, единственный в этом огромном кабинете.
– Прошу…
Я с удовольствием присел, закинул ногу на ногу и быстро осмотрелся. В углу стоял бюст – почти такой же, как внизу, но с трехцветной лентой. На стене три портрета – один другого крупнее и ярче. Зеленолицый был всюду – самодовольный, уверенный в себе. Лишь у дальней стены приютилось знакомое гипсовое изваяние с длинным носом. Лепелетье де Сен-Фаржо! Ну привязался!
– Час назад мне сообщили – генерал Дюгомье взял Тулон, – негромкий скрипучий голос звучал ровно и спокойно. – Все, что вы затеяли на юге, маркиз, провалилось. Тем не менее я выполнил, что обещал…
Да, выполнил. Иногда и Сатана держит слово. Полгода назад мы беседовали в этой же комнате…
– Я пропустил ваши отряды к Лиону, маркиз. Мы квиты.
– Еще бы! – усмехнулся я. – Этим вы отвлекли армию Святого Сердца от Парижа, а заодно сумели поставить вне закона бриссотинцев. Союз Бриссо и принца Конде! Хороший подарок для истинных якобинцев!
– У каждого – своя цель. – Узкие плечи дрогнули. – Вы думали, что удержите Лион. Я рассуждал по-другому. Как видите, вы проиграли. Или вам кажется, что парижские санкюлоты поднимут белый флаг?
Я не стал спорить. Жак Ножан все еще надеется на благоразумие Зеленой Рожи. Очевидно, напрасно…
– Итак, маркиз, прежде чем я отдам приказ о вашем аресте, позвольте узнать, чему обязан?
– У нас остались кое-какие дела, – охотно сообщил я. – Даже не дела. Так, делишки…
– Правда? – Восковая маска дрогнула. – Кстати, удовлетворите мое любопытство, маркиз. То, что Шалье мертв, я уж понял. А почему живы вы?
Жив? Что бы он сказал, сообщи я правду? Но зеленолицый имел в виду другое.
– В Лионе, на площади Биржи, был казнен мой брат – виконт Александр де Руаньяк. Мы были очень похожи…
«…Кто-то из нас должен выжить, Франсуа! Назло им! Назло этим убийцам!» Мы уходили разными дорогами, но Шалье, предатель Шалье, сумел предупредить «синих». Александр и виконт Пелисье, мой верный адъютант, попали в засаду…
– Неуловимый Руаньяк… – На неподвижном лице мелькнуло что-то, напоминающее улыбку. – Шалье мне сообщал. Неплохо придумано! Один Руаньяк атакует «синих» у Понт-де-Вель, другой защищает Старый Бастион у Роны. Впрочем, это уже неважно… Что вам надо?
– Мне? – удивился я. – Мне надо, чтобы во Франции воцарился Его Величество Людовик XVII. Ну и естественно, чтобы все убийцы и разбойники получили по заслугам.
Он невозмутимо кивнул.
– Боюсь, ничем не могу помочь, маркиз!
– Да ну? – удивился я. – В самом деле? Полгода назад вы открыли фронт для моих отрядов. Почему бы не попробовать снова?
– Не вижу смысла.
Внешне он был абсолютно спокоен – как восковая фигура, как мраморный бюст. Но я чувствовал – зеленолицый волнуется. Воскресший из мертвых де Руаньяк не придет с пустыми руками.
– Смысл есть, господин де Робеспьер. Армия Святого Сердца разбита, Вандея блокирована, Тулон взят, а заодно уничтожены все друзья господина Бриссо. Но в банке еще много пауков. Есть Эбер, есть Дантон, есть Шометт. Есть предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо…
– Ложные друзья Отечества погибнут! – Тонкие губы улыбались. – Добродетель восторжествует на их гробах!
Я вздохнул, вспомнив Титана. Да, без добродетели здесь не делают и шага!
– Вероятнее всего, погибнут, господин де Робеспьер. Но при условии, что вы останетесь у власти. А для этого нужно отложить введение новой конституции, усилить террор, передушить всех несогласных…
Восковая маска вновь казалась неподвижной. Было даже непонятно, слушает ли он. Но я знал – слушает. И очень внимательно.
– Беда лишь в том, что ваши войска слишком быстро наступают. Скоро все – даже истинные якобинцы – перестанут понимать, зачем Франции такое правительство. Поверьте, «национальная бритва» пугает не только роялистов…
– К чему вы ведете? – хриплый голос дрогнул.
Я вновь улыбнулся:
– Да к тому, что в ваших интересах, господин де Робеспьер, чтобы «синие» наступали чуток помедленнее. Побед поменьше, трудностей побольше. А за это время вы разберетесь со всем вашим зверинцем. Какой срок вы наметили? Полгода? Год?
Я полез в карман, не без удовольствия заметив, как Вождь Революции начал быстро смещаться к ближайшей портьере. Наверно, Зеленая Рожа решил, что его ждет судьба гражданина Марата.
– Прошу…
Листок, исписанный аккуратным женским почерком – тем, которым следует писать любовные эпистолы, а не переписывать секретные протоколы…
Его рука скользнула в карман. На этот раз вздрогнул я – по привычке. Загнанный в угол скорпион жалит. Но из кармана были извлечены очки в простой железной оправе. Очки долго водружались на нос, затем рука нерешительно взяла бумагу…
– Ну и что?
Внезапно мне стало весело.
– Именно это и спросит у вас гражданин Вадье. Предатели ищут предателя – не забыли, надеюсь? Признаться, пришлось померзнуть, прежде чем я встретил мадемуазель Дюпле у дома Леметра. Кстати, из нее может получиться очень хороший агент. Ваша невеста не виновата, что вместо Шалье ей пришлось общаться со мной. Итак, этот листок… Думаю, почерк вашей невесты достаточно известен в Комитете общественной безопасности…
Он молчал, и я внезапно понял – зеленолицый что-то задумал. Он боится Вадье. Но ворон ворону глаз не выклюет. Мало ли что можно предложить Великому Инквизитору?
– Но этот листок не один, господин де Робеспьер! Его я с удовольствием оставляю вам. Есть еще два. Если мы не договоримся, один передадут Вадье, а второй…
Я специально затянул паузу. Бледные губы дрогнули.
– Дантону?
Ему было смешно. Титан слишком велик, чтобы копаться в этой мерзости.
– Нет! Эберу. Вы его почти уже загнали на эшафот, так что терять «Отцу Дюшену» нечего. Думаю, он тут же напечатает все это в газете, а заодно сообщит Шометту.
Я никому ничего не передавал. Оба листка лежали в кармане, но я не особо рисковал. Зеленая Рожа – слишком прожженный игрок, чтобы допустить такое.
Зеленоватые веки дрогнули. На какой-то миг исчезла маска, и на меня глянули горящие бешенством глаза.
– Вы не только убийца, маркиз де Руаньяк! Вы еще и мелкий шантажист!
– Поистине есть что-то страшное в священной любви к Отечеству, – согласился я. – По крайней мере, это честнее, чем посылать собственных солдат на смерть ради победы над Эбером. Увы, боюсь, добродетель под галльским небом восторжествует еще не скоро.
Мы смотрели друг на друга, понимая, что вопрос решен. Лицо вновь стало маской. Наконец узкие плечи дернулись.
– Кого вы отдадите Вадье? Барера или Эро де Сешеля?
Этот человек умел считать. Зеленый король получил шах, и теперь надо жертвовать фигуру.
– Скоро узнаете, – пообещал я, чувствуя омерзение. Леметр и Поммеле приговорили Сешеля к смерти, но для них он – предатель и негодяй. Этот же смотрит на человека, как на деревяшку, которую подставляют под вражеского ферзя.
– Хорошо. Чего вы хотите?
– Всего лишь ваш автограф, – улыбнулся я. – На память…
– Давайте бумаги.
Он подошел к невысокой конторке и долго разглядывал бланки. Внезапно я почувствовал беспокойство. Приказы номерные, четыре цифры ничего не стоит запомнить…
Маленькая холеная рука небрежно взялась за перо.
– Кого вы думаете освободить?
Отвечать я не собирался, но понял – скрывать не имеет смысла. Он все равно узнает.
– Андриену де Ноайль маркизу де Ла Файет…
Это все, что я мог сделать для Жильбера. Для моего друга, приговоренного к смерти и «белыми», и «синими», брошенного в каземат австрийской крепости, преданного и обреченного.
Рука, державшая перо, остановилась.
– Этого не могу даже я. Освободить маркизу Ла Файет не может даже Конвент. Это все равно что освободить Марию-Антуанетту. Ла Файет – враг номер один. Мне жаль эту женщину, но…
Он говорил правду. В его силах сотворить любое зло – но не добро. Добро в Дантовом аду не может творить даже Сатана.
Я молчал, чувствуя непреодолимое искушение – повернуться, уйти – и бросить эту напудренную зеленолицую куклу под нож гильотины. Когда этого карлика повезут мимо чисто вымытых окон дома Дюпле, ему тоже никто не сможет помочь. Ни его проклятый Конвент, ни даже Господь Бог…
Кажется, он понял. На миг я заметил в его взгляде что-то человеческое.
– Могу пообещать только одно – маркиза де Ла Файет не погибнет. И дело не в ваших угрозах, маркиз. Она – гражданка США, за нее просит Джордж Вашингтон. Америка – наш единственный союзник в мире. Я договорился с Вадье – мы постараемся не отдавать ее Тенвилю…
Я вспомнил высокого сутуловатого человека в старом полковничьем мундире. Президент Вашингтон не бросил друзей в беде…
– Хорошо, – вздохнул я. – Как только мадам Андриена будет отдана под Трибунал, наше соглашение теряет силу. Вы умрете вместе…
Зеленоватый воск на миг ожил. Глаза яростно сверкнули.
– Я презираю ваши угрозы, господин маркиз! Если я иду на уступки, то не ради жизни, а ради Франции! Я нужен моей стране. То, что делается, – делается ради Отечества!
Кажется, он и сам верил этому. По крайней мере, сейчас. Спорить я не стал – к чему?
– Подпишите приказ на освобождение гражданки Юлии Тома…
Перо скользнуло по бумаге. Зеленолицый склонил голову, перечитывая написанное.
– Тома… Ваша любовница?
Теперь в его голосе звучало презрение. Я хмыкнул:
– Юлия Тома – мой лучший агент. И не дай господь, вы ее еще раз попробуете тронуть!
Зеленолицый не ответил, но стало ясно – он понял. По крайней мере несколько дней Юлии ничего не будет грозить…
– Остальные приказы – тоже. Имена я впишу сам.
Рука с пером помедлила, а затем быстро заскользила по бумаге. Радоваться было рано – он, конечно, запомнил номера приказов. Но все-таки это какой-то шанс…
– Приятно было потолковать, господин де Робеспьер! – я спрятал бумаги и усмехнулся. – Обожаю беседовать о любви к Отечеству!
Он не ответил и отвернулся. Впрочем, я не собирался злоупотреблять гостеприимством.
– Слава Республике, гражданин! Желаю удачно выступить на вашем синедрионе!
Я был уже в дверях, когда из угла послышалось негромкое:
– Я думал, вы спросите о своей семье, маркиз…
Я замер, еще не понимая, и вдруг почувствовал, как пол уходит из-под ног. Семья? Моя семья? Господи! «Синий циферблат»! «Вы поклялись, Франсуа! Помните, вы поклялись!..»
Все-таки я удержался и даже смог повернуться, но вместо комнаты передо мной плавали клочья серого тумана.
– Вы очень неблагодарный человек, маркиз де Руаньяк, – хриплый каркающий голос звучал глухо, с трудом пробиваясь сквозь серую мглу. – Я мог бы отправить вашу жену и ваших дочерей на гильотину. Вы, я вижу, не оценили…
«…Вы поклялись, Франсуа! Помните, вы поклялись! Вы не бросите меня в этом проклятом городе…»
Отвечать не было сил. «Синий циферблат»… «Синий циферблат»…
«…Вам нечего бояться, Жанна. Господин Молье – наш друг. Поверьте, вы в полной безопасности!»
«А вы, Франсуа? Девочкам нужен отец! Живой отец – а не мертвый герой!»
«Я вернусь, Жанна! Я поклялся. Вы знаете – я никогда не нарушу клятвы…»
– Вы ждете благодарности? – крикнул я серому туману. – За что? За то, что не убили их?
– Хотя бы за это, маркиз, – голос прозвучал совсем тихо, еле слышно. – На Комитете уже рассматривали вопрос об их аресте…
Туман исчез. Маленький человек с неподвижным желто-зеленым лицом стоял совсем близко. Я глубоко вздохнул и заставил себя взглянуть ему прямо в глаза.
– Ну что же, господин де Робеспьер, спасибо! Спасибо, что не убили их. Наверно, удержаться было очень трудно…
Я поклонился и закрыл за собой высокую белую дверь. Теперь надо было пройти коридором, спуститься по лестнице, выйти из проклятого дома… Не упасть, не дать серому туману вернуться…
Я забыл их лица. Я не помнил имена дочерей. Клятва! Все, что осталось у меня. Я поклялся, что вернусь, не брошу их! «Синий циферблат», папаша Молье… Когда это было? Полгода назад? Год? В тот миг, на шумной площади в Лионе, когда треугольный нож обрушился вниз, убив моего брата, я забыл обо всем и решил уйти – на голую плешь равнины Бротто, безымянным, неузнанным. Надо было остановить проклятое колесо. Маркиз де Руаньяк, главнокомандующий армии Святого Сердца, стал дезертиром – дезертиром, который уже не мог убивать.
Но клятва не пустила меня на близкое серое небо, бросив вниз, на холодную землю. Лионская дорога, ряды черных деревьев, «синие» каратели, добивающие раненых… Я не смог уйти, и мой призрак унесло осенним ветром в этот страшный город, в Дантов ад, где я не могу найти покоя…
Странно, но я все еще жил – непонятной жизнью, дарованной таким, как я. Под ногами были серые камни тротуара, и улица Сент-Оноре, дорога в Вечность, несла меня вперед, по вечернему Парижу, мимо домов с закрытыми ставнями, мимо патрулей в синих шинелях. Я жил. Я оставался здесь, на проклятой земле, где меня все еще ждали дела. Надо найти фиакр, вспомнить адрес Вильбоа – и не забыть сделать лишний круг, чтобы не привести за собой вездесущих ищеек. Мне нечего бояться, но я не один. В этом мире все еще оставались люди, которым я мог доверять и которые доверяли мне…
Вильбоа, ничего не спрашивая, отвел меня в комнату, усадил в кресло. Я не слышал его голоса и, только когда возле моих губ появилась кружка с водой, нашел в себе силы расцепить зубы.
– Сейчас… Еще минуту…
Наконец все вернулось. Знакомая комната, встревоженное лицо Шарля, вечерний свет за окнами. Кажется, Вильбоа что-то говорит о враче…
– Не стоит, – я наконец-то смог улыбнуться. – Вот, читайте…
Рука, которой я доставал бумагу, не дрожала, и я окончательно пришел в себя. По крайней мере это дело я довел до конца.
– Господи! Как же… – Изумленный взгляд быстро скользнул по страшным подписям. – Как… Как вам удалось?
– Вовремя вспомнил заклятье, Шарль! Оказывается, Сатана тоже не всемогущ… Шарль, Юлию надо освободить сейчас же. И немедленно спрятать. Я дам вам адрес одного человека, его зовут Пьер Леметр. Вот деньги…
Тяжелый сверток – каиново золото. Жаль, что я не потребовал целый мешок. Каждый луидор – чей-то лишний шанс спастить в этом аду…
Вильбоа долго молчал, затем кивнул и решительно встал.
– Еду. Вы останетесь здесь. Вас ищут?
Я вспомнил желто-зеленую личину. Нет, этот меня искать не станет. Но есть еще Великий Инквизитор, мечтающий угостить меня индейкой…
– Вы правы, Шарль. Меня ищут. Поэтому я дождусь вас с Юлией, отвезу ее к Леметру и уйду.
Леметру я отдам оставшиеся бланки. Три приказа – еще три жизни..
Вильбоа покачал головой.
– Сначала я уложу вас в постель. И не вздумайте спорить! С вашим видом…
Он хотел еще что-то добавить, вероятно, о том, что с моим видом мне требуется уже не врач, а прозектор, но тут дверь в соседнюю комнату приоткрылась. Юный джентльмен в аккуратном костюмчике, коротко стриженный и вымытый до ослепительной белизны, стоял на пороге, удивленно глядя на нас.
– Гражданин Люсон? Да чего это с вами?
На миг я потерял дар речи, затем хмыкнул:
– Кукареку, гражданин Огрызок! По-моему, меня зовут «гражданин Деревня»!
– Филипп, побудьте с ним! – Вильбоа озабоченно покачал головой. – В шкафчике на кухне есть английская соль, а если что, бегите на второй этаж. Там живет доктор Мариньяк…
Юный джентльмен кивнул и решительно направился ко мне. На лоб легла маленькая теплая ладошка.
– Не, не горячка! Вы езжайте, гражданин Вильбоа. Я присмотрю…
Шарль кивнул, быстро огляделся и вышел из комнаты. Хлопнула дверь.
– Это от погоды, – авторитетно заявил господин Филипп дю Огрызок де Тардье. – Сейчас как раз «еретик» дует. Самая погода, чтобы хворать. Да не двигайтесь вы, гражданин Деревня, вечно вы бегаете, словно за вами собаки гонятся!
Я виновато развел руками.
– И грабалками не машите! Не мельница!
– Сам ты мельница! – я вспомнил ночную набережную и юного оборванца, размахивавшего руками. – Ну что, орел? Устроился на работу?
– Сами вы орел! Орел, гражданин Деревня, птица вредная, потому как хищная. При типографии я – гражданин Вильбоа пристроил. А вам за моих сопляков спасибо. Был я вчера в Сен-Марсо. Ничего, живые! Бегают даже…
– Ну и хорошо, – решил я и почувствовал, как замирает сердце. «Девочкам нужен отец! Живой отец – а не мертвый герой!» Мои дочери… Я даже не помнил их имен, не помнил лиц…
– Эй, эй! Вы чего? – донеслось до меня. – Такой здоровый дылда, и в обморок падать! Вы, гражданин Деревня, это бросьте! Лучше скажите наконец, даете мне три ливра – или нет!
Мальчонка не шутил. Его глаза смотрели серьезно, он ждал. Чего? Три ливра? Но почему именно три ливра?
Рука скользнула в карман. От моих гиней вкупе с ассигнатами не осталось почти ничего. Несколько денье, две бумажки по десять ливров. И – монета, знакомая монета, которую я никак не мог сбыть с рук.
…Новенькое блестящее серебро. «Республика Единая и Неделимая». Крылатый Гений со стилосом, маленький галльский петух, буква «А», год – «1793», и ровные четкие буквы – «Три ливра». Несколько раз я пытался расплатиться, но даже уличные торговки не брали ее – край был испорчен, чьи-то руки вырезали в серебре аккуратный треугольник. Кому-то понадобилось превратить новенькую монету в нечто бесполезное. Или наоборот! Три ливра! Господи! О чем же я думал!
– Эти? – Моя ладонь дрогнула, и маленькая лапка ловко подхватила серебряный кружок. Послышался удовлетворенный свист.
– Они, понятно! Вспомнили-таки, гражданин Деревня! Я-то вас сразу признал, как только вы про «Синий циферблат» спросили. А вы чего, не верили мне, что ли?
– Извини, малыш, – вздохнул я. – Даже не знаю…
– Оно и видно! И нечего меня малышом называть! Небось папаша Молье мне верил! Как раз перед арестом он мне все рассказал – и про монету, и про вас. Мол, придете, покажете три ливра…
– Погоди! – изумился я. – Да за кого ты, в конце концов? За «синих» или за «белых»?
Паренек мрачно насупился:
– Вечно вы глупые вопросы задаете, гражданин Деревня! Я, если вам так интересно, не за «белых» и не за «синих». «Синие», гражданин Деревня, только вначале хорошими были. А теперь они нас на гильотину таскать стали. Папаша Молье мне как отец был! Он чего, «аристо», что ли? Так что я, чтоб вы знали, за «красных». За таких, как гражданин Ножан. Вот с «аристо» разберемся и возьмем буржуев за жабры! Всех их, гадов, – под корень!..
Можно было посмеяться, глядя на свирепого санкюлота, но я вдруг понял – на меня смотрит будущее. Маленькое худое будущее с выбитым передним зубом. Мальчик вырастет, вырастут его «сопляки», и колесо покатится дальше. Они не забудут и не простят – ни голода, ни холодных ночей под осенним небом, ни раннего сиротства. И над Парижем, над городом Смерти, поднимется красное знамя – кровавый флаг всеобщей мести…
– Под корень, – повторил я. – И Шарля тоже? И Демулена? И Дантона? Всех, кто носит камзолы и кюлоты, так?
– Глупости говорите! – отрезал Огрызок. – Это у вас, гражданин Деревня, от болезни! Ничего-то вы в классовой борьбе не понимаете!
– В чем? – поразился я. – Где ты слов-то таких нахватался?
Ответить мне не соизволили. Худая лапка долго рылась в кармане курточки.
– Вот здоровья наберетесь, тогда я вас к гражданину Ножану сведу. Он вам, гражданин Деревня, все как есть пояснит. А пока вот вам! Читайте…
Я недоуменно поглядел на нечто, бывшее когда-то конвертом. Грязные пятна растеклись по бумаге, наползая друг на друга, край оборван…
– В куртку зашил, – несколько смущенно пояснил гражданин Тардье. – Ну вы мою куртку помните? Так что извините. Измялось чуток…
– Кто? – с трудом выговорил я, боясь прикоснуться к письму. – Передал… кто?
– Как – кто? Понятно, папаша Молье. Увидишь, говорит, его, то есть вас, три ливра получишь, с дыркой которые…
Я уже не слушал. Пальцы разорвали конверт. К счастью, писали свинцовым карандашом. От чернил давно осталось бы лишь грязное пятно…
…Все исчезло. Я видел лишь серую бумагу и неровные строчки, еле заметные, словно исчезающие. «Франсуа! Бог защитит вас, Франсуа…»
«Франсуа! Бог защитит вас, Франсуа! Сегодня в газете я прочла, что вы убиты. Не знаю, кому пишу – живому или мертвому, и кто я – ваша жена или вдова. Вы поклялись, что не бросите меня – меня и наших девочек. Они уже все понимают! Сегодня Луиза спросила: «Правда, что папа не вернется? Папа умер?» Что я ей могу ответить? Что?! Я уже устала молиться, Франсуа! Как Господь может вам помочь, если вы сами не хотите этого? Вы думаете о Франции, о Короле – но кто подумает о нас? Я знаю, вы сдержите клятву – даже если вас уже нет в живых. Но я не могу больше ждать. Вчера к нам приходили с обыском. Господин Молье советует немедленно уехать. Куда? В этом проклятом городе нет убежища для семьи маркиза де Руаньяка…»
Я закрыл глаза. Я слышал ее голос, ее крик. Ответить нечего – я бросил их, бросил средь Дантова ада. Что толку, если я все же вернулся? Поздно, поздно…
«Мой долг – остаться здесь и дождаться вас. Дождаться или погибнуть, ибо я поклялась быть с вами в горе и в радости, пока смерть не разлучит нас. Один Господь знает, не случилось ли это. Но я не верю, не смею верить в вашу смерть, муж мой, и знаю, что должна остаться. Но есть еще наши дочери. Вы знаете – «синие» не щадят даже детей…»
Да, я знал. «Синие» не щадят детей. Но кого щадили мы, солдаты Святого Сердца? Мы мстили врагу, они – защищали Единую и Неделимую. Классовая борьба, как выразился гражданин Тардье…
«…Поэтому я решила жить. Не ради себя – ради наших дочерей. Сегодня я получила американский паспорт и уезжаю в Бордо, чтобы отплыть в Бостон. Почему мы не сделали это вместе? Ведь вы кавалер ордена Цинцината, вас знает господин Вашингтон, мы могли уехать еще год назад! Но сейчас – поздно. Прощайте…»
Вот и все… Вот и все… То, что не давало сгинуть, исчезнуть навсегда, раствориться в сером тумане… Но письмо еще не дочитано…
«…Прощайте, и да пребудет с вами Господь, муж мой! Я никогда не лгала вам и не лгу сейчас. Одинокой женщине с детьми трудно уцелеть среди этого ужаса. Там, за океаном, мне не на кого будет опереться, и ради наших детей я согласилась сделать то, за что вы никогда меня не простите, и сама я тоже никогда себе не прощу. Я согласилась развестись с вами и принять предложение мистера Гарриса, негоцианта из Виргинии. Он сам взялся оформить нужные бумаги. Увы, законы нашей страны теперь позволяют даже это! Больше писать не могу. Прокляните меня, Франсуа, и, если вы живы, – живите долго! А если эти негодяи все-таки убили вас – найдите покой на Небесах, которого так не хватало нам с вами на этой проклятой земле. Люблю вас! Ваша Жанна де Руаньяк…»
Грязный измятый листок выскользнул из рук. Моей жене не в чем упрекнуть себя. И мистер Гаррис из Пенсильвании мог не трудиться, оформляя развод «гражданки Руаньяк». Она писала мертвецу – и мертвец получил письмо. Мы клялись быть вместе, пока смерть не разлучит нас. И нас разлучила смерть – смерть по имени Бротто. Но Жанна ошиблась – даже теперь я не могу найти покоя…
– Ну я пошел за доктором, – донесся откуда-то издалека детский голос. – Только вы, гражданин Деревня, без меня часом не помрите!.. Эй, эй! Бросьте! Вы чего?!
Я смог открыть глаза. Смог встать. Хватило сил щелкнуть перепуганного мальчишку по стриженому затылку.
– Пойду. Скажешь Шарлю, чтобы нашел Пьера Леметра. Он академик, живет на улице д'Орсе…
Я оглядел расплывавшуюся в глазах комнату и аккуратно положил на стол бланки приказов.
– Это – тоже Леметру. Улица д'Орсе, не забудь…
– Стойте! Стойте! – Худые ручонки вцепились, не отпуская, и мне пришлось найти силы, чтобы разжать их и погладить мальчишку по голове. Хорошо бы, чтоб он выжил. Выжил – и никогда не брал в руки мушкета. Ни под белым знаменем, ни под красным…
Полутьма подъезда внезапно сменилась угольной чернотой. Ничего не видя, я брел вниз по ступеням, спускаясь все ниже, и с каждой минутой сердце билось спокойнее, холод отпускал, легче становилось на душе. Мой путь подходил к концу. Там, за дверью…
Там, за дверью, вместо вечернего сумрака, прорезаемого тусклым светом масляных фонарей, в лицо мне ударил свет – безжалостный дневной свет, сорвавший последние покровы, милосердно наброшенные кем-то на мою окровавленную память. Я увидел огромную площадь, окруженную старинными домами. Черная толпа обступает высокий эшафот…
Черная толпа обступает высокий эшафот. Брат стоит у самого края в белом солдатском мундире, на котором алеет знак Святого Сердца. Он – последний, все остальные – и Жан Пелисье, и малыш Ри Шенон, и старый рубака капитан Гронемаль – уже мертвы. Толпа ревет, громко бьют барабаны, а кто-то в первом ряду что есть силы размахивает проклятым трехцветным флагом. Звери ликуют, воют от восторга. Еще бы! Сейчас на глазах у взбешенных нелюдей погибнет Руаньяк – тот, кто четыре месяца не пускал убийц в Лион, кто осмелился бросить вызов трехцветной чуме, кто грозил санкюлотскому Парижу…
Брат не смотрит по сторонам. Его глаза устремлены ввысь, в безоблачное небо. Александр спокоен, бледные губы еле заметно шевелятся – он верит, что Тот, Чье Сердце пламенеет на его мундире, не оставит раба Своего в страшный час. Он спокоен и потому, что знает – я жив, меня нет на эшафоте, и вскоре вся Франция – и друзья, и враги – услышат, что маркиз Руаньяк жив, жива армия Святого Сердца, и борьба, наша борьба, продолжается. «Кто-то из нас должен выжить, Франсуа! Назло им! Назло этим убийцам!» Точно так же полгода назад на эшафоте погибли наши отец и мать – не покорившиеся, не пожелавшие ползать на брюхе перед убийцами. Я смотрю на брата, и глаза мои сухи. Уже десять веков Руаньяки служат Франции. Наш пращур погиб при Азенкуре, дед сложил голову под Росбахом. Прощай, Александр! Я отомщу! За тебя. За всех…
Косой нож – серый, в темных пятнах крови – падает вниз. Над площадью стоит рев, но я не слышу ничего, ничего не вижу – кроме эшафота и пятен крови на темной стали. Вот и все… Надо уходить, благо во внутреннем кармане камзола лежит страшный документ, который я только что забрал у предателя и негодяя Шалье. Шалье тоже мертв, как и его безумный кузен, как мой брат, как Жан Пелисье, как тысячи и тысячи других. Но сотни тысяч, те, что еще не погибли, – разве их минует эта участь? Ведь я жив, сейчас я покину обреченный город, чтобы мстить – убивать, убивать, убивать, пока не будет брошен в канаву труп последнего «синего». И только тогда…
И только тогда… И вдруг я понимаю – конца не будет. Вырастут дети – те, кто не умрет с голоду, кого не убьем мы и не убьют они. Дети вырастут – и все начнется сначала. Кровавая волна поднимется до самых Небес, и те, последние, кому доведется погибнуть, проклянут нас, начавших это. И в этот миг, страшный миг прозрения, я понимаю, что должен уйти…
Еще не стихли вопли, толпа еще гудит, с трудом приходя в себя от радости, еще мечется над площадью трехцветный штандарт, когда я срываю треуголку с ненавистной кокардой и кричу – громко, чтобы слышали все – и живые, и мертвые: «Да здравствует Король! Да здравствует Король!..» Это – пароль, пропуск в Никуда, на черную плешь равнины Бротто, где Смерть откроет мне свое имя…
…Небо было серым и плоским. Оно находилось совсем рядом – только протяни руку. Но я знал – это мне не по силам. Я не мог двинуться, не мог даже закрыть глаза, чтобы очутиться в спасительной темноте. Все потеряло смысл перед беспощадной истиной, близкой и безликой, как эта неровная, шершавая небесная твердь.
Я умер.
Я умер давно и лежал на холодной осенней земле, пытаясь понять, чем согрешил перед Тем, Кто закрыл мне путь к покою – к тому, что заслужили мы все, и правые, и виноватые. Что не сделал я, Господи? Я выполнил все – и живой, и мертвый. И теперь мне нечего делать на этой проклятой земле! Остальное сделают те, кто остался. Шарль Вильбоа вырвет Юлию из Консьержери, Жак Ножан не даст пропасть «соплякам», и, может, Титан с изуродованным лицом все-таки спасет нашу несчастную страну. Даст бог, «синие», еще не потерявшие разум, сумеют найти общий язык с Поммеле и Леметром, чтобы не пустить в сердце Франции чужие войска и безумных мстителей из Кобленца. Но это они сделают без меня. Что я могу, мертвый?! Что же Тебе еще надо от меня, Господи?..
И тут серое небо дало трещину, и сквозь клубящуюся багровую мглу медленно, беззвучно проступил гипсовый лупоглазый лик в красном каторжном колпаке. Лепелетье де Сен-Фаржо скалился белым узким ртом, словно Сатана, выпущенный из самых глубин ада. Он был весел, мануфактурщик-цареубийца, он что-то знал, что-то видел. Мертвые глаза взглянули в упор – и небо померкло, сменившись дымящейся морской пучиной. Свинцовые волны уходили за горизонт…
Свинцовые волны уходили за горизонт. Белая пена почти касалась низких туч, мчавшихся над неспокойной хлябью, и черные силуэты кораблей, стоявших на мертвых якорях, казались отчаянным вызовом этой нечеловеческой мощи. Порывы ветра раздували флаги с двойным крестом. Человеческая стойкость, помноженная на опыт десятков поколений, была сильнее бури, сильнее волн, сильнее свинцовой пучины. Корабли словно презирали шторм, как презирали бессильного врага, которого они сторожили, словно охотничьи псы, обложившие берлогу.
Но вот пучина дрогнула. Замерли волны, в черные неподвижные точки превратились стаи чаек. Даже ветер стих, ужаснувшись тому, что медленно проступало на фоне серого сумрака. Тупорылый стальной нос рассекал волны. Глухие башни щетинились могучими коронадами, над нелепыми каминными трубами, словно над адскими котлами, стлался черный дым. «Лепелетье», чудовищное детище Единой и Неделимой, надвигался неотвратимо, словно сама Смерть. Беззвучно дрогнули стволы коронад – и над черными обреченными кораблями вспыхнуло низкое желтое пламя. Там гибли люди, смелые люди, бессильные противостоять стальному Вельзевулу. Корабли пылали, горело море, а коронады делали свою страшную работу – во имя Революции, во имя Республики, Единой и Неделимой. Левиафан шел вперед, непобедимый, не ведающий преград…
Но вот вновь содрогнулась пучина. Горизонт потемнел, по притихшему морю пробежала бессильная рябь. Громадная черная туша, покрытая сталью, ощетинившаяся чем-то, напоминающим толстые короткие стрелы, поднималась из самых глубин. Сила встретила силу. Смерть по имени «Лепелетье» породила другую Смерть, неведомую, но еще более грозную, еще более неотвратимую. И уже не так важно, чей флаг развевался на короткой уродливой мачте. Толстые стрелы дрогнули, готовясь к полету, и тут откуда-то сверху, из поднебесья, словно падающий Люцифер, рванулась к самой воде крылатая стальная тварь, оставляющая за собой белый шлейф адского пламени. Послышался резкий пронзительный свист, сменившийся утробным ревом…
Но вот все стихло – ненадолго, на какой-то миг. Мир словно замер в предчувствии чего-то невероятного, чему нет названия, нет имени. И вот над горизонтом, над серой гладью моря, беззвучно вспыхнуло Солнце – ослепительно-белое, холодное – Солнце Последнего Дня…
Я застонал, бессильный и беспомощный пред стальным ликом Армагеддона. Почему мы не остановили это? Неужели у Смерти мало дорог? Неужели то, чему мы свидетели, только начало, лишь слабая заря Часа Гибели?..
– Лежите, Франсуа! – Чья-то рука властно придавила мое плечо. – Лежите, вам говорят! Франсуа Ксавье, если вы не будете слушаться…
Я открыл глаза, и меня встретил яростный блеск знакомых стеклышек.
– В жизни не встречала более непослушных пациентов! Вы что, не понимаете? Вам категорически нельзя двигаться, вам…
– Юлия, – вздохнул я, еще не понимая, в каком из миров мы с ней встретились. – Юлия, оставьте меня! Я же умер! Неужели вы до сих пор не поняли?
– Так… – Девушка помолчала, затем решительно качнула головой. – В таком случае… В таком случае вы идиот, Франсуа Ксавье! Более того, вы клинический идиот, и я лично придушу вас, уничтожив собственную работу, если вы еще раз ляпнете такое!..
Ее кулачок оказался под самым моим носом, и я, ловко поймав его, поднес к губам.
– Не вздумайте! – Рука тут же вырвалась. – Вы… Недорезанный «аристо» с черепно-мозговой травмой…
Внезапно она всхлипнула, очки съехали на нос, и девушка отвернулась. Ее плечи дрожали, она плакала, словно обиженный ребенок, и я действительно почувствовал себя последним дураком. Они слепы, они все слепы! Только безумный священник да сестра Тереза смогли что-то увидеть. Господи, почему я еще здесь, почему меня не оставили в покое?..
Похоже, последние слова я произнес вслух. Гражданка Тома резко повернулась. Ее лицо в этот миг и в самом деле напоминало лицо ребенка – смертельно усталого, почти разуверившегося в том, что в мире есть хоть что-то хорошее.
– Да ну вас к черту, Франсуа! Стоило мне тратить на вас силы, стоило…
Она снова заплакала, и я наконец понял, что девушка все-таки жива, и мы оба по-прежнему на этой проклятой земле.
– Юлия, – прошептал я. – Спасибо…
Она вздрогнула, быстро наклонилась и, поцеловав меня в щеку, исчезла. Хлопнула дверь. Я привстал и огляделся – маленькая комнатка, низкий белый потолок, черное распятие в углу…
– С Новым годом, Франсуа!
Шарль Вильбоа сидел у моей кровати и улыбался. Я недоуменно взглянул в сторону окна – в глаза ударила снежная белизна.
– Как? – поразился я. – Когда?
– Позавчера. Сегодня третье января…
Я закрыл глаза, пытаясь понять. Третье января… Шарль мог бы заодно поздравить меня с днем рождения. Тридцать пять…
Что ж, и этот год кончился. Страшный год, от Рождества Христова 1793-й, от начала же Республики, Единой и Неделимой, Второй. Кончился фример, серые туманы сменились белыми снегами нивоза…
Я хотел спросить, где я и что со мной, но решил, что в мире есть кое-что более важное.
– Шарль, скажите… Все… Все живы?
Он ответил не сразу. Темные глаза стали серьезными.
– Я жив, Юлия, Камилл и Жорж тоже. И гражданин Робеспьер… И вы…[52]
Он не назвал д'Энваля, но я не решился переспрашивать.
– Честно говоря, Франсуа, мы уже не надеялись. Бедняжка Юлия просто с ума сходила…
– Надеялись? На что?! – не выдержал я. – Шарль, неужели вы не поняли? Я такой же, как те, что лежат там, в катакомбах! Неужели вам не ясно?..
Его лицо внезапно помертвело, как в тот вечер, когда мы впервые встретились.
– Не знаю, Франсуа. Я первым нашел вас… Вернее, не вас. Тот, кто лежал на улице у подъезда…
Он покачал головой, и я вновь не решился переспрашивать. Все и так слишком ясно…
– А потом, когда подошли другие, вы стали таким, как сейчас. И я не знаю, чему верить, Франсуа. Может, мне все привиделось?
Я не стал спорить. Мы понимали друг друга.
– Потом, пока вы были без сознания и Юлия пыталась вас вытащить с того света, я все время думал… И знаете, Франсуа, мне кажется, вы правы. Те, кого мы называем «дезертирами»… Все равно, кто они – потомки дэргов или просто люди… Это не случайность. Я не имею в виду вас…
Я улыбнулся, но Шарль вновь покачал головой.
– Юлия права – вы должны жить. Хотя бы для нее. Ведь если бы не вы… Если бы вас не пришлось буквально воскрешать, она бы не выдержала. И неудивительно! После всего… Д'Энваль… Я вам потом расскажу… Первые дни ей тоже казалось, что жить незачем – как и мне когда-то. Так что вот вам ответ по крайней мере на один вопрос – «зачем?». Все мы что-то еще не успели сделать.
– Нет! – не выдержал я. – Неправда! Я уже все сделал. Все!
– В самом деле? – Вильбоа усмехнулся. – В бреду вы все время говорили о каком-то корабле. Кажется, вы собирались его захватить. Вот уж не думал, что вы, Франсуа, флибустьер!
Я вздрогнул и невольно закрыл глаза. Серые волны, низкое свинцовое небо – и стальная Смерть, неотвратимо плывущая в клубах адского дыма. «Лепелетье» – корабль Армагеддона…
– Захватить? – неуверенно проговорил я. – Но это невозможно! Вы даже не представляете, что это такое! Даже если очень повезет…
Нет, в таком деле надеяться на везение не стоит. Смерть по имени «Лепелетье» не так просто обмануть. Хорошо бы для начала…
– Шарль, узнайте, пожалуйста, для чего применяются паровые машины Уатта.
Его глаза удивленно раскрылись, и я заспешил:
– На этом корабле очень странные трубы. Мне пришла в голову совершенно дикая мысль. Что, если…
Примечания
1
Рота названа именем Лепелетье де Сен-Фаржо, видного якобинца, убитого в январе 1793 года.
(обратно)2
Национальный агент – специальный уполномоченный Революционного правительства.
(обратно)3
Санкюлоты – не носящие кюлотов (штанов), голодранцы – революционеры из предместий, рабочие, а чаще – люмпены.
(обратно)4
Первое фримера. – В октябре 1793 года во Франции был введен новый, «революционный» календарь. Первое фримера – 21 ноября. Второй год Республики – сентябрь 1793 – сентябрь 1794 гг.
(обратно)5
В июне 1793 года в Лионе началось антиякобинское восстание, поддержанное отрядами роялистов («белых»). Восстание было подавлено в конце октября, после чего Конвент принял решение об уничтожении города Лиона. В ходе репрессий погибли тысячи людей.
(обратно)6
В 1793 году Революционное правительство установило «максимум» – максимальные цены на основные продукты питания.
(обратно)7
Шаретт и Рошжаклен – вожди шуанов, вандейских повстанцев.
(обратно)8
Шометт – прокурор Парижской Коммуны, якобинец, из студентов-недоучек.
(обратно)9
Фуше – якобинец, палач Лиона. В дальнейшем – министр Наполеона Бонапарта.
(обратно)10
Шалье – Мари Шалье, вождь лионских якобинцев. Казнен благодарными земляками. Вместе с Маратом и Лепелетье считался «мучеником Революции».
(обратно)11
Папелито – нечто среднее между сигарой и папиросой.
(обратно)12
Пресси – полковник, один из руководителей обороны Лиона.
(обратно)13
Эбер – журналист, якобинец, крайний «левак», руководитель Клуба кордельеров.
(обратно)14
Ин. 13,39.
(обратно)15
Биссетр – тюрьма в Париже, где содержали душевнобольных преступников.
(обратно)16
Себастьян Мерсье – ученый, составил подробное описание Франции.
(обратно)17
Ру – священник, вождь парижских рабочих. Арестован якобинцами, впоследствии покончил с собой в тюрьме.
(обратно)18
Фукье-Тенвиль – обвинитель Революционного трибунала, организатор политических процессов.
(обратно)19
Марка серебра – 50 ливров. Платившие налог не менее марки серебра имели право участвовать в выборах.
(обратно)20
Жак Боном – «Яшка Простак», то же самое, что Иванушка-дурачок или «простой советский человек».
(обратно)21
Бриссотинцы – более известны как жирондисты. Одна из революционных партий. В июне 1793 года бриссотинцы были отстранены от власти и объявлены «врагами народа». Их вожди, в том числе Бриссо, по имени которого названа партия, погибли на гильотине.
(обратно)22
Мерикур – дама «полусвета», известная революционерка. Была избита толпой санкюлотов, сошла с ума.
(обратно)23
Картуш – знаменитый французский разбойник. Де ла Мотт – авантюристка, участница дела о похищении ожерелья королевы.
(обратно)24
Макферсон – поэт, «нашел» рукописи средневекового барда Оссиана, оказавшиеся подделкой.
(обратно)25
Мари Шенье – поэт и драматург, брат знаменитого Андре Шенье.
(обратно)26
Демулен – якобинец, друг Дантона и Робеспьера, один из руководителей штурма Бастилии, известный журналист, имевший прозвище Прокурор Фонаря. В жизни – мягкий и добрый человек, чем-то похожий на Николая Бухарина.
(обратно)27
Тальен – якобинец, террорист, взяточник и редкий негодяй.
(обратно)28
Карно – великий математик, якобинец. В Комитете общественного спасения отвечал за военные вопросы. Имел прозвище Организатор Побед.
(обратно)29
Перевод Ю. Корнеева.
(обратно)30
Мирабо – видный революционер, оратор, публицист. «Марочников» не выдумывал, но действительно выступал за сохранение избирательного ценза.
(обратно)31
Быт. 6, 4.
(обратно)32
Казотт – писатель, автор готических романов, в том числе знаменитого «Влюбленного дьявола». Погиб на гильотине.
(обратно)33
Барбару, Петион, Ролан – лидеры бриссотинцев.
(обратно)34
Реаль – якобинец, заместитель прокурора Коммуны. В дальнейшем успешно сажал якобинцев при Наполеоне.
(обратно)35
Барбару командовал отрядом марсельских «федератов», участвовавших в августе 1792 года в штурме Тюильри.
(обратно)36
Сансон – парижский палач.
(обратно)37
Филипп Эгалите – принц Филипп Бурбон, герцог Орлеанский, брат Людовика XVI. Стал якобинцем, приняв фамилию Эгалите (Равенство). Голосовал за казнь брата. Впоследствии отправлен на гильотину.
(обратно)38
Старые кордельеры – так стали называть друзей Дантона после того, как Эбер возглавил «новый» Клуб кордельеров.
(обратно)39
Двор Чудес – район в Париже, где обитали люмпены, нечто вроде Марьиной Рощи.
(обратно)40
Маркиз Ла Файет был в плену у австрийцев.
(обратно)41
Луизетта – то же, что и «национальная бритва».
(обратно)42
Фейаны – сторонники конституционной монархии. Фейанами были Ла Файет, Мирабо, Байи.
(обратно)43
Лаперуз – маркиз, мореплаватель. В 1786 году отправился в кругосветное путешествие и пропал в Тихом океане.
(обратно)44
Закон Ле Шапелье запрещал рабочие организации и стачки.
(обратно)45
Сиейес – аббат, автор нашумевшей брошюры «Что такое Третье сословие?». Феноменальный трус, сумел пережить всех и умереть в своей постели в 1836 году.
(обратно)46
Первые слова брошюры «Что такое Третье сословие?».
(обратно)47
Пококуранте – Пресыщенный, персонаж романа Вольтера «Принцесса Вавилонская».
(обратно)48
Греноваль – генерал-артиллерист, известный конструктор.
(обратно)49
Гаспар Монж – математик, конструктор артиллерийских систем. В 1792–1793 гг. был морским министром.
(обратно)50
Вилкинсон – английский машиностроитель, создатель расточного станка, благодаря которому удалось значительно усовершенствовать паровую машину.
(обратно)51
Паоли – лидер корсиканских сепаратистов.
(обратно)52
Дантон и Демулен будут казнены в апреле 1794 года. Еще ранее, в марте, погибнут Эбер и Шометт. Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон будут гильотинированы в конце июля. Вадье умрет в изгнании столетним стариком. Эро де Сешеля осудят за «измену», имя же подлинного предателя в Комитете общественного спасения неизвестно и по сей день.
(обратно)




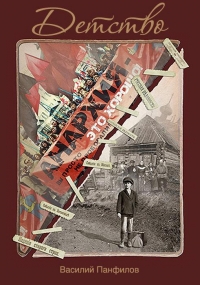

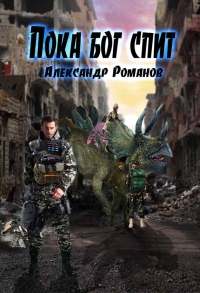


Комментарии к книге «Дезертир», Андрей Валентинов
Всего 0 комментариев