Карпущенко Сергей Возвращение Императора, Или Двадцать три Ступени вверх
Ступень первая АНГЕЛЫ СМЕРТИ И АНГЕЛЫ ЖИЗНИ
В этой просторной комнате, почти зале, было накурено так, что фигуры нескольких мужчин в гимнастерках, широченных галифе, в скрипучих портупеях, перетягивавших их крепкие, атлетические торсы, казались размытыми, похожими на хлебные мякиши, размоченные в воде. Было видно, что мужчины эти нервничают, и, чтобы успокоить разбушевавшуюся стихию нервов, то и дело сворачивают самокрутки, рассыпая дрожащими пальцами табак, торопливо слюня газетную бумагу, долго прикуривают от цигарки соседа, дабы соблюдалась экономия спичечного запаса, небогатого в силу военного времени. Другим успокоительным средством являлся для возбужденных мужчин самогон, что наполнял большую стеклянную бутыль, стоявшую в центре круглого стола. Несколько кусков черного, плохо выпеченного хлеба служили мужчинам закуской, о которой они, правда, забывали, то и дело выплескивая в свои стаканы мутноватую жидкость из общей бутылки. Но, казалось, ни курево, ни спиртное не успокаивали непокорные нервы тех, кто находился в зале. Мужчины то вскакивали из-за стола и принимались ходить по комнате, хватаясь за головы, заламывая руки, то вдруг бухались на стулья, стучали локтями о столешницу, раскачивались в разные стороны, точно мусульмане на молитве. Говорили они резко, рьяно спорили друг с другом, подпуская в разговоре матерую брань, оскорбляя один другого, будто были непримиримыми врагами.
— А я который раз говорю тебе, Саша, набитый ты дурак, что всех их нужно немедленно кокнуть, покуда город не заняли белые! — кричал осипший от спора член Уральского Совета Филипп Исаевич Голощекин, сорокадвухлетний мужчина, давно уже оторвавший верхнюю пуговицу своего кителя, потому что, будто задыхался, то и дело дергал воротник.
— Шая, да ты что такое говоришь? Ты хорошо ли подумал?! — вскакивал с места председатель Совета Александр Белобородов. — На нас хотят спихнуть это грязное дело, чтобы мы потом и оправдывались?
— Во-первых, я тебе никакой не Шая, а Филипп! — огрызался Голощекин, считавший, что его двадцатисемилетний начальник ещё не дозрел до того, чтобы командовать им, зрелым мужчиной и ветераном большевистской партии. Во-вторых, ты разве не получил инструкцию, согласно которой ты должен поступать так, как тебе предписано? Ты разве не знаешь, что не завтра, так послезавтра в Екатеринбург войдут белые, и тогда Романовы или окажутся в их руках, или тебе придется везти их отсюда, прятать в укромных местах, каждый час опасаясь того, что или конвой подведет, или Романовых отобьют те, кто хочет восстановления монархии?
— Да знаю обо всем об этом! — стонал Белобородов, хватаясь за голову. — Да только не могу же я решиться на расстрел царевича, царицы, великих княжон! Если бы в циркуляре так прямо и стояло: "Приказываю Уралсовету порешить всю царскую семью", я бы горя не знал, а то получается, что они мне только один намек дали, неясный, невнятный, и только мне одному потом расплачиваться за все придется!
— Да ты дубина стоеросовая, Саша, вот ты кто! — орал Голощекин, превращая свои толстые губы в куриную гузку. — Я сам ездил за инструкциями в Москву, где мне дали четкие руководства к действию — расстрелять семью Романовых — и баста! Какие такие намеки? Все ясно, как солнечный день!
Оправляя гимнастерку, из-за стола поднялся Яков Юровский, комиссар Екатеринбургской чрезвычайки. С солидной неторопливостью достал из галифе смятый листок бумаги, потряс им в воздухе и сказал:
— Ждать больше нельзя! Вот письмо Николая Романова, направлявшееся к белогвардейцам, как это можно судить по содержанию письма. Здесь Николай описывает расположение комнат в Ипатьевском доме, указывает точки, где стоят пулеметы, перечисляет состав караула. Такие письма зря не пишут. Если сегодня мы не разделаемся с Романовыми и окружением, то завтра монархисты их освободят и увезут в неизвестном направлении! Да и кого ты там жалеешь, Саша? Царских выродков? Не понимаешь разве, что если не кокнем всю эту сволочь, так завтра же под лозунгом борьбы за восстановление монархии соберутся миллионы! Им безразлично будет, за кого стоять: за царя ли, за царевича ли, или даже за девчонок, дочерей Николашки! Все это племя нужно извести на корню! Довольно поцарствовали, попили нашей крови! Сегодня же кончим угнетателей, иначе история нам не простит промашки!
— Правильно! Правильно! — раздалось сразу несколько голосов, а шустрый с виду, низенький Петр Войков спросил, обращаясь к Юровскому:
— Яша, а как ты их казнить собрался? Где? Или на поляну лесную вывезешь, а там и кокнешь?
— Зачем же на поляну? — нехорошо улыбнулся Юровский, почесав нос. Там, в "Доме особого назначения" и порешим. Есть у меня верные люди, которые врагов трудового народа ненавидят люто, — Медведев, Ваганов да Никулин. Голощекин Шая, уверен, со мной пойдет, а вдобавок возьмем с собой пленных мадьяров, дадим винтовки. Пусть помогут. У них к русскому царю и его выродкам никакого сожаления не будет — штыками на славу поработать смогут. Ночью я объявлю арестованным, что их переводят в другое место. Все оденутся, а после спустим во двор, в полуподвал введем, а там и приведем наш приговор в исполнение. Я рядом с домом автомобиль поставлю так, что когда палить начнем, то шум мотора выстрелы заглушит. Ты же, Петруша, сказал Юровский, обращаясь к одному лишь Войкову, — талантливый, я слышал, химик. Вот и покумекай, похимичь, как бы потом тела убитых так обработать, чтобы неузнаваемы были. А то ведь неровен час, откопает кто-то да и сделает из останков мощи. Русским же все равно, кому молиться: на живого царя, на мертвого ли — без разницы.
— Ладно, сделаю, — серьезно ответил Войков. — Кислоту в аптеке купим, побольше, керосину, чтобы тела облить да сжечь. Это все несложно. Только вот куда везти?
— Мертвых-то? — не понял Юровский. — Да я уж место присмотрел. Хорошее такое место. В семнадцати верстах от города деревня есть одна, Коптяки. Там урочище Четырех братьев с заброшенными шахтами, из которых раньше руду копали. Туда и бросим, бомбами ручными закидаем, а перед этим покоптим тела, кислотой обработаем, вот и исполним распоряжение правительства. И попрошу дорогих товарищей отбросить все сантименты. Пусть каждый Ходынку помнит, Кровавое воскресенье, скорбь, нужду трудового народа, издевательства властей. Без всякой жалости Николая Кровавого казнить будем! Его и все царское отродье!
Горячая речь Юровского на всех, кто прежде сомневался, произвела должное впечатление. Будто один этот уверенный и смелый человек брал на себя все их страхи и сомнения, еле слышные угрызения совести, опасения в том, что убийц бывшего царя, убийц его жены и детей люди будут проклинать долго, возможно, вечно.
Повеселели. Принялись живо обсуждать детали скорого дела, радовались от осознания собственной смелости и лютой ненависти к царизму, плескали в стаканы самогон с удвоенным усердием, а когда укоры совести самых совестливых людей этой компании были загнаны в самый дальний угол их холодных сердец, то из другого угла вместе с пьяной счастливой волной стала выплывать и добрая теплая мысль о том, что участие в таком серьезном и важном для страны деле правительством никогда забыто не будет…
Но никто из этих людей не знал, что каждое слово их горячих речей было услышано и намотано на ус одним человеком, находившимся в соседней комнате и приникшим ухом к дырочке в стене, нарочно прокрученной им уже с месяц назад. Человек этот на словах являлся преданным борцом за счастье трудового народа, но на самом деле показных своих убеждений стыдился и находился в тесной связи с теми, кто имел взгляды совсем другие. И вот едва этот человек услышал, до чего договорились члены Уральского Совдепа и ЧК, как тут же поспешил выйти из дома, где проходил "военный совет", быстро пошел на окраину Екатеринбурга, на котором каменных домов уже было немного и за высокими штакетниками стояли деревянные постройки городской бедноты рабочих, мелких торговцев, извозчиков. Калитку одного из дворов он смело отворил, будто делал это не раз, на крыльцо взошел тоже безо всякого смущения или сомнения, хотя и оглянулся перед тем, как толкнуть незапертую дверь. И едва очутился в горнице, прокуренной не меньше, чем "зал для заседаний" Уральского Совдепа, как тут же взволнованно заговорил, обращаясь сразу ко всем собравшимся здесь мужчинам:
— Все, господа, на сегодня назначено! Подлежат уничтожению все члены семьи Николая Александровича! Все без исключения.
— Как, даже малолетнего царевича пощадить не захотели? Княжон?! — чуть не задохнулся от удивления и злобы вскочивший из-за стола человек, высокий, стройный, с лицом благородным, тонким, только искаженным сильной ненавистью.
— Никого! — кивнул пришедший и в течение пяти минут, тоже захлебываясь злобой, пересказывал обитателям деревянного дома то, что ему удалось подслушать.
Когда он замолчал, гробовое молчание, воцарившееся в горнице, нарушалось лишь гудением мухи, запутавшейся в ситцевой занавеске окна.
— Ну, если сегодня не удастся государя освободить, так быть нам с вами, господа, заклейменными во веки веков малодушными трусами, — тихо произнес высокой мужчина, а другой, чернявый, с густой бородой, сказал:
— Чего уж нам ждать. Всё знаем, час известен, и автомобиль эта сволочь большевистская для нас как нарочно поставит, чтобы, видишь ли, гнусность свою ревом мотора заглушать. Нам и карты в руки. Как только выведут государя с семьей из дома, чтобы в подвал ввести, тогда и напасть на них нужно. Перестреляем всех иуд проклятых, царя — на мотор да и прочь из города.
— Во-первых, — заметил третий мужчина, пожилой уже, с седыми висячими усами, — я тебе, Павел Исаич, возражу. В смелости твоей здесь никто сомневаться не собирается, но не спешишь ли ты? Сам не видел разве, что караул на улице, вдоль забора дефилирующий, довольно сильный — человек пять с винтовками. Если этот караул не снимешь, то и во двор пройти не сумеешь. Потом, знаешь ли ты, в какое место автомобиль поставят? Нет, не знаешь.
— А я и знать об этом не хочу! — с каким-то пренебрежением сказал чернявый. — Караульных снимем мы без шума, ножами снимем. А там увидим, где автомобиль стоит. Снаружи — хорошо, а внутри двора — так и того лучше. Мы ведь государя и его семью в кузов поместить хотим, вот и наше счастье будет, если незаметно для тех, кто по улице может проходить, это сделаем. Мотор работающий — это для нас удобство! Мы, чай, по большевикам палить нещадно будем. Главное, конечно, наружную охрану уничтожить, а там все как по маслу покатится!
— Куда же повезем царя? — спросил озадаченно высокий. — Вы подумали об этом?
— К Колчаку иль к белочехам, — ответил усатый. — Выедем на восточный тракт — и дунем. Главное сейчас не это. Главное — царя с семьей спасти. Можно, думаю, на время где-нибудь в лесу припрятать, а потом, когда возможность будет, переправим за границу.
— Да уж лучше в лес их завести, чем к Колчаку, — проговорил чернявый бородач. — Адмирал сейчас англичанам да французам служит, которые спят и видят Россию не монархией, а республикой. Николай ему совсем не нужен. Боюсь, не передал бы его Антанте…
— Хорошо, — кивнул усатый, — если все, как задумали, удастся, сховаем августейшую семью в лесу, а после видно будет…
Сумерки на Екатеринбург спускались быстро, точно из окрестных лесов выползала темень, набрасывала на город свое черное сукно, и немалый этот город (до войны здесь чуть ли не сто тысяч проживало) погружался в тихий, вязкий мрак, который лишь кое-где был изъязвлен светом керосиновых ламп, проникавшим из окошек. Но керосин и свечи в Екатеринбурге берегли, а поэтому совсем немного было в городе освещенных окон.
К десяти часам стали черными и окна Ипатьевского дома, где содержалась царская семья, вернее, не царская совсем, потому что отречение Николая Александровича освободило бывшего государя от многотрудной такой обязанности, а семья гражданина Романова. Дом инженера Ипатьева был крепким, богатым даже по екатеринбургским меркам. Покоев здесь немало было, но государя, Александру Федоровну и Алексея поместили в одной угловой комнате с окнами на площадь и на Вознесенский переулок. Великие княжны по приказу комиссаров поселились в соседней, где даже дверь была снята. Все эти меры были, как считал Белобородов, не напрасными: все вместе будут жить, так и с присмотром за пленниками хлопот не будет.
Николай давно уже разделся, но по причине жары и духоты, не спадавших даже к ночи, лежал поверх одеяла в одном белье, сложив на груди руки и покручивая большими пальцами. Мысли одна тревожнее другой беспорядочно громоздились, исчезали, появлялись снова, но мысли эти были пустяками по сравнению с гнетущим отчаянием, не отпускавшим сознание из своих липких объятий. Николай не жалел того, что обстоятельства заставили его подписать отречение и теперь он не государь император — помазанник Божий, не отец великому, хоть и страдающему народу, а всего лишь "гражданин Романов". Николай был в отчаянии потому, что его пугала судьба семьи, любимой жены, обожаемого сына и дочерей, ещё не изведавших ни радости любви, ни тягот и восторгов материнства.
"Пусть они не говорят мне, что скоро переправят за границу, рассуждал про себя Николай. — Я видел их лица, я постоянно вижу, как относится к нам караул. Это хамство, это граничащее с издевательским отношение может проявляться лишь тогда, когда судьба пленников предрешена, причем предрешена в самую худшую сторону. Ну что ж, пусть поступают так, как велят их хозяева. Я знаю, что должен пасть жертвой, рассчитаться за века угнетения, как говорят большевики. Но при чем здесь моя жена, мои дети? Ах, только бы освободили нас! Я бы счастливо прожил остаток жизни на клочке земли, обрабатывая её обычной лопатой, засевая, собирая скудный урожай! Только бы не убивали нас!"
Николай слышал, что Алексей, лежавший всего в полутора метрах от него, уже спит, постанывая. Сегодня у него сильно болела нога, но, слава Богу, кровотечений не было. Спала ли жена, Николай не знал, но судя по тому, что он не слышал её ровного дыхания, не спала. Разве можно было уснуть, когда тревога неизвестности, страх перед будущим нещадно грызут сердце?
И вот внизу раздался топот тяжелых подкованных сапог, нарочито громкий, как стук кувалд по сухой доске. Шаги все ближе, и Николай тут же понял, что идут не просто так, раз уж решили будить ночью. Вот шаги, грохочущие, тяжкие, у самой двери, которая распахнулась настежь, и тотчас в комнату ворвался тяжелый запах смазных сапог, махорки, водки, пропитанных грязью и потом шинелей, комиссарских кожанок, ружейного масла.
— Гражданин Романов и члены его семьи! — раздался голос, какой-то торжественный и властный. — Вы обязаны тотчас подняться и одеться. Вас переводят в другое место, ибо Екатеринбург стал городом небезопасным.
Слова, произнесенные Юровским, сопровождал рокот работающего на улице автомобильного мотора, и этот шум, доказывающий, что пленников на самом деле хотят куда-то увезти, немного успокоил Николая, решившего вначале, что за ним пришли, чтобы отвести туда, откуда возврата нет.
— Даю на сборы десять минут. Можете взять с собой багаж, но только самое необходимое. Потом, если пожелаете, вам доставят остальное, произнес Юровский, качаясь на каблуках.
Сказал — и вышел, а Николай зажег керосиновую лампу и сразу же увидел испуганные лица Александры Федоровны и Алексея.
— Таков приказ, нужно одеваться, — тихо сказал Николай, а губы выговаривали слова с трудом, потому что страшная догадка пронзила сердце сильной болью. "Лишь бы не догадались! Только не дать своим намека. Пусть не знают. Господи, спаси".
Через десять минут бывшая царственная чета с цесаревичем вышли в коридор, где уже стояли, понурившись, их дочери, окруженные глазевшими на них мужчинами, опиравшимися на винтовки. Свет керосиновой лампы плясал на их улыбавшихся лицах, и Николай заметил, что смотрели они на девушек с каким-то злобным сладострастием, он тотчас подумал, что за этими кривыми ухмылками скрываются и ненависть к княжнам, и жгучая обида на то, что эти девушки никогда не будут в их власти…
— Спускайтесь вниз, — спокойным тоном приказал Юровский, возглавляя шествие. — Ваши приближенные: Демидова, врач Боткин, Трупп и Харитонов уже на первом этаже.
— Папа, а куда нас ведут? — встревоженно спросил четырнадцатилетний Алексей, которого отец нес на руках — у мальчика сильно болела нога.
— Не бойся ничего, нас перевозят в другое место, где безопасней, шепнул ему Николай и прижался губами к горячей щеке сына.
Вот лестница. Тускло горит керосиновая лампа в руках одного из конвоиров. Николай, боясь споткнуться, шагнул осторожно и вдруг, спускаясь вниз, принялся считать ступеньки, не отдавая себе отчета, зачем он это делает. Скорей всего, он просто хотел отвлечься, а поэтому и стал считать: "Одна, вторая, третья… пятнадцатая… двадцать первая, двадцать вторая, двадцать третья…" Там было двадцать три ступеньки, и бывший царь вдруг ясно понял, что ему в жизни больше никогда не придется считать, дышать, ходить.
— Прошу во двор, — коротко приказал Юровский, стоявший возле выхода с самокруткой, и Николай увидел, как дрожал огонек на уровне его искаженного злой улыбкой рта.
А тем временем на ночной улице, не освещенной ни фонарями, ни падавшим из окон светом, ни луной, вдоль фасадов Ипатьевского дома прохаживались взад-вперед полусонные часовые. Иные нарушали тишину громким зевком, другие, как было положено по инструкции, то и дело протяжно кричали: "Слуша-ай!", но чаще всего не дожидались ответного крика, потому что их товарищам кричать было лень, и их присутствие можно было угадать лишь по зевкам да стуку сапог. И не видел никто из семи караульных, охранявших дом, как с разных сторон улицы, ступая бесшумно, словно кошки, стремительно приближались к ним пять мужчин. Так и не увидел крайний часовой, кто взмахнул над ним кинжалом, кто успел другой рукой предупредить его предсмертный стон, зажав ладонью рот. Не узнал, конечно, караульный, на чьи вовремя подставленные руки упало его обмякшее тело, чтобы не грохнулось оно на мостовую с шумом. Только лишь последний красноармеец, опытный боец, успел обернуться, услышав позади себя какой-то шорох, обернуться и даже грозно вскрикнуть, взять винтовку наперевес, резко двинуть штыком вперед, попасть во что-то плотное, успевшее простонать. Но через секунду и этот ловкий человек уже лежал, сраженный безжалостной сталью, а четверо явившихся из тьмы мужчин, распластавшись на гребне высокого, солидного забора, следили за тем, что происходило во дворе.
А там, у входа в дом, стоял грузовой автомобиль, и мотор его ровно урчал. Вдруг увидели лежавшие на заборе люди, как из дома стали выходить мужчины и женщины, которые шли в сопровождении конвойных. Во дворе они пробыли совсем недолго, всего минуты две, а потом другая дверь дома стала отворяться, и притаившиеся люди увидели, что пленных вводят в дом снова.
— Не успели! — страстно прошептал один из мужчин, прижимавший к своему телу тяжкое железо ручного пулемета и нащупывая рукоятку затвора.
— Значит, в подвале их освободим, — шепнул ему другой. — Во дворе, боюсь, у нас бы ничего не получилось…
Тем временем Николай, его родные и приближенные уже стояли в полуподвальной комнате, окно которой было забрано решеткой из толстых прутьев. Конвоиры-мадьяры, выполняя приказ начальника ЧК, забросив винтовки за спину, вносили в комнату стулья.
— Зачем нас привели сюда? — спросил Николай у Юровского и получил ответ:
— Покамест посидите здесь. Сейчас вам сообщат о дальнейшем.
И тотчас куда-то вышел, оставив рядом с пленниками семерых мадьяр, снявших винтовки из-за плеч и державших их наперевес, да трех комиссаров, не вынимавших своих правых рук из карманов кожаных галифе. Ждали Юровского минуты три, и вот он явился, войдя в подвал стремительно, вынимая из внутреннего кармана френча какой-то лист бумаги.
— Внимание! — заговорил он, возвышая голос, зазвеневший натянутой струной. — Оглашается решение Уральского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. "Гражданин Романов и вся его семья во искупление многочисленных жертв царизма приговаривается…"
Но договорить Юровский не успел — дверь подвала от чьих-то могучих ударов распахнулась настежь, и в дверном проеме появились фигуры неизвестных.
— Чего надо?! Чего надо?! — только и успел крикнуть Юровский перед тем, как услышал приказ, произнесенный с железной твердостью и уверенностью в том, что этому приказу непременно подчинятся:
— Всем лечь на пол! Всем, кроме Романовых!
И тут же, словно в подтверждение того, что у кричавшего имеются веские аргументы для немедленного исполнения приказа, на комиссаров и их подручных был наведен ствол ручного пулемета, но комиссар Ваганов из-за плеча высокого мадьяра пальнул по неизвестным из нагана, и тут же длинная очередь, затрясшая ствол «льюиса», полоснула по караульным, разрывая их грязные шинели. Трое человек тут же рухнули на пол, обливая его кровью, а неизвестные, ворвавшись в комнату и наводя на комиссаров и караульных стволы маузеров, браунингов, угрожая пулеметом и поднятой вверх ручной гранатой со сдернутой чекой, хватали за руки и тащили к выходу Романовых, обезумевших от страха, за исключением, пожалуй, только Николая, не понимавшего, что от них хотят.
— Ваше величество, скорее же, скорее! — умолял его бородач. — Мы за вами!
— А как же доктор Боткин и остальные? — следуя за мужчиной, спросил Николай.
— Нет, всех не можем увезти. Только вас с семьей. Вашим приближенным они ничего не сделают. Скорее!
Оказавшись во дворе, Николай увидел, что дочери при помощи спасителей уже залезают в кузов автомобиля, а жена и Алексей сидят в кабине водителя, рядом с которой распростерлось чье-то тело. Ему помогли взобраться, а потом вслед за ним в кузов вскочили трое мужчин, не перестававших наводить стволы в ту сторону, откуда могли появиться комиссары и мадьяры. Борт захлопнулся, лязгнули затворы, и через полминуты автомобиль качнуло, затрясло, сидевших в кузове обдало вонючей выхлопной струей, и только машина двинулась к отворенным воротам, как из дверей полуподвала появились фигуры Юровского и его сподвижников.
— Стреляйте по ним, стреляйте! — орал Юровский, безостановочно паля из револьвера по отъезжающей машине. И, исполняя его приказ, мадьяры, припадая на колено, то и дело клацая затворами винтовок, принялись стрелять, но «льюис» снова задрожал, затрясся в руках бородатого спасителя царя, гильзы посыпались на подолы дочерей Николая, и два мадьяра, корчась, лежали на земле, а автомобиль уже выкатывал на улицу.
Сидеть на корточках, спрятавшись за деревянным бортом, Николаю было очень неудобно, к тому же в такой позе ему в присутствии дочерей и неизвестных людей находиться было просто неприлично.
— Сядьте, ваше величество! — приказал Николаю длинноусый, подавая ему комок какого-то тряпья или разорванный мешок, обнаруженный в кузове. — Да только держитесь покрепче, а то выбросит из кузова, и все наши труды окажутся напрасными.
Приняв более покойную позу, держась одной рукой за край борта, Николай спросил у усатого:
— Но кому же мы должны быть обязаны своим спасением? Или о спасении ещё рано говорить?
— Наполовину можно, — улыбнулся бородачи. — Мы точно знаем, что Екатеринбургская чека всех сегодня на распыл послать хотела. Вот иуды! Оказывается, приказ им из Москвы пришел, вот и решили поспешить. А что до нас, так мы, ваше величество, ваши верные слуги. Я, к примеру, ротмистр лейб-гвардии гусарского полка Бахметьев. Полагаю, меня вы на смотрах часто видеть могли, а впрочем, не знаю, извините. А это — мои товарищи, капитан Колягин и поручик Живцов. В кабине же подпоручик Квасневский правит. Был с нами ещё один товарищ, но, когда часовых у забора снимали, на штык напоролся.
Николай смотрел на бородатого Бахметьева, улыбчивого и чрезвычайно довольного тем, что он, какой-то ротмистр, спас от неминуемой смерти самого государя России, и чуть не плакал.
— А что до того, куда мы вас сейчас везем, — заговорил обладатель длинных усов, капитан Колягин, — то нам сейчас почти что все равно, куда. Главное — вас спасли. Выедем на Восточный тракт, а там и до колчаковских частей недалеко. Скоро они Екатеринбург займут, ей-ей.
Николай смотрел на своих спасителей, на спасителей самых близких ему людей, и ему сейчас хотелось расцеловать их. В стране, где он был предан почти что всеми, в стране, где его ненавидели, нашлись, оказывается, смельчаки, которых не пугала расплата в застенках чрезвычайки. И бывший император, который и в благополучный период своей жизни постоянно ощущал себя одиноким человеком, против которого ополчилась чуть ли не половина страны, внезапно ощутил себя надежно защищенным, хотя и трясся сейчас в открытом кузове грузовика в темноте уральской ночи.
Городские строения они миновали, автомобиль бежал теперь рядом с выплывавшими то слева, то справа перелесками. Вскоре лес стал гуще, поднялся с обеих сторон высокими черными стенами, и жутко было мчаться по этой дороге, освещенной лишь метра на три слабым светом автомобильных фар.
— Да что ж он, черт, так быстро гонит! — ругнулся Бахметьев в адрес водителя. — Не ровен час опрокинет нас в канаву, угробит их величество.
— На самом деле, страшно как! — подала голос младшенькая дочь Николая Анастасия, но старшая, двадцатитрехлетняя Ольга, тоже измученная дорогой, но терпеливо молчавшая, цыкнула на сестру:
— Помолчала бы! Страшно ей! Вот попадешь к большевикам, они тебе покажут страхов, каких ты и представить не могла.
И словно в подтверждение того, что угроза расправы ещё не миновала царскую семью, позади, в четверти версты от убегающего автомобиля, точно два волчьих глаза, сверкнули фары "мотора".
— Вон они! — крикнула Мария, прижимая руку ко рту. — Комиссары догоняют нас!
Мужчины, как один, повернулись в сторону огней, плясавших в жирной темени ночного леса.
— Они… — сказал Бахметьев с яростью и из холщового подсумка, что был привязан к поясу, вытащил новый магазин к ручному пулемету. — Ладно, сказал, — патроны есть, а их, кажись, немного. Встретим сволочь по-офицерски, как, бывало, под Львовом и Праснышем врага встречали. Ваше величество, вы пистолетиком поиграться не хотите? Лишний ствол — для нас хорошее подспорье.
Николай кивнул, не переставая следить за светом фар догонявшего их автомобиля:
— Давайте, если уж нет винтовки.
— Винтовки точно нет, а браунинг — пожалуйста, — сказал Бахметьев и протянул пистолет с запасной обоймой.
Бывший царь, приняв оружие, деловито осмотрел его и взвел курок. Он стрелять любил и стрелком к тому же был отменным, только, кроме тировых мишеней да ворон в царскосельском парке, Николаю ещё не приходилось поражать другие цели ни разу, тем более человека. Прежде он считал, что совершил бы тяжкий грех, подняв на человека руку, но теперь, когда он уже не был государем императором, когда его не сопровождал многочисленный казачий конвой, когда полицейские агенты, которых он ненавидел, не рыскали на всем пути его следования, Николай впервые почувствовал, что нужно проявить себя мужчиной, защитником своей семьи. А прежде он был лишь царем.
Меж тем тяжелый грузовик не мог бежать вперед с такой же скоростью, как и нагонявший его легковой «мотор». К тому же беглецы сумели разглядеть, что за ними мчалась не одна машина, а целых две, и, когда между ними оставалось не больше двухсот метров, Бахметьев, оперев ствол пулемета о край борта, дал длинную очередь, потом ещё одну. Но пули не достигли цели автомобиль преследователей продолжал стремительно их догонять. И вот уже палили по «мотору» товарищи Бахметьева и сам Николай, пытавшийся попасть в стекло кабины, вспыхивающее бликами при каждом выстреле. А из автомобиля преследователей высовывались руки, на мгновенье освещавшиеся огнем револьверных выстрелов, но и пули погони взрезали темень ночи напрасно — с пчелиным гудением проносились они где-то рядом, но не причиняли беглецам вреда. Николай же, то и дело нажимая на спусковой крючок, не стремился пригнуть голову, распластаться на дне кузова, потому что знал: в эти минуты он как бы был щитом, загораживающим своих родных от смерти.
И вдруг мотор грузовика закашлял, затарахтел с перебоями, точно устал работать, и машина, прокатившись вперед ещё с десяток метров, остановилась.
— Кончился бензин! — прокричал Квасневский. — Стреляйте, стреляйте, а их величества пусть попытаются в лес бежать!
— Нет, подожди бежать! — со злобной решимостью защищаться до последнего патрона воскликнул Бахметьев, поливая свинцом автомобиль чекистов, которые не успели затормозить и приблизились к грузовику настолько, что расстреливать сидящих в «моторе» не представляло никакого труда. Зато вторая машина погони остановилась от грузовика на почтительном расстоянии, и град пуль обрушился на беглецов. Вот, дико вскрикнув, схватился за голову Бахметьев и повалился вниз, на землю, опрокинувшись через кузов. Капитан Колягин тотчас взял в руки пулемет, крикнув перед этим Николаю: "В лес бегите, в лес!" Крикнул — и короткими очередями принялся лупить по чекистам, выбегавшим из второй машины и залегающим в канаве. А Николай, два раза выстрелив в бегущие фигуры, бросился к дочерям, распластавшимся от страха на дне кузова.
— Вставайте! Нужно уходить скорее! Прыгайте на землю! Сюда, через левый борт!
Прыгнул сам, одну за другой принял дочерей, длинные юбки которых мешали им спуститься вниз. Кинулся к кабине и, едва только дернул за ручку двери, дверца распахнулась и на землю мешком свалилось тело убитого Квасневского. Александра Федоровна и Алексей, с широко открытыми от ужаса глазами, сидели, обхватив друг друга руками. Николай с трудом сумел выволочь из кабины их одеревеневшие от страха тела, подхватил Алешу на руки и скомандовал, обращаясь к жене и дочерям:
— В лес! За мной!
Стараясь скрываться за грузовиком, чтобы быть недосягаемыми для пуль, звеневших над их головами, беглецы бросились в густой ельник. И лапы деревьев, расступившиеся, а потом вновь сошедшиеся, скрыли семью бывшего русского императора от тех, кто так стремился расправиться с Николаем и его родными.
***
28 октября 1866 года, когда на петербургских мостовых уже лежал первый снег, обвенчались наследник престола, великий князь Александр Александрович, и дочь датского короля Христиана Девятого и королевы Луизы миловидная София Фредерика Дагмара, нареченная в России Марией Федоровной.
Нет, не за этого высокого, неуклюжего увальня должна была выйти Дагмара — она предназначалась в жены старшему брату Александра, цесаревичу Николаю, бывшему совершенной противоположностью её супругу. Все улыбалось небогатой дочери датского короля, посватанной за старшего сына могущественнейшего монарха Европы, Александра Второго. Во-первых, Николая можно было попросту назвать красавцем, он был обаятелен и образован; во-вторых, после смерти своего отца он становился императором пока во многом непонятной, но обширнейшей, богатейшей, сильнейшей державы. А она, Дагмара, став его супругой, превращалась в царицу. Дагмара к тому же знала, что многие принцессы европейских дворов были супругами русских императоров, и участь их нельзя было назвать безрадостной — напротив, все они как бы отражали собою блеск, нисходивший на них с осыпанной бриллиантами короны супругов.
Но Дагмара, ещё не успевшая всецело насладиться мечтаниями о будущем счастье, была наказана судьбой — её жених Николай скоропостижно умер в Ницце, как говорили, от скоротечной чахотки. Цесаревича не стало 12 апреля 1865 года, и всем казалось, что Дагмара была безутешна, ведь она уже привыкла думать о своем будущем как о будущем русской императрицы и супруги очаровательного мужчины. Но Дагмара, потеряв жениха, не потеряла-таки надежды украсить себя венцом императрицы: Александр Второй и Христиан Девятый решили, что смерть цесаревича Николая не должна им помешать заключить намеченный союз. Нет Николая, но есть его брат, наследник российского престола Александр, так пусть же будущий император станет мужем Дагмары, так жестоко обманутой судьбой. И через полгода после смерти Николая его младший брат стал мужем девушки, названной в православии Марией Федоровной, — бывшей Дагмары.
После пышной свадьбы молодые стали жить в Аничковом дворце, в самом центре Петербурга, там, где река Фонтанка, перерезанная Невским проспектом, плескалась под широким мостом, украшенным вздыбленными конями. Да, супруг молодой женщины совсем не был похож на своего старшего брата. Ей порой казалось, что это и не братья вовсе. Что общего у Николая, изящного, образованного, любезного, с этим неуклюжим толстозадым увальнем, не блистающим ни красотой, ни образованием, ни особенным умом? Но Мария Федоровна видела, что сын императора огромной державы добродушен и прост, как дитя, что он любит её. Но только зачем же он так часто выходит из комнаты, где она, тихо играя на рояле, все ждет приятных, нежных слов? А назад возвращается с блестящими губами и помутненными глазами, но не оживленный, а все такой же молчаливый и застенчивый.
И все-таки цесаревич Александр очень нравился жене. Будущая императрица знала о пристрастии своего свекра к женщинам, знала, сколь несчастной была жена Александра Второго, и Мария Федоровна, думавшая раньше, что Александр пойдет по стопам отца, убедилась со временем, что звезда-хранительница оберегла их супружеское ложе. Во всяком случае, муж не давал ей явных поводов для оскорбительной ревности. Возможно, тому была причиной его не слишком яркая наружность, неуклюжесть, физическая лень. И дети, родившиеся один за другим, закрепили и упрочили их брачный союз. Бог благословил брак Марии и Александра Николаем, будущим царем, родившимся 6 мая 1868 года, 28 апреля 1871 года появился на свет Георгий, 25 марта 1875 года весь мир известили о рождении великой княжны Ксении, 22 ноября 1878 года Мария Федоровна обрадовала мужа, родив Михаила, а 1июня 1882 года царственное семейство умножилось за счет появления на свет девочки, которую назвали Ольгой.
Ступень вторая ТЕНИ В ЛЕСУ
Цепляясь ногами за валявшиеся на земле сучья, которые, словно руки тайных агентов Чрезвычайной комиссии, хватали беглецов, чтобы доставить их к товарищу Юровскому, Николай, его жена, Алеша и великие княжны брели через лесную чащу, лишь бы уйти подальше от того места, где находились их преследователи. Как ни старались девушки и бывшая императрица приподнимать повыше подолы своих юбок, скоро их платья были изорваны, ботинки и чулки заляпаны торфяной жижей. Они валились с ног от усталости и пережитого ужаса, но Николай, несший на руках Алексея, все шел и шел вперед, ибо он понимал, что усталость, страх перед темнотой леса, болотом, хищным зверьем — ничто перед тем, что ожидает их, если они снова станут пленниками Екатеринбургского Совдепа и чрезвычайки.
— Папа, ты устал, дай я сам пойду! — умолял Алеша, но Николай, словно внимая просьбе сына, лишь на минуту останавливался и опускал его на землю, сырую, болотистую, а потом снова брал его на руки и говорил, обращаясь к жене и дочерям:
— Нужно идти, хоть в самую чащу, но идти. Если нас настигнут, то здесь, в лесу, даже приговоров зачитывать не нужно будет — тут же и похоронят.
И эти слова удваивали силы измученных женщин, и они брели вслед за Николаем, не обращая внимания на то, что треск выстрелов, раздававшихся ещё совсем недавно, теперь не долетает до них, но сам бывший император, не слышавший выстрелов, вскоре догадался, что бой на лесной дороге закончился. "Только чья же взяла? — напряженно думал он, не переставая выбирать более удобное место, куда можно было поставить ногу. — Офицеры перестреляли совдеповцев или наоборот?" Николай даже остановился минуты на три в раздумье, точно ему требовалось время решить: идти ли назад, хотя бы одному, и точно выяснить результаты боя, или, предполагая, что большевики убили офицеров, спешить в глубину леса, чтобы укрыться там. И Николай выбрал этот путь, который вел его хоть и к неизвестному будущему, но зато подальше от тех, кто ещё час назад едва не расправился с ним и его семьей. И здесь, в черном ночном лесу, где колючие еловые ветви нещадно хлестали по лицу, невидимые сучки так и норовили выколоть глаза, в лесу, где каждую минуту можно было провалиться в трясину, — впервые в жизни в душе бывшего императора России вдруг вспыхнула жажда жизни чисто физической, не внешней, не символической, в которой существовал он прежде, когда был царем. Но эту физическую жизнь ещё нужно было отвоевать у обстоятельств, у судьбы, и внезапно естество пятидесятилетнего мужчины словно откликнулось на зов сознания. Природа Николая прежде лишь дремала, ведь не нужно было думать ни о защите самого себя, ни о защите своих близких, не требовалось добывать пищу, прилагать физические усилия именно для выживания, а не для спорта. Теперь же он как бы обратился за помощью к сэкономленным в прошлом силам, и их оказалось вполне достаточно, чтобы начать борьбу за жизнь.
А в то время, когда Романовы уходили все глубже и глубже в лес, на той части дороги, где ещё недавно шел бой чекистов с офицерами, было тихо, будто и не стреляли здесь вовсе. Пятачок дороги со стоявшими на ней автомобилями освещался тусклыми фарами одного из них, поэтому можно было видеть человек восемь мужчин, от которых на землю тянулись корявые тени. Люди по большей части прохаживались между «моторами», иногда подходили к четырем телам, распростертым на дороге, уложенным в ровный ряд. Порой наклонялись к убитым, разглядывали их лица при помощи ручного фонаря, рылись в их карманах, иногда, словно лежавшие были живы, ходившие рядом с ними люди с силой пинали их — видно, сердились на них за доставленное беспокойство. Двое сидели на подножке «мотора», жевали самокрутки, разговаривая о делах важных и безотлагательных.
— Значит, падаль эту в кузов грузовика положите. Бензин для него сольете из «фордов», — тоном, не терпящим возражений, говорил Юровский, но Ваганов, жадно пыхтя дымом, удивлялся:
— Зачем они нам, Яков Михалыч? Кинем здесь, у дороги, к чему возиться? Я бы лучше за Романовыми вслед пустился. Не могли они уйти далеко. Чай, бабы в подолах своих запутались. А тут место болотистое, быстро не пойдешь, вот и настигнем мы их да там и порешим безо всякого шуму.
— Не знаешь ты этого леса, человече, — зло отвечал Юровский, недовольный тем, что ему перечат. — Всю ночь проплутаем, а ни хрена не найдем. Черно же все в лесу, да уверен я к тому же, что пропадут они на болоте, не выйдут назад. Жратвы у них нет никакой, да и не те они люди, чтобы суметь в лесу хоть пару дней пробыть. Сам знаешь, всю жизнь с золота да с серебра ели, в батисте да шелке ходили, на фарфоровых нужниках сидели и мягкими салфетками подтирались. Вот пусть-ка теперь по лесу побродят никому они теперь не нужны: ни нам, ни Колчаку, который завтра, возможно, в Екатеринбург войдет, ни всякой там сволочи вроде эсеров и кадетов…
— Ну, а этим-то понадобился, — сказал Ваганов, показывая рукой с зажатой цигаркой в сторону убитых офицеров.
— Таких немного! — окрысился Юровский, не любивший возражений подчиненных. — Главное, ни рабочим, ни крестьянам царь не нужен больше. Кто его в лесу найдет, так непременно поглубже, на болото заведет со всеми его выродками, а то и кокнет самостоятельно. Но у нас с тобой задача теперь иной будет. Нужно, брат, в Москву шифрованную телеграмму послать о том, что приказ-де выполнен. Москве нужен мертвый царь, а не живой, чтобы вдруг никто не попытался, если придет охота, бывшего царишку снова на престол поставить…
— Посадить…
— Ну, посадить! — гаркнул Юровский. — Ты, Ваганов, брось меня перебивать. Лучше слушай в оба уха да на ус мотай! Этих, значит, заберешь в машину. К дому Ипатьева поедем. Демидова, врач Боткин, Харитонов, повар царский, и Трупп от нас не ушли. Но нужны нам ещё и другие трупы. По въезде в город заедем в один дом. Знаю, живет там мать с четырьмя дочками своими. Больше никого. Возьмем их всех, будто подозреваем в борьбе против советской власти. Всех этих баб и царских приближенных запрем в подвале и сделаем с ними то, что с царской семьей сделать должны были. А после — в Коптяки. С двумя этими гавриками у нас одиннадцать человек и будет. Ручные бомбы, кислота так трупы изуродуют, что никто не догадается, кого мы порешили. Но главное, по Екатеринбургу слух в народе пустим, что у деревни Коптяки захоронены царские останки. Если кому надо, пусть достают, любуются. Мы же свое дело исполним честно, и правительство нами довольно будет.
— Нет, Яша, недостаточно того, — снова пробубнил Ваганов, доставая кисет. — Коптяки-то Коптяками, а настоящего царя нам все ж таки на распыл пустить нужно, только сделаем это уже опосля, тишком. А то вдруг вылезет откуда-нибудь, как же нам потом перед товарищем Свердловым оправдаться? Скажет, обманули.
— Ладно, как дело в Коптяках закончишь, бери людей и лес прочесывай. Хотя, уверен, не найдете вы там царя. Далеко ушел да сгинул. Здесь дезертиров сколько по лесу шастает. Обязательно на Романовых наскочат. Эх, представляю, как они девчонок да и саму царицу на мху сыром разложат. Жаль, я с Анастасией побаловать не успел. Она мне куры строила…
— Иди ты! — позавидовал Ваганов.
— Ага, и Мария тоже. Думали, наверно, что я их на волю отпущу. Нет, не отпустил бы — побаловался бы с ними да и в подвал. Да вот еще: красноармейцы кое-какими царскими вещичками воспользовались: кто сам забрал, кому подарили, чтоб ласковее был конвой, сами дочки царские и Александра. Так вот, эти вещи мы в могилу их общую подкинем, чтобы достоверней было. Все понял?
— Да ясно, — плюнул на землю Ваганов и пошел отдавать распоряжение, чтобы тела убитых в кузов погрузили.
У предместий Екатеринбурга были уже через полчаса. Юровский, сидевший в «моторе» с Вагановым, пальцем указал на дом, спящий и молчаливый, как и все соседние дома, и тут же автомобили остановились, и люди, вышедшие из них, перескочили через низенький штакетник и, поднявшись на крыльцо, застучали в дверь, а когда им отворили, то в горницу, громко топая ногами, вошли шесть человек, вывели на улицу всех женщин, обряженных по ночному времени в длинные холстинные рубахи, и погрузили в кузов, где лежали мертвые тела. После их повезли туда, где суждено им было стать совсем не теми, за кого их считали прежде. Не Павлова Авдотья с дочерьми спустилась в полуподвал Ипатьевского дома, а сама бывшая императрица Александра Федоровна с великими княжнами — Татьяной, Ольгой, Марией и Анастасией.
Там, в комнате, где окно забрано было толстыми стальными прутьями, стояли незнакомые им люди и будто чего-то ждали. Скоро в комнату прошли мужчины в кожанках, в шинелях. В руках у многих были винтовки, быстро зачитали приговор, и сразу же раздался женский крик и визг, который был заглушен стрельбой, и смерть навеки облагородила одних, других же взяла к себе за то, что обладали вредным свойством быть преданными тем, кого любили.
Потом тела убитых на простынях выволокли во двор, бросили в кузов грузовика, отвезли за город и близ деревни Коптяки жгли на кострах, травили в крепкой кислоте, рвали ручными бомбами, чтобы понадежней скрыть свою оплошность и нерасторопность. И когда в пятнадцати верстах от места, где спрятали убитых, уже на зорьке, на обширную поляну посредине леса вышли семеро уставших, просто обессиленных людей, в кронах сосен, распростертых над их головами, прошумело что-то и протяжно загудело, эти семеро людей увидели, что в утренних розовинах неба пронеслись над ними плачущие тени, и тут же угадали стоявшие на поляне в этих плачущих тенях облики знакомых им людей. Угадали и перекрестились.
И едва исчезло это видение, как Николай, измученный, едва не падавший, с распухшим от комариных укусов лицом, но все ещё державший на руках Алешу, воскликнул:
— Смотрите-ка, домик!
— Да это и домиком нельзя назвать, — словно обижаясь на поспешное заявление мужа, сказала Александра Федоровна. — Какая-то избушка, шалаш.
— Нет, мама, не шалаш, — сказала резвая Мария, такая же уставшая, как все, но все ещё не потерявшая всегдашнего бодрого расположения духа. — Я уверена, что здесь живут лесные охотники. Так это или не так, мы обязательно должны туда войти. У меня все платье мокрое, и если мы не просушим нашу одежду, то нам вскоре будет все равно: умереть от пуль большевиков или от воспаления легких.
Николай, хоть и признал про себя, что утверждение дочери легкомысленно, однако упрекать её не стал и лишь сказал:
— Что ж, нужно подойти поближе да посмотреть, что это за жилье. Вперед.
Они побрели в сторону домика, который на самом деле был убог с виду, сложенный из бревен в обло, невысокий, с односкатной крышей, с единственным небольшим окошком, этот дом походил скорее на сторожку лесника, чем на жилище, пригодное для постоянного проживания. Когда путники подошли к дому и Николай, поставивший Алешу на землю, заглянул вовнутрь, то никого не увидел. Постучал в оконце — никто не отозвался, не подошел к окну.
— Попробуем зайти, если дверь не заперта, — повернулся Николай к жене.
— Ники, а это не опасно? — умоляюще взглянула на мужа Александра Федоровна. — Вдруг там засада? Мы войдем, а в нас начнут стрелять.
Николай с озабоченным выражением лица, признавая доводы жены справедливыми, вынул из кармана галифе браунинг и, вытащив обойму, быстро пересчитал патроны. Первую обойму он расстрелял в ночной схватке с чекистами, начал расходовать и второй боезапас, так что лишь пять патронов маслянисто поблескивали темно-желтой медью.
— Пока побудьте здесь, — сказал Николай, а потом, держа пистолет наготове, обошел хибару с другой стороны, левой рукой толкнул дверь, сколоченную из еловых горбылей, — с громким скрипом дверь отворилась, открыв его взору бедную обстановку дома. — Идите ко мне, все идите! прокричал Николай, и в голосе его звучала радость, ведь он сейчас преодолел свой страх, потому что не был уверен в том, что в доме не находятся его враги. Кроме того, этот жалкий домик, лишенный хозяина, теперь мог послужить и им, счастливо спасшимся от погони.
Скоро Романовы были в «покоях». Их головы едва не доставали до закопченного потолка, но все здесь нравилось им: и грубо сделанный стол, и лежанка из досок, и два табурета, и очаг, сложенный из валунов. Ни сам Николай, ни кто-либо из его семейства ни разу в жизни не были в таких домах. Они даже не предполагали, что в России существуют такие бедные жилища, но теперь, после нескольких часов блуждания по ночному болотистому лесу, этот домик показался им надежным убежищем, способным обогреть их и даже защитить.
— Ну, давайте устраиваться! — радостно говорила Александра Федоровна. — Что делать, раз уж я когда-то согласилась выйти замуж за будущего императора России, нужно нести бремя связанных с этим трудностей.
Николай, заметив иронию в словах жены, с некоторым недовольством в голосе сказал:
— Похоже, ты, солнышко, меня в чем-то упрекаешь? Займись-ка лучше своей одеждой и одеждой дочерей. Сейчас мы с Алешей попробуем развести огонь в этом очаге, и вы просушите свои платья.
Николай сказал это так просто, будто каждый день занимался тем, что зажигал дрова в очагах, печах, каминах, и жена с удивлением взглянула на него — она словно увидела в нем совсем другого мужчину. И вдруг она, закрывая лицо руками, громко зарыдала, сотрясаясь всем своим полным телом. Переживания ночи сломили стойкую женщину, которая не плакала так горько с тех самых пор, когда узнала об отречении мужа от престола.
— Я самый несчастный человек на свете! — говорила она сквозь слезы. Если ты, Ники, мужчина и тебе не так трудно переносить позор падения, то я, женщина, не могу, до сих не могу представить себя простой гражданкой новой, как они говорят, России! Я была императрицей, а теперь я — ничто, я хуже грязи, лежащей под ногами. Теперь каждый может плюнуть мне в лицо, оскорбить, обвинить в том, что я во время войны помогала немцам. Они и прежде меня в этом обвиняли, но заглазно, а теперь… теперь…
Николай хмуро слушал, а потом решительно сказал:
— Довольно плакать, Аликс. Давайте сейчас возблагодарим Бога хотя бы за то, что он избавил нас от мученической смерти в том подвале. Все могло бы быть иначе… Что до нашего падения, то я всегда считал, что судьба обошлась со мной немилостиво, сделав меня императором. Я тяготился короной, всегда хотел быть лишь частным человеком, и теперь я и есть тот самый частный человек. Мы поживем здесь некоторое время, покуда нас не прекратят искать. Потом будем пробираться хотя бы к Колчаку, к восставшим против красных чехам. У меня есть деньги, у вас — немного бриллиантов. Поэтому документы мы сумеем достать, а там, возможно, уедем за границу. Впрочем, из России мне будет больно уезжать. Итак, займемся покуда нашим платьем. Алеша, ты когда-нибудь видел, как действовал придворный истопник?
Алексей радостно откликнулся:
— Да, папа, я часто следил за нашими истопниками, только они обычно углем топили, а здесь ведь нет угля.
— Зато есть дрова, — сказал Николай, деловито обошедший помещение и заглянувший уже во все углы. — Смотрите, вон их сколько. Кто-то, видно, заготовил их для себя, но не воспользовался запасом.
— А я ещё где-то читал, — сказал Алеша, — что охотники в своих лесных избушках нарочно оставляют припасы для других, для тех, кто случайно набредет на их избушку.
— Возможно, ты и прав, сынок. Я нашел здесь связку лука, а вот и горшочки с какими-то крупами, правда, я ничего не понимаю в них. Может быть, кто-нибудь из девочек мне скажет, можно ли все это использовать для приготовления пищи?
Анастасия, уже стащившая с себя мокрую юбку, кофточку, чулки, оставшись в одной нижней юбке и низком корсете, босая, подбежала к отцу.
— А ну-ка, папа, дай я посмотрю, — мягко оттолкнула она отца и запустила руку поочередно в каждый из пяти глиняных горшочков, что стояли на полке. — Ну конечно, все это можно есть, правда, это будет очень простая пища, совсем крестьянская. Смотри, вот горох, а это — пшено, я знаю. Вот это — ячмень, а здесь — овес, а тут — гречиха.
— До чего же я дожила, — со вздохом произнесла императрица, стаскивавшая при помощи Марии свое платье через голову. — Мне теперь придется есть овес, точно я не человек, а лошадь.
— Хорошо, не ешь овес, — сказала Анастасия. — Мы угостим тебя вареным картофелем. Его здесь полмешка!
— А может быть, где-нибудь там лежат мои любимые меренги а ля крем? с улыбкой спросила Татьяна.
— Или суфле Вьенуаз? — подала голос Ольга, снимавшая с ноги шелковый чулок, который, к её радости, оказался цел.
— Или вестфальские колбасы? — в тон сестрам спросила Мария.
— Нет, нет, нет, ничего этого там нет, как нет жареных пулярок, куропаток, супа а ля пейзан, ракового супа, лангустов, устриц и груш дюшес. Но, сестрицы, мы не пропадем, если только папе и Алеше удастся разжечь этот великолепный беломраморный камин. Итак, дорогие мужчины, мы ждем, что вы проявите наконец ваши рыцарские качества, иначе мы умрем от холода и голода, — проговорила Анастасия скороговоркой и с самой забавной гримасой на лице.
И Николай, хорошо научившийся владеть топором ещё в Тобольске, увидев на полешках топор, принялся колоть полено на тонкие лучины. Спички он носил с собой всегда, потому что был заядлым курильщиком, и вот, повозившись возле очага с полчаса, Николай, которому ещё чуть больше года назад подчинялась многомиллионная русская армия, вся многосложная государственная машина страны, монарх, повелевавший населением одной шестой части земли, сумел сделать то, от чего был освобожден в течение всей своей прежней жизни.
— Ура! — захлопала в ладоши Анастасия. — А теперь, сестренки, давайте повесим все наши мокрые платья на эту веревку, прямо над очагом. Это ничего, что у этого камина нет трубы. Подумаешь, от нас потом будет вонять дымом…
— Фи, Анастасия, откуда ты знаешь такие мерзкие слова? — с возмущением спросила Александра Федоровна, восседавшая на колченогом табурете в одной нижней юбке. — Можно подумать, ты воспитывалась на кухне.
— Мама, я знаю ещё и не такие словечки, — быстро сказала Анастасия. Уверена, теперь они нам очень пригодятся, потому что мы не должны будем выделяться из народной толпы. Хочешь, я и тебя этим словам научу?
Но Александра Федоровна лишь раздраженно махнула рукой. Она была недовольна своей младшей дочерью.
И вот уже на протянутой в избе веревке висели платья бывших великих княжон и императрицы, а Николай, взяв деревянное ведерко с лыковой перевязью вместо ручки, пошел искать воду. Выйдя из домика, он вначале внимательно осмотрелся и прислушался к лесным звукам, боясь уловить в шуме листвы, в скрипе ветвей чьи-нибудь голоса. Но все было спокойно, и Николай пошел туда, где за деревьями поблескивала вода небольшого озерка. Как видно, человек, построивший избушку, хорошо подумал перед тем, как выбрал место для устройства своего жилища. Не доходя до воды, Николай вдруг поднял голову и увидел, что на ветке большой осины сидит глухарь. Огромный, величавый, непуганный, он смотрел на подходившего человека своими агатовыми глазами и был неподвижен, точно чучело, украшавшее любимый кабинет Николая в охотничьем замке Беловежа. Николай осторожно опустил ведро на землю, вынул из кармана браунинг, тихо-тихо потянул на себя затвор. Охотник сейчас взял в Николае верх над человеком предусмотрительным — ведь выстрел мог быть услышан теми, кто, возможно, разыскивал его. Медленно он поднял ствол браунинга, положил его на предплечье согнутой левой руки, выстрел, короткий и сухой, как треск сломанного сучка, раздался тотчас, и грузная птица, роняя перья, упала прямо под ноги стрелка. Зачерпнув в озерце воды, Николай возвратился к своим, неся за ноги трофей, и гордая голова глухаря волочилась по земле.
Скоро на огне уже стояли два котла — в одном варилась каша, а в другом бурлила вода. Глухаря, чтобы легче ощипать, облил крутым кипятком сам Николай, вспомнивший, как это делалось на охоте в Спало и Беловеже. Потом, выдергивая перья, жмурясь от едучего дыма, наполнившего избушку, улыбаясь, говорил:
— Нет, я даже на праздничных обедах старался избегать французской кухни, о которой вы так тоскуете. Баранина с кашей, щи, пожарские котлеты были моими излюбленными блюдами. Правда, икоркой тоже побаловаться любил.
Александра Федоровна, так и не покинувшая табурет, ему возражала:
— Ах, оставь, пожалуйста, Ники! Все это ты ел лишь потому, что хотел прослыть плотью от плоти своего народа, а вовсе не из-за какой-то особой привязанности к щам и каше. Сама знаю, что тайком в твой кабинет приносили любимое тобой суфле Амбуаз.
— Это неправда, — тихо возразил Николай, не прекращая ощипывать глухаря.
— Наверное, скажешь еще, что неправдой является и то, что твой русский народ не оценил привязанности своего императора к их национальной кухне?
Николай, нахмурившись, хотел было возмутиться, но вдруг дверь хибары, резко взвизгнув давно не смазанными петлями, широко распахнулась, повинуясь удару чьей-то ноги, и на пороге избушки появилась фигура человека, обряженного в какую-то меховую одежду шерстью наружу, с лохматой шапкой на голове, надвинутой на самые глаза, смотревшие свирепо. Давно нечесанная длинная и широкая борода незнакомца, винтовка, направляемая поочередно то на одного, то на другого члена семьи бывшего царя, произвели на всех неотразимое впечатление. Александра Федоровна даже дико вскрикнула — до того была напугана внезапно появившимся человеком, который к тому же хрипло прокричал:
— У кого оружие — на пол бросай, а то всех перестреляю, как куропаток.
Николай, так и не выпустивший из рук глухаря, полез в карман галифе, вынул браунинг и исполнил требование незнакомца. Если бы он не был уверен в том, что за спиной этого странного человека находятся другие люди, он бы распорядился оружием совсем иначе. Сейчас его успокаивала ещё и уверенность в том, что человек в лохматой шубе не мог быть сотрудником чрезвычайки.
— Вот и хорошо, — поуспокоился незнакомец, подняв пистолет и засовывая его за пояс. При этом он удовлетворенно улыбался, и улыбка эта была похожа на гримасу палача, довольного своей работой.
Сев на табурет посреди избы и положив винтовку на колени, мужик спросил, поглядывая на каждого из Романовых по очереди:
— Вы кто такие будете? — и в вопросе его уже не слышалось ни ненависти, ни даже подозрительности. Казалось, он был несколько смущен, когда разглядел хорошенько, на кого он направлял свое оружие. Александра Федоровна и её дочери между тем были немало сконфужены тем, что их застали в неглиже, но срывать с веревки ещё мокрые платья они не стали и стояли, прижавшись друг к другу, прикрывая верхнюю часть груди руками.
— Как вы посмели ворваться туда, где находятся полуодетые дамы? — с гордым вызовом спросила бывшая императрица, не желая отвечать на вопрос бородатого дикаря, поигрывавшего своей винтовкой.
— А ну-ка, цыц там, дама! — желая быть грозным, прикрикнул незнакомец. — Не я в ваш дом пришел незваным, а вы, так что лучше бы тебе в онучку уткнуться. Спрашиваю по-хорошему, кто вы такие будете, а не хотите отвечать, так проваливайте подобру-поздорову. Мне насельников не надобно.
Николай, который ещё вчера, в доме Ипатьевых, не мог представить, что к нему и к членам его семьи кто-нибудь станет обращаться в таком тоне, понимая, между тем, что сила на стороне незнакомца, сказал:
— Простите, пожалуйста, что мы без разрешения вторглись в ваши владения. Но сегодня рано утром мы вышли из леса совершенно обессиленные, мокрые, голодные и просто благодарили Бога, когда набрели на вашу избушку. Если бы вы, как видно, хозяин, находились в то время дома, мы бы обязательно спросили у вас разрешения согреться у этого очага.
Было видно, что спокойный тон человека в военном френче, но без погон произвел на лохматого мужика смягчающее впечатление. Он, правда, угрюмо похмыкал, посопел и пробурчал:
— Ну, ну, дальше говори, кем вы будете, откель бредете?
— Я — офицер царской армии, полковник, — сказал Николай, коротко поклонившись одной лишь головой. И, произнося эти слова, он говорил чистую правду. Он был полковником Преображенского полка, и никто не лишал его этого звания, хотя большевики заставили его снять погоны. — А идем мы из Екатеринбурга. Я и моя семья, зная, что Чрезвычайная комиссия хочет учинить над нами расправу, предпочли уйти в лес. Мы целую ночь плутали в чаще, покуда не подошли к вашему дому. Знайте, что я, все мы будем вам весьма признательны, если вы позволите пожить нам у вас хоть некоторое время. Прошу вас, не беспокойтесь, у нас найдутся деньги, чтобы щедро отблагодарить вас за постой.
— Значит, ахфицер ты… та-ак, — протянул мужик, полностью удовлетворенный речью своего неожиданного постояльца. Ему было очень приятно, что в его жалкую хибару пришел сам полковник царской армии, белая кость, благородный, в то время как он, лесной житель, дикарь, может пустить полковника к себе, а может и отказать ему. — Ну ладно, ахфицер, меня же Трофимом Петровичем величают, а ушел я в лес потому, что опаскудилась с некоторых пор жисть моя. Был я когда-то в Екатеринбурге рабочим, деньгу хорошую имел, свой дом, жену и четырех сыновей-погодков, — и Трофим Петрович даже показал рукой невидимую лесенку их возрастов. — Да вот случилось так, что царь наш государь с японцами войну решил затеять незнамо для чего. Вот и взяли всех четырех моих сыновей на японский фронт да всех их под Ляяном али под Макденом и поубивало. Мать их, жена моя, как о том узнала, умом рехнулась и с год после того всего-то и прожила. Я же горькую пить начал, сильно пил. С завода меня прогнали, стал по дворам скитаться, ибо свой дом в кабаке спустил, и решил я — будто какая сила свыше подсказала мне — в лес уйти. Построил я эту избушку, ружьецо у меня плохонькое было, — не это — другое, — стал охотничать, стал к травам присматриваться, и дал мне Бог разумение, какие травы да коренья какие болезни лечат. Чтобы умение свое проверить, принялся я в город хаживать от времени до времени, там людей поднимал со смертного одра, лечил их умело, потому как понял, что только благодаря Всевышнему и получил такую благодать.
И тут Николай на самом деле увидел, что повсюду в избушке висят по стенам пучки каких-то трав, запах которых не заглушался даже запахом дыма.
— И вот думаю я теперь, что если бы русский царь не отнял у меня четверых моих сынов, никогда бы я не познал такой науки.
— Значит, вы благодарны русскому царю? — с наивной прямотой спросил Алеша, очень переживавший за судьбу своего отца.
— Не-е-т, господин хороший, это я так, кругло решил высказаться, покачал головой Трофим Петрович, и огонь ненависти полыхнул в его глубоко посаженных глазах. — С такого царя, как наш, я бы собственноручно ремни резал…
— Какие ремни? — испугался Алеша.
— А такие, кожаные, с его спины ремни, да эти бы самые ремни его бы жрать и заставил! Эка, такую тьму народу русского по его воле переколошматили — страсть. А в последнюю войну, в германскую, и того больше. И ведь только мы, русаки, и вели своих детей, точно агнцев, на заклание. Другие-то жители империи Российской поумнее были…
Речь Трофима Петровича о ремнях, которые не худо было бы вырезать из спины русского царя, на всех Романовых произвела отвратительное впечатление. Каждый, включая и самого Николая, думал сейчас о том, что никак невозможно выдать этому страшному человеку свои настоящие имена.
— А кто же это в России поумнее русских был? — еле сдерживая волнение, спросил Николай.
— Как кто? Немало таковых находилось. Мне один дохтур городской рассказывал, что он на призывном участке работал, так хитрых немало находилось. Немцы русские, например, боясь призыва, так себя голодом изнуряли, что чистыми шкелетами на комиссию приходили — не брали их. Татары другую штуку любили: засунут себе в задницу на несколько дней махонький мешочек с горохом, а горох-то у них там и распарится, больше станет. Дернут они тогда за веревочку, что к мешочку заранее привязана, вот у них кишка-то и выпадет — бракуют таких. Но умнее всех явреи были. Они ни горохом, ни голодом себя не увечили. Просто договаривались с самыми больными людьми из своих, которые на участке-то своих болезней не показывали. Брали таких в армию, а потом они в скором времени все свои болезни открывали, и списывали их назад, — так у них и больные и здоровые целы и сохранны оставались. Русские, конечно, тоже стремились не идти служить — пальцы себе указательные по дурости отрубали, но мало таких было. Я же своих сынов сам в участок привел — и не вернули мне их, сожрал их полностью русский царь.
Если бы Трофим Петрович был проницателен, то без труда распознал бы на лицах своих постояльцев сильное замешательство, даже страх, но он, хоть обладал способностью лечить травами, на лицах людей читать не умел, однако заметил, что произвел на семью «ахфицера» впечатление своим рассказом.
— Ну, ты, полковник, вижу, глухаря убил — птица знатная. Только не по-нашему ты за неё взялся. Эх, руки бы тебе поотрывать за такую работу.
И знахарь, выйдя вначале за порог и принеся с крыльца за уши двух убитых им зайцев, бросил их рядом с глухарем, а потом принялся за ощипывание птицы. При этом он искоса посматривал на девушек, все ещё не сумевших оправиться от смущения, и говорил:
— Хорошие у тебя кобылки, ахфицер, нежеребые еще, да вот только сынок твой квелый. Чем болеет?
— У… Александра гемофилия, — ответила за Николая Александра Федоровна, изменившая имя сына, потому что боялась, как бы этот лесной человек не догадался…
— Что за болезнь такая? — нахмурился знахарь.
— Плохая сворачиваемость крови. Если ушибить, к примеру, ногу, то возникает внутреннее кровотечение, которое не остановить. Кровь давит на ткани и причиняет сильную боль, — сухо и деловито объяснил Трофиму Петровичу уже Николай.
— А, знакома мне такая болезнь. Кровоточкой её у нас называют. Ну так попользую вашего Сашку своими травами. Не будет больше болеть.
— Неужели вы на самом деле… сможете помочь моему сыну? — вся дрожа от волнения, спросила мать, ибо вдруг внезапно поверила в силы этого человека, глубокие, страстные глаза которого так напоминали глаза Распутина. Александра Федоровна даже на секунду допустила одну странную мысль, но тут же отогнала ее: "Нет, нет, не может быть, я видела тело старца…"
Не прошло и часа, а в котлах на очаге уже варился глухарь с травами и кореньями и тушилась зайчатина с картошкой и морковью. Романовы, привыкшие уже к присутствию человека, страшно ненавидевшего «их», переставшие стесняться своей полунаготы (потому что решили, что стесняться можно лишь ровни), ждали теперь лишь одного — еды, пусть грубой, простой, сваренной в каких-то грязных, закопченных котлах, но все же способной вернуть им силы, утраченные во время ночного странствия по лесу.
И вот уже дымящиеся котлы были поставлены на стол, но оказалось, что у хозяина всего одна миска и две деревянные ложки, причем одна из них с наполовину сломанной ручкой.
— Как же мы будем есть? — очень вежливо спросил у хозяина Николай.
— Ну как — по очереди! — ответил «старец». — Кто хочет, пусть в миску еду положит, а другие пусть прямо из котла хлебают. Мясо я мелко настрогал, ложкой цеплять можно, а то и руками ешьте. Э, ты, я вижу, ахфицер, к такому способу непривычен, но так что же делать будешь? Надо привыкать, коль в лес забрел своей охотой.
Николай чуть смущенно улыбнулся и протянул ложку своей жене, которая, незаметно обтерев её платком, с брезгливой миной на лице, явившейся совсем невольно, зачерпнула из котла, где была похлебка с глухарем, съела и, негромко почмокав, кивнула одобрительно:
— А это ведь довольно вкусно! Как это мне раньше не удавалось попробовать столь отменного блюда.
— Потому, мамочка, что тебе никогда ещё не приходилось так много ходить по болоту, — со вздохом заметила Ольга, а Трофим Петрович лишь полупрезрительно хмыкнул и полез рукой в котел с зайчатиной.
Спали они на следующую ночь на полу, на каких-то вонявших кислятиной и плохо обработанной кожей шкурах, постеленных хозяином. Лишь Александре Федоровне досталась сбитая из плохо оструганных досок лежанка, сам же знахарь пошел почивать в сараюiшку, где у него было сено, заготовленное с осени для пойманной им в лесу одичавшей козы, околевшей отчего-то зимой. Уже вечером Трофим Петрович дал Алексею отвар каких-то трав и прошептал над мальчиком заговор, чем сильно и приятно поразил бывшую царицу, забывшую тут же, какую кару уготовил бы этот человек для её мужа, да и, возможно, для всех них.
— Какой он странный, жутко странный, — прошептала Анастасия, когда Романовы, помолившись перед сном, улеглись на шкуры. — Ему, видно, человека убить — все равно что комара, а вот взялся-таки лечить Алешу, не прогнал нас, накормил.
— Они все очень странные, эти русские, — вздохнула Александра Федоровна. — Я прожила в России больше тридцати лет, да так и не поняла, что это за народ. Ну и Бог с ними…
Больше они ни о чем не говорили, потому что тяготы минувшей ночи навеяли на них скорый сон. Только один Николай долго не спал. Из его головы не выходили слова Трофима Петровича о том, что у такого-де царя, как он, ремни из спины вырезать нужно. Николай давно знал, что его в стране многие не любили именно как царя, но чтобы нелюбовь могла выразиться в такой безобразной форме, он не подозревал. "Ну отречение, ну ссылка, ну заключение в крепости, расстрел, в конце концов, но чтобы так жестоко расправиться с помазанником Божьим — поразительно. Я, управляя Россией, думал, что понимаю народ, но, оказывается, я не знал о его истинном отношении к себе". Перекрестившись, он вскоре заснул, будучи очень недовольным собой.
Наутро Трофим Петрович засобирался. Отдал Николаю браунинг, свою «драгунку» с пачкой патронов, дал наставление Александре Федоровне, как врачевать «Сашку», сказал, что идет в город, чтобы «пользовать» людей, велел дожидаться его возвращения и с мешком, в котором лежали его лесные лекарства, пошел по тропинке в направлении, только ему одному и известном.
Две недели Романовы жили в лесной избушке, и Николай уже начал беспокоиться о том, что их хозяин не придет. Во-первых, он ждал от него вестей о положении в Екатеринбурге, который вот-вот должен был перейти в руки колчаковцев. Во-вторых, если бы он надумал выбираться из леса, то без подсказки лесного жителя это было бы трудно совершить. Его уже не страшило то, что Трофим Петрович может раскрыть его секрет, — слишком уж диким казался он, но Николай не мог быть уверен в том, что знахарю не придет в голову мысль передать «ахфицера», полковника, в руки чрезвычайки.
Но вот Трофим Петрович появился. Надо сказать, что за время его отсутствия девушки и даже Алеша, который, к великой радости матери, на третий день уже спокойно стоял на своей больной ноге, а на седьмой даже бегал, привыкли к своему лесному житью. Свобода, истинная свобода, безо всяких дворцовых условностей, которыми прежде была опутана их жизнь, очаровала детей бывшего императора, и они уже почти не замечали неудобств их лесной обстановки.
Трофим Петрович, желая, как видно, проявить себя радушным и хлебосольным хозяином до конца, принес из города пшеничной муки, цибик чаю и сахар, врученные ему за лечение больных, и, когда вечером сели ужинать, знахарь, видя удовольствие, с каким его постояльцы уписывали свежевыпеченный хлеб, говорил, ухмыляясь в бороду:
— Теперь ты, ахфицер, можешь в город идти, не тронут там тебя. Белые в городе. Ох и шерстят же они народ! Стреляют направо и налево. Кто с красными лямку тянул, не щадят, а тем паче потому лютуют, что, как сказывают, расстреляли большевики всю царскую семью и их прислугу…
— Как расстреляли? — опешил Николай.
— Да как, обычно, — равнодушно заметил Трофим Петрович. — Привезли их в Екатеринбург из Тобольска, а незадолго до того, как ушли из города большевики, кокнули они в подвале одного дома самого Николашку, жену его немку, которая во время войны Герману сахар посылала да на него шпионила, всех царевен и маленького царевича. Никого не пощадили, да и правильно сделали. Если б мне такое дело доверили, и у меня бы рука не дрогнула. Всех бы прикончил без жалости.
— Отчего же это вы, Трофим Петрович, такой безжалостный? Разве Романовы не люди? А ещё людей лечите. Христос же прощать велел… — очень тихо, не поднимая глаз, сказал Николай.
— Почему безжалостный, спрашиваешь? — уперев руки в столешницу, заговорил Трофим Петрович. — А царь-то к нам жалостлив был, когда на войну отправлял?
— Не царь вас на войну отправлял, а сложившиеся в стране и мире обстоятельства. Нужно было отечество защищать, вот вас и посылали на войну, — с какой-то холодной решимостью, но все так же тихо промолвил Николай, в то время как его дети замерли в ожидании какой-то беды, перестали есть, а Александра Федоровна умоляюще смотрела на мужа, желая остановить его.
— Ах, обстоятельства! А какие же такие обстоятельства заставили нашего царя грязного мужика в свою спальню допустить, конокрада, который с женой царской да с его дочками каждый день на постели валялся? Ведомо мне, какие тут обстоятельства, — коли у самого плохо мужские дела ладятся, так нужно помощника сыскать!
— Никогда Григорий Распутин не входил в царскую спальню! — отчеканил Николай, и все увидели, как перекосило его лицо от ярости и ненависти к этому человеку.
— А ты откуда знаешь, ахфицер, что не входил? — с куражом спросил Трофим Петрович, которому доставляло удовольствие спорить с полковником. С фонарем стоял или Николашка сам тебе о том доклад делал?
— Нет, не делал, просто я… и есть тот, кого ты называешь Николашкой, а это — моя супруга, бывшая императрица Александра Федоровна. Рядом с ней сидят наши дочери, великие княжны Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия, а это — цесаревич Алексей, бывший цесаревич. Ты царского сына лечил…
Нет, не изумление, а какое-то раздумье нарисовалось на посконном лице Трофима Петровича. Его, казалось, не столько удивляло неожиданное превращение «ахфицера» в бывшего императора, сколько нерешенная задача: как же ему вести себя сейчас, после того как он так много посулил русскому царю.
— Выходит, врали люди, не расстреляли вас? — чуть ли не огорченно сказал хозяин.
— Получается, что врали, — кивнул Николай. — Спасли нас от расстрела.
Вдруг щеки Трофима Петровича раздвинула широкая улыбка:
— А не расстреляли, так и ладно, так и хорошо. Ешьте, пейте, да и спать ложитесь, а я на сеновал пойду, только «драгунку» свою с собой возьму. А то не ровен час…
И, сытно рыгнув, знахарь поднялся из-за стола да и вышел из избы.
— Ники, что же ты наделал, не мог сдержаться? Кого ты захотел разубедить, этого мужика? Я не пыталась возражать, когда меня поливали грязью великие князья, твои родственники, а перед этим быдлом ты решил раскрыть все карты. Как ты неосторожно поступил! — с плачем говорила Николаю Александра Федоровна, но он лишь сказал:
— Я защищал твою и свою честь, Аликс. Не мог же он в моем присутствии обвинять тебя и дочерей Бог весть в каких вещах.
— Папа, тебе нужно было его убить! — со слезами на глазах сказал Алеша, но Татьяна, отличавшаяся самообладанием, сказала так:
— Мы уже завтра утром должны будем уйти отсюда, покуда этот дикарь не попытался исполнить свою угрозу в отношении тебя, папа. Завтра же идемте в Екатеринбург, занятый Колчаком.
— Так мы и сделаем, — кивнул Николай. — А теперь давайте спать ложиться. Предлагаю завтра поутру подняться рано. Я оставлю деньги на столе, и мы будем считать, что сполна расплатились за постой, лечение Алеши и за еду.
И Романовы, помолившись перед сном, улеглись на противно пахнущие шкуры, Николай же улегся, не снимая даже френча. Он решил не спать всю эту ночь, потому что обязанность защитить семью, особенно после того, как он сделал неосторожное признание, подчинила сейчас всю его волю. Пистолет, хоть и был с невзведенным затвором, однако лежал наготове, под рукой. Около двух часов не спал Николай, прислушиваясь к шорохам окружившего избушку леса, слышал, как где-то далеко кричала, стенала какая-то лесная птица, но ничего иного не слышал, и вот уже сон наполнил его веки тяжестью, и они закрылись.
"А как бы не так, как бы не так, Николашка, — думал в это время Трофим Петрович, лежа на сене. — Ты моих сынов убил, жену мою вслед за ними отправил, так вот тебе тем же и отплачено будет, тем же судом осудим".
Было часа три ночи, когда Трофим Петрович тихо поднялся, все сено из сараюшки выволок наружу, привалил к стенам избушки со всех сторон, предварительно подперев дверь тяжелым колом. Ступая осторожно, насобирал валежнику, поместил его на сено. Потом сено зажег пучком соломы, запаленной от спички. Увидев, как вспыхнуло сено, как перекинулось пламя на валежник, отошел с «драгункой» шагов на двадцать пять от избушки, с той стороны, где располагалось небольшое оконце, клацнул затвором карабина, стал ждать, а в душе царила радость, будто встретил своих сынов живых-здоровых. Когда в доме забегали, засуетились, учуяв дым, увидев языки пламени, когда стали в дверь стучать, стоял, направив ствол на окно. Вдруг под ударами чего-то тяжкого стекло окна разбилось, с треском вылетела и рама, и вот тогда пальнул Трофим Петрович прямо по оконцу, желая предупредить того, кто попытался вырваться из дома, но из окна одна за другой сверкнули четыре вспышки, четыре пистолетных выстрела прогремели раз за разом, и Трофим Петрович, мечтавший поквитаться с бывшим русским императором, упал ничком, точно подрубленный. А Николай, протиснувшись сквозь узкое оконце, сквозь пламя бросился к дверям хибары и выбил кол, мешавший выходу на волю его родных.
***
Детские годы Николая, его братьев и сестер прошли в Гатчине, вдали от петербургской суеты, в тихом интимном кругу семьи. Уклад жизни благопристойный, почти простой, несколько буржуазный, что обусловливалось семейными добродетелями воспитанной на лютеранских моральных ценностях Марии Федоровны и Александра, честно несшего нехлопотное в обстановке дворцовой жизни бремя брака. Лишь одним огорчал Марию Федоровну муж склонностью к спиртным напиткам. По столице ходили незлоречивые рассказы о сапогах императора, имевших широкие голенища, где государь, опасаясь гнева жены, прятал фляжки с коньяком.
Итак, детство Николая проходило в мирной обстановке домашнего круга, не зараженной взаимной неприязнью глав семьи по поводу любовных похождений, дрязг, без которых трудно было представить какой-либо европейский монарший дом. Александр, любивший своих детей, участвовал порой и в их возне в саду, когда они обливали друг друга из лейки.
Все три мальчика имели разные характеры. Старший, Николай, знавший о своем предназначении, порой важничал, Георгий, наверное, предчувствуя сердцем неизлечимую болезнь, был замкнут, и совершенной противоположностью обоим являлся младший, Михаил, веселый, краснощекий шалун. Он-то и был любимцем отца, и порой можно было видеть государя, проезжающего в открытой коляске по улицам Гатчины, который сотрясался от смеха, слушая мальчика в офицерской форме, — Миша умел рассмешить отца.
Первым учителем Николая и его братьев был англичанин, попросту именовавшийся Карлом Осиповичем. Он был не только учителем, но и гувернером великих князей. От него-то Николай научился английскому языку, привязанность к которому не утратил в течение всей жизни. Известно, что будущий царь учился у Карла Осиповича акварельной живописи, но без особого успеха. Лучше обстояло дело с чисто аристократическими занятиями: очень рано великие князья научились ездить верхом, стрелять и фехтовать, ловили со своим наставником лососей. Впрочем, они здесь были настоящими мальчиками, и при неназойливом стремлении отца обогатить их глубокими знаниями, которыми он сам не обладал, царевичи в основном посвящали досуг приятным джентльменским занятиям.
Но когда наследнику престола Николаю Александровичу было уже девять лет, директором военной гимназии генералом Даниловичем был составлен план его обучения, имевшего двенадцатилетний курс. За восемь лет великий князь должен был овладеть предметами курса средних учебных заведений, а четыре года посвящались наукам университетским.
Николай повзрослел, и император Александр нашел нужным кроме образования гражданского вооружить будущего государя ещё и знаниями военными, и Николай стал блестящим гвардейским офицером. Летом проводил время в лагерях, походах, ученьях на плацу, но кроме занятий чисто воинских наследник охотно принимал участие в застольях, пирушках, а то и просто пьянках и кутежах шумной гвардейской молодежи. Красивый молодой человек, не стесненный в денежных средствах, Николай узнал прелести любви довольно рано. Достаточно скоро появилась и прочная связь с красавицей балериной Матильдой Кшесинской, но этот роман пришелся не по вкусу Александру Третьему. Узнав о связи сына с "какой-то танцовщицей", отец был просто в ярости, и на семейном совете, дабы уберечь Николая от пагубной страсти, решил выслать артистку из столицы в двадцать четыре часа. Обер-полицмейстер Грессер явился к Кшесинской с указом о высылке, та, улыбаясь, пригласила его в будуар, где находился наследник российского престола.
— Николя, посмотри, в чем там дело, — небрежно сказала она.
Взбешенный Николай, быстро поняв, чем вызван визит обер-полицмейстера, вырвал указ из рук Грессера, разорвал бумагу и выгнал чиновника за дверь. Так наследник, а потом царь мог защищать свои личные интересы. Упрямство было одной из самых характерных черт Николая Александровича.
Ступень третья ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ СТРАСТИ
Вынув из-под застреленного Трофима Петровича «драгунку», Николай закинул её за спину. Оружие могло пригодиться, по крайней мере в лесу. Теперь он был уверен в том, что любой такой "Трофим Петрович" мог быть опасен для него лично и для тех, кого он так любил. Снова оказавшись в ночном лесу, жена и дочери плакали, а Алеша, ухватившись за руку отца, шептал ему, глотая слезы:
— Папа, да как же это получается? Страшно как получается. Почему люди такие злые, ведь этот Трофим Петрович живьем нас сжечь хотел.
И Николай, нагнувшись к уху сына, прошептал, сам еле сдерживая слезы:
— Прости, дорогой, это я один во всем виноват. Это люди вам за меня мстят, но ты не бойся, не бойся, я вас в обиду не дам. Я ведь теперь не царь, а простой человек, мужчина. Явас защищу. Сейчас мы по этой тропинке пойдем, я запомнил, что хозяин в город именно по ней пошел. Я — впереди, а вы за мной, только не отставайте и в сторону — ни шагу.
И, оставляя у себя за спиной догоравшую избушку, приютившую их, а потом едва не ставшую их могилой, Романовы побрели мимо черных деревьев туда, где, как они считали, находился Екатеринбург, захваченный белыми, которых Николаю бояться не приходилось. До рассвета оставалось ещё два часа, а поэтому идти пришлось почти наугад. Лишь охотничье чутье подсказывало Николаю, куда ставить ногу, его сапог верно ступал по твердой земле, и бывшему императору казалось, что опасность с каждой минутой делает его все сильнее, находчивее и умнее.
До того как кроны деревьев порозовели, Романовым удалось пройти, как думал Николай, километров семь. Лес поредел, — казалось, именно наступивший рассвет и разредил густой лес, так что они вышли на неожиданно появившееся шоссе уже ранним утром, и разом у всех словно камень с сердца свалился спасение, полное спасение, ожидавшее их в Екатеринбурге, было близким.
Подходили к городу. То тут, то там встречались следы недавних боев: раздутые трупы лошадей, перевернутые повозки, топорщившиеся оглоблями по краям дороги. Иногда неподалеку от шоссе Николай замечал непогребенные тела людей, над которыми с отвратительным жадным карканьем кружились какие-то черные птицы. Но вот подошли к деревянным домишкам предместий, и он сказал, обращаясь к своим, когда они остановились возле дощатого забора одного из дворов:
— Сейчас вы зайдете в этот дом и попросите приюта на пару дней. Я же пойду к городским властям или… к победителям, не знаю, как правильно назвать. Нужно договориться о местах на поезд до Петрограда.
— Папа, ты что же, так с винтовкой и пойдешь? — удивленно спросил Алеша.
— Да, думаю, я сумею объяснить колчаковцам, откуда у меня «драгунка». О себе же хозяевам скажите, что вы… беженцы из Тобольска и ждете поезда на Петроград. Вот деньги за постой, отдайте тотчас, а я, наверно, к вечеру приду.
Отворив калитку, Николай впустил во двор своих родных, а сам пошел по улице рабочей слободки, безлюдной и неприветливой. Во френче, в высоких сапогах, в фуражке с кокардой старой русской армии, но без погон, с переброшенной за спину «драгункой», Николай выглядел воинственно — его борода и волосы заметно выросли за то время, покуда он был в лесу, лицо покрылось царапинами и волдырями от комариных укусов, — внешностью он сильно смахивал на дезертира. Разглядеть в этом человеке черты бывшего государя России было почти невозможно.
Стук копыт послышался как-то очень неожиданно — три всадника с карабинами за спиной, с пиками и шашками выехали прямо навстречу идущему Николаю из ближайшего переулка. Горделивые позы, фасонисто выпущенные из-под фуражек ухоженные чубы, побрякивающие на груди «Георгии», а у правого бока — шашки в кожаных ножнах, грозные взгляды, какие и должны быть у конных патрульных в недавно отбитом у красных городе.
— А энто ещё что за гусь лапчатый! — уперев левую руку, державшую поводья, в бедро, облаченное в синее шароварное сукно, спросил один из патрульных — как видно, старший.
Николай остановился. Патрульные неспешно подъехали к нему, окружили, рассматривали с вопросительным ожиданием, точно ждали, что сам незнакомец объяснит им, кто он такой и откуда идет.
— Откель идешь, и по какому такому праву с оружием? Из какой части, и почему без погонов, а? — возвышая голос до пронзительной фистулы, прокричал вдруг один из всадников.
— Господа казаки, — спокойно заговорил Николай, знавший всегда, как свято почитается его имя в казачьих частях, — прошу вас, проводите меня к самому высшему своему начальству. Там я все объясню. Винтовку и пистолет я сдаю добровольно.
И Николай стащил из-за спины «драгунку», а после вынул и браунинг. Когда оружие было передано казакам, один из них, нарочито угрюмо хмурясь, деловито заглянул в дульные отверстия, пихнул туда уголок выуженной из кармана тряпицы. Спросил у Николая гневно:
— По ком из них стрелял? Спрашиваю тебя на полном серьезе, и отпираться не смей! Нам вручены самые крепкие права, и ежели ответ твой будет лживый, то порешим тебя тут же, в энтом самом дворе, без суда и всякого там следствия!
Николай понял, что казак не шутит и ему нужно будет дать прямой, исчерпывающий ответ, ибо этот патруль, как видно, на самом деле был наделен большими полномочиями.
— Господа казаки, — заговорил Николай, — эта винтовка человека, приютившего меня и мою семью в лесу, где я скрывался от большевиков. Из неё он сегодня ночью пытался меня убить, но я его убил из пистолета, который вы и держите сейчас в своих руках.
— От большевиков, говоришь, скрывался, — нагнулся с седла казак с четырьмя «Георгиями», точно хотел услышать пояснее то, что говорил ему пленник. — А какого ж лешего тебя в лес занесло? Почему к нам не пробирался, чтобы бороться за освобождение Екатеринбурга? Красно ты говоришь, дядя, только твоей брехне мы верить отнюдь не хотим, потому что много вас всяких тут шатается! Думаю я, что ты сам из красных, потому что лихо ты погоны с себя снял и теперь белым представиться хочешь. Больше, браты, — обратился казак к другим всадникам, — я слушать этого малого не хочу. Кончаем его — и крышка!
Все трое тут же спустились с лошадей. Не выпуская из рук своих длинных пик, казаки покрепче ухватили Николая, у которого ноги подогнулись от страха.
— Господа, господа, да как же так?! Да неужели ж вы хотите расстрелять меня?
— Точно, догадался, расстрелять! — волокли они Николая во двор. — Как такие красные собаки, как ты, расстреляли государя императора с семьей и даже не чихнули. За все сейчас ответите, собаки краснозадые!
Николая приволокли к стене бревенчатого сарая, прислонили к ней, а рядышком притулили к сараю свои пики. Отходили от приговоренного к казни не спеша, дороiгой снимая из-за плеч карабины, деловито передергивали затворы. Отошли на десять шагов, точно переминаясь с ноги на ногу, повернулись, и когда он увидел их спокойные лица, то сразу понял, что через полминуты его не будет, а семья так и не дождется его сегодня.
— Братцы, — проговорил он вдруг неожиданно спокойным, но каким-то торжественно-просветленным голосом. — Последнюю просьбу можете исполнить?
— Ну что тебе, глаза, что ль, завязать? — лениво спросил один казак.
— Нет, завязывать не нужно. Разрешите папиросу выкурить.
— Кури, да нам уж дай, — был снисходителен казак, считавшийся за старшего в патруле, — тот самый, с четырьмя крестами.
Николай дрожащими руками полез в нагрудный карман френча, где у него, в серебряном портсигаре, оставалось ещё три папиросы. Достал его, раскрыл, предлагая подошедшим казакам.
— Можете себе на память взять, портсигар прекрасный. Его мне мать, императрица Мария Федоровна подарила на восемнадцать лет. Смотрите, надпись: сыну Николаю от матери-императрицы.
— Чего, чего? Это у тебя откуда портсигар такой? — сказал георгиевский кавалер, и нижняя его губа отвисла чуть ли не до верхней пуговицы.
Казаки рассматривали портсигар, забыв о папиросах.
— Братцы, — сказал другой казак, — а эту сволочь нам нужно в разведку отвести. Видно, матерого волка взяли. Он-то и убивал царя, раз у него такой вот портсигарчик отыскался. Эх, хорошо, что не успели его жизни лишить, теперь, глядишь, поощрение получим, сугубую начальственную благодарность…
— Нет, постой, Ефим, — с каким-то страхом, отчетливо написанным на глуповатом лице, сказал другой казак, крутя в руках портсигар. — Дядя-то говорит, что он папиросницу энту… от матери своей в подарок получил, от императрицы. Получается, стал быть, что энтот человек — сам император Николай Второй…
И, скумекав собственным умом этакую-то мыслицу, казак широко разинул рот и опустил свой карабин на землю. Но третий казак пробасил:
— Федя, напраслину не неси-ка! Ишь что закуделил — сын императрицы, император! Вчера одного на распыл пускали, так он нам архиепископом Екатеринбургским представился, чтоб только от казни спастись. Вот и энтот несет незнамо что, хотя портсигар у него, вполне возможно, императорский. Отведем его в сотню, пусть сотник сам и решает, что с ним делать: то ли кокать, то ли куда дальше отправлять. А то свяжешься с каким говном, так не отмоешься потом вовек…
И Николая, выведя со двора, погнали в сторону центра города. За конными он поспевал едва-едва, а они, держа его с двух сторон боками своих худоватых жеребцов, подталкивая в спину тупым концом пики, заставляли двигаться так же скоро, как рысили сами, спеша скорее разрешить вопрос с чудаковатым «дядей», ополоумевшим настолько, что назвать себя сыном императрицы ему было так же просто, как сморкнуться.
В дом, где квартировал их начальник, сотник Караваев, пивший в это время молоко с пшеничным хлебом, казаки вошли, громко топая ногами и гремя шашками.
— Вот, ваше благородие, захватили утром одного, отсюда недалече. При винтовке был и пистолете, с нагаром все стволы. Вразумительного ничего не сказал, зато, когда расстрелять мы его собрались как подозрительного, показал нам портсигар один. Вроде царский портсигар. — Казак с «Георгиями», в почтительной позе приблизившись к столу "их благородия", положил на краешек драгоценную вещицу и, пятясь, ретировался на прежнее место.
Когда сотник, морщась, раскрыл портсигар и прочитал надпись, сделанную на внутренней его части, казак с виноватой улыбкой, будто не хотел беспокоить начальство по пустякам, сказал, прикрывая рот двумя пальцами:
— Говорил еще, что он и есть… сын императрицы, то есть, мы смекнули, бывший император — Николай Второй.
Похоже, у сотника, напившегося молока с калачом, поданного ему приятной с виду молодухой, хозяйкой дома, было очень хорошее расположение духа. Он ойкнул, а потом загоготал, топорща в разные стороны свои густющие усы с каплями молока.
— Ну, братцы, и смекалистые же вы у меня! Сразу видно, что Караваев командир у вас! Такого антиресного человека разыскали! Что ж, теперь ждите милости от него — отблагодарит, ей-ей!
Николай, которому давно уже наскучило то, что его не желали признавать за бывшего государя, прервал смех сотника твердой фразой:
— Да замолчите вы! Этот портсигар я вручил казакам, чтобы они убедились в том, что имеют дело с Николаем Александровичем Романовым, бывшим императором России! Вы что, никогда не видели портретов своего императора? Вы смеетесь так громко и… глупо, что я готов подумать, будто вы на самом деле симпатизируете большевикам!
Но Караваев, на которого смелый тон речей бородатого и исцарапанного человека произвел не отрезвляющее, а, напротив, раздражающее действие, Караваев, который хоть и видел не раз портреты императора Николая Второго, но никак не мог предположить, что казаки могли втолкнуть в его комнату бывшего государя, заорал, привставая из-за стола:
— Ма-а-алчать, гнида! Я тебе сейчас такого императора на спине нарисую, что долго Караваева помнить будешь! А ну-ка, Фимка, распиши ему всю спину нагайкой, сейчас же распиши!
И тут же два казака сорвали с ошеломленного рукоприкладством Николая френч, да так грубо, что пуговицы запрыгали по полу, застеленному лоскутными половиками.
— Что вы делаете, холопы! — закричал Николай в ужасе, впервые в жизни проговаривая слово «холоп» при обращении к людям, хотя в душе он часто именовал так своих подданных. — Я — Романов, я — помазанник!
— Давай, давай, секи помазанника, в душу его мать! — орал в свою очередь разъяренный Караваев, который был опьянен собственной независимостью и властью.
Поваленный на пол, без рубашки, Николай, не в силах сбросить с себя двух дюжих казаков, державших его ноги и руки, горько зарыдал, переживая унижение. Если большевики хотели расстрелять его за то, что он был царем, Трофим Петрович хотел его убить за то же, здесь получалось все наоборот Николая наказывали за посягательство на царское достоинство.
Пять раз взвизгнула над его спиной нагайка, пять раз она впилась в белое тело человека, ещё совсем недавно повелевавшего огромной державой.
— Ладно, будет с него, будет, — сказал Караваев, насладившись страданиями лежавшего перед ним человека. — Таперя отведем его в разведку, чтобы там доподлинно опознали, что это за фрукт такой и чем он пахнет. Маланья, подай-ка мне мундир и шашку!
И скоро Николая, лицо которого было искажено болью и унижением, во френче нараспашку, по причине отсутствия пуговиц, уже вели в другую часть Екатеринбурга: по бокам — два казака на конях, а Караваев — сзади, с цигаркою в зубах и в заломленной на затылок фуражке. Николай шел, не сомневаясь, что жить ему осталось совсем немного, и лишь мысль о том, что о его позоре не узнают жена и дети, немного утишала боль страданий.
Дом, куда ввели Николая, сопровождая приказ войти тычками в бок, был каменным, с колоннами, — в нем когда-то находилось дворянское собрание, а теперь — штаб колчаковцев. Помещение, в котором располагалась разведка армии, пряталось в самой дальней части флигеля, будто именно этот отдаленный от главной части дома угол больше всего подходил для успешной деятельности органа, призванного тайным образом выведывать все каверзы красных, предупреждать их ловкими маневрами умелых колчаковских спецов. Полковник Краузе был главным разведчиком, его побаивался сам адмирал Колчак, потому что хитрость и жестокость как основные методы были доведены полковником в организации работы вверенного ему подразделения до высот недостижимых.
Краузе, худой и лысоватый человек с выдвинутой вперед нижней челюстью, долго крутил в руках серебряный портсигар Николая, то и дело посматривая на бородатого, нечесаного человека в расстегнутом френче, сидевшего перед ним со сложенными на коленях руками.
— Значит, вы утверждаете, будто большевики, приготовившиеся расстрелять вас, вашу семью и приближенных в подвале дома, принадлежащего горному инженеру Ипатьеву, внезапно были обстреляны неизвестно откуда явившимися офицерами-монархистами, так, что ли?
— Вы правильно уяснили смысл моего рассказа, — кивнул Николай.
— Затем, — медленно продолжал Краузе, — вы были настигнуты чекистами, и вам с семьей удалось скрыться в лесу, где вы и прожили недели две. Все верно?
— Совершенная правда.
— Но где же, в таком случае, ваша семья? Где Александра Федоровна, великие княжны, цесаревич? Лично я, глядя на вас, не могу признать в вашем лице знакомые черты бывшего императора России, которая с давних пор славится тем, что время от времени порождает самозванцев. Самозванчество, сударь, — чисто российская черта.
Краузе был потомком остзейских немцев и в глубине души считал, что таковым и остается. Он хорошо учился, любил историю, и русские самозванцы интересовали его в истории больше всего. В них Краузе видел стремление русских рабов к власти, хотя бы на очень короткое время, хотя бы ценой своей жизни. К власти верховной. Вот и теперь, зная о том, что император и его семья казнены, он смотрел на сидящего перед ним человека как на самозванца, раздобывшего где-то императорский портсигар, надевшего френч и заявляющего теперь, что он и есть спасшийся Николай Романов.
— Так все-таки, вы так и не дали мне ответ, где же ваша семья? настаивал Краузе, а Николай, очень сомневаясь в том, что этим людям, так бесчеловечно обошедшимся с ним, нужно открывать место, ставшее убежищем его родным, уклончиво сказал:
— После того как я, недавний царь, был избит нагайками, причем это сделали люди, у которых я хотел найти поддержку и защиту, я не могу назвать вам укрытие моей семьи. Яслишком дорожу их жизнью.
— А я, полковник Краузе, слишком дорожу честью своего мундира и занимаемым в армии адмирала Колчака положением, чтобы верить вашим словам. Нам доподлинно известно, что царь и вся его семья расстреляны большевиками и их трупы обнаружены, ведется следствие, к которому привлечены соучастники преступления. Представьте, они подтвердили факт убийства Романовых и их приближенных. Лично вы представляетесь мне или разведчиком красных — из вас решили сделать спасшегося царя, хоть вы на него не больно-то похожи даже физиогномически. Или вы самозванец, о чем я уже говорил. Возможен и третий вариант: вы один из участников убийства, вы завладели портсигаром бывшего императора преступным образом и не показали бы его никогда, если бы патруль, увидев в вас подозрительное лицо, не собрался вас расстрелять. Прошу вас, признайте принадлежность к одной из трех названных мною версий, и я постараюсь смягчить вашу участь.
Николай, видя перед собой совершенно бесчувственного человека, которому доказать что-либо будет невозможно, простонал:
— Отведите меня к своему высшему начальству! Прошу вас! Я — Николай Романов, а кого убили в подвале дома Ипатьева, я не знаю. Адмирал Колчак в Екатеринбурге?
Краузе радостно хлопнул в ладоши, широко заулыбался, ещё дальше выставляя вперед нижнюю челюсть, которая при этом к тому же подрагивала.
— Вот я вас и раскусил, вот и раскусил! Вы, милостивый государь, разведчик, вам нужно было знать, в городе ли адмирал Колчак! Конечно, вы бы добились того, чтобы вас отвели прямо к нему как августейшую персону, а там, а там…
Но Краузе не успел договорить — дверь его кабинета резко распахнулась, и в помещение быстро вошел высокий, красивый человек, державший руки за спиной. Лицо его было нахмурено, выражало крайнюю озабоченность и даже какую-то внутреннюю боль. При виде вошедшего полковник Краузе поднялся, хоть и не слишком поспешно.
— Прошу встать! — скомандовал Краузе Николаю. — Их высокопревосходительство…
Но Николай даже не сделал попытки подняться со стула и лишь демонстративно холодно, почти небрежно посмотрел на вошедшего человека. Он не привык вставать в присутствии какого-то адмирала. Их взгляды встретились, и во взгляде Колчака Николай усмотрел недоумение.
— Кто это? — с крайним удивлением в голосе спросил у Краузе Колчак, и полковник, выйдя из-за стола, прикрывая рот рукой, что-то тихо проговорил адмиралу, который взглянул на Николая уже не с изумлением, а с какой-то тревогой.
— Говорит, что спасся? Со всей семьей? — шепотом переспросил Колчак и, поразмыслив, приказал Краузе: — Выйдите минут на десять.
Когда тот удалился, Колчак, рассмотрев оставленный на столе портсигар, достал из галифе свой, раскрыл его и протянул Николаю Александровичу:
— Курите. Ведь я знаю, что вы любите курить, если вы на самом деле тот, за кого себя выдаете.
— Благодарю, — коротко кивнул Николай и, по-прежнему сидя, взял из портсигара одну папиросу.
Когда Николай, вдыхая в себя дым, с наслаждением отдался одному из любимейших своих удовольствий, Колчак, особенно пристально вглядываясь в черты его лица, сказал:
— Жаль, что вы явились поздно…
— Что значат ваши слова? — удивленно вскинул на него глаза Николай.
— То, что вы уже стали ничем, полным нулем. Вы и ваша семья — убиты, ответил адмирал.
— Я и моя семья — живы, — твердо возразил Николай. — Если хотите, я могу привести к вам Александру Федоровну, всех дочерей и Алешу. Вы и в их реальность не поверите?
— Нет, я-то поверю… — как-то рассеянно ответил Колчак. Тотчас в дверь постучались, и в помещение просунулась чья-то голова, доложившая вежливым тоном:
— Ваше высокопревосходительство, к вам господин Соколов, следователь, вы просили доложить.
— Да, да, пусть войдет, — с каким-то облегчением в голосе сказал Колчак.
Дверь отворилась снова, и вошел офицер с уверенными манерами, с портфелем в руке. Отдал честь адмиралу, бросил короткий взгляд на Николая, но тут же отвел глаза, не найдя в фигуре сидевшего человека ничего интересного для себя.
— Ваше высокопревосходительство, я готов представить вам полный доклад. Нам… не помешают?
— Н-нет, нисколько, — отрицательно покачал головой Колчак. — Мистер… Пиркенсон, корреспондент одной американской газеты, будет рад получить сведения о судьбе русского царя из самого верного источника. Не правда ли, мистер Пиркенсон? — вежливо наклонился над Николаем адмирал, произнося последние слова по-английски.
— Да, конечно, — так же по-английски ответил Николай, понимая, что Колчак по какой-то причине хочет сокрыть его под маской.
— К сожалению, — усмехнулся Колчак, говоря уже со следователем, мистеру Пиркенсону не повезло. Наши казаки приняли его за шпиона, избили нагайками, отобрали деньги, документы, фотографический аппарат. Сейчас я распоряжусь, чтобы американца хоть немного приодели. Ведь мы поедем на автомобиле?
— На автомобиле, — наклонил голову Соколов, волосы которого были тщательно расчесаны посередине на две стороны и вдобавок густо набриолинены. — Начнем с дома Ипатьева, а потом — в деревню Коптяки, в урочище Четырех братьев.
Не прошло и получаса, как старый, запачканный и изорванный френч бывшего императора был заменен на новый, английского образца, сидевший на нем изумительно, но по распоряжению Колчака Николаю принесли не обычную офицерскую фуражку, а кепи защитного цвета, который он, однако, безропотно надел на голову, благодаря адмирала уже за то, что тот признал в нем бывшего монарха и не стал подозревать как шпиона или самозванца. Скоро Колчак, его адъютант и следователь уже сидели в открытом автомобиле, позади которого гарцевал казачий конвой, поскакавший вслед, едва автомобиль стал набирать скорость. Николай сидел на переднем сиденье, рядом с шофером, облаченным в кожаную куртку и такую же кепку, и слышал, как Соколов говорил Колчаку:
— Вот и послушайте, что эти каиновы дети натворили, ваше высокопревосходительство. По допросам и осмотру места происшествия я могу утверждать, что после полуночи уже семнадцатого июля Юровский, начальник местной чрезвычайки, вошел в комнату, занятую членами царской семьи…
— Нет, постойте, я хочу услышать от вас обо всем происшедшем на месте, хорошо? — перебил Соколова Колчак, и следователь чуть обескураженно ответил:
— Как будет угодно…
Проехали минут десять, и автомобиль, весь в клубах поднятой пыли, затормозил рядом со знакомым Николаю зданием. Покинув «мотор», они прошли во двор, миновали крыльцо, охраняемое двумя часовыми, поднялись на второй этаж. Николай прошел по коридору и встал рядом с Колчаком и Соколовым в той самой комнате, где ещё вечером шестнадцатого июля он читал жене, дочерям и Алеше какой-то рассказ Конан-Дойля. Он увидел на столе рукоделье, оставленное женой, вспомнил, как она со вздохом пожаловалась, что, наверное, не успеет закончить начатое за намеченные для этого три дня; увидел рисунок, сделанный акварелью Анастасией, и в сознании встали лица родных…
— …скорее всего, — сквозь пелену доносились слова Соколова, Юровский сказал государю, что в городе беспорядки, а поэтому, во избежание попадания пуль в верхние окна, нужно переместиться в нижний этаж. Спустились — там, во дворе, их уже ждали приближенные: доктор Боткин, горничная Демидова, повар Харитонов, лакей Трупп…
— Я бы тоже хотел туда спуститься, — перебил Колчак Соколова.
— Извольте, — кивнул Соколов.
Втроем они направились вниз, и Николай, вступив на лестницу, ощутил жгучее чувство, то самое, которое испытал тогда, в ту самую ночь, когда он нес Алешу на руках и считал ступеньки. Он снова принялся их считать, и вновь их оказалось двадцать три. И опять с каждым шагом он ощущал чувство обреченности, догадавшись вполне, куда их ведут. Сейчас же, остановившись внизу, в прихожей, ему даже пришлось прислониться к стене, всего на несколько секунд прислониться, иначе ноги от пережитого волнения подкосились бы и он упал бы. Колчак внезапно обернулся и пристально взглянул на него, побледневшего, с полуоткрытым ртом.
— Мистер Пиркенсон, вам нехорошо? — по-английски спросил Колчак, но тут же получил ответ:
— Нет, нет, все хорошо, не беспокойтесь, прошу вас.
Вышли во двор, и Николай услышал шум работающего двигателя точь-в-точь как тогда, и вот опять накатило то самое ощущение, будто все переживалось вновь и опять его с семьей вели на расстрел. И даже вспыхнула мысль: "Только бы родные не догадались, до последнего мгновения не догадались…"
Прошли в полуподвал, который сейчас был освещен не светом керосиновых ламп, как в тот раз, а лучами солнца, врывавшимися через зарешеченные окна. Но несмотря на разное освещение, Николай увидел, что помещение преобразилось. Особенно преобразились стены, покрытые обоями с какими-то мелкими цветами, — продырявленные, изорванные во многих местах, они к тому же были забрызганы веерообразно чем-то коричневым.
— Ну вот, смотрите, — показал Соколов рукой на пол и стены. — Сюда привели одиннадцать человек — царскую семью и их прислугу. Бедняги ждут, что сейчас подадут транспорт и их куда-то перевезут, в безопасное, как сказали чекисты, место, а вместо этого входят Янкель Юровский, Никулин, Ваганов, Матвеев, его подручные, военнопленные венгерцы с винтовками и начинается бойня. Юровский стреляет первым и сразу же убивает императора, потом падают на пол цесаревич, великие княжны и все другие. Их добивают на полу штыками — смотрите, вот и вот следы штыков на полу. Тела протыкали насквозь, и острия втыкались в пол. Взгляните и на стены — они все в пулевых отверстиях, забрызганы кровью жертв. Вы можете себе представить ужас всего, что происходило здесь? И ведь убивали не простых смертных, а помазанника и его семью!
Соколов даже не удержался от того, чтобы возвысить голос и потрясти сжатым кулаком, а Николай, точно это его убивали здесь, его родных протыкали штыками, провел рукой по вспотевшему лбу и спросил, почему-то говоря по-английски:
— А вы уверены, что здесь казнили именно царя России с семьей, а не каких-то… посторонних людей?
— Я абсолютно уверен в этом! — твердо сказал Соколов и посмотрел на «американца» очень строго. — Смотрите, что написали убийцы на обоях, не удержавшись от желания похвалиться своей победой.
— Что же написали убийцы? — с интересом спросил Колчак.
— А вы взгляните сюда, ваше высокопревосходительство, — сделал Соколов пригласительный жест, и на лице его выразилась загадочная мина. Они подошли к стене, на которой виднелась надпись, сделанная карандашом. Почерк твердый, культурный.
— Кажется, по-немецки написано? — прищурившись, сказал Колчак. — Как жаль, но не силен…
— А я вам переведу. Эту надпись мы уж зафотографировали и снимок к делу приобщили. Здесь — строчка из Гейне, об убийстве царя Валтазара, который Иегову оскорбил. Догадываетесь, кто эту надпись сделал? Причем словечко «Валтазар» с интересным таким окончанием — не «зар», а «цар», то есть царь, наш, русский царь. Вот и получается, что убили здесь не кого иного, а именно русского царя, оскорбителя иудеев. Они-то и убили, чекисты эти…
Все помолчали. Колчак, казалось, находился в глубоком раздумье. Он поглядывал то на надпись, то на Николая, точно не мог определиться в мыслях: кто же этот человек, что стоит рядом с ним. Если он — Николай Романов, то кого же убили в подвале, для чего сделали эту надпись?
— Какие ещё доказательства того, что здесь расстреляли Романовых? спросил Колчак.
Соколов вздохнул и сказал:
— Мне удалось выяснить, что убитых вынесли на простынях на улицу, погрузили в кузов автомобиля и повезли к деревне Коптяки — это в шестнадцати верстах отсюда. Тела пытались сжечь, обливали кислотой — мне известно, в какой аптеке покупали эту кислоту. Потом закопали в общей могиле, но трупы мне пока не удалось найти, потому что это место было тщательно утрамбовано колесами автомобиля. Зато в том месте, где тела сжигали, мне посчастливилось найти немало вещей, принадлежавших, я твердо знаю, самому императору, членам его семьи и их приближенным. Я после покажу вам их.
— А разве эти вещи не могли попасть туда… случайно? — снова спросил по-английски Николай, и опять Соколов строго взглянул на него и сказал: — Я исключаю всякую случайность. Случайно на место захоронения могла бы попасть одна вещица, ну две, а не полтора десятка. Уверен, что мы ещё найдем!
Колчак, складывая руки за спиной, сказал:
— Я доволен вами, Соколов, продолжайте поиск, особенно поиск свидетелей убийства. Мы должны знать обстоятельства происходившего в Екатеринбурге до самых мельчайших деталей.
И Колчак первым вышел из помещения.
— Вы не откажетесь отобедать со мной? — обратился он к Николаю, когда они уже сидели в автомобиле, а Соколов, отдав честь, ушел, унося свой толстый портфель и посмотрев на Николая долгим, тяжелым взглядом.
— Благодарю, не откажусь.
И через четверть часа они уже входили в гостиную большого губернаторского дома, занятого Колчаком во время своего пребывания в Екатеринбурге. В ожидании обеда сидели в удобных креслах и курили, не говоря ни слова.
— Николай Александрович, — вдруг начал Колчак, — вы понимаете, что для России вы теперь погибли уже не только как монарх, но и как физическое лицо?
Николай, не глядя на собеседника, затянувшись дымом, сказал:
— Да, но это лишь в том случае, если… если вы сами захотите этого. Надеюсь, по крайней мере, что вы не станете меня расстреливать?
— Ну что вы! — улыбнулся Колчак. — Вас уже расстреляли комиссары, я же доведу следствие до конца и представлю результат его миру. Уверен, что вам удобнее всего оставаться до гроба… другим человеком. Царем вас уже никто и никогда не признает. Вас слишком многие не любили. Я выдам вам и членам вашей семьи документы. Полагаю, фамилия «Романовы» будет неуместна, а если вам назваться, скажем, Зиновьевым? Эта фамилия надежнее защитит вас в дороге да и позднее…
— Нет, адмирал. Ни Зиновьевым, ни Петровым или даже Пушкиным я быть не хочу. Проставьте в документах нашу настоящую фамилию, так нам привычней… — И все-таки вы, как мне кажется, когда-то были монархистом, теперь же я, похоже, вызываю у вас… раздражение. Чем это объяснить?
Николай видел, что вопрос показался Колчаку неприятным, трудным. Адмирал молчал минуты полторы, морщил свой высокий лоб, улыбался, отведя в сторону глаза, а потом коротко сказал:
— Обстоятельства изменились, гражданин Романов.
Николай не знал, что адмиралом Колчаком руководит Антанта, которой приятно видеть Россию не монархией, своевольной, воинственной, сплоченной, а демократической республикой, открытой Западу, послушной ему и, главное, очень похожей по устройству на западные страны. Были рядом с Колчаком и братья-масоны, принявшие активное участие в свержении монархии, и им Колчак не мог перечить. Тогда ещё Колчак не знал, что будет предан и Антантой, и масонами, и большевики винтовочными выстрелами заглушат последние аккорды его песни…
— Я помогу вам с поездом. Куда хотите ехать? — спросил Колчак.
— В Петроград, — ответил Николай, потушив папиросу в бронзовой пепельнице. — Еще прошу вернуть мне браунинг, отобранный тем казаком. Патроны вы к нему дадите?
***
…По случаю окончания двадцатидвухлетним Николаем учебного курса Александр Третий отправлял сына в первое большое путешествие, чтобы дать ему возможность посмотреть мир. О, это было грандиозное путешествие, ведь транспортом для наследника становился крейсер балтийской эскадры "Память Азова", а чтобы Николай не слишком скучал в далеких странах, была подобрана компания из молодых людей, преимущественно все тех же гвардейских офицеров. Сопровождал наследника престола и греческий принц Георг, которого Николай по-приятельски называл Джорджи.
Во время плавания на боевом корабле, где все было подчинено строгой дисциплине, компания молодых бездельников, проводя досуг в кутежах, в мальчишеской возне, в повесничанье, внезапно натолкнулась на непреклонную позицию командира крейсера Ломана. Николай же, не забывая, что он является будущим властелином страны, попытался представить "Память Азова" кусочком русской территории, где по причине отсутствия настоящего монарха власть по праву вверена ему. Конфликт между капитаном и цесаревичем зашел столь далеко, что Ломан уже готов был отказаться вести корабль дальше. Ситуация разрядилась с большим трудом.
И вот путешественники в Японии. Перед ними распахнулись все двери, им спешили показать все диковинки и чудеса страны, впечатления сменяли одно другое. Николай присутствовал на торжественных приемах, устроенных в его честь, но европейская пресса отмечала, что он ещё очень скован: слушает, двигается, поднимает, когда нужно, бокал, но везде является лицом без речей. Журналисты гадали: он что же, слишком застенчив, этот русский принц, или просто неразвит? Нет, он ещё был слишком неопытен в этом первом заграничном визите, где олицетворял всю империю, старался быть сдержанным, замечая, как следят за его каждым движением репортеры.
Приехали в японский город Отсу 23 апреля 1891 года, осмотрели достопримечательности и уже хотели было покинуть гостеприимный городок, сев в джен-рикши, как вдруг один из полицейских ("мерзкая рожа", как охарактеризовал его позднее Николай) выхватил саблю и, держа её в обеих руках, нанес Николаю удар по правой стороне головы. Можно представить себе испуг и изумление наследника российского престола! А полицейский хотел было завершить задуманное вторым ударом, но рядом оказался Джорджи, принц греческий, ловкий и крепкий. Совсем недавно на базаре приобрел он бамбуковую трость в качестве сувенира, которую и пустил в ход, отведя ею клинок японца. Стоявшие поодаль носильщики повалили полицейского на землю и едва не зарубили его же саблей.
Но зачем же понадобилось полицейскому Тсуде Санцо убивать русского царевича? Имелось несколько версий на этот счет, которые высказывались людьми с разным отношением к самодержавию. Одни говорили, что компания подвыпивших русских аристократов вела себя в японских храмах вызывающе, и это не могло не задеть национального достоинства японских патриотов, а поэтому выходка полицейского была акцией протеста. Другие предполагали, что не обошлось без революционеров, прибывших специально из России. Кто-то даже видел тени людей, постоянно мелькавшие за кустами. Муссировалась японцами и такая версия: полицейского подкупил один самурай из Отсу, обиженный на Николая за то, что он, пообещав нанести ему визит, не сдержал слова. Оскорбленный аристократ решил отомстить цесаревичу ударом сабли. Сам же террорист на допросе признался, что действовал из патриотических соображений, будучи уверен, что сын русского царя прибыл в Японию со шпионской миссией.
Как бы то ни было, Николай Александрович продолжать путешествие уже был не намерен, и крейсер "Память Азова" в сопровождении вызванной из Владивостока броненосной эскадры направился к русским берегам. Злые языки потом говорили, что сабельный удар не прошел для Николая даром — на кости черепной коробки появился нарост, давивший на мозг, что якобы обусловило патологию умственной деятельности императора.
Ступень четвертая ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
Поезд, который должен был иметь конечной остановкой Петроград, был подан к перрону екатеринбургского вокзала на два дня позднее назначенного срока. Толпа пассажиров ринулась на перрон, сминая кордоны. Мешки, узлы, баулы, чемоданы, ведра замелькали над головами. Люди кричали, визжали, толкались, набивались в грязные вагоны третьего класса, ибо никаких других вагонов поезд не имел. Николая и все его семейство до поезда проводили два вооруженных винтовками солдата, приставленных к нему адмиралом Колчаком, которому в душе было очень стыдно за то, что он так обошелся с бывшим государем.
Собирались в дорогу тщательно. Конечно, Николай не был уверен в том, что его внешность изменилась настолько, что он будет никем не узнаваем, но от предложений Александры Федоровны, настаивавшей, чтобы муж обвязал голову от темени до подбородка каким-нибудь платком, будто болят зубы, Николай решительно отказался. Он смотрел на себя в зеркало, висевшее в комнате дома на окраине Екатеринбурга, и видел, что борода его сильно отросла, волосы тоже, лицо сильно похудело и стало каким-то чужим, будто на самом деле после «расстрела» на свете жил вроде и похожий на бывшего императора, но в то же время какой-то посторонний человек. Но главным, конечно, была не худоба лица и длина волос — мягкая прежде линия губ исказилась, стала жестче, точно Николай нарочно их поджимал, напрягая мышцы лица, а между бровей образовалась глубокая складка, и выражение глаз, от природы добрых, стало каким-то гневным. Сильно изменился и Алеша. Он словно раздался в плечах, его поступь стала твердой, а осанка более мужественной. Вылечил ли его лесной знахарь от врожденного недуга, пока сказать было трудно, но случайные ушибы теперь не вызывали внутренних кровотечений или, по крайней мере, былых болезненных ощущений. Как ни странно, очень похорошели девушки, на лицах которых, прежде бледных, с нежнейшей кожей, заиграл здоровый румянец. Особенно повзрослели младшие дочери Николая Мария и Анастасия, ставшие грудастей и осанистей. Их было решено одеть очень просто (как, впрочем, Татьяну и Ольгу), в плисовые юбки мещанок, в дешевые кофты и жакеты, а головы девушек теперь покрывали не шляпки из белого газа, так нравившиеся им, а ситцевые платки.
Одна лишь Александра Федоровна не изменила прежнего, обыкновенно скорбного выражения лица. Она то и дело плакала, жаловалась на судьбу, чем немало раздражала Николая, видевшего в себе причину её злосчастий. Свое прежнее платье императрице тоже пришлось снять, и теперь лишь горделивая поступь бывшей царицы, её величественная фигура выдавали в женщине, одетой в серое суконное платье, то, что она никогда не принадлежала сословию, одежду которого носила.
У Николая было около тысячи рублей, и этой суммы едва-едва хватило, чтобы приобрести на толкучем рынке нужную одежду. Но в Екатеринбурге оставались жить два ювелира, к которым Романов отнес один из бриллиантов, что были зашиты великими княжнами и Александрой Федоровной в корсеты и постоянно носились на теле. Эти драгоценности предусмотрительная императрица сумела взять с собой в Тобольск, зная, что они могут сослужить добрую службу, когда потребуются деньги. И вот на вырученные от продажи бриллианта пять тысяч Николай, использовав часть этих денег, накупил еды в дорогу — несколько жареных куриц, вареного картофеля, сухую колбасу, хлеб, лук, чай. Запасся папиросами и, нечаянно увидев на базаре продающиеся толстые тетради в коленкоровых переплетах, подумав, взял и их, чтобы, хотя бы очень кратко, заносить в них описание событий, имевших место в его жизни с 16 июля. До этого времени он вел свой старый дневник. Теперь начиналась другая жизнь, совсем непохожая на прежнюю. Жизнь мертвого человека, который, однако, как ни странно, жив, ещё более жив, чем прежде.
Когда с большим трудом разместились в вагоне третьего класса на обшарпанных деревянных лавках, заняв целое отделение с верхними полками и половину соседнего, Николай с грустью вспомнил свой, царский, поезд, вагоны которого были окрашены в голубой цвет, где имелся его личный просторный кабинет, обитый зеленой тисненой кожей, где была обширная столовая с кухней, зал для общих встреч, ванны, спальни. Если там все было приспособлено для комфортабельного путешествия, способного доставить одно лишь удовольствие, даже наслаждение, то здесь, казалось, кто-то сотворил не вагон, а камеру пыток, где всё уготовили для страданий телесных и духовных.
Вагон был набит до предела, и грязные, некрасивые люди, обозленные на жизнь, кричали друг на друга, борясь за места, ударяли друг друга своими хотулями, бранились матерно, зло, но потом, когда поезд стал набирать скорость, пассажиры кое-как разобрались, расселись по местам, тесно прижавшись боками, и какое-то новое настроение охватило вагон. Всех как будто охватило чувство какой-то необъяснимой взаимной приязни. Изо всех углов послышались смех, одобрительные или просто добродушные восклицания. Стали рыться в своих мешках, доставая нехитрую снедь, запахло луком, вареными яйцами, черным хлебом, самогоном, зажурчавшим по жестяным кружкам. И скоро уже все пассажиры вагона будто превратились в одно живое существо, довольное минутой, относительной сытостью, скудным уютом.
Николай Александрович сидел в одном отделении с Алешей, Анастасией и Марией, а Александра Федоровна со старшими дочерьми устроилась за загородкой, в соседнем. Николай слышал, как жена негромко возмущалась:
— Да позвольте-ка, сударь, что же вы так больно толкаетесь? Куда вы кладете свой узел? Не видите разве, что здесь уже занято?
— А ты что, мамаша, купила это место, что ли? — отвечал чей-то грубый, хриплый голос. — Гляди-ка, раскапустилась тут на пол-лавки. Ниче, похудеешь, не барыня!
Но скоро Николай понял, что жена смирилась с неудобствами или просто испугалась того, что добиться ничего не сможет, а лишь принесет себе ещё большие нравственные и физические терзания. Когда поезд проехал уже километров десять и за окнами замелькали чудные картины суровой уральской природы, Николай, нагнувшись к уху сына, сидевшего у окна, стал рассказывать ему про Урал, но поскольку в географии он был не силен, то рассказ его получился короткий, и Алеша был доволен уже хотя бы потому, что никто не мешает ему смотреть в окно на красоты страны, властелином которой он мог стать.
Кое-кто в вагоне, не стесняясь, курил, но Николай не мог себе позволить закурить здесь, в тесной близости с сыном, дочерьми, посторонними людьми. Поднявшись, пошел по проходу вагона, извиняясь, когда натыкался на тех, кому не хватило места, когда приходилось перешагивать через чьи-то ноги. И вдруг нечаянно бросил взгляд на одного из пассажиров, одетого в простой костюм рабочего, — широкое скуластое лицо, с усами, но щеки выбриты. И тотчас в голове словно включился невидимый мотор, закрутивший воспоминания последних трех недель, мотая их туда, к той последней ночи в доме горного инженера. Николай немного даже задержался, присматриваясь к человеку, смотревшему прямо перед собой, но так и не смог сказать себе определенно, когда же он встречал его. Вышел в тамбур, заплеванный, замусоренный окурками цигарок, достал папиросу из портсигара с дарственной надписью матери, покурил, а в голове все прыгали, мелькали лица, только это являлось в окружении чего-то черного и страшного. Возвращаясь на свое место, снова посмотрел на человека, и вот уже тот человек был не простым мужчиной в кепке и с усами, а тем, который стоял в подвале Ипатьевского дома рядом с Юровским, зачитывавшим смертный приговор ему и членам его семьи.
Покрытый капельками холодного пота, Николай сел на свое место. Алеша обратился к нему с вопросом, но он ответил невпопад, сумбурно, потому что думал, что делать, когда присутствие в вагоне человека, едва не ставшего его палачом, ясно говорило о том, что казнь была лишь отсрочена и скоро приговор Уральского Совдепа будет приведен в исполнение, скорее всего, именно здесь, в поезде. Приходилось полагаться лишь на самого себя, а поэтому Николай локтем правой руки ощупал тяжкую сталь пистолета, покоившегося в кармане брюк. Он заблаговременно послал патрон в патронник, и теперь стоило лишь взвести курок, чтобы подготовить оружие к выстрелу.
"Но сколько же их? Один? Два? Три? Никто не знает. И когда же они приступят к делу? Почему Ваганов, — я вспомнил, что Юровский именно так называл этого человека, — не пошел за мною в тамбур, где мог спокойно расправиться со мной? Возможно, он получил приказ убить всех нас, а не одного меня. Они дождутся, покуда поезд не остановится на какой-нибудь станции, а потом, когда мы все выйдем из вагона, они откроют стрельбу и завершат начатое в доме Ипатьева. И все-таки кого же расстреляли в ту ночь? Почему даже следователь Колчака был уверен в том, что убили государя и его семью? Неужели чекисты инсценировали нашу смерть, но для чего же?"
И Николай, не замечая ничего, что происходило вокруг него, не обращая внимания на песни, плач, смех, крики пассажиров, на вопросы сына и дочерей, все сидел и думал, как же ему расправиться со своими убийцами прежде, чем начнут действовать они. Нужно было угадать, кто ещё был послан по их следу, кроме Ваганова, а потом, не мешкая, сделать с ними то, что собирались сделать они. И Николай поднялся с места, на ходу доставая портсигар, что давало прямое указание на то, куда он держит путь.
— Пойду покурю, — сказал он, и Анастасия, не одобрявшая его привязанности к табаку, укоризненно покачала головой.
А Николай все шел и шел по проходу вагона, бросая взгляды на всех пассажиров-мужчин. Он хотел увидеть, кто же из них вздрогнет, увидев его идущим к тамбуру, кто проводит взглядом, кто невольно выдаст себя порывистым движением, кто поднимется и пойдет вслед за ним. Но никто не поднялся, никто даже не посмотрел на пробиравшегося по проходу, даже Ваганов так же безучастно смотрел перед собой, находясь в какой-то тупой задумчивости.
Николай вышел в тамбур, где никого не было. Папироса уже дрожала в его губах, но он не поторопился полезть за спичками в карман френча, а сунул правую руку в карман галифе и взвел курок браунинга. И вот дверь открылась и в тамбур шагнул высокий мужчина, одетый по-простому — в чесучовом пиджаке, в мятых нанковых брюках. Лицо открытое, но суровое и будто озабоченное. Достал кисет, стал мастерить "козью ножку", свернул её ловко, быстро, похлопал по карманам пиджака, сказал, обращаясь неведомо к кому:
— Вот незадача, спички-то забыл! У вас-то можно прикурить? — обратился он прямо к Николаю и, не дожидаясь ответа, шагнул к нему смело, потянулся "козьей ножкой" к горящей папиросе.
Николай инстинктивно отшатнулся, пугаясь порывистого движения незнакомца, и это его спасло — клинок финки, зажатой в левой руке мужчины, пронесся на расстоянии в пол-ладони от его горла. Николай быстро сунул руку туда, где находился пистолет, выдернул его из кармана прежде, чем незнакомец взмахнул сроим оружием вторично, но стрелять не стал — рукояткой ударил врага куда-то в переносье, причем ударил, не выбирая место, только б отмахнуться, защитить себя, предупредить его удар.
Незнакомец не упал, но лишь схватился за разбитое лицо, и Николай увидел, что между пальцами тонкой змейкой поползла струйка крови. Он шагнул к неизвестному, приставил дуло пистолета к его уху и жарко зашептал:
— А теперь — молись, потому что промахнуться, как сам понимаешь, мне будет трудно. Впрочем, ты можешь спасти свою жизнь, если покажешь всех, кто с тобой едет в поезде, твоих подручных!
— У меня нет подручных!
Николай продолжал держать пистолет приставленным к уху мужчины, доставшего из кармана платок и приложившего его к окровавленному лицу. В глаза бросилось, что платок этот был из тонкого полотна, прекрасно отстиран и накрахмален чуть ли не до хруста, с какой-то вышитой меткой в уголке.
— А Ваганов разве не… ваш подручный? — изменил тон Николай.
— Я не знаю никакого Ваганова! — резко ответил мужчина, видно, очень досадуя из-за неудачи.
Николай, подобрав с грязного пола финский нож с рукоятью из полированной карельской березы, швырнул его в окно двери тамбура и спросил:
— Тогда говорите быстро, что вас заставило бросаться на меня с ножом? Может быть, вы просто бандит и вам нужны деньги? Если вы нуждаетесь, сударь, то я могу ссудить вас тысячей рублей, но для чего же лишать жизни главу многочисленного семейства, их единственную защиту? Или, может быть, у вас есть ко мне какие-то личные претензии?
Мужчина, продолжая прижимать платок к лицу, смотрел на Николая широко открытыми от удивления глазами. Николай не видел его лица полностью, но почему-то был уверен в том, что оно выражает сейчас и боль, и большую досаду одновременно.
— Я не бандит, как вы могли подумать! Но я на самом деле хотел убить вас! Жаль, что не сделал этого, ведь именно вы, мерзавец, были одним из тех, кто убивал государя императора, его августейшую супругу и всех его невинных детей! Если мне не удалось покарать вас, то все равно рано или поздно вам не удастся уйти от возмездия, как и всем вашим товарищам! Красные собаки, вас нужно резать и бить, резать и бить!
Николай смотрел на окровавленное лицо неизвестного, говорившего с искренней горячностью, с верой в справедливость задуманного кровавого поступка, и не мог сказать ни слова. Получалось, что его враг на самом деле являлся преданнейшим слугой императора, то есть его самого. Но кто же, он не мог понять, направлял руку этого фанатика? Николай хотел было начать объяснять незнакомцу, что он не прав, что его обманули, но вместо этого сказал так:
— Простите, я не знаю, как вас зовут, но обращусь теперь к вашему благородному сердцу и… если хотите, к чувству. Посмотрите внимательнее: вам ничего не напомнит мое лицо?
Мужчина со снисходительной, с полупрезрительной улыбкой взглянул на Николая, думая, наверное, что его хотят разыграть, хотят посмеяться над ним, неудачником, но, похоже, его сознание сумело соединить воедино те детали, которые прежде не были искажены. Николай заметил, как его губы дрогнули, уголки рта опустились, подбородок задрожал, а глаза заблестели, будто подернулись слезой. Однако мужчина решительно помотал головой:
— Нет, нет, этого не может быть! Что вы мне хотите доказать? То, что вы походите на одного… человека, да? Это ещё ни о чем не говорит, не говорит! Тот человек умер, он убит, он никогда больше не будет вместе с нами, так зачем же вы так зло смеетесь надо мною?
— Нет, я не смеюсь, — с совершенно серьезным лицом ответил Николай. Если хотите, давайте пройдем с вами в мое отделение. Там вы увидите и моего сына, Алексея, дочерей и даже мою супругу Александру Федоровну. Надеюсь, после этого вы не станете говорить, что вас кто-то хочет обмануть. Можно подобрать двух похожих людей, но двойников семи человек сразу найти, я полагаю, было бы весьма нелегким делом.
Он говорил со спокойной уверенностью, и, казалось, именно эта по-настоящему царственная речь произвела на незнакомца ободряющее, а вместе с тем и убеждающее действие. Он горячо посмотрел на Николая, его лицо исказила гримаса горького раскаяния, и, быстро нагнувшись, он крепко прижался губами к руке человека, которого несколько минут назад едва не лишил жизни.
— Ну и довольно, — Николай вырвал свою руку. — Теперь я бы хотел с вами о многом поговорить. Вначале представьтесь, прошу вас.
Мужчина выпрямился с просветленным лицом, коротким движением смахнул с глаз слезу и, щелкнув каблуками (его нанковые брюки были заправлены в хорошо вычищенные яловые сапоги), сказал, делая поклон головой:
— Честь имею, поручик Томашевский из пятого сводного полка армии Колчака, его высокопревосходительства адмирала Колчака.
— Прекрасно, — сказал Николай, с удовольствием глядя на красивого молодого человека, которому не было и тридцати. — А теперь, поручик, в двух словах расскажите, кто вас уверил в том, что бывший царь, то есть я, убит вместе с женой и детьми большевиками?
— Помилуйте, ваше величество, да об этом весь Екатеринбург говорил, когда мы вошли в город. Лично я к тому же близко знаком с тем человеком, который возглавил следственную комиссию…
— С Соколовым, не так ли?
— Да, именно с ним. Так вот, Соколов немало рассказывал мне об этом деле, показывал вещи их величеств и их высочеств, найденные на месте захоронения, водил в подвал дома Ипатьева. Знаете, я всегда любил своего императора, то есть… вас, и у меня просто сердце кровью обливалось, когда я представлял, как изуверы-большевики расправлялись с вами. Непостижимо! Но я не понимаю, как же вы в живых остались?
Николаю все больше и больше нравился честный и горячий молодой человек, и он сказал:
— А давайте-ка закурим моих папирос… императорских, купленных на екатеринбургском рынке по пятьдесят рублей за пачку. А потом я вам расскажу, как спасся.
Томашевский просто растаял от удовольствия, ибо окончательно уверился в том, что разговаривает с любимым монархом, который к тому же угощает его папиросой. Когда закурили, Николай сказал:
— Я спасся потому, что в самый последний момент меня и моих родных отбили такие вот, как вы, преданные монархии люди, тоже офицеры. Жаль, что все они, по-видимому, убиты. Но ведь и я сегодня мог быть убит вами, так вот скажите, кто же вам указал на меня как на одного из участников убийства Романовых?
Томашевский потупил глаза. Он негодовал на себя за то, что сделался жертвой наговора, обмана, который мог привести к тому, что он превратился бы в убийцу своего кумира.
— Я теперь понимаю, почему ко мне, именно ко мне обратились с предложением наказать убийцу царя. Я всегда горячо выражал свою любовь к Николаю Александровичу и негодовал по поводу его убийства. Соколов показал мне на вас…
— Соколов? — изумился Николай. — Тот самый следователь, который при мне клеймил убийц, проклинал их, называл Каиновыми детьми! Но почему же он указал… на меня? Вот загадка! Ведь я уверен, что он не узнал меня. Адмирал Колчак представил меня Соколову как американского журналиста, хотя сам был уверен в том, что видит перед собой Николая Романова. Он что же, американца убийцей царя посчитал? А если Соколов считал меня участником убийства, почему же не отдал приказ о моем аресте, почему не допросил, не выведал сведения о других убийцах?
— Ничего, ничего не понимаю! — обхватил свою голову руками Томашевский. — Это все очень, очень странно, но я вам, ваше величество, вот что сказать хочу: Соколов такой мастак в физиогномике и психологии, что ежели бы он вас увидел, то обязательно бы понял, что вы — это настоящий государь. Вот я теперь, глядя на вас, удивляюсь: как это я сразу не увидел в вас знакомые черты! Вы — это император, запомнившийся мне по портретам. И вдруг Соколов да и не узнал бы вас — нет, здесь что-то не то! Он вас обязательно узнал и почему-то, почему-то решил убить вас, введя меня в обман! Ах он каналья! Если я вернусь в Екатеринбург, я обязательно расскажу обо всем высшим военных властям, и его непременно будут судить!
Томашевский не мог знать, чтоi подтолкнуло следователя Соколова к решению расправиться с царем. Но у Николая вдруг мелькнула в голове одна очень простая мысль, и он спросил:
— А вы бы не могли предположить, что Соколов, уверив всех в том, что я расстрелян, очень дорожил своим открытием и очень не хотел, чтобы мое внезапное… воскресение подвергло бы его выводы осмеянию? Понимаете, дело чести — вещь очень тонкая и щепетильная…
— Я вас понимаю, но… — Томашевский с сомнением покачал головой, — но не думаю, чтобы репутация следователя для него была бы дороже честного отношения к истине да и лично к вам как к человеку, монарху. Ведь и он на каждом углу трубил о себе как о приверженце монархии.
И вдруг лицо поручика осветилось какой-то догадкой. Он даже приложил к губам указательный палец, а потом сказал, зачем-то полушепотом, точно его кто-то мог услышать:
— Господи, вот в чем дело! Я понял! Ведь Соколов — отчаянный антисемит, и он в убийстве государя обвинял скорей не большевиков, не идейных приверженцев социализма, а только одних евреев. Всем говорил, что это было ритуальное убийство! Ему очень нужно было сделать евреев убийцами царя, чтобы в будущем организовать против них крестовый поход, чтобы заклеймить их навеки! Да, это его слова, он просто бредил этой идеей, а ведь вы сами знаете: если какая-то идея захватит человека, то во имя неё можно устранить и тех, ради которых эта идея должна быть осуществлена!
Николай увидел, что Томашевский просто дрожит, переживая волнение, вызванное радостью от верно найденного решения.
— Вот и решил он с вами разделаться, чтобы настоящая смерть царя, в которой бы и я был повинен, не помешала бы претворению его идеи в жизнь!
Но Николай, услышав объяснение Томашевского, совсем не ликовал по поводу истинности его суждений. Ему вдруг стало очень жаль себя, свою жену и детей. Он снова, в который уж раз, вознегодовал на судьбу, сделавшую его императором, то есть лишившую его нормальных отношений с людьми.
— Ну хорошо, — вдруг страстно заговорил он, — пусть я был выбран, чтобы стать искупительной жертвой, но при чем же здесь мои близкие? — И тут жадное стремление наказать тех, кто покушался на его жизнь, овладело Николаем. — Послушайте, Томашевский, вот вам хороший случай отомстить за меня, правда, ваше оружие…
— Ничего, — заулыбался Томашевский, сверкая крупными, как у гофманского Щелкунчика, зубами и доставая из-за голенища другой финский нож, — у меня ещё есть! Да ещё тут «кумушка» имеется, — и он, отдернув полу пиджака, показал ручную гранату, висящую под мышкой. — Что нужно сделать?
— А вот что, — сказал Николай, наклонившись к уху поручика и понижая голос. — Во втором отделении от тамбура у окна слева сидит мужчина. Я узнал его. Это — Ваганов, наверное, чекист. Во всяком случае, он и был с главным чрезвычайщиком тогда, когда нас привели в подвал Ипатьевского дома. Свою руку он все время держал в правом кармане своих кожаных штанов, чтобы, когда будет дана команда, вынуть оружие и начать по нам стрелять. Пригласите его сюда, поговорим с этим господином. Скажите, что его хочет видеть одна молоденькая и очень пригожая особа. В общем, заманите как-нибудь…
— Слушаюсь, — с затаенной радостью в голосе только и ответил Томашевский, гордый тем, что имеет случай послужить самому русскому монарху, и вышел из тамбура, а Николай, стоя у разбитого оконца двери, стал смотреть на проносящиеся мимо перелески.
Спустя пять минут дверь тамбура с шумом отворилась, застучали сапоги, зазвучал гомон сидящих в вагоне пассажиров и тут же стих. Послышался голос:
— Ну и где тут твоя пригожая? Где?
— Да вот она, — ответил ему другой голос, тая насмешку.
— Да где же? Чего брешешь? Нету тут никаких баб, один мужик какой-то стоит… — уже с тревогой в голосе сказал Ваганов.
Николай Александрович резко обернулся и поглядел на Ваганова с холодной жестокостью во взгляде. Он даже не предполагал, что умеет так сдвигать брови, прищуривать глаза, сжимать рот, приподнимая в злой усмешке краешек губ, ведь раньше, когда он был царем, ему не приходилось выражать свои недобрые чувства к какому-либо человеку в такой яркой мимической форме — нужно было быть сдержанным и невозмутимым. Зато теперь наружу словно хлынул поток неиспользованных эмоций, хранимых под спудом.
— Нет, сударь, здесь нет и мужиков! — сказал Николай.
Ваганов, почувствовав, что попал в какую-то западню, попытался улыбнуться:
— Это как же так получается, ни баб, ни мужиков. А вы-то кто такой будете, не мужик, что ли?
— Нет, сударь, не мужик! — сказал Николай. — Это ведь только простонародье мужиками звали, а вы разве не видите, с кем имеете дело? Подвал Ипатьевского дома не припомните ли, в ночь на семнадцатое июля? Разве там вы мужика расстрелять хотели? Нет, государя России и государыню да ещё наследника престола, цесаревича, да ещё великих княжон. Где здесь мужики?
Некрасивое, широкое лицо Ваганова вытянулось, нижняя челюсть отпала, демонстрируя отсутствие двух зубов, толстые губы двинулись, лепя несуразно, гугниво:
— Чавой-то не разберу… кто там… себя мужиком не… считает. Эва, птица какая залетела, ну так лети, малой, покуда… перья целы!
Кулак Томашевского точно влепился прямо в переносье Ваганова, который странно гхакнул, откинулся на дверь, попробовал было крестом из рук прикрыть лицо, но и это не помогло, — и спустя секунды две он стоял на четвереньках, а поручик, не жалея новых яловых сапог, бил Ваганова жестоким боем. Наконец чекист взмолился:
— Помилуйте, грех на душу не берите, меня же заставили, Юровский приказал. Я и не знал совсем, на какое дело зовут…
Томашевский на минуту постарался унять свою ненависть к цареубийце, за ворот пиджака поднял Ваганова своей костистой, полной злобы рукой, заговорил, приставляя нож туда, где рядом с бугристым кадыком Ваганова билась пульсирующая жилка:
— Ты, гнидочес, на самом деле подтверждаешь, что собирался убить царя, государя убить?
— Заставили меня, заставили, я только в помощниках и был, да вдруг пальба случилась, кто-то на нас напал, наших порешили человеков шесть. А я-то тут при чем?
Томашевский, не отводя клинка от горла человека, хоть и поневоле сделавшегося подручным палачей, спросил:
— Ваше величество, что с этой вошью делать будем?
И вдруг в душе Николая, не знавшего прежде ненависти ни к одному человеку, потому что всякий человек был его подданным, то есть лично ему не страшным, вспыхнула ярая злоба к своему личному врагу, и он сказал:
— Поручик, сделайте все, что вы бы посчитали должным сделать с цареубийцей.
Но не голос Томашевского услышал Николай, а жалкий лепет Ваганова, молившего:
— Да что вы, да упаси вас Бог, эк чего надумали! А то, господин Романов, вам и невдомек, что служба принуждает, чего ж тогда… Заставили… виноват…
Но Томашевский сделал три быстрых шага в сторону дрожавшего Ваганова, левой своей рукой дернул за ручку двери вниз, отодвигая дверью скрюченное в сильном страхе тело чекиста, и уже поднявши руку для последнего удара, вдруг ощутил, что поезд тормозит, причем так резко, что невозможно было удержаться. И вот уж Николай, поручик и Ваганов были отброшены вперед силой торможения. Визжали тормозные колодки, сгорая от непомерной силы преодоления, где-то звенело упавшее стекло, а за окном открытой двери сновали, свистя и гикая, стреляя и матерясь, какие-то люди на лошадях, очень довольные тем, что удалось остановить "машину".
***
Смерть не минует и царей, а смерть Александра Третьего была тяжелой, мучительной. Случилось так, что в 1888 году, проезжая мимо Борок, неподалеку от Харькова, потерпел крушение царский поезд. Вначале думали, что катастрофа вызвана преднамеренно, однако оказалось, что тяжелый поезд, состоявший из вагонов со свинцовым основанием, расшатал шпалы.
За два года до смерти государь заболел инфлуэнцей, которая осложнилась последствиями травмы. Истинное состояние больного тщательно скрывали, но все видели, что он заметно изменился, осунулся и похудел.
Когда Александра вытащили из-под обломков, он был бледен, как полотно. Хорошо владея собой, он сумел скрыть от окружающих острую боль, но последствия ушибов скрыть не удалось. Главное, сильно изменился его характер. Александр вдруг стал злым, мстительным, нелюдимым и подозрительным. Он судорожно пытался участвовать во всех сферах политического управления страной, долго сидел над государственными бумагами, но бумаги, как замечали придворные, выпадали из его слабеющих рук. К тому же в это время он начал опасаться заговора…
Приближенные, для которых опасная болезнь царя не была секретом, опасаясь, что физическое состояние императора при его маниакальной жажде действия может привести страну к плачевным последствиям, решили отстранить царя от управления государством. Появилась идея под предлогом смены климата вообще удалить царя из столицы. Для этой цели вначале избирается Беловеж, потом Спала, а затем Ливадия. Предлагали даже перевезти больного царя на остров Корфу. Самое интересное заключается в том, что умирающему царю были известны эти планы и он противился их осуществлению, но, изнуряемый бессонными ночами, он теперь почти все время находился как бы в забытьи, потеряв свою прежнюю железную волю.
Александра перевезли в Ливадию. Это обширное царское имение в Крыму с огромным парком, расположенным в живописном месте, оказалось для императора скорее тюрьмой, чем дачей. Часть построек и оранжерей были превращены в казармы для войск охраны, по окрестностям на расстоянии в несколько верст от имения рыскали патрули солдат и полиции. Император не доверял даже врачу, профессору Захарьину, полагаясь лишь на мастерство ворожей и на ладан своего духовника. Обиженный недоверием, Захарьин хотел было даже уехать из Ливадии, но его удержали. А царь все не хотел делиться своей властью, все пытался вникнуть в содержание государственных бумаг, которые он требовал присылать для личного утверждения, однако рассудок уже изменял ему…
Российская пресса обходила тяжкое положение императора Александра полным молчанием. Таковы были распоряжения. По-видимому, эти предосторожности были приняты из опасения, что переходным временем передачи власти из одних рук в другие могут воспользоваться антиправительственные силы и это приведет к беспорядкам. Во всяком случае, секретность была такая, что, когда в кафедральном Исаакиевском соборе Петербурга митрополит служил молебен о выздоровлении императора, хирурги Вильковский и Выводцев отбыли в Ливадию для бальзамирования тела умершего монарха Российской империи.
Ступень пятая ОСКОЛОК ИМПЕРАТОРА
И только поезд, проехав с диким скрипом и скрежетом ещё метров двести, остановился, как тут же двери тамбура распахнулись, повинуясь лихим ударам чьих-то тяжелых сапог, и в вагон, прямо с седел, ввалились какие-то люди, по одежде которых невозможно было определить, кому они служат.
Бородатые, краснорожие мужики в лохматых бараньих шапках первым делом уткнули длинные стволы своих маузеров и смит-вессонов в животы тех, кто находился в тамбуре, и Николай с Томашевским за одну минуту превратились из мстителей в пленников людей, взявшихся неизвестно откуда и непонятно что желавших получить от пассажиров поезда.
Оставив дрожащего Ваганова, Томашевского и Николая "под приглядом" одного ствола, другие обладатели бараньих шапок вломились в вагон, для острастки пальнули в потолок так, что сверху посыпалась труха, и заорали:
— Эх, е-мое, граждане хорошие, сейчас же с багажом из вагона по порядку, тихо и без шума-гама выходють все! Кто станет возражать, тому мы сделаем свинцовую затычку в дырке! Ну, по порядку, с крайних начинаем и серединой завершаем! И без всяких фокусов!
Пассажиры глухо поворчали, но «лохматые» снова пальнули в потолок, после чего уже никто не возражал, и пассажиры, подхватив свои мешки и чемоданы, стали выходить по одному, а Николая, Томашевского и Ваганова, подталкивая в бока стволами, спихнули на землю первыми, чтобы не мешали свободному проходу трясшихся от страха пассажиров.
Оказавшись на земле, Николай осмотрелся по сторонам. В поезде было всего вагонов шесть, и вот из всех дверей прыгали сейчас на мягкий песок железнодорожного откоса люди. Кто свой скарб вниз бросал, кто тесно прижимал его к груди. Тут же пассажиров хватали под руки вооруженные, с пулеметными лентами наперекрест груди «лохматые» и ставили в шеренгу метрах в двадцати от поезда. Неподалеку маячили строения какой-то деревушки.
Скоро Николай увидел, что в дверном проеме вагона появилась Александра Федоровна — с лицом, искаженным мукой и тревогой. Но он ей даже не сумел подать руки, потому что уже был поставлен в строй рядом с поручиком и чекистом. Только искоса смотрел за тем, как она неловко прыгнула с высокой ступеньки, не удержалась и упала.
— Можно мне помочь моей семье? — спросил Николай у человека, в отличие от других не имевшего лохматой шапки, а красовавшегося в матросской бескозырке, на ленточке которой золотилось слово "Светозаръ".
"Матрос", пыхнув дымом, криво улыбнулся и сказал:
— Да буде, дядя, буде. Теперь уж твоей семье никто здесь не поможет, кроме нашего царя…
— Какого еще… царя? — спросил Томашевский, хмуря брови.
— Как какого? Законного императора России Николая Александровича, его величества, — отвечал вполне серьезно светозарец, ища в лицах своих пленных несогласия с этим сообщением, чтобы можно было убедить их в справедливости его каким-нибудь иным способом.
Но они промолчали, и только Ваганов, потупив взор, сказал:
— Так ведь убит же он… расстрелян…
"Матрос" зло затоптал цигарку, прозвенел пулеметной лентой, повешенной через плечо, зачем-то полапал рукоятку офицерского кортика, висевшего у него чуть выше колена, и сказал:
— Ты, батя, таких глупостев больше говорить-то не моги!
И будто в подтверждение его слов, не оставлявших сомнения в том, что «настоящий» император России должен находиться где-то рядом, со стороны деревеньки покатился по направлению к остановленному поезду какой-то клубящийся шар. Он оказался облаком пыли, поднятым всадниками, сидевшими в седлах уверенно и молодцевато. Все это Николай, однако, рассмотрел, когда в облаке появились контуры людей и лошадей, а ещё минуты через три можно было видеть, что в центре кавалькады мчится всадник в мундире с золотыми эполетами и богатым аксельбантом. Золотой гвардейский шарф перепоясывал его полный стан, плотные ляжки обтягивали гусарские чакчиры с вышивкой, а на ногах лаково блестели короткие гусарские сапожки с серебряными шпорами. Легкая сабля в золоченых ножнах и деревянная коробка маузера, хлопавшая всадника по ноге при каждом скачке коня, дополняли красочный, богатый наряд всадника. Но, что самое удивительное, чем ближе приближался всадник, окруженный свитой, тем отчетливее видел Николай, что лицо неизвестного очень походит на его собственное лицо, будто кто-то оживил его портрет да и посадил на лошадь… Видел он, и что выстроенные в две шеренги пассажиры тоже смотрят на подъезжающего с большим любопытством, а некоторые даже с трепетом во взоре. И едва подъехал всадник так близко, что всякий из шеренги мог его видеть и слышать отчетливо, как тут же, погарцевав немного для красы, поднял руку, другой рукой держа поводья горячего своего коня.
— Граждане России, подданные вы мои, чада мои возлюбленные! Сподобились вы увидеть самого государя России, императора Николая Александровича, который кланяется вам, чтобы и вы, помня всегда его милость, кланялись бы ему усердно и не кривя душой.
И человек с золотыми эполетами на плечах на самом деле низко поклонился пассажирам поезда, так низко, что Николай подумал было, что "Николай Александрович" не удержится в седле и упадет на землю.
— Знаю, прошел по земле русской слух, — продолжал всадник, — что меня-де с семьей расстреляли, и панихида-де по мне отслужена, и имена-де убийц уж и анафеме преданы. Ну что за нелепые, глупые слухи! Рад наш маловерный народ подхватить да другим передать всяку блажь. Так вот, зрите, дети мои! Еще в Тобольске удалось мне бежать из тюрьмы, со всею семьею бежать, и теперь возлюбленные домочадцы мои в месте безопасном, но мне ли укрываться от народа своего? Мне ли бежать в дальние страны, когда вижу я, что Россия страждет, нуждается в вожде, в сильной императорской деснице. И вот явился я к вам, — нет, вернее, вы ко мне, хоть и не по своей воле, чтобы вы порадели за дело государево, за восстановление престола, восхищенного у меня злыми ворогами отечества! Значит, слова мои к вам такими будут: силком никого принуждать не собираюсь, но кто добровольно на мою сторону перейдет, обещаю прощение и награду соразмерно вкладу в наше с вами российское дело. Переходите на мою сторону, православные и неправославные, все, кто любит меня! Будем жить покамест в той деревне, обстроимся, сил наберем — есть у меня и пушки, и пулеметы, а паровоз я любой теперь останавливать со своими орлами научился, так что, обретя силы немалые, двинем на Екатеринбург, с ходу город на шашку возьмем, а там за меня и весь Урал выступит, Сибирь поднимется, потому что нет в России более законного правителя, чем я, помазанник Божий Николай Второй!
Раздалось громкое «ура», но Николай, слушавший длинную и кудреватую речь того, кто называл себя царем, заметил, что кричали по большей части неприглядные «лохматые», правда, подал свой восторженный голос и кое-кто из пассажиров поезда. Томашевский же громко скрипел зубами от негодования на наглые речи неведомо откуда взявшегося "императора".
— Я только очень вас прошу, — прошептал Николай, — не подавайте виду, а то вы всех нас погубите. Представьте, если этот… субъект узнает во мне настоящего Николая Романова, а в членах моей семьи — августейшую фамилию…
— Я буду вам послушен, ваше величество, только… только уж очень хочется бросить в него гранату, — так же тихо прошептал Томашевский, стоявший от него по правую руку, слева же стоял Ваганов. И если до соратников "деревенского императора" не долетели фразы разговора Николая с поручиком, то их обрывки были слышны екатеринбургскому чекисту, который громко закричал «ура» в честь всадника с аксельбантом и маузером на ляжке, а потом сказал, выходя из строя на два шага, но поворачиваясь к фронту понурой шеренги пассажиров:
— Земляки, неужели сомневаетесь, неужели не видите, что перед вами настоящий император матушки России, а нам-то злые языки трепали, что извели его большевики ещё в Тобольске. Лично согласен за его дело постоять, а то куды ж без него Россия? Буду за тебе сражаться, твое величество! Только разреши сказать тебе одно словечко, короткое такое…
Всадник в драгунской мерлушковой шапке, слушавший верноподданническую речь неказистого с виду мастерового, недоуменно пожал плечами:
— Что ж, гражданин, ежели ты никаких каверз в голове своей против меня не держишь, то подойди, да только помни: покусишься на государеву персону на куски тебя потом разрежут.
Ваганов робко двинулся к нему. Двое конников тут же окружили его с двух сторон.
— Что ты, государь, ничего дурного против твоей персоны и в мыслях не держу, — сказал Ваганов.
Стража была готова разделаться с подозрительным мужичком по первому же знаку государя — карабины дулом кверху, а приклады — на бедре, патрон уже давно дослан в ствол. Жрут глазами недотепу, а он подошел поближе и сказал:
— Ваше величество, нужно одно слово вам сказать, но без свидетелей. Очень важное такое слово. Пусть ваши телохранители отъедут, хотя б маленько.
Государь не был бы государем, если бы позволил себе выглядеть малодушным. Только незаметно мигнул конвою, а сам тихонько шпорами тронул коня, отъезжая от стражи.
— Ну, чего хотел сказать? — чуть нагнулся к незнакомцу, сам же правой своей рукой взялся за перевитую рукоять легкой генеральской сабли, клинок которой хлябал в неродных золоченых ножнах.
— Ваше величество, не обессудь и не серчай: есть среди пассажиров человек, который себя за… Николая Романова выдает, за императора. Сам понимаешь, двум царям зараз, да ещё с одинаковыми именами в России не править, вот и рассуди ты своей мудрой царской головой: стоит ли отпускать того самозванного царя восвояси? Он же на каждом углу трубить будет, что не ты, а он — настоящий император.
— Интересно, оч-чень интересно, — выпрямился человек с эполетами в седле и оглянулся по сторонам, как видно, желая убедиться, что рассказ пассажира не коснулся ничьего уха. — Конечно, ты мне этого… самозванца покажешь?
— Само собой разумеется, ваше величество, — сказал Ваганов, радуясь случаю не только избавиться от мести Романова за покушение на его жизнь, но и возможности исполнить то, что не удалось сделать Екатеринбургской чрезвычайке.
— Ну, веди, веди меня к нему, сейчас же, безо всякой канители, приказал «император», а сам уже искал шпорами бока коня, резво ударившего копытом.
Ваганов же, смело подойдя к шеренге пассажиров, у которых бойцы золотоэполетного императора уже трясли мешки, указал на Николая, давно догадавшегося, зачем Ваганов уединился с всадником.
— Вот он, ваше величество! — с торжественной радостью в голосе указал Ваганов на Николая, стоявшего в шеренге с низко опущенной головой. Сейчас он страшился не за свою жизнь, а за судьбу стоявших в другом месте детей и жены, которых невольно обрек на страдания.
Он почувствовал, как дернулся всем телом Томашевский, но он успел всего лишь на мгновенье сжать его руку, не то поручика ничто бы не смогло сдержать — он бы бросился на Ваганова, а то и на самого «царя». Человек же с золотыми эполетами, так похожий лицом на Николая, сидя в седле с элегантной небрежностью, перебирая руками, обтянутыми лайковыми перчатками, поводья, пристально смотрел на Романова и улыбался, будто не мог постигнуть, как это кто-то, кроме него, мог называться в России Николаем Вторым, монархом.
— Вот дивно-то, — сказал он наконец, — дошло до меня прелюбопытное известие, что-де вы, любезнейший гражданин моей империи, поимели смелость присвоить имя всеавгустейшего цесаря Николая Александровича, мое, то есть, имя. Так это или не так?
"Император" произнес эту фразу, однако совсем даже негромко, так чтобы её мог слышать один только Николай или уж, по крайней мере, близ него стоящие; как видно, сомневался в нужности вопроса — вдруг что неожиданное выйдет. Николай ответил ему:
— Я слышал, что вы называете себя Николаем Романовым, прибавляя к этому имени императорский титул. Но разве вам неизвестно, что Николай Второй отрекся от престола вполне официально, а поэтому, даже если бы вы и оказались Николаем Романовым, то никакого отношения к короне уже не могли бы иметь. Зачем же вводить в заблуждение тех, кого вы называете своими подданными? Признаю, вы обладаете внешним сходством, но тем ваша связь… со мной и ограничивается.
— С вами? — откинулся в седле «император», на которого эта смелая и ясная речь произвела впечатление. — Сходство с вами? Так ты хочешь мне сказать, что именно ты и есть Николай Второй?
Николай хотел было отказаться от имени, убедить «императора» в том, что говорил лишь о сходстве внешнем, не имеющем отношения к титулам. Он понимал, что попытка отстоять свое имя будет стоить ему, а возможно, и его родным жизни, но что-то упрямое — то ли фамильная гордость, то ли голос крови — прогудело в сердце бывшего царя громким набатом, и он сказал:
— Да, я ношу фамилию Романов, я и есть царь, отрекшийся от престола.
Сказано это было так просто, так скромно, и так не соответствовала эта скромность и простота признанию, что не только человек в эполетах, но и члены его охраны, давно уж прислушивавшиеся к разговору «царя» с пассажиром, обладавшим окладистой бородой, потрепанным и совершенно не походившим ни на настоящего, ни на бывшего императора, загоготали подчеркнуто развязно и издевательски. Вероятно, даже солдаты Понтия Пилата не смеялись над Спасителем — Царем Иудейским так громко, как эти люди в лохматых шапках.
— Скажи пожалуйста, он — бывший царь, Николай Александрович, ишь, чего придумал! — сквозь смех, переламываясь пополам и чуть не съезжая с седла, выдавливал из себя обладатель эполет. — А может быть, ты Франц Иосиф или Вильгельм Второй Германский? Ездишь вот так со всякой сволочью по просторам России-матушки, смотришь на её земли, на дикий, на веселый её народец? Ну, а документики-то есть у тебя, ваше величество? Али в Петербурге оставил, когда в вояж собирался?
— Есть у меня документы, — коротко ответил Николай и полез во внутренний карман френча.
Удостоверение личности было выдано Николаю и членам его семьи адмиралом Колчаком, но проставить в документе чужую фамилию Николай отказался, как ни упрашивал его Колчак, ссылаясь на то, что жить под настоящим именем — дело безрассудное и равносильно самоубийству.
Лишь на одно согласился Николай — умелые колчаковские канцеляристы, обладая необходимыми бланками и печатями, выписали такие документы, где все Романовы были причислены к мещанскому сословию. Теперь, после стольких мытарств, опасностей стать простыми горожанами было для них столь мизерной бедой, что не вызвало ни у кого ни малейшего возражения или недовольства.
Когда «император» принял из рук Николая паспорт, а потом, неторопливо достав из кителя очки, прочел, что там написано, то снова рассмеялся:
— Батюшка ты мой, и что же ты мне этакую негодную бумажку-то даешь? Или сам не помнишь, что там черным по белому прописано? Ладно, ясно вижу, что ты и есть Романов Николай Александрыч, но почему же ты ещё в шестнадцатом году был мещанином, не пойму никак. Али тебя задним числом понизили? Али ты, сидя на троне царском, всем нам головы мурыжил и находился в сословии мещанском?
Николай промолчал. Он уже сильно жалел о том, что показал «императору» документ, не сумев сдержаться. Сам же «царь», повеселев, сунул паспорт членам своей свиты, направо и налево, ткнул пальцем в чудноiе слово «мещанин», чем вызвал всеобщий смех, а после обратился к Николаю:
— Батюшка, что ж получается такое? Верю, что по всей стране одноименных с императором людей — что карасей в садке, но разве каждый станет себя царем именовать с превеликой дерзостью и опасностью навлечь на себя гнев царя истинного?
Николай промолчал, не просто не желая пускаться в объяснения с каким-то проходимцем, затеявшим рискованное предприятие с самозванством за счет случайного сходства с ним, с помазанником, но и потому, что знал — все доводы и объяснения здесь никого убедить не смогут, ибо всей этой разбойничьей братии нужен был свой император, такой же, как они, по повадкам, характеру и нравам.
— А раз ты Романов Николай, назвавший себя императором, ничего вразумительного мне и всем моим подданным сказать не можешь, то я своей властью, — «император» возвысил голос, сделал его нарочито грозным, повелевающим, — своей властью буду сейчас тебя казнить, как казнили таких вот воров и самозванцев все мои предки. Прилюдно тебя казню, чтобы другим таким вот мещанишкам было неповадно посягать на мой отеческий государев престол.
И, обращаясь уже к своему конвою, бросил резко:
— Фомка, Кузьма, мой царский приговор приведите к полному натуральному соответствию, то бишь расстреляйте наглого смутьяна.
Фомка и Кузьма с охотой спрыгнули с коней, хоть по шеренге пассажиров и прокатилась волна ропота, сдержанного недовольства, и, когда охранники «императора» шли к Николаю, по дороге доставая из-за спин карабины, вдруг раздался высокий мальчишеский голосок, и крик, с плачем вперемежку, пролетел над строем пассажиров и достиг слуха человека с золотыми эполетами:
— Не убивайте его-о-о! Не убивайте-е! Это — папа мой, он на самом деле бывший император! Не самозванец он!!
"Император" так резко повернулся в седле, чтобы рассмотреть, кто там кричал, что сочно проскрипела кожа английской выделки. Увидев невысокого худенького парнишку в линялой гимнастерке, препоясанной тонким ремешком, удивленно вскинул брови и спросил:
— А это ещё что за воробей там прочирикал? Ну-кась, подойди сюда скорее!
К всаднику, лошадь которого не могла стоять на месте, взматывала головой, пыталась лягнуть кобылу конвойного, Алеша подходил медленно, но с высоко поднятой головой. Еще не дошел, как от строя отделилась Анастасия, с плачем бросилась за братом, после Татьяна, Мария, Ольга, не устояв на месте, тоже побежали к «императору», чтобы удостоверить человека в эполетах, что их отец — не самозванец.
— Ну, и кто же вы такие? — совершенно опешив от неожиданности, видя перед собой умолявшие глаза девушек-красавиц и мальчика-подростка, спросил лже-Николай.
— Мы — дети того, кого вы изволили назвать самозванцем! — со слезами на глазах заговорила старшая дочь Николая. — Меня зовут Ольгой.
— А я — Татьяна, — сказала вторая.
— А я — великая княжна Мария! — подала голос третья.
— Великая княжна Анастасия — это я, — представилась резвая с виду девушка, а мальчик, не успевший утереть слезы, пролегшие на щеках блестящими дорожками, сказал:
— Меня же зовут Алексеем Николаевичем Романовым.
"Император" и все, кто был поблизости от него, удивленно моргали глазами, глядя на августейшее семейство, а к детям уже спешила Александра Федоровна, чья величавая осанка сразу выдавала в женщине царственную кровь. Вот уже мать была рядом со своими птенцами и обнимала сразу же Алешу и Анастасию.
— Если вы, сударь, — с вызовом заговорила она, — представлялись здесь защитником монархии, — не знаю, право, какого вы сами-то роду-племени, так уж взгляните на нас внимательно. Узнаете ли царственное семейство? Полагаю, наши портреты вам видеть приходилось. Если в Николае Александровиче вы не признаете бывшего монарха, так его супругу и детей узнайте, чтобы не мололи чушь про нас, что мы-де самозванцы.
Похоже, на всех, кроме всадника, выдававшего себя за царя, эта сцена произвела впечатление веселящее. Кого-то больше волновала проблема сохранности своего багажа, безбожно потрошившегося «лохматыми». Кто-то думал, что и всадник с эполетами, и бородач из толпы пассажиров то ли разыгрывают друг друга, то ли ведут какую-то игру, непонятную им. Во всяком случае, никто из числа пассажиров не верил, что среди них присутствует хотя бы один монарх. Лишь Томашевский и Ваганов знали истину, а «лохматые» давно уже поняли, что их атаман лишь прикрывается именем государя, но на самом деле только лихой и дерзкий человек, решивший поиграть в царя. Вдруг все оторопело посмотрели на «императора», ловко соскочившего со своего жеребца, подошедшего к Александре Федоровне, низко поклонившегося ей и поцеловавшего ей руки. Украсившись обаятельной улыбкой, «император» сказал, обращаясь к Николаю и Александре Федоровне поочередно:
— Ваши императорские величества, я льщу себя надеждой на то, что вы не откажетесь посетить мое скромное жилище.
И деревенский «император» рукой, затянутой в грязненькую перчатку, указал в сторону домов и прибавил:
— Правда, кареты у меня нет. Если угодно, я и мои гвардейцы предложат вам своих лошадей. У нас у всех прекрасные донцы.
Боясь навредить себе отказом, Николай и Александра Федоровна приняли приглашение, но от донцов вежливо отказались. В сопровождении спешившегося «императора» они двинулись по направлению к деревне, дети шли за ними следом, "императорский конвой" со свистом и гиканьем гарцевал со всех сторон процессии, а остальные «лохматые» остались вместе с пассажирами и машинистами.
Скоро все, что привлекло внимание сторонников «императора», перекочевало в их мешки, и пассажирам предложили занять вагоны или, если пожелают, погулять на свежем воздухе, ибо до особого распоряжения «императора» поезд задерживался на том самом месте, где был остановлен. Пассажиры повздыхали, а потом расселись вдоль насыпи, чтобы закусить жалкими остатками провизии.
Подходя к деревне, Николай, коротко отвечавший на вопросы «императора», разглядел трехдюймовую полевую пушку, поставленную на довольно удобной закрытой позиции, а по обе стороны от неё — стволы «максимов», грозно направленных в сторону железной дороги.
— Это ещё не все, — с гордостью заметил «император», увидев, куда смотрит его гость. — Пулеметов имею двадцать, а пушки в количестве двенадцати штук расставлены со всех сторон моей резиденции. У нас тут неприступная крепость, Верден, честное слово, Верден! — и шепнул на ухо: Это я вам не случайно сообщаю, ваше величество…
— А с какой же целью? — поинтересовался Николай.
— Ах, подождите, подождите, ваше величество, — заговорщицки зашептал «император». — Интересный и важный разговор ещё впереди.
Вошли в деревню, оказавшуюся довольно зажиточной, и «императору», похоже, доставляло удовольствие то, что он демонстрировал не бедность своей резиденции, а достаток.
— Всем бы в России так жилось, как у меня гражданам живется, — ни тебе налогов, ни податей, — служи только мне исправно на воинском поприще, но и армию мою корми, не без этого. Суд у меня свой есть, полиция, даже почту недавно завел, у меня особые люди на конях корреспонденцию в мешках машинистам поездов передают, за плату, разумеется. Вот и сегодня притормозили малость ради такой наживы машинисты, но мы имели на этот поезд другие виды… зато уж с вами повстречались, Николай Александрович. По гроб судьбу за это благодарить стану, фортуну то есть…
Прошли деревню. На пригорке, на видном месте красовался барский дом с колоннами — помещичья усадьба.
— Так вы, я понимаю, дворянин, помещик? — немного оживился Николай, надеясь найти в «императоре» человека благородного происхождения.
Но «император» улыбнулся с лукавым самодовольством и ответил так:
— А это-то самое главное и есть, самое главное! После обо всем вам поведаю, ваше величество.
И вот по выщербленным известняковым ступеням поднялись к парадному входу в барский дом, где рядом, между колоннами, стояли тоже два пулемета с подготовленными к бою патронными лентами, с двумя бойцами у каждого: только знак подай — застрочат за милую душу. Вошли в зал, завешанный картинами, портретами, на которых красовались, должно быть, предки владельца дома, только ныне изображения были не в порядке, потому что кто-то сделал из портретов мишени для пулевой стрельбы, и все эти люди в париках и кафтанах, с лентами через плечо и без, были продырявлены во многих местах.
— Мои ребята пошалили, — улыбнулся «император», снова угадывая, куда смотрит его гость. — Но это не беда! Зато сервиз немецкий на сорок персон мне удалось сберечь, и он сейчас нам пригодится, ой как пригодится!
И тут же «император» прозвонил три раза в медный колокольчик, взяв его с длинного, но непокрытого скатертью стола, и, когда точно из-под земли выросли два дюжих молодца в красных шелковых рубахах, похожие на трактирных половых, сказал им:
— Обед готовьте на… тринадцать человек! Чтобы мигом было, по полному чину, а сейчас — закуска! Вина, водки — все лучшее! Высоких сегодня мы принимаем гостей!
Когда молодцы в алых рубахах убежали, «император», понимая, что произвел на высоких гостей сильное впечатление, сказал:
— Это ещё что! А ванную мою с бассейном осмотрите, а уборные с мраморными клозетами, да и не только осмотрите, но и воспользуйтесь, окажите милость рабу, холопу вашему!
— Да кто вы такой, в самом деле? — подошла к «императору», горделиво поправлявшему аксельбант, Александра Федоровна. — Выражаетесь вы не только учтиво, но, я сказала бы, вполне культурно, но почему же вы называете себя нашим холопом и рабом?
— А это от истинного осознания своего мизерного положения, — зачем-то хлюпнув носом, сказал «император». — Впрочем, кто бы не почувствовал свою малость в сравнении с вашим величием? Никто, во всей Вселенной никто!
Александра Федоровна ничего не ответила, а только грустно улыбнулась, вспомнив о своем былом положении и сравнив его с настоящим — жалким и полным опасностей существованием. Впрочем, она не отказалась посетить ванную комнату «императорского» дворца, куда потом прошли и дочери и Алеша, а потом и Николай. Пока приводили себя в порядок, стол оказался застеленным довольно чистой скатертью, и на нем красовался прекрасный сервиз, хотя наметанный взгляд бывшей императрицы сразу же заметил, что он составлен из разных столовых гарнитуров. Однако после лесной избушки, где августейшей семье приходилось есть из деревянной посуды, где они не могли спастись от грязи, обстановка дома этого странного человека показалась всем просто невероятно роскошной.
Появились закуски, а тут подошли и прочие участники обеда — несколько «гвардейцев» владельца дома, которых Николай запомнил как членов свиты «императора». Молчаливые, угрюмые, косо смотревшие на гостей, казавшихся им подозрительными уже потому, что атаман так быстро переменился к ним, посадил рядом с собой.
Закуски оказались обычными домашними соленьями, но вино, как видно, из не опустевшего ещё барского погреба, понравилось даже Николаю, спросившему наконец у "императора":
— Вы меня так заинтриговали, столько надавали авансов, что я весь в нетерпении и желаю поскорее узнать, кто вы такой и что вы от меня хотите?
"Император" в каком-то неуместном назидательном жесте поднял вверх руку с зажатой в ней вилкой и, прожевывая соленый гриб, сказал:
— То-то и оно…
— Что означает эта фраза? — улыбнулся Николай, старавшийся говорить любезно, чтобы не испортить настроение человеку, от которого зависела, быть может, его жизнь.
— А то, что я ваш интерес понимаю, очень понимаю, — сурово сдвинул брови «император». — Ну-с, я его сейчас удовлетворю, пока горячее не принесли. Значит, так, возможно, я вас сразу удивлю, ибо сообщу, что я — не барин, не хозяин этого именья, а попросту… императорский осколок.
— Это выражение мне уж и совсем непонятно, — потупил глаза Николай. Изъяснитесь, прошу вас.
— Охотно-с, — наливая полный бокал вина и выпивая его, сказал «император». — Да, Николай Александрович, я сразу в вас узнал бывшего монарха, но… хотел вас расстрелять. Поначалу. Потом же, увидев вашу августейшую супругу и августейших же детей, я передумал, но вовсе не потому, что принял близко к сердцу их слезы, не потому. Одна идея словно громом меня сразила, оглушила: я понял, что императора России, истинного императора, с кровями королевских, благороднейших фамилий в жилах, нужно не убивать, а заставить или… упросить служить себе. Ведь я — императорский осколок!
— Так что же это за осколок все-таки? Не хотите ли вы сказать, что являетесь плодом какого-то морганатического брака? — с заметной иронией в голосе спросил Николай.
— Нет-с, отнюдь, все это было бы слишком просто, очень тривиально, возразил «император», залезая аксельбантом в свою тарелку. — Слушайте мысль мою, ваше величество, внимайте: все русские — осколки императоров, потому что носят в свободных своих натурах как бы ваше отражение, только крошечное, почти незаметное. Представьте себе зеркало, огромное трюмо, в которое вы смотритесь. Там вы видите себя, царя, во весь свой величественный рост, но революция настала, и зеркало разбилось на множество таких вот, — «император» показал на черный ноготь пальца, — осколочков, и каждый человечек, даже самый дрянненький, забрал себе то, что вам принадлежало раньше, только в самой малой части. Власть взял себе, свободу! Монарха, государства — нет, есть лишь миллионы царей, которые вольны делать то, что раньше им не давалось, но грезилось всегда. Ведь русский — он царь в душе, он свободен, жаждет крови, воли, а прежде он был в тенетах твоей власти. Теперь — другое! Мы все — осколки твоего величия, мы — царствуем, а ты уже никто!
Николай с интересом выслушал тираду «императора» и спросил:
— И почему же вы решили, что мои подданные, в прошлом мои, такие вот все маленькие царьки были? Я их разумными, законопослушными людьми считал, и если бы их не подбили к выступлениям мои враги, то они, меня любившие, никогда бы не взбунтовались.
"Император" с азартом ударил себя по ляжке, произведя при этом движении громкое шуршание эполетами.
— А вот как бы не так, ваше величество! Плохо вы своих подданных знали, видели их только на церемониях да на парадах, когда они вам хлеб с солью подносили. А не знали вы, что управляете полуторастами миллионами царей. Ведь крестьяне у вас подданные были, по большей части крестьяне, а про крестьян даром глупые люди говорят, что они — общинники, что у них идея общества в крови с рождения сидит. Нет, не такие они, а наоборот. Каждый крестьянин — царь, над землей своей повелитель, кому бы она ни принадлежала, над двором, над членами своей семьи. Это горожане общественники, ибо ничем не владеют, ибо им, живущим и работающим бок о бок, приходится следовать правилам поведения, то есть уничтожать в себе волю. Русскому же крестьянину не нужно сдерживаться, он — сверхчеловек, а поэтому и рухнула твоя монархия, царь, что каждый решил проявить наконец свое сверхчеловечество и забрал у тебя осколок твоего императорского величия.
Под конец своей жаркой речи «император» даже поднялся, не замечая, что на его аксельбанте повис укропный кустик, а Николай тихо спросил, замечая, как съежились его родные под влиянием слов хозяина:
— А, значит, вы тоже русский крестьянин, очень приятно. Я польщен общением с русским сверхчеловеком.
— Нет, я не крестьянин, — словно выпустив из себя пар красноречия и тотчас сжавшись, сморщившись, как пустой мячик из гуттаперчи, хмуро заметил севший на место "осколок императора". — Моя настоящая фамилия Иванов такая пошлость! Я был учителем в земской школе, много читал, был горд знаниями и ненавидел свое положение с десятью рублями месячного жалованья. В довершение всего я был очень похож… на вас, и это меня страшно бесило. "Как так, — думал я, — почему у Николая Романова, который похож на меня, как один пятак на другой, который не знает всего, что знаю я, вся страна под стопой, а я, нищий учитель, вынужден влачить полуголодное существование, выносить выговоры всякого там уездного начальства, кланяться всякой мелюзге, помещикам!" И вот настал мой день, настал мой час! Я поднял деревенских мужиков против тутошнего барина, в доме которого вы сейчас сидите, я занял его место, пью его вино, сплю на его кровати, ко мне, как к императору, которым я себя объявил, сбегаются другие осколки царя, то есть вас, и скоро, я уверен, мы сумеем собрать все зеркало, в которое смотрелись вы! Мы соединим осколки, а потом только я один, так похожий на вас, буду смотреть на свое отражение, так похожее на ваше!
Николай, приглядываясь к «императору», все больше хмелевшему от подливаемого вина, понимал, что имеет дело или с алкоголиком, или с умалишенным.
— Хорошо, ну а от меня-то вы чего хотите? Вы привели меня в свой дом, чтобы познакомить с идеей об "императорских осколках"?
Александра Федоровна делала мужу знак глазами, желая остановить его, она боялась, что насмешка Николая может разозлить человека, которого она считала попросту разбойником, но от которого зависела сейчас, однако Николай уже сознательно хотел подразнить обойденного судьбою человека.
— То, что я хочу от вас, оставим на десерт, — уже тяжелым, костенеющим языком произнес захмелевший учитель Иванов. — Теперь же пусть мои гвардейцы вас повеселят, потому как именно веселье, развлечения, всякие там маскарады и журфиксы были вашим главным занятием, ваши величества и ваши высочества. Эй, музыка! — прокричал вдруг «император», вскакивая с места, и тотчас в зал, где происходил обед, ввалились, будто только и ждали сигнала, музыканты всё в тех же алых рубахах. С гармонями, балалайками, рожками и трещотками, они построились в ряд, а потом, повинуясь приказанию какого-то невидимого дирижера, ударили звонко и лихо задиристый плясовой напев, горячий и дикий.
И сразу же отягощенные хмелем головы гвардейцев, давно уже клонившиеся к немецкому фарфору, словно подбросила вверх какая-то могучая живительная сила, плечи соратников «императора» заходили вверх-вниз, локти застучали по белой скатерти, а ноги под столом затопали, и вот уже гвардейцы выбежали из-за стола на открытое место. И, не меняя хмурости лиц на веселость, пять здоровенных мужиков, гремя шашками, скобля наборный пол парадного зала зубчатыми шпорами, заелозили по полу в присядке, то резко вскакивали, размахивая руками, то выгибались назад, при этом чуть не падая затылком навзничь, то выбивали каблуками неистовую дробь, молотя ногами в такт трели балалайки. А Николай смотрел на эту пляску и думал про себя: "Так вот она где, русская душа, где правда русская! Выходит, русский — сверхчеловек, и лишь в революциях и бунтах может он найти усладу, да так и будет услаждать себя, покуда не выйдет из него весь этот пыл, покуда не надоест ему смотреться в осколок зеркала, где он видит себя маленьким царем. Вот побеснуется он так, повеселится, а потом устанет и скажет сам себе: довольно, буде, буде, надо это зеркало вернуть владельцу. И станут люди потихоньку, по частичкам нести все эти надоевшие осколки тому, кто их возьмет. Но кто же их теперь возьмет? Такой вот Иванов с золотыми эполетами? А может быть, Колчак? Нет, ребята, эти осколки я заберу к себе и буду снова смотреться в полный рост на свое отражение!"
А музыка все волновалась, все лилась. Одуревшие от пляски гвардейцы снова сели за столы, наполнили бокалы и затянули протяжно и тоскливо песню про чью-то долю, до которой этим людям было дело. «Император» же с бокалом вина подсел к Николаю и, горячо шепча ему на ухо, заговорил:
— Теперь же, ваше величество, я вам скажу то слово, ради которого я и зазвал в свой дворец. Ну вот. Конечно, я мог вас расстрелять, потому как двум царям в России совсем не место. Но я, как всякий царь, великодушен. Вы мне пригодитесь, останетесь со мною, чтобы дополнять меня. Мы будем действовать попеременно, нас никто не сможет отличить друг от друга, я стану вашей тенью, а вы — моей. Я же понимаю, что мою посконную рожу всякий, кто вас прежде знал, признает как рожу самозванца, а вы будете со мною, за моей спиной. Мы будем соправителями, мы убедим каждого, что царь не только жив, но и очень энергичен, действенен, что он двухголовый и его нельзя убить. Представьте — мы с вами вместе являем двухголовое животное, чудовище! Да нас устрашится вся Европа! Знаете, чего вам раньше не хватало? Энергии! Вы были очень слабеньким царем, царишкой, вы допустили к власти либералов, всякое интеллигентское говно, затеяли играть в парламент, в конституции, свободы — вот и пробудили народ в каждом уголке России. И они полезли из всех щелей, как тараканы, зашевелили гадкими своими усами, и вы сразу испугались! Но теперь не будет этого! О, соглашайтесь, ваше величество! Мы поделим с вами власть и сферы действия. Вернее, действовать буду только я, а вы станете моей ширмой, моей личиной. Ну, по рукам?
Запах чеснока и лука вперемешку с водочным и винным перегаром заставляли Николая отворачиваться, но он ловил себя на мысли, что ещё три минуты таких доводов смогут, наверное, его увлечь. "А почему бы и нет? подумал он. — Возьмем Екатеринбург, вернее, вынудим адмирала Колчака пойти за нами, а не действовать по приказу Антанты, не желающей видеть Россию монархией. После к нам присоединится вся Сибирь, а там, используя её людей и хлеб, мы пойдем на запад, возьмем Москву, а там и Питер рядом…" Но Николай вдруг резко прервал мечтания на эту тему, а почему прервал, он объяснил бы так: "Не пристало мне, Романову, якшаться со всякой сволочью", но на самом деле очень тихая, неслышная идея овладела им тогда и подвела к отказу — Николай хотел быть только самодержцем, не желающим ни с кем делиться властью.
— Иванов, — заговорил наконец он, подчеркивая этим обращением именно то, что тот лишь школьный учитель, и никто больше, — а у меня, в свою очередь, есть предложение…
— Какое, вот интересно бы узнать, — загорелись жадным блеском глаза "осколка".
— Сейчас узнаете. Значит, так, вы немедленно отпускаете всех нас, а заодно и пассажиров, не мешаете поезду следовать в заданном направлении, а я вам за это… отдаю бриллианты. По довоенному курсу рубля их можно было бы оценить тысяч в пятьсот-шестьсот.
Выражение лица Иванова, выслушавшего предложение Николая, казалось, было отягчено глубоким раздумьем.
— Богатство изрядное, — энергично почесав затылок, заметил Иванов.
— Да, немалое. Представляете, сколько пулеметов вы могли бы купить на эти деньги, чтобы заняться собиранием ваших… осколков? А если перевести на винтовки, револьверы?
Но Иванов сомневался, и Николай видел это. Что-то мешало ему согласиться. Он рылся пальцами в бороде, смотрел на своих осоловевших гвардейцев и не мог выбрать нужное решение. Наконец что-то сдвинулось в его душе, один бес победил другого беса, и «император» решительно изрек:
— По рукам. Где же ваши бриллианты? Неужели… при вас?
И Николай ясно увидел, что в глазах Иванова мелькнула досада или даже обида на собственную нерасторопность.
— При мне. Ну так доставать?
— А как же, ваше величество, а как же? — засуетился Иванов. — Только давайте в ту вон комнату пройдем, чтобы эти мерзавцы, — кивнул он в сторону «гвардейцев», — не видали ничего!
Николай поднялся, подошел к Александре Федоровне, на лице которой было написано нескрываемое презрение по отношению к застолью с пьяной блажью темных мужиков, корчивших из себя аристократов, попросил её пройти за ним. Поочередно он подошел и к дочерям, не позвал только Алешу, слушавшего пение со вниманием. Скоро они вместе с Ивановым уже находились в соседней комнате, оказавшейся просторной спальней, где над широкой кроватью с пуховиками, уложенными пирамидой друг на друга, висела и картина с толстозадыми амурами, неведомо кому грозящими своими коротенькими пальцами.
— Ну-с, я жду ваших сокровищ, — протянул руку Иванов.
— Одну минуту, бриллианты спрятаны в одежде моей жены и великих княжон. Не потрудитесь ли выйти? Нам необходимо не меньше десяти минут, строго сказал Николай. — И дайте нож, прошу вас.
Иванов понимающе заулыбался. Он был довольно пьян, но разум ещё не совсем оставил его — «император» был уверен, что бывший царь попросту решил провести его.
— Позвольте-ка с вами не согласиться! Хозяин в этом доме я, а поэтому я и определяю условия, при коих будут доставаться ваши бриллианты. Вот вам нож, — он вынул из бюро красивый нож с ручкой из слоновой кости, — и начинайте. Сами понимаете, что оставить вас одних я никак не могу… — И на лице Иванова изобразилась гнусная улыбка сладострастника, решившего полюбоваться тем, как будут доставаться бриллианты из платьев женщин, о близости с которыми он не мог мечтать даже при условии, если бы его «осколочная» фантазия была бы ещё более необузданной.
Николай Александрович вместо ответа медленно-медленно полез в правый карман галифе, где лежал браунинг, но Александра Федоровна, то ли увидев, то ли предугадав его намерение, заговорила быстро и горячо, считая, что есть другой выход из создавшегося положения:
— Николай, я поняла, что этот господин согласен отпустить нас на свободу в том случае, если мы отдадим ему наши драгоценности? Да?
— Истинная правда, мадам, — совершенно развязным тоном и продолжая улыбаться все так же отвратительно, сказал Иванов, развалившийся на кровати под амурами.
— Ну что же, мы с девочками готовы. Я даже очень рада, что удалось найти такое… удобное для всех решение. Мы даже не будем вас стесняться, сударь, ведь… — и бывшая императрица позволила себе страшную дерзость, забывая, что может этим погубить себя, — я ведь читала, что древние царицы да и просто знатные женщины не стеснялись ходить нагими в присутствии своих рабов. Рабы — не мужчины. Где же нож?
Еще в Тобольске, когда предвиделся переезд в другое место, Александра Федоровна зашила взятые из Петербурга бриллианты в свой корсет и в корсеты дочерей, и теперь нужно было вначале снять платье или хотя бы спустить его лиф вниз, а уж потом надрезать верхний слой корсетной ткани. Подавая пример дочерям, Александра Федоровна сняла с себя платье и, быстро орудуя острым ножом, надрезала материю, нарочно пришитую ею к корсету, чтобы уместить между двумя слоями ткани драгоценные камни. Она вынимала их по два, по три, по одному — как удавалось, — и скоро столик спальни словно искрился всполохами синего, фиолетового, желтого цветов.
— Ко-ко-ко, — кудахтал таявший от удовольствия Иванов, лежавший на кровати с руками под головой. — Самая старая курочка снесла чудесные яички. Посмотрим, что принесут молоденькие курочки. Ну кто там следующий? Оленька самая старшая или Танюшка? Я уж и позабыл…
А в спальню врывались нестройные звуки песни. Теперь уже «гвардейцы» и не пытались петь стройно — их души наслаждались именно тем, что они пели как им хотелось. Николай же, стиснув пальцы, стоял отвернувшись, чтобы не быть свидетелем позора жены, позора дочерей и своего собственного позора. Теперь уже поздно было стрелять, грозить, умолять — он был унижен и растоптан ещё более жестоко, чем тогда, когда его стегали нагайками казаки.
— И это все? — спросил неудовлетворенно Иванов, поднимаясь с постели, когда пунцовая, как рябина, Анастасия надела на себя платье, выложив на стол все бриллианты.
— Да, все, — твердо сказала Александра Федоровна. — Это наши фамильные сокровища. Теперь мы можем быть свободны?
— Нет, подождите, сударыня, подождите, — подошел к столу Иванов, точно вид бриллиантов притянул его к себе, как луна притягивает сомнамбулу. Дайте я все это спрячу поскорее. — И, достав из-за пазухи холщовый мешочек, Иванов дрожащими от волнения руками принялся собирать в него камни, успевая рассмотреть каждый и даже полюбоваться его блеском. — Чудо, чудо, вот уж понасладились красотой кесари наши российские! Теперича не то! Теперь пусть осколочки ваши понаслаждаются этой красотищей неописуемой! Так и буду на ночь доставать да из ручки в ручку пересыпать, а камушки-то блестеть, играть будут, будто над вами, бывшими царями, насмехаясь: "Были, дескать, на государевых персях, а теперь в мешочке холщовом…"
— Так вы собираетесь нас отпускать или решили вновь издеваться, пользуясь нашей беспомощностью? — подскочил к Иванову Николай и тут же осекся, увидев его безжалостные глаза и сразу все поняв.
— Ти-ти-ти, не тявкай, не во дворце Зимнем, царь-государь, — зашипел на него Иванов. — Впрочем, ты, Николаша, можешь отсюда бежать куда хочешь. Мне ты теперь не надобен, а оставлю я себе лишь одну твою жену Александру да милашек-дочек. Теперь я с ними и к народу могу выйти, и к иностранным послам. Полный, так сказать, набор: если я маленько не похож на настоящего, то их присутствие всем правду откроет: вот он, царь Николай. Иди, иди отсюда, проводят до поезда, а жену да девок твоих ни за что не отпущу. Мне ещё со всеми с ними посчитаться придется за то, что меня, передо мной раздеваясь, за раба своего считали, — обидели сильно. Ну да я и сам их маленько обижу — печати-то со всех твоих дочушек поснимаю, если только Гришка Распутин, как болтал народ, их ещё своей плотью великой не поснимал…
Иванов, говоривший взахлеб, до последнего предела наслаждаясь сейчас своей властью над безвластным царем, договорить не успел. Глаза его вдруг стали круглыми, точно пуговицы, он, выпуская из рук мешочек с бриллиантами, затряс руками со скрюченными пальцами, увидев ствол наведенного на него пистолета.
— Отвернитесь, не смотрите, не смотрите!! — крикнул Николай своим онемевшим от ужаса родным, и смерть, молнией вылетевшая из черной дырки браунинга, вошла между обезумевших от страха глаз человека, пожелавшего стать обладателем императорского зеркала.
Николай нагнулся, быстро поднял мешочек, сказал родным:
— Вначале выйду я, а вы потом!
Когда с оружием в руках он появился в зале, где музыка, срезанная выстрелом, уже умолкла, пьяные гвардейцы, вытаскивая из ножен шашки, роясь в кобурах непослушными руками, с любопытством смотрели на человека, которого с такой пышностью велел принять их атаман.
— Все, вашего царя больше нет, — сказал Николай, держа в правой руке пистолет, а в левой мешочек с камнями. — Мне и моей семье нужно сейчас же уйти отсюда. Вы выведете меня из дома, прикажете снять посты у паровоза, и мы все уедем. Вам же за это достанутся мои бриллианты. На деньги, вырученные от их продажи, вы сможете безбедно прожить за границей до конца своих дней.
Но один из «гвардейцев», звероподобный, кряжистый, проговорил, с трудом ворочая языком:
— А мы и так… возьмем твои… брильянты…
Он ещё хотел сказать что-то очень важное, но остекленная дверь парадного с грохотом распахнулась, стекла упали на пол, и на пороге появилась высокая фигура человека в простом чесучевом пиджаке. Нет, он не поднял гранату над головой — он просто держал её в руке, опущенной вниз, и лишь раскачивал её, не говоря ни слова. Но все увидели её. Потом Томашевский спокойно прошел через весь зал, сопровождаемый ошалелыми взглядами «гвардейцев», подошел к Николаю и вежливо сказал:
— Ваше величество, прошу вас, дайте мне ваши бриллианты.
Александра Федоровна и великие княжны, следившие за всем происходящим с порога спальни, видели, как этот красивый офицер спокойно взял мешок, тесемка, что торчала из него, была за несколько мгновений намотана на гранату и завязана узлом, а после офицер сказал:
— Ребятушки, придется вам идти со мной. Идите к поезду, а их величества и их высочества пойдут за нами следом. Видите, я уже снял кольцо с гранаты, стоит мне лишь отпустить чеку, как вас не будет. Если рядом с поездом не будете блажить, поднимать тревоги, то это вам достанется. Ваше величество, вы ведь обещали господам это вознаграждение?
— Да, обещал, и я сдержу слово, если мы сможем спокойно уехать.
— Вот и прекрасно. Вначале выходят эти лихие господа. Ну-ну, я прошу вас, и без фокусов. Всем постам скажите, что идут важные гости. Гости государя императора.
Уже вечерело, и, когда из барского дома, мимо лежащих у колонн часовых, лежащих в неуклюжих позах внезапно сморенных тяжким сном людей, проследовали «гвардейцы», Томашевский и все Романовы, над железнодорожной насыпью, к которой они шли, застыла кроваво-красная река заката. Поезд, подобно детской игрушке, казался маленьким и совсем ненадежным, неспособным довезти людей до городов и деревень, куда они стремились. Но по мере приближения к нему вагоны становились больше, уже можно было разглядеть людей, пассажиров и сторожей в лохматых шапках. Когда подошли к вагону, что был ближайшим к паровозу, Томашевский прокричал, обращаясь к машинистам:
— Эй, там, на паровозе, запускай машину! Уезжаем!
И скоро струи пара вырвались из клапанов, в машине что-то застучало, заурчало, запыхтело.
Послышалась команда:
— Пассажиры — по вагона-ам!
А Томашевский все держал гранату в поднятой руке, и глаза «гвардейцев» были устремлены то ли на нее, то ли на привязанный к ней мешочек. И вот вагоны лязгнули, качнулись, сдвинулись вперед и поползли… Гвардейцы, точно зачарованные, пошли по песчаному откосу вслед за вскочившим на подножку Томашевским, а он все не спешил отдать им царский подарок, и лишь когда поезд стал набирать скорость, он дернул за тесемку, опрокинул мешочек открытой частью вниз, и на землю полилась искристая струя камней, которые, точно осколки зеркала, ловили на свои грани цвет заката и в полете казались капельками крови.
Когда Томашевский, вновь укрепив чеку гранаты сохраненным кольцом, вошел в вагон, где гомонили пассажиры, вспоминая пережитое, радуясь, что отделались лишь синяками да потерей части имущества, он прошел в отделение, где сидели Романовы.
— Вам вполне покойно? — спросил поручик.
— Да, вполне. Мы вам так благодарны! — горячо ответила за всех Александра Федоровна, одаривая красавца офицера улыбкой признательности и восхищения.
— А что с Вагановым? — спросил Николай, молча пожимая Томашевскому руку.
Поручик улыбнулся и тихо ответил:
— Нет больше Ваганова, весь вышел… Вы мне разрешите сопровождать вас до Петрограда?
— Буду весьма рад, — сказал Николай. — Садитесь здесь, рядом с Машей.
***
Невестой Николая была Гессен-Дармштадтская принцесса Алиса, родная сестра жены дяди наследника, великого князя Сергея Александровича. Но про Алису знали в России не только со слов её сестры. Она уже как-то приезжала ко двору русского императора, но не понравилась здесь поначалу и уехала назад. Но когда Александр Третий почувствовал приближение кончины, Алису снова пригласили в Петербург. Теперь уже будущий царь смотрел на немецкую принцессу с боiльшим интересом, чем раньше, и разглядел, что Алиса замечательно похорошела, только постоянно выглядела очень грустной. В общем, она произвела на Николая впечатление неотразимое.
День 8 апреля 1894 года — день помолвки Николая и Алисы — был назван женихом в дневнике "чудным, незабываемым днем". И далее наследник записал своей счастливой рукой: "Боже, какая гора свалилась с плеч, какою радостью удалось обрадовать папаi и мамаi! Я целый день ходил как в дурмане, не вполне осознавая, что, собственно, со мною приключилось". А когда Алиса вскоре была вынуждена уехать в Англию, к родне, не находивший покоя Николай сделал в дневнике такую запись: "Я бродил один по дорогим мне теперь местам и собирал её любимые цветы, которые отправлял ей в письме вечером".
Перспектива счастливой "частной жизни" настолько захватила влюбленного жениха, что месяцы перед свадьбой, так будоражившие Николая, совершенно отвлекли его от горестно-радостных раздумий, связанных со скорой кончиной отца и необходимостью перестать быть лишь частным лицом и перевоплотиться в императора России. При дворе кое-кто помнил, что когда-то Николай обмолвился о нежелании занять престол. Другие говорили, что Александр Третий, не видя в сыне достойного преемника, взял с него слово, что от короны он отречется. И вот настал момент, когда Николаю нужно было решиться…
По слухам, очень узким кругам в России было известно, что по смерти августейшего супруга Мария Федоровна отказалась присягнуть своему сыну Николаю как законному императору России. Возможно, она ждала его отречения, напоминая о слове, данном отцу, который не доверял Николаю, потому что юноша по свойственной всем юношам склонности к браваде и оппозиции к власти сумел зарекомендовать себя как либерал. Одним словом, вдовствующая императрица не захотела отдавать сыну корону, скипетр и державу своего покойного супруга, и никто не решался обратиться к Марии Федоровне с требованием присягнуть законному правителю России. При дворе воцарилась нервозная обстановка. Все были в крайней растерянности, и кто-то вдруг предложил пойти к одесскому генерал-губернатору графу Мусину-Пушкину, известному своей смелостью. Все, что случилось потом, напоминает анекдот: войдя в зал, где находились императрица, придворные и государственные деятели, Мусин-Пушкин громко провозгласил здравицу Николаю Второму. И напряженная атмосфера, как после грозы умиротворяется природа, разрядилась. Каждый из присутствующих повторил за графом слова присяги, в которых великий князь Николай Александрович именовался царем, и Марии Федоровне ничего не оставалось, как сделать то же самое.
Ступень шестая ЕГО СТОЛИЦА, ЕГО ДВОРЕЦ, ЕГО СОКРОВИЩА
— Зачем, ваше величество, вы едете в Петроград, где свирепствует Чрезвычайная комиссия, где вас могут опознать и расстрелять в двадцать четыре часа? — очень тихо, наклоняясь к самому уху Николая, спрашивал Томашевский, и бывший император, спокойно улыбаясь, так же тихо говорил ему:
— Во-первых, Кирилл Николаич, не называйте меня «величеством», как и я не стану произносить вашего чина. Сами понимаете, я уже давно лишился титула, да и вы, невольно дезертировав из армии Колчака, тоже лишились права быть офицером. В Петроград же я еду для того, чтобы попытаться уехать за границу. Думаю, через Финляндию это будет нетрудно осуществить. Хотите ехать с нами?
Николай заметил, как красивое и строгое лицо молодого человека посерьезнело, и Томашевский сказал:
— Сопровождать вас, Николай Александрович, высокая честь для меня, но оставить Россию трудно, тем более тогда, когда нужно бороться с большевизмом. Разумеется, я сделаю все, чтобы ваш уход за границу не оказался сопряженным с опасностями.
— Благодарю вас. Один раз вы нас уже спасли.
— Но за два часа до этого я сам едва не убил вас!
— Это ничего, — улыбался в бороду Николай. — Ведь вы же действовали из самых благородных побуждений, не так ли?
А поезд все шел и шел на запад, подолгу останавливаясь на каждой станции, где простаивали за неимением угля, машинистов и вагонов десятки паровозов, где по перронам бродили толпы грязного, голодного люда, бегали шайки беспризорников, готовые украсть все, что плохо лежит. Они стучали в окна вагона, нахально требовали подаяния, и Романовы, лишившиеся почти всех своих средств, имея деньги лишь на хлеб и кипяток, не поворачивали голов в сторону маячивших за окном чумазых детей. Им было больно лишать этих маленьких, брошенных на произвол судьбы людей милостыни, но ещё больнее было сознавать свою невольную причастность к тому, что эти дети лишились родителей, крова, возможности не только учиться в школе, но и хорошо питаться. Когда Романовых везли в Тобольск, такого количества беспризорных ещё не было, теперь же вокзалы были забиты ими, и Николай уже старался не смотреть на платформы при остановках, чтобы не терзать себя страшной, колющей его самолюбие картиной.
Он принялся заносить в купленную тетрадь описание событий, имевших место в его жизни, начиная с 16 июля, и эти краткие дневниковые записи вдруг ясно дали ему понять, что пишет не только не император, но и человек очень несчастный, гонимый большей частью его бывших подданных. Лишь перечитав сделанные записи, он понял, как его не любят в России. Но вместе с тем из глубин сознания всплыла отчаянная мысль: "Да, я причина хаоса, царящего в России, а поэтому, если бы не родные, мне бы нужно было принять мученическую смерть, чтобы искупить грех слабой борьбы со всякими там революционерами, масонами, грех введения в стране, где живет в основном неграмотный народ, представительных органов власти. Да, во всем виноват я, и мне не нужно бежать смерти…" Однако тут же другая мысль начинала как бы спорить с первой: "Но, возможно, ещё не все потеряно, есть люди, подобные Томашевскому, я соберу их вместе, стану во главе заговора, и нам удастся восстановить в России законное и справедливое правление". Правда, являлась и третья идея, побивавшая прежние доводы: "Нет, я уже отказался от престола, мне нужно уехать за границу, и чем скорее, тем лучше. Там я заживу обыкновенной, частной жизнью в кругу семьи, как и мечтал раньше. Я сольюсь с простыми смертными, буду неразличим, потому что как русский государь я умер и мне нельзя воскреснуть — в этом не заинтересован никто, даже мерзавец Иванов, которому довольно было бы держать в плену моих родных. Но, Боже милостивый, я, прежде такой добрый, деликатный, уже успел убить двух человек. Простится ли мне этот грех?" И чувство уныния, глубокой скорби принимались нещадно терзать его душу, и лишь дневник, где все случившееся становилось чем-то внешним, а значит, чужим, с каждым днем все больше и больше занимал внимание Николая.
В Петроград их поезд прибыл спустя шесть дней после отъезда из Екатеринбурга. По перрону, к зданию вокзала, не раз встречавшему Николая как императора, шли не вместе, чтобы чей-то зоркий взгляд не смог узнать семью бывшего царя, а по двое: Николай и Томашевский, Александра Федоровна и Алеша, Ольга и Татьяна, Маша и Анастасия. С виду — простые люди, даже Николай по настоянию Кирилла Николаевича сменил свой френч на пиджак из ношеного твида, купленный совсем недорого на какой-то станции у барахольщика. Браунинг тоже перекочевал из кармана галифе на дно мешка, впрочем, разрешение на ношение оружия, заверенное печатью Екатеринбургского Совдепа, искусно изготовленное в белогвардейской канцелярии, у Николая Александровича имелось, но все же приходилось прятать пистолет, чтобы ненароком не возбудить подозрительности в представителях большевистских патрулей. Кстати, там же, на Николаевском вокзале, грязном и запруженном людьми, собравшимися в дорогу и ждущими поездов, почему-то лишь его одного остановили люди в бескозырках, в бушлатах и тельняшках, с винтовками и гранатами, долго крутили в руках паспорт, смотрели на него недружелюбно, грозно, однако не придрались ни к чему, и, что было важно для Николая, не посмели заподозрить в нем того, кто был ещё совсем недавно государем России.
Вышли на площадь, где на высоком постаменте, на коне, ноги которого будто вросли в землю, грузно, но величаво сидело изваяние, изображавшее Александра Третьего. Николаю Александровичу памятник не понравился, но на открытии он сумел скрыть разочарование и обласкал Паоло Трубецкого. Теперь этот колосс, так непохожий на живого отца, заставил Николая Александровича отвернуться — ведь держава, которую оставил ему отец, перестала существовать и лежала в прахе, попранная, униженная, обесчещенная, а монумент стоял неколебимо.
— Куда изволите ехать, барин? — подошел к Николаю толстый «ванька», похлопывая себя кнутом по высокому голенищу.
Николай в замешательстве посмотрел на Александру Федоровну, будто ища поддержки у нее, хранительницы очага, и женщина, из-под косынки которой уже выбивалась серебристая прядь, словно наперекор судьбе, презирая опасность, гордо сказала:
— В Зимний пусть везет!
Александру Федоровну с заботливой решимостью тут же взяли под руки Мария и Анастасия, предупреждая этим жестом, что забываться не стоит, что нужно следовать жизненным обстоятельствам.
— Она шутит, шутит, — сказала Ольга, заглядывая в лицо извозчика с заискивающей лаской.
— А шутейничать со мной не надо — я на работе, — важно сказал «ванька», охаживая себя кнутом по голенищам. — Так едем иль не едем? Всех вас все равно не увезу — товарища покличу. Так куда прикажете?
— Вези… на Васильевский, — решительно сказал Николай.
— Ну, это разговор серьезный. За пять червонцев с экипажа повезем. А то эк чего надумала — в какой-то Зимний! Ятаких названий и не знаю. Сад, что ли, какой?
Когда ехали в поезде, все, казалось, было ясно: едва приедут в Петроград, как попытаются нанять квартирку, покуда Николаю не удастся найти каналы для нелегального выезда за границу.
Но теперь получалось, что он с семьей, прибыв в свою недавнюю столицу, оказывался одиноким, ещё более одиноким, чем прежде. Если последние три недели его жизни и грозили постоянными опасностями, он все же мог от них укрыться, а здесь, в Питере, Николай с семьей был похож на лазутчика, оказавшегося на вражеской территории. Все обещало здесь ему стать ловушкой, даже недавние знакомые, способные выдать его чекистам, откреститься от него.
— На Васильевский вези, на Первую линию, — повторил Николай, хотя и сам лишь смутно догадывался о том, почему именно там он решил найти свое временное пристанище. Правда, в душе его тянуло туда, откуда он мог видеть свою главную городскую резиденцию и все-таки находиться от неё в отдалении, чтобы не тревожить себя бесплодными мечтаниями о возможности возвратиться в нее.
Когда на двух пролетках, рассевшись вчетвером в каждом экипаже, они выехали на Невский проспект, мостовая которого блестела после недавнего дождя, как полированная сталь меча, Николай, вдыхая в себя запах своей столицы, спросил у "ваньки":
— Послушай-ка, любезный, вот ты со своим товарищем с нас за перевоз сто рублей запросил, а я, когда в поезде ехал, слышал, что новое правительство деньги совсем отменило. Так или не так?
Извозчик протянул кнутом по костистой спине своей пегой лошадки, поцокал языком и ответил:
— Не совсем чтобы так, барин. Деньги, надо думать, никогда отменить не посмеють, только на заводах стали пайками рабочим платить, потому как все равно за их жалованье ничего не купишь. Голодно в Питере, барин, ой как голодно! Не знаю, чаво и будет. И за каким ты таким делом сюда прибыл? Помрешь, ей-ей помрешь, да ещё девок своих с мальцом сюды привез! Глупой ты какой-то…
Проехали мимо Зимнего дворца, но Николай даже не хотел смотреть на здание, над которым когда-то реял его штандарт, — было до слез грустно и больно. Переехали через Неву, голубую от отразившегося в её воде неба, и тут Николай спросил у извозчика:
— Квартиру-то у домовладельца нанимать?
"Ванька" через плечо глянул на странного барина с презрительной ухмылкой, покрутил головой:
— Нетуть у нас таперича домовых владельцев — всех расчикали под орех али прогнали. Таперича иди в домовой комитет, чтобы получить фатеру. Но, надо думать, коль ты ещё до революции из Питера уехал, тебе без Гороховой не прописаться.
— А что там на Гороховой? — удивился Николай.
— Еще опознаешь! — снова хмыкнул «ванька», и больше они не разговаривали до самой Первой линии.
Николай долго разыскивал помещение, где находился домовый комитет. Оставив жену и детей во дворе на попечение Томашевского, он поднялся на второй этаж. Дверь рядом с соответствующей учреждению табличкой была распахнута настежь, и оттуда тянуло крепчайшей махоркой, а в самом помещении, запруженном людьми, дым слоился в виде плотных серых облаков. На стене, над огромным письменным столом, висел портрет неизвестного Николаю человека с бородкой, а под портретом сидела деловитая, энергичная с виду особа лет тридцати, волосы которой были закрыты плотно затянутой на затылке черной косынкой. Пунцово-красные губы ярко пылали на её бледном лице.
— Вам чего, товарищ? — строго спросила она, когда народ, сновавший перед её столом с бумагами, просивший что-то, несколько поредел.
— Видите ли… товарищ, — робко начал Николай, — я с семьей вернулся из Сибири, куда ещё до… революции отправился по делам учреждения, представителем которого являлся…
— Какого учреждения? — спросила женщина, выхватывая из пачки папиросу и закуривая.
— А это что же, так важно? — спросил Николай, не в силах придумать моментально название фирмы, в которой он служил.
Женщина резко поднялась из-за стола, будто её подкинула какая-то пружина. Быстро приподняла подол своей недлинной сатиновой юбки, со стремительной деловитостью поправила круглую подвязку на чулке, не стесняясь мужчин и не выпуская папиросу из зубов, и прошипела, выпуская дым ноздрями:
— Ну вы и индивидуум! Уж если бы для меня этот вопрос был индифферентным, так я бы его и не задавала. Мне нужно знать, кем вы были до революции! Покажите ваш паспорт!
Николай показал, и дама, заглянув в него, хлопнула по книжице ладонью и сказала:
— Ха, Романов! Ну что ж, товарищ Романов, будете говорить, на кого вы работали?
Николай, очень довольный уже тем, что в нем не заподозрили бывшего царя, закивал:
— Конечно, безо всякого труда я отвечу на все ваши вопросы. Я с семьей жил на Малой Морской и служил в торговой фирме "Генрих Урлауб", занимавшейся продажей разных гидравлических приспособлений — насосов и так далее. Незадолго до революции я отправился… в Тобольск, будучи командирован владельцем фирмы. Возвращаюсь в родной город только сегодня, а квартира на Малой Морской уже занята. Что же делать? Мне ведь нужно где-то жить.
— Главное не то, где вы станете жить, а на что вы будете жить! несколько подобрела властная представительница домового комитета. — Вашего гидравлического Урлауба, уверена, в городе и в помине нет, поэтому вам и всем взрослым членам вашей семьи, гражданин Романов, придется работать. Конечно, вы приехали издалека, но человек, вижу, культурный, газеты почитывали. Так вот, наше народное правительство всех теперь заставило работать, ибо неработающий не имеет права и на еду. Идите на биржу труда, ищите работу счетовода, бухгалтера, учителя — что вашей душе угодно. Это обеспечит вам и вашей семье хотя бы минимум средств для существования. Иначе — голодная смерть!
Николай выслушал эту строгую нотацию, произнесенную заученно, казенно, но и с каким-то душевным участием одновременно, и сказал кротко и тихо:
— Хорошо, я сделаю так, как вы рекомендовали, но, по крайней мере, вы не дадите мне и членам моей семьи умереть от рук каких-нибудь бандитов, которых, я слышал, много в Петрограде. Ведь если вы не устроите нас на квартире, то именно так и может случиться…
Женщина раздраженно хмыкнула и затушила окурок так, будто сердилась именно на него.
— А вы-таки интересный индивидуум, товарищ Романов! Бандитов на улицах Петербурга и в царские времена было немало, сейчас же — время перемен, народ частично не совсем правильно понял, как нужно пользоваться свободой. Да, в городе много бандитов, много разврата, но нет профессиональной проституции, процветавшей во времена Николая Романова и раньше. Разницу нужно ощущать кожей, товарищ. Ну да это так, к слову. Что касается квартиры, то вы получите её — пустующих сколько угодно. Правда, вначале вам придется сходить на Гороховую улицу и принести оттуда свидетельство в отношении себя и всех членов вашей семьи о том, что товарищи не против вашего вселения в квартиру, подведомственную нашему комитету. А может быть, вы какой-нибудь контрик?
— В какой же дом на Гороховой мне нужно сходить, и что за учреждение размещается в нем?
Женщина посмотрела на Николая с презрительной веселостью:
— Ну и наивный же вы индивидуум, товарищ Романов! Вся Россия знает, что на Гороховой, 2 находится Петроградская чека. Идите, идите, познакомьтесь с товарищами!
Когда Николай, унылый и растерянный, вышел во двор к своим, его понурый вид красноречиво говорил о том, что его постигла неудача. Рассказав о разговоре с председателем домового комитета, он услышал от Томашевского:
— Николай Александрович, не тревожьтесь, я вас провожу туда. Кстати, из Екатеринбурга я тоже прихватил нужный паспортишко, чтобы в поезде не поручиком белой армии ехать. Вместе пройдем в чрезвычайку. Если что-то заподозрят — отобью вас, уйдем дворами. Я ведь петербуржец, рядом жил, все в округе знаю. Только уж пистолетик мне отдайте…
Извозчика брать не стали. Поплелись через Дворцовый мост, и город внешне казался Николаю словно бы и тем же самым, где в зданиях не изменилось ничего со дня его отъезда в Тобольск, но в то же время был не тем уже потому, что он не являлся его столицей, был во власти ненавистных большевиков, поправших Россию.
Вход в Петербургскую чрезвычайку можно было узнать издалека — рядом с ним стояли два красноармейца в шинелях до пят, в суконных шлемах с нашитыми звездами, а к стволам их трехлинеек были примкнуты длинные трехгранные штыки.
— Паспорта! — преградили они дорогу Николаю и его молодому спутнику, а когда документы были тщательно изучены, суровые стражи в средневековых шишаках отправили их за угол, где был вход, ведущий в "жилотдел".
Когда Николай вошел в жилотдел Питерской чрезвычайки, то увидел сутолоку, и ему показалось, что ничего в чиновничьих присутствиях с дореволюционных пор не изменилось. По-прежнему трещали письменные машинки, по-прежнему просители подходили к столам ответственных лиц с заискивающими улыбками, начинали говорить робкими, тонкими голосами, все так же сурово-недоступны были ответственные лица. Правда, теперь они были облачены не в пиджаки и сюртуки, а в армейские гимнастерки без погон, только на воротниках у некоторых виднелись петлички с какими-то изображениями геометрических фигур.
— Ну чего прешь, чего прешь, как бык невыгулянный! — слышался грозный оклик одного из начальников. — Ты мне чернильницу чуть не опрокинул, мать твою разтак!
— Еще раз спрашиваю, в третий раз уже, — кем, гражданин, был тебе выдан этот липовый документик? Или хочешь за стеночку пройти, где тебя не так спросят? — звучал из другого угла голос, напоенный ядом змеиной угрозы.
Николай встал в очередь, создавшуюся у стола одного из работников жилотдела. На душе было скверно. "Вот сейчас эти доки посмотрят на все наши паспорта, признают их фальшивыми, но, кроме этого, сразу же поймут, кто такие эти Романовы. А ведь раньше один росчерк моего пера мог привести к тому, что каждую такую мокрицу, которая корчит из себя властелина, выслали бы из Петербурга в двенадцать часов, посадили бы в каталажку, отправили бы на каторгу. Теперь они отплатят мне сполна: вышлют, посадят, отправят, а скорее всего — убьют".
— Гражданин, ну чего встал, как истукан языческий? Или велика сошка, что мне приходится тебя чуть ли не пять раз окликать? — обратился к Николаю сидящий за столом толстый мужчина в гимнастерке с бритым лицом и гладким черепом, оживленным лишь пучками курчавых волос над крупными мясистыми ушами. Николай, спохватившись, подал ему паспорта, торопливо и сбивчиво объяснил свою просьбу, но толстяк словно не слышал его — смотрел в сторону, поковыривая вставочкой в ухе.
— У кого до революции служил? — задал работник жилотдела неожиданный вопрос.
— Во-первых, я бы хотел, чтобы вы обращались ко мне на «вы», негромко, но твердо произнес Николай. — А во-вторых, я был представителем торговой фирмы "Генрих Урлауб", торговавшей по всей России гидравлическими машинами…
— Вот и пусть этот самый сраный Урлауб тебя на «вы» и величает! неожиданно прокричал толстяк, багровея и переходя на фальцет. Как видно, он никого здесь не то что не боялся, а даже не стеснялся. — Ишь, выискался, прыщ гидра… гидра… лический… Я ещё не знаю, чем ты в Сибири занимался, пока мы здесь революцию делали! На «вы» его называть велит! Да у меня таких Романовых, как ты, в день по пятьдесят голов побывает, и ни один форс держать не пытается!
И вдруг работник жилотдела выкатился из-за стола, цепко схватил Николая чуть выше локтя и, проговорив с ярой ненавистью: "А ну, со мной пошли!" — потащил испуганного Романова в сторону входа в какой-то коридор.
— Куда вы меня ведете? — спросил Николай громко, не столько стремясь выяснить намерения чекиста, сколько желая привлечь внимание Томашевского, обещавшего помощь в случае разоблачения.
И на самом деле, Николай увидел, что Томашевский, стоявший в очереди у другого стола, пошел следом за ними, но народу в приемной было так много, что приблизиться Кирилл Николаевич быстро не мог. Николай, влекомый сильной рукой работника жилотдела, был буквально впихнут в какую-то маленькую комнату, и быстрые пальцы чекиста мгновенно заперли её на ключ.
— Что вам угодно? — спросил Николай у работника, вальяжно присевшего на краешек стола и доставшего из кармана портсигар.
— Курите, — предложил толстый и протянул Николаю раскрытый портсигар.
— Спасибо, не курю, — солгал Николай, потому что брать у него папиросу ему было противно.
— Ну что ж, тогда не курите, — постукал чекист мундштуком папиросы по чеканной крышке нарядного портсигара. Закурил. — Я вас, собственно, сюда вот зачем позвал. Вам, как говорили раньше, вид на жительство получить надо, так?
— Так.
— Ну вот, значит от меня и будет зависеть, останетесь ли вы в революционном Петрограде или же будете со всей семьей немедленно препровождены за пределы нашего славного города.
— Я уже догадался об этом.
— Экий вы догадливый, — нехорошо усмехнулся жилотделовец. — А раз вы такой догадливый, то, наверно, могли бы припасти чего-нибудь, чтобы помочь себе своими руками. Есть здесь люди, которым наплевать, что вы в прошлом купечествовали, то есть наживались на нуждах рабочего класса и трудового крестьянства. Дадим им немного — и вы можете считать себя петроградцем…
Николаю было противно не только слушать этого человека, но даже смотреть на его шевелящиеся щеки, на левую руку, то и дело оглаживающую лысину, на мокрый красный рот. Никогда в жизни ему не приходилось давать взяток, но теперь и его самого, и его семью могла спасти только взятка. Правда, вначале он должен признаться в том, что соглашается вступить в эту нечестную игру, то есть соглашается быть таким же подлецом, как и этот мерзкий тип.
Денег у него оставалось совсем мало — около тысячи рублей, и Николай подумал, что столь незначительная сумма может лишь раздражить вымогателя, поэтому скрепя сердце он полез во внутренний карман пиджака, где у него лежал бумажник. Но не деньги решил достать Николай: ещё в поезде, после того как им удалось расстаться с молодцами «императора», Александра Федоровна как-то шепнула мужу: "Ники, ты не думай, я не такая дура, как ты предполагаешь. Два небольших бриллианта я утаила от того мерзавца, а то ведь мы остались бы совсем ни с чем. Возьми их и храни у себя". И сейчас Николай хотел достать один из этих камней.
Вытащив бумажник, он, немного отвернувшись в сторону, вынул из крошечного потайного отделения бумажку, развернул её и двумя пальцами взял один бриллиант.
— Вот, возьмите, — протянул он камень на раскрытой ладони, замечая, как яркий бриллиантовый блеск загорелся в свинячьих глазках жилотдельщика. — Надеюсь, теперь у меня не будет препятствий к получению вида на жительство?
Чекист, онемевший от неожиданной удачи, снял бриллиант с руки Николая с опасливой осторожностью, жестом светской дамы, снимающей со своей одежды какую-нибудь божью коровку.
— Н-да, хорошо же вам Урлауб платил, — с нескрываемой завистью произнес толстяк. — Ладно, принимаю, только не считайте, что дали взятку, это не взятка, а всего лишь необходимый элемент в нашей трудной работе. Кстати, — вдруг стал очень грустным сотрудник, — там, в вашей бумажке, ещё что-то сверкнуло. Знаете ли, всякое случиться может, и люди, которые за вас могут похлопотать, одним камешком останутся недовольны. Вот если бы… сразу два, то это совсем другой фасон будет — осечки не произойдет, так что чего уж скупиться? Останетесь на улице, так эти камни в первый же день любой шпаненок заберет — и пискнуть не успеете. Ей-Богу, советую вам по-хорошему…
Николай, внутренне кипевший негодованием, ненавистью к этому жадному человеку, поставленному на служебный пост органом, якобы призванным бороться со злом, молча подал толстяку второй, последний камень. Хмуро и почти дерзко сказал:
— Раз уж так, то не потрудитесь ли оформить все очень быстро и в самом надлежащем виде? Кроме того, я явился с одним знакомым. С документами у него все в порядке. Надеюсь, вы и ему не откажете?
— Ну какой разговор, гражданин Романов? — сахарно улыбался сотрудник жилотдела. — Считайте, что вы в моем лице приобрели надежного товарища. А вы можете себе представить, — и сотрудник многозначительно поднял вверх свой пухлый палец, — что значит заиметь связи в такой организации, как наша? Уверяю вас, вы недорого купили мое хорошее расположение к себе. Запомните, моя фамилия Куколев, а зовут Львом Самойлычем. Впрочем, нам пора идти. Сейчас я вам все оформлю. Вам и вашему другу.
Когда Николай вышел за Куколевым в коридор, то сразу же увидел Томашевского. Молодой человек смотрел с вопросительным ожиданием, точно хотел узнать по выражению лица, что делать: нападать ли на чекиста или же нет? И Николай, догадавшись о его намерениях, незаметно сделал отрицательный жест головой.
И тут его внимание привлек какой-то шум в противоположном конце коридора — там, в полутьме, двигались фигуры: красноармейцы с винтовками, а между ними, с руками, сведенными за спину, шла пышная женщина, обращавшая на себя внимание какой-то нездоровой, рыхлой полнотой. Кроме того, было видно, что женщина едва передвигает ноги и все время опирается на палку. Николай сразу понял, что знает эту женщину, хотя полумрак скрывал её лицо от него. На полпути вся эта процессия свернула в боковой коридор, но Николай успел заметить, что женщина, неожиданно повернув в его сторону голову, прильнула к нему своим взглядом на две-три секунды, и он почему-то сразу отвернулся, боясь быть узнанным этой известной ему женщиной.
— Что, интересно? — спросил с улыбкой Куколев. — Там у нас самые главные апартаменты, самые…
Когда спустя полчаса снова они оказались на Гороховой, Томашевский, закуривая вместе с Николаем, у которого мелко-мелко дрожали руки, сказал:
— Еще пара минут, и я бы выбил дверь той комнаты…
— И напрасно бы так поступили, Кирилл Николаич. Два мелких бриллианта сделали то, чего вы не получили бы при помощи вашей силы и смелости. Поразительно! Большевики хотели убедить весь мир, что после ниспровержения старого строя человек обновится в нравственном смысле, а тут ответственные работники, эти новые чиновники, не только оскорбляют людей своим хамским отношением к ним, но и вымогают взятки. Не знаю, стоило ли так безжалостно сокрушать монархию?
И он заглянул в серые, как студеные воды Финского залива, глаза Томашевского, сказавшего поспешно, но твердо:
— Конечно же нет, ваше величество. Человек по своей природе остается все тем же, и государственный строй ничуть не исправит его. Ну так пойдемте на Васильевский!
То ли бумага, составленная Куколевым, оказалась состряпана каким-то особым образом, то ли в распоряжении домового комитета и вправду имелось немало пустующих квартир, жилище, полученное Романовыми, предстало перед ними как вполне сносное даже по их взыскательным меркам. К этой квартире, размещавшейся на втором этаже двухэтажного старинного дома по Первой линии, их привел дворник, откомандированный с Романовыми председательницей комитета. Пятикомнатная, с просторной кухней, с окнами на улицу и даже балконом с затейливым кованым ограждением, эта квартира, должно быть, была жилищем богатого чиновника или зажиточного коммивояжера. Ее покидали внезапно, потому что даже посуда, видневшаяся за стеклянными дверцами буфета, была нетронута, а в шкафах, дверцы которых были приоткрыты, виднелась одежда. Странным Николаю показалось и то, что никто после бегства хозяев не тронул эти вещи, не разграбил имущество. Скорее всего, подумал он, квартиру заперли хозяева, а домовой комитет, узнав об их исчезновении, решил наконец передать жилище новым постояльцам.
— Прошу вас ничего здесь не брать, — строго приказал Николай своим домашним, сразу ставшим рассматривать безделушки, теснившиеся на крышках бюро, секретера, тумбочек, картины, висевшие на стенах. — Нам здесь долго не жить, а возможно, вернутся законные хозяева этих вещей и потребуют от нас отчета.
Он сказал это, отождествляя себя с хозяевами, покинувшими квартиру. Ведь он тоже был хозяином и в глубине своей души считал, что когда-нибудь вернется к своему имуществу и потребует отчета от тех, кто временно пользовался им. Однако, чтобы прожить в этой квартире хотя бы с неделю, нужно было приспособить её для жизни. В первую очередь Николай поинтересовался, осталась ли здесь какая-нибудь еда и дрова для её приготовления, и оказалось, что, кроме двух банок кофе, чая и фунта рафинада, в доме ничего нет. Не имелось здесь и дров. Зато Александра Федоровна, в которой хозяйка и охранительница очага продолжала бодрствовать все время их странствий, нашла в комоде чистое, только от прачки, постельное белье и была этому несказанно рада. Правда, она уже знала, как распорядился супруг её камнями, и тревога о том, чем они будут питаться, не оставляла её.
Но вот у дверей в прихожей продринчал медный звоночек, и, когда дверь отворили, на пороге появился улыбающийся Томашевский, притащивший в охапке поленья.
— Смотрите-ка, удачно дровами разжился, — радостно сообщил он после того, как устроился в квартире напротив, где председательница комитета выделила ему великодушно просторную комнату, поселив с двумя другими семьями. "У нас это теперь называется "коммунальная квартира"", — пояснила женщина в черной косынке, занося фамилию Томашевского в домовую книгу.
— Дрова — это прекрасно! — воскликнул, потирая руки, Николай, точно проблема отопления испокон веку была для него одним из важнейших жизненных вопросов. — Только вот с едой у нас не густо. Машенька, а, Машенька, позвал он вдруг дочь. — Иди-ка скорей сюда!
Явилась Маша, отчего-то сильно смущенная, и отец сказал:
— Машенька, наши жадные до еды желудки требуют жертвы. Прошу тебя, вынь из своих прелестных ушек эти милые сережки и, умоляю, не огорчайся когда мы будем жить в Париже или в Стокгольме, я тебе куплю новые, куда более красивые, а то до заграницы не дотянем, правда.
И через полминуты золотые сережки с жемчужинками уже лежали на ладони Томашевского, который отчего-то (возможно, потому, что ощущал исходящее от золота Машино тепло) был смущен.
— Прошу вас, голубчик Кирилл Николаич, — говорил ему Николай, ступайте на рынок — я знаю, здесь неподалеку есть один, возле храма Андрея Первозванного, — и, продав сережки, купите что-нибудь поесть. Мы поужинаем одной компанией!
И Томашевский перед тем, как хлопнуть дверью, лишь кивнул.
Вернулся Томашевский спустя полтора часа с объемистым мешком. Оказалось, что серьги удалось продать за три тысячи рублей, а поэтому мешок Кирилла Николаевича, очень довольного своим вояжем, наполнился всякой снедью — картошкой, правда прошлогодней, вяленой воблой, хлебом и даже колбасой, показавшейся Александре Федоровне, однако, подозрительной по запаху. На кухне в плите затрещали горящие поленья, скоро в кастрюле уже кипела вода, в которой варился картофель, и младшие дочери Николая хлопотали возле плиты, уже успев обмыться в просторной ванне, чтобы встретить Томашевского свежими и привлекательными. Ольга и Татьяна негромко обменивались фразами, взаимно упрекали друг друга в неумении выбрать для стола именно ту скатерть, что приличествовала случаю и характеру трапезы, но спустя полчаса стол был не только украшен нарядной бумажной скатертью, найденной в комоде, но и сервирован очень недурной посудой, и вот уже Романовы и Томашевский сидели вместе за одним столом, в центре которого красовалась бутылка, припасенная Томашевским.
Налили по рюмке даже великим княжнам, а Алеше сразу же наполнили стакан ароматным чаем, вкус которого был забыт Романовыми с тех самых пор, как они покинули дом Ипатьева.
— Правда, не хотелось бы об этом говорить, — с благодушной небрежностью заговорил Николай, когда трапеза подходила к концу, — но на сережках моих дочерей мы долго не протянем. Может быть, последовать совету той строгой дамы из комитета и наняться на работу? Вот только выясню, где в Петрограде биржа, и сразу же пойду туда…
— Папа, я вижу тебя с метлой в руках и в фартуке дворника, съехидничал Алеша, а супруга бывшего монарха надменно взглянула на мужа и резко заявила, опустив перед этим уголки своих красивых губ:
— Право, Ники, если тебе не дорога честь твоих предков, так хоть нашу честь пожалей. Конечно, я знаю, что ты можешь колоть и пилить дрова, очищать лопатой дорожки от снега, но ведь всем этим ты занимался ради… ради спорта, чтобы поразвлечься, все понимали, что ты просто блажишь или притворяешься, желая понравиться всяким там либералам и народникам. Но теперь ты не имеешь права опускаться до унижающих тебя ремесел.
Строгий выговор жены заставил Николая покраснеть, и он сконфуженно спросил:
— Аликс, а что ты предлагаешь делать? Ведь деньги нам будут нужны не только для приобретения еды. Нужно будет разыскать людей, согласных пойти на риск нелегальной перевозки нас через границу. Даже если бы мы уезжали легально, билеты, паспорта потребовали бы тоже очень немалых затрат. Или ты хочешь остаться в России?
— Нет, в твоей России я не намерена оставаться. Довольно с меня и того, что я уже испытала здесь. Но… но есть и иные средства…
— Какие же? Я о них ничего не знаю.
Александра Федоровна одними лишь бровями сделала предостерегающее движение, еле заметно взглянув при этом на Томашевского, который и без того старался делать вид, что предмет разговора до него лично касательства не имеет.
— Прошу тебя, говори, — досадливо поморщился Николай. — Если ты опасаешься Кирилла Николаича, то напрасно. Он уже успел доказать свою преданность нам.
— Нет, не господина Томашевского я боюсь, — немного поджала губы Александра Федоровна, обижаясь на прямоту мужа. — Просто те… средства вернуть будет очень трудно, если они вообще сохранились в том месте, куда я их положила. В двух словах, речь идет о моих украшениях, которые мне удалось спрятать в тайник, что находился в нашей спальне, Ники.
— В тот, что за зеркалом? — потупив глаза, спросил Николай. Перед его внутренним взором вдруг, словно из тумана, явилась комната, их с Александрой брачный будуар, где так много сладостных ночей провели они вместе, где были зачаты почти все их дети, где он, Николай Второй, и она, императрица, были простыми людьми, смертными и греховными.
— Да, за зеркалом. Ты не знаешь, что в Тобольск я взяла лишь малую часть наших драгоценностей, а большая часть вещей, очень дорогих вещей со множеством бриллиантов, осталась там. Я почему-то была уверена, что наш отъезд продлится недолго, что Россия наконец осознает, что допустила ошибку, оплошность, грубость по отношению к нам, но все оказалось иначе…
Александра Федоровна видела, что Николай о чем-то лихорадочно размышляет, пытается что-то решить, очень важное и… трудное для себя.
— Что там за драгоценности? — вдруг неожиданно спросил он. Спросил быстро, почти не проговаривая слова по буквам, и Александра Федоровна тотчас поняла, что предстоит дать нелегкий для неё ответ.
— Там несколько колье — подарки твоей матушки, браслеты, преподнесенные мне твоими дядьями, потом, я уже не помню, что там имеется, много всего… Да, и еще, я вспомнила, там есть бриллиантовый венец, ужасно дорогой, преподнесенный мне в день нашего с тобой бракосочетания… Геней.
Николай резко повернул голову в сторону жены. Его лицо казалось каменной маской, неживой и холодной.
— То есть принцем Генрихом Прусским, твоим двоюродным братцем, с которым у тебя до меня был роман?
Александра Федоровна покраснела, но скорее не от того, что муж обвинял её в том, что когда-то, в раннем своем девичестве, она воспылала нежными чувствами к своему кузену, брату германского императора Вильгельма Второго. Просто женщина не могла понять, как её муж, такой корректный и сдержанный, особенно в вопросах, касавшихся интимных человеческих отношений, позволил себе задать ей такой грубый вопрос не только при детях, но и при посторонних.
— Что ты говоришь? — сквозь стиснутые зубы сказала она. — Ты разве сам не знаешь, насколько невинными были наши отношения? Что ты себе позволяешь, Ники?
Но Николай, переставший быть царем, переставший быть человеком, для которого любовные, брачные отношения имеют совершенно иной смысл и значение, куда более прагматичные, создающиеся обстоятельствами, вдруг осознал себя обыкновенным мужчиной, способным на ревность и чувство обиды.
— Хорошенькое дело! — вдруг сказал он резким, неприятным тоном, бросая на тарелку нож. — Невинные отношения! Знаю я, чего они стоят во дворцах, где можно вдоволь невинничать таким вот образом, а потом, после нехитрой хирургической операции идти под венец. Поверьте, мадам, я навел справки, и сведения, полученные мною двадцать пять лет назад, говорили не в вашу пользу! Но что делать, я тогда был ослеплен, да и матушка с отцом гудели в мои уши, настаивая на женитьбе. Недаром был преподнесен этот дорогой венец — это подарок бывшей возлюбленной, а заодно и способ уколоть меня, мое самолюбие.
Все, кто сидел за столом, были поражены жестокой речью бывшего царя. Александра Федоровна едва сдерживала слезы, судорожно глотала воздух полуотворенным ртом, Ольга закрыла лицо руками, а Татьяна и Мария отвернулись от отца. Анастасия делала вид, что её не касается разговор старших, а Алеша, плохо понимая, о чем идет речь, переводил взгляд, растерянный и жалкий, с отца на мать и с матери на отца. Томашевский же очень жалел о том, что принял участие в семейной трапезе, но ему казалось, что государь имеет право на любые суждения. Авторитет Николая в его глазах был непоколебим. Вдруг поднялась из-за стола и выбежала из гостиной Александра Федоровна, за ней бросилась Ольга, считавшая своим долгом, как старшая дочь, утешить мать, а Татьяна, видя, что отец смущен и уже жалеет о своей выходке, сказала:
— Папаi, тебе, наверное, придется извиниться перед мамаi. Ты её очень, очень обидел. Ты был неправ.
— Что? Прочь! Все вон отсюда! — внезапно для самого себя закричал Николай. — Все, кроме Томашевского и Алеши. Пошли вон, бабы! Я вам покажу, кто здесь главный, кто здесь хозяин!!
Он впервые в жизни кричал так некрасиво, так безобразно, грубо, но получал сильнейшее удовлетворение в этом крике, потому что все царское, жившее в нем прежде, не находя удовлетворения, выплеснулось сейчас в обыденном, домашнем.
Когда дочери поспешно ушли, Николай, закуривая и быстро меряя шагами комнату, заговорил:
— Значит, так: нам нужно достать те драгоценности. Находятся они в Александровском дворце, в Царском. Уверен, что никто не знает устройства механизма, открывающего тайник, и нужно будет лишь проникнуть во дворец, чтобы забрать вещи, принадлежавшие моей семье. Если нужно будет взломать дверь, я не остановлюсь и перед этим. Мне не стыдно делать это, потому что я возвращаю собственное имущество и вхожу в собственный дом, приобретенный когда-то, вернее, построенный на средства, принадлежащие моей фамилии. Теперь я обращусь к Алеше: сынок, ты, я знаю, любил бегать по всему дворцу. Скажи, не помнишь ли ты наиболее короткие пути, ведущие в нашу с маман спальню? Нужно постараться вспомнить не путь от главного вестибюля, а какой-нибудь другой.
Алеша, в глазах которого ещё бегали огоньки обиды на отца, помолчал, вспоминая, а потом азарт поиска победил, обида была забыта, и он сказал:
— Папа, ну конечно, во дворец можно попасть и не через главный вход. Разве ты не помнишь, что есть подземный ход, который ведет из кухни во дворец?
Николай двумя пальцами ударил себя по лбу:
— Ах, да, да, разумеется, как я мог забыть. Ведь нам оттуда подавали блюда.
На самом деле в Александровском дворце Царского Села не было ни единой специальной столовой, и трапезы, по прихоти царской четы, в зависимости от освещения или температуры, всегда проходили в разных помещениях дворца, где ставился обеденный стол, убиравшийся потом. Но зато кушанья готовились в одном месте — в кухонном каре, особой пристройке, откуда во дворец их приносили по подземному тоннелю, который вел к вестибюлю первого подъезда, то есть к личным апартаментам царской семьи. Этим подземным ходом пользовалась и многочисленная прислуга — лакеи, горничные, парикмахеры, арапчата, жившие в подвальном помещении дворца.
— Конечно, мы пройдем во дворец незаметно, по этому ходу, потому что, я уверен, здание снаружи охраняется, Вы, Кирилл Николаич, умеете открывать двери… без ключа?
Томашевский, крупный, но какой-то неуклюже угловатый, словно стесняющийся своей физической силы, покашляв в кулак, сказал:
— Николай Александрович, если нужно, я для вас железные двери открою, те, что в приличных банках заведены. Вы когда намерены отправиться в Царское?
Николай, переставший ходить по гостиной, дымя папиросой, зажатой между пальцами правой руки, подумав с полминуты, сказал:
— Откладывать не будем. Сейчас семь часов вечера. Для проникновения во дворец нам необходимо ночное время. Если вы сумеете добыть необходимые инструменты для открывания дверей, то мы, взяв с собой тот самый мешок, в котором вы принесли провизию с рынка, через часик можем выйти. Только бы не подвел поезд. С Царскосельского вокзала поедем?
— Нет, я порекомендовал бы с Варшавского, поездом, идущим на Лугу. Пройдем до дворца через парк от Александровской.
— Что ж, идет. Готовьтесь в дорогу, господин поручик.
***
Несмотря на дворцовые интриги, манифест о воцарении Николая Второго был оглашен сразу же после кончины Александра Третьего.
Говорят, что когда Николай вступал на престол, от него светлыми лучами буквально исходил дух благожелательности. Но робко он делал свои первые шаги на трудном поприще царствования, когда ему, отягощенному, как и другие люди, обыкновенными житейскими помыслами и страстями, приходилось быть первым человеком стосорокамиллионной страны. Он теперь знал, что за каждым его шагом будут следить глаза подданных, каждое его слово будет тщательно взвешиваться на весах общественного мнения, его частная жизнь, одежда, прическа, привычки станут предметами пристального внимания и обсуждения, и невозможно будет укрыться от этих взыскующих критических взглядов…
В этом случае государь может выбрать один из двух стилей поведения: или постараться не замечать пристального внимания толпы, уметь подняться над нею, как это мог успешно делать, к примеру, Александр Третий, или же, напротив, направить свою волю на тщательный контроль каждого своего слова, жеста, чтобы постоянно согласовывать их с тем или иным вероятным суждением. В последнем случае можно было надеяться стать популярным, даже любимым подданными, но отнюдь не уважаемым ими, потому что толпа прекрасно чувствует, кто идет у неё на поводу, то есть подчиняется точно таким же требованиям, как и все. Толпа уважает того, кто презирает её, ибо в этом видится сила и независимость, а именно их традиционно и ищут в монархе-повелителе.
Вскоре после выхода манифеста о вступлении на престол состоялся его первый выход, публичный выход: шествие в Архангельский собор с «мамаi», где нужно было сказать несколько слов перед депутатами дворянства, земства и городов, которые ждали, как ему доложили, объявления каких-то реформ. "Встал с ужасными эмоциями", — записал он в тот день в своем дневнике, робея по-человечески перед ответственной церемонией, где его должны были испытать как нового царя и просто человека. Но оказалось, что ничего страшного не случилось, и Николай, император России, сделал такую запись: "Это сошло, слава Богу, благополучно".
Николай поспешил вернуться к делам куда более приятным: он женился. Из-за траура по отцу пышной свадьбы быть не могло, и бракосочетание с любимой Аликс, предельно скромное, состоялось 14 ноября в морозную погоду, когда Нева уже была схвачена первым, очень зыбким льдом. "Итак, — занес Николай в дневник 15 ноября, — я — женатый человек". Вот так за один месяц ему удалось стать и императором, и мужем.
"Невыразимо приятно, — записал счастливый Николай в свой дневник вскоре после приезда августейшей четы в Царское, — прожить спокойно, не видя никого, целый день и ночь вдвоем". Так и летели их дни: "Обедали тет-а-тет в угловой комнате и легли спать рано". А молодая жена все не уставала дарить супругу свою нежность. Они подолгу гуляли по тенистым аллейкам Александровского парка, где застывшая вода прудов шепталась с отражением столетних лип, а вечером императрица дарила мужу картинки, рисованные акварелью в альбоме, точь-в-точь как это делала Мария Федоровна для его отца. Ники блаженствовал, и любовь его к супруге росла неудержимо. Их медовый месяц продолжался долго. Лишь 6 мая 1896 года, как свидетельствует его дневник, ему впервые после свадьбы пришлось спать одному, и император записал на память: "Это очень скучно".
Ступень седьмая ЦАРЬ-ПРИЗРАК
Узнав о том, что в тайнике Александровского дворца скрыты сокровища, по праву принадлежащие ему, Николай загорелся страстным желанием вернуть их. Если раньше он не знал цены деньгам, если раньше стоило лишь написать записку казначею министерства двора или попросту дать устное распоряжение о предоставлении ему требуемой суммы, часто очень крупной, и деньги являлись незамедлительно, то теперь все поменялось, и он осознал, что вынужден зависеть от того, присутствуют ли в его кармане банкноты или же нет. И это обстоятельство сильно тревожило его. Он ещё не понимал связи между затратами, вложенными в труд, вознаграждаемый бумажным символом этих самых затрат, и возможностью жить по этим, узаконенным природой деловых отношений, принципам. А поэтому Николай в душе бунтовал против нежданно явившейся бедности, нужды и хотел исправить положение резко, но, как ему казалось, законным путем.
— Ну вот, смотрите, что мне удалось добыть, — показал Томашевский короткий, но толстый, увесистый ломик. — Одобряете, ваше величество?
— На ваш взгляд, подойдет для отпирания дверей? — робко спросил Николай, брезгливо разглядывая железяку.
— Не сомневайтесь. А вот ещё и ночной фонарь, очень приличный, масляный, а то как же мы сможем пройти по темным помещениям? Но лично я вот чего опасаюсь…
— Чего же? С вашей-то смелостью и решительностью?
Томашевский стушевался. Было видно, что его уколола фраза Николая. Глядя немного исподлобья, сказал:
— Кто знает, кем занят сейчас ваш дворец? Вдруг его заселили, устроили в здании какой-нибудь приют, богадельню, отдали дворец под нужды Красной Армии. Тогда не представляю, каким образом можно будет беспрепятственно пройти по его залам. Не лучше было бы в таком случае подкупить кого-нибудь из обитателей дворца?
Николай кивнул, осознавая серьезность предложения, но тут же отрицательно покачал головой:
— Нет и нет! Я никому не смогу довериться из… этих. Кто знает, что, согласившись вначале, тот человек, увидев, чем он завладел, не соблазнится сокровищами и не оставит их у себя? Рисковать нельзя, нужно действовать самостоятельно. Итак, упакуйте все эти… инструменты в мешок, но так, чтобы внешне он не выглядел подозрительно, иначе нам до Царского не доехать. Пистолет я брать с собой не буду — вдруг остановит какой-нибудь патруль, начнет обыскивать.
Спустя десять минут Николай, попрощавшись лишь с одним Алешей и перекрестив его, вышел из квартиры с Томашевским. На их счастье, подвернулся трамвай, идущий к Варшавскому вокзалу. Николай, ни разу в жизни не пользовавшийся этим видом транспорта, был приятно удивлен тем, что ехать в нем, сидя на деревянных диванчиках, было даже занимательно и почти комфортно. Кондуктор, дородный усатый мужчина с кожаной сумкой на груди, громко, на весь вагон, объявлял названия остановок, и Николай, хоть и видел, что кондуктор делает это официально, совсем без души, отчего-то радовался тому, что в городе, полуголодном, захваченном большевиками, все же остались островки старой жизни, такие как, к примеру, этот вот трамвай.
Со звонками и громыханием трамвай остановился напротив Варшавского вокзала, им снова очень повезло: вначале потому, что их не задержал ни один патруль, а потом из-за того, что поезд на Лугу — дрянной паровик, полуразвалина и весь покрытый сажей, — отходил через полчаса. Когда поезд, пролязгав всеми буферами, сдвинулся с места и мимо грязных окон поплыли серые от вечернего сумрака станционные пакгаузы, депо, домики дорожных рабочих, Николай спросил вдруг у Томашевского, сидевшего у окна с поднятым воротником пиджака — было прохладно:
— Скажите, Кирилл Николаич, вам что же, Маша симпатична?
Он увидел, что молодой человек меньше всего ожидал такого прямого вопроса, заморгал быстро-быстро, заерзал на сиденье, закашлял в кулак, а потом ответил:
— Признаюсь… очень…
— Но я ещё заметил, что и Маша к вам как будто не совсем равнодушна. Не так ли?
— Право… об этом я вам ничего не могу сказать, Николай Александрович, — ещё более смутился Томашевский.
— Ну, а поведайте о том, кем были ваши родители? Вы дворянин, надеюсь?
Томашевский, на лице которого явилась мина чуть ли не страдания, сказал:
— Н-нет, врать не смею, я даже не знаю, кем были мои отец и мать. Меня воспитывала в Петербурге дальняя родственница матери, домовладелица, купчиха. О моих родителях она говорила всегда с неприязнью, чуть ли не с ненавистью, но я благодарен ей хотя бы за то, что меня отдали в кадетское училище, а потом я учился и в юнкерах, затем война, Карпаты…
Томашевский замолчал, понимая, что такая «родословная» не делает ему чести в глазах человека, стоявшего когда-то на самой вершине власти. Но Томашевский вместе с тем ощущал и некоторое превосходство перед Николаем: если сидящий рядом с ним человек теперь был не тем, кем являлся совсем недавно, и, вероятно, никогда не вернулся бы в прежнее состояние, то он, поручик, продолжал быть все тем же поручиком, то есть сохранял тождество с самим собой.
Зато Николай, услышав ответ Томашевского, призадумался. "Да, как велика степень нашего падения. Теперь моим бедным дочерям придется довольствоваться ухаживаниями таких вот кухаркиных детей, плебеев по крови. И что же делать мне, отцу, ведь когда-то дочери русских царей были вынуждены всю жизнь ходить в девушках, ибо выдать их за принцев крови европейских дворов не позволяли интересы веры, а сделать их женами даже князей, родовитых бояр мешало то, что все они считались холопами русского царя. Теперь же иначе…"
Он хотел сказать Томашевскому сейчас же, что ему даже не стоит помышлять о руке Маши, но вдруг в его душе сработала какая-то сильная пружина практицизма, сиюминутной выгоды, и он сказал:
— Кирилл Николаич, мне совершенно безразлично то, кем были ваши родители. Я вижу, что вы честнейший, благороднейший человек, а поэтому хочу заявить вам следующее: если в эту ночь со мной что-нибудь случится, то убедительно прошу вас, не покиньте мою семью, и Маша… в таком случае будет вам наградой.
И Николай порывисто, обеими руками, пожал большую руку совершенно потрясенного этой фразой Томашевского.
Они вышли на платформу станции Александровская, когда уже было темно. Электрических фонарей здесь то ли не было совсем, то ли они просто не горели, но отсутствие освещения лишь было на руку тем, кто старался выйти из поезда незамеченным. Прошли мимо спящих домиков селения, вошли в парк, который так был любим Николаем. Именно со станции Александровская его и всю семью увез в Тобольск голубой поезд, и теперь знакомый запах дубов, кленов и лип, растущих в парке, пронзил сознание даже не воспоминанием, а будто реальным возвращением в то счастливое время, когда он, упоенный любовью к невесте, потом к жене, потом к детям, родившимся у них, был безумно счастлив и только бремя короны мешало ему считать себя самым счастливым человеком в мире. За деревьями на фоне синего неба обозначилась черная громада Федоровского собора, где Николай так любил молиться, и ощущение связи духовного с мирским мигом вознесло его к звездам, но он тут же вернулся на землю, вспомнив, зачем он явился сюда.
Наконец, скрываясь за густыми кустами сирени и акации, подошли к Александровскому дворцу. У него бешено колотилось сердце, когда они подходили к стенам здания, которое он любил больше всех зданий в мире. А ещё он именно сейчас осознал, что затеял немыслимое, что их здесь ждет смертельная опасность, но теперь отступать было поздно.
— Смотрите-ка, — прошептал Томашевский, — свет в окнах горит. Что же здесь большевики устроили?
— Не ведаю, — мрачно ответил Николай, — но, главное, это обстоятельство усложняет нам все предприятие.
— Н-да, все осложняется…
И тут внезапно, будто кто-то нарочно захотел ошеломить притаившихся у здания людей, раздались резкие звуки — со скрипом открылась дверь, затопали подошвы кованых сапог, зазвучали голоса, послышался шум заводимого мотора.
— Значит, так, Еременко, ты раненых бойцов, что сегодня поступили, прооперируй завтра, а то помрут. Все требуют ампутации, — говорил кто-то начальственным, не терпящим возражения голосом.
— Ну, прооперировать несложно, так ведь эфир весь вышел, товарищ Заруйко. Распорядитесь завтра послать хотя бы литр.
— А откуда я тебе его возьму, Еременко? Весь вышел, ждем новых поступлений. Но ампутировать надо, надо! Не знаешь, что ли, как делать надо? Спирт ведь есть, вот и дай оперируемым неразведенного. А больше ничем помочь тебе не могу. Все, до свиданья.
И мотор автомобиля, окутав Николая и Томашевского облаком выхлопного газа, зарычал и унес товарища Заруйко прочь от дворца.
— Ну теперь понятно, во что они превратили дворец, — уныло прошептал Николай, но тут же его голос оживился оптимизмом: — Но это ничего, это даже совсем неплохо! Вы понимаете, что здесь находятся раненые, почти беспомощные люди. Разве они смогут нам воспрепятствовать?
— А охрана? А медперсонал? — с сомнением заметил Томашевский.
Но Николай уже был притянут к этому зданию, к своему дворцу, будто он являлся крупинкой железа, а этот дом был громадным магнитом, а поэтому предостережения Томашевского ничуть не смутили его:
— Все это теперь… совершенно неважно! — решительно заявил он. — Если вы видите для себя опасность, я сам войду во дворец, один, как хозяин войду! Вы только помогите мне отворить двери. Обойдем здание справа. Там и должно находиться кухонное каре.
Стараясь не шуметь, они, крадучись, скрываясь за кустами, пошли в ту сторону. Скоро мужчины уже стояли рядом с одноэтажной каменной постройкой, окна которой не горели, а поэтому Николай, смело остановившись у запертой двери, сказал:
— Вот эту преграду, Кирилл Николаич, вам и придется осилить. Справитесь?
Томашевский молча ощупал дверь, сделанную на совесть, дубовую, филенчатую. Осматривал её минуты две, потом сказал:
— Есть надежда снять её с петель, только уж вы, Николай Александрович, постарайтесь вовремя удержать её, чтобы шуму не наделать.
— Постараюсь. Начинайте.
И Томашевский просунул конец ломика в зазор между порогом и нижней кромкой двери. Скрип и скрежет дерева, ломавшегося от колоссального усилия, дал Николаю возможность увидеть, какая мощь заключена в руках его сподвижника.
— Идет, идет, держите дверь, — тревожным шепотом предупредил Томашевский, и Николай едва успел поднять вверх обе руки, на которые свалилась дверь, больно ударив по ладоням.
Осторожно взяли дверь и отнесли внутрь строения, где пахло давнишней кухонной стряпней — кисло и прогоркло, но Николай даже в этих неаппетитных запахах различил те, что сопровождали его трапезы на протяжении многих лет.
— Может быть, зажечь фонарь?
— Думаю, не стоит торопиться, Николай Александрович, — поостерегся Томашевский. — Из окон дворца может быть виден свет, и нас с вами здесь накроют, как мышей в мышеловке. Вам не удастся разыскать дверь, ведущую в тоннель, без света?
— Я попытаюсь, но не уверен, что не ошибусь. Я ведь, сами понимаете, на кухне-то был нечасто.
И все-таки он стал ходить по просторному помещению, где стояли большие плиты, шкафы с котлами, мисками, кастрюлями, и матовый блик лунного света гулял по этим предметам, как бы сопровождая Николая, покуда он почти на ощупь искал нужную дверь.
— Мне кажется, что именно эта дверь ведет в подземный ход, — наконец негромко произнес он. — Она как раз напротив дворца, к тому же в этом месте постройка уже не имеет продолжения, а обрывается. Значит, только отсюда может начинаться вход в тоннель. Попробуем открыть?
— Отчего бы не попробовать… — Томашевский подошел к дверям, нагнулся, поскрябал ломиком, находя зазор между полом и дверью, покрякал, и скоро заскрипели петли и дверь упала прямо на руки поручика, успевшего, отбросив ломик, поднять их вверх. — Вот и все, — сказал он, прислонив ломик к стене. — Теперь, наверное, мне ничто уже не помешает зажечь фонарь. — И через три минуты масляный фонарь метал красные, неровные отблески, высвечивая бугры стен, уходящих куда-то вниз.
— Ну конечно, я не ошибся. Вот он, тоннель, — с радостным возбуждением в голосе произнес Николай. — Давайте спускаться. Только, пожалуйста, не забудьте свой мешок, туда мы положим драгоценности и лом.
Но он не услышал ни одобрительного отзыва, ни звуков движения своего спутника, готового пуститься за ним вслед. Напротив, Томашевский, немного помолчав, с тревогой произнес:
— Николай Александрович, считаю своим долгом предупредить вас о великой опасности, которая подстерегает вас там, во дворце. Каким способом собираетесь вы пройти по помещениям, заполненным ранеными, чтобы не переполошить их, не привлечь внимания сестер милосердия и прочих служителей госпиталя?
И Николай с каким-то нервным смешком отвечал Томашевскому:
— Да уж вы не беспокойтесь, прошу вас. Дайте мне лишь возможность войти под своды дворца, как он сам убережет, спрячет меня. Поверьте, все будет прекрасно. Помогите мне только отворить дверь, ещё одну, не больше.
— Ну, честное слово, это самое настоящее безрассудство. Мне же ваши дети и супруга никогда не простят того, что я вас туда впустил. Поостерегитесь, ей-Богу!
Николай внезапно вспылил, будто на самом деле, находясь в своих владениях, в кругу своих подданных, никогда не забывая о том, что он император, решил выразить свое неудовольствие по поводу чьей-то непокорности:
— Вы что это себе позволяете, Томашевский? Уж если я, Николай Романов, приказываю вам делать это, так уж не извольте возражать. Или есть иной выход? Вы покидаете меня, как только дверь, ведущая из тоннеля в вестибюль первого этажа, будет открыта!
Томашевский, которого ещё в юнкерском училище приучили к дисциплине, но который сейчас проявил непокорство лишь потому, что опасался за жизнь своего кумира, смущенно проговорил:
— Только не подумайте, что я боюсь сопровождать вас. Наоборот, объясните мне, где находится та спальня, расскажите, как открыть тайник, и я пройду по покоям дворца один. Вы же останетесь в тоннеле и будете ждать, покуда я не вернусь. Хорошо?
— Нет, нехорошо! — упрямо возразил Николай. — Наоборот, вы останетесь в подземелье, едва дверь будет открыта, а я пущусь на поиски драгоценностей. Это приказ!
И Николай, держа фонарь на вытянутой руке, чтобы яснее видеть ступени, уходящие в глубь земли, пошел вниз по лестнице и слышал, что Томашевский шел за ним, мерно ступая по выщербленным ногами многочисленной дворцовой челяди ступеням.
Почему Николай был так уверен в своей неуязвимости в предстоящей многотрудной операции, он и сам толком бы объяснить не смог, но отвага, замешанная, должно быть, на чувстве уверенности в том, что стены любимого дворца не смогут принести вреда, исполняла сердце Николая решимостью достичь сокровища во что бы то ни стало.
И вот пологая лестница кончилась, начался тоннель с полукруглым сводчатым потолком. С обеих сторон на расстоянии примерно двух метров друг от друга крепились на стенах фонари с электрическими лампочками, но теперь они не горели, хотя казалось, что фонари, словно по мановению чьего-то волшебного жезла, зажигались, когда на них падал свет масляного фонаря, и тут же гасли. И снова они поднимались по лестнице вверх, покуда свет фонаря не высветил преграду — дверь, прочно сбитую из дубовых досок.
— Да, хорошие у вас, Николай Александрович, плотники во дворце были, Томашевский ощупал дверь, потом приложил ухо к замочной скважине, прервав этим движением гудение ветра, входящего через отверстие со стороны вестибюля. — Ничего не слышно, — сказал он, выпрямляясь. — А куда, в какое место вестибюля ведет эта дверь? Не на виду ли она?
— Нет, не на виду — под лестницей. Представляете, если бы слуги с кастрюлями вдруг появлялись бы на видном месте? Но это нам и на руку сейчас, не правда ли? — с каким-то увлечением, нервным и задорным, говорил Николай. — Ну, ну, дорогой Кирилл Николаич, давайте потихоньку эту дверку… того…
— Попробую, только очень тихо, осторожно надо, не то нам каюк. Постараюсь не снять её с петель, а отжать.
— Пробуйте, голубчик, пробуйте!
Теперь Томашевский не сгибал свою спину, стараясь могучими руками снять дверь с петель, — острие лома вошло в зазор между дверью и косяком там, где находился замок, и совершенно неожиданно, после мощного напора вправо, дверь, отворявшаяся вовнутрь, пошла на Томашевского, скрипнув на давно не смазывавшихся петлях.
— Браво, Кирилл Николаич, — шепнул ему Николай, с чувством пожав его мускулистую руку выше запястья. — Теперь я перекрещусь, да и с Богом… Дайте мне мешок. Им я сейчас оберну фонарь, а когда будет нужно, сниму его. Вот так, ну, пошел…
Томашевский хотел было ещё раз напомнить Николаю о том, какой опасности он себя подвергает, но вовремя понял, что эти слова способны не остановить Николая, решившегося на все, а лишь раздражить его.
— Возьмите меня с собой, — ворчливо проговорил Томашевский. — Я этим ломом десять человек, если надо, положить смогу.
— А для чего лишний грех на душу брать? Не нужно, здесь оставайтесь.
И Николай, отворив дверь пошире, шагнул в темную пасть вестибюля, и тут же незнакомые запахи словно впились в него — карболка, йодоформ, эфир, нечистые бинты и портянки, крепкий мужской пот. И эти запахи, такие чужие для Александровского дворца, где старались хорошо проветривать помещения, а порой окуривать их любимыми Николаем и Александрой Федоровной восточными благовониями, вдруг насторожили его, как бы предупреждая о том, что любимое жилище уже стало чужим для него и может сыграть с ним коварную, злую шутку.
"Нет, это мой, мой дворец, — сказал себе Николай, в душе которого металось сомнение. — А я — царь, царь, я император и хозяин этого дворца".
Он вспомнил, что где-то здесь, в вестибюле, недалеко от лестницы, должно находиться зеркало, огромное трюмо в дубовой резной раме, и пошел к нему почти на ощупь. И вот рука его коснулась гладкой поверхности зеркала, в котором он так часто видел свое отражение, когда с прогулки или из города возвращался во дворец. Николай смотрел на себя в зеркало часто, потому что ему нужно было видеть, как выглядит он, каково внутреннее состояние его души, высвечивающееся на лице, и никогда прежде он не сомневался в том, что выглядит как настоящий император. И вот теперь, стоя рядом с тем, старым, зеркалом, Николай трепетал от желания, внезапно охватившего его, снова взглянуть на свое отражение. Вечером он смотрел на себя в зеркало в комнате квартиры на Васильевском острове, когда ему вдруг захотелось при помощи найденных в комоде ножниц привести в порядок свою отросшую бороду и волосы. И вот теперь он должен был знать, насколько он остается прежним человеком.
Быстро сняв с фонаря мешок, он поднял этот примитивный осветительный прибор на уровень головы. Тусклый свет, однако, сразу залил стекло зеркала потоком оранжевого цвета, проявил предметы, находившиеся в вестибюле, и, главное, его собственное лицо, которое показалось Николаю, смотревшему на себя с нетерпеливой жадностью, ещё более императорским, чем было раньше, за счет ясно обозначившейся мужественности, резкости черт, отсутствовавших на его физиономии прежде.
"Я царь! Я царь! — думал о себе Николай с торжеством властелина. Такие лица могут быть только у кесарей, только у повелителей, и я буду повелителем снова, чего бы мне это ни стоило! Я теперь пойду в свою спальню! Теперь мне ничего не страшно!"
Чтобы попасть в будуар, нужно было пройти три анфиладных зала. Снова закрыв фонарь мешком, Николай вдруг подумал, — и эта мысль пришла к нему внезапно, будто посланная свыше: "Нужно снять сапоги, чтобы не наделать шуму". Но другая мысль тотчас прогнала первую: "Нет, нельзя! Какой же я буду царь, если пойду по своему дворцу без сапог!"
Он осторожно потянул за бронзовую ручку, открывая дверь в первый покой, который ему предстояло преодолеть. Просунув в помещение голову и оглядевшись, Николай увидел несколько коек, освещенных неясным лунным светом, пробивавшимся из-под приспущенных французских штор. Неровными белыми сугробами на койках угадывались человеческие фигуры — простыни покрывали их с головой, и он сразу понял, связав неподвижность фигур со сладковатым запахом, наполнявшим комнату, что здесь лежат приготовленные к погребению покойники. "Могли бы и в подвал отнести, там прохладней", зачем-то подумал Николай и пошел к двери, находящейся напротив той, через которую он прошел в "мертвецкую".
Тихо-тихо потянул на себя эту дверь, нажимая вниз кривую литую ручку, дверь тихо отворилась, и тотчас услышал тихие голоса. Как видно, говорили двое раненых, лежащих недалеко от входа:
— …вот так меня и жигануло осколком, и мать родную вспомнить не успел. Хорошо хоть санитары неподалеку проходили — подобрали. Вначале в полевом лежал, выхаживали, а потом сюда, чтоб долечился, отправили. А чаво, правду бають, что здеся царь жил?
— Не врут, жил, это точно, — отвечал другой голос, полный достоинства от знания такого факта. — Пока не скинули Николашку, проживал он в энтих самых комнатах со своими царевнами и царевичем.
— Ишь ты! И женка его, немка, падла эта, тоже здесь жила?
— Тоже здесь, только ты зачем её падлой назвал? Думаешь, раз на распыл их всех пустили, так таперя любой хай на них нести можно?
— Да как же, — был смущен первый голос. — Мы-то вот против гермаiна кровя себе отворять разрешали, а она, бають, им секретные сведенья вместе с сахаром посылала. Да ещё про Гришку, не правда ль все это разве?
— Не нам судить, — веско сказал второй. — Только языки б поприкусить в этом месте лучше. Говорят, что бродит по дворцу убиенный царь и царевича своего убиенного на руках носит. К своему родному месту его тянет, потому как, говорят, что как убили его, то по-христиански погребать не стали…
Когда перед солдатами, тихо разговаривавшими таким манером, вдруг выросла темная фигура, они онемели от неожиданности и уставились на нее, не в силах пошевелиться.
— Да ты кто… кем будешь… санитар, что ли? — наконец сильно оробевшим, трепещущим голосом спросил тот раненый, что был побойчее.
И Николай слегка сдвинул с фонаря грубую ткань мешка, и свет лег на его лицо, и глаза его были устремлены не на солдат, а куда-то в сторону.
— Господи! Царь! Николай Второй! — не воскликнул, а только выдохнул солдат с какой-то внутренней болью и диким страхом вместе. — Мертвый пришел!
А Николай, закрыв фонарь, медленно пошел через зал, уставленный койками, и лишь иногда он давал свету падать на свое лицо, и те, кто не спал, видели его и узнавали в проходившей фигуре расстрелянного царя, шагавшего по своему дворцу величественно и бесстрашно, независимо и гордо, так, как он, должно быть, не ходил никогда в жизни.
Когда Николай миновал залы, приспособленные теперь под госпитальные палаты, и подошел к дверям, ведущим в спальню, он отворил их с особым трепетом, боясь, что чувство, способное охватить его при виде этой дорогой для него комнаты, будет столь сильным, что он потеряет силы. Но, ожидая увидеть старую обстановку, стену, увешанную образами, налой с лежащим на нем Евангелием, которое они с Александрой Федоровной любили читать перед сном, старые кровати, он не увидел ничего прежнего — все исчезло, и лишь вдоль стены, в углах, стояли какие-то мешки, наверное с бельем.
Овальное большое зеркало, однако, висело на прежнем месте, и Николай, досадуя на то, что не увидел ничего старого, памятного, дорогого, кроме этого зеркала, обоев и лепнины потолка, подошел к стене. Боясь в душе того, что и тайник был открыт большевиками и никаких драгоценностей здесь больше нет, он торопливой рукой, направляя на зеркало свет фонаря, принялся отыскивать незаметный для постороннего взгляда рычаг, приводящий в движение пружину. И вот он был найден, потребовалось ещё несколько секунд, чтобы с усилием опустить его вниз, и тотчас зеркало, подобно дверце, подвешенной с одной стороны на петлях, повернулось и открылось пространство вместительного тайника. Свет фонаря выхватил из черной впадины дамский ридикюль, обшитый по моде довоенной поры цветным бисером. Быстро положив ридикюль в мешок, довольный удачей, Николай запер в тайнике ненужный теперь фонарь, и клацанье запоров сообщило ему, что тайник закрылся.
Все той же таинственной тенью проходил Николай по залам-палатам, и вчерашние крестьяне, рабочие, ломовые извозчики, приказчики, превращенные в красноармейцев, которых ранили в бою их соотечественники, глядя на черную фигуру, незаметно крестились и отчего-то вспоминали своих детей, жен и матерей.
***
Эти глаза подарила Николаю его мать: удивительной формы, необыкновенно продолговатые, с верхним веком, чуть наваливающимся на радужку, что придавало лицу некоторую томность. Эти глаза, глаза газели, как выразился о них один современник, смотрели несколько отрешенно, как бы несосредоточенно, то есть устремлялись через собеседника — за него, в пространство. Если верить физиогномистам, такой взгляд имеют люди, склонные к разного рода отвлеченным мечтаниям, когда человек черпает материал для своей рассудочной деятельности из собственного ума. Так мыслят мистики, метафизики, поэты.
Николай имел отличной формы лоб, хоть и не слишком высокий, который оттенялся внизу прямыми спокойными бровями, а наверху — коротко остриженными волосами с ранними залысинами. Нос идеальной формы, но немного женственный, небольшой, с чувственными чуткими ноздрями. От отца он унаследовал нижнюю часть лица вместе с упрямым ртом, который, несмотря на яркую окраску губ, немного диссонировал с мягким выражением глаз. Вообще темперамент обозначался через его лицо как ровный и спокойный, уравновешенный и вполне миролюбивый.
У него наблюдалось постоянное стремление к здоровому, наполненному движением дневному распорядку, гигиеническому, можно сказать, образу жизни. По утрам купался в бассейне, причем вода не нагревалась выше 18–20 градусов в любое время года, и следствием этого было отсутствие страха перед сквозняками, холодом. Он работал у себя в кабинете при открытой форточке даже зимой, и однажды престарелый вельможа явился к царю на доклад, заметил открытую форточку и попросил разрешения притворить её, и царь выразил неудовольствие такой изнеженностью.
Он обожал спортивные игры, да и вообще все, что давало ему возможность ощутить свое тело, но состязательная сторона игр мало интересовала императора. Да, Николай любил лаун-теннис, греблю, плаванье, но он любил также бросать зимой снежки или попросту разгребать лопатой снег на дорожках; любил велосипедные гонки, скачки, соревнования на яхтах; любил ходить пешком и в Крыму, в окрестностях Ливадии, совершал порой десяти-двадцатикилометровые походы, а иногда отправлялся в путь в полном снаряжении рядового, не забыв прихватить винтовку, — хотел испытать, каково приходится солдатам, а заодно проверить, сколь вынослив он сам. Ему нравилось работать веслами, и пешая прогулка часто заменялась греблей на байдарке, в которой он потом катал и сына, посадив его на колени.
Николай был прекрасным стрелком, и в Александровском парке он беспощадно уничтожал ворон, удовлетворяя, с одной стороны, самолюбие снайпера, а с другой — убивая врагов мелких певчих птиц. Вечером же он заносил сведения о своих успехах в стрельбе по воронам в свой дневник. Впрочем, Николай был страстным охотником не только на ворон — с его участием устраивались большие охоты в дремучих лесах любимого царем Беловежа, где добычей уже становились зубры, олени, косули, кабаны. Часто посещалась для охоты и Спала — древнее охотничье угодье польских королей. Обыкновенно Николай наряжался на охоте в длинную черкеску, и на поясе висел большой узкий кинжал кавказской формы, а голову царя украшала барашковая шапка. И охотником он был очень осторожным, не допускавшим преждевременных и «косых» выстрелов, а выдержка и терпение обыкновенно приносили ему богатые трофеи, но почти все крупные животные, убивавшиеся царем, шли не на императорский стол, а поступали в распоряжение местных жителей. Так Николай удовлетворял лишь спортивный интерес, не помышляя сделать охоту средством к добыванию пищи…
Ступень восьмая ДВА СФИНКСА
Когда, вернувшись уже утром домой, Николай молча выставил на обеденный стол обшитый бисером ридикюль, Александра Федоровна, пораженная, всплеснула руками, потом разрыдалась, и лишь после того, как ей удалось унять плач, порывисто обняла мужа, жарко расцеловала его.
— Я так жалела, Ники, что рассказала тебе о драгоценностях! Ну для чего ты ездил туда? Ведь тебя могли убить, арестовать по крайней мере! Как же тебе удалось проникнуть во дворец? Он что же, не охранялся?
Задавая множество вопросов и не ожидая получить на них исчерпывающие ответы, Александра Федоровна между тем щелкнула замком ридикюля. Она торопилась узнать, все ли драгоценности сохранились с тех пор, как они попали в тайник, и вот уже на стол полился поток сверкающих камней, запрыгали перстни, покатились браслеты, усыпанные бриллиантами и сапфирами, крупным жемчугом и изумрудами. Но самым роскошным предметом был, конечно, венец императрицы, подаренный Аликс Генрихом Прусским, и Николай при виде венца сморщился от досады, вновь начиная ревновать к детской любви своей супруги и в то же время жалея о грубости, допущенной им вчера.
— Это и есть тот самый венец, подаренный тебе кузеном? — спросил он, рассматривая прелестную и чрезвычайно дорогую вещицу.
— Ну да, — гордо и одновременно чуть сконфуженно подтвердила Александра Федоровна. — Да если бы то, о чем говорил ты вчера, было правдой, то, милый Ники, эти бриллианты были бы неплохой компенсацией за мою нескромность. Но, уверяю тебя, я досталась тебе честной девушкой. И давай больше не будем возвращаться к этой истории, ладно? А впрочем, я так рада, что ты вернулся невредимым. Уверена, Кирилл Николаич был рядом с тобой, словно тень!
Томашевский, скромно молчавший и лишь с интересом рассматривавший драгоценности, сказал:
— Сударыня, представьте себе, Николай Александрович видел во мне не более чем грубую физическую силу. Я снимал с петель двери, а уж во дворец он вошел без меня, отказавшись от моей помощи. До сих пор не представляю, как ему удалось пройти по дворцу, буквально заполненному красноармейцами!
— На самом деле, расскажи, папа! — попросил Алеша, и бывший император просто сказал:
— Действительно, произошла удивительная вещь. Явдруг ощутил себя царем, точно Александровский дворец влил в меня силы и уверенность в себе. А когда человек убежден в том, что он — повелитель, что все люди — его подданные, ему уже ничего не страшно. Я пошел по комнатам дворца, заполненным ранеными солдатами, они видели меня, но никто не посмел ни остановить меня, ни вызвать караул. Я и сейчас ощущаю себя царем…
Все смотрели на Николая с изумлением. На самом деле, он говорил со спокойной, величавой решимостью, в его словах не чувствовалось ни капли наигранности, ложной патетики, рисовки, но Александра Федоровна смотрела на мужа настороженно. Она подумала, что Николай немного повредился рассудком, что страдания, бедствия последнего месяца, чувство глубокого разочарования, обиды на судьбу подточили его психику и у него род мании величия.
— Но, папа, — осторожно, мягко заговорила Ольга, — ты не должен забывать, что обстоятельства, увы, против тебя. Ты можешь сколько угодно забавляться ощущением царственного духа, который, я уверена, и не покидал тебя, но ты… ты уже не царь и, прости меня, наверное, уже никогда не станешь царем…
— Нет, я царь, царь! — вдруг вскричал Николай громко и некрасиво, и его обычно умиротворенное, спокойное выражение лица сменилось гримасой гнева, неудержимого и грубого. — Это я раньше был царем по случаю, согласно сложившимся обстоятельствам, а теперь я чувствую, что становлюсь, если ещё не стал, настоящим императором России!
Александра Федоровна, едва удерживая слезы, одними глазами приказав Ольге замолчать и стараясь выглядеть беззаботной, с деланной веселостью сказала:
— Ну что же, император так император. Теперь же, дети императора России, давайте за стол садиться. Позавтракаем тем, что осталось от ужина. Вы, Кирилл Николаич, не побрезгуете нашей скромной трапезой?
Когда сидели за столом и ели картошку с колбасой и хлебом, Александра Федоровна сказала, обращаясь к мужу:
— Ну, раз тебе повезло, Ники, и ты сумел вернуть в нашу семью мои драгоценности, надеюсь, теперь нам уже ничто не помешает покинуть эту страну?
Все, кто сидел за столом, вопросительно посмотрели на Николая, ожидая от него положительного ответа, но он, беря щепотку соли на кончик ножа, чтобы посолить картофель, ответил не сразу. Он знал, что если покинет Россию, то уже никогда не сможет надеяться обрести здесь власть, и дело заключалось совсем не в том, что за границей, в Германии или в Англии, не нашлись бы силы, способные поддержать его в стремлении вернуть корону. Просто Николай чувствовал, что, покинув родину, он лишился бы источника, вливавшего в него энергию царственной власти, ощущавшуюся им с каждым днем все сильнее и сильнее. За границей он бы превратился в претендента на власть, в игрушку в руках восстановителей монархии, которым было бы совершенно безразлично, кого проталкивать к трону. Здесь же, на родной земле, борясь за свое возвращение на престол, он бы облекся в горностаевую мантию не как бывший царь, у которого забрали державу, а как борец, воин и настоящий мужчина. Такой вариант устраивал Николая куда больше, чем первый.
— Хорошо, давайте начнем с того, что отыщем покупателя хотя бы части бриллиантов, — примирительным тоном, очень желая, чтобы его настоящие планы до поры до времени остались неразгаданными, сказал он. — Вы, Кирилл Николаич, не поможете ли нам в этом? Нужен не просто состоятельный ювелир или перекупщик, но к тому же человек, не способный навести на нас ищеек из Чрезвычайной комиссии. Когда мы получим деньги, необходимые нам для переезда за границу и для сносного существования в Петрограде, милейший Кирилл Николаич, надеюсь, постарается найти людей для нелегального перевоза всех нас в Финляндию. Понятно, что самые ценные драгоценности мы увезем с собою…
Спокойная речь Николая произвела ободряющее впечатление на всех дочерей, Алешу и даже на Александру Федоровну.
— Господи, скорей бы уехать отсюда! — воскликнула Татьяна, и глаза её радостно заблестели. — В Париж, в Париж, а то ведь здесь, в России, при большевиках, нам никогда не выйти замуж. За кого же, скажите, выходить мне или Оле? За советского работника, за бывшего батрака или рабочего? Пусть во Франции или Англии я не стану женой наследника престола — во Франции и нет никаких престолов, — но уж граф или барон вполне сможет стать моим мужем.
— А лично я и не взгляну на мужчину, менее знатного, чем принц Уэльский, — гордо поджав губы, промолвила Ольга. — Что-то дешево ты себя ценишь, сестренка, — какой-то граф, барон. Представляю себе мадьярского графа в расшитой шнурками венгерке, с дурацкими, как у таракана, усами и длинным чубуком. Бр-р-р!
— Да, пожалуй, нам никак нельзя будет торопиться! — серьезно проговорила молоденькая Анастасия, а поэтому её замечание прозвучало комично. — Мы — царские дочери, великие княжны. Лично я уж лучше совсем не выйду замуж, чем стану женой худородного мужичка или буржуа, любящего сосиски с тушеной капустой.
Все рассмеялись. Николай и Александра Федоровна были довольны своими разборчивыми дочерьми, лишь одна Маша не приняла участия в разговоре о женихах. Напротив, она не только не поддержала сестер, но, взволнованная до красных пятен на лице, сидела как на иголках, лишь иногда взметывая взгляд своих прелестных глаз, опушенных густыми ресницами, на Томашевского, чему-то улыбавшегося. И Николаю, который ловил эти взгляды, который видел, как ведет себя Кирилл Николаич, сильно не нравилась эта улыбка, точно Томашевский думал про себя: "Говорите, говорите, птички, а вот придет время, явится какой-нибудь красавец, и пробьет ваш час, и захлопнется за вами дверца клетки, и даже совсем не золотой".
После завтрака, уединившись с Томашевским в одной из комнат просторной квартиры, Николай вручил молодому человеку три перстня с крупными бриллиантами, не забыв так напутствовать своего помощника:
— Сразу все не отдавайте, постарайтесь побывать у двух-трех ювелиров или продавцов таких вот безделушек. Сами посмотрите, кто больше даст. И не думайте, что во всем этом предприятии для вас лично нет никакого интереса. Ведь я надеюсь, что вы отправитесь с нами за границу!
Томашевский провел рукой по своим прекрасным густым усам и сказал:
— Но в качестве кого? Ваши дочери не любят худородных мужичков. А мне к тому же очень нравятся сосиски с тушеной капустой.
— Ничего, подождите немного! — улыбнулся Николай. — Скоро эти норовистые кобылки настолько опростятся, что будут считать это блюдо самым изысканным лакомством. Во всяком случае, Маша…
Томашевский, довольный разговором с Романовым, ушел исполнять его поручение, а Николай, давно уже хотевший побродить по своей столице в одиночестве, вышел на улицу. Был теплый августовский день, тихий и мирный, так напоминавший те довоенные счастливые дни. Теперь же все было иначе, и покой дня был только кажущимся: то и дело на улице, выводившей к набережной Невы, встречались воинские команды, громыхая, проносились грузовики с бойцами, ощерившиеся колючей щетиной винтовок со штыками, один раз мимо него прокатил броневик. Какие-то листовки, афиши политического содержания тут и там лепились на стенах домов, на дверях, трепыхались, приколотые к деревьям. На улице не чувствовалось таких привычных для ещё недавнего прошлого запахов кондитерских, кафе и ресторанов, не сновали лотошники в белых фартуках, несущие ароматную выпечку. Только здания остались прежними, да и то они стояли какие-то унылые и нахмуренные, холодные и неприветливые.
Странно, но по мере того, как Николай не спеша шел по Первой линии к Неве, он ощущал неприятное чувство, которое настигало его порой, когда кто-нибудь начинал пристально смотреть ему в затылок. Николай не слышал шагов идущего сзади человека, а обернуться ему не позволяло самолюбие, к тому же он отчего-то думал, что, обернувшись, он вдруг столкнется взглядом с кем-нибудь из своих знакомых, а такая встреча не сулила ему сегодня ничего хорошего. В памяти порой возникало лицо той полной, больной женщины, ковылявшей едва-едва по темному коридору Петроградской чрезвычайки.
И вот снова и снова, покуда шел он вдоль стен старинных особняков Первой линии, ощущал Николай это неприятное жжение в затылке. Вдруг обернулся резко, посылая назад свой вопросительный, ждущий немедленного ответа взгляд, но лишь пола пиджака мелькнула в подъезде, ведущем в полуподвал старинного дома.
Николай ускорил шаг. Это преследование не нравилось ему, и он уже жалел о том, что вышел на улицу без Томашевского. Но вот Николай сам нырнул в дверь полуподвала следующего дома. Здания здесь все были построены лет двести назад, а поэтому имели привычный для русских построек подклет, окна которого были забраны толстыми решетками. Прижавшись к вымазанной свежей известкой стене, Николай с притихшим сердцем ждал, когда незнакомец пройдет мимо, а он, дождавшись, пока тот минует подвал, быстро пойдет назад, к своей квартире. Он стоял и слушал, когда приблизятся к подъезду шаги неизвестного преследователя, но вместо этого услышал вкрадчивую речь:
— Ваше величество, уж не взыщите, дозволите к вам спуститься, или вы ко мне появитесь?
Николай растерялся и, не зная, что предпринять, нащупывал в кармане рубчатую рукоятку браунинга, чтобы в случае чего дать отпор, отплатить за страх, но слова сами явились — скорее, чем прозвучал выстрел:
— Что вам угодно, гражданин? Или вы меня с кем-то перепутали?
— Нет, не перепутал, ваше величество, но я хочу, чтобы вы не страшились меня, чтобы мы могли поговорить с вами без обиняков, тихо и мирно. Не бойтесь, я не принадлежу ни к какой политической группировке… мои цели совсем иные…
Только потому, что его натуру влекло в последнее время какое-то чувство — если не отчаяния, то уж безрассудной отваги, он приказал человеку, стоящему снаружи:
— Хорошо, заходите медленно, вытяните руки вперед, чтобы я мог убедиться в том, что вы не держите оружия.
Они очутились нос к носу рядом со входом в старинный дом — маленький плешивый человечек и недавний император России.
— Что значат… эти странные слова, с которыми вы обратились ко мне? строго спросил Николай.
Но плюгавый, невзрачный мужичонка только укрылся за лукавой, лакейской длинной ухмылкой и проговорил:
— Полноте, государь, как же можно вас не узнать? Хоть бородку бы сбрили, если инкогнито сохранить хотите. Не понимаю, право, как это вы решились на Гороховую без грима или маскировки прийти. Наверное, слишком в своей неузнаваемости уверены были, уверены в том, что раз уж комиссары покончили с царем и со всею его семьей, так и не узнают, а узнают, так не поверят. А еще, полагаю, в вас этакое царственное бесстрашие живет — плюю я на всех этих хамов — фатализм-с своего рода, да-а…
Положение, в котором находился Николай, стоя в подъезде дома и выслушивая от незнакомого обладателя противной физиономии сущую правду, было совершенно невыносимым, нужно было что-то предпринять, иначе нервы не выдержали бы и могло произойти что-нибудь непредвиденное.
— Ну, пойдемте хотя бы по улице, — предложил он тоже полушепотом и заметил, как заулыбался незнакомец, довольный, должно быть, тем, что начало разговора оказалось для него успешным.
И, не произнося ни слова, они быстро пошли к набережной, потом Николай так же молча свернул направо, и скоро они уже стояли у самой кромки воды, там, где два сфинкса охраняли спуск к реке.
— Прошу вас, назовите свое имя и объясните толком, почему в вашу голову взбрела идея назвать меня… Николаем Вторым! — сказал Николай, глубоко засовывая руки в карманы галифе и правой рукой продолжая ощупывать пистолет.
Теперь уже незнакомец не улыбался, а смотрел на Николая с испытующей внимательностью, почти строго, будто осуждая собеседника за неуместный вопрос. Лицом он на самом деле был очень некрасив — с острым, вытянутым подбородком и очень широким лбом, оно было похоже на верхнюю часть песочных часов, — но глаза мужчины смотрели умно и проницательно, словно сообщая: "Можешь и не пытаться меня обмануть — я все о тебе знаю".
— Ваше величество, моя фамилия Лузгин, но она, я знаю, вам ничего не скажет. А между тем я был лучшим сотрудником Особого отдела Департамента полиции, одним из первых…
— Вы, значит, были… филером? — неприязненно посмотрел на Лузгина Николай.
— Нет-с, с филеров я начал свою карьеру, а уж закончил-то столоначальником — в хороших чинах, значит. Уж и послужил вашему величеству знатно, от многих бед ваш престол когда-то уберечь помог, но не со всем, понятно, наш Отдел справиться мог. Слишком уж многоголова оказалась гидра революции, фигурально выражаясь. Так что вы уж меня не опасайтесь — я вашему величеству и сейчас послужить рад. Как только увидел вас на Гороховой-то, так от превеликой радости чуть чувств не лишился, хотел было по неосторожности вам здравицу пропеть, да удержался, пошел за вами следом, поелику следить за людьми когда-то считал своей обязанностью и делал это отменно. Знаю даже, куда вы этой ночью в сопровождении статного господина изволили выезжать, — до самой резиденции вас сопровождал, до тех самых пор, покуда вы из дворца кой с чем не вышли. И поверите ли вы, государь, что я чуть не плакал, когда увидел вас в новом качестве, — вот, думаю, сколь силен дух у русских монархов, неистощим энергией, мощью и способностью к борьбе. Вот только в ум взять не могу: как же вам от Екатеринбургской чеки уйти удалось? Ну, наверное, потому, что хамы эти даже убить-то человека толком не умеют, а тем более если человек этот — русский царь. Хотя, вздохнул Лузгин, — что касается родственников ваших, то здесь такого не скажешь…
Николай насторожился, схватил Лузгина за плечо, и тот не отстранился, будто считал жест "его величества" оправданным и допустимым.
— Какие родственники? Чего не скажешь? Извольте-ка прояснить суть дела.
Лузгин с миной вины и укоризны покачал своей конусовидной головой:
— Ба-ба-ба, ваше величество, а я-то полагал, что вы лучше меня обо всем знаете. Да разве не ведомо вам, что в Алапаевске случилось?
— Нет, ничего не слышал! — Николай ждал ответа и боялся его. — Что же произошло в этом… Алапаевске?
— Да как же, сестрица вашей супруги, великая княгиня Елизавета Федоровна, дядя ваш, великий князь Сергей Михайлович, Иоанн, Константин и Игорь, великие князья, князь Палий, все там кончину мученическую и приняли вскоре после того, как ваша казнь якобы состоялась. Из верных источников узнал, из самых верных. И о вашей смерти оттуда же…
— А с Мишей, с Михаилом Александровичем, братом моим, что случилось? задыхаясь, дергая за ворот кителя, спросил Николай.
Лузгин конфузливо посмотрел на свои ногти, стесняясь дать прямой ответ, — щадил Николая.
— Так ведь тоже почил, приняв мученическую смерть. Казнен-с ваш братец, государь.
С минуту Николай глотал невский воздух жадно, взахлеб, отвернувшись от Лузгина. Потом, проведя рукой по влажным глазам, дрожащим голосом сказал:
— Но это жестокие палачи, бесчеловечные изверги! Ну пусть я во всем виноват, так судите меня, а зачем же вместо меня казнить брата, моих близких и дальних родственников! Бессмысленно по своей кровавой жестокости! И это революционеры, строители нового общества!
— Нет, ваше величество, отличайте революционеров от тех, кто решил белую кость русского народа косой смерти скосить, расправиться со всей фамилией многовековых правителей Руси! Здесь задача иная, иная. Но вот вас-то Казанская Богоматерь своим покровом укрыла — благо-то какое! И семью вашу тоже, и наследника.
— Всех, — кивнул Николай, нахмурясь и глядя на серо-розовый гранит плит.
— Только вы, ваше величество, уж обороните себя сами-то, — продолжал говорить Лузгин, заглядывая в глаза Николаю, точно верная собака. — Не ровен час, встретит вас на улице кто-нибудь из старых, кто вас хорошо знал, да и донесет по сребролюбию на Гороховую, а вы ведь нам ещё могли бы пригодиться. Или хотите за границу скоренько уехать?
— Пока не знаю, — сказал Николай, а внимание его уже уцепилось за фразу Лузгина. — А кто это «вы» и для чего я мог бы вам пригодиться? Монархию восстановить хотите?
Лузгин потупился, улыбнулся хитровато-смущенной улыбкой:
— Да, собственно, я пока только об одном себе сказать могу. Представляю собой, так сказать, начало тайной организации, устроенной по понятиям, выработанным мною ещё тогда, как я с революционерами боролся: вхожу в осторожные сношения с чекистами, кой-чем плачу, выведываю многое, а заодно имею интересный такой архивчик, составленный мною ещё в давние поры. Ведь я сердцем чуял, что как ни лови бунтовщиков, а смута все же будет. Знал я еще, что смутьяны победят и станут потом правителями государства. Но на многих революционеров мы в Отделе нашем ещё в старые поры наложили узду — привлекли их на нашу тайную службу, и работали эти преобразователи устоев на два дома, этакие слуги двух господ были. И вот сумел я многие документы, изобличающие каверзное поведение этих деятелей, с собой забрать да хорошенько их припрятать. Если нужно будет, поднимем с вами такую бучу, что все их нынешние представители власти вцепятся друг другу в глотки. Но это лишь одна сторона моего дела. Занимаюсь я и тем, что свожу знакомство с работниками советских и карательных красных органов, от которых черпаю нужные мне сведения о махинациях и разных лихоимствах, чинимых работниками Совдепов и чеки. Колокол ударит, и закипят в моем котле такие козни, что взорвется тот котел и погребет под своими обломками всех Троцких, Урицких, Апфельбаумов и прочих Розенблюмов. Мне ж для успешной деятельности не хватает самой малости. Как думаете, какой?
— Право, не хочу вдаваться в детали всех ваших устремлений, если даже они и возведут меня на трон. Вы ведь этого хотите в итоге? — с неприязнью отвечал Николай.
— Ну конечно! — замечая неприязнь, но ничуть не конфузясь, воскликнул Лузгин. — А раз именно ваше величество я и вижу единственным законным претендентом на престол, то уж смело спешу обратиться к вам за посильным содействием. Мне, собственно, не хватает капиталов, чтобы не то чтобы платить за информацию, а для угощений: ведь нужно с человечком посидеть да потолковать о том о сем, а на столе по нынешнему времени негусто. Впрочем, и прямую взятку тоже порой в лапу сунуть приходится, но чваниться этим не нужно, коль цель вполне оправдывает эти, мягко говоря, некомильфотные средства. Вот и прошу вас, батюшка-государь, посодействуйте, дайте казны, а уж за мной дело не станет. И ещё раз советую вам: поберегите себя, измените внешность — ну, там, очки наденьте, сбрейте бороду, короче, станьте таким вот сфинксом до поры до времени.
И Лузгин со смешком небрежно кивнул подбородком в сторону каменного изваяния, возвышавшегося над ними, а потом с ещё большим лукавством на лице добавил:
— А что? Ведь это, если не путаю, тоже царь в сфинксе изображен — то ли Аменемхет, то ли Аменхотеп. Вот и вы будете каменным до пробития колокола, набата, таинственным таким идолищем будете, а я напротив вас тоже каменным стоять буду. И станем мы друг дружке в глаза глядеть, ибо только мы одни и будем хранителями нашей тайны. Ну так согласны выделить малую толику? Я ведь прекрасно знаю, что вы в Царское не ради воспоминаний и чистого воздуха ездили, — была у вас там немалая нужда…
Николай, слушавший какую-то юродствующую, но в то же время уверенную речь Лузгина попеременно то с негодованием, то с отвращением, то со страхом, а то и с недоумением, глядя на то, как менял форму его кривоватый рот, твердо сказал:
— А ступайте-ка вы, сударь, от меня подальше! Я филеров-то и раньше не жаловал, а теперь, когда ко мне подходят сыщики-мздоимцы, и тем паче с ними дел иметь не желаю!
Николай отчего-то думал, что Лузгин не обидится, а поэтому и говорил так прямо, грубо, но оказалось, что человек с головой-конусом вдруг как-то съежился, став едва не карликом, сморщился, нервно провел рукой по лицу и сказал с укоризной:
— Зря вы так, государь-батюшка. Не много-то вы таких, как я, радетелей за свои интересы найдете. Какой уж там мздоимец? Просто уж как могу, какой талант мне Бог дал, тако и стою за престол монарший. Вы уж простите, что я кудряво на эту тему выражаюсь, — иначе не могу-с.
— Скажите лучше, Лузгин, — мелькнула вдруг у Николая быстрая, как электрический разряд, мысль, — а кто в Петрограде… главный чекист?
Лузгин с осуждающим недоумением развел руками:
— Значит, вы, государь, прямо с корабля да и на бал пожаловали, небось недавно в Питере, раз не знаете, кто такой важной для большевистского дела когортой рьяных псов заведует?
— Точно, я лишь вчера утром с поезда сошел.
— Ну так знайте, ваше величество, — делами всей Петроградской Чрезвычайной комиссии управляет Моисей Соломоныч Урицкий, руки которого уж выше локтя кровью русских людей залиты.
И Лузгин, на сознание которого словно подействовали его собственные слова, добавил, просительно глядя на Николая:
— Так станем двумя сфинксами друг напротив друга? Пожалуете денег? Да ведь я вам потом за каждую копейку отчет дать смогу, зато какое дело с вами завернуть сможем!
— Нет, исключено, — безо всякого сомнения в голосе сказал Николай. Ваши методы мне… не подходят, извините. Только прошу вас, скажите: этот Урицкий, конечно, на Гороховой свою приемную имеет?
Лузгин, изображая на лице удовольствие от того, что государь хоть в такой малости нуждается в его знаниях, охотно ответил:
— Нет-с, не на Гороховой, хотя и туда Моисей Соломоныч частенько наведывается. В основном же держит присутствие на Дворцовой площади, в здании бывшего министерства иностранных дел, подъезд девятый. А вам, государь-батюшка, ради какого интереса это надобно? Уж не за своих ли милых родственничков… расквитаться надумали?
— А вам-то какое дело? — нескрываемо грубо спросил Николай, выхватывая из кармана портсигар.
— Да так, знаете ли, — заегозил Лузгин. — Вдруг вы под горячую-то руку пойдете да и… в общем, дерзкий поступок совершите. Вас арестуют, немедленно казнят, а я, косвенный виновник случившегося, буду каяться потом всю жизнь, что дорогого монарха на верную гибель невольно направил. Вот вы пистолетик, я сразу заметил, в кармане своем все вертели, терли, все ждали, когда я вам дам повод себя убить. Но я, простите, хитрее вас — повод такой давать не стал, поостерегся, нужный с вами тон разговора нашел.
Николай, опасаясь Лузгина с каждой минутой все больше, боясь его иезуитской наблюдательности, изощренного ума и знания людей, глухо сказал:
— Не волнуйтесь, если уж мне в голову фантазия взбредет Урицкого жизни лишить, мстя за брата и за всех других, то я своими руками делать это не намерен — куплю палача. Уж не сумасшедший ли вы, раз предположили, что Романов до убийства какого-то еврея снизойдет?
— Ах, что вы, что вы, — всплеснул руками Лузгин и сделал полупоклон. Я такой мысли и не допускал. Ну а если вы все-таки, великий государь, припомните о рабе своем, о Лузгине, то разыскать меня возможно будет на Вознесенском, номер пять, в шестнадцатой квартире.
— Навряд ли вы мне понадобитесь, господин Лузгин, — с холодной небрежностью сказал Николай и отвернулся в сторону Невы. Он слышал, как поднимался по ступенькам человек с головой-воронкой, и думал, до какой степени падения дошел он, если бывшая ищейка — ненавистный тип — предлагает ему руку для сотрудничества. Он смотрел на распестренную медными бликами воду, и в ряби невской волны одно за другим всплывали, возникая лишь на мгновение, лица убиенных большевиками родичей.
"Нет, — с тихой яростью подумал он, — не наймит должен мстить за вас, а законный вершитель возмездия! Я, только я встану на этот путь, и пусть уж судят меня потомки".
Николай, словно притянутый чьим-то властным желанием, поднял голову и увидел сфинкса. Его лицо было немым, каким-то безглазым, будто ему за четыре, а то и за пять тысяч лет существования уже надоело смотреть на страдания мира. Борода была отбита, и вдруг Романов вспомнил то, что советовал ему Лузгин.
"Да, верно, я тоже стану сфинксом, раз уже не могу быть царем! Для чего испытывать судьбу, ведь я нужен именно живой не только своей семье, будущей России, но и самому себе. Если уж меня Лузгин узнал, то и другие узнают, и тогда мне не ждать пощады от тех, кто уже приговорил меня к смерти. Меня и моих родных. Но ведь я тоже вправе вершить суд и исполнять приговоры. Я отказался от высшей власти только потому, что хотел добра России, моей России, а коль отказ от короны на самом деле привел к противоположным результатам и моя держава лежит в разорении, поглощена злом, то я имею полное право вернуть себе высшую власть, право карать и миловать. Но сейчас судьей и палачом придется стать лишь мне одному…"
И Николай, бросив в воду недокуренную папиросу, поднялся на набережную и быстро зашагал в сторону своего дома, где, раздражаемый возней своих домочадцев, успевших обжить жилище, стал с нетерпением ждать прихода Томашевского, лихорадочно обдумывая план действий. Но час шел за часом, и Романов, не обращая внимания на вопросы жены, быстро вышел из квартиры неузнаваемо преображенный, изрядно помолодевший, — борода, с которой он не расставался с тех самых пор, когда она начала расти, теперь не закрывала нижнюю часть лица бывшего монарха. Лишь усы изящно оттеняли верхнюю губу. И Александра Федоровна, успевшая заметить эти изменения, наконец осознала, что из квартиры выходил не её супруг, а совершенно чужой, незнакомый человек.
***
Царь Николай Второй курил папиросы, но пил мало — одну и ту же бутылку вина ему могли подавать к обеду, обычно простому по ассортименту блюд, несколько дней подряд, правда, ходили слухи, что Николай, подобно своему отцу, был склонен к алкоголизму, о чем якобы свидетельствовали и мешки под глазами. Однако хорошо знавшие царя обращали внимание на то, что они имели свойство увеличиваться, когда он переутомлялся, работая с государственными бумагами.
Даже императоры не склонны к одному лишь потребительству — желание творить присуще и им, а поэтому фотографические аппараты, которые имелись у всех членов императорской фамилии, доставляли им радость видеть то, что выходило непосредственно из-под «августейших» рук. Сам Николай с увлечением возился в своей лаборатории, проявляя пластинки и наклеивая потом снимки, сделанные в каждой из поездок, в семейные альбомы, которых со временем скопилось немало. А иногда он, подобно Петру Великому, столярничал. Переезжая же из дворца во дворец, сам снимал со стен любимые картины, собственноручно паковал багаж, составляя реестры вещей. На новом месте все сам и распаковывал, расставлял и вешал картины на стены.
Кабинет царя в Александровском дворце был обставлен по моде рубежа веков — в стиле модерн, — где этому стилю отвечали и вещи из бронзы, и мебель, и обои, но собственно антиквариатом император особенно никогда не интересовался — все было одностилевым, призванным скорее создавать уют, чем тешить глаз знатока и коллекционера: удобная мебель — модернизированный чипендейл и будуарный модерн, огромный бильярд, станок с киями, угловой диван с полкой, на которой громоздилось фарфоровое зверье. Книжные полки, а на них Четьи-Минеи, Жития святых в роскошных переплетах, прекрасно изданные фолианты по истории. Немало беллетристики, среди российских литераторов Чехов, которого Николай любил, Горбунов и Мережковский, Салтыков-Щедрин и Гоголь — вкусы государя все же склонялись в пользу сатирическо-юмористической литературы.
Нет, большим книгочеем он не был, но чтение все же доставляло царю немало радости. Особенно он любил читать вслух в интимном семейном кругу, и читал он, следует заметить, с большим искусством. Но не скрывалось ли за этим увлечением очень потаенное, скрытое желание подняться через чтение до автора произведения, уважаемого и… недосягаемого? Ведь чтец, вольно или невольно, замечая удовольствие слушателей, пожинает лавры за двоих: свои и автора произведения.
Чаще всего Николай носил офицерский френч, на что ему давало официальное право присвоенное царю воинское звание, но императора можно было увидеть и в импозантной форме собственного его императорского величества конвоя, в мундирах многих полков, шефом которых он являлся, а на яхте «Штандарт» Николай появлялся в белом кителе морского офицера, как и на встречах с другими моряками. В тесной дружеской компании он мог быть в широких шароварах и малиновой рубашке, этаким веселым малым. Он, император, вознесенный судьбой над всеми, пытался «сливаться» с подданными при помощи такой вот костюмированной мимикрии, конформировал через это как бы до полной личной неразличимости, оставляя за собой право, когда необходимо, облечься в горностаевую мантию и возложить на голову бриллиантовую корону.
Царь любил русскую оперу, но уважал и Вагнера. А порой в Александровском дворце устраивались концерты, приезжал сам Шаляпин. Большое удовольствие царь получал от оркестра балалаечников, от песен и плясок казаков, и как-то раз он при этом сказал: "Кровь так и ходит! Все бы сокрушил, кажется, глядя на них".
Он был корректен и даже ласков в отношениях с прислугой, и во дворце для челяди на Новый год и Рождество устраивалась елка самими членами царской семьи, всегда с подарками. Особая елка ставилась для придворных, для нижних чинов конвоя. А на Пасху Николай Александрович выходил христосоваться со всеми — в течение нескольких часов императору приходилось целоваться с беспрерывной вереницей тех, кто пришел поздравить государя: с придворными, депутатами, дворцовыми служителями. Александра Федоровна не целовалась — по заведенному этикету целовали руку ей. При этом все одаривались, и обычным подарком при этом служили пасхальные яйца из драгоценных металлов или уральских самоцветов. Христосуясь более чем с тремя тысячами подданных, царь обходил лишь агентов охраны — к церемонии они не допускались.
Ступень девятая КАЗНЬ ПАЛАЧА
Когда Николай Александрович, не дождавшись Томашевского, выбежал из квартиры, его снова повлекла какая-то необоримая сила в сторону Невы, только теперь он, дойдя до набережной, быстро свернул налево, в сторону университета, и стремительно направился к Дворцовому мосту.
"Как я мог решиться совершить это сегодня, не разузнав хорошенько, какая охрана у этого Урицкого, когда он приходит на службу, есть ли у него особо заведенные часы для приема? Или я что же, самоубийца, и кровью одного председателя Петроградской Чрезвычайки хочу искупить всю пролитую большевиками кровь? Нет, я буду действовать как судья и палач, но стану неуловимым, точно мадридский или венецианский наемный убийца, ибо не могу рисковать успехом восстановления монархии в России во имя примитивной мести".
Так думал Николай, торопясь перейти Дворцовый мост, и если бы его заставили ответить на вопрос: "Кто вы сейчас, кого вы ощущаете в данный момент в себе — царя, мстителя или охотника, стремящегося умело, быстро, безопасно завладеть добычей?" — то внутренний голос непременно подсказал бы: "Конечно, охотника в тебе куда больше, чем царя или мстителя".
Он прошел мимо фасада Зимнего дворца, затейливая лепнина которого, стройность колонн, изысканность деталей, так нравившиеся ему когда-то, теперь представлялись какой-то злой насмешкой архитектора. Поскорее отвернулся и прошел, глядя в сторону Адмиралтейства.
Дворцовую площадь пересекал в волнении. Как часто здесь собирался народ, его народ, а он, государь, с балкона приветствовал коленопреклоненных подданных. Теперь же он шел через брусчатку, сухую, звонкую, туда, где свил гнездо один из главных его врагов, не постеснявшийся устроить свою контору напротив резиденции монарха.
Вошел в подъезд, который, к его удивлению, никем не охранялся. Правда, два красноармейца дежурили внутри, и Николай спросил у них, изображая на своем лице заискивающую улыбку:
— Товарищи, а гражданин Урицкий здесь… бывает?
— А что нужно, братец? — перебросив винтовку с руки на руку, спросил один красноармеец, как видно, старший, — рябой бородач.
— Лично ему хотел подать прошение… нет, жалобу, — сделал интригующее движение бровями Николай. — Дело, кстати, весьма важное…
Но тут же испугался, догадавшись, что о жалобе он заговорил напрасно и красноармеец может просто-напросто отослать его к какому-нибудь третьему лицу канцелярии Урицкого, к секретарю, и тогда все пропало — к главному чекисту Питера его не пропустят.
— Очень важное дело, лично касаемое товарища Урицкого… — поспешил добавить Николай, стремясь опередить солдата.
— Да что за дело-то? — с небрежностью, почти нагло, спросил другой часовой, деревенский с виду парень, широконосый и толстогубый. Он, как видно, очень гордился тем, что ему доверили охранять приемную самого товарища Урицкого, а поэтому помучить просителя, безобидного по наружности человека, доставляло ему немалое удовольствие.
И вдруг Николай, внутри которого кипела злоба, сильное раздражение против этих вчерашних крестьян, ходивших за плугом, таскавших навоз и трескавших пустые щи, возвысив голос почти до крика, сдвинув брови и совершенно забыв, куда он пришел и зачем, проговорил:
— А ну-ка, как стоишь, мерзавец! А ну-ка, руки по швам, каналья! Тебе кто, подлец, такое право дал, спрашивать, с какими делами к товарищу Урицкому приходят, а?
Не только красноармеец, но и его товарищ вытянулись перед странным посетителем по стойке «смирно», угадав, должно быть, что если этот человек имеет право так командовать ими, так уж, значит, они видят перед собой персону необыкновенную, наделенную властью и правом чинить расправу с ними, бойцами Красной Армии.
— Виноват… ваше… товарищ начальник, — забормотал толстогубый, и его выпученные глаза были готовы вылезти из орбит. — Вы бы сразу так и объяснили, а то мы в вас того человека не признали — много здеся всяких ходит…
— Ну хорошо, хорошо, только впредь-то хорошенько смотри, а то наживешь большие неприятности, — смягчился Николай, очень довольный собой. Никогда прежде он не обращался к людям так грубо — не было необходимости, — но теперь обстоятельства требовали защитить свои интересы при помощи принятых в этом обществе способов общения, где нахрапистость, нахальство, сила и беззастенчивость расценивались как признаки авторитетности и власти.
— А товарища Урицкого вам лучше всего завтра здесь застать, — говорил красноармеец тоном услужливого гостиничного распорядителя. — Он к одиннадцати на автомобиле подъезжает. Тогда-то вам всего удобнее будет к нему обратиться. Выслушает, это точно, раз дело-то его личности касается.
Николай кивнул, благодаря красноармейца за сообщение, и тотчас вышел на площадь.
"На какое же страшное дело я собрался! — думал он с отвращением. — Вот обдуманно, хладнокровно собрался человека убить! Я уже застрелил двоих, но ведь и тот лесной человек, и "осколок императора" собирались убить, унизить меня, моих родных. Тогда я не мог поступить иначе. А теперь я должен стать убийцей человека, не сделавшего лично мне ничего дурного. Возможно, этот Урицкий, — да скорее всего, — не имеет никакого отношения к казни Михаила, других моих родственников, так какое же нравственное право казнить его я положил в основание своего страшного намерения? Оказывается, такого права у меня нет, нет!"
Но тут же другая мысль как бы отталкивала первую:
"Нет, кроме меня, никто не возьмется за дело отмщения убийцам невинных! Если даже я, заплатив наемному убийце или уговорив кого-то, убедив, останусь в стороне, умою руки, то все равно нравственно я буду отвечать за казнь Урицкого. А казнить его, именно его, нужно уже потому, что люди, русские люди, должны знать, что есть в стране силы, способные сопротивляться большевикам, черезвычайщикам, и не все ещё потеряно в стремлении настоящих патриотов вернуть России её прошлое, порядок и законность".
И когда Николай, проходя мимо Зимнего дворца, над которым ещё полтора года назад вился императорский штандарт, думал таким образом, богатое убранство фасада уже не казалось ему вычурным и ненужным. Все на здании виделось продуманным и взаимосвязанным, точно он и сам узрел себя нужным и единственным среди голодного, смятенного, но ждущего обновления страны народа.
Когда Николай вернулся домой, то уже застал в квартире Томашевского, сидевшего в гостиной в окружении всего семейства. Они с интересом следили за руками поручика, раскладывавшего на столе какой-то занимательный пасьянс. Все были настолько увлечены картами, что даже не заметили, как он встал рядом с ними.
"А этот здесь уже совсем освоился", — с каким-то раздражением подумал Николай, но раздражение тут же сменилось чувством вины и даже благодарности к этому большому, сильному, уверенному в себе мужчине.
— И какие же успехи, Кирилл Николаич? Удалось продать бриллианты?
Томашевский, сконфуженный, тут же поднялся.
— Продал, и довольно выгодно. Ювелир, с которым я имел дело, просит приносить еще.
— Превосходно. Пройдемте в другую комнату.
Там Томашевский выложил из кармана на стол пачки банкнот и бумажные упаковки с золотыми империалами.
Николай смотрел на деньги с каким-то рассеянным равнодушием, проводя рукой по непривычно гладкому подбородку. Он видел, что Томашевский, никогда не видевший своего монарха без бороды, глядел на него удивленно и даже настороженно, будто перемены во внешности вынуждали не верить в то, что царская природа по-прежнему сохраняется в этом теле.
— Так, деньги — это очень хорошо, — рассеянно проговорил Николай, теперь же, господин Томашевский, я попрошу вас помочь мне ещё в одном деле.
— Я внимательно слушаю вас, — с готовностью, легко кивнул поручик.
— Мне нужны велосипед и плащ, наподобие тех, которые надевают в дождливую погоду, — прорезиненный, с капюшоном, но не слишком длинный. Еще я попрошу вас тщательно почистить и снабдить патронами мой браунинг. Он лежит в верхнем ящике вон того шифоньера. Все эти вещи мне нужны к утру.
Николай знал, что Томашевский не спросит, для чего понадобился ему такой странный набор, но ему вдруг сильно захотелось обо всем поведать этому человеку, и, помедлив, он сказал:
— Уверен, что вы будете осторожны и не раскроете мой план домочадцам или… кому-нибудь еще. Завтра я застрелю одного палача, казню за то, что такие, как он, недавно убили моего любимого брата Михаила, сестру моей жены, других моих родственников. Их убили без суда только за то, что они находились со мной в родстве и могли быть опасны… да нет, никому они не могли быть опасны. И прошу вас, не предлагайте мне свою помощь. Я пойду один, но, если я не вернусь, вы, Кирилл Николаич, возьмите на себя заботу по спасению моей семьи — переправьте её за границу. Однако не думайте, что мне безразлично, схватят ли меня, или же я, убив… того субъекта, останусь жив. Нет, я хочу жить, хочу находиться на свободе, потому что вижу в себе человека, способного вернуть России порядок и могущество.
— Я сделаю все, о чем бы вы меня ни просили, — сквозь сжатые зубы сказал Томашевский, на лицо которого легла тень сожаления о том, что он, подчиняясь приказу любимого монарха, ничем не может ему помочь.
Утро следующего дня выдалось дождливым, и Николай был рад этому обстоятельству, потому что плащ, принесенный Томашевским ещё вечером, оказался как нельзя кстати: укрывал от дождя, не привлекая при этом ничьего внимания. Велосипед, почти новый, немецкого производства, смазанный и блестевший никелированными частями и хорошо сохранившейся эмалью, тоже понравился Николаю, опробовавшему его ход ещё вчера. И Алеша, очень довольный тем, что его отец вновь обрел способ заняться физическими упражнениями на свежем воздухе, сопровождал его, когда Николай сделал несколько кругов по внутреннему дворику их дома. Зато Александра Федоровна отнеслась к прогулке мужа иронически, сказав негромко:
— Ники, может быть, ты и всем нам купишь такие самокаты, чтобы поскорее добраться до границы?
Он хотел было сказать жене, что ни о какой загранице уже и не помышляет, но, боясь расстраивать Александру Федоровну, возможно, в последние часы своей земной жизни, промолчал. Перекрестил всех детей, обнял жену и пошел в свою спальню, чтобы помолиться перед грядущим испытанием.
"Я должен остаться жив! Я обязан вернуться домой к обеду!" — твердил про себя Николай, направляя велосипед к Неве. Резиновые шины с приятным шелестом разбрызгивали в разные стороны дождевую воду, стекавшую в углубления между прямоугольниками брусчатки, лоб закрывал капюшон очень удобного плаща, в кармане покоился готовый к бою пистолет, а сердце его тревожно ныло, и хотелось, оставив вчерашние намерения, вернуться домой и сесть за кофе с родными, с Томашевским, но странно, чем чаще он вспоминал свою семью, тем острее гнало его вперед именно чувство мести, словно замешанное именно на любви к своим родичам.
"Нет, я не откажусь, буду стрелять в Урицкого, но перед тем, как нажму на гашетку, я обязательно откроюсь главному чекисту: пусть он знает, кто казнит его, пусть перед самой смертью он узнает, что меня, его главного врага, не убили! Да, я сделаю именно так!"
И Николай вкатил велосипед на Дворцовую площадь, а потом поехал вдоль полукруглого фасада Главного штаба к Певческому мосту. Миновав нужный подъезд, Николай остановил велосипед метрах в десяти от него, чтобы подбежать к нему быстро, как только дело возмездия будет свершено. "Едва я выстрелю в Урицкого, сразу вскочу на велосипед и погоню его по Миллионной. Там много узеньких проулков, выводящих к Неве. Сверну за угол, брошу велосипед, плащ, и вот я уже совсем другой человек. Могу выйти на набережную совершенно безбоязненно, никто меня и остановить не посмеет.
Но вдруг простая, даже глупая по своей примитивности мысль подкосила ноги Николая, вставшего у подъезда растерянно, будто его застигли врасплох совершенно неожиданным вопросом.
— А как же я узнаю Урицкого? Ведь я его ни разу не видел! — произнес Николай вслух, но тут же двери подъезда распахнулись, выпуская кого-то. Это вывело его из состояния задумчивости, и он шагнул в плохо освещенный вестибюль.
Здесь уже стояли не вчерашние красноармейцы — их сегодня заменяли другие бойцы, и это порадовало Николая, не желавшего быть узнанным. В вестибюле было жарко, потому что в камине горел огонь, и, наверное, привлеченные уютом, здесь стояли несколько человек, обсыхая, разговаривая между собой. "Тоже с жалобами, как и я", — подумал про себя Николай с неуместной веселостью. Отойдя к стене, он остановился, не убирая с головы капюшон, и одна мысль не давала ему покоя: "Где мне ждать Урицкого? Может быть, на улице? Как я его узнаю?"
Внезапно молодой человек приятной интеллигентной наружности, сидевший до этого на подоконнике с хмурым видом, но все время поглядывая на улицу, резко поднялся. Снаружи до Николая донесся рев мотора. Юноша — чуть за двадцать лет — быстро вышел из вестибюля на улицу, и вдруг послышался чей-то испуганный крик, а вслед за ним раздался громкий выстрел.
Все, кто был в вестибюле, всполошились, красноармейцы бросились к дверям, но они уже распахнулись, и в помещение вбежал человек с перекошенным от страха лицом — кожаное пальто нараспашку, бородка, пенсне, слетевшее с носа, висело на шнурке. Человек с расширенными от ужаса глазами, словно ища поддержки или защиты у тех, кто находился в вестибюле, проговорил, еле шевеля побледневшими губами:
— Он… он ранил, он… убил меня! — И в этих словах было больше страха от пережитого, чем опасения за свою жизнь, хотя кровь на самом деле капала на пол откуда-то из рукава его пальто, и раненую руку мужчина бережно прижимал к себе, кривясь от боли.
Нет, никто не бросился на помощь раненому — и красноармейцы, и все находившиеся в вестибюле люди кинулись на улицу: первые — чтобы ловить покушавшегося, вторые — бежать подальше от того места, где и их могли бы арестовать под горячую руку. Николай уже спустя несколько секунд после того, как начался переполох, остался с раненым наедине, прекрасно понимая, что этот человек в кожаном пальто, с белым кашне, щеголевато переброшенным через плечо, и есть начальник Петроградской Черезвычайной комиссии Урицкий.
— Так это вы и есть тот самый знаменитый Урицкий? — быстро шагнул к нему Николай.
— Ну да, а что вам надо? — с гримасой боли на лице, поддерживая своей левой рукой правую, спросил в свою очередь Урицкий. — Лучше бы оказали мне помощь!
Понимая, что в его распоряжении не больше десяти-пятнадцати секунд, Николай сбросил капюшон, открывая Урицкому свое лицо.
— Оказать помощь вам, палачу? Такому же палачу, как и те, что пытались расстрелять меня и всю мою семью там, в Екатеринбурге, кто расстреливал моего брата, моих родственников? Ну, вы теперь поняли, у кого вы просили помощи? Нет, не дождетесь! — сказал Николай и направил на него браунинг.
Прежде чем выстрелить, он внимательно вгляделся в искаженное страхом и болью лицо:
— Ну, поняли теперь, кто перед вами? — спросил он, улыбаясь со злым торжеством и замечая, как вытягивается и без того длинное, некрасивое лицо начальника Петроградской Чрезвычайки.
— Да, вы — Николай Второй! Только не надо, не стреляйте, прошу вас… — зашептал Урицкий, но выстрел оборвал этот громкий, просящий шепот, и он, неловко взмахнув руками, будто пытаясь во что бы то ни стало удержать равновесие, грохнулся навзничь, а Николай, у которого внутри вдруг стало как-то пусто и темно, точно он был наполнен лишь местью, и теперь, когда казнь свершилась, эта пустота требовала заполнить себя чем-то новым, быстро вышел из подъезда на площадь, не забыв сунуть пистолет в карман и надвинуть на голову капюшон плаща.
Здесь, на площади, и явилось то, очень нужное, своевременно явившееся чувство — чувство самосохранения. Николай увидел нескольких красноармейцев, выворачивавших руки за спину тому самому молодому человеку, что сидел на подоконнике. Солдаты, наверняка услышавшие выстрел, повернули свои головы в сторону появившегося Николая, буквально бросившегося к своему велосипеду, стоявшему в десяти метрах от подъезда. Две-три секунды красноармейцы пытались, видно, решить, имеет ли отношение человек в плаще к прозвучавшему выстрелу, а потом, когда один из караульных кинулся в вестибюль подъезда, Николай, уже садившийся на велосипед, услышал его крик:
— Ребята, товарища Урицкого убили! Держите этого, на самокате! Их тут двое сообщников!
Но Николай, все быстрее набирая скорость, отчаянно нажимая на педали, уже мчался вдоль полукруга здания в сторону Миллионной. Теперь его душа была переполнена другим чувством, стремлением, которому подчинялось все существо этого человека. Никогда прежде Николаю не приходилось быть «дичью», объектом погони, и сейчас это новое, неизвестное ранее ощущение, какое-то сладостно жуткое, холодившее затылок, будто к нему привязали большой кусок льда, превратило его в комок мускулов, переплетенных между собой, поддерживающих друг друга в стремлении превзойти в выносливости мускулы преследователей. Но едва успел Николай доехать до начала Миллионной, как он понял, что его физическая сила в соревновании с физической силой преследователей окажется бесполезной, — метрах в ста пятидесяти позади него раздался рокот мотора. Автомобиль с десятью охранниками, вынырнув из-под арки здания, расположенной рядом с подъездом, ещё минуты три назад покинутым Николаем, тарахтя разбитыми рессорами, покатил по мостовой площади вслед за велосипедистом.
Едва «мотор» свернул на Миллионную, как бойцы охраны, опираясь локтями на крышу кабины, стали стрелять по Николаю, чей плащ с развевающимися полами мелькал всего в пятидесяти метрах впереди от них.
— Цельтесь точнее, ребята! — командовал бойцами начальник караула, плотный бородач Викентий Францевич Сингайло. — Тому, кто срубит этого, буханку хлеба обещаю!
И бойцы стреляли, то и дело клацая затворами винтовок, но вдруг мотор автомобиля зачихал прерывисто, и машина, проехав по инерции несколько метров, остановилась.
— Эй, что стряслось, Кузьмич?! — заорал Сингайло, перегибаясь с кузова автомобиля к окну шофера и барабаня сверху по кабине своим железным кулаком. — Упустим из-за тебя ту контру, так под трибунал пойдешь, попомни!
Но растерянный шофер, нажимая на педали, дергая рычаги, никак не мог заставить машину сняться с места, несмотря на то что Сингайло поносил его черной бранью. А между тем бойцы охраны всё стреляли через кабину в изрядно удалившегося от них велосипедиста. Радостное «ура» вдруг огласило узкую Миллионную, когда караульные увидели, что беглец после одного из выстрелов упал с велосипеда, но радость солдат оказалась преждевременной: уже не садясь на поврежденный пулей велосипед, человек в плаще бросился к подъезду одного из домов и скрылся в нем.
— Слезайте с кузова, слезайте, — подталкивал солдат Сингайло. — За ним, в подъезд! Теперь он не уйдет от нас! Ишь, стрекача какого задал! Сейчас поджарим ему зад! Будет знать, как по чекистам палить! Не поймаем его — всем нам крышка будет за товарища Урицкого! Вперед!
Между тем Николай, упавший с велосипеда потому, что одна из винтовочных пуль перебила раму, не видел никаких иных путей спасения, кроме открытого подъезда большого дома. Вбежав в парадное, он бросился наверх, хотя и плохо понимал, что даст ему эта лестница. Он плохо знал устройство этих огромных доходных домов, но сразу же заметил, что здесь имеется кабина лифта.
"Нет, лифт мне не нужен, — лихорадочно соображал Николай, — поднимусь по лестнице и постучусь в какую-нибудь квартиру. Не может быть, чтобы русские мне отказали в убежище". Когда взбежал на пятый этаж, услышал, как внизу забухали шаги.
"А вот и незапертая дверь! — обрадовался Николай, увидев пробивавшуюся на полутемную лестницу полосу красного света. — Зайду сюда".
Оказавшись через несколько секунд в освещенной электрической лампочкой прихожей, где на вешалке висели несколько пальто, он услышал в глубине квартиры чьи-то оживленные выпивкой голоса и треньканье гитары.
"Прежде всего нужно снять этот плащ и заменить его на какой-нибудь другой", — подумал Николай, осторожно притворяя за собой дверь. Но едва он стал расстегивать пуговицы на плаще, торопясь, разрывая петли непослушными пальцами, как раздались шаги и в прихожей появилась женщина лет тридцати, лицо которой было разгорячено застольем. Не замечая присутствия постороннего, она быстрым движением поправила у зеркала прическу, воротник кофточки и вдруг резко обернулась в сторону Николая.
— Господи, да кто же вы? Откуда вы здесь появились? — встревоженно, нервно спросила она.
— Простите, не могли бы вы позволить мне остаться в вашей квартире хотя бы в течение получаса, — зашептал Николай, прижимая правую руку к груди в просительном жесте. — Но если это невозможно, то, по крайней мере, одолжите мне это… пальто взамен моего плаща.
Теперь уже женщина смотрела на Николая не с удивлением, а с негодованием.
— А, так вот вы кто! — гневно двинулись её губы. — Вы обыкновенный воришка, квартирный воришка, который ходит по лестницам и смотрит, где что плохо положено! Сейчас же убирайтесь вон, а то я позову друзей и вас отправят куда следует!
Если бы эту фразу произнесла не женщина, тем более не интеллигентная, судя по виду, то он, желая спасти себя во что бы то ни стало, отказался бы подчиниться. Но сейчас оставалось лишь покорно склонить свою голову и сказать:
— Простите, сударыня, я вынужден вам подчиниться и покидаю вашу квартиру, хотя это, возможно, будет стоить мне жизни. Уверяю вас, я — не вор. И… всего доброго…
Потом, быстро приподняв полу плаща, вытащил из галифе браунинг и отодвинул щеколду.
До него донеслись тихие голоса и осторожные шаги поднимавшихся по лестнице солдат караула. Стремительно подойдя к ограждению, Николай дважды выстрелил сквозь прутья, целясь в барашковые шапки бойцов. Выстрелы, усиленные лестничным эхом, прозвучали так неожиданно, что солдаты буквально скатились вниз на три марша, не успев ответить ни единым выстрелом, а он пустил им вдогонку ещё три пули.
— Эй, там, наверху! — послышался спустя минуту голос старшего охранника. — Сопротивление твое бессмысленно. Бросай оружие, спускайся к нам.
Но строгое требование караульного начальника произвело совершенно противоположное действие. Отчаянная дерзость, жгучая злоба к этому хаму, пытавшемуся приказывать и грозить ему, недавнему императору России, выплеснулись наружу:
— Патронов у меня довольно, — сказал он, — буду обороняться долго, а последнюю пулю — себе в висок. Уговаривать меня бесполезно!
Гордый ответ, как видно, произвел на солдат отрезвляющее действие. Он знал, что красноармейцы находятся сейчас на втором или третьем этаже, и было слышно, что они о чем-то негромко рассуждают. Прошли пять, десять минут, пятнадцать. Николай нащупал в кармане запасную обойму, потом услышал, что шаги стали удаляться, — солдаты спускались вниз, и скоро застучала, заскрежетала машина, приводившая в движение кабину лифта. Стукнули её двери, но где-то внизу, и лебедка снова задвигалась, загремели блоки, и Николай, смотревший вниз, увидел, что кабина лифта движется наверх, к нему.
Вход на чердак был закрыт, а поэтому все пути к спасению были отрезаны. Оставалось лишь одно — стрелять, покуда хватит в браунинге патронов. Кабина лифта очутилась на уровне площадки, где стоял Николай, и сквозь верхнюю, закрытую лишь матовой стеклянной дверью часть кабины он увидел фигуру красноармейца в шинели, с шапкой и с винтовкой. Целясь прямо в голову солдата, он дважды нажал на спуск, и фигура тут же исчезла, точно пули вошли не в живое тело, а в какой-то тряпичный манекен или в бумажную мишень.
"Но ведь это кукла! — пронзила быстрая догадка. — Они отправили на лифте куклу, обряженную в шинель и набитую, наверное, другими шинелями! Хотели, чтобы я побольше патронов расстрелял. Нужно воспользоваться этим…"
Мягко нажал вниз ручку лифта, отворил двери и на самом деле увидел на полу кабины шинель красноармейца, надетую на дворницкую метлу. За несколько секунд Николай сбросил с себя плащ и облекся в эту грубую, вонявшую солдатским потом шинель, застегнулся на все пуговицы и, насвистывая, приняв самый беззаботный вид, стал спускаться вниз, а поравнявшись с солдатами, которые уставились на него с угрозой и недоверием во взглядах, спросил у них с любопытством постороннего и праздного человека:
— А кто стрелял здесь, братцы? Вора, что ли, какого-то ловите, мазурика?
Начальник караула Сингайло не мог ни на секунду допустить мысль, что человек, паливший в них ещё две минуты назад, так вот легко и уверенно спустится к ним. Он сказал угрюмо:
— А ты бы шел отсюда, гражданин, покуда тебя заместо этого мазурика не взяли!
— Ну а мне-то что? — пожал плечами Николай. — Наше дело — сторона.
И вышел из подъезда дома, продолжая насвистывать какой-то легкомысленный мотив. И только там, на улице, его затаившееся сердце забилось так быстро, что захотелось остановиться, прислониться к стене, но громкий голос животного инстинкта самосохранения все кричал ему: "Беги, беги быстро, сейчас большевики спохватятся, бросятся за тобой!" И тогда он действительно побежал, достиг угла дома, свернул налево в проулок, где сорвал с плеч шинель, и выбежал на набережную уже в одном пиджаке, а потом зашагал неспешно, но твердо в сторону Васильевского острова.
А красноармейцы так и стояли внизу, боясь подняться наверх, не зная, что делать дальше, покуда один безусый солдатик не сказал, обращаясь к Викентию Францевичу Сингайло с заискивающей улыбкой на лице:
— Товарищ командир караула, а чтой-то мне кажется, что тот мужик в моей шинельке мимо нас прошел…
Молодой человек, тот самый, что стрелял в Урицкого, оказавшийся после выяснения обстоятельств Леонидом Каннегиссером, сыном инженера, был признан виновным в смерти главного чекиста Петрограда, а потом осужден и казнен, и лишь немногие знали, что в Урицкого стрелял ещё кто-то, спасшийся буквально чудом. Каннегиссер же, мстивший Урицкому за расстрел своего друга Владимира Перельцвейга, полностью признал свою вину и выслушал приговор спокойно и равнодушно к своей участи. Он был искренне уверен в своей правоте, а потому больше ничего не сказал о том, что произошло на Дворцовой, унес эту тайну в могилу.
Через несколько дней после убийства Урицкого большевики объявили красный террор, стали гибнуть невинные люди, и истинный виновник смерти главного петроградского чекиста почувствовал себя ответственным за это преступление и решил в дальнейшем отказаться от мести, чтобы не навлечь на свой народ новые бедствия.
***
Каким был этот император, что за характер он имел? Нет ничего более трудного, чем привести бесчисленное множество поступков человека к какому-то среднему результату, ведь поведение зависит не от одной лишь нашей природы, но обусловливается чрезвычайно разнообразным спектром ситуаций, на которые реагируем мы. Лишь сумма сходных признаков позволяют нам сказать о человеке — в основном он добр или, напротив, зол, хитер или недоверчив. Все это — крайне примитивные суждения, и великое множество портретов Николая Второго, оставленных современниками, грешат односторонним взглядом, крайне сужающим характер царя, выделяя лишь одну из его черт.
Витте, например, писал, что государь был человеком очень добрым и чрезвычайно воспитанным, представлявшим собой полную противоположность своему отцу: "Яв своей жизни никогда не видел более воспитанного человека, чем он, — он всегда щегольски одет, сам не позволяет себе никакой резкости, никакой угловатости ни в манерах, ни в речи". Но ведь постоянная вежливость не есть механический итог инъекции хорошего воспитания, привитого в детстве. Воспитанность, вежливость в каждодневном проявлении возможны лишь тогда, когда основаны на добрых качествах человека, стремящегося видеть в другом человеке лицо, наделенное достоинствами, самолюбием, ранимостью, лицо, ждущее сочувствия и внимания.
Министры Сухомлинов, Извольский, председатель Государственной Думы Родзянко не отрицали в характере Николая доброты, но все они, впрочем, как и Витте, отмечают в нем наличие безволия и переменчивости. А главнокомандующий русской армии в войне с японцами Куропаткин даже называл императора коварным и недостаточно умным.
Однако последнее мнение мог бы оспорить юрист Кони, сам человек, без спору, умный: "Представители мнения о его умственной ограниченности любят ссылаться на вышедшую во время революции брошюрку "Речи Николая II", наполненную банальными словами и резолюциями. Но это не доказательство. Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям, и я с трудом узнавал их в печати — до того они были обесцвечены и сокращены, пройдя сквозь своеобразную цензуру". И вот что ещё сказал Кони об особенностях характера Николая: "Мне думается, что искать объяснения многого, приведшего в конце концов Россию к гибели и позору, надо не в умственных способностях Николая II, а в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков".
Но как же согласовать "отсутствие сердца" и доброту, отмеченную как черту характера Николая многими другими наблюдателями? А ведь наличие доброты и благородства видел у царя и ежедневно общавшийся с ним воспитатель наследника Алексея Пьер Жильяр, но он сумел разгадать в императоре то, что не удалось увидеть другим: "Император отличался кротостью и робостью. Он принадлежал к числу людей, которые постоянно колеблются при чрезвычайных обстоятельствах и которые, благодаря чувствительности и крайней деликатности, способны только заглушать свою волю. Он не имел уверенности в себе и был убежден, что не имеет удачи…"
Ступень десятая БЕСОВСКИЙ ТЕАТР
Осень пришла как-то неожиданно, с непрестанными сильными дождями и ветрами, такими пронзительными, что в комнатах квартиры Романовых дрожали стекла в рамах. Ненастная погода будто нарочно согласовалась с обстановкой в городе, где красный террор наполнял улицы патрулями, ночной трескотней выстрелов, темнотой почти постоянной, ввиду того, что фонари не горели, а электричество в квартиры горожан подавали лишь тогда, когда приходили кого-то арестовывать. Страх поселился даже в сердцах тех, кто был близок к власти, к Чрезвычайке, потому что никто не был уверен, что террор не коснется лично его: неучастие в возмездии красных могло свидетельствовать о том, что ты — контра, а усердие в красном терроре пугало местью со стороны контрреволюционеров. На Андреевском рынке, куда Николай иногда приходил, чтобы купить кой-каких продуктов, продававшихся тайно, из-под полы, он слышал болтовню дерзких языков, говоривших, что погода в Питере потому такая не по времени скверная, что Финский залив негодует из-за того, что топят в нем баржи с белыми офицерами, спекулянтами, а тела казненных в Кронштадте — стрелять врагов трудового народа возили на остров — бросают прямо в воду без христианских обрядов.
Он возвращался домой, выкладывал на кухонный стол нехитрую снедь, которую готовили по очереди его дочери, и хмурый шел к Томашевскому в квартиру, что была напротив, или приглашал Кирилла Николаевича к себе. Они запирались в кабинете и долго делились сведениями, добытыми в городе случайно или из газет, молчали, вздыхали, а после шли за стол, где все так же великие княжны были его главным украшением.
— Так что же, почтеннейший Кирилл Николаич, вы ничего нам не говорите о… о нашем деле? — задавала Александра Федоровна вечером, за ужином, один и тот же вопрос, при этом сразу делая огорченное лицо, точно ответ непременно должен последовать неутешительный. Но один раз Томашевский бодрым, почти радостным тоном ответил:
— Сударыня, я могу порадовать вас. Мне наконец удалось найти нужных людей, которые согласны перевести нас через финскую границу, несмотря на то что у большевиков везде сейчас имеются кордоны или, как сейчас выражаются, пограничные заставы. Начальник одной из таких застав — скаредный мздоимец, берет деньги за то, что при необходимости может закрыть глаза на переход границы в любом направлении. Стоит лишь дождаться, покуда приграничная река рядом с Белоостровом покроется льдом, и вы через три часа после того, как покинете эту квартиру, окажетесь в чужой стране.
— Как здорово! — захлопала в ладоши Анастасия, которая успела устроиться в обучение к одной портнихе, как она говорила, так, для себя, забавы ради, а поэтому последнее время даже не упоминала о загранице.
— Да, на самом деле прелестно! — с благодарностью и несмелым восхищением посмотрела на Томашевского Маша. — Мы будем свободны!
— Кирилл Николаич, — подал голос Алеша, хрустевший черным хлебом, поджаренным на постном масле, — но нам необходимо оружие, ведь переходить границу без оружия опасно.
— Как опасно! — всплеснула руками Александра Федоровна. — К тому же может подломиться лед, и мы все утонем! Неужели нельзя избрать другой, менее трудный путь? Ну, посредством дипломатов? Вдруг этому жадному большевику покажется мало то, что мы ему вручили, и он нас всех предаст? Нет, Томашевский, вы уж, пожалуйста, подыщите для нас иной способ перехода через границу.
Николай отреагировал неожиданно и резко. Последнее время он стал вообще более груб со своими родными, но сам не понимал, отчего это происходит. Он не знал, что, став обыкновенным человеком, поневоле приобрел черты характера, свойственные простым смертным, а раньше высокое назначение, призвание быть лучшим человеком страны заставляли скрывать в недрах души некрасивые черты характера.
— Никаких других способов не будет! — отрезал он. — О каких дипломатах, Аликс, ты здесь говоришь? Кто возьмет на себя смелость перевозить в своем вагоне тебя и меня, приговоренных к смерти, фактически казненных! Да любая оплошность, просчет доставят им крупные неприятности, к которым дипломаты совсем не стремятся. Так что или мы переходим через границу зимой, по льду, через «окно», предоставленное нам начальником большевистской заставы, или мы остаемся в России на неопределенно долгий срок. Выбирай!
Александра Федоровна, плакавшая последнее время очень часто, разразилась слезами. Она совсем некстати обвиняла мужа в жестокосердии, снова говорила о своей несчастной судьбе, вспоминала о своем заветном друге Анне Вырубовой и, причитая, говорила, что никуда не уедет из России, покуда не будет знать, что случилось с ней. Николай, когда его супруга успокоилась, мрачно сказал:
— Вчера я был в местной библиотеке, устроенной, — он усмехнулся, — для народа, трудового народа. Просматривал старые газеты, ещё за прошлый год. Так вот почти все они полны решениями судовых и полковых комитетов, приговоривших Аню к смертной казни. Скорее всего, её на самом деле расстреляли или как германскую шпионку, или при Временном правительстве как большевичку.
— Боже мой, какой ужас! — прижала Александра Федоровна ладони к своим ещё мокрым от слез щекам. — И во всем этом я обвиняю тебя, твою бесхребетность, мягкотелость! Если бы ты не отказался от короны, Аннушка была бы жива! Да, да, теперь я могу сказать тебе это, Ники, — я просто презираю тебя за бесхарактерность.
И Александра Федоровна тяжело поднялась из-за стола, оперевшись на него, и величавой походкой императрицы удалилась из столовой.
— Ведь ты простишь маму, правда? — положила Ольга свою маленькую ладонь на руку отца, видя, как сжался он от обиды. — Ты понимаешь, что все это источило мамины нервы.
— Нет, нет, я не обижаюсь, — быстро проговорил он.
Обида на самом деле улетучилась, а вместо неё возникло какое-то странное чувство, будто сказанное жене о расстреле Анны Вырубовой неправда, но почему ему так показалось, он бы ответить не смог. Вдруг в памяти возник и тут же исчез какой-то коридор, чья-то фигура, лицо которой было невозможно рассмотреть из-за полумрака. Николай не помнил, где видел эту сцену, и потому сразу забыл о ней.
— Не хотите ли прогуляться, Томашевский? — предложил он уже совершенно беззаботным тоном, и через пять минут мужчины выходили во двор.
Когда они шли по Большому проспекту, Николай заговорил:
— Кирилл Николаич, у меня такое впечатление, что я попал в капкан и мне невозможно вырваться из него, как я ни бьюсь.
— Вы имеете в виду необходимость вырваться с семьей из России? спросил Томашевский.
— Нет, не только. Скорее всего, дело даже в обратном…
— Не понимаю вас.
Николай промолчал. Ему не хотелось открываться перед этим человеком полностью, разоблачаться перед ним. Он считал, что не вправе делать этого низкородного поручика, даже незаконнорожденного, поверенным в своих сердечных мытарствах, но Томашевский уже не раз доказал свою преданность, а поэтому Николай наконец решился:
— Понимаете ли, моя жена рвется прочь из России, а я не хочу уезжать, но и бросить родных, остаться здесь, отправив их за границу, я тоже не в силах. Знайте, я… я убил Урицкого, и это, как вы сами понимаете, вызвало террор со стороны красных.
— Вы?? — сильно удивился Томашевский. — Но ведь газеты писали о каком-то Каннегиссере?
— Нет, он только лишь легко ранил председателя Чрезвычайки, а застрелил его я. Но даже не в этом дело, не в этом одном! — с каким-то мучением на лице произнес Николай. — Я опять, в который уже раз, почувствовал, что явился причиной чего-то страшного для русского народа. Я почти постоянно нахожусь в состоянии самобичевания, я очень страдаю, а поэтому не считаю себя вправе покидать Россию в такой трудный момент. Не знаю, что мне и делать даже!
Томашевский видел, что его кумир на самом деле страдает, и попытался довольно неуклюже его утешить:
— А что вы сможете сделать здесь один? Если бы вы хотя бы встали во главе белого воинства…
— Да не нужен я вашему белому воинству, — даже топнул ногой Николай. Я хочу драться с большевиками один или, по крайней мере, с несколькими единомышленниками! Яведь… царь, я продолжаю ощущать в себе помазанника Божьего! Я теперь другой, не такой, как прежде, и я твердо знаю, что верну себе престол, а стране — порядок, силу, могущество!
Томашевский с улыбкой покивал головой, и этот жест был скорее проявлением снисхождения, а не согласия. Вдруг чья-то резкая команда "Запевай!" заставила их повернуть головы — по проезжей части проспекта шло подразделение красноармейцев, направляясь в сторону Романова и его попутчика. Песня, бравурная, лихая и какая-то злая в то же время, понеслась над улицей, и двадцать молодых солдат в длинных серых шинелях старательно выводили немудреные слова. Они протопали мимо, держа под мышками какие-то узелки, кое у кого торчали березовые веники. Оставив после себя пряный банный запах, солдаты ушли в сторону Кадетского корпуса, а Томашевский вдруг предложил:
— Николай Александрович, а не сходить ли нам с вами в баньку? На Среднем недурная баня есть — по нынешним временам это большая редкость. Вход бесплатный — военный коммунизм, как говорят большевики, да ещё и пар есть. Ей-Богу, соглашайтесь! После бани, сами увидите, все ваши проблемы будут решены легко и просто. Пойдемте! Успеем до начала ночных облав!
И Николай, улыбнувшись, согласился.
За исключением нескольких купаний с разбитными товарищами в период неспокойной, разгульной юности, ему больше никогда не приходилось являться обнаженным перед подданными. Это было бы просто немыслимо. Теперь же он заходил в раздевалку бани, где пахло вениками, дешевым мылом, нечистым бельем и нечистыми телами, чтобы слиться со своими бывшими подданными в едином стремлении насладиться теплом, водой, чувством послебанной истомы, то есть стать равным с ними до последней черты, потому что нагота и стремление к удовлетворению этой примитивной плотской потребности и были бы сейчас доказательствами того, что даже император — это всего-навсего смертный, обыкновенный человек.
— Раздевайтесь, ваше величество, — шепнул Томашевский, и Романов, смущаясь, стал снимать с себя одежду, а Томашевский уже стоял перед ним голый, прекрасный, куда более сильный и стройный, чем бывший властелин России. Николаю вдруг показалось, что этот молодой атлет нарочно привел его в баню, чтобы продемонстрировать свои мышцы, унизить его наглядным доказательством того, что молодой и сильный мужчина может быть куда счастливее начинающего стареть, невысокого ростом помазанника. Но когда зашли в мыльную, а потом в парилку, баня постепенно увлекла Николая, и он скоро уже не замечал ни своей наготы, ни наготы посторонних — чувство блаженства от мытья захватило его.
Когда, помывшись, Томашевский и Николай одевались, Романов, натягивавший на ногу сапог, вдруг услышал, как кто-то проговорил над ним, сидящим, хорошо поставленным, воркующим баритоном, громко и немного декламаторски:
— Ба, ба, ба, кого я вижу! Да это же царь, истинный царь Николай Второй!
Николай сумел удержаться, чтобы не вскинуть голову. Продолжая заниматься сапогом, поднял лишь одни глаза, да и то медленно, как бы нехотя, с недовольством, что-де оторвали от важного дела. Томашевский же так и замер в выжидательной позе, приготовившись, как видно, расправиться с тем, кто позволил раскрыть инкогнито Николая.
— Что угодно, гражданин? — спросил Николай у стоявшего над ним мужчины средних лет, толстый живот которого свисал над короткими, по колено, подштанниками. В руке мужчина держал мокрую мочалку и веник, его длинные, до плеч, волосы были мокрыми и тоже походили на мочалку из рогожи. — Вы ко мне обратились?
— Да, конечно, к вам, сударь, то есть, извиняюсь, товарищ! Ведь вы вылитый Николай Второй, его императорское величество. Уж я-то, Тарас Златовратский, вам это прямо скажу. Правда, лоб немного приподнять бы да скулы выделить, но если приклеить бороду да чуть-чуть коричневым гримом вот здесь и здесь пройтись, так вас и не отличишь от бывшего государя, ну честное благородное слово!
— Слушай, — схватил Томашевский незнакомца своей железной рукой чуть выше локтя, — а ну-ка, шагай отсюда, гражданин хороший, а то я тебе такую бороду к твоей харе приделаю — вовек не отвалится!
— А позвольте-ка, позвольте! — уже не баритоном, а басом заревел мужчина с длинными волосами. — Вы это что себе позволяете? Я Златовратский, уважаемый человек, и не позволю, чтобы всякие там рожи с усами меня за руки хватали! Я, собственно, и не к вам-то обратился, а вот к госпо… то есть товарищу. Я ему роль предложить хотел, главную роль в своем спектакле. Режиссер я, понимаете, ре-жи-ссер! Да вы, уверен, и слова-то такого не знаете!
Николай, справившись с сапогами, молча направился к выходу, но режиссер вцепился в его руку клещом, упрямо замотал своими волосами и загудел:
— Нет, не пущу, не пущу! Такой типаж на дороге не валяется, я вас заставлю играть, заставлю!
Николай уже хотел было шепнуть Томашевскому, чтобы тот задержал человека в коротких подштанниках, покуда он не покинет баню, но что-то вдруг заставило его взглянуть на Златовратского более снисходительно:
— Позвольте, а о чем ваш спектакль?
— Как же? Разве я вам не сказал? — удивился режиссер, делая взмах веником. — Он называется "Царица и Распутин", да, такая вот историйка. Один только что вернувшийся из-за границы известный русский литератор написал для моего спектакля пьесу. Честно говоря, я и сам не уверен, что описанная в пьесе история — правда. Но вещь злободневная, в духе времени, и культпросвету очень понравилась. Конечно, это — фарс, где царь и царица выставлены в весьма невыгодном для них свете, однако свержение старого режима, всеобщий народный революционный подъем оправдывает содержание. У меня прекрасная царица, восхитительный Распутин, только Николай Второй никудышный. Умоляю вас, батенька, приходите. Денег, конечно, не дам, но и зачем они, если от культпросвета замечательный паек хлебом, луком и прованским маслом пробить удалось. Где вы такое богатство сейчас найдете? Ну, согласны?
Николай, покуда он слушал страстные уговоры Златовратского, менялся в лице. Он уже представлял себе театральное действо, призванное опорочить тех, кто для всего мира уже был не только опорочен, втоптан в грязь, но даже физически убит. Теперь нужно было лишь посмеяться над глупыми и развратными членами последней императорской семьи — и наступил бы полный конец Романовых, убитых и осмеянных.
— И вам не стыдно глумиться над теми, кого расстреляли без суда только за то, что они были родственниками царя? Ведь убили даже детей Николая Второго? — очень тихо спросил он, едва удерживаясь от того, чтобы не вцепиться в жирное лицо режиссера.
— Конечно, — немного стушевался Златовратский, — мне больше понравилось бы ставить Ибсена или даже водевили Каратыгина, но время сейчас такое… мерзкое время. Его нужно пережить. Впрочем, даже наш спектакль должен получиться очень привлекательным. Да и Бог с ними, с этими Романовыми! Им-то уж точно не придется смотреть мой спектакль. Ну, умоляю вас, батенька, ну приходите завтра к четырем часам на Средний, сорок восемь, это совсем недалеко отсюда. Ей-ей, вам понравится. Да и какое вам дело до Николашки? Говенный, скажу я вам, был царек, а то всего бы этого, что сейчас в стране творится, не получилось бы…
Последние слова Златовратский произнес почти шепотом и улыбнулся умно и многозначительно, а Николаю вдруг стало очень стыдно за то, что он был таким скверным императором. Когда они вышли на улицу, Томашевский негодующе заговорил:
— Ну почему вы меня удержали и не дали набить этому борову морду?
— А я вас и не удерживал, — спокойно возразил Николай, и они не разговаривали дорогой.
Утром он проснулся с глубокой уверенностью в том, что в театр Златовратского ему все-таки нужно пойти. Гнало его туда соображение сложного порядка: с одной стороны, хотелось взглянуть на пьесу, и если она на самом деле порочила его честь, честь Александры Федоровны, то следовало устроить скандал, убедить режиссера, что демонстрировать это действо людям нельзя; во-вторых, его страстно тянуло взглянуть на себя со стороны, пусть даже на себя — актера, на себя в другом человеке, а в-третьих, если бы он согласился принять участие в представлении в роли царя, то есть в роли себя самого, то можно было представить бывшего императора совсем не тем, каким его хотели видеть автор пьесы и режиссер. И, в-четвертых, играя самого себя, можно было вновь превратиться в императора, хоть и облаченного в театральную мантию, с короной из папье-маше.
— Батенька, вы пришли, пришли! — бросился к Николаю Златовратский довольно прытко для своей комплекции, когда Романов, разыскав театр, находившийся в высоком шестиэтажном доме, вошел в зал для представлений. Вот, есть же у меня ещё красноречие, если я сумел убедить вас, моего дорогого… простите, не знаю имени-отчества…
— Николая Александровича…
Златовратский в радостном удивлении вскинул на лоб свои густые брови:
— Великий Аполлон, какое совпадение. Да уж не Романов ли вы по фамилии?
— Представьте себе, Романов, — скромно ответил Николай.
Режиссер жестом уставшего человека провел пухлой ручкой по вспотевшему лбу:
— Да, да, я понимаю, я уже где-то читал о том, что однофамильцы порой обладают способностью как-то обмениваться флюидами души, а поэтому у них появляется сходство в физиономиях и характерах. Метемпсихоз, или что-то в этом роде. Короче, галиматья одна, галиматья. Но займемся делом, делом! воскликнул Златовратский громко, хотя до этого говорил вполголоса. Гример, Петр Петрович, скорее обработайте мне Николая Александровича бородка, грим, все, как нужно, и тотчас на сцену.
— Но я ещё не дал вам согласие на свое участие в спектакле, попытался сопротивляться Николай, но режиссер лишь прорычал:
— Нет уж, батенька, если попали в мои объятия, то, фигурально выражаясь, я вас девственником на свободу не выпущу — вы сотворите со мной акт творческого соития!
Три женщины, находившиеся на сцене, хохотнули и стыдливо закрыли лица листочками, на которых, видно, были тексты их ролей. А Николая уже увлекли в гримерную, где седенький и юркий Петр Петрович за десять минут, приклеив бороду, мазнув кое-где гримом, посматривая при этом на фотографию Николая-императора, стоявшую на столике, сотворил из ошеломленного Романова того, кто больше двадцати лет правил Россией.
— Потрясающе! Апокалиптически! — восторженно воздел вверх свои короткие руки Златовратский, когда Николай, очень сконфуженный и боявшийся того, что кто-нибудь сейчас же вызовет чекистов, вышел на сцену. — Ну, если чудеса на самом деле случаются, господа актеры, то вы сегодня стали свидетелями настоящего чуда. Любуйтесь — перед вами настоящий император Николай Второй!
Актеры на самом деле в немом удивлении, с восторгом уставились на него, а один из них вдруг порывисто встал со стула, бросил на сцену свои листки и, громко топая, спустился вниз и устремился к выходу, говоря дорогой:
— Такого свинства, гражданин Златовратский, я вам не прощу! Я репетировал, репетировал, а вы меня побоку? Жаловаться буду, ой как буду!
Но режиссер только рассмеялся ему в спину, сказав, что цари приходят и уходят, а театр остается.
— Ну-с, так займемся творчеством, — быстро-быстро потирая руки, масляно улыбавшийся, счастливый, заговорил Златовратский, когда соперник Николая по сцене удалился. — Итак, господа актеры… да, я должен вам разъяснить, что имею полное право называть вас не гражданами, не товарищами, а именно господами: вы господа потому, что стоите над всеми, что способны принимать любые обличья, делаться королями, царями, герцогами, нет, становиться даже лучше всех них — вы можете заставлять великих плакать, да-с! И вот, мы сейчас играем пьесу, где главным действующим лицом будет наш недавний неудачник-царь. Для Николая Александровича, как для вновь явившегося, напомню вкратце содержание: живет-де царь Николай, имеет жену Александру, но растяпа император долго, очень долго, благо занят государственными делами, не замечает того, что в его спальне уже давно свил гнездо страшный Григорий Распутин. Он-то и верховодит в царском дворце, постоянно давит на царицу, а она, куда более сильная, чем Николай, давит на него. Но царский премьер-министр Витте — его у нас играет Гаврил Панкратьич, — при этом со стула встал и поклонился залу с пустыми креслами щуплый человечек с прямым пробором, — открывает глаза Николаю на происки его жены и Распутина…
— Я позволю с вами не согласиться, — привстал со стула, который ещё три минуты назад занимал обиженный претендент на роль царя, Николай.
— В чем дело? — вскинул брови Златовратский.
— Распутин появился во дворце, когда Витте ещё не занимал поста премьер-министра.
Златовратский обескураженно ударил пальцем по своему шишковатому носу и сказал:
— Г-м, впрочем, это детали, а для нас важнее другое, тем более мы не вправе вмешиваться в текст пьесы, поелику она одобрена высшими инстанциями. Итак, дальше. Царь, оскорбившись, пытается изгнать Распутина из дворца, но этому препятствуют не только Александра Федоровна, но и дочери царя, обольщенные расстригой…
— Не понимаю, при чем здесь расстрига? — пожал плечами Николай.
— Ну как же? — пробасил Златовратский, отбросив назад свои густые, львиные космы. — Разве вам неизвестно, что Распутин прежде обладал священническим саном?
— Право, я об этом ничего не слышал. Да и вообще, гражданин Златовратский, мне совершенно не нравится идея вашего спектакля. Скажу более, факты, представленные в пьесе, не соответствуют истине. Для чего же вы хотите представить её народу?
— Да постойте, постойте, милейший! — загудел Златовратский. — Факты здесь не столь важны, как ключевая идея — гнилая природа царизма! Ну вы послушайте все-таки, что дальше было! Николай узнает о кознях Распутина и решается его убить! Он, именно он и был тем, кто стрелял в Гришку у Юсупова, а Феликс и Пуришкевич были только ширмой! Ну разве не оригинальный поворот сюжета? Мы, художники, вправе фантазировать, ведь главным для нас является убедить зрителя, убедить!
— В чем же убедить? — холодея от приступа гнева, готового выплеснуться наружу, тихо спросил Николай. — В том, что государь России, император, был способен запятнать свои руки кровью какого-то плебея?
И вдруг внутренний голос, насмешливый и противный, явившийся неизвестно откуда, прогундосил Николаю: "Но ведь ты оказался способен убить плебея Урицкого? Почему бы тебе не убить и Распутина?" Этот довод так поразил Николая, что он, не слыша того, что говорил ему Златовратский, кивнул и произнес:
— Гражданин Златовратский, я согласен — буду играть в вашем спектакле, но уж не взыщите, если некоторые детали мне придется… изменить по своему вкусу.
Златовратский, точно резиновый мяч, ударившийся об пол, ловко подскочил к Николаю, обнял и расцеловал смущенного и негодующего на себя вновь испеченного актера.
Они стали репетировать, репетировали каждый день, и с каждым днем Николай все глубже и глубже, точно человек, увязающий в трясине при каждом новом движении, входил в роль. Нет, она не нравилась ему своим текстом — он был банален и поверхностен, не нравилась задачей, скрытой в ней и призванной опорочить царский престол навеки. Она доставляла истинное наслаждение потому, что он снова был царем, мог безо всякого опасения сбросить с себя маску простого советского гражданина и под видом игры быть тем, кого ощущал в себе.
Кроме того, ему удалось повернуть ход пьесы в таком направлении, придать ей такой смысловой ракурс, что даже порочная по замыслу драматурга Александра Федоровна превратилась в страдалицу, в жертву, а он сам выглядел не мужем-рогоносцем, а мучеником, а потом и страстным защитником чести своей семьи. Стоило ли говорить, что приходилось поправлять режиссера в десятках мелочей, касающихся стиля поведения при дворе и разных бытовых подробностей.
— Батенька, батенька, да вы просто прирожденный царь! — удивлялся поначалу Златовратский. — Да откуда вы все это знаете? Уж не из придворных ли? Не в истопниках ли в царском дворце служили?
— Не в истопниках… — уклончиво говорил Николай и обычно опускал глаза, потому что внезапно понимал, что допускает оплошность, непозволительную и смертельную, потому что в нем могли угадать настоящего императора, и тогда застенков Чрезвычайки ему было бы не избежать.
А Златовратский только поначалу задавал такие пугающие вопросы. Потом он лишь хвалил его за игру, умелую, тонкую, ровную и очень натуральную, не догадываясь о том, что актер играет самого себя. Но по мере того, как дело с подготовкой спектакля приближалось к завершению, режиссер перестал даже и хвалить. Казалось, он все чаще вглядывается в него, причем старается смотреть на своего лучшего актера украдкой, незаметно. Златовратский то и дело постукивал пальцем по своему мясистому носу (что было у него жестом, обозначающим глубокую задумчивость) и совсем перестал называть Николая господином Романовым, хотя всех актеров продолжал величать по фамилиям.
— …Гражданин начальник, все то, о чем я хочу вам поведать, — начал Златовратский, изображая на своем рыхлом лице смущение и растерянность, может быть, сильно удивит вас, но молчать я больше не в силах, ибо понимаю важность сделанных мною наблюдений…
Товарищ Бокий, заменивший убитого Урицкого на посту председателя Петроградской Чрезвычайки, резко одернул Златовратского, о визите которого доложили Бокию именно тогда, когда он, энергичный, плотный мужчина в новой чесучовой паре и в кругленьких очках, собрался пить чай:
— Прошу вас, говорите короче — мне мое время дорого!
— Да, постараюсь покороче… — затряс Златовратский своими отвислыми бульдожьими щеками. — Я — режиссер театра "Красная сцена", мы на Среднем проспекте, сорок восемь, свое пристанище имеем. И вот, пошел я как-то раз в баню и встретил там человека, нужного для роли последнего царя России.
— Ну так что ж тут странного? Мало ли встречается похожих людей? Мне лично говорили, что я похож на фон Бюллова, но я даже не горжусь по этой причине.
— Позвольте, я договорю, — затарахтел Златовратский, боявшийся, что главный чекист Петрограда прогонит его раньше, чем он сумеет разъяснить суть проблемы. Собственно, для самого Златовратского вся проблема имела личное свойство: он, уверившись в том, что приглашенный для спектакля человек в действительности оказался настоящим Николаем Вторым, конечно, был поражен, но по сути дела, этим личным недоумением все могло бы и кончиться, если бы режиссер Златовратский не опасался того, что и ещё кто-нибудь прозрел в его актере персону, о которой говорили как об убитой за многочисленные грехи перед трудовым народом. Тогда Златовратского могли бы обвинить в покровительстве государственному преступнику, да ещё в том, что он, режиссер, позволяет бывшему царю вредно влиять на умы народа.
Когда товарищ Бокий выслушал рассказ Златовратского, произнесенный с чувством и патетикой, он улыбнулся лишь одними своими толстыми губами и сказал:
— Гражданин режиссер, а вы не… заработались на сцене? Говорите, у вас играет Романов Николай Александрович, как две капли воды похожий на последнего царя, да ещё играет самого императора? Это оч-чень, оч-чень любопытно! Ну что за чушь вы говорите! — возвысил Бокий голос. — Отрываете меня от важных дел и тем самым наносите вред работе Чрезвычайной комиссии! Ступайте домой, гражданин режиссер, отдохните, выпейте брому и положите горячую грелку к ногам — и тогда вам перестанут мерещиться живые императоры. Ступайте, я вами недоволен!
И Златовратский, с лица которого пот стекал ручьями прямо на его режиссерскую манишку, извиняясь за причиненные хлопоты, задом попятился к дверям. Но когда дверь тихонько затворилась, Бокий, посидев за своим обширным столом со снятыми очками, поднял трубку с телефонного аппарата:
— Августа Львовна, Сносырева скорее пригласите-ка ко мне.
Спустя минут пятнадцать в кабинет начальника ЧК протиснулся субъект, чей отглаженный костюм и пестрый галстук, повязанный под воротником беленькой сорочки, скорей свидетельствовал о том, что гражданин являет собой завсегдатая бильярдных и ресторанов, чем сотрудника Чрезвычайки. Но Бокий обратился к вошедшему с веселой почтительностью:
— А, здравствуйте, наш Пинкертон! Вижу, гардероб у вас все ширится, несмотря на наше непростое время.
— А в моей работе, гражданин начальник, костюм играет роль наиважнейшую — куда уж мне без щегольства, вот и трачусь, — подергал себя за тонкий, загнутый вверх усик чекистский Пинкертон.
— Слушай, Сносырев, — перешел на деловой тон Бокий. — Задание тебе интересненькое дать хочу: сходи сегодня на Средний проспект, дом номер сорок восемь. Есть там один театрик, так вот, смешно сказать, — Бокий улыбнулся с миной легкого презрения, — играет там царя Николая некий Николай Александрович Романов. Говорят, что он похож на бывшего царя, как я на… Бокия. Глянь, не поленись, а дальше мы с тобой обсудим, что делать…
В тот день Николай был в особенном настроении, и от него, совсем забывшего об осторожности, буквально струились флюиды царственного величия. Странно, но он здесь, на сцене, ощущал себя царем ещё больше, чем был им прежде, когда обладал короной. Тогда приходилось постоянно быть настороже, быть похожим на жука, посаженного в банку, стесненного стеклом, но открытого для взоров всех желающих. Теперь же он осознавал себя и как царя (но только в роли), и как человека, не боящегося совершить какой-нибудь нецарский поступок, а поэтому результат получался ошеломляющий.
Сносырев сидел на последнем ряду небольшого зала и следил за репетицией в театральный бинокль, нарочно прихваченный им. Пришел чекист в театр с уверенностью в том, что над Бокием кто-то подшутил, а тот решил перестраховаться, но теперь он, видевший Николая-царя не раз, когда тот выходил к народу, весь горел от какого-то странного чувства: он знал, что император расстрелян, и вот теперь здесь, в Петрограде, вблизи от зоркого глаза Чрезвычайной комиссии, в костюме актера он видел того, кто должен был лежать в земле. Боясь ошибиться, стать посмешищем среди сотрудников ЧК, Сносырев даже самому себе не сказал определенно, вроде: "Да, я и впрямь видел сегодня живого Николая Романова, недавнего царя", но какое-то упрямое ощущение подсказывало ему: "Не сомневайся, ты видел Романова, последнего царя", и какой-то ужас, перемешанный с радостным предчувствием огромной удачи, сулящей быстрое продвижение по служебной лестнице, будоражил сыщика.
"Нет, товарищ Бокий, — думал он, — я тебе покамест о своих чувствах ничего не скажу. А вдруг этот человек с бородкой, с нелепыми эполетами на плечах, с сатиновой голубой лентой и со звездами на груди на самом деле каким-то образом уцелевший царь Николай. Ну, арестует его Бокий, а слава-то вся ему и достанется, ему одному. А я не так поступлю — я вначале соберу побольше фактов, в Екатеринбург инкогнито съезжу, разыщу товарища Юровского, товарища Белобородова и товарища Голощекина, разыщу, обязательно разыщу, а потом мы тебя, голубчик Николашка, вместе с вышеназванными товарищами, не сумевшими исполнить приказ товарища Свердлова, в одну камерку-то и посадим. И будешь ты им рассказывать, какие кушанья едал за своим царским столом…"
И, досмотрев репетицию до самого конца, Сносырев незаметно встал и так же незаметно — точно летучая мышь порхнула — вышел из зрительного зала. Но если бы внимание сотрудника ЧК не было приковано к сцене так прочно, он бы сумел заметить, что с противоположной стороны кресел зала за ним внимательно наблюдает какой-то невидный по наружности человек, прикрывающийся сложенной вчетверо газетой. И вскоре после того, как Сносырев ушел, он тоже встал и вышел из театрального зала, где царствовала Мельпомена в сотворчестве с царем Николаем.
Приближался день премьеры, и успокоившийся насчет императорского происхождения своего актера Златовратский, задерганный, но счастливый, радостно сообщил труппе, что по всему Петрограду уже развешаны афиши, поэтому ожидается полный зал.
— Это очень ответственное представление, господа, очень. Для меня особенно, ведь после большевистского переворота я ещё ничего не ставил, хотя прежде мои постановки были лучшими в Императорском Александринском театре, — и режиссер с многозначительной улыбкой посмотрел на Николая. Так что будьте готовы, господа, и пусть сам Аполлон возложит на ваши головы венки.
Николай тоже ожидал премьеры с большим волнением. Во-первых, он на самом деле хотел сыграть роль Николая Второго сильно и правдиво, но что касается отношения к самому представлению, то оно в последнее время переменилось. Он понял, что его правдивая игра, некоторые изменения, которые удалось внести в содержание пьесы, ничто по сравнению с той ложью, которая будет представлена русским людям. И вот идея, обжигающая, как огонь, неожиданно взбудоражила все его естество. "Да, я сыграю в спектакле, — твердо решил Николай, — но потом, когда действие закончится, я заговорю со зрителями. Я признаюсь им в том, что я и есть тот самый бывший император России, что я лучше, чем все другие, лучше, чем драматург и режиссер, знаю, что творилось в моем дворце. Я поведаю им правду, расскажу о том, что меня и мою семью безо всякого суда хотели казнить в подвале екатеринбургского дома. И я уверен, что мои слова дойдут до каждого жителя России. Пусть тогда большевики посмеют снова разделаться с нами без суда. Нет, теперь суда не избежать, и они предстанут на нем не в качестве обвинителей, а в роли обвиняемых. Откроется шумный процесс, зрителями которого станут многие иностранные журналисты. Уверен, что меня суд оправдает, и тогда, удовлетворенный, я уеду из России и буду ждать того дня, когда народ поймет зло, принесенное ему новой властью".
Утвердившись в таком намерении, Николай повеселел. Жизнь для него наполнилась глубоким смыслом, обозначенным ясной целью. Но утром в день премьеры он, не говоривший ничего своим родным об участии в спектакле, во всем признался Томашевскому и объявил о своем сегодняшнем намерении. В конце своей долгой речи Николай сказал:
— Голубчик, прошу вас, если я не вернусь к одиннадцати часам вечера, постарайтесь увести моих родных из дома. Вот там, в комоде, все наши бриллианты. Они помогут вам…
Томашевский с горячностью принялся доказывать ему, что все задуманное им нелепо, не имеет никакого смысла, потому что самоубийственно.
— Постойте, — громко шептал он, схватив Николая за руку, — но едва вы обратитесь к народу, объяiвите себя царем, как над вами будут смеяться. Практически все знают, что царя убили, и вас примут всего-навсего за сумасшедшего. Хорошо, если после этого вам удастся уйти восвояси, но не исключено — и так скорее всего и случится, — что быстро вызовут чекистов и вас препроводят в какой-нибудь подвал. И уж там-то вам не удастся убедить их, что вы на самом деле переиграли, вжились, так сказать, в роль, почувствовали себя царем. Свяжутся с уральскими большевиками, потребуют проверить, на самом ли деле вас с семьей казнили, возможно, допросят с пристрастием Юровского и Белобородова, и выяснится, что они не сумели выполнить приказ большевистского правительства. И всё — теперь уж вас с семьей непременно казнят, и сделают это со злорадством, с ещё большими издевательствами, ибо постараются жестокостью компенсировать свою прошлую неудачу.
Николай, молча слушавший Томашевского, гладил рукой плюш скатерти, менявший свой цвет так же быстро, как сменялись события жизни последнего времени. Наконец сказал тоном, не терпящим возражений:
— Я иду в театр, это решено. Если Бог Русской земли ещё не совсем забыл своего помазанника, то бесовское представление, в котором я участвую, окончится для меня благополучно. Я ищу оправдания себя народом, моим народом, ищу его суда…
Томашевский тяжко вздохнул и голосом, полным искреннего сочувствия, сказал:
— Вы найдете не суд народа, а суд этой богопротивной власти. Но я не способен удержать вас, не имею права. Верьте, что я сделаю для вашей семьи все, что в моих силах.
Николай явился в театр за час до представления, и Златовратский, надевший на себя широкую артистическую блузу с бантом, повязанным на шее с изысканной небрежностью, бросился обнимать "царя".
— Ах вы, душечка Николай Александрович, государюшка вы наш. Счастлив, что пришли, — боялся, что поджилки у вас в последний момент дрогнут, как у всех начинающих… царей-то. Ну ступайте, ступайте в гримерную. Пусть вас скорей преобразят. Текст с испугу не забыли?
Загримировавшись, облачившись в мундир с андреевской лентой через плечо, Николай подошел к зеркалу. Как ни странно, в этом театральном костюме с чужого плеча он казался сам себе царем ещё больше, нежели во фраке или даже в горностаевой мантии. Царственная осанка, выражение лица, выработанное прежде, в годы правления, облагораживали этот нелепый мундир с эполетами из елочной мишуры, и, в свою очередь, эти фальшивые знаки власти, нужные, чтобы выделить царствующую особу из среды подданных на сцене, начинали действовать по-настоящему, будто тело истинного царя превратило их в подлинные инсигнии власти, украшавшие сейчас Николая.
Через отверстие в кулисе он смотрел на то, как в этом небольшом, когда-то домашнем театре богатого домовладельца собираются зрители: солдаты, даже не снимавшие шинелей, курившие тут же, сидя в креслах, горожане в пальто, в тулупах по причине того, что гардероб не работал, а в зале было холодно. Несколько керосинок, выхватывая из темноты небогатую лепнину стен, окрашивали лица зрителей в красную охру, отчего казалось, будто зал наполнен людьми, только что вышедшими из бани и забредшими в театр так, скуки ради, чтобы потешиться, глядя на то, что даже государь всей России имел домашние неприятности, а поэтому происходившее с ними сейчас — сущие пустяки по сравнению с тем, что приходилось переживать когда-то царю. Вдруг громко застучали подкованные сапоги, и в зал решительно, уверенно вошли какие-то люди в кожанках, громко и оживленно разговаривавшие на ходу. Они с шумом расселись в первом ряду, вытянув ноги вперед, к просцениуму, по-свойски облокотились на спинки кресел, и тут же Николай услышал голос Златовратского, приглушенный и нервно взвинченный:
— По местам. Начинаем, начинаем.
И тотчас пожилая пианистка, продолжавшая мять зубами папироску, ударила по клавишам, извлекая из инструмента что-то инфернальное, громоподобное, и занавес медленно поднялся.
Николай играл так же, как и на репетициях, — просто он и не мог вести себя на сцене по-другому, не играя собственно, а изображая самого себя. Рыдала, заливаясь настоящими слезами, истеричная Александра Федоровна, неистово мял её в своих объятиях Гришка, таращил при этом страшно обведенные коричневыми кругами глаза, бранился, как извозчик, часто плевал на пол и деланно рыгал. А царь был сдержан и красив, величественен и царственен. Николай прислушивался не к своему голосу, не к голосам партнеров, а к залу. Ему страстно хотелось вызвать у зала сочувствие к себе, к своей сценической жене, но он слышал лишь нескрываемый смех, частые реплики: "Вот и доигралась, сука!", "Допрыгалась, коза немецкая!", "Так её, Гриша, так, вали быстрее, чаво медлишь-то?". Доставалось и самому самодержцу: "А энто тебе за Ходынку, Николашка!", "Воскресенье Кровавое учинить, поди, легче было, чем с бабой своей справиться! Молодец, Гришка! Тебе царем быть, а не этому бессильному!". Его реплики и монологи встречались не с пониманием, на что рассчитывал Николай, стараясь обратиться к человеческим чувствам зрителей, а ехидным, злым смехом.
"Да, да, я был прав, — думал он про себя, когда стоял за кулисой, едва закончится действие, я выйду из-за занавеса и обращусь к зрителям. Если уж мне не удалось настроить их положительно ко мне своей игрой, то я просто обязан открыться перед ними…"
Почти с натуральной ненавистью он расстрелял в Распутина весь барабан нагана, снабженный холостыми патронами, и снова вызвал этим недоброжелательные крики из зала, успевшего полюбить симпатичного и похожего на боiльшую часть зрителей Гришку, произнес заключительный монолог, замечая, что зрители презрительно машут в его сторону руками и уже собираются уходить, и спектакль закончился. Заскрипела лебедка, опускающая занавес, раздались аплодисменты, довольно энергичные. Златовратский, счастливый, как парнасский бог, велел поднять занавес и вывел актеров на сцену. Зрители кричали:
— Гриша, ну и молодец! Научил царя…
А когда режиссер, взяв Николая за руку, вывел его к рампе, преподнося зрителям "свое детище", то послышалось шиканье, раздраженно-злые выкрики, и Николай вдруг понял, что обратиться к зрителям нужно сейчас, именно в эту минуту, когда зал его так ненавидит. Спектакль на самом деле сыграл над ним злую шутку: он хотел спасти себя в глазах своего народа, но оказалось, что царь в его исполнении лишь вызвал негодование тем, что явился перед ним таким же недоступным, величественным, каким и был раньше, когда эти люди гнули спину от зари до зари, голодали, а когда он звал их на войну, безропотно шли умирать.
Он набрал в легкие воздух, видя при этом, что люди с первого ряда, облаченные в кожу, смотрят на него не с интересом, а с презрительной небрежностью, очень довольные реакцией зала, и произнес:
— Русские люди…
Но продолжить фразу не сумел, потому что как-то очень неожиданно, будто кто-то подрубил трос, опустился или даже рухнул занавес, отрезав его от внимательно насупленных, удивленных или ждущих лиц зрителей, и чья-то сильная рука рванула его в сторону так, что Николай едва не потерял равновесие, едва не упал на сцену, недоумевающий, а вслед за этим сцену качнуло, и какая-то горячая волна вместе со страшным, оглушающим, адским грохотом отбросила Николая в сторону, ударила о выступ стены, но та же сильная рука подняла его и снова повлекла в недра театра, и он уже не обращал внимания ни на острый запах гари, перемешавшийся с запахом известковой пыли, ни на дикие стоны людей, слышавшиеся где-то позади него. И именно в эту минуту Николай был уверен, что заслужил соразмерное его греху воздаяние.
***
День императора начинался рано — в девять, а то и в восемь жизнь во дворце закипала. Если Николай в это время жил в Царском Селе, то сразу из спальни спешил в бассейн, выполненный в мавританском стиле, потом на легкий завтрак, который заканчивался уже к девяти часам, и после этого направлялся в свой кабинет работать, где до десяти часов его деятельность заключалась в просмотре государственных бумаг с проставлением на них пометок. Просматривал обычно аккуратно, внимательно, даже если дела были скучными, что случалось часто, почти всегда. Но он все работал и работал, потому что считал это занятие своей прямой обязанностью, государственной необходимостью, а вечером заносил в свой дневник порой следующее: "Много пришлось читать; одно утешение, что кончились наконец заседания Совета министров…"
Но чтобы выносить нужные резолюции, необходимо было быть не только осведомленным в сути дела, но и обладать способностью предвидеть, какой результат наступит по принятии того или иного решения. А Николай, особенно в первые годы правления, не слишком разбирался во многих проблемах внутренней и внешней жизни империи. Он, так любящий тишину и порядок, простодушно удивился как-то, узнав о скандале в Дворянском собрании: "С трудом верится, что в Дворянском собрании могли происходить подобные безобразные сцены". В 1897 году, узнав о том, что четверть русских крестьян не ведет своего хозяйства, написал: "Неужели это верно — такое состояние крестьян?" А в 1901 году, когда прочитал о том, что в отчетном году его подданные потратили восемь миллионов рублей на казенную водку, он коротко заметил на полях доклада: "Однако!"
Николай обладал крупным, четким почерком, но буквы в словах не были связаны друг с другом, и графолог, исходя из этого признака, скорее всего, заявил бы, что писавший имеет дедуктивный склад мышления, что он более мечтатель, чем реалист. Пометы на делах Николай оставлял обыкновенно чернилами, а писал быстро, без помарок, в лаконичном стиле, чего требовал и от докладчиков. Впрочем, в качестве орудия для письма пускался в ход и карандаш, но только не для резолюций, а короткий остаток карандаша отдавался детям для игры.
Заглянув в его кабинет, можно было бы увидеть, что бумагами покрыты все столы и даже диваны, однако это был лишь кажущийся беспорядок — царь в одно мгновение мог разыскать нужное дело. Он помнил, знал каждую бумажку, что попадала ему в руки, каждую закладку, сделанную когда-то. Обработанные, просмотренные доклады Николай вкладывал в конверты, специально подготовленные для этой цели, разновеликие, предусматривающие различные размеры дел, и сам запечатывал конверты. А вообще, дорогих письменных принадлежностей не любил — все было у него по-деловому просто.
В кабинете императора телефона не было — аппарат находился в соседней комнате, и царь пользовался им чрезвычайно редко, только в том случае, если лицо, с которым следовало связаться, находилось очень далеко и нельзя было послать записку — более привычное средство связи. Иному наблюдателю, не лишенному охоты заниматься психологическим анализом, такая неприязнь к телефонным разговорам показалась бы любопытной: явная подозрительность характера, страх общаться с человеком, не видя его лица, поскольку на расстоянии нельзя точно распознать его истинных настроений, чувств, а значит, намерений. Хотя можно было бы сделать и такой вывод: сам Николай считал недостаточным воздействие одного лишь своего голоса на собеседника…
Ступень одиннадцатая ГРАНИЦА
Оглушенный, обсыпанный известкой, с сильно болевшими от ушибов рукой и правой стороной груди, с ослепленными пылью и грязью глазами, осмеянный, униженный, в нелепом костюме с эполетами и аксельбантами, Николай, повинуясь воле все тех же сильных рук, опустился на что-то неудобное, проскрипевшее и покачнувшееся под ним.
— Кто вы? Где я? Что случилось и зачем, зачем вы меня сюда привели? стараясь протереть руками глаза, чтобы поскорее увидеть, где он и кто тащил его по коридорам театра, спросил он. Но вначале раздался лишь чей-то издевательский смешок, а потом Николай услышал и очень тихий, но такой знакомый голос:
— Что, батюшка, доигрались? Царем при большевиках стать захотелось? Думали, раз гражданина Урицкого к праотцам отправили, так вам теперь все позволено? Ну ладно, поиграли бы, потешили бы свою царскую великую душу, но зачем же себя на лобное место выводить? Царям, батюшка, повелевать народом надо, а не по своей доброй воле голову на плаху класть…
— Да кто вы, кто это со мной говорит?! — воскликнул Николай, возмущенный, скорее, тем, что кто-то смеет указывать ему, как поступать.
— А вы ещё не узнали? — хихикнул голос. — Лузгин я, раб ваш преданный, тот, кто вам советовать изволил в сфинкса до поры до времени превратиться. Ну, знаю, что бородку-то свою вы… кхе-кхе… но потом, оказалось, вновь её и приклеили, да так, что ещё более похожими на… кхе-кхе… себя и стали. Я же говорил вам, Николай Александрович, что не только я один в Петрограде такой глазастый буду, — ведь узнали вас и кому нужно о том донесли, поспешили. Занялось вами одно известное в питерской ЧК лицо, Сносырев, шельма известная, даже на Урал отправился, чтобы вашу ложную смерть открыть. Еще пришли на вас полюбоваться господа чекисты, посланные Бокием, начальником чекистов. Был я уверен ещё и в том, что вы одной игрой в царя не обойдетесь, что готовите ещё одно представление, поинтереснее этого фарса, а поэтому, поелику люблю вас, решил предупредить ваш, с позволения сказать, номер. Оригинальным, правда, способом… — И Лузгин снова хихикнул, самодовольно и как-то сытно.
— Это вы подложили бомбу? — понял Николай значение смешка своего спасителя.
— Я-с, признаюсь, а кому же еще? — Тут Лузгин нагнулся к самому уху: Но вы не извольте меня грехом корить, потому что ежели бы вы сами на рожон не полезли, так и я бы динамитом баловаться не стал. А ведь для меня-то душ двадцать-тридцать ради вашего престола к Отцу Богу отправить — что сморкнуться. Надо было бы, так я и тысячу жизней ради вас на жертвенник… кхе-кхе… самодержавия возложил бы, не сомневаясь. Большевики-то что сейчас делают? Так вот и я вроде них — только наоборот. Но ведь все эти словеса — метафизика, батюшка, а я вам о сугубой конкретике сказать хотел. Доподлинно знаю, что заинтересовались вами чекисты. Знал я допрежь сегодняшнего дня, что придут на действо это сатанинское, посмотрят на вас, вот и устроил трамтарарам. Допустим, спас я вас сегодня, но не сдобровать вам в будущем. Уезжать вам из России надо. Жаль, что не получилось у нас с вами, батюшка-царь, общего дела, погнушались вы мною, ну да что об этом. Уезжайте, да чем быстрее, тем лучше для вас, не то и этот трамтарарам на вас запишут. Есть способы у вас?
В голове Николая, покуда человек с конусовидной головой говорил, вертелись, сверкали, сталкивались одна с другой мысли противоположного свойства. Он понимал, что ради его спасения вновь пролилась кровь, теперь уж и совсем неповинных людей, и поэтому тяжесть содеянного словно разделялась между тем, кто устроил взрыв, и тем, ради которого он осуществлялся. Он не мог забыть, с какой ненавистью зрители относились к нему, а поэтому удваивать или даже утраивать силу этой ненависти, беря на себя вину за взрыв, он, конечно, не хотел. Но что он мог сделать тогда, когда обстоятельства требовали его быстрого отъезда?
И вдруг здесь, на чердаке, — а ведь именно сюда завлек его Лузгин, Николай внезапно нащупал необходимое решение задачи. Эта мысль родилась неожиданно, и она была единственным разрешением проблемы, проблемы, мучившей его последние месяцы.
— Да, я уеду, — сказал он, — у меня есть способы, чтобы перебраться через границу нелегально, но я хочу обратиться к вам, господин Лузгин, с одной просьбой. Еще в августе, когда я приехал в Петроград, в коридоре Чрезвычайной комиссии на Гороховой я случайно увидел женщину, которая следовала под конвоем…
— Интересно, — послышался взволнованный полушепот Лузгина, — и кто же эта женщина?
— Анна Александровна Вырубова, близкий друг моей супруги. У Александры Федоровны, вы сами можете понять, нервы совсем уж расшатались, и именно Вырубова, о судьбе которой жена все время переживает, могла бы восстановить её нравственные силы. В России у императрицы не было человека ближе…
— Чем я могу помочь? — спросил Лузгин скоро, будто напрашивался на просьбу человека, положению которого поклонялся. И Николай тотчас понял, что преданностью Лузгина можно располагать всецело.
— Я вас прошу, — тоном человека, обращающегося к своему подчиненному, заговорил Николай, — как можно скорее выяснить, что случилось с фрейлиной Вырубовой. Если её расстреляли — это одно, а если она томится где-нибудь в застенках чека, то я бы хотел знать где. Знаю, что без… денег у вас ничего не получится, так вот завтра, или нет, даже сегодня, сейчас вы получите их. Стоит лишь пройти ко мне домой. К тому же необходимо спешить, иначе скоро я смогу не застать в своей квартире моих родных.
— Да, я буду вас сопровождать, — сказал Лузгин, подавая руку Николаю, сидевшему на каком-то ящике, прислонившись к стропилам. — Но только как же вы пойдете? — усмехнулся бывший сыщик. — На вас этот… императорский костюм, а на улице — зима и полно патрулей. Вот незадача! Что поделаешь — я одолжу вам свое пальто, у меня под ним пиджак. Ну, снимайте поскорее свой царственный наряд!
Николай, негодуя на себя за то, что увлекся, разрешил каким-то нечистоплотным лицедеям потрафить большевикам, злой и смущенный, стал стаскивать с себя мундир с мишурными эполетами и орденами и вдруг услышал голос Лузгина:
— А бородку, ваше величество, не выбрасывайте — пригодится. Вдруг мы с вами снова задумаем в царя поиграть, только теперь… кхе-кхе… по-настоящему. Вот и приклеете быстренько, чтобы из сфинкса опять в человека превратиться. Ну, подставьте ваши царственные ручки. Я вам пальтишко свое натянуть помогу.
По черной лестнице они спустились на задний двор, откуда через проломы в стенах, как видно, хорошо знакомых Лузгину, вышли на мрачный, заснеженный Средний проспект. У того самого дома, где находился театр, стояло несколько автомобилей, подводы, на которые суетящиеся люди укладывали тела — мертвых или ещё живых, издали не видно было.
— Идемте, ваше величество, не нужно вам на эти картины смотреть. Ничего не поделаешь — любая идея, если её в жизнь-то претворять, дорогонько людишкам обходится.
В эту ночь Николай, какой-то раздавленный, униженный душевно, со страдающим от жестоких ушибов телом, много думал о прошедшем дне. Он страдал оттого, что опять явился причиной человеческого горя, хотя и невольной причиной, но вместе с тем в душе свило гнездо и новое чувство, родившееся от слов Лузгина о необходимости жертв, когда желаешь произвести какие-то значительные перемены не только в стране, городе, но даже в семье или в собственной жизни, поэтому и страдания его в ту ночь тоже были какие-то смягченные, не слишком уж и казнящие. Николай нарочно вызывал в своем воображении лица тех, кого видел в зале, чтобы сильнее проникнуться состраданием к ним, к их боли, к боли их родных, внезапно узнавших об их смерти.
"А они сочувствовали мне? — вдруг задал Николай вопрос и даже приподнялся на постели. — Ведь я тогда, в театре, был не актером, а самим собой, обращался к залу со своими страданиями, а эти животные лишь смеялись надо мной, улюлюкали, напутствовали Распутина, чтобы он унизил меня до конца, до предела, оскорбил во мне все мужское, отцовское, царское! И этих безжалостных животных, пришедших посмотреть, как втирают в грязь их недавнего монарха, я буду жалеть? Нет, они получили по заслугам, и прав Лузгин, уничтоживший бомбой весь этот сатанинский балаган!"
И бывший царь стал размышлять о том, что надо бы действительно поскорее уехать из России, забыть этот неблагодарный народ, не оценивший дарованных им свобод, конституции, ставящих русских людей в один ряд с развитыми европейскими нациями. Но вдруг Николай подумал, что уехать из России, оставив о себе такую память, уехать оплеванным, обесчещенным, освистанным очень обидно, и он бы до конца дней не простил себе такого малодушия.
"Нет, я не уеду! — в который уж раз за последние месяцы сказал сам себе Николай, но тут же из-за поворота сознания словно выскочила навстречу этому утверждению противоположная мысль: — Но как же я смогу сберечь свою семью, если мною уже заинтересовалась чека? А, я знаю, нужно отправить за границу их, а самому остаться!"
И тут же Николай представил, как ему будет больно и одиноко без своих любимых, но ещё более одиноко он почувствовал бы себя без России, и вот уже другая мысль прогнала все прежние: "Для чего я велел Лузгину отыскать место заточения Вырубовой? Разве я искренне хочу освобождения этой женщины? Ведь я не любил эту дурочку, боготворившую Распутина, присутствие которого во дворце скомпрометировало меня, семью, монархию. Нет, дело не в Анне, а в моей жене, потому что я хочу оправдаться в её глазах после того, как Аликс заявила, что я виноват в её гибели. Да, точно, хочу оправдаться, но есть и ещё что-то, какое-то темное, пока ещё не решенное, но очень нужное. Да, Анну нужно спасти. С этого начнется мое движение вверх!"
Он встретился с Лузгиным уже через три дня после спектакля у сфинксов, где их никто не мог слышать и где эти два смотрящие друг на друга каменные изваяния хранили многовековую тайну человеческих страстей.
— Ну, и что же вам удалось узнать? — закуривая папиросу, спросил Николай, замечая, что Лузгин ждет этого вопроса как подтверждения того, что в нем нуждается сам бывший император.
— Средства, которые вы мне вручили, батюшка-царь…
— Я попрошу вас, не юродствуйте, — строго сдвинул брови Николай. — Я не царь!
— Но вы им снова будете, я уверен. Впрочем, хорошо, если вы не возражаете, я буду обращаться к вам так: Николай Александрович. Вас это удовлетворит?
— Вполне. Итак, к делу.
— И вот, ваши деньги позволили мне узнать, что Анна Александровна заключена в Выборгской одиночке. Это вполне современная по конструкции тюрьма, трехэтажная, с железными лестницами, удобно соединяющими все этажи. Камеры, правда, очень небольшие, но двери железные…
— Для чего все эти подробности? Вы полагаете, что я приду в тюрьму с инструментами для взлома, чтобы ломать запоры? Нет, вот вам ещё деньги, пятьдесят тысяч, нет, лучше сразу сто, — Николай протянул Лузгину пачку кредиток. — Составьте для меня мандат, удостоверяющий мое право… право комиссара Романова на передачу в мои руки заключенной Вырубовой для перевода в какую-либо другую тюрьму — придумайте сами. Я хочу, чтобы этот мандат был готов в самое ближайшее время.
— Господи, да неужели вы сами отправитесь в тюрьму? А вдруг какой-то недочет, мелочь навлекут на вас подозрение, вас схватят, убьют! воскликнул Лузгин, по-женски всплескивая руками.
— Чей же недочет? Мой? Или ваш? И вы предлагали мне сотрудничество, в то время как сами не уверены в своих… способностях? — усмехнулся Николай.
— Нет, что вы, — испугался Лузгин. — Я изготовлю вам такой документик, что даже лучший эксперт чрезвычайки не сумеет определить его подложность, и почерк высшего начальственного лица изображу, и печать, и бланк самый нужный. Только, почтеннейший Николай Александрович, зачем же вы снова по проволоке идти собираетесь, для чего это, извините грубого человека, фиглярство?
— Что вы имеете в виду? — из-за плеча резко спросил Николай, уязвленный дерзостью собеседника.
— Как что, а вот это ваше желание назваться в мандате Романовым. Ладно, спектаклик кое-как для вас сошел благополучно — все чекисты, что в первом ряду сидели, в лучший мир отправились, многие актеры — тоже, с режиссером вместе…
— Господи, какая жестокость! — прикрыл лицо ладонью Николай.
— Не спорю, жестоко, но, как уж вам говорил, необходимо, — каким-то тонким, гугнивым голосом сказал Лузгин. — Но теперь если вы снова объявитесь перед светлыми очами чекистов, где немало людей неглупых и проницательных, вроде Сносырева, да ещё в деле с монархисткой Вырубовой, то вас и за границей достанут. Для чего же сук-то рубить, на коем ещё сидеть нужно?
— Хорошо, — нахмурился Николай. — Кем же мне в мандате назваться? Комиссаром Ивановым или каким-нибудь Гольдбергом?
— А не надо Ивановым, не надо Гольдбергом. Сносыревым и назовитесь. Он, как с Урала приедет, так и наколется на наш гвоздик. Нет, ещё лучше: мы вас, так и быть, Гольдбергом назовем, а того, кто вам бумагу эту выписывал и печать на ней ставил, Сносыревым. Заверим числом задним, ещё до его отъезда обозначенным. Ну, неплохо ваш верный слуга измыслил?
Николай полупрезрительно улыбнулся:
— Что ж, ваши способности достойны не просто похвалы, но и восхищения.
Он не хотел скрывать своей недоброжелательности к этому человеку, но чувство досады на самого себя из-за необходимости пользоваться услугами того, кого презираешь, умеряло неприязнь.
— Если хотите, послезавтра я принесу вам мандат на это самое место, в десять утра. — Тон Лузгина был предупредительным.
— Идет, — коротко сказал Николай, бросил в воду окурок и стал подниматься по гранитным ступеням.
Через два дня после этого разговора к воротам Выборгской тюрьмы, мягко шурша резиновыми шинами по слежавшемуся снегу мостовой, подкатил четырехместный экипаж, с которого ловко соскочили двое мужчин в кожаных на меху куртках, в барашковых папахах со звездами, со шлепающими по бедрам лакированными коробками маузеров и решительно направились к дверям караульной части.
— Комиссар Гольдберг, Чрезвычайная комиссия, — резким движением выдернул из внутреннего кармана куртки какой-то лист бумаги тот из мужчин, кто был пониже и постарше своего спутника, статного красавца с заломленной на затылок шапкой, с папиросой во рту, смотревшего на караульных с наглым вызовом и готовностью набить морду каждому, кто хотя бы искоса посмотрит на него.
— К коменданту вам надо пройти, — одышливо заявил пожилой начальник караула, прочитав протянутый ему документ и продолжая другой рукой держать стакан с горячим морковным чаем. — Онищенко, проводи товарищей.
В сопровождении караульного с винтовкой, взахлеб сообщавшего дороiгой «товарищам», сколько баб сидит в этой тюрьме да какие они до мужиков жадные и охочие, Николай и Томашевский, понимавшие, что именно сейчас, у коменданта и будет проверено качество работы Лузгина, вошли в здание тюрьмы, прошли по коридору нижнего этажа и скоро были введены в сводчатую комнату с зарешеченным окном. Комендант, молоденький, худенький, почти мальчик, вскинул голову, когда его, сидящего за небольшим, совсем детским письменным столом, застали вошедшие Николай и Томашевский, сопровождаемые караульным.
— По вашу душу, товарищ Лапин, — пробубнил красноармеец, — из чеки пожаловали…
Сказал — и вышел в коридор, а Николай смело шагнул к коменданту, по-товарищески протянул для приветствия руку, а потом подал и свой мандат. Мальчик долго читал, нахмурясь и озадаченно потирая свой безволосый подбородок.
— Так, Вырубову, говорите? Она у нас политическая, важная птица. А что ж это Сносырев с председателем этот вопрос-то не согласовал? У нас для переводки ещё и подпись председателя Петроградской Чрезвычайной комиссии требуется, а тут — нет её, и все — нелады…
— Да бросьте вы волокитничать, — уговаривающим тоном сказал Николай, выискав в своей памяти это никогда не употреблявшееся им канцелярское словечко. — Сносырев — тоже человек в Чрезвычайке немаленький контрольно-ревизионной коллегией заведует. Выдавайте, комендант, нам эту контру, и мы уезжаем. Ей-Богу, некогда ждать…
Этим своим нетерпением он, как видно, лишь усугубил сомнения коменданта.
— Нелады, — повторил комендант, стремясь придать своему полудевичьему по тону голосу как можно больше грубой мужской весомости. — Вначале позвоню на Гороховую…
И комендант взялся за трубку телефонного аппарата, притулившегося на его неудобном крошечном столе. Николай, точно и не видел он прежде в своей жизни разницы между жизнью и смертью, лишь глазами показал Томашевскому на юношу, честно исполнявшего свой служебный долг, и Кирилл Николаевич, только и ждавший сигнала, как огромная кошка, мягко и стремительно, в два шага оказался за спиной коменданта, широкой своей ладонью накрыл сразу рот и нос парня, глаза которого стали необыкновенно широкими, другой рукой схватил его правую руку, державшую телефонную трубку. И недолго судорожно лапал пальцами левой руки комендант свою новенькую желтую кобуру, в неудобной позе силясь расстегнуть её. Но вот уже эта рука как плеть упала вдоль худенького, обмякшего от удушья тела и закачалась, точно маятник. Усадив, осторожно и легко, тело на стул, утвердив мертвую голову на сложенных на столе руках, Томашевский оглянулся, будто ожидая в качестве награды хотя бы одобрительного взгляда, но увидел, что Николай, сильно закусив нижнюю губу, смотрит на зарешеченное окно.
— Уходить надо, — шепнул Томашевский, и они вышли в коридор, к часовому, оставив в сводчатой комнате того, кто сильно был похож на спящего человека.
— Все в порядке, идем за заключенной, — желая говорить твердо и беззаботно, сказал Николай часовому. — Не хочешь ли, братец, во дворе побыть? Мы быстро, не замерзнешь. Покури вот наших папирос, пока мы ходим.
Караульный, видя щедро раскрытый портсигар, не отказался и заграбастал сразу три папироски, сказав с улыбкой:
— Ладно, постою, только уж поторопитесь — время ныне зимнее.
Только солдат ушел, как Николай и Томашевский, не говоря друг другу ни слова, но связанные сейчас каким-то общим чувством, прислушиваясь к глухим звукам, проникающим в мрачный коридор тюрьмы через стены, свернули направо, потом налево, и тут перед ними открылась огромная, квадратная в плане лестничная клетка, металлические марши которой хитро пересекались, имели мостики, галереи, ведущие, как поняли мужчины, к камерам. Паутина железной сетки закрывала проемы, и все это сложное сооружение, казалось, было измыслено неизвестным архитектором совсем не для чьего-либо удобства, а, напротив, чтобы вызвать у обитателей тюрьмы ещё более сильное чувство подавленности и беззащитности перед безумно страшными вещами, которые назывались «люди», «правосудие» и "жизнь".
— Наверх, к тем камерам! — указал рукой Николай на лестницу, круто уносящуюся вверх, хотя он и не знал, почему именно эта дорога привлекла его. Они взбежали на одну из галерей, где сразу же увидели двух надзирательниц, одетых в гимнастерки и мужские штаны, заправленные в сапоги.
— Где Вырубова, мы из ЧК! — подошел к одной из них Николай.
Предоставить свой мандат он не мог, потому что бумага так и осталась лежать на столе убитого коменданта.
— Здесь нет такой, — отрицательно покачала головой женщина с темным, испитым лицом и сиплым голосом.
Но голос Николая был услышан не одной лишь надзирательницей — тотчас в камерах-одиночках, крошечных, с зарешеченными окошками, началась какая-то возня, послышались чьи-то сладострастные вздохи, исторгаемые измученными долгим воздержанием женщинами — воровками, убийцами, проститутками с источенными сифилисом лицами. Те, кто слышал шаги проходящих мимо их камер мужчин, бросались к железным дверям, приникали к окошкам. Глаза женщин горели огнем животной страсти, они выли, как волчицы, бросая вслед проходившим:
— Ну куда вы, дядечки! Такие хорошие мужички!
— Ко мне, ко мне зайдите! Меня, меня возьмите!
— Кого ищете, соколики? Какую Вырубову, а? А я тебе шо, хуже? Глянь-ка, покажу тебе одну штучку, ну-ка, посмотри!
Николай и Томашевский пытались выяснить у них, где находится политическая Анна Вырубова, но женщины или бесстыдно кривлялись, или начинали браниться по-черному, плевались, задирали подолы своих арестантских платьев, и вся тюрьма, включая самые дальние закоулки, охваченная каким-то бесовским пылом, пламенем болезненного возбуждения, выла, и вой этот прокатывался волнами из одного угла здания в другой. Надзирательницы хрипло кричали на заключенных, грозили им карцером, расстрелом, но вой не мог уняться, и Николай, никогда прежде не видевший буйства толпы, был подавлен общим безумием.
И вдруг на третьем этаже, заглянув в одно из окошек, Николай увидел женщину, которая не кричала и не подбегала к двери, — это была полная женщина, но полнота её казалась болезненной, рыхлой. Она сидела на койке, забравшись на неё с ногами, какими-то уродливо толстыми, обхватив колени руками и глядя на окошко двери обезумевшими от страха глазами.
— Заключенная Вырубова? — негромко спросил он, узнавая в искаженных страданием чертах лица арестантки знакомые черты.
— Да, это я, — так же тихо отозвалась сидящая женщина. — Меня… на расстрел?
— Узнаете потом, — для чего-то очень строго сказал он, как будто эта строгость сейчас могла помочь обмануть надзирательниц. И, уже обращаясь к одной из них, ещё более строго и властно сказал: — Немедленно отоприте дверь. Приказ коменданта!
— А где же письменное распоряжение? — лениво подошла к Николаю толстая, разжиревшая на обкрадывании скудного арестантского пайка женщина в гимнастерке и фуражке.
— Мы из Чрезвычайной комиссии, дура! — прокричал Томашевский, отбрасывая крышку лакированной коробки маузера и демонстрируя надзирательнице рубчатый эбонит рукояти пистолета.
— Я вам не дура. Разрешение давайте, — спокойно сказала надзирательница, как видно, дорожившая местом куда больше, чем жизнью.
— Ключ, говорю! — захлебываясь яростью, с треском выдернул Томашевский из футляра маузер, матово блеснувший вороненой сталью, взвел курок, и было видно, что женщина поняла — этот человек шутить не будет.
— Подчиняюсь грубой мужской силе, — просипела надзирательница, презрительным жестом бросая ключ прямо под ноги Томашевского, и через несколько мгновений огромный ключ уже скрежетал в замке.
Поддерживая Вырубову, которая едва могла ковылять на своих изувеченных в железнодорожной катастрофе ногах, опиравшуюся на палку и какую-то окаменевшую от страха, Николай и Томашевский повели женщину вниз, и Романов, не желая быть узнанным Анной Александровной, отворачивал в сторону свое лицо. Но вот они уже были на первом этаже, вышли во двор, и тут Николай, увидавший, как вздрогнула и стала трястись от холода бывшая фрейлина, нагнулся к её уху и сказал тихо, но строго:
— Потерпите немного. В экипаже у нас есть шуба для вас.
Веселый караульный балагурил, нахваливал папиросы, явно напрашивался на добавку, и Николай молча протянул ему раскрытый портсигар, рассчитывая найти временного союзника хотя бы в этом красноармейце. Вошли в караульное помещение, и Томашевский, разыгрывая из себя рубаху-парня, сказал с легкомысленной беспечностью:
— Ну вот, заполучили мы эту контру. Теперь на Гороховую с ней без всяких проволочек.
— Нет, так не годится, — поднялся из-за стола одышливый пожилой начальник караула, — вначале предъявите документ на вывод арестованной. Где документ за подписью коменданта, товарищ Гольдберг?
Томашевский, боявшийся, что Николаю не хватит хладнокровия вовремя найти необходимый ответ, поспешил сказать с небрежной наглостью:
— Знаешь что, папаша, к своему коменданту с этим вопросом и обращайся — нам он ничего не дал. Запамятовал, должно быть, ваш мальчишка. Пропустите-ка скорее — нам некогда!
— Нет, постойте! — стал ещё более сухим и деловитым голос караульного начальника. — Что значит «запамятовал»? У нас такого не случалось, чтобы комендант забыл дать пропуск на вывод арестованной! Сейчас все выясню, спешить не надо!
И начальник потянулся за телефоном, поднял трубку и хмуро ждал, покуда провод, соединявший караульню с комендантом, донесет до него голос юного начальника тюрьмы. Но телефон молчал.
— Довольно странно, — обескураженно проговорил он наконец. — А ну-ка, Залинш и Викулов, быстро к коменданту — проверьте, где он и почему на вывод Вырубовой не дал бумагу. Очень странно… — повторил он снова, исподлобья бросая взгляды то на Николая, то на его спутника.
Когда караульные вышли, в помещение оставалось ещё человек восемь задремавших у пылающей «буржуйки» солдат. Винтовки были в пирамиде. Внезапно Томашевский ударил себя по лбу ладонью, будто вспомнил что-то очень важное:
— Ах да, совсем забыл! Мне же ваш комендант на самом деле пропуск дал. А я-то, забывчивый какой, его в кобуру пихнул — карманов-то нет!
Он откинул крышку лакированного маузеровского ящика и полез внутрь, словно на самом деле пытался выудить оттуда пропуск, но вытащил не бумажку, а пистолет, который тут же был наведен прямо в середину лба караульного начальника, от неожиданности резко отпрянувшего назад и принявшегося ловить ртом воздух.
— Дядя, разрешите выйти без шуму и лишней крови… — сказал Томашевский. Переводя ствол маузера с одного караульного на другого, он заметил краем глаза, что Николай держит караульных на прицеле.
И, не дожидаясь ответа, Томашевский, решительно взял под руку Анну Александровну, едва не падавшую в обморок от переживаемого страха, повел её к выходу из караульни, а ствол его маузера продолжал грозить смертью оставшимся.
— Скорее, к экипажу, скорее! — торопил он, почти неся на себе Вырубову, ноги которой подкашивались от ужаса. — Николай Александрович, берите вожжи, а я тут, сзади — нужно их задержать!
Рессорная коляска сильно качнулась, когда они забирались в нее. Застоявшиеся на морозе лошади рванули вперед так резво, что Томашевский чуть не выпал из коляски. А из караулки уже выбегали солдаты, успевшие разобрать винтовки, и палили в уезжающих, но тут же двое из них, сраженные пулями Томашевского, устроившегося на заднем сиденье, распластывая руки, хватаясь ими за воздух, будто в нем желая найти опору, неловко упали в грязный снег тротуара и обагрили его своей молодой кровью. А коляска с возницей, в котором ни один человек во Вселенной не узнал бы сейчас бывшего русского монарха, неслась вперед, заставляя редких прохожих прижиматься к стенам домов, покуда не скрылась за углом ближайшего к тюрьме здания.
— Анна Александровна, вы не узнаете меня? — спросил Николай Вырубову, оборачиваясь с козел к женщине, заботливо укрытой нарочно припасенной шубой.
Вырубова, щуря свои близорукие глаза, глянула на безбородое лицо человека в кожанке, лихо правившего лошадьми, и светлая радость озарила её лицо, в каком-то экстазе она протянула к нему руки и прошептала:
— Господи Святый, услышал Ты мою молитву и спас государя земли русской! Слава Тебе, Всеблагий!
Николай, описывавший события своей жизни, последовавшие после его спасения в Екатеринбурге, довольно скупо, точно детали совсем и не интересовали его, вопреки правилу, сделал довольно подробную запись, относящуюся ко времени, когда Анна Вырубова вошла в квартиру Романовых. Поелику эти страницы дневника не только интересны тем, что в них видны мотивы дальнейшего поведения Николая-царя, но и дают представление о руке Николая-литератора, мы их представляем читателю без искажений и комментариев.
"Право, у женщин слезные железы содержат неисчерпаемое количество влаги. Аликс и Аня, как она называла свою подругу, долго плакали, припадая поочередно головами к груди, заключая друг друга в жаркие объятия и говоря всякий вздор. Затем они не меньше времени молились перед единственным оставшимся в квартире образом, перед которым, впрочем, стояли и я, и дети, и даже Кирилл Николаевич. А потом, когда бедная Вырубова, полуголодная, давно не мытая, истерзанная постоянными допросами, переводами из тюрьмы в тюрьму, страхом расстрела, терзаниями о нашей судьбе, приняла более или менее нормальный облик, начались взаимные рассказы о пережитом. О нас рассказывала в основном Аликс, и Анна все время плакала и то и дело крестилась, благодаря Бога за наше избавление. После описания наших мытарств стала живописать свои Анна. Претензии к ней со стороны Временного правительства, а потом и большевиков заключались в основном в том, что ей не могли простить близость с нашей семьей. Пока я слушал страшный рассказ Ани, переводил взгляд с её лица на лицо Томашевского, геройское поведение которого при спасении Анны у всех вызвало восторг, особенно, как я заметил, у Маши и Алеши, смотревшего на Томашевского глазами влюбленной девушки, в моей голове окончательно оформился один план.
Вот два человека, думал я, преданность которых нашей семье беспредельна. И, освобождая Вырубову из тюрьмы, я действовал, побуждаемый своими дальними планами, а не потому, что очень любил эту особу. Итак, я отправляю семью за границу, потому что терзаться страхом за их жизнь больше не могу — мне это тяжко и неприятно. Томашевский и Анна, покуда я, оставаясь в России и стремясь к своей цели, не добьюсь наконец её достижения, станут теми, кто сумеет заменить меня. Дочерям я уже не нужен, им нужны мужья, и за границей они отыщут их с превеликим проворством. Анна же будет заменять меня Аликс, а Томашевский — Алеше. Уверен, что этот благородный, но в общем-то ограниченный человек станет тем, кто сумеет сделать из сына настоящего мужчину, достойного принять позднее из моих одряхлевших рук венец русского монарха.
Итак, моя совесть такого рода соображениями была успокоена весьма надежно, но оставалось теперь решить, каким же образом я сумею отправить семью через границу, а сам останусь в России. Если бы я предложил такой вариант своим близким, они бы никогда не приняли его. Тогда я решил прибегнуть к одной хитрости, рискованной, но сулящей мне успех.
— Скажите, какие способы вы намерены предложить нам для переправки через границу? — спросил я как-то раз у Томашевского.
— Всего один, — сказал он. — Как я уже говорил, есть начальник одной пограничной заставы на финской границе. Он-то за хорошее вознаграждение готов заставить своих подчиненных смотреть в другую сторону, когда мы станем пересекать пограничную реку по льду. Сейчас, кстати, самое удобное время… — сказал и почему-то смущенно осекся Томашевский.
Конечно, я понимаю причину его смущения: если здесь, в большевистской России, избавившейся от аристократов, он, плебей, ещё может рассчитывать на руку Маши, хотя бы в благодарность за свои услуги нашей семье, то в Европе, где мои дочери могут подыскать себе куда более достойных женихов, он останется не у дел. Ни я, ни Аликс никогда бы не допустили столь неравного брака.
— Скажите, до границы мы дойдем при помощи проводника? — спросил я, не желая замечать сконфуженности героя.
— Я уже был на той заставе и мог бы взять на себя роль этого проводника, но необходимо вначале договориться с теми, кто примет нас в Финляндии: едва мы поднимемся на финский берег, там будут находиться сани, чтобы быстро доставить нас в любой их населенный пункт, где имеются органы власти. Им-то мы и должны будем сделать заявление, что являемся эмигрантами по политическим соображениям. Обычно для таких препятствий не чинят, напротив, проявляют всяческие знаки внимания и заботы.
— Хорошо, — немного подумав, сказал я, — а что, если именно вы, Кирилл Николаич, на финском берегу примете на себя заботу о моей семье и Анне Александровне?
— Я рад сделать все, что в моих силах, — был польщен Томашевский, но, несмотря на свою простоту и неуклюжесть, заметил, что я недоговариваю чего-то. — Ну а вы-то, Николай Александрович? Ведь вы тоже пойдете с нами?..
Я ничего не ответил, вначале покурил, а потом сказал, указывая на комод:
— Здесь — все наши драгоценности, на очень большую сумму. Их вам придется нести до границы… и дальше. В Европе вы, уверен, постараетесь распорядиться ими так, чтобы моя семья была обеспечена. Не забудьте и себя. Если захотите, чтобы мои родные имели со мной связь, установите её, но через человека, носящего фамилию… Лузгин. Потом я дам вам адрес. И успокойте их, пожалуйста, сказав, что наша разлука продлится совсем недолго. А ещё скажите им, что так надо. Впрочем, до границы мы пойдем вместе…
Мы собрались в дорогу тщательно. Запаслись теплой одеждой, кое-какой едой. Томашевский несколько раз пытался заговорить со мной, прояснить себе мой план, казавшийся ему каким-то чуть ли не безумным, но от вопросов я уклонялся. Вышли спустя полторы недели после того разговора. На поезде доехали до Белоострова, потом пошли лесом по тропинкам, известным лишь Томашевскому. Больше всех радовался этой ночной, в общем-то очень опасной дороге, Алеша, не представлявший себе степень опасности. А прогулка была на самом деле дивная. Стояла нехолодная мартовская погода, и деревья, молчаливые и сказочные, казались вылепленными из темно-зеленого воска, сверху обсыпанного сахарной пудрой.
После часа ходьбы Томашевский, все время мрачный и какой-то нервный, шепнул мне, что недалеко застава и ровно в час ночи его ждут в условленном месте, чтобы принять обещанную мзду за проход через границу. Так и случилось — на пересечении двух лесных дорог внезапно появился человек в шинели, принял от Томашевского пакет с деньгами, тщательно пересчитал их, повернувшись к свету луны, а потом махнул рукой, указывая направление. Я ещё слышал, как он сказал: "Там, метрах в тридцати от схода на лед будут наши, слева. Не бойтесь их, они предупреждены".
Вышли на берег неширокой речки, и я, находившийся неподалеку от Аликс, услыхал, как она, перекрестившись, со слезами в голосе сказала будто самой себе, сказала почему-то по-немецки: "Ну, слава Богу, прощай Россия!" Я же, подойдя к Томашевскому, ожидавшему нас у спуска на лед, сказал ему:
— Ну, Кирилл Николаич, не подведите. Главное, поддержите сейчас Анну Александровну и мою жену, а Алеша с дочерьми пойдет.
Вступили на лед, покрытый неглубоким снегом. Шли цепью, один за другим: Томашевский с Анной впереди, я же замыкал шествие и с каждым шагом отставал, даже останавливался порой. И вот уже Кирилл Николаевич с Вырубовой стали взбираться на противоположный, финский берег, где уже маячили тени каких-то людей.
"Очень хорошо, — подумал я, а сердце так и стучало, потому что именно сейчас должна была наступить моя минута. — Вот уж и сани для них готовы, но только не для меня…" Вытащил из кармана браунинг, снял шапку и, прикрывая ею ствол пистолета, стал стрелять в сторону того самого пограничного секрета, который стоял на берегу и следил за нашим переходом. Стрелял я, конечно, гораздо выше, по деревьям, и мои пули не могли задеть людей, однако панику, переполох в секрете я все же вызвал — что мне и нужно было. Оттуда, с берега, послышалась частая винтовочная стрельба, но пули, я ощущал, летели далеко от меня, и мне не составило бы никакого труда добежать до берега и скрыться в зарослях. До берега российского, понятно. Но внезапно я взглянул туда, где на снегу чернели фигуры моих родных, которым Томашевский должен был разъяснить, что внезапная стрельба помешала мне перейти через лед и нужно поскорее уезжать, покуда пограничники не начали палить и по финскому берегу. И вот, посмотрев назад, я увидел, что мои родные не только не спешат взойти на чужой берег, но, напротив, не обращая внимания на выстрелы, бегут ко мне. Впереди всех, как я понял, бежала, сколько было сил, Аликс. Она кричала истошно и длинно: "Ни-к-ки-и! Я к тебе, Ник-к-к-иии". Я же стоял у русского берега, кусал губы, едва не плакал, то ли сожалея о том, что мой план провалился и я недооценил глубину любви моих родных к себе, то ли будучи расстроган их преданностью. Скоро Аликс, и дочери, и Алеша, задыхавшиеся от бега, уже обнимали меня, а пограничники все палили в нашу сторону. Тогда я сказал:
— Кто-то нас предал, и мне не дали перейти границу. Зачем вы вернулись?
— Мы хотим быть с тобой, — припадая к моей груди, простонала Аликс. С тобой.
— Тогда придется возвратиться. Переход не удался, — сказал я и вывел свою семью на берег.
Мы углубились в лес, очень боясь повстречаться с секретом, но не пограничники, а Томашевский нагнал нас уже в ста метрах от берега.
— Где Аня? — бросилась к нему Аликс.
— Я посадил её на сани. Теперь Анна Александровна в безопасности, на свободе.
— Господи, ну хотя бы она… — с глубоким вздохом, полным неизбывной тоски, сказала Аликс. — Ладно, возвращаемся в Россию, чтобы погибнуть…
"Нет, чтобы возвеличиться вновь", — подумал я радостно, хотя тревога за семью не могла быть изгнана из сердца.
Через полтора часа мы были в Белоострове, а утром паровозик-подкидыш снял нас с холодного перрона, чтобы вернуть в Петроград".
Анна же Александровна Вырубова благополучно добралась на санях до одного тихого, но довольно крупного финского поселка, где её радушно приняли местные власти, где она была накормлена, где нашла приют. Она прожила в Финляндии долго, до самой смерти, и историю своих злоключений описала в воспоминаниях, в которых ни строчки не написала о судьбе царя и его семьи, потому что знала — их жизнь не закончилась в Екатеринбурге.
***
Ровно в половине одиннадцатого император, сопровождаемый двумя шотландскими колли, выходил на прогулку в парк, но совсем ненадолго. На обратном пути не реже, чем через день, он снимал пробу пищи, предназначавшейся солдатам Собственного его императорского величества конвоя, вахмистр или фельдфебель предлагали образцы блюд в особых запертых на ключ судках, и царь незамедлительно высказывал свое мнение о качестве солдатской пищи.
Прозанимавшись ещё некоторое время с докладчиками по государственным делам, Николай шел завтракать, и в столовой он встречался с родными. Иногда к столу приглашались сановники и генералы свиты.
Рабочий день возобновлялся около двух часов, когда царь снова принимал докладчиков, но, если их приходило мало, Николай до пяти часов мог посвятить время прогулкам, плаванию на байдарке, находясь в Петергофе, или катанию на велосипеде, но ровно в пять часов жесткий распорядок дня звал императора на чай в кругу семьи. За полдником могли продолжаться деловые разговоры, если этого требовала необходимость. Чаще же случалось, что именно в это время Николай предавался своему любимому занятию — чтению вслух. Но вот часы показывали шесть, и нужно было снова идти в кабинет, и от шести до восьми царь обыкновенно работал в одиночестве.
В восемь часов императора ожидал обед с семьей, который заканчивался общей беседой, чтением или играми. А ужина не было, и, побыв некоторое время с родными, Николай покидал их, пожелав всем спокойной ночи, не забыв поцеловать и перекрестить каждого из них. Но на этом рабочий день царя не заканчивался — после половины десятого он снова отправлялся в свой кабинет, где необходимость вновь заставляла его работать с бумагами, и уже совсем немного времени оставалось ему на лаконичную запись в свой дневник впечатлений от прожитого дня — не было ни досуга, ни, должно быть, охоты пускаться в пространные описания, но Николай фотографически фиксировал буквально все, что его так или иначе поражало. Он очень специфичен, этот дневник, — здесь все зашифровано, сокрыто, потому что Николай не мог не знать, что когда-нибудь эти записи станут достоянием читателей. Только он один за этим краткими сообщениями о погоде, прогулках, обедах, встречах и церемониях мог увидеть свое прошлое в настоящем восприятии, если бы явилось желание снова окунуться в него.
Ступень двенадцатая ПОЕДИНОК
Сносырев, возвращавшийся из своей тайной поездки в Екатеринбург, был до предела обескуражен, причем ощущение того, что сломался какой-то логический ряд, что не сошлись концы с концами не то чтобы в силлогизме, а в простом, до идиотизма примитивном тождестве, не покидало его. Там, в театре на Среднем проспекте Васильевского острова, он видел живого царя, вернее, бывшего царя Николая Второго, но результаты поездки, тщательное изучение всего того, что ему удалось добыть нелегально, ведь город все ещё находился в руках белых, не оставляли камня на камне от уверенности в том, что Николай Второй жив и уральские большевики по какой-то причине не выполнили приказ правительства.
Прежде всего, приехав в Екатеринбург, Сносырев наладил связи с красными подпольщиками, хотя ни Белобородова, ни Голощекина, ни Юровского в городе найти не удалось. Подпольщики горячо убеждали посланца "революционного Питера", что царь с семьей убиты, водили Сносырева тайно на место казни, в дом Ипатьева, возили в деревню Коптяки, о которой говорил весь Екатеринбург, показывали прокламацию Уралсовета, газеты с извещениями о казни "коронованного палача". Но даже все эти аргументы не привели Сносырева к безоговорочному согласию с фактом расстрела самого Николая. Нужны были свидетельства его смерти, полученные с противоположной, вражьей, стороны, и тут уж Сносырев проявил все свои таланты — разузнал, кто проводил следствие, стал прощупывать кое-каких мелких сошек из членов следственной комиссии, будто очень интересовался судьбой царя как ярый приверженец монархии, и чекисту повезло — сняли-таки ему копию одной бумажки, где значилось, какие вещи были обнаружены в лесу у Коптяков. Сомнений она не вызывала — белые следователи свидетельствовали, что найдены обломки серег Александры Федоровны, стекла её очков особой формы, фрагменты украшений, корсетов великих княжон, искусственная челюсть доктора Боткина, его пенсне и многое другое.
"Конечно, — думал Сносырев растерянно, который раз уж перечитывая копию, — кому, как не белым, знать, что именно эти вещи и принадлежали государю, его семье и приближенным. Уж они-то лукавить не станут — кого им-то обманывать? А вдруг есть резон? Вдруг белым очень надо сделать большевиков убийцами царя? Но ведь и большевики-то сами не отказываются расстреляли, да и точка! Только о жене и детях ничего не говорят, но ведь мне семья и не слишком-то нужна. Я ведь царя живого видел, видел, как он вел себя на сцене, — живой, настоящий! Да и режиссер-то его признал, выходит, не болван же я и на лица память хорошую имею. Ах, не простую задачу задали вы мне, господа хорошие! Но, главное, неважно, как царь остался жив, — на свете всякое бывает. Я скорее не пойму, как этот человек, если б он на самом деле остался жить, вывернулся из-под расстрела, приехал в Питер, а не куда-нибудь в Орел или Тамбов и, не скрываясь, не боясь, не изменяя внешности своей принялся играть в театре, да и не какого-нибудь Гамлета или Чацкого, а самого себя. Что же это, или царь у нас совсем уж сумасшедший был, коль при красном-то терроре, когда и не за такие-то провинности перед трудовым народом посылают на расстрел, стал издеваться над чекистами, над большевистской партией. Нет, не постигнуть!"
Так думал Сносырев, перемалывая факты жерновами своего неслабого ума, пока поезд, подолгу останавливаясь у каждой станции, неспешно тащился к Петрограду. Но вот и Питер. Переоделся на своей вместительной квартире, надев шевиотовую тройку, пальто из габардина, велюровую шляпу, желтые американские штиблеты, и тотчас на Гороховую, 2. Спешил поговорить с сотрудниками, которых он просил сходить в театр, на премьеру того самого спектакля, где царя играл сам бывший царь.
— Да вы знаете, товарищ Сносырев, — виноватым тоном заговорил чекист, отвечая на вопрос князя красных сыщиков, — ведь похоронили мы и Збруева, и Ашкинда, и Филиппенко…
— Как… похоронили? — чуть не выпала папироса из задрожавших пальцев Сносырева. — Ведь и месяца не прошло, а похоронили? Убили, что ли, их? Во время операции? Уголовные или контра?
Сотрудник, знавший о привязанности Сносырева к Збруеву, Ашкинду и Филиппенко, тяжело вздохнул, точно в смерти всех троих был повинен лично, и сказал:
— Пошли они в театр, а там какая-то сволочь бомбу подложила. Вот в конце спектакля и шарахнуло, а товарищи-то наши в первом ряду сидели… наповал их… Немало зрителей там перекалечило.
— Ясно… — глядя куда-то в сторону, неопределенно заметил Сносырев. Ну, а актеры?
— Что… актеры? — не понял сотрудник, тщательно вытиравший перо фетровой перочисткой.
— Ну, актеры-то погибли?
Чекист, в глубине души очень удивленный тем, что самого Сносырева не столько тронула смерть товарищей, сколько интересовала судьба актеров, пожал плечами и сказал:
— Говорят, кого-то убило, кого-то ранило. Не знаю точно…
— А того, кто… царя изображал? Что с ним стало? — допытывался Сносырев, очень боявшийся того, что таинственный актер, носивший фамилию Романов, так и унес в могилу свою тайну.
— А черт его знает, товарищ Сносырев. Вы бы лучше у Егорова все выяснили, он там был, разбирался, а до меня только слухи одни дошли.
И начал Сносырев копать, потому что не мог распроститься с желанной идеей вывести на чистую воду человека, посмевшего играть убитого императора так достоверно, так правдиво и талантливо, что ни у кого, кто имел глаза, уши и хотя бы самый средний ум, эта игра не вызвала бы уверенности в том, что они видят настоящего Николая Второго. Потянув за кончик нити, Сносырев стал разматывать целый клубок: то, что человек, игравший императора, не был не только убит или ранен, а и вообще его никто не видел ни в зале, ни за кулисами после взрыва, Сносырев выяснил скоро, и этот факт сильно поразил его.
"Как же так могло случиться, что взрыв бомбы, подложенной, как выяснилось, под сценой, не задел гражданина Романова? — мучительно рассуждал Сносырев, заперевшись в самой дальней комнате своей большой, даже роскошной квартиры, обставленной богатой мебелью, вазами китайского фарфора, с полами, устланными дорогими коврами. — Не иначе, как он её и подложил, он или его сообщник, чтобы уничтожить театр, глумившийся над личностью царя, над его семьей. Если взрывал "Красную сцену" монархист, сумевший к тому же уберечь от бомбы этого Романова, то такое обстоятельство есть доподлинное свидетельство того, что Романов-актер — настоящий Николай Второй!"
— Ну, товарищ Сносырев, как съездили в белый Екатеринбург? — мягко ступая по ковру кабинета своими вычищенными до зеркального блеска ботинками, спросил с полуулыбкой товарищ Бокий, когда Сносырев вальяжно развалился в кресле, закинув ногу на ногу.
— Так, как я и ожидал, — вяло махнул рукой чекист. — Все говорит за то, что уральские чрезвычайщики выполнили приказ Свердлова, царь и вся его семья уничтожены. Вот мой отчет о командировке с приложением копии, снятой с реестра тех вещей, что были найдены белыми на месте захоронения Романовых.
И Сносырев жестом человека, исполнившего трудную и опасную миссию с успехом, просто-напросто блестяще, вынул из недр прекрасного английского портфеля несколько листков бумаги. О своих сомнениях Сносырев Бокию рассказывать не стал, потому что разоблачение инкогнито бывшего царя берег до поры, чтобы сделать его лестницей для своего быстрого возвышения над многими, и над товарищем Бокием в том числе. Но Сносырев не знал, что всегда улыбающийся ему товарищ Бокий давно уже боится авторитета этого молодого, хваткого и умного сотрудника, сумевшего возглавить контрольно-ревизионную коллегию ЧК, наделенную правами инспектировать работу высших начальников Комиссии.
— С интересом ознакомлюсь с твоим отчетом, — переходя на «ты», сказал Бокий, что означало у него не фамильярность, а подчеркивание особо деловой стороны в беседе. — А теперь, дорогой товарищ, поведай мне, какому такому Гольдбергу ты разрешил забрать из Выборгской тюрьмы гражданку Вырубову, бывшую фрейлину императрицы?
И Бокий, сняв со своего стола листок бумаги, подал его Сносыреву, который долго рассматривал мандат, найденный под мертвой головой тюремного коменданта, рассматривал и улыбался.
— Фальшивка! — сказал он наконец тоном снисходительного пренебрежения к чьей-то неудачной шутке.
— Ой ли? — воскликнул Бокий, в глубине души поражаясь невозмутимости молодого сотрудника. — А подпись-то твоя, и бланк из твоего отдела. Представь, мы, пока ты был в отъезде, специалисту кой-какие твои бумажки, с твоей рукой, и этот вот мандат показывали, и он нам заключение такое дал: мандат тобой подписан. Как же нам дальше говорить?
— А что там, собственно, случилось? — нахмурился Сносырев, доставая из серебряного портсигара дорогую папиросу.
Бокий вкратце рассказал о нападении на тюрьму, поведал о похищении Вырубовой, и Сносырев, окутанный ароматным папиросным облаком, сказал:
— Кто изготовил налетчикам эту бумагу, я не знаю. Никакому Гольдбергу её я не давал, но через некоторое время я вам скажу определенно, кто устроил взрыв в театре, кто совершил нападение на Выборгскую тюрьму и, возможно, кто на самом деле убил товарища Урицкого. Почти уверен, что Каннегиссер, этот нервный мальчик, сочиняющий стишки, в этом неповинен.
— Очень интересно, очень, — пробормотал Бокий, проводя пальцами по своим толстым губам и пристально вглядываясь в лицо Сносырева, на него даже не смотревшего. — Уж ты, пожалуйста, нам его имя назови, а то ведь, сам понимаешь, бумага эта как-то против тебя работает, а время сейчас такое сложное, война идет, разгул преступности, происки контрреволюции.
— Дайте недельку сроку, и вы получите такой подарок, который даже Москву, да что там, весь мир не оставит равнодушным, — сказал Сносырев и, щелкнув замками своего английского портфеля из гиппопотамовой кожи, пошел к выходу, сверкая желтыми штиблетами.
Нет, Сносырев не был напуган тем, что в нем могли заподозрить участника налета на тюрьму, имевшего целью освободить "ярую монархистку", «контрреволюционерку», да ещё и "германскую шпионку" Анну Вырубову, но было неприятно осознавать себя втянутым в какую-то историю, где фигурировало его имя, честное, не запятнанное прежде ничем. Сносырев почему-то был уверен, что человек, имевший фамилию Романов, игравший в "Красной сцене" царя, и был тем, кто освобождал заключенную Вырубову, но доказать это он не мог. Конечно, можно было разыскать этого Романова, отвести его в камеру, а там добиться полного признания, применив способы допроса, приносившие успех ещё тысячелетия назад. Но тогда бы пришлось привлекать других людей, делать их посвященными в тайну ожившего императора, а Сносырев хотел добиться лавров разоблачителя один, без соратников. Особенно его тщеславие согревала надежда, что в лице Романова он отыщет ещё и убийцу Урицкого, потому что в рапорт начальника охраны, представившего Каннегиссера единственным покушавшимся на председателя ЧК лицом, он не слишком верил. Свидетели утверждали, что слышали другой выстрел, а также видели человека в плаще, умчавшегося на велосипеде.
А между тем в Петроград уже пришла весна, и воробьи щебетали яростно, совсем так же, как до революции, до братоубийственной войны, и над городом неслись разлохмаченные ветром облака, все чаще обнажая небесную лазурь, вселявшую в людей уверенность, что Небо, Вечность, Мудрость переживут земные беды, покой восстановится, женщины будут рожать, а мужчины трудиться, радуясь детям, небу, собственной силе и здоровью.
Николай и его семейство переживали эту весну по-новому. Теперь, когда после неудачного перехода через границу надежда оставить больную, истерзанную смутой Россию надолго исчезла, они как-то сосредоточились друг на друге, на заботе о самих себе, но вместе с тем желание не только жить маленьким мирком, устроенным в удобной, просторной квартире, но и выйти за его пределы, найти занятие для души, для рук, истосковавшихся по какому-нибудь делу, мало-помалу увлекало каждого из Романовых, во всяком случае, молодых членов семьи. Раньше дети царя или жили учебой, развлечениями, или выполняли роль каких-то ритуальных статистов на официальных церемониях, находясь рядом с царственными папаi и мамаi. Теперь же, когда никто не обременял их этим, девушки и Алеша могли полностью отдаться какому-нибудь любимому ремеслу.
Ольга, например, хорошо игравшая на фортепьяно, нашла себе работу. На Первой линии Васильевского острова, где жили они, в доме Клифасу, как называли это шестиэтажное здание старожилы, работал кинематограф, и как-то раз девушка увидела объявление, повешенное рядом со входом: "Требуется аккомпаниатор-пианист". Показав директорше кинематографа свое мастерство, Ольга сразу же была принята на должность аккомпаниатора, да ещё с приличным хлебным пайком, выдававшимся ежедневно, и теперь по вечерам, если не отключали электричество, она в перчатках с отрезанными концами пальцев озвучивала немые фильмы, крутившиеся бесплатно для солдат и ревматросов, куривших в зале и часто отпускавших в адрес красивой пианистки плоские и сальные шутки.
Татьяна, узнав о работе своей сестры, тотчас заявила, что тоже подыщет себе местечко, и скоро её приняли в местную библиотеку, чтобы девушка сумела разобраться в куче книг, привезенных из квартир бежавших за границу богатых горожан. Маше тоже скоро повезло, и "Добрый Толстый Туту", как в шутку называли Машу сестры за её покладистость, стала преподавать письмо и арифметику малолетним детям красного командира, жившего на одной лестнице с Романовыми. А что касается Алеши, то он под руководством отца и матери, а также сестер продолжил прерванный курс обучения, пройти который раньше ему мешала болезнь, укладывавшая мальчика в постель довольно часто, а также отъезд в Тобольск и Екатеринбург. Даже Александра Федоровна, проплакав целую неделю после того, как ей пришлось расстаться с мыслью уехать за границу и со своим любезным, сердечным другом Аней, нашла себе занятие в приведении квартиры в надлежащий вид, соответствующий её представлениям об уюте, да ещё в частых посещениях конторы председателя жилищного комитета, где бывшая императрица, чья воля не могла проявиться по-царственному, с размахом, бранилась с председательницей из-за плохо налаженной уборки двора, лестниц, из-за нерегулярно доставляемых дров и плохо текущей воды из крана. Умея добиться своего, получив устное обещание от "женщины в крестьянском платке", как называла председательницу бывшая императрица, Александра Федоровна на самом деле получала сильное нравственное удовлетворение, точно вновь стала царицей. Один лишь Николай не смог обрести душевного покоя, потому что, обладая страстным желанием вернуть себе власть в стране, не находил пока реальных способов к осуществлению своей мечты, что делало его несчастным. Он любил гулять в одиночестве по Васильевскому острову, часто заходил на Смоленское кладбище, в часовню Ксении Блаженной, где истово молился, и только Бог знал, что он у Него просил.
Однажды, в конце апреля, когда деревья Смоленского кладбища успели подернуться зеленым налетом едва распустившихся листьев, Николай, выйдя из часовни и пройдя к кладбищенской конторе, что размещалась у самого входа, сел на скамейку, чтобы покурить перед обратной дорогой. Мимо него проходили на костылях безногие солдаты, нищие в отвратительных рубищах, горожане, несшие Ксении свои мольбы о заступничестве. Никогда прежде, до великой войны и революции, не видевший такого количества обездоленных людей, он ощущал какую-то вину перед ними, и его утешало лишь сознание того, что и он сам стал жертвой, и если бы все эти люди узнали, кто сидит здесь, на скамейке, а тем более, какой конец был уготован ему и всей его семье, то, наверное, эти нищие и калеки непременно пожалели бы его.
— Товарищ Гольдберг? — услышал вдруг Николай, погрузившийся в свои думы. Он медленно повернул голову в сторону человека, одетого щегольски, даже изысканно, — шляпа-котелок, легкий серый плащ, туфли с белыми гетрами, усики, тонкие и аккуратные, — и растерянно спросил:
— Это вы ко мне обратились?
— Ах, нет, я теперь вижу, что обознался, извините, — улыбнулся молодой мужчина, сидевший на другом конце скамейки. — Просто вы так напомнили мне одного человека. Его фамилия — Гольдберг.
— Нет, я ношу другую фамилию, — равнодушным тоном, не глядя на щеголя, сказал Николай, хотя что-то внутри шепнуло ему, что этого человека в котелке нужно опасаться.
— Я понимаю, что по паспорту вы — Романов, — продолжал улыбаться незнакомец, — но я знаю также, что в некоторых случаях люди из соображений практического свойства, так сказать, облекаются не только в костюмы, не свойственные их привычным вкусам, но и выступают под чужими именами. Мне недавно рассказывали, что на одну из тюрем города было совершено нападение. Так вот, налетчики изображали из себя чекистов, и один из них назвался Гольдбергом, комиссаром Гольдбергом. Представьте себе, этот комиссар со своим товарищем убил начальника тюрьмы, а потом вывел из камеры одну арестантку, очень опасную монархистку и контрреволюционерку. Отчаянно смелый тип.
Точно парализованный, Николай оцепенело смотрел на шевелящиеся усики незнакомца, который, казалось, наслаждался тем, что привел его в замешательство. Теперь не могло быть никаких сомнений, что человек в гетрах подсел к нему потому, что был уверен в том, что именно он, Николай Романов, не только является лицом, когда-то носившим корону, но и тем, кто нападал на Выборгскую тюрьму. Правда, на лице Николая сейчас не было бороды, которую он, по настоянию Томашевского, приклеил непосредственно перед налетом, а потом снял её на ходу ещё до того, как они с Вырубовой заняли места в экипаже.
— Ну и что мне за дело до какого-то Гольдберга? — постаравшись не потерять самообладания, холодно сказал он. — Вы-то сами кто такой? Я вас и знать-то не знаю. Вы психически нормальный человек?
"Усики" усмехнулись понимающе, как может усмехаться человек, способный оценить острое словцо собеседника и не обидеться в то же время.
— Вполне нормален, гражданин Романов, вполне. А фамилия моя Сносырев, я сотрудник чека, что же касается вашего отношения к комиссару Гольдбергу, то вы скорее не к этому мифическому лицу отношение имеете, а к гражданке Вырубовой. Только для чего же вы, Романов, меня-то подвести так хотели? Ведь я и обиду на вас затаить могу: состряпали документик за моей подписью, будто именно я решил помочь монархистам в деле освобождения из тюрьмы их соратницы. Ей-Богу, до глубин сердца обидно! А товарища Урицкого, моего бывшего начальника, для чего застрелили? Он-то что вам дурного сделал? Да к тому же обрекли своим отчаянным шагом на погибель поэта Каннегиссера, который и попасть-то в Моисея Соломоныча как следует не сумел. А для чего ваш соратник театр подорвал? Что дурного сделали ему три моих товарища чекиста? И, главное самое, как вам, Николай Александрович, удалось так талантливо сыграть покойного царя Николая Второго? Вот, видите сами, как много у меня к вам вопросов, но пока я вас официально вызывать не стану. Мне ещё и самому-то многое неясно, так вот вы, гражданин Романов, не потрудитесь ли, не проясните ли хотя бы некоторые вопросы, коими я сам себя и озадачил. Ну, договоримся мы с вами?
Николай, который по мере того, как Сносырев открывал перед ним все свои козыри, становился в душе все более спокойным, точно теперь и бояться-то нечего было, раз его инкогнито раскрыто, сказал, улыбаясь и закидывая ногу на ногу:
— Договоримся, ещё как договоримся, гражданин..? — он сделал вид, что забыл фамилию чекиста.
— Сносырев.
— Да, да, Сносырев. Так вот, начну с конца прояснять. Видите ли, вы, почтеннейший, не совсем точно выразились: я не талантливо царя играл, а просто верно его играл. Ведь «талантливо» можно было бы сказать по поводу игры какого-нибудь фигляра, лицедея, а я-то не фиглярничал и не лицедействовал, а изображал самого себя, да-с! Экий вы проницательный молодой человек, раз во мне самого помазанника разглядели, да ещё не испугались не поверить в то, что весь мир знает о расстреле царском. Эта смелость вам честь делает, юноша… Ну-с, дальше пойдем: не соглашусь с вами только в том, что имею причастность ко взрыву в театре, — нет, не покушался на жизни невинных людей и очень об убиенных плаiчу. Лично я хотел лишь в самом конце спектакля во всем народу признаться, открыться перед ним и разъяснить, что никакой грязи в царской спальне не было. Что касается нападения на тюрьму, то все верно — я этот налет организовал, и теперь Анна Вырубова уж далеко, за границей, но смерть молодого коменданта тоже не на совести моей. Он проявил излишнюю ретивость, ревность к службе, вот и поплатился. Зато Моисей Урицкий моей рукой убит, ибо мстил я ему за смерть моих милых, ни в чем не повинных родичей.
Николай замолчал, а Сносырев сидел ошеломленный, подавленный, не ощущая ни радости от этого неожиданного прямого признания, ни чувства облегчения от того, что проблема, терзавшая его последнее время, исчерпана, точно песок в часах. Не радовался Сносырев ещё и потому, что вдруг ощутил себя каким-то пигмеем, даже карликом, в сравнении с этим могучим по духу человеком, бесстрашным и презирающим тех, кто был бы рад расправиться с ним опять.
— Почему… вы мне все это так откровенно говорите? — стараясь выдавить улыбку, спросил Сносырев. — Ведь вас расстреляют уже за то, что вы — бывший царь, кровавый палач, угнетатель трудового народа. А теперь ещё Урицкий, Выборгская тюрьма, взрыв в театре. Может быть, это вы… сумасшедший? Яне могу вникнуть в вашу логику, постигнуть мотивы вашего поведения. Почему вы не за границей, а живете в Петрограде во времена красного террора, суетитесь, наряжаетесь царем, чекистом? Вам что, захотелось сыграть наконец какую-то значительную роль?
— Может быть, — уклончиво и враждебно одновременно произнес Николай. А вас я не слишком боюсь.
— Это почему же? — оскалил свои ровные зубы Сносырев. — Нет, нас надо бояться, мы очень жестоки, нет, скорее, немилосердны к своим врагам, а вы наш главный враг, главный! Вы понимаете степень враждебности, которую мы выпестовали в своих сердцах по отношению к вам?
— Нет, теперь, во второй раз, вы уже не посмеете меня убить. Впрочем, вы, конечно, можете сделать это тайно, гадко, как всегда. Но что такое смерть какого-то Романова, живущего в обычной квартире на Васильевском острове? Она никому не нужна, потому что я уже и так… мертвый человек. А затевать шумный процесс вы не посмеете. Во-первых, вы опозорите себя перед всем миром уже потому, что не сумели убить меня и мою семью один раз, опростоволосились, но, скрывая неудачу, оповестили весь свет о моей гибели. Потом вам придется признаться в том, что Урицкого убил я и оставался на свободе, что я освободил Вырубову, и опять мне с рук сошло. Смотрите, сколь я умнее, талантливее вас, смелее и энергичней! А теперь поговорим конкретно о вас, сударь. Я догадываюсь, что вы крайне честолюбивы, восхищаетесь самим собой, тем, что сумели выйти на мой след, додуматься до того, что именно я, бывший царь, вашего начальника убил да и на тюрьму налет сделал. Но это я вам во всем признался, а на Гороховой запереться могу: никто меня рядом с Урицким не видел, никто не опознает, а в тюрьме я с бородой был, и тоже меня свидетели не признают. Документы же мои в полном порядке — мещанин я в прошлом, на господина Урлауба работал, был его торговым агентом, а на царя я уже почти и не похож, да и дети-то мои, да и супруга — все физиономиями изменились. Да и мало ли похожих друг на друга людей? Зато сколько доказательств того, что в Екатеринбурге с нами вполне «по-большевистски» поступили, бесчеловечно то есть. Но, положим, доказали вы миру, что я Николай Второй, ну, восстановили справедливость выстрелами где-нибудь на заднем дворе какой-нибудь тюрьмы или в подвале. Так ведь вас, сударь, как предателя, как цареубийцу, как Иуду русский народ проклинать станет. Будут говорить так: "Вот, чудом спасся помазанник Божий со всем своим семейством, а этот мерзавец Сносырев, чтобы большевистский орден к пиджаку прикрепить, взял да и снова Романовых под казнь подвел". Есть же в Петрограде люди, которые знают, что я, царь, жив-здоров, вот они, если вы тайно на меня покуситесь, всему миру о вашем втором злодеянии и расскажут. Ну, хотите прославиться как цареубийца? Честь великая, велик соблазн, но велик и связанный вместе с этим позор. А потом ещё вот что, Сносырев: дела-то красных на фронте не так что бы и ладно идут. Представьте, что белые побеждают, а вас, чекистов, бросают в застенок. Ох, страшно даже представить, какие мучения измыслят для вас монархисты, не побоявшиеся спасти меня с семьей, жизнью своей ради нас пожертвовавшие, — Иоанн Грозный до таких казней не додумался бы. Итак, видите вы сами, что все выгоды от раскрытия моего инкогнито как бы и в пух да в прах превращаются, в легкий эфир, в совершенное фу-фу. Боюсь, что многие из высокопоставленных большевиков вам открытия вашего не простят, ибо не следует тревожить прах тех, кто уже почил.
Николай нарочно говорил несколько возвышенным стилем, по-книжному, но он был уверен, что такого слога требовала минута. Сносырев уже не улыбался, а сидел со сцепленными на коленях пальцами, покручивая как бы в забытьи перстень с большим уральским самоцветом. И Николай, замолчав и взглянув случайно на этот перстень, вдруг сказал:
— Выше я говорил вам о дурной стороне вашего… общения со мной. Теперь опишу вам и хорошую.
— Неужели есть и хорошая? — оживился Сносырев и посмотрел на собеседника с шутливым озорством.
— А как же, — серьезно сказал Николай, — она присутствует обязательно, ведь преимущества и недостатки отыщутся в любой земной вещи. Так вот, надо вам сказать, что я не так-таки беден, как вы могли подумать. Конечно, революция лишила меня многих богатств, но кое-что сберечь удалось. Вы же, я замечаю, молодой человек, умеющий пользоваться материальными средствами и, несмотря на тяжкое для страны время, живете в свое удовольствие.
— Не отрицаю… — улыбнулся Сносырев. — Но на что вы намекаете? Неужели вы подумали, что я способен что-нибудь принять от вас?
— О, я почти уверен в этом! — тоном, не терпящим возражений, заявил Николай. — Господин Сносырев, я хочу предложить вам сделку: вы оставляете меня в покое, а я передаю вам фамильную драгоценность, стоящую целое состояние.
Он видел, что глаза чекиста блеснули, загорелись огоньками острого интереса, и поэтому смело продолжил:
— Когда молодой царь Петр был в Голландии с Великим посольством и работал на корабельной верфи плотником, амстердамские купцы, узнав об этом, преподнесли моему великому предку перстень с крупным бриллиантом необыкновенной чистоты и великолепной огранки. Купцы надеялись на торговые привилегии в России и заслужили их. Итак, этот перстень может быть вашим при известном вам условии…
Усики Сносырева задергались, их кончики то поднимались, то опускались, и чекист наконец сказал, тая усмешку:
— А что, если… вас просто арестуют и реквизируют все ваши сокровища как принадлежащие государству?
— Ничего не выйдет. Ведь вы не думаете же, что я храню драгоценности в ящике комода? — полупрезрительно сказал Николай, хотя бриллианты у него хранились именно там. — Скажу больше: если меня и арестуют и даже попытаются силой, пыткой выведать у меня место тайника, то я скорее откушу себе язык, чем назову его. Да и для чего вам арестовывать меня? В таком случае вам не достанется ничего — все заберет ваше правительство, которое вы почему-то отождествляете с государством. Ну, так вы согласны? Я могу быть уверенным в том, что, получив эту реликвию, вы оставите меня в покое?
— Да, будьте уверены! — резко кивнул головой Сносырев. — Но я могу гарантировать вам спокойную жизнь лишь в том случае, если и вы прекратите стрелять в чекистов и совершать налеты на тюрьмы. Когда я смогу получить от вас обещанное? Если хотите, я назову вам номер телефона моей квартиры.
— Извольте, продиктуйте. Я запомню.
Сносырев назвал пять цифр, перед этим бросив взгляд по сторонам, и они расстались, не поклонившись и не подав руки друг другу.
"Ах, зачем же я был так неосторожен! — с досадой думал Николай, когда шел от кладбища к Малому проспекту. — Для чего бравировал, нес всю эту вздорную чушь о том, что новое убийство меня, царя, большевикам совсем не нужно? Они казнят меня хотя бы за то, что я ушел когда-то от их палачей, а поэтому я должен быть наказан за сопротивление их воле. Да, я заигрался, я был неосторожен, но зато мне удалось сегодня быть гордым и бесстрашным. Я не стал врать этому мальчишке, решившему, что император уже его пленник. Я утер ему нос, но потом все-таки сорвался, я решил его купить, совершить с ним сделку, и этим я, пожалуй, себя унизил. Впрочем, ладно, отделаюсь пока бриллиантом, а после — как Бог на душу положит. Впрочем… вот прекрасный случай скомпрометировать чекиста. Я слышал, что эти «рыцари» революции борются за то, чтобы сделать Чрезвычайку органом, где работают лишь неподкупные. Ну так я разоблачу тебя, юнец, потому что твоя жадность идет вразрез с объявленной моралью твоей когорты. Пусть тебя зарубит меч, которому ты и служишь".
И Николай, воодушевленный своей идеей, прямиком пошел к мосту, чтобы перебраться на другую сторону Невы, а там попасть на Вознесенский. Ему сегодня до зарезу нужен был человек с конусовидной головой, о сотрудничестве с которым ещё совсем недавно не могло быть и речи.
Долго разыскивал он нужный дом, потом бродил по темным дворам-колодцам, где эхо шагов отражалось от стен с облупившейся штукатуркой, где дворы соединялись мрачными, как подземные катакомбы, подворотнями и повсюду лежал гниющий мусор, смердевший из-за внезапно пришедшего в город весеннего тепла. В этих дворах не ощущалось, что за толстыми стенами домов кто-то обитает. Казалось, он проходил мимо огромных склепов, набитых мертвецами, оживающими ночью, но сейчас, в дневную пору, оцепеневших в объятиях смерти.
"А ведь я долго жил неподалеку от этой части города и не подозревал, что живу в соседстве с этими ужасными трущобами, — думал Николай, завороженный этим каменным кладбищем, где его душе было куда хуже, чем на Смоленском кладбище, откуда он только что пришел. — Как же здесь могли жить люди, не видя солнечного света, постоянно ощущая эти гадкие запахи? Почему мне ни разу не докладывал градоначальник о том, что в моей столице есть подобные жилища, грязные, неуютные, совсем не приспособленные для жизни моих подданных. Нет, если я снова стану повелителем России, то выстрою для бедных на государственный счет светлые, просторные жилища, где не будет места для физической и нравственной нечистоты, куда будет приятно возвращаться после работы, ужинать, играть с детьми, а потом ложиться спать в чистую постель подле сытой, довольной жены".
Но вот он уже нашел нужный подъезд, поднялся по щербатым ступеням на пятый этаж, покрутил ручку звонка, и скоро чьи-то шаркающие шаги подсказали, что идут открывать. Старуха, сгорбленная и одетая в лохмотья, враждебно взглянула с порога на Николая, и он почему-то решил сразу же задобрить её деньгами, сунул в сморщенную руку сторублевую бумажку и спросил:
— Здесь ли живет гражданин Лузгин?
— Этот душемор? — Старуха скрипуче рассмеялась, показав два последних желтых зуба, смачно выругалась, схватила Николая за рукав и потащила по длинному темному коридору, где пахло мышами и чем-то невыносимо кислым, будто везде стояли бочки с протухшей квашеной капустой. Он буквально задыхался и уже жалел о том, что его сюда занесло.
— Ба, кого я вижу, Николай Александрович! — радостно всплеснул руками Лузгин, когда Романов просунул голову в комнатушку, на которую ему указала старуха. — Проходите, проходите. Вот кресло, там вам покойно будет.
Хозяин, взъерошенный, одетый в грязный, изодранный халат, заметался по комнате, взволнованный неожиданным визитом. Он сбрасывал со стульев, с кресел тряпки, газеты, книги, желая как можно скорей привести свое убогое жилище в надлежащий вид. Николай, присевший на краешек венского стула, отказавшись от нечистого, замасленного кресла, видел, что этот суетящийся человек просто сияет от счастья, от избытка торжества, потому что недавний повелитель империи почтил визитом его каморку и не уходит, хотя и видит, в какую конуру он попал.
— Не желаете ли, знаете, чайку? Сейчас пойду на кухню и поставлю кипятку — плиту топили совсем недавно, — спросил Лузгин.
— Нет уж, увольте, — недовольный самим собой отверг предложение Николай. — Перейдемте-ка к делу.
— Да-с, слушаю, чего изволите? — с ловкостью обезьяны подсунул под себя стул Лузгин и замер угодливо в позе ждущего приказания лакея. Романову стало очень противно, но он, пересиливая физическую и душевную тошноту, заговорил, бросая фразы небрежно, нехотя, быстро рассказал о сегодняшнем разговоре на кладбище и заметил, как по лицу Лузгина блуждает, желая спрятаться, но все время вылезая наружу, мерзкая улыбка страшного удовлетворения.
— Ну что я могу вам сказать, — развел руками Лузгин жестом человека, предрекшего события, предупреждавшего о многом, а теперь жалеющего того, кто не внял его советам. — Сами видите, какие неприятности вы навлекли на себя. Но я… я, — замедлил с продолжением фразы Лузгин, — просто потрясен вашим, Николай Александрович, самообладанием. Говорил же я вам, уезжайте отсюда, — нет, не уехали, да ещё и семью свою назад возвратили. Значит, на великие деяния себя обрекли, обрекли… Правда, все великое-то с великими трудностями сопряжено, как всегда, как везде, и вас они тоже ждут. Правда, пришли вы в дом к нужному вам человеку…
— Нельзя ли покороче, любезный, — тоном крайнего пренебрежения сказал Николай. — Я, знаете ли, не нотации ваши слушать пришел, а хочу узнать: нельзя ли как-нибудь скомпрометировать этого назойливого чекиста, по всему видно, выскочку, желающего занять пост повыше. Ему я уже предложил мзду и хочу, чтобы его товарищи поняли, с кем имеют дело. Но одного моего бриллианта маловато, думаю, будет. Есть ли у вас о нем дополнительные порочащие его факты?
Лузгин мигом вскочил со стула, забегал по тесной, неприбранной комнате с видом какого-то мелкого зверька, запертого в клетку, тщетно ищущего выход, вдруг резко остановился:
— Ах, Николай Александрович, разрушаете вы, образно выражаясь, всю мою мозаику, ибо мечтал я при помощи моих бумажек, кои собираю уже давно, взорвать единовременно все здание Чрезвычайной комиссии. Теперь же, выходит, нужно по одному мои стеклышки разноцветные в ход пускать. Ну да ладно, ну да ради вас-то не то что смальту, а и бриллианты растратить можно. Вы-то… кхе-кхе… не пожалели чекисту амстердамский алмаз пообещать, — вот и я не пожалею. Не знаете вы, куда пришли, ваше драгоценное величество. — Глаза Лузгина загорелись. Он несколько театрально обвел плавным жестом руки стены комнаты. — В этом срамотном узилище, кто бы знал, заключены такие сокровища, каких и в ваших кладовых не было. За мой архив, собиравшийся давно, по крупицам, по листочку, господа из чека, из Советов, полстраны сейчас отдать могут, да только чтоi мне их богатства, если я ради вас одного или… или того, кто вместо вас скипетр примет, старался, унижался, подличал, поил людей мертвецки, а некоторых, некоторых, Николай Александрович, отправлял туда, где текут, простите за слог, мутные воды Стикса, где Харон…
— Ну ладно, оставьте Харона, — содрогаясь от омерзения, которое вызывал в его душе этот нескладный с виду человек, сказал Николай. — Что вы хотите мне предложить? Мне нужно погубить Сносырева, но совсем не ради его гибели!
— Что-то вы не очень ясно выражаетесь, ваше драгоценное величество, пробормотал Лузгин с дьявольской улыбкой на лице, — в ум не возьму, для чего нужно в случае таком губить приятного молодого человека, хотя бы он и чекист? Ну, отдайте ему ваш блистательный диаманд, да и дело с концом. Или жаль? Так ведь я знаю, что у вас их ещё немало…
— Не в этом дело, не скуплюсь я, понимаешь! Мне… мне нужно войти к главным людям Чрезвычайки, себя перед ними зарекомендовать, никого убивать я больше не стану — не мое это дело, а вот нужным, по большому счету нужным там мне сделаться необходимо!
Николай сказал эту фразу и даже сам испугался того, с какой откровенностью и ясностью он сумел-таки высказать человеку, которого презирал, свой тайный план, вымученный и выношенный бессонными ночами. Он, ненавидевший всех, кто служил в тайной полиции, выходит, становится таким же служителем, только искать известности приходится не у высших чинов, поддерживающих законный государственный порядок, а у тех, кто был карательным органом незаконной революционной власти. И Николай увидел, что улыбка то ли снисхождения, то ли презрения, мелькнувшая на губах Лузгина, тотчас сменилась выражением понимания и серьезного сочувствия. Покачав своей уродливой головой, хозяин комнаты сказал:
— Дело говорите, Николай Александрович. Если бы я со своими бумажками туда пошел, погиб бы, да и только, хоть и похоронил бы кое-кого. Вы же, батюшка, при вашей-то энергии да уме из моих материалов подножие трона своего устроите. — И Лузгин, неуловимым движением руки сдвинув в сторону легко откатившийся шкаф, взялся за слегка выступающую вперед скобку, дернул за нее, и открылась дверца довольно объемного тайничка. Николай увидел, что это тайное вместилище забито пачками каких-то бумаг. Порывшись, Лузгин вытащил из темного нутра папку, обтянутую дорогой малахитовой бумагой, снова закрыл тайник, задвинул шкаф, сел напротив Николая и строго так сказал:
— Ну вот. Этот ваш Сносырев, как явствует из этих документов, до Чрезвычайки служил в комиссии снабжения Восточного фронта красных, а такие должности как при вашей власти, так и при новой, революционной, доход дают колоссальный, прямо скажем, астрономический. Из бумажек этих вам все видно будет. Узнают в Чрезвычайке и о том, как Сносырев, воруя революционные деньги, кутил, разъезжал на рысаках, устраивал банкеты с сестрами милосердия, со всякими уголовными типами, как приобретал свою домашнюю обстановку, как сшибал золото и серебро со всех, кто попадал к нему в руки. Это ж надо — люди голодают, а он с дружками пиры закатывает на квартирах частных и в лучших гостиницах Петрограда, где шампанское — не спирт, не водка, а шампанское — течет рекой! Короче, вот вам эти документы, и да хранит вас Бог. Если не сумеете начать… свою карьеру посредством этой папки, так и вовсе не начнете. Все продумайте до мелочей, просите аудиенции не у Бокия, а у его секретаря, Иоселевича, а то не пустят, затрут, Сносыреву донесут. Этого сильнее всего и опасайтесь, не то — не сдобровать. Берите папку…
Николай принял из рук Лузгина малахитовую папку, повертел её в руках, хотел сказать хозяину «спасибо», но почему-то не сказал, а лишь отрывисто кивнул и вышел в коридор.
Секретарь Иоселевич, худенький, проворный, как и положено секретарям, считал себя работником незаменимым, потому что ощущал, какую нужду испытывает в его действиях товарищ Бокий, не любивший мелочную бумажную работу, а поэтому сваливавший все дела по картотеке особо важных и даже незначительных врагов новой России на своего секретаря. Обширные же познания Иоселевича в области контрреволюционного или просто криминального мира привели секретаря к убеждению, что он никак не заменим, и если уйдет с работы Бокий, как «ушел» товарищ Урицкий, то влияние его личности в Комиссии ничуть не уменьшится, а авторитет не будет поколеблен.
— Знаете ли, — покачав головой, сказал Иоселевич Николаю, когда тот наконец добился встречи с секретарем председателя петроградского чека, иметь такую фамилию в соединении с таким именем и отчеством сейчас не только неприлично, но и небезопасно, да…
Николай вздохнул:
— Что же мне делать? Говорят еще, что я чем-то напоминаю внешностью Николая Второго, правда?
Иоселевич, взглянув на Николая быстро, хватко, улыбнулся и сказал:
— Да нет, это уж преувеличение. У Николая Кровавого было совершенно иное выражение глаз и рта, куда более жестокое. Вы же по внешности учитель гимназии или какой-то аптечный провизор. Зря обольщаетесь… Ну так займемся делом. Значит, вы просите, чтобы я передал эту папку лично товарищу Бокию?
— Именно так, — вежливо кивнул Николай в знак согласия. — Когда бы я сумел узнать о результатах ознакомления товарища Бокия с этими документами? — И, получив ответ, вышел из кабинета всесильного секретаря.
Когда товарищ Бокий, найдя пяток минут для ознакомления с содержанием малахитовой папки, переданной ему секретарем, углубился в чтение лежавших в ней бумаг, то, озадаченно, а временами радостно потирая свою бычью шею, потевшую все больше и больше по мере того, как он вникал в смысл документов, просидел в своем рабочем кабинете полночи. Противоположные чувства, точно дикие кони, несущиеся навстречу друг другу, сшибались, боролись, но в конце концов победу одержало чувство радости, буквально распиравшее широкую, жирную грудь главного чекиста.
"Догадывался я, милый мой Сносырев, что все твои запонки, булавки, галстучки, штиблетики и прочие игрушки — от лукавого, — думал он. — Вот, все прояснилось, и теперь ты, гордец, пойдешь под трибунал, потому что ни вся ЧК, ни я в отдельности, которому ты тычешь в глаза своей профессиональной ловкостью, не можем больше мириться с тем, что такая гниль, как ты, порочит наше славное имя. Наша комиссия — это крепкая дубовая бочка, надежно стянутая новыми обручами. Но явился такой вот короед и проточил в бочке дырку, очень маленькую, едва заметную, и вода по капле вытекла из бочки. Ну так чтобы вместе с этой водичкой не вытекла и моя жизнь, моя карьера, я эту дырку, тобой просверленную, законопачу. Будешь знать, как гонять на рысаках из борделя в бордель да купать б…й в шампанском".
На следующий день Бокий встретил Николая у себя в кабинете, держа руки за спиной, коротко сказал «садитесь», указал на стул и сам сел напротив, а не на свое место.
— Значит, вы и есть тот самый Романов, в котором покойный Златовратский якобы узнал царя? — начал он, внимательно глядя на собеседника.
Николай вежливо улыбнулся и сказал, замечая, что Бокий просто въедается в его лицо своим кусающим, проницательным взглядом:
— А ваш секретарь сказал, что я вовсе не похож на последнего русского царя. Кому же верить? Но, скажу по правде, мне и до Октябрьского переворота многие указывали на сходство с Николаем Вторым, к тому же, волею случая, я тоже Романов, тоже Николай, жена мне досталась с именем Александра, а уж потом, когда у нас стали появляться дети, мы стали называть их точно так, как и царь называл своих детей. Скорее смеху ради. Но теперь, пожалуй, нужно поменять фамилию и имя, потому что жить Романовым стало труднее. Вот и ваш сотрудник Сносырев стал подозревать во мне императора, и, знаете, я был польщен — приятно, хоть и небезопасно. Но посудите сами: если бы большевики и выпустили бы из-под ареста Николая, того самого Кровавого, то стал бы он жить здесь, под носом у Чрезвычайки? Нет, что вы, — тотчас бы уехал к родственникам за границу.
Бокий слушал с каким-то веселым задором, сложив на груди руки, и едва Романов закончил, как он тотчас сказал:
— Не беспокойтесь, теперь вас никто не станет путать с Романовым-царем — понимаю, это неприятно. Но скажите, наверное, у товарища Сносырева были основания вас… не любить? Откуда у вас документы, компрометирующие его?
Николай понимающе кивнул. Он ожидал этого трудного для себя вопроса.
— Представьте себе, эту папку передал мне один случайный зритель, который пришел на репетицию нашего спектакля. Не сам ли Сносырев её оставил в кресле, когда явился в зал? Он мне сказал, что тоже был на репетициях.
— Но почему же этот человек отдал папку именно вам?
— Нет, не именно мне, а просто, подойдя к сцене, он протянул её артистам и сказал: "Возьмите, кто-то позабыл. Может быть, придет за ней". Я стоял к этому человеку ближе всех других, вот и взял, потом отнес её домой и скуки ради — я очень любопытный — открыл папку и прочитал некоторые бумажки. В силу дотошности своего характера я разобрался довольно скоро в том, что все эти документы могут представлять интерес для Чрезвычайной комиссии, ведущей борьбу с контрреволюцией, саботажем и всякими другими преступлениями. Сам я настроен весьма лояльно к нынешней власти, и мне совсем небезразлично, кто работает в наших карательных органах.
— Гм, — кашлянул в кулак Бокий, — нам это тоже не безразлично. Но продолжайте. Как же Сносырев узнал, что папку взяли вы?
— Ему об этом сказал кто-то из артистов. Могу понять, какое беспокойство охватило товарища Сносырева. Он разыскал меня, стал всячески запугивать, говорить, что я — спасшийся от казни Николай Второй, что меня обязательно расстреляют, меня и всю мою семью, требовал вернуть папку, но я, поняв, с кем имею дело, решительно отказался, заявив ему, что сжег папку как не представляющую для меня лично никакой ценности, сжег в кухонной плите по причине недостатка дров.
— И что же Сносырев?
— Не поверил! Стал требовать у меня или папку или какой-нибудь значительной денежной компенсации.
— И вы… согласились?
— Признаiюсь, да, — вздохнул Николай. — Товарищ Сносырев грозил расстрелом, вытаскивал из кармана револьвер, наставлял его на меня. Понятно, кто в моем положении не струсит? И я пообещал отдать ему единственную нашу драгоценность, можно сказать, семейную реликвию, перстень с бриллиантом. Завтра в пять вечера на Смоленском кладбище, недалеко от входа, на скамейке мы встречаемся. Там-то я и должен буду передать ему перстень.
Вдруг он сделал обиженное лицо, словно осознав недопустимость этой экспроприации, подскочил на стуле и, протянув к Бокию руки, спросил:
— Но разве это законно? Я понимаю, если бы новое правительство потребовало бы от меня сдать эту драгоценность, чтобы на вырученные от её продажи средства построить школу, купить оружие для Красной армии, накормить голодающих! Разве я, Романов, отказался бы? Кстати, я как раз и собирался принести этот бриллиант в какой-нибудь Совдеп, но, как видно, не успел. Посоветуйте же мне, что делать? Защитите меня от этого хапуги!
— Но-но, — строго поднял вверх указательный палец Бокий, — покамест мы ещё не разобрались, нельзя так говорить — хапуги! Здесь — Чрезвычайная комиссия. Впрочем, — сразу же смягчился Бокий, — мы вам очень благодарны за бдительность и даже бесстрашие в некотором роде. Очень благодарны. Завтра, как договорились, встречайтесь со Сносыревым. Мы посмотрим на то, как… наш товарищ распорядится вашим имуществом. Только не обижайтесь, если перстень на самом деле станет достоянием республики, — ему найдется достойное применение. И вот ещё что, — Бокий растянул свои толстые губы в многозначительной улыбке, — самое деликатное. Коли вы, Николай Александрович, сумели проявить свою лояльность к новому строю и даже взялись активно с нами сотрудничать, то я был бы рад, если наше сотрудничество не ограничится лишь… делом Сносырева, назову его так. Помогайте нам по мере сил, и будьте уверены в том, что революция вас не забудет.
— Понял, — одними лишь веками делая утвердительный жест, сказал Николай, почему-то краснея. — По мере сил согласен.
Очень довольный разговором с человеком, которого ошибочно принимал за последнего русского императора, Бокий проводил Романова до дверей кабинета и ласково пожал при прощании руку.
"А руки-то у него такие мягкие, чуть ли не женские, — подумал Бокий про себя, когда дверь затворилась. — Наверное, и впрямь служил в конторе Урлауба, торговавшего гидравлическими аппаратами. А в общем, вполне милый тип, очень вежливый и даже умный. Мы с ним посотрудничаем, конечно…"
А на следующий день, в пять часов вечера, когда два человека сидели бок о бок на скамейке неподалеку от конторы Смоленского кладбища и один из них передал что-то небольшое по размерам своему соседу, из-за кустов акации, росших вдоль дорожки, вышли трое мужчин, одетых бедновато, но вполне пристойно, быстро подошли к тому из сидящих на скамейке, кто принял тот небольшой предмет, уверенно и хватко взяли под руки и повели его к воротам кладбища. Задержанный пытался возражать, даже вырывался, обещал расправиться со схватившими его людьми, но спустя полминуты он притих, замолк и только обернулся один раз, чтобы долгим, каким-то вязким взглядом посмотреть на человека, оставшегося на скамейке и не глядевшего в его сторону.
А вскоре гражданин Сносырев предстал перед Ревтрибуналом, был судим и приговорен к расстрелу за многочисленные служебные злоупотребления. С ним вместе расстреляли и его сообщников из контрольно-ревизионной коллегии ЧК.
***
Покойная счастливая семейная жизнь монархов составляет тот надежный тыл, куда, сбросив горностаевую мантию и надев на себя домашний халат, мог поспешить государь, превратившись в обыкновенного человека, или, напротив, став властелином крошечного государства, именуемого семьей, где «подданные» преданы тебе, никто не стремится подметить промахи в твоих действиях, никто не завидует тебе и не спешит подыскать тебе замену. Семья на самом деле может делать из мужчины настоящего монарха или низвести его до состояния раба.
…Александра Федоровна, имея пылкий, странный характер, склонная к мистицизму, нашла в русском православии благодатную почву для своего развития, искренне пыталась привлечь к себе людей своей открытостью, но едва замечала в собеседнике непонимание, нежелание или неумение ответить тем же, сразу замыкалась, и искренность сменялась холодностью, часто подчеркнутой, что редко прощалось царице, — её многие недолюбливали.
Она страстно желала подарить Николаю сына, способного сменить отца на троне, превратиться в царя, продолжив собою веками установленный порядок. Но Бог распорядился по-своему: 3 ноября 1895 года разнеслась весть о том, что государыня изволила разрешиться девочкой, и Николай Второй, впервые став отцом, безумно радовался этому событию, совсем не думая тогда о том, что дочь не может наследовать трон. Обряд крещения великой княжны был подчеркнуто пышным. Девочку нарекли Ольгой.
Новорожденную Ольгу Николаевну нужно было перевезти из Александровского дворца в Большой, и для этого составлялся церемониальный кортеж: впереди всех ехал взвод собственного его величества конвоя, потом конюшенный офицер верхом, далее — четыре конюха верхом, за ними обер-гофмаршал с жезлом в парадном фаэтоне. Следом за этой кавалькадой двигалась парадная золоченая карета, запряженная цугом в шесть лошадей. В ней, на руках у гофмейстрины княгини Голицыной, ехала крошечная великая княжна. У дверей кареты, справа и слева от нее, шли шталмейстер высочайшего двора и офицер собственного его величества конвоя, солдаты которого замыкали кортеж.
Пока великую княжну доставляли в дворцовую церковь, собравшиеся во дворце придворные чины, все в парадном платье, начинали шествие в строго установленном церемониалом порядке. Церемониймейстер высочайшего двора нес туда орден Святой Екатерины на золотом блюде, чтобы возложить его на крошку Ольгу после таинства крещения. Пушки салютовали 101 раз, и начинали вызванивать колокола во всех церквях Царского Села.
Но каким бы радостным ни было рождение дочери, Александра Федоровна не могла не думать о том, что от неё все же ждали цесаревича. И вот снова беременность, снова роды, и опять лейб-акушер спешит сообщить о появлении на свет дочери — Татьяна родилась спустя полтора года после рождения Ольги, 29 мая 1897 года.
Рядом со спальней в Александровском дворце — молельня, сплошь увешанная иконами и образками — сотни штук. Здесь Александра Федоровна молилась, прося Бога послать ей сына, но спустя два года после появления на свет Татьяны она снова родила девочку, нареченную Марией. Казалось, судьба смеялась над женщиной, так хотевшей угодить своему мужу, оправдать его надежды на продолжение династии. 5 июня 1901 года придворные с затаенным чувством злой радости узнали, что царица родила четвертую дочь, названную Анастасией.
Ступень тринадцатая МАШИНА РАДОСТЬ, ОТЦОВСКАЯ ПЕЧАЛЬ
О том, что Маша ждет ребенка, в квартире Романовых узнали летом девятнадцатого года, узнали разом все, потому что Маша объявила о своей беременности каким-то радостным, возвышенным тоном совершенно неожиданно, когда семья собралась за утренним чаем с поджаренным на прованском масле хлебом.
— Милые папа и мама, — так и искрилось радостью и без того от природы улыбчивое Машино лицо, — смею вас поздравить — вы будете дедом и бабкой!
Александра Федоровна, физиономия которой от удивления стала непропорционально длинной, звякнула ложечкой, выпавшей из её пальцев, внезапно ослабевших, и спросила, с трудом шевеля губами:
— Благодаря кому же это может случиться?
— Как кому? Мне, конечно. У меня будет ребенок!
Не замечая выражения лица матери, Анастасия издала какой-то резкий ребячески-задорный то ли визг, то ли крик, вскочила из-за стола, вначале подпрыгнула, громко хлопнула в ладоши, а потом, быстро обняв сестру за шею, запечатлела на её румяной щеке звонкий поцелуй и сказала:
— Душечка, Машенька, ах, как это замечательно. Но ты не разыгрываешь нас, у тебя на самом деле будет маленький, а я стану теткой, очень важной, толстой — вот такой — и очень строгой?
Николай, сильно побледневший, переводивший взгляд с Маши на жену, неспособный ещё постигнуть важность сообщения дочери, вдруг проговорил громко и повелительно:
— Алексей и Анастасия — сейчас же уйдите в свои комнаты. Немедленно!
Анастасия сразу повиновалась, а Алеша, направляясь вслед за сияющей счастьем сестрой, пробурчал, дожевывая хлеб:
— Ну вот, так всегда, как маленьких…
Когда «маленькие» ушли, Николай, сидя вполоборота к Маше и не глядя на нее, дрожащим голосом сказал:
— А теперь извольте-ка, Мария Николаевна, раскрыть нам поподробней смысл вашего… любопытного сообщения. Льщу себя надеждой, что вы изволили над нами подшутить, ибо игривый тон да и случай, обстановка, при которых оно было сделано, дает мне право сомневаться в истинности его.
— Да чего тут сомневаться? — немного стушевалась Маша, испугавшаяся холодного голоса отца и выражения лица своей матери. — Это так натурально…
— Нет, Маша, это натурально для замужней женщины! — необыкновенно гневно и даже резко взмахнув рукой, будто отсекая вредную Машину мысль, сказала Александра Федоровна. — А для тебя, девушки, беременность может быть лишь доказательством твоего нравственного и телесного падения. Так поступали кухарки, всякие поденщицы, батрачки и фабричные девчонки, но заводить дитя без мужа для дочери императора России, великой княжны, — это позор, крайняя степень падения!
Маша, все быстрее и быстрее моргавшая своими чудесными серыми глазами, наконец осознала, что, по крайней мере в глазах своей матери, она совершила тяжкий, гадкий поступок. Она и раньше предполагала, что её новое положение не обрадует родителей, но чтобы недовольство проявилось в такой резкой форме, она не ожидала. И Маша отчаянно зарыдала, страшно испугавшись своего греха.
— Но я… мы… мы так любили друг друга, любим и сейчас. Мы обвенчаемся, никто не будет думать, что наш ребенок зачат ещё до брака. Прошу вас, не браните меня. Мне так страшно! Да и какая я великая княжна? Я уже никто, я просто гражданка Романова, у меня даже нет никакого занятия. Ну простите вы меня, пожалуйста, простите!
Ольга и Татьяна, которых, как старших сестер, оставили за столом, чтобы они приняли участие в семейном совете, да ещё для назидания, смотрели на сестру с сочувствием и осуждением одновременно. Им давно бы быть замужем, рожать детей, но обстоятельства не сложились ещё в их пользу, а поэтому их женская природа, молчаливая, но зовущая, откликалась сейчас на беременность сестры чувством признания этого факта как нормального, физиологически оправданного, но их нравственное чувство осуждало Машу и негодовало по поводу её слабости.
— Ну а теперь, дорогая дочь, — переборов гнев, заговорил отец, — ты назовешь нам имя того самого счастливчика, который позаботился о продлении династии Романовых. Ну, ну, не стесняйся, ведь мы уже догадываемся, чье имя ты назовешь. Это наш добрый ангел-хранитель, господин Томашевский?
Маша утерла рукой текущие блестящими дорожками слезы и, моргая мокрыми глазами, кивнула:
— Да, мы так любим друг друга. Папа, Кирилл Николаич страшно боится твоего гнева, будь с ним помягче…
— Помягче!! — вдруг прокричал Николай, вскакивая из-за стола. — А почему же, сударыня, я должен быть помягче с этим прохвостом, нагадившим мне, недавнему императору России? Или, может быть, он великий князь, их высочество или, на худой конец, их сиятельство? Или он заслуженный генерал, адмирал, прославившийся при защите отечества? Нет, Кирилл Николаич кухаркин сын, незаконнорожденный, ублюдок, как говорили в старину, да и теперь говорят. Ведь он же знал, как я отнесусь к его женитьбе на тебе, никогда не позволю этого брака! Так он, не спрашивая моего разрешения, желая поставить перед фактом преступного соития, чтобы я не смог отказать, сочетается с тобой тайно, как вор, как последний мерзавец! И это он сделал тогда, когда я принял его у себя как равного, едва ли не как сына!
Маша заливалась слезами, а вместе с ней плакали Ольга и Татьяна, в сердцах которых сочувствие к сестре взяло наконец верх над осуждением, но Александра Федоровна не плакала — с прямой, как доска, спиной, со взглядом неподвижным и тусклым, устремленным куда-то в угол комнаты, она была похожа на восковую фигуру, и даже Николай поразился, как она напоминает сейчас Екатерину Великую.
— Ники, — сказала она вдруг деревянным голосом, — удали детей. Мне нужно поговорить с тобой…
— Пусть все уйдут, — произнес Николай, не поднимая головы, и дочери тотчас ушли, унося из гостиной свои слезы.
Отец и мать, мужчина и женщина, прожившие вместе двадцать пять лет, сидели и молчали. Наконец он сказал:
— Ну и что же мы будем делать, Аликс? Не знаю, боюсь, я обижу тебя, но сейчас мне бы хотелось задать один вопрос…
— Я слушаю тебя, — боясь этого вопроса, тихо проговорила Александра Федоровна.
Помолчав, он спросил:
— Как ты думаешь, склонность к блуду дочерей — это упущение в воспитании или заложенная через родителей природа?
— Ники, — вздохнула женщина, — пока мы живем на этой квартире, ты оскорбляешь меня уже второй раз. Первый, это когда ты припомнил мне Геню, заподозрив меня в связи с ним. Твое второе оскорбление — это продолжение первого, зато я со своей стороны хочу сказать тебе следующее: если бы мы не остались в этой ужасной стране, где политическая свобода отворила двери для разврата, нравственной распущенности, ничего подобного бы не случилось. Маша точно впитала в себя этот… гнилостный воздух, которым дышит сейчас твой народ, русский народ, самый ужасный на свете. Не видишь разве, что русские не выдержали испытания свободой, впились друг другу в глотки, осквернили блудом таинство брака!
— Ах, да оставь ты, пожалуйста! — закричал Николай, ударяя ладонью по столу так, что повалились два стакана. — Не смей оскорблять мой народ, ты его так и не узнала! Или, думаешь, немцы после крушения империи, в обстановке политического разброда, голода, хозяйственного краха сохранили свою былую чистоту, представление о которой и прежде было сильно приукрашено? Давай лучше подумаем, как поступить с Машей, с этим Томашевским и с их ребенком!
— Как-как, — обиженно пожала плечами мать, — в конце концов, есть врачебные средства…
— Нет, на это мы согласиться не можем! Эти ваши "врачебные средства" страшный грех, не менее тяжкий, чем убийство человека. Но я не могу допустить и того, что Маша выйдет замуж за безродного, даже не за дворянина. Правда, я сам во многом виноват: сделал этого негодяя другом семьи, посадил за один стол с тобой, с детьми. Ах, как я оскорблен!
— Ники, — тяжело вздохнув сказала Александра Федоровна, — мне кажется, что ты совершенно неверно оцениваешь свое, нет, наше положение. Да, ты Романов, бывший царь, но ведь только бывший, бывший. К чему же эта спесь? Ты называешь Кирилла Николаича низкородным, в то время как себя называешь "гражданином Романовым", мещанином, агентом по продаже каких-то аппаратов. Забудь о том, что ты — царь, что твои дочери — великие княжны, хоть я и назвала этим титулом Машу ещё пятнадцать минут назад. Что делать, наша дочь согрешила, но грех может быть устранен законным браком с этим человеком, с героем, нашим защитником, преданным нашей семье. Да, я бранила Машу, но я как женщина её могу понять: Кирилл Николаич — красивый, обаятельный мужчина, благородный, сильный…
— А я не в силах понять тебя! — все так же громко, почти прокричав, сказал Николай. — Быстро ты забыла, кто такие Романовы. Во мне живет чувство, что я не только бывший царь, но и царь будущий. Человек, процарствовавший четверть века, не способен до самой смерти забыть, кем он был, каким величием, властью был наделен. Да и с какой это стати я должен расстаться с идеей вернуть себе власть, трон, корону? Ты разве не знаешь, что красные на Южном фронте терпят от Деникина одно поражение за другим, а генерал Юденич уже под Петроградом? Какие-нибудь два-три месяца — и большевистский режим падет, их власть рухнет, как карточный домик. И не ко мне ли обратятся победители, чтобы вручить мне власть? Очень может быть, что именно ко мне, вот и стану я царем России вновь, потому что русский народ, познавший ужас власти инородцев, все эти пыточные избы Чрезвычайки, красный террор с расстрелами ни в чем не повинных людей, с баржами, пускаемыми на морское дно с живыми людьми, уже не станет доверяться всяким там депутатам, продажным и лживым. Русские, так ненавидимые тобой, поймут, что править страной должен монарх трехсотлетней династии, а не Керенские, Троцкие и Ленины!
Он говорил горячо, убежденно, и Александра Федоровна, видя, как уверен её муж в своей правоте, посмотрела на него с уважением.
— Хорошо, — сказала она растерянно, — возможно, ты прав, но все-таки при чем тут Маша и Томашевский?
— А при том, что я… как будущий император России, не могу обзавестись таким постыдным родством, просто не имею права. Да, это наше несчастье, проклятье даже, если хочешь. В шестнадцатом-семнадцатом веках русские царевны были вынуждены оставаться безмужними и бездетными, запертыми в светелках терема, потому что даже окольничий, столбовой дворянин или боярин считался холопом русского царя, и выдать царскую дочь за холопа было делом немыслимым. Теперь же холоп и не спрашивает моего разрешения, бесчестит мою дочь в надежде, что искупит грех бракосочетанием с ней. А ведь ты помнишь, что и наша старшая дочь, Оля, тоже воспылала страстью к одному лейтенанту, Павлу Воронову…
— Да, да, — поспешила кивнуть Александра Федоровна, которой было неприятно вспоминать, как шесть лет назад, когда Ольге было восемнадцать, она на самом деле полюбила морского офицера, такого же красивого, как Томашевский, и лишь решительный протест родителей не дал углубиться чувству, и возлюбленные были навек разлучены.
— Так вот, Аликс, я должен тебе сказать, что мне будет страшно тяжело разлучать Машу и Кирилла Николаича, потому что я… я люблю его как сына. Но иначе сделать я не могу. Мало того, Томашевский должен будет не просто покинуть Машу, но и уйти из жизни совсем, точно его и не было…
— Как это? — удивилась Александра Федоровна. — Как это… совсем? Умереть?
— Да, умереть. Я не прощу ему позора дочери, иначе я и не царь совсем, а просто гражданин Романов.
— Ты что же, убьешь его? — испугалась мать.
— Да, убью. Я застрелю его, но, конечно, не как душегуб, разбойник, а как благородный человек. У нас будет поединок, и пусть Божий суд свершится. Я оскорблен, а Бог, как правило, защищает оскорбленных!
— Нет, ты не убьешь Кирилла Николаича! — властно, но в то же время и с мольбой прокричала Александра Федоровна. — Ты что же, хочешь сделать несчастной свою дочь? Ты убьешь её тоже! Какой же ты отец?
— В данном деле я не отец, не отец! — хватаясь рукой за горло, задушенно прохрипел Николай. — Здесь я не отец, а царь-отец, это большая разница, и Маша, перед тем, как ложиться в постель со своим возлюбленным, должна была в первую очередь помнить о том, что она тоже не просто дочь, не просто девушка, а ещё и великая княжна, дочь царя! А посему пусть она пеняет только на саму себя. Она убила не только своего любовника, но себя и, может быть, ребенка. Так нам, царям, мстит традиция, наша царская честь, правила нашей жизни, и иначе у нас быть не может — иначе мы уже не цари! Впрочем, — вдруг улыбнулся Николай печально, — может статься, Томашевский меня убьет, и тогда Маша справит свадьбу с ним, а я уже не стану досаждать вам своими надоедливыми напоминаниями о том, кто вы такие…
Он вышел прочь из комнаты, не замечая, что в коридоре кто-то отпрянул от распахнувшихся дверей и прижался к вешалке с плащами и пальто.
Дважды заходил Николай в квартиру напротив, где жил Томашевский, но не застал его. "Прячется, — думал он со злобой, — знает кошка, чье мясо съела. Ну ничего, дождусь. Пусть не думает, что я успею остыть и простить ему его тяжкое оскорбление!"
Наконец, уже почти ночью, позвонив в квартиру Кирилла Николаича в третий раз, он был встречен самим Томашевским, спокойным, каким-то нагло спокойным, будто он и не испытывал чувства вины.
— Я к вам совсем ненадолго, — ненавидя этого выдержанного мужчину, который, наверное, даже сегодня утром не забыл тщательно подровнять свои офицерские усики, сказал Николай, и, когда Томашевский провел его в свою комнату, опускаясь на диван и закидывая нога на ногу, промолвил: Поздравляю, молодой человек, поздравляю! Надеюсь, хлопот было немного? Ведь Маша в нашей семье за свою покладистость и доброту была в шутку прозвана Добрым Толстым Туту. Ну как же не воспользоваться этими качествами, молодой человек?
Он говорил с подчеркнутой обидой в голосе, пристально глядя в глаза Томашевского, чтобы увидеть в них раскаяние, горечь, сожаление, но Кирилл Николаевич молчал.
— Так что же мне делать, сударь? — всплеснул руками Николай. — До революции я бы мог привлечь вас к суду за оскорбление невинности, выслать вас в отдаленную губернию, даже в Сибирь, мог бы отдать тайный приказ о заключении вас в тюремный замок, где бы вас каждый день охаживали кулаками надзиратели. Теперь же я не могу ничего, и вы, наверное, именно на это и рассчитывали? Правда, приятно обрюхатить царскую дочь. А раз царь бывший, так это к тому же останется безнаказанным. И вам не стыдно, господин Томашевский? Право, я считал вас порядочным человеком…
— Мне очень неловко, но я сумею возместить моральный ущерб, нанесенный вашей семье своим… проступком, — потупив глаза, твердо сказал Томашевский. — Я готов хоть завтра обвенчаться с Марией Николаевной.
— Нет, сударь, нет! Не будет этого. Уверен, вы только того и ждали: сделаю великую княжну беременной, а папа-царь и не посмеет отказать тотчас благословит молодых да ещё даст за невестой приличное приданое…
— Николай Александрович, вы не царь, — прервал Томашевский твердой, чеканной фразой поток жалоб обиженного отца. — Вы не царь, вот в чем дело, а поэтому я привлек к себе девушку, которая в данном положении — а положение вашей семьи куда более трудное, чем мое собственное, — не ощущала рядом со мной ни униженности, ни, напротив, какого-либо превосходства в сравнении со мной. Согласен, ещё полтора года назад один лишь помысел сделать Марию Николаевну своей возлюбленной я бы сам посчитал кощунственным, недопустимым. Сейчас же иное дело, и вы должны трезво смотреть на вещи: право, смешно в вашем положении, Николай Александрович, так кичиться своим происхождением.
— Нет-с, не смешно, милостивый государь, не смешно! — вскочил с дивана Николай. — Происхождение, именно оно, и является корнем натуры, рычагом всякого движения вперед. Мое происхождение, происхождение моих детей царственное, полубожественное, если хотите, а вы, сударь, плебей и всегда останетесь плебеем, так откуда же у вас хватило столько дерзости прикоснуться к дочери коронованного властелина России, помазанника, хоть и потерявшего корону в результате печальных для страны обстоятельств?
Николай, наверное, именно сейчас, когда степень разницы между ним, помазанником, и этим плебеем была выражена наиболее грубо, определенно, осознал беду, случившуюся в его семье, и то, что было сказано потом, прозвучало для Томашевского как приговор:
— Сударь, вы на самом деле сделали немало полезного для меня и моих родных. Это делает вам честь, а поэтому я снисхожу до вашего… незнатного происхождения и зову вас к барьеру. Я оскорблен, посему и право на выбор оружия останется за мной. У вас, надеюсь, сохранились маузеры, с которыми мы производили нападение на Выборгскую тюрьму?..
— Да, конечно, только…
— Что «только»? Какие могут быть оговорки? — с нетерпеливым раздражением спросил Николай, видя, как замялся Томашевский.
— Я не могу с вами стреляться.
— Это отчего же? Разве вы не офицер? Разве вы забыли кодекс чести? Полагаю, что только ваша кровь и сможет смыть позор с нашей семьи.
— Я не буду драться, потому что я… лучше вашего стреляю. Если я убью помазанника — а ведь я это едва не сделал когда-то, — то народ России мне этого не простит, Маша не простит…
— Ах, оставьте! Лишь две минуты назад вы говорили мне, что я не царь, а значит, мы равны: вы — поручик, а я полковник. К тому же пусть Божий суд решит, кто кого убьет. Лично я уверен в том, что умрете вы. Надеюсь, секунданты нам не понадобятся? Ну так вот, я предлагаю оставить в магазинах обоих пистолетов всего по три патрона. Барьеры разведем на расстояние двадцати шагов, будем стрелять по счету «три» до полной невозможности одного из противников продолжать поединок. В семь часов утра, на взморье за Шкиперским протоком, вас устроит?
И Томашевский, который не в силах был отказаться, потому что отказ мог вторично оскорбить Романова, требовавшего удовлетворенья, сказал: "Что ж, идет", — а про себя решил, что ни за что не станет стрелять в того, кого он все-таки боготворил.
Утром следующего дня двое мужчин шли вдоль домов, розовых от лучей встающего над Петроградом солнца, и стороннему наблюдателю могло бы показаться, что идут два хороших приятеля, правда, оба они находятся в какой-то глубокой задумчивости, не обмениваются фразами, не улыбаются друг другу, хотя идут рядом, плечо в плечо. Тот же наблюдатель мог заметить ещё и то, что в метрах пятидесяти от них, сзади, крадется какой-то невысокий щупленький человек — то ли подросток, то ли просто не вышедший ростом мужичонка. Таясь в тени домов, прячась в подъездах, этот человек делал все, чтобы остаться незамеченным.
А молчащие люди, пройдя весь Большой проспект, свернули направо, потом налево и вышли на песчаное взморье за Галерной гаванью, тоже розовое от разлитого по песку утреннего света. Домов здесь уже почти и не было, только две рыбацкие лачужки чернели нахмуренно под своими продранными крышами. За одной из этих лачуг и притаился щупленький человечек, смотревший, не отрываясь, на мужчин, сосредоточенно меривших песок ногами, втыкавших в него вешки, вынимавших из карманов пистолеты и деловито осматривавших оружие.
— Николай Александрович, так вы на самом деле намерены стреляться? — с какой-то вымученной улыбкой спросил Томашевский. — Ну, положим, убьете вы меня, так совесть же потом истерзает, грех такой на сердце носить. Да и Маша вас не простит.
— Зато будет смыт позор, — мрачно сказал Николай, у которого сильно ныло сердце, и лишь постоянно свербившая мысль, что очиститься от стыда, павшего на их семью, можно лишь кровью оскорбителя даже не дочери, а лично его, Николая Романова, удерживало бывшего императора от того, чтобы крепкое рукопожатие мужчин соединило их в прежней приязни и дружбе. — Все в порядке, я осмотрел ваш маузер — в его обойме на самом деле три патрона, ступайте к барьеру, — поспешил сказать Николай, стараясь не смотреть на Томашевского, чувствовавшего, что его растерянная улыбка может заставить отказаться от поединка.
Они встали друг напротив друга на расстоянии двадцати шагов, и, покуда мужчины расходились в разные стороны, следы их на мягком песке начинали чернеть, точно глубокие могилы, вырытые кем-то, а чайки, горланившие над берегом, зависали над противниками и криками своими будто хотели предостеречь, но было уже поздно.
— Начните счет, ваше величество, — предложил Томашевский спокойно, даже не поворачиваясь боком, чтобы пуле Николая, отца его любимой женщины, было удобно вонзиться в его большое тело.
Николай, держа маузер стволом вверх, едва увидел Томашевского на расстоянии, как виноватая улыбка человека, оскорбившего его семью, перестала взывать к милосердию, и он постарался встать твердо, пошире расставив ноги, поглубже ввинтив их в рыхлый песок.
— Готовы? Мне считать? — спросил он громко.
— Я же сказал, считайте, — равнодушно сказал Томашевский, продолжая улыбаться, но не поднимая оружия.
— Один… два… — понеслось над берегом, и рука Николая неестественно вытянулась, как бы исполняя приказ достать обидчика, и выстрел, прозвучавший неожиданно скоро и громко, отпугнувший чаек, подбросил вверх эту руку, а человек, что стоял напротив Романова, рухнул навзничь, словно его свалило с ног сильным порывом ветра.
"Ага, попал! — перво-наперво подумалось Николаю, страшно обрадовавшемуся, потому что цель была поражена. — И поделом тебе…"
Но тут же что-то непонятное, чуждое этой радостной мысли, захлестнуло сознание, залило его чем-то зловонным, а по цвету черным, вязким. Медленно он пошел к лежащему на песке телу, а не доходя трех шагов, зачем-то опустился на колени, отбрасывая в сторону пистолет, подполз к лежащему Томашевскому на четвереньках, вначале тронул его руку, теплую, только немного бледную, с испугом и какой-то надеждой заглянул в его лицо — глаза широко открыты и смотрят прямо в розовое небо, распестренное косыми взмахами чаичьих крыльев. И тут какой-то ужас стиснул горло Николаю, будто немыслимая по могуществу сила властвовала над ним, а он, маленький, тщедушный, должен был быть, несмотря на свое убожество, её главным орудием. Он знал, что эта сила — монархия, его убеждения, принципы, поступиться которыми никто не имеет права, но настоящая, человеческая его натура просит забыть их, забыть все царское в себе.
И Николай горько заплакал, как ребенок, думая, что никто его не видит здесь, но тот худенький человечек, что спрятался за углом рыбацкой хибары, все видел, понимал и тоже плакал вместе с ним. А потом Николай руками копал в песке глубокую яму, желая схоронить убитого им человека поглубже, словно глубина могилы могла обещать ему прощение греха и покой. Рыдая, сыпал он сырой песок на лицо человека, боготворившего его, и не знал, что очень скоро дочь его, пораженная смертью любимого, отторгнет плод, и никогда уже не будет счастлива, потому что между нею и её счастьем крепкой стеной встанет тайна её высокого происхождения.
***
В 1902 году Николай запишет в дневнике: "Тяжелый день. По ниспосланному Господом испытанию дорогая Аликc должна была объявить мамаi и родственникам, что она не беременна". По этой короткой фразе легко понять, как трудно было Александре Федоровне спрятаться ото всех, чтобы её физиология не была в центре внимания. Какая же тут свобода? Да любая крестьянка, находящаяся под тяжким гнетом мужа и злой свекрови, страдающая от нужды, от непосильной работы в поле и дома, куда больше предоставлена себе, чем супруга монарха.
Пробовали обращаться к таинствам тибетской медицины, ко всяким "божьим людям" — французу Филиппу, к Мите Козельскому, мычавшему разный вздор, к Босоножке Матренушке. Но вот во дворце появился и он, одетый, как говорили очевидцы, в дешевый серого цвета пиджак или сюртук, оттянувшиеся полы которого спереди висели как две старые рукавицы, а карманы были вздуты, точно у нищего, прятавшего туда подаяние; волосы, грубо стриженные "в скобку", свалявшаяся борода, будто приклеенная к лицу, нечистые руки и ногти, страшные, глубоко посаженные глаза — таким предстал Григорий Распутин, возомнивший, что призван к великому делу и несет в себе частицу Божьего духа. А в его способности выражаться на самом деле было много необыкновенного, так что после одной из первых бесед со «старцем» Николай записал в дневнике, по обыкновению кратко: "Наш друг говорил чудесно, заставляя забыть всякое горе".
И вот чудо свершилось — 30 июля 1904 года царица родила сына, которого назвали Алексеем, и Николай сделал такую пометку в дневнике: "Незабвенный, великий день", а потом добавил деловито: "Все произошло замечательно скоро". Но можно не сомневаться, что сама мать испытала в тот день гораздо больше счастья и облегчения, потому что оправдалась перед всем миром её женская природа, перед всеми, кто ждал появления на свет законного наследника престола. И разве могла царица после «заступничества» Гришки отказаться от него, разувериться в нем, разглядеть его неумытую харю, его нечистые ногти? Она видела перед собой лишь долгожданного сына и твердо знала — это Божья милость, посланная через "друга".
А цесаревич рос прелестным мальчиком! Замечательные вьющиеся светлые кудри, большие серо-голубые глаза, оттененные длинными загнутыми вверх ресницами. С рождения он имел свежий вид совершенно здорового ребенка, и, когда улыбался, на его щеках играли две маленькие ямочки. Позднее цвет его волос изменился на светло-каштановый с медовым оттенком, но большие глаза так и остались серыми, широко смотрящими на мир Божий.
Ступень четырнадцатая СТРАСТИ ПО АЛЕКСЕЮ
Этот худенький подросток, почти совсем мальчик, быстро шел мимо высоких зданий Васильевского острова, засунув руки в карманы брюк, ставших за лето короче, и думал, утирая дорогой текущие по щекам слезы: "Зачем же папа убил его, зачем? А если собрался убивать, то почему же плакал, когда закапывал Кирилла Николаича? Он разве злой, мой папа? Нет, он всегда был добрым, но только я слышал, что он не может терпеть, когда унижают его царское достоинство, а господин Томашевский, я теперь понимаю, обидел Машу. Господи, помоги папе — теперь он стал грешником, а разве грешник может быть царем? Или, может быть, царю все позволено, а поэтому папу Бог не осудит, и смерть Кирилла Николаича…"
Так рассуждал Алеша, подслушавший вчера разговор родителей, а утром поспешивший вслед за отцом, когда мать и сестры ещё спали. Ему хотелось видеть, как же его дорогой папа будет "смывать позор со своего герба", и вот теперь он спешил домой, чтобы наплакаться вдоволь на груди у матери и рассказать ей, как плакал, закапывая тело своего врага, его отец.
Он сильно вырос за лето, и страшный недуг, так мучивший Алешу раньше, совсем его покинул. Алексей какой-то тайной частью своего существа был уверен, что скорее не целительные травы лесного врачевателя изгнали из него страшную болезнь, а бурная, страстная жизнь с потрясениями, в которую ему пришлось окунуться в последние полтора года. Наверное, что-то сдвинулось в невидимых частицах его тела, изменилось, забурлило новой формой существования, а поэтому Алексей в глубине души стремился именно к этой жизни — не к дворцовой, заразившей многих его предков неизлечимым недугом, а как раз к совершенно противоположной по форме — к действенной, наполненной опасностями, где нужно было часто ставить на карту свою жизнь, а взамен получать глубокое наслаждение от осознания своей силы, способности выживать и быть мужчиной.
Он шел к Первой линии по Большому проспекту, пустынному и неухоженному, с витринами, которые были закрыты фанерными щитами или просто закрашены, с замусоренной мостовой, где не сновали туда-сюда, как прежде, лакированные экипажи и авто, но он не замечал запустения. Все в душе Алексея сейчас было отдано воспоминанию о дуэли отца, а поэтому внешний мир казался призрачным, скучным и очень посторонним.
— Эва, а это что за пижон к нам забрел такой? — раздался чуть ли не над ухом Алеши чей-то наглый голос. Можно было предположить, что говоривший произносит слова, не разжимая зубов.
Алеша вздрогнул — его внезапно возвратили в реальный мир, он увидел островерхую колокольню Андреевского собора с летавшими над ней воронами, а повернув голову направо, уставился взглядом на лицо подростка, смотревшего на него так, как не смотрели на сына императора никогда в жизни. Презрение и явное желание унизить, даже физически уничтожить Алешу были написаны на некрасивом, с каким-то расплюснутым носом, лице столь откровенно, что Алеша на мгновение испугался и даже отскочил в сторону. А незнакомец, ровесник Алексея, облаченный в длинный латаный-перелатаный жакет, в шляпу с рваными полями, в штаны, порточины которых внизу были украшены грязной бахромой, ещё более страшно скривил рот, выплюнул под ноги Алеши окурок, выхватил откуда-то из-под жакета револьвер с ужасающе длинным стволом и закричал, нацеливаясь прямо в лоб Алеши:
— Ну, буржуйское отродье, щас я тебя кончать буду! На колени вставай и молись!
Алеша видел, что рядом с вооруженным оборванцем стоят его приятели в таком же затрапезном виде, цедящие дым самокруток и улыбками, кивками одобряющие намерение их товарища.
— Так его, так!
— Пусть знает буржуенок, как на Андреевский рынок без папы-мамы ходить! Кокни его, Свиной Нос, чтоб не вонял здесь своими буржуйскими духами!
А подросток с револьвером, видя, что Алеша стоит и спокойно смотрит на него, не боясь грозящей опасности, заорал, желая выглядеть ещё более свирепым и потрясая своим огромным револьвером:
— Так ты, буржуйский выродок, кобенишься? Атамана не боишься? Все твои мозги вышибу в одну секунду, если на колени не встанешь!
Алеше, к которому не только никто в жизни так не обращался, но и вообще ощущавшему в дворцовой жизни подчеркнутое к себе внимание как к наследнику престола, мало общавшемуся со сверстниками, а поэтому никогда не оскорбляемому даже невольно, стало очень неуютно, но тут же вспыхнуло новое чувство, мгновенно поборовшее страх. Что-то очень сильное в Алеше вдруг развернулось во весь рост, ощетинилось, облеклось толстым панцирем, и чувство собственного достоинства, неизжитая многовековая гордость придала Алеше силы. Он сдвинул брови и шагнул вплотную к мальчишке, грозившему револьвером.
— Ты, холоп несчастный, кого тут ругаешь?! Думаешь, боюсь твоего пугача? Да у моего папы не только револьвер, а пулеметы, пушки есть! Разнесет вас, холопов, на клочки… к чертовой матери! — произнес Алеша, краснея, самое страшное ругательство, которое по большому секрету передал ему как-то его дядька — боцман с яхты "Штандарт".
Оборванцы продолжали посмеиваться, а тот, кого они называли Свиной Нос, оторопел, не ожидая от «буржуенка» такой прыти и смелости.
— Ну ты не очень-то, не очень, фраер! — забормотал он. — Видал я твоего батьку в гробу. У меня тоже… где-то батька есть, не такой буржуй, как твой, — настоящий пролетарий, а ты, сволочь…
Но договорить Свиной Нос не успел — рука с револьвером взлетела высоко над его головой, а сам он, теряя равновесие от удара, нанесенного Алешей неожиданно сильно прямо в переносье, полетел на грязный тротуар. Взявший несколько уроков английского бокса, Алеша никогда прежде не думал, что в жизни ему придется пользоваться наставлениями, преподанными ему гувернером-англичанином, но теперь умение наносить удары сильным и в то же время коротким, незаметным для глаза противника движением очень пригодилось. И даже не задумывался сын царя, что поднявшийся с земли оскорбитель может выстрелить в него, приказать своим товарищам напасть на него, — нет, нужно было вначале рассчитаться за бесчестье, а уж потом ждать, как примет неожиданно смелый отпор Свиной Нос.
И Алешу очень удивило то, что товарищи поверженного на тротуар "сына пролетария" не кинулись поднимать или защищать его, а, напротив, стали над ним смеяться, а один даже пнул его ногой, будто предводитель, потерпевший поражение, не имел права не только на помощь соратников, но и на их сочувствие. А Свиной Нос, то ли боясь новых ударов «буржуенка», то ли спеша занять позицию человека, который и сам рад посмеяться над своим неловким положением, привстав на локтях, широко улыбнулся, причем его нос расползся чуть ли не на пол-лица, и восхищенно сказал:
— Во клево фраер рыла чистить может. Даже я так не умею. Научишь своему удару?
— Что ж, научу охотно, — отлегло у Алеши от сердца, и он великодушно протянул Свиному Носу руку, а когда бродяга поднялся, «буржуенок» у него спросил: — А что же ты не стрелял в меня? Я был уверен, что ты непременно выстрелишь из револьвера.
Обладатель свиного рыльца огорченно махнул рукой:
— Да видишь, сломан курок у шпалера моего — только пугать им и могу.
Алеша посмотрел: у огромного, но задрипанного старого американского кольта курок на самом деле был обломан.
— А ты бы отнес его в оружейную мастерскую — обязательно бы починили тебе револьвер, — посоветовал Алеша, но окончание этой фразы было перекрыто громким смехом оборванцев.
— Да ты откуда, с неба, что ли, упал, малой? — перегибался пополам Свиной Нос. — Ну, сразу видно, буржуин недорезанный, — такие советы нам дает! Ладно, — принимая серьезный вид, сказал, перестав смеяться, предводитель беспризорной публики, — ты мне нравишься, соколик, а поэтому принимаю тебя в свою шоблу Андреевскую — так мы здесь зовемся, потому что рядом с рынком Андреевским малину имеем, хазу то есть. Хочешь с нами фартовыми делами заниматься? В накладе не останешься, мы все поровну делим, но опосля того, как кое-кому мзду отнесем. Ну, будешь нашим?
Кое-кто из оборванцев зароптал, послышались восклицания, вроде того, что "зачем нам буржуенок нужен, мамкин сынок, обсосок", но Свиной Нос грозно цыкнул на свою братию, доверительно и ласково обнял Алешу за плечи и, заглядывая в его глаза, спросил:
— Тебя как зовут-то, малой?
— Алешей, — ответил мальчик, радуясь, что этот некрасивый, такой страшный даже подросток, произносящий так много непонятных, а значит, таинственных слов, вдруг проявил к нему приятие и какое-то сердечное расположение. — Я очень хочу с вами дружить, только не знаю пока, смогу ли быть полезен.
— Сможешь, ещё как сможешь, Алешка! — подмигнул приятелям Свиной Нос. — Я уже знаю, для чего ты нам сгодишься. Вид у тебя фасонистый, барский просто, чистенький ты весь, точно пасхальное яичко, вот и будем мы за твоей спиной стоять, пока ты дядям станешь зубы заговаривать.
Алеша вряд ли понимал, о чем говорит Свиной Нос, но догадывался, что дело, которым занимаются эти подростки, неблаговидное, но сейчас его сильно увлекала возможность участия хоть в каком-то предприятии, а особенно после того, как ему оказали доверие. Ничего ещё в своей жизни Алеша не сделал своими руками, у него не было рабочих инструментов, потому что родители, опасаясь даже небольшого кровотечения, строго следили за тем, чтобы острые предметы были убраны от мальчика подальше. У Алеши не было и друзей разные игры со сверстниками могли стать причиной ушибов и приступов болезни. Теперь же у Алеши, которому лишь один раз в день разрешалось погулять по внутреннему дворику их дома, где не было зелени, где скверно пахло, была свобода, были друзья, хоть и довольно сомнительного вида, и предстояло к тому же участие в каком-то важном деле, где ему нашлось одно из важнейших мест, которое сулило какую-то добычу.
— Да, я согласен на все, только скажи, пожалуйста, как тебя зовут?
— Ну, Свиной Нос же! — с гордостью сказал подросток.
— Нет, я так тебя называть не буду. У тебя, я знаю, другое имя быть должно, а Свиной Нос — это будто прозвище, как у Майн Рида Кожаный Чулок.
— Ну, если хочешь, Яшкой меня называй, — был тронут Свиной Нос, только ты не думай, Лешка, что и ты без прозвища останешься. У нас тут все клички имеют, и ты назовешься. Костяной Кулак тебе нравится?
— Да, очень нравится! — откровенно заявил Алеша, которому льстило то, что и у него появилась кличка, он стал таким, как и все, да ещё и назвался-то так громко и по-робингудовски отважно. — А что я буду делать?
— Да говорю же — зубы заговаривать!
Алеша не знал, как можно заговаривать зубы, но Яшка Свиной Нос, видя его недоумение, поспешил пуститься в объяснения.
— Смотри, вот Андреевский рынок, — показал он рукой на длинное здание с аркадой, — внутри там есть двор, а во дворе — бойня. Лошадей туда на убой приводят…
— А зачем? — удивился Алеша, так любивший лошадей, имевший своего ослика и очень горевавший о том, что уже не может прокатиться на своем Ваньке.
— Как зачем? Убивают их там, конину делают! Потом конина эта в общественные столовые увозится, где жрут её рабочие по карточкам.
— Лошадину… то есть конину эту люди едят? — И глаза Алеши стали круглыми, как полтинники, а беспризорники рассмеялись.
— Да кто ты такой? Откуда взялся? — отчего-то разозлился Свиной Нос. Ты, Костяной Кулак, кажется, из сумасшедшего дома убег — такую хреновину несешь. Конину сейчас каждый за милую душу есть будет, и мы тоже на своей хазе её едим, с картошкой варим. Ладно, потом попробовать тебе дам, если дело сладишь. Сейчас во двор тот пойдешь, там в это время подводу кониной грузят. Ты к караульному подойдешь и станешь зубы заговаривать, ну, отвлекать его как-то, о том о сем спрашивать.
— О чем же? — продолжал удивляться Алеша.
— Да о чем хочешь! Спроси, к примеру, чем он чистит сапоги или каким маслом лучше смазывать затвор винтовки. Про солдатский паек ещё спросить можно. Ну, короче, должен караульный на тебя все время смотреть, а мы быстро-быстро к телеге сбегаем, да что нужно, заграбастаем. Ведь коль конину эту в общественную столовую везут, а все сейчас в Расее общее, то и мы на эту пайку полное право имеем. Точно?
Алеша помнил, что папа на самом деле объяснял ему, что большевистский переворот был устроен как раз для того, чтобы имущество богатых разделить поровну между всеми трудящимися, а поэтому его ничуть не удивило объяснение Свиного Носа, и он только спросил:
— А зачем же тогда… зубы заговаривать? Пошел в ту столовую да поел…
— Да знаешь, Костяной Кулак, ты много-то вопросов не задавай… Впрочем, объясню тебе: столовая та далеко находится — ноги намнешь, покуда до неё топать будешь, чтоб кониной подзаправиться. Ладно, пошли, покажу тебе, как во двор рынка заходит, да бойню ту покажу. Не опоздать бы…
Они обошли длинное здание рынка, магазины которого были заколочены, но рядом с которым шлындали какие-то подозрительного вида люди с мешками, и Алеша спросил у курившего по дороге Яшки:
— А это кто такие? Тоже за кониной пришли?
— Эти-то? — усмехнулся Свиной Нос. — Нет, не за кониной. Мешочники это, продавцы. Совдепы-то торговать запретили, вот они тихонько из деревень везут и здесь приторговывают. Доберемся, брат, сегодня и до них! Попотрошим их мешочные утробы, чтоб неповадно было нарушать законы советской власти!
Зашли за угол, и Яшка показал на пасть арки, ведущей вовнутрь четырехугольного рыночного здания.
— Давай, пошел! — подтолкнул он Алешу. — Вон они уже телегу нагружают. Иди к солдату!
И Алеша, у которого сердце трепетало, как листок на ветру, вошел во двор. Он знал, что решился на опасное, даже преступное дело, но новое чувство, чувство преодоления опасности, а значит, и осознания себя как человека сильного, а не такого, каким он видел себя прежде, захватило Алешу и отогнало доводы рассудка и морали.
Часовой с винтовкой за спиной на самом деле стоял рядом с подводой, имевшей высокие борта и до половины нагруженной кусками красного, лоснящегося мяса, распространявшего на большое расстояние тяжелый, нездоровый запах.
"И зачем им эта конина?" — подумал Алеша, но ноги уже несли его к часовому в выцветшей гимнастерке и в красноармейском шлеме с суконной звездой. Еще не успев придумать, что бы такое спросить у этого молодого красноармейца, Алеша оказался рядом с ним, и его широко распахнутые, наполненные страхом глаза отчетливо свидетельствовали о какой-то большой нужде.
— Господин караульный… — начал было Алеша совсем неудачно и сразу запнулся, а солдат с нескладной бородкой на совсем ещё юном лице, грозно насупив брови, сказал:
— Какой я тебе господин? Господ нынче нет, все перевелись. Ну, чего тебе надо?
— Да спросить я хотел, — выдавил из себя Алеша, — вы эту звезду на шапку сами пришивали, или так уж получили?
Но вопрос показался солдату странным, и он подозрительно посмотрел на хорошо одетого подростка — аккуратненький пиджак, красная сорочка с ленточкой-галстуком, клетчатые брюки и желтые штиблеты.
— А тебе что за дело до моей звезды? — спросил сурово. — Ты не из контриков, случайно? Может, не уважаешь звезду — знак рабоче-крестьянской Красной армии?
— Нет, что вы, очень уважаю, это я так, интереса ради…
А между тем рваная братия под предводительством Свиного Носа, пользуясь тем, что караульный отвернулся и разговаривает с Алешей, а человек в кожаном фартуке, носивший из здания бойни куски конины, только что зашел в помещение за грузом, крадучись мягко, по-кошачьи, приблизились к подводе и схватили каждый по здоровенному куску темно-красного на ребрах и мостолыгах мяса. С насмешливыми криками, зная, что никто уже их не догонит, бросились они на улицу, взметая пыль двора своими рубищами.
— Эй! Стой! Куда?! — услышав шум и обернувшись, закричал часовой, пытаясь снять из-за спины винтовку, но рука запуталась в ремне, да и поздно было стрелять вдогонку тем, кто покусился на ценный продукт питания, беспризорники исчезли в проезде, и только Алеша остался стоять на месте, растерянно моргая.
— Ах ты гад! Контрик недорезанный! — кинулся к нему караульный, догадавшись, что каверзные вопросы подростка были средством отвлечь внимание. — Ну, загремишь у меня в чеку! Там у тебя расспросят, что ты за птица!
И лишь одно упоминание Чрезвычайки вдруг сбросило с Алеши оцепенение. Он понял, что нужно собрать всю силу воли в один комок, и вдруг какая-то таившаяся в его теле энергия, о которой Алеша даже не подозревал в дворцовых покоях, сделала его руки и ноги послушными, готовыми сражаться, и мальчик, резко рванувшись вперед, толкнул солдата в грудь так сильно, что тот полетел на брусчатку двора, лязгнув о камень винтовкой, а Алеша бросился к арке и через несколько секунд уже был за пределами рынка.
Он думал, что не застанет на улице своих новых друзей, но они, пряча конину под полами оборванных одежд, встретили Алешу одобрительным хохотом, потому что видели, как он уложил красноармейца. Хлопали по плечам, по спине, называли «молодцом», «фартовым», «нашенским», а Свиной Нос, улыбаясь, сказал:
— Ну, Костяной Кулак, не ожидал я от тебя такой прыти! Думали, словит тебя тот краснозвездный в обмотках. Но ты — шустряк. И нам подыграл, и себя не выдал. Ладно, на хазу к нам пойдем. Шамовку жрать будем — суп из конины сварим с картохами.
Алеша, ушедший из дому рано утром и не евший ни единой крошки, при упоминании о еде сглотнул слюну, хотя суп из конского мяса его совсем не привлекал. Но расставаться с этими бродягами ему не хотелось. Они сильно нравились ему удальством и независимостью, то есть качествами, о которых Алеша мог только мечтать и которые, оказалось, проявились неожиданно и в нем самом.
— Хорошо, пойду с вами. Только это недалеко?
— Да рядом! — ответил Яшка. — Вон она, аптека Пеля! Сам Пель за границу драпанул, а мы в подвалах его дома хазу себе устроили. Знаешь, какие там подвалы? У-у, дворцы настоящие! С нами пойдешь — не пожалеешь!
Алеша представил эти дворцы-подвалы, и ему сильно захотелось побывать там, где, как ему казалось, он попадет в обстановку парижских катакомб, о которых он знал по французским романам. Окруженный оборванцами, он быстро пошел к огромному зданию, похожему на средневековой замок. Теперь Алеша очень жалел, что, прожив в Питере так много лет, он ни разу не был здесь, не видел ни Андреевского собора, ни такого замечательного рынка, ни этого мрачного величественного дома, где обитал, подобно древнему кудеснику-алхимику, какой-то аптекарь с немецкой фамилией.
Обошли замок со стороны переулка, зашли во внутренний двор, крошечный, окруженный поднимавшимися чуть не до неба стенами, снова нырнули под арку и опять очутились в тесненьком дворе-колодце, где каждый звук звонким, каким-то цокающим эхом летал от стены к стене. Беспризорники смело двинулись к одному спуску, уводящему куда-то в глубину, под землю.
— Спускайся, — легонько подтолкнул Свиной Нос Алешу, и сын царя, бывший претендент на российский престол, стал спускаться вниз, покуда не оказался в темном подвале, где, однако, хоть и было темно, но не пахло сыростью. Яшка же сказал:
— Тут у Пеля склад был. Посуду всякую, банки-склянки для аптеки хранил. Чисто здеся, хорошо. Не знаю, правда, как по зимнему времени будет, а пока кайфуем здесь с друганами фартовыми, — и крикнул громко и требовательно: — Эй, кто-нибудь, ну-ка плошкой хоть посветите нам — шамовки принесли!
Два огонька поплыли навстречу Алеше из темноты подвала, и у мальчика даже сердце заколотилось сильнее — до того таинственными показались ему эти плавающие во мраке огни. Скоро его кто-то крепко взял за руку выше локтя, повел вперед, и вот уже просторное помещение открылось взору Алеши, и вид его, таинственный и жуткий, — высокие сводчатые потолки, много горящих свечей, — буквально сразил мальчика, понявшего, что никогда прежде, повидав даже многое из того, что недоступно простому смертному, он не находился в таком страшно интересном месте.
— Пять ящиков свечей нашли в подвале, вот и не жадничаем — освещаемся по-царски, — сказал Свиной Нос, видя восхищение на лице нового товарища. А потом крикнул кому-то: — Матрешка, Киска, конину у Сивого и Подковы возьмите да сразу давайте варите шамовку. Я Алешку этого, то есть Костяного Кулака, по-барски попотчевать хочу! Картошки не пожалейте, а то сделаете, как в прошлый раз, суп ритатуй — по краям капуста, а посередине…
— Да знаем мы без тебя, не гунди! — послышался откуда-то из угла хриплый девичий голос, заспанный и ленивый.
Алеша, вдруг почувствовавший сильную усталость, внезапно вспомнил дуэль, смерть Кирилла Николаича, то, как плакал его папа, закапывая в песок мертвое тело, и чуть не заплакал снова. Он опустился на какой-то ящик у стены. Домой ему возвращаться не хотелось, потому что ничего, кроме горя и слез, он не застал бы в своей квартире. Зато здесь, в подвале, в этом подземном мире, все жило шумной, радостной жизнью. Беспризорники горланили какую-то страшную бандитскую песню, перебивая друг друга, рассказывали хвастливые истории о своих подвигах, ругались, били себя в грудь, картинно рвали на себе и без того рваную одежду, оголяя свои худые, нечистые, покрытые струпьями тела, но Алеше, хоть и было немного не по себе среди них, каких-то злых, очень свободных и бесшабашных, все-таки было при этом очень вольно и беззаботно — такого ощущения он не испытывал никогда.
Скоро принесли похлебку из конины, Алеше налили в жестяную миску наравне со всеми, ничуть не меньше, дали железную ложку, кусок черствого хлеба, и он принялся есть суп — гадкий, вонючий, — в котором плавал кусок жилистого лошадиного мяса, какого-то сладковатого, осклизлого. Мальчику вначале чуть не стало дурно от этого варева, его едва не вытошнило, но пересилив в себе отвращение, видя, с каким аппетитом, чавкая и стуча ложками, торопясь, ели суп беспризорники, Алеша тоже стал есть, и с каждой ложкой суп казался ему все вкуснее и вкуснее. И, привыкнув к пище, Алеша снова испытал гордость за себя от сознания собственной силы и свободы.
— Ну, как шамовка? — подмигивая, спросил у Алексея Свиной Нос, для чего-то переворачивая и надевая на свою нечесаную голову пустую миску.
— Очень вкусно! — почти искренне отозвался Алеша. — Монголы в старину такую пищу в походах ели.
— Может быть, и ели, — сказал Яшка, — но мы не монголы, мы — братва. Вот сегодня штуку тебе одну покажем — уписаешься от смеха!
— А какую? — немного покраснев, спросил Алеша.
— Да в попрыгунчиков поиграем! А, ребята, поиграем?
— Поиграем, ещё как поиграем! — ответили Свиному Носу товарищи, сытно порыгивая.
Алеша был на вершине счастья оттого, что его ожидало впереди какое-то дивное зрелище. Мир, которого он не знал, открывался перед мальчиком, точно шкатулка с драгоценностями, откуда, искрясь, играя бликами, выкатывались один за другим самоцветы настоящей жизни.
— А что такое в попрыгунчиков играть? — спросил он осторожно, опасаясь, что Свиной Нос передумает и не сотворит перед ним чудо.
— Попрыгунчики? — тянул время Яшка. — Это, фраер, такая штука… короче, эй, Федька, Подкова, — давайте-ка, покажите Костяному Кулаку, что значит в попрыгунчиков играть, а ты, Леха, отвернись пока к стене. Потом повернешься…
Алеша отвернулся и зажмурил глаза в ожидании чего-то невиданного. Он слышал позвякивание металлических предметов, шепот и смешки. Минуты тянулись долго, и наконец Яшка ему сказал:
— Давай, Костяной Кулак, смотри скорей!
Алеша поспешил повернуться и открыл глаза. В подвале было почти темно, а прямо перед собой он увидел две белые фигуры с лицами мертвецов, которые жутко светились зеленоватым светом, будто намазанные фосфором, и подпрыгивали так, что едва не доставали головами сводчатый потолок. А уж когда мертвецы завыли, Алеша и вовсе не смог удержаться от того, чтобы не закрыть руками глаза.
— Не надо! Не надо! Не хочу! — закричал он пронзительно, и тут же раздался дружный хохот бродяг, начавших потешаться над бывшим наследником престола, но Свиной Нос строго цыкнул на них:
— Чего ржете? Али не знаете сами, что попрыгунчики и из взрослых дядек чуть дух не вышибали, до того пугали? На то и попрыгунчики…
— Но… что это такое? — спросил Алеша, когда снова зажгли свечки.
— Подойди да сам посмотри, что мы придумали, — предложил Яшка. Алеша с опаской подошел к двум фигурам в саванах и сразу увидел, что лица мертвецов — грубо намалеванные маски, но, что самое главное, ноги Подковы и Федьки были примотаны веревками к тугим пружинам, на которых подростки и подпрыгивали к потолку.
— А, все понял! — воскликнул Алеша. — Но зачем вы все это придумали? Меня попугать? Или просто забавляетесь?
— Нет, браток, нам тебя пугать — времени нет. Других людишек пугаем, ещё как пугаем, с хорошим наваром остаемся! — гордо произнес Яшка.
— Каких же людей? — допытывался Алеша.
— Да мешочников, которые в город товар из деревень тащат. Видал же их у рынка?
— Видел, — кивнул Алеша.
— Ну вот, тут-то наш фокус-покус и требуется. Мешочники эти до Питера не доезжают — чекистов боятся, которые их за торговлю товаром могут расстрелять в два счета. Выходят обычно раньше, а потом идут через Митрофаньевское кладбище, ночью идут.
— А что это за кладбище такое? — перебил Алеша, к своему стыду не слышавший никогда о Митрофаньевском кладбище.
— Не знаешь? — с презрительным видом посмотрел на Алешу Свиной Нос. Да ты, выходит, не питерский, со стороны приехал?
— Нет, питерский я, — покраснел Алеша. — Просто не был я там…
— Значит, и песни не знаешь… — И Яшка противным дискантом затянул:
А как на кладбищ-и-и да на Митрофаньевска-а-м
Атец дочку зарезал сваю-у-у…
— И про Надюху, отцом зарезанную да там и схороненную, тоже ничего не слыхал?
— Нет, не слыхал, — очень тихо ответил сильно сконфуженный своим неведением Алеша. — А за что же отец убил свою дочь?
— Ну, нужно, значит, было, вот и убил да нас не спросил, — спокойно ответил Яшка. — Пойдешь с нами на Митрофаньевское — могилу покажу тебе её. Может, ты с нами попрыгунчиком заделаешься?
Алеша чуть не задохнулся от радостного чувства, охватившего все его существо.
— Да, конечно, я очень хочу стать попрыгунчиком, только боюсь, что не получится у меня…
— Чего ты надумал, Свиной Нос? — сказал худой, очень сутулый подросток, которого называли Подковой. — Он же нам всю малину испортит! Какой из него попрыгунчик?
— А я говорю, будет Костяной Кулак попрыгунчиком — и баста! — трахнул ладонью по столу Яшка. — А ну, подать Лехе пружины! Пусть пока без савана здесь попрыгает, поднатореет. У него ловкости и смелости, как у двух наших! Я из него клевого попрыгунчика сделаю!
С робостью и трепетом надевал Алеша на ноги пружины, привязывая их веревками, вставал на них, поддерживаемый с двух сторон Яшкой и Подковой, с замиранием сердца попытался подпрыгнуть — не получилось, только сжались пружины.
— Мельче, мельче вначале приседай, приседай, — советовал Свиной Нос.
И скоро у Алеши пошло, все выше стали подбрасывать его упругие пружины, а сердце подпрыгивало от радости в такт с ними, и несостоявшийся цесаревич, сын императора России, прыгая уже чуть не до потолка в этом освещенном множеством свечей подвале, ликовал в душе: "Ну вот, и я попрыгунчиком стал! А кем я был прежде? Таскали меня на всякие церемонии, обряжали в какие-то тесные одежды, постоянно держали под присмотром, на веревочке, зачем-то учили французскому языку, математике. Для чего они мне? Теперь я свободен, я тоже ем конину, как древний монгол, я живу в подвале, умею прыгать на пружинах и скоро пойду на Митрофаньевское кладбище, о котором отец мне ни разу не говорил, и мне покажут там могилу девочки Нади, зарезанной своим отцом. Да, только теперь я стал настоящим человеком, и жизнь моя тоже стала настоящей. Никогда не вернусь я в квартиру на Первой линии, никогда не соглашусь, чтобы меня заставляли решать задачи и учить французские вокабулы. Я счастлив сейчас!"
Они вышли из подвала уже под вечер, с шумом, гамом, руганью и смехом влезли в подошедший трамвай, и Алеша не знал, что именно на трамвае этого маршрута год назад его отец ехал вместе с Томашевским все к тому же Варшавскому вокзалу, к которому стремились сейчас беспризорники. Добрались до вокзала, потом пошли вдоль путей, мимо пакгаузов, депо, складов, веселые, жующие по дороге хлеб, матерящиеся, балагурящие, веселые и пьяные от сознания собственной бесшабашности и предчувствия поживы. А августовское небо уже украсилось с одной стороны оранжевым пожаром заката, а с другой стало глубоко серым, неприветливым и спящим. Скоро замаячили впереди вековые деревья, что росли на кладбище, шумящие могучими кронами, которые сверкали на макушках отсветами прятавшегося за горизонт солнца.
— Это что же, и есть Митрофаньевское кладбище? — настороженно спросил Алеша, несший на плече мешок с пружинами, саваном и маской, когда впереди мелькнули кресты и памятники.
— Ну да, оно и есть, Костяной Кулак, — дружелюбно откликнулся Свиной Нос. — Только ты не дрейфь, в штаны не наложи. Самые живые мертвецы здесь это мы, ты это помни. Вон там по тропинке пройдем да и заляжем, приготовимся. Через час пойдут мешочники, вот мы их и попугаем…
— А Надину могилу пойдем смотреть? — спросил Алеша, из памяти которого никак не мог испариться образ зарезанной девочки.
— Да на кой ляд она нам нужна? Делать больше нечего? Хочешь, походи с нами рядом, памятники посмотри, надписи на них почитай. И без Надюхи много здеся душ загубленных лежит. Ладно, молчи, подходим уже к нашему месту. Гляди, когда мешочники пойдут, ты выть не забывай, чтоб все кишки у них от страха полопались…
Вынув из мешков пружины, саваны и личины, одевшись и приготовившись, бродяги полулежали, облокотившись на покосившиеся кресты, молчали, слушали, как стрекочут ночные насекомые, ковырялись былинками в зубах, ухмылялись, представляя испуг мешочников. Алеша же лежал безмолвно. В его воображении возникали образы лежавших под землей, на которой он сидел в нелепом одеянии привидения или восставшего из могилы мертвеца, умершие — старики и старушки, мужчины и женщины, дети вроде не выходившей из головы Нади, зарезанной отцом, и было тоскливо, даже жутко. Где-то кричала какая-то птица, протяжно и длинно, скрипело дерево или крест, будто тайная подземная жизнь силилась вырваться наружу, и не хватало лишь чьей-то команды, чтобы все сокрытые под землей покойники разом встали и спросили у притаившихся на кладбище бродяг: "По какому праву вы решили принять наше обличье? Разве ударил ваш час?"
— Атас, кореша! — не проговорил, а лишь прошипел Свиной Нос, и Алеша, вздрогнувший от неожиданности, увидел, как оттопыренные уши Яшки будто встали торчком, как у какого-то зверька, а рот приоткрылся. — Идут! Слышу их! Целой кодлой идут! Дам знак, выпрыгиваем все на дорогу да спляшем перед ними нашу мертвецкую пляску!
Алеша понял, что настал самый главный момент. Сейчас он уже не думал о подземном мире, все оживилось в нем, встрепенулось, заволновалось. Он проверил завязки, что крепили пружины к его ногам, надел дурно пахнущую маску, сам как-то напружинился, готовый выскочить перед мешочниками, нарушавшими законы советской власти. И вот раздался не то длинный свист, не то протяжный вой Свиного Носа, и бродяги, страшно завывая, вскочили на пружины и выпрыгнули на аллейку кладбища, в конце которой маячила группа каких-то людей. Внезапно остановившиеся, оторопевшие, они глядели на то, как к ним приближаются высоко подпрыгивающие фигуры в белых одеяниях, воющие, с оскаленными мертвыми ртами. Крестьяне, прибывшие в Петроград из ближайших уездов с картошкой, салом, солониной, сушеными грибами и вяленой рыбой, с горшочками масла и крупой, знавшие о том, что до вокзала доезжать не стоит, а надо выходить раньше и идти по Митрофаньевскому кладбищу, но слышавшие между тем, что на кладбище нечисто, теперь, увидев перед собой ту самую «нечисть», крестились, падали на колени, бормотали молитвы, забывая о мешках с провизией, в которых собирались увезти назад в свои дома керосин и нитки, свечи и ситец, а если повезет — немного золота, выменянного на продукты.
Алеша тоже выл, и прыгать по ровной дорожке кладбища у него получалось ничуть не хуже, чем у заправских попрыгунчиков. Он приближался к мешочникам, уже собиравшимся бежать, чтобы только не видеть восставших из гробов мертвецов, не понимая, для чего это нужно лично ему. Поживиться добром Алеша совсем не рассчитывал, им владела лишь задача прыгать так же высоко, как его товарищи. Когда же он приблизился к оторопевшим людям почти вплотную, то увидел ужас, застывший на их лицах, услышал слова мольбы, какая-то нить, на которой держалась вся его удаль и желание быть таким же лихим, как беспризорники, внезапно лопнула, и чувство внезапного огорчения, боли сковало его. Пружины уже не подбрасывали — он остановился и смотрел на бросившихся бежать людей, одетых в поношенную крестьянскую одежду.
— Ну, неплохо поживились, такой атас! — сказал Яшка, когда они собирали свои трофеи.
— Да, подфартило! — соглашался Подкова, но Федька сомневался:
— Да брось ты! В прошлый раз и то больше было. Еще Царице половину отдать нужно будет…
И Алеша, молча сидевший в сторонке, уже снявший свой саван и маску, отвязавший пружины, увидел, как Свиной Нос при упоминании о какой-то Царице сделал Федьке страшное лицо и мотнул в его сторону головой.
Нагруженные мешкам, они возвращались домой по ночному Петрограду. Шли долго, часа два, стараясь держаться подальше от больших улиц, где можно было нарваться на патруль, по большей части молчали, прижимались к стенам домов, когда навстречу летел, громыхая, какой-нибудь автомобиль. Но Алеше уже не было приятно от сознания опасности, которую ему приходилось преодолевать. Какая-то грусть пела в груди заунывную, долгую песню. Ему стало жаль тех мешочников, потерявших, должно быть, значительную часть своего достояния, ведь не от хорошей жизни хотели продать они добытое своими руками. Он был сыном императора, часто говорившего ему, наследнику престола, что смысл верховной власти заключается в том, чтобы заботиться о благе подданных, а теперь получалось, что он, Алексей Романов, готовившийся надеть корону, лишил людей собственности, то есть стал вором, преступником.
"Но я же теперь не наследник, — пытался возражать Алеша упрекавшему его внутреннему голосу, — а поэтому могу делать то, что делают простые смертные". Но этот упрямый голос говорил ему: "Да, ты не наследник, но по происхождению — царский сын, а поэтому отнимать у людей их достояние не имеешь права". И Алеша понял, что никогда не сможет оправдаться перед собственной совестью.
В подвале беспризорники по случаю удачной вылазки устроили настоящий пир. Загорелось множество свечей, запылал огонь в печке-буржуйке, по жестяным кружкам расплескали самогон, найденный во фляжке, в одном из мешков горе-торговцев. Захмелевшие, не спавшие всю ночь беспризорники стали бахвалиться, описывая яркими красками, как они отличились, экспроприируя у мешочников их товар. Только Алеша молчал. От самогона он решительно отказался, да и к пище прикоснулся лишь едва-едва, считая, что не имеет права есть её. Когда Свиной Нос в живописании подвигов прошедшего вечера перед девчонками старался — дошел до самого пика событий и рассказывал, как молили мешочники «мертвецов», чтобы не трогали их, а с товаром поступали как угодно, Алеша вдруг поднялся и, глядя на Яшку с ярой ненавистью, заговорил:
— Гадкий ты человек, Свиной Нос! Не знал я, какими вы здесь делами занимаетесь, а то бы никогда не пошел за тобой! Все, не будешь ты здесь главным — я буду вами командовать, а уж я-то вам грабить и воровать запрещу навсегда!
Если бы в подвале аптекарского дома среди пирующей бродячей братии появилось бы настоящее привидение, начавшее подпрыгивать и корчить страшные рожи, беспризорники не так удивились бы, как услышав странную в своей безумной дерзости речь своего нового товарища.
— Чего, чего, — пошмыгав своим уродливым носом, спросил Яшка, — чего ты там протявкал, повтори?
— Я говорю, что я теперь буду командовать вами!
— Ну и ну, — после долгой паузы сказал Свиной Нос, — видно, ты, Костяной Кулак, совсем рехнулся. Наверно, пока сидели мы на кладбище, ты там белены объелся да и чокнулся маленько. А то с какой бы стати такое говорить?
А Алеша, в котором осознание царского происхождения вдруг выросло внезапно, встало во весь рост, впервые заполнив всю его душу, не робея, ответил:
— Это ты сам белены объелся! Ты, наверное, ничего, кроме белены да конины, и не ел в своей жизни! Знал бы ты, кому сейчас дерзишь, мерзкий холоп! Я — Алексей Николаевич Романов, сын государя императора Николая Второго!
Но не вздох удивления, не восхищенный шепот услышал Алексей, а безжалостный, громкий смех, взорвавший тишину подвала. Беспризорники катались по полу, держась за животы, хлопали друг друга по спинам, икали от восторга, просто визжали, потрясенные неожиданным признанием.
— Сын… импе… импе… ратора! Ой, уписаюсь! Урыльник скорей несите!
— Он — царевич… ха-ха-ха… а мы… холопы…
Но смех затих, когда прокричал Свиной Нос:
— Все, фраера, ша! Я говорить буду! — и рубанул по воздуху рукой. Вот скажу я вам, братцы! Раз этот… вонючий решил возвыситься над нами, холопами нас обозвал, то мы его должны по-нашенски нещадной казни предать через темную! Такие наши правила. А после, если жив останется, пусть катит отсюда подобру-поздорову да дорогу нам пусть никогда не переходит. Подкова, где мешок?
— Да вон их сколько! — с готовностью услужить главарю поднял мешок Подкова. — Надевать, что ли?
— Надевай скорей! Да лупите его, фартовые, почем зря! Пусть знает, как форсить перед нами!
И Подкова, нехорошо ухмыляясь, стал подступать к Алеше, растопыривая зев мешка, но вдруг Киска, смазливая девчонка, пристально смотревшая на Алешу, подбежала к Свиному Носу и что-то стала нашептывать ему, и Яшка, меняясь в лице, поднял руку:
— Ша, Подкова, повремени малость, разобраться нужно… — потом развалистой, пижонистой походкой подрулил к Алеше, смотрел на него минуты две, досадливо кривя рот и сдвинув брови, а затем сказал как бы сам себе: А хрен его знает. Отмутузишь такого, а потом он тебя из-под земли найдет. А что, Костяной Кулак, ты на самом деле не брешешь, что царский сын?
— Я Алексей Николаевич, цесаревич, — твердо и гордо сказал Алеша, невольно принимая величественную позу.
— Вроде похож… — провел Яшка рукой по носу-пятачку. — Отведу-ка я тебя к Царице нашей, спознаешься с ней. А она пусть и решает, что делать с тобой. Битье на этот раз отменяется, но, если Царица тебя царевичем не признает, не избежать тебе темной. Подкова, Федька, возьмите-ка этого хлопца под руки, чтоб не рыпался, да и идите за мной. Косой и Кривонос вон те мешки пускай захватят — дань нашу Царице. Да, повязку ему на глаза надеть нужно, чтоб дорогу не признал потом…
И как ни вырывался Алеша, как ни грозил оборванцам расправой, ему заломили за спину руки, и тотчас тугая повязка уже скрыла от него подвал, утыканный аптекарскими свечами. Его долго вели по каким-то лестницам, дворам, заставляли то подниматься, то опускаться, разные запахи, часто сменяясь, говорили, однако, Алеше, что ходят они по дворам и лестницам все того же огромного дома-замка. И вот остановились. Где-то за дверью, как показалось Алеше, звякнул звонок, мягко скрипнули петли, и чей-то грубый, хриплый голос спросил:
— Ну чего приперлись?
— К Царице, дань принесли.
— Так оставьте и валите.
— Дело есть еще…
— Какое?
— Ей расскажем, особенное дело…
Молчание, а после хриплое:
— Ну, проходите…
Потом Алеша долго сидел на стуле, наверное, в прихожей, а затем ему велели встать, взяли под руки и провели куда-то. Чьи-то руки, повозившись, развязали тряпку, закрывавшую глаза Алеши, и он увидел прекрасный зал с темными дубовыми панелями, шелковые обои, люстру, разбрасывающую в разные стороны яркий электрический свет, камин, а рядом с ним — кресло. В кресле, положив ногу на ногу, сидела очень красивая женщина, одетая с аристократической неброской элегантностью — белая блузка, черная юбка чуть ниже колен, серые чулки и низкие лаковые туфельки. Алеша так и обомлел, попав из темного подвала в гостиную приличного дома, а женщина, то и дело поднося к накрашенным губам длинный костяной мундштук, милостиво улыбалась, смотря на Алешу внимательно и испытующе.
— Здравствуй, мальчик. Так ты и есть сын Николая Александровича, последнего русского царя?
— Да, я Алексей Романов, — потупясь от долгого взгляда таинственной красавицы, сказал Алеша. — А вы и есть та, которую называют Царицей? спросил он вдруг смело.
— Да, я — Царица Варя, так меня зовут… мои хорошие знакомые.
— И те бродяги, что воруют и грабят торговцев, тоже ваши хорошие знакомые?
— Да, и они тоже, — продолжая улыбаться и все так же впиваясь в Алешу взглядом, сказала Царица и поднялась.
Величавой походкой она подошла к книжному шкафу красного дерева, вынула из него стопку журналов, молча полистала один, другой, замерла над какой-то страницей и перевела взгляд на Алешу. Теперь она смотрела на мальчика очень серьезно.
— Что ж, ваше высочество, я поздравляю вас с воскрешением. Я бы, конечно, поздравила с этим событием и весь мир, по крайней мере Россию, но, боюсь, здесь не оценят его должным образом. Вот снимок из «Нивы» за шестнадцатый год. Вы на нем, — она улыбнулась, — очень похожи на себя. А ваш батюшка, кстати, тоже жив?
Алеша подумал, стоит ли отвечать утвердительно. Он боялся этой загадочной женщины, которую называли так странно — Царица Варя. Но потом он кивнул, потому что говорить неправду было не в его привычках:
— Да, жив, мы все спаслись. А теперь я вас очень попрошу: разрешите мне пойти домой.
Женщина снова уселась в кресло, и опять костяной мундштук стал касаться её напомаженных губ. Казалось, она находилась в глубоком раздумье. Но наконец игриво вскинула голову, озорно улыбнулась и сказала:
— А вот домой-то я тебя, Алеша, и не отпущу. Пока не отпущу!
***
Хорошим или дурным правителем был Николай? И не теряет ли самодержавие в реальности свой смысл, когда речь заходит об управлении таким левиафаном, как Российская империя, имеющим сложнейшую бюрократическую систему, надзирающую за функционированием финансов, промышленности, торговли, образования, обороны, внешних сношений и многого, многого другого. Весь этот сложнейший, спутанный клубок нитей просто невозможно было бы держать в руках одному человеку, и каким бы компетентным, умным, даже мудрым ни был государь, он никогда бы не отважился на то, чтобы принимать самовластные решения, не желая единым росчерком пера причинить своей стране больше вреда, чем пользы.
А в первое время правления на молодого царя ещё и давили, подчиняли своему влиянию дядья, великие князья Владимир Александрович и Сергей Александрович. И как страдал Николай, когда в начале царствования великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал, вынудил царя принять решение строить очень нужный России большой порт не на Мурмане, а в Либаве. Николай был убежден в обратном, но пришлось уступить, чего долго потом он не мог себе простить.
Его самовластные амбиции были уязвлены и в 1899 году, когда по инициативе Николая в Гааге собралась мирная конференция, где речь шла о сокращении вооружений в Европе и запрещении варварских способов ведения войны. Но здесь практически ничего не удалось добиться из-за позиции германской делегации.
А как болело у Николая сердце, когда на прогулке в Петергофе с германским императором Вильгельмом он, то ли из ненужной вежливости, то ли по слабости характера, своим молчанием ответил утвердительно на вопрос, не будет ли он против, если немцы займут китайский порт Киао-Чао. В этот момент он не был императором, не был самодержцем, потому что не мог решиться сделать выбор, отказать Вильгельму без помощи советников.
Уговорить его было нетрудно. В 1901 году, когда в Петербург приехал князь Николай Черногорский, царь пообещал ему в виде помощи 3 миллиона рублей годовых из тех, что платила Турция России в качестве контрибуции, но Витте был против, и царю пришлось уступить. А в 1905 году в заливе Бьерке, что у Выборга, Николай заключил договор, по которому Россия обещала защищать Германию в случае войны с любой европейской державой. Заключая этот договор, Николай действовал как самодержец, не нуждавшийся в советах, но вскоре Романова убедили в том, что договор нужно аннулировать, потому что существует старое франко-русское соглашение, противоречащее ему.
Слабый, нерешительный, уклончивый, он так не походил характером на своего непоколебимого в убеждениях, верного слову отца, позаимствовав черты характера у матери. Не унаследовал он от Александра Третьего, сумевшего тринадцать лет процарствовать мирно, и отвращения к войне. В начале царствования Николая чуть было не вовлекли в авантюру по захвату Константинополя, а в 1900 году устоять не удалось — царя и Россию втянули в вооруженное вмешательство по усмирению восстания в Китае. Разбили боксерские отряды, но из Маньчжурии русские не ушли. А скоро при дворе объявится отставной ротмистр кавалергардского полка Безобразов, создастся партия, и на самодержавного правителя Руси снова будут давить, давить, убеждать скорее захватить Корею, не говоря про то, что это приведет к столкновению с японцами, которых, знали, император презирал. С одной стороны, Николай мог гордо заявить, что "войны не будет, потому что он её не желает", а с другой — не мог противиться давлению партии войны. И когда война все же началась, он ещё и не знал, что конец империи и его личное падение как императора имели начало в особенностях его характера, совсем "несамодержавного"…
Ступень пятнадцатая ЦАРИЦА ВАРЯ
"Только бы найти его, только бы найти!" — металась единственная мысль, подобно ошалевшей от страха птице, попавшей в раскаленную печь. И этой печью было сейчас сознание Николая, весь день носившегося по Васильевскому острову в поисках пропавшего Алеши. Куда мог исчезнуть мальчик, которого не выпускали из квартиры и которого не нашли дома поутру, впрочем, так же, как и главу семейства? Но Николай домой явился, и совершенно пустыми были его глаза, и только Александра Федоровна знала, где он был.
— Ты мне вернешь сына, вернешь! — сказала она с едва сдерживаемой яростью. — Это ты во всем виноват! Алеша, я теперь понимаю, за тобой пошел, он все видел и не захочет возвращаться под один кров с отцом-убийцей.
На улице он подходил ко многим, сбивчиво, взволнованно рассказывал, как выглядел Алеша, опрашивал извозчиков, патрульных красноармейцев, просто идущих куда-то людей, но одни лишь пожимали плечами, другие долго выясняли какие-то ненужные детали, а большинство просто отмахивались — не приставай-де. Находились такие, что кивали, говорили, что видели похожего мальчика там-то и там-то. Николай бежал в указанном направлении, но никого не находил, и тоска, страшная, безысходная, замешанная на осознании собственной вины, греха, связанного с убийством человека, которого любил Алеша, начинала кромсать сердце Николая безжалостными, острыми зубами совести, и только новые расспросы прохожих, надежда, расправлявшая слабые, как у новорожденной бабочки, крылья, вновь и ненадолго прибавляла Николаю силы.
В тот день он возвратился домой ни с чем, но, странно, всю ночь проспал, точно и не было тревоги. Утром снова вышел в город, догадываясь, что Алеша шел вчера за ним, и возвращаться он должен был домой той же дорогой. Брел по Большому, подошел к Андреевскому рынку, спрятавшему куда-то внутрь своих стен обычную базарную суету. Чьи-то хриплые, прокуренные голоса долетели до него, и Николай увидел оборванных подростков, игравших то ли в бабки, то ли в битку, горланивших, бранившихся скверными словами. Он подошел. Не надеясь на успех, монотонно и безысходно стал объяснять, кого он ищет.
— А как его зовут-то? — подозрительно посмотрел на него наглый с виду, веснушчатый парнишка с расплюснутым носом, имевшим вывороченные ноздри.
— Алешей, — ответил Николай и сразу понял, что этим оборванным, источающим мерзкий запах мальчишкам что-то известно. — Вы, я понимаю, видели его?
Мальчишка с носом-пятачком долго чему-то улыбался, а потом, цвинькнув длинной струйкой слюны, пущенной под самые ноги мужчины, насмешливо сказал:
— Слушай, дядя, а катись-ка ты отсель колбаской по Малой Спасской! Я тебе не городовой, чтоб за всеми приглядывать. Кокнули, наверно, сына твоего урки поганые, которых здеся, у рынка, видимо-невидимо!
— Да что ты такое говоришь! — испугался Николай, чувствуя между тем, что за грубостью подростка скрывается что-то важное для него. Он хотел было возмутиться, схватить этого звереныша, но что-то подсказало правильный подход к душе исковерканного жизнью мальчишки.
— Ну, голубчик, прошу тебя, скажи, что ты знаешь об Алеше? — заговорил Николай срывающимся от волнения голосом, залезая в то же время в карман пиджака, где у него лежал бумажник. — Смотри, вон сколько ты получишь, если скажешь хотя бы, как его искать и где ты его видел. Ну, ну, говори, чего тебе стоит? Сам, наверное, отца имел или имеешь, понимаешь, думаю, как отцы страдают…
Последние слова попали явно не в цель, потому что Яшка — а это был именно он — вздрогнул, скривился и сказал:
— Знаем мы ваше отцовское страдание! — Но вид пачки денег произвел на Свиного Носа действие благотворное — он просто не отрывал от них взгляда. Ладно, зайдем за угол, при них, — кивнул в сторону товарищей, — ничего говорить не стану…
— Пойдем, пойдем, голубчик! — торопил его Николай, и вот они уже зашли за угол рыночного здания, и Яшка, часто-часто сглатывая от волнения, заговорил:
— Много я тебе, дядя, не скажу, но знай, что жив твой Алешка, — у Царицы он, утром ещё его туда отвели. Обозлил он нас всех тем, что царским сыном назвался, главным в нашей кодле быть захотел…
— Говори скорей, кто такая эта Царица? — Николай схватил Яшку за плечи, но тот ловко вывернулся, оставив в руках Николая куски ветхой рванины.
— Эй, эй, дядя, ша! Со мной полегче надо! Деньги вперед давай, а потом и спрашивать будешь! — Но когда Свиной Нос схватил грязной лапой банкноты, он резко отпрыгнул в сторону и, кривляясь, гогоча, прокричал: — А не догонишь, не догонишь! Слабо тебе, дядя, с самой Царицей знаться, с Царицей Варей! Она, брат, тебе хребет в два счета перешибет, пискнуть не успеешь!
Он скрылся за углом рынка, а Николай, так и ничего не поняв, кроме того, что Алеша жив и находится у какой-то Царицы Вари, пошел прочь, унося в своей груди ноющее сердце, со скулящей обидой на самого себя.
Мысль пойти за советом к Лузгину явилась неожиданно, и теперь, когда речь шла о спасении любимого сына, который когда-нибудь мог бы возвратить себе титул наследника престола, стать повелителем России, никакие сомнения относительно визита к бывшему сыщику не тяготили Николая. Снова он переходил через мост над быстро бегущей свинцовой водой, снова бродил по дворам-колодцам, поднимался по вонючей лестнице. Та же ветхая старушка отворила ему дверь квартиры, но теперь он застал Лузгина не в каком-то затрапезном, домашнем виде, как раньше, а в порядочной тройке, с целлулоидными воротничком и манжетами, с галстуком в горошек, какого-то строгого и официального.
— Я готов выслушать вас очень, очень внимательно, — чопорно, без улыбки, с ощущением собственного достоинства сказал Лузгин, усадив гостя на ободранный диван и усевшись напротив с руками, сцепленными на коленях.
— Пропал Алеша… — без предисловий начал Николай и в двух словах описал обстоятельства пропажи и свой сегодняшний разговор с бродягой.
Лузгин слушал внимательно, но совсем без прежнего, заискивающе-довольного выражения на лице. Лишь при упоминании имени "Царица Варя" он быстро двинул бровями, но тотчас его лицо сделалось по-прежнему непроницаемым. Николай кончил, а он все сидел и молчал, смотря куда-то через плечо гостя.
— Ну, что скажете? — не вытерпел Романов.
— Скажу, что ваши дела неважнецкие, — скороговоркой произнес Лузгин, если, конечно, эта Царица Варя та, с которой и я был знаком когда-то, понятно, по служебной линии знаком.
— Так прошу вас, расскажите все, что вы знаете о ней, — чуть ли не взмолился Николай. — Какие у этой женщины резоны не отпускать Алешу, да и вообще, почему же беспризорник сказал, что она с легкостью может перешибить — так он выразился — мой хребет?
— Хорошо, постараюсь изложить вам историю этой… или предположительно этой особы более подробно, тогда-то вы, Николай Александрович, возможно, и представите себе ее… э, демонический характер. Итак, — поднялся Лузгин и вытащил из тайника какую-то папку, — итак, Варвара Алексеевна Красовская, дворянка, дочь обеспеченных, интеллигентных родителей, училась на Высших Бестужевских курсах, но революционный кружок, в деятельность которого она окунулась с головой, представил Варе иное, нежели наука, поприще. В девятьсот шестом году семнадцатилетняя Красовская становится членом партии социалистов-революционеров, её «левого» крыла и, точнее, боевого его ядра. Вам ли не известны многочисленные кровавые проделки этой группы?
— Да, да, конечно, я был осведомлен и помню. Но ближе к делу…
— Нет, не торопитесь, ваше величество, — впервые улыбнулся своей ядовитой улыбкой Лузгин, склоняя к плечу несуразную по форме голову. Чтобы представить мотивы теперешнего поведения Красовской, — если это она томит в неволе вашего сына, — то нужно знать этого человека. А ведь один раз, в начале седьмого года, я выследил её в одном кафешантане, где она сидела со своим соратником. Боже, она уже в семнадцать лет была ослепительной красавицей, какой-то царицей Савской, Клеопатрой, горячей, страстной, и в то же время по-девически нежной и культурной. Тогда я их упустил — ушли через оркестр, и вскоре последовала целая серия убийств. Террористы едва ли не каждый день расправлялись с видными должностными лицами государства, и я определенно знаю, что фон дер Лауниц и прокурор Литвинов пали от револьверных пуль, выпущенных Красовской.
— Господи, она такая… злодейка! — воскликнул Николай, представив, что его Алеша находится во власти женщины, которая ещё в юном возрасте проливала кровь людей.
— О, немалая! — с каким-то торжеством улыбнулся Лузгин и поправил целлулоидные манжеты, выглядывавшие из-под коротких рукавов его синего пиджака. — Теперь я могу вам сказать и то, что скрыли от государя в то страшное для России время…
— И что же скрыли от меня?
— А то, что во время вашего посещения военной эскадры на Балтике боевики-эсеры планировали и ваше убийство при помощи подкупленных матросов одного из кораблей. Красовская, я знаю, принимала самое активное участие в подготовке покушения на ваше величество.
Николаю стало ещё более страшно за Алешу. Он мог стать тем, кого не убили террористы в девятьсот седьмом году.
— Ну и что же эта Красовская? Чем прославилась потом? — поспешил спросить Николай, чтобы поскорей отогнать тяжкие раздумья.
— А потом — самое интересное. В тринадцатом году она с двумя напарниками, кажется, Штильманом и Барковским, экспроприировав для нужд партии кассу Кишиневского банка взаимного кредита, захватила два миллиона. По тем-то деньгам, — Лузгин вздохнул, — сумма, сами знаете, весьма, весьма приличная. Но, что любопытно, Штильман и Барковский были схвачены, во всем признались, а Красовская с деньгами испарилась — её не дождались ни кассиры партии, ни мои агенты. Знаете, тогда я второй раз восхитился этой женщиной…
— Право, мне безразличны ваши чувства по отношению к этому монстру, холодно и резко сказал Николай. — Лучше расскажите, куда она подевалась тогда, когда ещё я был царем. Почему же вы её не нашли? — В его голосе проскользнули нотки капризной обиды.
— Виноват-с, не сумел-с, — развел руками Лузгин. — Похоже, эта баба оказалась умнее меня, легавой собаки. Впрочем, мои агенты прознали, что Красовская, припрятав деньги, — то есть не соря ими направо и налево, как это сделала бы менее осторожная женщина, — затаилась. Были слухи, что поступила она в один из борделей, чтобы под размалеванной внешностью продажной женщины скрыться скорее не от нас, ибо правосудие наградило бы её только каторгой, а от своих товарищей по партии — социалисты-революционеры такой финт с партийными деньгами покарали бы неминучей смертью, и красота небесная Варваре Алексеевне не помогла бы…
— Дальше, дальше, что было дальше? — торопил Николай.
— А дальше все интересней, все интересней, Николай Александрович, воодушевлялся поначалу холодный Лузгин, точно красавица, с каждой минутой отвечающая все более пылко на ласки возлюбленного. — Варвара Алексеевна, узнал я всего полгода назад, будто бы дождалась своего времени. Конечно, никто бы её при большевиках не стал осуждать ни за экспроприацию банковской кассы, ни за то, что она стреляла из револьвера в царских прокуроров и бросала в них бомбы. Отнюдь. Но к большим деньгам у этой барышни отношение особое. Особое оно и у нынешних властей — могли забрать в свою казну. Не могу постигнуть, почему она осталась, почему не скрылась за границу? Возможно, ей не хотелось раствориться там в эмигрантском болоте, нудном, как говорят, ноющем, однообразном. Видно, ей были нужны острые впечатления. Такие, чтобы леденили душу, завораживали кровь. О, я представляю эту Варю. Но баловаться такой роскошью, как острые ощущения, в Петрограде небезопасно — их здесь не ищешь, да находишь. И вот Варвара Алексеевна заводит дружбу с главными тузами теперешней колоды — с депутатами Петроградского Совета, с шишками партийного древа. Только дружбу, спросите вы у меня, Николай Александрович? Нет, отвечу я вам, не просто дружбу. Отношения куда более теплые, чувственные, сердечные. Не знаю, правда, с чьей стороны они более сердечные, скорее всего, не со стороны Варвары Алексеевны, которой нужна сильная поддержка, опора, помощь и защита…
— Вы говорите так долго, так пространно! — прервал Лузгана Николай. Нельзя ли покороче?
Старая ищейка, казалось, был посрамлен — сник, огонек в глазах потух, и он негромко сказал:
— Так ведь, собственно, и все, что я хотел сказать. Где она живет, не знаю — возможно, под чужим именем квартирует, поэтому в обнаружении её жилья ничем помочь не смогу. Ятолько… только вот что вам ещё посоветую. Будьте с нею осторожны, очень осторожны. Главным вашим козырем здесь может быть лишь то, что она в прошлом левая эсерка, а на этих людей у большевиков с прошлого года, когда они в Москве мятеж устроили, зуб очень острый наточен. Другой ваш козырь — это то, что Варвара Алексеевна дружбу со всякой сволочью водит, кроме людей государственных, как я уже сказал. А третий ваш козырь — это то, что она к одним благоволит, а к другим и нет. Первые счастливы, направо и налево о её прелестях повествуют — а прелести-то немалые, достоинств великих, — а вторые им завидуют. Но не ведают первые, с кем водят дружбу да любовь. Партийная большевистская дисциплина — строга. Вот если бы на самом верху прознали об их сердечных привязанностях, о том, что благоволят к левым эсерам, да ещё к тем, кто замаран уголовщиной…
— А уголовщина какая? Неужели эта Красовская с ворами да убийцами водится?
Лузгин широко осклабился, точно удивлялся наивному вопросу:
— С чистой воды налетчиками тесные связи имеет, да и сама капиталец свой приумножила изрядно за счет интересного промысла.
— Какого же?
— А не догадываетесь? В период вашего, Николай Александрович, приснопамятного правления в столице империи Российской только официально учтенных жриц любви было тринадцать тысяч, а сколько белошвеек, хористок, модисток, цветочниц и прочих, прочих — тело свое на продажу пускали, и не счесть. А ведь теперь, хоть и война в стране, хоть и обезлюдел Питер, хоть и голод, холод, но мужской пыл удовлетворения-таки требует. Зато сколько молоденьких девчонок да бабенок без работы пропадают, не имея возможности честным трудом себя прокормить. Раздолье сейчас для тех, кто бордель устроить захотел, так вот Красовская Варвара, не довольствуясь экспроприированными банковскими миллионами, четыре тайных публичных дома содержит. Видно, пока скрывалась от возмездия закона и своих сотоварищей, сильно древнее женское ремесло полюбила — до сих пор оно Вареньке покою не дает.
— Я понимаю так, — потирая лоб, быстро заговорил Романов, — что Чрезвычайная комиссия имела бы все основания заняться этой Красовской?
— Еще бы! Только нужно доказательства сыскать, документальные, или верных свидетелей выставить. Да только что вам до этой Царицы? Иное дело взять да и скомпрометировать товарищей из Петросовета, из городской большевистской организации. Вот какую бы я цель поставил и ради неё постарался бы и обличительные бумажки отыскать.
Николай вспылил:
— За кого вы меня принимаете? Чтобы я унизился до козней по отношению к какой-то сволочи? Сейчас я надеюсь лишь на то, что Советы будут разгромлены военной силой контрреволюции, а ходить да наушничать Бокию про связи всех этих Гольцманов, Рабиновичей и Зеельдовичей с какой-то шлюхой не мое дело. Мне бы сейчас Алешу вызволить, вот в чем задача.
Лузгин неодобрительно покачал головой:
— Напрасно вы так, Николай Александрович. Не сволочь они — раньше их так назвать можно было. Сейчас эти, как вы выразились, Рабиновичи и Гольцманы — огромная сила, с ними считаться надо, обязательно. Снова вы не одобрили мои методы борьбы с большевизмом, а зря. Впрочем, вы же не отказались подвести под монастырь Сносырева? Чего же теперь-то об унижении говорите?
— Ну, — немного смутился Николай, — погубить Сносырева было необходимо, иначе он бы погубил и меня, и всю мою семью. Короче, господин Лузгин, вас я попрошу добыть неопровержимые доказательства того, что Красовская занимается содержанием домов терпимости. Если нужны средства, я не поскуплюсь. Ведь лишь ради Алексея Николаевича это делается…
И Романов достал из кармана бумажник.
Он вернулся домой, не отвечая на вопросы жены, прошел в свою комнату, тщательно зарядил браунинг и, сунув его в карман брюк, вышел на улицу. Николай вновь шел к Андреевскому рынку, чтобы отыскать подростка с носом-пятачком, непременно знавшего, где живет Царица Варя — Варвара Алексеевна Красовская, левая эсерка, бомбистка, экспроприаторша, проститутка, пассия многих городских тузов и содержательница притонов.
Подойдя к зданию рынка, к тому месту, где три часа назад он повстречал оборванцев, Николай на этот раз не увидел никого, кроме каких-то подозрительных типов, смотревших на Романова так, будто их очень занимало содержимое карманов его пиджака. Он обошел здание со всех сторон, вернулся на прежнее место и, куря папиросы одну за другой, стал ждать, моля Бога о том, чтобы беспризорники появились снова. Вдруг его заставила обернуться фраза, произнесенная хриплым наглым голосом:
— Гражданин хороший, угости-ка «Лафермом» дитя революции!
Обернувшись, он едва не вскрикнул от радости — переломившись в пояснице куда-то набок, в ленивой позе бездельника, перед ним стоял тот самый беспризорник. Несколько его товарищей стояли поодаль и ждали, когда же им представится счастливая возможность затянуться дымом настоящих папирос.
— Бери, бери, хоть все бери! — щедро распахнул Николай свой серебряный портсигар, и грязные пальцы Свиного Носа ничтоже сумняшеся ухватили не меньше десятка дорогих папирос. — Только ты, любезный, мне вот что скажи, волновался Николай, очень боявшийся того, что оборванец ничего ему не скажет, — где мне найти ту… Царицу Варю. Ты только не бойся, я никому не расскажу, что это ты назвал мне адрес. А уж я-то заплачу тебе, очень хорошо заплачу. Тысячу рублей дам, правда. Только ты не обмани — верный адрес укажи! Мне очень, очень своего сына, Алешу, разыскать нужно. Ну, ну, говори.
Свиной Нос, передав товарищем папиросы и закурив, смотрел на него с какой-то презрительной подозрительностью, исподлобья, словно обкатывая в уме какой-то очень нужный ему вопрос.
— Леха говорил, что он — сын царя, — заговорил Яшка, — а раз ты — его батька, значит, ты и есть бывший царь Николашка? Чтой-то не больно-то похож…
— Ну какая тебе разница, бывший ли я царь или нет? — примирительным тоном сказал Николай. — Главное то, что я тебя буквально умоляю отвести меня к жилью Царицы Вари, вот и все.
— Нет, есть разница, — упрямился Яшка, — если ты — бывший царь, значит, я с тебя за сына твоего не тысячу, а два с половиной миллиона потребовать могу, понял? А тысяча твоя — задницу подтереть да выбросить!
Вдруг Николай, ещё несколько минут назад бывший лишь несчастным отцом, будто облекся в горностаевую мантию, и император, властитель России, мигом овладел его душой.
— Что?! — прокричал он грозно, и голос его зазвенел, как каленый булат, столкнувшийся с другим булатом. — Ты, сволочь, будешь что-то требовать от меня, от меня? Да я тебя, мерзавца, сейчас уничтожу. Негодяй. Поганец.
Преодолевая отвращение, он крепко ухватил Яшку, мгновенно перепугавшегося, способного быть наглым лишь тогда, когда не предвиделось отпора его наглости. Свиной Нос дернулся, попытался освободиться от Николая, державшего его за руку и вытаскивавшего из кармана пистолет. Когда ствол браунинга уперся во впалый живот Свиного Носа, Николай прошипел свирепо и страшно:
— Веди к Царице, сволочь, не то здесь же застрелю!
Трясшийся от ужаса Яшка, быстро-быстро закивал:
— Да, дядечка, да, миленький, веду, веду, только не стреляй, а то моя мамка плакать будет. Здеся это, рядом, видишь, дом аптекарский. Там и живет Царица Варя, богато живет, широко…
Сунув браунинг в карман, чтобы не привлекать внимания редких прохожих, но продолжая держать Яшку за руку, он потащил беспризорника к огромному мрачному дому профессора Пеля, а тот заскулил:
— А-а, что ж теперь Варя сделает со мной? Все кишки вырвет да на столб фонарный намотать велит! Заложил её хазу, нагадил государыне!
— Веди, веди, я тебя в обиду не дам! Скажу, что заставил показать жилье. Ничего тебе не будет.
И вот они уже свернули за угол, обошли дом сзади, прошли тем самым путем, каким шел с беспризорниками и Алеша перед тем, как очутился в подвале со свечами, но Яшка повел не к подвалу, а к одной из дверей, ввел на лестницу, провонявшую отбросами, кошачьей мочой. Поморщившись, Николай спросил:
— Неужели здесь и живет ваша… Царица?
— Нет, дядечка, не здеся — тут только черная лестница, для нас, для знакомых Царицы. Но если ты сам в её квартиру стучаться будешь, никогда не откроют — знак условный есть.
Поднялись на пятый этаж, остановились напротив обшарпанной двери безо всякой таблички, без звонка, и Яшка хитрым способом постучал по ней костяшками пальцев, приближая свое оттопыренное ухо к доскам двери. Вскоре кто-то в квартире закашлял, зашаркал ногами, загремели засовы, цепочки, дверь отворилась, и Николай увидал огромного детину с саженными плечами, с толстенными медвежеватыми руками.
— Кого привел? — проревел толстогубый детина, взглянув на Николая строго и испытующе.
— Да вот, сам напросился, — залепетал Яшка пискляво — как видно, привратник и являлся тем самым человеком, которому было под силу вырывать кишки и наматывать их на фонарные столбы. — Я тут ни при чем, мое дело сторона…
— Чего надо? — с угрожающим видом шагнул к ним детина, но Николай ответил совершенно спокойно и даже небрежно:
— Скажи-ка Варваре Алексеевне, братец, что к ней Николай Александрович Романов пожаловал, отец Алеши, которого она у себя взаперти держит. Да побыстрее, я ждать не люблю…
Детина, похоже, почувствовал в тоне незнакомца силу и власть, привычку распоряжаться, а не слушать чужие распоряжения, поэтому, сказав «щас», он вперевалку удалился, а Яшка, очень довольный тем, что беда пронеслась мимо него, потянул за рукав и просящим голосом сказал:
— Дядь, а дядь, ты вроде как тысчонку обещал. Вишь, я для тебя постарался.
Николай молча вынул бумажник и подал Яшке несколько «совзнаков». Беспризорник схватил деньги, сунул за пазуху и мигом скатился по лестнице вниз, оставив Николая одного на грязной, неосвещенной площадке.
Ждать пришлось минут пять, потом дверь отворилась, и на пороге снова появился детина, который уже не походил на грозного цербера, готового спустить с лестницы любого непрошеного гостя, — теперь его физиономия расплывалась в сладкой, приветливой улыбке, он неуклюже мелко кланялся и заискивающе бормотал:
— Пожалте, проходите, Варвара Лексевна вас просют. Пожалте! Фуражечку вон там, на вешалке извольте оставить, а потом все прямо, прямо…
Николай твердой поступью человека, решившего с ходу потребовать от Красовской возвратить ему Алешу, двинулся в указанном направлении, не стучась, резко отворил красивую филенчатую дверь с литой бронзовой ручкой, из-за которой доносились фортепьянные аккорды, смело вошел в залитый электрическим светом зал и замер от волнения, которое охватило его при виде очаровательной молодой женщины. Варвара Красовская сидела за кабинетным роялем с поднятой крышкой, её тонкие пальцы медленно блуждали по клавишам, и вся её стройная фигура, казалось, была обвита гирляндой томной и нежной мелодии, чуть грустной и удивительно походившей характером на облик прелестной музыкантши. Николай видел в своей жизни немало очень красивых женщин, многие из них были самого знатного происхождения, но никогда прежде он не встречал такой совершенной красоты — изысканно тонкой, какой-то небесной и даже непорочной. И только вспомнив все, что рассказал ему об этой женщине Лузгин, он отогнал от себя желание полюбоваться Варварой Алексеевной ещё хотя бы полминуты.
Он кашлянул, и Царица Варя, наверное, притворно, встрепенулась — она, знавшая о приходе Николая, была готова к его появлению. Тотчас поднялась со стула, шагнула к нему с обворожительной улыбкой и сделала глубокий реверанс.
— Ваше величество, я благодарю вас за оказанную мне честь. В моем доме — император России!
Николай, услышав в голосе женщины наигранность и даже легкую фальшь, негодующе взмахнул рукой.
— Ах, оставьте, пожалуйста, ваше паясничанье! Я у вас не за тем, чтобы выслушивать всякий вздор. Я знаю наверняка, что мой сын Алексей удерживается вами, а вот почему, я понять не могу! Может быть, вы, как обладающая склонностью ко всякого рода… экспроприациям, хотите потребовать выкуп за его освобождение? Что ж, я не против — сколько вам угодно получить?
Он говорил подчеркнуто грубо, хотя облик Красовской заставлял его делать это принужденно, но, что странно, Варвара Алексеевна не обиделась её прекрасно изогнутые брови поднялись, словно в удивлении, полные губки дрогнули, раскрылись, обнажая ряд ровных, точно отсеченных по натянутой нитке, зубов, и Красовская беззаботно, заливисто расхохоталась:
— Ах, какой вы строгий, Николай Александрович Романов, бывший государь всея Руси! Ну прямо истинный император, безо всякой подделки! Я вас именно таким и представляла — властным, нетерпеливым, гордым. Только… только зачем же вы расстались со своей бородой, которая так была вам к лицу? Что, испугались? Думали, каждый на улице пальцем тыкать будет, говорить: "Вон царь пошел"?. Напрасно. Этот шаг не делает вам чести, впрочем, это дело вашего вкуса — не нам, вашим бывшим подданным, судить вас, государей. Но вы спрашиваете, почему я удержала у себя Алешу? Почему? — И Варвара Алексеевна, глядя на Николая немного исподлобья, что делало её взгляд чрезвычайно страстным и выразительным, медленно пошла навстречу. — Я бы отпустила его сразу, если бы Алеша не был так упрям и не отказал мне в маленькой просьбе…
— Ну, и о чем же вы просили? — смягчаясь, попадая во власть обаяния этой странной женщины, спросил Николай.
— Когда я убедилась в том, что Алеша настоящий сын настоящего императора России, бывшего, конечно, — прибавила Красовская, таинственно и томно улыбаясь, — я попросила его только об одном: вызвать вас запиской, пригласить сюда. Но он, наверное, боясь меня, этого дома, отказался исполнить мое поручение… нет, не поручение — просьбу.
— Да и как же не бояться вашего дома, не бояться вас, — насмешливо улыбнулся Николай. — Ведь вы расправились не с одним моим подданным вашими жертвами были многие, и всего лишь потому, что они являлись слугами царя. Теперь же вы притворно кланяетесь тому, кого когда-то хотели казнить. Вы что же, серьезно думали, что, убив меня лично, вы покончите с монархией? Я прекрасно знаю, что вы находитесь в тесных дружеских отношениях с видными большевиками, с нынешними правителями Петрограда. Вам что же, недостаточно славы? Вам понадобилось поиздеваться над униженным, оплеванным, едва не убитым царем? Вы хотите, чтобы я стоял перед вами на коленях, лил слезы и молил вас отдать мне сына? Похоже, я прав — женщинам с таким бурным прошлым, как ваше, нужны острые ощущения. Но не надейтесь — я не буду унижаться. Если вы не отпустите Алешу, в эту квартиру придут чекисты, и тогда вам придется отвечать, и не только за насильное удержание в своем доме ребенка, но и за кое-что другое!
Николай, говоривший строгим, решительным тоном, видел между тем, что Красовская не смущается, не выказывает недовольства, — напротив, женщина смотрела на Николая чуть ли не с восхищением. Ее большие, немного подведенные глаза были широко распахнуты, маленькие ноздри шевелились от волнения, а рот был приоткрыт.
— За что же ещё мне придется ответить, а? — Она все приближалась к Николаю, и он уже слышал волнующий аромат лавандовых духов вперемешку с запахом дорогой пудры. — Ах, как вы строги и как вы… мстительны, улыбалась она, и сочетание непорочности внешней и испорченности внутренней казалось сейчас Николаю невероятно привлекательным. — Ну для чего вы поминаете убитых мною чиновников, каких-то пешек? Было время, и я, увлеченная идеями революции, свержения царского трона, с удовольствием делала то, что приказывала мне делать моя партия. Сейчас я уже совсем другая. Я уважаю власть, пусть даже явившуюся в лице всей этой мелочи, бывших лавочников, адвокатишек, репортеров и учителей. Теперь они у власти, и я с ними, вернее, с некоторыми из них. Но я, полюбившая власть, не могу не видеть разницы между вами, бывший государь с голубой кровью и прелестными глазами, и этими… товарищами. Так неужели вам ещё не понятно, зачем я так ждала встречи с вами? О, Алеша рассказал мне о вас, рассказал историю вашего спасения, и мое желание видеть вас утроилось. Вот зачем я не отпускала его. Он стал залогом нашей встречи, а если бы вы почему-либо не пришли, Алексей Николаевич, ваш сын, заменил бы мне вас. Ну, пусть не сейчас, когда ему только пятнадцать, а года через два, через три. Уверена, что и спустя три года я бы осталась все такой же… Царицей!
— Распутницей! — не проговорил, а прошептал Николай, чувствуя, что тонет в серой пучине огромных глаз Варвары Алексеевны, которая отрицательно покачала головой и с тихой улыбкой сказала:
— Нет, не распутница, а просто… Царица! И мне нужен, очень нужен царь, истинный, а не поддельный, пусть лишенный трона, но непохожий на выскочек-плебеев, которых я ненавижу. Посмотрите на меня, ваше величество, — разве я не Царица? Разве я хуже вашей немки, холодной, как погреб, в котором какой-нибудь гессенский хозяйчик хранит свое пиво? Язнаю, что у вас никогда не было русских женщин, вы их не знаете, ну так познайте всех их… во мне. Мы станем прекрасной четой: Царь и Царица. У меня есть деньги, много денег, у меня есть связи, и вы займете скоро едва ли не то же самое положение, каким обладали прежде. Неужели вам не хотелось бы вернуть себе власть? Ну же, только вам предстоит совершить ещё один подвиг — полюбить меня, сочетаться со мной…
И Варвара Алексеевна, продолжая смотреть прямо в глаза Николая, медленно заведя левую руку за спину, стала расстегивать крючки своего недлинного синего креп-жоржетового платья. Скоро её ловкие руки взметнули платье над головой, не боясь повредить прическу, и вот уже Красовская стояла перед Николаем в короткой шелковой сорочке, глубокий вырез которой позволял видеть её округлую грудь, приподнятую мягким корсетом. Он скользнул взволнованным взглядом по её стройным ногам, по бедрам в легкой пенке панталонного кружева, с черными подвязками дорогих фильдекосовых чулок, и вся его природа потянулась к этой необыкновенно красивой женщине, желавшей его, Николая, пусть не как мужчину, но как императора.
Он прожил со своей женой двадцать пять лет и ни разу не изменил ей, хотя довольно было бы одного жеста руки, одного даже не повелительного, а пригласительного жеста, чтобы увлечь в укромное местечко дворца любую из фрейлин, — никто бы не посмел отказать ему, государю. Нельзя сказать, что Николай не желал никого, кроме Александры Федоровны, — он смотрел с вожделением на многих, но, будучи лучшим человеком страны, желая быть примером для своих подданных, он не мог осквернить брачное царское ложе, а поэтому все его человеческие желания подчинялись осознанию самого себя как царя в первую очередь. Теперь же он не был царем, с каждым месяцем он ощущал в себе все более явное пробуждение дремавшего прежде мужского начала, а поэтому здесь, в этом элегантном зале, в каком-то заповедном уголке старого мира, желание овладеть этой прекрасной, но в то же время страшной женщиной заглушило в нем настойчивый голос крови и долга.
Они шагнули друг к другу и сплелись руками, их губы сошлись в долгом поцелуе, и природа пятидесятилетнего мужчины будто прильнула к источнику молодости и взлетела на сильных, упругих соколиных крыльях счастья, давно позабытого на супружеском ложе. Они тихо опустились на густой ковер, и Николай, целуя, на мгновение открывая глаза, видел, как неотрывно и жадно смотрит на него Царица.
Вдруг в голове Николая, точно ржавые, несмазанные петли, скрипнули слова Лузгина, произнесенные насмешливо: "Сильно древнее женское ремесло возлюбила — до сих пор оно Вареньке покоя не дает".
"Да разве же это… Царица? — мелькнула мысль. — Аликс царица, а эта проститутка бордельная, гризетка. А в таком случае кто я такой, если ласкаю падшую?"
И Николай резко отстранился от Красовской, убрал руки с её плеч, поднялся. Варвара Алексеевна, не понимая, что случилось, тоже мигом вскочила.
— Да в чем же дело? — с изумлением спросила она.
— А в том, сударыня, — кривя губы и отводя взгляд, заговорил Николай, — что много вам будет чести, если я окажу вам знаки… своего благорасположения. Слышал, что вы и в домах терпимости с большим удобством и пользой для себя проживать изволили, а в нынешнее смутное время притоносодержанием промышляете. И с таким-то вот наследством да и к царю на шею? Нет, красавица, — мало называть себя Царицей. Нужно ещё и быть ею!
Он сказал это тоном крайне пренебрежительным, издевательски искажая окончания слов, манерно грассируя, и Красовская поняла, что этот мужчина не шутит, не стремится подразнить её самолюбие — он действительно считает её, всеми желанную, обожаемую, грязной тварью, которая не имеет права даже предлагать ему себя.
— Ах так, я вам не пара! — тихо-тихо, одним лишь горлом выдохнула кипевшая от гнева Красовская. — Но да и вы уже не царь, милостивый государь. А впрочем, нет, царь, но царь, находящийся сейчас в моей власти. Царь без власти, царь, с которым я могу сделать все, что мне угодно! Даже убить вас могу! Нет, просто выпороть, унизить, как унизили вы меня, Царицу! Знаю, что вы Гоголя любите. Ну так помните, как в "Мертвых душах" Ноздрев Чичикова пороть собрался? У Ноздрева-то не получилось, а у меня непременно получится! — И Варенька, вся пылающая ненавистью к мужчине, отвергнувшему её, прокричала громко и пронзительно: — Андрюха! Мишка! Скорее ко мне!
Не прошло и пяти секунд, как дверь распахнулась, и в гостиную вломились два здоровенных мужика, то ли лакея, то ли привратника. Одного из них, медвежеватого, плечистого, Николай уже видел, когда входил в квартиру.
— Хватайте его и вяжите! Видите, что он сделал со мной! Снасильничать хотел, подлец! Что стоите-то?
И слуги, готовые встать горой за честь и интересы хозяйки, бросились к Николаю, один из них размахивал кистенем на сыромятном ремешке. Каждая секунда теперь была дорога, и, быстро сунув руку в карман, Николай выхватил браунинг, мгновенно передернул затвор и, когда между ним и передним верзилой-лакеем оставалось не больше двух шагов, вскинул руку и выстрелил прямо в середину его широченной груди. Коротко и печально вскрикнув, громила ничком упал в мягкий ковер и замер, но второй своей железной гирей ударил Николая по руке, державшей пистолет, и тут же схватил его за шею так, что в ней захрустело.
Лежа на ковре и силясь сбросить с себя тяжелую тушу холопа, Николай кричал, ругался, но скоро рот его был заткнут салфеткой, а руки связаны портьерным шнуром, ноги — тоже. Избитый, униженный, не сумевший достичь цели, он сидел на кресле, куда был посажен тяжело дышащим Андрюхой, а Красовская, так и не надевшая платье, стояла перед Николаем, скрестив на груди руки, и победно улыбалась.
— Ах, да вы какой отчаянный, Николай Александрович! В вашем-то положении, когда мне стоит лишь набрать телефон Чрезвычайной комиссии и вас вместе с сыном отправят снова в Екатеринбург, только теперь постараются не допустить прошлогодней оплошности. Но нет, не бойтесь, я этого делать не буду. Я русская женщина, и мы, русские женщины, очень не любим, когда нас отвергают, — этого мы никогда не прощаем. Явас просто физически уничтожу. Смотрите, вон пылает камин, а рядом — кочерга. Она станет ярко-красной минут через семь, а потом я буду смотреть на то, как корчится ваше тело, как вылезают из орбит ваши глаза. Представьте себе, эта картина мне доставит огромное наслаждение, куда больше того, которое бы смогли дать мне вы, бывший повелитель России, в постели.
И Красовская, быстро ступая по мягкому ковру своими легкими, обтянутыми фильдекосом ножками, на самом деле подошла к камину и сунула загнутый конец кочерги в бурлящий поток пламени.
Но ещё тогда, когда Николай шел от черной лестницы по коридору в сторону гостиной, где нашел Царицу Варю, он длинно откашлялся, готовясь к своей гневной речи. И кто же станет отрицать, что как не бывает в жизни двух одинаковых голосов, так и кашель у каждого человека свой, особенный, неповторимый, а комната, в которой взаперти находился плененный Алеша, располагалась в том же коридоре, рядом с гостиной, где играла хозяйка. Он, сидевший на диване, служившем ему и постелью, погруженный в невеселые раздумья, услыхал хорошо знакомый отцовский кашель, услышал его неповторимые шаги — уверенные, но частые, — быстро вскочил с дивана, подбежал к дверям, прижался ухом, хотел было позвать отца, но тут услышал, как стукнула соседняя дверь, и мальчик понял, что его отец зашел к Царице Варе. Он подошел к стене, которая, он знал, разделяла его комнату и гостиную, стал жадно слушать, выбирая место, где слышно лучше, но ничего из речи говоривших понять не мог, хотя слышал, что там — отец, что говорит он гневно, возмущенно, а Красовская — напротив, по-женски мягко, с лестью и притворной лаской. Потом голоса пропали, и снова заговорил отец, вдруг раздался женский крик, какой-то шум в коридоре — по нему бежали, громыхая, — и вот треснул выстрел, шум в гостиной и долгий, страшный отцовский крик. Больше мальчик терпеть не мог. Он знал, что там, за стенкой, мучают его папу, возможно, собираются его убить, и Алеша подошел к окну и дернул вниз шпингалет, державший раму.
Квартира располагалась на пятом этаже, и Алеша часто смотрел из своего окна на город: видел четырехугольник Андреевского рынка, распластанного где-то внизу, у самой земли, видел Академию художеств, Кунсткамеру, Ростральные колонны, видел даже Зимний дворец, где ему так нравилось жить, потому что там было куда теплее, чем в Александровском дворце. А ещё из своего окна он видел водосточную трубу, которая крепилась совсем рядом, всего в метре слева от подоконника. Порой Алеша думал, что можно было бы спуститься вниз по трубе, только бы хватило смелости шагнуть с подоконника влево и тут же ухватиться за эту трубу. Он видел еще, что жесть трубы довольно новая, а поэтому бояться того, что труба не выдержит, оборвется, не стоило.
И вот теперь желание спасти отца, желание стать сильнее тех злых людей, не стоящих и пальца его папы, забурлило в Алеше, в котором сила, точно спящий, свернувшийся кольцами удав, долго покоилась на дне его души-колодца точь-в-точь, как у Николая, а потом вдруг пробудилась и стала пробиваться наружу.
Держась за коробку рамы, повернувшись спиной к бездне, Алеша протянул вперед правую руку, подался в сторону трубы всем телом и, оттолкнувшись ногой от подоконника, ухватился руками и ногами за водосточную трубу. Потом, чуть-чуть переведя дух, стал спускаться вниз, нащупывая ногами стальные штыри, вмурованные в стену и державшие трубу. Его глаза были открыты, и мальчик видел красные, зеленые, коричневые крыши домов Васильевского острова, ещё не утонувшие во мраке позднего вечера, и ему казалось, что он летит над городом, который мог бы стать столицей его государства, но теперь новое чувство переполняло его — не чувство радости от ощущения власти, а осознание себя бесстрашным и сильным.
Он благополучно спрыгнул на тротуар, бросился к Большому проспекту, и тут, к его великой радости, увидел патруль краснофлотцев…
…Когда на стук патрульных, требовательный и напористый, никто не открыл дверь, бравые балтийцы просто вышибли её. Вбежав вместе с Алешей в гостиную, на которую указал им мальчик, они увидели красивую полуодетую женщину, державшую в руках кочергу, а в кресле — связанного человека с кляпом во рту. Другой мужчина лежал ничком на полу, не подавая признаков жизни.
— Чем это вы, дамочка, здесь занимаетесь? — строго спросил старший патрульный, обвешанный гранатами боцман. — Видно, нехорошим баловством балуете… эт-то очевидно. Оденьтесь, с нами прогуляться нужно…
— А пошел ты, хам! — со слезами на глазах, швырнув кочергу в камин, прокричала Красовская, и Николай, которого в это время развязывал Алеша, не знал, сердилась ли она потому, что он не дал ей стать истинной царицей, или потому, что нанесенное женщине оскорбление так и осталось несмытым.
____
— …Так вы сами посудите, товарищ Бокий, имел ли я право не обратить внимание на эти вот факты? — говорил Николай, сидя в кабинете у начальника Петроградской Чрезвычайки и раскладывая перед ним какие-то бумажные листы. — Гражданка Красовская, левая эсерка, сумевшая сберечь два миллиона старых денег из экспроприированного банка, проститутка в прошлом, занимается сейчас, когда страна воюет с контрреволюцией, притоносодержанием. Работницы фабрик, заводов, крестьянки, приезжающие в Петроград, становятся жертвами этой ненасытной твари, я не боюсь такого грубого слова. Она же, едва узнав, что у меня имеются против неё обличительные документы, похитила сына моего, Алешу, чтобы растлить его, а когда я попытался спасти мальчика, едва не убила меня.
Бокий, которого Николай застал в кабинете за чаем, разгрызая кусочек рафинада, сказал, рассматривая между тем принесенные Николаем документы:
— Это очень интересный материал, очень. Я благодарю вас, Николай Александрович. Сейчас Красовская на Гороховой, мы проведем следствие. Ваше радение за интересы революции похвально. Знаете, я бы мог дать вам рекомендацию для приема в партию.
— В какую? — испугался и покраснел Николай.
— Как в какую? — даже бросил ложечку в стакан товарищ Бокий. — В нашу — Российскую Коммунистическую партию большевиков.
Николай был смущен. Судьба дарила ему случай стать членом той самой организации, которая изначально задумывалась как борющаяся с монархией, организации, приговорившей его и всех его родных к смерти.
— Простите, я пока не готов, — промямлил Николай, отводя взгляд. — Мне ещё нужно получше ознакомиться с вашим, с позволения сказать, вероучением, почитать какого-нибудь Лассаля, Каутского. Это же ваши пророки?
— Да что вы, и не вспоминайте их! — зачем-то взглянул на дверь Бокий. — Лучше я вам дам работы Ленина, Троцкого, Бухарина. Впрочем, вот они, на полке. Да соглашайтесь вы, Николай Александрович! Примут!
Николай поспешил подняться. Он пришел сюда с бумагами, добытыми Лузгиным и изобличавшими Красовскую, боясь, что она в Чрезвычайке сумеет убедить комиссаров в том, что задержала у себя дома бежавшего из заточения императора России. Николай не знал, насколько кстати оказались для Бокия, отвергнутого Красовской и мечтавшего отплатить строптивой Царице, эти документы: чекист и не предполагал, что эта шикарная дама, живущая неизвестно на какие средства, левая эсерка. Погубить её, а тем самым наказать и её соперников было теперь для главы Чрезвычайной комиссии делом недели. Разумеется, приговор вынес бы трибунал. Конечно, хотелось бы разыскать ещё и её капиталы, но Бокий даже не рассчитывал на такой успех.
Он простился с Романовым очень любезно и был искренне доволен им.
***
Шла кровопролитная, неудачная для России Японская война, и чем больше поражений терпели русские войска, тем выше поднимались волны недовольства царским правительством. С каждым днем сильнее кипела рабочая масса больших промышленных городов, где пропаганда желающих свержения монархии находила благодатную почву. Агитировать было просто: не принимаешь войну, значит, не одобряешь и правительство, в частности, самого царя, устроившего бойню ради сомнительных интересов. Бастовали рабочие, волновались крестьяне, бывшие против войны, так как именно они выставляли для армии наиболее многочисленный контингент, а ведь это были мужчины в расцвете лет, работники, незаменимые в крестьянских хозяйствах.
Сильно волновалась студенческая масса. На митингах в учебных заведениях звучали самые крайние революционные призывы, вплоть до анархизма и боевого социализма. Речи ораторов прерывались криками: "Долой самодержавие!" и даже оскорблениями в адрес императора и членов его семьи.
А Николай Второй тем временем соизволил утвердить на должность министра внутренних дел, вакантную после убийства террористами Плеве, образованного и умного Святополка-Мирского, который прекрасно понимал, что правительство и общество представляют в настоящий момент два противоборствующих лагеря. И новый министр вскоре подал царю доклад с проектом указа о различных вольностях, в том числе и о привлечении в Государственный совет для законотворческой деятельности выборных депутатов. И государь, посовещавшись с видными государственными сановниками, предложил составить соответствующий проект указа. Когда проект был готов, Николай, в душе которого все ещё бродили сомнения, ведь депутаты ограничивали самодержавие, призвал к себе министра Витте и попросил его высказать свое откровенное мнение по поводу единственного смущавшего царя пункта: об учреждении представительного правления. Удивительное самодержавие! Царь ждал ответа от своего подданного, стоит ли ему подписывать указ об ограничении собственной власти!
Он молчал на заседаниях Государственного совета, молчал, выслушивая по несколько часов в день доклады министров, его резолюции на докладах, какими бы дельными ни казались они, были лишь откликом на чье-то действие. Резолюции эти были скорее эмоционально окрашенными восклицаниями, чем результатом активной умственной деятельности самовластного повелителя. И вот дошло до того, что неограниченный монарх ожидал от подвластного ему чиновника ответа на вопрос, нужно ли ему вводить самоограничение. Как подданный скажет — так и будет. Посоветует править, как прежде, без депутатов, будет править, а нет — тут же пригласит выборных разделить с ним бремя государственной власти.
И Витте дал царю уклончивый ответ: привлечение выборных депутатов станет первым шагом на пути к полному конституционализму, к которому стихийно стремятся все страны мира. Если такой образ правления не приемлем для государя, то не стоит делать и первого шага. И Николай, желая сохранить монархию, принял совет Витте как рекомендацию к отклонению указа…
Ступень шестнадцатая ТОНКАЯ ИНТРИГА
Осень и начало зимы девятнадцатого года Романовы прожили в состоянии тревожного оцепенения, когда все будто бы и ладно в доме, есть средства, чтобы на рынке из-под полы приобрести картошку, масло, сало; когда Алеша ходит учиться, и совсем недалеко, и совсем-таки недурных преподавателей слушает в гимназии Мая; когда дочери пристроены: одна все так же работает в кинематографе, а другая — в библиотеке, а Маша уже почти оправилась от пережитого потрясения. Но все-таки в этой частной домашней жизни, к которой стремились все Романовы, когда являли вместе августейшую семью, было много неудовлетворяющего, чуждого всем по отдельности. Александра Федоровна, например, время от времени выговаривала мужу за то, что их неудачная переправа через границу отрезала Романовых от нормальной светской жизни и у неё нет порядочных знакомых и приходится довольствоваться соседками-домохозяйками. Правда, бывшая императрица обзавелась тремя приятельницами благородного происхождения — профессоршей, престарелой музыкантшей Мариинского театра и вдовой какого-то надворного советника, жившими в том же доме. Но разве этот круг общения мог удовлетворить Аликс?
Сам Николай, внимательно следивший за фронтовыми сводками, насколько полно они были представлены в петроградских газетах, все ждал, что Красная Армия наконец потерпит поражение и в России к власти придут пусть не сторонники монархии, но и, по крайней мере, не тираны большевики, инородцы, губящие русские души, начавшие глумиться над православной церковью и многовековым укладом русского народа. Но сообщения с фронтов приходили безрадостные — красные полки разбили и Деникина, и Юденича, и Колчака.
По вечерам и даже ночам на него накатывало страстное желание узнать а чего же все-таки хотят большевики? И он стал читать их книги. Внимательно, с карандашом проработал он выданные ему Бокием брошюрки, попросил Татьяну принести из библиотеки Маркса, Плеханова — тоже съел, едва не подавившись, правда. Но потом, обдумывая прочитанное, он никак не мог понять эти социалистические идеи, где во главу угла поставлена какая-то прибавочная стоимость, ради возвращения которой трудовому народу затеяли революцию и люди убивают друг друга как классовые враги. Как все это применимо к России, где в основном живут крестьяне, собственники, и никакой прибавочной стоимости в природе их труда нет и быть не может?
"Не для нас все это, не для нас! — говорил сам с собою Николай, прохаживаясь ночью из угла в угол по своей комнате. — Вот из-за чего выпало столько страданий на долю моего народа! Нужно это прекращать! Нужно повернуть корабль истории на прежний курс. Да, пусть на этом корабле сломалась машина, заело руль, но это нужно починить, а не дрейфовать в полную неизвестность по течению. Я должен, обязательно должен взять в руки руль государственного корабля, корабля-государства, иначе мы все пойдем ко дну на каких-нибудь рифах. Но как мне это сделать?"
Однажды, уже в начале девятьсот двадцатого года, Николай забрел на квартиру Лузгина, который услужливо помог размотать ему на шее лопасти суконного башлыка, снять барскую енотовую шубу, усадил в свое обшарпанное кресло и, загадочно улыбаясь, заговорил:
— Могу поздравить, ваша кампания против Красовской закончилась полной победой — Царица Варя по приговору Ревтрибунала расстреляна, да-с…
Сердце Николая дрогнуло от ощущения какой-то не то что вины за смерть женщины, которая могла расправиться не только с ним самим, но и с Алешей, а потому, что ему стало жаль красивую женщину и её тело, чуть было не ставшее его собственностью, а теперь отданное червям в суглинистой питерской земле. Иногда он вспоминал тот необыкновенно дивный момент, когда Варвара Алексеевна появилась перед ним в неглиже, ему казалось, что на лице молодой женщины было тогда написано желание не только понравиться Романову-царю, но и отдаться ему как мужчине. В эти моменты Николай ненавидел Лузгина за то, что он рассказал о прошлом Красовской, положив тем самым между ними непреодолимую преграду.
— Расстреляна… — словно выдохнул Николай. — Что же теперь?
— А теперь, ваше величество, — бодро заговорил Лузгин, — нужно на ниве, удобренной таким богатым навозом, собрать богатый урожай. Вы прекрасно действовали, вы очень смелы, просто по-царски отважны, как какой-нибудь киевский князь Святослав, но вам не хватает умения вести интригу. Я понимаю, интриги — не царское дело, но всему нужно учиться, а тем более тогда, когда вы стали, как бы это сказать, не совсем царем.
— Но что же я могу сделать? — растерянно всплеснул руками Николай, которого уже не возмущала мысль о борьбе с Советами теми методами, что прежде вызывали у него лишь отвращение.
Лузгин, собираясь с мыслями, желая произнести давно уже заготовленную речь очень убедительно, немного посидел, потирая пальцами виски, потом с очень серьезным видом заговорил:
— В настоящее время партия большевиков сильна тем, что их линия практически не подвержена критике, влиянию всяких там фракционных течений, ревизий и прочее. Нужно сделать так, чтобы появились веяния, направления мысли, не согласующиеся с нынешним курсом. Необходимо вовлечь большевиков во внутрипартийные дискуссии, разделить их, перессорить между собой, а потом и пожать плоды на этой ниве. Неужели вы никогда не читали советов Макиавелли?
— Мне стыдно, но я не читал этого автора…
Он не заметил, как усмехнулся Лузгин, всего лишь краешком рта усмехнулся.
— Так вот, я знаю, что вы в Чрезвычайке на хорошем счету. Я не заставляю вас вступать в партию — помню о предложении Бокия и вашем отказе. Если вам это противно, попросите покамест у председателя ЧК мандат без права голоса для участия в предстоящей городской партийной конференции.
— Но для чего мне он? Чтобы получить наслаждение от пылких речей моих врагов? — раздраженно спросил Николай.
— Не только. Там вы познакомитесь с теми, кто и станут идеологами фракции, кто разделит партию большевиков не надвое, а на большее количество идейных лагерей. Берите мандат, Николай Александрович, а я составлю программу ваших действий, напишу кое-какие тезисы, укажу тех, к кому вам нужно будет подойти.
— Подойти? Да с чем же подойти? Что мне нужно от этих большевиков? не на шутку вспылил Николай, не видя никакой пользы от своего участия в партийной конференции.
— К кому? — насупил брови Лузгин, смотря на непокорного императора уже совершенно неучтиво и даже грубо. — Да к бывшим любовникам Красовской, расстрелянной по приговору Ревтрибунала за контрреволюционную деятельность. Да-с, батенька царь, за всякое наслаждение платить в жизни нужно — вот и пускай заплатят товарищи!
Делегаты уже толпились у входа, предъявляя вооруженным трехлинейками солдатам свои мандаты и стремясь без очереди пройти в вестибюль дворца, чтобы скорей отогреться и напиться чаю в буфете, о наличии которого делегаты были заранее предупреждены. Прибыли не только городские партийцы, но и представители губернских ячеек, поэтому у входа терлись друг о друга драповые пальто с меховыми воротниками, крытые сукном шубы, а то и просто нагольные тулупы крестьянских депутатов, робко стоявших на месте, пропуская вперед городской вальяжный драп и габардин.
Николая в енотовой шубе оттирать не стали, и скоро он уже стоял в вестибюле дворца, где когда-то заседала Дума, нещадно щипавшая императора и его правительство безжалостными клювами своих депутатов. Едва вошел, как услышал громкий голос распорядителя:
— Дорогие товарищи, гардероб работает, но в зале холодно, поэтому кто хочет, пусть проходит прямо в зал в шубах и пальто! Нашей конференции это не помешает! К тому же в буфете на втором этаже каждому будет предложена чашка горячего чая и стопка разведенного чистой водой спирта! Поднимайтесь наверх, товарищи! До начала конференции у вас ещё есть в запасе полчаса!
И делегаты, очень довольные приемом, довольные самими собой, потому что далеко не всякого человека в России потчевали горячим чаем и спиртом, оживленно разговаривая, поднимались наверх. Городские там просто пили чай и спирт, а деревенские, опасливо озираясь, тихонько доставали из узелков припасенный хлеб и сало, не забывая, конечно, про партийный чаевой и спиртовой паек. Подкрепившись, в хорошем расположении духа они спускались вниз, шли занимать самые удобные места в огромном зале, где ряды кресел располагались амфитеатром, а над трибуной висело кумачовое полотнище, на котором аршинными буквами было начертано длинное приветствие делегатам партконференции.
Николай не поднимался в буфет, но с интересом присматривался к этим новым правителям страны, чьи посконные в массе лица говорили о том, что лучше бы им сейчас или ремонтировать сельхозинвентарь, готовясь к весенней пахоте, или стоять у токарного станка на заводе. Но он смотрел на них ещё и потому, что в числе этих мужчин должен был разыскать троих очень нужных ему.
Наконец разношерстная толпа делегатов разместилась в креслах амфитеатра, постепенно разговоры смолкли, и все увидели, как к трибуне быстрыми шагами, сильно подавшись вперед, двинулся мужчина в пиджачной паре, но с шеей, замотанной длинным шарфом, кокетливо развевавшимся во время его стремительного движения. Взлетев на трибуну, он тут же отпил глоток чая из заранее припасенного стакана, распластал по обе стороны трибуны руки, став при этом похожим на горного орла, оседлавшего вершину Арарата, и Николай, перед тем как услышать голос этого человека, уловил шепот сидевшего рядом с ним молодого парня в кожанке, сказавшего соседу с восхищением:
— Сам товарищ Зиновьев говорить будет!
И тут в зал в сопровождении легко трепещущего эха полетели звонкие, энергичные фразы:
— Товарищи делегаты Петроградской партийной конференции! Поздравляю вас с открытием нашего пленума! А ещё поздравляю вас с тем, что в стране после разгрома контрреволюционных армий Колчака и Деникина, которые безрезультатно стремились сломить могучую волю российского рабочего класса и трудового крестьянства, жадно возжелавших сбросить наконец многовековой гнет угнетателей, наступила передышка! Так давайте же, товарищи, откроем нашу партконференцию пением замечательного, зовущего к подвигам во имя торжества коммунизма гимна — «Ин-тер-на-цио-на-ла», дорогие товарищи!
Николая поразило то, как зал разом, с шумом поднялся, как выпрямились эти неказистые с виду люди с корявыми лицами и руками, как напружили свои груди, напрягли щеки, как из их ртов вместе с паром вырвались первые нестройные звуки никогда не слышанной Николаем песни:
Вста-вай, проклятьем заклейме-еонный,
весь мир голодных и рабо-ов…
Николай часто слышал о том, что бастуют рабочие, что бунтуют солдаты, выходят на демонстрации многотысячные толпы недовольных им людей, но видеть все эти действия ему не приходилось, а тем более он никогда не стоял бок о бок с возмущенными его правлением подданными. Теперь же, когда он, тоже вставший, когда поднялись все, находился в тесной физической близости с теми, кто проклинал его когда-то и кто, если бы узнал в нем бывшего императора, тотчас или приговорил бы его к расстрелу снова, или, не дожидаясь трибунала, устроил бы немедленный самосуд, он, несмотря на холод, покрылся поiтом — до того его пронзили потоки жгучей ненависти к прежнему строю, исходящие от стоявших в зале людей. Но вместе с тем азарт и ярость, желание помериться силами с этим тысячеголовым чудовищем, называемым партией большевиков, выбрался потихоньку из пучины страха и отчаянья, вызванного внезапно явившейся мыслью: "А может быть, я России совсем и не нужен? Может быть, все они справедливо так ненавидят время, связанное с моим правлением?"
Когда после долгого и нудного процесса по утверждению регламента, всяких бюрократических процедур, выборов счетной комиссии, ревизионной комиссии и прочей ерунды, продемонстрировавших Николаю то, что и при коммунизме волокиты не избежать, начались выступления тех, кто подал заявки, он немного оживился, потому что было интересно послушать, как идут дела и на фронте, и в промышленности, как функционируют во время развала всего, что можно было развалить, советские финансы, как пытаются наладить снабжение Петрограда хотя бы минимумом продовольствия. Как раз по этому вопросу докладывал высокий красивый хохол по фамилии Медведко, усатый, как Тарас Бульба, и чрезвычайно красноречивый. Он все время грозил кому-то кулаком, делал страшные глаза, чуть не падал с трибуны, подавая далеко вперед свое мощное тело. И ему удалось убедить делегатов в том, что он, комиссар Медведко, ни за что не позволит задушить революционный Петроград костлявой рукой голода.
В перерыве, когда делегаты, возбужденные докладами, снова пошли в буфет, Николай направился туда же, но чай не пил, а дожидался, покуда уполномоченный по снабжению Петрограда продовольствием комиссар Медведко перекусит после своего энергично прочитанного доклада, а потом, когда тот, очищая языком десны от хлебного крошева, вышел из буфета, Николай подошел к нему сбоку и очень вежливо сказал:
— Товарищ Медведко, можно вас задержать минуты на три?
Комиссар остановился, великодушно кивнул:
— Да, да, конечно, товарищ. Вы, наверное, по поводу доклада?
— Не совсем, хотя доклад ваш очень интересен и, главное, содержателен. Значит, не дадите задушить город костлявой рукой голода?
— Не дам, ни за что не дам! — решительно помотал своей большой, как пудовая гиря, головой комиссар по продовольствию.
Они уселись на кожаный диван, закурили, и Николай, глядевший на Медведко как-то чуть насмешливо, заговорил:
— Дело, собственно, вот в чем, товарищ Медведко. Вы, наверное, слышали, что одна ваша очень хорошая и… близкая знакомая, а именно Царица Варя, точнее, Красовская расстреляна по приговору Ревтрибунала?
Медведко нахмурил густые брови:
— Да, знаю об этом. Не пойму только, что там за ней нашли.
— Как же! — насмешливо улыбнулся Николай. — Чего только не вытворяла! И тебе эсерка левая, и притоносодержательница — в наше-то время! Нельзя позавидовать, однако, и тем, кто её окружал. Товарищи из ЧК ведь разбираться долго не будут: ходил к ней, дружбу водил, да ещё находясь на ответственной должности. А откуда, зададут чекисты вопрос, у Красовской такая богатая обстановка, когда страна голодает? Ну не иначе как влиятельные друзья платили ей за любовные утехи. А чем же, спросят, платили? Что, у них разве свое, кровно нажитое состояние большое? Нет, не имеется такового. Тогда откуда средства? Конечно, казенные средства, или, как сейчас выражаются, народные, рабочие-крестьянские. Ага, скажут товарищи из Чрезвычайной комиссии, а мы этим ответственным лицам верили, вручили им наиглавнейшие в городе посты, они же служебным положением воспользовались, чтобы красть и доводить дело до того, что вот-вот голод костлявой рукой возьмет за горло революционный и трудовой Петроград! И отправят чекисты неоправдавших доверие ответственных работников по той же дороге, по которой и Царица Варя прошла.
Николай, попыхивая дымом, взглянул на Медведко — этот большой, красивый мужчина с пышными усами сидел на диване сгорбившись, засунув свои огромные ладони куда-то между колен, красные пятна покрывали его вспотевшее лицо, а взгляд был устремлен на носки начищенных до зеркального блеска сапог.
— Вам нехорошо? — с фальшивым участием спросил Николай. — Врача позвать? Я видел, где-то недалеко есть врачебный кабинет…
— Не нужно ни-ко-го звать! — басом сказал Медведко. — Говорите, чего вам от меня нужно? Стращать меня решили? Ну, допустим, я испугался. Хотите… я дам вам полвагона муки, и вы отвяжетесь от меня, ну, договорились?
— Ой, целых полвагона? — испуганно спросил Николай. — Ай, нехорошо, товарищ Медведко, нехорошо!
— Вагон, целый вагон, вы понимаете, какое это сейчас богатство?
— Догадываюсь, догадываюсь, особенно когда костлявая рука уже легла на горло Петрограда. Но нет, не возьму я у вас муку, Медведко, отдайте её по назначению.
— Тогда чего вам нужно? Мануфактура? Есть хороший ситец, яловая кожа.
— Нет, и мануфактуру оставьте в покое, Медведко. Вы бы вот мне чем помогли — ну просто пустяк. Конференция ещё два дня проходить будет, так не пожелаете ли выступить послезавтра с одним оч-чень интересным докладом. Уверен, произведете куда лучшее впечатление, чем сегодня, о вас заговорят, может быть, в Москву, в Кремль переведут.
— Да что же за доклад такой? — удивился комиссар и как будто повеселел.
— Очень дельный должен быть доклад и… новаторский. Вот его программа, тезисы, так сказать, — и Николай, вынув из внутреннего кармана пиджака сложенный вчетверо листок бумаги, подал его Медведке. — Ну, сами видите, я предлагаю вам выступить с идеей, что высшей формой организации рабочего класса нужно считать не партию, а профессиональные союзы. Ну, разве нельзя эту мысль назвать правильной? Ведь ради рабочих и делалась революция, так пусть же они и руководят заводами и фабриками. Больше самостоятельности профсоюзам — и рабочие вам за это спасибо скажут, будто вы их всех накормили сдобными калачами.
Медведко смотрел то на лист с тезисами, то на Николая. На его лице была написана растерянность, он словно быстро обдумывал.
— Но зачем вам все это нужно, зачем? — спросил он наконец.
— Зачем? — Николай бросил докуренную папиросу в высокую красивую урну. — Да рабочих я просто люблю. Увидел, что вы — прекрасный оратор, человек в партии заметный, вот и решил вам свои мысли подарить. У меня бы хороший доклад не получился. Уверен, что скоро вокруг вас, будто пчелы вокруг матки, соберутся те, кто разделит ваши убеждения. Как прекрасно быть руководителем, пусть не партии, а хотя бы оппозиции. Знаете, будет просто здорово, если вы назовете свою группу так: "Рабочая оппозиция". Что, звучит неплохо, да?
— Неплохо, — повторил ошеломленный Медведко, все ещё державший в руках листок, а Николай поднялся.
— Итак, я буду любоваться вами послезавтра. Постарайтесь сделать свой доклад ярким, убедительным. В зале — простые люди, а не университетские профессора. Ну, желаю успехов!
И Николай пошел в зал, потому что звонок уже звал делегатов.
Когда наступило время следующего перерыва, Николай подошел к невысокому мужчине в черной тройке, носившему пенсне со шнурком, пропущенным в петлицу. Тот только-только раскланялся с тремя делегатами, поздравлявшими его с превосходным выступлением, а поэтому, польщенный, довольный самим собой, возбужденно ерошил свои густые, кудрявые волосы и чему-то улыбался.
— Товарищ Энтин, позвольте и мне выразить свое глубокое восхищение вашим сильным докладом, — начал Николай, замечая, как загуляло по лицу делегата удовольствие. — Вы, как председатель комиссии по ликвидации безграмотности в Петрограде, очень метко подчеркнули необходимость даже в наше трудное время расширять сеть школ, курсов, повсюду устраивать избы-читальни. Уверен, что такие меры скоро дадут пышные всходы.
— Спасибо, мне очень важна всякая поддержка моей деятельности, архисложной, сами понимаете, — протянул Энтин руку.
— Очень понимаю, товарищ Энтин, а поэтому хочу сказать вам несколько слов, — сказал Николай, беря Энтина под руку и отводя его к окну. Понимаете, — заговорил Николай тихо, — народное просвещение — такая нужная, но и трудная область, что многое зависит здесь от тех лиц, что берут на себя этот благородный труд. Качества просветителей — это не только личная образованность, но ещё и чистота, высокий моральный облик. А что же это за просветитель, который идет учить людей, невинных детей, а сам водит знакомства с людьми, обладающими запятнанной репутацией? Никакого просвещения не получится, смею вас заверить…
— Я вас не понимаю, — тоже очень тихо, с испугом в глазах проговорил Энтин. — Вы на кого-то намекаете?
— Не на кого-то, а именно на вас, — глядя прямо в обеспокоенные глаза Энтина, сказал Николай. — Вы же приятель расстрелянной эсерки Красовской, жившей на доходы от продажи женщин. Хорошенькое знакомство, надо вам сказать. А если об этом узнают чекисты, да даже пусть не они, а партийное руководство Петрограда? Ничего, кроме беды, вас не ожидает.
— Слушайте, — вдруг вскипел Энтин и яростно взъерошил свою шевелюру, осыпав плечи слоем перхоти. — Явас знать-то не знаю, а вы меня на арапа берете. Шли бы вы своей дорогой, гражданин, а то я сейчас позову кого надо, и вас как шантажиста выведут с конференции под белы руки!
— Да никого вы не позовете, Энтин, — с холодным равнодушием в голосе возразил Николай. — Ну, зовите, и завтра же о ваших связях станет известно начальству, Чрезвычайной комиссии. Ей-Богу, не нужно шума. Давайте мы с вами лучше вот о чем договоримся. Голова у вас работает прекрасно, куда мне до вас, а вот принести пользу партии, русскому народу я хочу не меньше вашего.
— Ну, ну, я слушаю, — все ещё сердито, но уже со вниманием сказал Энтин.
— Так вот, у меня созрела мысль, воплощение которой поможет организовать работу партии большевиков на новом, более высоком уровне. Я знаю, что в нашей партии очень строга дисциплина — отчетность, обязательность выполнения решений высших органов низшими. Да, все это нужно было прежде, но теперь времена другие. Нужно выступить с предложением допустить свободу действий фракций и группировок, тогда и будет осуществлен демократический централизм. А то ведь и слова нового, свежего не услышишь. Так наша партия скоро плесенью покроется, превратится в болото. Я тут набросал кое-какие мысли на этот счет, ознакомьтесь да напишите хороший, умный доклад. Прочитать его нужно будет послезавтра или даже завтра. Посидите полночи, поработайте, перо-то у вас гениальное, честное слово.
И Николай, сунув в руку молчавшего Энтина лист с тезисами, не сказав больше ни слова, зашагал прочь от просветителя русского народа.
Перерывов в первом дне работы конференции больше не намечалось, поэтому подойти к последнему из трех намеченных Николаем комиссаров, на этот раз отвечавшему за проблемы трудовой занятости рабочего люда Петрограда, пришлось почти у самого выхода из Таврического дворца. Товарищ Белогрудов был внешне прямой противоположностью просветителю Энтину грубоватый с виду, полный, с лицом решительным и даже отважным, с выпяченной грудью, выпиравшей из-за богатого шалевого воротника незастегнутой шубы.
— Чего вам? — спросил он у подошедшего к нему Николая, нетерпеливо хлопая рукавицей о рукавицу. — Спешу, автомобиль ждет на морозе, а то будем потом мотор целый час заводить.
— Да не задержу я вас, всего два слова, но очень интересных слова, делая вид, что его сконфузил важный вид Белогрудова, шепнул Николай. — Я вам от гражданочки Красовской эти два слова принес.
— Ну, ну, — насторожился комиссар и перестал хлопать рукавицами.
— Перед тем как её расстреляли за… нехорошие дела — наверно, знаете, какие — она очень меня просила передать вам её последнее напутствие: чтобы не случилось беды, какая с ней лично стряслась, нужно, говорила, во всем быть послушным мне.
Белогрудов, хоть и раздувал встревоженно ноздри, глянул на Николая свысока, чуть ли не презрительно:
— А это с какой такой стати я должен слушать вас?
— Ну, можете и не слушать. Тогда вам придется послушать товарищей на Гороховой, два. Там вам объяснят, насколько неприглядным делом для большевика, занимающего видный пост, является покровительство левым эсеркам, да ещё содержательницам домов терпимости.
Белогрудов сморщился, словно от геморроидальной колики.
— Эх, гражданин хороший, не дело ты затеял, не дело. И чего привязался к Белогрудову? Ну, говори скорее, чего ты от меня хочешь.
— Очень немногого, — поторопился достать из кармана сложенный вчетверо лист бумаги Николай. — Вот здесь я набросал программу вашего доклада, который должен быть прочитан на конференции. Кстати, ничего противозаконного или контрреволюционного. Большевистская партия вам только благодарна будет, если вы выступите как автор идеи о том, что профсоюзы должны находиться у неё в полном подчинении. Не такой уж развитый русский рабочий, не такой грамотный, чтобы он через профессиональный союз мог руководить производством, делать все, что ему заблагорассудится, не слушая советов партийных товарищей. Ну, одобряете идею?
— Ладно, придется одобрить… — сказал Белогрудов, мрачно и со злобой засунул бумажку в карман шубы. — Только уж ты того… не шути больше про Гороховую, я этого не люблю. Да и был-то я у вашей Красовской Варьки всего раза три-четыре.
— О, не думайте, этого для товарищей из ЧК вполне достаточно. Ну, желаю подготовиться к выступлению поосновательней. Пишите, уверяю вас, станете ещё более известным, чем являетесь сейчас. Партийную работу нужно оживлять свежим воздухом новых идей!
Но Белогрудов лишь обреченно махнул рукой с зажатыми в ней огромными рукавицами, сказал неопределенное "А-а!" и пошел в толпу делегатов, переминавшихся с ноги на ногу у выхода. А Николай с презрительной насмешкой смотрел на его широченную спину и думал про себя: "И этим жалким людишкам отдалась Царица Варя лишь ради того, чтобы потешить свое тщеславие и выйти к власти, вернее, к людям, ею наделенным? Да, плебей всегда останется плебеем, какими бы чинами он ни обзавелся, — ни чести, ни гордости, ни смелости. И эти люди вознамерились построить новое общество, общество, лишенное зла, основанное на взаимной любви? Да они не умеют любить самих себя — как же такие люди научатся любить других людей? В каждом они будут видеть лишь таких же подлецов, какими являются сами. И им нужно сделать из человека подлеца, иначе как же жить с собственной подлостью?"
А спустя два дня Николай сделал в своем дневнике следующую запись, и, чтобы дать точное описание событий, случившихся во второй и третий дни работы партийной конференции, следует привести отрывок полностью и без искажений:
"Ну вот, закончилась конференция Петроградской парторганизации большевиков. Конечно, я не мог быть уверенным в том, что три комиссара, поневоле ставшие моими агентами, не возьмут себя в руки, не разозлятся на собственную слабость и трусость и не укажут на меня какому-нибудь сотруднику Чрезвычайки. Но, слава Богу, страх за жизнь, за служебное положение сыграли свою роль. Уже на следующий день выступал этот еврей Энтин, гениальное перо — как я его, кажется, назвал. Хорош же он был на трибуне! Мою идею (ну, скажем, не мою, а Лузгина) он развил блистательно, казалось даже, что он так ею проникся, так полюбил, что искренне поверил в себя как в автора этой идеи. Он просто метал перуны, нечаянно сбил с трибуны стакан с водой, был взъерошенным, точно Демон в опере Рубинштейна. Итак, разгромил он в пух и прах устои партийной дисциплины, одобрил фракционную борьбу, призвал к её легализации, и что тут началось в зале! На него орали, шикали, свистели, тут же, точно кура на насест, стали взлетать на трибуну возмущенные ораторы, ругали Энтина, поносили, но недолго нашлись защитники свободы фракций, и пошло и поехало. В кулуарах я слышал, что сторонники Энтина уже сгруппировались во фракцию, чтобы на деле доказать живучесть этой идеи. Их назвали децистами — группа демократического централизма.
Я думал, что в этот день никто из других моих агентов-комиссаров уже не осмелится сказать новое слово, но ошибся. На трибуну влез верзила Белогрудов, говорил, хоть и без пафоса Энтина, но веско, толково и убедительно. Все просто разинули рты от изумления: с какой это стати завинчивать гайки в профсоюзном движении (выражение одного из делегатов)? Короче, повторилась картина — все та же брань, ругань почти площадная, но тут же и ярая защита, и вот уже весь зал кипит, так что председателю (а им был славный Зиновьев) зал было буквально не утихомирить.
Я ждал третьего дня, и, конечно, Медведко, воодушевленный тем, что не он один бросит камень в крепость большевистского единства, смело взбежал на трибуну и горячо, по-хохляцки горячо, отбарабанил речь, где все было славно, все совсем наоборот в сравнении с тем, что говорил Белогрудов. Но и его крайняя точка зрения сразу нашла приверженцев. Да, неподвластна никакой партийной дисциплине натура человеков, алчущая свободы выражать пусть бредовые, пусть никому не нужные и даже вредные для людей мысли. Главное, чтобы выглядело свежо и оригинально. Ну что ж, план Лузгина, который мне удалось блестяще осуществить, оказался дельным. Нужно бы вообще почаще общаться с этим мамонтом русского политического сыска. Да, если бы побольше было таких Лузгиных в Департаменте полиции, то не пришлось бы мне сейчас унижаться до интриг против хамов, чтобы возвратить законную власть. Да, я доверяю Лузгину и едва ли не люблю его уже, хотя мне в этом и очень тяжело признаваться…"
***
Да, тогда, в 1904 году, Николай Второй по совету Витте отверг первый шаг к парламентаризму, опасаясь в первую очередь не за свою судьбу, а за судьбу монархии, которая, по его убеждению, могла быть для русского народа в его тогдашнем нравственном и умственном состоянии единственно возможным способом правления. Нет, это даже не могло называться способом правления. Скорее, государственным принципом, догмой, моделью отношений, где на вершине иерархической лестницы находится человек не случайный, то есть выбранный в результате игры политических сил, где царит эгоистическая партийная амбиция, личный расчет претендующего на право повелевать людьми, демагогические обещания кандидатов, стремящихся обольстить избирателя, а потом забывающих о них. Николай знал, что монархический принцип законности наследственной власти гарантирует феномен психологического восприятия существующего ныне императора как символа незыблемой формы правления.
А ещё Николай знал, что если его единоличная власть-ответственность будет заменена властью-ответственностью группы людей, пусть даже выбранных самим народом, то духовная связь между «верхом» и «низом» будет утеряна. Нельзя апеллировать к совести группы людей — там не будет ответственных, потому что всякое коллективное действие предполагает и разделение ответственности. Отвечать может лишь один человек, а тем более когда он принял на себя бремя единоличной власти.
В своей государственной жизни Николай Второй придавал большое значение внешней стороне царствования, на первый взгляд поверхностной, мишурной. Назовем её условно демонстративно-символической. Это торжественные церемонии с участием народных представителей, парады, молебны, крестные ходы, торжественные закладки новых зданий, освящения, обеды, полковые праздники и многое, многое другое, где подданным предоставлялась возможность находиться уже не в мысленной связи со своим государем, а непосредственно. И после всех этих событий оставалась масса фотографических снимков, многие из которых потом размножались типографским способом и широко распространялись среди народа. Россия и монарх в представлении большей части стосорокамиллионного населения империи были едва ли не синонимами. Обыкновенный ум человека всегда ищет замены чего-то сложного, многосоставного более простым, цельным и ясным. Русский царь во многом был заменой-символом непонятного, пугающего своей сложностью бюрократического аппарата державы, и отношения в антитезе "власть — подданный" становились при помощи этого символа на удивление простыми и понятными.
Ступень семнадцатая МОРСКАЯ КРЕПОСТЬ
Минул девятьсот двадцатый год, а бывший царь так и не вернул себе власть. Не помогли свержению большевиков ни Колчак, ни Юденич, ни Деникин, ни Краснов, ни поляки, ни Врангель. Гражданская война к началу двадцать первого года практически завершилась. Николай так и не понял, как могли полуголодные оборванцы, плохо обученные красноармейцы противостоять прекрасно экипированным армиям белогвардейцев, возглавляемым опытнейшими генералами, закончившими царские академии, бившими немцев и австрийцев в мировую войну. Злое отчаяние начинало бурлить в его душе, и утешало лишь то, что, насколько он был осведомлен, большевистская партия теперь кипела фракционной борьбой и можно было предположить, что через год-два от гигантской пирамиды — Всероссийской Коммунистической партии большевиков не останется и камня на камне.
Петроград же, как и вся страна, зимой двадцать первого года все глубже погружался в омут промышленного краха, голода, всеобщего недовольства властями. Митинги рабочих, трудившихся за мизерный паек и со дня на день ожидавших, что предприятия закроют, что всех выгонят на улицу, следовали один за другим. Все, даже совсем неосведомленные о рабочих выступлениях люди, ожидали того, что скоро грянут чьи-то призывные трубы, недовольство людей перельется через край, и вспыхнет бунт, способный смести в Петрограде большевистскую власть. Но большевики, прекрасно знавшие о настроениях петроградских жителей, готовились: ночью на автомобилях по городу разъезжали усиленные патрули, а лед Невы постоянно взламывал своим стальным форштевнем ледокол «Ермак», пронзая густую мглу ночного питерского неба голубыми стрелами лучей прожекторов.
— Для чего они ломают лед? — спросил Николай у Лузгина, когда в феврале они как-то встретились у спуска к Неве, обрамленного молчаливыми сфинксами.
Лузгин с улыбкой посмотрел на вздыбленные на середине реки ледяные глыбы, успевшие уже превратиться в корявые торосы, и сказал:
— А как же не ломать? Вдруг рабочие карельской стороны города захотят объединиться с трудящимися ингерманландской? В единстве — сила. И возьмет вся эта сила да и двинет на Смольный. Так никаких войск Петроградского гарнизона не хватит, чтобы их удержать в благородном порыве смести своих угнетателей. Вот и ломают лед, чтобы при наличии разведенных мостов пролетарского единства не получилось.
— Понятно…
— Кстати, Николай Александрович, не хотите ли со мной по льду прогуляться? В том месте его не ломают. Смею вас заверить, очень интересная прогулка оказаться может.
Лузгин говорил как-то легко, небрежно, и поэтому Николай взглянул на него с недоверием, не понимая, чего он хочет от него, но увидел, что лицо бывшего сыщика совершенно серьезно.
— Да объясните толком, что за прогулка по льду?
— Неужели не догадываетесь? Тогда я вам все подробно расскажу. Так вот, по моим данным, в Кронштадте, в той самой морской твердыне, что ваши многопочтеннейшие предки изволили основать для защиты Петербурга с моря, тоже неспокойно — буза намечается, как у моряков говорится, ибо матросики-то, они только вчера матросские робы надели, а позавчера за плугом ходили. А кому, как не крестьянину, сейчас в России хуже всех живется, сами знаете. Погреб пороховой Кронштадт теперешний. Чиркни спичкой — полетит все к небесам вместе с большевиками, а силы у крепости морской немалые. На фортах да на кораблях, в гавани его стоящих, полторы сотни пушек от трех до двенадцати дюймов. Стены фортов по пяти метров толщиною, из железобетона, на совесть вами и вашим батюшкой строились. Ну так возьмите Крондштадт своей державной рукой, а там и весь Петроград за восставших моряков встанет. Положение самое удобное…
Николай был ошеломлен. Когда-то он был верховным главнокомандующим воевавшей с жестоким врагом русской армии, но он понимал, что командующим в действительности не являлся, командовали начальники фронтов, армий, корпусов, а он лишь появлялся среди войск, воодушевлял их своим присутствием. Иногда на совещаниях в Ставке он вместе со всеми склонялся над картой военных действий, но никогда не принимал участия в обсуждении планируемых маневров и операций, только молчал или осторожно задавал вопросы.
Теперь же у него появилась возможность возглавить соединение боевых кораблей, мощную морскую крепость, то есть стать настоящим командующим вести боевые действия, разрабатывать тактику и стратегию, распоряжаться людьми, нести ответственность за них и самому рисковать жизнью на войне.
— Я согласен, — ответил Николай так легко, будто возглавлять мятежи было для него привычным делом. — Только с чем мы можем прийти к матросам? поинтересовался он. — Лучше, чтобы я так и представился им бывшим императором, за которого следовало бы поднять знамя мятежа?
— Не думаю. Давайте вначале обратимся к командному составу линкоров «Петропавловск» и «Севастополь». Среди офицеров этих грозных кораблей у меня есть знакомые, в душе монархисты. Именно им откроетесь вы, и то по большому секрету, а уж они поднимут матросиков, но, думаю, не промонархическими лозунгами, а другими. К примеру, за Советы, но без коммунистов.
Николай, целью которого не было усовершенствование Советов, глядя на искрящийся в свете полуденного солнца лед реки, прищурившись, сказал:
— Я пойду в Кронштадт лишь для того, чтобы поднять восстание ради реставрации монархии. Мне мало поддержки нескольких офицеров — хочу обратиться к матросской массе, и они поддержат меня, если остались в сердцах своих русскими крестьянами. При чем тут Советы без большевиков?
— Что ж, не буду с вами спорить. Давайте отправимся, а там, на линкорах, поговорив с офицерами, вы лучше представите обстановку и как вам следует себя вести. Вообще, не вижу необходимости вашего длительного пребывания в Кронштадте: заварим, как говорится, кашу и тут же уйдем с острова.
— Нет, — решительно возразил Николай, — если начнется восстание, я буду с моряками до конца, буду комендантом крепости, главнокомандующим!
— Ну что же, — постарался спрятать невольную улыбку Лузгин, — линию поведения определят обстоятельства. Когда отправимся?
— Да хоть сегодня! Чего ждать?
— Недельку бы повременить… Погода этой зимой теплая была, лед непрочный, но все ещё держится, корабли в него впаяны. Если начнем мятеж, то обязательно нас штурмовать будут. По льду, как по мосту, на Кронштадт большевистские части пойдут, а у нас и корабли в бездействии окажутся.
— Как это в бездействии? А их орудия? Из пушек снарядами лед крошить будем, если коммунисты предпримут штурм. Не надо медлить! Сегодня вечером пойдем, а если не хотите, спасибо за совет — я и один до линкоров доберусь. Пешком от Ораниенбаума по льду пойду!
— Да, решительный вы человек, Николай Александрович, вас не переубедишь. Ну что ж — сегодня так сегодня…
О своих намерениях Николай поведал жене, и она, претерпевшаяся к своему незавидному положению, к мысли, что Россию им уже не покинуть никогда, выслушала мужа молча, без слез, а потом сказала:
— Ники, если большевики убьют тебя, то и мы погибнем тоже, от горя умрем. Ты и сам не понимаешь, как опасно то, что ты задумал.
Николай воскликнул:
— Да не терзай ты меня, Аликс! Я сам прекрасно понимаю, чем может закончиться для меня призыв к открытому бунту против нынешней власти, но находиться в бездействии я не могу, не могу! Эта власть должна пасть, чтобы на её обломках была восстановлена монархия! Последние десятилетия своей жизни я положу именно на это! Вот почему я не за границей, а здесь!
Александра Федоровна судорожно сглотнула, посмотрела на мужа широко открытыми глазами, полными тоски и слез, перекрестила его и лишь сказала:
— Ну, Бог с тобой, Ники…
До Ораниенбаума ехали на последнем поезде, высадившем Николая и Лузгина на заледенелую неосвещенную платформу, в конце которой маячили фигуры пятерых патрульных. Спрыгнули на железнодорожный путь, пригибаясь пониже, быстро пошли в сторону залива, сошли на лед, покрытый снегом, и двинулись вглубь синего безмолвия февральской ночи, не различая впереди ни огней, ни темных очертаний морской крепости.
— Да как же мы найдем линкоры ваши? — недоуменно спросил Николай.
— Найдем, ваше величество! — беззаботно отвечал Лузгин. — Два раза уже ходил я ночью здесь, по льду. Прямо на Ораниенбаумскую пристань Кронштадта выйдем. Не различаете разве её огни? Вон, прямо, едва-едва мерцают.
Николай присмотрелся — на самом деле, прищурившись, увидел огоньки. Слева — тоже.
— А те, налево, это что, на кораблях огни? — спросил у Лузгина.
— Нет, на фортах огни — вот «Павел», а этот «Петр». Дышите, дышите свежим воздухом — скоро будете в какой-нибудь прокуренной кают-компании сидеть. Вспомните ещё эту прогулку!
Шли часа два, и огни крепости становились все ярче, все заметней. Выглянула луна, и снежная равнина скованного льдом залива стала бледно-голубой. Черный силуэт Кронштадта с гигантским шлемом Морского собора походил на дремлющего богатыря.
— А вон и «Петропавловск» на приколе! — указал Лузгин рукой на черную громаду корабля с гирляндой тусклых иллюминаторов по борту.
Скоро они уже стояли у самого борта боевого корабля, машина которого молчала, да и вообще в самой близи от линкора не ощущалось никаких признаков жизни внутри этого стального чудовища, наполненного людьми, снарядами, всем необходимым, чтобы в смертельной схватке на море сокрушить и пустить на дно любого противника.
— Николай Александрович, знаю, что вы пистолет с собою носите. Выньте да дайте на минуту мне, — попросил Лузгин, и, как только Николай подал ему браунинг, он принялся стучать рукоятью по клепаному борту линкора.
Скоро откуда-то сверху послышался чей-то ленивый голос:
— Ну ты, постучи еще, постучи — пальну из карабина, и не будет больше охоты стучать.
— Братец, — прокричал Лузгин, — вызови-ка военмора Лиходеева, а я больше стучать не буду.
— А на кой ляд тебе Лиходеев? Спит он уже, наверно. Чаво его будить?
— А ты разбуди да скажи ему, что Лузгин пришел, да такого гостя редкого привел, что он непременно рад будет.
Ждать пришлось с четверть часа, но вот наверху раздался чей-то радостный возглас, и скоро вниз полетел веревочный трап с деревянными перекладинами.
— Ну, полезайте! — послышалось сверху, и Николай вслед за ловко карабкавшимся Лузгиным полез вверх по трапу, чьи-то руки помогли ему перемахнуть через фальшборт, и вот уже он стоял рядом с орудийной башней линкора, длинные стволы крупнокалиберных пушек которой исчезали в темени ночи.
— В мою каюту пройдемте, — пригласительным жестом указал морской офицер в накинутой на плечи шинели.
Лиходеев, командир «Петропавловска», пропустил гостей в свою уютную, чисто прибранную каюту, посадил их за стол и спросил:
— От чая, конечно, не откажетесь? Сейчас же вестовому прикажу поставить.
— Да нет, не время, — ответил Николай и за себя, и за своего спутника.
— Ну как хотите, — улыбнулся моложавый командир корабля. — Тогда рассказывайте, с чем пожаловали? Мне доложили, что Лузгин пришел на мой корабль с каким-то интересным гостем. Знаю, что Лузгин шутить не любит. Ну, так познакомь меня, Мокей Степаныч, со своим товарищем.
— Андрей Ильич, — серьезно заговорил Лузгин, — присмотрись-ка повнимательней к лицу моего, как ты сказал, товарища. Кого ты в нем узнаешь?
Лиходеев взглянул на Николая долгим, ищущим взглядом, потупил глаза и сказал:
— Да нет, этого быть не может… Сходство, конечно, поразительное… Но нет, не верю…
— Поверьте, — спокойно молвил Николай, доставая из кармана портсигар. — Я и есть бывший император России Николай Второй, чудом спасшийся из большевистского плена.
И Лузгин, и Николай видели, что командир линкора просто потрясен, но моряк быстро справился с собой и немного дрогнувшим голосом спросил:
— Так, чем же я могу быть полезен его импера…
— Не нужно титулов, — прервал его Николай. — К тому же я теперь не император, да и империи уже нет. Но вернуть России императора и является моей задачей. Я здесь для того, чтобы своим именем поднять в Кронштадте мятеж, к которому должны будут примкнуть жители Петрограда, чрезвычайно недовольные политикой большевиков. Уверен, что пламя мятежа перекинется и в уезды Петроградской губернии, так как коммунисты довели своими поборами русскую деревню до совершенной нищеты. Лично на вас я могу надеяться?
Он поглядел и увидел в глазах Лиходеева тот самый блеск и преданность, которые часто видел прежде, когда на парадах обходил шеренги построенных полков.
— Я… я умру за вас, ваше величество…
— Нет, пока ещё не "ваше величество", а просто Николай Александрович, гражданин Романов. Офицеры «Петропавловска» поддержат меня?
— Почти все, я уверен. Есть, впрочем, преданные коммунистам лица, но таких можно изолировать, заперев, например, в трюме, или… или ликвидировать.
— Хорошо, — кивнул Николай, — а «Севастополь»? Я слышал, что и на этом корабле нашлись бы те, кто поддержит дело восстановления монархии.
— Совершенно верно, на «Севастополе» картина подобна нашей. Только не знаю, какими лозунгами мне матросов на восстание поднимать. Боюсь, что ради вас они себя под большевистские пули подставлять не станут.
Николай огорченно нахмурился:
— Как же так? Ведь они — вчерашние крестьяне! Разве не монархия должна видеться им как наилучшая форма правления? Что им, Дума снова нужна, чтобы их депутатов забалтывали всякие там Милюковы и Шульгины? Или им Учредительное собрание нужно? Знаю, не нужно оно им! Они в меня верили, потому что я им отцом был! Мало что ли при мне для них делалось? Одного Столыпина Петра Аркадьича вспомнить. Соберите утром матросов «Петропавловска» и «Севастополя», я хочу обратиться к ним сам. Уверен, что сумею их увлечь!
— Эх, не стал бы я рисковать, Николай Александрович! — покачал головой Лиходеев. — Матросы и так уже готовы выступить — только слово с призывом скажи. Может быть, с такого лозунга начнем: "За Советы, но без коммунистов!" А потом, когда не будет большевиков, мы через Учредительное собрание вас на трон и проведем, восстановим монархию.
— Нет, я матросов обманывать не стану. Буду их своим именем на восстание звать. Пойдут они за мной, пойдут! Кстати, на линкоре радиостанция имеется?
— А как же! Очень мощная к тому же и в полной исправности.
— Вот и хорошо. Обращусь за помощью к правительствам европейских государств. Пусть направят в Финский залив, к Кронштадту, свои корабли. Будет наш Петроград — и Москва восстанет.
Утром объявили сбор для личного состава линкоров, стоявших рядом, и скоро площадка палубы перед главной орудийной башней на баке стала черной от матросских бушлатов. Места для всех не хватило — забрались на башню, сидели даже на стволах орудий. Густой махорочный дым вперемешку с паром от дыхания сотен ртов поднимался над надстройками.
— Зачем собрали-то, а? Не слышали зачем? — спрашивали одни.
— А кто их знает, офицерье это недобитое да комиссариков! — отвечали другие. — Наверно, объявить хотят приказ, чтоб мы махры больше не курили да в гальюн ходили только за большой нуждой, а маленькую справляли прямо с борта на лед…
— Да брось трепаться! Язык, что помело, без костей. И чешет, и чешет…
Наконец, протиснувшись через толпу матросов, на палубе перед ними появились Лиходеев, Николай в своей богатой шубе и Лузгин в поношенном неказистом пальтишке.
— А это что за буржуй недорезанный к нам на линкор притащился? зашумели в толпе. — Ишь, как палубу-то соболями своими метет. Ну, пусть себе метет — нам драить легше будет!
Вдруг раздался командирский, властный голос Лиходеева:
— Отставить разговоры, полное внимание! Знаю, что народ вы неспокойный, но да я-то на вас ещё управу найти могу! Смотрите на этого гражданина и слушайте в оба уха то, что он вам сейчас говорить будет! Товарищи командиры пусть тоже проявят максимум внимания к его словам…
Николай вышел на два шага вперед, поближе к матросам, смотревшим на него кто с издевкой, кто с насмешкой.
— Друзья мои, — прокричал он, боясь этой черной, не доверяющей ему матросской массы, — кто-нибудь знает, кто стоит сейчас перед вами? Смотрите внимательней!
Матросы не ожидали этого вопроса. Они смотрели на него серьезно, пыхая дымом, сдвигая на затылок бескозырки.
— Кажись, видали тебя прежде, — послышался голос. — Ты, батя, в Питере в старые времена то ли самым главным гробовщиком был, то ли пирожником. Ей-ей, пирожником…
— Нет, братцы, — покачал головой Николай, — я не гробовщик и не пирожник. Как же вы не можете во мне узнать бывшего вашего царя, Николая Второго, которого вынудили отказаться от престола. Да, это я, Николай Романов.
Какой-то вздох — удивления ли, сомнения ли — пробежал по толпе матросов, но потом кто-то с веселым озорством крикнул:
— Нет, дядя, не царем ты был, а на тиятре служил, комиком, раз шутки такие шутить к нам явился! Давай, давай, посмеши нас, а то мы тут зимой от нечего делать со скуки киснем!
— Давай, дядя! Позаливай-кось нам пули! — кричал другой матрос, уже радуясь возможности быть рассмешенным неведомо откуда взявшимся актером. Будто мы не слыхали, что настоящего Николашку расчикали в Екатеринбурге!
А третий голосил:
— А вот взять бы его, зашить в куль да и кинуть в прорубь. Вот потеха-то будет.
И матросня загоготала, забухала взрывами беззаботного смеха, но Лиходеев, вынув из кармана шинели наган и пальнув в воздух, прокричал:
— А ну молчать! Я, ваш командир, даю честное слово, что вы видите перед собой бывшего нашего государя, спасшегося из большевистского застенка, где его едва не казнили вместе с семьей! Послушайте теперь, что скажет он вам…
Но тут послышался чей-то бас, решительно возразивший:
— А я вам, как комиссар линкора «Петропавловск», ответственно заявляю, что не дам гражданину, который выдает себя за бывшего царя Николая Второго, мутить команду. Нечего ему делать у нас, и вы, командир Лиходеев, за потворство всякой контрреволюционной сволочи будете отвечать со всей строгостью перед Революционным трибуналом!
Но комиссара тут же затолкали, надавали пинков, подзатыльников, оплеух, кто-то ремнем стянул ему руки за спиной, после чего его поволокли куда-то, и больше его баса и не слышно было, а Николаю матросы кричали:
— Ну, давай, раз ты царь, скажи свое умное царское слово! А не скажешь умного, так и то ладно — посмеемся, потешимся вдоволь.
Николай откашлялся и заговорил, когда шум утих:
— Матросы, поднимайте над «Петропавловском» и «Севастополем» Андреевский флаг. Пришло время, большевики должны ответить за страдания, в которые они ввергли всю страну, весь русский народ! Я обращаюсь к вам с этим воззванием, потому что знаю, кто вы: вы — русские крестьяне в душе и по происхождению своему, так давайте посмотрим, что хорошего принесли большевики в деревню. Землю обещанную вам дали? Нет, не дали! Наоборот, ездят с пулеметами по деревням и отбирают у поселян то, что они своим тяжким трудом добыли, а когда возражают им крестьяне, как это в Тамбовской губернии было, в Сибири, расстреливают мужиков, чтобы другим неповадно было свое добро беречь. Нужно смести большевистскую власть, а на её месте восстановить прежнее правление. Но если не хотите царя, решать будем, кто будет страной управлять, лишь бы не эти изверги правили. Рабочие Петрограда только и ждут, когда вы подниметесь. У них, безоружных, сил не хватит большевиков прогнать. У вас же — бетонные форты, корабли с двенадцатидюймовыми пушками, пулеметов, слышал, в Кронштадте не меньше ста, боеприпасов на несколько месяцев боев хватит. Что до продовольствия, которого у вас немного, то затребуем хлеб, масло, тушенку из-за границы, которая с радостью вам помогать будет, потому что во всем мире большевикам объявлен бойкот. Нас будет приветствовать вся Европа! Флотилии иностранных государств, броненосцы, фрегаты, субмарины — все к Кронштадту пойдут! Поднимайте флаг восстания, братья-матросы!
Николай говорил горячо, убежденный в верности каждого слова, посылаемого в чернобушлатную толпу моряков. Вот он кончил, а матросы молчали, и Николаю показалось, что многие из них все ещё недоверчиво улыбаются, и отчаянье пронзило его сердце острой болью. И вдруг — точно чайка прокричала диковато и пронзительно:
— Полундра-а! Даешь бузу, братва-а-а!
И тут же ожила черная масса бушлатов, задвигалась, взлетели над головами руки со сжатыми кулаками, полетели вверх бескозырки.
— Даешь!!
— Даешь!!
— Пустим кровь коммунякам, чтоб знали, как наши гнезда разорять!
— Только царя нам не надобно! Сами править будем! Анархия — мать порядка! Не нужны нам царские городовые да пристава!
— А этого Николашку из теятра в куль зашить да и в воду! Никакой он не царь! Тот с бородой ходил, как крестьянин русский, а этот с лицом босым!
— Не надо в куль. Пусть тоже с нами будет, может, на что и сгодится! А мы сейчас свой ревком создадим! Давай, братва-мареманы, раз такая буза заварилась, ревком выбирать! Он главным в Кронштадте и на фортах станет!
И сразу же стали называться имена матросов, чтобы составили революционный комитет, а Николай, Лузгин и Лиходеев, протиснувшись через толпу матросов, прошли в каюту командира корабля. Скоро по его зову явились офицеры, смотревшие на Николая с нескрываемым восхищением и любовью.
— Ну, господа офицеры, — теперь я могу обращаться к вам по старинке, все ли собрались? — спросил Лиходеев, оглядывая собравшихся.
Оказалось, что пришли не все — кое-кто из офицеров или не поверил в то, что на линкор явился сам бывший император, или не решился участвовать в восстании, расценивая его как авантюру.
— Таких немедленно изолируйте, — мрачно сказал Николай, глядя на сцепленные на столе руки, и тут же по знаку Лиходеева один из офицеров вышел из каюты, а Романов продолжал говорить: — Господа офицеры, это очень хорошо, что матросская стихия не слишком доверилась мне, хоть мне и удалось зажечь в их душах желание восстать. Пусть будет действовать их Революционный комитет. Это — только ширма для нас, мы будем главарями, но, чтобы поднять на бунт весь город, крепость, действия матросов, их самодеятельность куда важнее наших уговоров. Уверен, что они ни меня, ни вас не слишком любят. Мы для них все те же баре, господа, а русский мужик по природе своей хозяин и немного… анархист. Пусть матросы сами продолжат начатое на палубе «Петропавловска», мы же станем держать все их действия под контролем. Какие будут предложения?
Проведя рукой по волосам, заговорил Лиходеев:
— Нужно послать в Петроград представителей от личного состава линкоров, к рабочим. Дадим инструкции, чтобы вернулись из Питера и рассказали всем, что трудовой народ города просит от кронштадтских моряков помощи. Уверен, это послужит призывом ко всеобщему восстанию.
— Прекрасно, Андрей Ильич, — сказал Николай, — пошлите таких незамедлительно, только выберите тех, кому доверяете сами и кому доверяют матросы. Еще что можем сделать?
Подумав, снова слово взял Лиходеев:
— Артиллерия кораблей — аргумент в борьбе с большевиками веский. Но нужно полностью подчинить восставшим крепостную артиллерию. Я сам займусь агитацией генерала Козловского, её главного начальника.
Сразу после него заговорил Николай:
— Лед Невы каждый день ломает ледокол «Ермак», подчиненный большевикам. Уверен, что когда восстание разгорится, красные части попытаются взять крепость штурмом, и, покуда корабли скованы льдом, а по самому льду можно дойти до Кронштадта, как по мосту, предлагаю устроить захват ледокола. Он пробьется к нам и взломает лед вокруг острова Котлин и всех фортов. В таком случае мы будем совершенно неуязвимы для живой силы красных. Я знаю, что у большевиков есть эскадрилья боевых аэропланов, способных забросать нас бомбами…
— А у нас есть специальные зенитные орудия трехдюймового калибра получше любого зонтика от всяких бомб! — забывая о субординации, восторженно заявил молоденький флотский офицер.
Николай посмотрел на него строго, но кивнул:
— Очень хорошо. Когда же наш… Кронштадтский мятеж, так я его назову, достигнет своей кульминации, я дам радио во Францию, Германию, Англию, Польшу, по всем скандинавским странам. Не думаю, что они обрадуются воскрешению русского монарха и поддержат реставрацию имперских порядков, Россия им нужна с государственным устройством, похожим на их собственные. Для чего им Русь, претендующая на мировое лидерство? Поэтому по радио скажем, что Кронштадтский мятеж — это новая революция ради настоящей демократии и против диктатуры коммунистов. А когда с большевиками будет покончено, устроим все так, как захочет русский народ.
И офицеры горячо поддержали этот план.
Первого марта все улицы и площади Кронштадта кипели черными волнами матросских толп, которые то замирали в неподвижности, когда моряки прислушивались к чьей-то речи, то снова начинали волноваться, рассыпались, чтобы собраться в другом месте, — слушали другого агитатора или того, кто что-то знает. Орали друг на друга, порой били друг друга по мордам, роняя в грязный снег бескозырки, падая на булыжник мостовых, чтобы снова вскочить и кинуться на того, кто не разделял их политических пристрастий.
— А че, братва, правду говорят, что царь Николай не убит в Сибири, а прибыл к нам, в Кронштадт, на ероплане, чтоб за главного начальника здеся быть? — подтягивая широченные клеша, все замызганные внизу, спрашивал один матросик, а ему отвечали:
— Да, прибыл, а ещё конфет тебе, дураку, привез, чтоб ты его сильней любил. Не получил еще, что ли, у интенданта?
— Мареманы, хватит слушать всяких жоржиков да оболтусов! — рубил рукой воздух другой матрос. — Никакого Николая-царя в Кронштадте нет и быть не может! Просто пришел какой-то штатский шпак и попытался выдать себя за бывшего царя. Самозванец то есть. Но ребята с «Петропавловска» его быстро в мешке под лед отправили. Туда всяким болтунам и дорога. Но вот что есть правда истинная: наши делегаты ездили в Питер, на заводы и фабрики. И рабочие, оказывается, только и ждут, когда мы выступим с оружием против коммуняк!
Расталкивая локтями толпу чернобушлатников, в середину протискивался усач в кожане — сурово сведенные брови, весь трясется:
— Моряки Балтфлота, не слушайте провокаторов! Сами потом жалеть будете! Рабочие в Петрограде неспокойны и уже с волнением смотрят на вашу бузу! Что, хотите дождаться, когда на вас войска пошлют? Тогда всем вам башки пооткручивают!
Но человека в кожане несколькими ударами сшибли на землю, стали топтать ногами, приговаривая:
— Да мы тебе, трясучке, вперед башку оторвем да назад не приставим!
Скоро все узнали, что на Якорной площади Кронштадта будет митинг, что-де прибыл какой-то важный большевик — кто такой, никто не знал. И матросы потекли на площадь, через полчаса оказавшуюся забитой моряцкой волнующейся толпой, над которой плавал, поднимаясь в небо, сизый махорочный дым. На помост, сооруженный загодя, стали взбираться моряки и люди в штатском, которых никто не знал. Говорили речи, говорили о том, что нужно бы ввести свободную торговлю, чтоб крестьяне могли везти излишки своего хозяйства в город, требовали отмены продразверстки, продотрядов, кто-то орал о свободе фракций, кто-то требовал отмены всех правительств, призывал к анархии. В общем, каждый ругал большевиков и их правление, призывая к походу на Петроград, а после на Москву.
Николай и Лиходеев в окружении офицеров и нескольких матросов, уверовавших в то, что к ним явился сам Николай Второй, стояли неподалеку от помоста, но не в гуще толпы, а с краю. Николай, видя, как волнуется толпа матросов, ликовал в душе. Упоительные волны гордости за себя, за то, что он сумел сотворить мятеж, увлечь на битву с ненавистными большевиками около десятка тысяч человек, заполняли его душу. Раньше ему подчинялись как государю, теперь же он видел, что смог привести к единому порыву огромное количество людей как человек — силой своего красноречия.
Вдруг на помост забрался в сопровождении двух человек с маузерами какой-то штатский в длинном драповом пальто, в каракулевой шапке-пирожке, в очках, с бородкой-клинышком. Несмотря на свою худобу и внешность дьячка или сельского учителя, заговорил громко, чуть визгливо, стал призывать кронштадтцев отказаться от мятежа, говорил, что Ленин на десятом съезде уже высказался за отмену продразверстки…
— Кто говорит? — спрашивали друг у друга в толпе матросов.
— Калинин.
— Кто, кто? — не могли расслышать. — Какой-такой Малинин?
— Калинин, председатель ВЦИКа! Глухарь!
— Ссыка? Да что за ссыка такая? Гнать надо эту ссыку! За бороду козлиную его да вниз!
Николай, слыша, что прибывший в Кронштадт Калинин говорит умело, отводит все обвинения мятежников, испугавшись, что красноречие председателя важного правительственного органа может стать убедительней, чем его собственное, шепнул Лиходееву:
— Необходимо немедленно прервать словоизлияния этого оратора, иначе он увлечет на свою сторону всех наших сторонников!
— Понял… — по-военному коротко ответил Лиходеев, что-то быстро сказал стоявшим с ним рядом матросам, и те стремительно двинулись через толпу к помосту, и вот уже послышались их крики:
— Хватит, кончай болтать!
— Не слушай его, братва! Говорить большевики умеют, а после все по-старому будет — из пулеметов по крестьянам, да все амбары после до зернышка вычистить!
— Не хотим! Не хотим! — загудело над толпой. — Слезавай с помоста! Пущай другие таперича поговорят!
Николай видел, как забегали за стеклами очков глаза Калинина, растерянно и смущенно, "всероссийский староста" постоял на помосте ещё с полминуты, не дождался тишины, махнул рукой и стал спускаться вниз. После этого уже никто из выступающих не говорил в защиту большевиков. Кронштадт восстал, и теперь огонь мятежа можно было лишь поглотить другим огнем. В тот же день Николай передал в эфир призывы о помощи и получил заверения из нескольких европейских стран в том, что, едва сойдет лед, к Кронштадту будут посланы военные суда. 2 марта по приказу Николая арестовали комиссара Балтфлота и председателя Кронштадтского Совета. Оказались в крепостной тюрьме и множество сочувствовавших большевикам лиц. Но власти Петрограда не дремали тоже — возвращение Калинина ни с чем дало основание объявить город и Петроградскую губернию находящимися на осадном положении. Комитет обороны Петрограда стал готовить силы для штурма морской крепости, и когда 7 марта командарм Тухачевский не получил из мятежного Кронштадта ответ на свой суровый ультиматум, то отдал боевой приказ о штурме. На рассвете 8 марта красноармейцы от Сестрорецка и Ораниенбаума вышли на лед залива и пошли в атаку…
— Открыть огонь из всех видов орудий по живой силе врага! — спокойно приказал Николай, когда отчетливо увидел в окулярах мощной стереотрубы вышедших на лед красноармейцев.
И тотчас генерал Козловский, начальник крепостной артиллерии, повторил приказ, посылая его по телефонным проводам командирам фортов. И уже через несколько секунд Николай, смотревший в стереотрубу, увидел, как все семь северных фортов изрыгнули огонь, а спустя секунды три до наблюдательного пункта докатилась гудящая волна канонады. Тяжелые снаряды взрывались на берегу, взметывая черные фонтаны поднятой земли, но часть снарядов разорвалась, не долетев до кромки берега, упав на лед, а поэтому фонтаны здесь были голубыми, искрящимися на мартовском солнце кристалликами льда. Николай видел, что в полыньях барахтаются люди, силясь выбраться на лед, но очень быстро головы людей в папахах и островерхих суконных шлемах исчезали, оставались лишь круги на поверхности воды, однако и они быстро пропадали. Снова выходили на лед красноармейцы, стараясь обходить полыньи, устремлялись вперед, округлив рты в каком-то воинственном кличе, и опять точно била по ним артиллерия фортов, кося осколками, топя в воде, — и откатывались назад, на берег, красные части, оставляя на льду убитых и раненых, но Николай не радовался успеху — он знал, что погнал русских против русских, а поэтому его сердце упрямо молчало, не желая праздновать победу.
Их разделял лед. Он был мостом для штурмующих, но в то же время мостом очень зыбким, ненадежным. Этот мост нужно было разрушить, но посланные Николаем в Петроград матросы захватить ледокол «Ермак» не сумели — на нем уже была верная большевикам команда, а огонь в топках погашен. Штурм шел за штурмом, и моряки в Кронштадте молились о том, чтобы весенние ветры, тепло сломали наконец этот лед. А комиссары, стоявшие на берегу и проклинавшие мятежников, страстно желали, чтобы этот рыхлый, покрытый слоем воды лед продержался ещё хотя бы дня три-четыре.
Пушки, пулеметы били с кораблей и фортов непрерывно.
— Да стреляйте! Стреляйте! Интенсивней огонь! Прямо по льду! — кричал Николай, и генерал Козловский, закусив губу, пожимал плечами, но спешил по телефону передать приказ монарха.
Канонада сотрясала стены наблюдательного пункта, лед ломался, трещал, накрывал отколовшимися кусками людей в белых маскхалатах, но бойцы все шли и шли вперед, охватывая морскую крепость живым кольцом.
Неожиданно сообщили, что матросы уже оставили район пристани, но ещё держатся у Петроградских ворот, хотя некоторые улицы города уже в руках штурмующих. Идут тяжелые бои за форты номер один и два, за форты «Милютин», «Павел», но красные превосходят числом и… мужеством. Вот красные движутся по улицам Кронштадта, но мятежники отчаянно дерутся за каждый дом, за каждый чердак.
— Николай Александрович! — прошептал неизвестно откуда взявшийся Лузгин. — Нужно уходить на «Петропавловск»! Скоро здесь будут комиссары!
Буквально силой он увел Николая с наблюдательного пункта, и они побежали к причалу, где стояли линкоры, яростно плюющиеся огнем в наступающие красные цепи. Лиходеев, бледный, но внешне спокойный, распоряжаясь действиями канониров, сказал:
— Скоро они доберутся и до нас. Смотрите, аэропланы!
На самом деле — от Петрограда, блестя пропеллерами, двигались по воздуху двукрылые машины, держа курс прямо на линкоры.
— Эх, и заварили кашу, ваше величество! — с какой-то отчаянной бесшабашностью проговорил Лиходеев. И Николай, почувствовав в словах командира нотки упрека, упрямо сказал:
— Мы будем драться, драться до конца!
— Да уж теперь-то до конца, это точно! Все здесь погибнем, ведь если нас захватят красные, то не пощадят. Но вы-то уходите, ей-Богу, уходите. Я уже распорядился подорвать линкор. Прошу вас, ваше величество, если вас убьют, то что ж хорошего? Последний государь России… — В глазах командира «Петропавловска» сверкнули искры слез.
А аэропланы все приближались, и Лузгин, смотревший на них, сказал, обращаясь к Николаю:
— Если их бомбы рядом с линкором лед сломают, вам уж не уйти…
— Я решил остаться здесь! — твердо заявил Романов.
— Ну, здесь так здесь, — как-то неопределенно сказал Лузгин и вдруг железной хваткой человека, умевшего осилить в борьбе и куда более сильного противника, чем Романов, обхватил его за талию и потащил по трапу вниз, к орудийной площадке, потом приподнял над фальшбортом, обхватил его за талию и разжал руки. Если бы они стояли на главной палубе, возвышавшейся надо льдом на семь метров, то Николаю, упавшему ногами на лед залива, пришлось бы плохо. Но они находились всего на два метра выше ватерлинии, и Романов лишь на несколько секунд оказался оглушен ударом, сотрясшим все его тело. Все ещё не умея осознать, что с ним произошло, он услышал над своим ухом грозный крик Лузгина, направившего прямо в лоб ему ствол нагана:
— Поднимайтесь! Скорее, или я убью вас! Красным я вас не отдам!
Хромающий, но поддерживаемый Лузгиным, под снарядами, вырывавшимися из пушечных стволов «Петропавловска» и стремительно летевшими к густым цепям наступающих красноармейцев, Николай заковылял в сторону Петергофа, а спустя минуту послышался вой падающих на «Петропавловск» и «Севастополь» аэропланных бомб. Они разрывались и рядом с кораблями, взламывая лед, и на палубах кораблей, стрельба которых постепенно стала утихать. А потом в спину Николая что-то сильно толкнуло, а уши едва не разорвались от напряжения, вызванного страшным взрывом. Ничком он упал на лед подле не удержавшегося на ногах Лузгина и, медленно повернув назад голову, увидел высокий столб огня и дыма, поднявшийся над линкором, покинутым пять минут назад. Слезы, теплые и соленые, как вода близ Ливадии, в которой он так любил купаться, заструились по лицу Николая.
— Я немного рано к ним пришел! — сказал он. — Вот если бы не лед…
Позднее Николай от Лузгина узнал, с какой отвагой защищались мятежные матросы. Узнал, что оставшиеся в живых были препровождены в одиночки Петропавловской крепости, потом расстреляны, но на допросе никто из них и словом не обмолвился о том, что на мятеж их поднял воскресший император Николай.
***
9 января 1905 года, в Кровавое Воскресенье, царь внес следующие строки в свой дневник: "Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных частях города. Было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело". И не стоит сомневаться в искренности чувства, переполнявшего тогда Николай, — для его обычно столь бесстрастных дневниковых записей последние слова достаточно сильны и убедительны.
Итак, 9 января совершилось то, что послужило на руку лишь тем, кто мечтал о перемене строя. Их формула ясна предельно: шли к царю за милостью, милости не дали, но расстреляли. Власть и царь едины, следовательно, расстрелял царь, и этим он приговорил себя. Самодержцем очень удобно пользоваться, когда необходимо найти виновного. Строй демократический куда искусней умеет прятать виновных, да и винить своего избранника не хочется словно себя самого винишь за выбор…
Загуляло по всей империи стачечное движение, ликовали в зарубежье большевики, предчувствуя скорый пир, пусть и кровавый. С глубочайшей серьезностью обсуждали вопрос о том, как бы побольше простого люду втянуть в борьбу за свободу, равенство и братство. Взяли курс на вооруженное восстание, стали готовить группы боевиков, бомбистов, добывали оружие, взрывчатку. И вот уже восстали матросы самого мощного броненосца Черноморского флота "Князя Потемкина-Таврического", наводившего своими огромными орудиями ужас на всем побережье. Отмечались бунты в войсках, возвращавшихся с Дальнего Востока, громились крестьянами помещичьи имения, а число бастующих летом перевалило за миллион. Вся пресса, в оголтелом лае которой звучал лишь один призыв: "Долой существующий режим!", преобразилась в революционную. Революция казалась неизбежной.
Усмирить демона революции было решено раздачей народу конституционных свобод. Трудно было решиться на это, в декабре он ещё медлил, но между декабрем и октябрем была такая пропасть, свершилось так много нового, что теперь сам Витте уговаривал царя даровать свободы, иначе ни монархию, ни империю не спасти от полной катастрофы. В акте раздачи свобод так много монаршего, и сам этот акт будет воспринят как царская милость, хоть и может нанести ущерб абсолютизму. Манифест был им подписан 17 октября, и в тот же день, вечером, Николай Второй, предчувствуя, чем может обернуться дарование свобод, сделал в дневнике короткую запись: "Господи, помоги нам, спаси и усмири Россию".
Манифест 17 октября, который как бы говорил, что государственная власть слаба, а слабая власть — и не власть совсем, ибо в уме обывателя власть равняется силе, не только не примирил народ с правительством, но и дал большевистским агитаторам ещё один повод указать: "Посмотрите, власть колеблется, трепещет под вашим натиском! Это всего лишь подачки, уступки со стороны правительства, но нельзя обольщаться. Смело, товарищи, берите власть в свои руки! Долой самодержавие!"
И сразу же за оглашением дарованных свобод последовали новые кровавые вспышки смуты, кровь полилась ещё более широким потоком, и тогда русский царь, в душе которого не угасало сожаление о том, что Манифест, ограничивший его самовластие, был вредным и ненужным, согласился на решительные ответные меры…
Ступень восемнадцатая ФОТОГРАФ
После разгрома Кронштадтского мятежа Николай не то что бы сник, а в чем-то переменился. Пропала последняя надежда сокрушить большевистскую гидру силой оружия, и воинственный пыл угас в душе бывшего царя. Домашние знали, где он был, когда отсутствовал с конца февраля по восемнадцатое марта, догадывались, какую роль отводил глава семейства самому себе в бунте кронштадтских моряков, но никто не обронил на эту тему ни единого слова, точно навеки заперли на замок все тайны, способные в одночасье погубить их любимого отца и мужа или ранить его и без того кровоточащее сердце.
Зато сам Николай неожиданно для всех как-то за столом, когда вечером семья собралась за чаем, громко ударил ладонью по только что прочитанной им газете, обвел домашних каким-то просветленным и торжествующим взглядом и сказал:
— Нет, вовсе не напрасно я поднимал мятеж! Они ведь переменили свою экономическую политику! То, что делалось ещё месяц назад, напрочь отметается! Возвращается капитализм, свободная торговля! Никаких продразверсток — продовольственный налог, весьма умеренный! Каждый теперь может завести свое предприятие с наемными рабочими, открыть ресторан, портерную, кондитерскую и все, что угодно! Смотрите, что ещё преподнесли нам большевики, — государственные предприятия получают предпринимательскую самостоятельность! Но тогда скажите — чем же Россия, где строят утопический рай, этот коммунизм, будет отличаться от какой-нибудь капиталистической Англии или Германии? Для чего же нужно было городить огород, воевать с буржуазией, губить русские души сотнями тысяч, если все возвращается на круги своя?
Татьяна, работавшая в библиотеке, много читавшая, носившая очки в роговой оправе, со спокойной вежливостью сказала:
— Папа, ты не понимаешь деталей.
— Ну, и что же меняют детали? — с азартом отбрасывая газету, спросил Николай.
— А детали заключаются в том, что, как пишет Ленин, создается новый капитализм, государственный, под присмотром государства. Это совершенно другое явление…
— Да какое там к черту другое, новое! В моей, что ли, империи промышленность не подвергалась присмотру со стороны всяких там контролирующих институтов, вся деятельность которых сводилась к тому, чтобы взять налоги, направить работу даже частных предприятий на благо всей страны? В чем же разница? Да эта разница яйца выеденного не стоит!
Николай был готов продолжать свою обличительную речь, но вдруг осекся внезапно, пораженный какой-то мыслью. Машинально провел рукой по лбу, и на его растерянном лице засветилась улыбка.
— Постойте, — сказал он, — но ведь и мы… мы тоже можем заняться какой-то деятельностью, предпринимательством. У нас ещё сохранились бриллианты, так давайте же расстанемся с ними и устроим свое предприятие…
— О Боже! — закрыла лицо руками Маша. — Нам ещё не хватало превратиться в ремесленников, в каких-нибудь кустарей. Когда-то ты, папа, не дал мне выйти замуж за офицера только потому, что он был незнатного происхождения. Тебе, видишь ли, казалось зазорным видеть свою дочь поручицей, теперь же мы все перейдем в купеческое сословие или станем тачать сапоги…
— Маша, да остановись ты! — прервала поток жалоб сестры Анастасия. Никто и не собирается входить в купеческое сословие. Вот я, например, научилась прекрасно шить, и, если папа снимет для меня какое-нибудь просторное, светлое помещение, я упрошу его купить мне пять, нет, десять швейных машинок «Зингер». У меня появятся ученицы, они же станут и моими наемными работницами.
— Ах, оставь! — скептически посмотрела на дочь Александра Федоровна. Где ты купишь материалы, нитки, иглы для своей артели, если в городе хоть шаром покати — нет ничего.
— Это все появится, обязательно появится, коль разрешена свободная торговля! — поспешно, с каким-то отчаянием в голосе, словно его не поймут, сказал Николай. — Конечно, Настенька, я приобрету для тебя все, что ты захочешь, но мне и самому очень захотелось заняться делом, каким-нибудь хорошим, красивым ремеслом! Разве Петр Великий, строивший корабли, ковавший якоря, работавший на токарном станке, переставал быть монархом, когда надевал на себя фартук?
— Да, не переставал, — заговорила Ольга, — но ведь у тебя, папа, один только фартук и будет. Ты разве уже оставил надежду вернуть себе власть?
Девушка сказала свою фразу чуть насмешливо, потому что в душе не верила в то, что её отец когда-нибудь сумеет снова надеть на себя корону, и все его надежды — это плод иллюзий, оскорбленного самолюбия монарха, лишившегося власти.
— Нет, не оставил, — очень серьезно произнес Николай, — но разве мне помешает в этом овладение каким-то ремеслом? Я вам ещё не говорил о том, что я… — и он в коротком раздумье потупил взор, — что я с тех самых пор, как живу в большевистской России, стал совсем другим. Прежде я, признаюсь, был нерешительным, поддающимся чужим влияниям, не понимающим, не знающим цены жизни, страдания и счастья. Теперь же я ощущаю в себе силы, смелость, острый ум и даже мудрость. Я предчувствую, что скоро буду почти полностью доволен тем, что сделала из меня природа и… обстоятельства, и вот тогда…
Никогда прежде домашние не видели Николая таким откровенно смелым, возбужденным и торжествующим, точно в него вселился какой-то гений силы, мудрости и человеческого достоинства.
— Значит, — тихо прервала повисшую в комнате паузу Маша, — тебе сейчас осталось немногое — научиться делать что-то нужное людям своими руками.
— Ну да! Ты очень правильно выразилась, Маша! — с благодарностью посмотрел на неё отец. — Раньше я только пользовался тем, что делали другие, а теперь сам хочу попробовать. Если получится, я стану счастливейшим на земле человеком!
— Так все-таки, папа, чем ты будешь заниматься? Неужели в плотники или кузнецы пойдешь? — смотрел Алеша на отца с веселым удивлением.
— Нет, не в плотники и не в кузнецы — я открою фотографическое ателье, возможно, несколько! О, это будут самые лучшие, самые роскошные заведения Петрограда! Я уже уверен, что дело мое пойдет! Народ, этот простой народ будет валить ко мне, потому что я знаю их — каждому очень нравится смотреть на свое изображение. Ты видишь себя как бы со стороны! Русский человек из простонародья не рефлексивен, не копается в себе, но очень любит рассматривать свое отражение. Я слышал, что даже в самой бедной русской избе есть зеркало, обязательно есть. Вот я и стану их зеркалом! Сейчас, знаю, в городе нет фотографии, а я буду первым, кто станет снимать петроградцев! Если Оля и Таня не захотят расстаться с кинематографом и библиотекой, а Анастасия не оставит идеи устроить портновскую мастерскую, я буду просить Аликс и Машу помочь мне с фотографическим салоном. Может быть, и Алеша поможет!
— Конечно, папа, помогу! — радостно поддержал Алеша, а Маша лишь длинным печальным взглядом посмотрела на отца, светившегося счастьем и энергией, и промолчала.
И скоро дело закипело. Николай ходил в различные жилищные комиссии Петросовета, в коммунальные хозяйства, ссылаясь на правительственные постановления, доказывал необходимость предоставления ему в аренду помещений, сам выбирал, какое лучше подойдет для ателье. Договаривался о проводке электричества и водопровода, если таковых там не имелось, выслушивал от ответственных работников упреки в том, что он-де, недорезанный буржуй, собрался заняться совсем не нужным трудовому народу делом — фотографией.
— Знаете, гражданин, — давя зевок, говорил ему один советский работник, — чуждое вы пролетариату дело затеяли. И кому они нужны, эти ваши фотографии? Это ведь только дворяне, буржуазия и купцы на стеночки снимки в рамках вешали. Что ж вы старый образ жизни петроградским жителям привить хотите?
— Да как же вы не понимаете, товарищ дорогой, — убеждал Николай, — что хороший фотоснимок — это произведение искусства, он украсит комнату того же рабочего, а ведь партия большевиков всячески старается внедрять культуру в темную и забитую прежним режимом трудовую массу.
— Эх, — чесал совработник свой плотно остриженный затылок, — на разных мы с вами, видно, товарищ, идейных платформах находимся. Буржуазная культура рабочему вредна, а значит, она вовсе и не культура для него, а паразитирующий нарост, идейный полип, так сказать. Хотя, впрочем, постановления вышестоящих органов оспаривать не имею права. Давайте ваше заявление, подмахну, уж так и быть.
У представителя другой, куда более важной инстанции Николай мог услышать рокочущее:
— И забудьте думать о фотомастерских! Знаем мы, кого вы там снимать станете. Глядите, какую в Петроград диверсию контрабандным путем завозят! И важный совработник выбрасывал из ящика на стол фотографию нагой красотки, жеманно декорировавшей все свои прелести пушистыми мехами. — Вот карточки оттуда, чтобы подкосить все наши пролетарские устои! Так неужели я лично буду способствовать углублению диверсии капитала, предназначенной разложить наш народ нравственно и физически? Не дам лицензии!
Но Николай настаивал, молил, убеждал, совал под нос радетелям о народных нравах госпостановления, и наконец добился всего, чего хотел. Уже к концу двадцать первого года, затратив едва не все свои средства, он прекрасно оборудовал пять фотографических ателье в самых бойких местах города: три на Невском, теперь называвшемся проспектом 25 Октября, одно на Владимирском проспекте, названном теперь в честь какого-то неизвестного Нахимсона, и на проспекте также неизвестного Володарского — на бывшем Литейном. Фойе ателье, в которых принимали посетителей, были красиво задрапированы — тут уж помогла Маша, постепенно включившаяся в дело. Искусственные цветы в китайских вазах придавали помещениям особое очарование, но, главное, пришлось подумать об оформлении фонов для оживления «антуража». Античные тумбы и колонны из папье-маше, рисованные задники с горными и морскими видами, скамеечки, велосипеды, картоны с декорациями, имеющие вырез для головы снимающегося, — все зазывало в ателье, имевшие одну вывеску:
ФОТОГРАФИЯ РОМАНОВЫХ!!!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ДЕШЕВО!
Только у нас вы можете сохранить свой облик навеки, если сниметесь на карточку с паспарту или без, с членами семьи и без на фоне Кавказских гор и Неаполитанского залива, на вороном скакуне, на велосипеде фирмы «Сименс», в прекрасном костюме испанского гранда или с настоящим охотничьим ружьем! Снимаем также и с антуражем заказчика! Искажений лиц, фигур не допускаем! Работаем на лучших европейских материалах, не тускнеющих и не желтеющих со временем! Срок изготовления — всего три дня! Претензии по качеству готовых фотографических карточек — три месяца! Спешите сохранить себя для памяти детей и внуков, а также для славной российской истории! Цены самые умеренные!
Николай любил снимать и проявлять пластинки ещё тогда, когда был царем, но все, что он делал тогда, носило любительский характер, было несовершенно, а поэтому всегда оставался какой-то осадок недовольства собой. Теперь же он, точно желая избавиться от этого свербящего душу осадка, хотел стать профессионалом, которого бы хвалили не из лести, не потому, что эти снимки сделаны одним из знаменитейших в мире людей, а по причине их прекрасного качества, нужности людям. Николай спешил снискать уважение людей как человек, а не как государь, призванный к этой доле волей судьбы. И если бы он увидел, что его труд признан, оценен и одобрен, то сам стал бы уважать себя куда сильнее, чем прежде. Причем ему необходимо было сейчас широкое признание, а не восторги кучки снобов. Он, стремящийся повелевать всем народом, а не отдельными людьми, теперь искал благодарности за свою личную работу от десятков, сотен и тысяч, чтобы умножить в тысячи раз оценку себя самим собой.
И вот его ателье уже стояли с гостеприимно распахнутыми дверями, красочно исполненные вывески зазывали посетителей, почти во всех петроградских газетах печатались объявления, приглашающие сделать снимки у Романовых, но народ все не шел. То ли петроградцам, измотанным голодом, гражданской войной, безработицей было совсем не до того, чтобы оставлять свои изображения "для памяти детей и внуков", то ли у них просто не было денег, но лишь случайные посетители, да и то, как определил Николай, из числа старых петербуржцев, удостоили своим вниманием его ателье. Сам же Николай к тому времени, как открылись его заведения, успел пройти курс профессионального фотографа у нанятого им старого мастера, полуглухого и страдающего от грыжи еврея, "изволившего снимать ещё самого государя императора Александра Третьего, а уж последнего императора так прямо замучил яркими вспышками магния".
Но вот по мере того, как набирал обороты нэп, как грибы после дождя вырастали частные предприятия и появился крепкий русский червонец, по мере того как деревня, достав из загашников, ям, подвалов припрятанные продовольственные припасы, хлынула в город, принося в него запах сапожного дегтя, прокисших в сырости тулупов, лука, чеснока и потных тел, дела у Николая пошли в гору. Крестьяне, сбывшие товар, бродившие потом по главной улице Петрограда, опасливо заглядывая во все магазины, чтобы привезти домой что-нибудь диковинное, именно городское, заходили и в главное ателье Романовых на проспекте 25 Октября, где их встречал сам бывший император.
— Прошу вас, проходите, проходите! — говорил он каждому, кто возвещал о своем осторожном приходе мелодичным звоном колокольчика, соединенного с дверью. — Мы вам сделаем лучший снимок в Петрограде!
Обычно заходили по трое, вчетвером, а то и впятером — земляки. Мялись на коврике, боясь пройти в нарядный зал с пальмами и китайским фарфором, потом один из «лапотников», как без злобы называла поселян Маша, помогавшая отцу, набирался смелости и спрашивал:
— А энто, ежели бы не за деньги, а вот за мед или за масло конопляное, у нас ещё осталось, договоримся, барин?
Николай вначале брал и мед, и сало, и даже сырые кожи, лишь бы снимать людей, смотревших в объектив то с испугом, то с глупой ребячливой улыбкой, то с каменным напряжением или, наоборот, по-хамски развязных, желающих показать свое ухарство и на-все-наплевательство. Но потом, когда невыгода такого отношения к оплате своего труда стала бить по карману, начал требовать оплаты червонцами, и крестьяне стали развязывать платочки, шарить у себя за пазухой, в котомках, страстно желая увезти на память в деревню доказательство своего пребывания в недавней столице русского государства.
Второй по многочисленности категорией после крестьян были петроградские рабочие, которые по воскресным дням под хмельком, но в нарядных одеждах городского простонародья заглядывали со всем семейством во время прогулок по городу. Семейные снимались больше у античных капителей или на фоне огнедышащего Везувия, позы принимали чинные, чуть жеманные, как в кадрили, высоко задирали подбородки, разводили широко носки сапог, не забыв перед тем пройтись по, и без того блистающей, выходной обуви специальной щеткой, что находилась у Романовых в прихожей, выкатывали грудь вперед, а руки делали «калачиком». Николай не спешил придать им позы, которые бы нравились ему, — дозволял получаться на снимке такими, какими хотели быть клиенты. Но уж о «птичке» никогда не забывал. Зато пластинки вместе с помощниками проявлял тщательно, добивался четкости необыкновенной, халтуры никогда не допускал, а поэтому заказчики работой Романовых премного довольны были. Осторожно отведя папиросную бумагу, долго, улыбаясь, смотрели на себя, кланялись мастеру, благодарили, иногда совали в руку вареное яичко, пряник, а то соленый огурец или тараньку, прятали карточку тщательно, боясь в дороге повредить, просили у хозяина листок бумажки завернуть, снова кланялись и спиной шли к выходу.
К лету двадцать второго года, когда от посетителей отбою не было и заведения Романовых уже не нуждались в газетной рекламе, Николай почувствовал, что он добился того, чего желал. Скоро он открыл ещё два ателье, купил нарядный автомобиль, весь сверкающий коралловым лаком «делонэ», завел шофера — молчаливого и хладнокровного в езде по городу чухонца. И теперь он не крутился в ателье, принимая и снимая посетителей, а только разъезжал от мастерской к мастерской, проверяя работу подчиненных, занимаясь бухгалтерским учетом, налогами и размещением средств во вновь открытых коммерческих банках. Лишь иногда, когда сняться собиралась какая-нибудь важная персона, его извещали заранее, и он являлся, чтобы сфотографировать советского дипломата, красного командира с распушенными усами, видного совдеповского чинушу или партийного лидера. Ради этого Николаю звонили в квартиру, все так же помещавшуюся на Васильевском, куда провели телефонную линию, и Романов, прежде, в "царские времена", так не любивший телефон, с удовольствием принимал заказ, потому что работать для людей ощущалось им не как неприятная, тяжкая обязанность, но как истинное удовольствие.
И тогда он ехал на своем коралловом «делонэ», одетый очень элегантно, у дорогого портного, в перчатках и котелке, в лаковых туфлях с выпущенными на них гетрами, но заходил в ателье, где его уже дожидались, неспешно, с достоинством, кланяясь важной персоне лишь одним подбородком, безо всякой лести или даже подчеркнутого внимания. С таких клиентов, правда, Николай брал не по обычной таксе, а втридорога, словно наказывая советских тузов за то, что вынудили приехать, побеспокоили.
— Да это уж даже чересчур, товарищ Романов… — говорили иногда ему, когда слышали, сколько им придется платить.
— А для особенных клиентов и плата особенная, — не моргнув глазом, отвечал сомневающемуся Николай, набрасывая на аппарат чехол. — В следующий раз ступайте к Темкину или к Векслеру, если вам мои условия не подходят. Впрочем, вчера снимал полпреда Жировского, так он не жаловался…
И вот однажды Николаю позвонили. Он в это время, правда, находился не дома, а в ателье на проспекте Володарского, и сотрудник мастерской на бывшем Невском сообщил, что его желают видеть, чтобы сняться, четыре гражданина, "с виду приличных очень".
— Ладно, еду, — коротко ответил Николай и уже через пятнадцать минут входил в свой основной салон.
Сидевшие там мужчины расположились на кожаном диване по-свойски, развалясь, покуривая, о чем-то перемигиваясь. Когда Николай вошел, они, однако, встали, и один из них, низкорослый и уже седой, пряча за спиной окурок, заговорил:
— Э-э, нам бы карточку у вас заказать, с наших вот персон, коллективную, или, как раньше говорили, артельную! — и рассмеялся неискренне и деланно.
— Прошу вас в соседний зал, — сказал Николай, указывая рукой на дверь. — Какой формат желаете? Кабинетный?
— Да, кабинетный вполне нам сгодится, — весело крикнул все тот же человек, обнажая фарфор вставных зубов. — С декорациями не беспокойтесь, нам что-нибудь попроще, без всяких там чертей и амуров.
— Чертей и амуров не держу, — приготавливая аппарат к съемке, говорил Николай, — впрочем, как вам будет угодно. Садитесь на тот диванчик, или пусть двое сядут, а двое встанут по краям.
"Где-то я уже видел этого человека, — подумал Николай. — Вон того широкоплечего, с бородой".
Наблюдая за тем, как мужчины устраиваются для съемки, грубовато подталкивая друг друга, клоунски поправляя галстуки и подтягивая брюки, Николай догадался, что пришли они сюда совсем не ради фотоснимка, а для чего-то иного.
— Итак, господа, вы уже устроились? — желая казаться веселым, спросил Николай, вставляя в аппарат кассету с пластинкой. — Так позвольте — я на вас взгляну через объектив.
Когда Николай, накинув на голову черное сукно аппарата, нашел четверых клиентов в окошке объектива, то увидел, что теперь в руке каждого из них был зажат пистолет или револьвер, наведенный прямо на него.
— Товарищи, право, не понимаю, что здесь происходит? — выпростал Николай свою голову из-под сукна. — Вам что, угодно сниматься с револьверами?
Мужчины дружно рассмеялись, спрятали оружие в карманы и вразвалочку подошли к аппарату, остановились в двух шагах, а низкорослый седой обладатель великолепных вставных зубов скомандовал, подражая цирковым гимнастам:
— И-и-и раз!
Они поклонились в пояс, дружно, и было ясно, что этот шутовской поклон был у них тщательно отрепетирован, — уж больно славно все получилось.
— Будь здрав, царь ты государь наш православный, Николай Александрович! Многие тебе лета! — вместе с перегаром выдохнул прекраснозубый. — Пришли к тебе не ради забавы, а токмо одного почтения для, смиренные и склоняемые пред тобой. Не гони, а разреши слово молвить!
Николай, сохраняя самообладание, готовый в жизни, которую сам для себя избрал, ко всяким неожиданностям, спокойно сказал:
— Граждане, вижу, актеры? Им угодно пошутить? Так и ступали бы на сцену, господа. В Театре «Буфф» сегодня дается какой-то водевиль.
— Андрюха! Ванька! А ну, тикать отсюда в предбанник! — вдруг взвизгнул низкорослый, толкая обеими руками двух своих товарищей, способных, судя по их могучим фигурам, свернуть ему шею безо всякого труда и зазрения совести.
Когда два странных клиента ушли, безропотно повиновавшись приказу, Николай сказал:
— Ну, а теперь-то, товарищи, мне кто-нибудь объяснит, в чем дело? Ваше странное обращение ко мне, скорее всего, связано с тем, что я ношу фамилию Романов?
Низкорослый, меняя свой прежний фатовской тон на какой-то сумрачный, ответил:
— Не только с этим, почтенный гражданин Романов, не только. Но давайте сядем. Нам так покойней будет вести беседу…
Все трое присели на диванчик рядом с античной тумбой, на капитель которой оба визитера тотчас принялись сбрасывать пепел со своих зажженных папирос.
— Позвольте же нам наконец представиться, — как-то неожиданно резко вскочил с места низкорослый, протягивая руку. Николай поднялся тоже, пожал протянутую руку, а визитер, по-гусарски коротко поклонившись, сказал: Штильман, имею честь! А вот это мой старый друг, Барковский, так что мы в паре вроде Гоги и Магоги, Розенкранца и Гильденстерна, — принимайте!
И Штильман, перегибаясь, захохотал, указывая рукой на своего угрюмого товарища, имевшего очень короткий, вздернутый нос, но выдающуюся вперед лошадиную челюсть.
"Господи! — подумал Николай. — Да это какие-то сумасшедшие или кокаинисты!" Но эта мысль мгновенно и успокоила его.
— И все-таки, чем же я вам могу служить? — спокойно спросил у заливающегося мелким смехом Штильмана Николай.
— Как чем, как чем? — продолжал хохотать Штильман. — Очень многим! Только давайте по порядку, с самих яиц Леды начнем.
— Да с каких таких яиц! — внезапно разозлился Николай. — Или вы будете говорить ясно, без экивоков и вывертов, или же я сейчас же вызову милицию!
— Ах, ти-ти, — надул отвислые щеки Штильман и покачался корпусом, уперев руки в боки. — Так мы и испугались вашей милиции! Вам бы её бояться надо, ваше драгоценное величество! Вы бы лучше не грозили нам фараонами, а посоветовались бы совместно, как нам разрешить один вопросик, очень такой корректный и щепетильный. Вы зачем же нашу дойную коровку, к сладким сосцам которой прильнувши мы очень себе спокойно жили, взяли да и отдали на бойню?
Штильман поднялся, принялся ходить по освещенному электричеством помещению, с улыбкой разглядывая Николая, смотрел как-то боком, по-петушиному.
— Ах, ти-ти какой непонятливый стал! И тогда, ещё в девятьсот шестом году, не понимал, что ходит по канату, как в цирке, а кичится тем, что самодержец, са-мо-дер-жец! Не понимал, не знал, что я, часовщик Штильман, мелкий русский еврей, ненавидевший все эти русские погромы, ценз оседлости и всякую мерзопакостную гадость, могу при помощи фунта динамита разрешить все проблемы страждущего российского народа!
— Ну, и почему же вы, сударь, не применили свой динамит? — сложил на груди руки Николай и гордо посмотрел на Штильмана. — Где же ваше проворство, бесстрашие, любовь к людям? Или вы увлеклись делами, куда более далекими от задач революционных, идейных? К примеру, ограблением банков? В Кишиневе, я слышал, какой-то Штильман и какой-то Барковский вкупе с очаровательной левой эсеркой экспроприировали, как у вас говорится, два миллиона по старому золотому курсу.
Николай понял, что имеет дело с теми самыми соратниками Царицы Вари, о которых ему говорил Лузгин.
— Боря, — сказал Барковский, — этот бывший русский царек на самом деле много знает! Чего ждать, пусть попробует нашей кашки, а то будешь разводить с ним антимонии! За все прошлое расплатится сейчас!
Николай не знал, за какое, собственно, прошлое он должен платить этим людям, но понял, что имеет дело с отъявленными мерзавцами, готовыми на самое тяжкое преступление.
— Да, господа, я знаю о вас немало. Знаю также, что Варвара Алексеевна вас надула и вы остались ни с чем. Но я-то тут при чем? Виновата, скорее, ваша революционная мораль. Впрочем, не о ней ли вы говорили как о дойной коровке с изумительными сосцами. Вы правы, сосцы у неё на самом деле замечательные, но что делать, мне пришлось пожертвовать ими ради чести своей семьи и лично своей чести.
— Ну, вот за этим-то мы и пришли к вам, августейшее величество, гадко улыбнулся Штильман, растирая ногой окурок, причем делая это подчеркнуто небрежно. — Андрюха, тот самый, что привязывал вас к креслу, он там сейчас, за дверью, — слышал ваш разговор с Царицей Варей и понял, что к Варваре Алексеевне явился сам Николай Второй. Еще до прихода патруля, вызванного сынком вашим, он сбежал, бросился ко мне, потому что сей послушный холуй моей персоны, служивший меж тем и Варе, понял, кто в наши сети попался. Я как услышал о таком неожиданном царском выходе, вначале не поверил, по мордасам Андрюху побил изрядно, после кинулся к Царице, но её и след простыл — только лужу крови на полу увидел. Ах, ти-ти, ваше величество, вы на душегубство пошли, невинного слугу жизни лишили!
— Я просто защищался. Что же мне прикажете делать, когда на меня нападают вооруженные люди?
— Да и оружие-то у них самое нелепое было — один лишь кистенек! всплеснул аккуратными ручками Штильман. — Ну да ладно, не смею вас винить у вас к людям, я знаю, отношение свое, царское. Расскажу вам коротко, что я после делать стал. Царица Варя, как я уже вам дал намек, питала нас из своих источников, а коль вы явились причиной гибели её, — об этом, государь, мне тоже известно стало, поелику в комиссии Чрезвычайной у меня тоже знакомцы водятся, — так я решил, что вы и станете теперь моим кормильцем и поильцем. Присматривался я к вам ещё год назад, но не видел теперешнего шика, ни размаха истинно буржуазного. Зачем вы мне были нужны год назад? Выстрелить в вашу спину, чтобы за Варю отомстить? Ха, станет честный еврей таким грязным делом заниматься! Нет, я ждал, предчувствуя, что не такой-то вы простой, что не могли вы не сохранить в каком-нибудь укромном месте часть своих сокровищ, политых кровью трудового народа. Скажите честно, а вам шествие на девятое января не снится? А Ленский расстрел ни в чем неповинных людей?
— Нет, — честно признался Николай, — лично я к этим безобразиям руки не приложил. Просто воинские начальники превысили свои полномочия…
— Ах, ти-ти, говорите, государь, говорите! — рассмеялся Штильман. Чистеньким остаться хотите, в белоснежных одеждах. Ну да пусть так и будет, мы у вас не за этим. Просьбу нашу к вам объясню в двух словах: какие налоги вы от своих ателье платите, мы хорошо знаем. Так что каждый месяц по пять тысяч червонцами вы уж нам без лишних напоминаний, пожалуйста, отсчитайте, не обидьте. А я вам за это обещаю, что никто другой уж к вам за мздой не придет. Нам же от этого двойная приятность: с одной стороны — денежное обеспечение, с другой — удовлетворяем свой эсеровский революционный апломб — русский государь веками с народа деньги собирал, а теперь мы с него собираем. Ах, честное слово, как приятно видеть царя, ну, бывшего, разумеется, своим данником.
И Штильман загоготал, обнажая огромные, как у Щелкунчика, зубы, но потом вдруг словно спохватился, замолк и с кислой миной на своем обрюзглом лице спросил:
— Ну а первый-то взнос вы нам сейчас, немедленно вручите?
Николай, ещё полчаса назад считавший себя преуспевающим, независимым и очень удачливым человеком, стоял сейчас перед двумя негодяями оплеванный, униженный — грубая сила, наглость и неправда в одночасье победили талант, рассудок и добрую волю.
— Извольте, — сказал он спустя полминуты и полез в карман за бумажником.
***
Наконец сломили смуту, и послереволюционные годы явились для России временем заживления ран, вовлечения народа в обыденный, каждодневный труд, временем всеобщего умиротворения.
Николай буквально с первых лет своего царствования проявлял сочувствие к интересам крестьянства, страдавшего от выкупных платежей на землю, малоземелия, стесненного общинным землевладением. И ещё 3 ноября 1905 года, в самый разгар смуты, государем был подписан указ об уничтожении тяготивших крестьян выкупных платежей за землю, расширена деятельность Крестьянского банка, но наиболее активно земельная реформа пошла после волнений, когда правительство возглавил Петр Столыпин, — затрещала стеснявшая инициативу крестьян община, насаждались индивидуальные хозяйства, малоземельным предлагалось переселяться в Сибирь, где обилие незаселенной земли гарантировало в будущем полный успех.
И царь мог видеть, что результатами новой аграрной политики явилось небывалое увеличение продуктивности сельских хозяйств, и Россия сделалась главным производителем и поставщиком зерна на мировой рынок. Пожалуй, сам государь расценивал время, заключенное в тесные рамки конца революции и начала мировой войны, как наиболее успешное, счастливое для своего правления. Держава на мировой политической арене вновь после поражения в войне с Японией приобрела значительный авторитет, укреплены были финансы, проведена судебная реформа, открылись и функционировали новые низшие, средние и высшие учебные заведения, и образование, хотя бы на уровне грамотности, стало проникать в темную народную среду. Невиданными прежде темпами развивалась русская промышленность, тяжелое машиностроение, что в преддверии ожидаемой войны позволяло укрепить мощь русской армии, снабжать её новыми образцами вооружения. Функционировала Дума — российский парламент, широко действовала свобода слова и печати; русская наука блистала всемирно известными именами; русская литература была читаема всеми образованными людьми в мире; живописцы создавали шедевры, являвшиеся образцами для подражания; русский театр — и драма, и опера, и балет — не знал себе равных, а музыка, созданная в те годы в России, звучала во всех концертных залах мира. Русские мыслители, чьи философские конструкции представляли наиоригинальнейшее явление в истории мировой мысли вообще, удивляли и восхищали.
Нет, в благосостоянии широких народных масс, преимущественно крестьян, было ещё много нерешенных проблем — бедность в крестьянской и рабочей среде была обыкновенным явлением, но, что главное, Россия при Николае Втором стояла на том пути, который наметил дальнейший, постепенный и несомненный рост и прогресс в улучшении всех аспектов общественного бытия. Важным было то, что народ после невзгод, смуты понял, что самодержавие вовсе не служит тормозом, преградой на пути всеобщих перемен к лучшему: управлять страной, где граждане благоденствуют, а не страдают, удобно и лестно для любой власти.
Однако движение к благоденствию было неожиданно прервано…
Ступень девятнадцатая МИТРОПОЛИТ ПЕТРОГРАДСКИЙ
Он вышел из ателье на Невском, когда услышал шум, людской говор, проникший сквозь стеклянные расписные двери. Простые с виду люди — рабочие, работницы, торговцы — толпились на тротуаре, вытягивали шеи, смотрели куда-то вправо. На многих лицах — напряженное ожидание, на других праздный интерес, глумливый и суетный.
— Ну что, не видно? — спрашивал кто-то из самых нетерпеливых.
— Нет, не видать еще, да и рановато — вчерась-то ровно в полдень провозили.
— А может, сегодня и не будут судить али другой какой дорогой повезут.
— Нет, будут, ещё три дня суд продолжится, — возражал кто-то солидным, всезнающим голосом. — Да и возят по Невскому как раз для того, чтоб опозорить покруче, на осмеяние всего народа выставить: вот, дескать, святителя вашего под конвоем везут. Осрамить хотят их, а нам побольнее сделать…
— Да не вякай ты, не вякай, — слышалось пренебрежительное. — Поделом им, толстопузым! Будут знать, как опиум народу навязывать!
Николай, слушавший все эти разговоры и не понимавший, о ком идет речь, давно не читавший газет, потому что предпринимательство отнимало у него весь досуг, спросил у стоявшего рядом человека, казавшегося ему культурнее других зевак.
— Скажите, а кого же везти собираются?
Тот взглянул на Николая с явным удивлением, хмыкнул:
— Эк вы, батенька, словно только что в Питер приехали. Не знаете разве, что каждый день митрополита Вениамина со товарищи на суд по этой улице возят в открытых автомобилях. Вот и собираются люди, чтобы поглазеть. Может, последние деньки по нашей грешной землице владыка ходит — к расстрелу, слыхал, дело ведется… — прибавил собеседник уже почти шепотом.
— Как, за что же могут расстрелять митрополита? — напротив, очень громко, взволнованно проговорил Николай, но человек лишь отвернулся от него с поспешностью, пробормотав:
— А вот пойди на суд да сам все и узнай…
Наконец по веренице ожидавших появления митрополита, протянувшейся вдоль проезжей части Невского, пробежал шумок:
— Везут, везут! Вениамина везут, Петроградского!
Послышался рокот моторов, толпа задвигалась, поперла на мостовую, но откуда ни возьмись явились люди в военной форме, с кобурами на поясах, заталкивали зевак обратно на тротуар, крича при этом:
— А ну, назад! Мешаешь проезду!
Кортеж из десятка автомобилей с открытым верхом следовал медленно, будто прав был тот, кто говорил, что митрополита и его соратников нарочно выставили напоказ в положении арестованных. Но если такой замысел у устроителей зрелища имелся, то они не учли того, что арестованный глава Петроградской епархии может вызывать у смотревших на него людей, из которых по крайней мере две трети были искренне верующими людьми, горячее сочувствие.
Автомобили с арестованными были ещё далеко, а уж к гудению моторов примешался какой-то странный звук, летевший откуда-то справа, со стороны движения машин. Скоро Николай разобрал, что этот звук был нестройным пением, нестройным, но очень страстным, отчаянным, точно люди старались заглушить им шум моторов, поглотить им позор, в котором пытались утопить сейчас большевики их владыку. Это пение распространялось справа налево по мере движения кортежа, словно горел бикфордов шнур, передающий огонь по всей своей длине. И Николай уже слышал страстное:
Господи сил, с нами буди-и! Иного бо разве Тебе помощника в скорбех не имамы-ы! Господи сил, помилуй на-а-ас!
И вот автомобиль, первый из кортежа, проехал перед ним, и Николай увидел изможденное бородатое лицо под короной белого клобука митрополита. Худая рука поднята в благословении, обращенном к народу. Многие падали на колени, истово крестились, и слова молитвы продолжали слетать с их губ:
Хвалите Бога во святых Его-о, Хвалите Его по множеству величия Его! Господи сил, помилуй на-а-ас!
Наиболее ретивых из числа поющих вырывали из толпы милиционеры, заламывали им руки, зажимали рты, кричали:
— Не петь! Не петь! Всем глотки в гепеу позатыкаем! Не петь!
Вереница автомобилей проследовала мимо, а Николай все стоял, будто ноги его приколотили гвоздями к тротуару.
"Да неужели, — ошеломленно думал он, — неужели большевики дойдут до такого сраму, что расстреляют облеченных архипастырским саном? Такого же со времен Иоанна Грозного не было. Да и за что? Нет, не поверю, не в силах! Нужно ехать в суд!"
"Делонэ" со снятым капотом, подле которого возился невозмутимый финн-шофер, стоял рядом с ателье, и, как только кортеж проехал мимо, Николай сказал водителю:
— Заводи мотор и потихоньку вслед за ними! Ах, Ты, Боже, зачем Ты оставил Русскую землю!
— Рази ставилл? — улыбнулся обычно неулыбчивый чухонец. — Глядитте, товаррищ Романоф, с каким шиком зессь возят товарищей ис серкви!
Но Николай ничего не ответил, с хмурым видом махнул рукой и сел в машину.
Через две минуты они уже ехали по проспекту 25 Октября, потом у Аничкова моста свернули вслед за арестантским кортежем на Фонтанку, а потом у цирка на мост, что напротив церкви Симеона и Анны, и — снова поворот, налево, а после прямо, по набережной, где обычно ездить можно было лишь в противоположном направлении. Все машины остановились возле трехэтажного здания, стали выводить священнослужителей, других подсудимых. По обеим сторонам от каждого — два красноармейца с наганами. У входа в здание суда толпа кричит приветствия митрополиту, а Вениамин все так же воздевает руку, благословляя. Тут Николай, успевший выйти из машины, заметил, что ни посоха, ни панагии, ни креста у Вениамина нет.
— А вы куда? — остановил Николая у самого входа в суд перетянутый ремнями часовой. — Пропуск нужен…
— Что, не узнаешь?! — гаркнул на него Романов, перенося всю свою ненависть к большевикам на часового. — Глаза разуй! Как носишь снаряжение? Где тренчик на ремне? Загремишь сейчас на гауптвахту суток на пятнадцать, так сразу вспомнишь!
И, уже не глядя на оторопевшего стража, твердой поступью властелина прошел в вестибюль суда, где уже не было арестованных, проведенных, должно быть, в зал судебных заседаний. По лестнице поднялся на второй этаж, где в кулуарах, покуривая, прохаживались люди в штатском и военные; иные кучковались возле окон, но у всех на лицах было выражение ожидания чего-то страшно занимательного, этакого пикантного. Николай тихонько подошел к одной из групп, украдкой куря, стал слушать. Говорил один, с кожаной папкой под мышкой, франтоватый очкарик:
— Как писал Лукреций, "де нихило нихиль", то есть ничего не берется из несуществующего, а поэтому нет причин сомневаться в том, что церковники, используя голод в стране, хотели спровоцировать повсеместно восстания против Советов! Конечно, не отдать части церковных ценностей в пользу голодающих они не могли — не по-христиански будет выглядеть, но боiльшую часть все же сохранили у себя. А эта часть — это миллиарды рублей по нынешнему твердому курсу! Вы понимаете, что такие вещи саботажем пахнут!
— Но ведь доказательств вины собственно Вениамина и других нет, говорил другой. — Что это за процесс, к чертовой матери? Выслушивают только свидетелей обвинения, а свидетелей защиты не только не вызывают, но и не допускают на заседания!
Кто-то со звенящей угрозой в голосе возражал:
— Ох, как вы смело-то заговорили, Пал Палыч! Да вы не слышали разве, как главный обвинитель, товарищ Красиков, на прошлом заседании высказался? Он так прямо и заявил: "Вся православная церковь — сплошь контрреволюционная организация!" Чего вам еще-то нужно? В защитники изуверов лезете?
— Да не лезу я никуда, — обреченно махнул рукой Пал Палыч и поспешил отойти, смущенный и растерянный, а в группе все тот же голос говорил:
— Честно признаюсь, даже если бы и не было никаких фактов, их нужно было бы найти. Ну сколько можно, товарищи, терпеть в нашем обществе этих долгополых? Вы знаете, я сам из сельских земских врачей буду, так, скажу вам, наш приходской священник был таким обжорой, что, страдая при этом несварением желудка, всегда пускал ветры во время службы в церкви, да ещё так громко и долго, что казалось, будто на улице гроза начинается. — Все, кто слушал веселого рассказчика, смачно заржали, а он, поощренный смехом, продолжал с ещё боiльшим воодушевлением: — А если на исповедь являлась к нему прихожанка помоложе, этот поп вначале вынуждал её рассказывать о себе самые интимные тайны, а потом до того застращивал загробными муками, что всегда принуждал к любовному соитию, вот так-то! Разогнать нужно всю эту поповскую братию, дать им клочки земли — пусть гнут спину наравне с крестьянами!
Николай, давно уже слушавший с негодованием и отвращением, не выдержал. Бросив окурок прямо на паркет, резко шагнул к говорившему, оттолкнув стоявшего с ним рядом человека, крепко схватил за руку выше локтя так, что бывший земский врач невольно вскрикнул и оторопело посмотрел на неизвестно откуда взявшегося очень прилично одетого мужчину:
— Чего вам надо? Отпустите! Сейчас же от…
— Слушай… я вот что вам сейчас скажу… Может статься, вы и видели такого скверного попа, но по одной овце обо всем стаде не судят, так что не извольте поносить святую нашу церковь! Еще скажу: если у церкви отнять потиры, дароносицы, кресты, другую утварь, необходимую при богослужении, так и церкви самой не будет! Впрочем, вы, я слышал, этого и хотите. Скажете, что нужно спасать голодающих? Так ведь если бы Совдепы не грабили деревню пять лет, так и голода бы этого не было!
По мере того как он говорил, замечал, что все, кто был рядом, постепенно исчезают, как видно, боясь того, что они находятся вблизи от человека, сеющего зерна контрреволюционной пропаганды. Силился вырваться из цепких рук и бывший земский врач.
— Да что вы… такое… несете! Нас же обоих в гепеу заберут! Сумасшедший, честное слово!
Николай, с отвращением глядя в глаза, до краев наполненные ужасом, брезгливо оттолкнул от себя мужчину, который, озирая, кинулся прочь.
"Ну вот, связался с мразью, — с недовольством подумал Николай. — Еще донесет, задержат, не узнаiю, в чем дело…" Но, видно, его поведение показалось всем слушавшим его до того дерзким, вызывающим, что все решили этот усатый гражданин, одетый в заграничный нанковый костюм и белые штиблеты, то ли на самом деле имеет право говорить так смело, то ли является агентом грозного ГПУ, нарочно провоцирующим их. А Николай вдруг осознал, что его не арестовывают за крамольные речи, произнесенные прямо здесь, в здании суда, именно потому, что он, бывший император России, много выше, благороднее и достойнее всех этих жалких людишек, чьи сердца обволакивает гниль ничтожества, страха за свою жизнь, нужную лишь им одним. Николай же существовал сейчас в мечтах о служении… другому…
Расселись в зале, и вскоре конвоиры ввели Вениамина, который со смиренным, спокойным выражением лица уселся на скамейке за вытертой руками подсудимых деревянной загородкой. И Николай поразился тому, что присутствующие в зале — в основном красноармейцы, загнанные в этот зал для порядка, но и чтобы представлять собой публику, — разом поднялись, когда митрополит вошел, будто какая-то неведомая сила подвигла их к этому. Сели рядом с Вениамином с полтора десятка подельников, как понял Николай священнослужители, какие-то, по виду судя, преподаватели богословия. Явился суд, и зал с шумом поднялся, только Николай не внял призыву секретаря. Думал с горечью, что все здесь уже решено: и дополнительные вызовы свидетелей, и горячая речь защитника обвиняемых — Гуровича — не способны вычеркнуть ни слова из приговора, составленного заранее, ещё даже до того, как начался суд, потому что нужно было сделать из церкви врага народа: понятно, сама по себе церковь врагом народа быть не может, правда таковыми могут стать её иерархи.
Но Николай все-таки пытался уяснить, что вменяют в вину Вениамину. Утаил от Советов церковные ценности? Нет, отдал практически все, что требовали, только, как оказывалось, не до конца все отдал — что-то да и утаил, и уже, раз что-то утаил, не может быть Вениамин другом русского народа, а есть его самый ярый враг, вроде белогвардейца, контрреволюционера. Николай не знал, что ещё в мае нынешнего, двадцать второго года Ленин распорядился ввести в советский кодекс новую расстрельную статью, по которой к смерти приговаривался тот, кто призывал к пассивному противодействию правительству. Вениамин с соратниками очень подходили к такой статье…
— Ну и Гуровия! — смеялся в перерыве в кулуарах один вертлявый тип, возбужденно и нервно куривший, весь взвинченный происходившим в зале. Нашел себе занятие, митрополита защищать! Дурак, ей-Богу! Всю карьеру себе испортил, если не посадят. Фактов, говорил, нет, доказательств вины нет! Что история скажет? Да история-то рта не имеет, чтоб ей можно было говорить. Что мы заявим сейчас, то и скажет. Хотите пари со мной держать? Ставлю три червонца против одного, что сегодня же вынесут приговор.
— И какой же? — интересовался кто-то не столь всезнающий и самонадеянный.
— Как какой? Дураку понятно: пиф-паф, ой-ой-ой! Яснее ясного, что не будет Красиков с этим простым делом тянуть, потому что Москва тоже ждет не дождется…
А Николай, бродивший среди тупо молчавших красноармейцев или оживленно-говорливых журналистов, все не мог поверить в то, что коммунистический цинизм дошел до такого вызова всему доброму и честному. И когда в тугой тишине зала раздались уверенные, звонкие слова председателя трибунала, доносившие до всех присутствующих мнение суда, выражающееся в том, что митрополит Вениамин и около десятка сочувствовавших его контрреволюционной деятельности достойны смерти, Николай почему-то не слишком удивился жестокости суда, но тихо и спокойно решил про себя, что не допустит гибели ни в чем не повинного митрополита, являвшегося представителем той духовной власти, которая облекла земной властью когда-то и его, Николая Второго.
До Вознесенского, где жил Лузгин, с которым Николай не встречался с тех самых пор, когда они покинули взятый красными Кронштадт, он доехал за какие-нибудь полчаса, но ждать Мокея Степаныча Романову пришлось долго отсутствовал. Голодный, какой-то опустошенный, он не спустился, однако, к оставленному во дворе автомобилю, а сел в прихожей на табурет и так сидел, неподвижно и устремив взгляд на стену с грязными обоями, весь в белом, держа в опущенной руке белоснежный котелок.
— Николай Александрович? — услыхал он вдруг над собой знакомый голос, вкрадчивый и, как всегда, чуть-чуть торжествующий. — Давно меня не посещали. Ну, проходите, проходите.
В комнате Лузгин сразу же сказал:
— Можете и не говорить, зачем пожаловали, — видел вас в суде сегодня. Взволнованы вы были изрядно, вот и не подошел к вам, но с интересом следил издалека. А потому не подошел, что очень уж боялся ваших громогласных протестов. Зачем вы Бобочинского за руку хватали, про репрессии большевиков ему говорили? Эх, не бережете вы себя, а дело-то для вас худым обернуться может.
— Нужно спасти Вениамина, — не дав договорить Лузгину, словно сомнамбула, медленно проговорил Николай. — Чем вы мне можете помочь?
Лузгин рассмеялся вызывающе, будто просьбы Николая уже давно превысили меру его личных возможностей.
— Вооруженным налетом митрополита спасти хотите, да? Так ведь не меньше полусотни человек понадобится, чтобы тюрьму гэпеу штурмовать. А если и вызволите его оттуда, где прятать будете? У себя под кроватью?
— За границу переправлю, — упрямо сказал Николай. — Только подскажите, где он, какая охрана да и когда, не знаете ли, приговор в исполнение приводить будут?
— Самонадеянны вы, Николай Александрович, по-царски прямо самонадеянны! Но ведь знаю я, что давно у вас нет старого вашего помощника — Томашевского этого. Кто подсобит, стволы на охрану наведет, замки сбивать будет? Сами, что ли?
Николай молчал. Он на самом деле слишком переоценил свои силы, не соразмерив их со страстным желанием спасти митрополита во что бы то ни стало.
— Вы спрашиваете, когда Вениамина расстреляют? — продолжал Лузгин, расхаживая по комнате. — Так и тут ничего определенного ответить не могу: могут и сегодня расстрелять, а могут и через месяц, а вполне возможно, что и помилуют, дабы продемонстрировать миру свое великодушие. Одно вам скажу твердо — если намерены расстрелять, то их вначале в тюрьму «Кресты» направят, где тоже стреляют приговоренных, но бывает, как в семнадцатом и восемнадцатом году, отправляют морем в приснопамятный Кронштадт, где расстреляют да и закопают. Полагаю, Вениамина именно там кончать и станут, от мирян подальше, да чтоб могилку потом никто не нашел, а то ведь у нас на Руси в мученики записывают быстро, а потом такие святые ещё почище дела чужими руками творят, чем те, кто им имя дал.
— Как же попасть в эти… "Кресты"? — не надеясь на удовлетворительный ответ, спросил Николай.
— А как вы туда попадете? Не знаю, — развел руками Лузгин. — Снова вас чекистским мандатом снабжать? Нет, времена уже не те, зорко смотрят, да и через забор вы не перемахнете, как какой-нибудь герой Александра Дюма, высокие заборы, да и не пристало вам через заборы сигать.
— Начальник тюрьмы вам известен?
— Лично нет, но наслышан о нем. Он всего год назад там начальствовать стал, а до этого на фронтах гражданской с белыми сражался, орденоносец, золотое оружие имеет. Был сильно ранен, на деревянной ноге ходит, вот службу в Красной Армии и пришлось оставить, чем, я знаю, он был сильно недоволен, ибо тщеславен сей Книшенко до крайности, до самозабвения просто. Хотел, видите ли, до командарма дорасти, и все ему блестяще удавалось, а тут на тебе — каким-то тюремщиком стал…
Лузгин своим цепким взглядом ухватил впечатление, произведенное на Романова своей последней фразой, и тут же пожалел, что произнес её, Николай, взволнованный, с горящими глазами, спросил:
— А где бы я смог увидеть этого Книшенко?
Лузгин усмехнулся:
— Вначале признайтесь в гэпэу, кто вы есть на самом деле, вас препроводят в тюрьму, где и сможете познакомиться с товарищем Книшенко. Но не советую, — говорят, уж очень яр он к заключенным — прямо зверь какой-то. Я потому вам так сказал, что живет Книшенко при тюрьме, в служебной квартире, вместе со своей семьей. Если надо в город — вывезут на автомобиле и назад вернут так же под охраной. Так что встречи с ним почти исключены для нас, для смертных.
— А я и не такой уж… простой смертный, — как бы в задумчивости сказал Николай, но потом заговорил уже энергично, точно внезапно пришедшая мысль связала все непонятное прежде в тугой комок ясно определившегося намерения: — Он тщеславен, вы говорите, ну так на этом я и сыграю! Нужно как-то сообщить ему, что с ним хочет увидеться журналист, желающий писать о его боевой жизни очерк в какой-нибудь журнал. Я знаю, в Петрограде уже выходят новые журналы — какая-то «Звезда», "Новая книга". Можно говорить не только об очерке, но и о необходимости поместить в журнале его фото, и я возьму с собою аппарат! Лузгин, вы бы могли изготовить для меня удостоверение сотрудника какого-нибудь петроградского периодического издания посолидней?
Мокей Степаныч смотрел на Николая с истинным восторгом — редкие из подчиненных ему агентов отдела Департамента полиции, где Лузгин служил, проявляли столько находчивости и решимости. Сидящий на его неказистом стуле бывший император России являл собой какой-то сгусток энергии, ума и бесстрашия. Удержать, остановить эту энергию было невозможно, и Лузгин сказал:
— Уже завтра вечером я передам вам такое удостоверение. Нужно лишь раздобыть образец, а за остальным дело не станет.
Шашка с красивым позолоченным эфесом, висящая на стене, над диваном, была похожа на едва народившийся месяц, и Тарас Никодимыч Книшенко, высокий, плечистый, с большой кудрявой головой, но безусый по причине хилого роста волос на лице, ковылял по своему служебному кабинету, расположенному рядом с жилыми комнатами его квартиры, то и дело подходил к шашке и в который уже раз проводил носовым платком по её блестящим ножнам. Ему все казалось, что после прикосновения к ним материи они начинают блестеть ещё более ослепительно. Он ждал репортера из петроградского журнала, очень известного издания, поэтому ещё сегодня утром он выматерил жену за то, что плохо вытерла пыль с мебели и не удосужилась пройтись влажной тряпкой по портретам товарищей Ленина и Троцкого, висевшим по обеим сторонам от наградной, добытой в боях с белогвардейцами, врученной самим Фрунзе шашки. А в сознании, немного взбаламученном стаканом водки, уже грохотали орудия, слышались стоны умирающих, звон оружия и громкий призыв самого Тараса Никодимыча: "В атаку-у, братцы-ы! За товарищей Ленина и Троцкого-о!"
— Итак, Тарас Никодимыч, я вначале сделаю ваш снимок, а потом вы мне расскажете обо всем, хорошо? Устраивайтесь на этом диване, — или нет, на кресле, а шашку можно в руки взять. Хорошо, если бы вы оперлись на нее, вот так, только орден, прошу, рукой не заслоняйте. Лицо спокойное, но глаза, если хотите, можете сделать строгими — этакий соколиный взгляд. Так, хорошо, сейчас зажгу магний…
Вспышка магния, ослепившая героя, возвестила ему о том, что теперь история не посмеет вычеркнуть его имя из списка людей, прославивших российское оружие, а Николай, довольный тем, что удалось так быстро договориться с начальником тюрьмы по телефону, пройти через караульную, где его, конечно, тщательно проверили на предмет принадлежности к журналу и весьма бдительно прошлись руками по его одежде в поисках оружия, сложил штатив фотоаппарата, достал из кармана пиджака блокнот, и интервью началось.
Романову было крайне трудно сдерживать свое отвращение к этому ограниченному человеку, с упоением рассказывавшему ему, как он, коммунист аж с самого семнадцатого года, ходил в атаку на белых, как крошил их в капусту своей шашкой, как расстреливал собственноручно пленных "врагов трудового народа", сек их из пулемета со своей стремительной тачанки, как брал укрепления Перекопа, прорываясь в Крым. Николай хотел закрыть блокнот и заявить этому одноногому орденоносцу, что его обманули, и он боролся не за счастье своего народа, а ради того, чтобы защитить власть кучки авантюристов и предателей России.
— Все это очень, очень интересно, — прервал наконец Николай нескончаемый рассказ о сражениях. — Но интересно бы узнать, чем вы занимаетесь сейчас?
Книшенко решительно замотал головой:
— Нет, об этом писать не надо! Чего хорошего — тюрьмой командовать…
— Ну как же, читателям ведь интересно будет узнать, что стало с нашим героем? Да я к тому же уверен, что нынешняя ваша деятельность тоже весьма полезна для народа. Изолировать преступников, врагов рабочих и крестьян, очень нужно. Нет, я с вами не согласен, надо хоть две строчки написать. К тому же, слышал, у вас здесь подстрекатели к сопротивлению советской власти находятся — митрополит Вениамин, архимандрит Сергий, другие церковники. Очень вредные для общества люди.
— Сидят, — вздохнул Книшенко. — Приговорены они, а значит, понесут заслуженное наказание.
— Расстреляют, получается?
— Факт, расстреляют. Митрополита и ещё троих…
Николай подчеркнуто демонстративно отложил в сторону записную книжку, с располагающей к себе улыбкой, чуть наклонясь в сторону начальника тюрьмы, спросил:
— А как же и где все это… происходит? Простите за вопрос, интересно как репортеру, совсем не для печати…
— Как-как, — было видно, что вопрос пришелся Книшенко не по душе, кого в Кронштадт везут, а кого и здесь, в тюрьме, стреляют. А стреляют просто — отделение солдат в шеренгу выстроят да и дадут команду.
— А Вениамина тоже… повезут в Кронштадт?
— Тоже повезут. Там и закопают. Но а вам на что все это знать? — вдруг насторожился Книшенко и запустил всю пятерню в копну волос, присматриваясь к репортеру.
Их взгляды соединились, и Николай, который уже узнал главное Вениамин здесь, в «Крестах», — тихо заговорил, пристально глядя прямо в узкие и мутноватые глаза Книшенко:
— Простите, я не журналист Касторский из "Новой книги", как это значилось в удостоверении. Моя фамилия Романов. Я владелец семи фотографических ателье в Петрограде, очень известных ателье. Знаете, какой доход они мне приносят?
— Какой же? — завороженный взглядом Николая, спросил Книшенко, тяжело сглотнув.
— Да чуть ли не по семи тысяч червонцами в месяц. А у вас какое жалованье? Не думаю, что больше ста рублей.
— Нет, сто десять, а только зачем вы об этом говорите?
— Я потому о своих доходах говорю, что они могут стать вашими, если вы окажете мне одну услугу.
— Какую же?
Николай немного помедлил. Сейчас он должен был предложить начальнику тюрьмы и коммунисту, ярому защитнику нового строя и врагу контрреволюции, сделку, которая могла стоить Романову жизни. Но он все-таки сказал:
— Нужно сделать так, чтобы Вениамин остался в живых.
Вначале Книшенко, узнав о том, что он битый час рассказывал о своем участии в гражданской напрасно и никакого очерка о нем не будет, очень огорчился, а потом новое чувство стало наполнять его зачерствевшее в боях сердце.
— А-а, подлюка, гадина подколодная, — прошипел он, и улыбка на его простом, крестьянском лице становилась все шире и шире, — так ты, контрик, обманом ко мне пробрался, старого красного командира на арапа взять хотел? Ан, гад, не выйдет, не получится со мной фокус такой!
Николай даже не повел бровью. Пасовать сейчас перед классовой ненавистью Книшенко, пугаться означало признать свое поражение.
— Да успокойтесь вы, успокойтесь, Тарас Никодимыч. Не нужно меня оскорблять. Ну чем же вы сможете доказать, что я вам что-то незаконное, контрреволюционное предлагал? Ничем! Да и если расстреляют меня, то что вам в том будет проку? Так и останетесь на своих ста десяти рублях жалованья, а вы, я знаю, на большее в жизни рассчитывали. Значит, так: я перевожу на ваше имя все свои предприятия под вывеской "Фотография Романовых", а вы, пользуясь моими работниками, только выплачивая им жалованье, стрижете, как говорится, купоны. Можете на подставное лицо мои ателье записать, а можете и открыто стать владельцем, как хотите. От вас же я прошу одного: Вениамин должен жить. Вы сами-то как православный человек рассудите — для чего митрополита убивать? Вы же за это никогда, повторяю, никогда Богом прощены не будете. Иное дело в бою врага зарубить, а тут старца, да и за что?
Книшенко молчал минуты три. Круто раздулись от напряжения его громко сопящие ноздри, по скулам бегали желваки, а кожа на лбу собралась в бугристые складки. Он, все ещё опиравшийся на шашку, то наматывал на руку шелковый темляк, то вновь распускал его. Минута была критической, и Николай не знал, чем закончится внутренняя борьба, кипевшая сейчас под невысоким лбом героя.
— Замену митрополиту найти надо… — наконец изрек он тяжело. Кого-то за него в Кронштадте кокнуть нужно. Вы, че ли, вместо попа пойдете? — и взглянул с усмешливой надеждой.
Мысль яркая, как вспышка молнии, озарила Николая: "А почему бы и не пойти за владыку? Приму этот крест, во имя церкви православной и Спасителя!"
— Да, пойду за него, — тоном решительным, но негромко произнес Романов. — Когда нужно будет занять его место? С родными успею попрощаться?
Бывший кавалерист взглянул теперь на Николая как-то по-особенному, точно желая увидеть, насколько искренен его собеседник, а потом без улыбки сказал:
— Успеешь. До расстрела, как я думаю, чуть меньше месяца. За это время перепишешь на меня все свои фотографии, но чтобы все законно было. Еще принесешь мне свидетельства, что ты большой доход имеешь, а не зубы мне заговариваешь. Потом таким манером дело пойдет: тех, кто под расстрел попал, вожу я в Кронштадт на паровом катере от нашей тюремной пристани, здесь, на Неве. Кого на катер сажаю, проверяют чекисты, а уж потом, мне доверяя, отправляют в Кронштадт, но сами не едут. Вот и нужно так изловчиться, чтобы где-нибудь в заливе ты с лодки своей ко мне на катер перешел, а уж митрополита потом мы в ту лодку и пересадим. Пусть, значит, кто-нибудь на этой лодке будет, чтоб старика к берегу доставить. Тебя же, раз ты такую дорогу для себя избрал, пихну к другим, а как расстреливать будем, так мешок тебе на голову, как и другим, надену. Принимай, значит, смерть, какую захотел, не жалься. Ты ведь тоже, вижу, враг народа, а мне так все равно, кого из врагов на тот свет отправить. Пусть старикашка Вениамин ещё маленько поживет, только ему скажем, чтобы никому свое имя не объявлял и на людях не показывался.
— Я уговорю его, он в монастырь уйдет, не беспокойтесь…
— Вот и ладно. Ну, будя, гражданин репортер. Приходи теперь ко мне, как сладишь документы. Тогда ещё поговорим. А сейчас, прости, надо мне вовнутрь горючего принять. Сильно удивил ты меня предложением чудным своим. Эй, караульный, зайди сюда! — прокричал Книшенко хрипло, и Николай, положив на плечо штатив, взял в руку аппарат и вышел в коридор.
Покуда ехал на автомобиле домой и уже потом, в своей квартире, в кругу семьи, Николай был сумрачен и молчалив. Он все размышлял о том, как же он мог решиться с такою легкостью дать свое согласие на замену митрополита при расстреле самим собой.
"Что за необдуманная поспешность? — с горечью размышлял Романов. Разве я, помазанник Божий, имею право разменивать себя на митрополита? Ну, пусть я благороден, пусть я борюсь с большевиками, как могу, пусть я предан православной церкви, но разве одинокий старик стоит меня, монарха? А мои родные? Ведь я обрек их чуть ли не на голод, потому что пообещал все свое достояние тюремщику. Пусть у Анастасии есть швейная мастерская, но без меня они не смогут совладать с трудностями жизни да и вряд ли узнают о том, что я принес себя в жертву. Нет, я поступил очень опрометчиво. Потом почему же я должен был спасать митрополита, забыв о трех его товарищах? Как я неосторожен!"
Так ходил он в раздумье целую неделю, но оформил между тем дарственную на имя Книшенко, что давало тому право пользоваться доходами от ателье. Справил и свидетельство о своих доходах, принес все эти документы начальнику тюрьмы, показал их, но тут же спрятал, сказав:
— Вы видели, что я не лгал. Теперь дело за вами. Вот номер моего телефона. Известите, когда я должен буду явиться к вам, чтобы договориться о последнем: день, час и примерный район в заливе, где я займу место митрополита, а он получит свободу.
— Не беспокойся, извещу, — сказал Книшенко и прибавил: — А по-нашенски, по-простому, псих ты чокнутый, гражданин Романов. За какого-то попа жизнь свою и все пожитки отдаешь…
И Николай тогда почему-то поверил в справедливость замечания начальника тюрьмы. Выйдя за пределы «Крестов», он сказал сам себе: "Нельзя".
Уже начался август, а Барковский и Штильман все не приходили за своей данью, и Николай начал было думать, что они попались на каком-то темном деле или их выследили политические противники. Но соратники Царицы Вари явились совершенно неожиданно в сопровождении все тех же громил в ателье на Невском, напомаженные бриолином, щегольски одетые, с тросточками в руках и с толстыми сигарами во рту. Закусив сигару своими лошадиными зубами, Штильман, шепелявя, спросил:
— Надо полагать, у нас дела идут отлично… — и прибавил: — ваше величество.
— Не совсем, — признался честно Николай, у которого не было свободных денег, чтобы дать выкуп вымогателям, — пришлось отдать немало за аренду помещений, на покупку новых материалов. — Рассчитаюсь с вами лишь через неделю.
— Как так? — удивился курносый Барковский, двигая своей мощной челюстью. — Мы и так вам дали время, больше месяца прошло!
Николай внезапно раздражился — какой-то хам смел помыкать им, командовать, не признавая его доводов.
— Раньше не получится, сказал же вам!
И тут случилось невероятное — Штильман и Барковский разом приблизились к нему и вдруг схватили Николая за оба уха, да так больно, что он вскрикнул:
— Что вы делаете? Отпустите! Сейчас же отпустите! Хамы, негодяи! Я не позволю!
— Позволишь, ещё как позволишь! — пыхая вонючим дымом сигары, говорил Штильман. — И знай, что мы не хамы теперь, не негодяи. Ты, Николаша, эти словечки теперь забудь, не то время, не для того мы революцию делали, чтобы какой-то полунемчик, называвшийся когда-то русским царьком, нас оскорблял. Помни, что не царь ты, не царь, а говно, говно, говно!
И, весь дрожа от наслаждения, получаемого от возможности мучить человека, который ещё недавно повелевал шестой частью суши, Штильман продолжал крутить ухо Николая, кусавшего себе губы от боли. И вдруг помрачневшее от боли и унижения сознание Романова озарилось надеждой навсегда расправиться с нестерпимым для самолюбия и чести положением быть зависимым от этих грязных людей.
— Постойте! — почти прокричал Николай. — Я согласен, не надо больше…
— Ну вот, наш повелитель исправился, стал паинькой, — сказал Штильман, отпуская ухо и вытирая пальцы о полу пиджака. — Ну, мы ждем с величайшим нетерпением и вожделением.
И он протянул руку ладонью вверх.
— Нет, подождите, — морщась и потирая уши, сказал Николай. — Я в этом месяце готов вам дать даже больше, но у меня нет на самом деле наличных денег. Я предложу вам одну прекрасную вещь, она стоит тысяч семь, не меньше, а возможно, все десять.
— Интересно, — пожевал Штильман свою сигару, — что же это? Бриллиант?
— Нет, яхта. Прекрасная, моторная. Я купил её весной, но сейчас она в ремонте. Закончат его через неделю, и я готов вам буду передать документы на право владеть этим судном.
Штильман поиграл бровями, словно раздумывая над предложением, и, обращаясь к Барковскому, спросил:
— Фима, ты когда-нибудь владел яхтой?
— Нет, не доводилось.
— Ну так доведется. Мы согласны. Когда зайти, чтобы посмотреть на нее?
— Укажите адрес, по которому я бы смог вас разыскать, — ответил Николай, немного поразмышляв.
Штильман улыбнулся, не вынимая изо рта сигары, и вынул из бумажника визитную карточку.
Николай, как и его великий предок Петр Первый, обожал морские прогулки, но теперь у него не было не только «Штандарта», но даже маленькой спортивной яхты, с парусами которой он сумел бы управиться и спустя столько лет после того, как оставил когда-то любимое занятие. Сейчас же, если удавалось разыскать свободный час, он шел к гавани Васильевского острова, к его протокам, где возобновил работу яхт-клуб, приглашавший всех желающих стать его членами. И даже в это полуголодное время он видел молодых мужчин и юношей в легкой спортивной одежде, которые с радостными улыбками, предвкушая удовольствие, проходили на территорию клуба. И Николаю хотелось пройти туда, но что-то удерживало его от этого шага, точно он не мог себе позволить, чтобы его напарником по плаванию на яхте стал какой-нибудь токарь или сапожник. Он лишь с завистью смотрел, выходя на взморье, как скользят по серой глади залива белые треугольники парусов, точь-в-точь как тогда, когда он ещё был царем, и ему казалось, что ничего не произошло, революция — это мираж, не было гражданской войны, а он все ещё носит корону.
— Послушайте, товарищ, — обратился Николай к обнаженному по пояс крепышу, подкрашивавшему выбоину на борту яхты, стоявшей у причала клуба, а не продаются ли здесь яхты?
Парень, поднявший на Николая насмешливые глаза, ответил:
— Да кто же вам клубную собственность продаст? Не туда обратились. А впрочем, здесь один судовладелец место у причала арендует, он вроде продает. Там, в конце причала. Кажется, «Олень» её название. Сходите…
Несколько обескураженный тем, что обобществленный парусный флот не дает ему возможности выполнить задуманное, Николай пошел туда, куда направил его яхтсмен, не надеясь, что застанет судовладельца. Когда он разыскал яхту под названием «Олень», то увидел вместительное суденышко с каютой приличного размера. Красивые обводы спортивной яхты порадовали глаз Николая, знавшего толк в парусниках. "Она бы подошла…" — с тоской подумал он и крикнул:
— Эй, на «Олене», есть кто-нибудь?
Никто не отозвался, и Николай, теряя надежду, крикнул снова, и тотчас чей-то сонный голос раздался из каюты:
— Ну чего тебе? Че разорался? И ходят, и шлындают тут всякие, спать не дают…
— Мне бы хозяина! На предмет покупки яхты!
— А, ну так бы и говорили, иду, иду! — изменился тон проснувшегося человека, и он мигом появился на палубе, точно черт из табакерки. — Вот, по трапику ко мне сюда идите, не споткнитесь, вот, еще. Ну и добро. Вам здрасте! — протянул он руку. — Корабль мой продается, а вы, я вижу, купить хотите? — заглядывал в глаза Николаю владелец яхты, и он тут же понял, что этот человек давно уже ищет покупателя и можно будет поторговаться.
Хозяин долго водил его по яхте, подробно и нудно рассказывал, из какого дерева она сделана, какой у неё киль, в каком состоянии борта, как оказалось, совсем нетронутые жучком, какой мотор (чуть-чуть подремонтировать, и будет работать как зверь), показал паруса, фалы, леера из самой отличной пеньки, и Николай внимательно слушал судовладельца, обратив особое внимание на двигатель и на состояние парусов, рассмотрев их парусину и качество швов.
— А зачем же продаете «Оленя», если так хвалите его?
Мужчина обреченно махнул рукой:
— Беда! Без работы я остался. Жена все пилит: денег дай мне, денег, а где я их возьму? Даже спать сюда хожу, чтобы не донимала. Да сдуру я её купил, правда по дешевке, у одного буржуя, драпавшего из России. Покатался малость — люблю, — но теперь продать придется. Я не много попрошу, две тысячи всего… новыми.
Николай, понимавший, что «Олень» стоит гораздо больше, достал бумажник, отсчитал червонцы, протянул их судовладельцу:
— Здесь три тысячи. Собирайтесь. Сейчас же к нотариусу пойдем и оформим купчую на яхту. Билет судовладельца не забудьте и, конечно, паспорт…
Перво-наперво велел шоферу-чухонцу перебрать мотор, что тот и сделал за день, и запустил его. Но мотора было мало. "Вдруг заглохнет в нужную минуту, что будем делать? Нужны ещё и паруса, а одному мне с парусами не справиться — потерял я-таки сноровку, уже не молод. Нужен ещё один помощник. Кто? Яхтсмена какого-нибудь попросить? Нет, он на такое дело не пойдет. Нужен верный человек. Ах, был бы Томашевский…" — И боль острого стыда за убийство молодого человека пронзила Николая.
Скоро Книшенко сообщил ему день и час, когда в водах Финского залива появится катер с красным флагом на флагштоке, в тесной каюте которого поплывут к своему последнему пристанищу митрополит и его соратники. В тот же день Николай известил Штильмана о том, что яхту можно будет посмотреть тогда-то, там-то и предложил приехать вчетвером, как и обычно, чтобы не было опаски, что готовится конфуз или западня. Сложнее было уговорить Лузгина…
— Право, господин Штильман, я бы и сам никогда не распрощался с «Оленем», если бы не финансовые затруднения, — живо и беззаботно говорил Николай, когда все такие же по-нэпмановски самоуверенные и пижонистые Штильман и Барковский в сопровождении своих телохранителей ступили на палубу яхты.
— Мы видим, все сами видим и понимаем, — говорил Штильман с неизменной сигарой во рту. — Проведите же нас по этому судну. Нам нужно убедиться в том, что вы предлагаете нам не какое-то корыто, а настоящую яхту!
— Конечно, пусть все пройдут, все, — говорил Николай, — чем больше людей войдет в каюту, тем вы скорее убедитесь в том, сколь она просторна, комфортабельна. Уверяю вас, яхта сделана в Швеции самыми известными мастерами. Вот трап, не споткнитесь, три ступеньки вниз…
Когда четверо ненавистных людей оказались в каюте, где посредине стоял изящный стол, привинченный к полу, располагались удобные диваны, штоф которых ещё не выцвел, Штильман восхищенно ахнул, развел руками и сказал:
— Ах, товарищ Романов, вы и после революции, после своего свержения все ещё играете в царя!
— А я и есть царь! — прокричал Николай, стоящий за спиной Штильмана, и свалил его на пол, ударив по затылку рукоятью выхваченного из кармана браунинга, затем приставил его ствол к уху Андрюхи.
И сию минуту распахнутая дверь, что вела в переднее отделение каюты, впустила в помещение Тойво и Лузгина, и стволы их пистолетов, наведенные на Барковского и другого бандита, мигом сообщили им, что их положение незавидно.
— Выньте оружие из карманов этой сволочи, — очень спокойно, будто и не прыгало его сердце ещё минут пять назад, как гуттаперчевый мячик, приказал Николай, и Лузгин проделал то, что ему приказал император, ловко и быстро.
А через минуту мотор яхты затарахтел, закашлял, синий дым застлался над водой, взбаламученной и кипящей под мощным винтом «Оленя», и яхта, повинуясь ему, дрогнула и отделилась от причала, беря курс на взморье. Когда миновали гавань и оказались в открытой воде, Николай при помощи Тойво поднял паруса, а Лузгин, держа в обеих руках по пистолету, принуждал к спокойствию четверых мужчин, что лежали ничком на полу каюты, так понравившейся им.
Мотор заглушили близ фарватера, километрах в пяти от Васильевского острова. Паруса трепыхались и хлопали, точно крылья подраненной птицы. Но ждать пришлось недолго. Катер с красным флагом держал курс прямо на Кронштадт, все быстрее приближаясь к «Оленю». Этот страшный, серого цвета катер, сопровождаемый шлейфом черного дыма, валившего из его высокой трубы, покачиваясь, подошел к «Оленю», и Николай, стоявший на качающейся палубе, увидел Книшенко, издалека напоминавшего черта. Начальник тюрьмы, облокотившись на фальшборт, смотрел и не на яхту, а куда-то в серую муть залива.
Пришвартовались борт к борту, и на катер взошли один за другим Штильман, Барковский и два их холопа.
— Вот — всех на всех, — сказал Николай Книшенко, когда оказался рядом с ним на катере. — А это — документы на мое имущество.
Книшенко, провожая взглядом четверых, которым Лузгин, идущий следом, приказал держать руки на затылке, усмехнулся и сказал:
— А ты, Романов, оказывается, не такой уж и псих, как я думал. Лады, оприходуем твоих рябчиков.
Через две минуты откуда-то из недр катера появились четверо бородатых, облаченных в арестантские робы людей.
— Куда нас ведут? — спросил тот, кто был постарше, глухим старческим голосом.
— На свободу, — шепнул ему Николай. — Спускайтесь на палубу яхты.
И сам помог отцу Вениамину спуститься, и скоро канаты, что связывали оба судна, уже не соединяли их, плавучая тюрьма с четырьмя смертниками, ещё не подозревающими о своем конце, окутав ненадолго яхту своим черным дымом и издав зачем-то протяжный гудок, проплыла в сторону Кронштадта, а Николай спустился в каюту яхты, где на диване в ряд сидели спасенные от казни люди.
Романов опустился перед владыкой на колени и с жаром поцеловал его узкую, сухую руку:
— Владыко, вы и ваши товарищи свободны. Не спрашивайте о том, кто вас спас. Скорее всего, Бог, который и меня когда-то не отдал на заклание вместе со всей семьей. Здесь, в каюте, вы найдете одежду, а потом мы решим, где вас высадить и куда сопроводить. Я вручу вам и паспорта, выписанные на другие имена. Мне лично кажется, что вам лучше было бы укрыться в каком-нибудь из монастырей, ещё не закрытых большевиками.
Отец Вениамин, тихо и пристально смотревший на Николая, сказал:
— Сыне, бывший правитель Руси, видно, ты, потерявший свой царственный жезл, ищешь утешения в том, чтобы и я потерял свой, святительский?
Николай, ошеломленный прозрением митрополита, промолвил наконец:
— Сохранив головы, обретем, владыко, потом и власть нашу прежнюю. Я в этом твердо уверен.
Отец Вениамин, обняв все ещё стоявшего на коленях Николая, поцеловал его.
***
Государь узнал об объявлении Германией войны, когда находился с семьей в Петергофе, узнал по телефону. Спустился в столовую к своим очень бледный и дрожащим голосом объявил, что немцами развязана война. Заплакала императрица, а вслед за ней и великие княжны. На яхте с членами фамилии незамедлительно прибыл из Петергофа в Петербург, у Николаевского моста пересел в катер, подъехал к набережной у Зимнего дворца. Здесь его уже встречал народ, с криками «ура». Когда шел от набережной к Иорданскому подъезду дворца, люди встали на колени и пели гимн. Сейчас, в предчувствии страшных событий, людям был нужен тот, кто один взял бы на себя тяжкую обязанность решить, что делать дальше.
Николай вошел в запруженный сановниками Николаевский зал дворца, и начался молебен, после чего император обратился к подданным, благословляя всех на ратный труд. Потом он вместе с Александрой Федоровной вышел на балкон, чтобы показаться народу, и толпа собравшихся на площади петербуржцев захлебнулась ликованием, приветствуя царя. Опустились на колени, склонили полотнища трехцветных знамен, запели гимн. И поклоны царя и царицы собравшимся людям сообщили об императорской признательности и о том, что теперь, в начале кровавой страды, каждый живет лишь единым чувством…
Он понял наконец, что нужен народу, и поездка со всей семьей в Москву в августе 1914 года вторично подтвердила, что настал его час и именно теперь он должен стать для России знаменем, символом всеобщего единения и надежды.
В Москве его встречали люди, заполнившие не только тротуары, но и крыши домов, люди, висевшие на деревьях, фонарях, лишь бы только увидеть своего государя. Звонили колокола всех церквей. Красная площадь, на которую вышел царь с семьей (Алешу, у которого сильно болела нога, несли на руках), была запружена народом. Николай был просто потрясен. Он увидел то, что давно стремился увидеть, — насколько он необходим стране. И Николай решил, что никогда не обманет ожидания своего народа.
Неуловимая, но прочувствованная тогда связь с подданными придала ему силы и уверенности в том, что войну с немцами можно закончить лишь победой. Прежде он не испытывал уверенности, вынося решения по разным государственным вопросам, — все это требовало специальных знаний. Теперь же сомнений быть не могло, ведь нужно было спасать Россию. Однако воодушевление народа, патриотический экстаз исчезли, как только русских стали убивать и калечить сотнями тысяч, миллионами, а русская деревня хирела без работников, город стал голодать, а император все не мог забыть того, как он был любим народом в августе четырнадцатого…
Ступень двадцатая ЛЮБОВЬ ВЕЛИКИХ КНЯЖОН
Каждый вечер Ольга Николаевна выходила из своей квартиры и шла по Первой линии к дому Клифуса, где работал кинематограф "Пале Рояль", заведение средней руки, — ставший для уже двадцативосьмилетней девушки вторым домом. Немые ленты, герои которых беззвучно пытались вовлечь зрителей в круговерть своих страстей, становились ещё более впечатляющими и страстными в сочетании с музыкой, рождавшейся из-под пальцев девушки, сумевшей запрятать глубоко вовнутрь своего сердца собственные страдания, невысказанные мечты о замужестве, семье, материнстве. Ольга спешила в "Пале Рояль" именно потому, что происходившее на экране при помощи её музыки делалось куда более живым, но вся эта киножизнь становилась и её жизнью тоже: она была наполовину её творцом, и этот искусственный мир позволял великой княжне забыть свое женское одиночество. А когда фильм кончался и мужчины, бывшие в зале, расходились, так и не поняв по своей простоте, по причине грубости характеров, что аккомпаниаторша, эта красивая, строгая девушка, наполняла зрелище кинематографического действа своими чувствами, Ольга возвращалась домой какая-то опустошенная и молчаливая, потому что знала — именно семья содержит в себе причину её одиночества. Она, дочь бывшего императора России, будто проклята кем-то и обречена из-за своего необыкновенного происхождения быть неприступной, как каменная крепость, сложенная из гранитных глыб, стоящая на высокой скале. Дочери Николая не могли забыть того, что случилось с Машей и её возлюбленным.
Зрители выходили из зала, оживленно переговариваясь, смеясь, на ходу застегивая шубы и пальто, закуривая. Непременно кто-нибудь заигрывал с Олей, запиравшей рояль, надевавшей короткую кроличью шубку, но девушка, по давно определенному для самой себя правилу, не отвечала даже легким движением лица, сохраняя полную непроницаемость. Она боялась взглянуть на этих мужчин, потому что заранее знала, что никто из них, каким бы красавцем и умником ни был, не сможет стать не то что её суженым, но даже временным другом.
Тот мужчина тоже вырос перед Ольгой, когда она, как обычно, закрывала рояль. Он стоял в метре от нее, и девушка вначале увидела его блестящие сапоги, сильно скрипевшие, потому что их обладатель зачем-то поднимался и опускался на цыпочках — скорее всего, потому, что, наверно, ему самому доставлял огромное удовольствие этот скрип. Ольга подняла глаза — перед ней стоял статный мужчина лет тридцати пяти в военной форме, фасонисто облегавшей его ладную фигуру, весь перетянутый ремнями снаряжения, с блестящей револьверной кобурой. Фуражка с лакированным козырьком надвинута на глубоко посаженные, сверлящие взглядом глаза, большие пальцы рук — за широким поясным ремнем, а поэтому он выглядел молодцевато, смотрел смело и совсем не боялся её показной строгости, а за спиной его — двое молоденьких военных, наверное, адъютанты, красивые и наглые.
— Хорошо играете… — сказал он, медленно и важно извлекая из широченных галифе нарядный портсигар.
— Серьезно? — небрежно спросила Ольга. — Мне это очень приятно слышать. — Она глянула на военного чуть искоса, потому что весь его облик, табачный запах, исходящий от его одежды, голос, густой, уверенный, притягивал все её естество, не желающее вдаваться в особенности, мелочи, в звания и чины. Десять лет назад, в тринадцатом году, она уже забыла, кем является её отец, и флотский лейтенант был первым, кому старшая великая княжна пообещала многое. Теперь же перед ней стоял мужчина, очень походивший на её первого избранника, но только его плечи не были украшены погонами.
— Я, простите, первый раз в "Пале Рояле", — проводя рукой по пышным усам, говорил военный, — но скажу вам определенно — если бы здесь не было вашей музыки, то хоть бегом беги из зала. Украсили картину, честное слово…
— А вы что же, так музыку глубоко понимаете?
— Не знаю, как уж глубоко, но говорю вам со всей определенностью: убежал бы после десяти минут просмотра — факт, — и зачем-то вынул из нагрудного кармана увесистые часы с цепочкой.
Никто из мужчин, кто пытался после сеанса проводить её, заговорить со строгой, надменной девушкой, не говорил Ольге, что её игра прекрасна, но теперь свершилось — в ней угадали ту, которая играла, вкладывая всю себя, раскрывалась в музыке, в то же время опасаясь, что кто-нибудь почувствует, увидит её сердечную наготу, станет глумиться над ней.
— А вы что же, офицер? — спросила она.
— Не офицер, а красный командир. Вы что же, в знаках отличия не разбираетесь? — спросил и щелкнул ногтем по петлице, на которой красовались четыре ромба.
— Увы.
— Я — командир дивизии, комдив, короче, — сказал мужчина, видно, очень довольный самим собой.
Ольга только малой частичкой своего сознания откликнулась на это сообщение: "Красный командир, наверно, большевик, воевал против Деникина, Юденича…" Но тут же большая часть её природы отозвалась приятием: "Так молод, а уже командует дивизией. Сразу видно, смелый, умный…"
— Вы что же, барышня, не замужем? — и посмотрел с надеждой, закручивая кончик уса.
— Нет, этими заботами ещё не успела обременить себя, — засовывая руки в муфту, уже на улице сказала Ольга и тут спросила, удивляясь собственной смелости: — А вы… женаты?
— Холост. Впрочем, когда-то был женат, давно…
Они помолчали. Он, только что вернувшийся в Петроград, где когда-то был рабочим, с нервами, измотанными непрестанными боями, водкой, расстрелами врагов, дурацкими приказами начальства, грязным развратом в отбитых у белых деревнях, предательством друзей и многих походных жен, видел в Ольге едва ли не икону, образ чистоты и непорочности, чувствуя своим мужским чутьем в этой не юной девушке совершенную невинность.
— Эй, Мишка, мотор подавай! — прокричал он вдруг по-кавалерийски громко и звонко, догадываясь, что появление его служебного автомобиля моментально решит вопрос о том, куда направляться этой неприступной красавице. — Крылья, лоботряс, отмыть успел?
— Да все в порядке, товарищ комдив, не беспокойтесь! Уж мы когда вас подводили? — прокричали откуда-то со стороны, и через несколько секунд черный «паккард», слепя яркими фарами все ещё стоящую рядом со входом в "Пале Рояль" Ольгу Николаевну, брызнув на её лаковые полусапожки полурастаявшей снежной жижей, затормозил рядом с ними.
Красный командир, очень довольный тем, как лихо был подан транспорт, и считая, что путь к сердцу прелестной музыкантши проторен, распахивая дверцу машины, спросил:
— Ну так что вам больше по душе: «Гранд-Отель» или «Англетер»? И там и там кормят вкусно. Так куда же?
— В «Гранд-Отель» я, пожалуй, поехать соглашусь, — сказала Ольга, ещё раз взглянув на мужчину, теперь уже откровенно оценивающе, и, удовлетворившись результатами мгновенного анализа, ловко юркнула в салон «паккарда», чуть приподняв юбку над затянутым в матово блеснувший шелк коленом.
Они сидели в ресторане дорогой гостиницы долго, часа три. Под перезвон гитарных струн и бряцанье тамбуринов задыхался песенной страстью цыганский хор, стол ломился от изысканных блюд, большая часть которых никогда прежде была неизвестна красному командиру, заказавшему их. Сам Григорий Иванович Подбережный много пил коньяка и водки, громким щелканьем пальцев подзывал «человека», делал все новые заказы, стремясь, должно быть, ошеломить "скромненькую музыкантшу" барским размахом, бессвязно, но горячо повествовал внимательно слушавшей девушке перипетии своей боевой жизни, нещадно ругал судьбу, но превозносил себя, сумевшего оседлать фортуну и выйти из схватки с жизнью победителем, потом совершенно неожиданно для Ольги с блестящими от слез глазами, покрывая поцелуями её покорную руку, заговорил о своей любви к ней, и девушка чувствовала, что этот сильный, но какой-то надломленный внутри человек говорит ей правду. Он на самом деле никогда прежде не видел девушку, такую скромную и властную одновременно, такую чистую и такую привлекательную именно своим рвущимся к мужчине женским началом. Нет, он говорил не так гладко — сумбурно и путано, не умея выразить своих чувств. Но Ольга все поняла. Конечно, этот Подбережный лишь очень отдаленно напоминал ей лейтенанта флота Павла Воронова, аристократа и умницу, но Ольга будто через мелкое сито пропускала в свое сознание только то, что казалось ей в этом человеке приятным, а все грубое, корявое, что было в Подбережном, оставалось где-то за пределами её восприятия.
Она пленила его воображение. Таких женщин он не видел. В Григории же Ивановиче Ольга полюбила просто мужчину, сильного и храброго. Ольге-женщине, никогда ещё не оказывавшейся с мужчинами в такой обстановке, и этого было вполне довольно. К тому же Подбережный как-никак был командиром, а не какой-то мелкой сошкой. Он рассказывал, что скоро будет поставлен над целой армией, потому что заканчивает Академию Главного штаба, его переведут куда-то под Москву, а возможно, в саму Москву. А когда захмелевший комдив, щелкая каблуками своих начищенных сапог, предложил Ольге Александровне проехать в его новую квартиру, девушка безо всякого кокетства согласилась. И там она спокойно, будто все движения обдумала давно, проиграла их в театре своих чувств, сбросила одежду, нагой подошла к ошеломленному, взъерошенному комдиву, испугавшемуся этой смелой простоты и стоявшему с вытянутыми по швам руками, и сказала:
— Я ваша, мой храбрый Мальбрук…
И, потянувшись своим прекрасным, уже жадным до любви телом, она прильнула к его грубой форме, скрипящей ремнями, и губы Ольги прижались к мелко дрожавшим губам Григория Ивановича, опушенным ароматными нафиксатуаренными усами. И то, что должно было стать наградой какому-нибудь принцу или даже властелину государства, то, что береглось так тщательно и долго, досталось бывшему питерскому слесарю, мужеством своим снискавшему славу на полях войны, воюя бок о бок с теми, кого так ненавидел её отец.
Она вернулась домой в час ночи. Подбережный, очень гордый своей победой, но усталый и нежный, поцеловал Ольгу у самых дверей квартиры Романовых, и они договорились встретиться снова.
— Ну и ну! — только и сказала Александра Федоровна, высунувшая в коридор голову и с горячим осуждением покачав ею, а довольная Ольга, не снимая шубки, прошла в их с Татьяной комнату и бухнулась на кровать, закидывая за голову руки.
— Ах, Таня, Таня, молчи, не спрашивай пока ничего, — шептала она, замечая, что Татьяна приподнялась на постели и вопросительно смотрит на нее. А скоро в темную комнату проскользнули, обе в длинных ночных сорочках, Маша и Анастасия.
— Оленька, да где же ты была? — защебетала младшая Романова, присаживаясь к ней на постель. — Мама и папа чуть с ума не посходили от беспокойства. От тебя пахнет вином и табаком. Ой, да от тебя же мужчиной пахнет! — с испугом и радостью вскрикнула прозревшая Анастасия. — Ты была… с мужчиной?
— Да, да, дорогие мои! С мужчиной, — восторженно шептала Ольга, не переставая улыбаться, и девушки даже в темноте ощущали счастливую улыбку своей сестры. — Ах, это все так прекрасно было!
— Да что же… было? — вцепилась Анастасия в руку Ольги, нетерпеливо тормоша её. — Это… было? Да?
— Да, да, да, все было! Я уже совсем другая, девочки мои! Как же я многого не понимала раньше! Я раньше не жила!
— Но ты, наверно, скажешь нам, кто же этот твой избранник? — почти холодно и даже строго спросила Татьяна, в душе завидовавшая своей сестре.
— Скажу, почему бы не сказать. Его зовут Григорий Подбережный, и он всего-то ненамного меня старше. Он красивый, очень сильный, у него такие вот усы! — и Ольга большим пальцем руки провела вправо и влево над верхней губой воображаемые стрелки усов. — Мы с ним были в ресторане, в «Гранд-Отеле». Ах, как здорово пели там цыгане, а потом, потом он на своем «моторе» повез меня к себе домой, а там, а там… Ну, в общем, сегодня нет счастливее меня!
Маша, давно пережившая счастье любви, но потерявшая его, а потому неспособная проникнуться чувством, переполнявшим сестру, спросила:
— Но кто этот… обладатель усов и автомобиля? Какой-нибудь промышленник, купец из новых?
— Фи, Маша, — изобразила Ольга на своем лице гримаску презрения. Какой там купец? Подбережный — красный командир! Он командует целой дивизией, а скоро ему доверят целую армию и переведут служить в Москву. Он же в Академии учится!
Ольга вначале не поняла, почему в комнате повисла тяжкая тишина, но вот заговорила Татьяна:
— Да, ты опозорила всех нас, опозорила! Ты осрамила нашу честь, наш родовой герб, отдавшись какому-то большевику, пролившему, надо думать, столько крови настоящих защитников России, что ему никогда от неё не отмыться! Когда-то папа вызвал на дуэль Кирилла Николаича, белого офицера, нашего благодетеля и застрелил его! А ты можешь теперь представить, как отнесутся он и мама к тому, что ты стала любовницей не просто кухаркиного сына, но и врага России, коммуниста?
Нет, Ольга никогда не была глупышкой и могла предвидеть, что её роман с красным комдивом вызовет у её отца раздражение и даже гнев, но теперь, когда ей дали испытать, изведать настоящее счастье, его нужно было отстаивать, невзирая ни на какие препятствия.
— А мне все равно, как отнесутся к моей любви папаi и мамаi! — сказала она тоном, не терпящим возражений, и выпрямляясь на постели. — Пусть только попробуют мне что-нибудь сказать! Мне двадцать восемь лет, и я полюбила красивого мужчину, который тоже любит меня, а большевик он или нет безразлично! Наш папенька теперь, когда лишился всех своих ателье, работает простым фотографом у нового хозяина, снимает тех, кого сам называет сволочью, кого презирает, а потом ещё надеется — все ещё надеется, ха-ха, что снова станет императором! Ну, предположим, что Всевышний каким-то чудом вернет ему корону лет через десять, а нам, что ли, тоже десять лет дожидаться? Мне тогда уже тридцать восемь будет! Все, я больше не хочу быть великой княжной! Я хочу быть только женщиной и матерью!
Анастасия захлопала в ладоши и, порывисто обняв Ольгу, несколько раз звонко поцеловала её.
— Ах, Олюшка, ты такая умница! Я тоже стремлюсь выйти замуж, но ко мне пока никто не подходит. А ты, ты такая смелая, решительная! Я тоже хочу стать похожей на тебя. Ну зачем нам вспоминать наше прошлое? Теперь его не вернешь. Да и что хорошего там было? Уверена, что папенька обязательно просватал бы тебя за какого-нибудь урода, вроде того румынского наследного принца. Помнишь?
Анастасия хотела ещё что-то сказать, но Татьяна прервала её громко и властно:
— Да замолчи ты! Несешь такую чушь, язык, что помело! Тебе же, Оля, я вот что скажу: если ты не откажешься от своего… любовника с усами, то ты мне больше не сестра. С большевистской женой я общаться не желаю! — И, уже обращаясь к Маше, сказала: — Тебя же, Машенька, я попрошу с этой ночи спать в моей комнате. Я же перейду в твою… здесь махоркой и ваксой пахнет!
И, взяв в охапку свои подушки, Татьяна гордой поступью, шурша накрахмаленной сорочкой, ушла из спальни.
Нет, умная, умеющая разбираться в самой себе Татьяна сумела дать честный ответ, когда задала мысленно такой вопрос: "Осуждаю ли я как женщина свою сестру? Чего во мне больше: великой княжны или женщины?" И Татьяна была вынуждена признаться в том, что обвиняла Ольгу именно женщина, завидовавшая встрече сестры с мужчиной, но пытавшаяся маскировать свою ревность соображениями династического, родового свойства.
"Да нет, зачем я ругаю саму себя? — говорил, однако, Тане другой внутренний голос. — Лично меня на вожжах к какому-нибудь большевику в постель не затащишь. Лучше всю жизнь быть одной, видеть в себе до смерти великую княжну, чем стать женой какого-нибудь хама в кожаных штанах с лампасами. У-у, как я ненавижу всех этих коммунистов — мужики или местечковые евреи!"
Она ходила в библиотеку, что размещалась на углу Большого и Первой линии, рядом с лютеранской церковью Святой Екатерины, и работа по разбору книжных залежей, которой, казалось, не было видно ни конца ни края, доставляла Тане и муку, и радость попеременно: приходится сидеть одной в огромном зале с высокими шкафами, подниматься к полкам по ступенькам шаткой стремянки, но здесь, в уединении, Таня находила время для чтения, и вымышленный мир все больше и больше заполнял в её душе пустоты, возникшие от ощущения житейской неполноты. Девушка даже не выходила в зал к читателям, которых считала стоящими на куда более низкой ступни в происхождении своем, моральных качествах и прочем.
Но однажды заведующая библиотекой, пожилая седовласая интеллигентка, любившая всех читателей без разбору уже потому, что они тянулись к книгам, заметила Тане, доверительно кладя руку на её плечо:
— Милочка, ну что же вы все одна да одна? Вы уж меня, Татьяна Николаевна, покорно извините, но если в этой скорлупе сидеть, то замуж будет просто невозможно выйти. Я вот давно присматриваюсь к вам, и мне кажется, вы очень… влюблены в себя. Что же, Петроград на самом деле стал другим — он огрубел, заполнен деревенской массой, но очаги былой культуры все же сохранились. Я уже говорила о вас в одном салоне — там все помешаны на символистах и прочих новомодных течениях. Сходите, послушайте, скажите им эдак что-нибудь по-французски из Бодлера или Верлена. Там много приличной молодежи, даже кое-кто из столпов нынешней власти заходит, женщина подняла вверх и глаза, и указательный палец. — Уверена, что вам там понравится. Ну что, дать вам адрес? Именно сегодня у них встречаются…
И Татьяна Николаевна, немного подумав, согласилась.
Вечером, быстро приодевшись, опрыскав себя духами, напомадив губки, Таня выпорхнула из квартиры, на трамвае перебралась на другой берег Невы, где на шикарной, аристократической улице Гоголя разыскала нужный дом. Лестница — чиста, ухожена, электрический свет, лифтер рядом с пылающим внизу камином. Поднялась и позвонила. Шум оживленной беседы, хохот, звон бокалов вырвались на лестницу, едва открыли дверь. Хозяева салона, муж и жена, по-артистически небрежно одетые, какие-то взлохмаченные, немного пьяные, с папиросами в руках, ввели Татьяну Николаевну в гостиную, где в небрежных позах в креслах и на диванах располагались завсегдатаи, принявшие Татьяну с обворожительной галантностью. Усадив её в кресло, тут же налили в поданный бокал шампанское, а хозяин, наклоняясь к её уху, промолвил:
— Отдыхайте. Сегодня о Брюсове поговорить все собрались. Впрочем, можете и не слушать — такую дичь несут. Эстеты! Выпороть бы их всех хорошенько, символистов этих, а после всунуть им в руки по тому Пушкина или Тютчева, в конце концов.
Он ещё раз поцеловал руку ошарашенной таким приемом Татьяны и больше ей не досаждал, а девушка, никогда прежде не бывавшая на подобного рода вечерах, с жадностью слушала буквально всех, кто брал слово.
— И не говорите, пожалуйста, что «Венок» заслуживает тех похвал, которыми наградила критика эту книжку после её выхода в девятьсот пятом году, — говорила небрежно сидевшая женщина, — экстравагантный вид её подчеркивался синими в обтяжку трико, короткой юбкой Коломбины и широкополой шляпой с петушиным пером. — Стихи вялые, в них ещё нет той изящной силы и художественной непринужденности, как в "Зеркале теней".
— Ах, оставьте, Иродиада, — возражала ей словами и взмахом руки курившая женщина с очень короткой, какой-то детской стрижкой. — "Семь цветов радуги" Валерия Яковлевича — куда более вялые, материально-топорные, по-домашнему бытовые и скучные, как русские щи, но вы же не ругаете этот сборник?
— Ну, я понял теперь, Ника Карповна, что вы не русская, раз вам не по нраву кислые щи. То-то мне всегда казалось, что вы напоминаете какую-то древнегреческую римлянку. Неспроста от вас всегда пахнет оливками и аркадским вином, — говорил, пошатываясь, краснолицый мужчина.
— Откуда вам знать, как пахнет аркадское вино, коль вы дальше Ялты не ездили? — с холодным вызовом бросила Ника Карповна, и все смеялись, беззаботно и совершенно по-ребячески, чтобы через минуту вновь приняться за обсуждение поэзии Брюсова, читать его вирши протяжно, с подвыванием и при этом трясти волосами и выбрасывать вперед руку, сжатую в кулак.
Татьяна была ошеломлена. Она и не подозревала, что в Петрограде, в большевистском Петрограде, все ещё плохо накормленном, необогретом, с массой безработного люда, с бандитствующими шайками, могут быть такие оазисы культуры, старого быта и манер. Нет, она до революции не общалась с такими людьми, хотя знала, что в столице их немало, но теперь они казались ей жителями фантастической страны, а жить среди них, в их обособленном государстве, представлялось для девушки величайшим счастьем.
Наконец дошла очередь и до неё самой — кто-то осторожно подал мысль, что не худо было бы послушать мнение новых членов их литературного кружка, и Татьяна, нисколько не смущаясь, просто, но уверенно высказала свое мнение, потому что знала и любила этого поэта. Непринужденная манера, с которой говорила Таня, благородство, видевшееся в каждом её жесте и слове, всем понравились, а девушка была предельно довольна, что её слушали внимательно, признали равной себе.
— Приходите к нам по средам, Татьяна Николаевна. Мы вас полюбили… целовал хозяин руки Тане, когда на лестнице, выйдя проводить гостей, прощался с парящей над землей, счастливой девушкой.
— Придет, придет, не беспокойтесь, Каратыгин! — услышала Татьяна чей-то уверенный голос. — А сейчас надо бы помочь милой барышне до дому добраться.
— Ну, уж вы доставите, не бросите дорогой, коль у вас «мотор»! кудахтал хозяин, смотря сверху вниз на то, как очаровательная новая посетительница его салона спускалась по лестнице в сопровождении одного из самых важных гостей. А мужчина, шедший рядом с Таней по широкой лестнице, натягивая на руки дорогие перчатки на меху, хлопал ладонью о ладонь и говорил:
— Поверьте, на этих вечерах я ещё ни разу не видел более обаятельной и тонкой ценительницы поэзии. Мне кажется, сама Сафо явилась к нам, и уж счастлив будет тот из мужчин, кого она признает своим Фаоном.
Таня рассмеялась и посмотрела на красивого, уверенного в себе мужчину в коверкотовом пальто с каракулевым шалевым воротником и отлично выбритыми щеками.
— Но я не пишу стихов, а поэтому не могу называться Сафо, — чуть прищуривая свои черные глаза, сказала великая княжна. — Но так уж и быть, сегодня я позволю вам быть моим Фаоном. У вас, я слышала, автомобиль? Вам нетрудно будет довезти меня до дому? Я на Васильевском живу…
Когда они уселись на заднем сиденье роскошного «роллс-ройса» и незнакомец, точно фокусник, откуда-то извлек бутылку шампанского и бокалы, Таня испугалась — ей показалось, что этот элегантный и образованный мужчина станет предлагать ей что-то похожее на то, что предлагал её сестре Ольге какой-то красный командир. Но он хоть и угощал девушку шампанским, покуда автомобиль, ведомый шофером, мчал по ночным улицам Петрограда, но ничего предосудительного не произнес. И Таня даже удивилась, потому что она прекрасно видела, что сильно понравилась мужчине.
— Ах, какой же я неловкий, какой тюфяк! — беззаботно рассмеялся незнакомец, когда автомобиль затормозил у Таниного дома. — Я же, Татьяна Николаевна, так и не представился вам: Губанов Вадим Филиппыч, зампредседателя Петросовета, — товарища Зиновьева правая рука. Впрочем, все это пустяки, внимания не обращайте.
А когда Таня, у которой отчего-то заныло сердце и стали подкашиваться ноги, остановилась на лестнице и Губанов нежно коснулся пальцами её кожи чуть выше тонкой лайковой перчатки, а потом спросил, когда же они смогут увидеться вновь, после минутного раздумья сказала улыбающемуся зампреду Петроградского Совета:
— Будет от вас зависеть… — и, уже не оборачиваясь, застучала каблучками ботиков, взбегая наверх.
Скоро не только все сестры, но и Александра Федоровна, и Николай знали, что Татьяна, клявшаяся в том, что никогда не сойдется с неродовитым, эта неприступная великая княжна, как и Ольга, катается на автомобиле с каким-то мужчиной, но лишь Анастасия сумела выспросить у Тани, где служит её возлюбленный.
"Ну и Танечка у нас, однако! — рассуждала потом Анастасия. — Давно ли с подушкой из спальни Ольги уходила, кляла её за то, что та связалась с большевиком, а сама-то разве лучше? Ах, какого большевичка жирненького замарьяжила! Поди, спит теперь и видит себя какой-нибудь красной губернаторшей".
Но обида на сестру исчезала, как только Анастасия представляла и себя в объятиях мужчины. Тогда политические пристрастия, титулы, происхождение казались Анастасии глупыми ненужностями, важными, возможно, для мужчин, но не для женщин, ждущих любви, покоя, защиты и зарождения новой жизни в сердцевине их готовых к материнству молодых тел.
Нет, Николай устроил для Анастасии мастерскую не на десять, а на пять рабочих мест, с машинками «Зингер» самой последней модели, с манекенами и удобными столами для раскроя тканей, а главное, с хорошим освещением. Молоденькие мастерицы, работавшие под началом Анастасии, учились у юной хозяйки шить и сразу же работали на заказ, выполняя, пока не добьются совершенства, несложные операции. Выгода была взаимной: доход получали и Анастасия, и швеи, поэтому отношения в артели великой княжны были самые сердечные.
Однажды семнадцатилетняя Нюра, веснушчатая и такая же смешливая, как и хозяйка, заговорила с Анастасией, когда другие девушки ушли:
— Анастасия Николаевна, пришли б когда в нашу компанию. У нас как весело на вечеринках: танцуем под гитару и гармонь, поем, спорим о разном. Вот сегодня, например, про любовь спорить будем, — и Нюра прыснула в кулак, сконфузившись. — Ну, придете?
— Да, приду, — с неожиданной поспешностью ответила Анастасия, и Нюра даже захлопала в ладоши.
— Вот и чудно! Ну так я зайду за вами прямо на квартиру!
Девушки шли долго. Стремясь не запачкать обувь в мартовской грязи, обходили лужи, приподнимали полы длинных драповых пальто, наконец остановились возле двери, ведущей в помещение полуподвала.
— Это… здесь? — остановилась Анастасия.
— Здесь, здесь, да вы не бойтесь — там все у нас прилично, по-комсомольски.
Треньканье гитары на фоне гармонных плясовых переборов, стук каблуков и девичье залихватское повизгиванье были слышны в темной прихожей, когда Анастасия, предчувствуя что-то неизведанное прежде, встречу с чем-то необычным, снимала у вешалки пальто и стаскивала с изящных туфелек резиновые боты.
— А, Нюрка пришла! — заорал какой-то разбитной белобрысый парень, бросая партнершу, с которой танцевал, и кидаясь в сторону вошедших. — Ну, и вижу, что буржуйку свою привела. Точно, угадал?
Расправляя на бегу морщинки, собравшиеся за пояском на красной, какой-то крестьянской рубахе, белобрысый, широко улыбаясь, приблизился к вошедшим, вперился в Анастасию изумленно-изучающим взглядом, схватил её за руки, повлек к танцующим, не переставая говорить быстро и на радостном подъеме:
— Ладно, ты, Настя, за буржуйку на меня не обижайся, просто я давно уже просил Нюрку привести тебя к нам, чтобы ты увидела, как комсомольцы Васильевского острова гулять умеют. А я — секретарь организации района, Влас Калентьев. Хожу вот по низовым ячейкам, вношу, как говорится, струю жизни в их работу, вовлекаю в них новых членов. Ты не думай, это я у них на вечерушках такой рубаха-парень, а на самом деле — строгий, в кабинете сижу, пиджак ношу. Так что же, на самом деле свою мастерскую имеешь?
— Да, имею, — едва приходя в себя после увиденного и услышанного, промолвила Анастасия.
— Эксплуатируешь, выходит, рабочий класс?
— Эксплуатирую, — не понимая в полной мере всех оттенков этого слова, согласилась Анастасия, а все, кто обступил её и жадно рассматривал её «буржуйский» наряд, громко загоготали.
— Да тише вы, товарищи! — поднял руку Влас. — Ну не понимает пока товарищ Настя Романова, что пользоваться плодами чужого труда — нехорошо, нечестно. Но она в этом не виновата, нет! Я слышал, что она из бывших, по-французски говорить умеет, носит шелковые чулки и каждый день выливает на себя по целой бутылке одеколона. Но она-то здесь при чем? Виновно прошлое страны, царский гнет, и мы должны перевоспитать Анастасию Романову, чтобы она стала вполне пригодным для советского общества членом. Так, товарищи?
Все согласились с тем, что перевоспитать Анастасию нужно обязательно, снова затренькала гитара, приглашая к пляске, но слово взяла одна пышногрудая девица, синяя сатиновая кофта которой так и рвалась под натиском выпиравших прелестей:
— А пусть нам Настя расскажет, что нынче нужно носить, чтобы хлопцы любили. Она-то вон какая разряженная пришла, и мы тоже хочем…
И Анастасия, почему-то жалея этих девушек и парней, показывая на отдельные части своего туалета, на прическу и обувь, просто и мило стала объяснять, что платья теперь носят короткие, с глубоким вырезом на груди и спине, свободного покроя, волосы стригут "а ля гарсон", то есть под мальчика, чулки носят телесного цвета и прозрачные, пусть не шелк, так фильдекос или фильдеперс, а туфли открытые, легкие и изящные. И все слушали и смотрели на прелестную девушку, замерев от восхищения или зависти, обступив её плотным кольцом. А когда она, с чуть смущенной улыбкой, кончила говорить, после долгого молчания завопил какой-то парень, задирая над голым пузом старенькую косоворотку:
— А на фига нам вообще одежда?! Для любви одежда не нужна! Мешает только! Вот я вчера видал, как по Невскому ехал грузовик, а в нем полным полно народу, и все-то голышом, в чем мать родила! Еще и плакат с собой везли: "Одежда — цепи человека"! Все, раздеваюсь догола! Не хочу цепей!
Парень, как видно, настолько был увлечен идеей раздевания, что, сорвав с себя рубаху, стал развязывать и пояс брюк, но девушки отчаянно завизжали, стали закрывать руками лица, и ретивого парня быстро уняли другие комсомольцы, в том числе и Влас Калентьев.
— О любви! О любви говорить давайте! — послышались требования.
— Ведь ради этого собрались, а не на этого лоботряса голожопого, на Пашку смотреть!
И тут же форсистой походочкой, сложив на груди руки, на середину помещения вышла бойкая девушка, и каблуки её ботинок стали отбивать лихую чечетку. Девушка же заголосила:
Милка милого любила, спать с собою уложила Он лежал, лежал, лежал, прыг в окно — и сбежал!
Некоторые поддержали девушку, подхватили припев неприличной частушки, но другие зашикали на них:
— Все, кончайте балаган! Наплясались уже, теперь серьезно говорить будем!
Принесли самовар, от которого по прохладному полуподвалу потекло веселящее тепло, загремели стаканы толстого стекла, явились на большом столе нехитрые закуски, зеленые бутылки с водкой. Анастасия, сидевшая рядом с Власом, который щедро лил чай в её стакан и с суровостью начальника прислушивался к речам комсомольцев, говоривших о любви горячо и открыто, будто от ярости произносимых о любви слов зависело их счастье, слушала этих простых людей с истинным удовольствием. Только со своими сестрами она, и то лишь иногда, позволяла себе откровенные беседы об отношениях женщин и мужчин, а теперь говорили все, даже собравшиеся здесь парни. Некоторые призывали освободиться от старых семейных пут и жить друг с другом в любви открыто и никого не стесняясь, менять возлюбленных просто, без истерик и скандалов, как меняют сношенные сапоги или портянки. Но другие на таких кричали, говорили, что пока так жить нельзя, потому что коммунизм ещё не полностью построен, а когда все будет общим, то можно и попробовать. В общем, революционная свобода сделала свое — любиться можно было просто, без затей, без церкви, без согласия родителей, а лишь по личному согласию влюбленных. И Анастасия замечала, что собравшиеся здесь парни и девушки сидят парами, многие в обнимку, и смелыми, открытыми поцелуями сопровождался этот диспут — все было давно уж решено и опробовано в жизни.
Анастасия в сопровождении Власа выходила на улицу пораженная тем, что ей довелось услышать. Она, так рвавшаяся к любви, теперь боялась этой свободы, потому что хоть и желала выйти замуж, но хотела привязать к себе мужа надолго, на всю жизнь, потому что царская её природа тайно шептала девушке о необходимости подчинить себе мужчину. Здесь же все получалось по-другому…
— Влас, а вы тоже считаете, что известные отношения мужчин и женщин должны быть свободны? — спросила Анастасия, когда из двора, где был полуподвал, они вышли на проспект.
Он стоял без шапки, и густые льняные волосы двадцатипятилетнего голубоглазого парня ерошились от свежего весеннего ветра.
— Да что вы? — улыбнулся он. — Свобода в браке — это блажь, которая забудется всеми этими юнцами очень скоро. Якрепко жениться хочу, на всю жизнь… — и добавил, как-то озабоченно посмотрев по сторонам: — Давайте немного подальше отойдем. Сейчас за мной автомобиль приедет, служебный. Неудобно как-то будет, если увидят. Скажут после — комсомольский секретарь так обуржуился. А я уже привык к «мотору». Вы со мною, Настя, не прокатитесь по городу немного? Ну честное слово, я не буду настаивать на свободной любви. Едем?
Анастасия посмотрела на комсомольского вожака чуть насмешливо и с удовольствием сказала:
— Что ж, я согласна.
В тот июньский вечер двадцать третьего года, когда в гостиной квартиры Романовых собрались все члены семьи, Николай, нервно поднося ко рту папиросу, не замечая, как роняет пепел на ковер, бегал вокруг стола, за которым сидели его домочадцы, и почти кричал:
— Дочери, милые вы мои, да что же вы делаете с нами — со мной и матерью! Да как же можно было так гнусно распорядиться собой, вначале заведя шашни с этими коммунистами, а потом пообещав им руку и сердце?
Татьяна, смелая от знания того, что теперь, когда их трое, когда отец не посмеет отказать им всем, сумела вставить слово:
— Нет, папа, вначале были "рука и сердце", а уж потом то, что ты называешь словом "шашни".
— Да это все равно, все равно, — хватался за голову бывший император. — Когда-то я выстрелом из маузера разрушил связь Маши и этого низкородного поручика, теперь же вы мне предлагаете стать тестем глумящихся над Россией извергов. Прекрасно, вы мне обещаете законный брак через запись в какой-то мерзкой муниципальной книге регистрации, но даже не венчание, не церковную санкцию, не таинство! Ну подождали бы ещё немного! Если бы я полностью уверился в том, что никогда уже не стану правителем России, то непременно бы увез вас за границу, где вы…
Ольга резко, гордо встала из-за стола, с негодованием глядя на отца, сказала:
— Больше поединков не будет! Мы свободны в выборе мужей, и мы их выбрали. Разговоры о загранице за этим вот столом звучат давно, но только никто из нас их больше не хочет слушать! Если вы не дадите свое согласие на брак своих троих дочерей, то мы не станем спрашивать вашего разрешения. И я скажу за всех — мы прежде были несчастны по причине нашего… высокого происхождения. Когда-то нам было лестно, что мы являемся дочерьми русского царя, теперь же это только тяготит нас. Мы — не свободны, но хотим наконец обрести свободу.
И вдруг Николай почувствовал, что бессилен противостоять им.
"На самом деле, — вдруг остановился он, потирая вспотевший лоб, девочки стремятся выйти замуж, ну да и Бог с ними. Разве я не страдал от того, что одинокой осталась Маша только из-за меня одного? Нужно наконец забыть, что ты — бывший император. Все твердят мне об этом, ведь царственность не в том, чтобы являться манекеном в горностаевой мантии, и не в присутствии царственной крови в жилах — я видел немало дурных людей, имевших августейших предков. Мне, всем нам нужно опроститься до того, чтобы попытаться стать лучшими в России, не нося при этом громких титулов. И вот пришел тот самый момент. Дочери мои подвигли меня к нему, я даю согласие на их брак, но при помощи своего опрощения и новых родственных связей не перестаю надеяться, что стану когда-нибудь правителем России".
— Я согласен, — сказал Николай очень тихо и, пробежав взглядом по лицам дочерей, сидевшего здесь же Алеши и даже Александры Федоровны, увидел, как осветились их лица чувством благодарности к нему, отцу, главе семьи и монарху.
***
Почти сразу после объявления войны немцам одним лишь росчерком пера он запретил продажу спиртных напитков — вековечной беды и соблазна простого русского люда, и сделал это Николай несмотря на неизбежные финансовые потери, но зная, что народ поймет и примет эту меру. И люди на самом деле поняли и приняли её.
Он понимает необходимость своего личного присутствия подле нуждающегося в нем, в его внимании народа, и он — везде. На заводах, в госпиталях и лазаретах, при отправлении полков на фронт, напутствуя войска. С октября 1914 года начинает ездить в Ставку верховного главнокомандующего, которым был дядя царя, старейший в царском роду великий князь Николай Николаевич.
Нет, он не претендует в Ставке на вмешательство в стратегию — он просто хочет знать, как идут дела, и, главное, понимает необходимость своего присутствия неподалеку от фронта, где льется кровь. Николай как бы разделяет с другими тяготы войны, опасности. Позднее он станет возить в Ставку и на фронт, по воинским частям, своего Алешу, которому присвоят звание ефрейтора. Мать будет страшно волноваться за сына, но воля отца останется непоколеблена её сетованиями — царь воодушевлял войска присутствием рядом с собой наследника, и железная походная кровать Алеши стояла в Ставке подле его кровати.
И уже с первых отъездов Николая из Петербурга начнется переписка между Ники и Аликс, которая даст возможность увидеть, как любили друг друга эти супруги, прожившие вместе два десятка лет.
"Так грустно в церкви без тебя, — напишет мужу Аликс 21сентября 1914 года. — Прощай, милушка, мои молитвы и думы следуют за тобой повсюду. Благословляю и целую тебя без конца, каждое дорогое, любимое местечко".
А в другом письме к мужу Александра Федоровна, прощаясь с Николаем, писала: "Прощай, моя птичка, благословляю и целую тебя горячо и с любовью. Навсегда твое старое солнышко". Обыкновенно же царица называла Николая в письмах так: "родная моя душка", "мое дорогое сокровище", "мой любимый", «драгоценный», "мой родной голубчик", "родная моя птичка".
Николай отвечал жене в таком же теплом, ласковом тоне искренне любящего и очень скучающего мужа: "Возлюбленная моя, часто-часто целую тебя, потому что теперь я очень свободен и имею время подумать о моей женушке и семействе. Надеюсь, ты не страдаешь от той мерзкой боли в челюсти и не переутомляешься. Дай Боже, чтобы моя крошечка была совсем здорова к моему возвращению. Обнимаю тебя и нежно целую твое бесценное личико, а также и всех дорогих детей. Благодарю девочек за их милые письма. Спокойной ночи, мое милое Солнышко. Всегда твой старый муженек".
Николай в письмах к жене совсем не тот, каким мог представиться по дневнику, обращенному лишь к собственной памяти и личным чувствам. В письмах он полностью открыт и обнажен, наблюдателен и сострадателен и полностью доверяет своей супруге, когда пишет ей о положении на фронте, объясняя порой и ситуацию чисто стратегического плана. А как-то Николай написал запросто жене: "У меня разыгрался геморрой, что очень неприятно. Пошли мне, пожалуйста, коробочку со свечами, которая лежит на маленькой полке, что слева от двери в моей уборной". И заботливая, чуткая Александра Федоровна, беспокоясь о здоровье мужа, без промедления ответит: "Посылаю тебе свечки. Как обидно, что ты опять в них нуждаешься".
Ступень двадцать первая БРАТЬЯ МАСОНЫ
Гудение протяжное, долгое, тянущее душу и какое-то загробное остановило Николая, когда в январе 1924 года, пряча лицо в воротник своей шубы, он переходил через Дворцовый мост. Дул пронизывающий ветер, и, казалось, именно он и собирал воедино, в какую-то тугую струю, в могучий поток звук заводских гудков, к которым примешались и автомобильные сигналы остановившихся на улицах машин. Потрясенный, не понимая, что происходит, он смотрел на отдельных прохожих, замерших на месте, будто они были заворожены этим странным оркестром, но потом кто-то сказал, надрывно и слезливо:
— Товарищи, Ленина хоронят!
И тотчас завыла какая-то баба, а вслед за нею и бородатый мужик. Крупные слезы катились по его глупому лицу и застывали на бороде белыми каплями.
— Ну, что вы плачете?! — резко шагнул он к рыдавшим, внезапно разозлившись на этих людей. — Небось, когда о смерти царя узнали, которого без суда вместе со всей семьей казнили, не плакали так горько! Совсем, наверное, не плакали, а этого полукалмыка, сифилитика, приказывавшего в крестьян стрелять, залившего Россию кровью, вон какими слезами оплакиваете!
Мужик сразу же закончил плакать, будто и не он минуту назад лил слезы в три ручья, озадаченно посмотрел на Николая, поморгал пустыми, как опорожненный стакан, глазами, обиженно сказал:
— А ты, гражданин, не равняй жопу с пальцем. Мы при твоем царе ничаво доброго не видели, а Ильич для нас дороже отца родного, потому как — наша власть, народная. Таперича нас никто не обидит…
Николай со злобой плюнул под ноги мужику, со злой укоризной покачал головой и зашагал прочь. Он не мог уразуметь, как можно было оплакивать смерть самого главного большевика, а значит, самого главного врага его страны. "Да неужели за каких-нибудь шесть лет мой народ сумели так улестить, заморочить ему голову, что теперь большинство русских пропитаны коммунистическим ядом? Но если это правда, то как же мне бороться с коммунистами? Ведь тогда придется сражаться со всем народом ради того, чтобы вернуть им монархию, которая, оказывается, им совсем не нужна!"
Он, видя на заснеженных улицах Петрограда горожан с заплаканными лицами, несчастных, осиротевших после смерти «Ильича», ощущал себя несчастным тоже, потому что эти люди могли так скорбеть в день похорон его врага, а узнав о смерти своего монарха, остались равнодушными и безучастными. А в голове все звучна горькая фраза бородатого мужика: "Ты, гражданин, не равняй жопу с пальцем…"
В тот день он не пошел в ателье, когда-то принадлежавшее ему, и где он сейчас подвизался на должности простого фотографа. Дом на Вознесенском вырос как-то неожиданно, словно случайно, но Романов догадывался, что он намеренно пришел сюда, чтобы в который уж раз попросить совета у человека, носившего на плечах голову — песочные часы.
— Не снимайте шубу, не снимайте! — замахал руками Лузгин. — Сам в пальто сижу — нетоплено, дрова все вышли.
Николай, молча опустившись в шубе на вовремя подставленный хозяином стул, сидел долго, понурясь. Потом заговорил, точно не говорил ни с кем уже давно, и настала потребность излить кому-то свою тоску и боль. Он с обидой в голосе говорил, что прошло уже больше пяти лет с тех пор, как он вернулся в Петроград, но все, что он делал, было каким-то мелким, безрезультатным вредительством, порой мальчишеским и вздорным. Сокрушить большевиков не удалось, и теперь народ льет слезы в день похорон Ленина, не постеснявшегося ради торжества своего убогого учения пойти на сделку с немцами.
— Что мне делать, Мокей Степаныч, что мне делать? — со слезами на глазах закончил он, и в его голосе пело отчаянье. — Лучше бы я ушел к Юденичу или Деникину. Там, с винтовкой в руках, я бы принес России больше пользы. Знаете, сейчас мне хочется убить себя — я разорен, я стал родственником отъявленных большевиков, не вижу никаких перспектив и средств в борьбе с коммунизмом. Если вы по-прежнему остаетесь монархистом в душе, то скажите, что я в силах сотворить для падения их режима? Или все кончено для нас?
Лузгин улыбался, превратив свой высокий лоб в стиральную доску, и Николай возмутился так, что даже вскочил со стула:
— Да что вы смеетесь, ей-Богу! Не вижу ничего веселого.
— А я вижу, вижу, ещё как вижу и плоды дел ваших. И поскорее расстаньтесь со своим отчаяньем. Оно не красит и монархов, а то, что вы все свои подвиги мальчишеством называете, вздором, — извините, никак согласиться не могу. Сносырева вспомните, Кронштадт, Красовскую с её любовниками, митрополита. Главное — вы обострили фракционную борьбу, и теперь она не затихает. О "Платформе сорока шести" слыхали? А про антипартийную деятельность Троцкого? Они там скоро всю столичную парторганизацию захватят, а все благодаря вам — вы семена раздора в большевистскую землицу бросили. А почему же, когда вы породнились с зампредом Петросовета, который очень дружен с товарищем Зиновьевым, председателем его, членом политбюро цэка партии, ещё каким фракционером, вы не налаживаете добрых отношений с теми, кто рвет на части крепкое прежде одеяло власти? Вот, умер Ленин, и товарищ Сталин стал теперь своею твердою стопою на вершине Олимпа. Зиновьев с Каменевым пытались подружиться с ним, составить триумвират, но гордый кавказец этих Пиладов с Орестами — под зад ногою. С Молотовым, Ворошиловым и Кагановичем дружить он хочет, но можно сделать так, что товарищ Сталин с Олимпа вниз тормашками или, как там, усатой своей башкою вниз и полетит…
— С какой же это стати полетит? Кто его сбросит? — спросил, поморщившись, Николай, которому было неприятно слышать обо всех этих интригах.
— Так мы же его и сбросим! У меня такой документик интересный давно уже приберегался об этом выскочке грузинском, ещё с самого девятьсот шестого года. Теперь-то эта бумажка в ход и пойдет…
И Лузгин уже кинулся было к своему тайнику, но Николай поспешно удержал его:
— Да оставьте вы в покое эти грязные доносы и сплетни. Ну и что с того, что слетит вниз Сталин? Это не меняет дело. Останется большевизм в лице Троцкого, Зиновьева или какого-нибудь Каменева.
— Да не понимаете вы, — почти закричал Лузгин, осердясь на ненужную щепетильность собеседника, — не понимаете разве, что Зиновьев, с которым вы подружиться обязательно должны через зятя своего, по гроб жизни вам за этот документ благодарен будет. Мы же главного врага Григория Евсеича как тростинку тонкую срубим. Вы же подле Зиновьева будете, а он высший партийный пост займет — генеральным секретарем станет. В монархию-то теперь, Николай Александрович, тихой сапой пробираться нужно. Есть у вас ещё один родственничек — комсомольский этот туз. Вы и на него влияние оказать через дочку можете, а он молодежь Петрограда поднимет. На молодежь же сейчас товарищ Троцкий ставку делает, проводя политику омоложения партии. Этим он старых большевиков, соратников Ленина, подкузьмить хочет. Окажете ему таким образом немалую услугу. Знаю, что и на товарища Подбережного вы управу найти сумеете — через обаяние Ольги Николаевны это сделать будет проще простого. А этот красный командир, слыхал я, возможно, в Военный Совет страны введен будет. Чем не личная гвардия, чем не преторианцы? Можно какую-нибудь "военную оппозицию" создать — вот это уж будет сила! Да и хватит, Николай Александрович, чваниться своей непричастностью к большевистской когорте. Вступиiте в партию, честное слово, увереннее чувствовать себя будете. А что вам? Главное — цель, а вы её достигнете, спасете страну, что сейчас Советским Союзом именуется. С волками жить, так по-волчьи…
— Ну хватит, хватит! Не хочу слушать ваших гнусностей! Вы, я вижу, так и остались филером по складу своего характера! Есть ещё какие-нибудь способы борьбы с коммунизмом? Или я поднимаюсь да ухожу!
Лузгин молчал долго. Смотрел на Николая с глубокой печалью, точно видел в нем гордого, но не слишком умного мальчика, не понимающего, что во взрослом мире необходимы компромиссы или даже обыкновенное лукавство.
— Хорошо, я назову вам организацию, которая когда-то смела с престола вас. Если у вас достанет терпения, чтобы работать на людей, борющихся с любой государственной властью, чтобы насадить свою, невидимую, но ощущаемую, могу назвать, как они себя именуют.
— И как же?
— Масоны.
— Масоны? В Советском Союзе, при большевиках?
— Именно так — в Союзе и при большевиках. А чем же наша страна не древо, в которое можно проникнуть и точить его, точить, покуда не сгниет вся сердцевина и дерево не рухнет? Ведь рухнула же ваша, пусть не слишком цветущая смоковница, но все-таки прочно державшаяся, — внешне прочно, — на своих корнях. Кто, как не масоны, были эти Керенские, Гучковы, Коноваловы, Терещенки, Львовы — Временное правительство, пришедшее на смену вашему.
— Ах, как жаль, что я этого не знал… — озадаченно промолвил Николай. — Но теперь — иное дело. Если эти новые масоны собираются точить власть коммунистов, я согласен войти в их Орден.
— Да, да, входите, входите! — заговорил Лузгин горячо. — И вам обязательно нужно будет открыться мастеру, кто вы такой! Тогда, я уверен, вы минуете степень ученика и получите более высокий сан, скорее всего, войдете в руководство ложи. Так вы сумеете вернуть себе хотя бы часть утерянной власти. Думаю, в Ордене вы обретете её сполна, а потом, когда вы, словно паучьей сетью, опутаете страну множеством лож и их филиалов, когда виднейшие большевики тоже станут вашими братьями, то можно будет надеяться на полное торжество. Произойдет незаметная подмена масонской власти монархической, и страна вернется на круги своя!
Николай, слушая Лузгина, весь горел от нетерпения и страстного желания поскорее познакомиться с масонами. Покачав головой, он с искренним восхищением сказал:
— Извините меня за недавние… грубые слова. Право, я недооценивал ваши знания, вашу ловкостью. Это все-таки талант. Так где же я могу найти масонов?
Кафе "Веселый фарисей", владельцем которого был Кириченко-Астромов-Ватсон, размещалось в полуподвале огромного дома на Лиговском проспекте. Когда Николай в тот студеный зимний вечер потянул на себя тяжелую дубовую дверь, украшенную какими-то бронзовыми бляшками, изображавшими то ли знаки Зодиака, то ли небесные тела, волна острой, какой-то диковатой музыки, веселой и разбитной, обожгла чувства Романова, смутившегося и даже отпрянувшего. Лузгин сказал ему, что мастер и генеральный секретарь ложи «Астрея» Борис Астромов содержит свое кафе, чтобы не вызывать у властей города сомнений в своей благонадежности, но Николай не мог представить, как шумная, разгульно-кабацкая обстановка "Веселого фарисея" может сочетаться с таинственной, мистической формой масонских действ, о которых он когда-то читал. Пересилив свое отвращение к царящей в кафе вакханалии, когда между столиками танцующие пары выделывали ногами замысловатые коленца под истошный вой труб, Николай прошел-таки в кафе и сдал шубу гардеробщику, вешалка которого размещалась прямо в зале.
— Господина Астромова я где бы мог увидеть? — хмурясь, спросил он принявшего его одежду старика.
— А вон наш Астромов, на трубе играет. В оркестре, самый крайний слева. За стол садитесь, а в перерыве или уж в конце вечера и поговорите с ним…
Николай, негодуя на себя за то, что пришел в этот вертеп, где он должен будет представиться вертлявому шуту с трубой, являющемуся будто главой масонской ложи, сел за столик, заказал закуску, полграфина водки и принялся за ужин, искоса наблюдая за хозяином кафе, худым мужчиной средних лет с очень узким, каким-то сплюснутым с боков лицом и с длинными лакейскими бакенбардами, призванными, должно быть, устранить непропорциональность физиономии. Николай видел, как выходил вперед этот музыкант со своей изогнутой, как курительная трубка, трубой, как извивался телом в такт извлекаемым из медного горла инструмента звукам, как страшно пучил глаза и вращал ими, демонстрируя наслаждение, получаемое от собственной игры.
"Если это на самом деле руководитель питерских масонов, то до чего же докатились вольные каменщики, унизившие себя до общения с этим кривлякой, и до какой стадии падения дошел я сам, если явился в это гнусное кафе?"
Николай принялся вспоминать, что рассказывал ему Лузгин об Астромове, — выходец из бедной семьи, он был принят в кадетский корпус, откуда подростка с треском выгнали за то, что он попытался изнасиловать учительницу французского языка. Поступил в университет, но и оттуда исключили. Отправился в Италию, учился в Турине, свел дружбу с психологом Чезаре Ломброзо, который к тому же был масоном. Умер Ломброзо, и Астромов возвратился в Петербург, принимал участие в штурме Зимнего дворца в октябре семнадцатого года. И теперь — владелец "Веселого фарисея", где в оркестре играет сам. Есть сведения, что содержит прачечную. В общем, авантюрист из низкородных, которым безразличны способы, готовые привести пусть к мизерному, но успеху в стремлении занять среди людей хоть какое-то видное положение. Но Николай, наливавший рюмку за рюмкой, чтобы только убить желание подняться из-за стола и выйти прочь, упорно ждал окончания работы "Веселого фарисея", потому что свержение большевистской власти стало для него куда более важной проблемой, чем сохранение достоинства.
— А вы чего же здесь сидите? — услышал он вдруг над собой чей-то приятный, мягкий голос. — Все ушли, мы запираем.
Разморенный теплом, выпитой водкой, Николай и не заметил, как помещение опустело. Лишь музыканты собирали инструменты да официанты, переругиваясь, убирали грязные тарелки и очищали от крошек заеденные скатерти. Николай присмотрелся к лицу наклонившегося над ним человека и увидел висячие баки, обрамлявшие узкое лицо.
— Господин Астромов? — поднялся он из-за стола.
— Да, это я — Кириченко-Астромов-Ватсон, — согласились «баки». — А с кем имею честь?
— С лицом, не менее, а возможно, более известным, чем ваш покойный друг и покровитель Ломброзо, — уверенно сказал Николай. — Где бы мы могли поговорить? Не здесь же, когда нас могут слышать эти "шестерки".
— Согласен, — серьезно посмотрел на странного посетителя Астромов. Пройдемте в мой кабинет.
Они прошли в маленькую комнатушку рядом с залом, уселись близ стола и закурили.
— Музыку вы какую странную играли. Я такой и не слышал никогда. Что-то африканское, не так ли? — спросил Николай.
— Да, вы правы, — продолжил всматриваться в черты лица незнакомца ученик знаменитого психолога. — Это — джаз. Только-только стал распространяться в Европе. Музыка североамериканских негров.
— Да и инструмент-то какой странный, в который вы с таким усердием дули, — улыбался Николай. — Тоже африканский?
— Нет, саксофон изобретен бельгийцем. В России они ещё до революции известны стали.
— Странно, в оркестре лейб-гвардии Преображенского полка, командиром которого я был, таких инструментов не имелось.
Николай видел, что Астромов смотрит на него с каким-то пожирающим интересом, и крылышки его тонкого, горбатого носа в волнении раздуваются.
— Вы, видно, шутите, сеньор, — очень тихо сказал Астромов наконец. Вы не могли командовать преображенцами — у них же император был за полковника.
— А может быть, я потому и сказал вам, что поважней вашего Ломброзо? Только Ломброзо умер, а я жив-здоров. Ну, присмотритесь к моему лицу. Если вы на самом деле сотрудничали с автором нашумевшего в мире "Преступного типа", а не занимались лишь поглощением тосканских и прочих вин, то поймете, отчего я говорил о себе как о знаменитости.
Астромов, зачем-то отстранясь, прищурив глаз и дергая себя за бак, долго вглядываясь в черты лица странного посетителя и наконец, приняв суровый вид, сказал:
— Не знаю, мошенник ли вы, самозванец или на самом деле чудом спасшийся Николай Романов, но вы явились ко мне не с добром. Что, хотите спровоцировать на что-то, а потом сдать в огэпэу? Не выйдет, у меня крепкие нервы, и на провокацию я не пойду! Сейчас же покиньте мое заведение, или же я немедленно вызову милицию! Не понимаете разве, что никому в Советском Союзе не дано право не то что быть неведомо как спасшимся царем, но и выдавать себя за такового хотя бы шутки ради!
— А масоном в Советском Союзе быть можно? — тихо спросил Николай и тут же увидел, как вздрогнул Астромов. Романов же, заметив это, насмешливо сказал: — Ну вот, господин масон, а говорили, что у вас крепкие нервы! Но не думайте, я вас не пугать пришел и уж во всяком случае не провоцировать. Я прекрасно понимаю, что сделают со мной чекисты, если убедятся в том, что я — спасшийся император. Вы видите теперь, что я имел куда более важные намерения, открывая вам свое инкогнито.
— Какие же?
— Борьбу с большевизмом.
— Ну хорошо, пусть я масон, — вскипел неожиданно Астромов, — но я не борюсь с большевизмом, с чего вы взяли? Наши цели — нравственное перерождение, создание храма внутри каждого из нас! Я даже собираюсь послать Сталину письмо, в котором предложу использовать масонские ложи России как помощников в деле строительства социализма. Мы сплотим рабочих и крестьян под нашими сводами, сделаем их нравственными и усердными адептами нынешней власти. А вы говорите — борьба с большевизмом!
— Да оставьте вы эту игру со мной, Астромов! — вознегодовал Николай. Неужели во всех ложах, что подчинились вашей "Великой ложе Астреи", этих «Дельфинах», "Золотых колосьях", в "Пылающих львах" и "Цветущих акациях" есть хоть один рабочий или, тем более, крестьянин? Вы приглашаете к себе интеллигенцию, советских служащих, врачей. Я прекрасно знаю о ваших связях с ложами Европы, от которых вы во многом зависите, так при чем же здесь нелепые разговоры о помощи масонов Сталину? Каменщики всегда ставили своей тайной целью навредить правящей элите или включить её в свои ряды. Но со Сталиным у вас этот номер не пройдет. Этот грузин хочет управлять страной самовластно, и масоны ему не нужны. Я же, бывший русский царь, стану вашим, и вы представляете, как много новых приверженцев войдут в ваши ряды только потому, что там буду я, когда-то лучший человек страны, помазанник? Раньше вы боролись против меня, теперь же мы будем вместе. Только я, подавая вам свою руку, хочу выпросить у масонов привилегий.
— Я понимаю, — кивнул Астромов, — вы хотите занять в руководстве ложи какой-нибудь видный пост.
— Да, вы правы. Это не слишком высокая цена за мой союз с вами.
— Согласен, только, чтобы не вызвать подозрения братьев, вам придется пройти все ступени посвящения поочередно. Правда, я сделаю так, что этот процесс не потребует долгого времени. И запомните хорошенько, господин Романов, масонская ложа — это не секретная организация, но организация с секретами, а допуская вас в короткий срок к нашим секретам, я рискую.
— Но ведь и я рискнул довериться вам даже после того, как увидел вас с этим вашим саксофоном. Мы играем открытыми картами.
В тот день его долго везли в автомобиле, в каком-то особом, отделенном от водителя салоне с плотно занавешенными стеклами, но Николаю казалось, что они крутят где-то в самом центре Петрограда, часто поворачивают влево и вправо, чтобы только сбить его с толку. Все это казалось странным, обижающим его самолюбие, но у сидящего с ним рядом Астромова он ничего не спросил и свою обиду не выдал, зато было как-то противно на душе, а тем более от предстоящего маскарада посвящения его в ученики.
"Ничего, — утешал себя Николай, — нужно пережить и эту процедуру, зато я узнаю, что они там делают на своих собраниях. Уверен, что этот мерзавец Астромов наверняка является руководителем заговора против власти, нити которого ведут за границу. А все эти звездочки, ромбики, молотки и циркули — только ширма, чтобы отделить учеников от мастеров. Ах, как хорошо, что мои родные ничего не знают о том, куда меня везут. Вот опозорил бы себя!"
Наконец автомобиль остановился, и Астромов сказал:
— Господин Романов, я закрою вам глаза повязкой. Такое правило.
— Закрывайте, — безропотно согласился тот, уже безучастный ко всему, что теперь будут делать с ним. "Лишь бы не у чекистов оказался, а масоны Бог с ними…"
Скрипели открывающиеся двери, слышалось чье-то шарканье, покашливанье, кто-то негромко шептался. Николаю помогли снять шубу, но на этом раздевание не закончилось. Вежливо попросили снять пиджак, сорочку, нижнюю рубаху, и, когда Николай выполнил указанное предписание, оставшись полуобнаженным, он, мгновенно покрывшись от холода гусиной кожей, все ещё с повязкой на голове, искренне сожалел о том, что согласился принять участие в этом балагане, но не потому, что ему было совестно стоять по пояс голым перед неизвестными ему людьми, а просто Романов очень сомневался, что его привели к себе настоящие масоны, а не шарлатаны, чтобы нещадно посмеяться над униженным монархом.
Снова вели по коридорам, источавшим запах обычной городской квартиры шкафов, наполненных пронафталиненной одеждой, картошки, дурного мыла. Топот многих ног слышался позади, и иногда к его голой спине, вызывая омерзение, прикасались чьи-то холодные пальцы, направляя Николая в нужную сторону. Наконец остановились, и он услышал громогласное, о чем был предупрежден и знал, как отвечать на такой вопрос:
— Что нужно новому брату?!
— Света! — так же с фальшивой патетикой ответил Николай, сразу же устыдившийся своего неестественно театрального голоса.
— Ты стремишься к свету, ну так получи его!
И те же холодные пальцы сняли повязку, и он увидел, что находится в большой комнате, освещенной лишь дюжиной свеч, ронявших блики на блестящие клинки собравшихся здесь людей. Все они — не только мужчины, но и женщины, — облаченные во что-то черное, просторное, направили острия своих длинных шпаг прямо в грудь Николаю, и он, хоть и был предупрежден об этом, испугался и даже отпрянул назад, наколовшись при этом на клинок, наведенный на него кем-то сзади.
— Клятва! Произнеси клятву, брат!
И бывший русский монарх, подчиняясь приказу ради того, чтобы в будущем не подчиняться ничьим приказам, заговорил заученными фразами:
— Обещаю любить братьев моих масонов, защищать их в опасности, хотя бы жизни моей грозила смерть. Обещаю хранить орденскую тайну. Не раскрывать существования братства, хотя бы я был спрошен об этом на суде. Не рассказывать ничего, что я узнаю, как брат. Обещаю исполнять постановления ложи и высших масонских властей.
Клятва была произнесена, и тут же к нему подошли двое мужчин, в одном из которых он узнал Астромова, хотя в этом чопорном, строгом, облаченном в черный балахон, с циркулем на груди, человеке невозможно было признать того вертлявого музыканта, вращавшего глазами. Такой же балахон надели на неофита, а в руки его вложили мастерок и циркуль, но, как видно, эти предметы представляли ценность, потому что Николай лишь подержал их, и они сразу же перекочевали к Астромову.
Находящиеся в зале люди, мужчины и женщины, стали подходить к Николаю и с тихой значительностью во взглядах поздравляли его со вступлением в ложу, и он, словно студент, впервые переживший тяжелый экзамен, сильно радовался в душе, что тоже стал масоном. Теперь он знал, что все эти очень культурные с виду люди, так непохожие на тех, кто плакал по случаю смерти Ленина, убеждены в том, что уничтожить нынешнюю власть нужно любыми, пусть даже такими старинными, экзотическими средствами, как масонство. И когда к нему приблизился Астромов, уже почти любимый Романовым, и тоже поздравил его, Николай спросил:
— Скажите, мастер, я раньше и не предполагал, что масонами могут быть и женщины. У вас же я вижу их…
Астромов покровительственно потрепал его по плечу с многозначительной миной на лице, в складках которого Романов тут же разглядел что-то скользко-похотливое, и сказал:
— Брат, времена теперь иные. Масонство в условиях социализма потребовало и от нас некоторых усовершенствований. Мы решили, что наши идеи уже потому более передовые, чем у большевиков, что мы стремимся внести гармонию между полами. Раньше, правда, все масоны были мужчинами, но если мы теперь стремимся к усовершенствованию личности, то без противоположного пола этого добиться нельзя никак. Вот и пополнили мы свои ряды женщинами, что делается, между прочим, и в братских нам западных ложах. Не нужно удивляться этому содружеству, брат. Поистине, мы приведем Россию к настоящей демократии, именно в масонском, высшем, горнем смысле этого слова.
Николай был приятно поражен. Все, что он слышал сейчас от Астромова, притягивало новизной, сходством с идеями, к которым стремился он сам, и их тихий разговор сейчас так и подсказывал, что он не ошибся и, претерпев неприятности смешных, устаревших таинств, нашел наконец ту среду, что не подведет его, вознесет и позволит снова стать монархом.
— Но вы ведь дали клятву не разглашать ни одну из тайн, что станет вам известна у нас, в ложе? — вдруг неожиданно весело спросил Астромов.
— Ну да, конечно, я сдержу её, — промямлил Николай, не понимающий причины неожиданного оживления главы масонов. Астромов же, воздевая вверх руки, пальцы которых были унизаны перстнями, а запястья браслетами, проговорил певуче и властно одновременно:
— Братья и сестры! Свяжитесь друг с другом священной любовной цепью! Пусть свяжет она разные природные субстанции, чтобы вознесся к небесам не построенный ещё храм Соломона, храм торжества гармонии, разума и морали!
Николай увидел, что люди, бродившие по темному залу, рассуждающие о чем-то горнем, выспреннем, вдруг остановились, будто только и ждали этого приказа главы ложи, и тут же вспыхнул электрический свет, заискрившийся радужными всполохами хрустальных люстр. Романов вначале не увидел, а только услыхал, как зашуршала одежда. Руки мужчин и женщин, подобные стеблям тростника, раскачиваемым ветром, переплелись между собой, черные просторные одежды упали на пол, и Николай увидел, что братья и сестры слились в одно существо, беспорядочно копошащееся, дергающееся, стонущее. Женщин здесь было меньше, чем мужчин, а поэтому всякое женское тело делилось между двумя, тремя мужскими, но не оказывало сопротивления, откликалось радостно и самозабвенно, и Николаю, который с ужасом смотрел на эту картину, казалось, что сам Сатана торжествует здесь.
— Царь, русский царь! — прошептал ему на ухо Астромов. — Идите, ступайте к ним. — Они примут вас с охотой, вы с ними равны, но вы в то же время тот, кто позволил нам гармонизировать природу людей. Начнем с природы, после ж перейдем на общество. Идите, идите к ним, вас ждут!
Николаю от отвращения хотелось закричать, ударить Астромова по лицу и тут же броситься к выходу, но он, отведя глаза в сторону, сумел сдержаться и лишь сказал главе масонов:
— Прошу вас, не принуждайте меня… пока. Это зрелище, признаться, не вызывает во мне энтузиазма. Возможно, я ещё не смог войти во все… тонкости вашего учения… чуть позже…
Астромов насмешливо пожал плечами:
— Настаивать не смею, но знайте, что путь к высшим масонским степеням лежит в признании своего первоначального равенства со всеми. Так что уж когда-нибудь придется…
— А когда же будет другое… заседание ложи? — спросил Николай, очень боясь, что Астромов не ответит.
— Мы собираемся по четвергам, господин Романов. И все же очень интересно, как вам удалось спастись? Вы мне расскажете когда-нибудь свою историю?
— Несомненно, — кивнул Романов. — В следующий четверг. Уверен, она покажется поучительной даже для генерального секретаря масонской ложи.
Выходил он из дома, где собирались советские масоны, уже без повязки на глазах, а поэтому запомнить, где располагалась ложа, было совсем несложно. В следующий четверг, однако, Николай Романов к масонам не явился, но зато в самый разгар их действа, когда в дверь постучались условным стуком, в квартиру, где царствовала масонская гармония, ворвались чекисты. Эти молодые по большей части люди застали в освещенном ярким светом зале, стены которого были украшены звездами, очень похожими на государственные символы их страны, такую картину, о которой один из чекистов сказал перед сном своей жене, стаскивая с ноги сапог:
— Ну, мать, многое повидал я в свои двадцать три года, но такое, как сегодня, в первый раз…
— А чего ж, Петь, ты такое повидал? — позевывая, облачаясь в холщовую ночную рубаху, спросила у молодого чекиста жена.
Но он, словно решив, что супруга не стоит того, чтобы он делился с ней служебной тайной, только махнул рукой, буркнул себе под нос: "Да, грех содомский" и примостился рядом с беременной третьим ребенком половиной.
***
В Ставке, в белорусском городе Могилеве, он жил в губернаторском доме, участвовал в военных советах, разъезжал по позициям, воодушевлял войска. Его представили к высшей российской воинской награде — к ордену Святого Георгия, — где-то его поезд попал под обстрел, и кто-то из придворных подал идею наградить царя, догадываясь, как приятно будет государю стать Георгиевским кавалером. И царь, как простой офицер, буквально не помнил себя от радости.
Александра Федоровна часто приезжала к мужу в Ставку. Приезжала вместе с детьми, со своей подругой Анной Вырубовой. Они жили в поезде, но в час дня за ними приезжал автомобиль, и они отправлялись в губернаторский дом, к завтраку, а летом трапезничали в саду, в палатке, откуда открывался чудный вид на реку и окрестности Могилева. Все радовались, глядя на Алексея Николаевича: он вырос, возмужал, окреп, пропала его былая застенчивость жизнь в Ставке пошла ему на пользу.
Ценно своими бытовыми подробностями описание обеда в Ставке, оставленное одним очевидцем:
"…все начинают входить в столовую. Там большой стол для обеда и маленький — у окон — с закуской. Царь первый сдержанно закусывает, отходит, к нему присоединяются великие князья. Без стеснений все подходят к закуске. Гофмаршал обходит гостей и указывает, где кому сесть. У него в руках карточка, на которой в известном порядке написаны наши фамилии, имя царя подчеркнуто красными чернилами. Сегодня за столом 31 человек, обычно бывает 26–30.
Когда все закусили, царь идет к своему месту и садится спиной к двери зала. Рядом с ним, справа, Михаил Александрович, слева сегодня бельгийский представитель де Рикель. Рядом с Михаилом — Георгий Михайлович, затем Сергей, Шавельский, Штакельберг, Кедров, я и т. д. Против царя — Фредерикс. Подчеркнутые фамилии означают постоянные места, все остальные меняются, что и составляет особую обязанность гофмаршала, который должен руководствоваться при распределении гостей разными соображениями.
Сразу начинается разговор соседей между собой. Царь почти весь обед говорил с де Рикелем, оба много смеялись, а бельгиец при всей своей тучности просто подпрыгивал на стуле. С Михаилом Александровичем несколько слов в разное время, что и понятно — он свой.
Меню: суп с потрохами, ростбиф, пончики с шоколадным соусом и конфеты, которые стояли с начала обеда посредине стола на нескольких блюдах и тарелках. Перед каждым из нас четыре серебряных сосуда. Самый большой стопка для кваса, красное, портвейн или мадера, все напитки и вина в серебряных кувшинах. Стекла, фарфора и т. п. нет: Ставка считается в походе — ничего бьющегося не должно быть…"
А между тем царице не верят в Ставке из-за связи с Распутиным. Старец опорочил лучшего человека России, и в офицерской среде ко времени свершения февральской революции желание унизить царя было столь высоко, что не стеснялись передавать из рук в руки отпечатанную за границей карикатуру следующего содержания: слева германский император Вильгельм измерял линейкой длину снаряда, а справа на коленях Николай — мерил аршином… Распутина.
И все хохотали, и никто не считал нужным стесняться…
Ступень двадцать вторая НОВАЯ ОППОЗИЦИЯ
— Да берите, берите, не стесняйтесь, пожалуйста! — говорил человек с копной кудрявых волос, живыми, очень неглупыми глазами, разрезая яблоки на большом фарфоровом блюде. Николай, видя как из-под сочных долек на блюдо стекает бесцветная влага, думал о том, что ценой этого с виду безобидного, мирного дела стала кровь его подданных, пролитая с такой же беспечностью, как этот яблочный сок.
— Нет, спасибо, я яблок не ем.
— И зря, и зря, — говорил председатель Ленинградского Совета товарищ Зиновьев — фигура заметная и на общероссийском небосклоне. — Яблоки, знаете ли, способствуют работе мысли. Недаром на Ньютона именно яблоко упало.
И Зиновьев, очень довольный своей шуткой, рассмеялся, вынуждая улыбнуться и самого Николая, которого всесильный правитель его бывшей столицы вызвал в Смольный лично, позвонив ему по телефону, и этого звонка Николай ждал давно, хотя и не знал всего, что стояло за желанием Зиновьева познакомиться наконец с человеком, о котором ему говорили как о лице, очень якобы похожем на расстрелянного царя.
— Чего же вы сидите, как мышь, в подполье, Николай Александрович? говорил Зиновьев, хрустя разжевываемым яблоком. — Вам бы давно ко мне прийти, поговорили бы по душам…
— О чем же? — недоумевал Николай, который уже спустя полгода после суда над масонами, признанными виновными в притоносодержании, оставил мысль стать властелином России. Теперь ему казалось, что все его недавние поползновения вернуть корону были вздорными, основанными лишь на чувстве обиды на судьбу. Он радовался лишь тому, что все сделанное им при большевиках превратило его в настоящего, успокоенного, умудренного опытом человека, и можно было радоваться тому, что жить можно без эскадрона казаков, без ежедневных церемоний, так надоедавших ему прежде, без докучливых рапортов министров, без ответственности перед народом и злобной клеветы газет.
"Для чего, — думал он с радостью теперь, — я стремился вернуть себе власть? Разве власть — это свобода? Нет, это тяжкие оковы, колодки каторжника. Я хотел спасти Россию? Так вот же, она сама как-то спасается, и газеты твердят о том, что начался хозяйственный подъем, промышленность и сельское хозяйство уже едва ли не достигают довоенного уровня. Мощь страны, моей страны, с каждым месяцем все умножается, и Россия постепенно признаётся как держава иностранными государствами. Или я недоволен своей карьерой? Доволен! Я работаю фотографом, и мне так нравится снимать людей, доставлять им радость. Мои дочери замужем и счастливы. Мой сын учится в университете, он, наверное, будет ученым и тоже счастлив. Моя жена перестала плакать, увидев, что в её семью вернулся покой. Нет, она не царица, но царский характер позволил и ей определиться в жизни — она стала председательницей домового комитета, её все любят, к ней приходят за советом, она нужна людям. Да чего же боле? Да, страна — не монархия, но все как-то выправилось, появилась надежда, народ повсеместно учится грамоте. Говорят, есть видимые успехи. Так почему я должен стремиться к власти? Не нужно! Я стал властелином самого себя, и я по-настоящему счастлив, счастлив!"
— Считаете, что нам не о чем говорить? — очень осторожно, боясь обидеть собеседника, выплюнул Зиновьев на руку яблочные семечки. — А лично я думаю, что есть о чем, ещё как! Во-первых, я давно уже слышал о вас со стороны органов, имеющих в нашей стране крайне важное значение. Товарищ Бокий говорил, сообщая при этом весьма забавные, простите, соображения…
— Какие же это? — даже не поворачивая головы в сторону Зиновьева, спросил Николай.
— Да вот это ваше… тождество в фамилии, в том, что вы имеете детей одноименных с теми… врагами народа, короче.
— Еще, наверное, скажете, что я и внешне на Николая Второго похож, да?
Зиновьев, потрогав переносицу, натертую зажимами пенсне, мило улыбнулся и сказал:
— Ну, несколько похожи, несколько. Впрочем, Николай Александрович, я домыслам толпы не склонен верить, потому что человек самостоятельный и… и оригинальный. К тому же ваша последняя услуга, оказанная органам, поистине ценна. Я, признаюсь, не мог и подумать, что в Ленинграде могут существовать масонские организации, да ещё фактически занимающиеся растлением людей. Ну просто бордели какие-то! Скажите, как вам удалось проникнуть в самое логово этих вольных каменщиков?
Николай совершенно неожиданно для Зиновьева протянул руку к блюду и смело взял кусок яблока, с удовольствием разжевал его, улыбнулся и сказал.
— Я притворился, что очень хочу быть масоном, что мне будто бы близки их идеи о нравственном совершенствовании человека. В действительности же я знал, что масонство стремится разрушить государственное устройство. Вот вы возглавляете Совет, а под вашим стулом вдруг находят бомбу, я образно выражаюсь. Вам приятно будет?
— Нет, конечно, приятного в этом мало, — согласился Зиновьев, вглядываясь в лицо Николая с ещё большим интересом, чем прежде. — Так вы, выходит, ярый поборник, защитник существующей власти, так, товарищ Романов?
— Получается, что так. И вашей личной власти в том числе.
Зиновьев усмехнулся:
— С чего бы это вам так заботиться о крепости моей личной власти?
— Ну, во-первых, я знал, что вы сами были когда-то масоном, когда они ещё боролись с самодержавием. Ими являлись и Каменев, Троцкий, Свердлов и, поговаривают, сам товарищ Ленин. И вы представляете, как могла бы быть скомпрометирована коммунистическая партия, если бы советские масоны передали документальные свидетельства о причастности видных большевиков к их тайной организации? Товарищ Сталин, не имевший отношения к масонам и не слишком любящий вас и Каменева, непременно бы воспользовался этими документами, чтобы окончательно погубить вас и тем самым освободиться от назойливых оппонентов и противников. Вот с моей помощью и удалось предупредить выпад масонов в ваш адрес. Думаю, вы должны быть благодарны мне.
— Что ж, я на самом деле вам благодарен, хотя вы и преувеличили несколько степень опасности масонов. Да, когда-то я был в их рядах, но ведь все это в прошлом, — стараясь выглядеть легкомысленным, но, как видел Николай, с тревогой в голосе сказал Зиновьев.
— Преувеличил? — разжевал Николай другую дольку яблока. — О, ничуть! Знаете, у меня сохранились копии с некоторых масонских документов, ещё дореволюционного периода. Хотите, я дам им ход? Тогда вы на деле проверите степень опасности этих сведений. Ну, будете проверять?
— Не стоит, — ледяным тоном сказал Зиновьев. — И вы… вы очень странный, если не опасный человек, товарищ Романов. Вы что же, собрались меня запугивать, шантажировать? Нет, я этого не позволю! Со мной такие штучки не пройдут! Я председатель Ленсовета, я член политбюро Центрального комитета партии.
— Ну и что? — продолжал есть яблоки Николай. — А у меня хоть и нет таких громких титулов, но зато имеются бумажки ещё от старого Департамента полиции, где ваша фамилия — не Зиновьев, а другая, Радомысльский, — черным по белому значится среди братьев масонов. Вот уж товарищ Сталин порадуется, если у него эти документики появятся.
Зиновьев, давно уже водрузивший на свой нос пенсне, чтобы, наверное, лучше видеть того, кто говорил ему такие непозволительные дерзости, пробормотал сквозь стиснутые зубы:
— Ну вы и интриган, скажу я вам! Чего же вы от меня хотите? Вам, видно, не довольно того, что вы — тесть моего помощника. Что, решили карьеру с моей помощью сделать? Ну давайте я подыщу для вас какой-нибудь важный пост в Совете. Будете, к примеру, комиссаром по народному образованию в Ленинграде. Или мало?
— Ой, мало, Григорий Евсеич. Вот если бы ваш пост занять…
— Он, к сожалению, не вакантен! — вскричал Зиновьев, теряя терпение. Или вы попросите меня уйти в отставку? Не получится!
— Знаю, что не получится, — вздохнул Николай. — Вы ведь ради власти и делали революцию. Отнюдь не за счастье трудового народа боролись, а чтобы свое ничтожество возвысить…
— Да что вы себе позволяете, Романов? Вы-то сами кем до революции были? Я узнавал — какой-то там торговец гидравликой! В агентах у немчика Урлауба ходили. Итак, прошу вас назвать цену: я покупаю у вас те бумажки!
Николай печально улыбнулся:
— А чем платить-то будете, мукой, наверно? Мне на партконференции в начале девятнадцатого комиссар Медведко так целый вагон муки предлагал, чтобы я его в покое оставил.
— Вы и к Медведке приставали?
— Не только к нему, но и к Энтину, и к Белогрудову. Всем им я поручение дал, и они его исполнили беспрекословно, потому что очень не хотели быть замешанными в связях с левой эсеркой Варенькой Красовской. А вы, кстати, к Царице Варе в гости не ходили?
— Ваше-то какое дело, ходил или нет! — закричал Зиновьев, багровея. Сейчас же вон идите! Хотя нет, постойте, — замялся председатель Ленсовета, — подождите. Я у вас узнать хотел, какое же поручение исполнили беспрекословно Медведко, Энтин и Белогрудов? Только пули не нужно лить! Я вижу, вы мастер по провокациям!
Николай, так сильно ждавший встречи с Зиновьевым лишь ради того, чтобы познакомиться с этим всесильным правителем его бывшей столицы, уже не мечтавший о возвращении власти, а тем более власти, облаченной в императорскую мантию, с каждой минутой все больше и больше ненавидел этого выскочку, тщеславного и самовлюбленного. Он раньше полагал, что раз уж человек сумел собственными силами добиться столь важного поста, значит, он на самом деле что-нибудь да стоит, наделен умом, способностями, силой воли и энергией. Но ничего выдающегося Николай не увидел — перед ним сидел неврастеник, женолюбец, сластена и человек с самым посредственным умом, к тому же трусливый и готовый подличать, как и другие комиссары, из-за опасения потерять положение. Теперь в Николае снова вспыхнуло прежнее желание, и стремление заменить собой кого-нибудь из высших персон страны целиком захватило его. Он знал, что у Лузгина были масонские протоколы, проданные одним из братьев Департаменту полиции за очень большие деньги, и он также знал, что Лузгин не откажет ему, если будет нужно, и вручит ему эти документы.
— А поручение мое таким было, — потянулся Николай к блюду уже за десятым ломтиком яблока. — Дал им тезисы докладов, и комиссары блестяще справились с заданием: вы помните, конечно, ту горячую полемику о профсоюзах, по вопросам партийной дисциплины и так далее. Можете считать, что вся эта дискуссия — моих рук дело.
— Ну не могу постигнуть, какие у вас резоны были устраивать всю эту катавасию? — искренне удивился Зиновьев. — Может быть, вы, Романов, ненормальный, по вам психлечебница тоскует, вам страшно нравится любоваться скандалами, которые вы сами и творите?
— Да, люблю творить скандалы, вы в самую точку попали. Только на скандал кухарок или извозчиков мне бы неприятно было смотреть. Другое дело — партийные, советские тузы. Тут уж чувствуешь размах, масштаб, будто сумел столкнуть богов, титанов, и сам точно в титана или бога превращаешься, раз уж они повинуются твоим приказам!
Зиновьев уже смотрел на Николая не с испугом и трепетом, а с каким-то живым задором.
— Нет, вы на самом деле сумасшедший какой-то, раз вам нравятся эти картины, нравится быть их создателем. Ах вы и честолюбец! Ну так что, не принимаете портфель комиссара по делам народного образования в Ленинграде? Вы, я заметил, человек-то очень непростой, неглупый — справитесь.
— Да, очень неглупый, очень непростой, — согласился Николай, дожевывая последний кусок яблока, — но именно по этой причине от вашего портфельчика откажусь. Меня не устраивает Ленинград, второстепенная роль этого города. В Москву хочу. Не можете мне помочь?
— Нет, пожалуй, не могу. Сам бы не прочь переехать туда, где обитают лучшие мужи государства Советов, но, увы, приходится довольствоваться Питером.
— Да нет, не говорите мне, пожалуйста, что не можете! — махнул рукою Николай. — Знаю, в декабре нынешнего двадцать пятого года в столице открывается четырнадцатый съезд партии, и вы во главе ленинградской делегации едете туда. Вот и захватиiте меня с собою, выдайте по всей форме мандат с правом пусть не голоса — я же беспартийный, а хотя бы с правом на одно-единственное выступление.
— Вот интересно, — всплеснул руками Зиновьев, — и о чем же вы хотите сказать с высокой трибуны партийного форума?
— О чем? — загорелись глаза Николая. — Вот это-то самое главное. Идея моя оригинальна, но, как вы сможете убедиться, сильно расходится с планом самого товарища Сталина, желающего сделать Советский Союз индустриальной державой. К чему это? — спросил бы я у него. Вы что же, хотите вольных хлебопашцев, свободных хозяев, которые только природе и подчиняются и только налогом со страной рассчитываются, превратить в рабочих, зависимых от машин, от разделения труда, не имеющих ничего? Нет, сказал бы я Сталину, оставьте Россию страной сельского труда, пусть она будет житницей всего мира, коей была до революции, и страiны, где делают машины при помощи рабского труда, сами пришлют нам их в обмен на зерно, наше зерно. И пусть не думает Сталин — он очень этого хочет, — что можно сделать так, что рабочий и крестьянин подружатся, обнимутся и запоют одну песню «Интернационал», к примеру. Такого не будет никогда, потому что раб свободному не товарищ.
Зиновьев выслушал с удовольствием, но с улыбкой сомнения покачал головой:
— Так ведь это же начало оппозиции! Если вы будете членом нашей делегации, то нам нужно будет вас поддержать, и тогда окажется, что мы выступили против генеральной линии партии.
— Браво, как вы догадливы, честное слово! — ударил Николай в ладоши. Этого-то мне и нужно! Ленинград выступит против Москвы, против Сталина. Мы назовем себя "Новая оппозиция", и вы, по сути дела, станете её лидером, а я только лишь идейным вдохновителем. Уверен, что нас поддержит ещё и Каменев, ваш давний приятель. Ведь это о вас двоих Ленин как-то раз сказал политические проститутки?
— У Ильича очень часто рождались крайне неудачные сравнения! — отрезал Зиновьев раздраженно. — Лучше поговорим о деле. Признаться, ваша мысль мне очень близка. Если вы не будете против, мы вместе поработаем над текстом вашего доклада, он может главным оказаться от нашей делегации. Ознакомим с ним товарищей. Уверен, поддержат. Линией Сталина у нас многие недовольны.
— Еще бы! Ведь вы здесь командуете балом. Впрочем, найдем поддержку и в рядах комсомола Ленинграда. Вы разве не знали, что секретарь губкома молодых коммунистов — мой зять, Влас Калентьев? Очень энергичный молодой человек, прямо вам чета, наверно, вверх пойдет, старается.
— Поговорите с Калентьевым вначале вы, а после я вызову его к себе. Молодежь, уверен, пойдет за нами. Ну так вот, что бы ещё такое предпринять?
— Третий зять мой — командарм Подбережный.
— …о-го-го!
— Ну так, может быть, его к нам пригласить?
— Нет, думаю, не стоит! Армию пока оставим-ка в покое. Хватит, довольно сил. Вы, Николай Александрович, затеяли большое дело. С этим делом, с "новой оппозицией", можно и под топор пойти, а можно и… взлететь на небо. На самом деле, при чем тут комиссарство по народному образованию? Хорошо, пока идите, мне о многом подумать нужно. Когда вы принесете мне набросок своего доклада?
Когда Николай ушел, Зиновьев, снова сняв пенсне, стал думать. Этот Романов, так похожий на покойного царя, имевший и одноименных с императорскими детьми дочерей и сына, жену, пугал Григория Евсеича своей нахрапистостью, осведомленностью, умом, обладал к тому же связями. "Да кто же он на самом деле? — размышлял глава Ленсовета. — А может, и не расстреляли Николая, и он снова лезет к власти? Уж у этого-то агента по продаже насосов жажды власти хоть отбавляй!" Он хотел ещё добавить в уме: "Как у меня самого", но не решился на такое сравнение.
"Ладно, — все думал Зиновьев, — пусть едет с докладом в Москву, пусть на него посмотрят другие. Если подозрение в том, что этот Романов имеет отношение к якобы расстрелянному царю возникнет и у других, тем лучше для меня — приберут к рукам того, кто посмел грозить мне, пугать прошлым. Если все пройдет благополучно, тоже хорошо. Доклад мы сделаем как надо, боевой, задиристый, и товарищу Сталину в одно место вставим перо, соберем под свои знамена всех делегатов от уездов, потому что идея наша им, я думаю, близка. А если разрушится и мы получим отповедь со стороны большинства делегатов, то и тут я умою руки — скажу, что кто-то по ошибке выдал мандат незнакомому мне человеку, а я тут ни при чем. Да, пусть поедет с нами этот безбородый царь — на что-нибудь сгодится".
На съезд ленинградцы ехали в особом поезде, вагоны которого, очень чистые, комфортабельные, наполнились принаряженными людьми, чей самодовольный вид издалека давал понять, что в дорогу собрался народ совсем не простой. Николай был в их числе. Он многого ожидал от этого путешествия, потому что антисталинским докладом громко заявлял о себе как о человеке, способном противостоять мнению высшей власти, а значит, быть равным ей по мощи.
Прибыли в Москву. В первопрестольной он не был с тех самых пор, как приезжал сюда в начале мировой войны, к своему народу. Едва вышел из здания вокзала, вспомнил, как ликовали люди, встречая его одиннадцать лет назад, и жажда власти, самодержавной, единоличной загорелась в нем именно в Москве, неутомимо и пламенно. Город, что приятно удивило, не слишком изменился с тех пор — все такое же копошение суетящегося люда, бегущего с лотками и мешками, зазывающего покупателей на свой товар, запах пирогов такой же притягательный и сытный, особенно если он разлит в морозном воздухе. Те же «ваньки» на худых клячах, только лихачей на дорогих рысаках не стало, зато автомобилей стало больше и вывесок с корявыми названиями, вроде «Москоопшвей», «Центробумтрест», «Вцентрсопотребобщ». Главное — но заметил ту особенность не сразу — церкви не звонили — большевики запретили благовест.
На Красной площади, где он не раз принимал парады, у самой стены, стояло крашеное деревянное здание, уступчатое, похожее на пирамиду. Над входом слово «Ленин». Уродливое, так не идущее этой площади здание, однако, точно засосало Николая в свое чрево открытым входом-пастью. Тот, кто стал правителем России, прогнав буржуазное правительство, лежал в страшной открытости взорам каждого, кто хотел взглянуть на мумию, и Николаю вдруг стало очень страшно.
"Да разве ж люди большевики, если отказали этому мертвецу в земле? Разве ж делается так у цивилизованных народов! Варварство какое, Древний Восток! Нет, не хочу так, не хочу! Пусть черви, пусть вода, но только не желтой куклой напоказ каждому, да чтоб мухи ползали по мне. Нет, не хочу!"
И успокоился лишь в Архангельском соборе рядом с костями предков…
"В декабре 1925 года открылся XIV съезд партии.
Съезд происходил в напряженной внутрипартийной обстановке. За все время существования партии ещё не было такого положения, чтобы целая делегация крупнейшего партийного центра, как ленинградская, собиралась выступить против своего ЦК.
На съезде присутствовало 665 делегатов с решающим голосом и 641 — с совещательным, представлявших 643 тысячи членов партии и 445 тысяч кандидатов…
Политический отчет Центрального Комитета сделал тов. Сталин. Он нарисовал яркую картину роста политической и хозяйственной мощи Советского Союза. И промышленность, и сельское хозяйство, благодаря преимуществам советской системы хозяйства, были восстановлены в сравнительно короткий срок и приближались к довоенному уровню. Несмотря на эти успехи, тов. Сталин предлагал не успокаиваться на этом, так как наша страна все ещё продолжала оставаться отсталой, аграрной. Две трети всей продукции давало сельское хозяйство, только одну треть — промышленность. Перед партией, говорил тов. Сталин, стоит во весь рост вопрос о превращении нашей страны в индустриальную, экономически независимую от капиталистических стран. Это возможно сделать, и это нужно сделать. Центральной задачей партии становится борьба за социалистическую индустриализацию страны, борьба за победу социализма…
Против генеральной линии партии выступили зиновьевцы…" (История Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), краткий курс, редактированный Сталиным).
А теперь — ещё одна выдержка, на этот раз из коленкоровой тетради Николая Романова. В ней отразилось его собственное впечатление, оставленное съездом.
"Нет, уж насколько я не любил Думу за наглые речи в адрес правительства, меня лично, но все же в Думе работало много умных, самостоятельно думающих людей (хоть и мерзавцев). Здесь же, в белоколонном зале, украшенном кумачами аршинной ширины с цитатами из великого Ленина, сидели послушные воле Сталина манекены с оловянными глазами, умевшие лишь поднимать руку с мандатом при голосовании. Я-то понимаю, что Сталину и нужны такие люди в партии, — полное послушание, но разве приятно ощущать, что руководишь болванами? А слышали бы вы и видели, как рукоплескали делегаты топорным речам Сталина! Но вот настал и мой час…
Вышел на трибуну, совсем не волнуясь, но чувствовал, как провожал меня взглядом он, сидевший в президиуме. Казалось, пронзительные эти карие глаза пригвоздят меня к полу, чтобы остался на месте, но, главное, я, искоса взглянув на Сталина, вдруг почему-то догадался, что этот малообразованный, но звериным нутром чувствующий человек уже все знает про меня. Когда читал доклад, читал при замершем зале, не ожидавшем моей "уклонистской речи", ощущал спиной, будто у меня сзади, совсем рядом со мной, выросла холодная ледяная глыба. Спину просто жгло от прильнувшего ко мне льда, а со лба, что странно, струился пот, что не мешало мне, однако, читать громко, часто отрываясь от листа и обращаясь к залу. Признаться, никогда прежде, когда нужно было выходить к народу с речами, я не испытывал такого наслаждения, наслаждения от собственной силы, уверенности в себе, от своего ума и блистательного красноречия. С годами мой голос стал громче, как-то гуще и проникновенней. Мне сейчас казалось, что каждый должен был убеждаться в правоте моего мнения, но спина все же горела. Неужели у него такой тяжелый взгляд?
Кончил говорить, успел выпить глоток воды и вытереть платком лоб, и началось… Короче, партконференция, где выступали мои «агенты» могла показаться раем в сравнении с тем, как вели себя делегаты, подученные, скорей всего, теми, кого я критиковал. С мест неслось:
— Контрреволюционная гадина!
— Не верит в построение социализма в России, подлюка!
— В Питер, нет, в Сибирь его выслать, недобитка буржуазного!
Но председатель, всласть наслушавшись оскорблений в мой адрес, предложил открыть прения, и почти такая же грязь, что и реплики с мест, полилась с трибуны, но люди Зиновьева тоже не дремали. Выходили с готовностью защитить меня, и скоро все поняли, что в зале, кроме преданного Сталину большинства, образовались сразу два уклона, правый и левый, только мне так и не удалось понять, к какому же принадлежу я. Подвели итог прениям, и оказалось (так и должно было быть), что съезд единодушно отверг капитулянтские планы оппозиционеров (то есть мои) и записал в своем историческом решении, что "страна диктатуры пролетариата имеет все необходимое для построения полного социалистического общества".
Когда покидали зал, Зиновьев очень незаметно пожал мне руку. Лично мне казалось, что меня сейчас же арестуют, но все обошлось. Признаться, такого счастья я не испытывал ни разу в жизни. Я был властелином зала, ругателем Сталина, человеком мужественным и равным в могуществе ему самому. И мне больше ничего не нужно было. Я рвался домой, в Питер, чтобы поскорее увидеть своих и рассказать им, как я счастлив".
А в феврале 1917 года в его столице, в Петрограде, голодный люд, солдаты толпами вышли на улицы под красными флагами и с лозунгами, требуя хлеба и прекращения войны. Царь в Ставке о многом ещё не знал. Послал командующему округом приказ беспорядки прекратить, не догадываясь, сколь сильно не любят его те, кто призывал к свержению самодержавия. И 27февраля восставшие рабочие и перешедшие на сторону революции солдаты взяли в Петрограде в свои руки почтамт и арсенал, мосты, вокзалы, важнейшие правительственные здания.
Николай спешит в Петроград, чтобы на месте увидеть, насколько глубоко вонзился в тело монархизма нож революции, но путь у Малой Вишеры оказался перекрытым. И императорский поезд помчался в Псков, где и предстала перед Николаем во всей своей горькой откровенности картина свершившегося.
Когда в Пскове царь узнал о том, что народные представители предложили ему отречься от короны, он лишь попытался узнать, насколько отречение необходимо именно России, насколько согласна с этим армия. Если во имя спокойствия страны отречение необходимо, то на обратном он и настаивать не собирается — он служит России, и, если держава больше не нуждается в его службе, он с легкостью оставит пост.
И вот приходят ответы от командующих фронтов — все они признали необходимость отречения. К тому же они отрекались не от самодержавия как принципа правления. Нет, их не устраивал сам Николай — престол доставался цесаревичу Алексею при регентстве брата Николая, Михаила. Но мечущийся Николай узнал от лечащего Алешу врача, что бессмысленно делать ставку на цесаревича — мальчик долго не проживет. И вот уже в Петроград летит телеграмма Николая:
"Его императорскому величеству Михаилу Второму.
События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники".
Если бы Николай, подписывая отречение, хотя бы на миг представил, что подписывает приговор не себе как самодержцу, а самому самодержавию, он бы никогда не согласился на этот поспешный шаг. Михаил от трона отказался тоже…
…Николай прибыл в Царское Село из Могилева, куда отправился из Пскова после отречения, совсем ненадолго. К Александровскому дворцу, в котором он прожил практически все царствование, подъехал на автомобиле. Здесь его уже ждала семья, переведенная на положение домашнего ареста новой властью — Временным правительством. Он молча подошел к жене и разрыдался. Николай уже не был Николаем Вторым, а представлял собой гражданина Романова.
Ступень двадцать третья ВЛАСТЕЛИНЫ
Коньячок в ополовиненной бутылке подрагивал в такт стуку колес, и Климент Ефремович Ворошилов, нарком по военным и морским делам, председатель Реввоенсовета, сидя на койке купе в одних кальсонах, по-турецки поджав под себя ноги, все смотрел на дрожавшую жидкость, боясь, что бутылка качнется и полетит на пол. Ему очень хотелось выпить ещё коньяка, но он как-то стеснялся сидящего напротив него товарища Сталина, который сегодня отчего-то был сумрачен и молчалив, а поэтому пил мало.
— Иосиф Виссарионыч, ей-Богу, не нравится мне этот Питер, куда мы едем! — заговорил вдруг Ворошилов, желая хоть чем-то развлечь попутчика. Такой гадкий, скверный город, что хоть волком вой. Климат там болотный, люди все угрюмые, злые, друг на друга собачатся, а все бабы художопые и тонконогие. — Потом, наклоняясь к Сталину поближе, чуть не падая с полки, с тихим смешком сказал: — Может, потому и революции там часто бывают?
— Что, из-за тонконогих женщин? — вскинулся Сталин, обдав наркома жаром огненного взгляда. — Ты говори, Клим, да не заговаривайся. Пей, пей коньяк, умнее будешь. Я вот на виноградной лозе взращен…
Когда Ворошилов опрокинул в себя стопку коньяка и сладко чмокнул при этом, Сталин угрюмо спросил:
— Ты, Клим Ефремыч, на съезде каких-нибудь… странных людей не замечал?
Нарком вскинул вверх свои широкие плечи, ответил так:
— Да черт их знает, странных-то много. Зиновьева хотя бы взять. Я бы мрази этой, уклонисту, яйца бы своей рукою открутил, не поморщился.
— Бог с ним, с Зиновьевым, — спокойно молвил Сталин, пыхая дымом трубки. — Его я давно уж знаю. Ты… Романова запомнил? Из ленинградской делегации, такой, с усами…
— Ну, видел эту контру. Собственноручно бы его, из нагана… — И Ворошилов тряхнул кулаком с побелевшими от напряжения костяшками пальцев.
— Нет, Клим, ты мне вот что скажи: этот Романов кого-нибудь тебе напомнил?
И снова нарком пожал плечами:
— Ну, мужик себе и мужик. Только очень подлый, ушлый, прямо из кожи лез, чтобы генеральную линию под корень пустить. Я бы его…
— Не надо, Клим, не торопись, ещё успеем… — спокойно, чуть даже сонно промолвил Сталин и окутал себя густым табачным дымом, как бы воздвигая между собою и наркомом, снова потянувшемуся к коньяку, непреодолимую преграду.
Сталин ехал в Ленинград инкогнито, и только Ворошилов знал, что в поезд, когда все уже уселись в своих купе, пришел сам генеральный секретарь. Группа видных представителей ЦК — Молотов, Киров, Ворошилов, Калинин и другие — мчались сразу после съезда в Ленинград, чтобы разобраться с тем, что там случилось. Невиданное дело! Ленинградцы проголосовали против резолюции партсъезда, а потом пришло известие, что и верхушка питерского комсомола отказалась подчиниться Сталину, его позиции. Да, нужно было разобраться, но Сталин, сев в поезд незаметно, доверившись лишь Клименту Ворошилову, ехал в Ленинград совсем не за тем, чтобы поддержать своих в наведении порядка в северной столице. Оппозиционная болтовня ему была не страшна. Страшным казалось совсем другое.
Там, на съезде, едва он увидел подходящего к трибуне делегата Романова, шедшего решительной, твердой поступью, сразу что-то сдвинулось, заскрипело в его душе, будто многотонные каменные плиты, из которых была сложена его натура, были подвинуты чем-то не менее могучим, чем он сам. Вроде бы и человек этот был невысокого росточка, и внешность его выглядела совсем невзрачной, но Сталин, в сердце таивший уверенность в своей богоизбранности, в своем необыкновенном уме и способностях, вдруг ощутил, что вблизи этого человека он словно теряет силу и власть. Можно было предположить, что на трибуне появился сам Сталин, а этого Иосиф Виссарионович принять никак не мог.
— Слушай, Клим, — обратился Сталин к уже полуспящему Ворошилову, — ты, как приедем в Ленинград, разузнай все об этом Романове поподробней. Ну там, когда родился, где женился, сам понимаешь. Не нравится мне этот человек, а почему не нравится, сам пока не понимаю…
— И мне не нравится, товарищ Сталин, — с длинным зевком ответствовал нарком, а Иосиф Виссарионович ещё долго сидел в расстегнутом кителе, из-под которого виднелась белоснежная рубашка, курил и думал.
То, что узнал Сталин о Романове в Ленинграде, поразило его ещё сильнее, чем то чувство, что испытал он на съезде. Органы в обстоятельном рапорте поведали Сталину и о его дореволюционном прошлом, и о детях, и о жене, о характере деятельности в последние годы. Не забыли рассказать об услугах, оказанных Николаем Романовым ЧК, ГПУ, и Сталин, потратив на изучение материалов битых три часа, совершенно потерялся. Он позвонил в Москву, затребовал в нужном отделе материалы о гибели Романовых, представленные в отчетах Екатеринбургского Совета, и к концу дня, когда на широком столе смольнинского кабинета уже лежало все, что можно было знать о Романове-докладчике и о последнем дне Николая Второго, Сталин ощутил необыкновенное волнение: понимал, что прикоснулся к тайне, открыть которую возможно только Богу. Всю ночь он просидел в низком кресле, затянутом белым полотняным чехлом, соображая. Странные мысли блуждали в его голове: прежде он не чувствовал себя недостойным управлять великой державой, а теперь будто кто-то стоял с ним рядом и все твердил, что быть повелителем России он не может по причине того, что низкороден, не понимает значения власти и не умеет ею пользоваться.
— Слушай, Клим, — позвонил он наутро, — а приведи ты ко мне гражданина Романова, ну, того, которого, ты сам понимаешь…
Ворошилов все понимал.
Николай же, приехав домой после съезда счастливый и какой-то умиротворенный, снова принялся за привычное дело. Необыкновенное облегчение, которое почувствовал он, возвратясь, будто вылущило из его сознания желание властвовать. Он был доволен жизнью, каждым её днем, и солнце всходило теперь только для него одного, но, когда ему позвонили и велели приехать в Смольный, а зачем, не сказали, Романов вдруг понял, что готовится что-то ужасное, способное вдруг поменять и разрушить весь ход его налаженной жизни.
— А кто просит приехать? — только и спросил Николай.
— Вас ждет сам товарищ Сталин. Нужно ли ещё объяснять, товарищ Романов?
И Николай разом вспомнил ту ледяную глыбу, что прислонилась к нему со спины, когда он стоял на трибуне.
Его вызывали к пяти, и Николай, давно не имевший машины, решил, что пойдет в Смольный пешком. Был январь 1926 года. Снег в этот день валил густыми мокрыми хлопьями, но Романов, простившийся с Александрой Федоровной и Алешей, шел по мосту через Неву, подставляя лицо падавшему снегу, потому что был уверен: назад он не вернется. Когда миновал Дворцовый мост и уже собирался свернуть налево, какая-то неясная мысль забрезжила в его голове: "Зайти к Лузгину? Но чем он может помочь? При чем тут Лузгин? Ах да, он когда-то мне говорил, что у него… у него что-то есть, но я тогда отмахнулся, не стал и слушать. Надо к Лузгину идти! Только бы он оказался дома". И он быстро зашагал к Вознесенскому проспекту, а когда поднимался по темной грязной лестнице, каждая ступень, которую он преодолевал с огромной тяжестью, вызывала в памяти те двадцать три ступени Ипатьевского дома. Нет, он не боялся смерти, потому что был уже немолод. Он не думал также, что Сталин, догадавшись о том, кто он такой, стал бы преследовать его семью, связанную родственными узами с видными советскими деятелями. Николай переживал сейчас за то, что так и не удалось ему заменить власть большевиков своей, царской властью, и все мечты об этом теперь казались ему ребяческой затеей, неумной, а поэтому потерпевшей крах.
— Я снова к вам, — сказал он, проходя в комнатушку Лузгина и даже не радуясь тому, что хозяин оказался дома. — Но уверен, что захожу к вам в последний раз. В Ленинграде Сталин, и сегодня в пять часов я буду у него. Вызвали…
— Батюшка, Николай Александрович! — по-бабьи закудахтал Лузгин, сильно постаревший за последний год. — В гору, в гору пошли! Читал о том, какую вы бузу на съезде-то учинили. Прямо мятеж Кронштадтский или того похлеще! Но отчего же в последний раз-то, говорите? Чего боитесь? Теперь вы человек известный, сам Зиновьев вам покровительствует.
— Что с того? Я почему-то догадываюсь, что Сталин… меня узнал, потому и вызывает. Я видел, как он на меня смотрел. Этот восточный человек — тиран самый настоящий. Я мог бы успокоиться, видя в нем царское начало, но это — не русский царь, а вроде какого-нибудь Навуходоносора или Ашшурбанапала. Ему непонятен русский народ, он будет губить его сотнями тысяч ради достижения отвлеченных целей и личного благополучия. Помогите мне, Мокей Степаныч! Как-то вы говорили, что у вас имеется изобличающая Сталина бумага, какой-то документ. Это правда?
— Да, правда, правда, и документ силы необыкновенной, — заторопился Лузгин. Да только как вы его использовать хотите? Ведь если у вас встреча с Джугашвили тет-а-тет, и вы окажетесь в его власти, то и бумажкой этой вам воспользоваться трудно будет. Ну, покажете вы ему её, а он возьмет да и отберет её у вас, в клевете обвинит, и вы, ещё не зная, зачем он вас к себе позвал и какие виды на вашу персону имеет, сами себя и погубите. Лишь документ пропадет! Вот если бы копию фотографическую ему вначале показать да попугать — это другое дело.
Николай вздохнул:
— Нет уже времени делать копии, не поспею. Дайте ваш документ, Лузгин. Я найдусь, что Сталину сказать. Не пропадет бумага…
Лузгин с минуту как бы размышлял, закусив губу, потом решительно шагнул к шкафу, качнул его в сторону, и обнажилась дверца тайника. Долго рылся Мокей Степаныч в документах, наконец извлек тоненькую картонную папку, подал Николаю:
— Раскройте и прочтите. Сами увидите, что Сталин за такую-то бумажку отдал бы вам по меньшей мере пост председателя Совета Народных Комиссаров. Но если действовать неумело, так бумага эта лишь погибели вашей посодействует. Ну, читайте…
Николай, достав из пиджака футляр с очками и вооружив ими глаза, прочел документ вслух, и по мере того, как он читал, голос Романова становился все более торжествующим, а под конец он даже не сдерживал своего злорадства и ликования вместе:
"Заведующий Особым Департаментом полиции 12 июля 1913 года. Совершенно секретно.
Лично начальнику Енисейского охранного отделения А.Ф. Железнякову.
Милостивый государь Алексей Федорович!
Административно высланный в Туруханский край Иосиф Виссарионович Джугашвили-Сталин, будучи арестован в 1906 году, дал начальнику Тифлисского губернского жандармского управления ценные агентурные сведения. В 1908 году начальник Бакинского охранного отделения получает от Сталина ряд сведений, а затем, по прибытии Сталина в Петербург, Сталин становится агентом Петербургского охранного отделения. Работа Сталина отличалась точностью, но была отрывочная. После избрания Сталина в Центральный Комитет партии социал-демократов в г. Праге Сталин, по возвращении в Петербург, стал в явную оппозицию правительству и совершенно прекратил связи с Охранным отделением.
Примите уверения в совершенном к Вам почтении.
Еремин".
— Ну и как документик, Николай Александрович? Хорош? — довольный произведенным впечатлением, спросил Лузгин, когда Романов кончил читать и с горькой улыбкой на лице смотрел куда-то в угол комнаты.
— Хорош! Не то слово, Мокей Степаныч, не то! Вот они, эти пламенные революционеры, пришедшие к власти. Оборотни, хамелеоны! Сегодня он продает своих товарищей охранке, а завтра, когда его избрали в Центральный Комитет, чувствуя другую выгоду, изменяет своим хозяевам. Я уже ненавижу этого Сталина как человека! И он собрался управлять моей страной? С таким-то прошлым?
Николай поднялся, засунул папку под шубу, засобирался уходить, был взвинчен, тороплив. Лузгин, с накинутым на плечи пледом, с какой-то беспомощной, детской, но в то же время мудрой улыбкой следил за Николаем, а потом сказал.
— Ну, царь-государь земли Русской. Будьте осторожны и умны, аки змий. Если сгубите сегодня голову свою, мне тоже больше жить незачем.
Николай шагнул к человеку с несуразной головой, с блестящими от слез глазами обнял его и крепко поцеловал в губы.
К Смольному подошел не ровно в пять, а в четверть шестого — дорогой не слишком торопился. Часовой, уже предупрежденный о появлении какого-то Романова, провел Николая в вестибюль, где передал дежурившему здесь военному.
— А, Романов! — рассматривая паспорт, резко сказал человек в фуражке со звездой. — Что ж опоздали? Вас же сам товарищ Сталин ждет, а вы валандаетесь где-то!
— Примите-ка иной тон, дружище! Выговоры он, видите ли, мне делать будет. Ведите к Сталину! — отпарировал Николай, стаскивая с плеч шубу и передавая её часовому.
Военный больше ни слова не сказал, только, покуда шли по гулким коридорам Смольного, то и дело искоса поглядывал на странного в своей непозволительной в этих стенах дерзости уже пожилого мужчину с седоватыми усами, державшего под мышкой тоненькую папку.
— Оружия, надеюсь, с собою не имеете? — спросил угрюмо у Николая, когда направились прямо к одной из дверей.
— Только — это, — с улыбкой потряс Николай своей картонкой, а военный, недоуменно взглянув на папку, промолчи.
— Товарищ Сталин, — приоткрыв дверь и робко просунув в помещение голову, сказал военный, — к вам гражданин Романов. Впустить?
И Николай услышал из-за дверей по-кавказски протяжное, звучное:
— Пусть войдет!
Сталин стоял посреди небольшого кабинета в кителе защитного цвета, застегнутом до подбородка, натянутом шаром объемистого пузца. Николай вошел и остановился в двух метрах от него, не желая ни приближаться к Сталину, ни произносить каких-либо приветствий. И Сталин будто выжидал, когда к нему подойдут, когда поздороваются с ним. Так и стояли мужчины в каком-то оцепенелом молчании, вперившись взглядами друг в друга.
— Здравствуйте, товарищ Романов, — сказал Сталин наконец, потому что пауза затянулась до неприличия, и Николаю сразу как-то стало легко, будто он уже сделал первый шаг к победе. — Садитесь в это кресло, прошу вас, величественным жестом указал Сталин на два зачехленных кресла, что стояли рядом с небольшим круглым столиком на резных ножках.
Николай прошел и сел. Сталин медленной походкой проследовал к другому креслу и тяжело, грузно опустился в него. Сидели и молчали, посматривая друг на друга прямо и смело, не стесняясь своих прямых взглядов. И генеральный секретарь заговорил с улыбкой, растягивая слова:
— Ну что же, товарищ Романов, давайте выкурим с вами трубку мира, а потом и побеседуем. Вы курите?
— Курю.
— Ну так вот берите — папиросы отличные, сам курю такой табак, — и протянул Николаю коробку, что стояла на столе.
— Благодарю, у меня свои, — коротко ответил Николай и полез за портсигаром.
— Зря, зря не взяли, — стал глуше голос Сталина, — когда трубку мира курят, то один табак курят, товарищ Романов. Я вот вас товарищем называю, а не гражданином, хотя вы на съезде совсем не по-товарищески себя вели. Чем вам не нравится мой план индустриализации? Вы разве не хотите видеть Советский Союз промышленно развитой страной? Хотите, чтобы мы зависели от Запада?
— Я уже говорил, — затягиваясь дымом, резко сказал Николай, — что Россия — это крестьянская страна, крестьянин — собственник и свободен, счастлив в этом. Пожалуйста, делайте страну промышленной, но оставьте нетронутым сельское хозяйство.
— Ах, как вы неверно рассуждаете, товарищ Романов, — выдавливая табак из папиросы в трубку, а потом долго, тщательно прессуя его большим пальцем, говорил Сталин. — Крестьянин — собственник, это верно, но при социализме возможна только общенародная собственность. Значит, вы против социализма?
— Да, против, — очень просто ответил Николай, не переставая глядеть на сильного мужчину, сидевшего в метре от него. Он ощущал, что Сталин тоже воспринимает исходящую от него энергию, понимая, с кем имеет дело, видя в нем достойного противника, а поэтому был готов говорить сейчас все, что думал.
Сталин молчал долго, делая вид, что очень увлечен процессом втягивания в себя дыма, но Николай знал, что тот хочет начать очень важный для него разговор, но все не решается. Однако Сталин спросил:
— А вы знаете, товарищ Романов, в чьем кабинете вы сейчас сидите?
Николай, окинув взглядом небогатую обстановку кабинета, пожал плечами:
— Да откуда же мне знать?
— В кабинете товарища Ленина…
— Правда? — искренне удивился Николай. — Как здесь скромно, почти убого!
Он на самом деле не мог поверить в то, что когда-то всесильный Ленин не мог завести для себя более солидное рабочее помещение. Он помнил, каким роскошным был его личный кабинет.
— Скромно, очень скромно, — согласился Сталин. — Таким вот скромным человеком был товарищ Ленин.
— А вы, мне кажется, уже совсем другой породы властелин, — ядовито улыбнулся Николай. — Поди, уже в мою Ливадию на отдых ездите, в Крым-то?
Точно электрический разряд по невидимой проволоке пробежал от Николая к Сталину, он вздрогнул, дернул веком и медленно сказал:
— Да, верно, этим летом отдыхал в Ливадии. Но какое вы слово странное сказали, товарищ Романов. В «мою» Ливадию? Что значит это слово? Или вы настолько увлеклись тем, что носите фамилию покойного царя, что решили, будто сами царь? А вы не маньяк, товарищ Романов? У вас не мания величия?
Эта фраза была сказана насмешливо-пренебрежительным тоном. Сталин даже улыбался и чуть раскачивал трубкой в такт словам, но Николай все же видел, как потускнели карие глаза Сталина, сделавшись чужими, отсутствующими, не имеющими связи с мимикой улыбающихся губ.
— Нет, не мания, а просто… просто естественное желание ощущать себя тем, кем я являюсь по своему происхождению. Вы, верно, уже интересовались моим прошлым, и вам сказали, что я работал в торговой фирме. Но нет, не верьте этому — это лишь прикрытие. Доверьтесь скорее своим зорким кавказским глазам. Присмотритесь к моему лицу. Конечно, за последние годы я сильно изменился, нет привычной бороды, я поседел, но что-то осталось, не так ли? Просто тогда, в июле, в Екатеринбурге, те, кто хотели меня убить, не справились с возложенным на них заданием. Спасся я, вся моя семья, а в Москву был послан ложный отчет. Впрочем, в доме Ипатьевых на самом деле расстреляли одиннадцать человек, чтобы дать доказательства своей исполнительности. Но среди них не было Романовых. Как вы думаете, мог ли я любить вашу власть, тех, кто стремился зарезать моих милых детей, мою жену? Я и сейчас вас ненавижу! Ненавижу!
Сталин безуспешно пытался извлечь дым из потухшей трубки, его щеки то и дело втягивались, и Николай видел, как шевелились при этом уши Сталина. Романов ждал, что он скажет, но на душе теперь было удивительно легко, точно из тела вынули огромную занозу, свербившую, коловшую на протяжении многих лет.
— Если вы так ненавидите нас, то и вам пощады тоже быть не может, наконец проговорил Сталин, и Николай увидел, что его рука потянулась к белой кнопке звонка, привинченной прямо к столу, но ещё прежде, чем палец Сталина успел надавить на кнопку, Николай сказал:
— Нет, подождите, я ещё не все сказал, товарищ Сталин-Джугашвили.
Палец Сталина, коснувшись кнопки, остановился.
— А что ещё вы можете сказать? По-моему, с вами все ясно. Зачем же выдавать себя за другого человека? Вы враг народа, гражданин Романов, вы тиран, а с тиранами у нас разговор короткий.
— Но ведь и вы-то себя за другого человека когда-то выдавали! азартно возразил Романов. — В девятьсот шестом году, изображая из себя революционера, работали на Охранное отделение, предавали своих товарищей. И такой-то человек встал во главе всей партии большевиков!
Изумление и ненависть исказили до этого спокойное, величавое лицо Сталина. Он привстал с кресла, подался вперед, глядя прямо в глаза Николаю, и с ещё более заметным акцентом спросил:
— А как ви узнали про это?
— Как? Но ведь Департамент полиции находился в моем, императорском ведении, и документы же имелись. Не желаете взглянуть на подлинник?
И Николай подал Сталину папку. Генеральный секретарь читал документ долго, бугры желваков то здесь, то там поднимались на его лице, наконец улыбка растянула его губы, и он сказал:
— Эту жалкую подделку нужно отнести в уборную, чтобы ею могли воспользоваться по назначению! Разве вам не известно, бывший Николай Второй, что в деловых бумагах охранки агенты никогда не назывались настоящими фамилиями и именами — всегда лишь кличками. У вас же мое имя проставлено полностью. Кто-то очень захотел скомпрометировать Сталина, вот и изготовил фальшивку.
— Нет, подождите! Вы разве не заметили, когда составлена бумага? В девятьсот тринадцатом году, когда вы уже не были агентом охранки, значит, сотрудникам Отделения не нужно было заботиться о сохранении вашего инкогнито — вы для них как агент уже были безразличны, оттого-то и проставили фамилию. Так что не спешите называть документ фальшивкой. Кстати, если вы захотите его сейчас порвать, проглотить или просто спрятать в свой карман, знайте, что я заранее сделал две сотни фотокопий и мои друзья предупреждены: если со мною что-нибудь случится, эти копии будут направлены по городским и низовым партийным организациям, по заводам, в газеты, и ваша большевистская песня будет спета навеки. В стране есть немало охотников сбросить вас с поста генсека, так что приготовьтесь. Впрочем, вы справедливо получите то, что заслужили!
Сталин поднялся из-за стола резво, по-молодому, заходил по кабинету, тщетно пытаясь на ходу разжечь трубку, бормотал что-то то ли по-русски, то ли по-грузински, и Николаю даже казалось, что он или примется душить его, или бросится перед ним на колени. Какой-то животный, звериный рык вырвался из горла Сталина, его рука поднималась к горлу. После семи минут хождения по комнате реального властелина Советского государства Николаю подумалось, что этот сильный, гордый, но такой тщеславный, себялюбивый человек не сможет решиться на выбор и упадет здесь замертво, пораженный сердечным приступом, или выбросится в окно, ведь и потеря власти после громкого скандала, и её потеря по доброй воле будут смертельными для его самолюбия.
— Сядьте, я должен сказать вам два слова… — произнес наконец Николай, и в голосе его прозвучало сочувствие. Сталин сел в кресло, безвольно опущенные руки ясно говорили, как тяжело ему сейчас. Николай же, закурив новую папиросу, заговорил: — Я знаю, вам не благополучие России необходимо, а ощущение неограниченной власти. Я сам такой, и не могу быть иным, но мне к тому же ещё и жаль мой народ. Скажите, когда вы отправляетесь в Москву?
— Послезавтра, — сквозь стиснутые зубы проговорил генсек.
— Отлично, я еду с вами вместе. С этой минуты я становлюсь вашим альтер эго, вашей тенью. Теперь я буду следовать за вами повсюду, следить за каждым вашим шагом, составлять все ваши речи, присутствовать явно или тайно на заседаниях высших партийных и государственных работников. Я заменю вас в управлении страной, потому что лучше вас знаю, что нужно русским. Внешне все будет соблюдено в рамках строгого паритета: вы представляете собой обличье руководителя страны, становитесь его человеческим символом, визитной карточкой, я же наполняю эту пустую оболочку содержанием и волей. Когда-то я был оболочкой без содержания, теперь же все меняется. Разве вам не удобен подобный вариант? Вам даже не понадобится трудиться, и в нравственном аспекте вы будете чисты и независимы. В случае промаха, политической неудачи мучиться за вас будет Николай Романов, но не думайте, что я стану подводить вас, предполагая, что всю вину придется взять вам на себя. Итак, теперь мы будем вместе, подобно тому как душа и тело в человеке взаимно друг друга обогащают. Я хочу России блага, и я дам его стране. Ну, так вы согласны? Впрочем, иного пути у вас и не может быть. Скажу еще, что вполне возможно, что я, увидев, как в стране идут дела, оставлю вас в одиночестве. К тому же я старше вас больше чем на десять лет, так что смерть одной из половин нашего конгломерата естественно прервет такой союз.
Сталин, тяжело сглотнув и дернув за воротник кителя так, что медная пуговица, вырванная с корнем, запрыгала по полу, сказал:
— Прошу вас, вызовите из коридора того, начальника караула. Пусть распорядится принести коньяк. Эта кнопка не работает, ещё утром отремонтировать просил…
Они ещё долго сидели в кабинете с убогой мебелью, и никто не знал, о чем вполголоса шептались товарищ Сталин и Николай Романов. Вечером Николая на автомобиле доставили домой, от него пахло грузинским коньяком, в расстегнутой шубе он уселся прямо посредине комнаты на стул. Когда Александра Федоровна, седая, но все такая же величественная, уставилась на мужа с немым вопросом в глазах, он, пряча улыбку, сказал:
— Готовься к отъезду, в первопрестольную едем!
У Александры Федоровны по щекам потекли слезы. Она перекрестилась и опустилась перед мужем на колени.
Держа молчавшего Алешу на руках, крепко прижимая к себе легкое, худенькое тело сына, слыша, как стучит его сердце, Николай спускался вниз. Зачем-то он стал считать ступеньки, почти бессознательно желая, чтобы их оказалось четное число, тогда все в его жизни, в жизни его родных закончилось бы удачей.
"Двадцать три!" — с горечью подумал он, закончив счет и не надеясь больше ни на что. Их вывели во двор. Теплая летняя ночь совсем ненадолго распростерла над Романовыми свои темные покровы, а Николай уже знал, что никогда не увидит звездного неба.
Их ввели в полуподвал. Когда зачитывали приговор, он не слушал, хотя и догадывался, что произойдет вслед за этим. На сердце отчего-то было легко и спокойно, потому что вечная жизнь уже готовилась впустить его в свои чертоги, светлые, мудрые, тихие. А когда загрохотали выстрелы, его душа покинула мрачный подвал, взметнулась над городом, пролетела над лесом. Мчалась долго, с радостью замечая, что рядом несутся души жены и детей. Внизу бурлила, кипела страстями земная жизнь, и душа Николая некоторое время следила за этой чуждой ей жизнью, но потом, взметнувшись вверх, уже не интересовалась ничем земным, упокоившись в соседстве с Великим и Вечным.




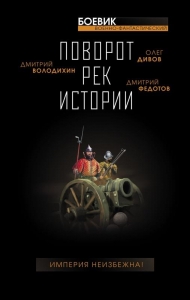


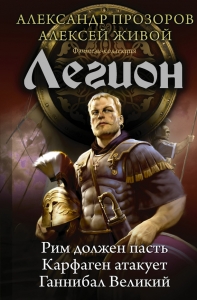
Комментарии к книге «Возвращение Императора, или Двадцать три ступени вверх», Сергей Васильевич Карпущенко
Всего 0 комментариев