Роберт Силверберг ЦАРЬ ГИЛЬГАМЕШ (сборник)
ЦАРЬ ГИЛЬГАМЕШ
1
Есть в ограде Уруке огромный помост, сложенный из обожженного кирпича, который был площадкой для игр богов задолго до потопа, в те времена, когда человечество еще не было создано и только одни боги населяли землю. Каждый седьмой год покрывали кирпичи помоста тончайшим слоем белого гипса, так что он сверкал, как огромное зеркало под окном солнца.
БЕЛЫЙ ПОМОСТ — это обиталище богини Инанны, которой посвящен наш город. Многие цари Урука воздвигали храмы на помосте для Инанны, а из всех этих храмов богини не было ни одного более величественного, чем тот, который был построен моим царственным дедом, героем Энмеркаром. Зодчие трудились двадцать лет, чтобы его построить, а церемония освящения продолжалась одиннадцать дней и одиннадцать ночей без перерыва, и все это время каждый вечер луна подергивалась пеленой голубого света в знак великой радости Инанны. «Мы дети Инанны, — пели люди, — а Энмеркар — ее брат, да царствует он во веки веков».
От храма ныне ничего не осталось, ибо я разрушил его. Я вступил на трон, и построил куда более величественный храм на месте разрушенного. Но в свое время это было чудо света. Это место всегда будет иметь для меня особый смысл: в его пределах, в один прекрасный день на меня снизошла мудрость, и жизнь моя была определена, я был поставлен на путь, с которого не было возврата.
Был день, когда дворцовые слуги оторвали меня от моих игр, потому что мой отец, божественный царь Лугальбанда, отправлялся в последнее свое путешествие. «Лугальбанда отправляется ныне в лоно богов, — говорили они мне, — и он пребудет вечно среди них в радости и веселье, будет пить их вино и есть их хлеб». Я думаю и надеюсь, что они были правы. Но может оказаться, что последнее путешествие моего отца привело его вместо рая в землю, откуда нет возвращения, в дом тьмы и праха, где его душа печально бродит, как птица с подбитыми крыльями, питаясь сухой глиной. Не знаю.
Я тот, кого вы зовете Гильгамеш. Я пилигрим, который видел все на земле и далеко за ее пределами; я человек, которому все вещи стали понятны, все тайны, все истины жизни и смерти, особенно тайны смерти. Я сочетался с Инанной на ложе СВЯЩЕННОГО БРАКА, я убивал демонов и разговаривал с богами, я на две трети бог и только на одну треть смертный. Здесь, в Уруке, я царь. Я прохожу по улицам один, ибо нет никого, кто осмелился бы подойти ко мне слишком близко. Я не хотел, чтобы это было так, но слишком поздно что-либо сейчас менять: я одинок, я в стороне от других и так будет до конца моих дней. Было время, когда у меня был друг, который был сердцем моего сердца, душой моей души, но боги забрали его от меня, и он более не вернется.
Должно быть, мой отец Лугальбанда знал одиночество, подобное моему, ибо он был бог, царь и великий герой своих дней.
Образ моего отца ясен в моей памяти после всех этих лет: широкоплечий, высокий человек, который ходил раздетым по пояс во все времена года и носил только длинную сборату — шерстяную юбку от бедер до щиколоток. Кожа у него была гладкая и темная от солнца, борода густая и вьющаяся, как у жителей пустынь, хотя в отличие от них он брил голову. Лучше всего я помню его глаза — темные, блестящие, огромные. Казалось, они заполняли все его лицо: когда он подхватывал меня и держал перед собой, мне казалось, что я уплыву в огромное озеро этих глаз и потеряюсь навеки в душе моего отца.
Я редко видел его: слишком много было войн, в которых надо было сражаться. Год за годом он вел вперед колесницы, чтобы подавить очередное восстание в подвластном, но неспокойном государстве Аратта далеко на Востоке; ему приходилось рассеивать и отгонять набеги кочевников пустыни, которые крали наше зерно и угоняли скот; он вел колесницы, чтобы показать нашу мощь перед одним из наших великих городов-соперников Кишем или Уром. Когда он не был на войне, он совершал паломничество, которое он должен был совершать к святым местам — весной в Ниппур, осенью в Аэриду. Даже когда он был дома, у него для меня было не много времени, поскольку он был занят необходимыми празднествами и ритуалами года, собраниями городского совета, делами суда справедливости или надзором за работами, которые приходилось выполнять, чтобы содержать в порядке наши каналы и дамбы. Он обещал мне, что будет время, когда он научит меня деяниям мужчин и мы будем вместе охотиться на львов в болотистых краях.
Этому времени не суждено было настать. Злобные демоны, которые вечно подстерегают нашу жизнь, ожидая в ней минутной слабости, никогда не устают. Когда мне было шесть лет, одно из таких существ все-таки сумело проникнуть за высокие стены дворца и вцепиться в душу Лугальбанда, царя Лугальбанды, и унести его из этого мира.
А я и не знал, что происходит. В те дни жизнь для меня была только игрой. Дворец, это величественное место с укрепленными башнями над входами, с фасадами, полными сложных, красиво вырезанных ниш и величественных колонн, был для меня местом игры. Весь день я носился по дворцу и жизненные силы никогда меня не оставляли. Я носился, смеясь и крича, и падал, царапая руки. Даже тогда я был вполовину выше любого мальчика моего возраста и, соответственно, сильнее. Поэтому своими товарищами в играх я выбирал старших мальчиков, грубоватых сыновей конюхов и чашников, ибо братьев у меня не было.
Мы играли в воинов, боролись, или дрались на палицах. В это время как-то внезапно толпы жрецов, колдунов и изгонителей демонов стали шнырять по дворцу туда-сюда. Был сделан глиняный идол демона Намтару и поставлен возле изголовья больного царя. Затем жаровню наполнили углями и положили туда кинжал. На третий день с приходом ночи кинжал вынули и вонзили в образ Намтару. Образ был похоронен там, где стена соединяется с полом. Зарезали молодого поросенка, и сердце его было предложено демону, чтобы он удовольствовался им. Покои окропили водой и постоянно пели молитвы. Каждый день Лугальбанда боролся за свою жизнь, и каждый день он понемногу проигрывал эту битву. Об этом мне не говорили ни слова. Мои товарищи по играм посерьезнели и старались не бегать, не кричать и не мериться со мной силой. Я не знал почему, а они не сказали мне, что мой отец умирает, хотя я думаю, что они наверняка это знали и знали также, каковы будут последствия его смерти.
Как-то утром хранитель дворца пришел ко мне и сказал: «Положи свою палицу, мальчик! Довольно игр! Сегодня тебя ждут деяния мужчин!» Он велел мне совершить омовение и одеться в мои самые дорогие вышитые одежды, окружив свой лоб кольцом золотой фольги и лапис-лазури. В таком виде я должен был отправиться в покои моей матери, царицы Нинсун, и оттуда вместе с нею пойти в храм Энмеркара, сказал он.
Я пошел к царице, не понимая зачем эти приготовления, ибо этот день не был священным праздником. Мою мать я увидел одетой в ярко-багряную шерстяную накидку, ее головной убор сиял топазами, халцедонами и гранатами, а с золотых нагрудных пластин свисали амулеты слоновой кости в виде рыб и газелей. Ее глаза были подведены сурьмой, а щеки накрашены темно-зеленым, так что она казалась существом, поднявшимся из глубин моря. Она ничего мне не сказала, молча повесив мне на шею фигурку из красного камня, изображающую демона ветра Тазуру, как будто она за меня боялась. Она слегка погладила меня по щеке. Ее рука была прохладной.
Мы вышли в огромную галерею фонтанов, где множество людей ждали нас. Огромной процессией, какую я когда-либо видел мы все отправились в храм Энмеркара.
Двенадцать жрецов шли во главе процессии. Они были нагими, как и подобает жрецам, когда им надлежит предстать перед лицом Бога. За ними следовали двенадцать обнаженных жриц. За ними-шагали две дюжины высоких воинов, которые сражались в битвах Лугальбанды. Они были в полном тяжелом вооружении — медные шлемы, топоры, щиты и все остальное. Мне их было особенно жалко, потому что это был месяц Абу, когда летняя жара тяжелее всего давит на землю, и ни одна капля дождя не выпадает на землю.
Следуя за воинами, шли люди дома Лугальбанды: домоправители, служанки, чашники, фокусники, акробаты, конюхи, возничие, садовники, музыканты, танцовщицы, цирюльники, купальничие и вся остальная челядь. Каждый из них был одет в тонкую накидку, которых я раньше на них не видел. Они несли знаки своих профессий, как будто готовились прислуживать Лугальбанде. Большую часть этих людей я знал: они служили во дворце задолго до моего рождения. Сыновья их были моими товарищами в играх, а иногда в их домах я разделял с ними трапезу. Когда я улыбался и махал им рукой, они отворачивались, и лица их оставались серьезными.
Последним человеком в этой группе был один, кто был мне особенно дорог. Вприпрыжку я промчался со своего места в конце процессии, чтобы пойти вместе с ним. Это был старый Ур-Кунунна, — придворный арфист — длинноногий седобородый человек с очень серьезными манерами и с добрыми глазами. Ему приходилось жить во многих городах, и он знал все гимны и все легенды. Каждый вечер он пел во дворце, во внутреннем дворике, посвященном Нинхурсаг. Я сидел у его ног часами, когда он касался струн своей арфы и пел легенды о браке Инанны и Думузи или о том, как Инанна спускалась в подземный мир, или пел об Энлиле и Нинлиль, или о путешествии богини луны Нанны в город Ниппур или о герое Зиусудре, построившем великий ковчег, на котором человечество пережило потоп. Боги отблагодарили его вечной жизнью на земле, которую мы знаем под именем Дильмун. Он также пел нам о войнах моего деда Энмеркара с Араттой и знаменитую песню о путешествиях Лугальбанды, когда он еще не был царем. Однажды Лугальбанда вошел в такое место, где воздух был ядовит, и чуть не расстался с жизнью. Его спасла богиня. Многим из этих песен Ур-Кунунна научил и меня, он научил меня играть на своей арфе. Он всегда относился ко мне тепло и нежно и никогда не выказывал нетерпения. Но сейчас, когда я бежал вприпрыжку рядом с ним, он был каким-то отрешенным; как и все остальные он ничего не говорил, и когда я жестом показал ему, что могу понести его арфу, он почти грубо отстранил меня. Моя мать отозвала меня назад, туда, в конец процессии, где шла она и пять ее прислужниц.
Мы шли вниз по бесконечным рядам дворцовых ступеней, по улице Богов, по тропе Богов, которая ведет в округ Эанны, где находятся храмы, и по множеству ступеней на Белый помост и оттуда, ослепленные отражением блистательного солнечного света, к храму Энмеркара. На всем протяжении нашего пути на улицах стояли молчаливые горожане, должно быть, там было все население Урука.
На ступеньках храма Инанна ожидала, чтобы встретить нас. Я задрожал, когда увидел ее. С незапамятных времен богиня владела Уруком и всем, что в нем находится. Я боялся ее власти надо мной. Та что стояла там, разумеется, была жрицей Инанны, из человеческого рода, а не сама богиня. Но в те времена я не знал разницы между ними и думал, что я нахожусь перед самой царицей небес, дочерью Луны. В какой-то степени так оно и было, поскольку богиня воплощается в женщину, хотя я не мог по своей молодости понять таких тонкостей.
Инанна, которая встретила нас в тот день, была старая Инанна, с лицом ястреба и ужасными глазами. Потом богиня вселилась в более прекрасную женщину, но и она была не менее свирепа, чем эта. Она была одета в яркий плащ багряной кожи, натянутый на деревянную раму таким образом, что он резко взмывал за ее плечами и высоко вздымался над ней. Грудь ее была обнажена и кончики сосков раскрашены. На руках у нее были медные украшения в форме змей, ибо змея — это священное животное Инанны. Ее шею обвила не медная змея, а живая толщиной в два или три пальца. Змея была сонная в этой страшной жаре и едва высовывала свой черный раздвоенный язык. Когда мы проходили мимо нее, Инанна обрызгала нас надушенной водой из позолоченного кувшина, и заговорила с нами тихим певучим шепотом. Она говорила таинственным языком почитателей Богини, языком тех, кто следует древним путем. Этот язык существовал на Земле до того, как мой народ спустился на землю с гор. Все это меня пугало, потому что было серьезно и так необычно.
В огромной галерее храма находился Лугальбанда. Он лежал на широком ложе из полированного алебастра и, казалось, спал. Никогда он не казался мне таким царственным: вместо обычной складчатой юбки до колен на нем была длинная, мантия из белой шерсти и темно-синий плащ, богато затканный золотыми и серебряными нитями. Золотым порошком была посыпана его борода, так что она сверкала, как солнечный огонь. Возле его изголовья вместо короны, которую он носил при жизни, была рогатая корона царя, который вместе с тем и Бог. Около левой руки лежал его скипетр, украшенный кольцами лапис-лазури и мозаикой ярко раскрашенных раковин, а возле его правой руки был замечательный кинжал с золотым лезвием, рукояткой из лапис-лазури и золотыми пластинками, а ножны к нему были сделаны из золотых нитей и напоминали сплетенные травинки. Возле него на полу грудой были сложены несметные сокровища: кольца и серьги из серебра и золота, кубки из чеканного серебра, доски для игры в кости, шкатулки для притираний, алебастровые кувшинчики с редкими ароматами, золотые арфы и лиры, похожие на бычьи головы, маленькое серебряное подобие его колесницы и одна из его шестивесельных ладей, кубки из обсидиана, цилиндрические печати, вазы из оникса и халцедона, золотые миски и столько столько всего остального, что я не мог поверить во все это изобилие. Вокруг ложа моего отца со всех четырех сторон в почетном карауле стояли известные граждане города, их было человек двадцать.
Мы заняли места перед царем — моя мать и я — в центре группы. Дворцовые слуги столпились вокруг нас, воины в полном вооружении окружили нас с обеих сторон. Из храмового двора донесся глубокий низкий звук лилиссу, большого барабана, в который бьют только тогда, когда Луна закатывается. Затем я услышал более легкий звук маленьких барабанчиков, балаг, и пронзительный визг глиняных свистулек. Под эти звуки Инанна вошла в храм, предваряемая своими обнаженными жрецами и жрицами. Она направилась к возвышению у задней стены галереи. В храмах Ана или Энлиля там была бы статуя Бога, но в храме Инанны в Уруке нет нужды в идолах, ибо сама богиня живет среди нас.
Началась церемония моления и воспевания. Большая часть ее была на языке древнего пути, который я тогда не знал, а сегодня с трудом понимаю, ибо древний путь — религия женщин, религия богинь, и они сохраняют его в тайне. Были возлияния вина и масел, привели быка и барана и закололи их, а их кровью обрызгали моего отца. Семь золотых подносов воды опустошили как дары семи планетам и произвели еще много других священных ритуалов.
Змея Инанны проснулась и скользнула по ее груди, раздвоенный язык шевелился, глаза уставились на меня, и я перепугался. Я чувствовал присутствие богини, присутствие напряженное и удушающее.
Я подвинулся поближе к доброму Ур-Кунунне и прошептал:
— Мой отец мертв.
— Нельзя разговаривать, мальчик.
— Пожалуйста, ну пожалуйста. Он умер? Скажи мне.
Ур-Кунунна взглянул на меня с высоты своего огромного роста, и я увидел в его глазах мудрость, нежность и любовь ко мне. Я подумал, насколько же его глаза похожи на глаза Лугальбанды, какие они темные и большие и как они заполняют все его лицо! Он мягко сказал:
— Да, твой отец умер.
— А как это бывает, когда ты умрешь?
— Нельзя разговаривать во время церемонии.
— А Инанна умерла, когда она спустилась в подземный мир?
— Да, на три дня умерла.
— А это что, как если ты заснешь?
Он улыбнулся и ничего не сказал.
— Но потом она проснулась и вернулась обратно? А мой отец проснется? Он вернется снова, чтобы править Уруком, Ур-Кунунна?
Ур-Кунунна покачала головой:
— Он проснется, но не вернется, чтобы править Уруком.
Затем он прижал палец к губам и больше не разговаривал, оставив меня одного размышлять над значением, смерти. Вокруг меня продолжалась церемония. Лугальбанда не шевелился, он не дышал, глаза его были закрыты. Это было как сон. Но это должно было быть больше, чем сон. Это была смерть. Когда Инанна спустилась в нижний мир и была мертва, это был повод для великого траура в небе, и ОТЕЦ ЭНКИ приказал, чтобы ее вернули к жизни. А сделает ОТЕЦ ЭНКИ так, чтобы Лугальбанда вернулся к жизни? Нет, думаю, что нет. Где же теперь Лугальбанда, куда он пойдет дальше?
Я слушал пение и дождался ответа: Лугальбанда был на пути к дворцу Богов, где он вечно будет жить в обществе небесного отца Ану и отца Энлиля и отца Энки, мудрого и сострадательного, и всех остальных. Он будет пировать в трапезной Богов и пить с ними сладкое вино и черное пиво. И я подумал, что не такая уж это горькая судьба, если он действительно отправляется туда. Но откуда мы знаем, что он именно туда ушел? Как можем мы быть в этом уверены? Я снова повернулся к Ур-Кунунне, но тот стоял, закрыв глаза, напевая и раскачиваясь. Я остался наедине с мыслями о смерти, силясь понять, что же происходило с моим отцом.
Кончилось пение. Инанна сделала знак, и десять высокородных горожан стали на колени и подняли на плечи массивный алебастровый катафалк, на котором лежал мой отец. Они вынесли его из храма через боковой вход. Моя мать и я возглавляли процессию, а сзади шла жрица Инанны. Мы прошли через Белый помост и направились на Запад. Через несколько сот шагов мы оказались в остроугольной тени храма Ан. Я увидел, что в сухой песчаной земле между Белым помостом и храмом Ан была выкопана огромная яма и в нее вел пологий спуск. Мы расположились у самого спуска, остальные горожане тысячным кольцом собрались вокруг ямы, и вдруг странное дело: служанки моей матери-царицы окружили ее и стали снимать ее богатые и дорогие одежды одну за одной, пока она не осталась обнаженной в ярком солнечном свете на виду у всего города. Мне вспомнился рассказ об уходе Инанны в подземный мир: как она спускалась все глубже и глубже, оставляя свои одежды. Я подумал, не готовится ли моя мать спуститься в эту яму? Потом ее прислужница Алитум, похожая на мою мать Нинсун так, что казалось, будто они сестры, шагнула вперед и сняла свои одежды. Служанки стали надевать багряный плащ моей матери на Алитум, потом головной убор и нагрудные пластинки, а одежды Алитум надели на мою мать. Когда переодевание было закончено, трудно было сказать, кто из них Нинсун, а кто Алитум, потому что лицо Алитум было тоже накрашено зеленой краской, как и у моей матери.
А потом я увидел своего товарища Энкихегаля, сына садовника Гурнишага. Он медленно шел ко мне между двумя жрецами. Я окликнул его, когда он подошел поближе, но он мне не ответил. Глаза у него были стеклянные и странные. Казалось, он меня вообще не узнал, хотя только вчера я носился с ним из конца в конец огромного дворца Нинхурсаг.
Теперь жрецы начали снимать с меня мою вышитую одежду и надели ее на Энкихегаля, а мне дали его простые одежды. Они забрали мой золотой головной убор и надели его на голову Энкихегаля. Я был с него ростом, хотя он был на три года старше, и плечи мои были так же широки, как и его. Когда мы обменялись одеждой, они оставили стоять Энкихегаля возле меня, а Алитум стояла возле моей матери.
Подъехала повозка на полозьях, которую везли два осла. Она была раскрашена синей, белой и красной краской, а на ее боковых щитах были золотые львиные головы с гривами из лапис-лазури и перламутра. Огромные груды сокровищ были навалены на повозку. Колесничий Лудингирра, воевавший вместе с моим отцом, шагнул вперед. Он сделал долгий глоток из большого винного кубка, который принесли жрецы, резко фыркнул и потряс головой, словно вино было горьким. Натянув вожжи повозки, он медленно скатил ее вниз, в глубокую яму. Рядом шагали два конюха, чтобы успокоить и сдерживать ослов. Потом последовала вторая, третья повозка, и каждый из возниц, каждый из конюхов пил вино. В яме оказались серебряные и медные сосуды, обсидиан, алебастр, мрамор, доски для игр и стаканчики для костей, кубки, набор стамесок, золотая пила и еще много-много всего, и все было таким великолепным. Затем воины во всеоружии спустились вниз, в яму; дворцовые слуги, цирюльники, садовники, несколько высокорожденных прислужниц, волосы которых были убраны в золотые сетки, а головные уборы были из граната, лапис-лазури и перламутра, последовали за ними. Все они пили вино. И все это молча, только ритмично бил барабан лилиссу.
Вслед за этим один высокорожденный горожанин, который был среди несших катафалк моего отца из храма, подошел к моему отцу. Он поднял рогатую корону, что лежала возле отца, высоко поднял ее и показал всем, и она сияла на солнце. Я не имею права записать имя, под которым этот высокорожденный был тогда известен, ибо потом он стал царем Урука, и нельзя произносить или писать нареченное имя того, кто становится царем. Царское имя, которое он принял, было Думузи. И вот тот, кому суждено было стать Думузи, протянул рогатую корону на Юг, на Восток, на Север, на Запад и потом надел ее на голову моего отца. Великий вопль исторгли люди Урука.
Только Бог носит рогатую корону. Я повернулся к Ур-Кунунне и спросил:
— Мой отец теперь стал Богом?
— Да, — тихо сказал старый арфист. — Лугальбанда стал Богом.
Тогда я тоже Бог, подумал я. Головокружительное ощущение высочайшего восторга пробежало по моим жилам. Или, по крайней мере, как я говорил себе, я хотя бы частично Бог. Часть меня должна быть все-таки смертной, предполагал я, поскольку я родился от смертных. Тем не менее дитя Бога должно быть в какой-то степени Богом, разве нет? С моей стороны дерзко было так думать. Но воистину мне пришлось убедиться, что так оно и было, что я частично Бог, хотя и не совсем.
— А если он Бог, тогда он вернется из мертвых, так же как другие Боги, которые умерли и вернулись обратно? — спросил я.
Ур-Кунунна улыбнулся и сказал:
— В этом никогда нельзя быть уверенным, мальчик. Он Бог, но я думаю, что обратно он не вернется. А теперь попрощайся с ним.
Я увидел, как три здоровенных постельничих и трое колесничих подняли алебастровый катафалк и начали спускаться с ним в яму. Прежде чем они подняли его, они попробовали горькое вино. Из ямы они не вернулись. Никто из тех, кто спустился в яму, не вышел обратно. Ур-Кунунне я сказал:
— Что это за вино они пьют?
— Оно дает мирный сон, — ответил он.
— И они все будут спать в земле?
— В земле, да. Вместе с твоим отцом.
— А я его тоже буду пить? И ты тоже?
— Ты его выпьешь, но не сейчас. Пройдет много лет, прежде чем ты это сделаешь. Я надеюсь, что это будет не скоро. Я же выпью вино сейчас.
— Ты будешь спать в земле возле моего отца?
Он кивнул головой.
— До завтрашнего утра?
— Навеки, — сказал он.
Я подумал над этим.
— Тогда это очень похоже на смерть.
— Очень похоже на смерть, мальчик.
— А все остальные, кто спустились вниз, они тоже умирают?
— Да, — сказал Ур-Кунунна.
Я подумал и над этим.
— Но ведь умирать очень страшно! А они пьют без звука, и потом спускаются в темноту твердым шагом!
— Очень страшно попасть в Дом Праха и Тьмы, — сказал он, — и жить, блуждая во тьме и питаясь сухой глиной. Но те из нас, кто идет с твоим отцом, попадают во дворец Богов, где мы вечно будем служить ему.
И он продолжал рассказывать мне, как почетно умереть вместе с царем. Я видел в его глазах ясный свет мудрости и необыкновенную радость. Тогда я спросил его, как он может знать, что попадет во дворец Богов вместе с Лугальбандой, а не в Дом Праха и Тьмы. Огонь в его глазах погас, он грустно улыбнулся и ответил, что ни во что нельзя верить окончательно, а особенно в это. Он дотронулся до моей руки, отвернулся и сыграл мне короткую мелодию на арфе, затем шагнул вперед, выпил вино и спустился в яму, напевая по дороге.
В яму спустилось еще около шестидесяти или семидесяти человек. Последние двое были Алитум в одежде моей матери и с ее украшениями и мальчик Энкихегаль в моей одежде, и я понял, что они умирают вместо нас. Это поселило во мне страх и я подумал, что если бы обычай был чуть другим, я бы пил это вино и спускался» в яму. Но страх был тогда только маленькой мышкой, ибо в то время я все-таки не до конца понимал истинное значение смерти и думал о ней как о каком-то сне.
Барабаны затихли, и рабы стали кидать землю в яму, она должна была все закрыть: и колесницы, и ослов, и сокровища, и конюхов, и прислужниц, и дворцовых слуг, и тело моего отца, и арфиста Ур-Кунунну. Потом стали работать ремесленники, запечатывая вход кирпичами необожженной глины, так что через несколько часов не осталось и следа от того, что под ними лежит.
Все, кто пришел сюда и не спустился в яму вслед за царем, вернулись в храм Инанны.
Осталась моя мать, я, высокородные горожане и другие важные лица, но не было никого из дворцовых слуг и воинов, ибо они остались в яме с моим отцом. Мы собрались перед алтарем, и я почувствовал присутствие богини совсем рядом, — оно почти душило меня. Буря противоречивых чувств бушевала в моей душе. Я никогда не чувствовал себя таким одиноким, таким брошенным. В мире для меня было столько тайн. Казалось, что я грезил наяву. Я оглянулся, ища глазами Ур-Кунунну. Разумеется, его здесь не было, и вопросы, которые я хотел ему задать, уже никогда не получат ответа. И тут пришло мое понимание смерти: те, кто мертвы, недосягаемы для нас и не ответят, когда мы их зовем. Я чувствовал, будто мне протянули кусок обжаренного мяса, я собрался его съесть, а меня оставили кусать воздух.
Кругом звучали молитвы, снова и снова били барабаны, а я думал только о смерти. Я думал, что мой отец ушел навсегда, но это не плохо, поскольку он стал Богом. Он и меня отчасти сделал Богом. У него никогда не хватало для меня времени: то он был на войне, то еще где-то, хотя он и обещал научить меня деяниям мужчин в один прекрасный день. Этому я научусь от кого-то другого. Ур-Кунунна тоже ушел. Я никогда не услышу его пения. И мальчик Энкихегаль, мой товарищ по играм, и его отец Гинишаг, садовник, и все те, другие, кто был частью моей повседневной жизни, — все ушли, исчезли. Их больше нет. Меня оставили кусать воздух.
А я? Я тоже умру?
Нет поклялся я, я не позволю такому случиться со мной. Только не со мной. Я ведь отчасти Бог. И хотя Боги иногда умирают, как умерла однажды Инанна, когда спустилась в подземный мир, они умирают ненадолго. Так и я.
Ведь я должен столько увидеть в этом мире, сказал я себе, и совершить великое множество подвигов. Я брошу смерти вызов, решил я. Я одолею смерть. Я чувствую к смерти презрение и не уступлю ей. Смерть, ты мне не противник! Смерть, я тебя одолею!
Потом я подумал, что если я все-таки когда-нибудь умру — ну что же, я ведь только отчасти Бог, и мне суждено быть царем, — я отправлюсь на небеса, как Лугальбанда. Мне не придется спускаться в мерзкий ДОМ ПРАХА И ТЬМЫ, как это должны делать обычные смертные.
Еще я подумал, что в этом нельзя быть уверенным. Даже Инанна спустилась вниз в это страшное место, хотя ее и избавили от такой участи, но если я туда отправлюсь, разве меня избавят? Я почувствовал великий ужас. Неважно, кто ты, думал я, неважно, сколько слуг и воинов уснут в погребальной яме, чтобы они служили тебе в загробной жизни, все-таки ты можешь быть послан в это страшное мерзкое место, и презрение к смерти, которое я чувствовал секунду назад, уступило место страху — всепоглощающему страху, который пронесся по моей душе, как великий холод, странное чувство вошло в мою душу, то странное чувство, которое приходит, когда человек спит, и я не знал, спал ли я в этот момент или нет. На мою голову словно давили, она готова была лопнуть. Такого чувства я никогда не испытывал, хотя мне приходилось встречаться с ним много раз позже, и оно ощущалось куда сильнее чем в первый раз, когда оно лишь слегка коснулось меня. Это Бог пытался войти в меня. В этом я уверен, хотя и не знаю, какой Бог.
Но я знал тогда, что это был Бог, а не демон, потому что он принес мне послание: «Ты будешь царем и царем великим, а потом ты умрешь. Ты не избежишь этой судьбы, как бы ты ни пытался».
Я не смог тогда принять ни этого Бога, ни его послания. В моей душе не было места для признания подобных вещей, — я был всего-навсего ребенком.
В хаосе чувств я вдруг увидел перед собой фигуру смерти со скрюченными когтями и трепещущими крыльями и с вызовом выкрикнул: «А я от тебя убегу!»
Я почувствовал в себе на мгновение великую храбрость, которая секундой позже уступила место все большему и большему ужасу. Они сейчас все спят в яме возле Лугальбанды, подумал я. А где я буду спать? Где буду я спать?
Я почувствовал головокружение. Бог стучался в мой мозг, требуя, чтобы я впустил его. Но я не смог ни уступить, ни устоять, потому что страх смерти сковал меня, такого со мной никогда не случалось. Я зашатался, протянул руки к Ур-Кунунну, но его тут не было, и я упал на пол храма и лежал там, потеряв счет времени.
Чьи-то руки подняли меня и нежно обняли.
— Горе одолело его, — сказал кто-то.
Нет, подумал я. Горя я не чувствую. Путешествие Лугальбанды — дело Лугальбанды. Меня заботит моя собственная задача, а не его, ибо его дело умирать, а мое — жить. Не горе бросило меня наземь, а Бог пытался проникнуть в мою душу, пока я стоял, окутанный ужасом. Но я им этого не сказал.
2
В месяц Кизилиму, когда тяжелые зимние дожди, как косы, косят землю, Боги подарили нового царя Уруку. Это произошло в первый час месяца, в тот момент, когда новый полумесяц Луны в первый раз появился на небе. Раздался барабанный бой, вопли труб, и при свете факелов мы проделали путь до округа Эанны к Белому помосту, к храму, построенному моим дедом Энмеркаром.
— Царь явился! — кричали люди на улицах. — Царь! Царь!
Город не может существовать без царя. Богам надо служить: в нужное время должны быть принесены необходимые жертвы небесам, ибо все мы их творения и их рабы, поэтому надо приносить в жертву зерно, надо приносить мясо. Значит надо очищать колодцы, рыть и расширять каналы, поливать поля в засушливое время и откармливать скот. Чтобы совершать все это, надо чтобы поддерживался порядок, и именно царь несет это бремя. Он людской пастырь. Без царя все подвергнется разрухе, а Боги, создавшие нас, чтобы удовлетворять их нужды, останутся неудовлетворенными.
Три трона были воздвигнуты в великом зале дворца. Тот, что стоял по левую руку, нес на себе знак Энлиля; тот, что стоял справа, был отмечен знаком Ан. Трон в центре обрамляли два огромных снопа тростника, связанных между собой верхушками. Это был знак богини, ибо Инанна правит в Уруке.
На троне Энлиля лежал скипетр, на троне Ан лежала золотая корона, которую носил мой отец, когда был царем. На троне в центре сидела жрица Инанны, такая роскошная, что моим глазам больно было на нее смотреть.
В ту ночь на ней не было одежды, и все же нагой она не была. Ее тело было сплошь покрыто украшениями, бусины ляписа каскадами спускались по ее груди, чресла ее были прикрыты золотым треугольником, в волосах извивалась золотая цепь, золотой обруч охватывал ее бедра, драгоценные камни сверкали по всему телу, они были на животе, на бедрах, на носу, возле глаз. Серьги — несколько пар — были золотые и бронзовые в форме новой Луны. Кожа ее была намазана благовонными маслами и в свете факелов блистала так, как если бы ее освещало какое-то внутреннее сияние.
Трон окружали те придворные, которые не отправились в погребальную яму с Лугальбандой: главный конюший, носильщик трона, военный советник и водяной советник, государственный писец, надсмотрщик над рыбными садками, сборщик налогов, главный управляющий, надзиратель границ и многие другие. Единственный, кого я среди них не увидел, был тот высокородный вельможа, который надел божественную рогатую корону на чело моего мертвого отца. Он отсутствовал по уважительной причине, потому что он и был тем человеком, которого выбрала Инанна, чтобы одарить его в этот день царством, а царю не разрешается входить в храм богини, пока она не приказала ему явиться. Спустя годы я постарался, чтобы этот обычай был изменен.
До того как новому царю прикажут явиться в храм, должно было пройти много часов, по крайней мере так мне представляется в моих воспоминаниях. Сперва шли молитвы, возлияния, воззвания к каждому Богу по очереди, начиная от самых младших. И Галимма, привратник Богов, и Дуншагана, их управляющий, и Энлюлим, божественный пастух, и Энсигнун, Бог колесничих, и много других. Я едва мог их сосчитать, пока наконец не дошел до Энки, Энлиля и Ан. Время было позднее, и глаза у меня сами закрывались, я с трудом пытался не заснуть.
Потом мне стало ужасно скучно. Казалось никто не помнил или не хотел знать, что я здесь. Монотонное пение все продолжалось, и в какой-то момент я побрел прочь в темноту, куда не проникал свет факелов, и обнаружил вход в тоннель, который вел в лабиринт меньших храмов. Мне показалось, что там я услышал шорох невидимых крыльев и где-то вдали резкий царапающий смех. Мне стало страшно, и я пожалел о том, что ушел из большого зала. Но найти обратно дорогу я не смог. В отчаянии я взмолился Лугальбанде, чтобы он вывел меня.
Но вместо Лугальбанды за мной пришла одна из послушниц Инанны, высокая девушка с блестящими глазами, лет десяти или одиннадцати. На ней было только семь нитей голубых бусин вокруг талии и пять амулетов: розовых раковин, вплетенных в концы ее волос, а тело ее было разрисовано змеями. Она рассмеялась и сказала:
— Куда ты забрался, сын Лугальбанды? Ты пытаешься найти ворота в подземный мир?
Я возмутился насмешкой в ее голосе. Я выпрямился, хотя она все равно была выше меня, и сказал:
— Оставь меня в покое, девчонка. Я — мужчина.
— Ах мужчина! Вот как! Да так оно и есть, сын Лугальбанды! Ты великий человек!
Мне было непонятно, смеется она надо мной или нет. Я весь затрясся от негодования и бешенства на самого себя, потому что я не понимал игру, которую она вела со мной. Тогда я был слишком молод. Взяв меня за руку, она притянула меня к себе, как куклу, и прижала мое лицо к холмикам своих грудей. Я почувствовал ее резкий аромат. «Маленькое божество», — прошептала она, и опять ее тон был где-то между иронией и подлинным почтением. Она гладила меня и называла по имени. Когда я пытался от нее вырваться, она взяла мои руки в свои и притянула к себе так, что мои глаза заглянули в ее глаза. Она удержала меня и прошептала: «Когда ты станешь царем, я буду лежать в твоих объятиях!» В этот миг в ее тоне совсем не было насмешки.
Я с изумлением уставился на нее. Я снова почувствовал странное прикосновение ко лбу, как будто Бог всего лишь на миг касался моей души. Губы мои задрожали и скривились, я готов был расплакаться, но не смел себе этого позволить.
«Пойдем, — сказала она. — Тебе нельзя пропустить церемонию коронации, маленькое божество. Тебе потом пригодится знать, как делаются такие вещи».
Она отвела меня в большой зал как раз в тот момент, когда зазвучали флейты, затрубили трубы, послышался звон цимбал и тамбуринов: новый царь наконец вступил в храм. Он был обнажен до пояса, в складчатой юбке. Его длинные волосы были заплетены в косы, обернуты вокруг головы и собраны сзади в пучок. Он зажег шарик благовоний и возложил дары перед каждым из тронов: золотой сосуд, наполненный каким-то душистым маслом, ману серебра и богато вышитый плащ. Затем он коснулся лбом земли перед Инанной и поцеловал землю у ее ног. Они поднес ей плетеную корзину, доверху наполненную зерном и плодами. Богиня поднялась с трона и сияла в свете факелов и туч. «Я Нинпа, владычица скипетра, — сказала она таким низким голосом, что я не мог поверить, что голос женский, она взяла царский скипетр с трона Энлиля и дала его царю. — Я Нинменна, владычица короны, — сказала она и взяла золотую корону с трона Ан и надела ее на голову царя. Затем она назвала его нареченное имя, которое с этой минуты никогда нельзя будет снова произносить, затем она назвала его царственным именем, говоря:
— Ты — Думузи, великий человек Урука. Так велят боги».
В большом зале послышались несомненные звуки изумления: ахи, шепот, кашель. Только спустя долгие годы я понял причину этого удивления. Дело было в том, что новый царь выбрал себе имя Бога и совсем даже не маленького Бога. Никто, насколько помнят люди, не делал такого прежде.
Разумеется, я знал Бога Думузи. Любой ребенок знает эту повесть: божественный пастух добился того, что богиня Инанна стала его женой. Он правил царем в Уруке тридцать шесть тысяч лет до тех пор, пока Инанна не продала его демонам подземного мира, чтобы он занял ее место под землей. Таким образом она смогла спасти себя от демонов подземного мира, которые держали ее в плену. Воистину странно было, что кто-то решился избрать имя Думузи для своего правления. Ибо повесть о Думузи была повестью о тем, как царь потерпел поражение от богини. Была ли это судьба, которую возжелал себе новый правитель Урука? Может быть он думал только о величии первого Думузи, а не о том, как он был предан и как он пал от руки Инанны. А может быть, он вообще ни о чем не думал. Он был Думузи и он был царь.
Когда ритуал был закончен, новый царь по обычаю повел процессию ко дворцу для последнего этапа церемонии вступления во власть. За ним следовали все высшие чиновники города. Я тоже вернулся во дворец, чтобы пойти в собственную спальню. Пока я спал, высокородные вельможи страны подносили Думузи подарки и слагали перед ним знаки своих должностей и достоинств, чтобы он имел право выбрать своих собственных чиновников, хотя давным-давно было заведено, что подобные перемены никогда не делались в день коронации и поэтому Думузи объявил, как и все цари объявляли до него: «Пусть каждый приступит к своим обязанностям».
Однако перемены не замедлили последовать. Для меня самым важным было то, что моя мать и я покинули царский дворец, которой был моим домом, и зажили в роскошном, но куда менее величественном жилище в районе Куллаб на Запад от храма Ан. Именно службе Ан посвятила моя мать остаток своей жизни, будучи главной жрицей. Сейчас она сама Богиня. Так повелел я, чтобы она могла вновь соединиться с Лугальбандой. Если он в раю, тогда ей подобает быть возле него. Я не мог не послать Нинсун к нему.
Мне трудно было понять, почему меня заставили покинуть дворец. «Думузи теперь царь — объяснила моя мать. — Собрание выбрало его, и богиня признала его. „Дворец принадлежит ему“. Но ее слова были подобны дуновению сухого ветра над равниной. Думузи мог быть и царем, но дворец был моим домом. „А мы вернемся туда, когда Инанна пошлет Думузи в подземный мир?“ — спросил я, и мать сразу же посуровела и сказала мне, чтобы я не смел никогда повторять таких слов. Но потом, понизив голос, добавила: „Да, по-моему, когда-нибудь ты снова будешь жить во дворце“.
Этот Думузи был молод, силен, бодр и принадлежал к одной из знаменитых семей в Уруке. Этот семейный клан давным-давно захватил для себя жречество Шешгаль в храме Инанны, присмотр за рыбными садками и многие другие высокие должности. Он был красив, с густыми волосами, тяжелой бородой и по-царски величествен.
Однако в нем, казалось, было что-то мягкотелое и неприятное, и я не понимал, почему его выбрали царем. Глаза у него были небольшие и совсем без блеска, губы толстые, а кожа была совсем как у женщины. Мне представлялось, что каждое утро он велит натирать себя маслами. Я презирал его с первой секунды его правления. Может быть, я ненавидел его просто потому, что он стал царем вместо моего отца; но наверно не только за это. Сейчас я не питаю к нему никакой ненависти. К неумному Думузи у меня только жалость: он был всего лишь игрушкой богов гораздо больше, чем кто-либо из нас.
3
Теперь моя жизнь резко изменилась. Дни игр были окончены, начались дни моего обучения.
Поскольку я был царевичем рода Лугальбанды и Энмеркара, мне не пришлось посещать простонародный дом табличек, где сыновей торговцев, храмовых управителей и надсмотрщиков обучали письму. Вместо этого я каждый день приходил в маленькую комнатку с низким потолком в древнем маленьком храме недалеко от Белого Помоста, где жрец с бритым лицом и такой же головой вел уроки для восьми или девяти высокорожденных мальчиков. Мои одноклассники были сыновьями правителей, послов, генералов, высших жрецов, они были очень высокого мнения о себе. Но я-то был сыном царя.
Это послужило причиной многих моих трудностей. Я привык к привилегиями, к тому, что мне все уступали, и я требовал соблюдения моих, обычных прав. Но в классе прав у меня не было. Я был высок и силен, но не был ни самым большим, ни самым сильным, потому что кое-кто из мальчиков был на пять, а то и на шесть лет старше. Первые уроки, которые мне пришлось усвоить, были очень болезненны.
У меня было два главных мучителя. Одного звали Бир-Хуртурре, сын Лудингирры, что был колесничим моего отца и ушел в погребальную яму спать подле него. Другой был Забарди-Бунугга, сын Гунгунума, высшего жреца На. По-моему, Бир-Хуртурре держал на меня зло из-за того, что его отцу пришлось умереть, когда почил мой отец. Что не поделил со мной Забарди-Бунугга, я так до конца и не понял, хотя, возможно, причиной была зависть, которую его отец питал к Лугальбанде. Эти двое решили, что мои права и привилегии, принадлежащие мне по рождению, должны прекратиться, когда корона перешла к Думузи.
В классе я занял первое сиденье. Это было мое право. Бир-Хуртурре сказал:
— Это сиденье мое, о сын Лугальбанды!
В его устах «сын Лугальбанды» прозвучало, как если бы он сказал «сын навозной мухи» или «сын мусорщика».
— Это мое сиденье, — спокойно ответил ему я. Мне это казалось самоочевидным и не нуждалось в объяснениях.
— А-а-а. Твое так твое, сын Лугальбанды, — ответил он усмехнувшись.
Когда я вернулся с полуденного перерыва, то обнаружил, что кто-то сходил к реке, поймал желтую жабу и ножом пригвоздил ее к моему сиденью. Она еще не сдохла. По одну сторону жабы кто-то нарисовал на сиденье рожу злого духа Рабису, а по другую — буревестника Имдугуда с высунутым языком.
Я вырвал жабу из сиденья и повернулся к Бир-Хуртурре.
— Мне кажется, что ты забыл у меня на сиденье свой обед, — сказал я. — Это пища для тебя, а не для меня.
Я схватил его за волосы и ткнул жабу ему в рот.
Бир-Хуртурре было десять лет. Хотя он и был не выше, чем я, но он был широк в плечах и необыкновенно силен. Поймав меня за запястье, он оторвал мою руку от своих волос и прижал ее мне к боку. Никто до сих пор так не обращался со мной, даже в играх. Я почувствовал, как гнев и ярость обрушились на меня, как зимние ливни на Землю.
— Он что, не хочет сидеть со своей сестрицей-лягушкой? — спросил Забарди-Бунугга, взиравший на все это с веселым любопытством.
Я вырвался из тисков Бир-Хуртурре и швырнул жабу в лицо Забарди-Бунугге.
— МОЯ сестра? — завопил я. — Твоя! Твоя двойняшка!
Воистину, Забарди-Бунугга был поразительно непригляден, с носом-пуговицей и волосами, которые росли у него на голове какими-то пучками.
Они оба набросились на меня. Один держал меня, заломив мне руки за спину, другой издевался надо мной и лупил меня. Во дворце никто так не поступал со мной даже в самой грубой игре: никто не посмел бы.
— Не смейте меня трогать! — кричал я. — Трусы! Свиньи! Вы знаете, кто я?!
— Ты Бугал-лугал, сын Лугал-бугала, — сказал Бир-Хуртурре, и все они засмеялись, словно он сказал нечто остроумное.
— Придет день, и я стану царем!
— Бугал-лугал! Лугал-бугал!
— Я вам кости переломаю! Я вас реке скормлю!
— Лугал-бугал-лугал! Бугал-лугал-лугал!
Я думал, душа вырвется из моей груди. Какой-то миг я не мог ни дышать, ни видеть, ни думать. Я боролся и вырывался изо всех сил, потом пнул мучителя ногой и услышал хныканье. Я вырвался и помчался вон из класса не от страха перед ними, а от страха, что убью их.
Отец-наставник и его помощник как раз возвращались после полдневной трапезы. В своей слепой ярости я налетел прямо на них, они схватили меня и держали, пока я не успокоился. Я показал в сторону класса, где Бир-Хуртурре и Забарди-Бунугга глазели на меня и корчили мне рожи с высунутыми языками. Я потребовал, чтобы их немедленно предали смерти. Отец-наставник спокойно ответил мне на это, что я самовольно, без разрешения, покинул свое место в классе и обратился к нему без разрешения. За этот проступок он отдал меня рабу-экзекутору выпороть меня за мое непослушание. Не в первый раз те двое терзали меня, иногда к ним присоединялись и другие, те, кто посильнее по крайней мере. Отец-наставник и его помощники всегда принимали сторону мучителей и говорили мне, чтобы я сдерживал свой язык, и укрощал свой нрав.
Тогда я записал имена своих врагов как одноклассников, так и наставников, чтобы запороть их до смерти, когда стану царем. Когда я стал старше и начал понимать какие-то вещи намного лучше, я выбросил эти списки.
Чтение и письмо — вот то, чему я научился в первую очередь. Для царевича это очень важно. Подумать только, что все приходится доверять честности писцов и министров, когда пакеты летят туда и обратно на поле битвы или когда приходится вести переписку с царем чужой земли! Если господин не умеет читать и писать, его можно как угодно обвести вокруг пальца, и великий человек может быть предан в руки своих врагов.
Хотелось бы мне с честью сказать о себе, что мое стремление овладеть этими искусствами было вызвано столь хитрыми и дальновидными рассуждениями! Увы, никаких таких величественных мыслей у меня не было. Меня привлекла к изучению письма моя вера в то, что оно волшебное. Уметь создавать волшебство — это или какое другое — было необыкновенно заманчиво.
Казалось чудом, что слова можно поймать и удержать, как ястребов на лету, а потом посадить, как в клетки, на куски красной глины и потом снова выпустить. И на это способен тот, кто знает это искусство. Вначале я даже не верил, что такое вообще возможно.
— Ты просто выдумываешь слова, пока скользишь глазами по глине, — сказал я отцу-наставнику. — Ты притворяешься, что видишь в этих каракулях смысл, ты просто все придумываешь!
Невозмутимо он передал табличку своему помощнику, который тут же, слово в слово, прочел то, что перед этим прочел отец-наставник. Затем он пригласил в класс мальчика постарше, из другой комнаты, и тот прочел все то же самое. А меня отстегали тростником по пальцам за мое неверие. Больше я не сомневался. У этих людей — простых смертных, даже не богов! — был некий дар извлекать живые слова из глины. Поэтому я очень внимательно слушал, когда помощник отца-наставника рассказывал, как приготовить глиняную табличку, как подрезать тростниковое перо, чтобы оно было правильно заострено, как выдавливать те значки, которые и являются письмом, прижимая тростниковое перо к сырой табличке. Я силился понять эти значки.
Разобраться в них поначалу было трудно. Значки были точно такие же, какие делали куры лапой в пыли. Постепенно я научился различать отдельные начертания, из которых перед моими изумленными глазами возникало слово или его часть. Некоторые значки обозначали отдельные звуки, а некоторые — целые понятия: бог, царь, плуг. Некоторые значки показывали, как данное слово соотносится со словами вокруг него. Постепенно я постиг суть этого колдовства. Я обнаружил, что без труда могу заставить значки раскрыть моим глазам свое значение. Я мог посмотреть на табличку и прочесть список вещей: «золото, серебро, бронза, медь». Или: «Ниппур, Эриду, Киш, Урук». Или еще: «стрела, дротик, копье, меч». Разумеется, мне никогда не приходилось читать, как читают писцы, резво пробегая глазами колонки на табличке, извлекая из нее полное богатство значений и тонкостей. Это дело, которому надо посвятить всю свою жизнь, а у меня были другие задачи. Но я хорошо знал письмена, которым учился, и до сих пор хорошо ими владею, поэтому никогда меня не сможет обмануть раб, задумавший нечистую игру.
Еще нас учили деяниям богов и служению им и тому, как был создан мир, как была создана Земля. Отец-наставник рассказывал нам, как Небо и Земля выступили из моря, как облака были поставлены между ними, как были сделаны Земля и планеты. Он говорил о сияющем небесном отце Ане, который повелевает и решает, что должно произойти; о Нинхурсаг — великой матери и об Энлиле — боге бури; о мудром Энки и о блистательном солнце Уту — источнике справедливости; о спокойной безмятежной серебристой Нанне — правительнице ночи. И конечно, он много говорил об Инанне — владычице Урука. Когда же он поведал нам, как был создан род человеческий, это и огорчило и разгневало меня. Дело не в том, что мы были созданы, дабы прислуживать богам — ибо кто я такой, чтобы негодовать на это, — было обидно, что создание человека было таким жестоким и небрежным.
Только посмотрите, как скверно была выполнена работа и как мы страдаем из-за тупости наших создателей!
Это было в те времена, когда боги жили на земле как смертные, — вспахивали землю и ухаживали за стадами. Но лишь потому, что они были богами, им не угодно было самим работать на себя, поэтому зерно сгорало под солнцем, а скот пал — и боги изголодались. Поэтому мать моря Намму пришла к своему сыну Энки, который тогда лениво пребывал в счастливой земле Дильмун, где лев не убивает добычи, а волк не хватает ягненка, и рассказала о скорби и бедах его товарищей-богов.
— Восстань со своего ложа, — сказала она ему, — используй свою мудрость и сделай нам прислужников, которые будут делать нашу работу и угождать нашим желаниям.
— О, мать, — ответил он, — это можно сделать.
Он повелел ей опустить руки в бездну моря и с самого дна зачерпнуть пригоршню глины. А потом Энки и его жена, мать земли Нинхурсаг, и восемь богинь взяли глину и слепили из нее первое смертное существо и сказали:
— Наши слуги будут такими.
Энки и Нинхурсаг — на радостях от того, что им удалось сделать — дали великий пир для всех богов и показали им, как создание человеческого рода облегчит им существование.
— Смотрите, — сказали они, — у каждого из вас на земле будут угодья, а эти существа примут на себя ваши обязанности и будут угождать вашим прихотям. Это будут прислужники, чей удел — работать. Над ними мы поставим надсмотрщиков, надзирателей и проверяющих, а еще выше — царей и цариц, которые будут жить во дворцах, подобно нам, — с управляющими, кастелянами, прислужницами и возничими. И весь — род человеческий будет работать на нас день и ночь.
Боги захлопали в ладоши и осушили множество чаш вина и пива. Все они упились на радостях.
В опьянении Энки и Нинхурсаг продолжали лепить из глины фигурки. Они породили нечто, без мужских и женских органов, и сказали, то это будет евнух, чтобы сторожить гарем царя. Это их очень рассмешило. А затем они создали страдающих всякими болезнями духа и тела и тоже выпустили их. А в конце концов они породили существо с именем Я-Рожден-Так-Давно, чьи глаза потухли и помутнели, чьи колени не гнутся, а ноги не стоят. Так в мир явилась старость, так пришли в него болезни, безумие и все, что считается злом и проклятием. И все это — лишь пьяная шутка бога Энки и его жены богини Нинхурсаг — матери земли. Когда мать Энки, мать моря Нимму, увидела, что он натворил, она изгнала его во веки веков в бездну океана, где он до сих пор и пребывает. Но зло было содеяно. Пьяные боги на славу повеселились, а мы страдаем и всегда будем страдать. Я не возражаю против того, что они создали нас для служения себе, но почему они сделали нас такими несовершенными?
Я задал этот вопрос отцу-наставнику, и он выпорол меня за это.
Я узнал и многое другое, что смутило и испугало меня. Я знал предания и повести, которые арфист Ур-Кунунна распевал в дворцовом дворике. Когда они исходили из уст человека нежного и мудрого, каким был Ур-Кунунна, они зажигали в моей душе теплый свет, а когда я слышал, как эти повести произносит сухой четкий голос отца-наставника с поджатыми губами, предания, казалось, превращались в темную и тревожную силу. Ур-Кунунна делал богов мудрыми, веселыми и игривыми, а в передаче отца-наставника боги становились глупыми, бессовестными и жестокими. А ведь это были те же самые предания. Это были те же самые боги. Даже слова были одни и те же.
Что же изменилось? Ур-Кунунна воспевал богов любящих, празднующих, славящих жизнь. Отец-наставник подарил нам сварливых, ссорящихся богов, недостойных доверия, погрузивших мир в хаос без сожаления и жалости. Ур-Кунунна жил в радости и шел на смерть не жалуясь, зная, что боги возлюбили его. Отец же наставник учил меня, что люди должны жить свой век в страхе, ибо немилосердны боги.
А это были те же самые боги: мудрый Энки, величественный Энлиль, прекрасная Инанна. Но мудрый Энки создал нам старость, слабость плоти. Величественный Энлиль в своей ненасытной похоти силой овладел юной богиней-девственницей Нинлиль и от нее породил луну. Прекрасная Инанна, чтобы освободиться от оков подземного мира, предала своего мужа Думузи демонам. Стало быть, боги совсем не лучше нас. Такие же мелочные, такие же эгоистичные, такие же бездушные. Как же до сих пор я не замечал этих вещей, слушая арфиста Ур-Кунунну? Может быть я был слишком молод, чтобы понять? А может быть от тепла его песен и боги со своими деяниями приобретали иной облик?
Мир, который открыл мне отец-наставник, был негостеприимен и жесток. Из него можно было убежать только одним путем: в загробную жизнь, которая была еще тяжелее и страшнее, чем эта. На что же тогда надеяться? Что в этой жизни для нас? Что для нищего и царя? Вот на что обрекли нас боги. И сами боги столь же уязвимы и напуганы: Инанна, донага раздетая по дороге в ад, стоит перед царицей подземного мира. Чудовищно! Чудовищно! Надежны нет, думал я, и не будет ни здесь, ни где-либо еще.
Тяжелые мысли для такого маленького ребенка, даже для потомка царя, даже для того, кто на две трети бог и только на треть смертный. Я был полон отчаяния. Однажды я ушел к городской стене у реки и увидел, как по реке плывут мертвые тела тех, кому не по карману похороны. И я подумал: царь ли, нищий ли — ни в чем нет смысла. Тяжелые мысли! Через какое-то время я изгнал их из своей души. Я был молод. Нельзя же все время думать о таких вещах.
Позже я понял: если боги столь же безжалостны и похотливы, как мы, то верно то, что мы можем возвыситься, подобно богам. Но долго же пришлось учить, этот урок!
4
Во мне текла божественная кровь, поэтому я быстро вырос и достиг невиданной силы. Когда мне исполнилось девять, я был крупнее всех мальчиков в маленькой храмовой школе и больше не опасался Бир-Хуртурре, Забарди-Бунугги, и их товарищей. Мало того, они увидели во мне своего вожака, играли в те игры, которые нравились мне, и уступали мне первенство во всем. Единственная разница между нами состояла в том, что на их телах и лицах росли волосы, а у меня нет.
Я отправился к колдуну на улице Куллаб и купил у него за девяносто се серебра и полсила хорошего вина, примочку из толченого корня можжевельника, сока кассии, извести и чего-то еще, что должно было ускорить приближение мужской зрелости. Я натерся этой мазью под мышками и вокруг чресел — кожа моя начала гореть, будто ее жгли тысячи дьяволов. Через некоторое время волосы начали расти на мне столь же бурно, как на любом воине.
Думузи вел военные кампании против Аратты, против города Киша, против диких племен Марту, живущих в пустыне. Я был слишком молод, чтобы принимать участие в этих войнах, но я каждый день упражнялся в искусстве метания дротика, владения копьем, мечом, палицей и топором. Из-за моей силы другие мальчики боялись упражняться в паре со мной, и мне приходилось бороться с юношами старше меня. Однажды, сражаясь на топорах с воином по имени Абба-сагга, я рассек его щит надвое. Он бросил свое оружие и убежал прочь с поля. После этой истории мне трудно было найти противника даже среди взрослых мужчин. Какое-то время я занимался сам, изучая искусство стрельбы из лука, хотя это оружие охотника, а не воина. Первый лук, который для меня сделали, был слишком слаб, и я сломал его, пытаясь натянуть. Потом я купил дорогой лук, сделанный из разных пород дерева, хитроумно склеенных вместе: кедр, сосна, ива и ясень. Он и сейчас служит мне.
Еще одним искусством, которое я постиг, было зодчество. Я изучал, как смешиваются мастики, алебастр, битум, как смешивается алебастр с дегтем, как делают кирпичи, как штукатурят и красят стены и многое другое в ремесле. Я трудился вместе со строителями в поте лица, постигая их тайны и совершенствуя свое умение.
Единственная причина, по которой я все это делал, заключалась в том, что по обычаю царевичи обучаются подобным вещам, чтобы играть подобающую роль в создании храмов. В других землях царевичи обычно ездят верхом, охотятся и развлекаются с женщинами, но наши обычаи не таковы. Помимо того, что мне однажды предстояло взять на себя ответственность за подобные дела, я прежде всего стремился овладеть этим мастерством ради собственного удовольствия познавать новое. Когда я делал кирпичи и складывал их в ряд, создавая стройную стену, я переживал чувство такое же сильное, какое бы я чувствовал от свершения подвига. Было что-то удивительное в изготовлении кирпича, в умении смешивать глину и солому, утрамбовывать ее в форме, и снимать с нее излишки глины ребром ладони. Мне это нравилось.
Существуют и другие источники удовольствия и другие ощущения, куда более чувственные. В этих вопросах я рано начал свое образование.
Моей первой учительницей была маленькая косоглазая пастушка коз, которую я повстречал однажды на улице Скорпиона в конце зимы. Мне было одиннадцать или десять, она, должно быть, была постарше, потому что у нее уже была грудь и волосы внизу. Она выклянчила у меня кусочек золотой проволоки, которой я закручивал волосы, и я спросил:
— А что ты мне за это дашь?
Она засмеялась и сказала:
— Пойдем со мной.
В темном подвале на груде мокрой старой соломы она заработала проволоку, хотя то, что мы делали, больше напоминало борьбу, чем соитие. Я даже не уверен, что вошел в нее, настолько я был неопытен. Мы встречались еще один или два раза, и теперь я знал, что то, что мы делали, было по-настоящему. Я никогда не спрашивал, как ее зовут, никогда не называл ей своего имени. От нее несло козьим молоком и козьей мочой, лицо у нее было грубым, а темная кожа прыщава. В моих объятиях она извивалась и вертелась, словно угорь. Когда я обнимал ее, она казалась мне столь же прекрасной, как Инанна, а наслаждение, которое она мне дарила, пронзало мое тело молнией Энлиля. Я был приобщен к великому таинству чуть раньше, чем полагается происходить таким вещам, и крайне незаконным образом.
После нее было много других. Город был полон грязнолицых чумазых девчонок, охотно готовых пойти на часок поразвлечься, и я, должно быть, перепробовал половину из них.
Потом я открыл для себя, что те же удовольствия, только без вони и прочих небольших недостатков, можно получить и от девушек высшего общества. Мало кто мне отказывал, и то больше из страха, что им попадет. Я, со своей стороны, всегда был ненасытен. Мне казалось, что, когда мое тело трепетало в наивысшем наслаждении, я общался с богами. Это было так, словно тебя бросало прямо к богам. Разве это не так? Акт соития — возможность познать все, что свято. Пока ты этого не совершил, ты пребываешь словно за пределами всего того, что разумно. Ты немногим выше животного. Единение духа и плоти в акте совокупления как раз и есть то, что приближает нас к богам. Я каждый раз чувствовал, что в то бешеное мгновение перед излитием семени со мной не просто урукская девчонка, а сама огненная богиня Инанна — богиня, а не жрица. Это святое занятие.
Помимо этого я заметил — и очень рано, — что соитие замечательным образом успокаивало мою душу. Ибо тогда, да и много лет спустя, меня разрывали бурные чувства, которые я едва понимал и от которых не умел защищаться. Мне кажется, что моя горячая кровь кипела не только от обычной плотской потребности, но от чего-то более глубокого и темного, от мучительного одиночества, которое нападало на меня, аки волк в ночи. Часто мне казалось, что я единственное живое существо в мире призраков и привидений. Не имея ни отца, ни брата, ни настоящего друга, отстраненный от людей своей богоподобностью, печать которой мог видеть на мне любой недоумок, я обнаружил, что погружен в странную, ошеломляющую пустоту души. Она жалила меня и жгла холодом, словно лед, приложенный к коже. Поэтому я тянулся к женщинам и девушкам за единственным утешением, которое мог найти. Удовлетворение страсти, по крайней мере, давало мне несколько часов передышки от возмущения духа.
Когда мне было одиннадцать лет и одиннадцать месяцев, один из моих дядей заметил в банях, что мое тело превратилось в мужское, и сказал мне:
— Мы пойдем сегодня вечером в жилище жриц при храме. По-моему, твое время давно пришло.
Я знал, что он имел в виду. И у меня не хватило смелости сказать ему, что я не дождался законного посвящения во взрослые.
Когда полдневная жара чуть спала, мы облачились в юбки тонкого льняного полотна, дядя на моих плечах нарисовал тонкую красную черту и срезал прядь моих волос. Мы вместе пошли в храм Инанны. Мы прошли через задний двор и пересекли лабиринт небольших комнатушек, мастерских, кладовых для инструментов, библиотеку, где храмовые жрицы ждут поклоняющихся.
— Сейчас ты отдашься богине, — сказал мне дядя.
Какую-то страшную секунду мне показалось, что он устроил так, что мою предполагаемую девственность я должен был принести самой Инанне, а не жрице. Может, царский сын и должен рассчитывать на столь высокого наставника в искусстве любви, я должно быть, нашел бы в себе храбрость сочетаться хоть с самой богиней, но обнимать верховную жрицу было совсем другим делом. Ее ястребиное лицо пугало меня. Ее лицо, и мысль о ее жиреющей плоти. Она была старше моей матери. Несомненно, в свое время она была самой совершенной женщиной; теперь она старела, и поговаривали, что она болеет, а на последнем празднике урожая, когда она появилась, умащенная маслами, в украшениях и почти нагая, я сам видел, что ее красота уходит от нее. Но страхи мои были нелепы, Инанна — старая или молодая — приберегается только для царя. Жрица, которую мой дядя выбрал для меня, была сонной девицей лет шестнадцати, с золотой краской на щеках и посверкивающим красным камнем, вставленным в левую ноздрю.
— Я Абисимти, — сказала она, прикасаясь ладонью к груди и чреслам в священном приветствии Инанны.
Она провела меня в свою каморку. В комнатке Абисимти были кровать, таз, статуэтка богини. Она зажгла свет и совершила возлияния, затем подвела меня к длинному узкому ложу. Мы встали возле него на колени и вместе произнесли молитвы; она — крайне торжественно. В медной жаровне она сожгла прядь моих волос, которую срезал дядя. Потом она сняла с меня одежду и обтерла меня мокрой прохладной тканью. Увидев мою наготу, она нахмурилась.
— Сколько тебе лет? — спросила она.
— Через месяц будет двенадцать.
— Двенадцать? Только-то? — она мило рассмеялась и хлопнула в ладоши. — Боги очень благоволят тебе!
Я ничего не ответил, только жег взглядом ее высокую округлую грудь, видневшуюся сквозь полупрозрачную ткань одеяния.
— Какой ты нетерпеливый! — воскликнула она. — Первый раз вкушаешь это таинство и едва можешь вытерпеть еще минутку!
Лгать жрице я не смел, но и правды мне говорить не хотелось. Поэтому я отвернулся, притворившись смущенным.
Абисимти распустила свое одеяние, и оно упало к ее ногам. Но прежде чем я овладел ею, она должна была подробно рассказать мистическое значение того, что мы с ней собирались совершить, что я и без нее уже успел осознать и прочувствовать. Потом она рассказала мне о способах в искусстве соития. Это опять же было лишнее, но я это терпеливо снес. Затем мы перешли к делу. Я изображал неловкость, из которой давно вырос. Когда все кончилось, глаза Абисимти сияли. Пристойно ли ей, думал я, получать от этого такое наслаждение, если она жрица? Позднее я узнал, что это не только пристойно, а благословенно, если жрица Инанны наслаждается служением ей в храме. Обычная шлюха может ненавидеть свое дело и презирать своих клиентов, но жрица Инанны участвует в самом священном ритуале, который считается мостом между смертными и богами. К шлюхе это относится тоже, только она не понимает подобных вещей.
Вот так плыл я в мужскую зрелость. Мне казалось, я вижу, как развертывается передо мной дорога моей судьбы. Я буду вкусно есть и сладко пить, наслаждаться многими женщинами, буду воином, жрецом и царевичем, а в один прекрасный день Думузи умрет, а меня назовут царем Урука. Я не сомневался в этом. Было ясно, что это и есть моя судьба. Хотя я хорошо понимал, что боги капризны, глупцами я их не считал: кто мог бы лучше управлять городом, если не сын Лугальбанды? Мне казалось неизбежным, что совет города назовет меня, когда дни Думузи окончатся.
Но пока царем был Думузи. И Думузи, хотя юношей его и не назовешь — ему тогда было не меньше двадцати четырех, — легко мог прожить еще лет двадцать, если ему повезет на бранном поле. Долго же мне придется ждать трона! Во мне кипели досада и нетерпение. Я пытался сдерживать их, как мог.
5
Однажды, когда я упражнялся в метании дротика, пришел ко мне раб, носящий знак Инанны, и сказал:
— Сейчас ты пойдешь в храм богини.
Он повел меня по извилистым переходам, которых я никогда не видел прежде, может быть мы спускались с ним в глубокие туннели под Белым Помостом. В неверном свете наших масляных светильников я видел переходы с высокими сводами, богато украшенными мозаикой красных и желтых оттенков, что было странно в этом обиталище вечной ночи. В воздухе витал запах курений, сырости, словно сами стены источали влагу. Это явно была какая-то святыня, возможно, святая святых самой Инанны. Мне стало не по себе, как всегда бывало при встрече с ЧЕМ-ТО, слишком близко связанным с богиней.
Я чувствовал в полутьме присутствие маленьких существ, слышал звук хриплого, затрудненного дыхания. Время от времени наш проход пересекался с другими, и я видел вдали зажженные светильники. Дважды натыкались мы на демонов и колдунов, занятых своим делом. Скорчившись на мозаичном полу, они разбрасывали вокруг себя ячменную муку и резко пахнущие ветви тамариска. На нас они не обращали внимания. В боковом проходе, я мельком увидел трех приземистых, двуногих демонов с бочкообразной волосатой грудью и козлиными копытами. Они сразу же потрусили прочь от нас. Я уверен, что я их видел на самом деле. Я не сомневаюсь, что это были демоны. Я знал, что нахожусь в месте, полном опасностей, где один мир граничит с другим, и то, что должно быть невидимо, переходит границы, которые ему не должно переходить.
Мы держались нашей тропы, слегка наклонной. В конце концов мы оказались возле огромной окованной бронзой двери, которая вращалась на большом круглом камне, утопленном в плиты пола.
— Иди туда, — сказал раб.
Я вошел в длинную узкую комнату, темную и бесконечную. Ее грубые кирпичные стены были украшены черной слюдой и красным песчаником, вделанным в битум, а светильники, укрепленные в стенах, давали неверный колеблющийся свет. На полу два наложенных друг на друга треугольника из белого металла составляли шестиконечную звезду.
В центре звезды стояла женщина, абсолютно неподвижная.
Я ожидал, что окажусь перед самой Инанной, а отнюдь не перед этой жрицей, одной из младших. Она была выше, моложе, тоньше и стройней Инанны. Я был уверен, что видел ее раньше на церемониях в честь богини, рядом с Инанной по правую руку, — она одевала и раздевала богиню, как того требовал ритуал. Прислужница богини — одна из внутреннего круга храма. Мы молча смотрели друг на друга. Красота ее была необыкновенна. Она словно обхватила меня так крепко, что не мог ускользнуть. Я почувствовал, как ее сила сжала и обожгла мою душу, как жаркий летний ветер. Она была изысканно убрана: щеки накрашены желтой охрой, верхние веки зачернены сурьмой, нижние подкрашены малахитовой зеленой пудрой, а густые блестящие волосы выкрашены красной хной. На ней были богатые одежды, а связка тростника — эмблема Инанны — была вышита на груди. В курильнице, стоявшей на серебряной треноге, тлели благовония. Глаза ее, темные и блестящие, смерили меня от плеча к плечу и с головы до пят. Она словно снимала с меня мерку.
Наконец она назвала меня по имени, нареченным при рождении именем. Я же не мог назвать ее никак. Я просто стоял на месте, тупо глядя на нее.
Тогда она сказала, чуть ли не свирепо:
— Ну? Ты меня помнишь?
— Я видел, как ты прислуживала Инанне на церемониях.
Глаза ее сверкнули.
— Разумеется. Там-то меня все видели. Но ты и я, мы встречались. И говорили.
— Когда?
— Давным-давно. Ты был совсем молод. Должно быть, это вылетело у тебя из головы.
— Как тебя зовут? Скажи мне свое имя, и я вспомню, встречал ли я тебя.
— Ах, значит, ты меня все-таки не забыл?
— Я мало что забываю. Скажи мне свое имя, — сказал я.
Она хитро улыбнулась и назвала свое имя, которое я не могу записать здесь, ибо, как и мое нареченное имя, его сменило имя более священное и первоначальное имя должно быть оставлено навеки. Звук ее имени оживил мою память, и из кладовой воспоминаний хлынул поток впечатлений: нити голубых бусин, амулеты из розовых раковин, нагое гибкое девичье тело, с нарисованными на нем змеями, юная грудь, резкие благовония. Стало быть, эта женщина была той самой хитрой девчонкой? Да. Сейчас ее грудь была не холмиком, а проказливый блеск глаз скрыла краска, которой она так раскрасила себя. Но я знал, что разглядел девчонку внутри женщины.
— Да, теперь припоминаю, — сказал я. — День, когда объявляли нового царя, я потерялся в лабиринте храма. Ты пришла за мной, утешила меня и отвела назад на церемонию. Но как ты переменилась…
— По-моему, не так уж сильно. Я тогда начинала быть женщиной. К тому времени я трижды изливала из себя кровь богини. По-моему, я не очень изменилась. Но ты совсем другой. Тогда ты был маленьким ребенком.
— Это было шесть лет назад, может, чуть больше.
— Неужели? Каким ты был хорошеньким! — она бросила на меня быстрый дерзкий взгляд. — Но ты больше не ребенок. Абисимти говорит мне, то ты настоящий мужчина.
Смутившись, я в испуге воскликнул:
— А я-то считал, что деяния жриц — священная тайна!
— Абисимти мне все рассказала.» Мы с ней как сестры.
Я смущенно переминался с ноги на ногу. Как и раньше, давным-давно, я чувствовал гнев и неуверенность, потому что мне трудно было понять, смеется она надо мной или нет. Перед ее хитростью я был странно беспомощен. Да, я стал старше, но и она тоже. И если мне было немногим более двенадцати, то ей было, по меньшей мере, шестнадцать. Она далеко ушла вперед на дороге познания мира. В ней словно сидело какое-то острие, которое больно ранило меня всякий раз, когда я пытался поймать ее.
Я сказал чуть резче, чем надо было:
— Зачем я здесь?
— Мне казалось, нам надо снова встретиться. Сперва я видела тебя однажды во время празднества, когда ты приносил жертвы в храме. Мой взгляд упал на тебя, и я подумала, кто это? Я спросила о тебе свою подругу, кажется. Она ответила: это мальчик, сын Лугальбанды. Меня удивило, что ты так быстро вырос. А через несколько дней Абисимти сказала, что к ней приходил царевич, и она посвятила его в мужчины. Я спросила у нее, какой царевич, и она сказала, то это был сын Лугальбанды. Выслушав Абисимти, я решила, что мне надо снова поговорить с тобой. Слова Абисимти пробудили мое любопытство.
Как же меня взбесило то, что я не мог понимать значений, спрятанных в словах!
Может быть, она говорила, что хотела сама посвятить меня в мужчины? Так мне показалось, иначе зачем ей было звать меня, зачем ее глаза столько дерзко и с неприкрытым желанием смотрели на меня? Ее красота доводила меня до безумия. Но я не был уверен, что она хотела именно этого. Я не смел проверить свою догадку, боясь, что меня отвергнут. Нельзя заполучить на ложе жрицу самой Инанны, просто попросив об этом. Только те, кто прислуживают в храме, став священными продажными жрицами, могут отдаваться любому. Недостойно приставать к остальным, которых называют невестами бога и держат отдельно от прочих. Они — невесты бога, или царя, в котором он воплощен. Я не знал, к каким жрицам она относится. А может быть, для нее это была просто игра, а я был всего-навсего ее игрушкой? Мужчиной-игрушкой, как был некогда игрушкой-ребенком. Я чувствовал, как она плетет вокруг меня паутину, и я потерялся в ней.
Она спросила:
— Как тебе жилось? Чем ты сейчас занимаешься? Я никогда не покидаю храма. Я не знаю, что происходит в городе. До меня доходят только слухи, которые мне приносят служанки, жадные до них.
— Моя мать стала жрицей Ана. Я иногда прислуживаю в его храме. Изучаю всякие вещи, которые надлежит изучать молодому человеку. Жду, когда наступит вся полнота моей зрелости.
— И что тогда?
— Буду выполнять волю богов.
— Какой-нибудь бог уже выбрал тебя своим рабом?
— Нет, — ответил я. — Еще нет.
— Ты этого хотел бы?
Я пожал плечами:
— Это произойдет тогда, когда придет время.
— Инанна выбрала меня, когда мне было семь лет.
— Это случится тогда, когда должно случиться, — сказал я.
— Когда ты будешь знать, ты придешь ко мне, расскажешь, какой это бог?
Она пристально, неотрывно глядела на меня. Казалось, она утверждает на меня какие-то права, а я не мог понять почему. Это все мне не нравилось. Но сила ее была могуча. И я услышал, как отвечаю ей кротко:
— Да, я тебе обязательно расскажу. Если ты этого пожелаешь.
— Да, я этого хочу, — ответила она.
В ней словно бы что-то смягчилось: ехидное острие спряталось куда-то, пропало то, что я называл чувственностью. Из мешочка на поясе она вынула амулет и сунула его мне в руку: статуэтка Инанны, с огромной грудью, полными бедрами, вырезанная из какого-то гладкого зеленого камня, которого я никогда раньше не видывал. Казалось, камень сияет собственным внутренним светом.
— Всегда держи его при себе, — сказала она.
Мне неловко было брать у нее амулет. Мне казалось, что цена за эту статуэтку — моя собственная душа.
— Как же я могу принять это? — сказал я.
— Не смей отказываться. Это страшный грех — отвергнуть дар богини.
— Вернее, дар жрицы.
— Богиня гласит устами своих жриц. Эта вещь твоя, и пока она с тобой, ты под защитой богини.
Может быть, так оно и есть. Но мне от этого было не по себе. Все мы в Уруке под защитой богини, но Инанна — богиня опасная, и неразумно быть к ней слишком близко. Мой отец служил Инанне, как подобает царю Урука, но всякий раз, когда он шел в храм по личным делам, он обращался к небесному отцу Ану. Да и мне самому спокойнее было с отцом бурь Энлилем, чем с богиней. Но у меня не было другого выбора: я взял амулет. Опасно поклоняться Инанне, но еще опаснее навлечь на себя ее гнев.
Когда я покинул храм, у меня было странное чувство, словно меня заставили силой отдать что-то бесконечно дорогое. Но я понятия не имел, что именно.
За последние несколько месяцев меня много раз вызывали в комнатку для встреч в конце того самого перехода демонов и колдунов глубоко под храмом Энмеркара. Все было точно таким же: бессвязная беседа, грозное и пугающее кокетство, никуда не ведущее, ощущение, что она обыграла меня в игре, правил которой я не понимал. Часто она дарила мне какую-нибудь мелочь, но когда я что-нибудь ей приносил, она ничего не брала. Она хотела знать многое: новости дворца, совета. Что я слышал? Что говорят во дворце? Она была ненасытна. Я стал с ней осторожнее, говорил мало, старался отвечать на вопросы так коротко и расплывчато, как только смел. Я не понимал, что ей от меня нужно. Я страшился силы ее красоты, ибо понимал, что она может ввергнуть меня в пучину разрушения и гибели. Любой другой женщины я мог бы по молодости сказать: «Пойдем со мною». Но как я посмел бы сказать подобные слова ЕЙ? Защищенная аурой богини, она была недоступна, пока сама не выразила бы согласия. Одно ее слово, одно движение мизинца — и я пал бы перед ней на колени. Но она не делала этого. Я молил богов послать ее в мои объятия всякий раз, когда она посылала за мной. Хотя тепло ее улыбки говорило одно, ледяной блеск глаз означал совсем другое, и это отдаляло меня от нее, как будто я был евнухом. Она, казалось, была вообще за пределами моей досягаемости. Но я не забыл те поразительные слова, какие она произнесла, встретив меня в детстве: «Когда ты будешь царем, я буду лежать в твоих объятиях!»
6
Наступил месяц Ташриту, сезон нового года, когда царь вступает в Священный Брак с Инанной, и все живое возрождается. Это время, когда бог переступает через порог храма, словно вихрь, и роняет свое семя в богиню. Приходят дожди после долгой-долгой смерти-при-жизни, что зовется летом.
Это величайший и самый священный праздник в Уруке, от которого зависит все остальное. Приготовлениями заняты все жители города на протяжении многих недель по мере умирания лета. То, что было осквернено за прошедший год, должно быть очищено жертвами. Те, кто нечисты от рождения — члены нечистых каст, — должны уйти за стены города и построить себе там временное жилище. Слабых и уродливых животных надо убить. Все дома и общественные здания, требующие обновления, должны быть приведены в порядок, а праздничные украшения развешены по местам. Наконец начинаются парады. Впереди идут музыканты, продажные женщины надевают яркие шали и плащи, мужчины на левую сторону тела навешивают женскую одежду. Жрецы и жрицы проносят по улицам окровавленные мечи, и двуострые топоры, которыми умерщвлялись жертвы. Танцоры скачут сквозь обручи и прыгают через веревку. В своем храме Инанна совершает омовение, ее натирают благовониями и надевают священные украшения: большое гранатовое кольцо, бусины ляпис-лазури, блистающая золотая набедренная пластина, украшения для пупка, для бедер, для носа, для глаз, золотые и бронзовые серьги, нагрудные украшения из слоновой кости. А бог Думузи, податель плодородия, входит в царя, который едет на лодке в храм, и входит через ворота в святилища Инанны, ведя овцу и держа в руках козленка. Они вместе стоят на пороге храма, жрица и царь, богиня и бог, пока весь город приветствует их в великой радости. А потом они входят внутрь храма, в специально приготовленную спальню. Он ласкает ее, и входит в нее, и вспахивает ее, и изливает свое семя в ее чрево. Так было от начала начал, когда существовали только боги, и царская власть еще не была ниспослана с небес.
В день новой луны, который означает начало нового года, я отправился с остальными к Белому помосту, чтобы дождаться появления Инанны и Думузи. Легкий ветерок, влажный и ароматный, дул с юга. Это ветер, который мы называем обманщиком, ибо он обещает весну, но на самом деле возвращает зиму.
На западной стороне Помоста появился царь с козленком и овцой. Толпа расступилась, давая ему дорогу, когда он медленно поднимался по ступеням к храму. Он выглядел величественно и великолепно. На нем был свет божества, тело его словно светилось изнутри.
По-моему, во свершении Великого Священного Брака есть нечто, что вызывает восторг любого человека. С тех пор как Думузи стал царем, он в шестов раз совершал этот ритуал, и каждый год, глядят как он пересекает помост, я был поражен почтением и благоговением, которые он во мне вызывал, он, человек столь обычный в прочие дни, с такой дряблой душонкой. Но когда в царе бог, сам царь — бог. Я никогда не забуду, как выглядел в ночь священного ритуала мой отец — мощный, величественный, огромный. Не оглядываясь по сторонам, он проходил мимо того места, где стояли мы с матерью и смотрели…
Он входил в храм, возвращался вместе с Инанной, протягивал руки к горожанам и снова уходил в храм, ведя богиню в опочивальню. Лугальбанда всегда выглядел величественным. Я и не ожидал от Думузи, что он будет способен соперничать с моим отцом, но в эту ночь так получилось.
В эту ночь, казалось, происходило что-то необычное. Царь и жрица обычно показывались народу в тот момент, когда полумесяц луны появлялся над храмом. Но в эту ночь этот миг наступил и прошел, а храмовая дверь оставалась закрытой. Мы вопросительно переглядывались, но никто не смел заговорить.
Наконец, огромная кованая дверь распахнулась, и священная пара появилась. При виде них толпа благоговейно замолкла. Молчание было словно пропасть, которая поглотила все звуки мира. Но это продолжалось только мгновение. Секунду спустя послышался шепот, свист втянутого в грудь воздуха, когда стоявшие впереди стали ахать и шептать от удивления.
Оттуда, где я стоял, невозможно было сразу увидеть, что произошло. Вот Думузи, в сияющей короне и царском одеянии богатого синего цвета. Вот подле него Инанна. И тут до меня дошло, что женщина в священных украшениях из слоновой кости, золота, граната и ляписа — не Инанна, не та Инанна, которая выходила на порог все предыдущие годы моей жизни. Та женщина была невысока и полнотела, а эта казалась сделанной из более тонкой материи: стройная, почти хрупкая, и высокая — ее плечи были почти вровень с плечами Думузи. Секундой позже я понял, кем она может быть. До меня дошло, что я вот-вот потеряю то, что никогда мне не принадлежало, и я ничего не могу сделать, чтобы этому помешать.
Я должен был увидеть ее лицо. Я протолкался вперед, раскидывая локтями людей, словно сухой тростник.
С расстояния в двадцать шагов я посмотрел прямо ей в глаза, и увидел злорадство, сиявшее в них. Да, конечно, это была она, вырванная из своей подземной комнатки и вознесенная на вершину священной власти в Уруке. Больше не прислужница богини, а сама богиня, неожиданно, внезапно вознесенная. Я не мог шевельнуться. Тяжесть залила мои ноги, приковав их к земле. В горле у меня стал ком, который ни проглотить, ни выплюнуть.
Она смотрела на меня, но казалось, не видела, хотя я и был на голову выше самого высокого человека. Церемония полностью захватила ее. Я видел, как она подала Думузи священную чашу меда и взяла у него священный сосуд ячменя. Я слышал, как они обменивались ритуальными словами:
— Моя священная драгоценность, моя пресветлая Инанна, — говорил он ей.
А она отвечала ему:
— О, мой муж Думузи, ты воистину любовь моя.
Хриплым голосом я сказал какому-то вельможе, стоявшему рядом со мной:
— Что случилось? Где Инанна?
— Вот Инанна.
— Но эта девушка не верховная жрица.
— С этой ночи она — Инанна, — ответил кто-то. А другой, стоявший неподалеку от меня, добавил:
— Говорят, что старая Инанна болела, и весь день ей становилось все хуже, а на закате она умерла. Но у них уже была наготове другая, и они посвятили ее в Инанну. Они так торопились, чтобы омыть и одеть ее. Она сочетается сегодня с Думузи.
Я слышал, как слова эхом отдавались в глубине моей души: СЕГОДНЯ ОНА СОЧЕТАЕТСЯ С ДУМУЗИ, и мне казалось, что я без чувств упаду на землю.
Царь отпил меду из чаши и вернул его богине, чтобы она сделала то же самое. Они соединили руки, опрокинули сосуд с ячменем, рассыпав зерна по земле и вылив на них мед. Храмовые музыканты ударили по струнам и запели гимн появившимся богу и богине. Сейчас олицетворявшие бога и богиню уйдут внутрь. В божественной опочивальне прислужницы снимут с нее кольца, бусы, нагрудные пластины, сияющий треугольник золота, прикрывающий ее лоно, а потом он будет ласкать ее и произносить слова Священного Брака. А потом… потом…
Я не мог больше стоять и смотреть.
Я повернулся и помчался прочь от Помоста, словно бешеный бык, сбивая с ног тех, кто был недостаточно проворен, чтобы уступить мне дорогу. За мной неслись звуки флейт и кимвалов. Я не мог выносить эту музыку. Они теперь в опочивальне, думал я, он касается ее, гладит ее тело, прижимается губами к ее губам, накрывает ее тело своим, войдет в нее…
Я метался то в ту, то в другую сторону во тьме, не зная, куда бегу. Мука, которую я слишком хорошо знал, снова была во мне. Я чувствовал себя одиноким, отверженным, чужаком в своем родном городе. У меня не было ни отца, ни брата, ни жены, ни даже кого-то, кого я мог бы искренне назвать другом. Мое одиночество окружало меня стеной огня. Я тосковал по кому-то, кто протянул бы мне руку, но не было со мной никого. Все, что мне оставалось — это бежать, и я бежал до тех пор, пока мне не стало казаться, что сердце разрывается у меня в груди. Наконец я понял, что бреду спотыкаясь по пустынным улицам той части города, где находились казармы. Эта часть города называлась Лев. Не случайно ноги привели меня сюда: когда на вас находит подобное, боги ведут нас, куда следует вести. В центре Льва находилась святыня, воздвигнутая в честь божественного Лугальбанды. Думузи построил ее в первые годы своего правления. Статуя моего отца была чуть больше его настоящего роста, перед которой день и ночь горели три небольших светильника. Невелика дань царю, великому царю, ставшему ныне богом. Я бросился перед статуей ниц и вцепился пальцами в ее основание. Я вдруг почувствовал, как нечто знакомое и странное входит в мой разум.
Это было то самое ощущение, которое впервые обрушилось на меня в день похорон отца и позже возвращалось ко мне два или три раза. Ощущение, словно кто-то давит мне на лоб, будто огромные невидимые крылья бьются над моей головой. На этот раз все было куда сильнее, чем раньше. Невозможно было сопротивляться этой силе. Я чувствовал покалывание по всей коже, члены мои онемели. Я слышал слабое жужжание, словно далекая стая саранчи поднимается в полуденном небе и летит через поле. Потом жужжание сделалось громче, словно саранча приближалась, и огромные черные тучи ее закрыли солнце. Я чувствовал резкий запах горящих свечей, хотя нигде поблизости свечей не было. От улиц и зданий вокруг поднялось холодное голубое пламя и окутало меня, не обжигая.
Я поднялся, а вернее, взлетел. Перед собой я увидел туннель, совершенно круглый, с сияющими гладкими стенами, от которых шел яркий голубой свет. Он тянул меня к себе. Я покорился зову. Я услышал медленное, спокойное биение барабана, с каждым ударом оно становилось все громче. Я был во власти богов, и это напугало меня так сильно, как никогда в жизни. Я чувствовал, что погибаю, что меня влекут к гибели, туда, где все личности сливаются в одну во всепоглощающем синем огне.
Тихий голос сказал мне: «Ничего не бойся, я, Лугальбанда, с тобой. Мы связаны магической связью навеки.»
С этими словами весь ужас и скорбь оставили меня, и я познал безграничную радость, нескончаемый восторг, чувство глубокого умиления.
Никакой опасности не было — со мной был бог, и я был спасен. Я ничему не сопротивлялся, потому что со мной был бог. С каждым вдохом моя душа успокаивалась. Я являл собой великое покорство. Наконец-то я позволил божеству проникнуть в свою душу и полностью овладеть мною.
НИЧЕГО НЕ БОЙСЯ. Я, ЛУГАЛЬБАНДА, С ТОБОЙ.
Я выплясывал какой-то дикий танец, ревя и топая ногами от восторга. Лугальбанда дал мне в руки барабан, я стучал в него и пел псалмы в его есть. Меня охватывало ощущение своей силы и могущества. Бесстрашно я рванулся в голубой туннель следом за шаром, переливающимся пурпурным сиянием, который был похож на маленькое солнце. Всю ночь я метался без устали по всем частям города: Лев, Тростник, Улье, через Куллаб и Эанну мимо царского дворца, по ступенькам Белого Помоста вверх и вниз, из храма в храм, мимо пивоварен, трактиров, притонов, мимо рынка пряностей, речных пристаней, хлевов, боен, кожевенных мастерских, по улице писцов и по улице гадальщиков. Я заглянул в сердце земли и увидел демонов и призраков, колдующих в огненных пещерах. Я уселся на плечо Лугальбанды и пролетел по небесам, увидев великих богов в их хрустальных шарах и поклонившись им. Я снова спустился в мир и путешествовал по разным землям из края в край; побывал в благословенном Дильмуне, в Мелуххе и Макане, в Кедровых горах, где на страже стоят дьяволы, и во многих, многих далеких краях, полных чудес, в которые невозможно поверить бучи в здравом уме.
Что было потом, я не помню. Было утро, я лежал распластавшись на улице перед статуей Лугальбанды.
Я чувствовал онемение и боль в мышцах. Я понятия не имел, как оказался здесь, что произошло накануне вечером. Очевидно я провел ночь под открытым небом, должно быть, творил странные вещи. Челюсти у меня болели, а язык распух, потому что я его прикусил. На подбородке и одежде засохла слюна. Двое молодых солдат склонились надо мной.
— По-моему, он жив, — сказал один из них.
— Жив ли? У него глаза остекленели. Эй, ты жив? Эй, ты!
— Говори-ка повежливее. Это сын Лугальбанды.
— А какая разница, если он помер?
— Да живой он. Смотри, он дышит. И глазами заморгал.
— Точно! — Он обратился ко мне. — Ты действительно сын Лугальбанды? На тебе кольцо царевича. Дай-ка я тебе помогу.
Я отвел его руку.
— Спасибо, я справлюсь, — сказал я голосом, похожим на скрип двери. — Отойдите!
Пошатываясь мне удалось встать на ноги. Солдаты стояли наготове, чтобы подхватить меня, глядя на меня с опаской и восхищением. Я держался на ногах. Один из них подмигнул и сказал:
— Отмечали Священный Брак и перебрали малость, ваша светлость? Ну, греха тут нет. Счастья вам и радости, ваша светлость! Счастливого нового года!
Брак. Священный Брак! Воспоминания потоком нахлынули на меня, а с ними боль и мука. Инанна, Думузи. Думузи, Инанна.
Я отвернулся поморщившись, вспомнив все. И ужасное чувство одиночества, знание того, что я один под равнодушными звездами, вернулось ко мне. По мне прошла волна такой душевной муки, что в сравнении с ней боль в теле казалась ничтожной.
Солдаты нахмурились.
— С вами все в порядке? Вам помочь?
— Оставьте меня, — холодно сказал я.
— Как вашей милости угодно будет, — они пожали плечами и пошли прочь по улице. — Да пребудет с вами милость Инанны! — откликнулся один из них, уходя. А другой рассмеялся и сказал ему:
— Ох, и сладко-пресладко должно было быть в этом году! Ты ее видел? Новую, молоденькую!
— Еще бы! Сколько же наслаждения досталось царю!
— Хватит! — прорычал я.
Они откликнулись, уже издалека:
— Богиня умерла! Да здравствует богиня!
Потом они ушли, а я остался один со своей мукой и скорбью, болью и недоумением, хотя я был не совсем одинок. Я все еще чувствовал божественное присутствие, теплое и согревающее, все там же, в глубине. Оно говорило: «Успокойся!».
Ибо теперь Лугальбанда со мной, во мне и всегда будет со мной.
7
В начале нового года, когда праздник Священного Брака завершился, и похоронные обряды были исполнены над старой жрицей, меня призвали пред очи той, кто ныне была Инанной. Этому приказу я едва ли мог противиться. Но все же мне не хотелось ее видеть, ибо тень Думузи была между нами, словно меч.
Три маленьких храмовых раба, глядя на меня вытаращенными глазами, будто я был каким-то гигантским демоном, провели меня в комнату богини в самой святой части Эанны. Более мы с ней не будем встречаться в безвестных часовенках, в неприглядных туннелях под храмом. Помещение, где она меня приняла, было огромным величественным залом, отделанным белыми кирпичами. Сквозь отверстия в стенах проникали огненные копья солнца. По стенам под потолком шла полоса странных украшений — раздутых красных полушарий, которые очень напоминали женскую грудь. Возможно, так и должно было быть: в одной из своих ипостасей богиня — великая распутница, царица желания.
Я долго ждал, прежде чем она появилась. Она величественно вплыла в комнату, сопровождаемая четырьмя пажами, которые несли огромные снопы тростника, перевязанные сверху, высотой вполовину человеческого роста. Снопы тростника повсюду сопровождают Инанну. Нетерпеливым жестом она отослала пажей, и мы остались одни.
Она стояла передо мной. Выглядела она величественно, победно и пугающе. Я видел, что в ней еще осталось что-то девичье. С тех пор, как я видел ее в последний раз, она превратилось во что-то совершенно непонятное и недоступное мне.
Я подумал, как она лежала нагая в объятиях царя-бога, в ночь Священного Брака, которая была первой ночью ее жизни в облике верховной жрицы, и сердце мое наполнилось скорбью.
Она была одета в простую накидку, украшенную пучками шерсти, покрывавшую ее с ног до головы и оставлявшую обнаженным только ее плечо. Темные волосы были разделены на пробор и заплетены в толстую косу, обвившую голову. Щеки были чуть подкрашены желтой охрой, а веки подведены сурьмой. Знаком ее нового положения была золотая корона, искусно сделанная из звеньев, сплетенных в змеиный узор — знак богини. Корона охватывала ее лоб, и от всего ее облика исходило сияние силы, словно свет небес снизошел на нее.
Я смотрел на нее, не в силах заглянуть ей в глаза. Я только и думал о том, как ее тело извивалось под телом Думузи, как ее губы прижимались к его губам, а его ладонь касалась ее бедер. Я весь горел от стыда и скорби.
Я понимал, что женщина, стоящая передо мной, не та девушка, которую я когда-то желал. Она была воплощением высочайшей власти в мире — сама богиня. Пропасть между нами была огромной. Подле нее я и все мои желания были ничто.
— Ну? — спросила она после долгого молчания.
Я приветствовал ее знаком богини.
— Царица Небес и Земли, — бормотал я. — Божественная Мать. Первая Дщерь Луны…
— Посмотри на меня.
Я поднял глаза, но посмотреть на нее все равно не мог.
— Смотри на меня! В глаза! Откуда этот страх? Что случилось? Я изменилась?
— Да, — прошептал я.
— Ты меня боишься?
— Да. Я боюсь тебя. Ты — Инанна.
— Царица Небес и Земли! Божественная Мать! Первая Дщерь Луны!
Она прикрыла рот рукой, стараясь подавить улыбку, но внезапно разразилась пронзительным смехом.
Ошеломленный, дрожащий, я сделал отвращающий зло жест — знак богини.
— Боишься меня! — воскликнула она, не в силах сдержать свое нечестивое веселье.
Она величественно протянула руку:
— На колени! Ползи, дурень!
Наслаждаясь моим замешательством, она, улыбаясь, добавила:
— Ох, какой же ты ребенок! «Царица Неба и Земли! Первая Дщерь Луны!» — передразнила она.
Я не понимал причины ее смеха, он ужаснул меня. Я снова сделал знак богини.
Прежде она была для меня нагой девчонкой со сверкающими глазами и юной грудью, которая смеялась и тискала меня в коридоре, предрекая великие события. Потом — хитрая молодая жрица, которая играла со мной в непонятные игры, кокетничая и смущая меня. Сейчас я ничего не понимал. Что это? Издевательство над богиней, когда она сама была богиней? Я испугался. Я задрожал от страха. Я воззвал к Лугальбанде с просьбой защитить меня.
Через минуту она успокоилась, и страх мой прошел. Она тихо сказала:
— Да, я теперь другая. Я теперь Инанна. Но я всегда ею была. Неужели ты думаешь, что богиня не знала от начала времен, что выберет мое тело, когда покончит с тем, старым? Теперь пришла моя очередь. Ты был здесь в ночь Священного Брака?
— Да. Я стоял в первом ряду. Ты так и не посмотрела на меня. Вернее, не увидела, хотя и смотрела.
— Огонь богини ослепил мои глаза в ту ночь.
— Или огонь бога, — сказал я дерзко.
Она взглянула на меня в изумлении и внезапном бешенстве. Щеки ее побагровели под желтой краской, глаза сверкнули. Но гнев ее прошел так же быстро, как и появился. Она улыбнулась и сказала:
— Вот оно что. Вот что тебя грызет, Гильгамеш.
Я не мог говорить. Щеки мои горели. Я уставился себе под ноги.
Она подошла ко мне и взяла мою руку. Она мягко сказала:
— Я говорю тебе, перестань о нем думать. Ничего не было! Ритуал, который я добросовестно исполнила, и больше ничего. Его обнимала богиня, а не жрица. Ты и я — между нами ничего не переменилось. Понимаешь?
КОГДА ТЫ БУДЕШЬ ЦАРЕМ, Я БУДУ ЛЕЖАТЬ В ТВОИХ ОБЪЯТИЯХ…
Я взглянул на нее, и наши глаза встретились.
— Кажется, понимаю.
— Ну и хорошо.
Я промолчал. Она все еще была слишком могущественна для меня. Ее сила подавляла.
Помолчав, я сказал:
— Как ты меня назвала только что?
— Гильгамеш.
— Но это не мое имя.
— Оно будет твоим, — ответила она. — Гильгамеш — Тот, Кто Избран. Ты будешь править под этим именем. Это имя древних, которые населяли землю давным-давно. Это знание пришло ко мне во сне, когда богиня впервые вошла в меня. Скажи: Гильгамеш, Гильгамеш.
— Гильгамеш.
— Царь Гильгамеш.
— Это безбожно так говорить, ведь царь — Думузи.
— Царь Гильгамеш! Скажи это! Скажи.
Я поежился.
— Оставь меня, Инанна, я молю тебя. Если боги соблаговолят сделать меня царем, это случится в свое время. Но троном ныне владеет Думузи. Я не назову себя царем перед тобой, здесь, в жилище богини.
Гнев возвратился в ее глаза: ей не нравилось, когда ей перечили. Потом она пожала плечами, и в следующий миг словно выкинула из головы все, о чем мы говорили. Уже другим голосом, бесцветным и деловым, она спросила:
— Почему ты от меня столько скрываешь?
Это меня поразило.
— Скрываю?
— Ты знаешь что.
Я почувствовал в душе что-то понял — это предупреждение.
Так вот, что она хотела от меня услышать! Я побоялся сказать ей это. Я ничего не ответил. Разговаривать с ней было все равно что переходить бурную реку с каменистым дном: в любую секунду нога может соскользнуть, и тебя унесет течением.
— Почему ты многое скрываешь от меня, Гильгамеш?
— Не зови меня этим именем.
— Да, наверное, не надо. Пока не надо. Но тебе не уйти от меня.
— Почему ты думаешь, что я от тебя что-то скрываю?
— Потому что знаю, что так оно и есть.
— Ты можешь заглянуть в мои мысли?
Она загадочно улыбнулась.
— Возможно.
Я заставил себя упрямо сопротивляться ей и сказал:
— Тогда у меня от тебя нет секретов. Ты и так все знаешь.
— Я хочу услышать это из твоих собственных уст. Я думала, что ты придешь ко мне сам и скажешь. Когда ты не пришел, я сама позвала тебя. Ты переменился. В тебе появилось что-то новое.
— Нет, — сказал я. — Это ты переменилась.
— И ты тоже, — сказала Инанна. — Разве я не просила тебя прийти и сказать мне, когда какой-нибудь бог выберет тебя? Какой это бог?
Я в изумлении уставился на нее.
— Ты это знаешь?
— Это так легко увидеть!
— Как? Это видно по лицу?
— Я это почувствовала через пространство, разделявшее нас. Теперь в тебе божество. Ты не можешь этого отрицать.
Я покачал головой.
— Я и не отрицаю.
— Ты обещал мне сказать, когда тебя выберут. Выполни обещание.
— Это очень личное, когда тебя выбирают, — сказал я, потупив глаза.
— Выполни обещание, — сказала она.
— Я думал, тебе не до меня… Праздник, похороны старой Инанны.
— Выполни обещание, — сказала она.
В голове у меня пульсировала боль. Перед ней я был беспомощен. Лугальбанда, молил я, наставь меня, помоги!
Кроме пульсирующей боли, я ничего не чувствовал.
Она сказала:
— Назови мне имя бога, который теперь защищает тебя.
— Ты все на свете знаешь, — дерзнул я сказать. — Зачем мне говорить тебе то, что ты и так знаешь?
Это ее и позабавило и разгневало. Она отвернулась от меня и стала расхаживать по комнате. Потом схватила связки тростника и крепко сжала их. На меня она не смотрела. Молчание сковывало меня бронзовыми обручами. Я задыхался. Шутка ли — открыть имя своего личного бога! Это значит потерять частичку той защитной силы, которую бог тебе дает. А я еще далеко не был уверен в собственной силе, чтобы принести эту жертву. Но точно так же мне не хватало сил противостоять Инанне, скрывая от нее то, что она требовала. Я дал обещание жрице, а выполнить обещание требовала богиня.
Я сказал очень тихо:
— Бог, вошедший в меня, это мой отец, герой Лугальбанда.
— Вот, значит, как, — сказала она.
Больше она ничего не сказала, и пугающее молчание снова повисло в воздухе.
— Не говори об этом никому, — сказал я.
— Я — Инанна! — в гневе вскричала она. — Никто мне не указ!
— Я тебя прошу никому не говорить. Разве это большое одолжение?
— Ты не смеешь ни о чем меня просить!
— Просто обещай…
— Никаких обещаний! Я — Инанна.
Сила богини заполнила зал. Подлинное присутствие божества наполняет вас леденящим холодом, потому что оно притягивает к себе все тепло жизни. В этот момент я почувствовал, как Инанна забирает мое тепло, высасывает его из меня, оставляя только пустую заледенелую оболочку. Я не мог шевельнуться, не мог говорить. Я остро чувствовал, как я молод, глуп и неискушен. Я видел, что передо мной стоит богиня, чьи желтые глаза горят, как у дикого зверя в ночи.
8
Несколько дней спустя, когда я вернулся домой с поля для метания дротиков, я обнаружил запечатанную табличку на постели. Это было, как сейчас помню, в девятнадцатый день месяца: это всегда самый неудачный день. Я поспешно разбил обертку из коричневой глины и прочел сообщение, потом еще и еще раз. Эти несколько слов, написанные на глине в один миг вырвали меня из уюта моего родного города и ввергли в странную жизнь изгнанника, словно это были не слова, а буйное дыхание самого бога Энлиля.
Табличка гласила: «Немедленно беги из Урука. Думузи покушается на твою жизнь».
Внизу стояла печать Инанны.
Моя первая реакция — чувство протеста. Сердце мое грохотало в груди, руки сжимались в кулаки. Кто такой Думузи, как он смеет угрожать сыну Лугальбанды? Мне ли бояться такого ленивого слизняка, как он? А еще я подумал: власть богини выше власти царя, значит, мне незачем бежать из города, Инанна защитит меня.
Когда я шагал из угла в угол, охваченный гневом и яростью, вошел один из моих слуг. Он тут же попятился назад, но я велел ему остаться.
— В чем дело? — требовательно спросил я.
— Двое. Господин, два человека были здесь…
— Кто такие?
Какое-то время он не мог сказать ни слова. Потом с трудом выдавил из себя:
— Рабы Думузи. На руках у них были красные повязки царя.
В глазах у него был страх.
— У них в руках были ножи, мой господин. Они было спрятали их в одежду, но я заметил их блеск. Мой господин…
— Они тебе сказали, что им надо?
— Поговорить с тобой, мой господин, — он запинался.
Страх сделал его лицо серым.
— Я с-с-сказал, что ты у б-б-богини, и они сказали, что вернутся… С-с-сегодня вечером вернутся…
— Хорошо, — тихо сказал я. — Значит, это правда.
Я взял его за край одежды, притянул к себе и прошептал:
— Будь начеку! Если увидишь их поблизости, немедленно сообщи мне.
— Непременно, мой господин!
— И никому не говори, где я!
— Ни слова, мой господин!
Я отпустил его и снова начал ходить по комнате. В горле у меня пересохло, я весь дрожал. Не от страха, а от ярости и негодования. Что мне оставалось делать, как не бежать? Я видел, как нелепо все складывается. Да, можно быть дерзким и смелым. Но за это я заплачу жизнью. Как же я был заносчив! Как был уверен, что Думузи не может угрожать сыну Лугальбанды, забыв, что Думузи царь, и моя жизнь находится в его руках. Если бы у Инанны была хоть единственная возможность меня защитить, разве она послала бы письмо, приказывая бежать? Я уставился в пустоту. Нельзя медлить ни минуты. Я это знал, даже не пытаясь искать объяснений. В мгновение ока Урук был потерян для меня. Я должен бежать, и как можно скорее. Я не смею задерживаться, чтобы попрощаться с матерью или преклонить колена у святилища Лугальбанды. В эту самую секунду двое убийц по приказу Думузи направляются сюда Промедление смерти подобно.
Я не собирался надолго. Я найду прибежище в каком-нибудь городе на несколько дней, если понадобится, то на несколько недель, пока не узнаю, в чем моя вина, чтобы нажить себе врага в лице самого царя, и как можно исправить положение. Я не мог даже предположить, что отправляюсь в четырехлетнее изгнание.
Онемев, дрожащими руками я собрал кое-какие пожитки. Я связал одежду в узел, взял лук и меч, амулет пазузу, который моя мать дала мне еще в детстве, маленькую статуэтку богини, которую я получил от Инанны, когда она была жрицей. Я взял табличку, на которой были написаны заклинания — средство на случай ранения или болезни, и кожаный мешочек с травами, которые можно зажечь, чтобы прогнать духов в пустыне. Я взял небольшой нож древней работы, в рукоять которого были вделаны драгоценные камни, не очень острый, но нежно хранимый, ибо его привез мне Лугальбанда с одной из своих войн.
В первую стражу ночи, когда восходят звезды, я выскользнул из дома и, крадучись, направился к Северным Воротам. Шел мелкий дождь. Легкий дым поднимался от крыш домов к темнеющим небесам. Сердце мое разрывалось. Никогда прежде я не покидал Урук. Я был в руках богов.
Я решил отправиться в город Киш. Эриду или Ниппур были ближе и добраться туда было легче, но Киш казался безопаснее. Влияние Думузи в Эриду и Ниппуре было гораздо сильнее, а Киш был ему враждебен. Мне не хотелось появиться в таком месте, где меня бы скрутили и немедленно отправили обратно в Урук из любезного отношения к царю Урука. Акка, царь Киша, вряд ли считал себя обязанным оказывать какие-либо услуги Думузи. И Лугальбанда часто говорил о нем, как о добром воине, достойном противнике и человеке чести. Значит, в Киш. Кинуться в ноги Акке и просить о милосердии.
Киш лежал на севере, на расстоянии многодневного перехода. По воде пути не было. Не было проверенного пути для маленького плота или лодки, чтобы плыть против течения по бурной Буранну, и не было смысла рисковать и пытаться пробраться на один из больших царских кораблей, плывущих вверх по реке. Я знал, что по восточному берегу вьется караванная тропа. Если идти по ней на север и поживее переставлять ноги, рано или поздно, я оказался бы в Кише.
Я шел быстро, временами бежал рысцой, и скоро Урук скрылся во тьме. Я шагал до полуночи. У меня возникло чувство, что я очень далеко от дома, что я отправился в далекое путешествие, которое приведет меня в самые отдаленные уголки земли, путешествие, которое никогда не окончится. Это путешествие и впрямь не окончено по сей день.
В эту ночь я спал на свежевспаханном поле, закутавшись в плащ, и дождь падал мне в лицо. Я спал, и спал крепко. На заре я встал, выкупался в илистом канале какого-то крестьянина и там же подкрепился фигами и огурцами. Затем я снова двинулся на север. Я чувствовал, что я неутомим, полон сил, и меня не пугает необходимость шагать весь день. Это бог был во мне, он вел меня, как всегда, к большим деяниям, нежели доступны смертному.
Земля была прекрасна. Небо было огромным и сияющим, оно трепетало от присутствия богов. На обширной пойменной равнине пробивалась первая нежная осенняя трава, после летней засухи. Вдоль каналов мимозы, ивы и тополя, тростники и камыши — все покрывалось свежей зеленой порослью. Темная река Буранну бежала по равнине слева от меня в русле собственного ила. Где-то далеко к востоку была еще одна река — быстрая и дикая Идигна. Она была второй границей земли, ибо, когда мы говорим о земле, мы имеем в виду пространство между двумя реками. Все, что лежит за этими пределами, для нас чужое; то, что лежит внутри двух рек, дано нам богами.
Реки приносят страшные наводнения, убийственные потоки, сметающие все на своем пути, реки приносят и плодородный ил. Великие знаки этого священного дара я видел повсюду на своем пути. Этим обязаны мы великому отцу Энки. Легенда о великом и мудром боге рассказывает, что он принял вид дикого быка и вонзил свой огромный фаллос в сухие русла двух рек и излил в них свое семя мощными потоками, чтобы наполнить их сияющей водой жизни. Так оно и повелось: воды отца дают плодородие земле — нашей матери. Когда реки наполнились его плодородными потоками, великий и мудрый Энки придумал каналы, что переносят воду рек на поля, и породил рыбу и тростник, болота и зеленую траву холмов, злаки, плоды, скот на пастбищах, вручив опеку над всем этим особому богу.
Все это я слышал от арфиста Ур-Кунунны и от отца-наставника в классе. Мне это все казалось только словами. Теперь это стало реальностью. Я видел на полях злаки, клонящиеся под тяжестью зерен пшеницы и ячменя. Я видел финиковые пальмы, отягощенные плодами. Я видел кипарисы и виноградники, полные виноградных кистей, сады миндаля и грецких орехов, всюду паслись стада быков, волов и овец. Земля кипела жизнью. В лагунах возле каналов я видел отдыхающих буйволов, большие стаи птиц с ярким оперением, множество черепах и змей. Однажды я увидел черногривого льва. Мне хотелось увидеть слона, о котором я слышал потрясающие истории, но слоны в это время года куда-то уходят. Однако других существ — кабанов, гиен, шакалов, волков, орлов и стервятников, антилоп и газелей было великое множество.
Все это время я охотился на зайцев и гусей, находил орехи и ягоды. В селениях крестьяне охотно приглашали меня разделить с ними трапезу: горох, чечевица, бобы, пиво, золотистые дыни. Я никому не говорил ни своего имени, ни откуда я родом. Знали ли они, что я не простой смертный, а молодой царевич? Почему они так радушно меня принимали? Хотя, по обычаю, прогнать мирного странника считается оскорблением богам. Девушки этих крестьянских селений согревали меня по ночам, и я сожалел, что мне надо идти. Иногда я раздумывал, а не взять ли с собой в путь кого-нибудь из этих нежных подружек? Но я шел все дальше и всегда один. Я был один, когда наконец пришел в великий град Киш.
Мой отец всегда с теплотой отзывался о Кише. «Если и есть где град, который может по праву равняться с Уруком, — говаривал он, — то это конечно Киш». По-моему, так оно и есть.
Как и Урук, Киш лежит на реке Буранну, которая связывает город с морем, поэтому он богатеет от речной и морской торговли между городами. Как и Урук, он окружен стенами и поэтому надежно защищен. Там живет довольно много народу, хотя и не так много, как в Уруке, который, наверное, величайший город в мире. Мои сборщики податей на пятом году моего правления насчитали девяносто тысяч жителей, включая рабов. На мой взгляд, в Кише живет примерно на треть меньше, что тоже впечатляет.
Задолго до того, как возвысился Урук, Киш достиг большого могущества. Это было давно, когда царская власть во второй раз была дарована с небес, после того, как Потоп разрушил прежние города. Тогда Киш стал царской столицей, а Урук был тогда только деревней. Я помню, как арфист Ур-Кунунна пел нам об Этане, царе Киша, который собрал под своей властью все земли. Его славили как царя над царями. Это Этана взмыл на орле в небо, когда, по причине своего бесплодия, искал для рождения наследника зелье, растущее только на небесах.
Поразительное чудесное путешествие Этаны из Киша на небеса даровало ему желанного наследника, но все равно Этана пребывает сегодня в Доме Праха и Тьмы, а Киш не имеет более власти над всеми землями. К тому времени как царем Киша стал Энмебарагеси, величие Урука возросло. Мескингашер, сын солнца, стал нашим царем, когда Урук еще не был Уруком, а двумя деревнями
— Эанной и Куллабом. После него царем был мой дед, герой Энмеркар, который создал Урук из двух деревень. А после него — Лугальбанда. При этих двух героях мы завоевали нашу независимость и достигли расцвета и величия, хранителем которых я был все эти долгие годы.
Энмебарагеси давно умер, и его сын Акка стал царем Киша. В один прекрасный день, при ярком зимнем солнце я впервые увидел этот город, высоко вздымающийся на плоской равнине Буранну, за стеной со многими башнями, выкрашенными в ослепительный белый цвет. На башнях развевались длинные флаги багряного и изумрудного цветов. Киш похож на двугорбого верблюда: на западе и востоке два центра-близнеца и низинный район посередине. Храмы Киша возвышались на очень высоких помостах, выше, чем Белый Помост Урука. Ступени к ним поднимались высоко в небо, словно вели к самим богам. Это показалось мне величественным и прекрасным и когда я перестраивал храмы Урука, то имел ввиду высокие помосты Киша. Но это было много лет спустя.
Город Киш был великолепен. Казалось, все в нем кричало: «Я могущественный, я непобедимый город!» Я почувствовал себя мальчишкой, первый раз покинувший родной дом, но в сердце моем не было места страху.
Я предстал пред стенами Киша, и мрачный длиннобородый привратник вышел, небрежно помахивая своим бронзовым скипетром, знаком его должности. Он оглядел меня с ног до головы, словно я был каким-то ничтожеством, мясом, ходившим на двух ногах. Я ответил на его взгляд таким же наглым взглядом. Слегка касаясь рукояти своего меча, я сказал ему:
— Доложи своему господину, что сын Лугальбанды пришел из Урука приветствовать его.
9
В ту ночь я ел с золотых блюд во дворце царя Акки. Так началось мое четырехлетнее пребывание в Кише.
Акка тепло принял меня то ли из уважения к моему отцу, то ли от мысли как-то использовать меня потом против Думузи. Может быть, было в его радушии немного и того и другого. Он был человеком чести, как мне и говорили, но в то же время Акка до мозга костей был монархом, который обращал все на пользу своего города.
Это был розовокожий здоровяк с большим брюхом. Он обожал мясо и пиво. Голова у него была совершенно безволосая. Ему брили ее каждое утро в присутствии его придворных и сановников. Лезвия, которыми пользовались цирюльники, были из белого металла, которого я никогда не видел прежде, и чрезвычайно острые. Акка сказал, что они из железа. Это удивило меня, поскольку я считал, что железо темнее и не годится к употреблению — оно мягкое и его по-настоящему не наточить. Управляющий объяснил мне, что это особое железо. Оно упало с неба в земле Дильмун, и его сплавляли с другим металлом, которому не было названия, он то и давал сплаву белый цвет и особую твердость. Много раз с тех пор я мечтал о таком металле для выделки оружия и о тайне его выплавки.
Как бы там ни было, я никогда не видел никого, выбритого более чисто, чем Акка. Все высшие сановники тоже ходили бритыми, кроме тех, предки которых были люди пустыни, так как их волосы слишком густые и брить их — нелегкая задача. Я это понимаю, потому что мои волосы точно такие же, как у Лугальбанды. Во мне тоже течет кровь людей пустыни: мой рост, мои густые волосы и борода говорят об этом, хотя нос у меня не острый и загнутый, как у них. В любом городе страны живет немало детей пустыни, но в Кише их больше, чем в любом другом месте. В Кише их было, наверное, больше половины населения, и на улицах мне приходилось слышать их речь так же часто, как и нашу собственную. Акка знал, что я убежал от Думузи. Казалось, он знал много из того, что происходит в Уруке, куда больше, чем я. Нет ничего удивительного в том, что такой могущественный царь, как Акка, держит широкую и мощную сеть лазутчиков в городе, который считается соперником Киша. Что меня удивило, так это источник, откуда пришли эти сведения. Эта истина открылась мне позже.
— Что же ты натворил, — спросил Акка, — что заставило царя так поступить с тобой?
Над этим я и сам много думал. Почему Думузи вдруг стал смотреть на меня, как на врага, не замечая меня все шесть или семь лет, что прошли со смерти моего отца? Или это время я не представлял совершенно никакой опасности его владычеству? Хотя я был силен и высок не по годам, я еще не был готов играть хоть сколько-нибудь значительную роль в управлении городом. Наверняка Думузи это понимал. Если по мальчишеству я когда и хвастался, что в один прекрасный день стану царем, так ведь это и было мальчишеское хвастовство, пока правление моего отца, героя Лугальбанды, было еще свежо в моей памяти. Все мечты о царской власти, которые у меня были в более поздние времена — я не отрицаю, что они у меня были, — я держал при себе.
Сидя за столом Акки, я вспомнил, что был в Уруке некто, кто посвятил немало времени предсказанию мой судьбы, и казалось, не сомневался, что мне суждено стать царем. Разве не нашептывала она о радостях, которые мы разделим, когда я приду к власти? Разве не зашла она столь далеко, что изыскала имя, под которым я буду править?
И она была совсем близко от ушей Думузи.
— Как тебе кажется, что подумает Думузи, — спросил я Акку, — если он узнает, что в мою душу вошел великий дух божественного Лугальбанды и что дух этот все время пребывает во мне?
— Так вот значит, в чем дело! — воскликнул Акка, и глаза его заблестели.
Он поднес к губам чашу с пивом, отпил из нее, и задумался.
Помолчав, он ответил, внимательно наблюдая за мной:
— Если бы дело обстояло так, или Думузи просто подумал бы, что это может быть правдой, тогда воистину ты представлял бы огромную опасность для Думузи. Он знает, что не стоит и волоса из бороды твоего отца. Он боится самого имени Лугальбанды. Но мертвый Лугальбанда ему не страшен. Он не представляет опасности для трона Думузи.
— Да, это так.
— Да, — сказал Акка, улыбаясь. — Но если станет известно, что дух великого и доблестного Лугальбанды избрал ныне своим обиталищем крепкое тело его сына и что сын уже приближается к возрасту, когда он сможет играть роль в управлении городом… Что ж, тогда это другое дело — ты становишься для Думузи опасностью, серьезной опасностью…
— Достаточно серьезной, чтобы меня убить?
Акка развел руками:
— Что гласит пословица? Что трусу львы чудятся там, где храбрец видит кошек? Я бы не боялся духа Лугальбанды, будь я на месте Думузи. Но я не Думузи, а он воспринимает мир по-другому.
Он подлил мне еще пива, отогнав жестом слугу, и сказал:
— Если и впрямь тот бог, что выбрал тебя, Лугальбанда — а я не удивлюсь, если так оно и есть, — то неумно с твоей стороны дать Думузи хоть малейший намек на это.
— Я это понимаю. Но если Думузи что-то и знает об этом, то не от меня.
— Но от кого-то он это узнал, а этот кто-то узнал это от тебя. Так ведь?
Я кивнул.
— Значит, ты разговорился с другом, который оказался недругом, и тебя предали, так?
Сквозь стиснутые зубы я выдавил из себя:
— Я же просил ее не говорить об этом никому! Правда, она не стала обещать и даже рассердилась, что я просил у нее обещание.
— Значит это ОНА.
Я покраснел:
— Я тебе рассказываю больше, чем собирался.
Он накрыл мою руку ладонью.
— Ах, мальчик! Ты не рассказываешь мне ничего нового. Но здесь ты в безопасности. Ты под моей защитой и в безопасности. Все позади, выпей-ка еще пива. Посмотри, какое оно! Ячмень, из которого готовят это пиво, оставляют специально только для царя. Пей, парень! Пей!
Я пил еще и еще. Разум мой оставался ясным, ибо гнев не давал мне опьянеть. Она побежала к Думузи, думал я, когда выведала обо мне все, вовсе не задумываясь, что подвергает меня смертельной опасности. Или это было так задумано предать меня? Но почему? Может это просто преступное легкомыслие? А может она следовала слишком сложному расчету, которого я пока не мог понять? Я понимал, что она явно была тем человеком, который организовал мое изгнание, выдав мою тайну именно тому человеку, которому она больше всего грозила. Во мне поднялась волна такой ярости, что окажись она рядом, я бы прикончил ее на месте — богиня она или нет.
Мы с Аккой засиделись до поздней ночи. Он рассказывал мне о своих сражениях с Лугальбандой, о том дне, когда они сошлись в поединке под стенами Киша и, сражаясь до заката солнца, ни один из них не смог победить другого. Он всегда относился к моему отцу с величайшим уважением, сказал он, даже когда они поклялись враждовать до смерти. Потом он приказал открыть еще сосуд пива — я был потрясен, сколько он пьет, ничего удивительного, что на костях у него столько жира, — и чем больше он пьянел от пива, тем пространнее становились его истории, за которыми невозможно было уследить. Он стал рассказывать о сражениях между его отцом Энмебарагеси и моим дедом Энмеркаром, о войнах, которые велись, когда он был мальчиком, а потом забрался в такие дремучие дебри легенд, где упоминались цари, имена которых я никогда не слышал. Он становился все пьянее и сонливее, а я все больше трезвел. Но я чувствовал, что он не так пьян, как хочет казаться, и все время исподволь следит за мной с пристальным вниманием: я не забыл, что этот человек был царем Киша, великим правителем великого города, выживший в сотнях сражений, хитрый и мудрый правитель.
Он выделил мне по дворце анфиладу покоев, подавляющих роскошью, посылал мне столько наложниц, сколько я мог пожелать, а потом дал мне жену. Звали ее Ама-суккуль. Она была дочерью Акки и одной из его прислужниц. Ей было тринадцать лет и она была девственна. Когда он мне ее предложил, я не знал, что ответить, так как не был уверен, что прилично брать жену в чужом городе, мне казалось, что мне надо хотя бы получить согласие моей матери Нинсун. Но Акка был глубоко уверен, что принц, долгое время гостящий в Кише, не должен оставаться без жены. Нетрудно было понять, что, отказавшись, я глубоко оскорблю его чувство гостеприимства и его чувства к дочери. Брак в Кише, рассуждал я, не может считаться действительным в моем родном городе, если когда-нибудь я пожелаю от него освободиться. Так взял я мою первую жену. Ама-суккуль была веселой девушкой с округлой грудью и славной улыбкой. Она была неразговорчива, за все время нашего брака она никогда не заговаривала первая, если к ней не обращались. Я жалею, что мы не были ближе друг другу. Но боги, увы, не послали мне счастья открывать душу женщине в браке. Все жены, которые у меня были, все они были мне чужими.
Я знаю, почему это было так. Я осмеливаюсь говорить это здесь, хотя вы сами увидите это, по мере того, как будет развертываться повесть о моей жизни. Все это потому, что всю свою жизнь я был связан странным, неисповедимым путем с темной душой этой женщины, жрицей Инанной, которая никогда не могла быть моей женой, но она не оставила в моем сердце места ни одной другой женщине. Я любил ее, я ненавидел ее — часто то и другое одновременно — я постоянно находился в состоянии борьбы с этой женщиной, поэтому мне не довелось изведать обычной согревающей любви ни с одной другой. Это правда. Кто это говорит, что жизнь царей и героев легка и приятна?
Акка привязал меня к себе и другим образом, навязав мне вассальную клятву, которая должна была иметь силу, даже если я когда-нибудь буду правителем Урука.
— Я поклялся защищать тебя, — объяснил он, — и ты в ответ должен поклясться в своей верности мне.
У меня были сомнения, не продаю ли я с позором Урук, становясь вассалом Киша? Оставшись один, я пал на колени и просил дух Лугальбанды наставить меня на путь истинный, но не услышал в своей душе ничего, что говорило бы мне, что произносить такую клятву нельзя. В каком-то смысле мы были обязаны сохранять верность Кишу, поскольку именно в Киш была ниспослана с небес царская власть после Потопа и боги никогда не отменяли первенства Киша. Давая клятву, я как бы подтверждал существующее первенство Киша и нашу преданность, которые и ранее негласно признавались. У меня мелькнула мысль, что в общем мне безразлично то, что я признал Акку своим сюзереном, если только — стань я царем в Уруке — он не потребует, чтобы я платил ему дань или выполнял бы его приказы. В клятве об этом ничего сказано не было. Клятву я поэтому принес. Сетью Энлиля поклялся я в верности царю Киша.
Не было и разговора о том, чтобы я вернулся в Урук через несколько недель, как мне поначалу представлялось. Вскоре не заставили себя ждать посланники Думузи и мягко, но настойчиво просили Акки выдать меня. «Горько тоскуют в Уруке по сыну Лугальбанды, — говорили они. — Наш царь изголодался по его советам и ищет его сильной руки на поле сражений».
— Ах! — отвечал Акка, закатив глаза и изображая великую скорбь, — но сын Лугальбанды и мне стал сыном, и я не расстанусь с ним за все сокровища мира. Скажите Думузи, что я умру от горя, если сын Лугальбанды покинет пределы Киша столь скоро!
Наедине Акка сказал мне, что его лазутчики доложили, что Думузи в ужасе от того, что будто бы я в Кише собираю армию, чтобы его свергнуть. В Уруке меня объявили врагом города, сказал Акка, и наверняка убьют, если я попаду Думузи в руки.
Так я остался в Кише. Все-таки я ухитрился передать словечко моей матери, что я жив-здоров и выжидаю удобное время, чтобы направиться домой.
Жизнь в Кише почти не отличалась от жизни в Уруке. В Уруке мы если хлеб, мясо, пили пиво и финиковое вино, в Кише было все то же самое. В Уруке и в Кише носили одежду из шерсти и полотна, в зависимости от времени года, и даже моды были похожи. Улицы Урука были такие же, как и в Кише. Дома в Уруке были с плоскими крышами, иногда двухэтажные, иногда одноэтажные, обожженные кирпичи внизу, глиняные необожженные — вверху, дома побелены. В Кише все было точно так же. В Уруке и Кише говорили на одном языке. Единственной разницей — но очень значимой для меня — были боги. Главные храмы Урука посвящены, разумеется, Инанне и великому небесному отцу Ану. В Кише, разумеется, никто не сомневается в величии и силе Ана и Инанны, но храмы посвящены здесь богу бурь Энлилю и великой матери Нинхурсаг. Поначалу мне было непривычно находиться постоянно в присутствии этих богов, а не тех, что правят Уруком. Я больше боюсь богиню Инанну, чем люблю, но все равно мне тяжело пребывать там, где нет Инанны. Внешне нет особых различий, но по сути все разнится: в Кише даже небо другого оттенка, воздух иной на вкус, и не чувствуешь присутствия Инанны с каждым вздохом.
В Кише я окончательно отточил свое воинское мастерство и получил уроки, которые мне давно пора было знать. Я уже вошел в возраст мужей, но я не знал еще вкуса битвы. Акка дал мне возможность не просто вкусить, а устроил мне пир-горой военного искусства.
Войны велись на востоке, в суровом холмистом царстве Элам. Край этот богат тем, чего мы лишены: строевой лес, медные и оловянные руды, алебастр, обсидиан, гранат, оникс. Мы же владеем многими желанными для них вещами: плодами наших заливных лугов, ячменем и пшеницей, абрикосами и лимонами, шерстью и льном. Прямой смысл нашим землям вести между собой торговлю, но не такова воля богов: на каждый год мира между нами и эламитами приходится три года войны. Они спускаются в наши низины грабить — мы вынуждены посылать армии, чтобы прогнать их прочь, и в свою очередь отобрать у них то добро, которым они владеют.
Отец Акки, царственный Энмебарагеси, одержал великую победу над Эламом и на какое-то время подчинил его себе. Но во времена Акки эламиты вышли из-под подчинения Киша. Вдоль всей границы ныне бушевала война, поэтому на втором году моей изгнаннической жизни я отправился с армией Киша на ту широкую, обдуваемую всеми ветрами равнину, за которой лежит Суса — столица Элама.
Я много лет бредил битвами, еще с того времени, когда мой отец, в краткой передышке между боями, рассказывал мне о значении колесниц в битве или дротиков. Я вел потешные бои, рисовал планы боя и вел своих друзей по играм в бешеные атаки против невидимых врагов. Есть песнь войны, которую слышит только ухо воина — высокий, пронзительный звук, несущийся сквозь густой от зноя воздух, разрезая его, словно лезвием, и пока ты не слышал этой песни, ты не воин, не мужчина. В первый раз я услышал эти звуки возле реки Каркхах, в землях Элама.
Всю ночь, под сияющей луной, мы готовились к атаке, натирая маслами то, что было сделано из дерева или кожи, и начищая бронзу. Небо было таким чистым, что мы видели, как по нему расхаживают боги — огромные рогатые силуэты, голубые на фоне черного неба. Они перепрыгивали с облака на облако. Огромный силуэт Ана, невозмутимого, всевидящего, казалось, заполнил небеса. Великий Энлиль сидел на троне, вызывая бури в далеких краях. Воздух был горяч и сух. Мы зажгли огни в честь богов и зарезали быков, и боги спустились к нам, и их божественное присутствие наполнило наши сердца. На заре я надел свой сияющий шлем, кожаную предохранительную набедренную повязку, сверху короткую юбку из овечьей шкуры и вступил в повозку, будто это был мой двадцатый, а не первый год на полях сражений.
Взревели трубы. Из сотен глоток вырвался боевой клич:
— За Акку и Энлиля! За Акку и Энлиля!
Я слышал свой собственный голос, низкий и хриплый, выкрикивая те же слова. Ранее я и представить подобного не мог:
— За Акку и Энлиля!
И мы двинулись на равнину.
Моего возничего звали Намгани. Это был широкоплечий, широкогрудый человек родом из Лагаша, в Киш его продали еще мальчиком, и ему неведомо было иное ремесло, кроме войны. Шрамы, старые и недавно зажившие покрывали его, словно знаки почета. Перед тем как подхлестнуть ослов, он обернулся ко мне и усмехнулся — зубов у него во рту было четыре или пять.
Акка дал мне великолепную повозку: четырехколесную, а не двухколесную, как положено новичкам. Нельзя сыну Лугальбанды, сказал он мне, ездить в чем попало. Для этой упряжки царь подарил мне четырех крепких ослов, быстрых и сильных. Я сам помчал Намгани их запрягать, подгоняя хомут и расправляя шлеи и уздечки. Это были хорошие животные, терпеливые и сообразительные. Конечно хорошо было бы ринуться в бой на мощных, длинноногих лошадях, а не на наших кротких ослах. Но мечтать о том, чтобы запрячь коней — этих таинственных животных северо-западных гор, — все равно, что мечтать о том, чтобы запрячь бурю. Поговаривали, что в землях за Эламом люди нашли способ приручить лошадей и ездить на них, но мне кажется, это пустые слухи. Вдали я видел, как черные кони проплывают, словно призраки, над выжженными равнинами. Я не мог представить, как эти животные, даже если их вообще можно поймать, могут быть покорены и служить людям так преданно.
Намгани подхватил поводья и приник к леопардовой шкуре, которая спереди покрывала раму повозки. Я слышал, как завизжала ось, как заскрипели деревянные колеса. Потом ослы почуяли ритм скачки и пошли ровным бегом по мягкой, пружинящей земле к темноту строю эламитов, маячившему на горизонте.
— За Акку! За Энлиля!
И я, крича со всеми вместе, добавил и собственный клич:
— Лугальбанда! Отец небесный! Инанна! Инанна! Инанна!
Моя повозка была пятой. Это большая честь, так как четыре повозки впереди были генерала и трех сыновей Акки. За мной было еще восемь или десять повозок. За громыхающими повозками шла пехота. Сперва тяжелая, с топорами в руках, защищенная шлемами и тяжелыми плащами-бурками из черной вяленой шерсти, затем легкая пехота, почти голая, размахивая копьями или короткими мечами. Мое оружие — дротик. У меня в колчане их была дюжина, замечательно тонкой работы. Еще был обоюдоострый топор, чтобы защищаться, когда кончатся дротики, маленький меч и удобный в руке небольшой нож-кинжал, на случай, если все остальное меня подведет.
Когда мы приближались к врагу, я услышал музыку, принесенную ветром, не похожую ни на что, слышанное мной раньше. Одна нота, пронзительная, сперва удивительно тихая, все разрасталась и разрасталась, пока не заполнила воздух. Это было похоже на плач женщин, но это не было траурной песнью — это было нечто яркое, огненное, ликующее, от этой ноты исходили жар и свет. Не надо было говорить, что это была боевая песнь, рвущаяся изо всех душ сразу. Кто сейчас шел в атаку на эламитов, слились в единое существо с единым сердцем, и от жара этого слияния рождалась безмолвная песнь, которую слышать могут только воины.
Я ощутил присутствие во мне: жужжащий пульсирующий звук в голове, золотое сияние, чувство великое и странное, которое сказало мне, что великий Лугальбанда просыпается во мне. Я занял устойчивое положение, мне казалось, что я большая черная скала, погруженная в быструю и бурно мчащуюся реку. Сознание на какой-то момент покинуло меня, потом мысли мои стали ясны, как никогда. На полном скаку мы смяли строй эламитов.
У эламитов нет повозок. Они берут числом, их много, у них прочные щиты и душевная тупость, которая многим кажется глупостью, но я зову это настоящей храбростью. Они стояли стеной против нас — густобородые люди с глазами темными, как ночь без лунного света, одетые в кожаные куртки и размахивали копьями, уродливыми, с широким острием. У них и лиц-то не было: глаза да волосы. Намгани взревел и направил колесницу прямо в гущу воинов.
— Энлиль! — кричали мы. — Акка!
А я:
— Инанна! Инанна!
Перед нами шла сама богиня-воительница, подминая эламитов, словно кегли. Они с воплями падали под копыта ослов, и наша повозка, как корабль вздымалась и проваливалась, когда колеса переезжали их упавшие тела. Намгани орудовал огромным топором с длинной рукоятью. Этим оружием он рубил направо и налево. Лугальбанда много раз говорил мне, что цель переднего отряда воинов — разбить боевой дух противника, и лучший способ этого достичь — выбирать главных людей в стане врага, — вождей, высших военачальников, и попытаться убить их.
Я оглянулся вокруг. Я видел только хаос, множество сражающихся тел и летящие копья. И тут я нашел своего противника. Когда мой взгляд упал на него, боевая песнь загремела сильнее и ярче в моих ушах, дух Лугальбанды разгорелся во мне, словно голубое пламя, вспыхивающее, если в костер плеснуть финиковое вино. Вот он. Убей его.
Он меня тоже увидел. Это был вождь горцев: волосы, словно черная шерсть, на щите — маска демона, желтая, с пылающими красными глазами. Он тоже знал, как важно сперва убить героев и военачальников. Мне показалось, он принял меня за военачальника, хотя я никак не мог похвастаться столь высоким званием в мои-то годы. Глаза его заблестели, он поднял копье.
Моя рука мгновенно взметнулась, посылая дротик. Богиня направляла мою руку: дротик вонзился ему в шею — узкую щель между бородой и краем щита. Кровь фонтаном брызнула у него изо рта, глаза вылезли из орбит. Он уронил копье и упал навзничь, судорожно задергав ногами.
Вопль, словно застонал раненый громадный зверь, вырвался из глоток окружавших его воинов. В рядах эламитов открылась брешь, и Намгани немедленно направил туда повозку. Я метнул второй дротик — и еще один высокий воин повалился наземь. Мы оказались в самой середине боя, четыре или пять повозок были у нас с флангов. Я увидел, как воины Киша изумленно глядят, показывая на меня пальцами, я не слышал, что они говорили, но видел, как они делают жесты, славящие бога, словно видят на моих плечах мантию божества или сияние над моей головой.
Я пустил в ход все свои дротики и ни разу не промахнулся. Под напором наших воинов эламиты в смятении бежали, и хотя они храбро сражались, их битва была проиграна с первых же минут. Один воин ухитрился подобраться к нашей повозке и полоснуть осла, тяжело его ранив. Намгани зарубил этого человека одним ударом. Потом, перепрыгнув борт, храбрый возничий одним ударом перерубил постромки, чтобы раненое животное не мешало нам. Как из-под земли возник эламит с занесенным над Намгани копьем, но я уложил его взмахом своего топора и вовремя оглянулся, успев всадить рукоять топора в брюхо тому, кто вскочил сзади на нашу повозку. Это были единственные моменты, когда нам угрожала опасность. Повозки промчались сквозь строй врага, развернулись и атаковали его с тыла. К этому времени подоспели наши пехотинцы, образуя грозные фаланги.
Так прошел великий день для Киша. К ночи река покраснела от крови, и мы устроили веселый пир, пока арфисты воспевали нашу доблесть, а вино текло рекой. На следующий день мы делили добычу почти до сумерек — так много ее было.
В этот поход я участвовал в девяти битвах и шести небольших стычках. После первого боя мою повозку поставили на второе место, сразу за военачальником, но впереди сыновей царя. Никто из царских сыновей не оскорбился. В этих сражениях я получил небольшие раны — царапины, но когда я метал свой дротик, это всегда стоило жизни кому-то из противников. Мне тогда еще не было пятнадцати, но во мне течет кровь богов, и в этом-то все дело. Даже мои собственные солдаты, казалось, побаивались меня. После третьего сражения военачальник вызвал меня к себе.
— Ты сражаешься так, что это вызывает удивление. Я хочу тебя попросить, чтобы ты не делал одну вещь…
— Что именно?
— Ты метаешь дротики сразу обеими руками — правой и левой. Я бы хотел, чтобы ты их метал по очереди.
— Но я могу без промаха бросать обеими руками, — сказал я. — И кроме того это, по-моему, вселяет ужас во врага, когда они видят, как я это делаю.
Военачальник слабо улыбнулся.
— Да, безусловно. Но и мои солдаты видят все это. И они начинают думать, что ты не простой смертный. Они считают, что ты, должно быть, бог, потому что ни один обыкновенный человек не в силах сражаться, как ты. А это может породить массу хлопот, понимаешь? Очень хорошо, если среди нас есть герой, но очень настораживает, если среди нас божество. Каждый воин мечтает однажды явить чудеса доблести в бою. Это надежда укрепляет его руку на поле битвы. Но когда он знает, что никогда не сможет стать героем дня, поскольку ему приходится соперничать с богом, это сокрушает его дух и отягчает ему душу. Поэтому бросай-ка ты дротики либо правой, либо левой рукой, сын Лугальбанды, но не обеими сразу. Ясно?
— Ясно, — ответил я.
После этого разговора я старался метать дротики только правой рукой, хотя очень трудно в пылу сражения помнить о данном обещании. Иногда я тянулся за дротиком левой рукой, и было бы величайшей глупостью перекладывать его в правую руку, прежде чем метнуть. Поэтому спустя какое-то время я перестал беспокоиться об этих глупостях. И военачальник более со мной не разговаривал на эту тему. Но мы выигрывали каждое сражение.
10
Сперва я часто думал об Уруке, потом все реже и реже и, наконец, почти совсем не вспоминал. Я стал жителем Киша. Вначале, слушая рассказы о том, как армия Урука одержала ту или иную победу над племенами пустыни или каким-то городом восточных гор, я чувствовал определенную гордость за «наши» достижения, но потом заметил, что об армии Урука я стал думать не «мы», а «они», и деяния этой армии перестали меня волновать.
И все же я знал, что жизнь в Кише ни к чему меня не вела. При дворе Акки я жил как царевич, а когда наступало время воевать, мне оказывали почтение в военном лагере, как если бы я был сыном самого царя. Но я не был сыном царя и знал, что поднялся в Кише ровно до тех высот, до которых только мог: изгнанник, воин, потом военачальник. В Уруке я мог бы стать царем.
И еще меня беспокоила та леденящая душу пропасть, разделявшая меня с остальными. У меня были приятели, товарищи по битвам, но души их были закрыты от меня. Что их от меня отделяет? Огромный рост, царственная осанка или присутствие бога, которое ореолом окружает меня? Не знаю. Здесь, как и в Уруке, я нес проклятие одиночества и не знал никакого заклинания, которое могло бы его снять.
Я часто думал о матери. Меня печалило, что она стареет без меня. С тайными посланниками я посылал ей маленькие подарки, и получал ответ через жрецов, которые свободно посещали города. Она никогда не спрашивала, когда я вернусь, но я знал, что именно это прежде всего занимает ее мысли. Я не имел возможности пасть на колени перед священной статуей моего отца и воздать полагающиеся ему почести. Здесь не было его статуи, я не мог выполнять эти церемонии в Кише. Это страшно мучило меня.
Не мог я изгнать из своей памяти и жрицу Инанну, ее сверкающие глаза, гибкую стройную фигуру. Каждый год, когда приходила осень и в Уруке наступало время Священного Брака, я представлял себе, что стою в толкающейся толпе на Белом Помосте, вижу царя и жрицу, бога и богиню, как они показываются людям. И во мне поднималась горькая мука, когда я представлял себе, что нынче ночью она разделит ложе с Думузи. Я говорил себе, что она меня предала. И все же образ ее жил в моей памяти, я чувствовал глубокую тоску по ней. Жрица, так же как и богиня, которую она воплощала, стала для меня опасной, но неотразимой. Аура ее была полна смерти и разрушения, но и страсти, радостей плоти, а иногда и больше — единением двух душ, которое и есть настоящий Священный Брак. Она — моя вторая половина. Она знала это еще тогда, когда я был мальчиком, заплутавшим в коридорах храма Энмеркара. Сейчас я был воином в Кише, а она — богиней в Уруке. Я не мог отправиться к ней, потому что она подвергла опасности мою жизнь в моем родном городе, может быть из-за своего легкомыслия.
На четвертом году моего изгнания бритоголовый жрец, только что явившийся из Урука, подошел ко мне во дворце Акки и сделал передо мной знак богини. Из складок своего одеяния он вынул черный кожаный мешочек и, сунув его мне в руку, сказал:
— Это знак царю Гильгамешу из рук самой богини.
Я никогда не слышал этого странного имени — Гильгамеш, только один раз, очень давно. И жрец, произнеся его, тем самым объяснил, от кого было послание.
Когда жрец ушел, в своих личных покоях я раскрыл мешочек. В нем лежал маленький блестящий предмет — цилиндрическая печать, какую прикладывают к письмам и документам. Она была вырезана из прозрачного камня, через который струился свет, как будто проходил через воздух, а вырезанный на ней сложный и искусный узор, был работой великого мастера. Я вызвал к себе писца и приказал принести мне самой лучшей красной глины, я старательно прокатил печать по глине, чтобы увидеть, какой рисунок она отпечатает.
На печати были изображены две сцены путешествия Инанны в страну мертвых. На одной стороне я увидел Думузи, одетого в богатые одежды, восседающего на троне. Перед ним стоит Инанна, одетая в рубище. Она только что вернулась из страны мертвых. Ее глаза — это очи смерти, руки воздеты, посылая проклятия Думузи, чья смерть принесет ей освобождение. На другой стороне печати — продолжение этой сцены, ее эпилог, где повергнутый Думузи окружен кровожадными демонами, убивающими его. Инанна глядит на эту сцену с торжеством.
Не думаю, что Инанна прислала мне эту печать просто так, чтобы воскресить в моей памяти эту старую песнь. Нет. Я принял печать как знак, пророчество, намек. Она разожгла огонь в моей груди. Кровь забурлила в моих жилах, словно бурная река, а сердце взмыло к небесам, словно птица, выпущенная из клетки.
Но после первого взрыва восторга ко мне вернулась осторожность: даже если я правильно прочел эту весть, можно ли ей доверять, ей или самой Инанне? Жрица Инанна уже один раз предала меня, а Инанна-богиня, как всем известно, богиня жестокая, несущая смерть. Такая весть от нее может быть приглашением на гибель. Надо быть осторожным. В тот же вечер я послал в Урук раба со словами:
«Слава тебе, Инанна, великая владычица небес! Священный факел, ты озаряешь небеса светом!»
Так говорит новый царь, которого только что короновали, когда он возносит богине первую молитву: пусть она сама увидит в этих словах, что захочет. Я подписал табличку именем Гильгамеш и царским символом.
Спустя день или два Акка позвал меня в тронный зал, большой, гулкий от разносящегося эха, где он особенно любил бывать и сказал:
— До меня дошло из Урука, что царь Думузи лежит на ложе тяжкой болезни.
В моей душе поднялась огромная радость, словно воды реки весной. Я почувствовал, что начинается исполнение моего предназначения. Это подтверждало сообщение, начертанное на печати-цилиндре. Я правильно прочел весть: Инанна плетет свою смертоносную паутину, и Урук будет моим.
Акке я ответил, пожав плечами:
— Меня эти вести не очень огорчают.
Он покачал свежевыбритой головой — все было сбрито: борода, брови, словом, гол, как яйцо. Он потер обвисшие щеки, наклонился вперед, так что розовые складки его голого брюха пришли в движение, и уставился на меня с неодобрением, подлинным или надуманным — трудно сказать.
— Такими словами того и гляди навлечешь на себя гнев богов!
Щеки мои загорелись гневом.
— Думузи мой враг!
— И мой тоже. Но он помазанник божий и несет на себе благословение Энлиля. Его личность свята. Его болезнь должна печалить всех нас. И особенно тебя, дитя Урука, его поданного. Я собираюсь послать в Урук посольство передать мои молитвы о выздоровлении царя и хочу, чтобы ты возглавил его.
— Я?!
— Царевич Урука, потомок Лугальбанды, отважный герой, — я не нашел никого лучше для этой миссии, даже из моих собственных сыновей.
В изумлении я спросил:
— Значит, ты собираешься послать меня на верную смерть?
— Нет, — спокойно ответил Акка.
— Ты уверен?
— Думузи страдает, он на смертном одре. Ты ему больше не угроза. Весь Урук будет с радостью приветствовать тебя, и Думузи тоже. Это твой час, мой мальчик. Разве ты не видишь?
— Если он умирает. А если нет?
— Даже если бы он не был при смерти, право неприкосновенности дается любому послу. Боги разрушили бы тот город, где нарушено было бы это священное право. Неужели ты думаешь, что Урук решился бы поднять руку на посланца Киша?
— Думузи решился бы. Если бы этим посланником оказался сын Лугальбанды.
— Думузи умирает, — повторил Акка. — Уруку нужен новый царь. Поэтому я и посылаю тебя.
Он медленно поднялся с трона, чтобы встать рядом со мной. Он обнял меня за плечи, как сделал бы это отец, да он и стал для меня вторым отцом. На его бритом черепе блестел пот. Он был таким массивным и величественным. От него разило пивом. Я подумал, что от небесного отца Энлиля или Ана не несло пивом. Акка тихо сказал:
— Я уверен в том, что говорю. Мои сведения получены от самых высоких сил в Уруке.
— То есть от Думузи?
— Выше.
Я уставился на него в остолбенении:
— Ты связан с НЕЮ?
— Мы просто очень полезны другу другу, твоя богиня и я.
И в этот момент осознание истины пришло ко мне, и оно сразило меня, как огонь богов. Я услышал жужжание в ушах. Я увидел, как все в предметы в зале окутывается сверкающим ореолом, золотым с голубыми тенями, — верный знак бури в моей душе. Я трепетал. Я сжал кулаки и силился устоять на ногах. Каким же я был глупцом! С самого начала Инанна управляла мной. Она подстроила мое бегство в Киш, зная, что меня подготовят к вступлению на царский трон, чтобы заменить Думузи. Она и Акка составили заговор, и Акка посылал меня воевать в своих войсках, обучая искусству быть военачальником и вождем. Теперь я готов. А Думузи, который больше не нужен, сталкивают в Дом Тьмы и Праха. Я был не героем, а всего лишь куклой, танцующей под их дудку. Да, я буду царем в Уруке, но власть будет принадлежать ей и Акке, которому я поклялся в верности. А сын, которого родила моя жена Ама-суккуль, дочь царя Киша, станет царем в Уруке после меня, если суждено быть так, как задумал Акки. И семя Акки будет царствовать в обоих великих городах.
И все же я мог обратить положение в свою пользу, если бы действовал осторожно. Я спросил:
— Когда нужно отправляться в Урук?
— Через четыре дня, в день праздника Уту, это благоприятный день для начала великих дел.
Руки Акки все еще сжимали мои плечи.
— Посольство будет обставлено с подобающим величием и ты будешь принят с радостью. Ты принесешь от моего имени великолепные дары в сокровищницу Урука в знак дружбы, которая будет между нашими городами, когда ты станешь царем.
Накануне праздника Уту появившаяся на небе луна была подернута дымкой, а это верный знак, что царь достигнет высот власти и величия. Луна не сказала, о каком царе шла речь: об Акке, который что уже был им, или Гильгамеше, который им станет. Вот в чем загадка с предзнаменованиями и предсказаниями всякого рода: они всегда говорят правду, только какую именно правду?
11
Мое путешествие в Урук было похоже на путь уже коронованного царя, а мой въезд в город напоминал въезд ликующего победителя. Акка отдал в мое распоряжение три самых лучших парусных корабля, похожих на те, что плавали по торговым делам в Дильмун. У них были огромные широкие паруса из багряной и желтой ткани, которые ловили ветер и стремительно гнали корабли вниз по реке. Со мной было целое сокровище — подарки от царя Киша: рабы, каменные кувшины с вином, маслом, тончайшие ткани, драгоценные металлы и камни, статуи богов. В качестве почетного эскорта меня сопровождали три дюжины воинов, огромное количество придворных Акки — их, пожалуй, было многовато — и среди них астролог, личный лекарь Акки, его виночерпий, который прислуживал во время трапезы и старался мне угодить. Моя жена Ама-суккуль осталась дом, ибо она должна была вот-вот родить мне второго сына. Больше я никогда ее не увижу. Но я этого тогда не знал.
Каждый город, который мы проплывали выходил и приветствовал нас. Им неведомо было, кого они приветствовали. Они не подозревали даже, что бронзовокожий человек, учтиво отвечавший на их приветствия царственным взмахом руки, был тем мальчишкой-беглецом, что искал их гостеприимства четыре года назад… Но они знали, что такой флот, как наш, должен принадлежать важному лицу, поэтому они стояли на берегу, крича и размахивая флагами, пока мы не скрывались из виду. Таких городишек было примерно около двадцати в каждом примерно тысяча жителей, северные были подданными Киша, южные — Урука.
Ночью астролог показал мне звезды. Я знал только яркие звезды утра и вечера, которые посвящены Инанне. Он показал мне красную звезду войны и белую звезду истины. Он показал мне звезды северного неба, которые следуют за Энлилем, звезды небесного экватора и звезды южного неба, что идут путем Энки, и те, что бегут по пути Ана. Он научил меня находить Звезду колесничего, Звезду Лука, Звезду Огня. Он показал мне Плуг, Близнецов, Овна и Льва. Он открыл мне тайные знания об этих звездах и как распознавать эти тайны, которые они скрывают от нас. Он научил меня определять путь по звездам, что сослужило мне хорошую службу в моих скитаниях.
Часто по ночам я стоял в одиночестве в самые темные часы ночи на носу корабля и разговаривал с богами. Я искал совета Энки Премудрого, Энлиля Могучего и небесного Отца Ана, что возносится небесной дугой над всем сущим. Они оказывали мне великую милость, снисходя до меня. У великих богов немало забот и мир смертных может ждать от них лишь малой толики внимания точно так же, как смертные правители не могут уделять слишком много времени нуждам детей или нищих. Но эти великие цари небес снизошли и приклонили свое ухо ко мне. Я чувствовал их присутствие, и это согревало меня. По этому знаку я знал, что я воистину Гильгамеш, Тот-Кто-Избран, ибо боги нечасто посылают смертному утешение, но они послали его мне, пока я плыл к Уруку.
Утром девятого дня месяца Улулу я приплыл в Урук под чистыми небесами и огромным пылающим солнцем. Глашатаи побежали вперед, чтобы возвестить о моем прибытии, полгорода, как мне казалось, высыпало на Белую пристань, когда мои корабли причаливали. Я услышал барабаны и трубы, а потом, как пели мое имя — мое старое имя, нареченное, которое так скоро слетело с меня. Тысячи человек столпились у подножия Ковчега Ана и оттуда стекали потоком к огромным, обитым металлическими гвоздями, дверям Царских Ворот.
Я легко спрыгнул с корабля, упал на колени и поцеловал древние кирпичи старого мола. Когда я поднялся, моя мать, Нинсун, стояла передо мной. Она была поразительно прекрасна в ослепительном свете, словно богиня. Ее одежды были багряного цвета с серебряными нитями, а длинная изогнутая золотая булавка скрепляла ее плащ на плече. В волосах была серебряная корона жрицы Ана, украшенная гранатами, ляпис-лазурью и золотом. Она, казалось, не постарела ни на один день с тех пор, как я последний раз ее видел. Глаза ее сияли. Я видел в них тепло и ласку, которые исходят не от матери, а от самой Нинхурсаг — матери всех нас, источника покоя.
Она пристально изучала меня, и я знал, что она смотрит на меня и как мать, и как жрица. Я видел, что она поняла: со зрелостью вошел в меня божественный дух. Не могло быть большего подтверждения божественности Лугальбанды, чем божественное тело сына Лугальбанды.
Потом она протянула ко мне руки, назвала меня моим нареченным именем и сказала:
— Пойдем со мной в храм Божественного Отца, чтобы я могла вознести благодарственные молитвы за твое возвращение.
Мы шли во главе процессии через Царские ворота по Тропе Богов. В каждом священном месте полагалось остановиться и исполнить определенный ритуал. В маленьком храме, известном как Кизалагга, жрец, одетый в багряную набедренную повязку, зажег благовония, побрызгал золотистым маслом и исполнил ритуал омовения рта. В священном месте, называемом Убшуккинакку, били глиняные горшки. Возле Святилища Судеб в жертву был принесен буйвол, а его окорок и кожа были положены в жертвенник. Затем мы поднялись в храм Ана, где старый верховный жрец Гунгунум смешал вино и масло и окропил ими ступени и двери. Когда мы оказались внутри, принесли в жертву быка и барана, и я наполнил золотые курильницы благовониями и вознес молитвы Небесному Отцу и всем богам.
Я не задал ни одного вопроса и не произнес ни одного слова, не предписанного ритуалом. Это было похоже на сон. Вдали я слышал размеренный бой барабана-лилиссу, который означал, что луна убывает. Я знал, что царь Думузи уже мертв, и мне собираются предложить царство.
До сих пор не чувствовал присутствия богини. Не видел я и жрицы Инанны. Урук утаивал от меня богиню, и я пребывал только во владениях Небесного Отца, которому служила моя мать. Но я знал, что вскоре Инанна даст о себе знать.
— Пойдем, — сказала Нинсун, и мы прошли из владений Ана во владения Инанны, по ступеням Белого Помоста вверх, к храму Энмеркара.
Там меня ждала Инанна.
Ее вид исторг у меня вздох изумления. За четыре года моего отсутствия время выжгло из нее все девичье. Передо мной предстала зрелая ошеломляющая женская красота. В ее темных глазах горел прежний огонек бесстыдства, но в них была еще и странная сила. Она казалась стройней и выше, чем раньше. Овал лица был совершенен. Грудь была полнее, чем я помнил, смуглая кожа лоснилась от масел. На ней было только одеяние богини: серьги и бусы, украшения для бедер, живота, носа, золотой треугольник прикрывал лоно.
Я почувствовал тяжелый мускусный запах — ауру присутствия богини, — тело наполнило звучание божественной силы. Монотонный ритм барабана проник в мою душу и целиком овладел ею. Барабан стал частью меня. Я был напряжен до предела. Мои глаза встретились со взглядом Инанны, и я был втянут в эти темные бездны, как тогда, много лет назад, меня тянуло к темным глазам Лугальбанды, моего отца, и я дал себе волю уплыть в моря тьмы.
Она улыбнулась, и это была страшная улыбка — улыбка Инанны-змеи.
Низким, хрипловатым голосом она сказала:
— Царь Думузи стал богом. Город остался без царя. Богиня требует от тебя этой службы.
— Я готов, — спокойно ответил я, так как всю жизнь знал, что мне придется когда-нибудь сказать эти слова.
Своими интригами Акка и Инанна вместе дали мне этот трон. Пусть так. Когда я стану царем, я буду царем. Я поклялся себе в этом. Никто не посмеет управлять мною, никто не будет моим хозяином. Пусть трепещут те, кто думает, что может быть иначе!
Все было готово. По знаку, данному Инанной, меня увели в маленькую пристройку к храму, где совершаются приготовления к службам. Юные жрицы раздели и омыли меня. Тело умастили сладко пахнущими маслами, волосы расчесали, заплели в косы и собрали на затылке. Потом надели сборчатую юбку, прикрывающую меня от бедер до щиколоток. В конце я взял в охапку те дары, которые каждый новый царь обязан преподнести Инанне, и медленно вышел под палящее летнее солнце. Потом я ступил под сень колоннады храма Энмеркара и вошел в храм, чтобы взять свое царство.
Внутри стояло три трона: один — со знаком Энлиля, другой — со знаком Ана, третий был с двух сторон окружен тростниковыми снопами Инанны. Вот скипетр. Вот корона. Посередине сидела Инанна, жрица и богиня, во всей своей ошеломляющей красоте и величии.
Мы встретились глазами. Она внимательно посмотрела на меня, словно говоря: «Ты мой, ты будешь принадлежать мне». Я ответил ей ровным и спокойным взором. Плохо же ты меня знала госпожа!
Началась пышная церемония. Вокруг стояли чиновники, занимавшие свои посты при Думузи. Управляющие и кладовщики, надсмотрщики и сборщики налогов, наместники и правители — все будут зависеть от моей милости. Играли флейты, ревели трубы. Я зажег благовония и возложил дары перед каждым из тронов. Я коснулся лбом земли перед троном Инанны, поцеловал землю и поднес ей дары. Мне казалось, что я все это уже тысячу раз делал. Я чувствовал, что во мне пребывает великая сила, сила гигантов.
Инанна поднялась с трона. Я увидел красоту ее длинных рук и изящной шеи, увидел, как колышется ее грудь под нитями голубых бус.
— Я — Нинпа, владычица Скипетра, — сказала она, взяла скипетр с трона Энлиля и подала мне. — Я — Нинменна, владычица Короны, — сказала она, подняла корону с трона Ана и возложила ее мне на голову. Глаза ее встретились с моими. Ах, как они горели!
Она произнесла мое нареченное имя, которое никогда больше не прозвучит в мире смертных.
Потом она сказала:
— Ты — Гильгамеш, великий человек Урука. Такова воля Богов.
И я услышал это имя из сотен уст сразу, словно рев разлившейся реки:
— Гильгамеш! Гильгамеш! Гильгамеш!
12
В ту ночь я спал в царском дворце, на огромном ложе черного дерева, отделанным золотом, которое служило моему отцу, а до него Энмеркару. Семья Думузи уже ушла из дворца — все его жены, его пухлые белотелые дочери. Боги не дали ему сыновей. Прежде чем лечь спать, я утвердил прежних чиновников в их постах. Так наказывала традиция, хотя я знал, что скоро заменю большинство из них. Я пировал с ними самым что ни на есть царским образом, пока пролитое пиво не полилось пенистым потоком по канавкам пола пиршественного зала.
К концу вечера управляющий царскими наложницами спросил меня, кого из них привести мне на ночь. Я ответил, чтобы он привел их как можно больше, и он приводил их мне всю ночь: семь, восемь, дюжину. По их готовности быть со мной, я понял, что Думузи почти не пользовался их услугами. Я обнимал каждую из них, потом отсылал прочь и звал следующую. На какой-то момент в их объятиях мне казалось, что я смогу заполнить ту пустоту в душе, что причиняла мне такую муку. Так оно и случалось: на секунду, на полчаса, а потом мука снова накатывала на меня, словно грозовая туча. Только одна женщина могла освободить меня от этих страданий, думал я. Но эта женщина — единственная, которую я выбрал бы, если бы мог выбирать — не придет, пока не наступит новый год, не придет время Священного брака. Я старался представить себе, что нахожусь с ней, когда ласкал тело то одной наложницы, то другой.
На заре я был все еще полон сил. Я поднялся и пошел пешком, презрев все носилки, к жилищу священных жриц. Там я спросил жрицу Абисимти, что посвятила меня когда-то в мужчины. Мне показалось, что в глазах ее мелькнул ужас, может из-за того, что теперь в ее глазах я был гигантом, а может потому, что теперь я был царем. Я улыбнулся, взял ее руки в свои и сказал:
— Думай обо мне, что я тот двенадцатилетний мальчик, с которым ты была столь нежна!
Думается мне, я-то не был с ней особенно нежен в то утро. В меня вселилась огромная сила, божественная сила была во мне! Трижды я имел ее, пока она не почувствовала изнеможения, ловя ртом воздух, ошеломленная, откровенно надеясь, что я удовлетворен. Никто не мог насытить меня в то утро, и я отпустил ее. Абисимти была такая же красавица, как я ее помнил: кожа — прохладная вода, щеки как половинки граната, округлая твердая грудь, но ее красота в сравнении с красотой Инанны была что луна перед солнцем.
Так прошел мой первый день на царстве. На второй день я принимал почести от городского совета.
Если бы чужеземец спросил, как выбирают царя в Уруке — о, Боги! — любой горожанин ответил бы, что его выбирает совет города. Так оно и есть, но не все.
Совет выбирает, но боги утверждают, направляют и вдохновляют. Богиня Инанна устами своей жрицы называет того, кто должен стать царем. Трон не переходит от отца сыну, как это делается во многих других городах. Мы понимаем эти вещи по-другому. Мы считаем, что в некоторых есть особая внутренняя сила, некое благословение, которое и делает человека достойным царской короны. Случается, что трон переходит от отца к сыну, как это было в нашем роду: от Энмеркара к Лугальбанде, а от Лугальбанды ко мне. Но это случается не всегда. Не все наши цари были сыновьями царей.
Совет может только предложить царя, но окончательно утвердить его могут только боги. И если случится в дальнейшем, что между царем и советом возникают разногласия, то слово царя — последнее. Это не тирания, это естественное право того, кто избран богами. Ибо — и запомните это как следует! — во времена смуты и сомнений жизненно важно, чтобы город говорил единым голосом. Разве боги не указали, чей голос им угоден, когда они выбирают царя? Совет, обсуждая государственные дела с царем, слушает его голос, потому что голос царя — это голос города, это голос небес. А если царь не является глашатаем воли небес, то боги лишат его трона.
Все это очень занимало мой ум, когда государственные мужи наносили мне церемониальные визиты в зале приемов дворца. Сперва шли свободные горожане из народной палаты, кто говорит от имени лодочников и рыбаков, крестьян и скотоводов, писцов, ювелиров, плотников и каменщиков. Они поднесли мне свои дары, и коснулись моих щиколоток руками, как велит традиция. За ними шли старшины совета, говорящие от имени больших усадеб, царских семей, жреческих кланов. Их дары были куда весомее, изучали они меня куда внимательнее. Я отвечал им взором ровным и уверенным. Я остро чувствовал, что я — самый молодой в этом зале, моложе старшин, моложе любого из народной палаты.
Я царь. Я ощущал священную силу, которая есть царская слава, я упивался ею. Но и тогда мрачная тень лежала на моем ликовании, ибо я вспомнил тот день, когда Лугальбанда лежал неподвижно на своем алебастровом ложе. Я вспомнил тот день, когда стоял у городской стены и смотрел на проплывающие мимо трупы нищих, на погребение которых не было денег. Я всегда помнил о той безжалостной шутке, что сыграли с нами боги, даже с теми, чье величие почти равно их собственному. Никогда не забывай, что ты смертей, никогда не забывай, сколь мимолетен миг твоего величия. В конце тебя ждет Дом Праха и Тьмы. Эти мысли омрачали мои самые счастливые минуты. Но я был молод и силен. Я гнал от себя мысли о смерти всякий раз, когда они появлялись. И всякий раз говорил себе, как в детстве:
— Смерть, я тебя одолею! Смерть, я сам тебя сожру!
— Все время правления Думузи, — говорил богатый землевладелец Энлиль-эннам, — мы ожидали твоего возвращения, ибо в тебе жив Лугальбанда.
Я изумленно посмотрел на него. Неужели это было известно в Уруке каждому? Потом я сообразил, что он выразился иносказательно, примерно так, как если бы он сказал: «В твоих жилах течет кровь Лугальбанды». А уж это знают все.
— Темное это было для нас время, — сказал седовласый Али-эллати, чью принадлежность к людям благородной крови можно было проследить на тысячу лет назад. — Знаки и предсказания перепутались. Боги не давали нам ясных ответов. Знамения были зловещи. Мы жили в страхе и дурном предчувствии. И все из-за царя. Да, все из-за царя.
— А что за царь был Думузи? — спросил я.
— Ну, Лугальбандой-то он не был, — сказал Энлиль-эннам, широко ухмыляясь. — И Энмеркаром тоже.
— Он даже и Думузи-то не был, — сказал Лу-Мешлам, чьи земли были сами по себе небольшим царством. — Можно быть просто Думузи, даже если ты не Энмеркар. Но он не был и Думузи!
И все засмеялись.
— Что такое вы говорите? — спросил я.
Мало-помалу они открыли мне картину жалкого и слабого правления. Глупый человек, раздувшийся от спеси; злосчастные проекты; заранее обреченные на поражение военные выступления; ничтожества и выскочки, поднявшиеся до высот власти; глупейшие ссоры с великими людьми города; пренебрежение к ритуалам; трата общественных денег по мелочам, в то время как необходимые работы не выполнялись, — печальный перечень все продолжался, обвинения так и лились. Мне неловко было слушать их слова: кто после смерти моего отца объявил Думузи царем, если не они? Старая жрица Инанна, должно быть, имела какие-то причины, чтобы предложить Думузи, а у них были свои соображения, чтобы это предложение принять. Наверное, основной причиной его избрания была его мягкотелость и податливость. Но похоже, девять лет его царствования не принесли им того, на что они надеялись, не дали им того преимущества, которое они мечтали получить. Чему же удивляться, если они сознательно выбрали слабого человека? Вот они теперь и обращались с готовностью, радостью и надеждой к человеку более сильному, в чьих жилах текла кровь великих предков. Я не мог не чувствовать презрения к их глупости. Но я простил их. Они увидели свою ошибку. Они сами стремились теперь ее исправить. Если они и не повели себя в соответствии с волей богов, выбирая Думузи, что же, прошлое останется прошлым. Вина не их — вина богов, допустивших это.
— Расскажите мне, как умер Думузи, — попросил я.
Они замолчали.
— Небеса отняли у него царство, — наконец сказал Лу-Мешлам, а другие с мудрым видом закивали головами.
— Это я и так знаю, — нетерпеливо перебил я. — Как он умер?
Они переглянулись. Все молчали. Мне пришлось буквально выдавливать из них то, что они знали. Медленная, страшная смерть, сказали они. Медленное угасание в страшных муках. Боги оставили его, и в него вошло столько демонов: Ашакку, Намтару, Утукку, Алу — отец лихорадки, создатель хвори, злой дух, дьявол. Ни одна дверь в его теле не захлопнулась перед ними. Никаких преград и запоров не было у царя от них. В Думузи вползли они, словно змеи. Сквозь петли его души влетели они, словно ветры. Знахари яростно боролись за его жизнь, но был царь неизлечим, невозможно было даже понять природу болезни, пожиравшей его.
Старый жрец Арад-Нанна сказал:
— Как же он ошибся, выбирая себе имя. Проклятие лежит на Думузи, и оно было провозглашено в первый же день творения. Как же он хотел избежать этого проклятия, да еще в этом городе городов мира!
В это время меня занимали иные мысли, и я не обратил должного внимания на слова Арад-Нанны. Только потом постиг я их подлинный смысл. «В этом городе городов мира!» Города Инанны, имел в виду жрец. Кто является верховным правителем Урука? Выше царя, выше совета? Разумеется богиня, кто же еще! В самой природе богини заложено стремление погубить бога Думузи, священного пастуха. Эту повесть мы знаем со школьной скамьи, с детства. Неужели жрица Инанна осуществила то предательство царя Думузи, какое богиня Инанна каждый год совершает на небесах с богом Думузи? Во мне все кричало: да, да, да! при одной мысли об этом. Она послала мне в Киш цилиндрическую печать, печать, изображавшую смерть Думузи и торжество Инанны, и я понял, что она наводит какие-то чары на Думузи, которые приведут его к концу. Но остановилась ли она на чарах или обратилась к вполне материальным зельям? Я вспомнил все то, что мне рассказывали о страданиях царя: лихорадка, агония, медленное умирание. Мне стало не по себе: если Инанна могла убить одного царя, почему бы ей не прикончить и другого, когда ей вздумается? В Уруке каждый царь играет роль Думузи при богине, будь то Лугальбанда, Энмеркар, сам ли Думузи или, если уж на то пошло, — Гильгамеш.
Мои мысли снова возвращались, как частенько бывало в детстве, к сказанию о богине Инанне. Ей мало было безраздельно править небом и землей. Ей непременно нужен был еще и подземный мир, место, где правит ее сестра, Эрешкигаль. Она облачается в свои царственные пурпурные одежды, надевает корону, бусы, берет жезл — символ своей власти, — идет в то место в Уруке, которое известно как ворота ада, и начинает свой спуск вниз. «Если я не вернусь через три дня, — говорит она своей первой советнице богине Ниншубур, — то торопись к Отцу Энлилю и умоли его, чтобы отпустил меня».
У первых ворот привратник заступает ей дорогу и требует ответа, зачем она сюда явилась. Она лжет, но привратника не обманешь. Его царица Эрешкигаль велела ему унизить Инанну и привести ее к покорности. У первых ворот привратник забирает у богини корону. У вторых ворот — бусы. Пройдя семь ворот она входит в тронный зал Эрешкигаль нагой, низко склонившись, ибо всякий, кто предстает пред лицом царицы дольнего мира, должен быть наг, будь то хоть сама царица небес. Какое унижение для гордой Инанны! Не дано ей и возможности покуситься на трон своей сестры: ее сразу же окружают подданные сестры, произносят свой суд, и Эрешкигаль пронзает ее взором смерти. Вот и все, Инанны не стало, она сражена. Ее тело, словно овечью тушу, подвесили на крюк в стене. Она висит и день, и другой, и третий, а в горном мире — зима, ибо Инанна покинула его.
Тогда Ниншубур идет к Отцу Энлилю и молит о милости к мертвой Инанне. Но Отец Энлиль и пальцем не пошевелил, чтобы ее спасти. И Лунная Инанна, когда Ниншубур в отчаянии обращается к ней, не может помочь. Только мудрый и сострадательный Энки, ведающий про живую воду, соглашается прийти ей на помощь. Энки посылает двух вестников в мир, и они находят Эрешкигаль в родовых муках. «Мы можем помочь тебе», — говорят они, но требуют ответного дара, и дар, который они просят — тело Инанны. Эрешкигаль вынуждена согласиться — вестники облегчают ее муки. Потом они снимают со стены тело Инанны и возвращают его к жизни. Но она не смеет покинуть мой мир, повелевает Эрешкигаль, пока не приведет кого-нибудь вместо себя.
Кого же пошлет Инанна? Кого еще, как не своего супруга Думузи! Он восседает на своем великолепном троне под яблоней в Уруке, разодетый в сияющие одежды, и его вовсе не трогают страдания Инанны. Да, Думузи — это то, что надо. Где же любовь Инанны? Нет любви! Ее жизнь — или Думузи. И она не колеблется. Думузи не выказал никакого горя по поводу ее исчезновения. Может быть, он чувствует себя прекрасно оттого, что его беспокойная половина исчезла? Поэтому он обречен. Она смотрит на него очами смерти и кричит семи демонам: «Хватайте его! Тащите его!». Демоны хватают его, ломают флейту, на которой он играл, рубят его топорами, так что кровь льется рекой. Он старается убежать от них, взывает к богам о помощи, и боги помогают ему, но Инанна неумолима. В конце концов его хватают, убивают и тащат в ад. Это то самое время, когда на земле наступает великая смерть лета. Летом он должен умереть, он возвратится осенью, когда начнутся дожди, вместе с наступлением нового года, отметить свой Священный брак с Инанной и породить все живое заново. Где же в этом сказании милость Инанны? Инанна — это та сила, которой лучше не перечить и которую лучше не поминать всуе. Думузи должен умереть, он — царь и бог!
Все это я самым тщательным образом обдумал. Инанна сделала меня царем, это совершенно ясно. Она и Акка, сотрудничали. Она сделала меня царем, она может сделать иначе. Мне придется все время быть настороже, чтобы не сыграть в жизни продолжение повести об Инанне и Думузи.
На третий день моего правления Инанна призвала меня. Когда богиня повелевает, даже царь поспешает выполнить ее волю.
Мы встретились в маленькой комнатке в храме со стенами, выкрашенными в розовый цвет, где стояли несколько сидений, которые захудалый писец и то посчитал бы негодными для своего жилища. На Инанне было простое одеяние, и лицо ее не было накрашено. Два дня назад она была одновременно и жрица, и богиня, ужасная в своем могуществе и потрясающая в своей красоте. Женщина, которую я встретил в этот день, не потрудилась войти в роль богини. Красота ее всегда пребывала с нею, но ее великолепие не убивало. Хорошо, что так, я ведь мало спал в первые два дня своего царствования, а встретиться сейчас с богиней, будь она неотразима, тяжело даже для того, в ком есть частичка божества.
Я хотел узнать от нее правду о смерти Думузи. Но как я мог напрямую спросить ее об этом? «Не умер ли он от твоей руки? Не ты ли бросила яд ему в чашу, жрица?» Нет. А, может быть так: «Я слишком молод и неискушен в делах государственных. Скажи мне, может ли жрица-богиня убивать недостойного царя, когда город устал от его ничтожества?» Нет. Не отважился я и спросить о моем изгнании: «Может быть, Думузи потому стал меня бояться, что ты как бы невзначай сказала ему, что дух Лугальбанды вошел в меня?»
Ничего подобного я, разумеется, не сказал. И она промолчала об этом. Она, которая смотрела на меня с обожанием и страстью в былые годы, не удостоила меня теперь сияющим взглядом, усмешкой ликования, жарким объятием, к чему вели все ее уловки. Она вела себя так, чтобы между нами не проскользнуло ничего, что не пристало бы царю и жрице на первом церемониальном свидании: холодная формальность, строгое соблюдение ритуала. Инанна и царь сплетаться в страстных объятиях друг друга могут быть только в ночь Священного брака, а это случается только раз в году.
Инанна поздравила меня с восхождением на престол и дала мне свое благословение. Я столь же формально поклялся служить богине, как подобает царю. Мы разделили вино, выпив его из одной чаши и вкусив жареного мяса быка. Потом мы сидели и разговаривали как двое старых друзей, которые долго не виделись: о прошлом, о нашей первой встрече в храме Энмеркара, о событиях моего детства, о том, как я вырос и возмужал за эти четыре года и так далее, и тому подобное. Все это говорилось небрежно и отстранение. Она рассказывала, кто из знати умер за время моего изгнания. Это в конце концов привело ее к рассказу о смерти Думузи: она закатила глаза, вздыхала, притворяясь печальной, будто смерть царя была для нее великим горем. Я испытующе смотрел ей в лицо.
— Я ухаживала за ним, — сказала Инанна. — Я клала ему на лоб холодные компрессы. Я сама смешивала ему лекарства. Но ничто ему не помогало. Он таял на глазах.
Мне стало не по себе, по спине пробежала дрожь, когда она рассказывала, как готовила снадобья Думузи, и я подумал, какой чертовщины она только не намешала в эти порошки, чтобы ускорить его переход в иной мир. Но я не спрашивал. Мне кажется, я знаю, какие истины лежат под невысказанными вопросами. Но я не спросил.
13
Теперь на меня целиком легло все бремя управления государством. Это было намного тяжелее, чем мне представлялось. Оставалось только нести его как подобает.
Надо было соблюдать ритуалы, приносить жертвы и дары. Я знал, что придется делать, но как же много этого было! Праздник Пробы Ячменя, Праздник Вкушения Газели, Праздник Львиной Крови — один праздник, другой. Калейдоскоп церемоний не щадил сил царя. Боги были ненасытны. Их все время надо кормить. Я не пробыл царем и десяти дней, а уже до тошноты пресытился запахом жареного мяса и сладким запахом свежепролитой крови. Вы должны меня понять, я был еще почти мальчик, я знал, что таков мой долг, но мне легче было бы расшибать чьи-нибудь головы в борцовском зале, или метать дротики на поле боя, чем проводить дни и ночи в том, чтобы проливать кровь животных на этих церемониях. И все-таки я перешагнул через это отвращение и выполнял свой долг, так как знал, что это необходимо. Царь — не только вождь в битве и глас богов в государственных делах. Он еще и верховный жрец, что само по себе является делом великим.
Поэтому, когда нужно, я выходил на крышу храма Ана при появлении звезды Дна, садился во главе золоченого стола, который накрывали для Небесного отца, его супруги и для семи блуждающих звезд. Великим богам я предлагал мясо, лучшее пиво, фиговое вино в золотом кувшине. Я приносил в жертву плоды и мед. Дым благовоний поднимался к небу из семи золотых курильниц. Я обходил и целовал алтарь, чтобы обновить его святость.
Я пил вино и пиво, молоко и мед, даже масло, пока не распухал от них. В некоторых ритуалах приходилось пригубливать чаши крови, чего я никогда не мог делать без внутреннего содрогания. Я надевал тяжелые одеяния для одних ритуалов и выступал совсем нагим в других. Не было ни одной ночи, когда не надо было бы кого-нибудь чествовать. Днем часто приходилось приносить жертвы: богов надо кормить. Я стал чувствовать себя чем-то вроде повара или мальчишки-прислужника.
Иногда приходилось выступать и в роли мясника. Для одного из ритуалов мне привели жертвенного быка, такого жирного, что он не мог стоять. Он был похож на огромную бочку жира. Он посмотрел на меня огромными печальными карими глазами, словно знал, что к нему приближается сама смерть. Он был слишком кроток, чтобы сопротивляться. Ему задрали голову и вложили мне в руки нож. «Боги создали тебя для этой минуты, — сказал я ему. — Теперь я возвращаю тебя им». Я перерезал ему глотку единым взмахом. Бык, тяжело ахнув, хрипя, повалился на передние ноги, но умирал он долго. По-моему, я слышал, как он плачет. Его теплая кровь текла по моей обнаженной коже, пока я не вымазался ею с головы до ног. Вот что такое быть царем в Уруке.
Вся моя жизнь была обставлена всякими запретами и ограничениями. В один день месяца мне нельзя было есть бычатину. В другой — свинину. Бывали дни, когда мне запрещалось вообще есть мясо или, например, чеснок. Чтобы не поставить под удар благополучие города и всеобщее благосостояние в определенные дни, мне были запрещены сношения с женщинами. В тот день, когда на полях ставились межевые камни, я не смел подойти к реке. И так до бесконечности. Многое из всего этого казалось мне абсурдным, но я делал все, что требовалось. Но от много я отказался за годы своего правления и что-то пока не видел, чтобы Уруку стало от этого хуже.
Обязанности и бремя власти стали меньше угнетать меня, когда я стал к ним привыкать. Время от времени я, конечно, тосковал по свободной и бодрой жизни, которую я вел воином в Кише. Но эти чувства быстро улетели, как птицы зимой. Я делал то, что от меня требовали, и делал с любовью и охотой. Царь, который тяготится собственным долгом, не царь, а самозванец.
И был один ритуал, который я исполнил бы не только с любовью и охотой, но со всей страстью. Я начал свое правление в разгар лета — с этим придется подождать до нового года. Я говорю о Священном Браке, когда Инанна, наконец, будет в моих объятиях.
В конце концов жара стала спадать, и мягкий ветер, обманщик, задул с юга. Этот ветер несет запах моря, теплого моря. Я долго стоял на террасе дворца, глубоко дыша, наполняя им свою грудь. Вот провозвестник, думал я, меняется время года. Возвращаются дожди, приходит время пахать и сеять, но прежде чем оплодотворятся поля, оплодотворяют богиню. Я дрожал от нетерпения.
В то утро священник, ведающий такими вопросами, сказал мне, чтобы я не брал дворцовых наложниц, ибо близится время праздника. Пришли дни очищения, когда семя царя должно быть посвящено только Инанне. Я засмеялся и сказал, что с радостью принесу эту жертву, хотя через день-два я уже отнесся к этому по-другому. Я всегда чувствовал приливы желания, как приливы моря, как нечто ритмическое, постоянное и непрекращающееся. Ничто не в силах остановить приливы моря. Я пытался унять приливы страсти, но они накатывали на меня, как волны на берег моря. Я не мог обходиться без женщин даже полдня, с тех пор как достиг зрелости. Теперь эта неутолимая страсть сжигала мне кровь. Это время было необыкновенно тяжело для меня. Я его выдержал только потому, что знал, что наградой будет Инанна. Она придет ко мне, как прохладные зимние дожди после адской засухи лета.
Все обычные дела в городе приостановились. Начались приготовления к празднику: починка и уборка домов, жертвы, окуривания, шествия. Колдуны трудились на каждом углу города, изгоняя демонов за ворота. Жрецы выходили в сухие поля и кропили их священной водой из золотых кувшинов. Те, кто принадлежал к нечистой касте, ушли в свои временные поселения за городские стены и тот, кто не был жителем Урука, покинули город.
Я оставался во дворце, совершая омовения, постясь, не касаясь женщин. Все дни напролет я был окутан священным дымом царских курильниц. Я почти не спал, проводя ночи в молитвах и славословий богине. В моею опочивальню боги приходили и уходили — туманные силуэты, которые, постояв рядом со мной, исчезали. Как-то ночью я почувствовал присутствие Энлиля. На другую ночь я проснулся и увидел возле себя закутанную в плащ фигуру Энки. Глаза его горели, как красные угли. Присутствие богов наполняло меня леденящим ужасом. Никто, даже царь, не может чувствовать себя легко и спокойно, видя их. Если бы со мной рядом был друг, которого я любил бы, мне не было бы так тяжело и страшно. Но в эту пору я был одинок. Боги расхаживали по комнате, будто меня в ней не было, и каждый раз я чувствовал, словно леденящий ветер задувал ко мне из дальнего мира. В это время года, когда сухая смерть, что зовется летом, еще держит землю за глотку, дальний мир очень близок к нам. Его пасть находится сразу за воротами Урука.
Гунгунум, верховный жрец Ана, пришел ко мне однажды утром. Мои слуги облачили меня в полное царское облачение со всеми регалиями, и я пошел с ним в дворцовый храм. Там я пал на колени перед небесным Отцом. Гунгунум сорвал с меня все знаки царского достоинства, надавал мне пощечин, выдрал меня за уши и всячески унижал меня перед богом. Он заставил меня поклясться, что я не сделал ничего дурного перед лицом богов. Когда все это закончилось, он помог мне подняться, одел меня и вернул мне царские регалии.
Потом он вручил мне чашу, в которой лежали тонкие опилки из сердцевины пальмы и юный побег финикового дерева. Эти деревья мы считаем священными, ибо у них столько же полезных свойств, сколько дней в году. Они дают нам питье и пишу, волокно для веревок и сетей, древесину для строительства и утвари и много что еще! Это божественные деревья. И я принял чашу из рук жреца, и вкусил опилок пальмовой сердцевины. Думузи тут же вошел в меня.
Разумеется я говорю о боге Думузи, а не об этом глупом, недалеком царе, кто взял себе это имя. Сердцевина пальмы — это та сила дерева, что рождает новый плод. Эта сила и есть бог плодородия Думузи, и когда я съел ее, сила плодородия вошла в меня. Теперь все плодородие воплотилось во мне. Я был древесным соком, устремляющимся вверх по стволу, я был цветком, я был семенем. Я был силой, что оплодотворяет финики и ячмень, пшеницу и фиги. Я — дождь. От меня потекут реки. От меня потечет молоко и мед, вино и пиво. Божество билось во мне, готовое разорваться от силы новой жизни нового года. Когда я посмотрел вниз на свое обнаженное тело, то увидел, что скипетр моего мужества напряженно отстоит от моего тела, словно протянутая третья рука, и что в нем пульсирует жизнь.
Но Думузи без Инанны ничего не может. Настало время излить силу божества в ее готовое лоно.
И вот — о, наконец-то! — настала ночь Священного Брака. Луна ушла в свою опочивальню. В то утро я омылся чистой водой из фонтана при храме Ана, потом прислужницы умастили меня маслами — все мое тело, все члены, использовав золотистое масло, выжатое из самых сочных плодов. Я надел корону и юбку, оставив верхнюю часть тела обнаженной. Меня отвели в Дом Думузи без окон на окраине города, где я провел полдня, освобождая свой ум от всего, что не было связано с богом. Я был как во сне, лишенный всего личного, полный только богом Думузи. С наступлением ночи я отправился на лодке — путешествие должно было проделано по воде: царь вплывает в город, как семя вплывает в лоно — к пристани, ближайшей к округу Эанны, а оттуда пешком к Белому Помосту и храму, где меня ждала богиня.
Я взошел на Помост с его западной стороны, не глядя ни влево, ни вправо. На кожаном поводке я вел чернорунную овцу, а на руке держал крохотного козленка — это были подношения Инанне. Может быть, воздух в ту ночь был прохладный, а может, теплый; наверное, звезды ярко сияли или, наоборот, были окутаны туманом, может быть, дул легкий ветерок, пахнувший яблоневым цветом, а может, и не было ветерка. Я не знаю. Я ничего не видел и не чувствовал, кроме блистательного храма перед собой и гладкого кирпича под босыми ногами.
Я вошел в храм и отдал козленка жрицам, а овцу — жрецу, направляясь в длинный зал. Там стояла Инанна. Живи я тысячу лет — и то не увидел бы более великолепного зрелища.
Она сияла, как солнце. Она была великолепна. Ее омыли, умастили маслами, окутали ее наготу украшениями из слоновой кости, лапис-лазури, золота и серебра. Белоснежные поножи красовались на ее ногах, и золотой треугольник прикрывал ее лоно. Большие украшения из лапис-лазури лежали у нее на груди, в волосы были вплетены золотые нити. Это были всего лишь украшения, я их видел и раньше. Они были на ней в ночь ее первого Священного брака, когда она сочеталась браком с Думузи, и на ее предшественнице, во времена Лугальбанды. Меня потрясло не великолепие украшений, а величие богини, исходившее от нее. Как я стал воплощением мужской силы — как мучительно было биение моих чресел, напоминавшее мне об этом! — так и она теперь была воплощением сияющей женственности. От золотого треугольника в основании ее живота исходила волна за волной мощная сила, словно лучи солнца.
Улыбаясь, она протянула мне руки. Ее глаза встретились с моими. Я мысленно перепрыгнул через пропасть лет, когда я, в этом самом храме, заблудился, а девочка Инанна нашла меня, и говорила мое имя, и обещала мне, что я стану царем, а она будет лежать в моих объятиях. Я вспомнил, как моя щека прижималась к ее маленькой груди, а ее притирания резким запахом дразнили мое обоняние. И вот воистину теперь свершилось все, что она мне предрекала, и мы стояли в храме лицом к лицу в ночь Священного Брака, а ее глаза, сияющие, как оникс при свете факелов, горели огнем богини.
— Слава тебе, Инанна, — прошептал я.
— Слава тебе, мой царственный супруг, источник жизни.
— Мое священное сокровище.
— Мой муж, моя истинная любовь.
Тут она просто рассмеялась.
— Видишь? Все это свершилось. Разве нет?
Я услышал музыку, возвещавшую, что нам пора выходить. Мои пальцы дотронулись до кончиков ее пальцев — только до кончиков, но это был огонь!
— вместе мы прошли по коридору и вышли из дверей храма на храмовую площадь. Двери сами растворились перед нами. Ясный полумесяц новой молодой луны поднялся над храмом. Тысячи пар глаз уставились на нас из ночной тьмы.
Мы произнесли слова ритуала. Мы пили из чаши мед, рассыпали ячмень на землю. Мы стояли, сплетя руки, пока пелись гимны в честь бога и богини. Три обнаженных жреца пели благословения. Кровью козленка, моего жертвоприношения, окропили мое плечо и щеку Инанны. Печеное мясо принесенной в жертву овцы нам протянули на золотых блюдах, и мы отведали по ритуальному кусочку каждый. Чтобы проглотить этот кусочек, мне, по-моему, понадобилась тысяча лет…
Мы снова вошли в храм. Перед нами шли жрецы, а музыканты, танцоры пели и танцевали вокруг нас, пока мы шли к опочивальне богини.
Опочивальня была небольшой комнатой с высокими потолками, устланная мягкими зелеными циновками, от которых исходил приятный аромат, потому что они были смазаны кедровым маслом. Ложе в середине комнаты было из черного дерева, инкрустированного слоновой костью и золотом. Простыня тончайшего полотна с эмблемой Инанны покрывала ложе. Повсюду на полу были разложены гроздья спелых фиников, такие, как их сняли с дерева. Финики — подлинное сокровище нашей земли, ценнее драгоценных камней. Инанна отломила от грозди финик и вложила его мне в рот, потом я так же угостил ее.
Вам, должно быть, думается, что к этому времени я обезумел от нетерпения и желания. Но нет. Во мне было божество, и в моей душе царило спокойствие и терпение. Сколько лет готовила судьба этот Брак? И что значили в сравнении с ними еще несколько минут? Я спокойно ждал, пока жрицы снимали с Инанны серьги, браслеты, кольца и амулеты. Наконец они сняли с нее бусы, закрывающие грудь, и обнажили ее. Грудь ее была высока и округла, а ведь ей наверняка было уже за двадцать. Они расстегнули застежки золотого треугольника, и передо мной приоткрылась бездна — темная, опушенная густыми волосами и богато умащенная благовониями. Потом жрицы сняли с меня украшения и юбку, обнажив мое тело. Сделав свое дело, они все ушли из комнаты и оставили нас одних.
Я подошел к ней ближе. Я стоял перед ней и смотрел, как вздымается и опадает ее грудь. Она провела языком по губам, и они заблестели. Глаза ее бесстыдно оглядывали мое тело, а я рассматривал ее фигуру, останавливаясь на ее полной груди, широких бедрах и густых волосах внизу, скрывавших источник ее женственности. Я нежно взял ее за руку и подвел к ложу.
На секунду, пока мое тело нависло над ней, моя божественная сущность вспыхнула и погасла. Моя человеческая природа вернулась ко мне, и я подумал, сколь сложные отношения связывают меня с этой женщиной. Подумал о ее неприкрытой чувственности, игривости, ее таинственности, ее силе. Я подумал еще и о том другом Думузи, смертном, которого она год за годом обнимала в этом ритуале, а потом, когда он почему-то стал ей не нужен, уничтожила. Потом снова во мне проснулся и укрепился бог, и все эти мысли ушли от меня. Я сказал, как подобает богу говорить богине в эти минуты:
— Я пастух, я пахарь, я царь, я жених. Да возрадуется богиня!
Я не стану рассказывать вам, какими словами мы обменивались в ту ночь. То, что бог должен говорить богине и богиня богу, вы уже знаете: эти слова повторяются из года в год. То, что царь говорил жрице, а жрица царю — можно легко отгадать, это неинтересно. Мы были богом и богиней, царем и жрицей. Но в той комнате были еще мужчина и женщина — и что до тех слов, которые они говорили друг другу, думаю, это должно остаться тайной. Я не повторю их вам, хотя рассказал так много. Самую великую тайну той ночи легко можно представить. Вы знаете, какие ритуальные прикосновения губ, сосков, ягодиц, рук и чресел должны быть совершены священной парой. Ее кожа пылала, жгла, как горный лед. Ее соски под моими руками были тверды, как алебастр. Прежде чем свершить самое высокое, мы делали все, что положено, и когда настал тот момент, мы сами поняли, что пора. Войти в нее было все равно, что окунуться в чистейший мед. Когда мы соединились, она рассмеялась. Это был одновременно смех той далекой девочки в коридоре — и богини в сияющих высотах. Я тоже засмеялся, ибо после стольких лет мое желание исполнялось. Потом наш смех потерялся в других — глубоких и сильных звуках. Когда мы согласованно двигались, она что-то бессвязно говорила. Это был язык женщин, язык богини, язык Древнего Пути. Глаза ее закрылись и я сжал ее в объятиях изо всех сил. Сила божества вырывалась из меня, словно текучий огонь, и она вызвала в ней ответный порыв. В потоке моего семени родился новый год. Вопль торжества был исторгнут из наших уст, и мы услышали, как его подхватили звуки музыки: музыканты ждали под дверью опочивальни. Мы заговорили друг с другом: сперва глазами, улыбками, потом словами. Потом мы начинали ритуал снова и снова, пока заря не пролила над нами благословение нового года. Мы тихо вышли из храма и постояли нагими под дождем, который наше соитие привело в наши земли.
14
Прошла ночь Священного Брака, когда Инанна и я наконец соединились. Но соединены в браке были бог и богиня, и как только кончилось празднество, каждый вернулся к своей жизни: она — в уединение храма, я — во дворец. Я не видел ее несколько недель. Когда мы встретились на ритуале сева пшеничных зерен, она обращалась со мной холодно и формально. Так оно и должно было быть, но для меня это было непереносимо. Вкус ее кожи еще был у меня на языке. А я знал, что не обниму ее снова, пока не пройдет двенадцать месяцев и не настанет следующий новый год. Как больно было сознавать это!
Служение богам и чувство ответственности заставляли нас постоянно видеться и говорить друг с другом. В Уруке царь — правая рука богини, ее меч, а она — священный посох, на который он опирается. Поэтому они навеки связаны, вращаются вокруг друг друга, а все остальное вращается вокруг них.
Мягкий дождь Ташриту в начале месяца Аразамна уступил место дождям, которые никак нельзя было назвать мягкими. Ливневые потоки пришли с севера, сметая все на пути, они шли почти каждый день. Сухая земля сперва жадно пила, потом ее жажда была утолена, а бури все еще бушевали. В это время я впервые уделил пристальное внимание состоянию каналов. За время правления Думузи их ни разу по-настоящему не ремонтировали. Если дожди будут продолжаться с той же силой, а ил из каналов не будет удален, то мы наверняка окажемся перед угрозой наводнения к ранней весне.
Я беседовал с чиновниками, ведающими оросительными системами, когда управляющий дворцовыми делами вошел в зал. Жрец из храма Энмеркара, сказал он, пришел и принес весть от Инанны. Ей немедленно нужно видеть меня. Оказалось, что демон поселился в ее хулуппу, дереве хулуппу, и мне предстоит прогнать его прочь.
Моя голова была занята вопросами, связанными с каналами, и мне, вероятно, не удалось скрыть своей досады. Я изумленно посмотрел на управляющего и спросил:
— У нее не нашлось другого заклинателя демонов?
Среди чиновников, сидящих вокруг стола, поднялся ропот. Сперва я подумал, что они, как и я, раздосадованы вторжением в нашу работу. Но нет, оказывается, их поразил не призыв Инанны, что явно был не ко времени, а мой отказ! Они неодобрительно поглядывали на меня. На минуту все замолчали.
Потом смотритель каналов прошептал, не смея прямо взглянуть на меня:
— Это дело царя, мой господин, заниматься подобными вещами, особенно когда его об этом просят.
Я покрылся потом, лицо мое заблестело, я широко развел руками:
— У нас же важная работа…
— Нельзя пренебрегать призывом Инанны, ваше величество, — тихо сказал управляющий дворцовыми делами, с величайшей деликатностью касаясь кончиками пальцев лба.
— Но каналы… — начал было я.
— Богиня просит, — сказал один из советников.
— Вы все придерживаетесь того же мнения? — спросил я, оглядев их всех.
Никто мне не ответил. Но нельзя было сомневаться в их мнении. Я сдался, и сдался с улыбкой. Делать нечего: я должен идти немедленно к храму и избавить дерево Инанны от демона.
Дерево хулуппу было — да и сейчас оно стоит — огромным и массивным, с изящными плакучими ветвями. Его посадила сама богиня перед храмом в саду пять тысяч лет назад. Место, где оно растет, настолько свято, что щепотка земли из-под его корней может вылечить множество болезней. Весной бесплодные женщины приходят к нему и обнимают его ствол; многим дает облегчение вытекающий сок этого дерева, а зеленый чай, настоянный на его листьях, используется для предсказания будущего. Это благородное и святое дерево, и я не хотел, чтобы ему был причинен какой бы то ни было вред. В какой-то момент мне казалось, что Инанна могла бы лучше присматривать за своим деревом и оставить меня в покое.
Во вторую стражу утра я отправился в храмовый сад в обществе целой компании молодых людей из дворца. Дождь на время прекратился, небо было ясное и чистое, в воздухе витал свежий запах — залах ранней зимы. Дерево хулуппу — огромное, раскидистое — стояло в северо-восточном углу за садовой оградой, возвышаясь над всеми остальными. Причитающие жрицы стояли возле него, а несколько городских старух медленно кружили, шаркая ногами, вокруг дерева, заупокойно причитая.
Не надо было быть записным садовником, чтобы понять, что с деревом непорядок. Дождь смыл с него почти все листья, длинные и узкие, и они лежали вокруг. Те, что еще не опали, увяли и пожелтели, а сами ветви казались вялыми и безжизненными. Я подошел к нему и положил ладони на его толстую морщинистую кору, словно желая почувствовать, какой демон поселился в дереве.
Я привел с собой Лугал-амарку, малорослого горбуна, черноглазого и чернобрового, его брови сходились над переносицей. Он знал чары и заклинания против демонов. Он тоже положил ладони на кору дерева и тотчас же их отдернул, словно обжегся.
— Ну? — спросил я. — Что ты обнаружил?
— Не один демон, о мой господин! Три!
Ничего хорошего. Я подумал об иле, забивающем каналы, и о дождях, которые через несколько дней наверняка вернутся. И тут еще целых три демона.
За моей спиной зашептались жрицы и старухи. Я обернулся и увидел, что ко мне шагает Инанна, не обращая внимания на то, что грязь забрызгивает ее подол при каждом шаге. Я видел ее всего несколько раз после Священного Брака. В моем воображении немедленно возникла та ночь: Инанна, ее разгоряченное, раскрасневшееся лицо, вздымающаяся грудь. Но видение пропало. Она небрежно сделала жест, каким жрица приветствует царя, и я ответил ей знаком богини.
— Ты должен спасти дерево, — сказала она.
— Как мне сказали, в нем поселились три демона.
— Ты это тоже знаешь?
Я указал кивком головы на Лугал-амарку.
— Не я. Это он увидел и сказал мне.
Горбун сказал, разведя руками:
— Это очевидно, госпожа моя.
— Конечно, — сказала она и подошла к дереву. Она бросила на меня взгляд.
— Вот, смотри. Змея, на которую не действует никакое колдовство, поселилась здесь. В коре дерева птица Имдугуд свила себе гнездо и растит тут своих птенцов. А здесь, в стволе дерева, теперь живет Лилиту, дева одиночества и отчаяния, пожирательница душ.
Я смотрел на нее. Слова Инанны падали мне в душу, словно звон колоколов. Что значит быть царем в Уруке? Я должен каждый день выполнять какой-то ритуал, а по особым дням даже три? Змея, неподвластная никакому колдовству. Птица Имдугуд? Вампир Лилиту? В земле, у основания ствола, действительно была нора. Я заглянул туда, но ничего не увидел. Не увидел я и гнезда в ветвях, и дупла в стволе, где мог бы поселиться демон. Я перевел взгляд с Инанны на Лугал-амарку, потом снова на Инанну. Три демона, и я должен их выгнать! Если бы только я мог пожать плечами и уйти, вернуться в свой дворец к делам, которые осязаемы и ощутимы для смертного. Но я должен был выполнить волю Инанны, иначе через час весь Урук будет знать, что Гильгамеш уклонился от своего долга и боится невидимого мира. Я почувствовал отчаяние, которое невозможно передать словами. Я стоял и думал только одно: каналы, каналы, каналы!
Я сказал:
— Мы расправимся с этими существами!
Я приказал Луга-амарке сварить зелье, да такое мерзкое, такое вонючее, чтобы ни одно существо не могло выдержать, даже змея, которая неподвластна никакому колдовству. Я велел приготовить зелье как можно скорее. Я отправил воина Бир-Хуртурре — моего мучителя в детстве, а теперь одного из моих ближайших советников — во дворец за моим топором. Я велел жрицам принести толстую и прочную веревку из храма Энмеркара. Мы расправимся с этим демонами здесь и сейчас. Еще первые дни своего правления я понял, что главное в управлении людьми — внушить уверенность и показать свою решимость.
Горбун вернулся быстро, неся бронзовый кувшин, наполненный какой-то пузырящейся желтой мерзостью, отливавшей то красным, то зеленым, и такой едкой и зловонной, что я удивился, как она не проделала дыр в бронзе. Горбун был горд.
— Клянусь Энлилем, отлично! Ничего лучше не придумаешь!
Давясь от омерзения и затыкая нос я вылил из кувшина зелье в нору возле корней дерева. Земля зашипела там, где жидкость пролилась на нее. Я готов поклясться, что даже края дыры отшатнулись от омерзения. Мы ждали. Через некоторое время в норе послышалось шуршание, и в темноте заблестели злобные желтые глаза, и показался черный раздвоенный язык. Змея, что не знает колдовства, не слушает ни Ана, ни Энлиля, ни даже Инанну, владычицу всех змей.
— Дай мне топор, — тихо приказал я Бир-Хуртурре.
Медленно-медленно выползала змея из своей норы. Кожа ее была темнее ночи, в желтых кольцах, а гибкое тело было толщиной чуть не с мою руку. За моей спиной жрицы пели священные гимны, и кто-то из моих воинов бормотал заклинания. Я не чувствовал никакого страха: змея выглядела такой несчастной и жалкой, такой больной и очумелой от жуткого зелья. Я замахнулся топором и разом разрубил змею надвое. Рассеченные половинки свивались и закручивались, из змеиной пасти неслось шипение, она, кажется, собиралась плюнуть в меня ядом. Я слышал за своей спиной всхлипывания и молитвы.
Еще несколько мгновений — и змея замерла навеки.
— Один, — сказал я.
Потом я взял толстую веревку, принесенную из храма, обернул ее вокруг ствола и завязал у себя за спиной, чтобы упираясь ногами в ствол и держась за веревку, я смог бы подтягивать себя вверх, словно бы шагая по стволу, поднимаясь все выше и выше. Кора была морщинистая и старая, и там, где я сдирал ее своими подошвами, она источала аромат миндаля или тонкого вина.
Я добрался до середины ствола, где, по словам, обитала женщина-демон Лилиту, темная дева, живущая в разрушенных местах и приносящая скорбь путешествующим. Если бы я остановился подумать, я насмерть перепугался бы. Бывают времена, когда не размышляешь. Я схватил конец веревки в одну руку, а другой крепко хлопнул по стволу:
— Лилиту! Лилиту! Ты меня слышишь? Я Гильгамеш, царь Урука. — Я засмеялся, чтобы показать, что не боюсь ее. — Услышь меня, Лилиту! Я запрещаю тебе жить в этом дереве, оно принадлежит Инанне! Я запрещаю тебе! Я запрещаю тебе! Прочь, прочь, изыди!
Послушается ли она? Я в это верил. Имя Инанны обладает огромной силой. Я еще дважды шлепнул по стволу, не дождался ответа и полез выше.
— Два, — сказал я.
В кроне дерева, по словам Инанны, гнездилась птица Имдугуд с птенцами. Я всматривался в плотно растущие ветви, но не увидел ничего. Я полез выше, но уже не шагая по стволу, а хватаясь руками за ветви.
— Имдугуд, — тихо сказал я. — Имдугуд, это я, Гильгамеш, сын Лугальбанды.
Она самая страшная из птиц, птица бури, носитель ветров и Дождей, у нее тело орла, а голова льва. Она птица судьбы, она произносит приговор, которого никому не избегнуть. Она не принадлежит никакому городу, никакому богу, странствуя, где захочет, одинокая и независимая. Я относился к ней с большой теплотой и вот почему. Мой отец рассказывал, что однажды когда он был совсем юн, Энмеркар отправил его как посла в дальние страны, и его обязанности привели его в страну Забу, что лежит на краю света. Когда пришло время отправиться обратно в Урук, оказалось, что пути назад нет, ибо это земля, из которой не возвращаются. Тогда отец нашел гнездо птицы Имдугуд, подождал когда она улетела, забрался в гнездо и угостил птенцов медом, хлебом и бараньим жиром. Он надел короны на головы птенцов и раскрасил их знаками почести и славы. Птица Имдугуд, вернувшись, была очень довольна тем, что сделал Лугальбанда, и подарила ему свою милость, благоволение и дружбу, сказав, что он может просить у нее что пожелает. «Даруй мне благополучное возвращение домой», — попросил Лугальбанда, и она выполнила его просьбу. Вот так добрался он домой живым и невредимым.
Я тихо сказал, вглядываясь в ветви дерева:
— Я сын Лугальбанды, о Имдугуд. Слушай меня. Это дерево принадлежит богине Инанне. И во имя Лугальбанды я прошу тебя найти себе пристанище в другом месте. Во имя Лугальбанды, искренне любившего тебя, прошу тебя.
Ответа я не услышал. В ветвях не раздавалось ни шороха. Я напряженно прислушивался, едва смея дышать. Мне показалось, что Имдугуд, если гнездо действительно было тут, послушалась меня и выполнила мою просьбу. Я поблагодарил ее.
— Три! — крикнул я тем, кто ждал меня внизу.
Прежде чем покинуть дерево, я тщательно обследовал крону, внимательно осматривая каждую ветку. Одна показалась мне странной — в ней как будто таилась смерть. Она была сухая, а на ощупь очень горячая. Она была громадной, как дерево. Я крикнул вниз, чтобы побереглись, поднял топор и рубил, пока она не упала на землю. Потом я спустился вниз. Инанна, бледная и тихая, смотрела на меня: в ее глазах застыли ужас и почтение.
— Демоны ушли с твоего дерева, госпожа, — сказал я.
Я чувствовал радость от хорошо выполненной работы. Змея убита. А отправил ли я прочь Лилиту и Имдугуд? Да были ли они там, кто может сказать?
Зимой дерево хулуппу, дерево Инанны стало выпускать новые зеленые листочки — оно выздоровело.
Из той сухой ветви, которую я срубил, Инанна приказала изготовить для себя трон и ложе. Из оставшегося дерева она приказала изготовить подарок для меня — изящный барабан и палочки, вырезанные искусным мастером Ур-нангаром, чьей рукой, должно быть, водил сам Энки. Барабанные палочки были так хорошо сделаны, что, казалось, сами прыгнули мне в руки, когда я к ним прикоснулся. Барабан был отполирован, поверхность его на ощупь была гладкой и нежной, как кожа девичьих ягодиц. Для самой поверхности барабана Ур-нангар взял выпороток газели. Он крепко натянул шкурку и закрепил жилами матери-газели. Во всем мире не было такого барабана, ничто не могло сравниться с тем, что сделал для меня Ур-нангар по просьбе Инанны. Теперь барабан для меня потерян, и дня не проходит, чтобы я не тосковал по нему и не мечтал снова взять его в свои руки.
В те годы, когда он был у меня, он служил двум целям. Одна из них была хорошо знакома жителям Урука, так как это был военный призыв. Я выходил на площадь перед дворцом, когда наступало время собирать войска, и выбивал мужественную, быструю дробь. Все знали, что она значит. «Слушайте, — восклицали они. — Гильгамеш призывает нас на войну!» При этих звуках весь город начинал шуметь, все знали, что скоро появятся новые герои и новые вдовы.
Был еще один способ применения этому барабану, — для меня он открывал двери в мир богов. В нем была и сила богини и частичка волшебства птицы Имдугуд.
Когда я уходил в самые дальние покои и тихо начинал бить в барабан, он уносил мою душу в те пределы, где блуждает душа Лугальбанды. С помощью этого барабана я мог вызывать к жизни все то, что бывало со мной, когда во мне было божественное присутствие, а вокруг меня — аура божества. Сквозь гул барабана я начинал все громче и громче слышать жужжание и гудение, перед глазами плыли волны золотого, багряного и синего цвета. Я преодолевал преграду в иной мир, за которым была лестница, поднимающаяся в небо, или колодец черной воды, в котором я тонул, или туннель, который, плавно изгибаясь, по спирали уходил вниз, словно приглашая спуститься. Это было царство богов. Когда я там бывал, я менял свой облик, взлетал под облака, парил. Я был орел, я был лев. Я пировал с богами и полубогами. Я говорил на языке снов. Я становился спутником Птицы Грома, я видел все, мудрость открывалась передо мной. Мне думается, у Этаны, царя Киша, был такой же барабан, и он пользовался им, чтобы парить в небе, а не летал туда на орлиных крыльях, как гласит старая легенда.
Я редко брал барабан для таких целей. Это было слишком необычно и пугающе, и отнимало у меня слишком много сил. Когда я возвращался из такого полета, мышцы у меня болели, язык распухал, словно я в своих полетах прикусывал его, я чувствовал головокружение и слабость. Это было моей тайной, я делал это только тогда, когда моя тоска была слишком велика, будь то голод моей души или опасность для города, предотвратить которую мог только я. Тогда я садился в одиночестве и бил в барабан до тех пор, пока не приближался к богам.
15
Вернулись дожди, еще более сильные, чем раньше, и вопрос о каналах стал на первое место.
В те дни, когда мой народ еще не жил здесь, когда здесь были люди Древнего пути, которые пользовались каменными серпами и жили в глинобитных хижинах, каналов не было. Каждую весну, когда в горах таяли снега, Две Реки вздымались и вырывались из берегов, а воды заливали поля и жилища. В иные годы разливы рек были настолько велики, что разрушали работу многих лет. Случались годы, когда горячее солнце заставляло воду быстро уходить, и не оставалось влаги, чтобы вырастить урожай. В те годы, когда вода покрывала долины все лето, большая часть земель оставалась пустыней, негодной для использования, потому что не знали способа проводить воду от залитых мест к иссушенным.
Когда мы победили и отняли землю у людей Древнего Пути, Нинурта, сын Энлиля, показал нам, как делать каналы. Нинурта был бог войны, бог бурного южного ветра.
Случилось так, что он поссорился с демоном Асагом, который обитал в подземном мире. Нинурта отправился в подземный мир и убил демона. Убийство Асага вызвало на Земле страшные бедствия, ибо именно Асаг держал во власти дракона Кура — реку, которая течет через подземный мир. Кур вырвался из заточения и пролился на землю, и все было залито.
Кур залил Землю, урожай погиб, и голод был свиреп и страшен. Ничто не росло, кроме сорной травы. В это страшное время Нинурта нашел выход. Он собрал пригоршню камней и послал их с гор дождем на землю. Потом сложил их в кучу в том месте, где Кур вырвался из подземного мира, и запер его, чтобы река не могла более вырваться наружу. Потом он построил водохранилища, каналы и соединил их протоками с руслами Двух Рек. Теперь поля рожали зерно в изобилии, а виноградники и сады щедро одаривали своими прекрасными плодами.
С тех пор мы свято выполняли наказ содержать каналы в порядке и расширять их сеть. Это наша главная задача, великий долг, которому подчинено все, ибо наше процветание зависит от каналов. Во время сильного разлива рек они позволяют отвести лишнюю воду в хранилища. Когда реки начинают входить в берега, мы закрываем шлюзы и сохраняем воду на то время, когда наступит засуха. Каналы несут эту воду из хранилищ на распаханные и засеянные поля и даже в те земли, что некогда были пустыней. Реки, что когда-то были нашими врагами, сегодня нам служат. Пристани и дамбы возвышаются по берегам рек и там, где некогда были только грязные болота. По всей стране простирается сеть каналов, соединяя поле с полем, деревню с деревней, город с городом.
Почва в нашей стране мягкая и рыхлая, и легко уносится с водой, особенно весной, поэтому каналы забиваются и ил заполняет их устья. На каждом крестьянине лежит ответственность за поддержание в порядке его маленького протока, каждый староста в деревне смотрит за тем, чтобы канал был в порядке, а чиновники правительства следят за тем, чтобы ничего не случилось в главных каналах. Но самая большая ответственность лежит на царе: он должен понимать главный принцип работы каналов, знать, где он дает слабину, держать армии рабочих для ремонта оросительной системы. Думузи позволил себе вообще не выполнять этот долг. За одно это он не заслуживает никакого прощения.
В разгар сезона дождей я мог сделать весьма немногое, разве что просмотреть отчеты надзирателей за каналами, и решить, где нужно начать починку. Я весь был окружен громоздящимися вокруг меня табличками, их накапливались целые корзины, и все они описывали бедствия Урука. Писцы стояли слева и справа от меня, чтобы читать мне эти таблички, но я редко обращался к их услугам. Когда я читал сам, я получал лучшее представление о том, что же на самом деле нужно делать.
К середине зимы дожди поутихли, и мы начали нашу работу. Реки и каналы были доверху наполнены водой. Настоящая опасность наступит, когда начнут таять снега в горах. Времени терять было нельзя.
Для начала работ я выбрал канал Уста Нимма, который лежит к северу от Урука и ведет к нам питьевую воду. Он требовал чистки, но это нельзя было считать серьезной работой, поскольку она не требовала ничего, кроме пота и напряжения мышц. Нуждались в починке и перестройке набережные и шлюзы, особенно главная дамба, которая, по словам моих строителей, могла быть снесена первым же напором внешних вод.
По старинному обычаю, в начале любой великой работы первый камень должен положить в основание именно царь. Я с радостью выполнял это требование, так как мне всегда доставляло большое удовольствие выполнять работу ремесленника, мастера своего дела. Мои астрологи выбрали благоприятный день для церемонии. Накануне вечером я связал волосы в пучок и пошел в небольшой храм Энлиля, где вымылся и провел ночь в уединении, проспав на полу из черного камня. Утром, с восходом солнца, я пошел в храм Ана и принес в жертву домашних животных. Потом, в святилище Лугальбанды, я сделал ритуальный жест — отер лицо рукой — и почувствовал, как дух моего отца вошел в меня. В полдневный час, я отправился туда, где изготавливают кирпичи, надев на голову специальную повязку, чтобы носить кирпичи на голове.
Вокруг меня стояли жрецы, когда я начал работу, полуголым, как простой строитель под солнцем. Сперва я совершил возлияние, залив воду удачи в саму форму для кирпичей. Потом зажег огонь ароматических поленьев и отогнал всех нечистых духов и демонов. Я намазал форму медом и маслом. Взял глину и поливал ее водой, пока она не размокла, смешал с соломой, тщательно перемешивая все ногами. Я взял священную лопатку, зачерпнул смесь и заполнил ею форму. Потом ребром ладони разгладил кирпич и выставил его на просушку.
Ночью дождя не было. Если бы он был, я бы насмерть запорол своих звездочетов-предсказателей. Наутро я снова зажег ароматические поленья. Затем схватив форму за ручки, я вытряхнул первый кирпич. Взяв его в руки, я поднял его к небесам, словно корону.
— Энлиль удовлетворен! — воскликнул я.
Как было ему не быть довольным! Кирпич был само совершенство. Боги приняли мое служение, что было знаком окончания периода испытаний для Урука и началом его возрождения.
В течение всех этих дней я работал вместе с остальными, готовя кирпичи и перевозя их к каналу. Потом, когда звездочеты снова объявили благоприятный день, мы перекрыли воду в канале. Это было нелегко: два человека простились с жизнью во время этой работы. Но мы это свершили. В те дни я не знал пощады ни к себе, ни к другим — ведь речь шла о работе, нужной для блага города. Целый час, я стоял в самой стремнине течения, раскинув руки, пока вокруг меня устанавливали сеть для запруды. Больше некому было выполнить эту работу, потому что я оказался самым высоким и самым сильным из людей. Когда вода была перекрыта, мы отворили сливные шлюзы, осушили канал и приступили к починке. Я сам положил первый кирпич, тот самый. Мы работали дотемна и возвращались на заре, и так продолжалось день за днем. Я никому не давал передышки, потому что время поджимало нас, а задача была жизненно важной. Я никогда не уставал. Когда остальные утомлялись, я проходил между ними, хлопал их по плечам и говорил: «Ну же, парень, вставай, боги требуют нашей службы!» И какими бы усталыми они ни были, они вставали и работали. Я сурово погонял их, но и себя я не жалел. Огромные костры ароматических поленьев очищали место нашего труда, Энлиль был доволен, и работа продвигалась быстро и хорошо. Все было хорошо в Уруке этой зимой. Весной канал принял и сохранил влагу. И я радовался своему царствованию.
16
В первый день лета прибыли послы от Акки, царя Киша, и потребовали, чтобы я платил дань.
Их было трое. Люди, приближенные его двора, которых я знал по своему пребыванию в Кише. Когда они прибыли, я сперва не понял цели их визита. Я тепло их встретил и дал пир в их честь. Мы сидели до глубокой ночи, разговаривая о былых временах, о пирах во дворце Акки, о войнах против эламитов, о превратностях судьбы. Я открыл для них вино из бочки Энки и забил трех волов с полей Энлиля. Расскажите мне, попросил я, как поживает величественный Акка, мой отец и благодетель? Они сказали мне, что Акка благополучен, что его великая любовь ко мне осталась неизменной, что он всякий раз, вознося молитвы, просит богов дать мне неиссякаемое благополучие. Я дал каждому из посланников избранную им наложницу и отдал им лучшие покои дворца. Только на следующий день они сказали мне, что привезли послание от царя Акки и поставили передо мной огромную табличку, запечатанную дорогой белой глиной с государственной печатью Киша. Табличка была передо мной, а они прятали от меня глаза, что показалось мне странным, но я не обратил на это внимания, особенно когда они сказали:
— Позволь нам уйти.
И я их отпустил.
Когда они ушли, я расколол белую глину, вытащил табличку и стал читать. Когда я прочитал ее, глаза мои полезли на лоб.
Начиналось письмо обычным образом, старинными формулами: Акка, сын Энмебарагеси, царь Киша, царь царей, господин Земли волею Энлиля и Ана, к своему любимому сыну Гильгамешу, сыну Лугальбанды, господину Куллаба, господину Энанны, властителю Урука волею Инанны и так далее и тому подобное. За этим следовали набожные пожелания мне доброго здоровья, процветания и прочего, а за ними сожаление, что за последнее время Акка не получал ни слова от своего возлюбленного сына Гильгамеша, никаких вестей о царстве, которое он, Акка, передал в руки своего возлюбленного сына. Это был первый намек на будущие грозы, напоминание, что он, Акка, помог мне стать царем Урука. Конечно, это было правдой, но с его стороны было не очень-то деликатно напоминать мне об этом. Он ведь не подобрал меня в сточной канаве и полной безвестности, чтобы возвысить меня до короны. Я был сыном царя и избранником богини.
Но я моментально понял, что ему было нужно. Намек на это содержался прямо в приветственной формуле: царь царей, господин Земли. Это был древний титул владык Киша, который формально никто никогда не опровергал. Но то, что Акка использовал его в письме сейчас, ясно показывало, что он смотрел на меня как на вассала. Да, действительно, я поклялся ему в верности в дни моей юности, когда пришел юным беглецом в его город.
Я стал читать дальше, чувствуя растущее беспокойство.
Далее перечислялось все, что можно считать данью.
Он в открытую не называл это так. Он говорил об этом как о «даре», «жертве», о «подарке» моей любви. Тем не менее, это была дань. Было перечислено сколько овец, коз, бочек масла, кувшинов меда, сколько гур финикового вина, ман серебра, сколько гу шерсти, сколько гин тонкого полотна, количество рабов-мужчин, женщин, и какого возраста. Требование было заключено в весьма учтивые и приятные слова, никакого намека на ультиматум в них не было. Казалось, он говорил, что ему нет никакой надобности прибегать к угрозам, поскольку эти дары и подношения самоочевидны. Дары сына благодетельному отцу, благодарного вассала безмятежному покровителю.
Я был ввергнут в смятение. Послание Акки не считалось с моим царским достоинством. Я присягнул ему на верность. Это так. Сетью Энлиля я поклялся ему в верности. И теперь я оказался пойман в эту сеть? Щеки мои пылали. Слезы ярости душили меня. Я многократно перечитывал его послание, и каждый раз слова оставались неизменными, и это были проклятые слова. Я должен был предвидеть это. Как не понял этого раньше! Акка пригрел меня, когда я был бездомным. Акка дал мне в своем городе высокое положение и привилегии. Акка заключил договор с Инанной, чтобы сделать меня царем. Теперь он предъявлял мне счет. Но как мог я заплатить назначенную им цену, и высоко держать голову перед царем Земли и народом Урука?
Когда стемнело, я пошел один к святилищу Лугальбанды, преклонил колена и прошептал:
— Отец, что же мне делать?
Дух божества вошел в меня и я услышал, как Лугальбанда сказал:
— Ты обязан любить и почитать Акку, и ничего более.
— Но моя клятва, отец! Моя клятва!
— В ней ничего не говорилось о дани. Если ты выплатишь ему дань, ты навеки продашь ему себя и свой город. Он испытывает тебя. Он хочет знать, владеет ли он тобой. Он владеет тобой?
— Никто не владеет мною, кроме богов.
— Значит, ты знаешь, что тебе делать, — сказал мне Лугальбанда.
Ночь я провел в молитвах богам, блуждая по городу от храма к храму. Единственная, к кому я не обратился за советом, была Инанна, хотя она и богиня города. Ибо, для того чтобы это сделать, мне пришлось бы все рассказать жрице Инанне, а я не хотел, чтобы он знала о моем позоре.
Утром, пока посланники Акки развлекались с женщинами и услаждали свой слух пением, я послал за членами совета старейшин, приказав им немедленно явиться во дворце. В ярости и тревоге я шагал перед ними взад-вперед, на шее у меня вздулись жилы, а на лбу выступил пот. Потом я заставил себя успокоиться и заговорил.
Я сказал:
— От нас требуют, чтобы мы подчинились царскому дому Киша. От нас требуют платить дань.
Они забормотали что-то, эти старики. Я поднял табличку Акки, негодующе потряс ею и вслух прочел список требований. Закончив читать, я оглядел покои и увидел их лица: побледневшие, осунувшиеся, полные страха.
— Разве мы можем это выполнить? — спросил я. — Разве мы вассалы? Разве мы рабы?
— Киш велик, — сказал землевладелец Энлиль-эннам.
— Царь Киша — владыка владык Земли, — сказал старый Али-эллати, из древнего благородного рода.
— Не так уж эта дань и велика, — мягко сказал богатый Лу-Мешлам.
Они закачали головами, начали шептаться и переговариваться, и я понял, что они против моего отпора Кишу.
— Мы же свободный город! — вскричал я. — Что же нам, покориться?
— Нам еще колодцы копать и каналы чистить, — сказал Али-эллати.
— Давай заплатим, что требует Акка, и продолжим наши дела в мире и покое. Война — дорогое занятие.
— А Киш велик и могуч! — добавил Энлиль-эннам.
— Я взываю к вашей гордости, — сказал я. — Я буду противостоять Акке и прошу вашей поддержки.
Мир, говорили они. Дань, говорили они. Колодцы копать надо, говорили они. О войне они и слышать не хотели. В отчаянии я отослал их прочь и призвал молодой совет, совет народа. Я прочел им список требований Акки. Я говорил об этом с гневом и возмущением, и совет народа дал мне тот ответ, который я хотел слышать. Я знал, как говорить с ними. Я разжег пламя из душ, воззвал к их храбрости. Если бы и они не согласились со мной, я пропал бы. У меня было право не принимать в расчет мнение старшин, но если бы и совет народа не согласился со мной, я не имел бы права начинать войну.
Совета народа не подвел меня. Они не говорили мне о колодцах, которые надо копать, или о каналах, которые надо чистить. Они показали свое презрение к самой мысли о дани. Я говорил им о войне, и они отвечали мне одобрительным криком. Не поддавайся, кричали они. Сметем с лица земли царей Киша, кричали они. Ты разобьешь Киш, говорили они, ты — Гильгамеш, царь и герой, победитель, возлюбленный царевич Ана. Один за другим выкрикивали они зажигательные слова. Чего нам бояться нашествия Акки? Его войско немногочисленно, тылы охраняются слабо, люди его боятся поднять глаза, говорили они.
Конечно, я был лучшего мнения о войске Акки, чем они, — я знал его хорошо. Но все равно, я радовался их словам, и на душе у меня полегчало. Как я мог принять вассальную зависимость? Что бы Акки ни думал о моей клятве, как бы он ни считал меня ему обязанным, сила моего царствования, мое человеческое и мужское достоинство было поставлено здесь на карту. Я не мог править в Уруке по милости царя Киша.
Так все и решилось. Мы будем сражаться за свою свободу. Мы проведем лето, готовясь к войне. Пусть приходит, сказал я членам совета народа. Мы будем готовы его принять.
Я пошел во дворец и вызвал посланников Акки. Я сказал им с холодной уверенностью:
— Я прочел письмо моего отца Акки, вашего царя. А вы можете ему передать, что мое сердце переполняет безграничная любовь к нему и я чувствую высочайшую благодарность за те милости, которыми он меня осыпал. Я посылаю ему свои горячие объятия и приветы. Единственный дар, который я посылаю: мои объятия и приветы. Ибо нет никакой необходимости в иных дарах. Скажите ему: Царь Акки — мой второй отец. Скажите ему: я его обнимаю.
В ту ночь посланники отправились восвояси, увозя с собой мой сыновний привет и ничего более.
Мы начали готовиться к войне. Не скажу, что такие планы чересчур огорчали меня. Я не слышал дикую музыку битвы с тех пор, как сражался за Акку в земле эламитов, а это было уже много лет назад. Мужчина иногда должен воевать, особенно, если он царь, чтобы не начать ржаветь изнутри. Сохранить в себе остроту ощущений, боевой дух, который в любом случае скоро затупится, особенно если его не заострять время от времени. Поэтому настал час чинить повозки, смазывать маслом древки дротиков и копий, заострять наконечники и лезвия, выводить ослов из конюшен и тренировать, чтобы они вспомнили, что такое бой. Хотя было жаркое время года, в первые дни в воздухе была бодрящая свежесть, словно в середине зимы. Молодые люди так же изголодались по битвам, как и я. Вот почему они перекричали совет старейшин, вот почему они высказались за войну.
Но нас всех ждала неожиданность. Никто в Земле не воюет летом, если этого можно избежать. Еще бы, ведь в эти месяцы сам воздух готов загореться, если сквозь него слишком быстро двигаться. Поэтому я был уверен, что у нас лето впереди, чтобы подготовиться к встрече с Аккой. Я ошибся. Я просчитался. Акка ждал моего ответа и знал, каков он будет. Войска его были наготове. Они только ждали сигнала. Наверняка они выступили в тот же день, когда посланники вернулись с моими словами. Когда я спокойно окруженный женщинами, звуки труб разбудили меня на заре в самое жаркое утро лета. Ладьи Акки появились на реке, когда мы их совсем не ждали. Они заняли пристань. В их руках оказались предпортовые районы. Город был осажден.
Первая серьезная неудача в мое царствование. Я никогда еще не вел городского боя. Я вышел на террасу дворца и забил в барабан, который был сделан из дерева Инанны. В первый раз я отбивал такую отчаянную дробь в Уруке, хотя она была и не последней. Мои герои собрались вокруг меня с потемневшими лицами. Они не были уверены во мне как в военачальнике. Многие воевали в войнах, которые вел Думузи, кое-кто сражался в войсках Лугальбанды, а некоторые даже помнили Энмеркара, но никто не сражался под моим командованием.
— Где тот, в ком бьется сердце мужа, кто пойдет и спросит Акку, что он делает здесь, в чужих землях? — спросил я.
Доблестный воин, Бир-Хуртурре, выступил вперед. Глаза его сияли. Он был высоким и сильным, и на мой взгляд, не было в Уруке человека более храброго и сильного.
— Я пойду, — сказал он.
Я расставил войска за городскими воротами. За Высокими воротами, за Северными воротами, за Царскими воротами, за Святыми, за воротами Ур, за воротами Ниппур, за всеми остальными. Я разослал патрули, чтобы они двигались вдоль всей городской стены и отгоняли людей Киша, если те попытаются влезть по стене с помощью лестниц иди попробуют прорубить брешь в стене. Потом мы открыли Водяные ворота и Бир-Хуртурре отправился на переговоры с Аккой. Не прошел он и десяти шагов, как люди Киша схватили его и уволокли. Это было сделано по приказу Акки, сына Энмебарагеси, который говорил мне, что посланники обладают священными правами неприкосновенности. Может, он имел в виду только посланников Киша?
Забарди-Бунугга бегом принес мне новости.
— Они пытают его, мой господин! Чтоб Энлиль пожрал их печенки, они пытают его!
Теперь Забарди-Бунугга был моим третьим по чину в армии, крепкий воин, выдержанный и верный. Он сказал мне, что со стены возле сторожевого поста башни Лугальбанды увидел, как воины Киша напали на Бир-Хуртурре на глазах у всех, били его, толкали, пинали ногами, когда он упал в пыль.
— Чтоб Энлиль пожрал их печенку! — кричал он.
А еще он сказал, что когда поднялся на стену, люди Киша окликнули его и спросили, не он ли царь Гильгамеш. На что он ответил, что он ничто в сравнении с царем Гильгамешем.
— Мы выступим сейчас им навстречу? — спросил он.
— Подожди, — ответил я ему. — Я поднимусь на стену и посмотрю, что за враг стоит под городом, какие у него войска.
Я быстро побежал по улицам. С крыш на меня смотрели лица — перепуганные, замершие — лица простого люда. Они не знали, чего ждать и боялись самого худшего.
На сторожевой башне Лугальбанды я взбежал по широким кирпичным ступеням, перепрыгивая через них. Я нес желто-голубой флаг, который выхватил у одного из стражников на башне, и наконец достиг широкого помоста на вершине стены.
Кровь зазвенела у меня в ушах, когда я посмотрел сверху на это море вторгнувшихся в наши земли врагов.
Длинные корабли Акки заполонили весь порт. Воины Киша вразвалку прогуливались по пристаням. Я видел флаги Киша — багряно-зеленые. Я видел жесткие обветренные лица, лица людей, которых знал, воинов, с которыми вместе я прорывался сквозь строй эламитов. Под свирепым солнцем лета они носили плащи из грубой черной вяленой шерсти и очевидно не чувствовали никаких неудобств. Свет солнца отражался от их начищенных медных шлемов. Я увидел двух сыновей Акки и шестерых военачальников, которых знал по эламской войне. Я увидел Намгани, моего старого возничего, а он увидел меня и помахал мне, ухмыльнувшись свой клыкастой улыбкой, и назвал меня именем, под которым меня знали в Кише.
— Нет! — проревел я ему в ответ. — Я — Гильгамеш! Я царь Гильгамеш!
— Гильгамеш! — раздалось мне в ответ. — Смотрите, это Гильгамеш, царь Гильгамеш!
У меня не было щита, и я стоял открытый без оружия, но страха во мне не было. Они не посмели бы прицелиться в царя Урука. Я оглядел всю массу людей с юга к северу. Сотни, может, тысячи человек. Они поставили палатки. Они готовились к длительной осаде.
— Где Акка? — окликнул я. — Приведите вашего царя. Или он боится показаться?
Акка пришел. Если уж я не боялся показаться на стене, не мог же он выказать себя трусом. Он вышел из дальней палатки, медленно передвигаясь, словно гора мяса. Он стал еще толще, чем раньше, розовотелый, свежевыбритый от макушки до подбородка. Оружия у него не было. Он опирался на посох из черного дерева, вырезанный так искусно, что глаза невольно задерживались на нем. Когда он оказался поблизости от меня, я сделал в его сторону учтивый жест, и сказал спокойным тоном:
— Приветствую тебя в моем городе, отец Акка. Если бы ты заранее предупредил меня о своем приходе, я бы лучше подготовился, чтобы принять тебя.
— Ты хорошо выглядишь, Гильгамеш. Благодарю тебя за привет, что ты мне прислал.
— Это был мой долг.
— Я ждал большего.
— Не сомневаюсь. А где мой посланник, Бир-Хуртурре, о отец Акка?
— Мы с ним обсуждаем важные вопросы в одной из моих палаток.
— Мне сказали, что его избивали и пинали ногами, бросили в пыль, а потом взяли на пытки, отец Акка. Я думал, что ты не обращаешься так с послами, отец Акка.
— Он был несдержан. Ему не хватило вежливости. Мы ему преподаем хорошие манеры, сын мой.
— В Уруке такие уроки даю только я и никто другой, — сказал я. — Верни мне его, а потом я приглашу тебя в город на пир, дать который — мой долг и обязанность перед тобой, таким благородным гостем.
— Ах, — сказал Акка, — я думаю, я сам приду в город. А твоего раба приведу, когда сочту нужным и закончу с ним свои дела. Открой ворота, Гильгамеш. Царь царей приказывает тебе. Царь всей Земли приказывает тебе.
— Да будет так, — ответил я.
Я отвернулся и швырнул свое знамя вниз. Это был сигнал. Тотчас были открыты все ворота и войско стремительно хлынуло на воинов Киша.
Когда противник подходит к воротам обнесенного стеной города, лучший способ обороны — ждать. Особенно когда противник появился летом, сгорая от жары и нетерпения. К тому же в сухое время еды нет, разве что запасы, хранимые в амбарах за пределами города, а когда это будет уничтожено, то осаждающей армии нечего будет есть. В самом городе всегда вдоволь припасов, чтобы прожить до зимы, да и свежей воды было в изобилии. Они страдали бы куда сильнее, чем мы, и в конце концов ни с чем убрались бы прочь.
Но обычные прописные истины, как правило, неприменимы в таких случаях. Акка понимал эти вопросы так же хорошо, как и я, даже лучше меня. Если он выбрал для нападения летнее время, значит он не планировал долгую осаду. Я догадался, что он рассчитывал на прямую атаку на город. Стены Урука — их построил еще Энмеркар — невысоки, если сравнивать с другими великим городами. На кораблях Акки достаточно лестниц, и воинам Акки ничего не стоило взобраться на стены в сотнях мест сразу. А воины, вооруженные топорами, пытались бы прорубить стены внизу. Я хорошо знал острейшие топоры Киша. Они прорубили бы старые стены Урука очень легко. Поэтому бессмысленно было сидеть в стенах Урука и ждать нападения. Тем более, что в моем распоряжении было больше людей, чем Акка привел с собой. Если бы я мог разбить их на пристани, мы были бы спасены. Мы должны были атаковать их первыми.
Мы вылетели в повозках сразу из четырех ворот. Я думаю, они не ожидали, что мы дадим отпор, и конечно не ожидали, что мы атакуем. Они были наглы и самоуверенны, они ждали, что я паду на колени перед Аккой без всякого сопротивления. А мы обрушились на них как вихрь, воздев топоры и размахивая копьями. Повозка Забарди-Бунугги была в первых рядах, сразу за ней мчались десять других, в них были самые знаменитые герои города. Люди Киша встретили первый натиск с доблестью и силой. Я знал, как хорошо они умеют сражаться. Их-то я знал лучше собственных солдат. Пока первые схватки развертывались на пристани, я вскочил в повозку и сам возглавил вторую волну атаки.
Я буду краток. Когда люди Киша увидели меня, их охватил ужас, страх сковал их члены. Они хорошо знали меня по Эламским войнам, и если что-то стерлось из их памяти, то полностью вернулось к ним как только они увидели, как в гуще схватки я мечу дротики и правой, и левой рукой одновременно. Вот тогда они вспомнил все!
— Это сын Лугальбанды! — завопили они в панике.
Не могу притворяться: не знаю лучшей музыки, чем та, которая наполняет поле битвы. Восторг охватил меня, и я ворвался в ряды врага, словно посланец смерти. В тот день моим возничим был храбрый Энкиманси, узколицый человек, не знавший, что такое страх. Он гнал ослов вперед, а я стоял за его спиной и метал дротики, словно низвергал гнев Энлиля на Киш. Первый же бросок стоил жизни сыну Акки. Второй и третий умертвили двух его высших военачальников. Четвертый вонзился в глотку одного из посланников, что приезжал ко мне от Акки.
— Лугальбанда! — кричал я. — Небесный отец! Инанна! Инанна! Инанна!
Это был клич, который воины Киша слыхали и прежде. Они знали, что среди них был бог в тот день, или дитя бога, с божественной меткостью руки и глаза.
Мы промчались в ту брешь, которую проделал Забарди-Бунугга и повозки первого отряда, и я вырезал изрядный кусок в рядах войска Киша. За мной шла моя пехота, выкрикивая:
— Гильгамеш! Инанна! Гильгамеш! Инанна!
Я должен признать: войска Киша были отважны. Они, как могли, пытались сразить меня, и только искусные маневры со щитом да ловкость и опыт моего возничего Энкиманси отвратили от меня беду. Остановить меня в бою было невозможно. Сами того не желая, они поддались панике, повернулись и побежали к реке. Мы тут же отрезали их от воды и стали рассекать все войско на небольшие группки.
Все кончилось гораздо скорее, чем я смел надеяться. Мы втоптали в пыль врагов. Мы напали на их корабли и захватили их, срезали с них носовые украшения и принесли с собой изображения Энлиля как добычу. Мы освободили Бир-Хуртурре, и нашли его живым, хотя он был весь в крови и избит. Что же до Акки, то мы пробились к нему без труда. Сам он в его возрасте был уже не боец, но он был окружен сотней отборных охранников, которые все до единого погибли, защищая его, а самого Акки мы взяли в плен. Забарди-Бунугга подвел его ко мне, когда я стоял у своей повозки и пил из кубка пиво Киша, захваченное на корабле.
Акка был весь в пыли и в поту, покрасневший, глаза налиты кровью от усталости и горя. На левом плече у него была небольшая рана — пустяк, но мне было стыдно, что он был ранен. Я подозвал к себе одного из своих полевых врачей.
— Омой и перевяжи рану царю царей, — сказал я.
Я подошел к Акке и, к его изумлению, встал перед ним на колени. — Отец, — сказал я, — царственный владыка Земли.
— Не смейся надо мной, Гильгамеш, — пробормотал он.
Я отрицательно покачал головой. Поднявшись, я передал ему кубок пива:
— Возьми это, отец. Это утолит твою жажду.
Он холодно посмотрел на меня. Медленно положил руку себе на брюхо и размял толстые складки. По его телу текли ручьи пота, делая дорожки в пыли, что лежала на нем. Не скрою: я наслаждался своей победой. Упивался его поражением. Для меня оно было как сладкое вино.
— Что со мной будет, — спросил он.
— Сегодня вечером ты будешь моим гостем во дворце, и еще два дня после этого. Мы вместе похороним павших. А потом я отошлю тебя обратно в Киш. Разве ты не царь царей, мой господин, которому я присягнул на верность?
Когда до него дошел смысл моих слов, в глазах его загорелся гнев. Потом он горько усмехнулся и, скорбно оглядев своих воинов, своих сыновей, вповалку лежащих в пыли, свои изуродованные корабли, сказал:
— Я не думал, что ты так умен.
— Будем считать — долг мой нынче уплачен. Решено?
— Да — сказал он. — Решено. Твой долг уплачен сполна, Гильгамеш.
17
Все так и было сделано. Я дал в честь Акки великий пир и с почестями отправил обратно в Киш вместе с остатком его войска.
Перед отъездом Акки сообщил мне недобрые вести: его дочь, моя жена Ама-суккуль умерла, и дети, которых она мне родила, тоже умерли. Это известие резануло меня, как лезвие меча. О смерть, негде укрыться от тебя! Я вспоминал, как в свой последний день в Кише нежно обнимал ее и любовно похлопывал по ее вздувшемуся животу. Ребенок, рождаясь, убил ее, и сам погиб вместе с ней. Потом наш первенец так тосковал по матери, что быстро последовал за ней в мир иной. Без сомнения, это боги не позволили мне посеять свое семя в Кише. Конечно, с тех пор у меня было много сыновей, но как часто я думал, какими бы стали мои первенцы, доживи они до взрослого возраста! А маленькая, нежная и кроткая Ама-суккуль! Какой мягкой она была, и любил я ее больше остальных своих жен.
Когда Акки отплывал домой, я настоял на подтверждении своей клятвы верности ему. Это я сделал по собственной воле, это видели все. Такая клятва, если ее дают добровольно, служит знаком не слабости, но силы. Это дар, это приношение, которое скорее освободило, чем связало меня. С моей стороны это был знак признательности за все то, что Акки сделал для меня, он помог мне получить мое царство после смерти Думузи. И эта клятва навеки освободила меня от настоящей вассальной зависимости. В конце концов я по праву был царем, по рождению и завоевав это право в битве. Начало же моего подлинного правления совпадает с войной против Киша.
Но если это было началом моего правления, это было концом для Акки. Он ушел за стены Киша, и его было не видно и не слышно с тех пор. Когда он умер, это было концом его династии, династии Киша после тысячи лет. Месаннепада, царь Ура, захватил город. Вскоре мы услышали, что Месаннепада казнил последнего из сыновей Акки и сел на трон. Потом он стал называть себя царем Киша, а не царем Ура. Можно сказать, что я позволил этому случиться, так как был в это время занят другими делами, о которых расскажу в свое время. Потом мне пришлось сводить свои счеты с царем Ура и Киша.
Первое, что я сделал, когда восторг от выигранной войны стал понемногу отходить в прошлое, — перестроил стену Урука. Даже я не столько перестроил, сколько выстроил заново. Ведь старые стены Урука нельзя было и называть стенами, если сравнить их с теми, которые построил я. Может быть когда-то они и годились для времен Энмеркара, но я-то видел стены Киша, и знал, какими должны быть городские стены Урука.
Стена должна быть высокой, чтобы вражеские воины не могли воспользоваться лестницей. Она должна быть толстой, чтобы сквозь нее нелегко было бы прорубиться. Основание ее должно быть плотным, глубоко врытым и широким, чтобы невозможно было прорыть под ней подкопы и туннели. Все это казалось очевидным. Старые стены Урука не удовлетворяли этим требованиям. Кроме того, нам необходимы были бы сторожевые башни, с которых ведется наблюдение за подходами к городу, и широкий помост на вершине стены, где защитники могли бы занять позиции и поливать огнем головы нападающих. В особенности сторожевые башни и помосты нужны были возле ворот, поскольку ворота — это слабое место в любой стене.
Весь остаток лета в Уруке занимались изготовлением кирпичей для постройки стены, которая будет известна всему свету, как стена Гильгамеша. Так же как и при починке каналов, я работал рука об руку с простыми ремесленниками и, по-моему, никто не работал так старательно, как я. Я строил эту стену своими руками, и это правда. Не было ремесленника столь искусного в выкладывании кирпичей как я. Я ставил его на ребро, с наклоном вбок, так что каждый кирпич опирался на соседний, а каждый последующий ряд наклоняется в сторону, противоположную предыдущему ряду. Когда мы снесли старую стену Энмеркара, город оказался обнаженным, и мы спешили построить новую стену, или, вернее, стены, ибо их было две. Даже семеро мудрецов не могли бы придумать лучшего плана. Я применил для строительства стены обожженные кирпичи, поскольку, если строить из необожженных, то через пять лет понадобится возводить стену снова. Мы строили из самых лучших кирпичей. Внешняя стена сияла цветом меди, а внутренняя стена, ослепительно белая, не знает себе равных нигде в мире. Фундамент основания, мне кажется, самый мощный из всех, что когда-либо строились. Стена Урука знаменита во всем мире. Она простоит двенадцать тысяч лет, иди я не сын Лугальбанды.
Конечно, за одно лето мы не построили эту стену. В действительности я строил ее все годы своего правления, улучшая и укрепляя ее, увеличивая ее высоту, добавляя новые помосты для воинов и сторожевые башни. Но в первое лето мы построили большую ее часть, достаточную, чтобы она защитила нас от любого врага.
В первые месяцы своего царствования я был в полном расцвете своих сил. Я почти не тратил времени на сон. Я работал весь день над тем, над чем обязан работать царь, и заставлял своих людей работать, как я. Наверное, я заставлял их работать чересчур много. Я доводил их до изнеможения, и за глаза они стали называть меня тираном. Моя сила была невероятна, неисчерпаема, я не понимал, что у них таких сил нет. Когда их трудовой день заканчивался, они уже ничего не хотели, только спать. А я еще пировал со своими придворными вечером, а потом, ночью, были еще и женщины. Может с женщинами я хватал лишку, но тогда я об этом не думал. Мое желание могло сравниться только с ненасытностью богов на жертвенное мясо и пиво. У меня были наложницы, были жрицы из храма Инанны, случайные женщины в городе, но и этого мне было мало. Не забывайте, что я частично бог, мой отец Лугальбанда, а также Энмеркар, который называл себя сыном солнца. Поэтому во мне пылает сила бога. Как мог я противиться этой силе? Как мог я подавить ее? Присутствие божества трепетало во мне, билось, как удары барабана, и я жил в этом ритме.
Но рядом с восторгом и силой, должен вам сказать, всегда была скрытая печаль. Весь Урук служил мне, но никогда я не мог забыть, что я одинокий человек, возвысившийся, но все равно одинокий. Может, такое чувство свойственно всем. Не знаю. Мне кажется, что все остальные связаны какими-то близкими узами с женами, сыновьями, друзьями, приятелями. А я, у которого никогда не было брата, кто едва знал своего отца, кто был отделен от своих приятелей по играм ростом и силой, теперь как царь был отрезан, словно непроницаемыми стенами, от обыденного потока человеческого общения. Труд днем, пиры вечерами и женщины ночью были моим утешением за муки одиночества. Особенно женщины.
Мой управляющий царскими наложницами с большим трудом мог угодить моим потребностям. Когда бродячие племена пустыни приходили в Урук на рынок, они приводили мне своих девушек, смуглых, длинноногих, с темными тенями вокруг глаз, с яркими и полными губами. Когда в городе подписывались брачные договоры, невест сперва приводили ко мне, чтобы я взял их прежде мужей, дабы осенить их божественной благодатью. Если жена одного из моих советников понравилась бы мне, ее муж привел бы ее ко мне на ночь безропотно. Никто не говорил ни слова против меня. Никто не смел, да и не стал бы. Я был царь, моя сила равнялась силе владыки небес. Я не видел ничего плохого в том, что я делал. Разве это не было моим отличительным правом, как царя, героя, пастыря народа? Мог ли я поступить иначе, когда мое желание терзало меня столь неутолимо? Вино, пиво, музыка, пение тех ночей! И женщины, женщины. Их сладкие губы, гладкие бедра, колышущиеся груди! Я никогда не отдыхал. Я никогда не останавливался. Биение барабана во мне было неутомимо и безжалостно. Днем я вел своих людей на строительство стен или на военные игры, пока глаза их не мутнели, а тела не падали от усталости, а ночью я был ревущий огонь пожирающий сухую траву лета.
Я никогда не уставал. Урук начинал уставать от меня, но я этого пока не знал.
Приближался новый год, а вместе с ним снова время Священного Брака. К тому времени я правил Уруком год и несколько месяцев. Сегодня ночью богиня раскроется для меня во второй раз. Я совершил ритуалы очищения. Я размышлял в тишине в домике Думузи, и когда пришел вечер, меня отвезли традиционным путем на лодке, к моей богине.
Когда я высадился на той же пристани, где разбил войска Акки, и прошел в город сквозь ворота в стене, которую я сам, собственными руками построил, я почувствовал прилив гордости за то, что мне удалось свершить. Я воистину чувствовал себя божеством. Не просто кем-то, в чьих жилах течет божественная кровь, но действительно богом, носящим двурогую корону, идущим по облакам во всем своем великолепии. Грешно ли мне было чувствовать такую гордость? Я пришел из изгнания, чтобы принять корону. Я починил каналы. Я сокрушил самого сильного противника. Я построил стены Урука. А мне не исполнилось еще двадцати. Разве это не божественные деяния? Разве не было у меня права гордиться?
А теперь меня ждала богиня.
Все эти месяцы у меня было мало возможности с ней видеться, разве что при обычных жертвоприношениях и церемониях, на которых мы оба должны были присутствовать. Иначе нам и не приходилось разговаривать. Было время, когда мне хотелось прийти к ней за советом или благословением, но я не ходил. Случалось, что она могла бы призвать меня и говорить со мной, но она этого не делала. Я даже тогда, казалось, понимал, почему мы держались на таком осторожном расстоянии друг от друга. В Уруке словно два царя, мы с ней и были этими двумя царями: у нее была своя власть, у меня — своя. Но я уже выходил за пределы свой власти. Это происходило не потому, что я хотел восстановить ее против себя, а потому, что я не знаю другого способа быть царем, как иметь всю эту власть целиком. Когда я объявил войну Акке, я не спрашивал ее согласия. Это казалось мне слишком рискованным, когда я уже встретил сопротивление старшин. Войну надо было объявить. А если бы Инанна была против меня, я не смог бы собрать того войска, которое было мне необходимо. Поэтому я не спрашивал Инанну. Я боялся противодействия ее стороны, ее влияния. Я старался так поставить себя, чтобы не ощущать ее силы. А она, увидев мое растущее влияние, отступила, неуверенная в моих намерениях, не желая бросать мне вызов до тех пор, пока она не поймет их до конца.
Но в ночь Священного Брака все столь мелкие соображения отступают на второй план. Я вошел в ее длинную опочивальню и нашел ее сверкающей украшениями и благоухающую ароматическими маслами. Я приветствовал ее как священную драгоценность, а она обрадовалась мне как царственному супругу, источнику жизни. Мы совершили ритуал выхода к народу. Когда все это было закончено, мы вошли в опочивальню, где сладко пахли зеленые циновки. И прислужницы богини сняли с нее алебастровые поножи и сияющие золотые пластины, и оставили ее мне нагой.
Когда мы наконец остались вдвоем, я положил руки на ее гладкие плечи и заглянул в сияющие глубины ее глаз. Она улыбнулась мне, как в тот первый раз, когда мы были детьми, улыбкой, которая была теплой и любящей, а в чем-то свирепой и вызывающей. Я знал, что она уничтожила бы меня, если бы могла. Но на эту ночь она была моей. Она не потеряла ни частички своей красоты за прошедшие двенадцать месяцев. Грудь ее была высока, талия тонка, бедра широки. Ногти ее были остры и длинны, словно кинжалы, и выкрашены в цвет умирающей луны. Она поманила меня к ложу почти незаметным жестом руки. Мы подошли к нему и обнялись. Ее кожа была как ткани, что ткут на небесах. Мое тело парило над ней. Спина ее выгибалась подо мной. Ее пальцы впились в мышцы моей спины, и она подтянула колени к груди и раздвинула их, губы ее раскрылись, язык чуть высунулся наружу, его кончик облизывал губы. Дыхание ее напоминало шипение. Она совсем не закрывала глаз, женщины редко так поступают. Я видел это. Я тоже не закрывал глаз, ни одно мгновение той ночи.
На заре я услышал шум пришедшего дождя, первого дождя нового года, слабый приглушенный стук по древним кирпичам храмового помоста. Я встал с ложа и осмотрелся в поисках своих одежд, чтобы одеться и уйти. Она лежала, глядя на меня. Она следила за мной, как змея следит за своей добычей.
— Останься еще немного, — тихо сказала она. — Ночь еще не окончилась.
— Барабаны бьют. Я должен идти.
— Весь город спит. Твои друзья валяются в пьяном угаре и видят хмельные сны. Что тебе одному делать в этот час?
Она издала мурлыкающий звук. Я не доверяю мурлыкающим змеям.
— Вернись на мое ложе, Гильгамеш. Ночь еще не насытилась, говорю тебе.
С улыбкой я ответил:
— Ты хочешь сказать, что ты еще не насытилась?
— А ты?
Я пожал плечами.
— Мы выполнили ритуал. И выполнили его усердно.
— Стало быть, ненасытный на какое-то время насытился? Или, может быть, я тебе наскучила, и ты готов искать себе следующую женщину на этот день?
— «Жестокие слова говоришь, Инанна.
— Но они не лишены истины, Гильгамеш. Тебе все мало. Мало женщин, мало вина, мало работы, мало войны. Ты бушуешь, словно поток, сметая все на своем пути, ты бремя, под которым стонет весь город. Люди кричат и молят тебя о пощаде, так тяжко ты их угнетаешь.
Это меня больно ужалило. Глаза мои расширились от удивления.
— Я — угнетатель?! Я справедливый и мудрый царь, госпожа!
— Вполне возможно. Не сомневаюсь, что так оно и есть. Но ты ошеломляешь и сокрушаешь собственный народ. Ты заставляешь молодежь маршировать но холмам вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, пока у них не чернеет перед глазами и они не падают от изнеможения, а тебе все мало, и ты не знаешь к ним пощады. А женщины! Никто еще не делал так, как это делаешь ты. У тебя их пять, шесть, десять за ночь. До меня доходят слухи.
— Не десять, — сказал я. — Не шесть и не пять.
Она улыбнулась.
— Мне так сказали. Говорят, что ни одна не может тебя удовлетворить, что ты словно бешеный бык. Они смотрят на меня и говорят: «Только богиня могла бы насытить его!» Ну что же, во мне обитает богиня, и мы с тобой провели ночь вместе, ты и я. Ты насытился, хоть раз в жизни? Это потому ты теперь стремишься поскорее уйти?
Теперь мне хотелось бежать, потому что у меня не было защиты от нее. Но в этом я не мог ей признаться. Я сдержанно сказал:
— Я хочу один прогуляться по дождю.
— Ну что же, иди, а затем возвращайся назад.
Глаза ее сверкнули. В ней была сила хлещущего кнута. Я поднял свои одежды, заколебался, бросил их снова на пол и стоял нагим перед ней. В опочивальне стоял мускусный запах. Остатки благовоний все еще дымились в жаровне. Губы ее были сжаты, ноздри раздувались. Низким, хриплым голосом она сказала:
— Ты вернешься? Для тебя — каждую ночь по десять женщин. Для меня — одна ночь. Одна эта ночь в году, Гильгамеш.
Я вдруг стал меньше ее бояться, слыша, как она старается таким образом разбудить во мне жалость.
— Ах вот оно как. Инанна? Никого-никого? И так весь год?
— А кто, кроме бога, может касаться богини, как ты думаешь?
Я осмелел. Я посмел даже пошутить немного, подразнить ее.
— Даже тайком, потихонечку нельзя? — спросил я игриво. — Какой-нибудь здоровенный, похотливый раб, потихонечку призванный в храм в самую темную стражу ночи…
В ней вспыхнул гнев. Она прижала кулаки к груди. Пальцы ее скрючились и напоминали когти.
— И ты посмел сказать такую мерзость под кровом самого храма?! О, стыдись! Стыдись, Гильгамеш!
Потом она смягчилась. Все еще похожая на кошку, она снова мурлыкала, приподняла согнутую в колене ногу и ступней потерла икру другой ноги. Чуть мягче она сказала:
— Есть только ты, только одна ночь в году. Клянусь тебе в этом, хотя я чувствую себя оскверненной, оттого что должна клясться тебе в чем-то. Но у меня — только ты. И я еще не готова отпустить тебя. Ты останешься? Ты останешься еще немного? Ведь у меня есть только одна ночь, эта единственная ночь в году.
— Дай мне сперва очиститься под дождем, — сказал я.
Какое-то время я стол перед храмом, омытый дождем зари. Потом я вернулся к ней. Кошка или змея, жрица или богиня, я не мог ей отказать, не мог, если только в одну ночь в году ей дано было познать объятия. А дождь, смыв с меня усталость и пот, снова пробудил мои силы и желание. Я не мог отказать ей. Я хотел ее, я вернулся к ней…
18
В самом начале нового года мне приснился сон, который я никак не мог разгадать. Позже в ту же ночь мне приснился другой сон, такой же непознаваемый.
Я очень беспокоился, что так мало мог понять в этих снах. Боги часто разговаривают с царями, когда они спят, и возможно, мне таким образом рассказывали что-то важное для благополучия города. Поэтому я отправился в храм Ана и рассказал свои сны моей матери, мудрой жрице Нинсун.
Она приняла меня в своих покоях. Плащ на ней был черный, отороченный внизу широкой каймой бусин, золотых и гранатовых. В ней, как всегда, были удивительные спокойствие и красота. Все может быть в хаосе, но она всегда пребывала в мире и покое.
Она взяла мои руки в свои маленькие прохладные ладони и держала их некоторое время, улыбаясь, ожидая, что я заговорю первым.
— Прошлой ночью, — сказал я, — мне снилось, что на меня нашло чувство великого счастья, и я вышагивал, полный восторга, среди прочих молодых героев. Спустилась ночь, и звезды зажглись на небесах. И вот, когда я стоял под звездами, одна из них рухнула на землю, та самая, что несла в себе сущность небесного отца Ана. Я пробовал поднять ее, но она была чересчур тяжела. Я пробовал хотя бы сдвинуть ее, но не мог. Весь Урук столпился вокруг и смотрел. Простой люд толкался, чтобы увидеть. Люди благородного рода падали на колени и целовали землю перед звездой. А меня тянуло к ней, словно к женщине. Я надел головную повязку с кружком для ношения тяжестей, напрягся и с помощью молодых героев взвалил звезду на себя и понес ее к тебе, мать. И ты мне сказала, что эта звезда — мой брат. Вот какой был сон, и он меня смущает.
Казалось, Нинсун уставилась в какую-то пустоту. Потом, улыбнувшись, она сказала:
— По-моему, я знаю смысл сна.
— Тогда скажи мне его.
— Эта звезда небес, что привлекала тебя, словно женщина — этой твой сильный друг, верный спаситель, твой сотоварищ, который никогда тебя не оставит. Его сила — словно сила Ана, и ты будешь любить его, как самого себя.
Я нахмурился, думая о том поразительном, страшном одиночестве, которое я считал неизбежной платой за свое царствование, и том, как я устал от него.
— Друг? О каком друге ты говоришь, мать?
— Когда он придет, ты его узнаешь, — сказала она.
— Мать, я видел еще один сон в ту же ночь, — продолжил я.
Она кивнула. Казалось, она знала.
— Странной формы топор лежал на улицах великого Урука. Топор, непохожий на те, что мы когда-либо видели. И люди собирались вокруг него, смотрели, шептались. Как только я увидел его, я возрадовался. Я влюбился в него с первого взгляда. И опять же, меня тянуло к нему, словно к женщине. Я взял его и пристегнул к поясу. Вот мой второй сон.
— Топор, что тебе приснился — это человек. Это предназначенный тебе судьбой друг…
— Снова друг!
— Да, снова друг. Сотоварищ, храбрец, который спасает своего друга в минуту опасности. Он придет к тебе.
— Да пошлют его боги ко мне как можно скорее, — сказал я с чувством.
И я наклонился к ней и сказал ей то, чего раньше никогда никому не открывал. Я сказал ей о том, что я в страшной тоске, что ужасное леденящее одиночество часто нападает на меня среди моего веселья и великолепия. Трудно было произносить такие слова. Дважды запинался мой язык. Но я заставил его произнести эти слова. Моя мать Нинсун улыбнулась и кивнула головой. Она понимала и знала. Мне иногда кажется, что это она склонила богов создать мне друзей. Когда в тот день я покидал храм, на душе у меня было легко, словно рассеялись грозовые тучи, висевшие в воздухе много дней.
В те самые дни, что я видел свои сны, странные события стали уделом неизвестного мне тогда человека, некоего охотника по имени Ку-нунда. Мне о нем рассказали позднее. Этот Ку-нунда жил в одной из отдаленных деревень и кормился тем, что ловил в охотничьи ямы диких зверей. В тот раз, о котором пойдет речь, он пошел в пустыню проверить ловушки по ту сторону реки, и обнаружил, что все ловушки поломаны. Те звери, что могли попасться в его сети, были, видимо, выпущены. А когда он пошел проверить охотничьи ямы, то оказалось, что их кто-то засыпал.
Для Ку-нунды это было страшной тайной. Ни один воспитанный человек не тронет ловушки другого охотника и тем более не станет засыпать его ямы. Это оскорбительный поступок, недостойный. Поэтому Ку-нунда стал искать того негодяя, что проделал все это и выследил его. Однако он не был похож ни на одного человека, которого Ку-нунда встретила. Он был огромен, груб, обветрен, сплошь покрыт шерстью и больше походил на дикого зверя, чем на человека. Он вел себя как животное: приседал, крался, хрюкал, фыркал, быстро бегал на цыпочках. Казалось, дикие звери его не боятся, а бесстрашно бегут к нему. Ку-нунда увидел дикого человека среди газелей на высокогорных пастбищах, где он щипал траву вместе с ними. Дикий человек гладил их, ел траву так же, как и они. Ку-нунду обеспокоило все увиденное. Он вырыл еще ямы, и дикий человек все их засыпал. Однажды Ку-нунду встретил дикого человека возле ямы, куда звери приходили на водопой. Они стояли лицом к лицу.
— Слушай, ты, дикарь, ты зачем портишь мои ловушки? — потребовал ответа Ку-нунда.
Дикарь не ответил, только втянул воздух ноздрями. Он заурчал, зарычал, оскалился, глаза его зажглись огнем и налились кровь. Пенистая слюна стекла ему на бороду. Ку-нунда трусом не был, но отшатнулся. Лицо его застыло от страха, члены онемели от ужаса. И снова на следующий день они встретились у водопоя, и так день за днем, когда дикий человек видел Ку-нунда, он рычал и скалился, так что Ку-нунда не смел подойти туда. В конце концов Ку-нунда понял, что косматый незнакомец не даст ему охотиться, сдался и пришел в деревню с пустыми руками, опечаленный до глубины души.
Он рассказал свою повесть отцу, который посоветовал ему:
— Иди в Урук и предстань перед Гильгамешем-царем. Нет никого более могучего, чем он. Он подскажет тебе, что делать.
Когда настал мой приемный день, когда я выслушивал всех, в зале появился этот самый Ку-нунда, сильный и крепкий человек чуть выше среднего роста, с худощавым жестким лицом и умными проницательными глазами. Он был одет в черные шкуры, и вокруг него витал запах крови. Он положил передо мной в дар мясо и сказал:
— Какое-то дикое существо поселилось в полях, и оно портит мои ловушки и освобождает зверей, которых я поймал. Он силен, как властелин неба, и я не смею к нему подойти.
Мне показалось странным, что этот крепкий Ку-нунда может бояться кого-то или чего-то. Я попросил его рассказать мне об этом подробней, и он сказал, как это существо оскаливалось, рычало и выло. Он рассказал мне, как дикий человек пасся с газелями на высоких холмах, как он бегал с ними наперегонки. Что-то в этом рассказе заставило мое сердце забиться сильнее и глубоко меня захватило. У меня мурашки побежали по коже.
— Какое чудо! — сказал я. — Какая тайна!
— Ты убьешь это чудовище для меня, о царь?
— Убить его? Я думаю, нет. Жалко убивать его только потому, что он дикий. Но топтать поля тоже не годится. Мы его поймаем.
— Это невозможно, о царь! — возопил Ку-нунда. — Ты его не видел! Его сила равняется твоей! Нет ловушки, что выдержала бы его.
— Думаю, найдется, — сказал я с улыбкой.
У меня мелькнула мысль, пока я слушал Ку-нунду, об одной старой истории, которую пел нам Уркунунна-арфист во дворе нашего дворца, когда я был маленьким. По-моему, это сказание о богине Навиртум и чудовищном демоне, Забаба-шум, или, может, богиня была Ниншубур, а чудовище звали Лахуму. Не помню. Имена в этой истории и не важны. Смысл этой истории в том, что сила женской красоты побеждает свирепость и дикость. Я послал в храм за священной наложницей Абисимти, круглогрудой, длинноволосой, которая некогда посвятила меня в таинства плотской любви, когда я был юн, и посвятил ее в тайны того, что собирался предпринять. Я объяснил ей, какова будет ее роль. Она ни секунды не колебалась. В Абисимти всегда была подлинная святость. Она во всем была подлинной рабой богини, поскольку все, что от нее требовалось в служении, она выполняла не колеблясь, — истинный путь служения.
Поэтому Ку-нунду взял Абисимти с собой в свои охотничьи места, где ему встречался дикий человек, в трех днях пути от Урука. Они ждали два дня, и дикий человек пришел.
— Вот он, — сказал Ку-нунда. — Иди, попробуй на нем свои чары.
Не стыдясь и не боясь, Абисимти приблизилась к дикарю. Он настороженно фыркал, хмурился, не понимая, что она за существо, но зубов не показывал. Она развязала свои одеяния и показала ему свою грудь. Мне кажется, он прежде никогда не видел женщины. Сила богини велика, и богиня сделала красоту священной наложницы Абисимти доступной его пониманию. Она стояла перед ним в своей прекрасной наготе. Он вдохнул ее нежный запах, она легла с ним, стала ласкать его и дала ему овладеть ею.
Это было для него первым посвящением. Он был как зверь, а после ее объятий он стал человеком. Или, вернее, после ее объятий он стал божеством. Ибо именно таким путем в нас проникает божественная сущность — через акт зарождения жизни.
Шесть дней и семь ночей лежали они, соединяясь. Я ручаюсь за искусство Абисимти. Я не мог бы послать к нему никого, кто был бы искуснее в таинствах любви. Когда она лежала с Энкиду (а дикого человека звали именно Энкиду), она наверняка использовала все свои тайные знания, и после ее объятий он никогда уже не мог стать прежним. Эти жаркие дни и ночи, страсть Абисимти дотла выжгли в нем всю дикость. Он смягчился, он стал нежнее. Он перестал дико рычать и фыркать. В него вошла способность говорить. Он стал похож на человека.
Но он сам еще не знал, что с ним произошло. Когда он насытился ею, он хотел вернуться к прежней жизни, к своим животным, но газели в страхе умчались, когда он приблизился к ним. Теперь на нем был запах человека, запах другого мира. Звери больше не признавали его, и он сам отошел от них. Когда газели побежали от него, он готов был последовать за ними, но что-то удержало его, колени его были словно связаны веревкой, вся его быстрота куда-то исчезла. Медленно, ошеломленный, он пошел туда, где была Абисимти. И она нежно улыбнулась ему.
— Ты больше не дикий, ты другой, — сказала она, больше жестами, чем словами, потому что слов он еще как следует не понимал. — Почему ты стремишься вернуться к диким животным?
Она рассказывала ему о богах, о Земле, о городах и живущих в них людях, о великом Уруке с высокими стенами, о Гильгамеше, царе Урука.
— Вставай, — сказала она. — Пойдем со мной в Урук, где каждый день — праздник, где люди одеты в красивые одежды. Пойдем в храм богини, чтобы она могла приветствовать тебя в мире людей, пойдем в храм небесного отца, где снизойдет на тебя благословение небес. Я покажу тебе Гильгамеша, ликующего царя, героя, сияющего мужеством, самого сильного, который правит нами. При ее последних словах глаза его засияли, лицо покраснело, и он сказал еще непослушным языком, хранящим звуки звериной речи, что пойдет с ней в Урук, в храм Инанны и в храм Ана. Но больше всего ему хочется увидеть Гильгамеша, царя.
— Я буду с ним бороться, — вскричал Энкиду, — и покажу ему, кто из нас сильнее. Я покажу ему, на что способен человек степей. Я все переменю в Уруке! Я изменю саму судьбу, ибо я самый сильный!
Таковы были его слова, пересказанные мне Абисимти.
Так мы приручили дикого человека Энкиду. В соответствии с планом, который я придумал, он был пойман в самую мягкую и сладкую ловушку и пришел из мира диких зверей в мир оседлых людей.
Абисимти разорвала свою одежду, таким образом одев его, и взяла его за руку. Как мать, повела она его к пастушеским жилищам возле города. Пастухи столпились вокруг него: они никогда не видывали такого гиганта. Когда они предложили ему хлеба, он не знал, что с ним делать и был смущен и озадачен. Он привык питаться кореньями, дикими ягодами, да сосать молоко газелей. Они дали ему вина, он подавился и выплюнул его на землю.
Абисимти сказала ему:
— Это хлеб, Энкиду. Это пища жизни. А это вино. Ешь хлеб, пей вино. Так принято у людей.
Он осторожно откусил кусок. Осторожно отпил глоток. Страх ушел из него, он заулыбался и стал есть. Он наелся хлеба до отвала и выпил семь чаш крепкого вина. Лицо его разгорелось, сердце возрадовалось. Он стал от радости скакать и петь. Его вымыли, выстригли колтуны из его спутанных волос, умастили маслами, дали ему красивую одежду, так что когда он пришел ко мне, я увидел очень крупного и сильного необыкновенно волосатого человека.
Первое время он жил с пастухами. Он научился есть человеческую пищу, носить одежду, а главное, Энкиду научился работать как человек. Пастухи научили его обращаться с оружием и сделали его сторожем своих стад. Он прогонял львов и ловил волков, он был прекрасным сторожем овец — он, который и сам недавно был как дикий зверь. Признаюсь, я скоро забыл о нем, о диком человеке степей. Все мое время было занято государственными делами и пирушками, которыми я надеялся утолить боль своего сердца.
Однажды Энкиду и Абисимти сидели в таверне, куда охотно захаживали пастухи. В таверну зашел путник, родом из Урука и попросил кувшин пива. Этот странник, увидав Абисимти, узнал ее и, кивнув ей, сказал:
— Хорошо, что ты больше не живешь в Уруке. Можешь считать себя счастливым человеком.
— Почему? Чем плоха жизнь в городе? — спросила она.
— Гильгамеш всех нас тиранит, — сказал странник. — Город стонет под его владычеством. Нет силы, чтобы удержать его, он истощает нас. Кроме того, он совершает святотатственные вещи: царь оскверняет Землю.
При этих словах Энкиду поднял глаза и спросил:
— Как это? Объясни нам, что ты имеешь в виду.
Странник ответил:
— В городе есть дом, который отведен людям, чтобы они справляли там свои браки. Царь не должен входить туда. Но он входит, даже тогда когда бьют брачные барабаны. Он хватает новобрачную и требует первым быть с нею, до того как ею овладеет муж. Он говорит, что это право ему дали боги в момент его рождения, когда была перерезана пуповина, что связывала его с матерью. Куда это годится? Разве так можно? Гремят брачные барабаны, а тут появляется Гильгамеш и требует себе невесту. И весь город стенает и плачет.
Энкиду побледнел, слыша такие речи, и его охватил гнев.
— Такого не должно быть! — закричал он. И обратившись к Абисимти, потребовал:
— Веди меня в Урук, покажи мне этого Гильгамеша!
Абисимти и Энкиду немедленно отправились в город. Их приход вызвал некоторое волнение — столь необычно выглядел Энкиду. Так широки были плечи Энкиду, так сильны его руки. Толпы ходили за ним, а когда они услышали от Абисимти, что это и есть тот самый дикий человек, который освобождал зверей из ловушек, то их удивлению не было предела. Они пялили на него глаза и перешептывались. Самые отважные дотрагивались до него, чтобы проверить, насколько он силен.
— Да он равен по силе Гильгамешу! — вскричал кто-то.
— Да нет, он не такой высокий! — сказал другой.
А третий добавил:
— Да, но он все равно сильнее, у него кость шире!
И все они закричали:
— Прибыл герой! Тот, кто был вскормлен молоком диких зверей! Вот достойный противник Гильгамешу! Наконец-то! Наконец-то!
Вот таким было появление Энкиду, человека, предсказанного мне в моих снах. Он был тем товарищем, которого послали мне боги, чтобы освободить меня от одиночества, чтобы он был мне братом, которого у меня никогда не было, товарищем, с которым мне предстояло делить все на свете. Для народа Урука он также был посланником богов, о котором они молили, хотя я и не знал об этом, потому что все они стенали под гнетом моего правления. Они боялись врагов, которых с каждым днем становилось у меня все больше и больше, и проклинали мое высокомерие. Они молили богов создать мне равного по силе и послать его в город — моего двойника, мое второе я, носящего в себе такое же мятежное сердце, какое билось у меня в груди, чтобы мы сразились между собой и оставили Урук в покое. И он пришел.
19
Был день заключения брака между благородным воином Лугал-аннемунду и девой Ишарой. Били брачные барабаны, было постелено супружеское ложе. Девушка показалась мне желанной, и с наступлением ночи я пошел в дом, где совершались браки, чтобы взять ее во дворец.
Когда я пересекал рыночную площадь, именуемую рынком Земли, которая расположена через улицу от того дома, приземистая фигура возникла из темноты и загородила мне дорогу. Человек почти моего роста. Я никогда еще не встречал такого. Его грудь была мощной и выпуклой, плечи — широкими, шире моих, и руки, непохожие на руки обычного смертного. В неверном свете факелов, которые несли мои слуги, я уставился в его лицо. Подбородок его был выставлен вперед, рот широк, лоб низок. В глазах у него была решимость. Борода его была густа, волосы жестки и непострижены. Он был спокоен и уверен в себе! Разве он не знал, что я царь Гильгамеш?
Я тихо сказал:
— Отойди!
— И не подумаю.
Я был поражен, услышав такие слова. Я насторожился, поскольку понимал, что это не обыкновенный горожанин. Мои оруженосцы стали беспокойно переминаться с ноги на ногу и схватились за оружие. Я остановил их жестом. Подойдя ближе к незнакомцу, я спросил:
— Ты знаешь, кто я?
— По-моему, ты царь.
— Так и есть. И неразумно загораживать мне дорогу.
— А ты знаешь, кто я? — спросил он. Голос его был груб.
— Нет, — ответил я.
— Я — Энкиду.
— А-а-а, дикарь! Я должен был догадаться по твоим манерам. Значит, теперь ты пришел в Урук, дикий человек? Ну, и что же ты от меня хочешь? Сейчас не время подавать прошение царю.
Он нагло спросил:
— Ты куда идешь, Гильгамеш?
— Я что, обязан перед тобой отчитываться?
— Скажи мне, куда ты идешь?
Оживились мои оруженосцы. Мне кажется, они с радостью закололи бы его, но я их вовремя остановил.
С некоторым раздражением я ответил, показав на дом за его спиной:
— Вон туда. На свадьбу. А ты меня задерживаешь.
— Тебе туда нельзя, — сказал он. — Ты хочешь забрать невесту себе? Этого нельзя делать.
— Нельзя?! Нельзя?! Что за слова ты говоришь царю, дикарь! — Я в недоумении пожал плечами и добавил: — Меня это забавляет. Говорю тебе — уйди с дороги!
Я шагнул вперед. Вместо того, чтобы отступить, он шагнул мне навстречу, чтобы не дать мне пройти, а затем схватил меня своими ручищами.
Смерти равносильно так поступить с царем. Однако у моих оруженосцев не было возможности сразить его, потому что, как только он меня схватил, я в страшном бешенстве обхватил его, собираясь швырнуть на ту сторону рыночной площади. Мы сплелись в драке, поэтому никто не мог сразить его, не поранив при этом меня. Оруженосцы отступили, давая нам возможность драться, и не зная, что делать.
С первых же минут я понял, что он равен мне по силе, или почти равен. Это было для меня чем-то новым. В детстве, в дни моей военной подготовки в Кише, в потасовках с молодыми героями после того, как я стал царем, я боролся просто ради удовольствия. Я всегда чувствовал после первого же объятия, что человек, с которым я боролся, был полностью в моей власти. Я мог швырнуть его оземь, когда хотел. Это доставляло удовольствие только в детстве. Когда я стал старше, зная, что победа за мной, что это осознание своей силы лишает борьбу подлинного испытания сил. Здесь все было по-другому. Я не был ни в чем уверен. Когда я попытался сдвинуть его с места, он не шелохнулся. Когда он попытался сдвинуть меня, у меня все силы ушли на то, чтобы устоять. Я чувствовал себя так, словно перешел невидимую границу, отделяющую меня от того мира, где Гильгамеш больше не был Гильгамешем. То, что я теперь испытывал, не было страхом, но что это? Неуверенность? Сомнение?
Мы боролись, пыхтя, фыркая, приседая и выпрямляясь, ни на секунду не выпуская друг друга из объятий. Никто из нас не уступал победы. Мы смотрели друг другу в глаза. Глаза у него были глубоко посажены, и от напряжения налились кровью и они горели поразительным огнем. Мы пыхтели, выли, ревели и рычали. Я выкрикивал оскорбления на всех языках, какие только мог вспомнить. А он рычал, как дикий зверь, как лев, царь равнин.
Я хотел убить его. Я молил, чтобы мне было дано переломить ему хребет, услышать звук ломающегося позвоночника, швырнуть его, словно изношенную тряпку, в кучу мусора. Такая ненависть наполнила меня, что у меня закружилась голова. Никто и никогда не оказывал мне такого сопротивления. Он был словно гора, которая вдруг встала в ночи на моем пути. Как я должен был себя чувствовать? Я царь, непобедимый герой. Но я чувствовал, что не могу его одолеть, и он меня тоже. Не могу сказать, сколько времени мы боролись. Наши силы были равны.
Но во мне все-таки обитает божество, а Энкиду — простой смертный. В конце концов моя победа была неизбежна. Я почувствовал, что моя сила не убывает, а его — начинает слабеть. В конце концов я плотно поставил одну ногу на землю и согнул колено, тем самым успев рвануть его вниз, так что ноги под ним подкосились, и он потерял равновесие.
В ту же секунду вся моя ненависть к нему улетучилась без остатка. Почему я должен его ненавидеть? Он был великолепен. Он почти равен со мной силой. И так же как река сносит плотину, так моя любовь к нему смела остатки гнева. Это была такая любовь, что она пронзила меня, как горячие лучи солнца весной, и совершенно покорила меня. Я вспомнил о своем сне — о той звезде, которая упала с небес и которую я никак не мог сдвинуть с места. Во сне я с величайшим усилием поднял ее и отнес к моей матери, сказавшей мне, что это мой брат, мой великий друг. Да, так оно и вышло. Я никогда не встречал человека, который был бы мне почти равен, так подходил бы мне, словно нас изготовил великий мастер, как две половинки одной вещи. Я прильнул к нему в этот момент душою, словно мы были едины в двух телах, столь долго разделенными, а теперь соединившимися. Вот что я чувствовал. Вот что пробежало между нами, пока мы боролись. Я подошел к Энкиду, поднял его с земли и обнял его с любовью. Мы оба зарыдали. Мы оба знали, что происходило в этот момент между нами.
— Ах, Гильгамеш! — воскликнул он. — Нет в мире подобного тебе! Слава матери, что породила тебя!
— Есть, есть еще такой, как я, — отвечал я. — Но только один.
— Нет. Ибо Энлиль дал царство тебе.
— Но ты мой брат, — сказал я.
— Но я же пришел сюда причинить тебе вред!
— Я так же отнесся к тебе. Когда я увидел, что ты заступил мне дорогу, я представил себе, как переломаю тебе все кости, как разломаю тебе спину, разбросаю тебя по кусочкам, как объедки.
Он засмеялся.
— Тебе этого не сделать, Гильгамеш!
— Не сделать, конечно. Но я хотел.
— А я хотел спустить тебя вниз с твоих высот. Я мог бы это сделать, будь удача на моей стороне.
— Да, — сказал я, — мог бы. Снова можешь попробовать, если хочешь. Я готов к этому и достойно встречу тебя.
Он покачал головой.
— Нет. Если я причиню тебе вред, я тебя потеряю и снова стану одинок. Лучше быть тебе другом, чем врагом. Вот то слово, которое мне хочется сказать тебе: ДРУГ. ДРУГ. Какое хорошее слово, правда?
— Конечно. ДРУГ. Мы слишком похожи, чтобы стать врагами.
— Да? — сказал Энкиду, нахмурясь. — А разве мы похожи? Как такое может быть? Ты — царь, а я всего лишь… я… — голос изменил ему. — Я всего лишь пастух и сторож, вот кто я.
— Нет. Ты друг царя. Ты брат царя.
Я никогда не думал, что когда-нибудь скажу такие слова кому-нибудь. Но я знал, что они истинны.
— Если так, — сказал он, — значит, мы больше не будем бороться?
Ухмыльнувшись, я ответил:
— Конечно будем. Но будем бороться как братья. Идет, Энкиду?
Я взял его за руку. Забыта была свадьба, забвению предана девица Ишара.
— Пойдем со мною, Энкиду. К Нинсун, мой матери, жрице Ана. Я хочу, чтобы она встретила своего второго сына. Пойдем же, Энкиду! Пойдем!
И мы пошли в храм Небесного отца и встали во тьме на колени перед Нинсун, и у нас обоих было странное и прекрасное чувство. Я полагал, что одиночество всегда будет со мною, и вот, пожалуйста, оно исчезло, словно тать в ночи, как только появился Энкиду.
Таково было начало этой великой дружбы, подобной которой я никогда не ведал ранее и не узнаю потом. Он был моей второй половиной, он заполнил великую пустоту во мне.
Кое-кто сразу же распустил грязные слухи, что мы были с ним любовниками, что мы любили друг друга как мужчина и женщина… Не верьте этому. Ни крупицы правды в этом нет. Я знаю, что есть такие мужчины, в ком боги смешали мужскую природу и женскую, так что у них нет нужды в женщинах, ни любви к ним, но я к ним не принадлежу и Энкиду тоже. Для меня союз мужчины и женщины — священная вещь, ее невозможно испытать одному мужчине с другим. Хотя они убеждают нас, что они достигают такого же блаженства с мужчинами, но, по-моему, они сами себя обманывают. Это не подлинное единение. Будь оно подлинным… Я-то пережил это настоящее единение в Священном Браке с жрицей Инанной, в которой живет богиня. Инанна тоже — моя вторая половина, хотя и таинственная и непонятная. У человека множество граней, как мне кажется, и он может любить мужчину совсем иначе, чем то, что он находит в союзе с женщиной.
Та особая любовь, которая может существовать между двумя мужчинами, существовала между Энкиду и мной. Она вспыхнула в нас, когда мы боролись друг с другом. Мы вообще о ней не говорили. Но мы знали, что она есть. Мы были одной душой, населяющей два тела. Нам почти не надо было вслух высказывать свои мысли, потому что мы угадывали мысли друг друга. Мы подходили друг другу. Во мне был бог. В нем была сама земля. Я снизошел с небес на землю. Он вырос из земли, поднявшись вверх к небу. Место нашей встречи было посередине, в мире смертных людей.
Я дал ему покои во дворце, великолепные белостенные покои вдоль юго-западной стены, которые мы до этого оставляли для правителей и царей других земель. Я дал ему одежды тончайшего белого полотна и шерсти, я дал ему девушек, чтобы они омывали его и натирали маслами, и послал ему своих цирюльников и лекарей, чтобы они стерли с него последние следы дикости. Я пробудил в нем вкус к приправленному жареному мясу, сладким крепким винам, густому пенящемуся пиву. Я подарил ему леопардовые и львиные шкуры, чтобы он мог украсить себя и свои покои. Я делил с ним всех моих наложниц, ни одной не оставляя только для себя, я приказал сделать ему щит, на котором были выгравированы сцены из военных походов Лугальбанды, и меч, который блистал, как око солнца, и богато украшенный красно-золотой шлем, и копья с замечательно уравновешенным древком. Я сам обучил его военному искусству управления повозкой и метанию дротиков.
Хотя в душе его всегда осталось что-то грубовато-земное, однако он очень скоро приобрел внешность и манеры придворного. Он был полон достоинства, ловкости, мужественной красоты. Я пытался даже научить его читать и писать, но он поставил на этом крест. Ну что же при дворе очень много неграмотных людей благородного рода, и весьма мало тех, кто этими навыками овладел.
Если при дворе к нему и ревновали, то я, должно быть, этого не замечал. Может быть, в кругу героев и воителей и были такие, кто с горечью отворачивался, говоря за нашими спинами: «Вот он, царский любимчик, дикий человек. Почему он был избран, а не я?» Если так и было, то люди эти хорошо скрывали свои обиды и горести. Мне, однако, хочется думать, что таких мыслей не было, ведь Энкиду не потеснил ни одного фаворита. У меня никогда особенно и не было любимчиков, даже среди закадычных товарищей, как Забарди-Бунугга и Бир-Хуртурре. Они сразу увидели, что общение мое с Энкиду было совсем другого рода, чем то, что связывало меня с ним. В мире не было никого, равного ему. И не было дружбы, равной нашей.
Я абсолютно доверяя ему. Всю свою душу я раскрывал ему. Я даже позволил ему увидеть, как я уединялся и бил в барабан, сделанный из дерева хулуппу, который таким чудесным образом приводил меня к общению с богами. Он сидел возле меня на корточках, когда я исчезал в ореоле голубого света. А когда я приходил в себя, то моя голова покоилась на его коленях. Он смотрел на меня, словно видел, как от меня исходит некая божественная сила. Он касался моего лба и делал священные знаки кончиками пальцев.
Однажды он сказал:
— Ты можешь показать мне, как попасть туда, где ты был?
Я ответил:
— Конечно, Энкиду.
Но он никогда не смог туда попасть, как ни пытался. Мне кажется, потому, что он никогда не был благословлен божеством. Он никогда не почувствовал, как в душе его трепещут крылья, не видел искрящейся ауры, которая является первейшим знаком, что тобой овладели боги. Я часто разрешал ему сидеть подле себя, пока я бил в барабан, а потом катался по полу, находясь в божественном экстазе.
Там, где надо было работать — строить каналы, укреплять стены, выполнять любую работу, что посылали мне боги — Энкиду был со мной рядом. На священных церемониях он стоял подле меня, подавая мне священные чаши или поднимая на алтарь жертвенных животных — быков и овец — так легко, словно это были птицы. Когда наступали времена охоты, мы охотились вместе, и здесь он превосходил меня, поскольку знал животных так, как может их знать только брат по крови. Он стоял, закинув голову назад, ловя ноздрями воздух, а потом указывал в ту или иную сторону и говорил:
— Там лев. — Или: — Там слон.
И он никогда не ошибался. Мы снова и снова выходили на охоту в болота или степи, и не было случая, чтобы мы не взяли зверя. Мы вмести убили трех огромных слонов-самцов в большой излучине реки, и потом принесли их бивни и шкуры в город и повесили их для обозрения на фасаде дворца. В другой раз он смастерил яму, покрытую сверху ветвями, и мы поймали в нее огромного слона, которого потом привели в Урук, где он простоял, ревя и фыркая, в особом загоне всю зиму, пока мы не пожертвовали его Энлилю. Мы охотились на львов — черногривых и безгривых. Мы охотились на них с наших повозок. Энкиду бросал дротик в точности как я — одинаково метко правой и левой рукой. Говорю вам, мы были единой душой в двух телах.
Конечно, во многом мы были разные. Он вел себя куда шумнее и хвастливее, особенно когда ему случалось перепить вина, шутки его не отличались вкусом. Мне приходилось видеть, как он смеется над такими остротами, от которых и ребенок бы с неудовольствием поморщился. Что поделать, он был человеком, выросшим среди диких зверей. У него было свое достоинство, врожденное благородство, но это было не то благородство, которое присуще человеку, выросшему во дворце, и чьим отцом к тому же был царь. Мне было хорошо, оттого что Энкиду шумел и хвастался подле меня, потому что я был слишком серьезен, и мне от этого было плохо. Он делал мои дни светлее, но не так, как придворный шут, чьи остроты тщательно продуманы, а легко и естественно, как бодрящий прохладный ветерок в палящий день.
Он резал правду с подкупающей искренностью. Когда я взял его в храм Энмеркара, думая, что он будет поражен его красотой и величием, он тут же сказал:
— Ой, какой маленький и уродливый!
Этого я не ожидал. Позже я стал воспринимать великий храм моего деда глазами Энкиду, и воистину, он показался мне маленьким и уродливым, да еще он очень нуждался в ремонте. Но вместо того чтобы его чинить, я снес его совсем и построил новый, роскошный, в пять раз больше, на Белом Помосте. Это тот самый храм, что и теперь стоит там, и по-моему, завоюет славу в грядущих тысячелетиях.
Не обошлось без неприятностей. Когда я сносил храм Энмеркара, я рассказал Инанне, что собираюсь сделать, и она посмотрела на меня так, словно я плюнул на алтарь, и ответила:
— Но ведь это величайший из храмов!
— Тот храм, что был на его месте ранее, тот, что построил Мескингашер, был тоже величайшим храмом в свое время. А теперь его никто не помнит. В самой природе царей заложено стремление заменять великое величайшим, прекрасные храмы прекраснейшими. Энмеркар хорошо строил, но я буду строить лучше.
Она испепеляла меня гневным взглядом:
— А где будет жить богиня, пока ты строишь новый храм?
— Богиня живет во всем Уруке сразу. Она будет жить в каждом доме, на каждой улице, в воздухе над нами — так же, как сейчас.
Инанна была в ярости. Она собрала совет старейшин, совет народа, чтобы объявить свое несогласие. Но никто не мог удержать меня от стремления построить новый храм. Царь должен прославлять богиню, посвящая ей все новые и новые храмы. Поэтому мы стерли с лица земли храм Энмеркара, до самого основания, хотя оставили нетронутыми те подземные лабиринты, в которых прячутся демоны: мне не хотелось с ними связываться. Я привез известняковые плиты из карьеров, чтобы они стали новым основанием храма, и заложил фундамент, какого еще свет не видывал: таковы были его размеры. Горожане Урука в удивлении ахали, когда приходили посмотреть, как продвигается дело, какова ширина и длина будущего строения.
Строя новый храм, я применил все секреты строительного искусства, которыми только владел. Я поднял выше Белый Помост, пока он не достиг полпути до небес, и поставил свой храм высоко, так, как стоят храмы в Кише. Я сделал стены гораздо толще, чем их делали раньше, и стены эти сплошь состояли из ниш и выступов, крепких, словно бедра богов. Чтобы украсить стены, я придумал нечто столь прекрасное и удивительное, что за одно это меня должны помнить, даже если все мои прочие достижения и завоевания будут забыты. В глиняную штукатурку, пока она еще не просохла на стенах, вгоняли длинные «гвозди» — конусы из хорошо обожженной глины. Их шляпки раскрашивали белым, красным, желтым и черным цветом. Они образовывали удивительные цветные орнаменты. Когда глаз скользит по стенам моего храма, он радуется многоцветию и сложности узора. Это все равно что смотреть на тканый ковер. Но ковер этот сделан не из цветной шерсти, а из раскрашенных «шляпок» гвоздей.
Энкиду полагал, что маленькое святилище Лугальбанды, которое Думузи построил много лет назад возле солдатских казарм в районе Льва, было недостойно моего отца. Мне пришлось с этим согласиться. Я снес это святилище, и построил на его месте великолепное и куда более подходящее памяти моего отца. Его нити и выступы сплошь покрыты мозаикой из ярко раскрашенных шляпок гвоздей. А в центре я оставил статую Лугальбанды черного цвета, ту самую, которую когда-то воздвиг Думузи, потому что это была благородно выполненная статуя и я не мог выбросить что-то, сделанное из такого редкого у нас материала, как черный мрамор. Но зато я окружил эту статую лампами, горящими на треножниках, позади которых стояли ярко начищенные медные зеркала, так что в святилище был яркий свет все время дня и ночи. Мы украсили стены росписями, изображавшими леопардов и быков, так как это были жертвы Энлилю, которого так любил Лугальбанда. На посвящении храма я окропил кровью львов и слонов плиты пола. Мог ли кто осмелиться сказать, что герой и воин Лугальбанда удовлетворится меньшим?!
Войны не было. Эламиты притихли, племя пустыни Марту грабило и разбойничало в других местах, падение величественной династии Акки, царя Киша, устранило постоянную опасность с севера. То, что царь Ура объявил себя царем Киша, меня не тревожило: Ур и Киш очень далеко друг от друга, и я не видел возможности объединить силу этих двух городов против нас. Поэтому я жил спокойной и мирной жизнью в Уруке. Мы богатели на торговле хлебом, вместо того чтобы искать добычи в войнах.
В те годы торговцы и посланники Урука отправлялись во все концы света по моему приказанию, чтобы увеличить славу города. С восточных гор они привозили кедровые бревна в пятьдесят и даже шестьдесят кубитов длиной, бревна уркаринну, длиной до двадцати пяти кубитов, которые мы использовали на строительстве новых храмов. Из города Урсу в горах Ибла они привозили дерево забалу, огромные бревна ашукху, древесину ясеней. С Уману, горы в земле Менуа, и с Базаллы, горы в земле Амуру, мои посланцы возвращались с огромными глыбами редкого черного мрамора, из которых ремесленники высекали статуи для храмов. Я ввозил медь с Кагалада, горы Кимаш, и собственными руками сделал из нее изголовье скипетра. С Губина, горы, где растут деревья хулуппу, я возил древесину, а из Магды — асфальт для строительства помостов храмов, с горы Баршиб я по воде сплавлял в лодках роскошный камень налуа. У меня были планы отправить экспедиции дальше — в Макан, в Мелухху и Дильмун.
Город процветал. С каждым днем возрастало его великолепие. Я взял себе жену, и она родила мне сына; по праву царя я взял себе еще одну жену. Мир царил вокруг. В ночь нового года я пошел в храм, который сам же и выстроил, и лег с пламенной Инанной в обряде Священного Брака: с каждым годом она льнула ко мне все более страстно, ее тело двигалось под моим все исступленнее, словно за одну ночь она получала удовлетворение своих желаний за целый год. Дни мои озарялись любовью Энкиду, вино текло рекой, каждый день к небесам поднимался дым с жертвенников для богов, и все было прекрасно. Я думал, что таким мое правление и останется во веки веков. Но боги не дают такой благодати. Чудом можно считать, что они вообще дают ее нам.
20
Как-то раз я пришел к Энкиду и встретил его в мрачном и тяжелом настроении; он хмурился, вздыхал, и был близок к рыданиям. Я спросил его, что его терзает, хотя был уверен, что знаю ответ. И он сказал:
— Ты подумаешь, что я глуп, если я тебе расскажу.
— Может быть, ну и что? Говори.
— Да глупости все это, Гильгамеш!
— По-моему, нет, — Я пристально посмотрел на него и сказал: — Позволь мне догадаться. Тебе стала надоедать наша жизнь в изнеженности и праздности. Тебе тяжело стало сидеть здесь и ничего не делать.
Лицо его покраснело и он в удивлении ответил:
— О великие боги, как ты догадался?
— Не надо быть мудрецом, чтобы увидеть это, Энкиду.
— Мне бы не хотелось, чтобы ты подумал, что я опять хочу вернуться к своей прежней жизни и нагишом бегать по степи.
— Нет, в этом я не сомневаюсь.
— Но я тебе одно скажу: я здесь становлюсь как кисель. Вся моя сила куда-то ушла от меня. Руки мои стали вялыми, а дыхание — трудным и коротким.
— А наши охотничьи походы? А игры, в которые мы играем на полях наших? Их недостаточно, Энкиду?
И тихим голосом, который едва был мне слышен, он ответил:
— Мне стыдно признаться в этом, но их недостаточно.
Я положил руку ему на плечо.
— Ну, так и мне их мало.
Он удивленно моргнул:
— Что такое ты говоришь?
— То, что чувствую такую же тоску, как и ты, Энкиду. Мое предназначение связывает и ограничивает меня. То спокойствие, за которое я так боролся ради города и его благополучия, теперь стало моим врагом. Душе моей так же муторно, как и твоей. И так же, как ты, я тоскую по мужественным деяниям, Энкиду, по приключениям, по опасностям, по свершениям, которые могли бы прославить мое имя перед человечеством. Мне здесь не по себе, словно меня гладят против шерсти. Я тоскую по великому путешествию.
Это была правда. В Уруке все было так спокойно, что быть в нем царем было все равно, что быть лавочником. Я не мог принять для себя эту участь, так как боги вложили в меня частичку божественной сущности, и моя божественная часть не спит, вечно ищет новизны. Вот такую шутку сыграли со мной боги — я тоскую по миру и покою и несчастен, добившись их. Но мне кажется, теперь я разгадал суть этого, о чем расскажу вам, когда придет время.
— И ты страдаешь, как я? — спросил он.
— Да.
Он рассмеялся.
— Мы с тобой как два мальчишки-переростка вечно в поисках новых развлечений. Что же нам делать, Гильгамеш? Куда идти?
Я пристально и долго смотрел на него. Потом медленно сказал:
— Есть такая земля, ее называют Землей Кедров. Я уже долгое время подумываю отправить туда людей. А может и самому пойти. Что ты на это скажешь, Энкиду?
Это была неправда. Мысль пришла мне в голову в этот самый миг.
Нахмурившись, Энкиду сказал:
— Да, знаю. Я слышал про эту землю.
— Как ты думаешь, если мы туда отправимся, излечит это путешествие наше беспокойство?
Он облизал пересохшие губы.
— Почему именно туда, Гильгамеш?
— Нам очень нужен кедр. Это замечательная древесина. А в наших землях он просто не растет.
Нет, я с ним не лукавил. Это была подлинная правда. Но кроме того, я выбрал Землю Кедров из-за крепкого, целительного воздуха, который, по моему мнению, должен был исцелить Энкиду от его уныния. Помимо этого, слишком уж часто поговаривали, что эламиты хотят объявить все земли вокруг кедровых своей собственностью. Этого я допустить не мог.
— Есть и другие места, где можно раздобыть кедр, — сказал Энкиду.
— Возможно. Но сейчас я собираюсь за ним в Землю Кедров. Говорят, места там восхитительные. Гористые, зеленые, прохладные.
— И очень опасные, — сказал Энкиду.
— Правда? — Я пожал плечами. — Что ж, тем лучше. Ты сказал, что совсем ослаб от нашей изнеженной жизни… что тоскуешь по опасности, по возможности показать себя…
Он ответил с таким смущенным видом, какого я прежде никогда не видел:
— Ты предлагаешь мне больше, чем я мог ожидать…
— Что такое ты мелешь? Это опасно, хочешь ты сказать?! И это я слышу из уст Энкиду? Никогда бы не подумал, что ты можешь быть трусом.
Глаза его грозно сверкнули, но он сдержался.
— Знаешь, братец, тонка грань между трусостью и здравым смыслом.
— А разве это здравый смысл — бояться пары стычек с эламитами?
— Да нет, не с эламитами, Гильгамеш.
— Тогда с кем?
— Разве ты не знаешь, что бог Энлиль поставил демона Хуваву в воротах Земли Кедров, чтобы стеречь священные деревья?
Я чуть было не рассмеялся в ответ. Действительно, я слышал россказни про демона этого леса. В каждом лесу есть свой демон или даже два, и про всех ходят страшные слухи. Но в общем-то демонов можно умилостивить или как-то еще отвратить от себя. И уж конечно, я не ожидал, что Энкиду хоть на крысиный хвост этим обеспокоиться. Я беззаботно ответил:
— Ну, ходят такие слухи. А может, демоны вовсе не такие свирепые, как рассказывают. А может быть, демона в этом лесу и вообще не существует.
— Хуваву я видел собственными глазами, — тихо и твердо сказал Энкиду.
Эти слова можно было сравнить с ударом — так они на меня подействовали. Его голос был так тих, а убеждение в голосе прозвучало так твердо, что настал мой черед удивиться.
— Что? — вырвалось у меня. Ты его видел?!
— Когда я скитался по пустыне с дикими животными, — сказал он, — я однажды забрел далеко на восток и зашел в лес, где растут кедры. Он простирается на десять тысяч лиг в каждую сторону. И Хувава в каждом кусочке этого леса. От него не спрячешься. Он встал передо мной и заревел, а я замер от страха. А ведь я не трус, Гильгамеш.
Он пристально посмотрел на меня.
— Как по-твоему, я трус? Но Хувава поднялся и заревел, а рев его — как рев тех бурь, что приносят великие потоки дождя. Я думал — умру от ужаса. Его пасть — огонь, его дыхание — смерть.
Я все еще не мог поверить своим ушам.
— Ты говоришь, что видел демона в лицо?! — снова спросил я.
— Я его видел. Нет в этом мире ничего страшнее. Хувава — чудище, которое невозможно выдумать. Зубы его — как драконьи клыки. У него львиная морда.
Энкиду весь дрожал, глаза его сверкали.
— Когда он кидается на тебя, это как напор бурной реки. Он пожирает деревья и тростник, словно траву.
Я снова тупо повторил:
— Ты видел демона!
— Видел, Гильгамеш, видел! Мне посчастливилось убраться подобру-поздорову. Во второй раз мне уже не убежать. Он нас убьет. Говорю тебе: если мы пойдем в Землю Кедров, ОН УБЬЕТ НАС! Он видит все, что происходит в этом лесу. Он слышит, как дикие коровы бродят в лесу, даже если они далеко-далеко него. От него не убежать. Борьба будет неравной.
Он покачала головой.
— Гильгамеш, я столь же изголодался по приключениям, как и ты, но изголодался ли ты по смерти?
— А ты как думаешь?
— Но ведь ты же собрался в Землю Кедров!
— Ради приключений, да. Ради того, чтоб сердце у меня в груди билось быстрее. Но по смерти я еще не соскучился. Именно любовь к жизни тянет меня в Землю Кедров, а не желание проститься с жизнью. Ты сам знаешь.
— Но забраться в логово Хувавы…
— Нет, Энкиду. Я видел, как плывут по реке трупы, и мне не хочется думать, что это наш удел. Ненавижу смерть. Она — мой враг.
— Тогда зачем туда идти?
— Потому что так надо.
— Да почему так надо?! Мы же можем пойти на север! На юг! Мы можем…
— Нет! — твердо сказал я.
Во мне теперь горел огонь. Мне больно было видеть, как Энкиду умирал от страха. Душа его разнежилась в Уруке, и он мог умереть, если я не вытащу его из такого состояния. Ради него самого мы должны были отправиться в это путешествие, как бы мы ни рисковали.
— Есть только одно место, куда мы можем идти, и это место — Земля Кедров!
— Где мы наверняка распростимся с жизнью.
— Я в этом не уверен. Но подумай-ка вот над чем, друг: только боги живут вечно, да и то им приходится время от времени попробовать смерть на язык. Что до нас, смертных, то наши дерзания — это так, пустой звук. И все же мы обязаны дерзать — вот что я думаю.
— И умереть. Никогда бы не подумал, что ты так мечтаешь о смерти, Гильгамеш. Неважно, что ты говоришь, важно, на что это похоже.
— Да нет же! Нет! Я хочу отбиваться от смерти, пока смогу! Но в страхе я жить не собираюсь! Разве может так быть, Энкиду, что ты боишься?!
Мои слова не вызвали в нем гнева. Он отвернулся нахмурившись.
— Я видел Хуваву, — мрачно сказал он.
Тут я разозлился. Это был не тот Энкиду, которого я знал.
— Ну и ладно! — вскричал я. — Бойся его на здоровье! Но я не буду! Оставайся в безопасности, где потеплее. Говорю тебе, пойдем со мной в Землю Кедров. Путешествие тебя освежит, а бодрящий воздух пробудит твою душу. Но когда мы окажемся в лесу, ты пойдешь, укрывшись за моей спиной. Ну и что, если он убьет меня? Если я паду от его когтей, то оставлю после себя, по крайней мере, громкое имя, которое будут повторять вовеки. Про меня будут говорить: «Гильгамеш, тот, кто погиб от свирепого Хувавы!» Это ведь не позор. Разве может быть позором смерть от лап демона такого страшного, что он вселяет страх даже в душу героя Энкиду?
Он встретился со мной глазами. Он усмехнулся и ноздри его раздулись.
— До чего же ты хитер, Гильгамеш!
— Я — хитер? Как это?
— Да ты только что сказал мне, что позволишь мне спрятаться за твоей спиной.
— Тебе там будет безопаснее, Энкиду.
— Ты так думаешь? Чтобы в Уруке потом говорили: «Вот Энкиду, он шел, спрятавшись за спиной своего брата, когда они шли по лесу демона!»
— Но если этот демон тебя так пугает…
— Ты знаешь, что я буду идти с тобой рядом, когда мы войдем в лес, Гильгамеш.
— Нет, этого я от тебя требовать не могу — ты же видел страшного Хуваву.
— Избавь меня от своих насмешек, — устало сказал Энкиду. — Я буду идти рядом с тобой. И ты это знаешь, Гильгамеш. Ты это знал с самого начала.
Мы рассмеялись, обнялись, как два медведя, и покончили со всякими лишними разговорами. Я пустил слух по городу, что скоро отправлюсь из Урука в Землю Кедров.
Не могу сказать вам, сколько раз во время приготовлений к нашему путешествию я просил Энкиду описать мне демона. И каждый раз он говорил одно и то же. О страшном реве, о пасти, похожей на огонь, о бурном потоке чудовищной силы. Я никак не мог заподозрить его во лжи: хитрость была не свойственна Энкиду, в нем не было и намека на умение лгать и изворачиваться. Было ясно, что демона он видел, и демон этот был не пустячным противником. Время от времени все мы видим демонов, поскольку они таятся повсюду, прячась за дверями, в воздухе, на крышах, под кустами. Я и сам часто видел демонов. Но никого, сравнимого с Хувавой я не встречал. Тем не менее, страха я не испытывал. Сам страх Энкиду только усилил мое желание непременно получить лес из владений Хувавы.
Я выбрал пятьдесят человек, чтобы они пошли с нами, среди них и Бур-Хуртурре. Забарди-Бунугга по моему приказу остался в городе командовать армией в мое отсутствие. Я велел отлить огромные топоры для рубки деревьев, каждый весом в три талана, чьи рукояти были сделаны из дуба и мореного дерева. А мои ремесленники сделали нам мечи, достойные героев. Каждый меч весом в два талана, золотые ножны, а рукояти мечей могла обхватить только рука крупного человека. Мы собрали наши самые острые топоры, охотничьи луки, копья. Накануне дня отправления я услышал в ушах звуки военной песни, которую давно не слышал, и снова почувствовал себя мальчишкой. Кровь заиграла в моих жилах.
Разумеется, старшины были против. Они собрали делегацию на пристани и величественно вошли в город через Ворота Семи засовов, с пением молитв, с постными рожами. Вокруг них на Рынке Земли собрались люди и стали причитать и плакать. Я понял, что без неприятностей не обойтись. Поэтому я пошел на рыночную площадь и предстал перед старшинами. Нетрудно было угадать, что они скажут: «Ты еще молод, Гильгамеш, и твоя храбрость больше, чем твоя мудрость. Твое сердце ведет тебя на очень рискованное предприятие. Стоит тебе пойти по дороге, которой ты еще не ходил, и ты потеряешься. Ты силен и могуч, но тебе вовеки не одолеть Хуваву. Он — настоящее чудовище. Его рев подобен горному потоку, его пасть — огонь, его дыхание — смерть». И так далее все в том же духе. Именно это они и говорили. Я их выслушал. Потом я с улыбкой ответил, что буду просить защиты у богов и уверен, что боги защитят меня, как они всегда делали это раньше. «Этой дорогой я раньше не ходил, верно… — сказал я, — но я иду без страха. Я иду с радостным сердцем».
Когда они увидели, что я не переменю своего решения, тогда они запели на иной лад. Теперь они заклинали меня, чтобы я не был так уверен в своей силе. Пусть Энкиду идет первым, говорили они. Пусть показывает дорогу, пусть собой прикрывает царя. Этот совет я выслушал спокойно, не ввязываясь с ними в споры. Они наставляли меня вверить свою душу солнечному богу Угу, он ведь бог, который охраняет всех, кто находится в опасности, и я поклялся в тот же день пойти в храм Уту и принести ему в жертву двух козлят: белого и черного. Я буду молить Уту помочь моим начинаниям, и пообещаю ему великие дары и славу, если он даст мне благополучное возвращение. А на своем пути в Землю Кедров я выполню все обряды, чтобы предохранить себя от бед. Все эти вещи я обещал искренне. Я на самом деле пребывал в неведении относительно опасностей.
Когда старшины прекратили меня терзать, настала очередь жрицы Инанны, которая призвала меня в тот самый храм, что я построил, и сердито мне заявила:
— Что за безумие, Гильгамеш? Ты куда собрался?
— Ты мне не мать, чтобы так со мной разговаривать.
— Ты царь Урука, и если ты погибнешь в этом путешествии, кто будет царем после тебя?
Пожав плечами, я ответил:
— Это решать богине, а не мне. Не бойся, Инанна. В этом путешествии я не погибну.
— А если?…
— Я не умру, — повторил я.
— Неужели так важно предпринять это путешествие?
— Кедр нам очень нужен.
— Так пошли свои войска, и пусть они сражаются с демоном.
— И все бы рассказывали, что я испугался Хувавы и посылаю войска вместо себя. Я же буду уютно сидеть дома до конца своих дней. Нет уж, Инанна, я отправлюсь, это решено.
Она в бешенстве посмотрела на меня. Я почувствовал, как всегда, силу ее красоты. И еще я почувствовал всю силу ее любви ко мне, которая бушевала в ней, как небесный огонь, с тех самых пор, когда мы еще были детьми. Еще я почувствовал тот гнев, который она питала ко мне за то, что мы не могли любить друг друга так, как все смертные мужчины и женщины.
Я подумал о той единственной ночи в году, когда она и я были на ложе богини, когда она лежала нагая в моих объятиях; грудь ее вздымалась, бедра раскрывались, пальцы раздирали мне кожу на плечах; и я подумал, а доживу ли я до того, чтобы снова обнять ее? На свой лад я тоже любил ее, хотя моя любовь всегда была смешана с каким-то недоверием и немалым страхом перед ней. Мы помолчали. Потом она сказала:
— Я принесу жертвы богам и буду молить о твоей безопасности. Сходи к своей матери и попроси, чтобы она сделала то же самое.
— Я так и собирался, — ответил я.
Это было правдой. Энкиду и я прошли через весь город к мудрой и великой Нинсун, и я встал перед ней на колени и сказал ей, что отправляюсь по неведомому пути, и мне предстоит выдержать страшную битву. Она вздохнула и спросила, почему боги, дав ей в сыновья Гильгамеша, наделили его столь беспокойным сердцем. Но она меня не отговаривала. Вместо этого она встала, облачилась в свое багряное жреческое одеяние, надела золотую нагрудную пластину и ожерелья из граната, лапис-лазури и халцедона, — на голову тиару и пошла к алтарю Уту на крыше своего дома. Она зажгла ароматические курения и разговаривала с богом долгое время. Потом она вернулась к нам и обратилась к Энкиду:
— Ты не дитя мое плоть от плоти, силач Энкиду, но я принимаю тебя своим сыном. Перед всеми моими жрецами и прислужниками, я принимаю тебя своим сыном. — Она повесила амулет на шею Энкиду, обняла его и сказала: — Я вверяю его тебе. Береги его. Защищай его. Верни его назад. Ведь он царь, Энкиду. И он мой сын.
Закончились моления. Я повел своих людей из города Урука на север, в Землю Кедров.
21
Мы быстро поднимались из теплых низин, оставляя за собой рощи финиковых пальм и золотую грудь пустыни, поднимаясь все выше в прохладную зеленую землю востока. Мы шли быстрым маршем от зари до заката, пересекли семь гор, не останавливаясь, пока наконец перед нами не встали кедровые леса, неисчислимые легионы деревьев, поднимавшихся по склонам земли перед нами. Нам было очень непривычно видеть столько деревьев сразу, ведь в наших землях их почти нет. Из-за деревьев покрытые ими холмы казались почти черными. Деревья стояли, как вражеская армия, что невозмутимо ждет нападения.
Обрывы и скалистые ущелья этой страны скрывали еще одну особенность: свергнутые боги и демоны, изрыгали огонь прямо из камня то здесь, то там. И еще там были жирные, черные, маслянистые струи, которые подкатывались к нашим ногам, как сонные змеи преисподнего мира, ибо мы вступали в земли, известные как Земли Бунтовщиков, куда ссылались боги, посмевшие восстать против Энлиля. Именно сюда победившие воители Энлиль, и Нинурта, и Энгирсу сбросили своих посрамленных врагов много-много лет назад. Тут они до сих пор находились, угрожая и рыча, трясли землю, испускали огромные столпы огня и дыма и выпускали маслянистых змей из-под земли. С каждым своим шагом мы углублялись в эту темную страну, чувствуя, как злобные и мстительные божества фыркают и сопят у нас под ногами.
Мы не позволяли себе бояться. Мы останавливались, когда надо; возносили молитвы Уту, Ану, Энлилю, Инанне. Когда мы разбивали лагерь, то выкапывали колодцы и давали священным водам подняться к поверхности земли, как подношение богам. Я вызывал Лугальбанду и советовался с его душой, потому что он бывал в этих краях и мучительно страдал от вредных испарений. Его советы были великим утешением.
Энкиду хорошо знал эти места. Он безошибочно вел нас по нескончаемой местности, где не было ни следов, ни примет. Он обходил места, которые были обожжены злобным дыханием вредоносного демона. Он заставлял нас обходить места, где земля соскальзывала и разламывалась. Мы обходили жирные маслянистые озера, которые лежали на поверхности земной груди. Все ближе и ближе продвигались мы внутрь, во владения демона Хувавы.
И вот наконец мы среди первых кедров леса. Если бы мы пришли за древесиной, то могли бы тут же срубить двадцать или тридцать деревьев и вернуться с ними в Урук, празднуя победу. Но мы пришли не только за этим.
Энкиду сказал:
— Тут большие ворота, которые отделяют священные рощи. Мы уже почти подошли к ним.
— А Хувава? — спросил я.
— По ту сторону ворот, совсем недалеко.
Я пристально посмотрел на него. Голос у него был сильный и ровный, но я не был в нем до конца уверен. У меня не было никакого желания оскорблять его гордость. Но через минуту я спросил:
— Пока все в хорошо, Энкиду?
Он улыбнулся и сказал:
— Я что, побледнел? Ты что, видишь, как я дрожу от страха, Гильгамеш?
— В Уруке я слышал, как ты с большим уважением и почтением отзывался о Хуваве, ты говорил, что от него не убежать. Ты говорил, что он страшилище, которого не выдумаешь. Ты говорил, что когда он рычал, ты думал, что умрешь от страха. Ты говорил такие слова.
Энкиду пожал плечами.
— Может, в Уруке я и говорил такие слова. В городах люди меняются. А здесь я чувствую, как возвращается ко мне моя сила. Бояться нечего, мой друг. Следуй за мной. Я знаю, где обитает Хувава и какими дорогами он ходит.
Он положил мне руки на плечи, и крепко обнял.
На следующий день мы оказались перед стеной леса и воротами в этой стене.
Я много думал об этой стене с тех пор, как Энкиду рассказал мне о ней. Страна Кедров лежит на границе между землей и краем эламитов, и спор о том, кому она принадлежит, восходит ко времени Мескингашера, первого царя Урука. Так как это земля, которую нельзя возделывать, нам никогда не приходило в голову утверждать свое владычество над ней, но когда нам требовалась кедровая древесина, мы беспрепятственно входили в нее и брали все, что нам было нужно. А если вдруг кто-то возвел в лесу стену? Одно дело, если Энлиль решил поставить какого-то страшного огнедышащего демона сторожить деревья. Я не могу судить Энлиля. Но я не позволю какому-то грязнобородому эламитскому горному царишке перегораживать стенами лес только потому, что ему вздумалось оставить кедровую древесину только для своих грязных оборванцев из горного племени.
Стоило мне увидеть эту стену, как я понял, что ни эламиты, ни Хувава, ни кто-либо еще тут ни при чем. По этой стене ясно было видно, что строили ее люди, и не очень умелые вдобавок. Кедровые стволы, слегка обработанные, с сучьями, неокоренные и небрежно связанные травой, были навалены как попало в выкопанную траншею, которая простиралась в обе стороны насколько хватало глаз. Розовая сердцевина деревьев была шершаво и жалко выставлена дождям и ветрам, словно дерево не распиливали, а разламывали. Во мне поднялся гнев при виде этой неуклюжей стены. Я оглянулся на своих воинов и спросил:
— Ну что, сметем эту дрянь и войдем в лес?
— Ты бы сперва посмотрел на ворота, — посоветовал Энкиду.
Ворота находились южнее. Еще не дойдя до них, я ахнул от изумления. Они возвышались высоко над стеной и являли собой совершенство во всех отношениях, хотя это были скорее не ворота, а сторожевая башня. Эти ворота не посрамили бы и Урук. Они тоже были из кедра, срезанного и обработанного рукой мастера. Все рамки и узлы были подогнаны с огромным мастерством, петли и фрамуга ворот были выточены абсолютно гладко, и огромный засов был совершенен.
— Врата богов! — вскричал Бир-Хуртурре. — Ворота, построенные самим Энлилем!
— Ясно, что никакой эламит таких ворот не мог бы поставить, это уж точно, — сказал я, подойдя поближе, чтобы рассмотреть их повнимательней.
Да, они были совершенны. Они не только были отлично построены, но и великолепно украшены. На тонко отполированном дереве были вырезаны чудовища и змеи, боги и богини, — в эламитском стиле, стиле, который я видел на щитах воинов, убитых мной в той войне, что я вел под предводительством Акки. Высоко на воротах были букрании, очень похожие на те, что эламиты вырезают и ставят на фасадах своих храмов. А по сторонам ворот на стене были надписи — варварские эламитские письмена, которые грубо подражают нашему письму: рисунки зверей, кувшинов, звезд, гор и много всякого другого, казалось сваленного в кучу, поэтому смысл не был мне понятен. Резьба была прекрасно выполнена, но писать таким образом, рисуя картинки, мне кажется глупейшим способом.
Потом я увидел нечто, что вызвало мой гнев. Совсем внизу на левой стороне ворот, шла надпись угловатыми иероглифами наших земель, четкая и безошибочная. Она гласила:
«Уту-рагаба, великий мастер Ниппура, построил эти ворота для царя Зинубы, владыки Хатамти».
— Ах ты предатель! — воскликнул я. — Чем сослужить такую великолепную службу подлому эламитскому владыке, оставался бы лучше в Ниппуре! — И я замахнулся топором на фасад ворот.
Но Энкиду перехватил мою руку и остановил меня. Я, нахмурясь, посмотрел на него.
— Что такое?
— Эти ворота так прекрасны, Гильгамеш, — сказал он, и глаза его сияли.
— Да, конечно. Но ты видишь эту надпись? Человек моего народа создал эти ворота для наших врагов.
— Ну и пусть, — равнодушно сказал Энкиду. — Красота есть красота, и ее нельзя осквернять. Красота дается от богов, правда? По-моему, нельзя разбивать эти ворота. Отойди в сторону, брат, и дай мне лучше их открыть. Что нам за дело, кто их строил, если работа столь великолепна? Воистину боги водили его рукой. Разве ты этого не видишь?
Меня очень удивило подобное рассуждение. Но в его словах я услышал мудрость. Я устыдился, присмирел и подчинился ему. Теперь я об этом жалею. Энкиду отважно выступил вперед и обухом своего топора старался открыть засов, налегая на него всем телом. Он стонал от напряжения, напирая на ворота изо всех сил. Ворота отворились, но в тот же миг он сдавленно вскрикнул, уронил топор и схватился за правую руку. Она висела плетью. Он упал на колени, стеная, отчаянно растирая плечо. Я встал на колени с ним рядом.
— Что с тобой, друг? Что случилось?
Он заплетающимся языком ответил:
— Должно быть, в этих воротах сидел демон. Смотри, я повредил руку. Вся сила ушла из моей руки! Ее словно разорвало изнутри, Гильгамеш. Она погибла, она больше не может мне служить! Смотри сам!
Его рука была страшно холодной на ощупь, болталась, как мертвая, и покрылась странными пятнами, начиная распухать. Он дрожал, словно в лихорадке. Я слышал, как стучат его зубы.
— Вина! — приказал я. — Вина Энкиду!
Вино согрело его, и дрожь прекратилась, но рука у него так и висела, хотя мы ее отогревали и растирали часами. Возможность владеть этой рукой вернулась к нему только через много дней, и никогда уже не служила ему так, как раньше. Очень горько, что такой воин, как Энкиду, лишился части своей силы. Гораздо хуже было то, что с пострадавшей рукой к нему вернулся страх перед демоном Хувава. Он был убежден, что демон наложил заклятье на ворота. Теперь он упрямился, не желая пройти в ворота, которые сам же для нас и отворил.
Меня глубоко огорчило, что он снова чувствует страх, и наши воины увидят это. Но он не мог ступить за ворота, а я не мог оставить его одного в таком состоянии. Поэтому мы разбили лагерь перед воротами и оставались в нем, пока он не перестал кататься по земле от душевной муки и не почувствовал, что силы возвращаются к нему. Но и тогда он с неохотой пошел вперед. Он был в мрачном настроении, целиком уйдя в размышления. Страх сидел в нем, словно ночная птица. Я подошел к нему и сказал:
— Пойдем, дорогой друг, давно пора двигаться.
Он покачал головой:
— Иди без меня, Гильгамеш.
Я резко ответил ему:
— Мне больно слышать, когда ты говоришь, как слабак. Неужели мы ушли так далеко, только для того чтобы здесь повернуть обратно? Возле этих ворот?
Он ответил столь же резко:
— Когда это я просил тебя повернуть обратно?
— Нет, ты о таком не заговаривал.
— Тогда иди дальше без меня!
— А этого я не сделаю. И с пустыми руками обратно в Урук не пойду.
— Ты не оставляешь мне выбора. Значит, я должен идти с тобой? Значит, я должен обязательно идти следом за тобой и подчиняться любым твоим капризам?
— Я тебя не заставляю, — сказал, — но мы же братья, Энкиду! Мы должны вместе встречать все опасности, рука об руку.
Он бросил на меня горький и грустный взгляд.
— Вот как? Мы должны? А если я не хочу?
Я уставился на него.
— Это на тебя не похоже.
— Нет, — сказал он с горьким вздохом. — Это на меня не похоже. Но что я могу сделать? Когда я повредил руку, Гильгамеш, великий ужас вселился в меня. Я боюсь. Ты можешь понять? Я БОЮСЬ! В его глазах было такое выражение, какого я никогда не видел: ужас, стыд, презрение к себе самому, гнев, — еще сто самых разных чувств горели в его глазах. Лицо его блестело от пота. Он оглянулся, словно боясь, что нас услышат, и тихим, измученным голосом сказал:
— Что нам делать?
— Есть один способ. Так: становись со мной рядом и возьмись за мою одежду. Моя сила перельется в тебя. Твоя слабость пройдет. Войдем в лес вместе. Ты это сделаешь?
Он колебался. Потом сказал:
— Ты думаешь, я трус, Гильгамеш?
— Нет. Ты не трус, Энкиду.
— Ты назвал меня слабаком.
— Я сказал только, что мне больно слышать, как ты говоришь, точно слабак. Именно потому мне и больно, что ты на самом деле не слабак. Ты это понимаешь, брат?
— Понимаю.
— Тогда пойдем. Дай мне излечить тебя.
— Ты можешь?
— Мне думается, могу.
— Тогда начинай.
Он подошел ко мне и встал рядом. Он протянул руку к моей одежде и взялся за ее край. А потом я. обнял его так крепко, что мои руки задрожали от напряжения. Через минуту он обнял меня с такой же силой. Мы не говорили ни слова, но я чувствовал, как страх покидает его. Я чувствовал, как возвращается его храбрость. Мне казалось, он становится прежним Энкиду, и я знал, что он пойдет за мной в этот лес.
— Иди, — сказал я, — подготовься. Хувава ждет нас. Жар битвы согреет тебя, распалит твою кровь, укрепит твою решимость. По-моему, нет демона, который мог бы сокрушить нас, если мы будем стоять рука об руку. Но если мы и падем в битве, то имена наши будут помнить во веки веков.
Он слушал, но ничего не отвечал. Потом он кивнул мне, дотронулся своей рукой до моей, затоптал наш костер и пошел смазывать маслом свое оружие. Утром мы прошли через ворота в кедровый лес решительно, с подобающей смелостью.
Это было место, внушающее немалое почтение. Оно было почти как храм. Я чувствовал присутствие богов повсюду, хотя я не понимал, что это были за боги. Кедры эти были самые высокие деревья, виденные мной, они, точно копья, пронзали небо. Между ними были небольшие открытые и чистые пространства. Но их кроны были столь густы, что солнечный свет едва проникал сквозь них. Это был зеленый и сумрачный мир, прохладный и полный восторга. Перед нами лежала гора, без сомнений, обиталище богов, достойный трон для любого из них. Но точно так же лежало вокруг нас присутствие Хувавы, мы чувствовали его, видели его следы, ибо там были такие места, где подземный огонь прорывался наружу, и это были знаки демона.
Но нигде не было видно его непосредственного присутствия. Мы углублялись в лес, пока нас не остановила темнота. Как только солнце, стало заходить, я выкопал колодец и принес воды в жертву богам, разбросав три пригоршни перед лицом горы. Я попросил богов, обитавших на этой горе, послать мне благоприятный сон. Потом я улегся подле Энкиду и вверился сну.
В середине ночи я внезапно проснулся и сел, совершенно проснувшийся и бодрый. В неверном свете нашего костра я увидел поблескивающие глаза Энкиду.
— Что тебя тревожит, брат?
— Это ты меня разбудил?
— Нет, это не я, — сказал он. — Должно быть, тебе что-то снилось.
— Снилось. Да, конечно, снилось!
— Расскажи мне.
Я заглянул в свою душу и увидел тяжелый туман, лежащий на моей душе, словно толстая белая шерсть. Но за этим туманом я уловил свой сон, по меньшей мере, какую-то его часть. Мы переходили глубокий обрыв у кедровой горы, Энкиду и я, так снилось мне, и по сравнению с горой мы казались не больше черных мошек, которые жужжат в болотном тростнике, а потом гора качнулась, как корабль, подброшенный волнами, и стала падать. И это все, что я мог вспомнить. Я рассказал свой сон Энкиду, надеясь, что он поможет разгадать его. Но он пожал плечами и сказал, что видение не окончилось и просил меня к нему вернуться. Я сомневался, что смогу уснуть в эту ночь, но оказался неправ: как только я лег, так сразу заснул и мне снова стал сниться сон. И это был тот же самый сон: на меня падала гора. Падающая скала вышибла у меня почву из-под ног, а страшный свет нестерпимо жег глаза. Но вдруг появился человек — или бог — такой красоты, которые не встречаются в этом мире. Он вытащил меня из-под камней и дал мне напиться воды, сердце мое успокоилось и возрадовалось. Он поднял меня и поставил на землю.
Я разбудил Энкиду и рассказал ему о моем втором сне. Он сразу сказал:
— Это благородный сон, это великолепный сон. Та гора, что ты видел, это, мой друг, Хувава. Даже если он нападет на нас, мы победим его, слышишь? Боги защитят тебя, завтра мы одолеем его. Мы его убьем. Мы бросим его тело на равнину.
— Ты очень уверенно об этом говоришь.
— А я и уверен, — сказал он. — А теперь ложись снова спать, брат. Спи.
И снова мы легли спать. На сей раз кедровая гора послала сон Энкиду, но не радостный: на него во сне лились холодные дожди, и он дрожал, словно горный ячмень в ветреный день. Я слышал, как он вскрикнул во сне, проснулся и потом пересказал мне свой сон. Мы не искали его значения. Иногда лучше не испытывать судьбу, слишком глубоко проникая в смысл сна. Снова я задремал, касаясь коленями подбородка. И снова мне приснился сон, и я проснулся от него, весь дрожа, в изумлении и ужасе.
— Еще сон? — спросил Энкиду.
— Ты посмотри, как я дрожу! — прошептал я. — Что разбудило меня? Неужели мимо прошел какой-то бог? Почему все мое тело онемело?
— Скажи мне, ты видел еще один сон?
— Да, я видел сон, и он был куда ужаснее прочих.
— Расскажи мне его.
— Что мы такое съели на ночь, что нам снятся такие сны?
— Пока ты мне его не расскажешь, он будет тяготить твою душу.
— Да, конечно, — сказал я. Все равно я не мог пока говорить, хотя чудовищные образы все еще вспыхивали у меня в мозгу. Он был прав: сны надо рассказывать, их надо вытаскивать на дневной свет, а то они будут грызть твою душу, как черви. Я глубоко вздохнул и стал говорит — нехотя, запинаясь:
— Мне приснился спокойный день, воздух был тих. А потом вдруг небеса загудели, земля ответила раскатистым ревом. День затмился, наступила тьма. Молнии сверкали, на горизонте горели огни. Сгустились тучи, из них дождем хлынула смерть. Потом и огни перестали гореть. Они погасли, а все вокруг нас обратилось в пепел и прах.
Энкиду вздрогнул.
— Мне кажется, нам больше не следует спать сегодня, — сказал он.
— Как? Почему я не могу спать?
— Вставай, брат, пошли, будем гулять. Забудь про сон.
— Забыть?! Я не могу забыть его.
— Это всего лишь сон, Гильгамеш.
Я поглядел на него, совсем сбитый с толку. Потом улыбнулся.
— Когда знаки во сне благоприятны, ты говоришь, что сон прекрасный и вещий. Когда знаки говорят обратное, ты отвечаешь мне, что это всего лишь сон. Разве ты не понимаешь…
— Я понимаю, что близится утро, — перебил он. — Пойдем, пройдемся с тобой по лесу. На заре нам предстоит тяжелая работа.
Да, подумал я, возможно он прав. Может быть, этот сон не заслуживает пристального внимания. Утро принесет нам великие испытания. Нам понадобится вся наша храбрость.
С первыми лучами зари я разбудил своих людей. Мы облачились в доспехи, надели мечи, вооружились топорами, и отправились по склону в долину, которая лежала под горой, заросшей кедром. Именно там, рассказывал Энкиду, он встретил демона, когда был здесь первый раз. Демон неожиданно поднялся из недр, сказал он. Энкиду тогда посчастливилось: он убежал.
— Сегодня, — сказал я, — это Хуваве посчастливится, если он сможет убежать. А когда мы с ним покончим, мы разберемся с эламитами, которые окружают стеной леса. Так, брат?
Я засмеялся. Хорошо было снова идти в битву. Неважно, что наш враг — демон. Неважно, что в последнюю ночь сны мои и Энкиду были полны зловещих предсказаний. Есть радость в военном походе. Есть в нем и поэзия, и музыка. Это то, что нам суждено свершить в этом мире, если ты стал воином. Вам этого не понять, тем, кто сидит в городах и жиреет. Подлинное военное искусство — это не бессмысленное разрушение. Это восстановление справедливости там, где она должна быть восстановлена, и это святое дело.
Когда мы шли вперед, я чувствовал дрожание земли, отдаленное, но неумолимое. Казалось, кто-то из богов там внизу шагает взад-вперед. Это заставило меня остановиться. Я буду сражаться с демонами, но что толку бороться против богов? Я вознес моления Лугальбанде, прося его сделать так, чтобы эти далекие подземные толчки не оказались предвестником гнева Энлиля. Пусть это всего-навсего окажется пробуждением Хувавы, а не божеством, молил я.
За спиной я слышал, как беспокойно перешептывались мои люди.
— На что похож демон? — спросил один, а другой ответил:
— Драконьи клыки и львиная морда.
Третий сказал:
— Он ревет, словно буря.
А четвертый заметил:
— У него когтистые лапы и глаза смерти.
Я оглянулся на них, вслух рассмеялся и воскликнул:
— Продолжайте в том же духе! Запугивайте себя как следует! Сделайте его по-настоящему страшным! Три головы и десять лап! — Потом я сложил ладони, приставил ко рту и крикнул в завешенный туманом лес: — Хувава! Приди, Хувава! Приди!
Земля снова задрожала и гораздо сильнее.
Я бросился вперед. Энкиду бежал рядом со мной, а другие держались сразу за нами. Перед нами стоял высокий кедр, словно мачта, выше всех остальных. И я придумал, как надо вызвать Хуваву. Поэтому я сорвал с пояса топор и стал рубить по кедру изо всех сил. Энкиду работал по другую сторону дерева, вырубая канавку в стволе, поменьше размером, чтобы направить его падение. Я почувствовал, как в воздухе разливается необыкновенный жар, и это было очень странно, потому что стояло раннее утро — самая прохладная пора дня. В третий раз у меня под ногами задрожала земля. Что-то просыпалось под нами, в этом нельзя было сомневаться, что-то огромное и свирепое, жаркое и бешеное. Я видел, как вдали колышутся верхушки деревьев. Я слышал треск качающихся и ломающихся сучьев. Удар за ударом мы рубили огромный кедр, он должен был вот-вот упасть.
К своему ужасу я ощутил гудение в голове, которое всегда говорило мне, что внутри меня просыпается присутствие божества. Приступ надвигался на меня неотвратимо, словно я сам вызвал его постоянными ударами топора. Только не теперь, молил я отчаянно. Не сейчас! Но легче было бы удержать восемь ветров. Вены у меня на шее вздулись, сердце бешено забилось. Глаза у меня заболели, словно хотели выскочить прочь из орбит. Ладони стало покалывать, каждый удар топора по дереву посылал огненные волны сквозь мое тело.
— Руби, брат, руби! — кричал Энкиду с другой стороны кедра. Он не понимал, что со мной творилось. — Мы почти у цели! Еще четыре удара… три…
Я одновременно почувствовал блаженство и ужас. Воздух вокруг стал голубым, он искрил. Река черной воды поднималась из земли. Золотое сияние окружало все, что я видел. Бог овладевал моей душой.
Земля дрожала и ходила ходуном. Я трижды воззвал к Лугальбанде.
Потом я услышал голос Энкиду, взревевший над всем хаосом:
— Хувава! Хувава! Хувава!
Демон появился, но я его тогда не увидел. Меня поглотила тьма. Бог овладел мною безраздельно.
22
Когда я наконец пришел в себя после приступа божественного восторга, я понял, что лежу на земле, а голова моя покоится на коленях Энкиду. Он растирал мои лоб и плечи, это очень успокаивало и было приятно. Все у меня болело, особенно лицо и шея. Огромный кедр был повален, и большинство деревьев вокруг было повалено или сломлено, как будто половина леса была выдрана с корнем каким-то землетрясением. Темные трещины разорвали землю в нескольких местах. Прямо перед нами из темной расщелины вырывалась прямо к небу стена дыма, черная, с огненными проблесками, ревя и завывая, словно Небесный Бык в последний день существования мира.
— Что это такое? — спросил я Энкиду, показывая на дым.
— Это Хувава, — ответил он.
— Это? Значит, Хувава просто-напросто дым и пламя?
— Это обличье, которое он принял сегодня.
— А когда ты был здесь в прошлый раз, он был другим?
— Он же демон, — сказал Энкиду, пожав плечами. — Демон принимает такое обличье, какое ему заблагорассудится. Он боится напасть, он чувствует в тебе присутствие божества. Он подкарауливает нас, сейчас изливая свою силу таким образом. Удачный момент, чтобы его убить.
— Помоги мне встать.
Он поднял меня, как ребенка, и поставил на ноги. У меня кружилась голова, я зашатался, и он поддержал меня. Потом головокружение прошло. Я прочно встал на ноги. Земля подо мной вибрировала от мощи того потока, какой выпускал Хувава из своего подземного логова, но все-таки земля продолжала быть твердой и крепкой. Что бы ни бушевало там, внизу — сам рогатый бог Энлиль или его приспешник Хувава, — ничто не поколебало основания, на котором покоился мир.
Я шагнул вперед и посмотрел на Хуваву. Подойти к нему было трудно. Воздух от дыма был тяжелым и маслянистым, ложился в мои легкие, как что-то скользкое и отвратительное. Голова у меня раскалывалась от боли, не только из-за последствий божественного присутствия, но и от такого воздуха. И тут мне вспомнилось, как Лугальбанда, путешествуя в этих местах, встретил такого же «дымного» демона, очень похожего на нашего, и в результате этой встречи был брошен своими спутниками, посчитавшими его мертвым.
— Нам надо соблюдать осторожность, — сказал я остальным, — чтобы дыхание демона не попало нам в легкие.
Мы оторвали края одежды и обернули их вокруг лиц, стараясь дышать через ткань, пока мы стояли поблизости и вглядывались в колонну черного дыма.
Расщелина, открывшаяся в земле, чтобы выпустить Хуваву, не была особенно велика, однако из нее с огромной силой вырывался демон. Я смотрел вверх, пытаясь увидеть лицо и глаза, однако не видел ничего, — один дым. Я выкрикнул:
— Хувава! Заклинаю тебя показаться в твоем истинном обличье!
Ничего не изменилось, и мы по-прежнему видели только дым.
— Как же мы будем с ним бороться, если он — только дым? — спросил Энкиду.
— Мы его утопим, — ответил я. — И еще задушим.
Я показал в ту сторону, где землетрясение освободило из недр земли какой-то подземный ручей. Небольшая струйка стекала на дно лощины. От дыхания подземного бога вода была теплой, и от нее поднимался легкий пар. Мы собрались и составили план. Я поставил тридцать человек копать канавку, чтобы направить струю в сторону отверстия, из которого бушевала ярость Хувавы. Часть людей обтесывала ствол кедра, отрезав от него примерно две длины человеческого роста и заострив один конец бревна. Мы работали очень быстро, чтобы демон не успел принять более твердую форму и не набросился бы на нас. Но божественная сила во мне, казалось, все еще держала демона на расстоянии. Чтобы окончательно укрепить нашу безопасность, я поставил трех человек возле расщелины, и они без перерыва делали божественные знаки и возносили моления.
Когда у нас все было готово, я крикнул:
— Хувава! Ты слышишь мой голос, демон? Гильгамеш, царь Урука, сейчас прикончит тебя!
Я посмотрел на Энкиду, и на секунду, признаюсь вам, я почувствовал сомнение и страх. Это не такая уж простая вещь — убить демона, который прислуживает Энлилю. А еще я подумал, а надо ли вообще его убивать? Может быть достаточно забить эту дыру и оставить его там в плену? Сердце мое было тронуто сочувствием к демону. Это кажется странным? Но я так чувствовал в ту минуту.
Энкиду, знавший мою душу, как свою собственную, увидел, что я заколебался. Он сказал мне:
— Торопись, Гильгамеш! Нельзя сомневаться ни секунды. Демон должен погибнуть, если мы надеемся живыми выбраться отсюда. С этим не поспоришь. Если пощадишь, то никогда уже не увидишь своего родного города, матери, родившей тебя. Он закроет тебе дорогу. Он сделает все пути отсюда непроходимыми!
Я понимал всю мудрость этих слов. Я поднял руку и дал сигнал.
Моментально мои люди открыли отверстие в земляной насыпи, которую они построили на пути ручейка, и дали его водам влиться в новое русло, которое устремилось к пасти Хувавы. Я видел, как потоки воды быстро рванулись в новую канавку, достигли пасти демона и полились туда с шумом. Оттуда, из глубин земли, донеслись такие вопли и завывание, что я с трудом мог в это поверить. Горячее облако белого пара вознеслось вверх в самой середине черного дымного столпа и я услышал гром и рев. Земля задрожала так, словно готовила новые толчки землетрясения. Расщелина пила воду ручья, а ручей все вливался в нее, давая ей все, что она могла выпить. Красные сполохи внутри дыма погасли, он стал выходить не единым столбом, а разорванными клубами.
— Давайте, — сказал я, и мы подняли кедровый столб.
Я принял на себя всю тяжесть ствола, хотя Энкиду со своей одной здоровой рукой оказал мне больше помощи, чем все остальные, вместе взятые. Мы ровным ритмичным шагом понесли этот ствол, нацеливаясь на дымящуюся дыру в земле… Из глаз у нас лились слезы, дыхание перехватывало, но мы улучили момент, и ударили этим кедровым колом изо всех сил вперед и вниз. Мы забили дыру плотно и навеки.
Мы быстро отскочили назад, думая, что сейчас земля взорвется. Но нет: демон или утонул, или слишком ослаб, ему не под силу было вышибить деревянную затычку. Я только видел несколько струек дыма, вырвавшихся из-под земли на небольшом расстоянии от нас, но они рассеялись, и мы ничего больше не увидели и не услышали.
Наступила мертвая тишина. Тот огонь, дым, что были Хувавой, были побеждены. Не было ни дыма, ни огня, только остатки какой-то неприятной вони портили воздух и оскорбляли наше дыхание, но и они быстро рассеялись в сладком прохладном воздухе кедрового леса. Мне кажется, когда сказания об Энкиду и обо мне начнут обрастать всякими небылицами, как это всегда бывает со временем, то скажут, что мы набросились на Хуваву и отрубили ему голову, потому что арфисты грядущих дней просто не поймут, как можно победить демона просто-напросто при помощи ручейка и заостренного кола. Именно так мы и сделали, что бы они там ни наболтали вам, когда меня уже не будет, чтобы сказать вам правду.
— Он мертв, — сказал я. — Давайте очистим то место, что он осквернил, и пойдем дальше.
Мы срезали кедровые ветви и положили их на могилу демона, принесли жертвы и произнесли нужные молитвы. Потом мы нашли тридцать отборных кедровых стволов, чтобы взять их с собой в Урук, мы обрубили сучья, окорили их, погрузили их на ослов. Покончив с этим, мы вернулись к стене, которую построили эламиты, и сокрушили ее, разметали по сторонам, словно ее делали из соломы, хотя ради красоты мы пощадили великолепные ворота, которые предатель Уту-рагаба так прекрасно выполнил для горского царя.
Когда мы уходили с этого места, сотня воинов-эламитов напала на нас, и спросила именем Эламского царя, почему мы находимся в чужих владениях. На что я ответил, что мы вовсе не браконьерствуем, а пришли набрать немного дерева для нашего храма, для чего нам потребовалось убить местного демона. Они решили, что я дерзок с ними.
— Кто ты такой? — потребовал ответа их вожак.
— Кто я? — спросил я у Энкиду. — Скажи им.
— Как это, ты — Гильгамеш, царь Урука, величайший герой, дикий бык, что пропахивает горы, Гильгамеш-царь, Гильгамеш-бог. А я Энкиду, твой брат, — он хлопнул себя по брюху и рассмеялся. — А вы слышали про Гильгамеша, парни?
Но эламиты уже в беспорядке бежали наутек. Мы бросились вдогонку и перебили половину, отпустив остальных, чтобы они могли принести своему царю весть, что неразумно окружать стеной кедровые леса. По-моему, он внял голосу разума, так как больше я ни о каких стенах вокруг лесов не слыхивал. Не было слышно и о страшном Хуваве, так что в последующие годы мы беспрепятственно брали из этого леса столько кедровой древесины, сколько нам требовалось.
23
Это было время торжества. Мы вошли в Урук с такой помпой, словно покорили шесть царств. В нашей гордости, наверное, была тень какого-то безумия, но это была заслуженная гордость. Не каждый день все-таки убиваешь демона.
Поэтому мы отмечали наше возвращение из Земли Кедров и наши приключения пирами и весельем. Но в начале ночи случилось неприятное происшествие, и в конце нашего пира также.
Когда на закате солнца мы подходили к городским стенам, Царские ворота распахнулись, и из них выехали с почетом встречать нас повозки во главе с Забарди-Бунуггой. Гремели трубы, развевались флаги. Я слышал как снова и снова выкликали мое имя. Мы остановились и ждали, когда к нам подъедут. Забарди-Бунугга, подогнав повозки ко мне, приветствовал меня воздетыми руками и преподнес мне ячменный сноп — обычное приветствие для вернувшегося царя. Он принес благодарственную жертву во имя моей безопасности, а потом мы вместе совершили возлияние божествам. Добрый верный Забарди-Бунугга, с его некрасивой физиономией!
Когда официальные церемонии закончились, мы обнялись по-человечески. Он ласково кивнул Энкиду и улыбкой приветствовал Бир-Хуртурре. Если и была в Забарди-Бунугге зависть, то только к тому, что он не принимал участия в нашем путешествии, да и той я в нем не усмотрел. Я рассказал ему, как прошло путешествие, но он уже знал большую часть, поскольку вестники прибежали раньше нас, неся весть о нашей победе. Я спросил, как шли дела в Уруке в наше отсутствие. В его глазах промелькнула тень, и он сказал, не глядя мне в глаза:
— Город процветает, о Гильгамеш!
Нетрудно было уловить беспокойство, колебания, печаль в его душе, поэтому я спросил:
— А если начистоту?
— Можно мне въехать с тобой в город? — спросил он беспокойно.
Я пригласил его жестом в свою повозку. Он взглянул на Энкиду, который ехал со мной рядом, но я пожал плечами, словно желая сказать, что все, что могу услышать я, годится и для моего названного брата. Забарди-Бунугга понял это — не надо было ничего говорить вслух. Он легко вскочил в повозку, а Энкиду дал знак процессии продолжать движение сквозь огромные городские ворота.
— Ну? — спросил я. — Какие неприятности? Рассказывай.
Тихим голосом Забарди-Бунугга сказал:
— Богиня странно себя ведет. По-моему, она что-то замышляет. Опасность витает в воздухе, Гильгамеш.
— Как это?
— Она не находит себе места, она чувствует, что ты затмил ее, что ты переходишь границы своей власти. Она говорит, что ты делаешь вид, будто ее не существует, что ты с ней не советуешься, будто город больше и не город Инанны. Он стал городом Гильгамеша.
— Я — царь, — ответил я, — и несу все бремя ответственности.
— Мне кажется, она тебе напомнит, что ты царь только милостью богини.
— Так и есть, и я этого никогда не забываю. Она же должна помнить, что и она не богиня, а только глас богини.
Я рассмеялся.
— Ты думаешь, я говорю кощунственные вещи, Забарди-Бунугга? Нет же, нет. Это правда. Мы все должны это помнить. Богиня гласит ее устами, но сама она всего лишь жрица. А несу бремя власти я, и к тому же каждый день.
Когда мы подъезжали к городским воротам, я спросил:
— А какие у тебя свидетельства ее гнева?
— Мой отец говорил, она приходила к нему в храм Ана просмотреть древние таблички, записи со времен правления Энмеркара о его отношениях с жрицей Инанной тех времен. Она заглянула в архивы жрецов Энлиля. И много раз, пока ты был в отлучке, она созывала старшин города.
— Может быть, она пишет книгу для истории, — беспечно сказал я.
— Мне кажется нет, Гильгамеш. Она ищет способ укротить тебя, смотрит, нет ли где прецедента, ищет правильную, безукоризненную тактику.
— Ты это знаешь наверняка или только подозреваешь?
— Наверняка знаю. Она кое-что говорила, и многие ее слышали. Твое путешествие ее разгневало. Она это говорила твоей матери, моему отцу Гунгунуму, некоторым из собрания старшин, даже своим прислужницам. Она не скрывала своего гнева. Она сказала, что это дерзкий вызов с твоей стороны — предпринять путешествие, не получив ее благословения.
— Вот оно что. Но нам нужен был кедр. Эламиты построили в лесу стену. Это ведь не просто святое паломничество, Забарди-Бунугга. Это война. А решения, касающиеся войны, лежат все же в области царской власти.
— По-моему, она смотрит на это иначе.
— Тогда я поговорю с ней об этом.
— Будь осторожен. Это коварная и опасная женщина.
Я положил руку ему на запястье и улыбнулся.
— Ты мне ничего нового не открыл, друг мой. Но я буду настороже. И спасибо за предупреждение.
Мы проезжали ворота. Я поднял свой щит так, что он поймал последние лучи заходящего солнца и бросил лучи золотистого света в толпу, собравшуюся по сторонам большой триумфальной дороги. Полгорода вышло на улицы, чтобы приветствовать меня.
— Гильгамеш! Гильгамеш! Гильгамеш! — кричали они, пока не охрипли. — Они еще кричали «божественный», что обычно не говорится о царе, пока он жив.
— Божественный Гильгамеш! Божественный Гильгамеш!
Я растерялся, хотя нелепо было бы отрицать присутствие во мне божественной природы.
Предостережения Забарди-Бунугги несколько омрачили мое возвращение домой. Но меня не очень удивило то, что я услышал. Инанна слишком долго оставалась кроткой и послушной, и я уже давно ожидал от нее каких-то действий. Ну что ж, посмотрим. Сейчас я решил не думать над этим. Это была ночь моего возвращения домой. Это была ночь моего триумфа.
Во дворце я вычистил и смазал свое оружие и положил его в хранилище, произнеся над ним специальные молитвы, которые говорятся, когда оружие кладут на покой. Потом я пошел в дворцовые бани и распустил свою косу, так что волосы струились по спине, и прислужницы смыли с них грязь и пот похода. Я оставил волосы распущенными, завернулся в красивые ткани и завязал вокруг пояса багряный платок. Я надел царскую тиару, что делал нечасто. Потом я позвал моих героев, и Энкиду, и мы собрались в большом зале дворца на пир. Жареные телята и ягнята, пирожные из меда и муки, пиво, крепкое и мягкое, царское финиковое вино, самое сладкое и вкусное в наших землях украшало стол. Мы даже пили вино, что делается из винограда, которое мы привозим из северных земель, — темно-лиловое вино, от которого душа рвется ввысь. Мы пели и рассказывали истории про древних воителей, потом разделись и боролись при свете факелов, потом наслаждались девушками из дворцового гарема, пока не насытились, а потом мы снова совершили омовение и нарядились в праздничные одежды. Мы вышли в город, ходили по улицам, играя на флейтах и трубах, хлопая в ладоши, и гордость наполняла наши сердца. Ах, что за прекрасное время было! Какое великолепное время! Такого мне уже никогда не доведется пережить.
В серебристо-серые часы рассвета спящие герои валялись по всему дворцу, храпя от выпитого вина. Мне не хотелось спать, поэтому я пошел к дворцовому фонтану. Со мной был Энкиду. От его одежд несло вином и мясным соком, должно быть, и мои были не лучше. Соломинки и обугленные веточки от костров запутались у нас в волосах. Прохладная, свежая вода фонтана нас омыла и освежила, словно мы были в божественном источнике. Выходя из фонтана, я оглянулся, ища глазами какого-нибудь раба, чтобы он принес нам чистую одежду, и взгляд мой упал на стройную фигурку на противоположном конце двора, женщину, одетую в пепельного цвета одеяние из поблескивающей ткани. На голове ее была шаль, и лица было не разглядеть. Казалось, она направлялась в нашу сторону.
— Эй, ты, — окликнул я. — Подойти и окажи нам услугу!
Она повернулась ко мне, спустив шаль, и я увидел ее лицо. Но не поверил своим глазам.
— Гильгамеш? — тихо сказала она.
Я ахнул от изумления. Это могло быть только привидение.
— Демон! — прошептал я. — Смотри, Энкиду, у нее лицо Инанны! Должно быть, это Лилиту пришла сюда преследовать нас, или привидение Утукку.
Ужас и страх ударили меня, словно язык бронзового колокола, я задрожал и стал искать среди своей сброшенной одежды амулет богини, который юная жрица Инанны дала мне давно, когда мы оба были юны.
Тем же тихим голосом она сказала:
— Не бойся, Гильгамеш, я действительно Инанна.
— Здесь? Во дворце? Жрица никогда не покидает храма, чтобы увидеть царя. Она призывает царя, чтобы он служил ей в храме, в ее собственных владениях.
— Сегодня ночью именно я пришла к тебе, — сказала она.
Теперь она стояла совсем близко от меня, и мне казалось, что она говорит правду: если это и был демон, в это нельзя было поверить. И какой демон, к тому же, осмелится перевоплотиться в богиню в стенах города, где обитает сама богиня? Я никак не понимал причины присутствия Инанны во дворце. Я чувствовал какой-то подвох. Я похолодел, и завернулся в свою одежду. Энкиду смотрел на нее, словно на чудовище, изготовившееся к прыжку.
Я хрипло спросил:
— Что тебе от меня надо?
— Сказать несколько слов, только несколько слов.
Горло у меня пересохло:
— Говори!
— То, что я должна сказать, я бы хотела сказать с глазу на глаз.
Я посмотрел на нахмурившегося Энкиду. Мне не хотелось отсылать его, но я достаточно хорошо знал Инанну. Я печально сказал:
— Энкиду, оставь нас ненадолго.
— Это обязательно? — спросил он.
— На этот раз — да, — ответил я, и он медленно пошел, несколько раз оглянувшись, словно боялся за меня.
Инанна сказала:
— Я видела тебя сегодня с террасы храма, когда ты гулял по городу со своими героями, Гильгамеш. Ты никогда не был таким прекрасным. Ты сиял как божество.
— Радость победы дала мне это. Мы убили демона, мы добыли древесину, мы смели с лица земли стену, воздвигнутую эламитами.
— Я слышала об этом. Это замечательная победа. Ты герой, не знающий себе равных. О тебе будут петь грядущие поколения!
Я заглянул ей в глаза. В этот час, в свете зари, они казались такими темными, они казались темнее ночи. Я пристально смотрел на ее безупречный лоб и дуги ее бровей, на ее полные губы. От нее исходил жар, но это был холодный огонь. Я не мог сказать, стояла передо мной богиня или женщина. Обе смешались в ней, чего никогда не было раньше. Я вспомнил слова Забарди-Бунугги, из его слов я понял, что она — мой враг. В это мгновение она была прекрасна и не могла казаться мне врагом.
— Почему ты здесь, Инанна?
— Не могла удержать себя. Когда я увидела тебя вечером, то сказала себе: я пойду к нему, когда окончится пир. Я приду к нему, когда настанет заря, и отдам ему себя.
— Предложишь себя? Что ты такое говоришь?
Глаза ее горели странным огнем. Словно серебристое солнце, что встает в полночь.
— Гильгамеш, будь мне мужем.
Это меня сразило. Запинаясь, я произнес:
— Но время еще не настало, Инанна… до нового года еще несколько месяцев, и…
— Я говорю не о Священном Браке, — ответила она быстро. — Я говорю о браке между мужчиной и женщиной, которые живут под одной крышей, рожают детей и вместе стареют, как обычно бывает между мужем и женой.
Заговори она на языке жителей Луны, я и тогда не удивился бы сильнее.
— Но ведь это невозможно, — сказал я, когда ко мне вернулся дар речи. — Царь… жрица… никогда, с самого основания города, никогда, за всю историю Земли…
— Я говорила с богиней. Она согласна. Это может быть. Я знаю, что это внове и кажется странным, но это можно, это допускается.
Она шагнула ко мне и схватила меня за руки.
— Выслушай меня, Гильгамеш! Будь моим мужем, подари моему телу свое семя и не одну ночь в году, а каждую ночь! Будь моим мужем, а я буду твоей женой. Слушай, я принесу тебе необыкновенные дары! Я запрягу для тебя украшенную золотом повозку, с золотыми колесами, с бронзовыми рогами. Тебя будут везти демоны бури. Наше жилище будет пропитано благовониями, словно храм, а когда ты будешь в него входить, пороги станут целовать тебе ноги.
— Инанна…
Ее невозможно было остановить. Словно в трансе, она певуче продолжала:
— Цари, владыки и князья склонятся перед тобой! Плоды гор и равнин принесут они тебе в дань! Козы твои будут приносить тройни, овцы будут котиться двойнями. Осел, что несет твою поклажу, перегонит саму бурю, твои повозки победят в любой гонке, волам твоим не будет равных. Дай мне принести тебе свое благословение, Гильгамеш!
— Люди этого не позволят, — тупо сказал я.
— Люди! Люди! — Лицо ее вспыхнуло, глаза потемнели. — Люди не смогут остановить нас.
Ее рука стиснула мою мертвой хваткой. По-моему, кости у меня хрустнули. Странным тоном она сказала:
— Боги прогневались на тебя за убийство демона Хувавы, Гильгамеш. Ты знаешь об этом? Они намерены тебе отомстить.
— Это неправда, Инанна.
— Разве ты беседуешь с богами, как беседую я? Ты ходишь их путями, как хожу я? Говорю тебе, Энлиль оплакивает смерть стража своих лесов. Они кровью возьмут с тебя цену этой смерти. Они заставят тебя тосковать и скорбеть, как скорбит Энлиль. Но я могу защитить тебя от этого. Я могу заступиться. Отдай мне себя, Гильгамеш! Возьми меня в жены! Я — твоя единственная надежда! Я — единственный залог покоя и мира!
Слова ее обрушивались на меня, словно ливень, не знающий пощады. Мне хотелось убежать от нее. Мне хотелось зарыться головой во что-то мягкое и теплое и уснуть. Это какое-то безумие — жениться на ней. Да мыслимое ли это дело? На какой-то безумный миг я подумал, как бы это было прекрасно: делить с ней ложе каждую ночь, чувствовать огонь ее дыхания, вкушать сладость ее уст. Какой мужчина откажется от подобного? Но брак? Со жрицей? С богиней? Она не имела права выходить замуж. Я не мог жениться на ней. Даже если бы народ и разрешил это — а он бы не разрешил, он бы скорее растерзал нас и швырнул наши трупы волкам на съедение, — я не смог бы вынести этого. Униженно приходить в храм с брачными дарами, становиться на колени перед собственной женой, потому что она еще и богиня, Царица Небес… Ну нет, этого я вынести не могу, это будет моя погибель. Я царь. Царь не может становиться на колени перед женой. Я потряс головой, словно хотел разогнать сгустившийся в моей душе мрак. Я начал постигать истину. Ее план начинал проясняться для меня: адская смесь алчности, страсти и зависти. Ее цель — заманить меня в ловушку и извести. Если она не могла противостоять власти царя никаким иным способом, она разрушит его силу при помощи брака. Поскольку она — богиня, она заставит меня становиться перед ней на колени. Ни один мужчина и уж конечно ни один царь, не становится на колени перед собственной женой. Люди будут смеяться надо мной на улицах, псы вонючие будут хватать меня за ноги! Но я не позволю сделать себя ее рабом! Не пойду в рабство за ее тело! А вся ее болтовня о гневе богов, который только одна она могла бы отвести от меня? Нет, это дурацкая ложь, чтобы запугать меня! Я не позволю этого ни в коем случае.
Как только я все это понял, во мне поднялся такой гнев, словно огонь в душное лето. Может оттого, что я не спал всю ночь, или вино, или демон, что вселился в меня, или гордость, которая обуяла меня после победы над Хувавой, или все вместе привело меня в неудержимо свирепое состояние. Я вырвал у нее свою руку, выпрямился и заорал:
— Ты говоришь, что ты моя единственная надежда? Да какую же надежду ты мне собираешься предложить, кроме надежды на боль и унижение? Чего же мне ждать, если я окажусь настолько глуп, что женюсь на тебе? Ты приносишь только опасность и муку.
Злобные слова потоком лились из меня. Я не мог и не хотел удерживать их.
— Что ты такое? Жаровня, что гаснет на морозе. Задняя дверь, что пропускает и ветер, и дождь. Худой мех, льющий воду на спину несущего его, сандалия, что жмет ногу носящего и заставляет его спотыкаться.
Она ахнула от изумления, так же, как ахнул я, когда она пришла ко мне со своими разговорами о браке. А я все продолжал:
— Что ты такое? Камень, падающий из окна на голову. Деготь, пятнающий руки, жилище, что обрушивается на голову живущим в нем, тюрбан, не покрывающий головы. Жениться на тебе? Жениться на ТЕБЕ? Ах, Инанна, Инанна, что за безумие, что за глупость!
— Гильгамеш…
— Какая надежда остается человеку, кто попал в сети Инанны? Я знаю этот рассказ о садовнике Ишуллану. Он пришел и принес тебе корзину фиников, а ты посмотрела на него, улыбнулась своей змеиной улыбкой и сказала: «Ишуллану, подойди ко мне, дай мне насладиться тобой, потрогай меня здесь, и здесь, и здесь…» Он отпрянул от тебя в ужасе, говоря: «Что тебе нужно от меня? Я ведь всего-навсего садовник! Ты заморозишь меня, как мороз побивает юный тростник!» А ты, услыхав такие слова, превратила его в крота и бросила его в земляную нору.
Она в изумлении сказала:
— Гильгамеш, но ведь это всего лишь сказка о богине! Это не мои деяния, это деяния богини, и к тому же очень давние!
— Мне все равно. Это одно и то же. Ты — богиня, а богиня — ты. Ее грехи
— твои грехи. Что случается с любовниками Инанны? Пастух, который приносил тебе дары и забивал нежных козлят? Ты от него устала и обратила его в волка. Теперь его же собственные подпаски прогоняют его прочь и его же собственные собаки кусают его…
— Сказки, Гильгамеш, предания!!!
— А лев, которого ты любила? Ты выкопала для него семижды семь ям-ловушек! А птица многоцветная? Ты сломала ей крыло, и теперь она сидит и рыдает в чаще: «Мое крыло, мое крыло!» А жеребец, столь могучий в битве? Ты же приказала сделать ему узду, и шпоры, и хлыст и велела ему скакать семь лиг без передышки и пить грязную воду…
— Ты что, спятил?! Что ты мелешь?! Это же старые сказки о богине, которые поют арфисты. Сказки и легенды!
Должно быть, я и вправду обезумел. Но я не сдавался.
— Ты была хоть раз верна, хоть одному своему любовнику? Ты ведь обошлась бы со мной точно так же, как с ними!
Она было открыла рот, но не могла произнести ни слова. Я продолжал:
— А как насчет Думузи? Расскажи-ка мне, как ты отправила его в ад!
— Зачем ты швыряешь мне в лицо древние побасенки? Почему ты упрекаешь и попрекаешь меня тем, чего я никогда не делала?
Я не обратил на ее слова внимания.
— Да нет, не бог Думузи, — сказал я. — Царь Думузи, что правил в этом городе и умер раньше своего срока. Да-да, расскажи мне о Думузи! Думузи царь, Думузи бог, Инанна богиня, Инанна жрица — это все одно и то же. Все дети знают эту сказку. Она заманивает его в ловушку и потом ликует над своей победой. Со мной тебе этого не видать.
Я остановился передохнуть, вытер пот со лба и совсем другим тоном холодно сказал:
— Это царский дворец. Тебе тут делать нечего. Вон отсюда. ВОН!!!
Она искала слова, но только гневные восклицания вырывались из ее уст. Потом она отшатнулась от меня, глаза горели, лицо пылало. У дверей она остановилась и послала мне леденящий душу взгляд. Потом она сказала тихим, спокойным голосом, который, казалось, исходил из преисподней:
— Ты будешь страдать, Гильгамеш. Это я тебе обещаю. Ты почувствуешь боль, с которой не сравнится никакая мука. Так клянется богиня.
И она ушла.
24
В этот год с наступлением нового года засуха не прекратилась, летняя жара продолжалась, влажный ветер, прозванный обманщиком, не задул с юга, а в северном небе не было никаких признаков дождя. Эти признаки наполнили меня великим страхом, но я держал этот страх при себе, ничего не говоря даже Энкиду. В конце концов, и раньше случались засушливые периоды, а дожди рано или поздно все равно приходили. Пусть в этом году они придут позже, но они все равно придут. Я верил. Но страх мой был велик, потому что теперь я знал: Инанна мой враг.
В ночь церемонии Священного Брака она и я стояли лицом к лицу в первый раз после ее прихода ко мне во дворец на утренней заре. Когда я вошел в длинную комнату в храме, чтобы приветствовать ее, глаза ее казались полированным камнем, и каменным молчанием она встретила меня, когда я сказал: «Привет тебе, Инанна!» Она не ответила, как должна была ответить Инанна, словами: «Привет тебе, царственный супруг, источник жизни!» Тогда я понял, что проклятие легло на Урук, проклятие, которое она наложила.
Я не знал, что делать. Мы вышли на террасу храма, мы провели обряд с ячменем и медом, мы ушли в опочивальню и встали у ложа, украшенного слоновой костью и черным деревом. Все это время она не сказала мне ни единого слова, но по ее глазам я знал, что ненависть ее ко мне не утихла. Ее жрицы-прислужницы сняли с нее украшения и нагрудные пластины, сняли с лона золотой треугольник, открыв ее наготу и открыли ей мою наготу. Она была так же прекрасна в своей красоте, как и раньше, но теперь не исходило от нее того сияния, какое делает желание: соски ее были мягкими, в теле не было божественного огня плоти. Это была не та Инанна, которую я так долго знал, — женщина неутолимых желаний. Она стояла перед ложем, скрестив на груди руки. Она сказала:
— Можешь остаться или уйти, как хочешь. Я не буду с тобой сегодня!
— Это ночь Священного Брака. Ты богиня. Я бог.
— Царь Урука не войдет сегодня ночью в мое тело. Гнев Энлиля падет на Урук и его царя. Небесный Бык будет спущен с цепи.
— Ты уничтожишь собственный народ?
— Я уничтожу твою самонадеянность, — сказала она. — Я поползла к Небесному отцу Энлилю на коленях. Я! Богиня! Я сказала: отец спусти с цепи Небесного Быка, ибо Гильгамеш отверг меня. Я сказала Энлилю: если он этого не сделает, я разобью дверь в подземный мир и открою врата ада, я выпущу мертвецов, чтобы они пожрали пищу живых, а мертвым несть числа. Он сказал, что выпустит Небесного Быка.
— Из-за обиды на меня ты принесешь в Урук годы засухи? Люди вымрут от голода!
— В моих амбарах, Гильгамеш, есть зерно. Люди платили дань своей богине снопами. Я запасла достаточно зерна, чтобы хватило с избытком и на семь лет засухи. Я запасла и корм для скота. Когда ударит» голод, Инанна будет Готова помочь своему народу. Но ты падешь с сияющих высот, Гильгамеш. Они сбросят тебя оттуда за то, что ты навлек на них гнев богов.
Голос ее был совершенно спокоен. Она стояла передо мной нагая, словно я был ничтожеством или евнухом, и передо мной ее нагота ничего не значила. Она стояла, как статуя. Я смотрел на нее, и не мог ничего сказать или сделать. Если богиня не допустит объятий бога в ночь Священного Брака, то дождя не будет. Но как мог я заставить ее? Было бы еще хуже, если бы я взял ее силой. Она снова повторила: «Хочешь — оставайся, хочешь — уходи». Но у меня не было никакого желания провести здесь ночь, поэтому я подобрал свои роскошные царские одежды, завернулся в них и пошел прочь из храма в скорби и страхе.
Во дворце я нашел Энкиду и трех его наложниц, отмечающих на свой лад ночь Священного Брака. Ручьи темного вина текли по полу, а полуобглоданные куски жареного мяса валялись на столе. В великом удивлении он спросил:
— Почему ты так скоро вернулся, Гильгамеш?
— Оставь меня, брат. Горькая это ночь для Урука!
Он, казалось, меня не слышал.
— Ты так быстро пресытился богиней? Тогда попробуй из моих запасов.
Он засмеялся, но смех его тотчас замер, когда он увидел мое лицо. Он освободился из объятий своих девушек, как от ветвей плюща, подошел ко мне, положил руки мне на плечи и сказал:
— Что такое, брат? Расскажи, что случилось!
Когда я рассказал, он ответил:
— Если этот Небесный Бык будет бушевать в городе, то нам остается просто скрутить его и загнать обратно в стойло, правда, Гильгамеш? Как можем мы позволить какому-то дикому быку бегать по городу?
Он снова засмеялся, обхватив меня своими ручищами. В первый раз за этот вечер у меня поднялось настроение, и мне подумалось: может и вправду мы вдвоем сможем противостоять богине?
Дождя давно не было. День за днем небо было яркого синего цвета, и на нас глядело безжалостное око Уту. Иссушающий ветер уносил землю, взметая вверх сухую грязь пересохших рек и песок серых и золотых пустынь. Удушающие пылевые облака висели над нами; словно саваны. Ячмень поник и сгорел на полях. Листья пальм почернели от жары и опали, как крылья раненных птиц. Иногда гром, молнии, страшные вспышки огня накрывали землю. Но это были сухие бури — дождя не было. Энлиль был наш враг. Инанна была наш враг, Ан не замечал нас, Уту был глух к нашим мольбам. Люди собирались на улицах и кричали: «Гильгамеш, Гильгамеш, где же дождь?» Что я мог им сказать? Что?
Как-то далеко на востоке задрожала земля, и ветер принес оттуда такой порыв пламени и вонючего газа, что дыхание демона Хувавы показалось в сравнении с этим нежным весенним ветерком. В тех краях на востоке у меня была армия в тысячу человек, которых я послал разведать те места, откуда в наши владения заходили эламиты, и из той тысячи меньше половины вернулись назад. Они рассказывали мне, как вырвался на свободу Небесный Бык. Небо почернело, поднялся черный, дым, и в этом черном дыму над головами люди увидели Небесного Быка. Он фыркнул один раз — и убил сотню человек. Фыркнул второй раз — и еще сотня погибла. Фыркнул в третий раз — и погибли двести. Дрожала земля, ходуном ходили холмы, Небесный Бык смрадно дышал на них. Его дыхание до сих пор у них в ноздрях. А теперь Бык идет к Уруку.
Что я мог сделать? К кому я мог обратиться?
— Это Небесный Бык! — кричали люди. — Быка выпустили на нас!
— Бык все еще пасется на пастбище у храма, — отвечал я. — Все будет хорошо. Наши испытания скоро закончатся.
Я посмотрел на пылающее жаром небо и про себя воззвал к Лугальбанде: отец, отец, пойди к Энлилю, попроси для нас дождя.
Но дождя все не было.
Инанна затворилась в своем храме. Она не выполняла обрядов, не принимала просителей. Когда люди собрались перед Белым Помостом и просили о милосердии, она послала своих жриц к ним со словами, что они пришли не к тому, к кому следовало бы. Им надо идти просить о милосердии Гильгамеша, ибо именно Гильгамеш навлек такие бедствия на город. И они пришли ко мне. А что я мог им сказать? Что мог сделать?
Ветер стал еще свирепее. В городе поползли слухи, что это ветер из преисподней, ветер-демон, который разносит среди мира живых заразу смерти и разложения, принеся ее из Дома Тьмы и Праха. Я сказал им, что это неправда. В городе шептали, что на колодцы наложено проклятие и скоро они наполнятся кровью, а виноградники и пальмовые рощи скоро погибнут. Я сказал им, что этого не произойдет. В городе разнесся слух, что армия саранчи летит на нас с севера, и скоро небо потемнеет от их крыльев. Саранча не придет, отвечал я.
Я отдавал людям зерно из своих амбаров, Я давал корм для скота, но его было слишком мало, ах, как мало. В обязанности царя не входит обеспечивать людей всем необходимым во время засухи и голода. Это дело Инанны. А Инанна спряталась от людей, спряталась сама и укрыла свое зерно. И надо же, люди не прониклись к ней ненавистью. Она дала людям знать, что город Урук сперва должен очиститься, а потом она откроет свои амбары. Они все поняли. И я понял. Она всерьез вознамерилась меня свергнуть.
А потом она выпустила Быка в городе. Я имею в виду быка, который пасся на храмовых пастбищах и воплощал в себе мощь и могущество богов. Двадцать тысяч лет или дважды по двадцать на пастбищах Инанны были быки, мощные, страшные, не сравнимые ни с какими животными в стране. Они жирели и росли на храмовом зерне, на шеях у них были гирлянды живых цветов в любое время года, и для удовольствия им приводят каждый день телок, а когда они умирают — ибо умирают даже быки, воплощающие мощь небес, — их хоронят возле храма с почестями, которые подобают богам… Не могу сказать вам, сколько быков было за время существования Урука, но если бы это пастбище перепахали, то наверное, пахарь выворотил бы плугом из земли целое море рогов.
Если только бык поселится на пастбище Инанны, он уже никогда его не покинет. Там день и ночь стоит стража, которая специально следит за тем, чтобы этого не случилось. И хотя этот бык фыркает, как Энлиль, бьет копытом землю и со всей силы бросается на ограду, он не сможет освободиться. В священный день середины зимы, когда засуха давала о себе знать в полную силу и небо было серым от пыли, те из нас, чей нюх был острее, почувствовали в воздухе запах гари из Земли Богов-Бунтарей далеко к востоку — и в тот день, когда смута уже была на подходе к Уруку, Инанна выпустила Небесного Быка на улицы города.
Поднявшийся плач ужаса и горя не сравнить ни с чем, что до сих пор творилось в Уруке. По-моему, этот плач отозвался в Кише. Наверно» его слышали в Ниппуре. Может быть и в землях эламитов люди подняли головы и спросили друг у друга: «Что это за ужасающий плач доносится с запада!»
Во дворце я дрожал от досады и горя. Теперь мне казалось, что я должен пойти к Инанне, пасть перед ней на колени, сдаться на милость победителя, отдать ей город. Иначе мой народ погибнет, а я буду сброшен со своего высокого поста. Мне стало самому казаться, что я действительно виноват во всех бедствиях, обрушившихся на Урук. Может быть я был неправ, отказав жрице быть моей женой и царицей… Может быть, может быть…
Я не знал такого отчаяния, как в тот день, когда бык Инанны бесновался на улицах Урука. Энкиду избавил меня от отчаяния. Он нашел меня во дворце, растормошил, обнял и прокричал:
— Брат мой, почему ты скорбишь? Избавление близко!
— Разве ты не знаешь, что Небесный Бык носится по улицам города?
— Да, Гильгамеш, бык носится по городу! Именно сейчас настала наша минута. Мы можем вызвать дождь с небес? Можем мы обратить песок в воду? Нет, нет и нет. Ничего этого мы сделать не можем. Но мы можем убить быка, брат. Мы можем убить быка! Наконец-то Инанна выплеснула свой гнев в один сосуд! Пойдем, Гильгамеш! Пойдем и разобьем наконец этот сосуд!
Глаза его сияли от возбуждения. Сила рвалась из его тела. Я воспрянул духом. Я улыбнулся в первый раз за столько дней и обнял его.
— Пошли, брат! — сказал он, и мы вышли на пыльные и грязные улицы искать Небесного Быка.
Был полдневный час. В этой страшной жаре улицы были пусты, но дорогу к быку спрашивать не пришлось. Я чувствовал его присутствие в городе, как чувствуется близость раскаленного клейма у щеки. Точно так же чувствовал его и Энкиду, в ком еще была жива острота чувств его прошлой жизни. Он подставил лицо ветру, раздувал ноздри, его уши ловили все шорохи. Он показывал, куда идти, и мы шли. В округе Льва мы натолкнулись на свежий навоз. В округе Тростника мы увидели перевернутые тележки торговцев, разбросанные по улицам товары, потому что здесь пронесся бык. А в округе, прозванном Улей, где на тесных улицах едва остается место, чтобы пройти, мы увидели выломанные из зданий кирпичи — там продирался бык.
Чуть позже мы наткнулись на кое-что похуже: камни мостовой были запятнаны кровью, а мужчина и женщина стояли с пустыми глазами, как статуи. Мужчина держал на руках изувеченное тело ребенка. Мальчик четырех или пяти лет, оказавшийся на дороге у быка. Я взмолился, чтобы Энлиль дал ребенку быструю смерть, но какую милость мог послать бог матери и отцу? Когда мы пробегали мимо, женщина узнала нас и протянула к нам руки, словно молила меня: «О царь, отдай мне обратно моего сына!» Я не мог сделать это для нее. Я не мог дать ей в утешение ничего, кроме крови проклятого быка. Только утешит ли это ее?
Смерть этого малыша, думалось мне, на совести Инанны. Вот как она служит своему народу, убивая невинных младенцев разъяренными быками!
Энкиду и я мчались вперед, с мрачными лицами, сосредоточенно. Еще немного — и мы свернули на Площадь Нингал. Тут мы и нашли того самого быка, дико скакавшего, словно игривый теленок.
Он был совершенно белый. (Все храмовые быки — белые). Он был огромен, глаза его были обведены красным, а рога острые и длинные, как копья. Они изгибались, как лиры. Я увидел на его передних ногах и груди брызги крови
— крови ребенка. Когда мы пошли на него, он почуял нас и остановился. Потом он развернулся и злобно уставился на нас своими горящими, как угли, глазами. Он фыркнул, затопал ногами, опустил голову — он готовился к нападению. Энкиду посмотрел на меня, а я на него. Мы с ним вместе убивали слонов, львов, волков. Мы даже убили демона, который вырывался из-под земли. Но мы еще ни разу не убили быка, а этот бык наслаждался в первый раз всей полнотой свободы после столь долгого плена. Он был полон своей силой, да вдобавок в нем была еще и сила Отца Энлиля. Я не сомневался, что этот бык в тот день был Небесным Быком, точно так же, как в определенное время Инанна-жрица становится Инанной-богиней, а Царь Урука — богом полей. Мы затаили дыхание и приготовились встретить его напор, зная, что это будет нелегкая победа.
Я поманил его рукой.
— Иди к нам, — шептал я, стараясь, чтобы мой голос звучал призывно. — Иди к нам. Иди. Иди. Я — Гильгамеш, а это Энкиду, мой брат.
Бык затопал копытами. Бык фыркнул. Бык поднял свою огромную голову и тряхнул рогами. А потом он набросился на нас, сорвавшись с места с величием и изяществом. Казалось он почти летел, когда несся к нам по площади Нингал.
Энкиду, смеясь, крикнул мне:
— Ах, брат, вот будет забава! Играй с ним! Играй! Нам нечего бояться!
Он побежал в одну сторону, я — в другую. Бык остановился на полном скаку, развернулся и помчался в бой снова. Потом остановился еще рае, снова развернулся, взбивая копытом пыль. Казалось, он недоуменно хмурился всякий раз, когда мы носились перед ним взад-вперед, хохоча, хлопая друг друга по плечам, играя. Бык плевал нам в лица пеной, хлестал нас хвостом, но догнать нас и затоптать не мог.
Пять раз бык бросался на нас, и пять раз мы проносились мимо него, пока он не разозлился. Потом он бросился на нас снова, лавируя с демонической хитростью, меняя свое направление столь же легко, как мальчишка-танцор при храме, прыгая то туда, то сюда. Он бешено прыгнул на Энкиду с опущенными рогами, и я испугался, что он пропорет моего брата, но нет! Как только бык оказался рядом, Энкиду протянул руки и схватился руками за рога, а потом легко забросил себя быку на спину, перевернувшись в воздухе! Он оседлал быка, крепко схватив его рога.
И тут началось такое, чего мир еще не видел. Энкиду, верхом на Небесном Быке, держа его за рога, крутил его башку то вправо, то влево. Бык в ярости вставал на дыбы, пытаясь сбросить Энкиду, но не тут-то было! Я стоял перед ними, глядя на эту картину с радостью и восторгом. Бык не мог избавиться от Энкиду. Он прыгал, ревел, топал копытами, швыряя вокруг себя клочья пены, а Энкиду крепко держался на нем. Он старался сломить сопротивление быка, заставить его склонить свою мощную голову. Я слышал раскаты хохота Энкиду, и сердце мое радовалось. Я видел, как руки Энкиду напряглись от усилий, и это зрелище доставляло мне удовольствие. Я смотрел как бык становится угрюмым и понурым. Но тут сражение получило неожиданный поворот. Бык, передохнув секунду, с новой силой рванулся, вскочил, стараясь с удвоенной силой стряхнуть Энкиду на землю. Я испугался. Но Энкиду совсем не выказывал страха. Он держался крепко, он вертел огромную бычью башку из стороны в сторону, пригибая ее к земле.
— Бей, брат! — вскричал Энкиду. — Бей, бей сейчас! Ударь его мечом!
Да, это был самый подходящий момент. Я рванулся вперед и, схватив меч, и вогнал его в шею быка. Я ударил его в затылок, глубоко всадив лезвие. Бык издал звук, какой издает море, откатываясь от берега, и глаза его подернулись пеленой, пылающая в них ярость потускнела. Какой-то момент он стоял неподвижно, потом колени под ним подломились. Энкиду ловко спрыгнул с него, приземлившись рядом со мной, мы засмеялись и обнялись возле умирающего быка, пока он не затих. Потом мы вырезали бычье сердце и здесь же, на месте, принесли его в жертву богу Уту-солнцу.
Я оглянулся кругом и на городской стене увидел фигуры людей. Я тронул Энкиду за плечо и показал туда.
— Там твоя богиня, — сказал он.
И точно, это была она. Инанна и ее прислужницы, должно быть наблюдали борьбу с быком. Я чувствовал жар и силу ее ненависти даже на расстоянии. Я приставил ладони ко рту и прокричал:
— Смотри, жрица! Мы убили твоего быка! Скоро, наверное, придут дожди!
— Горе тебе! — ответила она голосом как из преисподней. — Горе Гильгамешу! Горе тому, кто осмеливается перечит богине! Горе убийце Небесного Быка!
На это Энкиду прокричал ей:
— Горе тебе, каркающая ворона! Получай мою жертву!
Он дерзко вырвал мужские части быка и со всей силой швырнул их так, что окровавленное мясо шлепнулось о городскую стену почти у ног жрицы. Он засмеялся своим раскатистым смехом и крикнул:
— Тебе, богиня! Нравится? Попадись ты мне в руки, я бы замотал тебя всю бычьими кишками!
В ответ на это святотатство она прокляла нас, Энкиду и меня, а люди возле нее на стене — жрицы, прислужники, храмовые блудницы, писцы — все, кто пришел посмотреть, как бык нас уничтожит — подняли страшный плач и жалобные моления.
25
Я не позволил Инанне взять бычью тушу, чтобы похоронить его на земле храма: я не хотел ни в чем ей уступать. Я позвал мясников, велел порезать мясо на кусочки и выбросить городским бродячим собакам, чтобы показать, насколько я презираю Инанну, ее быка и ее чары. Рога того быка я взял себе. Я отдал их своим ремесленникам, которые были поражены длиной рогов и их толщиной. Я велел им украсить рога золотом и лапис-лазурью и повесить их во дворце на стену. Рога были столь велики, что вмещали в себя шесть мер масла. Я наполнил их тончайшими благовониями и совершил возлияние в святилище Лугальбанды в честь моего бога-отца, который принес мне эту победу.
Когда все это закончилось, мы с Энкиду омыли руки в реке и проехали вместе по улицам города ко дворцу. Люди осторожно выглядывали из домов, чтобы посмотреть на нас, а потом стали выходить на улицу, и вскоре на нашем пути по улицам стояло множество людей. Меня охватило хвастливое настроение и я выкрикивал: «Кто самый знаменитый герой? Кто величайший среди людей?» И они откликались: «Гильгамеш самый знаменитый герой! Гильгамеш величайший среди людей!» Почему бы мне было не похвастаться? Инанна выпустила Небесного Быка — мы с Энкиду убили его. Разве мы не имели права хвастаться?
В ту ночь во дворце мы устроили великий пир. Мы пели, пили и танцевали всю ночь. В ту же ночь подул ветер, прозванный Обманщиком, воздух стал мягким и влажным. Еще до утра пролился первый дождь, и потом всю зиму дожди орошали иссохшую землю.
Тот день был вершиной моей славы. Тот день был пиком моего триумфа. Я чувствовал, что нет ничего такого, что я не смогу свершить. Я увеличил и приумножил богатство моего города и сделал его одним из самых сильных городов земли. Я убил Хуваву, я убил Небесного Быка. Я принес дожди в Урук. Я был добрым пастырем народу. Тем не менее я знал мало радости и много печали в тот день. Такова воля богов. Такова жизнь. В ней есть величие, есть и печаль, и мы узнаем в свое время, что тьма следует за светом, хотим мы того или нет.
Наутро Энкиду пришел ко мне. Выглядел он мрачным и усталым. Я спросил:
— Брат мой, почему ты столь печален, когда бык лежит мертвым, а дожди пришли в Урук?
Он сел возле моего ложа, вздохнул и сказал:
— Друг мой, почему великие боги собираются на совет?
Я не понял. Потом он сказал:
— Мне приснился тяжкий сон, брат.
Ему приснилось, что боги сидели в зале совета. Там был Ан, и Энлиль, и небесный Уту, и мудрый Энки. И небесный отец Ан сказал Энлилю: «Они убили Небесного Быка, и они убили Хуваву, демона, поэтому один из них должен умереть. Пусть это будет тот, кто рубил кедр, кто оголил наши горы от кедровых стволов».
Тогда заговорил Энлиль: «Нельзя Гильгамешу умирать, ибо Гильгамеш — царь. Умереть должен Энкиду». Слово взял Уту: «Они искали моей защиты, когда шли убивать Хуваву, и я защитил их. Когда они убили быка, они принесли мне в жертву его сердце. Они не сделали ничего плохого. Энкиду невиновен, почему он должен умирать?» Это очень рассердило Энлиля, и он разгневанно обернулся к небесному Уту, говоря: «Ты говоришь о них, будто это твои товарищи! Но они согрешили, и Энкиду должен умереть!» Спор продолжался, пока Энкиду не проснулся.
Когда он закончил свой рассказ, я тихо сел и старался, чтобы мое лицо ничего не выражало. Какой ужасный сон! Он преисполнил меня страхом. Я не хотел, чтобы он это видел. Я хотел отогнать этот сон, отмести его прочь, как отметают сухой тростник. Наконец я сказал:
— По-моему, ты не должен принимать этот сон близко к сердцу, брат. Часто подлинное значение снов бывает нам неясно.
Энкиду печально уставился в пол.
— Сон, предвещающий смерть, останется сном, предвещающим смерть, — сказал он наконец. — С этим согласятся все. Я уже мертвец, Гильгамеш.
Я сказал, что все это глупости. Я сказал, что нелепо какому-то сну дать захватить себя, дать ему управлять тобой. Не могу притворяться — сам я полностью верил в то, что говорил. Поэтому, я настоятельно посоветовал ему выбросить все сны из головы и, как ни в чем ни бывало, заниматься своими делами, как будто он ничего не слышал, кроме шороха листьев или пения птиц в саду.
Казалось, это ободрило его. Он кивнул мне и сказал:
— Да, возможно я слишком серьезно отнесся к этому.
— Чересчур серьезно, на мой взгляд.
— Да-да. Это мой большой недостаток. Ты умеешь приводить меня в нормальное состояние, брат мой.
Он улыбнулся и крепко пожал мне руку. Потом, поднявшись на ноги, он присел в борцовскую стойку и поманил меня:
— Ну-ка, иди сюда! Как насчет небольшого состязания, чтобы на душе стало веселее?
— Отличная мысль! — ответил я. Стало легче на душе, оттого что он выглядел не таким печальным. Мы долго боролись, потом совершили омовение и отправились на собрание совета города. Я отбросил мысли о сне и то же самое, кажется, сделал он.
Несколько дней спустя, как акт благодарения за избавление города от Небесного Быка я, распорядился совершить ритуал очищения, известный, как Закрытие ворот. Это был обряд, который в Уруке не исполняли так давно, что даже самые старые жрецы не помнили всех его подробностей. Шесть ученых по моему приказу три дня рылись в библиотеке Храма Ана, ища описание обряда. Единственное, что они смогли найти, была табличка, написанная такими древними знаками, что они не поддавались прочтению.
— Ничего страшного, — сказал я им. — Я буду молить Лугальбанду, чтобы он указал мне, что надо делать.
Я хотел проверить, действительно ли проходы, которые находятся под городом и открываются в преисподнюю, были запечатаны, так как Инанна грозилась открыть их, если что-то не получится с Небесным Быком. В своем гневе она действительно могла испортить ворота, чтобы демоны или души умерших могли проникнуть в город. Поэтому я хотел убедиться, что ворота заперты и придумал специальный ритуал с целью совершить такую проверку. Я сочинил обряд на основе того, что сумел вытащить из памяти старых жрецов, из записи на старинной табличке и своих собственных домыслов относительно того, что пристойно этому обряду. Мне кажется, получился настоящий обряд. И все же, если бы мне пришлось выполнить его снова, я бы оставил ворота в преисподнюю стоять открытыми тысячу лет, чем снова пережить то, что досталось мне в тот день.
Эти ворота — одно из самых старых строений в Уруке. Говорят, что старше Белого Помоста, а он, конечно, был построен самими богами. Ворота стоят в ста двадцати шагах на восток от Белого Помоста. Они не представляют из себя ничего особенного: кольцо старых обожженных кирпичей окружает мощную круглую дверь из меди, которая от старости позеленела. Дверь лежит прямо на земле, словно ведет в подвал. В середину двери вделано кольцо, сделанное из какого-то странного черного металла, которого никто не знает. Два или три сильных человека, ухватившись за кольцо, могут приподнять дверь. Когда она поднята, за ней открывается черная дыра. Это начало туннель, который чуть шире плеч крепкого мужчины. Туннель уходит вниз под землю. Если по нему немного пройти, то скоро доходишь до следующих ворот, которые не что иное, как решетка, вделанная в туннель, словно стена клетки. По ту сторону этой решетки туннель резко уходит вниз, и если у кого-то достанет безумия продолжить свой спуск, то в конце концов можно дойти до первых из семи ворот ада. Эти ворота охраняет страж — демон Нати. А за седьмыми воротами — логово Эрешкигаль, царицы преисподней, сестры Инанны.
До того злосчастного дня, когда я решил совершить обряд Закрытия Ворот, никто не проходил в эту дверь уже тысячи лет. Последний, кто сделал это, насколько я знаю, была много лет назад богиня Инанна, когда она спускалась в ад, чтобы бросить вызов владычеству Эрешкигаль. Хотя мы и открываем самую первую дверь каждые двенадцать лет — обряд называется «Открытие Ворот», — чтобы совершить возлияния в пасть туннеля и ублажить Эрешкигаль и ее демонов, никто в здравом уме не делал и полшага за порог туннеля.
Мы начали Закрытие Ворот точно в полуденный час, когда в подземном мире
— полночь и большинство демонов спят. День был теплый и яркий, хотя под утро и прошли дожди. Возле меня был Энкиду, а моя мать Нинсун стояла сразу за моей спиной. Вокруг меня собрались жрецы всех храмов города и члены совета старшин и городского совета. Единственная важная персона города, которая не соизволила явиться, была Инанна. Она осталась в уединении за стенами храма, который я для нее построил. Около нас стояли музыканты, готовые поднять страшный шум с помощью барабанов, флейт и труб, если духи начнут выползать из дыры, когда мы откроем дверь. А поодаль стояли жители Урука.
Я кивнул Энкиду. Мы вместе взялись за кольцо на двери и вместе подняли дверь с земли. Хотя говорят, что оторвать от земли эту дверь — трудная задача, мы подняли ее легко, точно перышко. Из ямы донесся застоявшийся запах подземелья. Руки мои похолодели. Кожа на лице стянулась. Я почувствовал дыхание смерти, выходящее из преисподней. Я посмотрел вниз, но ничего, кроме кромешной тьмы, не увидел.
Обряд, который я придумал, начинался с принесения в жертву ячменя, который я сам бросил в пасть туннеля. Если прямо у входа в туннель и есть какие-то злобные и мерзкие существа, то они моментально начнут ссориться из-за ячменя и не появятся, даже когда будет открыта дверь. Потом жрецы Ана, и Энлиля, и Уту, и Энки вышли вперед и совершили возлияния меда, молока, пива, вина и масла. Это прибавило нам уверенности, что с нами пребывает добрая воля богов. Малышка, дочь одного из жрецов, подвела ко мне белую овцу, которую я заколол одним взмахом лезвия на жертвеннике, который Энкиду воздвиг прямо над входом в туннель. Яркая кровь брызнула, побежала по тонкой нежной шее, овца вздрогнула, вздохнула, печально посмотрела на меня и умерла. Это был дар, предназначенный стражу ворот Нети, чтобы он не дал демонам вырваться в горный мир. Я провел полосу кровью себе на лбу, а еще одну — вниз по левой щеке — в знак защиты.
Совершив все это, жрецы и я встали на колени у входа в туннель и стали читать заклинания запечатывания и закрытия — нашу окончательную защиту. Эти заклинания преградили путь ненасытным демонам. Я знал, что ни дальние ворота, ни эта дверь-люк не будут преградой для злого духа, который решится выбраться из подземелья. И ворота, и эта дверь были хороши только для того, чтобы смертный люд не заблудился и случайно не забрел в мир мертвых. Только заклинаниями могут обитатели подземного мира быть замурованы там, где их место.
Я был в страхе. Кто бы я ни был — сама преисподняя стояла передо мной нараспашку. Я слышал, как черные воды ее скрытых рек плещутся о невидимые берега. Вокруг меня поднимался едкий дым ее смертельных испарений. Он вился вокруг меня, словно голодные ядовитые змеи. Но все же, как бы я ни был испуган, я был еще и полон высокой дерзостью своей цели. Ибо я был тот Гильгамеш, что еще ребенком сказал: Смерть, ты мне не противник! Смерть, я одолею тебя!
Мы продолжали петь заклинания. «Все вы, что вознамерились причинить нам зло, под каким бы именем вы ни прятались, чье сердце замышляет недоброе против нас, чей язык поносит и изрыгает хулу на нас, чьи уста отравляют нас, по чьим следам идет сама смерть: я вас заклинаю и изгоняю!» — кричал я. — «Я налагаю запрет на ваши уста, я налагаю запрет на ваш язык, я налагаю запрет на ваши голодные глаза, на быстрые ноги, на крепкие колени, на руки загребущие. Этими словами я связываю вам руки за спиной, будь ты дух бесприютный, дух непомянутый, дух никому ненужный, жертвы не получивший, дух не утоливший жажды, дух без потомства, что бы ни заставило тебя блуждать — я велю тебе остаться внизу в преисподней. Эрешкигаль и Гугаланной, Нергалем и Намтару, заклинаю тебя во веки веков никогда не выходить за эти ворота. Мощью Энлиля, что во мне, Аном и Уту, Энки и Ниназу, Аллату, Иркаллой, Белит-сери, Апсу, Тиаматом, Лахму заклинаю тебя…»
Вот такие заклинания повторял я певуче. Я сковал существа внизу всеми именами, которые можно считать святыми, кроме одного: я не сковал их именем Инанны. Хотя она была богиней, покровительствующей городу, я не мог заклинать духов ее именем. Я знал, что это будет пустым звуком, пока жрица Инанна — мой враг.
И как раз потому, что я не заклинал духов именем Инанны, я не был уверен, что мои заклинания действительно сильны. Поэтому я взял с собой на церемонию священный барабан, который великий мастер Ур-нангар сделал мне из дерева хулуппу. Я хотел ввести себя в божественное состояние перед всем. народом Урука, чего я никогда раньше не делал. А потом я послал бы свой дух в туннель. Я мог бы даже дойти до ворот преисподней: моему духу не было преград, и он мог блуждать, где угодно. Таким образом я мог бы проверить, действительно ли наши заклинания запечатали проход.
Я сказал Энкиду:
— Пока я это делаю, пусть все кругом веселятся и танцуют. Дай знак, пусть музыканты начинают.
Почти сразу же звуки труб и фанфар наполнили воздух. Я низко наклонился над своим барабаном и начал медленно и тихо постукивать. Я чувствовал, что нахожусь перед лицом тайны, которая зовется жизнью после жизни, и знают ее только боги. Все ощущения мира живых вокруг меня исчезли. Были только барабан и настойчивый тихий ритм, который я выстукивал. Он овладел моей душой. Он поднял меня над землей. Я видел, как из туннеля поднимается пелена, словно пламя, прохладное и голубое. Меня наполнило гудение, я почувствовал присутствие божества в своем теле, что-то дикое и неуправляемое просыпалось во мне. Дыхание мое участилось, глаза затуманились. Я захлебывался, будто море проглатывало меня.
Но как раз тогда, когда полный восторг божественного транса охватил меня и душа готова была вылететь из своего тела, за моей спиной послышался страшный вопль, который мгновенно вырвал меня из транса. Вопль повторялся снова и снова.
— Уту! Уту! Уту!
Боги, что за крик! Нечеловеческий звук оглушал. Я онемел и стал падать вперед, почти без чувств. Энкиду поймал меня за плечи, иначе я непременно свалился бы в туннель. Барабан и палочки выпали из моих рук и исчезли в пасти туннеля. Я в ужасе смотрел, как они исчезли в темной бездне преисподнего мира.
Тотчас же, почти не задумываясь, я начал спускаться вниз. Но Энкиду, все еще державший меня за плечи, грубо схватил меня и отбросил в сторону, словно я был мешок ячменя.
— Только не ты, только не ты! — крикнул он сердито. — Не смей ходить туда, Гильгамеш!
И прежде чем я мог сказать или сделать что-нибудь, он исчез в черной яме преисподней.
Я остолбенело заглянул за ним. Говорить я не мог. Вокруг меня стояло гробовое молчание: музыканты не двигались, танцоры застыли. Это молчание нарушал только единственный звук: приглушенное всхлипывание или поскуливание девочки лет восьмидесяти, которая лежала на земле неподалеку. Это она вопила так страшно и прервала мой транс. Я понял, что дробь моего барабана подействовала на ее душу почти так же, как на мою, но куда сильнее. Дробь барабана не привела ее в транс, а ввергла ее в жесточайший припадок, под напором которого не устоял ее разум. Страшно было смотреть на нее.
А Энкиду? Где был Энкиду? Дрожа, я заглянул в туннель, но увидел только тьму. Ко мне вернулся голос, и я выкрикнул его имя, но в ответ ничего не услышал. Я позвал снова, еще громче, — в ответ тишина. Тишина.
— Энкиду! — закричал я, и это был вопль боли и потери. Я был уверен, что на него напали прислужники Эрешкигаль. Может быть, они уже уволокли его в ад.
— Подождите! — кричал я. — Энкиду, я иду за тобой!
— Не смей! — резко сказала моя мать, и вдруг три или четыре человека встали, чтобы схватить меня, если я попробую спуститься вниз. Я готов был перебросить их через городскую стену и закинуть в реку. Но в этом не было надобности, потому что я услышал кашель в туннеле, и Энкиду медленно вылез из него. В руке у него были мой барабан и палочки.
Выглядел он страшно. Словно вернувшийся из мертвых. Румянец сошел с его лица, оно казалось выбеленным. Его борода и волосы были серыми от пыли, а его белые одежды в грязи. Паутина опутала его тело, он пытался снять ее. Он секунду стоял, ослепленный солнечным светом. Потом в глазах его появилось такое странное и дикое выражение, что я едва мог узнать своего друга. Те, кто стоял рядом с ним, отпрянули. Я и сам готов был отшатнуться.
— Я принес назад твой барабан и палочки, Гильгамеш, — сказал он. — Они закатились далеко, за вторые ворота. Но я полз на четвереньках, пока не наткнулся на них в темноте.
Я в ужасе уставился на него.
— Но это же настоящее безумие! Зачем ты пошел туда?!
— Но ты же уронил свой барабан, — сказал он все тем же ужасным шепотом. Его передернуло, и он закашлялся от пыли. — Я хотел принести его обратно. Я знаю, как он нужен тебе.
— Но опасность… демоны…
Энкиду пожал плечами.
— Вот барабан, Гильгамеш. Вот палочки.
Я взял их у него из рук. Что-то было не так. Они были на удивление легкими, и мне показалось, что они вот-вот вылетят из моих рук.
— Да, — сказал Энкиду. — Они теперь другие. По-моему сила богов ушла из них. Ведь там, внизу, очень страшное место.
Он снова вздрогнул.
— Я не мог ничего разглядеть — там кромешная тьма. Но пока я полз, я чувствовал, как подо мной хрустят кости. Старые сухие кости. Там кости лежат как ковер, Гильгамеш. Люди спускались туда и до меня. Мне кажется, что я первый, кто оттуда вышел.
Что-то было в воздухе между нами, словно занавес. Что-то случилось с ним в подземном мире, что заслонило от меня его душу. Казалось, я больше совсем его не знаю. Мою душу охватило чувство невозвратимой потери. Исчез Энкиду, которого я знал. Он был там, куда я не посмел войти, и вернулся оттуда с такими знаниями, которого мне никогда не постичь.
— Скажи мне, что ты там увидел? — спросил я. — Там были демоны?
— Я тебе сказал, там было темно. Я ничего не видел. Но я чувствовал их рядом, — он показал рукой на зияющий туннель. — Брат, запечатай эту яму и никогда больше ее не открывай. Запечатай эту дверь, запечатай много раз, и семижды семь раз!
Мне думалось, я лопну от ярости при виде того, что с ним случилось из-за моего барабана. Но как мог я вернуть прошлое, остановить мгновение? Подхватить барабан, чтобы он не упал в яму, остановить Энкиду, чтобы он не спустился туда? Но все это было навеки врезано в книгу времен и судеб, а потому неизменимо и неотвратимо. Я горько сказал:
— Да, Энкиду, конечно же я запечатаю ее. Но слишком поздно, Энкиду! Ах, если бы ты только не стал спускаться туда!
И он ответил со слабой улыбкой:
— Я бы сделал это для тебя снова и снова, если бы пришлось. Надеюсь, что больше никогда не придется.
Он подошел ко мне ближе. Я почувствовал сухой запах пыли и паутины, облепившей его. Погасшим голосом, он сказал:
— Я ничего не видел, когда был под землей, потому что там все черно. Но было нечто, что я видел своим сердцем, а не глазами. Это был я сам, Гильгамеш, мое собственное тело. Его пожирали крысы, будто это была старая выброшенная на свалку одежда. В этой яме я полз по своим собственным костям. Я очень напуган, мой друг. Я боюсь.
Он положил руки мне на плечи и обнял меня. Потом сказал нежно и тихо:
— Мне так грустно, что твой барабан утратил свою божественную силу. Я бы принес его тебе прежним, если бы мог. Ты это знаешь.
26
По-моему, болезнь Энкиду началась на следующий день. Он пожаловался, что его рука, та, которую он когда-то повредил, казалась ему замерзшей. Он сказал, что рука болит и не двигается. Потом у него началась лихорадка и он слег.
— Все, как в том моем сне, — сказал он мне мрачно. — Боги посоветовались и решили, что я тот, кто должен умереть, потому как ты — царь.
— Ты не умрешь, — сказал я с любовью. — Никто еще не помирал от боли в руке. Должно быть, ты ее перетрудил, когда полз в этом проклятом туннеле. Я послал за знахарями: к ночи они снова сделают тебя здоровым.
Он покачала головой:
— Говорю тебе, Гильгамеш, я умираю!
Мне стало и страшно, и больно слышать, каким слабым и усталым голосом он говорит. Он сдавался в плен тому проклятому демону, который вселился в него, а это было совсем на него непохоже.
— Не смей! Я этого не хочу! — воскликнул я. — Я не дам тебе умереть!
Я встал на колени возле его ложа. Лицо его горело, лоб покрылся потом. Я настойчиво сказал ему:
— Брат мой, я не вынесу, если тебя потеряю. Умоляю тебя, не говори более о смерти. Знахари уже идут, они тебя живо поставят на ноги.
Я сидел возле него, как львица, которая охраняет своих детенышей. Он бредил, стонал, глаза его затуманились. Он сказал, что у него все болит. Не было в его теле места, которое бы не страдало от невыносимой боли. Он лежал, трясясь от лихорадки, охваченный страхом смерти, а я чувствовал за него тот же страх. Видя его в таком состоянии, я вспомнил, что и сам смертей, и это терзало меня, как если бы кто поворачивал нож в свежей ране. Смерть была моим старым врагом, и хотя она пришла, чтобы позвать не меня, а моего друга, это вызвало во мне прежний страх. Я собрал всю свою волю и решил не сдаваться смерти и не позволить ей забрать Энкиду.
Я делал все, что только могло облегчить его страдания. Быть может, присутствие во дворце барабана влияло на него так гибельно. Я приказал жрецам вынести барабан за городские стены и там сжечь, применяя заклинания, которые разгоняют злые чары. Я сожалел о потере, но я не стал держать барабан при себе, зная, что из-за него заболел Энкиду. Поэтому барабан сожгли. Но Энкиду не поправлялся.
Пришли самые искусные врачеватели, маги и гадальщики города. Первым осмотрел его старый Наменнадума, царский жрец-бару, великий узнаватель будущего. Он долго осматривал больного справляясь со знаками судьбы, потом призвал меня к ложу больного и сказал:
— Опасность очень велика.
— Тогда прогони ее, гадатель, а то сам окажешься в куда большей опасности, — ответил я.
Наменнадума, должно быть, такие угрозы слышал и раньше, так что мои грубые слова совсем его не задели. Он спокойно ответил:
— Мы будем его лечить. Но нам надо знать больше. Сегодня мы посоветуется со звездами, завтра проведем гадание на овечьей печени, а потом начнем лечение.
— Почему так долго ждать? Гадай сегодня.
— Сегодня неблагоприятный день, — сказал жрец-бару. — Это неудачное время месяца, и луна не сопутствует удаче.
С этим я спорить не мог. Поэтому он отправился прочь изучать звезды, а в комнату вошел водяной человек, великий знаток лекарств. Этот доктор коснулся рукой груди Энкиду, его щеки, покивал головой и нахмурился. Потом он сказал мне, будто я тоже был каким-то азу:
— Мы дадим ему порошок анадишиму, и молодое семя дуашбура, смешанные с пивом и водой. Это остановит лихорадку. А что до его болей, то стебли сухого плюща, смешанные с пальмовым маслом, должны с этим справиться. Чтобы он заснул, надо истолочь семя нигми, и дать ему еще вытяжку из корней и ствола арины, смешанных с миррой и тимьяном.
От надежды у меня захватило дух.
— И он тогда выздоровеет? — спросил я.
С некоторым раздражением знахарь ответил:
— Ему не будет так больно, и его лихорадка приостановится. Наступит улучшение и дойдет очередь до лечения.
В ту ночь Энкиду спал только чуть-чуть, а я совсем не сомкнул глаз.
Утром вернулся Наменнадума. Лицо его было мрачно, он отказался говорить, что он вычитал в звездах. Тогда я приказал ему отвечать. Он пожал плечами и сказал:
— Это не простое предсказание судьбы. Мы должны погадать еще на овечьей печени.
В комнату, где лежал Энкиду, поставили статую бога-врачевателя Ниниба, сына Энлиля. Перед ней была привязана маленькая белая овечка. Я смотрел на маленькое существо с печальными глазами, словно в ней была власть над жизнью и смертью Энкиду. Наменнадума совершил очищающий обряд, возлияния, заклинания, и заколол овцу. Резкими и четкими движениями он разрезал ей брюхо и вытащил дымящуюся печень, которую он тут же исследовал. Он осмотрел место, которое печень занимала в брюхе отцы. «Дворец печенки» — так он это называл. Потом стал вглядываться в саму печень, в ее доли, изгибы и вмятинки. Наконец он поднял голову, посмотрел на меня и сказал:
— Плохой знак, царь.
— Найди что-нибудь получше! — сказал я.
— Смотри, царь! Вот тут, в основании…
Я почувствовал, как закипает мой гнев.
— Ну и что?
Наменнадума забеспокоился. Он видел, как разгорается мой гнев, и знал, что это для него означает. Но если я надеялся, что запугаю его, то ошибался. Он сразу ответил:
— Это значит, что на больном лежит проклятие. Он умрет.
Звук его голоса прозвучал для меня, точно колокол. Я был в ярости. Я чуть не ударил его.
— Все мы умрем — проревел я. — Но еще не сейчас, не так скоро! Проклятие тебе, за твои мерзкие карканья. Смотри хорошенько, жрец-бару! Найди истинную правду!
— Что же мне, обманывать тебя теми словами, которые ты хотел бы слышать?
Он сказал мне эти слова таким тихим и несгибаемым голосом, что все мое бешенство мгновенно покинуло меня. Я понял, что рядом находится человек такой силы и величия, который не станет искать в своем искусстве лазейки, чтобы угодить, даже если это будет стоить ему жизни. Я овладел собой и, когда смог заговорить, я сказал:
— Правда — это то, что я хочу. Мне не нравится та правда, которую ты мне предлагаешь. Но я восхищаюсь тобой, Наменнадума. Ты человек чести.
— Я старый человек. Если я прогневаю тебя и ты меня казнишь, то что мне от этого? Но лгать, чтобы доставить тебе удовольствие, я не буду.
— Неужели все знаки неблагоприятные? — спросил я тихо, просяще, словно пытался вымолить надежду.
— Они очень нехорошие. Но он сам — человек огромной силы. Его еще можно спасти, если следовать правильным действиям. Я ничего не обещаю, царь. Шанс есть, но он очень-очень мал.
— Делай все, что можно. Спаси его.
Жрец-бару мягко положил руку мне на плечо.
— Ты пойми, врачам запрещено лечить тех, чей случай безнадежен. Это вызов богам. Мы этого делать не можем.
— Я это понимаю. Но ты сам только что сказал, что есть маленькая надежда.
— Очень небольшая. Иной гадатель сказал бы, что дело безнадежное, что продолжать нельзя. А я все это тебе сказал, царь, чтобы напомнить, что опасно идти против воли богов.
Со вздохом нетерпения я сказал:
— Так оно и есть. Теперь позови изгонителя злых духов и водяного лекаря и заставь их заняться лечением моего брата.
И они принялись за работу.
Армия целителей окружала постель Энкиду. Кто-то из них был занят жертвами и возлияниями; они лили молоко, вино, пиво, мед, рассыпали ячмень и плоды, резали ягнят, козлят и молочных поросят, и все в таких количествах, что можно было прокормить легион богов. Пока они этим занимались, ашипту, заклинатель злых духов, начал свои песнопения.
— Семеро их, семеро в океанской пучине обитает, — певуче наговаривал он. — Ашакку на человека — лихорадка придет, Натару на человека — лихолетье придет, злой дух Утукку на человека — прострел придет, злой демон Алу на человека — грудная жаба придет, злобный дух Экимму на человека — икота-рвота придет, злой дьявол галлу в человека — сухоручье придет. Злобный бог Илу на человека — сухоножье придет. Семеро их, семеро, злобные они, злобные. Эти семеро в нем — жгут его тело огнем. Изгоняю я их, заклинаю я их, проклинаю я их…
Пока он причитал, я шагал из угла в угол, считая шаги тысячами. Я чувствовал, как длань бога сжимается вокруг Энкиду. Для меня это была смертная мука. Он лежал, хрипло дыша, глаза его помутнели, он едва понимал, что происходит вокруг. Обряды продолжались часами. Когда целители ушли, я остался возле его ложа.
— Брат мой? — прошептал я. — Брат, ты меня слышишь?
Он ничего не слышал.
— Неужели боги пощадили мою жизнь, такой страшной ценой? Неужели они забирают тебя? Ах, Энкиду, это невыносимо…
Он мне ничего не ответил. Я начал говорить слова великого плача над ним, медленно, запинаясь, но остановился. Рано было говорить над ним такие слова.
— Брат, неужели ты покинешь меня? — спросил я. — Увижу ли я тебе когда-нибудь снова?
Он меня не слышал. Он был затерян в бредовом сне.
Ночью он проснулся и заговорил. Голос его был ясный, и ум казался ясным, но он никак не давал знать, что чувствует мое присутствие. Он вспоминал тот случай, когда повредил руку в кедровом лесу, пытаясь спасти прекрасные ворота. И он сказал, что, знай он только, что от этого произойдет, сам бы взмахнул топором и разрубил бы ворота, как сноп тростника. Потом он говорил об охотнике и ловце Ку-нунда, который поймал его в степях.
— Проклятие на его голову за то, что он предал меня в руки людей из города! — вскричал Энкиду таким голосом, что испугал меня. — Пусть он потеряет все свое достояние! Пусть пойманные им звери крушат его ловушки и убегают! Чтоб ему не было радости в сердце! — Какое-то время он помолчал, стал спокойнее, и мне показалось, что он уснул. Но вдруг он снова сел на ложе и снова стал бредить, на этот раз вспоминая священную наложницу Абисимти. — И ее тоже проклинаю! — Он сказал, что был прост и невинен, а она заставила его увидеть мир глазами людей, глазами мужчины. Он не чувствовал ни печали, ни одиночества, ни страха смерти, пока она не заставила его понять, что все эти вещи существуют. Даже та радость, что она принесла ему, говорил он, была запятнана: ибо теперь, умирая, он чувствовал острую боль от сознания, какой радости лишается. Если бы не она, он оставался бы в своем счастливом неведении. Он горько сказал: — Чтоб ей оставаться проклятой на все времена, чтоб ей вечно бродить по улицам и прятаться за дверями! Да насилуют ее пьяные нищие! — Он откатился к стене, кашляя, ворча, бормоча проклятия. Потом он снова утих.
Я ждал в страхе, что следующий, кого он проклянет, будет Гильгамеш. Я боялся этого, пусть даже его ум был воспален. Но меня он не проклинал. Когда в следующий раз он открыл глаза, то посмотрел прямо на меня и сказал своим обычным голосом:
— Что, брат, уже середина ночи?
— По-моему, да.
— Может лихорадка наконец спадает. Мне что, снились сны?
— Снились, а еще ты бредил и говорил вслух. Но это, должно быть, лекарства так на тебя действуют.
— Бредил, говоришь? А что такое я говорил?
Я рассказал ему, что он говорил про ворота, от которых ему причинился такой вред, об охотнике, о наложнице Абисимти, о том, как он их всех проклинал за то, что они ввергли его в такую печальную участь.
Он кивнул головой. Лицо его омрачилось. Он обеспокоенно задумался и какое-то время молчал. Потом спросил:
— А тебя, брат, я тоже проклинал?
— Нет, меня нет, — ответил я, покачав головой.
Каким же огромным было его облегчение!
— Ах! Как же я испугался, что мог проклясть тебя!
— Нет-нет, ты этого не сделал.
— Но если бы все-таки это произошло, ты бы понимал, что это говорит лихорадка, а не Энкиду? Ты же знаешь…
— Конечно, знаю!
Он улыбнулся.
— Я был груб и несправедлив, брат. Это же не ворота виноваты, что я повредил руку. Ку-нинду ни при чем, если я попался людям. И Абисимти ни в чем не виновата. Можно взять назад проклятия, как ты думаешь?
— Думаю, брат, что можно.
— Тогда я беру свои проклятия назад. Если бы не охотник и эта женщина, я никогда не узнал бы тебя. Не научился бы есть божественный хлеб и пить вино царей. Я не носил бы роскошных одежд и не было бы у меня царственного брата Гильгамеша. Да процветает охотник, и в своем потомстве тоже. Да и пошлют боги женщине удачу, пусть ни один мужчина не пренебрежет ею, пусть царевичи и князья любят ее и забывают своих жен ради нее. Да пошлют ей боги свое общество после смерти. Пусть ее одарят гранатами, лапис-лазурью и золотом. Я беру свои проклятия обратно.
Он странно посмотрел на меня и совсем другим голосом спросил:
— Гильгамеш, я скоро умру?
— Ты не умрешь! Над тобой трудятся целители. Еще немного, и ты станешь таким, как раньше.
— Как хорошо было бы снова подняться с этого ложа и бегать рядом с тобой, брат, и охотиться вместе с тобой! Еще немного, говоришь?
— Еще совсем чуть-чуть!
Что еще мог я ему сказать? Почему не дать ему час покоя среди муки и страха? И все же во мне не умирала надежда, что он выздоровеет.
— Спи. Теперь спи, Энкиду. Отдохни.
Он кивнул и закрыл глаза. Я смотрел на него почти до самой зари, пока не уснул сам. Я проснулся, когда вернулись целители, неся с собой животных для утренних жертв. Энкиду снова бредил, и в бреду где-то путешествовал. Я успокоил себя, сказав, что болезнь, наверное, будет наступать и отступать… пока окончательно не пройдет.
В тот день знахари гадали на масляном пузырьке, на воде, собравшись кружком и наблюдая за теми узорами, которые образовывались на воде от масла.
— Смотрите, — сказал один, — масло тонет и снова всплывает.
— Оно движется к востоку. Оно разливается и покрывает всю воду в чашке.
Я даже не спрашивал, что значат эти слова. Я верил в выздоровление Энкиду.
Жрецы совершили над больным заклинания. Жрец сделал фигурку Энкиду из теста и спрыснул ее живой водой: вода дает жизнь, вода все смывает. Молитвой и обрядом они вытянули из него демона в сосуд с водой, который потом разбили над очагом. Другого демона они вытащили на шнурке, который потом завязали узлом. Они очистили луковицу, бросая чешуйки одну за одной в огонь — демона за демоном. И много еще подобных обрядов совершили жрецы.
Не терял времени и врач, готовя настойки кассии и мирта, асафетиды и тимьяна, ивовую кору, финики и груши, толченый черепаший панцирь, измельченную змеиную шкуру и все такое прочее. В его целебных зельях были и соль, и селитра, и пиво, и ни но, и мед, и молоко. Я видел, как жрецы бросают кислые взгляды в сторону доктора, а он отвечает им тем же. Между ними вечно существовало соперничество, так как каждый считал себя подлинным целителем, а остальных — шарлатанами. Но я-то знал, что одни без других пользы не принесут. Лекарства облегчают боль, от них проходят опухоли, они избавляют от лихорадки, но если не выгнать демонов, то какой толк от всех этих лекарств? Ведь именно демоны приносят болезни в первую очередь.
Болезнь Энкиду явилась к нему по воле богов, чтобы наказать нас за убийство Хувавы и Небесного Быка, совершенное в нашей гордыне, я считал, что тоже должен принимать лекарства. Может быть, Энкиду не будет избавлен от своей болезни, доколе я не пройду очищения. Поэтому я глотал любое лекарство, которое давали Энкиду. Какая это была мерзость на вкус! Я давился и извергал часть обратно, но нее же я заставлял себя все это пить, хотя часто после приема лекарств у меня потом не час и не два было сильное головокружение. Достиг ли я чего-нибудь таким усердием? Кто знает? Пути богов неисповедимы для нас. Мысли богов что глубокие воды — кто может измерить их?
Бывали дни, когда Энкиду становилось лучше, а бывало и так когда он слабел на глазах. Три дня подряд он лежал, закрыв глаза, в бессмысленном бреду. Потом он проснулся и послал за мной. Он был бледен и странен. Лихорадка изнурила его плоть: щеки запали, а кожа складками висела на теле. Он уставился на меня. Глаза его были темными мерцающими звездами, пылавшими в резко обозначившихся глазницах. Внезапно я словно бы увидел, как смерть положила ему на плечо свою незримую руку, и я готов был зарыдать.
Я чувствовал свою полнейшую беспомощность. Я — сын божественного Лугальбанды, я — царь, я — герой, я — бог! Невзирая на все свое могущество
— беспомощный. Беспомощный. Энкиду сказал:
— Мне снова снился сон прошлой ночью, Гильгамеш.
— Расскажи мне.
Голос его был спокоен. Он говорил так, словно был в тысяче лиг отсюда:
— Я слышал, как застонало небо, и земля откликнулась. Я стоял в одиночестве и передо мной возникло страшное существо. Лицо его было темным, как у черной птицы бури, а когти были, как у орла. Оно схватило меня и крепко держало в когтях. Его хватка была сильной, я задыхался. А потом оно преобразило меня, брат, оно превратило мои руки в крылья, покрытые перьями. Оно посмотрело на меня и повело меня в Дом Праха и Тьмы, туда, где обитает Эрешкигаль, царица ада. Дорогой, по которой нет возврата, в дом, который не покидают. Оно привело меня во мрак, где его обитатели едят пыль вместо хлеба и глину вместо мяса.
Я уставился на него. Я ничего не мог произнести.
— И тут я увидел мертвых. Они, как птицы, одеты в перья. Света они не видят, они пребывают в темноте. Я пошел в Дом Тьмы и Праха, и я увидел царей земли, Гильгамеш. Властители, великие правители — все они были без корон. Они прислуживали демонам, как рабы, разнося им жареное мясо, наливая прохладную воду из мехов. Я увидел жрецов и жриц, ясновидящих, заклинателей демонов, святых. Чего они добились своей святостью? Они были рабами.
Глаза его горели и в них было жестокое выражение, они были похожи на блестящие куски обсидиана.
— Ты знаешь, кого я увидел? Я увидел Этану, царя Киша, который в былые времена поднимался к небесам, а теперь он там, внизу, в преисподней! Я увидел там богов. На головах у них рогатые короны, гром предвещает их приход. И я увидел Эрешкигаль, царицу ада, и ее писца, Белит-сери, который стоял перед ней на коленях, записывая рассказ умершего на табличках. Когда она меня увидела, то подняла голову и спросила: «А этот еще откуда? Кто его сюда привел?» Тогда я проснулся и почувствовал себя, как человек заблудившийся в пустыне, или преступник, которого схватило правосудие и чье сердце колотится от страха! О, брат, пусть какой-нибудь бог придет к твоим воротам и вычеркнет мое имя, а вместо него впишет свое.
Я весь был сплошная боль, когда внимал его рассказу. Я сказал ему:
— Буду молится за тебя великим богам. Это ужасный сон.
— Я скоро умру, Гильгамеш. Тогда ты опять останешься один.
Что я мог сделать? Что я мог сказать? Скорбь застыла во мне. Да, снова одинок. Нет, я не забыл те дни холода и пустоты, прежде чем появился мой названый брат. Снова один… Эти слова похоронным звоном отозвались во мне. Я похолодел. У меня не было сил. Он сказал:
— Как странно все это будет для тебя, брат. Придет момент, когда ты повернешься ко мне сказать: «Энкиду, ты видишь слона там на болоте?» или: «Энкиду, давай влезем на стены этого города?» а я тебе не отвечу. Меня не будет рядом, тебе придется все эти делать без меня.
Словно мощная рука перехватила мне горло:
— Да, это будет очень тяжело и дико.
Он немного привстал и повернул голову ко мне.
— У тебя сегодня другие глаза. Ты что, плачешь? По-моему, я никогда раньше не видел тебя в слезах, брат. — Он улыбнулся. — Мне уже почти совсем не больно.
Я кивнул. Я знал, почему так было. Горе согнуло меня, словно на шее у меня висел камень.
Затем его улыбка пропала и хриплым мрачным голосом он сказал:
— Ты знаешь, брат, о чем я больше всего скорблю, если не считать того, что я оставляю тебя одного в этом мире? О том, что из-за проклятия великой богини я должен помирать в постели, позорным образом, вместо того чтобы пасть на поле боя. Я медленно и постыдно таю на своем ложе, а тот, кто погибает на поле боя — погибает счастливой смертью. Я же должен умереть с позором.
Меня это не ранило так больно, как его. То, с чем боролся в тот момент я, не имело ничего общего с такими тонкими материями, как стыд и гордость. Он все еще жив, а я уже осиротел. Я страдал от того, что мне предстояло его потерять. Мне совершенно безразлично было, как или где мне был нанесен такой удар. Я сказал, пожав плечами:
— Смерть есть смерть, как бы она ни случилась.
— Лучше бы она пришла за мной иным путем, — сказал Энкиду.
Я ничего не мог сказать. Он был в тисках смерти, и мы оба это знали, и слова теперь ничего бы не изменили. Жрец-бару Наменнадума знал это с самого начала и пытался сказать это мне, но в своем ослеплении я не желал видеть истину. Смерть пришла за Энкиду. А царь Гильгамеш был беспомощен.
27
Он промучился еще одиннадцать дней. Его страдания увеличивались с каждым днем. Но я до конца оставался подле него.
На заре двенадцатого дня я увидел, как жизнь покинула его. В последний момент мне показалось, что в темноте вокруг него распространилось слабое красноватое свечение. Свечение поднялось и уплыло, и все стало темно. Я понял, что он умер. Я молча сидел, чувствуя, как одиночество наплывает на, меня. Сперва я не плакал, хотя, помню, подумал, что дикая газель и горный козел, должно быть, сейчас плачут по нему. Все дикие звери степей оплакивали Энкиду, подумал я. Медведи, гиены, даже пантеры. Тропинки в лесах, где он блуждал, будут плакать по нему. Реки, ручьи, холмы.
Я протянул руку и дотронулся до него. Неужели он уже начинал остывать? Казалось, он просто спал, но это был не сон. Лихорадка, что сжигала его, оставила следы на его лице, сделав его костлявым и ссохшимся. Но теперь он выглядел почти как всегда. Я приложил руку к его сердцу и не почувствовал биения. Я поднялся и накрыл его тело льняным покрывалом, нежно, как новобрачный накрыл бы свою возлюбленную. Но я знал, что это не покрывало, а саван. Я зарыдал. Слезы были для меня новы и странны. Я всхлипывал и чувствовал теплое покалывание в уголках глаз. Губы мои сжались. Во мне словно прорвало какую-то плотину, и горе мое полилось свободно. Я шагал взад и вперед перед его ложем, будто львица, потерявшая детенышей. Я рвал на себе волосы. Я разорвал на себе пышные одежды и бросил их в прах, словно они были нечистыми; я бушевал, безумствовал, рыдал. Никто не смел подойти ко мне. Я остался один на один со своим страшным горем. Я оставался возле тела весь этот день, и следующий, и еще один, пока не увидел, что его требуют слуги Эрешкигаль. Тогда я понял, что надо отдать его на погребение.
Я собрался с силами. От меня требовалось так много сделать.
Сперва, обряд прощания. Я пошел в специальную комнату и принес оттуда столик, сделанный из дерева эламмаку, на который я поставил чашу из лапис-лазури и чашу из граната. В одну я налил меда, в другую насыпал козий творог. Потом я вынес столик на террасу Уту и вынес его на солнечный свет как подношение. Я сказал нужные слова. Теперь, когда я произносил слова великого прощания с умершим, голос мой не прерывался.
Потом я позвал к себе старшин Урука. Разумеется, они знали, что случилось, оделись в цвета траура. Они выглядели печально, но только ради меня, из-за моей утраты, а не по причине собственной скорби. Энкиду для них ничего не значил. Это меня отчасти рассердило, потому что они не замечали достоинств Энкиду и не хотели видеть их в том свете, в котором их видел я. Но они были всего лишь простые смертные. Как могли они понять, как могли они заметить что-либо? Им было не по себе от того, насколько великим было мое горе. Этого они от меня не ожидали, потому что я был не обычным смертным человеком. Они думали, что я выше таких обыкновенных смертных мелочей, как горе. Думали, что среди них обитает бог или что-то в этом роде. Возможно, я сам много сделал для того, чтобы насадить такое отношение к себе. Глаза мои покраснели, лицо побледнело и опухло. Они не могли понять, что я и обычный человек. Гильгамеш-царь, Гильгамеш-бог — да, конечно, но кроме этого я еще был и человек Гильгамеш. Я тяжко страдал от одиночества, которое навязывало мое царствование, хотя никому не приходило в голову, что я страдаю. Потом я нашел друга. Теперь же этого друга украли у меня демоны. Поэтому я плакал.
Я сказал:
— Я оплакиваю моего друга Энкиду. Он был топор у моего пояса, кинжал у бедра моего, щит, который прикрывал меня. Он был мне братом. Велика моя потеря. Боль глубоко ранит.
— Весь Урук скорбит по твоему брату, — говорили они. — Воины плачут. Люди рыдают на улицах. Пахари и жнецы скорбят, Гильгамеш.
Но слова их были пустым звуком для меня. Это была старая история: они говорили мне то, что, по их мнению, мне хотелось бы услышать.
— Мы похороним его, как царя, — сказал я им, чтобы они лучше могли понять, чем был Энкиду.
Они остолбенели, думая, наверное, что я собирался послать своих домочадцев, а может, и нескольких старшин в придачу в могилу, чтобы они составили компанию Энкиду. Но у меня такого и в мыслях не было. Теперь я понимал смерть гораздо лучше, чем в тот день, когда домочадцы и слуги Лугальбанды ушли один за другим под землю. Я не видел ничего достойного в том, чтобы из-за Энкиду плакали другие братья, сыновья или жены. Поэтому я просто приказал им приготовиться к церемонии.
Я вызвал к себе лучших ремесленников города, кузнецов по меди, златокузнецов, камнерезов. Я приказал им изготовить статую моего друга: тело из золота, грудь из лапис-лазури. Я приказал могильщикам вырыть яму возле Белого Помоста и выложить ее стены обожженным кирпичом. Я собрал оружие Энкиду и шкуры животных, которых он убил, чтобы похоронить их вместе с ним. Я приготовил богатые сокровища, чтобы положить их возле него: чаши, кольца, алебастровые кувшины, драгоценности и прочее.
Я по очереди обратился в каждый храм и попросил жрецов принять участие в обряде похорон Энкиду. Единственный храм, куда я не обратился, был тот храм, который я построил для богини. На самом деле было бы только пристойно и необходимо, если бы Инанна присутствовала на похоронах любого высокопоставленного человека в Уруке. Но я не хотел ее там видеть. Я считал, что она отвечает за смерть Энкиду. Я был уверен, что именно она навлекла смерть на Энкиду своими проклятиями от злобы, что моя власть затмевает ее влияние в Уруке. Пусть себе корчится в своем храме, думал я. Я не дам ей случая упиваться зрелищем той раны, которую она мне нанесла. Не хочу видеть ее на похоронах моего друга, которого она у меня вырвала. Никто, кроме ее прислужниц, не видел ее с того дня, когда она выпустила на улицы Небесного Быка. Ну и хорошо, мне так самому больше нравилось.
Но она сделала по-другому. В день похорон я шел во главе процессии от дворца к погребальной яме, рыдая, и остановился возле матери и жрецов, когда мы приносили в жертву быков и коз и совершали возлияния меда и молока. Со мной был охотник Ку-нинда, со мной была священная наложница Абисимти. Они знали Энкиду даже дольше меня, и скорбели по нему так же глубоко. Глаза Абисимти покраснели от слез, одежды ее были разорваны. Ку-нинда, осунувшийся и молчаливый, стоял, сжав кулаки и зубы, пытаясь сдержать горькую скорбь. Я просил их, чтобы они совершали обряды вместе со мной. Как раз в тот момент, когда мы подходили к тому моменту в похоронном обряде, когда льют прохладную чистую воду, чтобы освежить умершего на его дороге к Дому Праха и Тьмы, за моей спиной раздался шум, я обернулся и увидел Инанну среди ее жриц.
Она была куда больше похожа на царицу ада, чем на царицу небес. Лицо ее было раскрашено в мертвенно белый цвет, а ресницы и даже губы были закрашены сурьмой. На ней было темное суровое одеяние, ниспадавшее прямыми складками с плеч, а ее единственным украшением был кинжал из полированного зеленого камня, который висел на груди. Ее жрицы были одеты в таком же духе.
Церемония прервалась. Вокруг меня воцарилось жесткое, искрящееся от невысказанных чувств молчание.
Она смотрела в мою сторону с холодной ненавистью и сказала:
— Похороны, Гильгамеш, а согласия богини не спросили?
— Сегодня я поступаю как считаю нужным. Он мой друг.
— Тем не менее, Инанна все еще правит.
Мой взгляд уперся неколебимо в ее глаза. Я отвечал ненавистью на ненависть, холодом на холод. Ясным размеренным тоном я сказал:
— Я похороню моего друга без помощи богини. Иди назад в свой храм.
— Я говорю от имени богини в Уруке.
— А я царь в Уруке. Я говорю от имени богов… — я поднял руку и широким жестом обвел толпу. — Смотри, здесь жрецы Ана и Энлиля, и жрецы Энки, и жрецы Уту. Боги дали свое благословение на похороны Энкиду. Если богини сегодня здесь не будет, не думаю, чтобы это имело большое значение.
Она долго прожигала меня взглядом, ничего не говоря, даже не дыша. Казалось, она раздувалась на глазах, мне подумалось, что она сейчас взорвется. Ярость ее была чудовищна.
Потом она сказала:
— Смотри, Гильгамеш! Твоя дерзость переходит все границы. Ты уже видел, к чему может привести мое проклятие. Я бы не хотела налагать его на царя Урука. Но если придется, Гильгамеш, я так и сделаю. Так и сделаю.
Я холодно ответил ей.
— И ты смотри, жрица! Твое проклятие может быть смертельным, но и мой меч — тоже. Говорю тебе, убирайся отсюда или я совершу возлияние в честь тени Энкиду твоей кровью. Перед лицом всех говорю тебе, Инанна, что распорю тебе живот.
Это был страшный миг. Разве кто-нибудь когда-нибудь осмеливался разговаривать с богиней в таком тоне? Я был одержим возбуждением; похожим на опьянение. У меня кружилась голова. Дыхание вырывалось с коротким свистом, сердце бешено колотилось.
Она смотрела на меня, широко раскрыв глаза.
— Ты безумен?
Я положил руку на рукоять меча.
— Так я и сделаю, Инанна, так я и сделаю, если придется. Теперь уйди.
Думаю, что мог бы убить ее тогда на глазах у всего Урука, если бы она посмела мне перечить. По-моему, она это тоже поняла. Она одарила меня последним взглядом, взглядом змеи, чье дыхание дышит ядом. Но я не дрогнул. Я вернул ей ее взгляд, огонь за огонь, лед за лед. Тогда она круто повернулась и резко зашагала со своими женщинами к храму.
Когда она скрылась из виду, руки мои расслабились, я шумно выдохнул, потому что был весь напряжен, как натянутый лук. Когда я снова успокоился, то повернулся к жрецу, который все еще держал кувшин с водой, и сказал: «Продолжим».
Он передал мне воду, и я вылил ее в могилу и произнес нужные слова. Потом я снял головную повязку и разодрал одежды, разбил ожерелье и браслеты. Тело болело, на глаза словно кто-то давил, в груди была страшная тяжесть, а кто-то словно стискивал меня за горло, так что я едва мог дышать. Это был конец обряда. Теперь путешествие Энкиду в подземный мир закончилось. Он ушел. Я остался один. Мука терзала мою душу. Я бросился на землю и в последний раз оплакал Энкиду. Потом плач прошел. Я успокоился. Я лежал спокойно, потом поднялся, не говоря никому ни слова. Собственными руками я замуровал могилу кирпичами, а жрецы забросали ее землей.
Во дворец я вернулся один. Весь тот день я в молчании сидел в самых дальних покоях, никого видя. Я вслушивался, стараясь услышать смех Энкиду, потоками заливавший дворец. Молчание. Я слушал не позовет ли он меня. Молчание. Я подумал, как это было бы — пойти сейчас на охоту, и представил себе, как поворачиваюсь к нему, чтобы взять у него дротик. А его возле меня нет. Я чувствовал по нему такую тоску, которую, как я уже знал, никогда нельзя будет утолить. Почему, подумалось мне, именно я был избран для того, чтобы пережить такую потерю? Потому что я — царь? Потому что моя жизнь шла от победы к победе, и сами боги стали мне завидовать? Может быть, Энкиду был дарован мне только затем, чтобы его потом отняли, может быть, таков замысел богов? Дать мне вкусить настоящего счастья, чтобы потом я узнал вкус настоящего горя.
Я был одинок. Что ж. Я был одинок и прежде. Но в тот день, в день похорон моего единственного друга, мне казалось, что такого одиночества я никогда раньше не ведал.
28
Говорят, что все раны врачует время. Может быть, хотя часто на месте ран остается безобразная толстая и сморщенная кожа. Один день перетекал в другой, и я ждал, что на том месте, где Энкиду был безжалостно оторван от меня, образуются шрамы. Я бродил по коридорам дворца и не слышал его смеха, не видел его крупного грузного тела, вразвалку бредущего по террасе, и думал, что скоро привыкну к его отсутствию. Но этого не происходило. Каждый день какая-нибудь мелочь напоминала, что его не было со мной и уже не будет.
Я не мог этого выносить. Я просто должен был куда-нибудь деться из Урука. Куда бы я ни посмотрел в Уруке, везде на улицы его падала тень Энкиду. В гуле толпы я слышал голос Энкиду. Не было места, где можно было бы укрыться от воспоминаний. Это было каким-то безумием. Это было мукой, сводившей с ума. Она пробиралась в каждый уголок моей души и делала бессмысленным все то, что когда-то казалось мне важным. Сперва то, что терзало меня и проедало мне кишки, казалось просто потерей Энкиду, но потом я понял, что настоящая причина моей муки лежала гораздо глубже: не столько смерть Энкиду меня терзала, сколько сознание самой смерти. Ибо я знал, что со временем я смогу примириться даже с потерей Энкиду. Я не был настолько глуп, чтобы думать, что эта рана никогда на зарастет. Но как мог я примириться с потерей всего мира? Как мог бы я примириться с потерей самого себя? Снова и снова я начинал думать об этом и отступал. Смерть придет, Гильгамеш, даже за тобой. Вот что ждало впереди, насмешливая черная маска смерти. И знание, что смерть неизбежна, лишала мою жизнь всякой радости.
Как и в день похорон моего отца Лугальбанды много лет тому назад, я почувствовал такой ужас перед смертью, что едва мог дышать. Я сидел на своем высоком троне, думая, что Энкиду умер и теперь бродит, еле волоча ноги, в том месте, где прах и пыль, одетый, словно птица, унылыми перьями, ужиная холодной глиной. Довольно скоро и я отправлюсь в это темное и мрачное место. Сегодня — царь в роскошном дворце, завтра — птица, хлопающая крыльями, — что же, такова судьба. Я вспомнил, что мальчиком дал обет победить смерть. Смерть, ты мне не противник! Так я хвастался. Я был слишком горд, чтобы умереть. Смерть была оскорблением, которого я не мог бы вынести, и я отвергал власть смерти надо мной. Но могло ли это быть? Смерть поразила Энкиду. Вне всякого сомнения смерть придет и за Гильгамешем в свой черед. Уверенность в этом лишала меня всякой силы. Я больше не хотел быть царем. Я не хотел совершать жертвоприношения и возлияния, чинить каналы и вести в бой войска. Зачем заниматься всем этим, если жизнь наша — вроде жизни тех зеленых мушек, что пожужжат-пожужжат несколько часов в сумерках, а потом погибают? Нам даются друзья, а потом этих друзей отбирают у нас. Тогда лучше вообще не иметь друзей? Размышляя таким образом, я пришел к мысли, что человеческие деяния вообще не имеют смысла, что в них нет ни ценности, ни цели. Мухи, мухи, жужжащие мухи — вот что мы такое, и ничего более, говорил я себе. Смерть — это великая шутка богов, сыгранная над нами. Какой смысл быть царем? Царем мух? Я не буду больше царем. Я убегу из этого города в пустыню.
Можно считать, что из города меня изгнал страх смерти. Я не мог более здесь оставаться. Я был опустошен. Охваченный страхом смерти я в одиночестве покинул Урук.
Я никому не сказал, куда ухожу. Я сам этого не знал. Я не предупредил, что ухожу. Я не оставил вместо себя временного правителя. Я не оставил указаний, что надо делать в мое отсутствие. Безумие правило мной. На рассвете я ушел, взяв с собой такой же маленький узелок, который я нес, убегая в Киш мальчиком.
Горе давило меня. Страх затаился во мне, словно ядовитая змея. Волосы мои были всклокочены. Я не позволял их обрезать с первого дня болезни Энкиду. Моей одеждой была львиная шкура и сандалии крестьянина. По-моему, никто, если бы встретил меня, не узнал бы во мне Гильгамеша-царя — таким одичавшим и перепуганным я выглядел. Я бы и сам себя не узнал, мне кажется.
Печально побрел я в пустыню, идя наугад, без цели, не ища дорог, только мечтая найти такое место, где я мог бы скрыться от гончих псов смерти.
Не могу сказать, куда я шел. Мне теперь думается, я пошел на восток к Эламу, в ту зеленую глушь, где впервые был найден Энкиду, словно я надеялся, что встречу там еще такого, как он. Потом я повернул к северу, к земле, называемой Ури, а затем, наверное, я повернул к западу, где живут люди племени Марту, а потом… не знаю. Я не замечал ничего вокруг. Я шел ночью и днем, спал, где придется или вообще не спал. Я шел, не зная, куда я иду, где я был. В одном я уверен: во время этих скитаний я все время пребывал за границами нашей Земли. Много раз, мне кажется, я подходил к границам мира, заглядывая через стены, окружающие мир, в те области, которые находятся за пределами этого мира. Может быть я не только заглядывал, может быть я заходил туда. Не знаю. Я был в безумии.
Я стал бояться таких вещей, каких никогда не боялся прежде. Однажды на горном перевале до моих ноздрей донесся запах льва. Воздух был холоден и колол ноздри. Запах льва был резкий и острый. Если бы я тогда был Гильгамеш, а возле меня был бы Энкиду, мы бы взбежали по скалам и поохотились на этих львов ради их шкур и сделали бы из них плащи, прежде чем лечь спать. Но Энкиду был мертв, а я больше не был Гильгамеш. Я был никто, я был безумен.
Страх напал на меня и я задрожал. Я поднял глаза. Луна сияла, словно большой светильник над острыми пиками гор, и я взмолился богу Нанне:
— Защити меня, молю тебя, ибо я боюсь.
Эти слова, «Я БОЮСЬ», прозвучали для меня так странно, когда я их произнес, словно еще жива была частица Гильгамеша. «Я БОЮСЬ». Разве я когда-нибудь говорил прежде эти слова? Да, я и раньше боялся смерти, но бояться львов?
Нанна сжалился надо мной. Он послал мне глубокий сон. Мне снились сады и цветы, а когда утренний свет озарил мир и разбудил меня, я увидел вокруг себя львов, радовавшихся жизни. Теперь я не почувствовал в себе никакого страха. Я взял в руки топор. Я вытащил из-за пояса кинжал. Я ворвался в гущу этих львов, словно стрела, выпущенная из лука. Я убил двух-трех и разогнал остальных. Это было лучше, чем ежиться от страха и закрывать голову руками. Но я все еще был безумен.
В другом месте, где деревья росли густо и листья у них были, как маленькие острые наконечники стрел, я увидел птицу Имдугуд, примостившуюся на ветке. Ее острые красные когти глубоко впились в дерево. Птица Имдугуд узнала меня и окликнула:
— Куда ты держишь путь, сын Лугальбанды?
— Это ты, птица Имдугуд?
Она расправила крылья, они у нее похожи на орлиные, и выпрямила шею, на которой сидела львиная голова. Глаза ее горели, будто были украшены драгоценными камнями. Я сказал ей:
— Я смерти боюсь, птица Имдугуд. Я ищу такое место, где бы смерть не могла меня найти.
Она рассмеялась. Смех ее был, тихий и страшный, как смех львицы.
— Смерть нашла Энкиду. Смерть нашла Думузи. Смерть нашла героя Лугальбанду. Почему ты думаешь, что смерть не найдет Гильгамеша?
— Я на две трети бог и только на треть — человек.
Она снова рассмеялась.
— Тогда две трети тебя останутся жить, а умрет лишь треть.
— Ты смеешься надо мной, Имдугуд. Зачем быть такой жестокой? — Я простер к ней руки. — Что я тебе сделал, что ты надо мной смеешься? Ты мстишь за то, что я прогнал тебя с дерева хулуппу? Но дерево принадлежало Инанне. Я тебя просил по-доброму, ласково и вежливо. Помоги мне, Имдугуд.
Слова мои, казалось, проникли ей в душу. Она тихо спросила:
— Чем же я могу тебе помочь, сын Лугальбанды?
— Скажи мне, куда мне бежать, чтобы смерть не нашла меня?
— Смерть приходит ко всем, кто смертей, сын Лугальбанды.
— Ко всем без исключения?
— Без исключения, — сказала она. Потом, помолчав, она добавила: — Нет, все-таки было одно исключение, и ты о нем знаешь.
Сердце мое заколотилось. Я умоляюще сказал ей:
— Кто-то, кто избежал смерти? Я не могу вспомнить. Подскажи мне, подскажи!
— В своем безумии и отчаянии ты забыл героя Потопа.
— Зиусудра! Да, конечно!
— Он вечно пребывает в стране Дильмун. Ты это забыл, Гильгамеш?
Я дрожал от возбуждения. Это было как внезапная лихорадка. Для меня впереди забрезжил свет надежды. Я радостно воскликнул:
— А если я пойду к нему, Имдугуд? Что тогда? Поделится ли он со мной тайной, если я попрошу его?
Я снова услышал издевательский смех:
— Если попросишь? Если попросишь? Если попросишь?
Голос ее теперь напоминал карканье вороны. Она расправила свои огромные крылья.
— Проси! Проси! Проси!
— Скажи мне, как попасть туда, Имдугуд?!
— Спроси!
Теперь мне все труднее становилось ее рассмотреть. Воздух словно сгущался, и темные ветви деревьев казалось смыкались вокруг нее. И слышался ее голос все слабее: слова ее терялись в шуме крыльев и смеха.
— Имдугуд? — вскричал я.
— Проси! Проси! ПРОСИ!
Раздался сухой громкий треск. С дерева упала ветка, как это случается, когда лето бывает слишком сухим. Она упала к моим ногам. Когда я снова посмотрел наверх, то не увидел никаких признаков птицы Имдугуд на фоне бледно-голубого неба.
29
Да, Зиусудра. Я знал эту историю. Кто же ее не слышал?
Вот как спел ее мне арфист Ур-кунунна, когда я был ребенком во дворце Лугальбанды.
Давным-давно пришло такое время, когда богам надоел человеческий род. Грохот, шум, дрязги, поднимавшиеся к небу с земли, раздражали их. Больше всех рассердился Энлиль. Он воскликнул: «Ну как можно уснуть, когда они так шумят?!» И послал великий голод, чтобы уничтожить нас. Шесть лет не было дождя. Крупинки соли выступили из земли и покрыли поля. Погиб урожай. Люди поедали собственных дочерей, один дом пожирал другой. Однако мудрый и сострадательный Энки сжалился над нами и прогнал засуху.
Во второй раз разгневанный Энлиля наслал на нас чуму, и снова милость Энки принесла нам спасение. Те, кто заболел — выздоровели, а у тех, кто потерял своих детей — родились новые. И снова мир кишел людьми, и шум по-прежнему поднимался к небесам, словно рев дикого быка. Тогда снова проснулся гнев Энлиля. «Я не могу сносить этот шум», — сказал Энлиль богам, собравшимся на совет, и поклялся перед ними погубить род человеческий, утопив всех живущих на земле.
Повелитель вод — мудрый Энки, жил в бездонной пучине. Поэтому Энки поручили устроить страшный ливень, наводнение и потоп. Но так как Энки любил людей, он устроил так, что погибли не все.
В те далекие времена в городе Шуруппаке правил царь по имени Зиусудра, человек больших достоинств и набожности. Ночью во сне Энки явился к царю и прошептал ему: «Оставь свой дом! Построй ковчег! Покинь свое царство и спасай свою жизнь!» Он велел Зиусудре сделать ковчег равным по длине и ширине, сделать над ним крепкую крышу, чтобы защититься от потока дождя, и взять в свой ковчег семя всего сущего на земле, когда разразится великий потоп.
И сказал Зиусудра богу: «Я выполню наказ, о. господин мой. Но что мне сказать старшинам города и людям, когда они увидят, что я готовлюсь уплыть?»
На что Энки дал хитрый ответ: «Иди и скажи им, что ты узнал, что Энлиль возненавидел тебя, и ты не можешь жить в Шуруппаке или ступать ногой на землю, которой правит Энлиль. Поэтому ты должен искать убежища в глубокой пучине, там, где правит бог Энки. Но, уходя, скажи им, что, когда ты уйдешь из города, Энлиль дождем прольет на них свою милость, что на город Шуруппак польются отборная дичь, лучшая рыба, ливень пшеницы. Скажи им так, Зиусудра».
Поэтому, с приходом зари царь собрал вокруг себя своих домочадцев и приказал строить ковчег. Все принимали участие в строительстве, даже маленькие дети, подносившие корзины смолы. На пятый день Зиусудра прикрепил киль и обшивку. Стены были сто двадцать кубитов высотой и палубы были сто двадцать кубитов длиной, а весь корабль был шириной с поле. Он построил шесть палуб и разделил нутро корабля на девять частей, разгородив их плотными и крепкими перегородками. Он законопатил все щели, отложил про запас дерево, чтобы чинить ковчег, если понадобится. Пропитка дерева потребовала много мер масла. Каждый день он забивал быков и овец для строителей, и давал им красное и белое вино в изобилии, словно это была речная вода, так что они каждый день пировали так, словно это был новый год. На седьмой день ковчег был завершен.
Трудно было спустить его на воду. Потом царь погрузил на него все свое золото и серебро, посадил на борт всех людей своего дома и всех своих ремесленников, а также животных и скот каждого рода, каждой твари по паре, и животных, пасущихся в лугах, и диких зверей степей и гор. Он знал, что скоро на земле настанет час потопа.
Небо потемнело и задул ветер. Зиусудра сам взошел на борт ковчега и плотно законопатил все отверстия. На заре на краю неба появилась черная туча, разразился гром и страшный ураган. Боги восстали против мира, и засверкали молнии. Это были факелы богов, поджигавшие землю. Ревели бури, ливни потоками устремлялись на землю. И Земля раскололась, словно сосуд, который швырнули об стену.
Весь день ветры дули с юга, становясь все страшнее и страшнее. Воды потопа набрали силу и пали на Землю, словно войско захватчиков. Не было дневного света. Невозможно было ничего разглядеть. Пики гор погрузились в воду. Сами боги испугались потопа, попятились, забравшись на самое высокое небо, небо самого Небесного отца. Заплакали они, прижались, как псы, прилепились к стене, окружавшей высокое небо. Инанна, царица небес, плакала и стенала, как роженица, видя, как гибнут в воде ее люди. И боги рыдали с ней вместе. Пристыженные и напуганные теми стихиями, которые они выпустили на волю, сидели они, дрожа, стеная и плача, и рыдали, и молили о помощи.
Шесть дней и шесть ночей дул ветер, а бури и ливни бушевали на земле. На седьмой день буря утихла. Бурлящее море успокоилось. Зиусудра приоткрыл окошко в своем ковчеге и вышел на палубу. Ноги его подкосились при виде того, что открылось глазам. Все было тихо. Но не видно было земли, вокруг только вода, куда хватало взгляда. В страхе и ужасе закрыл он голову руками и рыдал, ибо знал, что человечество возвратилось во прах, из которого было создано, уцелели только те, кого он взял в свой ковчег. Все человечество и весь мир погиб, разрушенный без остатка.
Так он плыл и плыл в этом огромном море, ища берега. Спустя какое-то время он увидел темные высокие склоны горы Низир, выступающие из воды. Он подплыл к ним. Ковчег остановился. Три дня, четыре, пять, шесть дней ковчег отдыхал, прижавшись к стене горы. На седьмой день Зиусудра выпустил голубку, но она не нашла себе пристанища и вернулась. Он выпустил ласточку. Но и ласточке негде было опуститься, поэтому и ласточка вернулась обратно. Тогда он выпустил ворона. Птица взлетела высоко и далеко, и увидела, что воды начали отступать. Она облетела ковчег широким кругом, каркнула, улетела и больше на ковчег не вернулась. Тогда Зиусудра открыл все двери ковчега всем ветрам и солнечному свету. Он пошел на гору и совершил возлияние, и выставил семь священных сосудов и еще семь, и жег тростник, и кедр, и мирру богам, которые спасли его от страшной участи. Боги почуяли запахи жертвоприношения и пришли, чтобы насладиться ими. Инанна была в числе тех, кто пришел, разодетая в драгоценности. И она воскликнула: «О да, придите, боги! Но не пускайте сюда Энлиля, ибо он тот, кто обрушил воды потопа на моих людей!»
И все-таки Энлиль пришел. Он оглянулся и все осмотрел, и в гневе спросил, как же это могло получиться, что какие-то человеческие души избегли погибели. «Об этом спроси у Энки», — ответил ему Нинурта, воитель, бог колодцев и каналов. И тут Энки смело выступил вперед и дерзко сказал Энлилю: «Безумной затеей было насылать потоп на людей. В гневе своем ты погубил и грешников, и невинных людей. Это чересчур. Это слишком. Если бы ты послал волка, чтобы тот пожрал грешников, или льва, или даже еще один голод, или чуму — что же, этого было бы вполне достаточно. Но не этот же чудовищный потоп! И вот род человеческий погиб, о Энлиль, а весь мир затоплен. Только этот ковчег и бывшие в нем люди выжили, да и это произошло только потому, что Зиусудра, мудрый царь, увидел во сне замыслы богов, и успел что-то сделать, чтобы спасти себя и дом свой. Иди к нему, Энлиль. Говори с ним. Прости ему. Окажи ему свою любовь и милость».
Сердце Энлиля было тронуто состраданием. Он увидел, какие разрушения принес потоп, и его охватила скорбь. И он взошел на борт ковчега Зиусудры. Он взял царя за руку и взял руку его жены, притянул их к себе и дотронулся до их лба, чтобы благословить их. И Энлиль сказал: «Ты был смертен, но больше ты не смертный. Отныне вы будете как боги, и будете жить вдали от рода человеческого, в устьях рек, в золотой земле Дильмун».
Так были вознаграждены Зиусудра и его жена. И там, в земле Дильмун, живут они по сей день, вечные, неумирающие, двое, кто верой и терпением возродил мир в те дни, когда Энлиль наслал потоп, чтобы стереть человеческий род с лица земли.
Вот такую повесть слыхал я от арфиста Ур-кунунны, когда был ребенком во дворце Лугальбанды.
30
Я продолжал свои блуждания в горе и безумии. Но теперь у моих странствий была цель, как бы жалка и безумна она ни была. Не могу сказать, вам, сколько месяцев я шагал, не могу вспомнить, по каким степям, горам, долинам и равнинам. Иногда солнце висело передо мной как огромное око злобного белого огня, посылая волны жара, которые кружили мне голову и туманили разум, когда я шагал сквозь них. Иногда солнце было бледным и висело на горизонте за моей спиной, или слева от меня. Я не могу сказать, что это была за дорога, куда я направлялся. Я встречал реки, и переправлялся через них. Не думаю, чтобы это были Две Реки наших земель. Я пересекал болота, места, где влажный песок чавкал подо мной, как грязь. Я шагал по дюнам и сухим пустыням, я прокладывал себе дорогу в зарослях какого-то колючего тростника, который хлестал меня, как мстительный враг. Я питался мясом зайцев и кабанов, бобров и газелей, а там, где они не встречались, я ел мясо львов, волков и даже шакалов. Когда мне не попадались звери, я ел коренья, орехи и ягоды, а там, где нечего было есть, я не ел ничего. И это не имело для меня значения. Во мне была божественная сила. Передо мной была божественная цель.
Через какое-то время я подошел к горе, которая, как я знал, зовется Машу, которая стережет восход и заход солнца. Сдвоенная вершина Машу достигала высоты небес, а ее склоны спускались до врат подземного царства. Говорят, ее склоны сторожат люди-скорпионы, люди, которые только наполовину люди, а наполовину — скорпионы, с выгнутыми хвостами, в которых таится смертоносное жало. Ходят слухи, что один их взгляд убивает. Я не увидел никаких людей-скорпионов, когда поднимался на Машу. Вернее сказать, я встретил каких-то несчастных печальных страшилищ совсем не смертоносного вида. Может быть, наслушавшись рассказов из третьих рук, люди превратили их в чудовищных людей-скорпионов. С рассказами путешественников всегда так происходит.
Но я не отрицаю, что почувствовал страх, когда впервые встретился с ними, когда я набрел на плоское место, лежащее между двумя вершинами. Существо, наверное какое-то время наблюдало за мной, прежде чем я его заметил, оно стояло на возвышении надо мной, спокойно сложив руки на груди.
Энлилем клянусь, странно было на него смотреть! Наверное, оно больше было человеком, чем кем-нибудь другим, но там, где виднелась его кожа, она была жесткая, ороговевшая и темная, очень похожая на панцирь скорпиона. Я сразу замер как вкопанный, и вспомнил, что мне рассказывали о стражах этой горы, об их смертоносном взгляде. Я быстро закрыл глаза рукой и посмотрел вниз. Сердце мое забилось от досады.
На языке, очень похожем на язык пустынников, скорпионоподобное существо произнесло:
— Тебе нечего меня бояться, пришелец. У нас тут гости так редки, что жалко их убивать.
Эти слова меня успокоили. Я пришел в себя, опустил руку и без страха уставился на существо. Я спросил:
— Это гора Машу?
— Да.
— Тогда я и впрямь очень далеко от дома.
— А где твой дом и зачем ты его покинул?
— Я из города Урука, — ответил я, — и зовут меня Гильгамеш. А оставил я свой дом потому, что ищу то, чего дома не мог найти.
— Гильгамеш? А разве не так зовут царя в Уруке?
— А ты откуда это знаешь, здесь, в таких дальних горах?
— Друг мой, все знают царя Гильгамеша, который на две трети бог и только на треть смертный! Есть ли на свете человек, счастливее его?
— Должно быть, есть, — ответил я. Медленно я поднялся по тропинке, усыпанной обломками скал, поравнялся с человеком-скорпионом и тихо сказал:
— Знай же, что я и есть царь Гильгамеш. Или, вернее, был им, потому что оставил свое царство.
Мы изучали друг друга, глядя в глаза. Никто из нас, похоже, не знал, как отнестись к другому. Мой страх совершенно прошел, хотя вид его кожи вызывал у меня содрогание. Не знаю, было ли это существо, похожее на скорпиона, демоном или просто каким-то несчастным с врожденным уродством. Глаза его, смотревшие на меня, были грустными и добрыми, а я никогда не встречал демона с грустными и добрыми глазами.
Потом существо повернулось, сделав мне знак следовать за ним, и медленно, неуклюже ковыляя, побрело по крутому откосу к маленькой хижине, сделанной из плоских камней и веток. Там было еще одно существо, подобное скорпиону, — женщина, еще более уродливая, чем мужчина, с толстой желтоватой кожей, которая была изрыта шрамами. Неужели мужчина-скорпион ухитрился найти себе подругу, страдавшую от того же недуга? Или эта женщина была его сестрой, которая унаследовала уродство от той же самой крови? Я никогда этого не узнал. Может быть, что женщина была ему и сестрой, и подругой. Дали бы только боги, чтобы люди эти не породили целый род себе подобных! Видно сердце у нее было доброе, потому что она немедленно принялась за работу, заварив что-то вроде чая из перетертых древесных иголок и земляных орехов, чтобы напоить меня. Время было позднее, воздух становился все холоднее. Скоро показались звезды на сером вечернем небе.
Мужчина сказал:
— Этот скиталец — Гильгамеш, царь Урука, чье тело создано из плоти богов.
— Понятно, — сказала она, совершенно не удивившись, будто он ей сказал: «Это козопас Кишудул» или: «Это рыбак Ур-шухадак». Она налила чай в грубую черную глиняную чашку и подавая мне, сказала:
— Даже если это бог, ему надо выпить что-нибудь горячее.
— Я не бог, — сказал я ей. — Во мне есть божественная кровь, но я смертный.
— Понятно, — сказала она.
— Он пришел сюда, чтобы что-то найти, но не рассказал, что именно, — сказал мужчина.
Женщина пожала плечами.
— Что бы то ни было, здесь он этого не найдет.
И, обращаясь ко мне, добавила:
— Здесь ничего нет. Здесь холодно и пусто.
— То, что я ищу, находится еще дальше.
Она пожала плечами и молча потягивала чай. Казалось, ей было все равно, чего я ищу и почему я здесь. Что ей Гильгамеш и все его муки? Она жила здесь, в этом ужасном месте, и если странствующий печальный царь пришел к ней однажды холодным вечером в поисках тайн и выдумок, то какое ей до этого дело? Я рассматривал ее. Лицо ее, казалось, состояло из складок и морщин. Но я увидел, что глаза ее были теплыми и нежным, глазами женщины. Казалось, что чудовище сожрало ее, и только ее глаза выглядывали из его оболочки.
В мужчине было больше любопытства. Он спросил:
— А что же ты ищешь, Гильгамеш?
— В Уруке, — сказал я, — ко мне пришел незнакомец, звали его Энкиду, между нами возникла такая дружба, которая связала нас сильнее, чем любящих.
— А потом он умер?
— Ты это знаешь? — спросил я изумленно.
— Не знаю. Просто я вижу, как твое горе висит над тобой, словно черная туча.
— Я рыдал над ним дни и ночи. Я не хотел отдавать его на погребение. Мне казалось, что если я буду плакать как безумный, мой друг вернется ко мне, к жизни. Но этого не произошло. И когда он умер, моя собственная жизнь опустела. Я стал бродить по пустыне, как охотник, — нет! как безумец. Я вижу, что кроме смерти, меня ничего не ждет, а знать, что впереди смерть, — это лишает мою жизнь всякого смысла. Смерть — мой враг.
Я посмотрел человеку-скорпиону прямо в глаза.
— Я хочу победить смерть! — вскричал я.
— Мы все должны умереть, — сказала женщина уныло и кротко. — Иногда она приходит даже слишком поздно.
— Может быть для тебя! — сказал я свирепо.
— А она придет, хотим мы того или нет. Слушай, лучше принять ее, как она есть, чем с ней воевать. Эту войну не выиграешь.
Я покачал головой.
— Ты ошибаешься. Сколько времени прошло со времен потопа? А Зиусудра все еще живет!
— Да, по особой милости богов, — сказала она. — Но он — один-единственный. Такого не повторится.
Слова ее были как ушат холодной воды на голову.
— Ты уверена? Откуда ты это знаешь?
Человек-скорпион положил руку мне на запястье. Она показалась мне жесткой, словно дерево.
— Тихо, тихо, друг. Ты слишком разволновался. Чего доброго, наживешь лихорадку. Если боги и решили в кои-то веки пощадить Зиусудру, тебе что до этого?
— Многое, — ответил я. — Скажи мне, как далеко отсюда земля Дильмун?
— Очень далеко. Тебе надо перейти через гребень горы, а потом спуститься по непроходимой ее стороне, к морю, а потом…
— Ты можешь показать мне дорогу?
— Я могу рассказать тебе только то, что знаю сам. Но знаю я одно: никто еще не достигал земли Дильмун и никто ее не достигнет. По ту сторону горы лежит глухая пустыня, ты погибнешь там от голода и жажды. Или дикие звери сожрут тебя. Или потеряешься там во тьме и пропадешь.
— Только укажи мне путь, и я найду Дильмун.
— А что потом, Гильгамеш? — спокойно спросил меня человек-скорпион.
Я сказал:
— Я хочу найти Зиусудру. Я хочу задать ему множество вопросов о жизни и смерти. Он прожил сотни лет, а может быть, и тысячи. Он должен знать тайны всех вещей. Может быть, он расскажет мне, как победить смерть.
Оба существа смотрели на меня с жалостью, словно это я был уродом, а не они. Женщина подлила мне еще чаю. Мужчина встал и проковылял в дальний угол свой хижины, откуда принес мне что-то вроде хлеба, изготовленного из диких семян горных растений. На вкус он был все равно, что печеный песок, но я съел его.
После долгого молчания мужчина сказал:
— Ни один мужчина, ни одна женщина из смертных еще не перешли ту пустыню, что лежит впереди, за то время, пока я живу здесь. Я ни о чем таком не слышал, а я живу здесь уже давно. Но я желаю тебе добра, Гильгамеш. Утром я проведу тебя к вершине и покажу тебе дорогу. Пусть боги помогут тебе добраться до моря.
Он разговаривал со мной, как с ребенком, который вопреки здравому смыслу непременно должен добиться своего. В его голосе была печаль, ни тени раздражения и примиренность с жизнью. Ясно было, что по его мнению, меня ждет разочарование. Что ж, вполне разумно, ведь он видел, что лежит по ту сторону гор, а я нет. Моей задачей было добраться до той земли, за пределами которой уже нет ни горя, ни смерти. Мне нужно было дойти до Дильмуна, говорить с Зиусудрой. Я должен совершить это путешествие в скорби и муках, по жаре и по холоду, вздыхая и плача. Я спал в ту ночь на полу в хижине людей-скорпионов, прислушиваясь к сухому царапающему звуку их дыхания. Когда встала заря, они покормили меня, а когда солнце встало между двумя пиками Машу, человек-скорпион сказал: «Пойдем, я покажу тебе дорогу». Мы вместе взобрались на гребень перевала. Я взглянул вниз, в долину, полную острых зазубренных скал цвета обожженной глины. Она простиралась до самого горизонта, справа и слева лежали пустынные степи. Казалось, это место лишено какого бы то ни было благословения богов.
— Какие звери здесь водятся? — спросил я.
— Ящерицы. Длиннорогие козлы. Львы встречаются, но не часто.
— А демоны здесь есть?
— Я бы не удивился, если бы были.
— Я с ними уже встречался, — сказал я. — Может быть, они меня не тронут, потому что они знают, что я могу.
— Возможно, — сказал человек-скорпион.
— А вода? Или родники?
— Пока ты не дойдешь до нижнего леса. Только там, по-моему, должна быть вода.
— Ты сам был там?
— Нет, — сказал он. — Никогда. Да и никто не был.
— Ну что ж, скоро это утверждение перестанет быть правдой, — ответил я и покинул его, горячо поблагодарив за гостеприимство. Он кивнул мне головой, но не обнял меня. Он долго-долго стоял на вершине горы, пока я спускался вниз. Через много часов я поглядел вверх и увидел его уродливую фигуру, которая отчетливо вырисовывалась на фоне неба. Я еще дважды видел его. А потом вершина пропала у меня из виду.
31
В путешествии этом было мало удовольствия и много неожиданностей. Я неохотно вспоминаю о нем. Целыми днями я шагал и шагал по жаре. Солнце, поднимаясь по небосклону все выше, жгло меня нещадно. Я думал, что сила его высушит и ослепит меня. Ночи были мучительно холодными, ветры терзали меня. Камни были очень острые и плохо держались на склонах горы. Стоило мне сделать неверный шаг, как камень с грохотом срывался у меня из-под ног, вздымая тучи сухой красной пыли, которая забивала мне ноздри. Я сильно поранил себе ноги, и много раз, падая, резал кожу, об острые камни. Меня мучила жажда. Тучи бешеной жалящей мошкары кружили у моего лица всю дорогу, впиваясь в мои глаза. Я ел ящериц, которых доводилось поймать, когда они спали на солнце, и длинноногих скачущих насекомых, которых было полным-полно повсюду. Вместо воды, я жевал веточки жалких корявых маленьких растений. По крайней мере, хоть демонов я не видел. Я повстречал нескольких львов, таких же пыльных и жалких, как я сам, но они держались подальше от меня. Я часто думал, доживу ли я до конца этой долины, и не однажды мне думалось, что это мой конец.
Как часто случается, нечто, представленное людьми как невозможное, на проверку оказывается просто невероятно трудным или просто неудобным в осуществлении. Когда я спустился по долине, я обнаружил, что попал на высокогорное плато, где росли только маленькие колючие растения. Не очень привлекательное место, но его можно преодолеть. Я шел по нему много дней. Я шагал терпеливо, словно вол в ярме.
Места постепенно начали меняться. Почва, красная и сухая, становилась темней и не казалась такой бесплодной. С юга долетал теплый нежный ветер, в дыхании которого чувствовалась влага. Однажды я попал в такую узкую долину, что мог коснуться ее стен руками. Когда же я вышел из нее, то оказался в туманной местности с ласковым воздухом и мягким солнечным светом, где сияющая роса покрывала холмы.
Как приятно было ощущать, когда роса коснулась моей иссушенной кожи и омыла ее нежным дождем! Это место могло бы считаться садом богов. Везде цвели цветы с таким ароматом, какой не встречался мне раньше. Трава была светло-зеленая, шелковистая, щекотавшая мне ноги. Воздух переливался серебром. Я увидел, как передо мной, словно веер, разворачивается земля, огромная, золотистая, широкая. Ее окаймляли зеленые холмы, а дальше впереди простиралось море. Я не могу сказать, сколько времени к шел до этого моря, но я знал, что я дойду сюда и найду благословенную землю Дильмун на его берегу.
Ободранный, больной, грязный, с дико горящими глазами, одетый только в львиную рваную шкуру, я пришел в изумление от таких чудес. Мне казалось, что плоды, грузно свивающие с лоз и ветвей были из граната и янтаря, что листья растений были из лапис-лазури. Куда бы я ни посмотрел, мне казалось, что я вижу живые драгоценности: агат, коралл, оникс, топаз.
Когда я шагал среди этого великолепия, я чувствовал, как мои раны заживают. Я был весь покрыт ранами. Мои волосы и борода были покрыты колтунами, под которыми гноились болячки. Язык мой распух от жажды. Все эти раны заживали на глазах. Я нашел прохладную лагуну с чистой голубой водой. Я вошел в воду и долго потом отдыхал, слушая жужжание пчел. Их жужжание звучало как музыка. Белые птицы с длинными, как ходули, ногами смотрели на меня, и казалось, улыбались.
В душе моей был мир. Мне кажется, я никогда не знал такого мира в душе, как тогда. На этой земле царили тишина и радость, которые принесли мне успокоение. Я не чувствовал желания двигаться дальше, не хотелось мне и возвращаться назад, в Урук. Мне было хорошо там, где я был. Я думал, а было ли время, когда я был доволен тем, где я был? Но тогда я не задавал себе этого вопроса, ибо не нуждался в ответе. Человек, в чьей душе мир, не задает себе таких вопросов. Обретение покоя и радости не в моей природе, я не привык проводить время в их обществе. Пока я лежал так, я подумал об Энкиду, который ничего не знал об этом замечательном месте. «Ты видишь, брат? — хотел я спросить его. — На лозах растут не плоды, а драгоценности, птицы здесь ходят на ходулях, а воздух сладок, словно молодое вино! Ты когда-нибудь видел такое прекрасное место, брат? Во всех своих скитаниях, видел ли ты что-нибудь столь же прекрасное?»
Я мог это сказать, но он не слышал, и ужасная грусть овладела мною среди всей радости и мира. Я готов был разрыдаться, но не мог плакать. Печаль снова была со мной.
Отчаяние вернулось в мое сердце. Миг радости и покоя прошел. Да, этот мир и покой были прекрасны, но я был одинок, и никогда не мог этого забыть. И каждый вдох, вел меня еще дальше по дороге к собственному концу. Меня снова охватило горе и печальные мысли.
В печали я поднял глаза к солнцу и увидел бога Уту сияющего, и он смотрел на меня. Я послал ему краткую молитву — всего лишь маленькую просьбу от утешении. И мне показалось, что я услышал, его слова: «Ты думаешь, на это еще есть надежда? Как далеко ты забрался, Гильгамеш! И зачем? Зачем? Ты никогда не найдешь той жизни, которой жаждешь».
— Я хочу найти ее, о великий, — сказал я богу.
— Ах, Гильгамеш, Гильгамеш, до чего же ты глуп!
Сияние не позволяло мне заглянуть в самое сердце бога, поэтому я отвернулся и посмотрел на то, как сияет он на груди лагуны, и отражению бога в воде я сказал:
— Слушай меня, Уту! Неужели я прошел весь свой путь напрасно? Что мне теперь? Лечь в сердце земли и уснуть до будущих времен? Не допусти такого, боже! Избавь меня от этой долгой тьмы, Уту! Пусть глаза мои насытятся солнцем, пока не устанут!
Мне кажется, он услышал мои молитвы. Но в ответ я ничего не услышал. Через какое-то время облако пробежало по лику солнца и я больше не чувствовал присутствия Уту рядом. Тогда я встал, завернулся в свою рваную львиную шкуру и был готов двинуться дальше. Несмотря на всю красоту этого места я уже не мог вернуть обратно то чувство радости, которое познал здесь на какой-то краткий миг. Но и отчаяние ушло от меня. Я был спокоен. Возможно, я вообще ничего не чувствовал. Это не мир в душе. Но все же это лучше, чем отчаяние.
Я шел вперед, ничего не чувствуя, ни о чем не думая. И через несколько дней воздух принес мне новый привкус, острый и странный, похожий на вкус металла на языке. Это был вкус соли. Это был вкус моря. Мое долгое паломничество подходило к концу. Я понял, что приближаюсь к берегу земли, которая лежит напротив благословенного острова Дильмун, где живет вечноживущий Зиусудра. В этом я не сомневался.
32
Я вошел в город, лежащий напротив Дильмуна, и выглядел я, как Дикий человек, второй Энкиду. Это место нельзя по-настоящему назвать городом, — он не равен и десятой части Урука. Он даже не может сравниться с Ниппуром и Шуруппаком. Это всего лишь маленький приморский городишко, скорее даже поселок. Место, где живут рыбаки, и те, кто чинит им сети. Но мне это казалось городом, ведь я столько времени провел в диких местах.
Это было жалкое место. Улицы не были вымощены, сады чахлые и плохо ухоженные, влажный воздух разъедал кирпичи домов. Я увидел нечто, что могло бы считаться храмом, ибо построено было на помосте. Это было маленькое и неказистое строение, я не угадал имя бога, которому этот храм был посвящен. Я не сомневаюсь, что он был не из наших богов. Люди в поселке были худощавые и темнокожие, ходили почти нагими, если не считать куска белой ткани на бедрах. Ничего удивительного, поскольку жара стояла, словно в наших землях в разгар лета, а здесь лето даже еще не наступило. Я брел по поселку, ища себе ночлег и кого-нибудь, кто согласился бы перевезти меня в Дильмун.
Мне думается, что любой путник вызвал бы некоторое оживление в этой сонной деревушке. Не думаю, что путники из кожи вон лезут, чтобы посетить эту деревушку из-за ее достопримечательностей. Но когда по ее жалким улицам идет человек гигантского роста, с диким глазами, исхудавший, одетой в львиную шкуру, опираясь на заостренный посох, это должно вызвать переполох.
Сперва меня увидели малыши — они в страхе разбежались. Потом мальчики постарше и мужчины стали несмело по одному подходить ко мне, разглядывать, показывать на меня пальцами. Я слышал, как они шептались. Язык их был похож на тот, на котором говорят племена пустынь и на котором часто говорят в приграничных землях нашей страны. Я хорошо понимал их. Кое-кто считал, что я — демон, другие, что я — потерпевший кораблекрушение пират, кто-то считал, что я — разбойник. Я спросил их:
— Есть ли здесь место, где я могу получить еду и ночлег?
Они все засмеялись. Может мое произношение показалось им варварским? Потом одна из женщин указала на маленькое здание с белыми стенами, которое было не такое неказистое, как все остальные. Ветерок донес оттуда запах пива. Таверна, сообразил я.
Когда я подходил к дверям таверны, вышла женщина и посмотрела на меня. Она была высока ростом и хороша собой, глаза ее глядели прямо в глаза собеседнику. Тело у нее было сильным, плечи почти мужской ширины. Секунду она смотрела на меня, потом с силой захлопнула дверь прямо у меня перед носом. Я услышал звук задвигаемого засова.
— Подожди! — воскликнул я. — Все, что я прошу — ночлег на одну ночь!
— Не здесь, — ответила она изнутри.
— Где гостеприимство? Что тебя так напугало? Послушай, женщина, я тебя не обижу!
Молчание. Потом она сказала:
— У тебя пугающее лицо. Лицо убийцы.
— Убийцы? Да нет же, женщина, я не убийца, я просто усталый путник. Да открой же! Открой!
При всей моей усталости мною овладела ярость. Я поднял свой посох и воскликнул: — Открой, или я разобью дверь!
Я заколотил в дверь и услышал, как она трещит. Тут я услышал, как открывается засов. Дверь открылась, она стояла передо мной и совсем не казалась испуганной. Челюсти ее были сжаты, руки сложены на груди. В ее глазах пылала ярость ничуть не меньше моей.
Она резко спросила:
— Ты знаешь, во что встала бы новая дверь? По какому праву ты стоишь здесь и барабанишь?
— Я ищу, где бы переночевать, а люди сказали мне, что тут таверна.
— Так оно и есть. Но я не обязана пускать каждого встречного-поперечного бродягу с бандитской мордой.
— Ты меня обижаешь, и напрасно. Я не бандит, женщина.
— А почему у тебя в таком случае такое лицо?
Я сказал ей, что прошел долгий путь, и он оставил на мне свой отпечаток, но я вовсе не бандит. Я вынул из-за пояса несколько кусочков серебра и показал их.
— Если ты не позволишь мне переночевать здесь, то не продашь ли ты мне на худой конец кружку пива?
— Входи, — нехотя пригласила она.
Я вошел внутрь. Она закрыла за мной дверь.
Внутри было прохладно и сумрачно. Я протянул ей один из кусочков серебра, но она отмахнулась:
— Потом, потом. Я совсем не так охоча до твоего серебра, как тебе кажется. Ты кто, путник? Откуда идешь?
Я думал было назваться вымышленным именем, но для этого не было никакой причины.
— Я — Гильгамеш, — сказал я, ожидая, что сейчас она расхохочется мне в лицо, как если бы я сказал «Я Энлиль» или «Я Ан, небесный отец». Но она не засмеялась.
Она посмотрела на меня пристально и внимательно. Я почувствовал ее душу, сильную, теплую, добрую. Чуть погодя я спросил:
— Ты обо мне знаешь?
— Все знают имя Гильгамеша.
— А что, Гильгамеш — убийца?
— Он царь в Уруке. У всех царей руки в крови.
— Я убил демона в лесу, это верно. Я убил Небесного Быка, когда богиня выпустила его на волю, чтобы разрушить город. Я отбирал и другие жизни, когда это было нужно, только тогда. А ты закрыла передо мной двери, словно я разбойник с большой дороги.
— Да, но Гильгамеш ли ты? Ты просишь меня поверить в невероятное, странник!
— А почему ты сомневаешься в моих словах? — спросил я.
Она медленно сказала:
— Если ты и впрямь Гильгамеш из Урука — а по твоему росту, по твоим манерам я полагаю, что это может быть и правдой, — почему же щеки твои запали и исхудали, лицо твое столь измучено, и весь ты задубел от жары, холода и ветра? Разве это царская жизнь? И одет ты в грязные тряпки. Разве это одеяние царей?
— Я долгое время скитаюсь, — ответил я. — По Эламу на севере, в земле, именуемой Ури, в пустынях, я перешел через гору, называемую Машу. Я и кажусь тебе потрепанным и уставшим, потому что долог мой путь. И все-таки я Гильгамеш.
Она покачала головой.
— Гильгамеш — царь. Цари владеют миром. А ты человек, которому горе проело кишки и печаль изгрызла сердце. Это нетрудно заметить.
— Я все-таки Гильгамеш, — ответил я.
В ней была сила и теплота, и я рассказал ей, почему я отправился бродить. За кружкой пива я рассказал ей про Энкиду, моего брата, моего друга, которого я так любил, который гнался за диким козлом пустынь и пантерой степей. Я рассказал ей, как мы жили бок о бок, как мы охотились вместе, как вместе боролись и пировали, как пережили вместе столько опасных приключений. Я рассказал ей, как он заболел, как он умер. Я рассказал ей, как я скорбел по нему.
— Его смерть лежит на мне тяжким грузом, — сказал я. — Это была самая большая потеря. Как могу я быть в мире с миром и с самим собой? Мой друг, которого я любил, превратился в глину и прах!
— Твой друг умер. Ты уже оплакал его, теперь забудь о нем. Никто не скорбит так, как ты.
— Ты не понимаешь.
— Тогда объясни мне, — сказала она и снова налила мне пива.
Прежде чем заговорить, я сделал глоток пенящегося сладкого напитка.
— Его смерть поселила во мне страх моей собственной смерти. И вот, боясь смерти, я блуждаю из страны в страну.
— Нам всем предстоит умереть, Гильгамеш.
— Вот это я только и слышу, снова и снова. От женщины-скорпиона в горах, от бога Уту на небесах, теперь еще и от тебя. Неужели это так? Неужели я должен лечь, как Энкиду, чтобы никогда-никогда больше не подняться?
— Такова наша доля, — сказала она спокойно.
Я чувствовал, как во мне нарастает горячий гнев. Сколько раз я слышал эти слова: такова наша доля, такова наша доля, такова наша доля — эти слова начинали звучать у меня в ушах как блеянье овцы. Что же, я один решил бросить вызов смерти?
— Нет! — закричал я. — Я это не приму! Я буду ходить по земле, пока не узнаю способа избежать смерти!
Хозяйка таверны подошла ко мне и стояла, глядя на меня сверху вниз. И снова я почувствовал ее силу и нежность. В этой женщине чувствовалось присутствие богини, в ней была великая материнская сила. Она мягко сказала:
— Гильгамеш, куда ты бежишь? Гильгамеш, ты никогда не найдешь той вечной жизни, которую ищешь. Как ты не можешь этого понять? Когда боги создавали человека, они тогда же создали и смерть. Смерть они выделили для нас, а жизнь приберегли для себя.
— Нет, — пробормотал я. — Нет и нет.
— Такова наша доля. Забудь о своих поисках. Живи как следует, живи, пока живой. Пусть твой живот будет набит вкусными яствами. Веселись день и ночь. Пой и танцуй, веселись и ликуй. Отбрось эти тряпки и пусть одеяния твои будут чисты и нарядны. Вымой волосы, тело, всегда будь свежим, чистым и ясным. Люби и лелей малышку, что держит тебя за руку, люби и лелей жену, что радуется твоим объятиям. Это ведь тоже наша доля, Гильгамеш. И это единственный правильный путь: живи радуясь, пока у тебя еще есть жизнь. Прекрати свои поиски.
— Не могу успокоиться, — сказал я.
— Сегодня ты успокоишься и отдохнешь.
Она заставила меня подняться. Она была такая высокая, что почти доходила мне до груди.
— Меня зовут Сидури, — сказала она. — Я тихо живу у моря, и иногда странники приходят в мою таверну. Я привечаю их, любезна и ласкова с ними, ибо таково мое предназначение на земле. Что мне делать, как не привечать усталых путников? Пойдем со мной, Гильгамеш.
Она выкупала меня и подрезала мне волосы и бороду, приготовила мне еду из ячменя и тушеного мяса, а вместо пива мы пили вино чистого золотого оттенка. Потом она уложила меня на своем ложе, растирала и гладила меня до тех пор, пока не осталось ни следа от моей усталости. Я провел ночь в ее объятиях. Давно никто не держал меня так в объятиях. Ее тело было теплым, грудь полной, кожа — нежной. Я потерялся в ней. Иногда так хорошо потерять себя таким образом. Еще до зари я проснулся, и почувствовал — беспокойство, хотя возле меня была Сидури. Я сказал ей, что должен идти. И опять она сказала ласково, с нежным упреком:
— Гильгамеш, Гильгамеш, куда же ты бежишь?
— Я хочу пойти в Дильмун, говорить с Зиусудрой.
— Он тебе не поможет.
— Я все равно пойду.
— Переезд через море сложен и труден.
— Не сомневаюсь. Скажи только, как туда попасть.
— Почему ты думаешь, что найдешь Зиусудру, даже если попадешь в Дильмун?
Я ответил ей:
— Потому что я царь Гильгамеш. Он примет меня. Он поможет мне.
— Да не существует твоего Зиусудра, — сказал Сидури.
С грубым смехом я ей ответил:
— Хочешь, чтобы я этому поверил? Сами боги наградили его бесконечной жизнью и послали его жить здесь, в Дильмуне. Уж это-то я знаю. Почему ты хочешь меня отговорить, Сидури?
Она произнесла какой-то мурлычущий звук и придвинулась ко мне поближе.
— Останься со мной, Гильгамеш! Живи себе тихо у моря и состаришься в мире и покое.
Я улыбнулся. Я приласкал ее и попросил:
— Расскажи мне, как добраться до Дильмуна.
Она вздохнула. И через минуту ответила:
— Есть такой лодочник, зовут его Сурсунабу, который служит Зиусудре и жрецам его. Он каждый месяц приезжает на наш берег, чтобы купить особые припасы. Мне кажется, он будет здесь через день-два. Когда он приедет, я попрошу его взять тебя в Дильмун. Может он и возьмет.
Еще три дня я был в таверне Сидури у берегов теплого зеленого моря. Она ухаживала за мной, как за малым ребенком. Временами я думал, что такая жизнь на самом деле не так уж и плоха — не думать о завтрашнем дне, живя только ради удовольствий дня сегодняшнего. Что обещал нам завтрашний день, кроме тьмы и смерти? На самом деле я конечно не верил, что смог бы так жить. Не верила и Сидури. На четвертый день, когда я еще спал, она подошла ко мне и прошептала:
— Проснись, Гильгамеш! Лодочник Сурсунабу приехал из Дильмуна. Встань, оденься, пойдем со мной на пристань просить его, чтобы он тебя перевез.
33
Дильмун! Святой остров! Рай богов!
Ах, какие сказочные истории рассказывают о Дильмуне все те, чье дело рассказывать истории и сказки: арфисты, жрецы, сказатели на рынках. Лежит Дильмун на юге, там нет ни болезней, ни смерти, там все чистое, яркое и блестящее, там ворон не каркает, а волк не пожирает ягненка. Это жилище богов: там жил Энки. Нинхурсаг жила там. Вместе они рожали богов и богинь. Уту всегда улыбается, глядя на Дильмун. Цветы цветут круглый год. Вода в Дильмуне слаще всех в мире.
Я был там. И я расскажу, какой Дильмун на самом деле.
Это воистину рай. Но рай земной чудесное место, но не без недостатков. И у него есть своя доля обычных забот. Бывают там дни, когда солнце не светит. Бывают дни, когда дуют сильные ветры. В Дильмуне человек может и заболеть, и умереть, и мыши там живут, и они грызут мешки с ячменем, и мошки кусаются. Там есть нищие, и люди, родившиеся без ног или слепыми. Но все же это хорошее место. Воздух там горячий и влажный, что для нас странно, потому что в наших землях горячее время года — очень сухое, и воздух никогда не несет с собой влаги. Но в Дильмуне воздух влажен все время, хотя дожди идут редко. Зимой ветер дует с севера и переносится легче. Это маленький остров, но очень плодородный, на нем много воды, богатые рощи финиковых пальм. Дома побелены, крыши плоские. Все процветает.
Великое благо Дильмуна в том, что он стоит в Море Восходящего Солнца. Они живут торговлей, и живут неплохо. Корабли Дильмуна ходят не только в те города, что стоят по берегам Двух Рек, но и гораздо дальше — в Мелухху, Макан и прочие царства, еще более отдаленные, о которых мы в Уруке не слышали. Через рынки Дильмуна проходит медь маканских шахт, золото Мелуххи, сырая необработанная древесина отдаленного востока, слоновая кость и лапис-лазурь из Элама, гранат из далеких земель; а еще все товары, что выделываются во всех царствах Земли, наша медная и бронзовая посуда и наши изысканные драгоценности. Я видел в лавках Дильмуна тонкий и гладкий зеленый камень, который приходит из страны, расположенной и вовсе за краем земли. Никто не знает, как она называется, но знают, что камень берется оттуда, и там его выкапывают из-под земли демоны с желтой кожей. Все на свете, все, что встречается в этом мире и в других неведомых мирах, проходит через Дильмун и создает его богатство. Если богатство и есть отличительная черта рая, тогда Дильмун и есть рай. Я могу понять, почему Энлиль послал Зиусудру в Дильмун в качестве вечной награды. Торговцы заключают лихие сделки и живут в роскошных дворцах, В один прекрасный день, как мне думается, какой-нибудь царь, который не понимает, как важен Дильмун как морской порт для всей мировой торговли, обрушится на него, как лев, и перережет всех этих лоснящихся купцов, чтобы разграбить сокровища их складов, что трещат от товаров по швам. Это будет черный день для Дильмуна. Но пока такой день не пришел, Дильмун останется местом, где жизнь добра к людям, и простой народ может жить по-царски.
Правду сказать, я недолго был в Дильмуне. Я обнаружил, что Дильмун — это не обиталище Зиусудры, хотя Зиусудра и впрямь существовал, хотя он оказался совсем не таким Зиусудрой, каким я его представлял по сказкам и песням. Это я узнал от лодочника Сурсунабу. Это было первое, что я узнал о Зиусудре, прежде чем покинуть эти благословенные острова.
Лодочник был худой, жилистый старик, на голове длинные волосы были собраны в пучок. На нем был клок коричневой ткани на бедрах, и кожа у него от загара была как дубленая шкура. Я нашел его у пристани, когда он грузил покупки в узкую длинную лодку, сделанную из тростника и просмоленную. Когда мы подошли, он поздоровался с Сидури приветливо, но без тепла в голосе, а меня словно бы вообще не заметил.
Хозяйка таверны сказала:
— Я тебе привела платного попутчика, Сурсунабу. Это Гильгамеш из Урука, который хочет говорить с Зиусудрой.
— Ну и пусть себе говорит с Зиусудрой. При чем тут я?
— Ему надо переправиться на остров.
Пожав плечами, Сурсунабу ответил:
— Пусть сам найдет, как добраться до острова, если ему так хочется. А потом пусть узнает, захочет ли Зиусудра с ним говорить.
— Покажи ему свое серебро, — прошептала Сидури.
Я шагнул вперед и сказал:
— Я могу хорошо заплатить за свой проезд.
Лодочник ответил мне холодным взглядом.
— На что мне твой металл?
Дерзкий человек! Однако в нем не было никакого высокомерия. Просто он был крайне равнодушен. Он был для меня загадкой. С нарастающим гневом я сказал:
— Ты что, откажешь мне? Я царь Урука!
— Осторожно, Сурсунабу, — сказала Сидури. — Он не привык к отказам и плохо к ним относится. Нрав у него свирепый, а любовь к себе самому — колоссальна.
Я обернулся и уставился на нее с открытым ртом:
— Что ты сказала?!
Она улыбнулась, и это была нежная улыбка, не несмешливая. Она ответила:
— Ты единственный из всех впадаешь в ярость при мысли о собственной смерти. Что это, как не страшная любовь к самому себе, Гильгамеш? Ты уже сейчас скорбишь и оплакиваешь собственную смерть. Ты больше плачешь по себе самому, чем по своему покойному другу.
Я был потрясен ее словами, такими прямыми и резкими. Меня пронзила мысль об их точном соответствии истине. Я моргал, глядя на нее, и пытался что-то ответить. Но не мог найти слов. А она продолжала:
— Ты же сам это сказал. Ты очень печалился и скорбел по Энкиду, но именно страх смерти, твоей собственной смерти, выгнал тебя из твоего города в дикие и неведомые края. Разве нет? А теперь ты бежишь к Зиусудре, думая, что он тебя научит, как избежать смерти. Ну какой еще человек перед лицом богов так сильно себя любил?
Хозяйка таверны рассмеялась и посмотрела на лодочника:
— Ну же, Сурсунабу, не строй такую постную рожу! Этот человек — царь в Уруке, и он мечтает прожить вечно. Возьми его с собой к Зиусудре, прошу тебя. Пусть узнает то, что должен узнать.
Лодочник сплюнул и продолжал грузить лодку.
Это было совсем невмоготу: презрение лодочника и точный смысл слов Сидури. В моей душе вспыхнул гнев. Я словно почувствовал бой барабана в ушах, и руки у меня задрожали. Я гневно зашагал к Сурсунабу. На набережной между ним и мной был вкопан ряд небольших полированных каменных столбиков. Я бешено раскидал их в стороны, стремясь поскорее добраться до Сурсунабу, и схватил его за плечо. Он взглянул на меня без всякого страха, хотя я был вдвое больше его и мог прибить его. Его бесстрашие охладило мой гнев, я несколько поутих и отпустил его, ловя ртом воздух и пытаясь охладить себя.
Смиренно, как только мог, я сказал:
— Молю тебя, лодочник, возьми меня с собой к твоему хозяину. Я уплачу любую цену, какой бы она ни была.
— Сказал же я тебе, что мне нет нужды в твоих кусочках металла.
— Все равно, возьми меня. Ради богов, чьим потомком я являюсь, молю тебя.
— Так ты дитя богов? Тогда чего тебе бояться смерти?
Я почувствовал, как мой гнев возвращается от этих невозмутимых холодных ответов. Но я проглотил обиду.
— Что же мне, на колени встать? Молить, как нищему? Это что за великое дело — взять меня с собой на этот твой остров?
Он рассмеялся странным тонким смехом.
— Теперь это великое дело, глупый Гильгамеш. В свой ярости ты разбил священные камни, которые дают нам безопасную дорогу. Знаешь ли ты об этом? Они бы нас защитили. Но ты их разбросал.
Как мне стало стыдно! Я еще никогда не чувствовал себя так глупо. Щеки мои горели. Я упал в пыль и стал искать маленькие каменные столбики. Я уж очень ретиво набросился на них, поэтому некоторые лежали, расколовшись на куски, и сколько-то из них упало в море. Я тупо собирал оставшиеся. Сурсунабу жестом дал мне понять, что моя работа напрасна.
— Обойдемся и без них, — сказал он. — Может быть, риск будет чуть больше. Но если ты и впрямь дитя богов, то попроси их дать нам добрую дорогу и присмотреть за нами, пока мы будет плыть.
— Так ты меня берешь?
— А что делать? Возьму, — сказал он, пожав плечами.
Подошла Сидури. Она стиснула мои ладони в своих, прижалась ко мне и нежно сказала:
— Я не хотела говорить тебе обидных слов, Гильгамеш. Но в моих словах была правда, хоть они и были резкими.
— Может быть.
— Не думай о том, что я сказала, я надеюсь, что ты найдешь что ищешь.
— Спасибо тебе, Сидури. И за это пожелание, и за все остальное.
— Если случится так, что ты этого не найдешь, ты вернешься назад, сюда? Здесь всегда тебя будут ждать, Гильгамеш.
— Что же, это было бы не самым плохим местом, — сказал я, — но я не вернусь назад.
— Тогда доброго тебе пути, Гильгамеш.
— Счастливо оставаться, Сидури.
Она держала меня за руки и возносила молитву, обращаясь к какой-то богине, которую я совсем не знал и никогда о ней не слышал. Она молилась о том, чтобы я нашел мир, чтобы поскорее обрел покой и пришел бы конец моих странствий.
Вот только единственный мир и покой, который я себе тогда представлял, был могильным покоем. Я надеялся, что Сидури не это имела в виду. Но я решил принять ее молитву в лучшем смысле слов. Поэтому я поблагодарил ее. Лодочник сделал нетерпеливый жест, я влез в лодку и занял место на корме, опираясь на груду циновок. Он оттолкнулся от берега, и мы поплыли.
Мы молча плыли к Дильмуну. Боги защищали нас, и наш переезд был спокойным и гладким, под ясным небом. Море было то зеленым, то голубым, то глубоким синим, и нигде кругом не было видно земли: ни за нами, ни перед нами. Мне стало не по себе. Я чувствовал, что подо мною великая бездна. Казалось стоит посмотреть в воду — и я увижу могучего повелителя вод гиганта Энки, прямо у него дома. Мне показалось, что в воде мелькнула тень его двурогой короны. И сквозь жару дня я почувствовал озноб, тот озноб, который всегда чувствует человек, когда боги слишком близко от него. Я молился Энки, говоря:
— Я Гильгамеш, сын Лугальбанды, царь в Уруке, я ищу то, что должен искать. Защити и сохрани меня, пока я не найду это, о великий и мудрый Энки.
Моя молитва упала в пучину, и наверное, была услышана, ибо к концу дня мы увидели темную линию пальмовых деревьев на горизонте, а в последних лучах солнца предо мной встали стены города из белого известняка, а на песке возле них лежали вытянутые на берег корабли.
— Дильмун, — буркнул Сурсунабу.
Это было единственное слово, которое он произнес за все время нашего плавания.
34
Я пробыл там дней пять, а может шесть, я ждал, не соизволит ли великий Зиусудра допустить меня пред свои очи. Это было беспокойное время. От Сурсунабу я узнал, что патриарх не живет в самом Дильмуне, а построил себе уединенное убежище на одном из мелких островков, окружив себя обществом святых мужчин и женщин. Немногие пилигримы удостаивались чести попасть на этот остров. Выпадет ли мне такая честь, он не мог сказать, только пообещал, что передаст мою просьбу. Потом он уехал, оставив меня на Дильмуне. Я думал, увижу ли я его когда еще.
Говорю вам, я не привык к тому, чтобы вымаливать милости у лодочников или униженно испрашивать разрешения путешествовать. Но это было то, чему мне предстояло научиться, поскольку другого пути не было. Я сказал себе, что боги придумали это испытание для меня как еще одну ступень посвящения в истинную мудрость.
В странноприимном доме возле пристани я нашел себе жилище: большая, прохладная комната с видом на море, открытая солнечному свету и ветрам. Мы не строим таких зданий в наших землях, где просто глупостью было бы оставить отверстия в стенах. Наши зимы куда суровее тех, что бывают в Дильмуне. Мне казалось неразумным всюду трезвонить о моем происхождении и положении в Уруке, поэтому я назвался хозяину именем Лугал-амарку, того горбатого колдуна, чьими услугами когда-то мне пришлось воспользоваться. Теперь он тоже послужил мне, сам того не ведая.
У меня не было никаких возможностей как-то изменить свой рост или ширину плеч, я пытался вести себя совсем не по-царски, сгорбив плечи и опустив голову. Я не встречался ни с кем взглядом, пока кто-то сам не искал моих глаз. Я старался говорить только то, что было совершенно необходимо. Никто, по крайней мере в лицо, не приветствовал меня как царя Урука, хотя город кишел купцами и моряками всех племен и народов. Кое-кто из них говорил на знакомых мне языках. Я много раз слышал язык нашей земли, и язык племен пустыни, который в Дильмуне основной и очень распространен в прилегающих к нему землях. Некоторые обращались ко мне, неся какую-то тарабарщину. Как они сами понимали друг друга — не знаю. Язык этот состоял сплошь из щелчков, фырканья и чиханья, а другой тек, словно быстрая река, где слова соединялись одно с другим без малейшего промежутка, а еще один язык больше был похож на песню, чем на речь: его пели высокими напевными голосами.
Языки были непривычны, и люди тоже. В первый же день моего пребывания прибыл корабль, на котором у всей команды кожа была такая черная, словно средняя стража безлунной ночи, а волосы — словно свалявшаяся шерсть. Носы у них были широкие и плоские, а губы толстые. Они явно были демонами или людьми какого-то запредельного мира, думалось мне. Но они смеялись и озорничали, как все мореходы на свете, и никто в гавани не пялил на них глаза. Мимо проходил торговец с выбритой головой, как это делают в наших землях, поэтому я его остановил. Оказалось, что он и вправду был из города Эриду. Я кивком показал ему на черных мореходов, и он сказал:
— Ах, эти! Это моряки из царства Пунт. Это место, где воздух горяч, как огонь, и он выжигает кожу людей до черного цвета.
Но он не мог точно сказать мне, где находится Пунт, только неопределенно махнул рукой к горизонту. Позже в этот же день я увидел других чернокожих людей. Носы и губы у них как раз были тонки, а волосы прямые и такие черные, что отливали синевой. По их языку и одеждам, я решил, что они, должно быть, из Мелуххи — она далеко к востоку за Эламом, — и так оно и оказалось. Я еще надеялся увидеть желтокожих демонов, которые копают тот самый удивительный зеленый камень, но в Дильмуне мне они не встретились. Может быть, их и вовсе не существует, но камень есть на свете, и к тому же он и впрямь поразительно красив.
Я мало говорил и много слушал. И мне довелось узнать кое-что про нашу землю, и это глубоко меня обеспокоило.
Одну из историй я услышал, когда тихо сидел в таверне, одиноко потягивая пиво. Вошли двое. Они говорили на языке наших земель. Сперва я испугался, что они могут быть из Урука, но на них были свободные багровые одеяния, отороченные желтой каймой, какие носят в городе Уре. Я скорчился в углу, чтобы стать как можно незаметнее, и повернулся к ним спиной. По тому, как они выговаривали слова, я действительно понял через минуту, что они родом из Ура: молодой только что прибыл в Дильмун, а тот, кто постарше, спрашивал у него, какие новости из дому.
— Нет, расскажи мне это еще раз, а то не поверю, — сказал он. — Неужели Ниппур действительно наш?
— Ну да, я же говорил.
Я подскочил, как ужаленный, и ахнул. Ниппур — город священный, и негоже, чтобы им правил Ур.
— Как же так получилось? — опять спросил тот, кто постарше.
Новоприбывший сказал:
— Удача была на нашей стороне, и время было выбрано удачно — в то время года, когда царь Месаннепада приезжает в Ниппур молиться в храме Дур-анки и совершает обряд кирки. В этом году с ним была тысяча человек, а когда он был в городе, заболел правитель города. Когда правитель заболел, жрецы подумали, что он умрет. Тогда жрец Энлиля пришел к нашему царю и сказал: «Наш правитель умирает, не назначишь ли ты своей божественной властью нового правителя?» Месаннепада долго молился в храме, вышел оттуда и сказал, что Энлиль явился ему и приказал взять на себя правление городом Ниппуром.
— Так просто?
— Так просто, — сказал тот, что помоложе и расхохотался. — Слово Энлиля, глас Энлиля — кто пойдет против этого?
— Да, особенно если тебя поддерживает тысяча человек.
— Вот именно, особенно в этом случае.
Я крепко стиснул в руке свою кружку пива. Это были черные вести. Я не предпринял никаких шагов, когда Месаннепада сверг с престола сыновей Акки и провозгласил себя царем в Кише и в Уре. Мне казалось, что это не представляет никакой угрозы для Урука, и я позволил себе заниматься другим вещами, о которых я вам уже рассказывал. Но Ниппур, который во времена Энмебарагеси и Акки был вассальным городом Киша, со времен перемен в Кише стал независимым городом. Если Месаннепада, захватив Киш, присоединил к себе и Ниппур, то мы были на пути к тому, чтобы оказаться в центре отдельного царства, постепенно окружавшего нас кольцом. Я подумал, а знают ли об этом в Уруке? Может быть, народ Урука ждет, чтобы вернулся царь Гильгамеш и повел бы войска против Ура? Каковы будут притязания Месаннепады, если Гильгамеш не положит им конец?
А Гильгамеш? Где он? Сидит себе в таверне в Дильмуне и ждет, когда его призовут на остров Зиусудры, чтобы он попробовал вымолить себе вечную жизнь! Неужели это поступок царя?
Я не знал, что мне делать. Я сидел как каменный.
Но прибывший из Ура еще не кончил рассказывать новости. Старый Месаннепада был мертв. Его трон занял сын Мескиагнунна. И он не терял времени, чтобы показать всем, что будет продолжать политику своего отца. Месаннепада начал строительство в Ниппуре храма Энлиля. Новый царь не только продолжил строительство храма, лично присматривая за этим, но чтобы показать свою заботу о процветании Ниппура, приказал восстановить и древний обрядовый центр, известный как Туммаль, который пришел в полное разрушение после кончины Акки. Все хуже и хуже! Эти цари Ура смотрели на Ниппур как на свою колонию. Нет, думал я, этого не должно быть. Пусть себе строят храмы в Уре, если им так хочется. Пусть присматривают за своим городом и оставят Ниппур в покое! Я изо всех сил удерживался, чтобы не встать тут же, схватив этих двоих из Ура, не сшибить их головами вместе и приказать, чтобы они убирались обратно в свой городишко и сказали своему царю, что царь Гильгамеш из Урука собирается пойти на него войной!
Но я остался сидеть на своем месте. У меня было дело к Зиусудре. Я проделал долгий путь. Я не мог уехать просто так, какие бы спешные дела ни призывали меня в Урук. По крайней мере, мне тогда так казалось. Может быть, я был неправ. Я наверняка был неправ. Но мне кажется, что все-таки я тогда поступил правильно и я не желаю об этом. Если бы я выбрал именно тот момент, чтобы вернуться в мой родной город, я никогда бы не познал ту величайшую мудрость, которую знаю теперь.
В эту ночь я почти совсем не спал. И в следующие дни я плохо чувствовал себя по ночам, почти не в состоянии заснуть. Я не мог ни о чем думать, кроме наглости и дерзости Мескиагнунны, который гарцует в самых святых местах Ниппура, будто он стал его царем! На пятый день, а может на шестой, появился лодочник Сурсунабу и сказал мне своим скрипучим голосом:
— Едем со мной на тот остров, где живет Зиусудра.
35
Остров был плоский, песчаный, и в отличие от окруженного высокими стенами Дильмуна, абсолютно незащищенный. Кто угодно мог пристать к берегу и запросто пройти прямо в дом Зиусудры. Когда Сурсунабу втащил свою лодку на берег, я заметил, что вдоль берега в три ряда стояли маленькие полированные каменные столбики, очень похожие на те, которые я так бездумно разбросал в своем безумном гневе. Я спросил его, что это значит, и он ответил — это знаки милости Энлиля, данные Зиусудру во времена потопа. Они защищали остров от врагов: никто не смел ступить сюда ногой, пока знаки стояли здесь. Куда бы Сурсунабу ни отплывал — в Дильмун или на главный берег, — он всегда брал с собой в лодку один или два таких камня. Они оберегали его в дороге. Тогда я почувствовал еще более жгучий стыд за то, что я натворил на берегу, разбив и разбросав эти священные камни, словно дикий буйвол в ярости. Но очевидно я был прощен, поскольку Зиусудра соизволил разрешить мне приехать сюда.
Я увидел что-то вроде храма почти в центре острова: длинное низкое здание с выбеленными стенами, которые сияли в солнечном свете. До меня, внезапно дошло, что в этом здании, в нескольких сотнях шагов от меня, ждал меня древний Зиусудра, тот, кто пережил потоп, кто ходил рука об руку с Энки и Энлилем. Воздух был неподвижен. Здесь царила глубокая тишина. Возле главного здания было десять-двенадцать зданий поменьше, несколько вспаханных участков. Это все. Сурсунабу провел меня к маленькому квадратному дому с единственной комнатой без мебели и оставил меня там.
— За тобой придут, — ответил он мне.
Это время, неповторимое в жизни, когда я находился на острове Зиусудры. Время словно остановилось. Сколько времени я просидел там в одиночестве — день, три, пять — не могу сказать.
Я был нетерпелив. Я подумывал о том, чтобы пойти в главное здание и самому найти там патриарха, но я знал, что это только повредит тому делу, ради которого я здесь. Я шагал по пустой комнате из угла в угол. Я смотрел на море, солнечное сияние которого слепило мне глаза, и думал про Мескиагнунну, царя Ура. Я думал о своем сыне-младенце Ур-лугале, и спрашивал себя, станет ли он когда-нибудь царем? Проходили часы, а за мной никто не приходил. Наконец я почувствовал, как великая тишина этого места просачивается в мою душу. Я начал успокаиваться. Это было удивительное чувство. Впервые я ощутил гармонию всего, что меня здесь окружало. В этот момент меня не волновало, что делает Мескиагнунна, или Инанна, или Ур-лугал. Не важно было, нахожусь я здесь десять дней, десять лет или еще больше, словно время прекратило существовать. Но затем это блаженное чувство прошло, и я снова стал раздраженным и нетерпеливым. Сколько времени мне еще сидеть так? Они забыли, что я Гильгамеш, царь Урука? Меня дома ждали важнейшие дела! Да и успею ли я домой к обряду зажигания священной трубки? К празднику статуи Ана?
Наконец за мной пришли, когда я готов был уже бросаться на стены, как охотничий пес, слишком долго пробывший взаперти.
Их было двое. Первой шла тоненькая серьезная девушка с гибким телом танцовщицы, которой, по-моему, было не больше пятнадцати-шестнадцати лет. Она была бы очень хорошенькой, если бы хоть раз улыбнулась. На ней было очень простое одеяние из белой хлопковой ткани, украшений она не носила совсем и несла посох из черного дерева, испещренный надписями на таинственном языке. Долго-долго она стояла у порога моей двери, не спеша рассматривая меня. Потом она сказала:
— Если ты Гильгамеш, то пойдем.
— Я Гильгамеш, — ответил я.
Снаружи, у порога, высокий темнокожий человек со свирепыми жгучими глазами, весь какой-то угловатый, ждал нас. На нем тоже было простое одеяние из хлопка, он тоже держал в руках посох, и выглядел так, словно солнце выжгло с его костей всю плоть. Я не мог понять, сколько же ему лет, но казалось, что очень, очень много, поэтому я страшно заволновался. Дрожа и заикаясь, я сказал:
— Правда ли это? Неужели я удостоен чести видеть перед собой Зиусудру?
Он усмехнулся.
— Увы, нет. Но ты встретишься с нынешним Зиусудрой в должное время, Гильгамеш. Я жрец Лу-нинмарка. А это — Даббатум. Пойдем.
Странно было слышать «нынешний Зиусудра», но я знал, что не следует спрашивать, что он имел в виду. Они дадут мне такие объяснения, какие пожелают и когда пожелают. А может, вообще не удостоят никаких объяснений. В этом я был уверен.
Они привели меня в дом внушительных размеров почти рядом с главным храмом, где мне дали белое одеяние, очень похожее на их собственное. Угостили меня блюдом из чечевицы и фиг. Я едва прикоснулся к нему. Я так давно не ел, что мой желудок, казалось, вообще забыл, что означает чувство голода. Когда я ел, то один, то другой жрец входили в комнату, чтобы участвовать в полдневной трапезе. Все они только мельком взглядывали на меня, не уделяя мне особого внимания. Они не произносили ни слова. Многие из них казались очень древними, хотя все они были жилистыми, крепкими и полными жизненных сил. Когда они закончили трапезу и помолились у алтаря, мне предложили присоединиться к ним и пойти работать в поле. Лу-нинмарка и Даббатум покончив со своей трапезой, поставили меня на работу.
Как приятно было работать, стоя на коленях под жарким солнцем!
Возможно, они испытывали меня, проверяя, как воспримет царь предложенную ему рабскую работу. Если так, то они не понимают, что есть цари, которым доставляет удовольствие работать руками. Было время сажать ячмень. Они уже пропахали землю шириной в восемь борозд и посеяли семена на два пальца в глубину. Теперь я шел по борозде за плугом, очищая землю от коряг, выравнивая ее ладонями. Для такой работы большого умения не требуется, но это работа мне нравилась, и я получал от нее удовольствие.
Потом я вернулся в трапезную. Вошел еще один старик — древний, иссохший, в пергаментной кожей. И снова сердце мое забилось: может быть, это, наконец, Зиусудра? Окружающие обращались к нему, называя Хасиданум. Значит, он просто еще один жрец. Этот старик совершил возлияние масла и зажег три светильника, встав перед ними на колени и бормоча молитву голосом столь слабым, что я не мог его расслышать. Затем он брызнул в меня маслом:
— Это чтобы очистить тебя! — прошептала рядом Даббатум, — ведь на тебе все еще нечистый дух мира.
На вечерней трапезе снова была чечевица, плоды и каша из ячменя с луком. Мы пили козье молоко. Ни пива, ни вина они тут не употребляли, мяса не ели. Работа, выполненная днем, пробудила во мне голод и жажду, и мне досадно было, что нет ни вина, ни мяса. Я попробовал их снова, только когда покинул остров.
Так продолжалось несколько дней: время не знает счета на острове Зиусудры. Я работал на солнцепеке, ел простую еду, смотрел, как жрецы и жрицы выполняют свои обряды, и ждал, что же будет дальше. Я уже перестал думать о Мескиагнунне, об Инанне, об Уре и Ниппуре, даже о самом Уруке забыл. Великое спокойствие острова обволакивало меня.
Через день все жрецы уходили в главный храм совершать богослужения и обряды. Поскольку я был всего лишь послушником, я не мог принимать в них участия, но они разрешали мне быть поблизости и стоять на коленях во время пения молитв.
Храм был огромным зданием с высокими потолками без всяких украшений, с блестящим полированным полом из черного камня и красным потолком из кедровой древесины. Когда впервые вошел туда, я ожидал увидеть в нем патриарха, но его там не было. Это вызвало у меня горькое разочарование. Но я уже научился укрощать свое нетерпение. Мне подумалось, что они намеренно не допускают меня к Зиусудре, пока я так нетерпеливо рвусь к нему получить благословение.
Я слушал их молитвы и сперва почти не понимал. Потом до меня дошло, что язык, на котором велось богослужение был очень древним. И это был язык наших земель. Может быть на нем разговаривали до потопа? Я стал внимательно слушать. В молитвах и песнопениях рассказывалась история потопа, но это была совершенно другая история, не похожая на тот рассказ, который в свое время я слышал от арфиста Ур-кунунны.
Да, их рассказ тоже начинался с гнева богов, который был вызван недостойным поведением людей — их ссорами, жадностью, мелочностью, злобой, жестокостью. И воистину, бог наслал дождь, продолжавшийся неделя за неделей. Реки вышли из берегов, затопив равнины, разрушая стены городов, деревни и поля. Разрушения были страшны, и было взято немало жизней.
Но тут история начинала отличаться от той, что я знал: так от накатанной и всем известной дороги отходит нехоженная неведомая тропа, которая приводит тебя в незнакомое место. Я услышал имя Зиусудру, и стал слушать внимательнее. Вот что я услышал:
«Мудрый и сострадательный Энки пришел к Зиусудре, царю Шуруппака, и Сказал ему: „Подними, о царь, и отложи про запас пищу и все полезные вещи всяких родов, и уйди сам с людьми своя на высокие земли. Ибо разрушения будут велики“. Зиусудра не вопиял в отчаянии, но немедленно все выполнил. Собрал запасы провизии, вещи нужные всяких родов, навьючил их на спины вьючных животных, и вместе со своими людьми пошел в высокие холмы, и оставались они там, пока потоп бушевал на равнинах. И не спускались они, пока не утихла стихия».
Где же великий ковчег, который построил Зиусудра? Куда он погрузил своих людей и зверей всякой твари по паре? Как насчет путешествия по морю, покрывшему весь земной лик? А как же голубка, которую он послал, и ласточка, и ворон? Сказка и легенда? История, о которой пели жрецы не упоминала таких красивых подробностей. Это был просто рассказ о скверном дождливом времени, бурных реках, сообразительном царе, который быстро и решительно действовал, чтобы уменьшить, если не предотвратить, катастрофу для своего города. Чем дольше я слушал, тем обычнее и будничное казалась эта повесть. Когда царь спустился с холмов в долину, Шуруппак и другие города были в ужасном состоянии, забитые илом и грязью. Деревни смыты водой, скот и урожай погибли. Запасы, хранимые в амбарах, были уничтожены. В Землях наступил голод. Но в Шуруппаке он был не так силен и страшен, как в других местах, потому что об этом позаботился Зиусудра. Вот и все. Никакого моря, пожравшего землю, никакого ковчега на шесть палуб, никакой голубки, ласточки и ворона. Я не мог этому поверить. Так все просто? Жрецам не свойственно упрощать вещи. Но вот вам, пожалуйста, стояли жрецы и говорили, что никогда не было всеразрушающего Потопа, был только очень скверный сезон дождей и трудные времена.
Но если так оно и было, то как же с остальной частью этой истории, когда Энлиль пришел говорить с Зиусудрой и его женой, взяв их за руки, и сказал им так: «Вы были смертны, но теперь вы уже не смертны. С этих пор вы станете, как боги, будете жить вдали от рода человеческого, в устьях рек, в золотой земле Дильмуна». Что же, это тоже всего-навсего сказка? И я прошел полмира, чтобы это узнать? Я прошел полмира ради сказки? «Зиусудра не существует», — сказала мне хозяйка таверны Сидури. Неужели это так и есть? Как же я был глуп, пустившись в такое путешествие. «Гильгамеш, Гильгамеш, куда ты бежишь? Ты никогда не найдешь той вечной жизни, которую ищешь».
Мною овладело отчаяние. Я был в смятении, стыд охватил меня.
Именно тогда старый жрец Лу-нинмарка положил руку мне на плечо и сказал: «Поднимись, Гильгамеш, омойся, надень новую одежду. Нынешний Зиусудра хочет видеть тебя сегодня».
Когда я был готов, он повел меня в главный храм. Я чувствовал странное спокойствие — чары этого острова?
Мы вошли в большой зал с кедровым потолком и черным каменным полом и подошли к его дальней стене. Лу-нинмарка коснулся рукой стены, и она отошла назад, словно по волшебству, открыв проход, который уходил в темноту.
— Пойдем, — сказал он.
У него не было ни светильника, ни фонаря. Мы зашагали вперед, и я сразу почувствовал, что от земли поднимается влага, в которой чувствовалась соль. Должно быть это была влага великой бездны, подумал я. Лу-нинмарка уверенно шагал в темноте, и мне трудно было поспевать за ним. Я не разрешал себе ощупывать стены руками, а упорно шагал, ничего не видя. Как далеко мы ушли под землей, я не знаю. Может быть мы просто двигались кругами, под огромным храмовым залом. Спустя какое-то время мы остановились в темноте. Впереди я увидел слабое свечение янтарного света. Свечение было совсем слабым, когда глаза привыкли к темноте, я мог разглядеть, что меня окружало. Я стоял на пороге маленькой круглой комнаты с земляными стенами, освещенной единственным масляным светильником, вправленным в подставку на стене. Благовония потрескивали в порфировом блюде на полу. Посередине комнаты, очень прямо и гордо, сидел на стуле самый старый человек, которого я когда-либо видел. Мне казалось, что жрец Хасиданум стар. Этот человек спокойно мог быть отцом Хасиданума. Я почувствовал, что почтение и ужас сдавили мне горло. Я, кто гулял с богами и боролся с демонами, был потрясен при встрече с Зиусудрой.
Лицо его было словно маска. Глаза были белые и незрячие, рот — глубокая пустая прорезь. Он был совсем безволосый, у него не было даже бровей. Щеки его были круглы, лицо — мягкое. Все старцы этого острова были тощие, иссушенные, выдубленные солнцем, будто состоящие из острых углов. Но Зиусудра словно перешел эту грань и был гладок, с розовой кожей и пухлостью новорожденного ребенка. Его незрячие глаза уставились на меня. Он улыбнулся и сказал глубоким и звучным голосом, в котором в глубине все же слышалась какая-то пустота:
— Вот ты и здесь, Гильгамеш из Урука. Как же долго ты шел сюда!
Я не мог сказать ни слова. Как мог я говорить с человеком, к челу которого прикасалась рука Энлиля?
— Сядь. Или встань на колени. Ты слишком большой. Когда ты стоишь, ты — как стена передо мной.
Я не мог понять, откуда он знал мой рост, не видя ничего. Может быть, ему сказали его жрецы? Может быть, у него было зрение, недоступное смертным. Я не знаю. Я встал перед ним на колени. Он кивнул и улыбнулся мне. Он протянул вперед руку, чтобы благословить меня, и дотронулся до моей щеки. Прикосновение его было как жало. Кончики его пальцев были страшно холодны. Я подумал, что они оставили белые отпечатки на моей коже. Он сказал:
— Ты отпрянул. Почему?
Я смог ответить, хриплым сдавленным голосом:
— Не знаю. Никакой причины нет, отец.
— Ты меня боишься?
— Нет-нет.
— Но вокруг тебя словно аура страха. Мне рассказывали, что ты — великий герой, что сила твоя безгранична, что все люди склоняются перед тобой, как перед хозяином. Так чего же ты боишься, Гильгамеш?
Я молча смотрел на него. Мой леденящий страх отступал, но мне все еще трудно было говорить. Поэтому я просто смотрел. Он сидел неподвижно, как камень, если не считать, что менялось выражение этого необычного лица. На секунду мне подумалось, что это может быть статуя, которая управляется веревками с помощью искусно скрытого под полом жреца. Чуть погодя я сказал:
— Я боюсь того, чего боятся и все люди.
Словно издалека он спросил:
— И что же это такое?
— У меня был друг, который был моей второй половиной. Он заболел и умер. И теперь на меня падает тень моей собственной смерти. Она омрачает мне жизнь. Я ничего не вижу, отец, кроме этой длинной и страшной тени. И она пугает меня.
— Ах, значит герой боится умереть?
Не могу сказать, издевался он надо мной или говорил серьезно.
— Нет, — ответил я, — я не боюсь умереть. Смерть — это всего лишь боль, а боль я переношу спокойно и не боюсь ее. Боль кончается. Я боюсь самой смерти. Я боюсь, что меня сбросят в Дом Тьмы и Праха, где мне придется быть до конца вечности.
— И где тебе уже не придется быть царем и пить густое вино из алебастровых сосудов? Где никто не будет воспевать твою славу и тебе не будет никаких удобств и радостей?
Это было несправедливо. Я резко ответил:
— Нет. Неужели ты думаешь, что все эти мелочи имеют для меня значение, для меня, который покинул свой город по доброй воле, чтобы дойти сюда? Неужели ты думаешь, что мне столь уж нужны вино, или тонкие одежды, или арфисты, чтобы воспевать мои деяния? Да, я их люблю, но не их потерять я боюсь.
— Тогда чего же ты боишься?
— Потерять себя. Жить той жизнью теней, которая наступает после жизни, когда мы ничто, всего лишь печальные, пыльные ничтожества, которые волочат крылья в пыли. Перестать воспринимать мир. Перестать исследовать. Перестать надеяться. Перестать путешествовать. Все это я — Гильгамеш. Когда я уйду в то мерзкое место, Гильгамеша более не будет. Я искал всю свою жизнь, отец. Когда я перестану существовать, этого поиска больше не будет.
— Но все на свете кончается.
— Так ли? — спросил я.
Он пристально посмотрел на меня, словно заглядывал мне прямо в душу своими незрячими глазами, и сказал:
— Когда мы строим дом, неужели мы надеемся, что он простоит вечно? Когда мы подписываем договор, неужели мы думаем, что он связывает нас на вечные времена? Когда река разливается, мы же не думаем, что она никогда не отступит? Ничто не вечно. Бабочка, пока юна, живет в коконе. Потом она выходит на свет божий, краткий миг наслаждается солнцем, потом исчезает. Так и с человеческим родом. И у хозяина, и у раба свой краткий отмеренный миг, свой взгляд на солнце. Такова наша доля.
Опять те же слова! Они приводили меня в отчаяние.
— Такова наша доля! — вскричал я. — И ТЫ МНЕ ЭТО ГОВОРИШЬ. ОТЕЦ!
— А как же иначе? Одна и та же судьба предназначена нам всем.
Прежде чем я осознал, что говорю, я уже сказал:
— Даже для тебя, отец?
Это было поспешная, глупая и бестактная фраза. Щеки мои запылали. Но он остался невозмутим.
— Мы поговорим об этом в следующий раз, — сказал спокойно Зиусудра. — А сегодня мы говорим о тебе. Я так понимаю, Гильгамеш: ты не столько боишься умереть, сколько разгневан тем, что тебе предстоит умереть.
— Это одно и то же, — сказал я. — Назови это страхом, назови гневом — для меня нет разницы. Я лишь вижу, что мир полон радости и чудес, и я не хочу так скоро его покидать. Но как скоро я должен буду это сделать!
— Совсем не скоро, Гильгамеш.
— Как, ты знаешь, сколько мне отпущено?
— Я? Вовсе нет. Не стану обманывать тебя на сей счет. Но ты еще очень молод. Ты очень силен. У тебя впереди много-много лет.
— Сколько бы их ни было, их все равно так мало! Ибо их число ограничено и сочтено, отец.
— Это тебя и заботит?
— Это меня очень огорчает, — ответил я.
— И в свой горести ты пришел ко мне?
— Да.
— Чего же ты хочешь от меня: мудрости или вечной жизни?
— Я ничего не могу скрыть от тебя, отец. Я пришел за вечной жизнью. Мудрость — совсем другое дело, отец. Я надеюсь, что она придет со временем, но именно времени я у тебя и прошу.
— И ты думаешь, что тем, что ты сюда пришел, ты можешь отвоевать себе больше времени?
— Да, я на это надеюсь.
— Тогда да пошлют тебе боги то, чего ты ищешь, — сказал Зиусудра.
Он долго молчал. Голова его упала на грудь, и он, казалось, размышлял. Он хмурился, надувал губы, вздыхал. Я чувствовал, что утомил его. Я не смел говорить. Это длилось долго. Ну же, думал я, протяни руку, дай мне свое благословение, научи меня тайнам своей вечной жизни. А он все вздыхал, все хмурился.
Потом он поднял голову и уставился на меня с такой силой, что я не мог утверждать, что он слеп. Он улыбнулся и тихо сказал:
— Нам надо будет еще поговорить об этих вещах, Гильгамеш. Я пошлю за тобой.
Он шевельнул рукой. Это было разрешение идти. Я увидел, как между нами спускается невидимый занавес. Хотя Зиусудра все еще сидел передо мной, не двигаясь, его словно НЕ БЫЛО ТУТ. Лу-нинмарка, который все это время стоял возле меня, тронул меня за плечо. Я встал. Я низко поклонился. Я ушел. Я последовал за Лу-нинмарка сквозь темный лабиринт, как человек, который движется во сне.
36
Я работал на полях, я ходил в храм, чтобы послушать, как они снова и снова пересказывают историю Потопа, я ел чечевицу и пил козье молоко, и один день плавно переливался в другой. Я почти не думал о событиях в мире за пределами острова, но я не подумывал и уехать. Иногда в моей памяти всплывали улицы Урука, лица моей жены или сына, или какого-нибудь придворного, но они казались мне обрывками сна. Однажды мне показалось, что я вижу перед собой Энкиду, я улыбнулся, но не подошел к нему. В другой раз в мои мысли вкралась Инанна — сияющая, великолепная, более прекрасная, чем когда-либо. У меня в тот момент не было никакой ненависти к ней, просто сожаление, что такая красота однажды была в моих объятиях, но больше я не смогу никогда ее обнять. Так проходили дни. Урук и его заботы ушли от меня. И вот, по прошествии достаточного времени, я обнаружил, что меня снова ведут по подземному переходу в святая святых Зиусудры.
Он сидел так же, как и раньше, гордо выпрямившись на своем маленьком плетеном стуле, как будто это был трон. Я почувствовал его силу. Она окружала его, словно стена. Он был почти богом. Мне казалось, что он пребывал в каком-то измерении за пределами моего понимания. Я инстинктивно хотел опуститься перед ним на колени, как только оказался перед ним. Я думаю, что никогда еще не знал человека, который вызывал был во мне такое почтение.
Как только я вошел, он начал говорить. Но я не мог понять, о чем он говорил. Слова поднимались из него, как столб густого дыма поднимается от костра, сложенного из свежей древесины. И слова его были столь же непроницаемы, как дым, поэтому я не мог пробиться к их смыслу. Его голос кружил и кружил надо мной. Он говорил на языке наших земель — по крайней мере, так мне показалось, — слова его были спокойными и уверенными, как будто он защищал глубоко продуманную теорию. Но слова следовали одно за другим, а я ничего не мог понять. Я встал на колени и уставился на него. Потом из всего этого потока я стал воспринимать отдельные «слова. Мне казалось он говорил о тех временах, когда боги наслали Потоп на землю, по я не был в этом уверен. Бывали минуты, когда мне казалось, что он говорит о том, какие повозки лучше строить, или о том, как найти залежи каменной соли в пустынях и о прочих вещах, совершенно удаленных от повести о Потопе. Я совершенно потерялся в этом потоке повествования. Я был совершенно сбит с толку. Потом он вдруг сказал с абсолютной ясностью:
— Нет никакой смерти, если мы только выполняем те задачи, которые нам назначают боги. Ты меня понимаешь? Нет никакой смерти.
Он повернулся ко мне и, казалось, ждал. Я сказал:
— Значит, твоей задачей было снова заселить страну, когда воды ушли, и за это уберегли тебя от смерти? Тогда в чем моя задача, Зиусудра? Ты же знаешь, что и меня тогда бы смерть пощадила.
— Знаю.
— Но ведь потоп снова не придет. Что же мне делать? Я бы построил такой ковчег, как ты, будь в этом надобность. Но он сейчас никому не нужен.
— Ты думаешь, Гильгамеш, что ковчег существовал? Ты думаешь, что Потоп был?
При слабом и неверном свете светильника я пытался понять по его лицу, что он хочет сказать, и потерпел неудачу. То, что он хотел передать мне, ускользало от моего понимания. Я начинал терять надежду, что он поможет мне найти то, что я искал. Я сказал:
— Я слышал, что они говорят здесь, в храме. Но как мне воспринимать это? В наших землях эту историю рассказывают по-другому.
— Поверь тому, как мы ее рассказываем. Пришли дожди. В Шуруппаке царь собрал людей, взял запасы провизии и переправил все это на высокогорные земли, и оставался там, пока не утихла стихия. Потом они вернулись вниз и построили заново все то, что было разрушено. Вот что произошло. Все остальное — сказка.
— Включая, — сказал я, — и ту часть, где Энлиль сошел к тебе и твоей супруге и благословил вас и отправил вас в Дильмун, чтобы вы жили вечно?
Он покачал головой.
— Царь Шуруппака бежал в Дильмун в отчаянии. Он отправился туда, когда понял, какой глупостью было спасать человечество, поскольку все старые пороки и мерзости стали вновь процветать. Он бросил свое царство, он искал добродетель и чистоту помыслов на этом острове. Вот как это было Гильгамеш. Все остальное — сказка.
— Но в рассказе об этом говорится, что боги дали тебе вечную жизнь. Что же, и это сказка? Кажется мне, что здесь существует вечная жизнь.
— Смерти нет, — сказал Зиусудра. — Разве я тебе не говорил?
— Да, об этом ты мне сказал. Мы должны выполнять те задачи, которые боги перед нами поставили, и тогда не будет никакой смерти. Но я снова спрашиваю тебя, Зиусудра: какова моя задача? Как мне о ней узнать? Какую тайну я должен постичь?
— Почему ты думаешь, что здесь есть тайна?
— Должна быть! Ты так долго прожил! Ты видел Потоп: а он был десять или двадцать жизней тому назад. И все же ты еще сидишь здесь. Вокруг тебя мужчины и женщины, которые кажутся такими же, не имеющими возраста, как и ты. Сколько лет Лу-нинмарка? Сколько лет Хасидунуму?
Я смотрел на Зиусудра долго и серьезно. Руки мои дрожали, и я чувствовал в себе первые признаки той ауры бога, все те странные вещи, которые происходят со мной и накатывают на меня, когда внутри меня все завинчено, словно пружина, от нетерпения и желания получить что-то.
— Скажи мне, отец, что мне делать, чтобы, подобно тебе, победить смерть? Все боги, сообща, подарили тебе вечную жизнь. Кто созовет их на такой же сонет ради меня?
— Ты сам. Единственный, который может это сделать, — сказал Зиусудра.
Я еле мог дышать.
— Как? Как это сделать?
Он ответил мне очень просто:
— Покажи мне сперва, что ты можешь победить сон, а затем мы посмотрим, что можно сделать, чтобы победить смерть. Ты можешь убивать львов, о великий герой. Можешь ли ты сразить сон? Я приглашаю тебя на испытание, на пробу сил. Сиди здесь возле меня семь ночей и шесть дней без сна и потом, может быть, та найдешь ту жизнь, которую ищешь.
— Значит, таков путь?
— Это путь к пути.
Волнение в душе моей утихло. Мной снова овладел покой. Все-таки он собирается вести меня по избранному пути.
— Я попытаюсь, — ответил я.
Испытание и впрямь было суровым: шесть дней и семь ночей! Как такое может осуществить смертный? Но я был уверен в себе. Я был не простым смертным. Я верил в это с детских лет, и как оказалось, справедливо. Я побеждал львов и демонов. Я и сон смогу сразить. Разве во время войн не случалось мне проводить дни без сна, довольствуясь одним или двумя часами отдыха? Разве не шагал я по диким пустыням ночью и днем, будто сон не был мне нужен? Я смогу это сделать, в этом я был уверен. Во мне было рвение. Я сел на корточки возле пего, уставился на его гладкое, розовое спокойное лицо и приготовился к испытанию.
К моему стыду сон напал на меня, как смерч, в одно мгновение. Но я даже не знал, что я сплю.
Глаза мои были закрыты, дыхание стало хриплым. Как я уже сказал, все это произошло в одно мгновение. Я думал, что бодрствую, что я смотрю на Зиусудру и его жену, такую же древнюю, как он сам. И он показал на меня и сказал ей:
— Посмотри на этого героя, на этого силача, который жаждет вечной жизни! Сон напал на него, как песчаный смерч.
— Дотронься до него, — сказала она, — разбуди его. Пусть вернется с миром в собственный город, через те ворота, через какие ушел.
— Нет, — сказал ей Зиусудра в моем сне, — я дам ему выспаться. Но пока он спит, жена, пеки по караваю хлеба каждый день и клади его у его изголовья. И каждый раз делай зарубку на стене, чтобы потом можно было сосчитать дни. Ибо род человеческий лукав. Проснувшись, он станет утверждать, что не спал.
Вот она и пекла хлеб, и ставила зарубки на стене каждый день, а мне спилось, что я спал и спал, думая, что не сплю, день за днем. Они наблюдали за мной и смеялись, улыбаясь моей глупости. А потом наконец Зиусудра коснулся меня, и я проснулся. Но и это по-прежнему происходило в моем сне.
— Почему ты меня трогаешь? — спросил я, а он ответил: — Чтобы тебя разбудить.
Я в удивлении посмотрел на него и стал горячо возражать, что я не спал, что только секунда прошла с той поры, как я присел на корточки, и — глаза мои не смыкались ни на секунду с той поры, как я сел. Он засмеялся и мягко сказал, что его жена пекла по караваю хлеба каждый день, пока я спал, и клала этот каравай со мной рядом.
— Иди, Гильгамеш, пересчитай их, и увидишь, сколько дней ты спал!
Я посмотрел на караваи. Их было семь. Первый был как камень, второй почти такой же черствый, третий был влажный. Четвертый покрылся плесенью у корочки, пятый был весь заплесневелый. Только шестой был свежий. Я увидел, что седьмой печется на углях. Он показал мне отметки на стене, и я понял, что позорно провалился. Я никогда не найду своего пути на дороге к вечной жизни. Отчаяние поглотило меня. Я почувствовал, как смерть подкрадывается ко мне, аки тать в нощи, входит в мою опочивальню, сковывает меня своими холодными костлявыми пальцами. Я громко застонал и проснулся. Ибо все это было по-прежнему в моем сне.
Я посмотрел на Зиусудру и потер лоб рукой, словно хотел освободиться от тумана или от савана. Спать, думая, что я не сплю, видеть сны во сне, и проснуться во сне, и затем проснуться по-настоящему — и все же не знать, спал я, снилось ли мне все это или происходило на самом деле, и спал ли я сейчас или нет — ах, я был навеки потерян в лабиринте иллюзий. Я был потерян!
Я неуверенно приложил к глазам кончики пальцев.
— Я проснулся? — спросил я.
— Думаю да.
— Но я спал?
— Да, спал.
— А долго я спал?
— Может быть час. Может быть день, — пожал он плечами.
Он сказал это так, словно для пего это было одно и то же.
— А мне снилось, что я проспал шесть дней и семь ночей, а ты и твоя жена смотрели на меня, и каждый день она пекла хлеб. А потом ты разбудил меня, и я сказал, что я не спал, но потом увидел семь караваев перед собой. И когда я их увидел, я почувствовал, что смерть уже взяла меня за глотку, и проснулся, потому что закричал.
— Я слышал, что ты вскрикнул, — сказал Зиусудра. — Это было секунду назад, перед тем, как ты проснулся.
— Значит, сейчас я не сплю? — все еще неуверенно спросил я.
— Ты не спишь, Гильгамеш. Но ты спал. Ты сам этого не знал. Сон сразил тебя в первую же минуту твоего испытания.
— Значит, я его провалил испытание, — сказал я грустным голосом. — Я обречен на смерть. Нет мне надежды. Куда бы ни ступала моя нога, везде я нахожу смерть — даже здесь!
Он улыбнулся мне нежной, понимающей улыбкой, как улыбаются малым детям:
— Ты думал, наши тайны спасут тебя от смерти? Они не могут спасти даже меня. Ты это понимаешь. Все эти обряды, которые мы соблюдаем, все тайны: ОНИ НЕ МОГУТ СПАСТИ ДАЖЕ МЕНЯ!
— Но ведь все рассказывают, что ты никогда не умрешь.
— Ну да. Это сказка, предание. Но ведь это не то предание, которое мы сами здесь рассказываем. Когда это я говорил тебе, что избегу смерти? Скажи мне, когда я это говорил тебе такие слова, Гильгамеш, а?
Я ошеломленно смотрел на него:
— Ты сам сказал, что смерти нет. Только делай то, что ты должен делать, и смерти не будет. Ты сам так сказал.
— Правильно. Но ты совсем не понял того, что я хотел сказать.
— Я понял то, что ты говорил, так мне показалось.
— Правильно. Это самое поверхностное, самое легкое знание. Это то самое, что ты надеялся найти. Но это не настоящее знание.
И снова нежная улыбка, такая ласковая, такая любящая. Он тихо сказал:
— Мы тут со смертью заключили договор. Мы знаем ее тайны, она знает наши. Мы знаем, как она действует, она знает, как действуем мы. Но есть у нас и особые тайны, и они защищают нас на время от смерти. Но только на время. Бедняга Гильгамеш, ты так много прошел, чтобы узнать так мало!
Меня озарило, и это озарение наполнило мою душу. Я почувствовал, что кожу мою словно закололи иголками. Я задрожал, когда правда объявилась во всей своей полноте. Я затаил дыхание. Был вопрос, который я должен был задать сейчас же, но я не знал, достанет ли у меня смелости задать его, и я не думал, что получу на него ответ от этого человека. Но все же, помолчав, я сказал:
— Скажи мне одно. Ты Зиусудра. Но ты Зиусудра из Шуруппака?
Он ответил мне не колеблясь. И его ответ только подтвердил то, что я уже начинал понимать.
— Зиусудра из Шуруппака давным-давно мертв, — сказал он.
— Тот самый, который вывел свой народ в высокие земли, когда полились дожди?
— Умер, и очень давно.
— А Зиусудра, который настал после него?
— Тоже умер. Не могу тебе сказать, сколько человек с таким именем сидели на этом троне, но я не третий, не четвертый и даже не пятый. Мы умираем, и другой занимает место и титул. И так мы продолжаем соблюдать наши тайны. Я очень стар, но не буду же я сидеть тут вечно. Может быть, Лу-нинмарка станет Зиусудрой после меня, может быть кто-то еще. Может быть даже ты, Гильгамеш.
— Нет, — сказал я. — Не я.
— А что ты теперь будешь делать?
— Вернусь в Урук. Снова сяду на трон. Буду жить свои дни, сколько их там мне еще осталось.
— Ты знаешь, ты можешь остаться с нами, если пожелаешь, и принимать участие в наших обрядах и обучиться нашим навыкам.
— Научиться у вас, как держать смерть на расстоянии, хотя и не победить окончательно, ибо это невозможно.
— Да.
— Но если я отдам себя в ваши руки, то никогда не смогу покинуть этот остров?
— Ты и сам не захочешь, если станешь одним из нас.
— А каким же образом это отличается от смерти? — спросил я. — Я потеряю целый мир, а взамен получу только маленький песчаный остров. Жить в маленькой комнатушке, работать на полях, вечером читать молитвы, есть только определенную пищу — короче, жить пленником на таком маленьком острове, который можно пройти пешком от берега до берега за час или два…
— Ты бы не стал пленником. Если бы ты остался, это произошло бы только по твоей доброй воле.
— Но это не та жизнь, отец, которую я выбрал бы…
— Нет, конечно, — сказал он. — Я так и думал.
— Я благодарен за предложение.
— Оно не отменяется. Ты можешь прийти к нам в любое время, Гильгамеш, если только захочешь. Но я не думаю, что ты это сделаешь.
Он опять улыбнулся и протянул руку. Так же, как в первый раз, он дотронулся ею до моего лица в знак благословения. Какой холодной была его рука! Его прикосновение было словно жало. Когда Лу-нинмарка вывел меня на поверхность, я все еще чувствовал то место, где он коснулся меня пальцами. Казалось он оставил отпечаток на щеке.
37
Я приготовился покинуть маленький остров. По приказанию Зиусудры мне дали новую богатую одежду и ленту на голову. Я совершал омовения, пока не стал чист, как свежий снег. Лодочник Сурсунабу перевез меня в Дильмун, откуда я сам уже смогу устроить свое возвращение домой. Настроение у меня было несколько подавленное, да и как иначе? Зиусудра все это высказал в одной фразе: я так много шел, чтобы узнать и получить столь мало. И все же я не был в отчаянии. Я поставил все на карту и проиграл, но шансы были не так плохи. Только глупец будет рыдать, когда он бросает кости и просит у них невозможного, а кости ему этого не дают.
Настало время моего отъезда. Старый жрец Лу-нинмарка пришел ко мне и произнес небольшую речь:
— Зиусудра чувствует глубокую скорбь, что ты предпринял такое далекое путешествие, перенес такие опасности и лишения, а не получил никакой награды. Чтобы утешить тебя, он решил открыть тебе тайну, сокровище богов. Он дает это тебе как дар, чтобы ты унес его в свою страну.
— А что это? — спросил я.
— Пойдем со мной.
На самом деле я чувствовал себя таким несчастным, что мне уже не хотелось никакого подарка от Зиусудры. Мне хотелось только поскорей отсюда убраться и быстро попасть в Урук. Но я знал, что отказываться от подарка было бы непристойно и невоспитанно. Поэтому я последовал за жрецом в ту часть острова, где земли вдавались в море узким длинным краем, похожим на язык или лезвие кинжала. На мысе была гора, состоящая из тысяч раковин моллюсков странной формы: с одной стороны они все были шероховатые и неровные, с другой же — гладкие и блестящие. Возле них лежали камни вроде тех, какими пользуются ныряльщики, когда хотят нырнуть поглубже в море.
— Ты удивляешься, зачем мы сюда пришли? — сказал Лу-нинмарка.
Он усмехнулся. Он поднял одну из серых раковин и взвесил ее на руке, гладкой стороной вниз, потом снова бросил на землю. Потом он указал на море.
— Вот то место, где растет растение, которое мы называем Стань-Молодым. Вот здесь, на дне моря.
Нахмурившись, я сказал:
— Стань-Молодым? Что это за растение?
Он удивленно посмотрел на меня.
— Разве ты о нем не слышал? Это чудо из чудес. Из пего мы делаем лекарства для излечения самых безнадежных и тяжких недугов, а самый страшный из них — старость. Это лекарство возвращает человеку прежнюю силу, убирает морщины с его лица, заставляет волосы расти. И растение, из которого делается это снадобье, лежит в этих водах. Видишь эти раковины? Это его листья. Мы ныряем за этим растением, мы приносим его на поверхность, извлекаем из него силу, а остальное выбрасываем. Из плодов этого растения мы готовим настойку, которая сохраняет нашу силу и в старости, а может от старости и предохранить. Прощальный дар Зиусудры тебе: я должен позволить тебе взять с собой в путешествие плод Стань-Молодым.
Изумлению моему не было предела.
— Мы не стали бы шутить над тобой злые шутки, Гильгамеш.
Изумление на момент лишило меня дара речи. Когда я смог заговорить, то спросил:
— Как же мне добыть эту поразительную вещь?
Лу-нинмарка доказал рукой на камни для ныряния, веревки и море. Он жестом приказал мне раздеться и нырнуть в воду.
Я только на момент заколебался. Море — это владения Энки, а я никогда не чувствовал себя спокойно перед этим богом. Для меня было бы совершенно новым переживанием войти в море. Ну что же, подумал, я, до сих пор Энки не причинил мне никакого вреда, а мальчиком я довольно часто нырял в реки. Чего же мне бояться? Растение Стань-Молодым ждало меня в этих водах. Я сбросил свой плащ, привязал к ногам тяжелые камни и, спотыкаясь, побрел к воде.
Какой она была чистой эта вода, какой теплой, какой нежной! Она лизала розовый песок у берега и сама приобретала от этого розовый оттенок. Я взглянул на Лу-нинмарка, который жестами подбадривал меня. Здесь было мелко; и целую вечность, казалось, я брел в воде колено. В конце концов я подошел к тому месту, где дно круто обрывалось и, казалось, я нависал над пастью бездонного обрыва внизу. Я оглянулся. И снова Лу-нинмарка поощрил меня жестами. Я глубоко вздохнул и бросился вперед и вниз, куда тянули меня камни.
Радостно парить, опускаясь в эту бездну! Это было похоже на полет, совсем без усилий, плавно и спокойно, полет вниз. Было совсем не страшно. Цвет моря сгущался вокруг меня. Теперь оно сияло богатым цветом сапфира. Пока я опускался, рыбы подплывали ко мне и изучали меня огромными выпученными глазами. Они были всех цветов: в желто-черную полоску, багряные, лазурные, цвета топаза и изумруда, цвета бирюзы. Они были таких цветов, каких я никогда не видел, и таких сочетаний, в которые трудно было поверить. Я мог бы дотронуться до них — так близко они были. Они танцевали вокруг меня с непередаваемой грацией.
Вниз, вниз, вниз. Я поднял руки над головой и свободно отдался притяжению бездны. Волосы струились у меня над головой, изо рта вырывался пенящийся поток пузырьков. В груди моей сердце начинало стучать, словно колокол. Но сердце мое радовалось: по всему моему телу проходила волна наслаждения. Не могу сказать, как долго это продолжалось и как давно я не испытывал такой радости. Наверное с тех пор, как Энкиду покинул меня. Ах, Энкиду, Энкиду, если бы ты мог быть со мной сейчас!
Вода здесь была намного прохладнее. Мерцающий свет далеко вверху был бледным, голубоватым, отдаленным, словно свет луны, проходящий сквозь облака. Вдруг под ногами я почувствовал твердую ночку: я достиг дна этого затонувшего царства. Под ногами мягкий песок, передо мной зубчатые острые скалы. Где это растение? Где Стань-Молодым? Ах, вот оно. вон оно! Я увидел множество этих растений. Это были каменные серые листья, прильнувшие к скале. Я слегка тронул некоторые из них, думая, где же то самое, которое совершит надо мною волшебное действо? Может быть, вот это повернет годы вспять? Я оторвал одно растение. Это стоило мне большого усилия. Внешняя поверхность его была покрыта острыми шинами, и я изрезал руки, словно рвал розу. Я увидел, как появилось мутноватое облачко крови. Но в моих руках было растение жизни, растение души. Я крепко сжал его.
Я поднял его над головой и испустил бы ликующий вопль, если бы такое было возможно в этом мире вечного молчания. Стань-Молодым! Да! Может быть, вечная жизнь была и не про меня, но по меньшей мере, я смогу защитить себя от укусов времени!
Поднимайся теперь, Гильгамеш! Плыви к поверхности моря! Только теперь я в первый раз почувствовал, что почти совсем израсходовал свой запас воздуха.
Я обрезал камни, привязанные к моим ногам, и поднялся вверх стремительно, как стрела, прорезая воду, разгоняя перепуганных рыб. Меня окружило хрустальное сияние. Я вдохнул воздух и почувствовал благословенное тепло солнца. Смеясь, барахтаясь в воде, я бросился на грудь моря и поспешил к берегу. Через несколько секунд я уже достиг мелководья, встал и бегом помчался к берегу.
Я протянул руку к Лу-нинмарка, показывая ему грубую серую раковину у себя в руке. Кровь все еще струилась из моих порезов, и я чувствовал, как морская вода, затекая в них, начинает жечь.
— Это оно? — воскликнул я. — Это то самое?
— Давай-ка посмотрим, — пробормотал он. — Дай-ка сюда твой нож.
Он взял у меня нож и ловко вставил лезвие между двумя каменными листками. С силой, какой я в нем не подозревал, старый жрец разделил листочки и раскрыл их по обе стороны. Внутри я увидел нечто странное — пульсирующую складчатую розовую мякоть, нежную, сложную и таинственную, словно самое тайное место женщины. Но эта мякоть оставила Лу-нинмарку равнодушным. Он порылся пальцами в ее складках, издал торжествующий возглас и извлек что-то круглое, гладкое и блестящее — жемчужину, которая и есть плод растения Стань-Молодым.
— Вот то, что мы искали, — сказал он.
Он небрежно выбросил каменные листочки и розовую мякоть. С неба сразу же камнем свалилась птица, чтоб съесть это нежное мясо. Жрец бережно держал в ладонях жемчужину, улыбаясь ей, как дорогому дитяти. В теплом солнечном свете жемчужина, казалось, светилась внутренним светом, сливочно розовый цвет смешивался с оттенками голубого. Лу-нинмарка нежно дотронулся до нее кончиком пальца, покатав ее на ладони, искренне восхищаясь ею. Потом, через несколько секунд, он положил мне ее на ладонь и сомкнул на ней мои кровоточащие пальцы.
— Положи ее в свой пояс, — сказал он, — и храни ее, как величайшую драгоценность. Увези ее с собой в Урук и храни ее в своей сокровищнице. Когда ты почувствуешь, что годы тяжким бременем ложатся на тебя, вынь ее, Гильгамеш, сотри в порошок, смешай с добрым крепким вином и выпей залпом. Вот и все. Глаза твои снова станут ясными, дыхание — глубоким, сила твоя вновь станет силой покорителя львов, каким ты когда-то был. Вот наш дар тебе, о Гильгамеш из Урука.
— Я не смел и просить ни о чем подобном.
— Теперь идем. Лодочник ждет тебя.
38
Как всегда мрачный и молчаливый, лодочник Сурсунабу перевез меня к концу дня на соседний остров. Я нашел себе пристанище на несколько дней в главном городе Дильмуна. Теперь надо ждать корабль, идущий в наши земли, на котором я смогу купить себе право проезда. Я бесцельно блуждал по крутым улочкам, мимо лавок, где ремесленники, кузнецы по золоту и меди, занимались своей работой прямо на виду; я смотрел на море и пристани, на корабли. Я часто в мыслях уносился на маленький песчаный остров, видневшийся в море. Я думал о Зиусудре, который был не Зиусудрой, о жрецах и жрицах, служивших ему, о настоящей повести о Потопе, которую они мне рассказали, о каменном плоде растения Стань-Молодым, которое было спрятано у меня в поясе. Вот и кончилось мое паломничество, мой поиск. Я отправлялся домой. И если я и не нашел того, что искал, по крайней мере, я нашел то, что могло отогнать моего врага, держать его на расстоянии, если не победить.
Так тому и быть. А теперь — в Урук!
В порту стоял торговый корабль из Мелуххи. Отсюда он направлялся к северу почти до Эриу и Ура, чтобы продать свои товары в обмен на то, что производят наши земляки. Нагрузившись, он отправится назад, в Море Восходящего Солнца, а потом уплывет в далекое и таинственное место, далеко на востоке, откуда он приплыл. Это я узнал от лагашского купца, который жил в том же странноприимном доме.
Я отправился в порт и нашел капитана мелуххского корабля. Это был маленький хрупкий человек с темной, как черное дерево, кожей и тонкими чертами лица. Он довольно хорошо понимал мой язык и сказал, что возьмет меня пассажиром. Я спросил о цене, и он назвал ее. По-моему, она равнялась половине стоимости его корабля. Он уставился на меня глазами, как полированный агат и улыбнулся. Неужели он думал, что я стану с ним торговаться? Как я мог? Я, царь Урука. Я не стал торговаться. Может быть, он это знал и просто воспользовался этим? Скорее всего он думал, что я просто здоровенный дурак, у которого серебра больше, чем мозгов. Что же, цена была большая. Она съела почти все мое оставшееся серебро. Но это было неважно. Я так давно не был дома, что с радостью заплатил бы и больше, ибо он обещал довезти меня домой.
Наконец мы отчалили. В день, когда небо было раскаленным, как наковальня, маленькие темнокожие жители Мелуххи поставили паруса, сели на весла, и мы вышли в море, держа путь на север.
Груз корабля состоял из древесины разных сортов из их собственных краев, которую они привязали на палубе в разных местах для придания кораблю устойчивости. Они взяли также сундуки с золотыми слитками, гребни и статуэтки из слоновой кости, драгоценные камни. Капитан сказал, что плавал по этому пути пятьдесят раз, и хотел бы еще пятьдесят раз проплыть по нему, прежде чем умрет. Я просил его рассказать мне о землях, которые лежали между нашими землями и Мелуххой. Я хотел знать все: какие берега, что на них растет, чем занимаются жители и тысячи разных вещей, но он только пожимал плечами и отвечал:
— А что в этом интересного? Мир везде один и тот же.
Мне стало жаль его, когда я услышал такое.
Среди этих мелуххианцев я себя чувствовал великаном. Я давно уже привык к тому, что на голову выше окружающих меня людей, уроженцев наших земель, но в этом плавании я увидел, что матросы корабля едва доходили мне до пупка, прыгая вокруг меня, словно мартышки. Клянусь Энлилем, я казался им каким-то чудовищем. Но они не выказывали ни страха, ни почтения: я для них был чем-то вроде варварской диковинки. Я представлял себе, как они будут развлекать своих земляков: «Хотите верьте хотите нет, но у нас в пути из Дильмуна в Эриду был пассажир ростом со слона. И глуп, как слон, честное слово! И ступал он по-слоновьи: нам все время приходилось быть настороже, чтобы не попасться ему под ноги. А то бы он нас растоптал и не заметил, как это сделал!» И впрямь я чувствовал себя неотесанной деревенщиной, такими ловкими и маленькими они были по сравнению со мной. В свою защиту хочу сказать, что и корабль был построен для людей меньшего роста, чем я. Не моя вина, что по этому кораблю мне приходилось передвигаться чуть ли не на четвереньках, согнувшись и прижимая руки к бокам.
Солнце было добела раскалено, и безоблачное небо было к нам беспощадно. Ветра почти не было. Но эти мореходы столь искусны, что заставляли свой корабль двигаться в безветренную погоду. Я с восхищением смотрел на них. Они работали столь слаженно, словно у них был единый разум на всех. Каждый выполнял свое дело так, что не нужны были никакие команды. Они быстро и молча работали в иссушающей жаре. Если бы они попросили меня выполнить какую-нибудь работу, я б ее сделал, но они меня оставили в покое, словно догадываясь, что я царь! Они, по-моему, нелюбопытный народ. Но работяги они отменные.
В сумерках, когда наступало время ужина, они несмело приглашали и меня присоединиться к ним. Каждый вечер они ели варево из мяса или рыбы такого огненного вкуса, что мне казалось, я обожгу себе губы. А еще они ели какую-то кашу, отдававшую кислым молоком. Поев, они пели: очень странная музыка, их голоса тянули какую-то извилистую мелодию, похожую на след змеи. Я был рад тому, что существовал отдельно от них, погруженный в себя, потому что я устал и мне было над чем поразмыслить. Снова и снова я нащупывал жемчужину Стань-Молодым и часто думал об Уруке и о том, что меня там ждет.
В конце концов показались долгожданные берега. Мы вошли в дельту реки и поплыли вверх к тому месту, где река разделяется. Вот тут текла Идигна, уходя вправо, а наша великая река Буранунну, уходила влево широким потоком. Я возблагодарил Энлиля. Я еще не был дома, но ветер, который ласкал мои ноздри, вчера еще пронесся над моим родным городом, и одного этого было достаточно, чтобы так обрадовать меня.
Чуть погодя мы стали у пристани великого священного города Эриду. Тут я попрощался с капитаном корабля и сошел на берег. Дальше я не мог ехать на этом корабле, потому что следующим портом захода был Ур. Мне нельзя было попадать туда в роли одинокого путника. Во-первых в Уре меня бы узнали. Если бы я ступил туда ногой, не имея армии за спиной, не видать мне было бы Урука.
И в Эриду меня тоже знали. Я и трех минут не пробыл на берегу, а уже видел бегающие удивленные глаза и указующие на меня пальцы, услышал шепот благоговения и ужаса: «Гильгамеш! Гильгамеш!» Так оно и должно было быть. Я много раз бывал в Эриду на осенних обрядах, которые следуют сразу же за Священным Браком. Однако сейчас была не осень, и я прибыл без своей свиты. Неудивительно, что они показывали пальцами и удивленно перешептывались.
Это самый старый город в мире, Эриду. Мы считаем, что это первый из пяти городов, существовавших до Потопа. Хотя во мне уже не было прежней веры в старые предания, какая была во мне до того, как я посетил Зиусудру. Энки — главный бог этих земель, и у него власть над пресными водами, которые под землей. Его главный храм — в этом городе, а под храмом — главное обиталище бога. Так говорят в народе. И это правда: начни копать где угодно возле Эриду, и везде наткнешься на свежую пресную воду. Эриду лежит несколько в стороне от Буранунну, но связан с рекой каналами и хорошо проходимыми лагунами, поэтому он такой же порт, как и приречные города. Однако его местоположение не совсем удачно, поскольку пустыня подходит почти к самым городским стенам, и мне кажется, что в один прекрасный день дюны просто засыплют его. Они, должно быть, тоже этого боятся. Не только храмы, а и весь город построен на высоком помосте. Вокруг Эриду много камня, который и использовали строители. Стена помоста очень массивна и облицована песчаником, а ступеньки, ведущие на помост, сделаны из больших глыб отполированного мрамора. Можно позавидовать тому, сколько камня возле этого города, как много можно из него построить, не то что мы, вынужденные строить только из глины и грязи.
Купцы Урука очень давно завели торговый дом в Эриду, поблизости от храма Энки. Это их общее достояние, где они могут взять кредиты друг у друга, привести свои торговые книги в порядок, посплетничать и поговорить о спросе на товары — да мало ли что нужно торговцам в чужом городе. Именно туда пошел я прямо с корабля, не обращая внимания на шепот и вытянутые в мою сторону пальцы: «Гильгамеш! Гильгамеш!» Когда я вошел в торговый зал, там было три человека, занятых работой. При виде меня они повскакали с мест, заахали и побледнели, словно сам Энлиль вошел к ним. Потом они пали на колени, отдавая мне знаки почтения, как подобает перед лицом царя. Они воздевали к небу руки и качали головами, как безумные. Прошло немало времени, прежде чем от них можно было что-то добиться.
— Ты жив, о царь, — беспрерывно причитали они.
— Да, — ответил я. — А кто говорит обратное?
Они осторожно переглянулись. Наконец самый старший из них сказал:
— Кто-то в храме говорил, что ты ушел в дикую пустыню от горя, когда умер Энкиду, твой брат, и что тебя пожрали львы…
— Или нет, тебя унесли демоны, — сказал другой, — демоны, что появились из песчаного смерча…
— Птицу Имдугуд видели на крышах, она кричала пять дней подряд, а это дурное предзнаменование… — объявил третий.
— Двухголового теленка нашли на пастбищах… Они пожертвовали его Убшуккинакку…
— А еще, в Святилище Судеб…
— А еще был зеленый туман вокруг луны, а это…
Я вмешался в их бесконечное бормотание:
— Подождите! В каком храме объявили меня мертвым?
— В храме богини, о царь!
Я улыбнулся. Ну разумеется. Это было неудивительно.
Я тихо сказал:
— Понимаю. Сама Инанна сказала народу печальную весть?
Они кивнули. Они казались еще более обеспокоенными.
Я подумал об Инанне, об ее ненависти ко мне, о ее жажде власти, о том, как хладнокровно она отправила царя Думузи на тот свет, когда он больше не подходил ее замыслам. Я знал, что мой уход из Урука был для нее как дар богов, и я сказал себе, что совершил глупость из глупостей: убежал из города в поисках жизни вечной, в то время как меня ждали неотложные задачи в этой жизни. Как, должно быть, она хохотала, когда ей донесли, что я тайком убежал из города! Как она упивалась каждым проходящим днем, когда я все не возвращался, и никто не знал, где я! Я сказал:
— Она сильно печалилась? Рыдала ли она? Рвала на себе одежды?
Они очень торжественно кивнули.
— О, воистину велико было ее горе, Гильгамеш!
— И били барабаны? Барабан-лилиссу, и маленькие — балаги. Били?
Они не отвечали.
— В барабаны били, я спрашиваю?
— Да, — хриплый шепот. — Они били в барабаны, о Гильгамеш! Они скорбели по тебе очень сильно.
В голове у меня стоял шум. Я боялся, что на меня опускается божественная аура. Я чувствовал внутри трепет. Я подошел к ним ближе, и они задрожали, оттого что были рядом со мной. Я сам дрожал, задавая вопрос, который больше всего боялся задать:
— Скажите мне, уже выбрали царя вместо меня?
Снова они встревоженно переглянулись. Несчастные торговцы дрожали, как осенние листья на ветру.
— Ну?! — потребовал я ответа.
— Нет… пока нет, Гильгамеш, — сказал один.
— Ах нет? Пока еще нет? Что же — не было благоприятных знаков?
— Говорят, что богиня собрала совет, чтобы выбрать нового царя, но совет не хочет этого делать. Есть люди, которые верят, что ты жив…
— Я жив, — сказал я.
— И еще они боятся, что боги разгневаются, если на твое место слишком быстро посадить другого царя.
— Боги разгневаются, — ответил я. — И не только боги.
— Но все согласны с тем, что Уруку нужен царь, ведь ты знаешь, о царь, что Мескиагнунна из Ура раздулся от гордости, когда в его руках сразу оказался и Киш, и Ниппур, и он стал поглядывать и на наш город, особенно в эти беспокойные месяцы, что у нас не было царя…
— У вас есть царь, — сказал я. — На этот счет не ошибайтесь: у вас есть царь. Будем надеяться, пока мы с вами тут беседуем, у вас не стало двух царей.
В моем голосе была уверенность, но не в моем сердце. Я чувствовал внутри давящую тяжесть и смятение. Царь ли я еще? И достоин ли я быть царем? Боги поставили меня над Уруком, а я покинул свое место. За это любой может осудить меня. Но можно ли когда-либо нас в чем-то обвинять, если боги все время меняют музыку, под которую нам плясать? Разве не боги послали мне Энкиду и не они же отняли его? И разве не боги пробудили во мне страх смерти, который погнал меня на поиски вечной жизни? Я не очень виноват. Я только следовал тому, что диктовали боги. Всегда, во всем. Тогда где же воля гордого Гильгамеша? Что я, как не игрушка далеких и равнодушных великих владык, которым принадлежит мир? Слуга богов? Этого я не отрицаю. Мы все — слуги богов, и глупо это отрицать. Но игрушка? Забава?
Я не долго думал над этим. Я их отмел в сторону. Если я больше не царь Урука, то пусть сама богиня мне это скажет. Нет, не ее жрица, а сама богиня. Я пойду в город. Я буду там искать ответы на все вопросы.
Я снова почувствовал присутствие в себе моего отца, героя Лугальбанды. Я долгое время не чувствовал его в себе. Великий царь укрепил мой дух и принес мне великое утешение. Я понял, что мне не следует стыдиться того, что я сделал. То, что я делал, было волей богов, и я правильно поступил, что выполнил все это в точности. Мое горе было предопределено. Мой поиск вечной жизни был предопределен. Боги решили преподать мне мудрость. Я просто послушался их.
Больше не было сомнения в том, что я царь. Я немедленно послал старшего из торговцев к правителю Эриду сказать, что повелитель Урука Гильгамеш прибыл в его город и ожидает встречи с подобающими ему почестями. Самому младшему купцу я наказал еще сегодня же найти место на первом же корабле, отплывающем в Урук, чтобы он принес туда весть, что законный царь Урука Гильгамеш возвращается из странствий. Третьего я послал принести мне жареного мяса и вина и привести высокогрудую девчонку лет шестнадцати-семнадцати, потому что в моем теле вновь заговорили желания. В тот долгий период странствий после смерти Энкиду я самому себе стал чужим. Мне казалось, что я распался на две части, что та часть, что была настоящим Гильгамешем, куда-то пропала, оставив безжизненную оболочку. Я и был той оболочкой. Но теперь та сила и мощь, которая звалась царем Гильгамешем, вновь вливалась в меня. Я снова был самим собой. Я был Гильгамеш. За это я возблагодарил хозяина людей Энлиля, и Ана, небесного отца, и Энки, бога того города, где я сейчас был. Но больше всего я возблагодарил бога Лугальбанду, от чьего семени я произошел. Великие боги далеко. Мы в лучшем случае для них — песчинки. Лугальбанда же стоял возле меня, сейчас и всегда.
39
Тогда правителем в Эриду был Шулутула, сын Акургала. Это был маленький темнокожий человек с большим мясистым носом. В Эриду царей нет. Царство прекратилось в этом городе уже давно, до Потопа. Но хотя Шулутула носил титул правителя Эриду, жил он, как царь, в огромном дворце, состоящем из двух одинаковых половин, окруженных огромной двойной стеной. Он принял меня неуверенно и со страхом, потому что я очутился в его городе неожиданно, и он был застигнут врасплох. Характер у него был спокойный, и как только он понял, что я здесь не для того, чтобы сместить его или потребовать дань, он успокоился. Он устроил для меня большой пир, осыпал меня подарками: прекрасными наложницами, чудесными копьями, статуэткой из алебастра длиной в мою руку, чьи глаза были сделаны из лапис-лазури и раковин.
Мы проговорили почти всю ночь. Он знал, что я долго не был в Уруке, но не смел спросил, почему. Он не спрашивал, где я был. Я пытался получить от него хоть какие-то сведения о том, что недавно происходило в моем городе, он же либо не знал, либо не хотел мне говорить. Он только сказал, что слышал, будто урожай был плохим, а вдоль некоторых каналов в сезон дождей было наводнение. Но в самом сердце его тревог, и это было ясно видно, был не Урук, а Ур. В конце концов этот мощный город был всего в нескольких лигах от Эриду. А Мескиагнунна уже сожрал Киш и Ниппур. Что может стать его следующей добычей, если не Эриду?
— Как можно сомневаться в том, — сказал Шулутула, — что он ищет господства над всеми нашими землями?
— Боги не дали высшей власти Уру, — заметил я.
Он хмуро уставился в свою чашу с вином.
— Как можно быть в этом уверенным?
— Это невозможно.
— Но ведь когда-то высшее царство было в Эриду, правильно? — сказал Шулутула. — Очень давно, еще до Потопа. А потом оно перешло в Бадтибиру, в Ларак…
— Да, — перебил я его нетерпеливо, — можешь не продолжать. Я знаю древние сказания так же хорошо, как и ты.
Хотя мой небрежный тон его явно обидел, он не смутился. Это мне в нем понравилось.
— Прошу прощения, — сказал он и продолжил: — в Сиппар и в Шуруппак. Потом был Поток, и все было разрушено. После потопа, когда царство было даровано людям с небес, это произошло в Кише, правильно?
— Согласен, — сказал я.
— Мескиагнунна сделался хозяином Киша. Разве нельзя после этого сказать, что великое царствование перешло в Ур?
Теперь я понял, куда он клонит. Я покачал головой.
— Едва ли, — сказал я. — Царство было в Кише, да. Но ты кое-что упустил из виду. В первый год моего правления Акки, царь Киша, пришел под стены Урука воевать, и он был побит и взят в плен. Ясно, что в этот момент царство перешло от Киша в Урук. Когда царь Ура захватил Киш, он захватил пустышку. Из него ушло все божественное, что связано с царством. Это перешло в Урук. Теперь оно там и пребывает.
— Ты хочешь сказать, что царь Урука — царь над всеми землями?
— Разумеется, — сказал я.
— Но ведь все эти месяцы в Уруке вообще не было царя!
— Очень скоро в Уруке вновь будет царь, Шулутула, — сказал я ему.
Я наклонился вперед, так что чуть не коснулся его огромного носа своим носом, и сказал тоном, не допускающим возражений:
— Мескиагнунна может себе править в Кише, если ему этого хочется. Но я не дам ему удержать у себя Ниппур, ибо это священный город и он должен быть свободным. И я тебе говорю, что Эриду тоже никогда не будет под его пятой. Тебе нечего бояться.
Тут я встал. Я зевнул, потянулся и допил свое вино.
— Хватит на сегодня пировать. Меня зовет сон. Утром я посещу все храмы и начну свое путешествие домой. Мне понадобится от тебя повозка, упряжка ослов и возничий, который знает дорогу на север.
Он очень удивился:
— Ты думаешь ехать посуху, о царь?
Я кивнул:
— Это даст моему народу больше времени, чтобы подготовиться к встрече.
— Тогда я дам тебе почетную стражу из пяти сотен лучшего войска, и все остальное, что тебе понадобится.
— Нет, — сказал я. — Одна повозка, ослы, чтобы тянуть ее, и один возничий. Мне ничего более не надо. Боги защитят меня, Шулутула. Так было всегда, так будет на этот раз. Я поеду один.
Он с трудом меня понял. Почему я не собираюсь войти в Урук церемониальным маршем во главе армии чужеземных воинов? Я хотел войти в город так, как когда-то его покинул: один, ничего не боясь. Мои люди примут меня как царя, потому что я и был их царем, а не потому, что я силой верну себе трон. Когда люди покоряются силе оружия, в душе они не смиряются, они уступают, потому что они перед лицом силы, у них нет выбора. Но когда люди покоряются силе характера, они принимают это в глубину своих сердец, они подчиняются полностью. Любой мудрый царь знает такие вещи.
Поэтому я взял у Шулутулы, правителя Эриду, только то, что просил у него: повозку, возничего, ослов. Он дал мне запас пищи и колчан замечательных дротиков, на случай, если на нас нападут звери. Хотя он все время настойчиво и заботливо просил меня взять внушительную стражу, я не согласился.
Я пробыл в Эриду еще пять дней. Надо было совершить в храмах Энки и Ана очистительные обряды. Потом еще один личный обряд в честь Лугальбанды. Это заняло у меня три дня. Четвертый день, по словам предсказателей Шулутулы, был несчастливым, поэтому я отправился в путь на заре, пятого дня. Это был двенадцатый день месяца Дуузу, когда полновесная жара лета начинает обрушиваться на Земли. Возничий, которого он мне дал, был крепким парнем по имени Нинурта-мансум. Ему было около тридцати лет от роду, в бороде его были первые проблески седины. На груди у него была красная лента, которая означала, что свою жизнь он посвятил служению Энки. Странным образом лента напомнила мне красный шрам, опоясывающий тело старого Намгани, который правил моей повозкой много лет назад, когда я был молодым царевичем на службе у Акки из Киша. Это воспоминание оказалось и неожиданно точным, потому что единственным, кто, но моему разумению, мог сравниться с Нинурта-мансумом в опытности и сноровке, был именно Намгани. Они были одной породы. Когда они брали в руки вожжи, они словно брали в руки души ослов.
В час моего отъезда я обнял Шулутулу и еще раз поклялся ему, что буду защищать Эриду от каких бы то ни было посягательств Ура. Он же зарезал козла и совершил возлияние кровью и медом у ворот города, чтобы обеспечить мне благополучное возвращение домой.
Я выехал навстречу утру. Мы покинули город через Ворота Бездны, и проехали мимо высоких дюн и густой рощи деревьев-кискану. Когда я оглянулся, то увидел позади вздымающиеся дворцы и храмы Эриду, словно замки царей-демонов на фоне бледного неба раннего утра. Мы переехали скалистый гребень, спустились в долину, и город пропал у нас из виду.
Нинурта-мансум хорошо знал, кто я, и прекрасно представлял себе, что будет, если я попаду в руки каких-нибудь рыщущих в поисках добычи воинов из Ура. Поэтому он сделал большой крюк, чтобы обогнуть этот город, и вместо прямой дороги свернул на заброшенные земли на западе от Эриду. Там была пустошь и дул холодный мерзкий ветер. Песок свивался в смерчи, и принимал форму призраков с печальными глазами. Они не покидали меня весь день. Чего их бояться: ведь они были всего-навсего песком в смерче.
Ослы казались неутомимыми. Они летели вперед час за часом, и казалось не знали ни голода, ни жажды, ни усталости. Они словно были заговоренными от усталости. Когда на закате мы остановились, они не казались запыхавшимися. Я подумал, как обойдутся эти животные без воды в этой дикой и сухой пустыне, но Нинурта-мансум сразу начал копать, и прохладный пресный источник забил, пузырясь, из песка. Да, на этом человеке лежало благословение Энки.
Когда миновала опасность встретить воинов Ура, возничий направил ослов к реке. Мы были на той стороне Буранунну, где заходит солнце, и нам надо было найти переправу, чтобы добраться до Урука. Но для Нинурта-мансума не было трудностей. Он знал место, где река в это время года будет мелкой, а дно — твердым, и направил колесницу туда. У нас была только одна неприятность, когда левый осел оступился и упал, и я подумал, что от этого перевернется вся повозка. Но все обошлось. Другие три осла удержали колесницу. Тот, что оступился, вылез из реки отфыркиваясь и мы благополучно переехали на восточный берег реки. Может, такое не сумел бы совершить и сам Намгани.
Теперь мы находились в землях, подвластных Уруку. Сам город все еще находился в нескольких лигах к северо-востоку. Я не знаю, по чьим землям мы шли, может быть Ана, может быть Инанны, может по моим собственным, потому что у меня в тех краях были обширные владения, но чья бы земля это ни была, все равно это была земля Урука. После своего долгого отсутствия я был так счастлив увидеть эти богатые плодородные поля, что готов был выпрыгнуть из повозки и целовать эту землю. Я совершил возлияние и краткий обряд возвращения. Мой возничий встал на колени возле меня, хотя в Уруке он был чужой. Это был святой человек, этот возничий. Куда святее, чем многие жрецы и жрицы, которых я знал.
Нам стал попадаться крестьянский люд, и конечно, они сразу признавали, кто их царь, хотя бы только из-за роста и манер. Они бежали рядом с повозкой, выкрикивая мое имя. Я махал им рукой и улыбался, я делал им благословляющие знаки. Нинурта-мансум придержал ослов, так что они теперь шли медленной трусцой, так чтобы люди могли держаться рядом с повозкой. Они собирались толпами. Когда мы остановились на ночь, они принесли нам все лучшее, что у них было: крепкое черное пиво, и красное пиво, которое им так нравится, и финиковое вино, и жареных телят и овец. И они часами шли к нам, один за одним, рыдая от радости, чтобы встать на колени передо мной и принести мне свою благодарность за то, что я был жив и все еще правил ими. Много пиров роскошнее и богаче доводилось мне знать, но ни один не тронул меня столь глубоко.
Разумеется, известие о том, что я приближаюсь к городу, намного опередило мое прибытие в Урук. Так я и хотел. Я был уверен, что за время моего отсутствия Инанна воспользовалась этим и сделала все, чтобы захватить власть в свои руки. А я хотел, чтобы эта власть начала теперь уходить из ее рук, как вода, час за часом, по мере того как горожанам становилось ясно, что возвращается царь.
Наконец в тот день, когда жара танцевала в небе, словно океанские волны, я увидел, что стены Урука поднимаются вдали, сияя на солнце цветом меди. Есть ли на свете зрелище великолепнее, чем стены Урука? По-моему, нет. Мне кажется, мне рассказали бы об этом, если было бы с чем сравнить Урук. Но нет такого, ибо наш город — бог среди городов, сердце сердец, средоточие средоточии.
Когда я подъехал ближе, я увидел что-то непонятное. На равнине возле городских стен, на пустынной песчаной земле, которая лежит между Высокими Воротами и Воротами Ниппура, под стеной словно расцвели огромные яркие цветы.
Это были какие-то штуки голубого, багряного, желтого, черного цвета. Когда я подъехал ближе, я понял, что там были поставлены навесы и палатки. В честь моего возвращения, подумал я. Но я ошибся.
Вместо моих добрых друзей Бир-Хуртурре и Забарди-Бунугги, выезжающих ко мне, чтобы встретить меня во главе войска и торжественно с почетом проводить меня в город, три женщины, жрицы Инанны, вышли ко мне из палатки. Я сразу понял, что без неприятностей не обойтись. Я их не знал по имени, но знал в лицо, поскольку они были жрицами высокого ранга. На них были богатые багряные одеяния, а левую руку обвивала эмблема их богини — бронзовая змея. Когда я был на таком расстоянии, что мог слышать их, одна из них, высокая и статная, с черными волосами, тесно связанными в узел, сделала мне знак богини и воскликнула:
— Во имя Инанны приказываем тебе не двигаться дальше!
Это было слишком даже для Инанны. Я окаменел и со свистом втянул воздух. Во мне закипал гнев. Я заставил себя расслабиться и спокойно сказал:
— Ты меня знаешь, жрица?
Она спокойно встретилась со мной взглядом:
— Ты Гильгамеш, сын Лугальбанды, — сказала она.
— Так оно и есть. Я Гильгамеш, царь Урука, возвращаюсь из своего путешествия. Ты будешь с этим спорить?
Таким же размеренным тоном она сказала, словно ничего не хотела уступить в этом разговоре:
— Воистину, ты царь Урука.
— Тогда почему жрицы богини велели мне остановиться за городскими стенами? Я хотел бы войти в свой город. Я долго в нем не был, я жажду его увидеть.
Мы, как два фехтовальщика, проверяли друг друга пробными уколами.
— Богиня просила меня сказать тебе, что чувствует огромную радость по поводу твоего возвращения, — ответила она без малейшего признака радости в голосе, — и она потребовала, чтобы я отвела тебя в место очищения, которое мы воздвигли возле стен города.
Мои глаза широко раскрылись.
— Очищения? Что же, я стал нечистым?
Она учтиво мне ответила:
— В снах богиня следовала за твоими странствиями. Она знает, что темные духи оставили свой след в твоей душе, и она хотела бы, чтобы ты очистился, прежде чем войдешь в город. Это ее способ служить тебе, и это ее услуга. Ты должен это знать.
— Ее доброта слишком велика.
— Это не вопрос доброты, о царь. Это вопрос здоровья твоей души, безопасности города и божественного равновесия и порядка в стране, которые необходимо поддерживать. Поэтому богиня по великой милости своей приказала провести эти обряды.
Ах, подумал я, великая ее милость и любовь! Я чуть было не рассмеялся. Но я держал себя в руках. Ну что же, подумал я, я доиграю эту игру до конца. Самым вежливым и официальным тоном я сказал:
— Милость богини поистине безгранична. Если моя душа в опасности, ее необходимо очистить. Веди меня к месту очищения.
Когда я сошел с колесницы, Нинурта-мансум посмотрел на меня, и я увидел, как он нахмурился. Казалось бы, его не должно было касаться, что я отдаю себя в руки предателей — он был человеком Шулутулы, а не моим. И все же он пытался предостеречь меня. Я понял, что он из тех, кто умрет за меня, если придется. Ободряюще хлопнув его по плечу, я сказал, чтобы он распряг ослов и пустил их пастись, но не очень далеко. Затем я последовал за тремя жрицами Инанны к тентам и навесам, поставленным возле стен.
Очевидно было, что она готовилась к тому уже долгое время. Там был построен, собственно говоря, священный городок. Там стояло пять палаток. Одна большая, с тростниковыми связками Инанны, водруженными перед палаткой на песке, и четыре палатки поменьше, в которых все разновидности священных предметов нашли себе место: жаровни, кадила, святые изображения, флажки и прочее. Когда я подошел ближе, жрицы начали петь, музыканты — бить в барабаны и играть на флейтах, храмовые танцоры кружили вокруг меня, соединив руки в хороводе. Я посмотрел на главную палатку. Сама Инанна может ждать меня там, подумал я, и вдруг в горле у меня пересохло, в животе похолодело. Чего я испугался? Нет, это был не страх. Это было ясное ощущение чего-то, что смыкалось вокруг меня. Как давно мы с ней последний раз встречались лицом к лицу? Какие перемены она устроила в это время за моей спиной в городе? Разумеется, сегодня она будет делать все, чтобы погубить меня. Но как? Как? И как мне защитить себя? Со времен моего детства — а тогда она и сама была чуть больше ребенка — моя судьба была тесно переплетена с судьбой этой женщины, с ее темной душой. И казалось неизбежным, что сейчас, когда я приближался к огромной багряно-черной палатке, поднимавшейся передо мной на равнине Урука, наступало самое страшное столкновение наших судеб.
Но я снова ошибся. Три жрицы чуть приподняли занавес палатки и отвели ее в сторону, жестом давая мне понять, чтобы я зашел внутрь. Я вошел и оказался в благовонном месте с богатыми блестящими циновками, прозрачными занавесями, а в середине, на коленях, стояла на низком ложе женщина, чье тело было нагим, кроме блестящей подвески из золота, висевшей на ее груди, и болотно-зеленой толстой змеи, которая обернулась вокруг ее талии, двигаясь медленными скользящими движениями. Но это была не Инанна. Это была Абисимти, священная наложница, которая так давно посвятила меня в мужчины, она же сделала это с Энкиду, когда он пребывал в дикости степей. Я внутренне напрягся, готовясь к встрече с Инанной. Удивление и потрясение, что я нашел кого-то другого вместо Инанны так оглушили меня, что я попятился, чуть не упав, и едва не впал в состояние, когда на меня сходит божественное присутствие. Я уже чувствовал, что ухожу в божественную бездну. Я зашатался. Я задрожал. Последним усилием воли я вернул себя в прежнее состояние.
Абисимти посмотрела на меня. Глаза ее странно блестели. Они горели на ее лице, как полированный агат. Голосом, который, казалось, доходил до меня из другого мира, она сказала:
— Привет тебе, о царь! Привет, о Гильгамеш!
И жестом пригласила меня сесть с ней рядом.
40
На минуту мне снова стало двенадцать лет и я шел со своим дядей в жилище храмовых жриц на посвящение в мужчины. Я увидел себя в юбке белого полотна, с узкой красной полосой невинности, нарисованной на плече, и с локоном волос, который надо было отдать жрице. И я снова увидел прекрасную шестнадцатилетнюю Абисимти моей юношеской поры, чья грудь была кругла, как гранатовые плоды, чьи длинные темные волосы струились возле накрашенных золотой краской щек.
Она все еще была прекрасна. Кто мог бы сосчитать мужчин, которых она обнимала во имя богини, прежде чем я первый раз пришел к ней? Число тех, кого она обнимала в своей жизни, может быть равно числу песчинок в пустыне, и все равно они не смогли отнять у нее ее красоту. Они смогли только помочь ей расцвести. Она уже не была юной. Грудь ее не была столь округла, и все-таки она по-прежнему была прекрасна. Я подумал, почему ее глаза так странно смотрели, почему ее голос звучал так незнакомо? Она казалась ошеломленной. По-моему, ей дали какой-то напиток, одурманивающее зелье, вот почему она такая, Но почему? Зачем? Я сказал:
— Я ожидал найти здесь Инанну.
Она ответила медленно, как во сне:
— Ты недоволен? Она не может сейчас покинуть храм. Ты пойдешь к ней потом, Гильгамеш.
Мне надо было раньше сообразить, что Инанна не может выйти за пределы храма, а уж тем более города. Абисимти же я сказал:
— Я счастлив видеть тебя. Я просто был удивлен, вот и все…
— Иди сюда. Сними свои одежды. Стань на колени передо мной.
— Что Это за обряд мы должны исполнить?
— Не спрашивай ни о чем, Гильгамеш. Делай что я говорю. Встань на колени. Разденься.
Я был насторожен, но странно спокоен. Может быть это и был настоящий обряд. Может быть и вправду Инанна хотела только оказать мне услугу, и решила сделать все, чтобы очистить меня, прежде чем я войду в город. Я не мог поверить, что нежная Абисимти станет принимать участие в каких-либо заговорах против меня. Поэтому я отложил в сторону свой меч и снял свои одежды. Я встал перед ней на колени. Теперь мы оба были наги, если не считать, что на ней была золотая подвеска и змея, а у меня на шее блестела жемчужина Стань-Молодым. Я увидел, как она смотрит на нее. Она, конечно, не могла знать, что это такое, но на секунду она нахмурилась.
— Скажи мне, что делать, — сказал я.
— Сперва вот это, — ответила Абисимти.
Она протянула руку и взяла стоявшую с ней рядом алебастровую чашу удивительного изящества и тонкой работы. На ней были вырезаны священные знаки богини. Она взяла ее в обе руки и чаша оказалась между нами. В ней было темное вино. Я подумал, сейчас мы совершим возлияние, затем, наверное, принесем какую-нибудь жертву (может быть, зарежем змею Инанны, только возможно ли это?!), а потом, полагал я, мы вместе произнесем слова обряда, а затем она велит мне лечь рядом с собой на ложе, и наконец, позволит мне войти в ее тело. В нашем соитии из моего тела будет выброшено все то нечистое, что должно быть очищено, прежде чем я вступлю в Урук. Так, воображал я, будут развиваться события.
Но Абисимти протянула мне чашу и сказала, словно во сне:
— Возьми это, Гильгамеш. Пей до дна.
Она вложила чашу мне в руки. Я секунду подержал ее перед собой, глядя в зеркало вина, прежде чем поднести чашу к губам.
Тут я почувствовал ложь, странность. Абисимти дрожала — при такой-то сильной жаре! Плечи ее странно сгорбились, грудь дрожала, углы рта подергивались странным судорожным движением. Я увидел на ее лице страх и что-то вроде стыда. Но глаза ее сияли все сильнее. Мне казалось, что они уставились на меня почти так же, как змеиные глаза на беспомощную жертву за секунду до того, как змея ужалит. Не знаю, почему я увидел ее в таком образе, но произошло все именно так. Она смотрела. Она ждала.
Чего? И я сказал, снова полный подозрений:
— Если мы должны принять участие в этом обряде, то должны делить в нем все. Сперва пей ты. Потом я.
Голова ее откинулась назад, словно я дал ей пощечину.
— Так нельзя, — вскрикнула она.
— Почему?
— Вино… для тебя, Гильгамеш…
— Я щедро предлагаю его тебе. Раздели его со мной, Абисимти.
— Мне нельзя!
— Я твой царь. Я повелеваю тебе!
Она обхватила себя руками и сжалась в комок. Ее трясло. Глаза ее избегали моего взгляда. Она сказал так тихо, что я едва мог ее услышать:
— Нет… пожалуйста… не надо…
— Отпей глоток первой.
— Нет… умоляю… нет…
— Чего ты боишься, Абисимти? Неужели в священном вине есть то, что может повредить тебе?
— Умоляю… Гильгамеш…
Я протянул ей чашу, коснувшись ею губ Абисимти. Она отвернулась, плотно сжав губы, боясь, наверное, что я силой волью вино ей в рот. Тут я окончательно убедился в предательстве. Я поставил на пол чашу и наклонился вперед, взяв ее за запястье. Я тихо сказал:
— Я думал, что между нами — любовь, но я, должно быть, ошибался. А теперь скажи мне, Абисимти, почему ты не хочешь пить это вино, скажи мне правду.
Она не отвечала.
— Говори!
— Господин мой…
— Говори!
Она покачала головой. Потом, с силой, которая меня поразила, она вырвала руку и отвернулась, так что змея, обвивавшая ее талию, соскользнула вниз. Секундой позже я увидел в руках Абисимти медный кинжал. Она вытащила его из-за подушки сзади себя. Я думал, что он предназначается мне, но она направила его себе в грудь. Схватив ее за руку, я отвел лезвие от ее тела. Мне это стоило немалых усилий, поскольку она была как в припадке, и сила в ней была такая, что невозможно было поверить. Я одолел ее и отвел кинжал назад. Потом я вырвал его из ее руки и отбросил его прочь. И тут она набросилась на меня, как львица.
Тела наши, мокрые и скользкие от пота, переплелись. Она царапала, кусала меня, всхлипывала и визжала. Пока мы боролись, пальцы ее запутались в шнурке, на котором висела жемчужина Стань-Молодым. Она дернула. Я почувствовал, как шнурок впивается мне в кожу. Шнурок лопнул, и жемчужина покатилась.
Когда я сообразил, что произошло, я оттолкнул Абисимти и бросился за этой самой ценной драгоценностью. На момент я даже несколько ослеп от волнения и не увидел, куда она покатилась. Потом я заметил блеск ее поверхности, отражавшей слабый свет жаровни. Она лежала в десяти шагах от меня. Проклятая змея Инанны тоже заметила жемчужину и — только боги ведают почему — быстро скользила к ней.
— Только не это! — заревел я и прыгнул вперед.
Но я опоздал. Прежде чем я достиг середины расстояния, что отделяло меня от жемчужины, змея аккуратно взяла жемчужину в пасть, как кошка держит своего котенка. Змея повернулась ко мне, чтобы показать свою добычу. На секунду ее глаза зажглись самой горькой насмешкой, какую мне приходилось видеть. Потом змея задрала голову, открыла пасть, и жемчужина скатилась в ее мерзкую утробу. Если бы я мог схватить эту гадину, я бы душил ее, пока она не отрыгнула бы жемчужину. Но к моему ужасу, мерзкое существо ловко ускользнуло от моей руки и быстро заскользило к выходу из палатки. На четвереньках я быстро пополз за ней, но не было никакой возможности поймать ее. Это самая хитрая тварь. Она осторожно приставила рыло к песку, зарылась в него и в момент исчезла. Там, где она была, остались только куски ее пестрой кожи, которую она сбрасывала убегая. Она сбросила свою прежнюю оболочку, получила обновление тела, которое должно было достаться мне. Так что все мои искания и труды были напрасны: я перенес столько терзаний, чтобы раздобыть дар новой жизни для змеи. Для себя я ничего не получил.
Ошеломленный, я стоял минуту или две. Потом я оглянулся на Абисимти. Пока я пытался вернуть себе жемчужину, она схватила чашу и сделала из нее несколько глубоких глотков. Вино еще капало с ее губ. Она встала на ноги, страшно дергаясь, глядя на меня с такой любовью и скорбью, что чуть не разбила мне сердце. Каждая мышца в ее теле дрожала. Она была похожа на женщину, одержимую тысячью демонов.
— Ты поймешь… Я не хотела этого делать… — сказала она страшным хриплым голосом.
Чаша выпала из ее слабеющих рук и она упала на пол у моих ног.
В этот момент я подумал, что сойду с ума или отправлюсь к богам. Потом странное спокойствие снизошло на меня, словно моя душа, которую столь страшно избили, защитила себя тем, что закрылась, сделав меня неуязвимым. Я не впал в транс. Я даже не заплакал. Я посмотрел под ноги и увидел темное пятно пролитого вина на песке. Я спокойно забросал его песком, чтобы не было следа. Потом я нагнулся и закрыл глаза Абисимти, той, которую послали убить меня и которая отдала вместо этого собственную жизнь. У меня не было к ней ненависти, только жалость. Ее связывала клятва, данная богине, она не могла ослушаться приказаний, которые богиня отдавала. Что ж, ее клятва теперь привела ее в Дом Тьмы и Праха, куда бы сейчас мог прийти и я, не заметь я того выражения стыда и страха на лице Абисимти, когда она давала мне отравленное вино. А теперь она ушла. И жемчужина Стань-Молодым тоже исчезла. Правду говорила Сидури, хозяйка таверны: «Тебе никогда не найти той вечной жизни, что ты ищешь». Но это уже было не важно. Я устал гоняться за сновидениями, за мечтами. Издевательская насмешка змеи дала мне ответ: мне так не дано. Я должен найти какой-то другой путь.
Я оделся, пристегнул меч и вышел из палатки. Солнце ударило меня по глазам, но через минуту я уже все видел. Три жрицы Инанны стояли передо мной, раскрыв рот: они не думали, что я выйду оттуда живым.
— Мы свершили ритуал, — тихо сказал я. — Теперь я очищен от всего, что меня пятнало. Идите и займитесь жрицей Абисимти. Над ней надо сказать подобающие слова.
Старшая жрица не могла ничего понять.
— Значит, ты пил священное вино?
— Я совершил им возлияние богине, — сказал я ей. — А теперь, я войду в город и лично засвидетельствую богине свое почтение.
— Но… ты…
— Отойди, — ласково сказал я, положив руку на рукоять меча. — Дай мне пройти, или я распорю тебя, как жареную гусыню. Отойди, женщина. Отойди!
Она отступила, как темнота уступает место утреннему солнцу, попятившись, сгорбившись, почти исчезнув. Я прошел мимо нее к ждущей меня колеснице. Нинурта-мансум, подбежав ко мне, крепко схватил меня за запястье и пожал его. Глаза возничего блестели от слез. По-моему, он не ожидал снова увидеть меня живым. Я сказал ему:
— Мы закончили все наши дела здесь. Теперь поедем-ка в Урук.
Нинурта-мансум натянул вожжи. Мы объехали яркие навесы и направились к высоким воротам. Я увидел людей на стенах, они, щурясь, всматривались в меня. Когда колесница подъехала к арке ворот, они широко распахнулись и меня впустили без звука. Еще бы: они сразу признали, что я царь Гильгамеш.
— Видишь, во-он там, вдали? — сказал я своему возничему. — Там, где поднимается Белый Помост, в конце этой широкой улицы? Там — храм Инанны, храм, который я построил своими собственными руками. Вези меня туда.
Тысячи граждан Урука вышли, чтобы видеть мое возвращение домой. Но они казались странно робкими и запуганными, и почти никто не выкрикивал моего имени, когда я проезжал мимо. Они смотрели на меня во все глаза. Они поворачивались друг к другу, делая священные знаки, словно в великом страхе. Через молчаливый город мы проехали по широкой улице прямо к храму. У края Белого моста Нинурта-мансум натянул поводья, повозка остановилась, и я слез. Один поднимался я по высоким ступеням к террасе огромного храма, который я построил на месте того храма, что строил мой царственный дед Энмеркар. Какие-то жрецы вышли и встали у меня на пути, когда я подошел к двери храма. Один из них дерзко сказал.
— Какое у тебя здесь дело, Гильгамеш?
— Я хочу видеть Инанну.
— Царь не смеет вступать во владения Инанны, Пока его не позвали. Таков обычай. Ты это знаешь.
— Теперь обычаи другие, — ответил я. — С дороги!
— Это запрещается! Это непристойно!
— С дороги, — сказал я очень тихо.
Этого хватило. Они отступили.
В залах храма было темно и прохладно даже в летний жаркий день. Горели светильники, бросая мягкий свет на пестрые орнаменты из обожженных «шляпок» гвоздей, которые я тысячами вставил в эти стены. Я шел быстро. Это был мой храм. Я знал все уголки в нем, я знал свою дорогу в этом храме, умел ориентироваться в нем. Я ждал, что найду Инанну в великом зале богини, так оно и случилось. Она стояла в центре зала, настороженная, в своих лучших нагрудных пластинах и украшениях. Было еще одно, которого я на ней раньше не видел: маска из сияющего чеканного золота, оставлявшая открытыми только рот и подбородок, да узкие прорези для глаз.
— Тебе здесь нечего делать, Гильгамеш, — сказала она холодно.
— Разумеется. Я должен был бы сейчас лежать мертвым в палатке у городских стен, правда? — Я не позволил ярости прозвучать в своем голосе.
— Сейчас они говорят слова прощания над Абисимти. Она выпила вино вместо меня. Она делала все, как ты велела, она предложила вино мне, но я не стал пить, и тогда она выпила вино сама, по своей доброй воле.
Инанна ничего не сказала. Губы внизу под маской были плотно сжаты в одну жесткую линию.
— Когда я был в Эриду, мне рассказали, — сказал я, — что в мое отсутствие ты объявила меня мертвым и требовала, чтобы совет избрал нового царя. Так было дело, Инанна?
— Городу нужен царь, — сказала она.
— В городе есть царь.
— Ты сбежал из города. Ты удрал в пустыню, словно безумец. Если ты и не умер, то мог умереть.
— Я ушел на поиски важных для меня вещей. А теперь я вернулся.
— И как, нашел то, что искал?
— Да, — ответил я, — и нет. Это не имеет значения. Почему на тебе эта маска, Инанна?
— Это не имеет значения.
— Я никогда раньше не видел тебя в маске.
— Это новый обряд, — сказала она.
— Ах так! Смотрю, много тут развелось без меня новых обрядов.
— Включая и тот, когда царь входит в этот храм без зова.
— И, — сказал я, — включая обычай подавать царю чашу отравленного вина по возвращении домой.
Я подошел к ней ближе на несколько шагов.
— Сними маску, Инанна. Дай мне опять увидеть твое лицо.
— Нет, — ответила она.
— Сними маску, прошу тебя.
— Оставь меня в покое. Маски я не сниму.
Я не мог разговаривать с этой чужой женщиной с металлическим лицом. Я мечтал снова взглянуть на женщину из плоти и крови, предательскую и прекрасную женщину, которую я так давно знал, которую так любил, как никогда не любил никого в жизни. Я хотел еще раз посмотреть на нее. Я нежно сказал:
— Я хотел бы еще раз увидеть красоту твоего лица. Мне кажется, на всем свете нет лица прекраснее твоего. Ты знаешь, Инанна, каким прекрасным мне всегда казалось твое лицо? — Я рассмеялся. — Ты помнишь ночи, когда мы с тобой исполняли обряд Священного Брака? Ну конечно же, как ты можешь забыть? Тот год, когда я только что стал царем и всю ночь провел в твоих объятиях. А наутро пришел дождь. Я помню. Я помню те времена, до того как ты стала Инанной, когда ты призывала меня в свои покои глубоко под землей, под старым храмом. Я тогда был просто напуганным мальчишкой, и едва мог понять, в какие игры ты со мной играешь. Или в тот первый раз, когда произносили обряд вступления на царство Думузи, а я заблудился в коридорах храма, и ты нашла меня. Ты сама тогда была еще ребенком. Помнишь? Ах, Инанна, только через много лет смог я понять все те игры, которые ты со мной играла. Но сейчас я хочу увидеть твое лицо. Сними маску.
— Гильгамеш…
— Сними маску, — сказал я. — Положи ее… — И я назвал ее по имени: не тем именем Инанны, которое она приняла в служении богине, а именем, которое нельзя было упоминать после того, как она стала Инанной. Этим именем я заклинал ее. При звуке этого имени она отпрянула, вздрогнула и украдкой сделала знак богини, словно защищаясь. Я не видел ее глаз за прорезями маски, но мне казалось, что они уставились на меня не мигая, холодные и пронзительные.
— Ты с ума сошел, что зовешь меня этим именем — прошептала она.
— Вот как? Значит, я безумец. Просто я хочу один раз, последний раз увидеть твое лицо.
Теперь в ее голосе была дрожь.
— Оставь меня, Гильгамеш. Я не хотела тебе вреда. То, что я делала, я делал ради города… городу нужен царь… а ты уехал… богиня велела мне…
— Да. Богиня велела тебе убрать Думузи, и ты это сделала. Богиня велела тебе убить Гильгамеша, и ты послушалась. Ах, Инанна, Инанна, конечно, только ради города. И ради города ты получишь мое прощение. Я прощаю тебе все твое предательство. Я прощаю тебе все, что ты сделала именем богини, чтобы подорвать мою власть и причинить мне вред. Я прощаю тебе твою ярость, твою ненависть, твою злобу. Я прощаю тебе твою месть, ибо это ты наслала гнев богов на Энкиду, которого я любил. Если бы не ты, он и сейчас был бы жив. Но я прощаю тебя. Я все тебе прощаю, Инанна. Если бы мы не были царем и жрицей, то, наверное, любили бы друг друга. А я любил бы тебя больше, чем я любил Энкиду, больше, чем я любил что-либо в этой жизни. Больше самой жизни. Но я был царь. Ты — жрица. Ах, Инанна…
Я не воспользовался мечом. Я вынул из ножен кинжал и вонзил его между нагрудной пластиной и бусами из лапис-лазури, потом рванул вверх, пока не нашел ее сердце. Она издала только один тихий звук и упала. По-моему, она умерла мгновенно. Я медленно выдохнул. Наконец-то моя душа освободилась от нее. Но это было так, словно я отрезал прочь часть свой души.
Встав рядом с ней на колени, я отстегнул маску и приподнял ее.
Я горько сожалею, что сделал это. Мне трудно было поверить в то, что случилось с ней с той поры, когда я в последний раз смотрел на нее. Глаза ее совсем не потеряли своей красоты, губы тоже остались нетронутыми. Но все остальное было разрушено. Какая-то быстро распространяющаяся кожная болезнь пожрала ее лицо. Кожа вся была в ямках и морщинах, где серая и чешуйчатая, где красная и сочащаяся. Ведьма из ночного кошмара, демоническое существо. Казалось, ей тысяча лет. Лучше было бы не открывать ее лица. Я обнажил ее лицо, и должен до конца жизни нести тяжесть того, что видел. Я наклонился. В последний раз поцеловал ее в губы. Потом я застегнул на ней маску, встал и вышел на храмовую террасу, чтобы позвать людей и рассказать им о новых законах, которые я собираюсь установить, вернувшись на трон Урука.
41
Прошли напряженные и очень плодотворные годы. Боги были милостивы к Уруку и Гильгамешу, его царю. Город процветает, стены гордо и неприступно стоят. Мы обновили Белый Помост новым слоем гипса и он сияет на солнце. Все прекрасно. У нас еще много дел, которые надо выполнить, но все прекрасно. Я сижу сейчас в своих покоях во дворце, заполняя последнюю из моих табличек. Мне кажется, повесть рассказана. Я не перестану вести борьбу за новое, не перестану вести поиск, я не смогу без этого. Какой-то мир снизошел на меня, и это новое для меня чувство, какого я не знал раньше. Я не знал мира и покоя в те годы, которые описал. Но теперь говорю вам: все прекрасно.
Было совсем не сложно вдребезги разбить кичливые мечты Мескиагнунны: это было первое, что я сделал после своего возвращения на царство. Я послал ему письмо, в котором подтверждал его право на царствование в Уре и давал ему право управлять Кишем, как дополнительную милость. Он понял, что я имел в виду, когда снисходительно разрешал ему владеть городами, которыми он и так уже правил.
«Но Ниппур и Эриду, — писал я, — я оставляю для себя, как предписали боги, потому что это священные города, подчиняющиеся только правлению высшего владыки наших Земель.»
Этим письмом я как бы послал сообщение о том, что моя власть является высшей. В то же самое время я послал свое войско под командованием верного Забарди-Бунугги войти в Ниппур и уговорить войска Ура уйти оттуда. Я сам не покидал Урука, потому, например, что надо было выбрать новую главную жрицу и воспитать ее, чтобы она понимала свою роль в правлении царством.
Пока я занимался этими вопросам, Забарди-Бунугга довольно успешно справился со своей задачей, хотя и не без небольших потерь. Люди Ура укрылись в Туммале, который считается там домом Энлиля, и потребовалось сломать стены храма, чтобы выбить их оттуда. Теперь, когда Ниппур наш, я послал туда моего сына Ур-лугала выстроить Туммаль заново.
Для меня сейчас самые рабочие времена. Воистину, нет ни минуты для отдыха. Но мне ничего другого и не надо. Что еще остается делать, если не строить планы творить, осуществлять задуманное? Это — спасение наших душ. Вслушайтесь в музыку во дворе: арфист играет и своей музыкой платит за право своего рождения. Посмотрите на златокузнеца, склоняющегося над своей работой. Плотник, рыбак, писец, жрец, царь — выполнением нашего долга мы. выполняем заповеди богов, и это единственная цель нашей жизни, для которой мы и созданы. Очень часто по капризу богов мы оказываемся брошены в случайный мир, где правит неуверенность. И среди этого хаоса мы должны создать себе надежное место. Это достигается нашей работой. Моя работа — быть царем.
Я тружусь, трудятся и мои люди. Храмы, каналы, городские стены, мостовые — как можно когда-либо перестать чинить и перестраивать их? Такова наша доля. Обряды и жертвы, которыми мы держим в подчинении буйные силы хаоса, — как можем мы перестать их исполнять? Такова наша доля. Мы знаем наши задачи, мы знаем, как их выполнять, мы выполняем их — и тогда все прекрасно. Послушайте только эту музыку во дворе! Слушайте!
Скоро — хочется надеяться, что не так скоро, но я готов, когда бы ни пришлось — я должен буду свершить свое последнее путешествие. Я уйду виз, в тот темный мир, из которого нет возврата. Подле меня будут мои музыканты, наложницы, управляющие и прислужники, мой возничий, мои акробаты, мои певцы. Мы вместе принесем жертвы богам там, внизу, жертвы Эрешкигаль и Намтар, Энки, Энлилю — всем, кто управляет нашими судьбами. Да будет так. Теперь, когда я думаю о том, что так будет, это не волнует меня. Я никогда не думал над тем, чтобы вернуться в Дильмун и выклянчить себе еще одну жемчужину Стань-Молодым. Так не положено. Древний жрец, Зиусудра, пытался мне это объяснить, но мне пришлось самому научиться этому. Что же, теперь я знаю.
Свет солнца уходит. На крыше храма надо совершить обряд, и я должен спешить. Я царь, это мой долг. Мы чтим Нинсун, мою мать, которую я объявил богиней в прошлом году, когда дни ее на земле были сочтены. Я уже слышу вдали пение, а в воздухе запах жареного мяса. И вот конец всем моим рассказам. Я много говорил о смерти, своем враге. Я с ним отчаянно сражался, но больше не стану говорить о ней. Я ходил под тенью великого страха перед ней. Но теперь я в мире со смертью. Я понял истину, которая заключается в том, что избежать смерти можно не через мази и снадобья, а в выполнении своего долга. Здесь обретаешь спокойствие и смирение.
Я выполнил мою работу, и буду работать еще. Я создал себе имя, которое переживет века. Гильгамеш не будет забыт. Он не будет покинут, чтобы скорбно волочить крылья в пыли. Они вспомнят меня с радостью и гордостью. Что они обо мне скажут, потомки? Скажут, что я жил, и жил хорошо. Что я сражался, и сражался как надо. Что я умер, и умер достойно. Я боялся смерти больше, чем кто-либо из живущих, и дошел до конца света, чтобы от нее убежать. А вернувшись, я больше не думал о ней. Вот истина. Я теперь знаю, что не надо бояться смерти, если мы выполняли свой долг. А когда перестанешь бояться смерти, то значит — смерти нет.
И это самая истинная истина, которую я знаю: СМЕРТИ НЕТ.
ПРОВИДЕЦ
1
Мы появились на свет по воле случая, в совершенно произвольной точке вселенной. Наши жизни определены абсолютно случайной комбинацией генов. Все, что происходит, происходит случайно. Концепция причины и следствия ложна. Существуют только кажущиеся причины, ведущие к видимым следствиям. На самом деле, ничто ни за чем не следует. Мы каждый день плаваем по морям хаоса. Ничего нельзя предсказать, даже того, что произойдет в следующее мгновение.
Вы в это верите?
Если да, то мне вас жаль, потому что ваша жизнь беспокойна, мрачна и ужасна.
Мне кажется, что когда-то, в семнадцать лет, мир и мне представлялся враждебным и невыносимым, и я рассуждал точно также. Кажется, что когда-то я верил в то, что вселенная — это гигантское поле для игры в кости, созданное без определенной системы и цели, в которое мы, глупые смертные, вкладываем утешительное понятие причинности, чтобы дать опору нашему непрочному, хрупкому разуму. Казалось, я чувствовал, что в этом случайном, капризном космосе мы только по счастью выживаем ежечасно, тем более, ежегодно, так как в любой момент солнце неожиданно может стать новой звездой, либо мир, взорвавшись, превратится в гигантскую студенистую массу. Вера и добродетель недостаточны, и действительно бессильны, в любой момент с кем угодно может произойти что угодно, поэтому живи сегодня и не думай о завтрашнем дне, так как от тебя ничего не зависит.
Это мощная циничная и, к тому же, юношеская философия. Юношеский цинизм является, главным образом, защитой против страха. По мере того, как я становился старше, мир казался мне уже не таким пугающим. Я возвращал себе детскую непосредственность и по-детски начинал принимать концепцию причинности. Толкни ребенка — он упадет. Причина и следствие. Не поливай бегонию неделю — она начнет вянуть. Причина и следствие. Ударь по мячу — он полетит. Причина и следствие, причина и следствие. Я полагал, что вселенная может быть и беспричинна, но уж никак не бессистемна. Таким образом я предпринял первые шаги к своей карьере, оттуда, в политику, а от нее в преподавание учения всевидящего Мартина Караваджала — темного, измученного человека, покоящегося теперь в мире, которого он боялся. Именно Караваджал привел меня в то место и время вселенной, которое я занимаю сегодня.
2
Меня зовут Лью Николс. У меня светлые волосы, темные глаза. Без особых примет. Рост ровно два метра. Я был женат на Сундаре Шастри. У нас не было детей. Теперь мы живем отдельно, не разведясь. В настоящий момент мне почти тридцать пять. Родился в Нью-Йорке, первого января тысяча девятьсот шестьдесят шестого года, в два часа шестнадцать минут. Накануне моего рождения в Нью-Йорке были зафиксированы два события, произошедших одновременно и имевших историческое значение: инаугурация обаятельного и знаменитого мэра Джона Линдсея и начало первой грандиозной катастрофической забастовки на нью-йоркской подземке. Вы верите в символичность совпадений? Я верю. Без способности увязывать одновременность событий, совпадения, не может быть и здравомыслия. Если мы пытаемся видеть вселенную совокупностью несвязанных случайностей, внезапно меняющимся конгломератом беспричинных событий, мы потеряны.
Моя мать должна была разрешиться в середине января, но я появился на две недели раньше, в самое неудобное время для моих родителей, которые были вынуждены добираться до больницы прямо в канун нового года, когда город вдруг лишается общественного транспорта. Знай они заранее, они бы заказали машину на этот вечер. И если бы мэр Линдсей обладал даром предвидения, я полагаю, бедняга отказался бы от своей должности в момент принесения присяги, чем избавил бы себя от головной боли на долгие годы.
3
Причинность — это удобный и доступный принцип, но он не дает ответов на все вопросы. Если мы хотим понять смысл чего-нибудь, мы должны заглянуть вперед. Мы должны признать, что многие важные явления не могут быть загнаны в прокрустово ложе причин, а могут быть истолкованы только стохастическими методами.
Система, в которой события происходят по законам вероятности, но индивидуально не детерминированы, в соответствии с принципами причинности, является стохастической системой. Ежедневный восход солнца не является стохастическим событием: его неизменность и неотвратимость определены относительным положением земли и солнца на небе. Поскольку мы понимаем этот причинный механизм, то нет и риска в правильности предсказания того, что солнце взойдет и завтра, и послезавтра, и в последующие дни. Мы не угадываем его, а знаем о нем заранее. Течение воды вниз, тоже не стохастическое явление, это следствие гравитации, которую мы принимаем за аксиому.
Но есть много областей, в которых причинность подводит нас, и тут нам на помощь приходит стохастизм.
Например, мы не можем предвидеть движение одной молекулы в единице объема воздуха, но при определенном знании кинетической теории, мы можем с уверенностью предсказать поведение всего объема.
У нас нет способа предсказать, когда определенный атом урана подвергнется радиоактивному распаду, но мы можем достаточно точно подсчитать, сколько атомов урана-235 в определенной единице объема распадается в следующие десять тысяч лет.
Мы не знаем, что принесет очередной поворот колеса рулетки, но игорный дом хорошо знает, что может произойти в течение всей ночи.
Все виды процессов, какими бы непредсказуемыми они не казались, в каждый момент или в каждом данном случае, предсказуемы стохастической теорией.
СТОХАСТИЧЕСКИЙ. Согласно Оксфордскому словарю английского языка это слово появилось в тысяча девятьсот шестьдесят втором году, а сейчас стало редким, вышедшим из употребления. Не верьте этому. Это словарь устарел, а не понятие СТОХАСТИЧЕСКИЙ, которое день ото дня становится все более современным. Это слово греческого происхождения, вначале означало «цель» или «точку прицеливания», от которого греки образовали выражение «целиться в мишень» и, путем метаморфического переноса — «отражать, думать». Оно вошло в английский язык вначале как иностранное выражение — «имеющий отношение к догадке». В тысяча семьсот двенадцатом году Уайтфут сказал о сэре Томасе Брауне: «Хотя он не был пророком… все же в этом качестве, он несколько выделялся среди других, то есть был стохастичным, он редко ошибался в отношении будущих событий».
В бессмертных строчках Ральфа Кадворта (1617–1688) говорится: «Имеется необходимость и польза в стохастическом суждении и мнении в отношении правды и лжи в человеческой жизни». Те, чья жизнь целиком управляется стохастической философией, являются предусмотрительными и рассудительными, и никогда не делают обобщений по отдельным примерам. Как сказал Жак Бернулли в начале восемнадцатого века: «Отдельный факт не является предвестником чего-нибудь, но чем больше у вас фактов, тем с большей уверенностью вы можете предположить реальное распределение явлений в рамках вашего опыта».
Достаточно о теории относительности. Теперь я перехожу к дистрибуции Пуассона, теореме центрального предела, аксиоме Холмогорова, играм Эренхафта, цепочкам Маркова, треугольнику Паскаля и всему остальному. Я хочу предоставить вам следующие математические выкладки. (Пусть «Р» является возможностью случайности событий в каком-либо эксперименте, а «S» — количеством случайностей, которые происходят в «N» экспериментах…). Моя точка зрения такова, что истинный стохастик учится наблюдать то, что мы в Центре исследования стохастических процессов называем «Интервалом Бернулли» — паузой, во время которой мы спрашиваем себя: «Достаточно ли у нас данных, чтобы дать обоснованное заключение?»
Я являюсь исполнительным секретарем Центра, который был создан четыре месяца назад, в августе двухтысячного года. Караваджал оплачивает наши расходы. Сейчас мы занимаем пятикомнатный дом в сельской местности в Северной Джерси, и лучшего места мне не нужно. Нашей целью является следующее: найти пути уменьшения интервала Бернулли, то есть добиваться постоянного увеличения точности предсказаний, уменьшая количество статистических экспериментов, или, иначе, перейти от пробабилистического (вероятностного) к абсолютному предсказанию или, по-другому говоря, перейти от догадки к ясновидению.
Таким образом, мы движемся к пост-стохастическим способностям. Караваджал учил меня, что стохастичность не предел: это всего-лишь быстро проходящий этап в попытках полного предсказания будущего в нашей борьбе за освобождение себя от тирании случайности. В абсолютной вселенной все события могут рассматриваться как абсолютно детерминированные и, если мы не можем постичь более крупные структуры, то это оттого, что наши представления ошибочны. Если бы мы обладали настоящим понятием причинности вплоть до молекулярного уровня, нам бы не нужно было полагаться на математические допуски по статистике и вероятности при составлении предсказаний. Если бы наши представления о причине и следствии были достаточно точны, мы бы могли достичь абсолютного знания того, что должно произойти. Мы бы стали всевидящими. Так говорил Караваджал. Я уверен, он был прав. Вы, возможно, не верите. Вы склонны быть скептиками в этих вопросах, не так ли? Так и должно быть. Вы измените свое мнение. Я в этом уверен.
4
Караваджал сейчас уже мертв. Он умер именно тогда и так, как и предполагал. Я все еще здесь, и думаю, что тоже знаю, как буду умирать. Но я не очень уверен в этом. В любом случае, это не имеет такого значения для меня, как для него. У меня никогда не было достаточно силы, чтобы доказать свою способность предвидеть. Он был просто сгоревший человек с усталыми глазами и вымученной улыбкой, у которого был слишком большой для него дар, убивший его. Если я действительно унаследовал этот дар, то, надеюсь, смогу лучше использовать его в жизни, чем он.
Караваджал мертв, а я жив и буду жить, пока не придет мой срок.
Я смотрел на матовую фарфоровую чашу зимнего неба и видел отражение своего лица, становящегося все старше. Итак, я не собираюсь исчезнуть. У меня есть ясное будущее. Я знаю, что будущее так же определенно, неизбежно и постижимо, как и прошлое, и потому что я знаю это, я бросил жену, которую любил, оставил работу, делающую меня богачом и поддержал враждебного мне Пола Куинна, потенциально самого опасного человека в мире, Куинна, который через четыре года будет избран президентом Соединенных Штатов. Лично я не боюсь Куинна. Он не сможет повредить мне. Он может нанести вред демократии и свободе слова, но мне он не принесет вреда. Я чувствую вину за то, что помогу Куинну попасть в Белый Дом, но, по крайней мере, я разделяю вину за отданные вами слепые бездумные голоса, которые вам со временем захочется вернуть обратно. Ничего. Я могу спасти вас всех от хаоса даже когда Куинн загораживает нам горизонт, становясь день ото дня в течение двадцати лет все огромнее. Это будет моим искуплением вины.
Все мое будущее трепещет в утреннем воздухе еще не рожденного дня, среди неясных очертаний башен Нью-Йорка.
5
В профессиональном плане мой дар предвидения обнаружился за семь лет до того, как я услышал о Мартине Караваджале. С весны тысяча девятьсот девяносто второго года я стал заниматься прогнозами. Я мог посмотреть на желудь и увидеть поленницу дров. Такой дар у меня был. Зарабатывал я же тем, что предсказывал возрастет ли производство хрустящего картофеля и превратится ли оно в доходный бизнес, хороша ли идея открыть татуировочный кабинет в Топеке, или что мода на бритье головы наголо еще продержится некоторое время и вам стоит расширить вашу депиляторную фабрику в Сан-Хосе. И самое страшное, я был прав.
Мой отец говаривал: «Человек не выбирает свою жизнь. Жизнь выбирает его».
Может быть. Я никогда не собирался стать профессиональным предсказателем. Впрочем, я вообще не знал кем я стану. Мой отец боялся, что я буду никчемным человеком. Конечно, так могло показаться, когда я получал диплом об окончании колледжа (Нью-йоркский университет, тысяча девятьсот восемьдесят шестой год). Я продрейфовал через три года колледжа, вообще не зная, что я хочу делать в жизни, кроме того, что это должно быть что-то коммуникативное, творческое, доходное для меня и достаточно полезное для общества. Я не хотел быть писателем, учителем, актером, юристом, биржевым маклером, генералом или священником. Промышленность и финансы не привлекали меня, медицина была за пределами моих способностей, политика казалась мне вульгарной и крикливой. Я знал свои возможности, которые были главным образом вербальными и концептуальными. Я знал свои потребности, которые были ориентированы на мою личную безопасность и защиту моей индивидуальности. Я всегда был ярким, умеющим предвидеть, бдительным, энергичным, желающим много работать, а также чистосердечно оппортунистическим, хотя нет, кажется, оппортунистически чистосердечным. Но у меня не было определенной цели, своеобразного фокуса, центра, когда колледж предоставил мне свободу.
Жизнь выбирает человека. У меня всегда была странная способность к нехитрым предчувствиям и я легко превратил ее в средство заработать на жизнь.
Как-то летом я временно работал в институте общественного мнения в группе по прогнозированию результатов предстоящих выборов. Однажды мне удалось сделать несколько проницательных комментариев по еще необработанным данным, которые позднее подтвердились. И мой босс предложил мне подготовить проект примерного вопросника для следующего тура голосований. Это была программа с вопросами, которые нужно задавать опрашиваемым, чтобы получить такие ответы, которые помогут правильно предсказать результаты выборов. Работа была высоко оплачиваемой и мои способности вознаградили мое эго. Когда один из состоятельных клиентов моего шефа предложил мне уйти с этой работы и заняться самостоятельной консультационной практикой, я воспользовался подвернувшимся шансом. С этого момента создание моей собственной консультационной фирмы с полным рабочим днем стало делом нескольких месяцев.
Когда я занялся бизнесом прогнозов, многие не очень знающие люди думали, что я продолжаю оставаться сотрудником Института общественного мнения. Нет, это не так. Как раз сотрудники Института работали на меня. Целый взвод оплачиваемых сотрудников. Для меня они были тем же, что мельники для пекаря: они отделяли зерна от плевел, а я пек семислойные пироги. Моя работа шла дальше выяснения общественного мнения. Используя данные, собранные и обработанные обычными квазинаучными методами, я составлял далеко идущие прогнозы, я делал интуитивные шаги. Короче, я гадал, но угадывал точно.
Это приносило неплохой заработок, но я, к тому же, чувствовал своего рода экстаз. Когда передо мной появлялась гора необработанных данных, из которых я должен был вытащить главный прогноз, я чувствовал себя ныряльщиком, собирающимся прыгнуть с высокого утеса в сверкающее голубизной море в поисках блестящих золотых дублонов, спрятанных в белом песке глубоко под волнами, мое сердце начинало биться, голова кружилась, тело и душа получали квантовый толчок вверх, в более интенсивное энергетическое состояние. Экстаз.
То, что я делал, было утончено и высокотехнично, но это была также и разновидность колдовства. Я купался в гармонических связях, положительных искажениях, модальных значениях и параметрах дисперсии. Мой офис представлял собой лабиринт из экранов дисплеев и графиков. Я держал батарею огромных компьютеров, беспрерывно работающих целыми сутками и не имевших возможности даже остыть. Но математические расчеты на основе высокопроизводительных голливудских технологий были просто отдельными аспектами предварительных этапов моей работы, набором данных. Когда нужно было сделать настоящий прогноз, компьютер IBM не мог мне помочь. Я должен был предпринимать собственные усилия, не пользуясь ничем, кроме собственного ума. Я должен был остаться в пугающем одиночестве, на краю утеса, и хотя эхолот мог рассказать мне о конфигурации морского дна, а лучшие приборы фирмы Дженерал Электрик зарегистрировали скорость течения и температуру воды и коэффициент завихрения, я должен был полагаться только на себя в критические мгновения реализации. Я должен был просканировать воду глазами, согнуть колени, взмахнуть руками, наполняя воздухом легкие, ожидая, пока я УВИЖУ, пока я действительно УВИЖУ и когда почувствую это прекрасное, уверенное, головокружительное чувство за бровями, я наконец прыгну, направлю свое тело головой вниз в большую морскую волну в поисках дублонов. Я нырну обнаженный и незащищенный, безошибочно по направлению к своей цеди.
6
С сентября тысяча девятьсот девяносто седьмого до марта двухтысячного года, то есть еще девять месяцев назад, я был одержим идеей сделать Пола Куинна президентом Соединенных Штатов. Именно неистовой одержимостью можно было охарактеризовать мое отношение к Куинну, его идеям и амбициям.
Хейг Мардикян представил меня Куинну летом девяносто пятого. Хейг и я вместе ходили в частную школу в Далтоне где-то в 1980–1982 годах, тогда же вместе много играли в баскетбол. С тех пор мы поддерживаем связь. Он хитрый, с пронизывающим взглядом юрист, около двух метров ростом. Помимо прочих достоинств, он хотел стать первым в Соединенных Штатах министром юстиции армянского происхождения и, возможно, станет им.
(Возможно? Как я могу сомневаться в этом?) Знойным августовским днем он позвонил и сказал:
— У Саркисянов сегодня большой прием. Ты приглашен. Я гарантирую, что это принесет тебе пользу.
Саркисян — толковый агент по продаже недвижимости, во владении которого находятся земельные участки, шесть-семь сотен километров, по обеим сторонам Гудзона.
— Кто там будет, — спросил я, — кроме Ефрикяна, Миссакяна, Хагопяна, Манукяна, Гарабедяна и Бохосяна?
— Берберян и Хатисян, — сказал он, — а еще… — и он перечислил ряд блистательных знаменитостей из мира финансов, политики, промышленности, науки и искусства, закончив: «Пол Куинн», с весьма значительным ударением на этом последнем имени.
— Я должен знать его, Хейг?
— Должен, но сейчас, возможно, не знаешь. В настоящее время он является членом законодательного собрания Ривердейла. Человек, который собирается занять выдающееся место в общественной жизни.
Я не особенно хотел провести субботний вечер, выслушивая амбициозных молодых ирландских политиков, разъясняющих свои планы исправления вселенной, но, с другой стороны, я уже сделал несколько работ по прогнозированию для политиков. Этим я зарабатывал деньги и, возможно, Мардикян знал, что такие знакомства для меня полезны. Список гостей был неотразим. Кроме того, моя жена гостила в августе с шестерыми своими друзьями в Оризоне и я надеялся поразвлечься, приведя домой страстную темноволосую армяночку.
— В какое время? — спросил я.
— В девять, — ответил Мардикян.
Итак, к Саркисяну: в роскошную, остекленную триплексом, огромную фешенебельную квартиру, расположенную на самом верху девяностоэтажной круглой башни, отделанной алебастром и ониксом. Само здание находилось в Нижнем Вест-Сайде на берегу залива.
Охранники с незапоминающимися лицами, которые вполне могли оказаться конструкциями из металла и пластика, установили мою личность, осмотрели меня на наличие оружия, после чего впустили в квартиру. Воздух в ней казался голубой дымкой. Повсюду чувствовался кисловатый приятный запах толченой кости: в тот год мы курили дурманный кальций. Кристаллиновые амбразуры овальных окон окружали апартаменты. Вид из восточных окон перекрывался двумя монолитными громадами Мирового торгового центра, изо всех же остальных окон открывался обзор в двести семьдесят градусов на прекрасную панораму нью-йоркской бухты, района Нью-Джерси, скоростной дороги Вест-Сайда и, возможно, кусочек Пенсильвании. Только в одной, гигантских размеров и клиновидной формы, комнате окна-амбразуры были непрозрачны. Когда я вошел в узкую часть и взглянул на острый угол, я понял почему: эта часть здания выходила на все еще размонтированный обрубок статуи Свободы и Саркисян, очевидно, не хотел чтобы угнетающий вид этого зрелища огорчал гостей. (Это было лето девяносто пятого года, который был одним из самых жестоких годов десятилетия, когда бомбежки держали всех в напряжении.) Гости! Они, как и было обещано, представляли из себя экзотическую толпу контральтов и астронавтов, четверть защитников и заседателей президиумов. Костюмы были и чрезвычайно пышные, подчеркивающие бюсты и гениталии, и только намекающие на них, от авангарда до маскирующих средства любви, которые сейчас уже выходят из моды, с высокими воротничками и тугими корсетами. Пол-дюжины мужчин и несколько женщин были облачены в клерикальные одеяния, человек пятнадцать псевдо-генералов бряцало иконостасом медалей, которые могли бы посрамить иного африканского диктатора. Я был одет довольно просто, на мой взгляд, в гладкий, отливающий зеленым свитер и ожерелье из камней.
Хотя комнаты и были заполнены людьми, ход вечеринки был далек от беспорядочности, так как я заметил восемь или десять мужчин с прекрасными манерами в темных неброских костюмах. Это были люди из вездесущей армянской мафии Хейга Мардикяна, равномерно распределившиеся по всему пространству главного зала, как колышки для игры в крибедж. Каждый из них занимал заранее предписанную позицию и вежливо предлагал сигареты и напитки, представлял гостей друг другу, сводя одних людей с другими, чье знакомство было для них желательно. Я был бы моментально затянут этой умело расставленной сетью, стоило бы мне только приблизиться к Аре Гарабедяну или Ясону Комуряну, или, возможно, к Георгию Миссакяну.
Я тут же оказывался бы вовлеченным в орбиту тайных отношений с золотоволосой женщиной с радостным лицом по имени Отем, которая не была армянкой и с которой я действительно отправился домой много часов спустя.
Задолго до того, как мы с Отем отправились домой, я был легко пропущен через длинную цепочку бесконечно льющихся мелодичных светских бесед, во время которых я обнаружил себя разговаривающим с умной, сногсшибательно выглядящей негритянкой на полметра выше меня ростом, которая, как я правильно догадывался, была Илена Малумба, глава четвертого телевизионного канала. В результате этой встречи я получил контракт на консультацию и подготовку костюмированных национальных телешоу, мягко отклонил шутливое предложение советника городской ратуши, талантливого спикера веселой коммуны и первого человека Калифорнии, Рональда Холбрехта, победившего на выборах партии гомосексуалистов…
Что вы думаете о проекте Кон Эда о слиянии Двадцать третьей Стрит?… Вы должно быть видели море чертежей, найденных в сейфе в конторе Готфильда… «Он ловко установил единство наших политических взглядов, хотя он должен был быть осведомлен, что я разделял большинство его взглядов. Он так много знал обо мне, он знал, что я был зарегистрирован в партии новых демократов, что я делал прогнозы для кампании „Манифест XXI века и K°“, в книге „К истинному гуманизму“, что я чувствовал то же самое, что и он, по поводу приоритетов и реформ и всей пустой пуританской идеи попыток узаконить мораль. Чем больше мы говорили, тем сильнее я тянулся к нему.
Я — начал делать робкие сравнения между Куинном и некоторыми великими политиками прошлого: Рузвельтом, Рокфеллером, Джонсоном, большим оригиналом Кеннеди. Все они обладали теплым очарованием умения хитрить, умения исполнять политические ритуалы и, в то же время, убеждать своих более интеллигентных жертв в том, что никто не будет одурачен. Даже тогда, в ту первую ночь 1995-го, когда он был еще ребенком в политике, неизвестным за пределами своего округа, я видел, как он уже входил в историю политики наравне с Рузвельтом и Кеннеди. Позднее я начал делать более грандиозные сравнения Куинна с Наполеоном, Александром Великим и даже с Иисусом. А если эти рассуждения заставляют вас усмехнуться, пожалуйста, вспомните, что я мастер стохастического искусства, и мои видения яснее, чем ваши.
Куинн ничего не сказал мне тогда о переходе в контору более высокого уровня. Когда мы вернулись в зал, где проходил прием, он просто заметил:
— Мне пока еще рано набирать свой штат. Но когда я займусь этим, я хотел бы, чтоб вы работали у меня. Хейг будет поддерживать с вами контакт.
— Что ты о нем думаешь? — спросил меня Мардикян пять минут спустя.
— Он будет мэром Нью-Йорка в 1998 году.
— А потом?
— Если ты хочешь больше узнать, дружище, приходи ко мне в офис и запишись на прием. За пятьдесят долларов в час я дам тебе полную выкладку.
Он слегка хлопнул меня по руке и, хохотнув, удалился.
Десять минут спустя я уже курил вместе с золотоволосой дамой по имени Отем. Отем Хокс была известным меццо-сопрано. Мы быстро пришли к соглашению, переговариваясь только глазами и немым языком тел, по поводу остатка ночи. Она сказала мне, что пришла на прием с Виктором Шоттом — тощим длинным прусаком в темном, увешанном медалями военном мундире, с которым этой зимой она должна была поехать в Лулу. Но Шотт внезапно договорился пойти домой с советником Холбрехтом, предоставив Отем самой себе. Отем колебалась. Я не был уверен, кого она действительно предпочла бы. Хотя я и видел ее голодный взгляд, брошенный через весь зал на Пола Куинна, ее глаза пылали. Куинн был здесь по делу, и ни одна женщина не могла бы заграбастать его. (Мужчина, впрочем, тоже).
— Интересно, он поет? — спросила она задумчиво.
— Вы хотели бы спеть с ним дуэтом?
— Изольду с Тристаном, Турандот с Калафом, Аиду с Радамесом.
— Саломею с Иоханном? — предложил я.
— Не язвите, — сказала она.
— Вам нравятся его политические взгляды?
— Могли бы, если бы я их знала.
— Он здравомыслящий либерал.
— Тогда я обожаю его политические взгляды. Я также считаю, что он сверх мужествен и изумительно красив.
— Карьерные политики — плохие любовники, — заметил я.
Она пожала плечами.
— Я не верю словам. Мне достаточно один раз взглянуть на мужчину — и я тут же знаю, чего он стоит. Так что побереги комплименты. Иногда я, конечно, ошибаюсь, — сказала она ядовито-сладко, — не всегда, но иногда.
— Иногда и я тоже.
— В женщинах?
— Во всем. У меня есть шестое чувство, как вы знаете. Будущее для меня
— открытая книга.
— Звучит серьезно, — сказала она.
— А как же. Я этим зарабатываю на жизнь. Предсказаниями.
— А как вы видите мое будущее? — спросила она полушутливо, полусерьезно.
— Ближайшее или далекое?
— И то, и другое.
— Ближайшее, — сказал я, — ночь буйного веселья и мирная утренняя прогулка под мелким дождичком. Дальнее будущее — триумф за триумфом, слава, вилла на Мальорке, два развода, счастье в конце жизни.
— Так вы цыган-предсказатель?
— Просто стохастическая техника, миледи.
— А что вы думаете о его будущем? — спросила Отем, посмотрев в сторону Куинна.
— О его? Он станет президентом. В конце концов.
7
Утром, когда мы гуляли рука об руку по окутанной туманом роще на берегу Шестого капала, моросил дождь. Дешевый триумф: я тоже слушаю по радио прогноз погоды.
Отем вернулась к своим репетициям, закончилось лето, Сундара вернулась из Орегона усталая и счастливая, новые клиенты хорошо платили за мои знания — жизнь продолжалась.
Моя встреча с Куинном не принесла немедленных результатов, но я и не ожидал их. Политическая жизнь Нью-Йорка бурлила. Всего за несколько недель до приема у Саркисяна какой-то обиженный судьбой безработный подошел к мэру Готфриду на банкете, устроенном либеральной партией, взял с тарелки изумленного мэра недоеденный грейпфрут и швырнул на нее гранату. Одним славным ударом были унесены жизни Его Чести, самого террориста, четырех окружных заседателей и официанта. Это создало вакуум власти в городе, так как все считали, что грозный мэр будет избираться не менее четырех раз, а это был его только второй срок. И вдруг непобедимого Готфрида не стало, как будто сам Бог умер утром пасхального дня, когда кардинал начал причащать прихожан телом и кровью господней.
Новый мэр, бывший президент городского Совета, Ди Лоренцио был пустым местом. Годфрид, как любой диктатор, любил окружать себя слепо подчиняющимися ничтожествами. Само собой разумелось, что Ди Лоренцио был промежуточной фигурой, которая должна была быть заменена на выборах тысяча девятьсот девяносто седьмого года достаточно сильным кандидатом. И Куинн ожидал своей очереди за кулисами.
Всю осень я не слышал о нем. Шла сессия легислатуры и Куинн заседал у себя в Олбани. Для нью-йоркцев это было равносильно его пребыванию на Марсе. Город бурлил больше обычного, так как потенциальная фрейдистская сила, которую представлял собой мэр Готфрид, городской голова, темнобровый и длинноносый, защитник слабых и палач непокорных, был удален со сцены.
Милиция сто двадцать пятой улицы, новая независимая организация чернокожих, которая хвасталась, что в течение нескольких месяцев закупала танки в Сирии, не только раскрыла на шумной пресс-конференции наличие у себя трех бронированных монстров, но и направила их через Колумбус Авеню с карательной миссией в испанский район Манхэттена, оставив после себя четыре сожженных квартала и десятки убитых.
В октябре, когда негры праздновали день Марка Гарвея, пуэрториканцы нанесли ответный удар рейдом на Гарлем, возглавлявшимся лично двумя из трех имевшихся у них израильских полковников. (Парни из латинских кварталов наняли израильтян для обучения своих боевых групп в 1994 году, в соответствии с ратифицированным договоров о создании взаимной обороны против негров). В этом рейде участвовали пуэрториканцы и немногие оставшиеся городские евреи.
Коммандос молниеносным ударом по Ленокс Авеню не только взорвали танковый гараж вместе с тремя находившимися в нем танками, но и захватили пять винных складов и большинство компьютерных центров в то время, как отвлекающие силы проскользнули на запад, чтобы бомбить театр Аполло.
Несколько недель спустя на строительной площадке металлургического завода на Западной 23-й Стрит произошла перестрелка между профабричной группой под названием «Сохранить город светлым» и антифабричной — «Обеспокоенные граждане против бесконтрольного использования технологии». Четыре человека из службы безопасности Кона Эдисона были линчеваны, было тридцать жертв среди демонстрантов, двадцать одна из «СГС» и одиннадцать из «ОГПБИТ», включая множество политизированных молодых мамаш с обеих сторон и даже несколько детей, находившихся у них на руках.
Это ужаснуло и вызвало протест (даже в Нью-Йорке можно вызвать сильные эмоции, стреляя в детей во время демонстрации). Мэр Ди Лоренцо счел необходимым создать группу расследования по изучению всех вопросов, связанных со строительством металлургического завода в черте города. Так как это было равносильно победе «ОГПБИТ», то забастовочные силы «СГС» заблокировали здание городского Совета и, в знак протеста, стали устанавливать мины в кустах. Эти мины были все же обезврежены специальным подразделением полиции, хотя это также унесло девять жизней. «Таймс» поместила репортаж об этом на двадцать седьмой странице.
Мэр Ди Лоренцо, выступая в запасном здании городского Совета в Восточном Бронксе (он создал семь офисов в округе, все в итальянских районах, их местоположение было хорошо охраняемым секретом), огласил новые требования землевладельцев. Однако, в городе никто не обратил особого внимания на мэра, частично из-за того, что он был таким ничтожеством, и отчасти как ответная реакция на исчезновение власти всеподавляющего Готфрида-гауляйтера. Ди Лоренцо сформировал свою администрацию, от полицейского комиссара до собачника и ассенизатора, из своих земляков-итальянцев. Думаю, это было достаточно разумно, так как итальянцы были единственными в городе, кто проявлял к нему хоть какое-то уважение, а также исключительно потому, что все они были его кузенами или племянниками. Но это означало, что единственной политической поддержкой мэра являлось этническое меньшинство, которое с каждым днем становилось все меньше. (Даже Маленькая Италия сократилась до четырех кварталов на Мулберри Стрит, окруженных переулками, заполненными китайцами и новым поколением провинциалов, прочно основавшихся на Патхоге и Нью-Рошелле).
Редакционная статья «Уолл-стрит джорнэл» предложила отложить выборы мэра и ввести в Нью-Йорке военное правление, установить вокруг города «санитарный кордон», чтобы предохранить страну от заражения «нью-йоркизмом».
— Я думаю, что использование миротворческих сил ООН было бы лучше, — сказала Сундара. Было начало декабря, первая ночь сезона снежных бурь. — Это не город, это арена для расовых и этнических распрей последних трех тысячелетий.
— Это не так, — сказал я ей, — застарелые обиды ничего здесь не значат. Индусы живут рядом с пакистанцами в Нью-Йорке, турки и армяне устанавливают партнерство и открывают рестораны. В этом городе мы изобретаем новые этнические распри. Нью-Йорк ничто, если он не идет в авангарде. Ты бы поняла это, если бы прожила здесь всю жизнь как я.
— Мне кажется, что я прожила.
— Шесть лет не сделают тебя коренной жительницей, — сказал я.
— Шесть лет в гуще непрекращающейся повстанческой борьбы кажутся длиннее тридцати лет жизни где-нибудь в другом месте в мирной обстановке,
— парировала она.
Ее голос был игрив, но темные глаза злобно сверкали. Она осмелилась мне перечить, бросала вызов. Я чувствовал, что воздух вокруг меня накаляется. Неожиданно мы втянулись в спор на тему — как я ненавижу Нью-Йорк, который всегда образовывал пропасть между нами, и скоро мы уже ругались по-настоящему. Коренной житель даже ненавидит Нью-Йорк с любовью, приезжий, а моя Сундара всегда будет оставаться здесь приезжей, с неистовой силой отвергает этот сумасшедший дом, который сам же и выбрал для проживания, и убийственно раздувается от неоправданной ярости.
Стараясь уйти от неприятностей, я сказал: — Ладно, давай переедем в Аризону.
— Эй, это мои слова, — возразила она.
— Извини, я должно быть пропустил твою реплику, — сказал я. Напряжение ушло.
— Это ужасный город, Лью.
— Давай попытаемся тогда в Таксой. Там зима лучше. Покурить не хочешь, любовь моя?
— Да, только не эту костяную гадость, — сказала она.
— Простой доисторический допинг?
— Пожалуй.
Я достал заначку. Атмосфера становилась любовной. Мы были вместе четыре года и, хотя появились некоторые разногласия, мы все еще оставались лучшими друзьями. Пока я сворачивал папироску, она массировала мне шею, сильно нажимая на биологически активные точки, изгоняя застарелую боль из моих связок и позвоночника. Ее родители были из Бомбея, она сама родилась в Лос-Анджелесе, но она умела искусно наигрывать своими гибкими пальчиками Радху моему Кришне, как будто она была настоящей волшебницей индийских сумерек, женщиной-лотосом, полной поэзии в эротических шатрах и сутрах плоти, хоть и была самоучкой, не закончившей никаких секретных академий Бенара.
Ужасы и боли Нью-Йорка отдалялись, когда мы стояли у нашего длинного кристаллинового окна, близко друг к другу, глядя в зимнюю лунную ночь и видя только наши собственные отражения — высокого светловолосого мужчины и стройной темной женщины — бок о бок, плечом к плечу, в едином союзе против темноты.
На самом деле ни один из нас не считал, что жизнь в городе была обременительной. Как члены все наводняющего меньшинства мы были изолированы от многих сумасшедших проблем, укрывшись дома в максимальной безопасности, защитившись экранами и лабиринтами фильтров, и даже добираясь до своих охраняемых офисов в Манхэттене, прятались в коконы своих радиофицированных автомобилей. Когда нам необходимо было вступить в тесный контакт с реальной жизнью города — мы могли позволить себе это, а если же нам этого не было нужно, мы опять прятались под охрану.
Мы по очереди курили, ласково касаясь пальцев друг друга, когда передавали сигарету. В те минуты она мне казалась совершенством, моя жена, моя любовь, мое второе я, умная и изящная, таинственная и экзотичная, с высоким лбом, иссиня-черными волосами, луноликая (хотя луна — и та бывает ущербной), прекрасная женщина-лотос, тонкая нежная кожа, красиво очерченные прекрасные блестящие оленьи глаза, упругая пышная грудь, элегантная шея, носик прямой и грациозный. Как цветок лотоса, голос низкий и мелодичный, моя награда, моя любовь, мой компаньон, моя чужестранка-жена. Через двенадцать часов я вступлю на путь к потере ее. Может быть поэтому я так внимательно изучал ее в этот снежный вечер. Я ничего не знал о том, что случится, ничего, решительно ничего. А я должен был знать.
Исступленно размякшие, мы уютно устроились на шершавой желто-красной кушетке перед окном. Полная луна заливала город холодным прозрачным светом. Медленно кружась, падал снег. Из окна через залив нам были видны светящиеся башни деловой части Бруклина. Далекий экзотический Бруклин, мрачный Бруклин, в красном оскале клыков, с острыми когтями. Что происходило сейчас в джунглях нищих грязных улиц, расположенных за блестящим фасадом возвышавшихся над портом зданий? Какие увечья, какие ограбления, какие перестрелки, какие выигрыши и какие потери? Пока мы уютно отдыхали в теплом счастливом уединении, менее привилегированные переживали все «прелести» этого печального района Нью-Йорка. Банды семилетних мародеров свирепо обстреливали снежками, спешащих домой вдов на Флатбуш Авеню, мальчишки, вооружившись автогенными горелками, весело перерезали прутья клеток со львами в зоопарке, а соперничающие группы юных проституток, с голыми ляжками, в безвкусных утепленных нижних юбках и алюминиевых коронах, проводили порочные атаки на своих территориях на Гранд Арми Плаза. Все это благодаря тебе, добрый старый Нью-Йорк. Все это благодаря тебе, мэр Ди Лоренцо, мягкий румяный нежеланный лидер. Все это благодаря тебе, Сундара, моя любовь.
Это тоже правда Нью-Йорка — красивые молодые богачи, спрятавшиеся в безопасности своих теплых башен, творцы, изобретатели, оформители, избранники богов. Если бы нас здесь не было, это был бы не Нью-Йорк, а только большое и злобное поселение страдающей неуправляемой бедноты, жертв городского холокоста; преступность и грязь не делают Нью-Йорк. Должно быть также и очарование и, к худу или к добру, Сундара и я были частью этого.
Зевс с шумом бросал пригоршни града в наше непроницаемое окно. Мы смеялись. Мои руки скользили по маленькой гладкой с твердыми сосками безупречной груди Сундары. Большим пальцем ноги я нажал на кнопку проигрывателя и из него полился глубокий музыкальный голос Сундары. Магнитофонная запись из «Кама Сутры».
«Глава седьмая. Различные способы ударить женщину и сопровождающие их звуки. Сексуальные взаимоотношения можно сравнить с ссорой любовников потому, что небольшое раздражение так легко вызывает любовь и стремление со стороны двух объятых страстью индивидуумов быстро перейти от любви к гневу. В напряжении страсти один часто ударяет любовника по телу. Частями тела, по которым нужно наносить эти удары являются плечи, голова, пространство между грудями, спина, лоно, бока. Есть четыре способа ударить возлюбленного: тыльной стороной руки, слегка согнутыми пальцами, кулаком, ладонью. Эти удары болезненны и часто заставляют человека вскрикивать от боли. Есть восемь звуков приятной агонии, соответствующих различным видам ударов. Эти звуки: „хин, фат, сут, плат“.
Я касался ее кожи, ее кожа касалась моей, она улыбалась и шептала в унисон со своим записанным на пленку голосом, но сейчас с глубоким придыханием: «Хин… Фуут… Фат… Сут… Плат…»
8
На следующее утро в половине девятого я был в своей конторе. Хейг Мардикян позвонил точно в девять.
— Ты действительно берешь пятьдесят в час? — спросил он.
— Стараюсь.
— У меня есть для тебе интересная работа, но заинтересованная сторона не может платить пятьдесят.
— Кто эта сторона? Что за работа? — спросил я.
— Пол Куинн. Нужен директор по сбору данных и стратег по проведению предвыборной кампании, — объяснил Мардикян.
— Куинн баллотируется в мэры?
— Он считает, что будет легко скинуть Ди Лоренцо на первом этапе, а у республиканцев никого нет, так что момент подходящий для его выдвижения.
— Это точно, — сказал я. — На полный рабочий день?
— Большую часть года сокращенный, затем, с осени девяносто шестого до дня выборов в девяносто седьмом полный. Ты можешь выделить для нас место в своем расписании? — спросил Хейг.
— Это же ведь не просто консультационная работа, Хейг. Это значит лезть в политику.
— Ну и?…
— Для чего мне это нужно?
— Никому ничего не нужно кроме пищи и воды время от времени. В остальном — кому что нравится, — разъяснил Мардикян.
— Я ненавижу политику, Хейг, особенно местных политиков. Я их достаточно нагляделся, составляя свои прогнозы. Приходится съедать слишком много дерьма. Приходится идти на компромисс с самим собой по стольким безобразным поводам. Нужно подвергаться стольким…
— Тебя не просят быть кандидатом, парень. Только помочь спланировать кампанию.
— Только! Ты требуешь года моей жизни и…
— Что заставляет тебя думать, что Куинну понадобится только год?
— Ты делаешь это ужасно соблазнительно.
Помолчав, Хейг сказал:
— Здесь заложены огромные возможности.
— Может быть.
— Не может быть, а да.
— Я знаю, что ты имеешь в виду. Но власть еще не все.
— Можно на тебя рассчитывать, Лью?
Либо я его соблазнял, либо он меня. Наконец я сказал:
— Для тебя цена будет сорок.
— Куинн может дать двадцать пять сейчас и тридцать пять когда начнут поступать пожертвования.
— А потом доплатит до тридцати пяти?
— Двадцать пять сейчас и тридцать пять, когда мы сможем позволить это себе, — сказал Мардикян, — никаких доплат.
— Почему я должен получать урезанную зарплату? Меньше денег за более грязную работу?
— За Куинна. За этот проклятый город, Лью. Он единственный человек, который может…
— Конечно. А я единственный человек, который может помочь ему.
— Ты лучший, кого мы можем нанять. Нет, неверно. Ты — лучший, Лью. Временно. Никакой грязной работы.
— Каким будет штат? — спросил я.
— Все концентрируется на пяти ключевых фигурах. Одной будешь ты, другой
— я.
— Как менеджер кампании?
— Правильно. Миссакян — координатор переговоров и связей на среднем уровне. Ефрикян — связь с небольшими городами.
— Что это значит?
— Попечитель. И финансовый координатор — парень по имени Боб Ломброзо, в данный момент воротила на Уолл-стрите, который…
— Ломброзо? Этот итальянец? Нет. Подожди. Это гениально! Вам удалось найти спонсора из уолл-стритских пуэрториканцев.
— Он еврей, — сказал Мардикян с сухой усмешкой, — Он говорит, что Ломброзо — старое еврейское имя. У нас потрясающая команда. Ломброзо, Ефрикян, Миссакян, Мардикян и Николс. Ты — наш знатный англосаксонский протестант.
— Откуда ты взял, что я буду с вами, Хейг?
— Я никогда в этом не сомневался.
— Как ты догадался?
— Думаешь, ты единственный, кто может видеть будущее?
9
Итак, в начале девяносто шестого, года, мы расквартировали наш штаб на девятом этаже старой, обдуваемой всеми ветрами башни на парк Авеню, с живописным видом на огромную секцию здания авиакомпании Пан-Америкэн, и начали нашу работу по превращению Пола Куинна в мэра этого города абсурдов. Работа не была трудной. Все, что нам нужно было — это собрать достаточное количество квалификационных петиций (это совсем легко: вы можете заставить нью-йоркцев подписать все, что угодно и выставить своего человека на всеобщее обозрение, сделать его известным во всех шести округах перед первым туром выборов). Кандидат был привлекателен, интеллигентен, просвещен, амбициозен, совершенно очевидно способен; так что нам не приходилось работать над созданием имиджа, никакой пластической, косметической работы.
Город так часто заставляли умирать, и он так часто демонстрировал судороги безошибочной жизнеспособности, что клише концепции Нью-Йорка, как умирающей метрополии, вышло из моды. Теперь только дураки или демагоги придерживались этой точки зрения. Считалось, что Нью-Йорк погиб поколение тому назад, когда гражданские союзы захватили город и начали беспощадно зажимать его. Но длинноногий энергичный Линдсей воскресил его как город веселья только для того, чтобы превратить веселье в кошмар, когда скелеты, вооруженные гранатами, стали появляться из каждого клозета. Только тогда Нью-Йорк осознал, что по-настоящему представляет из себя умирающий город. Предыдущий период упадка начал казаться золотым веком. Белый средний класс распался в паническом массовом исходе. Налоги поднялись до репрессивного уровня, чтобы поддержать самые необходимые службы в городе, где половина людей была слишком бедна, чтобы оплачивать свое содержание. Основной бизнес города отреагировал на это тем, что вывел свои офисы в зеленую пригородную зону, и тем самым еще больше усугубил положение с налоговой базой. Византийское этническое соперничество взорвалось с новой силой в каждом районе. Грабители прятались за каждым фонарным столбом. Как такой больной город мог выжить? Климат был отвратительный, население злокачественное, воздух грязный, архитектура некрасивая и целый сонм самоускоряющихся процессов неистово уничтожал экономическую основу города.
Но город все же выжил и даже расцвел. Остались гавань, река, удачное географическое расположение, которые сделали Нью-Йорк независимым нейтральным связующим звеном для всего восточного побережья, нервным узлом, без которого нельзя было обойтись. Более того, город достиг своей эксцентричной потной скученностью особой критической массы и такого уровня культурной жизни, которые сделали его самоуправляющимся генератором по воспроизводству духовных ценностей. В нем, в умирающем Нью-Йорке, происходило так много событий, что город просто не мог умереть. Его нужды должны были продолжать пульсировать и изрыгать лихорадку жизни, бесконечно воспламеняя и обновляя самих себя. Неугасаемая лунная энергия продолжала бесконечно биться в сердце города.
Город не умирал. Но в нем продолжали существовать проблемы.
Вы могли бы существовать в загрязненном воздухе, надев маску или респиратор. Вы могли бы победить преступность так же, как снежную бурю или летнюю жару: пассивно, избегая ее, или активно, подавляя техническими средствами. Либо вы не надевали драгоценностей, либо быстро передвигались по улицам, либо оставались дома, запершись на как можно большее количество замков. Либо вы оборудовали себя системой дистанционной сигнализации, противограбительскими пуговицами, маяками безопасности, размещенными в подкладке вашей одежды, и тогда могли смело идти на бравых налетчиков. И справиться с ними. Но белый средний класс ушел, видимо, навсегда и это создавало трудности, так как некому было устанавливать всю эту электронику. Город к тысяча девятьсот девяностому году состоял в основном из чернокожих и пуэрториканцев, разделенный на два анклава: один уменьшающийся (из стареющих евреев, итальянцев и ирландцев), а другой постоянно увеличивающийся в размерах и влиянии (сверкающие острова богатых менеджеров и предпринимателей). Город, населенный только богатыми и бедными, испытывает определенные неприятные духовные неурядицы и через некоторое время нарождающаяся не белая буржуазия становится настоящим оплотом социальной стабильности. Большая часть Нью-Йорка сверкает так, как только Афины, Константинополь, Рим, Вавилон и Персеполис сверкали в прошлом, остальное — это джунгли, в буквальном смысле джунгли, зловонные и грязные, где единственный закон — это сила. Это не столько умирающей, сколько неуправляемый город; семь миллионов душ, двигающихся по семи миллионам орбит под воздействием эффектных центробежных сил, готовых в любую минуту сделать из нас гиперболы.
Добро пожаловать в Сити Холл, мэр Куинн.
Кто может управлять неуправляемым? Кто-то всегда хочет попробовать, да поможет ему Бог. Из наших ста с лишним мэров некоторые были честными, многие плутами, около семи из названных были компетентными и эффективными администраторами. Двое из них были плуты, но независимо от их морали, они знали как заставить город работать. Некоторые были звездами, другие несли несчастья, и все они в совокупности довели город до крайней энтропической точки разрушения. А теперь Куинн. Он обещал городу величие, объединяя, как казалось, силу и энергию Готфрида, обаяние Линдсея, гуманизм и сострадание Лагуардии.
Поэтому мы выдвинули его кандидатом от Новодемократической партии на первичных выборах в противовес беспомощному Ди Лоренцо. Боб Ломброзо выдоил миллионы у банков, Джордж Миссакян собрал вместе все частные телевизионные каналы, освещающие многих кандидатов от этой партии. Ара Ефрикян выторговал посредничество в поддержку Куинна от имени клубов, а я время от времени заглядывал в штаб, чтобы написать простенькие прогнозы, в которых не было ничего значительного, кроме: «играй спокойно», «продолжай борьбу», «мы победили».
Все ожидали, что Куинн победит, и он действительно выиграл первичные выборы с абсолютным большинством голосов в состязании с семью другими кандидатами. Республиканцы нашли банкира по имени Берджес, который согласился стать их кандидатом. Он был неизвестен, политическая новинка. Не знаю, то ли они были самоубийцами, то ли просто реалистами. Опрос общественного мнения за месяц до выборов показал, что 83 % избирателей отдают предпочтение Куинну. Оставшиеся 17 % беспокоили его. Он хотел, чтобы ему отдали голоса все 100 %, поэтому он обещал народу выиграть кампанию. Никто из кандидатов за двадцать лет не устраивал автопробегов и встреч с избирателями, а он настоял на отстранении от избирательной кампании капризного самоубийственного Мардикяна.
— Каковы мои шансы быть подстреленным, если я пройдусь пешком по Таймс Сквер? — спросил у меня Куинн.
Я не почувствовал смертельной опасности для него и сказал ему об этом.
Я также сказал:
— Но я не хотел бы, чтобы ты делал это, Пол. Я не непогрешим, а ты не бессмертен.
— Если в Нью-Йорке небезопасно встречаться с избирателями, — ответил Куинн, — тогда мы должны использовать место для испытания Z-бомбы.
— Только два года назад здесь был убит мэр, — сказал я.
— Все ненавидели Готфрида. Если кто и был фашистом с Железным крестом, так это он. Почему кто-то также должен думать и обо мне. Лью? Я пойду.
Куинн пошел и встретился с массами. Может быть это и помогло. Он одержал величайшую в истории выборов в Нью-Йорке победу, набрав 88 % голосов.
Первого января тысяча девятьсот девяносто восьмого года. В не по сезону мягкий, почти флоридский день Хейг Мардикян, Боб Ломброзо и все мы, приближенные Куинна, собрались тесным кругом на ступенях Сити Холла, чтобы наблюдать, как наш человек приносит присягу. Я немного беспокоился. Чего я боялся? Я не мог сказать. Может быть бомбы. Да, сияющую круглую черную бомбу, по-клоунски расписанную, с шипящим фитилем, со свистом проносящуюся в воздухе, чтобы разорвать нас на мезоны и кварки (гипотетические частицы). Но бомбу не бросили. Зачем это зловещее предзнаменование Николса? Радость. Я был раздражен. Нас похлопывали по спинам, целовали в щеки. Пол Куинн стал мэром Нью-Йорка, а тысяча девятьсот девяносто восьмой год был счастливым для всех.
10
Одной из поздних ночей лета тысяча девятьсот девяносто седьмого года Сундара спросила: — Если Куинн победит, он даст тебе работу в своей администрации?
— Возможно.
— Ты возьмешься?
— Вряд ли, — сказал я, — В начале кампании всегда весело. Ежедневное муниципальное правление — грязная скука. Я вернусь к своим привычным клиентам, как только закончатся выборы.
Через три дня после выборов Куинн послал за мной и предложил мне пост специального административного помощника, и я принял его без колебаний, без единой мысли о своих клиентах и работодателях, о своей блестящей конторе, полной оборудования по обработке компьютерных данных.
Лгал ли я Сундаре той ночью? Нет. Я обманывал себя. Мой прогноз был ошибочным, так как самопонимание не было совершенным. С августа до ноября я уяснил, что близость к власти дурманит. Больше чем за год Пол Куинн заразил меня своей энергией. Когда вы проводите так много времени рядом с такой силой, вы вовлекаетесь в поток энергии, вы становитесь энергоманом. Вы не можете оторваться от питающей вас динамомашины. Когда вновь выбранный мэр Куинн нанимал меня, он сказал, что нуждается во мне, я же понял, что еще сильнее он был нужен мне. Куинн был подхвачен огромной волной, блестящим полетом кометы через темную ночь американской политики, и я страстно желал быть в составе его поезда, ухватить часть его пламени, согреться им. Это было так просто и так унизительно. Я свободно мог притвориться, что, служа Куинну, я служу человечеству, что я участвую в великом захватывающем крестовом походе по спасению величайшего из наших городов, что я помогаю вытащить современную городскую цивилизацию из пучины, дать ей цель и жизнеспособность. Я даже был бы искренен. Но к Куинну меня влекла притягательность власти, власть в ее собственном понимании, власть ради власти, власти создавать, формировать и изменять. Спасение Нью-Йорка было частностью; оседлать силу — вот чего я жаждал.
Вся наша группа вошла в новую городскую администрацию. Куинн назначил Хейга Мардикяна вице-мэром, Боба Ломброзо финансовым администратором. Джордж Миссакян стал координатором средств массовой информации, Ара Ефрикян был назначен главой комиссии городского планирования. Затем мы пятеро уселись с Куинном за распределение остальных постов. Большинство имен было предложено Ефрикяном. Миссакян, Ломброзо и Мардикян определяли уровень квалификации, я делал интуитивные аттестации, а Куинн выносил окончательное решение. Таким путем мы добились участия негров, пуэрториканцев, китайцев, итальянцев, ирландцев, евреев и тому подобное в делах города, которые могли возглавить Агентство людских ресурсов, Совет по развертыванию жилищного строительства, Администрацию по защите окружающей среды. Администрацию по ресурсам культуры и множество других.
Затем мы начали тактично насаждать многих из своих друзей, включая огромное число армян, евреев-сефардов и других иностранцев, в верхних этажах низших эшелонов власти. Мы сохранили лучших людей из администрации Ди Лоренцо — их было не так уж много — и воскресили нескольких несимпатичных, но просвещенных комиссионеров Готфрида. Это было опьяняющее чувство — выбирать правительство для города Нью-Йорка, вытеснять старых кляч и приспособленцев и заменять их предприимчивыми мужчинами и женщинами, которые, казалось, представляли собой этнический и географический сплав, совершенно необходимый кабинету мэра Нью-Йорка.
Моя собственная работа была аморфной, мимолетной: я был тайным советником, создателем предчувствий, аварийщиком, тенью за троном мэра. Я предназначался для того, чтобы используя свои интуитивные способности, вовремя, за пару шагов до катаклизма или катастрофы предупредить Куинна о том, что в этом городе вояки могут обрушиться на мэра, если бюро прогнозов погоды объявит о налете на город снежной бури. Мне платили лишь половину того, что я мог заработать как частный консультант. Но муниципальная зарплата все же перекрывала мои реальные потребности. Было и другое преимущество: по мере того, как Куинн будет подниматься выше, я буду подниматься вместе с ним.
Прямо в Белый дом.
Я почувствовал приближение президентства Куинна в тот первый вечер тысяча девятьсот девяносто пятого года на приеме у Саркисяна, а Хейг Мардикян почувствовал его задолго до этого. У итальянцев есть слово «papabile», им называют кардинала, который возможно станет Папой. Куинн был президентский «папабиле».
Он был молодой, представительный, энергичный, независимый, так же как сорокалетний Кеннеди, обладал мистической властью над избирателями. Конечно, его не знали за пределами Нью-Йорка, но это не имело особого значения: со всеми городскими кризисами, которые по интенсивности на двести пятьдесят процентов превышают уровень, который был целое поколение (тридцать-сорок лет тому назад, любой, кто справится с должностью мэра в этом городе, автоматически становится президентом). И если Нью-Йорк не сломает Куинна, как он сломал Линдсея в шестидесятых, он станет известен всей нации через год-два. И тогда…
К осени девяносто седьмого года, когда должность мэра была завоевана, оказалось, что я уже сосредоточился (и это полностью захватило меня на шансах Куинна на президентских номинациях). Я чувствовал, что он будет президентом, если уже не в двухтысячном году, то четыре года спустя обязательно. Но одного предсказания недостаточно. Я играл президентством Куинна, как мальчик играет собой, возбуждая себя идеей, манипулируя ею так, чтобы доставить себе удовольствие, получить удовлетворение.
Скажу по секрету, меня смущало это поспешное планирование. Я не хотел, чтобы люди с холодным УМОМ, такие как Мардикян и Ломброзо знали, что я уже опутан мастурбическими фантазиями по поводу блестящего будущего нашего героя, хотя я предполагал, что они и сами были увлечены подобными мыслями. Я составлял бесконечные списки политиков, которых стоило выращивать в Калифорнии, Флориде, Чикаго, вычерчивал карты динамики национальных выборных блоков, стряпал хитрые схемы, показывающие мощные вихри съезда по выбору кандидата в президенты, разрабатывал бесконечные вариации сценариев самих выборов. Все это, как я уже говорил, захватывало, означало, что я снова и снова, страстно, нетерпеливо, неизбежно, в каждую свободную минуту возвращался к своим анализам и прогнозам.
У каждого есть навязчивая идея, которая превращается в несущий каркас, составляющий его жизнь: так мы становимся коллекционерами, садовниками, летчиками, марафонцами, пьяницами, прелюбодеями. Внутри каждого из нас одинаковая пустота и каждый заполняет эту пустоту, по-существу, одинаковыми способами, независимо от начинки, которую мы выбираем. Я имею в виду, что мы выбираем для себя то лекарство, которое нам больше нравится, хотя болезнь у нас у всех одна.
Я ложился спать и вставал, мечтая о президенте Куинне. Было за что работать на него. Не только потому, что он безусловный лидер, но он был человечным, искренним и брал на себя ответственность за людей. (Вот оно — его политическая философия была точно такая же, как у меня). Но также я находил в себе потребность вовлечься в успех карьеры других людей — постепенно заменить другого, использовать свое стохастическое искусство во благо другим людям. В этом был своего рода подземный толчок для меня, выросший из сложного чувства голода власти, связанного с ощущением, что я наиболее неуязвим, когда менее всего видим. Я не мог сам стать президентом. У меня не было желания проходить через все эти вихри борьбы, выставления на всеобщее обозрение, на безвозмездный напряженный труд, который публика с такой готовностью взваливает на того, кто ищет ее любви. Но, трудясь на поприще создания президента Пола Куинна, я мог проникнуть в Белый Дом через заднюю дверь, не обнажая себя и особо не рискуя. Вот каковы полностью оголенные корни моей одержимости. Я был намерен использовать Пола Куинна и позволял ему думать, что он использует меня. В сущности, я идентифицировал себя с ним: он был моим вторым я, моей разгуливающей маской, моей кошачьей лапой, моей марионеткой, моим десантом. Я хотел быть президентом, королем, императором, Папой, Далай Ламой. Через Куинна я заберусь туда тем единственным путем, которым могу, я буду управлять человеком, держащим в руках бразды правления и, таким образом, я стану отцом себе, а всем остальным Великим Отцом.
11
Был морозный день конца марта тысяча девятьсот девяносто девятого года, который начался, как начинался каждый день моей работы на Пола Куинна, но пошел по необычному пути сразу после полудня. Я встал как всегда, в четверть восьмого. Мы с Сундарой, как обычно, приняли вместе душ, обмениваясь заключенной в воде энергией. У нас также был маленький фетиш мыла и мы любили, намыливать Друг друга пока не становились скользкими, как тюлени. Быстрый завтрак, к восьми в Манхэттен. Первая остановка в моей конторе над городом, в моей старой конторе в «Ассоциации Лью Николса», которую я сохранил с костяком штата в свое время по вопросам городской безработицы. Там я раздал типовые анализы прогнозов по мелким административным способам: размещение новой школы, закрытие старой больницы, изменение зональных тарифов, разрешение на новый вытрезвитель для слабоумных алкоголиков в жилом районе. Все это мелочи, но потенциально опасные мелочи в городе, где нервы каждого жителя натянуты и маленькие неувязки быстро вырастают в огромные проблемы. Затем, около полудня я отправился в здание муниципального конференц-зала, чтобы позавтракать с Бобом Ломброзо.
— У мистера Ломброзо посетитель, — сказала секретарь, — но вы можете войти.
Контора Ломброзо была подходящей для него сценой. Он высокий, хорошо сложенный человек около сорока, с театральной внешностью, внушительной фигурой с темными вьющимися волосами, серебрящимися на висках, с жесткой, коротко подстриженной бородой, показной улыбкой и энергичными, резкими манерами удачливого купца. Его офис, переоборудованный за его счет по стандартам древних бюрократов, был богато украшен, мебель и вся обстановка в ливантийском стиле: с темными блестящими кожаными панелями на стенах, толстыми коврами, тяжелыми коричневыми бархатными шторами, матовыми бронзовыми испанскими лампами, расставленными повсюду, сияющим письменным столом, сделанным из нескольких сортов темного дерева, выложенным пластинками механически обработанного сафьяна, огромные белые урны китайских ваз и маленький стеклянный буфет в стиле барокко, взлелеянная коллекция средневекового иудейства — серебряные головки, бюсты и указки для свитков закона, вышитые занавески для торы из синагог Туниса и Ирана, филигранные субботние лампы, канделябры, коробочки для специй, подсвечники. Из этого уединения Ломброзо управлял муниципальными доходами, как принц Сиона: горе постигает глупого язычника, который пренебрегает его советом.
Его посетителем был похожий на тень маленький человек, пятидесяти пяти-шести лет, незаметная, незначительная персона с узкой яйцеобразной головой, поросшей редкими седыми волосами. Он был одет просто, в старый потертый коричневый костюм времен Эйзенхауэра, что делало Ломброзо в его шедевре портновского искусства похожим на экстравагантного павлина, и даже я почувствовал себя денди в своем каштановом вязаном свитере, который носил уже пять лет. Он тихо сидел, ссутулившись и сжав руки. Он казался незаметным, почти невидимым, из породы урожденных Смитов. Его кожа свинцового оттенка, холодная, дряблая, говорила о духовном и физическом истощении. Время забрало у этого человека силу, которой он, возможно, когда-то обладал.
— Я хочу познакомить тебя с Мартином Карваджалом, Лью, — сказал Ломброзо.
Карваджал встал и протянул мне руку. Она была холодной.
— Очень приятно, наконец, познакомиться с вами, мистер Николс, — сказал он мягким глухим голосом, дошедшим до меня как будто с края вселенной. Необычно устаревшее построение фразы приветствия звучало странно. Я недоумевал, что он здесь делает. Он выглядел каким-то обескровленным, человеком, ищущим мелкой канцелярской работы, или, что более вероятно, каким-нибудь выброшенным за борт жизни дядюшкой Ломброзо, пришедшим сюда за ежемесячным подаянием. Но в берлогу финансового администратора Ломброзо допускались только сильные мира сего.
Однако, Карваджал не был реликтом, за которого я его принял. Уже в момент рукопожатия он проявил неожиданный поток силы; встав, он стал выше, черты лица напряглись, какой-то средиземноморский румянец сделал ярче цвет его лица. Только его глаза, унылые и безжизненные, выдавали роковую отстраненность.
Ломброзо сказал нравоучительно:
— Мистер Карваджал был один из самых щедрых спонсоров предвыборной кампании, — бросая на меня вкрадчивый финикийский взгляд, говорящий: «Обращайся с ним хорошо, Лью, нам еще нужно его золото».
То, что этот неряшливый, нездоровый незнакомец оказался преуспевающим благодетелем кампании, человеком, которому надо льстить, заискивать перед ним и допускать в святая святых делового должностного лица, основательно потрясло меня, так как очень редко я ошибался в ком-либо так глубоко. Но мне удалось вежливо улыбнуться и сказать:
— А чем вы занимаетесь, мистер Карваджал?
— Инвестициями.
— Он один из самых проницательных и удачливых частных лиц, играющих на бирже, — сказал Ломброзо.
Карваджал самодовольно кивнул.
— Вы зарабатываете только на фондовой бирже? — спросил я.
— Целиком.
— Я никогда не думал, что такое возможно.
— О, да, да, это можно сделать, — сказал Карваджал. Его голос, тонкий и сиплый, раздавался как будто из могилы. — Все, что нужно — это достаточное понимание тенденций и немножко мужества. А вы никогда не играли на бирже, мистер Николс?
— Чуть-чуть. Лишь по-любительски.
— Вам везло?
— Пожалуй. Я сам обладаю способностью схватывать тенденции. Но я чувствую себя неудобно, когда начинаются дикие и безумные колебания. Двадцать — наверх, тридцать — вниз. Нет, спасибо. Я предпочитаю надежные предприятия.
— Я тоже, — ответил Карваджал, придавая своему утверждению налет таинственности, намек на скрытое значение. Но это сбило меня с толку, заставило почувствовать дискомфорт.
Мелодичный звонок раздался во внутреннем кабинетике Ломброзо, отделенном от основного дверью и коротким коридором налево от письменного стола. Я знал, что это звонит мэр, секретарь всегда переключала связь с Куинном во внутренний кабинет, когда у Ломброзо были посетители. Оставшись наедине с Карваджалом я вдруг почувствовал непреодолимое беспокойство: кожа начала гореть, горло сдавило, как будто какое-то мощное, источаемое им физическое излучение стало непреодолимо изливаться на меня, как только исчезло сдерживающее присутствие Ломброзо. Я не мог оставаться. Извинившись, я торопливо бросился вслед за Ломброзо в другую комнату — узкую пещеру, от пола до потолка наполненную книгами, тяжелыми, богато украшенными томами талмудов, переплетенных книг и рукописей. Ломброзо был удивлен и рассержен моим вторжением. Он сердито указал пальцем на телефонный экран, на котором были видны плечи и голова мэра Куинна. Но вместо того, чтобы уйти, я изобразил целую пантомиму извинений, идиотски гримасничая, пожимая плечами, размахивая руками и подпрыгивая. Это заставило Ломброзо попросить мэра на минуту отключиться. Экран погас.
Ломброзо посмотрел на меня.
— Ну, что случилось?
— Ничего. Я не знаю. Извини. Я не могу там оставаться. Кто он, Боб?
— Я только что говорил тебе. Большие деньги. Сильная опора Куинна. Мы должны быть любезны с ним. Разве ты не видишь, я говорю по телефону. Мэр должен знать…
— Я не хочу быть с ним один. Он похож на ходячего мертвеца. Меня бросает в дрожь от него.
— Что?
— Я серьезно. От него на меня исходит какая-то сила, Боб. Он вызывает у меня желание уйти. Он создает жуткую атмосферу.
— О Боже, Лью!..
— Я не могу. А ты знаешь, что делать?
— Он безобидный маленький старикашка, который делает огромные деньги на бирже и любит нашего мэра. Это все!
— Зачем он здесь?
— Чтобы встретиться с тобой, — сказал Ломброзо.
— Только для этого? Только чтобы увидеть меня?
— Он очень хотел поговорить с тобой. Сказал, что ему очень важно иметь дело с тобой.
— Что он хочет от меня?
— Я сказал все, что знаю. Лью.
— Мое время продается каждому, кто заплатит пять баксов Фонду кампании Куинна!
Ломброзо вздохнул:
— Если бы я сказал тебе сколько дал Карваджал, ты бы не поверил, но в любом случае, да, я думаю, ты должен уделить ему время…
— Но…
— Послушай, Лью, если хочешь больше узнать, обратись к Карваджалу.
— А сейчас возвращайся к нему. Будь очаровательным и дай мне поговорить с мэром. Иди. Карваджал тебя не съест. Он маленькая слабая штучка. — Ломброзо отвернулся от меня и нажал кнопку телефона. Мэр вновь появился на экране. Ломброзо сказал:
— Извини, Пол. У Лью небольшой нервный срыв, но он возьмет себя в руки. А теперь…
Я вернулся к Карваджалу. Он сидел не двигаясь, с понуренной головой, безвольно опустив руки, как будто огненный ветер пролетел по комнате, когда я ушел, и он сгорел. Медленно, с огромным усилием он пришел в себя, выпрямился, вздохнул, разыгрывая из себя героя из мультика, которого полностью выдавали его пустые пугающие глаза. Живой мертвец. Да.
— Вы с нами пообедаете? — спросил я его.
— Нет, нет. Я не буду навязываться. Я только хотел переговорить с вами, мистер Николс.
— Я к вашим услугам.
— Правда? Чудесно! — Он улыбнулся мертвенной улыбкой. — Знаете, я много слышал о вас. Даже до того, как вы занимались политикой. В каком-то смысле, мы с вами делаем одно дело.
— Вы имеете в виду биржу? — спросил я озадаченно.
Его улыбка стала ярче и еще более пугающей.
— Прогнозы, — сказал он, — для меня это биржа. Для вас — консультации по бизнесу и политике. Мы оба зарабатываем мозгами и нашим пониманием тенденций.
Я был неспособен воспринимать его. Он был темным, таинственным, загадкой.
— Сейчас вы поддерживаете локоть мэра, указываете ему дорогу вперед. Я обожаю людей, имеющих такое ясное видение. Скажите, какую карьеру вы предсказываете мэру Куинну? — спросил он.
— Блестящую!
— Блестящего мэра?
— Он будет самым лучшим из тех, кто был когда-нибудь мэром в этом городе.
Ломброзо вернулся в комнату. Карваджал спросил:
— А потом?
Я неуверенно посмотрел на Ломброзо, но его глаза были скрыты. Я был предоставлен самому себе.
— После этого срока в качестве мэра? — спросил я.
— Да.
— Он еще молодой человек, мистер Карваджал. Он может победить на трех или четырех выборах. Я не могу вам предоставить глубокого прогноза о том, что будет через двенадцать лет.
— Двенадцать лет в Сити Холле. Вы думаете, он намерен там оставаться так долго?
Карваджал играл со мной. Я чувствовал, что он меня втягивает помимо моей воли в своего рода дуэль. Я бросил на него пристальный взгляд и ощутил что-то пугающее и неопределенное, что-то мощное и непостижимое, что заставило меня предпринять достойный защитный маневр. Я сказал:
— А что вы думаете, мистер Карваджал?
Впервые отблеск жизни загорелся в его глазах. Он наслаждался игрой.
— Этот мэр Куинн займет более высокий пост, — сказал он мягко.
— В правительстве?
— Выше.
Я не сразу ответил, и не мог ответить тогда, неожиданная тишина разразилась из кожаных панелей стен и поглотила нас. Я боялся нарушить ее. Хоть бы опять позвонил телефон, подумал я, но все замерло, остановилось, как воздух морозной ночью, пока Ломброзо не выручил нас, сказав:
— Мы тоже думаем, что у него большие возможности.
— У меня большие планы на него, — выпалил я.
— Я знаю, — сказал Карваджал. — Поэтому я здесь. Хочу предложить поддержку.
Ломброзо сказал:
— Ваша финансовая помощь была потрясающе полезной для нас, и…
— Я имею в виду не только финансовую поддержку.
Теперь Ломброзо посмотрел на меня, обратившись за помощью. Но я растерялся. Я сказал:
— Я не думаю, что мы последуем за вами, мистер Карваджал.
— Я бы хотел остаться с вами наедине, — сказал Карваджал.
Я взглянул на Ломброзо. Если ему и не понравилось, что его выставляют из своего собственного кабинета, он не показал этого. Со свойственной ему грацией он поклонился и удалился в заднюю комнату. Опять я оказался наедине с Карваджалом и опять почувствовал себя плохо, скрученным и искривленным невидимыми стальными нитями, которые стягивали его сморщенную, ослабленную душу. Уже другим тоном, тихо и доверительно, Карваджал сказал:
— Как я отметил, вы и я делаем одну работу. Но мне кажется, что у нас разные методы, мистер Николс. Ваша техника интуитивна и пробабилистична, а моя… Моя иная. Я верю, что, возможно, моя интуиция может дополнить вашу. Вот, что я пытаюсь сказать.
— Предсказательная интуиция?
— Точно. У меня нет желания вмешиваться в сферу вашей деятельности. Но я бы смог сделать одно-два предложения, которые, думаю, были бы ценны для вас.
Я содрогнулся. Неожиданно загадка объяснилась и то, что открылось за ней, было невероятной банальностью. Карваджал, который не представлял из себя ничего, кроме как богатого любителя политики, показал, что его деньги квалифицируют его, как универсального эксперта, жаждущего сунуть свой нос в принятие политических решений. Любитель. Кабинетный политик, господи! Ладно, ублажать его, как попросил Ломброзо. Я ублажу. Нащупывая факты, я сказал ему чопорно:
— Конечно, мистер Куинн и его штат всегда рады услышать полезные предложения.
Глаза Карваджал искали моего взгляда, но я избегал смотреть на него.
— Благодарю, — прошептал он. — Я записал кое-что для начала.
Он протянул мне сложенный листок белой бумаги. Его рука немного дрожала. Я взял листок, не глядя.
Казалось, силы вдруг покинули его, как будто он исчерпал все свои ресурсы. Его лицо посерело, суставы ослабли.
— Спасибо, — снова пробормотал он. — Большое спасибо. Думаю, мы скоро увидимся. — И он ушел, поклонившись в дверях как японский посол.
Я со многим встречался в своей работе. Покачав головой, я развернул листок бумаги. Три предложения были написаны тонким почерком.
1. Следите за Джилмартином.
2. Обязательное замораживание национальной нефти — скоро проявится.
3. Сокорро вместо Лидеккера до лета. Скорее доберитесь до него.
Я прочел их дважды, не разобрался, подождал знакомого проясняющего скачка интуиции и опять — ничего. Что-то в этом Карваджале, казалось, полностью лишало меня способностей. Эта улыбка призрака, эти потухшие глаза, эти загадочные записи — все в нем расстраивало меня и ставило в тупик.
— Он ушел, — позвал я Ломброзо, который сразу появился из внутренней комнаты.
— Ну?
— Не знаю. Абсолютно ничего не знаю. Он дал мне это, — я протянул ему листок.
Джилмартин должен был стать Государственным контролером. Энтони Джилмартин, который пару раз сталкивался с Куинном по поводу финансовой политики, а сейчас о нем не было слышно.
— Карваджал думает, что возникнут трения с Албани по поводу денег, — рискнул сказать я, — хотя ты должен знать об этом больше меня. Джилмартин снова ворчит по поводу городских расходов?
— Ни слова.
— Может мы готовим пакет новых налогов, который ему не понравится?
— Мы бы тебе сообщили, Лью, если бы занимались этим.
— Итак, никаких потенциальных конфликтов не вырисовывается между Куинном и контрольным кабинетом?
— Я не вижу никаких в обозримом будущем, — сказал Ломброзо. — А ты?
— Никаких. Что же касается обязательного замораживания нефти…
— Мы говорили о проталкивании этой идеи через жесткий местный закон. Танкерам с незамороженной нефтью запрещается заходить в нью-йоркскую бухту. Куинн не уверен, так ли уж хороша эта идея, как о ней говорят, и мы как раз собираемся просить тебя составить прогноз. Но замораживание? Куинн не говорит много о делах национальной политики.
— Еще нет?
— Еще нет. А может уже пора? Может Карваджал на это и намекает? Ну, а третье?…
— Лидеккер, — сказал я. Определенно это был Ричард Лидеккер, губернатор Калифорнии, одна из наиболее значительных фигур в новодемократической партии и один из первых претендентов на президентскую номинацию в 2000 году.
— Сокорро — испанец, для помощи, не так ли, Боб? Помочь Лидеккеру, который не нуждается ни в какой помощи? Почему? Как, в конце концов, Пол Куинн может помочь Лидеккеру? Выставляя его в президенты? Кроме симпатии Лидеккера, на мой взгляд, это не принесет особой пользы Куинну, и мы не можем дать Лидеккеру ничего такого, чего у него нет в кармане, поэтому…
— Сокорро — помощник губернатора Калифорнии, — мягко сказал Ломброзо. — Карлос Сокорро. Так его зовут, Лью.
— Карлос Сокорро, — я закрыл глаза. — Конечно. — Мои щеки пылали. Несмотря на свои бесчисленные списки, неистовые компилирования центров власти в Новодемократической партии, мои вычерчивания до пота схем прошедших полутора лет, я все-таки умудрился забыть об очевидном наследнике Лидеккера. — На что же тогда он намекает? Что, Лидеккер, уступит губернаторство Сокорро и будет претендовать на президентство? До кого добраться? — Я заколебался. — До Сокорро? До Лидеккера. Все слишком мутно. Я не собираюсь разгадывать то, что не имеет смысла.
— А какова твоя разгадка Карваджала?
— Чудак, — сказал я, — богатый чудак. Роковой маленький человечек с серьезным случаем зацикленности на политике. — Я положил записку в портмоне. Кровь стучала у меня в висках. — Забудь об этом. Ты велел развлечь его — я развлек. Я был хорошим мальчиком, так ведь, Боб? Но я не нанимался заниматься такими случаями серьезно, и я отказываюсь даже приниматься за это. А теперь пойдем обедать, курить, пить мартини и разговаривать.
Ломброзо улыбнулся самой ослепительной улыбкой, успокаивающе похлопал меня и вывел из кабинета. Но я чувствовал холодок, как будто вступил в новый сезон, и это была не весна. Холод тянулся еще до обеда.
12
В следующие несколько недель мы честно принялись за работу, планируя путь Пола Куинна (и наш собственный) в Белый дом. Больше мне не нужно было быть скромным в желаниях, ограничивая потребность сделать из него президента. Теперь наши внутренние круги открыто проявили аналогичную страсть, которая так смущала меня полтора года назад. Теперь мы все выползли из своих щелей.
Процесс создания президента не сильно изменился с середины девятнадцатого века, хотя техника в наши дни отличается наличием компьютерных сетей, баз данных, стохастических прогнозов и интенсивным самонасыщением информацией. Отправной точкой, конечно, является сильный кандидат, предпочтительно имеющий мощную опору в густонаселенном штате. Ваш человек должен быть правдоподобно «президентским»: он должен выглядеть и уметь говорить как президент. Если это не его обычный стиль, его нужно натаскивать, чтобы он умел создать вокруг себя атмосферу правдоподобности. У самых лучших кандидатов она натуральная. Мак-Кинли, Линдон Джонсон, Ф.Д.Рузвельт и Вильсон — все они имели настоящий «президентский» вид. Хардинг тоже. Ни один человек не был так похож на Президента, как Хардинг. Это было единственное его достоинство, но и его было достаточно, чтобы стать президентом. У Девея, Алэ Смита, Мак Коверни и Хампфри его не было, и они проиграли. У Стивенсона и Уилки он был, но их соперниками были люди, обладавшие им в большей степени. Джон Ф.Кеннеди не очень соотносился с идеалом 1960 года, как должен выглядеть президент — мудрый, отечески заботливый — но у него было много других достоинств и, победив, он переделал модель в определенной степени с выгодой для остальных, таких как Пол Куинн, который был правдоподобным «президентским», потому что был «как Кеннеди». Очень важно также и говорить по-президентски. Будущий кандидат должен произвести впечатление твердого, серьезного и энергичного и в то же время милосердного и уступчивого политика, с голосом, передающим теплоту и мудрость Линкольна, пыл Трумэна, ясность Рузвельта и разум Кеннеди. Куинн подходил для этой должности.
Человек, который хочет быть президентом, должен собрать команду: кого-то для сбора средств (Ломброзо), кого-то для обработки средств массовой информации (Миссакян), кого-то для анализа тенденций, кого-то для того, чтобы объединить в политический союз различных политических лидеров (Ефрикян), кого-то, чтобы направлять и координировать стратегию (Мардикян). Сначала команда работает с продуктом. Заводит необходимые связи с мире политиков, журналистов, финансистов; доводит до умов публики концепцию, что это как раз подходящий человек для такого дела. Ко времени съезда для выдвижения кандидата должно быть собрано достаточное количество делегатов, путем открытого или завуалированного обещания придерживаться декларированной политики, чтобы помочь ему достичь цели при первом голосовании или, в худшем случае, при третьем. Если вы к тому времени не сможете добиться номинации, союзы распадутся, а темные лошадки разбредутся в ночи. Когда же он пройдет номинацию, вы подбираете ему союзника, совершенно непохожего на него во взглядах, философии, происхождении, с которым он все еще поддерживает контакты — и можете смело отправляться втаптывать в грязь вашего уважаемого оппонента.
В начале апреля тысяча девятьсот девяносто девятого года мы провели наше первое собрание по выработке стратегии в кабинете представителя мэра Мардикяна, в западном крыле Сити Холла, на котором присутствовали Хейг Мардикян, Боб Ломброзо, Джордж Миссакян, Ара Ефрикян и я. Куинна не было. Куинн торговался в Вашингтоне с департаментом здравоохранения, образования и благосостояния по поводу увеличения ассигнований для города согласно Стабилизационному акту. В комнате раздался треск электрического разряда, не имеющий ничего общего с установкой озонирования воздуха. Это была молния власти, реальной, потенциальной. Мы собрались для того, чтобы переделывать историю.
Стол был круглый, но я чувствовал себя занимающим центральное место в группе. Четверо из присутствующих, гораздо более сведущих в вопросах применения силы и оказания влияния, ждали моих указаний, так как будущее было неясным, и они могли только ломать голову над его загадками верили, что я ВИЖУ и ЗНАЮ. Я не собираюсь объяснять разницу между видением и способностью догадываться. Я смаковал свое господство над ними. Власть обогащает на любом уровне. И вот я сидел среди миллионеров, двух адвокатов, биржевого маклера и промышленного магната, среди трех смуглых армян и одного смуглого испанского еврея. Каждый из них, как и я, жаждал почувствовать резонанс триумфа успешной заявки на роль президента, каждый, как и я, страстно желал разделить славу, каждый уже выделял свой кусок империи в будущем правительстве, и они ждали, что я педантично укажу им путь завоевания Соединенных Штатов Америки.
Мардикян сказал:
— Давайте начнем с толкования, Лью. Как вы оцениваете шансы Куинна на номинацию в следующем году?
Я выдержал соответствующую пророческую паузу, я выглядел, как будто искал стохастические тотемы, заглядывал в дальние пространства космоса, выискивая танцующие пылинки предзнаменований, окутал себя пророческой помпезностью, произвел совершенно хитрый импрессивный акт и через минуту ответил торжественно:
— Для номинации, может быть, один шанс из восьми. Для выборов — один из пятидесяти.
— Не так уж хорошо.
— Нет.
— Совсем нехорошо, — сказал Ломброзо.
Мардикян, напуганный, потянув себя за мясистый императорский нос, сказал:
— Вы говорите, что мы должны это пропустить вообще? Это ваша оценка?
— На следующий год, да. Забудьте о президентстве.
— Мы прекращаем работу? — сказал Ефрикян. — Мы только попали сюда, в Сити Холл, а теперь его бросаем?
— Подождите, — прошептал ему Мардикян. Он снова обратился ко мне:
— А что вы думаете о выборах две тысячи четвертого года, Лью?
— Лучше. Много лучше.
Ефрикян, дородный мужчина с шикарно обритым черепом, выглядел взволнованным. Он нахмурился и сердито сказал:
— Средства массовой информации много говорят о том, что Куинну удалось сделать за первый год в качестве мэра. Я думаю, что сейчас как раз подходящий момент ухватиться за следующую перекладину, Лью.
— Согласен, — любезно согласился я.
— Но вы сказали, что он проиграет в двухтысячном.
— Я говорю, что любой Новый демократ проиграет, — ответил я, — любой. Куинн, Лидеккер, Китс, Кейн, Повнел — любой. За этот момент Куинн и должен ухватиться. Вы правильно сказали, мистер Ефрикян. Но следующая перекладина не обязательно наивысшая.
Миссакян собранный, точный, тонкогубый эксперт по коммуникациям, человек ясного видения, сказал:
— Вы не могли бы быть поточнее, Лью?
— Да, — ответил я и развил свою мысль. Я высказал свой не очень рискованный прогноз, что кто бы ни был выдвинут против президента Мортонсона в двухтысячном году — наиболее вероятно, Лидеккер — он проиграет. Лицо, занимающее должность президента в этой стране не проигрывает выборов после первого срока, если не накликает беду огромных размеров. А Мортонсон работает спокойно, выполнял эту скучную вялую работу, ту, которую любят большинство американцев. Бросив вызов, Лидеккер получит достойный отпор, но выхода нет. Он будет побежден, потерпит сильное поражение, хотя он как раз президентского калибра. Лучше всего уйти с дороги Лидеккера. Дать ему свободный проход. Любые попытки Куинна вырвать у него номинацию в следующем году могут провалиться. В любом случае, Лидеккер станет его врагом, что совершенно нежелательно. Пусть Лидеккер получит свою акколаду (посвящение в рыцари), давайте позволим ему убить себя на выборах, пытаясь сбросить непобедимого Мортонсона. Мы подождем до две тысячи четвертого года, когда конституция запретит Мортонсону выдвигать свою кандидатуру, и выставим Куинна — молодого, не опороченного поражением.
— Итак, Куинн уступает место Лидеккеру в двухтысячном году, а затем выдвигается, связывая ему руки? — подытожил Ефрикян.
— Более того, — сказал я. Я посмотрел на Боба Ломброзо. Мы с ним уже обсуждали стратегию и пришли к соглашению. И теперь, сгорбив плечи, окидывая армянскую сторону стола взглядом элегантных глаз с тяжелыми веками, Ломброзо начал обрисовывать наш план.
— Куинн сделает заявку на выдающееся положение в стране в течение следующих нескольких месяцев, начав в начале лета тысяча девятьсот девяносто девятого года турне по стране, выступая с речами в Мемфисе, Чикаго, Денвере и Сан-Франциско, опираясь на надежные, привлекшие внимание достижения в Нью-Йорке (перестройка территорий, программа ускорения, деготфриадизация политических сил и так далее), он начнет говорить о более важных вопросах, таких как региональные силы слияния, изменение политики, о новом введении законов о собственности тысяча девятьсот восемьдесят второго года и (почему нет?) об обязательном замораживании нефти, К осени он начнет прямую атаку на республиканцев, не столько на самого Мортонсона, сколько на некоторых членов его кабинета (особенно на секретаря по энергии Хосперса, секретаря по информации, секретаря по окружающей среде Перлмана). Таким образом он достигнет медленных, но верных успехов в борьбе, превращаясь в фигуру национального масштаба. Растущий молодой лидер, человек, которого стоит принимать во внимание. Средства массовой информации начнут говорить о его президентских возможностях, хотя выборщики будут ставить его ниже Лидеккера, как фаворита номинации — мы будем следить за этим — он не будет заявлять о себе на выборах. Он даст понять средствам массовой информации, что предпочитает Лидеккера другим баллотирующимся кандидатам, хотя он постарается не делать никакого прямого индоссамента (подтверждения) Лидеккеру. На съезде Новых демократов в двухтысячном году, когда на номинации Лидеккер произнесет традиционную речь, заявив своего союзника, Куинн вступит в игру и драматично и, в конечном счете, безуспешно предложит себя для номинации в качестве вице-президента. Почему вице-президент? Потому что средства массовой информации дадут основной бой, не раскрывая его как заявившего себя на президентский пост, не обвинив его в преждевременных амбициях и не вызвав гнев сильного Лидеккера. Почему безуспешно? Потому что Лидеккер в любом случае проиграет выборы и Куинн ничего не выиграет, проиграв вместе с ним в качестве его союзника. Самое большее, что в данном случае можно извлечь из выборов — это установление имиджа блестящего новичка, большим надеждам которого помешали политические наемники. И затем отказаться от выборов.
Наш образец, — заключил Ломброзо, — Джон Кеннеди, который был вытеснен как вице-президент, как раз таким же способом в тысяча девятьсот пятьдесят шестом, а затем возглавил список кандидатов в тысяча девятьсот шестидесятом году. Лью выявил в политических хитросплетениях закономерность динамики частичного замещения одного кандидата другим и мы смогли показать вам ее в разрезе.
— Великолепно, — сказал Ефрикян, — когда начнется предательство, в две тысячи третьем году?
— Давайте серьезно, — мягко сказал Ломброзо.
— О'кей, — сказал Ефрикян, — я буду серьезным. А что, если Лидеккер начнет борьбу снова в две тысячи четвертом году?
— Ему тогда будет уже шестьдесят один, — ответил Ломброзо, — и в его послужном списке будет предыдущее поражение. Куинн будет сорокатрехлетним и небитым. Один будет на пути вниз, другой, явно, на пути наверх. А партии будет нужен победитель после восьми лет безвластия.
Последовало долгое молчание.
— Мне это нравится, — наконец провозгласил Миссакян.
Я сказал:
— А тебе как, Хейг?
Мардикян какое-то время не говорил ни слов. Потом кивнул.
— Куинн не готов взять страну в двухтысячном году. Он сможет в две тысячи четвертом году.
— И страна будет готова для Куинна, — сказал Миссакян.
13
Один человек сказал, что политика делает супругов чужими. Если бы не политика, Сундара и я не образовали бы той весной группы из четырех человек с Каталиной Ярбер, проктором Временных увлечений, и Ламонтом Фридманом, сильно ионизированным молодым финансовым гением.
Случилось так, что как член свиты Пола Куинна я получил два бесплатных билета на пятисотдолларовый обед в день Николоса Росвелла, который Новодемократическая партия штата Нью-Йорк ежегодно проводит в середине апреля. Это не столько день памяти по убитому губернатору, сколько, и скорее, акция сбора денежных средств и представления очередной партийной суперзвезды. Главным оратором на этот раз был, конечно, Куинн.
— Однажды я была на одном из твоих политических обедов, — сказала Сундара.
— Они совершенно формальны.
— Тем не менее.
— Ты возненавидишь меня, любовь моя.
— А ты собираешься? — спросила она.
— Я должен.
— Я думаю, тогда я воспользуюсь другим билетом. Если я усну, толкни меня, когда мэр начнет говорить. Он во мне все переворачивает.
Итак, сумрачным дождливым вечером мы с ней отправились в Харбор Хилтон, целиком освещенную огромную пирамиду на легкой понтонной платформе в полукилометре от оконечности Манхэттена, в переполненный сливками истеблишмента восточных либералов зал для приемов на высоком уровне, откуда была, среди прочего, видна башня-кондо Саркисяна на противоположном берегу бухты, где я около четырех лет назад впервые встретил Пола Куинна. Многие из участников того празднества должны быть и на сегодняшнем обеде. Сундара и я заняли места за одним столом с Фридманом и мисс Ярбер.
Пока все пили коктейли и курили наркотики перед началом обеда, Сундара привлекала больше внимания, чем любой из присутствующих сенаторов, губернаторов и мэров, включая Куинна. Частично это было вызвано любопытством, так как каждый из нью-йоркских политиков слышал о моей экзотической жене, но очень немногие встречались с ней, а частично и потому, что она была, безусловно, самой красивой женщиной в зале. Сундару это не удивляло и не беспокоило. В конце концов, она была прекрасной всю свою жизнь и у нее было время привыкнуть к эффекту, который она производила. К тому же она не одевалась так, как люди, которые хотят, чтобы на них глазели. Она выбрала прозрачный гаремный костюм, темный, свободный и развевающийся, закрывающий ее тело от кончиков пальцев на ногах до горла; под ним не было ничего, и когда она проходила перед источником света, эффект был сногсшибательный. Она порхала как мотылек в середине огромной бальной залы, изящная, элегантно-темная и таинственная, с отблеском света на ее черных волосах, намеками на грудь и бедра, дразня и обрекая на танталовы муки глядящих на нее мужчин. О, это было время ее славы! Куинн подошел поприветствовать нас и они обменялись целомудренным поцелуем-объятием, проделав такие искусные па бисексуальной харизмы, что некоторые из старых государственных чиновников открыли рты от изумления, покраснели и вынуждены были ослабить воротнички. Даже жена Куинна, известная своей улыбкой Джоконды, выглядела слегка шокированной, хотя она состояла в самом надежном браке из всех политиков, которых я знал. (А может быть пыл Куинна просто развлек ее? Эта непроницаемая деланная улыбка!) Сундара все еще истекала Кама Сутрой, когда мы заняли наши места. Ламонт Фридман, сидя возле нее за круглым столом, задергался и затрепетал, встретившись с ней глазами, и уставился на нее со свирепой силой, так что мускулы его длинной узкой шеи судорожно сжались. Спутница Фридмана на этом вечере, мисс Ярбер, тоже разглядывала Сундару — более сдержанно, но с не меньшей силой.
Фридман. Ему было около двадцати девяти, безнадежно худой, приблизительно два с половиной метраж ростом, с выпирающим кадыком и безумными выпуклыми глазами; густая шапка каштановых волос поглощала его голову, как будто покрытое шерстью существо с другой планеты напало на него. Он вышел из Гарварда с репутацией волшебника денег и, придя на Уолл-стрит в девятнадцать лет, стал главным магом банды расставленных везде финансистов, называющих себя «справедливыми Асгарда», которые благодаря серии блестящих удачных ходов — покупке привилегий на приобретение товара, обманных ходов, двойных колебаний и множеству других достаточно трудно постижимых технологий — за пять лет получили контроль над корпорационной империей в миллиард долларов, контролирующей все континенты кроме Антарктиды. (И я не обрадовался, узнав, что Асгард имеет привилегии в таможенных сборах для Мак Судро Саунд.) Мисс Ярбер, маленькая блондинка лет тридцати, тощая, с несколько тяжелым лицом, энергичная, с быстрым взглядом и тонкими губами. Ее волосы, по-мальчишески короткие, падали редкой челкой. Она почти не пользовалась косметикой, только легкая голубая тень вокруг рта, и одежда ее была строгой — желтая короткая куртка и прямая коричневая юбка до колен. Эффект был почти аскетичен, но когда мы усаживались, я заметил, что она тщательно сбалансировала несексуальный имидж одним ошеломляющим эротическим штрихом: на ее юбке был очень длинный разрез сбоку, открывая во время движения гладкую мускулистую ногу, бронзовое бедро и чуть-чуть ягодицу. На середине бедра разрез скрепляла прямая цепочка с маленьким абстрактным медальоном Транзит Крид.
Обед. Обычный банкет: фруктовый салат, консоме, филе, подогретый горошек и морковь, графины с калифорнийским бургундским, все подавалось с максимальным звоном посуды и минимальной грацией представителями угнетенных меньшинств с каменными лицами. Блюда и сервировка были безвкусными, но никто не обращал на это внимания; мы были так одурманены наркотиками, что меню было амброзией, а отель — алькирией. Пока мы болтали и ели, какие-то политики невысокого уровня циркулировали от стола к столу, хлопали по спинам, пожимая руки, нам пришлось выдержать процессию самодовольных жен политиков, в основном, шестидесятилетних, толстых, гротескно одетых по последней моде, изо всех сил старающихся продемонстрировать свою близость к сильным мира сего. Уровень шума был на двадцать децибел выше Ниагарского водопада. Гейзеры дикого смеха выплескивались то за одним, то за другим столом, когда какой-нибудь среброгривый юрист или почтенный законодатель в который уже раз пересказывал свою любимую скабрезную республиканскую, негритянскую, пуэрториканскую, еврейскую, ирландскую, итальянскую, адвокатскую или медицинскую шутку в лучших традициях тысяча девятьсот шестьдесят пятого года. Я чувствовал себя, как всегда на таких мероприятиях, гостем из Монголии, заброшенным без разговорника на ритуальный праздник неизвестного американского племени. Это было бы невыносимо, если бы не трубки, набитые высококачественным наркотиком: партия Новых демократов может споткнуться на вине, но она знает как поступать с наркотиками.
К тому времени, как начались речи, был развернут ритуал внутри ритуала: Ламонт Фридман посылал отчаянные сигналы страсти Сундаре, а Каталина Ярбер, хотя ее тоже тянуло к Сундаре, в своей холодной безэмоциональной манере, без слов предлагала себя мне. Когда хозяин церемонии Ломброзо, которому удавалось быть одновременно элегантным и вульгарным, внедрился в самую сердцевину веселья, осыпал шутками самых достойных из присутствующих, воспевая мадригалы традиционным мученикам — Рузвельту, Кеннеди, и опять Кеннеди, Кингу Розвеллу и Готфриду — Сундара наклонилась ко мне и прошептала.
— Ты обратил внимание на Фридмана?
— Я бы сказал, что он сильно накурился.
— Я думала, гений мог бы быть более утонченным.
— Может быть, ему кажется, что наименее утонченный подход и есть наиболее утонченный.
— Нет, я думаю, он слишком молод.
— Это не так уж плохо.
— О, нет, — сказала Сундара, — я нахожу его привлекательным. Роковой, но не отталкивающий. Почти обворожительный.
— Тогда его прямые подходы сработали. Видишь? Он на самом деле гений.
Сундара рассмеялась:
— А Ярбер ухаживает за тобой. Она тоже гениальна?
— Я думаю, что она хочет тебя. Это называется косвенным подходом.
— И что же ты собираешься делать?
Я пожал плечами:
— Как ты?
— Я за. Тебе нравится Ярбер?
— Очень энергичная, думаю.
— Я тоже. Итак, ночь вчетвером?
— Почему бы нет, — сказал я как раз — в тот момент, когда Ломброзо вызывал рев восторга в аудитории, искусно направив вечер к его кульминационной точке — представлению Куинна.
Мы стоя приветствовали мэра долго несмолкающей овацией, тщательно продирижированной Хейгом Мардикяном с возвышения. Усаживаясь снова на место, я послал Каталине Ярбер сигнал на языке тел, вызвавший румянец на ее бледных щеках. Она улыбнулась. Маленькие, плотно посаженные, острые зубы. Послание принято. Дело сделано. У нас с Сундарой сегодня ночью будет приключение с этими двумя. Мы испытывали большую необходимость друг в друге, чем многие пары в наше время, поэтому мы могли позволить себе некоторую распущенность: у нас не было ссор, случающихся в многочисленных семействах, перебранок по поводу собственности, кучи детей. Потребность друг в друге — это одно, а верность — совсем другое. И если первое все еще существует, хоть и подвергается эволюции, то последнее — что-то вроде птеродактиля или питекантропа. Я только приветствовал перспективу столкновения с энергичной маленькой мисс Ярбер. В то же время я обнаружил, что завидую Фридману, как всегда завидовал партнерам Сундары на ночь, так как он будет обладать уникальной Сундарой, которая все еще была для меня самой желанной женщиной в мире, а я должен устраиваться с кем-то, кого я желал, но гораздо меньше, чем ее. Сила любви, я полагаю, проявляется в том, насколько нам необходима верность объекту любви. Счастливчик Фридман! К такой женщине, как Сундара, можно прийти первый раз только однажды.
Куинн говорил. Он не был комичен, отпустил только несколько легоньких шуток, на которые слушатели тактично отреагировали. Затем он перешел к серьезным делам, будущему Нью-Йорка, будущему Соединенных Штатов, будущему человечества в предстоящем столетии. Двухтысячный год, говорил он, имеет непреходящее символическое значение: это буквально начало тысячелетия. Переход на другой уровень. Давайте вычистим конюшни и начнем сызнова, помня, но не повторяя ошибки прошлого. Мы, говорил он, прошли через тяжелые испытания огнем в двадцатом веке, вынесли обширные неурядицы, переделки и несправедливости, мы несколько раз были близки к уничтожению жизни на земле; мы ставили себя перед вероятностью всемирного голода и всемирной нищеты; мы погружали себя глупо и неизбежно в десятилетия политической нестабильности; мы становились жертвами собственной жадности, страха, ненависти и собственного невежества. Но теперь, когда мы взяли под контроль солнечную энергию и прирост населения, достигли необходимого равновесия между расширением производства и защитой окружающей среды, пришло время построить максимально разумное общество, мир, в котором разум превалирует и право побеждает, мир, в котором человеческий потенциал сможет быть реализован в полную силу и так далее.
Прекрасное видение наступающей жары. Благородно, риторично, особенно в устах мэра Нью-Йорка, традиционно более концентрирующего внимание на проблемах системы образования и агитации гражданских союзов, чем на судьбах человечества. Можно было бы посчитать эту речь напыщенной. Но нет, невозможно. Она была значительна, потому что то, что мы слышали, было звуком трубы, провозгласившей будущего мирового лидера.
Вот он стоял и казался на полметра выше, чем был на самом деле, лицо горело, глаза сияли, сложенные руки покоились на груди, подчеркивая его силу, забрасывая нас призывными звуками фраз:
— …переход на другой уровень, давайте вычистим конюшни…
— …мы прошли через тяжелые испытания огнем…
— …пришло время строить максимально разумное общество…
РАЗУМНОЕ ОБЩЕСТВО. Я услышал щелчок и жужжание. Звук не столько напоминал переход на другой уровень, сколько выбрасывание нового политического лозунга, и мне не нужны были большие стохастические способности, чтобы догадаться, что мы еще и еще будем слышать о разумном обществе прежде, чем сделаем Пола Куинна.
Черт побери, он был неотразим. Мне очень хотелось отбыть совершать ночные подвиги, а я сидел неподвижно восхищенный, как и вся аудитория пьяных политиков и окаменевших знаменитостей, и даже официанты оставили свои вечно гремящие подносы, когда волшебный голос Куинна раскатывался под сводами зала. Еще с той первой ночи у Саркисяна я наблюдал, как он уверенно накапливал силу, становился тверже, как будто его путь к выдающемуся положению укреплял в нем самооценку и сжигал всякую тень неуверенности в себе. Теперь, блистая в центре внимания, он казался проводником космической энергии, она истекала из него с непреодолимой силой, которая потрясала меня. Новый Рузвельт? Новый Кеннеди? Я дрожал. Новый Чарлеманг, новый Магомет, а может быть новый Чингиз Хан.
Он закончил под фанфары. Мы, стоя, огласили воздух воплями восторга, теперь не было нужды в дирижировании Мардикяна. Ребята из средств массовой информации разбежались передавать свои кассеты, члены клуба хлопали в ладоши и говорили о Белом доме, женщины рыдали, Куинн, вспотевший, с распростертыми руками, принимал это как должное со спокойным удовлетворением, а я почувствовал первые признаки неумолимой силы, протекающей в Соединенные Штаты.
Прошел еще час прежде, чем Сундара, Фридман, Каталина и я выбрались из отеля. В машину — и быстро домой. Странное смущенное молчание; нам все не терпелось приступить к этому, но временно преобладали социальные условности и мы притворялись холодными, и, кроме того, Куинн подавил нас. Мы были полны им, его решительными фразами, его роковым присутствием, которое делало нас полными ничтожествами, онемевшими, безвольными, ошеломленными. Никто не мог предпринять первого шага. Мы болтали. Бренди, наркотики; прогулка по нашим апартаментам; Сундара и я показывали наши картины, скульптуру, примитивные артефакты, вид из окон на Бруклин, нам стало легче, но сексуальной обстановки не возникло; то состояние сексуального влечения, которым мы были так возбуждены три часа назад, рассеялось под влиянием речи Куинна. Мог ли Гитлер приводить к оргазму? Или Цезарь? Мы развалились на толстом белом ковре. Еще наркотиков. Куинн, Куинн, Куинн: вместо секса мы говорили о политике. Наконец Фридман, почти преднамеренно, провел ладонью от лодыжки до бедра Сундары. Это был сигнал. Мы уничтожили напряженность.
— Ему нужно баллотироваться в следующем году, — говорит Каталина Ярбер, нарочито маневрируя так, что разрез ее юбки раскрывается, обнажая плоский живот, золотистые завитки.
— Лидеккер выступит на номинации, — предположил Фридман, осмелев и лаская грудь Сундары.
Я коснулся выключателя, изменяя освещение, комната озарилась эйфорическим светом. Все закружилось в вихре мерцающего огня. Ярбер предложила трубку с наркотиком.
— От Сиккима, — объявила она, — самый лучший. — Обращаясь к Фридману, она сказала: — Я знаю Лидеккера, но Куинн может его оттолкнуть, если попытается.
Я глубоко затянулся и наркотик Сиккима разбудил во мне чувства производителя.
— В следующем году — слишком быстро, — сказал я им, — Куинн выглядел сегодня бесподобно, но у нас нет времени, чтобы увлечь им всю страну до ноября следующего года. Выборы Мортонсона предрешены в любом случае. Пусть Лидеккер баллотируется в следующем году, а Куинна мы выдвинем в 2004-м. — Я был готов выложить всю разработанную стратегическую линию по вице-президенту, но Сундара и Фридман растворились в тени, а Каталина больше не интересовалась политикой.
Наши одежды упали. Ее тело было тугим, спортивным, по-мальчишески гладким и мускулистым, груди тяжелее, чем я ощущал, бедра уже. У нее на бедре была прикреплена цепочка с эмблемой амулета Транзит. Ее глаза блестели, но кожа была прохладной и сухой, соски не напряжены; что бы она ни чувствовала, это не включало в себя сильной физической страсти к Лью Николсу. Я же по отношению к ней чувствовал любопытство и какое-то отдаленное желание прелюбодействовать; нет сомнения, ее чувства были почти такие же.
Мы переплели наши тела, ласкали кожу друг друга, наши губы встретились и языки ласкали друг друга. Это было так равнодушно, что я боялся, что не справлюсь. Но знакомые рефлексы сработали, старый надежный гидравлический механизм начал накачивать кровью мои чресла и я почувствовал необходимый трепет и твердость.
— Давай, — сказала она, — родись мне.
Странная фраза. «Транзитовская чепуха», как я узнал позднее. Я склонился над ней и ее стройные сильные бедра обхватили меня и я вошел в нее.
Наши тела двигались вверх и вниз, назад и вперед. Мы принимали то одну позу, то другую, безрадостно исполняя стандартный репертуар. Ее искусство было огромным, но в ее манере делать это была заразительная холодность, которая передавалась мне, и я чувствовал себя машиной, цилиндром, без устали толкающим поршень, так что я спаривался без удовольствия и почти бездумно. Что она могла получить от этого? Я предполагал, что немного. Это потому, что на самом деле ей нужна была Сундара, как я думал, и перепихнуться со мной было для нее единственным шансом побыть с НЕЙ. Я был прав и в то же время неправ, так как со временем я узнал, что стальная холодность мисс Ярбер была не столько отражением отсутствия интереса ко мне, сколько результатом учения Транзит. Сексуальность, говорили их прокторы (учителя), задерживает существо здесь и сейчас и откладывает переход, а переход (транзит) есть все: неподвижное состояние есть смерть. Следовательно, вступайте в сожитие, если вам необходимо или если вы таким способом стремитесь к достижению большей цели. Но нельзя растворяться в экстазе, чтобы не позволить себе увязнуть в болоте непереходного состояния.
Даже так. Наш ледяной налет удовольствия, казалось, тянулся уже неделю. Затем она закончила или позволила себе закончить быстрым и спокойным трепетанием, и я с молчаливым облегчением вытолкнул себя из границ в окончание. Мы откатились друг от друга, тяжело дыша.
— Я хочу бренди, — сказала она через минуту.
Я достал коньяк. Издалека доносились стоны и вздохи более ортодоксального удовольствия: их производили Сундара и Фридман.
Каталина сказала:
— Ты очень компетентен.
— Благодарю, — ответил я неуверенно. До этого никто не говорил мне ничего такого. Я раздумывал, как ответить и решил не проявлять взаимности. Коньяк для двоих. Она села, скрестила ноги, пригладила волосы и отхлебнула бренди. Она выглядела холодной, спокойной, как будто полового акта и не было. И все же она странно светилась сексуальной энергией; она казалась совершенно удовлетворенной тем, что мы сделали.
— Я имею ввиду, что ты был великолепен, — сказала она. — Ты делал это сильно и бесстрастно.
— Бесстрастно?
— Не увлекаясь. Я должна сказать, что ценю это. В учении Транзита неувлеченность — это именно то, к чему мы стремимся. Все процессы Транзита работают на создание постоянного движения, на постоянное эволюционное изменение. И если мы позволяем себе пристраститься к чему-нибудь здесь и сейчас, например, пристраститься к эротическому удовольствию, или к богатству, или к чему-нибудь, что привязывает нас к нетранзитному состоянию…
— Каталина…
— Да?
— Я вымотан. Я не хочу сейчас заниматься теологией.
Она улыбнулась:
— Привязываться к беспристрастности — самая большая глупость. Я милосердна. Больше не говорю о Транзите.
— Я благодарен.
— Как-нибудь в другой раз. С тобой и Сундарой вместе. Я бы хотела объяснить наше учение, если…
— Конечно, — сказал я, — но не сейчас.
Мы выпили, покурили, и оказалось, что опять приступили к прелюбодейству — теперь уже ей хотелось преодолеть мою напряженность — в этот раз она уже не так твердо держалась своих принципов, и наш акт уже меньше напоминал спаривание, а больше был похож на акт любви.
К рассвету появились Сундара и Фридман. Она выглядела лоснящейся и сияющей, а он высушенным до костей и даже чуть ошеломленным. Она послала мне поцелуй через двенадцатиметровую пропасть: привет, любовь, привет, я люблю тебя больше всех. Я подошел к ней, и она крепко прижалась ко мне, я куснул ее за мочку уха и сказал:
— Повеселилась?
Она мечтательно кивнула. Фридман, наверное, оказался искусным не только в финансовых делах.
— Он с тобой говорил о Транзите? — хотел я знать.
Сундара покачала головой. Она пробормотала, что Фридман еще не принял Транзит, хотя Каталина работает над ним.
— Надо мной она тоже работала, — сказал я.
Фридман развалился на кушетке, тупо глядя остекленевшими глазами на восход над Бруклином. Сундара была увлечена классической эротологией Хинду, и для любого мужчины это было бы изнуряющее приключение.
«…Когда женщина обвивается вокруг своего любовника, как змея вокруг дерева, и притягивает его голову к своим жаждущим губам, если она затем целует его с легким шипящим звуком „сут-сут“ и смотрит на него долго и нежно широко открытыми глазами, полными желания, такая поза известна под названием „Кольцо Змеи…“
— Кто будет завтракать? — спросил я.
Каталина криво улыбнулась, Сундара просто наклонила голову, Фридман смотрел без энтузиазма.
— Позже, — едва прошептал он. Сожженная оболочка человека.
«…Когда женщина кладет одну ступню на ступню своего любовника, а другую — на его бедро, когда она одной рукой обвивает его шею, а другой — его чресла, и мягко выпивает свое желание, как будто она хочет вскарабкаться на ствол его тела и сорвать поцелуй — это называется „Карабкаться на дерево…“
Я оставил их лежать в разных частях гостиной и отправился принимать душ. Я не спал, но мой мозг был свежим и бодрым. Странная ночь, деловая ночь: я чувствовал себя более активным, чем во все предыдущие недели, я чувствовал стохастическое щекотание, толчки ясновидения, которые предупреждали меня, что я двигаюсь к преддверию новой трансформации. Я включил душ в полную силу, бьющую по телу с максимальным вибрационным очарованием, ультразвуковые волны включились в пульсацию моей возбужденной нервной системы и вызывали видения новых миров для завоевания.
В гостиной никого не было, кроме Фридмана, все еще лениво лежащего обнаженным, с бездумным взглядом на кушетке.
— Куда они пошли? — спросил я.
Он вяло махнул пальцем в сторону мастера. Итак, Каталина в конце концов забила свой гол.
Ожидалось, что теперь я распространю свое гостеприимство на Фридмана? Мой бисексуальный коэффициент был низким, он сам не вызывал во мне ни тени веселья. Но нет, Судара размонтировала его либидо: он не высказывал никаких признаков жизни, кроме полного истощения.
— Вы счастливчик, — пробормотал он, помолчав. — Какая очаровательная женщина… какая… очаровательная… — я даже подумал, что он обкурился,
— …женщина. Она продается?
— Продается? — в недоумении спросил я.
Его голос звучал серьезно.
— Я говорю о вашей восточной рабыне.
— О моей жене?
— Вы купили ее на рынке в Багдаде. Даю за нее пятьсот динаров, Николс.
— Не пойдет.
— Тысяча.
— Нет, даже за две империи.
Он засмеялся:
— Где вы нашли ее?
— В Калифорнии.
— А еще такие там есть?
— Она уникальна, — сказал я. — Так же, как я, как вы, как Каталина. Люди — не стандартные схемы, Фридман. Как насчет завтрака?
Он простонал:
— Если вы хотите вновь родиться на свет на новом уровне, вы должны учиться освобождать себя от потребности в мясе. Это Транзит. Я буду умерщвлять свою плоть, для начала отказываясь от завтрака. — Его глаза закрылись, он уснул.
Я позавтракал в одиночестве, смотря как на нас с Атлантики наступает утро, достал утренний выпуск «Таймс» из дверной щели и с удовольствием отметил, что речь Куинна была помещена на первой странице внизу с фотографией на две колонки. «Мэр призывает полностью реализовать человеческий потенциал». Это был заголовок. Чуть ниже обычные стандартные колонки «Таймс». Краткое введение сообщало о его заключительных словах по поводу современного общества и было выделено полдюжины ярких фраз в первых двадцати строках. Продолжение было помещено на двадцать первой странице, где вся речь была дана целиком. Я читал и, читая, удивлялся, почему я так волнуюсь. В напечатанной речи, казалось, не было реального содержания, это был только набор слов, коллекция легко запоминающихся фраз, не представляющая никакой программы, не дающая конкретных предложений. А для меня прошлой ночью это звучало как план Утопии. Я содрогнулся. Куинн казался не больше чем любителем. Я сам оттачивал его выступление, пытаясь вложить в него свои неясные фантазии по поводу социальных реформ и трансформации тысячелетия. Выступление Куинна было чистой харизмой в действии, стихийной силой, воздействующей на нас с помоста. Так происходит со всеми лидерами: их товаром является собственная личность. Чистые идеи надо оставить менее значительным людям.
В начале девятого пошли телефонные звонки. Мардикян хотел распространить тысячу видеокассет с речью Куинна среди низших организаций Новой Демократии по всей стране. Что я думаю по этому поводу? Ломброзо докладывал о полумиллионном вкладе в банк еще не существующей кампании по выборам Куинна в Президенты как следствие его вчерашнего выступления. Миссакян… Ефрикян… Саркисян…
Когда, наконец, наступила свободная минута, я вышел и увидел Каталину Ярбер в блузке и цепочке на бедре, которая пыталась разбудить Фридмана. Она одарила меня лисьей улыбкой:
— Надеюсь, мы будем чаще видеться, — сказала она сдавленно.
Они ушли. Сундара спала. Телефонных звонков больше не было. Речь Куинна расходилась волнами повсюду. Наконец, она появилась обнаженная, очаровательная, сонная, но совершенная в своей красоте, даже глаза не припухли.
— Думаю, что мне хотелось бы побольше узнать о Транзите, — сказала она.
14
Три дня спустя я пришел домой и был удивлен, увидев Сундару и Каталину обнаженными, стоящими на коленях рядом друг с другом на ковре в зале. Как прекрасно они выглядели, бледное тело рядом с шоколадным, короткие светлые волосы и каскад длинных черных волос, темные соски и розовые. Это, пожалуй, не было прелюдией к султанским оргиям. В воздухе пахло ладаном, а они молились.
— Все проходит, — произнесла Ярбер нараспев, и Сундара повторила за ней: — Все проходит.
Золотая цепочка стягивала темный сатин левого бедра моей жены, на которой покоился медальон Учения Транзита.
Сундара и Каталина вежливо поклонились мне, как бы говоря: «Не обращай на нас внимания», — и снова углубились в молитву. Я думал, что в какой-то момент они встанут и скроются в спальне, ан нет, их нагота была чисто ритуальной, и когда они закончили ритуал, они оделись, вскипятили чай и принялись болтать как старые подружки. В эту ночь, когда я приблизился к Сундаре, она сказала, что не может сейчас заниматься со мной любовью. Не не хочет, а не может. Как будто она вошла в состояние очищения, которое в данный момент не может быть осквернено похотью.
Так начался переход Сундары в Транзит. Поначалу это были только утренние медитации по десять минут в полной тишине: затем начались вечерние чтения из таинственных книжонок в мягких обложках, плохо напечатанных, на дешевой бумаге. На второй неделе она объявила мне, что теперь в городе каждый вторник будут проходить вечерние встречи, и не смогу ли я обходиться без нее? Вторничные ночи стали для нас ночами сексуальных воздержаний. Она чувствовала себя виноватой, но была тверда. Она, казалось, отдалялась, сосредоточившись на своем религиозном переходе. Даже ее работа, ее картинная галерея, о которой она так нежно заботилась, потеряла для нее всякое значение. Я подозревал, что она часто встречалась с Каталиной в городе в дневное время. И я, будучи наивным материалистом, был не прав, когда подозревал, что они, встречаясь в отелях, занимаются лесбиянством. На самом же деле не тело, а душа Сундары была соблазнена. Старые приятели давно меня предупреждали: женишься на индуске — начнешь молиться с ней от восхода до заката, станешь вегетарианцем, она заставит тебя петь гимны Кришне. Я смеялся над ними. Сундара была американкой, западной, земной. Но сейчас я видел, что ее санскритские гены берут реванш.
Учение Транзита, конечно, не было индуизмом, это скорее была смесь буддизма с фашизмом, сплав дзен-буддизма, тантры и учения Платона с гештальт-психологией и паундиантской экономикой, и еще черт знает какой чепухи. Но никакого Кришны, Аллаха, Иеговы или какого-либо другого божественного начала в их учении не присутствовало. Оно появилось в Калифорнии шесть или семь лет назад как естественный результат диких девяностых годов, наступивших вслед за бестолковыми восьмидесятыми, перед которыми прошли ужасные семидесятые. Оно усердно насаждалось и распространялось ордами фанатичных миссионеров. Оно быстро распространилось среди наименее религиозно просвещенных районов на востоке Соединенных Штатов. Пока Сундара не обратилась к учению, я не замечал его, оно было не столько противно мне, сколько безразлично. Но как только оно стало все больше поглощать энергию моей жены, я стал внимательнее к нему присматриваться.
Каталина Ярбер смогла изложить мне основные постулаты этого Учения за пять минут, когда мы были с ней в постели в ту ночь. Этот мир ничтожен, утверждают приверженцы Транзита, и наше пребывание в нем кратковременное. Это всего лишь пустячное путешествие. Мы уходим из этого мира, возрождаемся вновь, снова проходим через него, снова и снова до тех пор, пока не освобождаемся от кармического цикла и не переходим к благословенному погружению — нирване, когда мы сливаемся с космосом. То, что держит нас в этом цикле — это ублажение своего я. Мы заклиниваемся на вещах, потребностях, удовольствиях, на самоутверждении. И до тех пор, пока мы остаемся в этом заколдованном круге эгоизма, мы будем снова и снова появляться на этом печальном, никчемном, крошечном грязном шарике. Если мы хотим перейти на более высокий уровень, а затем достичь Наивысшего — мы должны очистить свои души суровым испытанием самоотречения.
На самом же деле, все это чистая ортодоксальная восточная теология. Для перехода в Транзит надо отдаться изменчивости к непостоянству. Переход — это все; изменение — это суть; остановка убивает; жестокая приверженность чему-либо является путем к нежелательным перерождениям. Процессы Транзита работают на перманентную эволюцию личности, на постоянное совершенствование духа и вдохновляют на непредсказуемое и даже эксцентричное поведение. А вот и лозунг: санкционирование сумасшествия. Вселенная, говорят адепты Транзита, является постоянным потоком. Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Мы должны плыть по течению. Мы должны быть податливыми, изменчивыми, калейдоскопичными, подвижными как ртуть. Мы должны принять идею, что постоянство — ужасная иллюзия и все, включая нас самих, находится в состоянии головокружительного бесконечного изменения. Но, хотя вселенная находится в постоянном движении и изменении, мы не обречены плыть по течению. Так как ничто не детерминировано и ничто не предсказуемо, то судьба, говорят они нам, находится в наших собственных руках. Мы сами кузнецы своего счастья, мы свободны постичь Истину и использовать ее в своих целях. Что такое Истина? Это то, что мы должны по собственной воле перестать быть самими собой, мы должны отбросить жесткое восприятие своей личности, так как только через беспрепятственный поток процессов Транзита мы можем уничтожить ублажение своего я, которое привязывает нас к непереходному состоянию на самом низком уровне.
Это Учение ужасало меня. Я неудобно чувствую себя в хаосе. Я верю в порядок и предсказуемость. Мой дар внутреннего зрения, моя врожденная стохастичность основываются на понятии, что существуют парадигмы и что вероятности реальны. Я предпочитаю верить, что чайник, поставленный на огонь, закипит, а подброшенный вверх камень упадет. Цель же приверженцев Транзита — превратить чай, стоящий на огне, в ледышку.
Приходы домой начинали теперь становится для меня настоящими приключениями.
Однажды мебель оказалась переставленной. Все. Все наши тщательно выверенные эффекты были разрушены. Три дня спустя я обнаружил, что мебель опять стоит по-другому, еще чуднее. Каждый раз я не говорил ей ни слова и примерно через неделю Сундара вернула все вещи на свои места.
Сундара выкрасила волосы в рыжий цвет. Эффект был странный.
В течение шести дней она держала в доме белую косоглазую кошку.
Она упрашивала меня пойти с ней на вторничную молитву, но когда я согласился, она отменила свое приглашение за час до выхода из дома и отправилась одна, ничего не объясняя.
Она находилась в руках апостолов хаоса. Любовь рождает терпение, поэтому я был терпелив с ней, что бы она ни выделывала. Чтобы бороться со статичностью, я терпел. «Это временно, — утешал я себя. — Все это преходяще».
15
Девятого мая тысяча девятьсот девяносто девятого года, между четырьмя и пятью часами утра, я увидел сон, как казнили Государственного контролера Джилмартина.
Абсолютно точно помню дату и время, потому что это был такой яркий сон, как одиннадцатичасовые новости, обычно разворачивающиеся на экране моего внутреннего взора, что я даже проснулся и набормотал несколько записей на магнитофон, стоявший у моей постели. Я уже давно приучился делать записи таких эмоциональных снов, потому что они иногда оказываются вещими. В снах приходит истина. Однажды Фараону — царю египетскому, у которого служил Иосиф, приснился сон, что он стоит у реки, из которой вышли семь тучных коров и семь тощих — четырнадцать предзнаменований. Семь плодородных лет и семь голодных. Кальпурния видела статую своего мужа Цезаря, истекающего кровью. В ночь перед Мартовскими идами Аврааму Линкольну приснилось, что он слышит сдавленные рыдания плакальщиц и видит себя, спускающимся к катафалку в Восточной комнате Белого дома, вдоль которого стоит наряд почетного караула, а на погребальных дрогах лежит тело в погребальном одеянии, и все это окружено толпой плачущих горожан. «Кто умер в Белом доме?» — спросил спящий президент и ему ответили, что покойник — Президент, застреленный наемным убийцей.
Задолго до того, как Карваджал вошел в мою жизнь, я знал, что сигналы будущего слабы, но дрейфуя через океан времени, они могут приходить к нам в снах. Поэтому я постарался запомнить свой сон о Джилмартине.
Я видел его, толстого, бледного, покрытого потом, круглолицего, с холодным голубыми глазами, которого тащили на открытый пыльный двор тюрьмы, залитый палящими лучами солнца, где стоял взвод хмурых солдат в черной униформе, отбрасывавших темные четкие тени. Я видел, как он извивался в своих путах, пытаясь освободиться, сопя, протестуя и моля, доказывая свою невиновность. Солдаты, стоящие плечом к плечу, подняли ружья, наступила мучительно долгая тишина, солдаты молча целились. Джилмартин стонал, молился, скулил, наконец, обретя достоинство, выпрямился, расправил плечи и вызывающе посмотрел в лица своим палачам. Последовала команда «Огонь!», грянул выстрел, и тело, корчась и извиваясь в конвульсиях, повисло на веревках.
Что же из этого следует? Предупреждение о наказании Джилмартина, которого я не любил за то, что он принес финансовые затруднения администрации Куинна, или просто ожидание какого-либо наказания. Может быть, его назревающее убийство. Убийства были в почете в начале девяностых, их было даже больше, чем в кровавые годы правления Кеннеди, но сейчас это вышло из моды. Кому нужно казнить такую серую клячу, как Джилмартин? Может быть, это было предзнаменованием того, что Джилмартин умрет естественной смертью, хотя он всегда хвастался своим крепким здоровьем. Тогда может быть несчастный случай? А может быть будет просто метафорическая смерть — например, судебный процесс, политическая склока, скандал или импичмент?
Я не знал, как объяснить свой сон и что предпринять в связи с этим. В конце концов я решил ничего не делать. Поэтому мы и опоздали — скандал Джилмартина, который я и предчувствовал: не расстрел, не убийство, а позор, отставка и суд. Куинн мог бы нажить огромный политический капитал на этом, если бы он подключил городские следственные службы, которые раскопали бы махинации Джилмартина, если бы мэр разразился праведным гневом по поводу ограбления города и потребовал бы аудиторской проверки. Мне не удалось заглянуть дальше и именно государственный ревизор, а не один из наших людей, вытащил на свет эту историю, как Джилмартин систематически направлял миллионы долларов из государственных субсидий Нью-Йорку в казну нескольких маленьких заштатных городков и, таким образом, в свой собственный карман и в карманы парочки провинциальных официальных лиц. Слишком поздно я понял, что у меня было два шанса послать Джилмартина в нокдаун, и я их оба упустил. За месяц до моего сна Карваджал дал мне ту таинственную записку.
— Следите за Джилмартином, — предупредил он, — Джилмартин. Замораживание нефти, Лидеккер? Не так ли?
— Расскажи мне о Карваджале, — попросил я Ломброзо.
— Что ты хочешь узнать?
— Как у него дела на бирже?
— Это просто. Начиная с девяносто третьего он заработал, насколько мне известно девять или десять миллионов. Может гораздо больше. Я уверен, что он работает через несколько брокерских фирм. Многочисленные счета, подставные лица, все виды трюков для того, чтобы скрыть, сколько он на самом деле зарабатывает на Уолл-стрите.
— Он все это зарабатывает торговлей?
— Все. Он входит в игру, поднимает ставки и выходит. У меня в конторе работали люди, которые нажили состояния, просто повторяя его ходы.
— Разве можно догадаться о том, как пойдут дела на бирже? Ведь уже много лет они постоянно меняются.
Ломброзо пожал плечами:
— Я думаю, некоторым это удавалось. Ходят легенды о некоторых торговцах, заработавших миллионы еще в незапамятные времена. Но никто из них не был так последователен как Карваджал.
— Может у него есть свои информаторы?
— Не может быть. Невозможно иметь информаторов в таком количестве компаний. Это чистая интуиция. Он просто покупает и продает, получая выгоду. Однажды, холодным днем, не имея ни связей, ни банковских рекомендаций, он пришел на Уолл-стрит и открыл счет. Всегда вносил наличные, не оставляя резерва. Фантастика!
— Да, — сказал я.
— Маленький тихий человек. Сидит, смотрит на табло и дает указания. Ни суеты, ни болтовни, ни треволнений.
— Когда-нибудь ошибался?
— Да, у него были кое-какие потери. Небольшие. Маленькие потери, но большие выигрыши.
— Интересно, почему?
— Что почему? — спросил Ломброзо.
— Почему вообще были потери?
— Даже Карваджал ошибается.
— Правда? — сказал я. — Может он проигрывает в стратегических целях? Запланированные потери, чтобы убедить людей, что он тоже живой человек. Или чтобы люди автоматически не повторяли его ходов, специально ломая систему.
— Ты думаешь, он не человек. Лью?
— Я думаю, человек.
— Но?…
— Но у него особый дар.
— Улавливать курс растущих акций. Весьма особый.
— Даже более того.
— Более чего?
— Я не готов сказать.
— Почему ты его боишься, Лью? — спросил Ломброзо.
— Разве я сказал, что боюсь? Когда?
— Когда он пришел сюда, ты сказал, что у тебя мороз бежит по коже от него, что он испускает пугающие волны. Помнишь?
— Думаю, что да.
— Ты думаешь, что он колдует? Что он что-то вроде волшебника?
— Я знаю теорию вероятности. Боб. Единственное, что я знаю, так это теорию вероятности. Карваджал дважды превзошел положения теории вероятности. Во-первых, это его игра на бирже, и во-вторых, с Джилмартином.
— Может, Карваджал получает газеты за месяц до их выхода? — пошутил Ломброзо.
Он засмеялся, я нет. Я сказал:
— У меня вообще нет гипотез. Я только знаю, что Карваджал и я делаем одно дело и я не иду ни в какое сравнение с ним. И теперь я тебе заявляю, что я в тупике и даже немного напуган.
Ломброзо спокойно пересек свой шикарный кабинет и остановился перед витриной со средневековыми сокровищами. Наконец, не поворачиваясь, он сказал:
— Ты слишком мелодраматичен. Лью. Мир полон людей, которые делают удачные догадки. Ты — один из них. Он, пожалуй, удачливее других, но это не значит, что он видит будущее.
— Ладно, Боб.
— Да? Когда ты приходишь ко мне и говоришь, что вероятность нежелательной реакции публики на тот или иной законодательный акт такова или такова, ты заглядываешь в будущее или просто гадаешь? Я никогда не слышал, чтобы ты претендовал на ясновидение, Лью. А Карваджал…
— Ладно тебе!
— Успокойся, парень.
— Извини.
— Тебе дать выпить?
— Я бы лучше изменил тему разговора.
— О чем ты теперь хотел бы поговорить?
— О политики замораживания нефти.
Он вежливо кивнул:
— Всю весну в комиссии по законодательству городского Совета находился билль о необходимости замораживания нефти на всех танкерах, заходящих в нью-йорскую гавань. Защитники окружающей среды («зеленые»), естественно, за этот законопроект, а нефтяные компании, естественно, «против». Потребители не слишком радуются по этому поводу, так как этот закон подымет цены на нефть, что само собой отразится на розничных ценах. И…
— А что, на танкерах уже стоит морозильное оборудование?
— Да. Это было предусмотрено в Федеральном законодательстве еще где-то в тысяча девятьсот восемьдесят третьем году. В тот год начались крупные операции по очистке от нефти Атлантического побережья. Когда танкер попадает в аварию при которой его корпус разламывается и появляется вероятность вытекания нефти в море, система замораживания через форсунки автоматически впрыскивает криогенные вещества в нефть, находящуюся в пробитом отсеке, и она затвердевает. Так? Естественно, нефть остается в танкере и, даже если корабль разламывается, она всплывает в виде крупных желеобразных кусков, которые можно легко собрать. Чтобы снова получить обычную нефть, эти куски достаточно нагреть до температуры приблизительно сто тридцать градусов по Фаренгейту. Но для введения криогенов в такие большие танки требуется что-то около трех-четырех часов, да еще семь или восемь часов нужно для того, чтобы нефть затвердела, а в течение этих десять-двенадцать часов нефть продолжает вытекать в море. Поэтому член городского Совета Ладроне предложил замораживать нефть при перевозке ее по морю в любом случае, а не только когда танкер терпит крушение. Однако политические проблемы таковы, что…
— Сделай это, — сказал я.
— У меня есть подборки газет со всеми «за» и «против», и я бы хотел, чтобы ты прежде просмотрел их…
— Забудь о них. Сделай это, Боб. Забери этот билль из комиссии и передай его на утверждение на этой неделе. Было бы хорошо, если бы он вступил в силу, скажем, с первого июня. Пускай нефтяные компании кричат по этому поводу что хотят. Запускай законопроект и пусть Куинн подписывает его с помпой.
— Дело в том, — сказал Ломброзо, — что, если Нью-Йорк примет такой закон, а другие города Восточного побережья откажутся, то Нью-Йорк просто перестанет служить портом, через который сырая нефть поступает к основным нефтеперегонным заводам метрополии, и тогда потери от недополучения таможенных сборов составят…
— На счет этого не беспокойся. Первопроходцы должны чем-то рисковать. Проталкивай этот законопроект и, когда Куинн подпишет его, обратись к президенту Мортонсону, чтобы и он предложил подобный законопроект Конгрессу. Пусть Куинн в своих выступлениях подчеркивает, что Нью-Йорк, несмотря ни на что, собирается защищать свои пляжи и гавани, и он уверен, что и вся остальная страна не отстанет от него. Понял?
— Не слишком ли ты торопишь этим события, Лью? Это тебе не ввести в действие приказным порядком какую-нибудь инструкцию, которую ты даже не читал…
— Может быть, я тоже могу видеть будущее, — сказал я.
Я засмеялся, он нет.
Хотя Ломброзо и не был доволен моей поспешностью, он все же сделал все необходимое. Мы встретились с Мардикяном, Мардикян поговорил с Куинном, Куинн выступил в городском Совете и билль стал законом. В тот день, когда Куинн должен был подписать этот закон, к нему нагрянула делегация юристов от нефтяных компаний и начала запугивать его в свойственном законникам слащаво-вежливой манере, что они устроят ему страшный судебный скандал, если он не наложит вето на эту затею. Куинн послал за мной и мы в течение двух минут обсудили проблему.
— Мне действительно нужен этот закон? — спросил он.
И я ответил:
— Да, нужен.
После чего он выставил юристов за дверь. При подписании закона он выдал экспромтом страстную десятиминутную речь в защиту обязательного введения замораживания нефти в общегосударственном масштабе. Это был не насыщенный новостями день в средствах массовой информации, и поэтому, самая суть выступления Куинна (двух-с-половиной-минутный фрагмент речи о насилии человека над окружающей средой и решимости властей не взирать молча на эти безобразия) была дана в прямом эфире в программах вечерних новостей по всей территории страны — от берега до берега.
Время для передачи было выбрано как нельзя кстати. Через два дня после выступления Куинна японский супертанкер «Еххор Маги» ударился о рифы недалеко от побережья Калифорнии и живописно раскололся на части. Система замораживания нефти не сработала и миллионы баррелей сырой нефти вылились в океан, загрязнив все побережье от Мендосино до Биг Сур. В тот же вечер в Мексиканском заливе с венесуэльским танкером, направлявшимся в Порт-Артур, штат Техас, произошло странное происшествие, когда он слил сырую нефть на берег недалеко от Корпус-Кристи, на котором нашли приют стаи горланящих журавлей. На следующий день где-то недалеко от Аляски опять произошел огромный слив нефти. После этих трех ужасных случаев, мир как будто впервые услышал о загрязнении морей нефтью и все в конгрессе вдруг начали дружно осуждать загрязнение окружающей среды и говорить об обязательности замораживания нефти при транспортировке. При этом часто упоминался новый закон, недавно принятый Полом Куинном в Нью-Йорке, в качестве прототипа для предлагаемого федерального закона.
Джилмартин.
Замораживание.
Остался один пункт: СОКОРРО ЗА ЛИДЕККЕРА ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЕТА. СВЯЖИТЕСЬ С НИМ ПОБЫСТРЕЕ.
Зашифрованное и покрытое мраком послание, как и большинство изречений оракулов. Я был целиком и полностью обескуражен этим. Стохастическая методика, которой я владел, была бессильна помочь. Я перебрал дюжину вариантов и все они оказались запутанными и бессмысленными. Какой же я был, к черту, профессиональный пророк, если у меня в руках было три надежных ключа к разгадке будущих событий и я смог разгадать только один секрет из трех?
Я уже начал подумывать, а не навестить ли мне Карваджала.
До того, как я успел что-либо предпринять, с Запада докатилась ошеломляющая весть. Ричард Лидеккер, губернатор Калифорнии, официальный лидер Новодемократической партии, основной кандидат на предстоящих президентских выборах, неожиданно скончался в возрасте пятидесяти семи лет во время игры в гольф в День памяти павших в Гражданской войне. Его кабинет и вся его власть перешли к вице-губернатору Карлосу Сокорро, который в результате этого стал могущественной политической силой в стране, благодаря контролю над богатейшим и наиболее влиятельным штатом.
Сокорро, который теперь должен был возглавить огромную делегацию от штата Калифорния на общенациональном съезде Новых демократов в следующем году, уже на третий день после смерти Лидеккера провел первую пресс-конференцию, на которой стал выдвигать своего короля. Ему удалось предложить, можно сказать на пустом месте, кандидатуру сенатора Эли Кейна от штат Иллинойс, как наиболее обещающий шанс Новых демократов на номинацию будущего года и, таким образом, запустить в движение шумную кампанию по выдвижению Кейна в президенты, и эта кампания стала всеохватывающей в последующие несколько недель.
Я и сам думал о Кейне. Как только пришло известие о смерти Лидеккера, я тут же решил, что Куинну следовало бы вступить в борьбу за право быть избранным на высший государственный пост, а не на пост вице-президента. Почему бы не заработать еще немного популярности сейчас, когда нам больше не нужно бояться смертельной схватки с всемогущим Лидеккером?
Тем не менее, нам нужно было бы организовать всю кампанию, чтобы Куинн проиграл на партийных выборах какому-нибудь более старому и менее обаятельному кандидату, который бы потом, в ноябре, был бы побит президентом Мортонсоном. Таким образом Куинн унаследовал бы остатки партии, чтобы возродить ее к две тысячи четвертому году. Кто-нибудь, например, Кейн, прекрасно выглядящий, но пустой политик, был бы идеальным кандидатом на подобную роль злодея, который лишил энергичного молодого мэра права на номинацию.
В то же время нам нужна будет поддержка Сокорро, чтобы Куинн мог начать серьезную борьбу против Кейна. Куинн все еще был темной лошадкой для большинства страны, а Кейн был известен и любим на огромных просторах Центральной части Америки. Поддержка из Калифорнии, которая бы дала Куинну голоса двух больших штатов, а может быть, и более того, позволила бы ему начать победоносную борьбу против Кейна. Я рассчитал, что мы должны выдержать примерно недельную паузу, после которой начать искать подходы к губернатору Сокорро. Но немедленная поддержка Кейна губернатором в одночасье все изменила и полностью подрубила позиции Куинна. Сенатор Кейн немедленно предпринял агитационные поездки по Калифорнии, выступая в поддержку нового губернатора и восторженно провозглашая его административные способности.
Все фигуры были расставлены, а Куинну места не осталось. Явно разыгрывалась карта Кейн-Сокорро, и они были первыми кандидатами на номинацию будущего года. Куинн выглядел бы нечестным донкихотствующим хитрецом, хуже того, обманщиком, если бы попытался вступить в борьбу. Несмотря на подсказку Карваджала, нам не удалось вовремя связаться с Сокорро, и Куинн потерял шанс приобрести влиятельного союзника. Конечно, это не было роковым ударом по шансам Куинна стать президентом в две тысячи четвертом году, но наша медлительность, тем не менее, нам дорого обошлась.
О, досада! О, позор! О, горькое бремя ответственности, Николс! «Вот — говорит маленький странный человек, — вот листок бумаги с тремя моментами будущего, начертанными на нем. Предпримите такие действия, которые вам подсказывает ваше профессиональное мастерство». «Прекрасно, — говорите вы, — миллион благодарностей». А ваше профессиональное мастерство вам ничего не говорит, и вы ничего не предпринимаете. И будущее проносится мимо вас, становясь настоящим, вы отчетливо видите то, что вам нужно было бы сделать, и вы выглядите глупцом в собственных глазах.
Я чувствовал себя ничтожеством, бездарью. Я чувствовал, что я не справился с задачей.
Мне нужно было руководство. Я пошел к Карваджалу.
16
И это место, где живет миллионер, наделенный даром предвидения? Маленькая грязная берлога в полуразрушенном девяностолетнем доме рядом с Латбум-авеню в самом сердце богом забытого Бруклина? Поход туда был испытанием безрассудной храбрости. Я знал, и меня поймет любой чиновник муниципальной администрации, в каких районах города царит полное беззаконие. И это был один из таких районов. Под разлагающейся плотью нищеты и убожества угадывались кости былого респектабельного жилья. Когда-то здесь жили евреи, принадлежащие к низам среднего класса: кошерные мясники и неудачливые юристы; потом негры нижнего среднего класса; потом нищие негры, превратившие свое жилье в трущобы; пуэрториканцы. А сейчас это были просто джунгли: гниющая свалка тесно стоящих ободранных полуразвалившихся многоквартирных домов на две семьи и шестиэтажных закопченных многоквартирных домов, в которых обитали бродяги, наркоманы, грабители, грабители грабителей, стаи одичавших кошек, банды юнцов, гигантские крысы и Мартин Карваджал. «Там?» — выпалил я, когда, назначая встречу, Карваджал предложил встретиться у него дома. Наверное, было бестактно так удивляться по поводу его места жительства. Он мягко ответил, что мне не будет причинено никакого вреда.
— Может, я все-таки возьму с собой полицейское сопровождение, — предложил я.
Он засмеялся и сказал, что это лучший способ навлечь неприятности. И твердо сказал мне, чтобы я не боялся, что я буду в полной безопасности, если приду один.
Внутренний голос, к которому я всегда прислушивался, подталкивал меня испытать судьбу. И я пошел к Карваджалу без полицейского сопровождения, но не без страха.
Никакой таксист не поехал бы в эту часть Бруклина, а муниципальный транспорт до этих мест не доходил. Я взял напрокат незаметную машину и повел ее сам, не желая подвергать опасности жизнь шофера. Как и большинство нью-йоркцев, я вожу машину редко, а значит, плохо. Поэтому уже сама езда была опасной. Но я прибыл вовремя (без потерь) на улицу, где жил Карваджал. Я и ожидал увидеть грязь, гниющие кучи отбросов, каменные осыпи на месте разрушенных зданий, напоминающие дыры на месте выбитых зубов, но не высохшие чернеющие трупы животных на улицах — собак, коз, свиней? — и не пробивающиеся сквозь тротуар побеги травы и деревьев, как в городе призраков, и не вонь человеческий фекалий и мочи, и не вихри песка по лодыжку. Поток раскаленного воздуха хлестнул меня, когда я опасливо покинул благословенную прохладу автомобиля. Хотя было только начало июня, кошмарная жара позднего августа обжигала эти убогие руины. И это Нью-Йорк? Это скорей сторожевой пост в мексиканской пустыне столетие назад.
Я включил охранную сигнализацию в автомобиле. Сам я был вооружен тяжелой дубинкой и был облачен в туго облегающий конус, гарантирующий возможность оттолкнуть нападающего на дюжину метров. Я все же чувствовал себя отвратительно уязвимым, когда пересекал пустынный тротуар, чувствуя, что у меня нет защиты от обычного снайперского выстрела сверху. Но хотя желтовато-болезненные лица обитателей этой страшной деревни угрюмо глазели на меня из-за потрескавшихся и разбитых окон, хотя несколько тонконогих уличных ковбоев бросали на меня суровые взгляды, ни один не приблизился, ни один не заговорил со мной, и не было вооруженных стрелков в четвертом этаже. Войдя в покосившийся дом, где жил Карваджал, я почувствовал облегчение: может быть, жителей этого района оклеветали, может, их темная репутация — продукт паранойи среднего класса? Позже я узнал, что не продержался бы и шестидесяти секунд вне своего автомобиля, если бы Карваджал не отдал приказаний, обеспечивающих мою безопасность. В этих опаленных джунглях у него был непререкаемый авторитет. Для своих свирепых соседей он был чем-то вроде колдуна, священным амулетом, святым блаженным, которого они уважали и боялись и которому подчинялись. Его волшебный дар, которым он, без сомнения, пользовался рассудительно и эффективно, сделал его неуязвимым здесь — никто в джунглях не вел себя легкомысленно с шаманом. И сегодня он прикрыл меня своей мантией.
Его квартира была на пятом этаже. Лифта не было. Каждый лестничный пролет таил в себе неожиданности. Я слышал писк гигантских крыс. Тошнило и перехватывало дыхание от мерзких незнакомых запахов. Мне казалось, что в каждом темном углу прячутся семилетние убийцы. Я благополучно добрался до двери. Он открыл раньше, чем я успел найти кнопку звонка. Даже в такую жару он был в белой рубашке, застегнутой под горло, сером твидовом пиджаке и коричневом галстуке. Он был как школьный учитель, приготовившийся выслушать от меня латинские спряжения и склонения.
— Ну, вот видите, — сказал он, — живы и здоровы. Я знал. Никакой опасности.
Карваджал жил в трех комнатах: спальня, гостиная и кухня. Потолки низкие, осыпавшаяся штукатурка, выцветшие зеленые стены выглядели так, как будто их последний раз красили в дни чудака Дика Никсона. Мебель была еще старше: отражала эру Трумэна — шатающаяся, накрытая чехлами из ткани в цветочек, на толстых слоноподобных ножках. Воздух был спертый и душный, так как кондиционера не было и в помине. Для освещения использовались тусклые лампы накаливания, телевизор был архаичной настольной модели. На кухне была раковина с водопроводным краном, никакого ультразвукового водоснабжения. В середине семидесятых, когда я был ребенком, у меня был близкий друг, отец которого погиб во Вьетнаме. Он жил с бабушкой и дедушкой, и их квартира выглядела точно так же, как эта. Жилье Карваджала, казалось перенесено в наши дни из Америки середины века, как музейный экспонат, как кинодекорация.
С рассеянным гостеприимством он усадил меня на продавленный диван в гостиной и извинился за то, что ему нечего предложить выпить. Сам он не пил и не употреблял наркотиков, а рядом почти ничего не продавалось.
— Не беспокойтесь, — сказал я великодушно. — Я обойдусь стаканом воды.
Вода была теплой и немного ржавой.
«Ну что ж, это тоже прекрасно», — сказал я себе. Я сидел, неестественно выпрямившись: спина жесткая, ноги напряжены. Карваджал, опершись о спинку кресла справа от меня, заметил:
— Похоже, вам неудобно, мистер Николс.
— Через пару минут я освоюсь. Поездка сюда, знаете ли…
— Конечно.
— Но никто меня на улице не потревожил. Надо признаться, я ожидал худшего, но…
— Я же говорил вам, что все будет нормально.
— И все же…
— Но я же говорил. Неужели вы не поверили? — сказал он мягко. — Вы должны мне верить, мистер Николс. Вы знаете это.
— Пожалуй, вы правы, — сказал я, подумал: ДЖИЛМАРТИН, ЗАМОРАЖИВАНИЕ, ЛИДЕККЕР. Карваджал предложил мне еще воды. Я автоматически улыбнулся и покачал головой. Наконец я сказал:
— Странно, что такой человек, как вы, живет в этой части города.
— Странно? Почему?
— С вашими средствами можно жить в любой части города.
— Я знаю.
— Так почему же здесь?
— Я всегда здесь жил, — мягко сказал он. — Это единственный дом, где я жил. Эта мебель принадлежала моей матери, и кое-что даже ее матери. Я слышу отзвуки родных голосов в этих комнатах, мистер Николс. Я чувствую живое присутствие прошлого. Разве это странно — жить там, где жил всегда?
— Но такое соседство…
— Да, стало хуже. За шестьдесят лет произошли большие изменения. Но эти изменения на меня не сильно повлияли. Ежегодное медленное сползание вниз, потом быстрее. Но я делаю скидки, приспособляюсь, привыкая к новому и делаю его частью того, что уже есть. Здесь мне все так знакомо, мистер Николс. Надписи на сыром цементе, когда много лет назад укладывали тротуар, огромный вяз во дворе школы, разрушенная временем фигурка на водосточной трубе над входом в здание напротив. Вы понимаете, о чем я? Почему я должен покинуть все это ради роскошных апартаментов на Стейтон Айленд?
— Ну, во-первых, опасность.
— Никакой опасности. По крайней мере, для меня. Люди здесь относятся ко мне как к безобидному человеку, который всегда здесь, как символ стабильности, единственная константа в энтропическом потоке вселенной. Я представляю для них ритуальную ценность. Я что-то вроде символа удачи, амулета. По крайней мере, никто из здешних ни разу не обидел меня. И никогда не обидят.
— Вы можете поручиться?
— Да, — сказал он с твердой уверенностью, глядя мне прямо в глаза. И я снова почувствовал тот холод, как будто я стоял на краю пропасти, как будто я снова ничего не понимаю. Опять наступило молчание. От него исходила сила — мощь, не вязавшаяся с его убогой внешностью, мягкими манерами, робостью, потухшими глазами — и эта сила деморализовала меня. Я мог бы просидеть неподвижно целый час. Наконец он сказал:
— Вы о чем-то хотели меня спросить, мистер Николс?
Я кивнул. Глубоко вздохнув, я начал:
— Вы знали, что Лидеккер умрет этой весной, не так ли? Я имею ввиду, что вы не просто угадали. Вы знали.
— Да, — и опять эта твердая, окончательная, непобедимая уверенность.
— Вы знали, что у Джилмартина будут неприятности. Вы знали, что нефтяные танкеры будут сливать незамороженную нефть.
— Да. Да.
— Вы знаете, как пойдут дела на бирже завтра, послезавтра, и вы заработали миллион долларов, используя это знание.
— И это тоже правда.
— Поэтому можно смело сказать, что вы видите будущее с удивительной, сверхъестественной ясностью, мистер Карваджал.
— Так же, как и вы.
— Неправда, — сказал я, — я совсем не вижу будущих событий. У меня нет видения того, что придет. Я просто очень хорошо угадываю, сравнивая возможности и выбирая из них наиболее вероятные, но я не предвижу. Я никогда не уверен в своей правоте. Просто я разумно уверен в своих знаниях. Поэтому все, что я делаю — это гадание. Вы понимаете? Тогда, в кон горе Ломброзо, вы мне рассказали почти все, что произойдет: я гадаю, а вы видите. Своим внутренним взором вы видите будущее как кино. Я прав?
— Вы знаете, что вы правы, мистер Николс.
— Да, я знаю, что я прав. В этом нет никакого сомнения. Я знаю, чего можно достичь стохастическими методами, но то, что вы делаете, выходит за рамки возможностей догадки и расчета. Может, я и мог бы предсказать возможность крушения пары танкеров, но ни то, что Лидеккер умрет, ни то, что Джилмартин будет обвинен в мошенничестве. Я, может быть, и мог бы предположить, что КАКАЯ-НИБУДЬ ключевая политическая фигура умрет этой весной, но никогда бы не смог сказать, кто конкретно. Может, я и мог бы предположить, что КАКОЙ-ТО государственный политик вылетит из седла, но не мог бы назвать его имя. А ваши предсказания точны и конкретны. Это не вероятностное предсказание. Это, пожалуй, скорее колдовство, мистер Карваджал. По определению будущее неизвестно, но вы, кажется, много знаете о будущем.
— О ближайшем будущем — да. Да, мистер Николс, знаю.
— Только о ближайшем?
Он засмеялся:
— Вы думаете, что мой взор пронизывает все пространство и время?
— Сейчас я не знаю, что пронизывает ваш взор. Но я хотел бы знать. Я хотел бы иметь хотя бы малейшее представление о том, как он работает и каковы его возможности.
— Он работает так, как вы описали, — ответил Карваджал. — Когда я хочу, я вижу. Будущие события проходят перед моим взором, как в кино.
Его голос звучал совсем прозаично, почти нудно:
— И это единственное, зачем вы пришли сюда?
— А вы разве не знаете? Вы наверняка уже видели фильм о нашей беседе.
— Конечно, видел.
— О вы забыли некоторые детали?
— Я очень редко что-нибудь забываю, — сказал Карваджал, вздыхая.
— Тогда вы должны знать, что я собираюсь спросить.
— Да, — согласился он.
— И даже в этом случае вы не ответите до тех пор, пока я не спрошу?
— Да.
— А если я не спрошу, — сказал я, — а если я прямо сейчас уйду и не сделаю того, что должен сделать?
— Это невозможно, — ровно сказал Карваджал. — Я помню, в каком русле должна течь наша беседа, и вы не уйдете отсюда до тех пор, пока не зададите свой следующий вопрос. Все будет происходить только так. У вас нет выбора, кроме как сказать и сделать то, что я видел, что вы скажете и сделаете.
— Вы Бог, распоряжающийся событиями моей жизни?
Он слабо улыбнулся и покачал головой:
— К сожалению, я смертен, мистер Николс. Ничем не распоряжаюсь. Я утверждаю, что будущее неизменно. А что, вы думаете, есть будущее? Мы оба действующие лица в сценарии, который не может быть переписан. Продолжим. Давайте разыграем наш сценарий. Спрашивайте меня.
— Нет, я собираюсь сломать схему и уйти отсюда.
— …о будущем Пола Куинна, — сказал он. Я уже был у двери.
Но, когда он назвал имя Куинна, моя челюсть отвисла. Я был ошеломлен и повернулся. Это, конечно, был вопрос, который я собирался задать, вопрос, ради которого я пришел сюда, который я решил не задавать, когда вступил в игру со своей судьбой. Как же плохо я сыграл! Как же прекрасно Карваджал манипулировал мной! Я был беспомощен, побежден, раздавлен. Вы думаете, что я все еще мог спокойно уйти? Нет, нет, только не тогда, когда он упомянул имя Куинна, когда он дразнил меня обещанием желаемого знания, когда Карваджал еще раз решающе, сокрушительно продемонстрировал остроту своего дара оракула.
— Вы говорите, — пробормотал я, — вы задаете вопрос.
— Если вам так хочется, — вздохнул он.
— Я настаиваю.
— Вы намерены спросить, станет ли Пол Куинн Президентом?
— Именно это, — сказал я опустошенно.
— Ответ: да, он станет.
— Вы думаете? Это самое лучшее, что вы можете мне сказать. Вы полагаете, он будет?
— Я не знаю.
— Вы знаете все.
— Нет, — сказал Карваджал, — не все. Есть границы. И ваш вопрос за их пределами. Единственный ответ, который я могу вам дать, это обычная догадка, основанная на тех же фактах, которые любой интересующийся политикой принимает во внимание. Согласно этим фактам, Куинн, я думаю, скорее всего станет президентом.
— Но вы не знаете наверняка. Вы не видите, как он становится президентом?
— Совершенно верно.
— Это выше ваших возможностей? Это не в ближайшем будущем?
— Да, за пределами моих возможностей.
— Таким образом, вы мне говорите, что Куинн не будет избран в двухтысячном году, но он — хорошая ставка на две тысячи четвертый год, хотя вы не можете видеть две тысячи четвертый год.
— А вы когда-нибудь верили, что Куинн будет избран в двухтысячном году? — спросил Карваджал.
— Никогда. Мортонсон непобедим. Даже в том случае, если Мортонсон умрет, как Лидеккер, когда надо будет кого-нибудь выбрать, то Куинн… — я сделал паузу. — А что ждет Мортонсона? Он доживет до выборов двухтысячного года?
— Я не знаю, — тихо сказал Карваджал.
— Вы этого тоже не знаете? Выборы состоятся через семнадцать месяцев. Ваш диапазон ясновидения меньше семнадцати месяцев? Да?
— Сейчас — да.
— А он был когда-нибудь больше?
— О, да, — сказал он, — гораздо больше. Я видел иногда за тридцать-сорок лет вперед. Но не сейчас.
Я чувствовал, что Карваджал опять со мной играет. Рассердившись, я сказал:
— Есть ли шанс, что долгосрочное прогнозирование вернется к вам? И даст вам возможность увидеть, скажем, выборы две тысячи четвертого года? Или хотя бы выборы двухтысячного года?
— Не уверен.
Я обливался потом.
— Помогите мне. Мне крайне важно знать, попадет ли Куинн в Белый Дом.
— Зачем?
— Зачем? Затем, что я… — я остановился, с удивлением обнаружив, что мною движет только любопытство. Я решил работать на выборы Куинна. Предположительно, моя решимость не была обусловлена знанием того, что я работаю на победителя. И все же, пока я думал, Карваджал мог ответить мне. Я очень хотел знать. Я сказал, чувствуя себя неловко:
— Потому, что я очень связан с его карьерой. И я бы лучше себя чувствовал, если бы знал, как будут развиваться события. Особенно если я буду знать, что все наши усилия не пропадут даром. Я… гм… — я запнулся, чувствуя себя глупо.
Карваджал сказал:
— Я дал вам лучший ответ, который мог. Я предполагаю, что ваш человек станет президентом.
— В следующем или в две тысячи четвертом году?
— Если ничего не случится с Мортонсоном, то, кажется, у Куинна нет шансов до две тысячи четвертого года.
— А вы не знаете, что-нибудь может случиться с Мортонсоном? — настаивал я.
— Я сказал вам: у меня нет способности узнать это. Пожалуйста, поверьте мне, что я не могу видеть дальше следующих выборов. И как вы сами несколько минут назад отметили, вероятностная методика бесполезна в предсказании даты чьей-либо смерти. Я работаю с вероятностями. Мои догадки даже хуже, чем ваши. В стохастических материях вы эксперт, а не я.
— То, что вы говорите, означает, что ваша поддержка Куинна основывается не на абсолютном знании, а только на предчувствии.
— Какая поддержка Куинна?
Его вопрос, заданный таким невинным тоном, осадил меня.
— Вы же думали, что из него получится хороший мэр. И вы хотите, чтобы он стал президентом, — сказал я.
— Я думал? Я хочу?
— Вы вложили огромные деньги в кампанию по выборам его мэром. Что это, как не поддержка? В марте вы объявились в конторе одного из главных стратегов и предложили сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь Куинну занять высший пост. Разве это не поддержка?
— Меня совершенно не волнует, победит ли Пол Куинн на следующих выборах, — сказал Карваджал. — Его карьера для меня ничего не значит. И никогда не значила.
— Почему тогда вы хотите вкладывать такие деньги в его предвыборную кампанию? Почему вы хотите вручать записки с предсказаниями будущего организаторам его кампании? Почему вы хотите…
— Хочу?
— Да, хотите. Я не так сказал?
— Желание не имеет к этому никакого отношения, мистер Николс.
— Чем больше я с вами говорю, тем меньше я вас понимаю.
— Желание подразумевает выбор, свободу, волеизъявление. Таких понятий нет в моей жизни. Я ставлю на Куинна, потому что я знаю, что я должен это сделать, а не потому, что я предпочитаю его какому-либо другому политику. Я пришел в контору Ломброзо в марте, потому что я сам видел за несколько месяцев до этого, что я должен туда пойти именно в этот день, независимо от того, хотел бы я этого или нет. Я живу в этом разрушенном районе, потому что мне никогда не привиделось, что я живу где-то еще, и поэтому я знаю, что это мое место. Я говорю то, что я говорил вам сегодня, потому что эту беседу уже видел пятьдесят раз в кино своего взора. И поэтому я знаю, что я должен сказать вам такое, чего бы не сказал никому другому. Я никогда не задаю вопроса «Зачем?» В моей жизни нет неожиданностей, мистер Николс, нет принятия решений и нет волеизъявления. Я делаю то, что должен делать, и я знаю, что я должен делать это, потому что я видел, как я делал это.
Его горькие слова ужаснули меня больше, чем реальные или воображаемые ужасы темной лестницы его дома. Никогда раньше я не заглядывал во вселенную, в которой нет места свободе воли, шансу, неожиданности, случайности. Я видел, как безысходное видение предопределенного будущего тащит беспомощного, но не жалующегося Карваджала через настоящее. Это напугало меня. Но через мгновение тошнотворный страх исчез, чтобы никогда не вернуться, так как после первого плачевного восприятия Карваджала как трагической жертвы пришло другое, более возвышенное, что Карваджал — один из тех, чей дар был квинтэссенцией моего дара, который пошел дальше каприза случая в сферу полной предопределенности. И это восприятие непреодолимо тянуло меня к нему. Я чувствовал, что наши души проникают друг в друга, и знал, что я больше никогда не смогу от него освободиться. Казалось, будто та холодная сила, которую он излучал, тот холодный свет, рожденный его странностью, отталкивавший меня, сейчас поменял свой знак и стал притягивать меня к нему.
— Вам всегда приходится играть в сценах, которые вы видите? — спросил я.
— Всегда.
— И вы никогда не пытались изменить сценарий?
— Никогда.
— Потому что вы боитесь того, что может при этом произойти?
Он покачал головой.
— Как я могу вообще чего-нибудь бояться? Ведь мы боимся неизвестности, не так ли? Нет, я послушно читаю строчки сценария, так как знаю, что альтернативы нет. То, что вам кажется будущим, я воспринимаю как прошлое, что-то уже пережитое, то, что бесполезно пытаться изменить. Я ставлю деньги на Куинна, потому что Я УЖЕ СДЕЛАЛ ЭТО и уже смирился с этим. Как мог бы я видеть, что я дал, если бы фактически я не сделал этого, так как момент моего видения будущего пересекается с моментом моего настоящего?
— Вы когда-нибудь беспокоились о том, что забудете сценарий и сделаете что-нибудь не так в нужный момент?
Карваджал захихикал.
— Если бы вам хоть на минуточку удалось увидеть то, что вижу я, вы бы знали, насколько беспредметен этот вопрос. «Не так» поступить невозможно. Существует только «так», которое и происходит, и которое реально. Я чувствую, что должно произойти, оно в конце концов и происходит. Я актер в драме, которая не допускает импровизаций, так же, как и вы, как и мы все.
— И вы никогда даже не пытались переписать сценарий? Хотя бы в деталях? Хотя бы раз?
— О! Да больше чем раз, мистер Николс, и не только детали. Когда я был моложе, гораздо моложе, до того, как понял. Скажем, мне бы довелось увидеть какое-то бедствие, скажем, ребенка, перебегающего дорогу перед грузовиком или горящий дом, и я решил бы сыграть роль Бога и предотвратить это бедствие.
— И?
— Не получается. Как бы я ни планировал изменение, событие неизбежно случалось в нужный момент, как мне и представлялось. Всегда. Обстоятельства предотвращали меня от предотвращения чего-нибудь. Много раз я пытался изменить предписанный ход вещей, и мне никогда не удавалось это. И в конце концов я прекратил попытки. С тех пор я просто играю свою роль, читаю свои строчки, как они и должны быть прочитаны.
— И вы полностью это принимаете? — спросил я. Я без остановки ходил по комнате, возбужденный, переполненный чувствами. — Для вас книга времени написана, отпечатана и неизменна? Судьба — и никаких возражений?
— Судьба — и никаких споров, — ответил он.
— Разве это не философия слабых?
Казалось, это его развлекает.
— Это не философия, мистер Николс. Это приспособление к природе реальности. Послушайте, вы «воспринимаете» настоящее?
— Что?
— Когда с вами что-то случается, воспринимаете ли вы это реальностью? Или вы видите это условностью и изменчивостью, у вас есть чувство, что вы могли бы это изменить в тот момент, когда это происходит?
— Конечно, нет. Как это можно изменить…
— Вот именно. Можно попытаться изменить свое будущее, можно даже отредактировать и реконструировать свою память о прошлом, но ничего нельзя сделать с моментом как таковым, когда он происходит и становится реальностью.
— И что?
— Для других будущее кажется изменяемым, потому что оно недосягаемо. У них есть иллюзия того, что они могут сконструировать свое будущее, вырвать его из матрицы еще не родившегося времени. А то, что я воспринимаю, когда Я ВИЖУ, является «будущим» только в теперешней моей временной позиции на отрезке времени. На самом же деле, это также и «настоящее», неизменяемое непосредственное настоящее моего существования в другой точке этого времени. Или, возможно, в той же точке, но другого отрезка. О, у меня много умных теорий, мистер Николс, но они все ведут к одному выводу: то, чему я являюсь свидетелем, не является гипотетическим или условным будущим, предметом модификации через перераспределение предыдущих фактов, а является реальным неизменяемым событием, таким неизменным, как настоящее и прошлое, я так же не могу изменить его, как нельзя изменить действия, которые вы наблюдаете на киноэкране. Я очень давно пришел к пониманию этого. И принял это.
— Как давно вы обладаете способностью ВИДЕТЬ?
Передернувшись, Карваджал сказал:
— Кажется, всю жизнь. Правда, когда я был ребенком, я не мог этого оценить. Это был — как будто я впадал в горячку — сон наяву, бред. Я не понимал, что я переживаю, как бы это сказать… «взгляд в будущее». Но потом я обнаружил, что переживаю те события, которые уже видел в своих снах наяву. И такое состояние, мистер Николс, которое вы наверняка время от времени испытываете, у меня было каждый день. Наступали моменты, когда я чувствовал себя марионеткой, которую дергает за веревочки кукловод, находящийся где-то на небесах. Постепенно я понял, что больше никто не переживает этих видений будущего так же часто и сильно, как я. Я думаю, что мне было уже лет двадцать, когда я полностью осознал, что это такое, и к тридцати освоился с этим. Конечно, я никогда до сегодняшнего дня ни перед кем не раскрывался.
— Потому что вы никому не доверяли?
— Потому что этого не было в сценарии, — произнес он торжественно.
— Вы никогда не были женаты?
— Нет. Мне и не хотелось. Как я мог хотеть того, чего практически не хотел? Я никогда не ВИДЕЛ себя женатым.
— И поэтому, должно быть, никогда и не предполагалось, что у вас будет жена.
— Никогда не предполагалось? — Его глаза странно вспыхнули. — Мне не нравится это выражение, мистер Николс. Оно предполагает, что во вселенной существует какое-то разумное начало, автор великого сценария. Я не думаю, что он существует! Не нужно усложнять. Сценарий пишется сам собой, событие за событием. По сценарию я должен быть холост. Поэтому нельзя сказать, что предполагалось, что я буду холостым. Достаточно сказать, что я ВИДЕЛ себя холостым. Поэтому я и должен был быть холостым, поэтому я был и есть холост.
— В языке нет нужной временной категории для обозначения вашего случая,
— сказал я.
— Вы понимаете, о чем я говорю?
— Думаю, что да. Правильно ли будет сказать, что «будущее» и «настоящее» — просто различные названия одних и тех же событий, рассматриваемых с разных точек?
— Неплохое допущение, — сказал Карваджал, — я предпочитаю думать, что все события одновременны, а в движении находится наше восприятие их, движется точка сознания, а не сами события.
— Иногда кому-то удается воспринимать события с различных точек, так, что ли?
— У меня много теорий, — сказал он рассеянно, — возможно, одна из них правильная. Важно само по себе видение, а не объяснения. А видение у меня есть.
— Вы могли вы использовать это, чтобы сколотить миллионы, — сказал я, обводя взглядом убогое жилище.
— Я и использовал.
— Нет, я имею в виду по-настоящему гигантское состояние. Рокфеллер плюс Гетти плюс Крез… невиданная дотоле финансовая империя. Власть. Предельная роскошь. Наслаждение. Женщины. Контроль над целыми континентами.
— Этого не было в сценарии, — сказал Карваджал.
— И вы приняли сценарий.
— Сценарий нельзя не принимать. Я думал, вы поняли эту мысль.
— Итак, вы делали деньги, много денег, но ничего для себя, вам все было безразлично? Вы просто позволяли деньгам собираться в кучи вокруг вас, как осенние листья?
— Они мне были не нужны. Мои желания скромны, а вкусы просты. Я накапливал их, потому что я видел себя играющим на бирже и богатеющим. Я делал то, что видел.
— Следуя за сценарием. Не спрашивая, почему. Миллионы долларов. Что вы с ними делали?
— Я использовал их так, как видел. Часть я раздал на благотворительность, университетам, политикам.
— В соответствии с вашими предпочтениями, или по предопределению сценария, который вы видели?
— У меня нет предпочтений, — сказал он спокойно.
— А остальные деньги?
— Я хранил их. В банке. Что я должен был с ними делать? Они никогда не имели для меня никакого значения. Как вы сказали, безразличны. Миллион долларов, пять миллионов, десять миллионов — просто слова, — в его голос вкрались тоскливые нотки, — а что имеет значение? Что значит ЗНАЧЕНИЕ? Мы просто следуем сценарию, мистер Николс. Вам налить еще стакан воды?
— Пожалуйста, — сказал я и миллионер наполнил стакан.
Голова у меня кружилась. Я пришел за ответами и получил их, дюжины ответов, каждый из которых породил сотни новых вопросов. И он явно хотел на них отвечать, несмотря на то, что уже отвечал на них в своем видении этого дня. Разговаривая с Карваджалом, я чувствовал, что скольжу между прошлым и будущим, теряюсь в путанице грамматических времен и временных согласовании. А он был полностью спокоен, сидел почти неподвижно, его голос был ровен, иногда почти неслышим, кроме этого особого разрушенного взгляда. Разрушенный, да! Он, должно быть, был зомби, а может и робот. Живя жестко предопределенной, полностью запрограммированной жизнью, никогда не задавая вопросов о мотивах своих действий. Кукла, висящая на нитях своего рокового будущего, двигающаяся детерминированной экзистенциальной пассивностью, которая была мне чужда и сбивала с толку. На мгновение я почувствовал, что жалею его. Затем я подумал, уместна ли моя жалость. Я почувствовал соблазн этой экзистенциальной пассивности, и это было мощное притяжение. Как удобно должно быть жить, подумал я, в мире, свободном от всякой неопределенности.
Вдруг он сказал:
— Я думаю, что вам пора идти. Я не привык к долгим беседам и, кажется, наша утомила меня.
— Извините, я не собирался задерживаться так долго.
— Не нужно извиняться. Все случившееся, я видел, должно было быть таким. Так что все в порядке.
— Я благодарен, что вы захотели разговаривать со мной так открыто.
— Захотел? — сказал он, улыбнувшись. — Опять ЗАХОТЕЛ?
— В вашем активном словаре нет этого слова.
— Нет. И я собираюсь убрать его из вашего, — он повернулся к двери, отпуская меня. — Скоро мы снова поговорим.
— Мне бы хотелось.
— Сожалею, что не очень помог вам. Не ответил на вопрос о Поле Куинне. Извините. Ответить на этот вопрос выше моих возможностей. У меня нет информации. Я могу постичь только то, что я постигну, понимаете? Я различаю только свое собственное восприятие будущего, так, будто я смотрю в будущее в перископ, и мой перископ ничего не показывает о выборах будущего года. Многие события, ведущие к выборам, вижу. А самих результатов не вижу, извините.
На мгновение он взял мою руку. Я почувствовал поток между нами. Четкую и почти осязаемую реку связи. Я чувствовал сильное напряжение в нем, не просто напряжение беседы, а что-то более глубокое, борьбу за установление и расширение контакта между нами, чтобы подтянуть меня на более глубокий уровень бытия. Сознание этого беспокоило меня. Это продолжалось мгновение, затем исчезло. Я вернулся к одиночеству, чувству отдаленности от него. Он улыбнулся, слегка кивнул мне головой, пожелал удачного возвращения домой и проводил меня в темную сырую прихожую.
Только спустя несколько минут, когда я садился в машину, вся мозаика сложилась в единую картину, и я понял, что Карваджал говорил мне, когда мы стояли у дверей. Только тогда я понял природу крайнего предела, управляющего видениями его, которая превратила его в пассивную куклу, которая лишила значения все его действия. Карваджал ВИДЕЛ момент своей смерти. Вот почему он не мог сказать мне, кто будет следующим президентом, информация об этом лежала за пределами его жизни. Это объясняло, почему он шел по жизни, не задавая вопросов, не желая ничего выяснять. Должно быть, уже десятилетия Карваджал жил, зная, как, где и когда он умрет. Абсолютное, несомненное и ужасное знание этого парализовало его волю до такой степени, что обычному человеку и не постичь.
Я это понял интуитивно. А я доверяю своей интуиции. Оставалось меньше семнадцати месяцев до его смерти. И неизбежность приближала его к ней, и он принимал ее, продолжая следовать сценарию, не пытаясь ничего изменить.
17
Моя голова кружилась, пока я ехал домой, и продолжала кружиться еще несколько дней. Я чувствовал себя отупевшим, пьяным, отравленным сознанием бесконечных возможностей, безграничных открытий. Как будто я собирался подключиться к какому-то невероятному источнику энергии, к которому, не подразумевая, двигался всю свою жизнь.
Этим источником энергии была сила провидения Карваджала.
Я отправился к нему, подозревая, что он из себя представлял, и он подтвердил это, но он сделал даже больше. Он с такой готовностью выплеснул на меня свою историю, после того как мы разыграли прощупывание друг друга, что, казалось, он почти пытался соблазнить меня на отношения, основанные на этом даре предчувствия, которым мы в такой неравной степени обладали. В конце концов, это был человек, который десятилетиями жил скрытно, украдкой, затворником, накапливая свои миллионы, холостяком, без друзей; и все же он назначил встречу в конторе Ломброзо, разыскивая меня, он проложил тропу ко мне своими тремя загадочными, дразнящими намеками, он заманил меня и затащил в свою хибару, он свободно отвечал на мои вопросы, он выразил надежду, что мы опять встретимся.
Что хотел от меня Карваджал? Какую роль он таил для меня в своем мозгу? Друга? Сочувствующего слушателя? Партнера? Последователя? НАСЛЕДНИКА?
Все эти роли предлагали себя мне. У меня кружилась голова от дикого потока возможностей выбора. Но была еще возможность того, что я обманывался, и Карваджал вообще не приготовил никакой роли для меня. Роли пишутся драматургами, а Карваджал был актером, а не составителем пьесы. Он просто подхватывал свои реплики и следовал сценарию. И может, для Карваджала я был просто очередным действующим лицом, которое выходит на сцену, чтобы вступить с ним в разговор, который появляется по неизвестной и безразличной ему причине, которая имеет какое-то значение, если вообще имеет, только для невидимого и, возможно, несуществующего автора этой грандиозной драмы вселенной.
Меня очень беспокоил вид Карваджала, так, как меня всегда беспокоили пьяные. Алкоголик, наркоман, нюхач или кто там еще, в буквальном смысле — человек не в себе. Это значит, что вы не можете серьезно воспринимать его слова или действия. Пусть он говорит, что любит вас, пусть говорит, что ненавидит, пусть говорит, как ценит вашу честность, насколько он искренен, потому что алкоголь или наркотик, возможно, вложил эти слова в его уста. Пусть он предлагал какое-то дело, а вы не знаете, сколько он будет помнить, когда его голова прояснится. Поэтому ваше взаимодействие с ним, пока он под воздействием, пустое и ненастоящее. Я — рациональный, подчиняющийся порядку человек, и когда я имею с кем-то дело, я хочу чувствовать, что я взаимодействую с ним по-настоящему. А не так, когда я думаю, что я полностью увлечен контактом, а другой просто говорит то, что приходит в его опьяненную голову.
С Карваджалом я чувствовал много сомнений. Ничто из того, что он говорил, не было обязательно котированным, не все обязательно имело смысл. Не все в его действиях имело рациональные мотивы, как собственный интерес во всеобщем благосостоянии. Все, даже собственное выживание, не касалось его. Таким образом, его действия отступали от стохастичности и от самого здравого смысла: он был непредсказуем, потому что он не следовал явным схемам, только сценарию, священному неизменному сценарию, а сценарий являлся ему в проблесках нелогичного и непоследовательного внутреннего взора. «Я делаю то, что вижу», — сказал он. Не спрашивая, «Почему». Прекрасно. Он ВИДИТ, как он отдает деньги бедным — и он отдает деньги бедным. Он видит, как переходит мост Джорджа Вашингтона на ходулях, и он берет ходули и идет. Он видит, как наливает серной кислоты в стакан воды своему гостю, и он, не задумываясь, льет серную кислоту. Он отвечает на вопросы предопределенными ответами, не зависимо от того, имеет эта предопределенность смысл или нет. И так далее. Будучи тотально окруженным диктатами открытого ему будущего, он не чувствует нужды выяснять мотивы и последствия. Фактически, хуже, чем пьяный. По крайней мере, хоть и неясно, в глубине, пьяница руководствуется рациональным сознанием.
Тогда парадокс. С точки зрения Карваджала, каждое его действие подчиняется руководству жесткого детерминистического критерия, но с точки зрения окружающих, он действует невменяемо, наугад, как лунатик. (Или как убежденный сторонник учения Транзита, плывет по течению, уступая.) В своих собственных глазах он подчиняется высшей неизбежности потока событий. Со стороны это выглядит как флюгер, подчиняющийся каждому дуновению бриза. Действуя так, как он ВИДИТ, он также поднимал неудобный вопрос о курице и яйце по поводу мотивов своих действий. А были ли они вообще? Или его видения были самогенерирующимися пророчествами, полностью оторванными от причинности, вообще лишенными резона и логики. Он ВИДИТ, как он переходит мост на ходулях четвертого июля будущего года; поэтому четвертого июля он делает это, и только потому, что он ВИДЕЛ это. Какой цели служит его переход через мост, кроме точного соблюдения виденного им? Эта ходьба на ходулях самовоспроизводяща и бесцельна. Как можно иметь дело с таким человеком? Сумасшедший в потоке времени.
Хотя, я, может, слишком суров? Может, были какие-то рамки, которых мне не удалось увидеть? Возможно, интерес Карваджала ко мне настоящий, и в его одинокой жизни от меня истинная польза. Быть моим руководителем, заменить мне отца, влить в меня в оставшиеся месяцы его жизни, столько знания, сколько я только смогу принять.
В любом случае я имел от него реальную пользу. Я собирался заставить его помочь мне сделать Пола Куинна президентом.
Узнать о том, что Карваджал не может видеть выборов следующего года, было разочарованием, но не таким уж страшным. Такие события, как успех на президентских выборах, имеют глубокие корни: принятые сейчас решения будут оказывать влияние на политические события на годы вперед. Карваджал уже сейчас мог обладать достаточными данными о том, как обеспечить Куинну создание союзов, которые продвинули бы его к номинации две тысячи четвертого года. Такова была моя навязчивая идея: я собирался манипулировать Карваджалом в пользу Куинна. Хитрым вопросами и ответами я мог бы вытянуть жизненно важную информацию из этого человечка.
18
Была тревожная неделя. Все новости на политическом фронте были плохими. Новые демократы везде теряли возможность провозгласить поддержку сенатора Кейна. Кейн же вместо того, чтобы в обычной манере политиков, борющихся за первенство, держать открытым вопрос о выборе вице-президента, чувствовал себя в такой безопасности, что бодро заявил на пресс-конференции, что хотел бы, чтобы Сокорро разделил с ним избирательный бюллетень. Куинн, который начал завоевывать нацию после дела с замораживанием нефти, резко перестал иметь значение для партийных лидеров западнее Гудзона. Перестали приходить приглашения выступить, поток просьб фотографий с автографами высох до тоненького ручейка — пустяковые знаки, но значительные. Куинн знал, что происходит, и отнюдь не радовался этому.
— Как получилось, что союз Кейн-Сокорро образовался так быстро? — требовательно вопрошал он. — Один день я был большой надеждой партии, а на другой — двери клубов стали захлопываться передо мной. — Он смотрел на нас своим знаменитым Куинновским пронизывающим взором, переводя взгляд с одного на другого, выискивая, кто провалил его. Его присутствие, как всегда, подавляло; присутствие же его расстройства было невыносимо болезненным.
У Мардикяна не было для него ответа. Так же и у Ломброзо. Что мог я сказать? Что у меня были нити, а я не сумел их использовать? Я нашел спасение за пожатием плечами и фразой «это — политика» алиби. Мне платили за то, чтобы я приходил с резонными подозрениями, а не за то, чтобы функционировал как полный медиум.
— Подождите, — пообещал я ему, — кое-какие схемы вырисовываются. Дайте мне месяц и я вам представлю подробную карту следующего года.
— Я занят все следующие шесть недель, — сварливо сказал Куинн.
Его раздражение уменьшилось через пару очень напряженных дней. Он был слишком занят местными проблемами, которых оказалось очень много — обычное социальное недовольство в жаркую погоду — чтобы очень долго мучиться по поводу номинации, которую он и не собирался выигрывать.
Это была также и неделя домашних проблем. Все углубляющееся увлечение Сундары Транзитом начало сказываться на мне. Ее поведение было теперь таким же безумным, непредсказуемым и немотивированным, как и у Карваджала. Но они двигались к своей сумасшедшей случайности с противоположных сторон. Поведением Карваджала руководило слепое подчинение неизменяемым откровениям, поведением Сундары — желание высвободиться из рамок и структур.
Прихоть управляла. В тот день, когда я встречался с Карваджалом, она спокойно отправилась в здание муниципалитета выправлять лицензию на проституцию. Это заняло у нее большую часть дня: медицинское обследование, интервью союза, фотографирование и снятие отпечатков пальцев и все остальные бюрократические сложности. Когда я пришел домой с забитой Карваджалом головой, она победоносно размахивала маленькой плоской карточкой, которая позволял ей легально торговать своим телом в пяти городах.
— Боже мой, — сказал я.
— Что-нибудь не так?
— Ты стояла там в очереди, как двадцатидолларовая калоша из Вегаса?
— Ах, мне нужно было использовать политическое влияние, чтобы получить карточку?
— А если бы какой-нибудь репортер тебя там увидел?
— Ну и что?
— Ты — жена Льюиса Николса, специального административного помощника мэра Куинна — вступила в союз блудниц.
— Ты думаешь, что я единственная замужняя женщина в этом союзе?
— Я не это имею в виду. Я думаю о возможном скандале, Сундара.
— Проституция — легальная деятельность, а регулируемая проституция обычно рассматривается как социальное достижение, которое…
— Она легальна в Нью-Йорке, — сказал я, — но не в Канзасе, не в Талахасси, не в Суэксе. На днях Куинн собирается отправиться в эти и другие города собирать голоса, и, может, какой-нибудь ловкий парень раскопает информацию о том, что один из ближайших советников Куинна женат на женщине, продающей свое тело в публичном доме, и…
— Предполагается, что я должна подчинять свою жизнь нуждам Куинна, чтобы ублажить моральные устои избирателей из маленьких городков? — спросила она, ее темные глаза пылали, румянец проступил на смуглых щеках.
— Ты ХОЧЕШЬ быть шлюхой, Сундара?
— Проституткой. Этот термин предпочитает использовать руководство союза.
— Проститутка ничуть не лучше, чем шлюха. Тебя не удовлетворяют наши отношения? Почему ты хочешь торговать собой?
— Я хочу быть свободным индивидуумом, — сказал она ледяным тоном, — освободить от сдерживающих ограничений свое «я».
— И ты достигнешь этого проституцией?
— Проституция учит размонтировать свое эго. Проститутки существуют только для того, чтобы служить нуждам других людей. Неделя-другая в публичном доме научит меня подчинять требования моего «я» нуждам тех, кто придет ко мне.
— Ты могла бы стать медсестрой. Ты могла бы стать массажисткой. Ты могла бы…
— Я выбрала то, что выбрала.
— И это то, что ты собираешься делать? Провести неделю-другую, в городском борделе?
— Возможно.
— Это Каталина Ярбер предложила?
— Я сама до этого додумалась, — сказала Сундара торжественно. Ее глаза сверкали огнем. Мы были на грани тяжелейшей ссоры за всю нашу жизнь, прямых «я запрещаю это, не приказывай мне» выкриков. Я дрожал. Я представил Сундару, изящную и элегантную, которой желали обладать все мужчины и многие женщины, проводящей время в одной из этих зловеще стерильных муниципальных спаленок, Сундару, стоящую у раковины, растирая чресла антисептическим раствором, Сундару на узкой койке с поднятыми к груди коленями, обслуживая тупорылые потеющие туши, в то время как у ее двери стоит бесконечная очередь с зажатыми в руках билетами. Нет. Этого я проглотить не мог. Групповой секс из четверых, шести, десяти, сколько ей нравится человек, да, но не из «n» неизвестных, но не предложение ее драгоценного нежного тела каждому отвратительному неудачнику Нью-Йорка, который может позволить себе цену допуска к ней. В какой-то момент старомодный муж был готов подняться во мне, чтобы велеть ей бросить эти глупости или сказать что-нибудь в этом роде. Но, конечно, это было невозможно. Поэтому я ничего не сказал. И глубокая бездна пролегла между нами. Мы были на разных островах в охваченном штормом море, отнесенные друг от друга заверяющимися потоками, и я не имел возможности даже крикнуть через расширяющийся пролив, не мог достать до нее бесполезными руками. Куда ушло единство, которое объединяло нас несколько лет? Почему пролив между нами становится шире?
— Ну и иди в свой дом шлюх, — пробормотал я. И вышел из квартиры в слепом, диком, нестохастичном бешенстве гнева и страха.
Вместо того, чтобы зарегистрироваться в публичном доме, Сундара отправилась в аэропорт Кеннеди и купила билет на ракету в Индию. Она искупалась в Ганге возле одной из Бенарских гор, провела час в безуспешных поисках родственников в окрестностях Бомбея, съела обед, заправленный кэрри, в Грин-отеле и успела на следующую ракету домой. Путешествие заняло в целом сорок часов и стоило сорок долларов в час, но эта симметрия не смогла облегчить моего настроения. У меня хватило ума не обсуждать это.
В любом случае я был беспомощен. Сундара была свободным существом и с каждым днем становилась все свободнее. У нее была привилегия тратить свои деньги на то, что она сама выбирала, даже на сумасшедшие поездки на одну ночь в Индию. В последующие за ее возвращением дни я старался не расспрашивать ее о том, собирается ли она использовать свою лицензию на проституцию. Может, она уже воспользовалась ею. Я предпочитал не знать.
19
Через неделю после моего визита к Карваджалу, он позвонил и спросил, смогу ли я пообедать с ним завтра. Итак, я встретился с ним в клубе «Купцов и судовладельцев» в финансовом районе.
Место встречи меня удивило. «Купцы и судовладельцы» — одно из самых почтенных мест на Уолл-стрит, посещаемое исключительно членами этого клуба, таковыми были принадлежавшие к высшему свету банкиры и деловые люди. И когда я сказал «исключительно», я имел ввиду, что даже Боб Ломброзо, который был американцем в десятом поколении и обладал огромной властью, был молчаливо отстранен от членства за то, что был евреем, и сам предпочел не поднимать шума по этому поводу. Как и во всех аналогичных местах, одного богатства было недостаточно, чтобы быть принятым: вы должны были быть достойным членом клуба, конгениальным и приличным человеком с такими, как надо родственными связями, который ходил в соответствующую школу и работал в такой, как надо фирме. Насколько я знал, до сих пор Карваджал не имел связей с такого рода людьми. Его богатство было новоприобретенным, и по натуре он был аутсайдер, не имел в основании соответствующего образования и родственных связей в верхах, чтобы быть принятым в члены клуба. Как же ему удалось получить членство?
— Я унаследовал его, — сказал он, когда мы уселись в уютные упругие кресла, хорошо обитые, у окна, смотрящего с шестого этажа на бурлящую улицу. — Один из моих праотцов был членом-основателем в тысяча восемьсот двадцать третьем году. Закон клуба позволяет одиннадцати основателям клуба передавать по наследству членство в нем автоматически старшему сыну старшего сына на все века.
Из-за этого пункта несколько пользующихся дурной репутацией человек нанесли вред святости этой организации, — он улыбнулся неожиданной и удивительно озорной улыбкой. — Я прихожу сюда раз в пять лет. Вы заметили, я надел свой лучший костюм.
Действительно, складчатую золотисто-зеленую «в елочку» двойку, возможно, отделяло десятилетие от премьеры, но она была более шикарной и современной, чем его остальной тусклый и старомодный гардероб. Карваджал, казалось, полностью изменился сегодня, был более оживленным, энергичным, даже игривым, заметно моложе того унылого мертвенно-бледного человека, с которым я познакомился.
Я сказал:
— Я не знал, что у вас есть родственники.
— Карваджалы жили в Нью-Йорке задолго до того, как «Мэйфлауэр» высадил своих пассажиров в Плимуте. Мы были очень значительными во Флориде в начале восемнадцатого века. Когда англичане аннексировали Флориду в тысяча семьсот шестьдесят третьем году, одна ветвь семьи переехала в Нью-Йорк, я думаю, были времена, когда мы владели половиной порта и большей частью верхнего западного берега. Но мы были стерты Паникой тысяча восемьсот тридцать седьмом года, и я первый член семьи, за последние полтора столетия вырвавшийся из состояния благородной бедности. Но даже в худшие времена мы сохраняли наследственное членство в клубе, — он указал на отделанные панелями красного дерева стены, сияющие хромированные окна, скрытое мягкое освещение. Вокруг нас сидели промышленные и финансовые воротилы, перекраивающие империи между двумя глотками. Карваджал сказал:
— Я никогда не забуду, как мой отец впервые привел меня на коктейль. Мне было приблизительно восемнадцать лет, так что это было где-то в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. Клуб еще не переехал в это здание, он был еще на Брод-стрит в старом здании постройки девятнадцатого века. Мы вошли, мой отец и я, в своих двадцатидолларовых костюмах и шерстяных галстуках; все присутствовавшие казались мне сенаторами, даже официанты, но никто не насмехался над нами, никто не отнесся к нам свысока. Я пил свой первый мартини и ел свое первое филе миньон, мне казалось — это экскурсия в Вахаллу, в Версаль или в Канаду. Визит в странный ослепительный мир, где все были богаты, знамениты, обладали властью. И когда я сидел за огромным старым дубовым столом напротив отца, ко мне пришло видение. Я начал ВИДЕТЬ, я ВИДЕЛ себя стариком, таким, как сейчас, высохшим, с клочками седых волос, стариком, которого я видел и раньше и уже узнавал. И такой вот старый, я сидел в по-настоящему богатой комнате, изящной, обставленной потрясающей воображение мебелью, в этой самой комнате, где мы сейчас находимся. И я сидел за столом с человеком намного моложе меня, высоким, хорошо сложенным, темноволосым, который наклонился вперед, глядя на меня напряженно и неуверенно. Этот человек ловил каждое мое слово, как будто старался запомнить их. Затем видение прошло. И я опять был со своим отцом, и он спрашивал меня, все ли со мной в порядке. Я постарался притвориться, что мартини ударил мне в голову, и поэтому мой взгляд остановился, лицо распустилось, ведь я не пил даже тогда. И я подумал, что если я видел что-то вроде резонансного изображения себя и отца, значит, возможно, я видел, как я старый привожу своего сына в клуб «Купцов и судовладельцев» в далеком будущем. Несколько лет я старался узнать, кто будет моя жена и каким будет мой сын. А потом я узнал, что у меня не будет ни жены, ни сына. Прошли годы. И вот мы с вами здесь. И вы сидите напротив меня, наклонившись вперед, и смотрите на меня напряженно и неуверенно…
Дрожь пробежала у меня по спине:
— Вы ВИДЕЛИ меня здесь, с вами, больше сорока лет тому назад?
Он беспечно кивнул и повернулся, подзывая официанта таким царственным жестом, как будто он был самим Дж. П.Морганом. Официант подлетел к Карваджалу и склонился в подобострастном поклоне. Карваджал заказал для меня мартини (потому что ВИДЕЛ это давным-давно?) и сухой шерри для себя.
— Они здесь очень церемонно обращаются с вами, — заметил я.
— Для них дело чести обращаться с каждым членом клуба так, как будто он
— царский кузен, — сказал Карваджал, — что они говорят между собой обо мне, скорей всего, не так лестно. Мое членство в этом клубе умрет вместе со мной. Я представляю, с каким облегчением вздохнет клуб, когда маленький убогий Карваджал перестанет появляться на его территории.
Напитки были принесены почти моментально. Торжественно мы подняли бокалы, произнося тост в честь друг друга.
— За будущее, — сказал Карваджал, — сияющее, манящее будущее, — и он хрипло рассмеялся.
— Вы сегодня очень оживлены.
— Да, я чувствую себя гораздо бодрее, чем все предыдущие годы. К старику пришла вторая весна, а? Официант! Официант!
И опять торопливо подбежал официант. К моему удивлению, Карваджал заказал сигары, выбрав на подносе, принесенном девушкой, две самые дорогие. И опять эта озорная улыбка. А мне он сказал:
— Вы думаете, нам лучше сохранить эти сигары до после еды? Мне бы хотелось закурить свою прямо сейчас.
— Давайте. Кто вам мешает?
Он зажег сигары, и я присоединился к нему. Его возбуждение сбивало с толку, почти пугало. В наши предыдущие две встречи Карваджал казался выжатым, давно потерявшим силу, а сегодня его переполняла бьющая через край энергия, которую он черпал из какого-то неведомого источника. Я подозревал, что он принял какие-то странные таблетки или сделал переливание, используя бычью кровь, или подпольно трансплантировал себе органы, изъятые против воли у какой-либо молодой жертвы.
Вдруг он сказал:
— Скажите, Лью, у вас когда-нибудь были моменты второго видения?
— Думаю, что да. Но, конечно, не такие ясные, как у вас. Но я думаю, что большинство моих предчувствий основываются на отражении реальных видений — подсознательные вспышки, которые появляются и исчезают так быстро, что я не могу даже разглядеть их.
— Очень похоже.
— И сны, — сказал я. — Часто в снах ко мне приходят предупреждения и предчувствия, которые сбываются. Как будто будущее подбирается ко мне, стучит в дверь моего дремлющего сознания.
— Да, спящий мозг гораздо лучше воспринимает подобные вещи.
— Но то, что я воспринимаю в снах, приходит ко мне в символической форме, скорее как метафора, чем как кино. Например, как раз незадолго до того, как Джилмартин попался, я видел сон о том, как его расстреливали. Как будто я получил правильную, но не буквальную информацию.
— Нет, — сказал Карваджал. — Послание пришло к вам точно и буквально. Но ваш мозг зашифровал его, потому что вы спали и не могли должным образом использовать свои рецепторы. Только бодрствующий рациональный мозг может правильно обрабатывать такие послания. Но большинство людей во время бодрствования отвергают всяческие послания, а во время сна их мозг мистифицирует то, что принимает.
— Вы думаете, многие получают послания из будущего?
— Я думаю, все получают, — сказал Карваджал убедительно. — Будущее не является непостижимой и неосязаемой сферой, как это считается. Но только некоторые принимают его существование не как абстрактное понятие. Поэтому лишь к немногим приходят его послания.
Странная напряженность звучала в его выражениях. Он понизил голос и сказал:
— Будущее — не вербальная конструкция. Это место, где оно само существует. Сейчас, пребывая здесь, в настоящем, мы одновременно находимся в БУДУЩЕМ, в БУДУЩЕМ ПЛЮС ОДИН, в БУДУЩЕМ ПЛЮС ДВА, В БУДУЩЕМ ПЛЮС «N» — в бесконечном множестве БУДУЩИХ, во всех одновременно, до и после точки нашего нахождения на линии времени. И эти другие положения не более и не менее реальны, чем настоящие. Они просто находятся в том месте, которое не является местом нашего восприятия в данный момент.
— Но иногда наши воспоминания…
— Пересекаются, — сказал Карваджал, — переходят на другие участки линии времени. Выхватывают события, настроения или обрывки разговоров, которые не относятся к настоящему.
— Разве наши восприятия меняют свое положение, — спросил я, — или события сами ненадежно прикреплены к месту своего нахождения?
Он пожал плечами:
— А разве это имеет значение? Этого нельзя узнать.
— Вас не интересует, как это работает? Вся ваша жизнь формировалась под влиянием этого. И вы даже не…
— Я говорил вам, — сказал Карваджал, — что у меня много теорий. Так много, что фактически одна отменяет другую. Лью, Лью, неужели вы думаете, меня это не интересует?! Всю жизнь я пытался постичь свой дар, свою силу. И я могу дать на любой ваш вопрос дюжину ответов и каждый из них будет правдоподобен. Например, теория двух временных линий, я рассказывал вам об этом?
— Нет.
— Ну, что ж…
Он спокойно достал ручку и провел на скатерти две ровные параллельные линии. Он обозначил концы одной линии Х и Y, а другой — X' и V.
— Линия, проходящая от Х до Y — течение истории, которую мы знаем. Она начинается с создания вселенной в точке Х и заканчивается термодинамическим равновесием в точке Y, правильно? А вот некоторые знаменательные даты этой прямой.
От своего края стола к моему он наметил ряд штрихов на линии.
— Это неандертальская эра. Это эра Христа. Это тысяча девятьсот тридцать девятый — начало второй мировой войны. Кстати, и время появления Мартина Карваджала. А вы когда родились? Где-то в тысяча девятьсот семидесятом году?
— Тысяча девятьсот шестьдесят шестой.
— Тысяча девятьсот шестьдесят шестой. Хорошо. Это вы, тысяча девятьсот шестьдесят шестой. А это сегодняшний год, тысяча девятьсот девяносто девятый. Положим, вы собираетесь жить до девяноста лет. Тогда год вашей смерти две тысячи пятьдесят шестой. Достаточно с линий XY. Теперь другая линия — X'Y. Это также ход истории во вселенной, тот же самый ход истории, обозначенный на другой линии. ТОЛЬКО ОНА ИДЕТ ПО-ДРУГОМУ.
— Что?
— Почему нет? Представьте, что существует много вселенных, независимых друг от друга, с собственным набором солнц и планет, на которых события развиваются по законам этой вселенной. Бесконечность вселенных, Лью. Разве есть логика в том, что время в каждой из них должно течь в одном направлении?
— Энтропия, — пробормотал я, — законы термодинамики. Ход времени. Причина и следствие.
— Я не буду спорить ни с одной из этих идей. Насколько я знаю, все они действуют внутри замкнутой системы, — сказал Карваджал. — Но одна замкнутая система не оказывает энтропического воздействия на другую замкнутую систему, не так ли? Время может идти от А к Z в одной вселенной и от Z к А — в другой. Но только наблюдатель, находящийся вне этих миров, может знать об этом, в то время как внутри каждой вселенной ежедневный ход времени идет к следствию, а не наоборот. Вы согласны с логикой этого рассуждения?
Я на мгновение закрыл глаза:
— Хорошо. У нас есть бесконечное множество вселенных, отдаленных друг от друга, и направление течения времени в любой из них может оказаться перевернутым вверх ногами по отношению к остальным.
— В бесконечности чего-либо существуют все возможные варианты. Да?
— Да. Определенно.
— Тогда вы так же согласитесь, — сказал Карваджал, — что множества несвязанных миров могут выявить один, полностью идентичный нашему. За исключением направления хода времени.
— Я не совсем улавливаю…
— Послушайте, — сказал он нетерпеливо, указывая на лини X'Y на скатерти. — Вот другая вселенная, рядом с нашей. Все, что происходит там, случается у нас вплоть до мельчайших подробностей. Но в ней создание находится в точке V, а не в X', а тепловая смерть вселенной — на X' вместо Y. Вот здесь, — он черкнул по линии Y моего края стола, — неандертальская эра. Вот Распятие. Вот тысяча девятьсот тридцать девятый, тысяча девятьсот шестьдесят шестой, тысяча девятьсот девяносто девятый, две тысячи пятьдесят шестой. Те же самые события, те же ключевые даты, но идущие от конца к началу. Если бы вам удалось заглянуть в этот мир, то вам бы показалось, что события разворачиваются в обратном направлении. Но оттуда, естественно, все воспринимается нормально.
Карваджал соединил точки тысяча девятьсот тридцать девятых и тысяча девятьсот девяносто девятых годов на обеих линиях. Затем он обвел рамкой оба пересечения и, соединив их концы, нарисовал такую схему:
Проходивший мимо официант взглянул на то, что Карваджал выделывал со скатертью, слегка кашлянул, ничего не сказав, и с каменным лицом прошел дальше. Карваджал, казалось, не заметил этого. Он продолжал:
— Давайте теперь предположим, что кто-то родился во вселенной XY и может, Бог знает почему, время от времени заглядывать во вселенную X'Y. Я. Вот он я, с тысяча девятьсот тридцать девятого по тысяча девятьсот девяносто девятый год, на линии XY время от времени заглядываю на линию X'Y и вижу события, которые происходят с тысяча девятьсот тридцать девятого по тысяча девятьсот девяносто девятый год, те же самые, что и в моей жизни, только идут они в обратном порядке. То есть во время моего рождения здесь, во вселенной XY, все события моей жизни уже произошли во вселенной X'Y. Когда мое сознание вступает в связь с моим же сознанием в том мире, я узнаю от него о его прошлом, которое одновременно является моим будущим.
— Очень четко.
— Да. Обычный человек, живущий в одном измерении, может произвольно путешествовать по своей памяти, но это касается только прошлого. А у меня есть доступ к памяти кого-то, кто живет в обратном направлении, и это позволяет мне «вспоминать» будущее так же, как прошлое. При условии правильности теории двух временных линий.
— А она правильная?
— Откуда я знаю? — ответил Карваджал. — Это только правдоподобная рабочая гипотеза для объяснения того, что я вижу. Но как я могу доказать ее?
Помедлив, я спросил:
— То, что вы ВИДИТЕ, к вам приходит в обратном хронологическом порядке? Будущее именно в таком порядке проходит перед вами?
— Нет. Никогда. Не более, чем ваши воспоминания в одномерном пространстве. Я получаю прерывистые вспышки, фрагменты сцен, иногда большие отрывки, продолжительностью десяти-пятнадцати минут и более, но всегда беспорядочные, никакой линейной зависимости, никогда ничего последовательного. Я научился находить большие куски, вспоминать последовательность и выстраивать их в соответствующем порядке. Это попытки прочесть вавилонскую поэзию, расшифровать клинопись на перемешанных разбитых обломках глиняных дощечек. Постепенно подобрал ключи, которые помогли мне воссоздать будущее: вот так будет выглядеть мое лицо, когда мне будет сорок лет, в пятьдесят, в шестьдесят, эту одежду я носил с тысяча девятьсот шестьдесят девятого по тысяча девятьсот семьдесят третий, вот период, когда я носил усы, когда у меня были еще темные волосы, о, целый сонм маленьких примет, ассоциаций, заметок, которые в конце концов стали мне так знакомы, что я мог ВИДЕТЬ любую сцену, даже кратчайшую, и найти ее место не только на неделе, но даже указать точный день. Вначале это было нелегко. А сейчас — это моя вторая натура.
— А прямо сейчас вы ВИДИТЕ?
— Нет, — ответил он. — Нужно приложить усилие, чтобы вызвать это состояние. Это похоже на транс, — холодное выражение промелькнуло на его лице. — В наиболее глубоком состоянии, это как второе видение. Один мир накладывается на другой. И я даже не полностью уверен, в каком из миров я нахожусь, а какой я ВИЖУ. Даже после стольких лет я полностью не приспособился к этой дезориентации, к этому смешению, — он содрогнулся, — обычно это не так интенсивно. Чему я благодарен.
— Не могли бы вы показать мне, как это происходит?
— Здесь? Сейчас?
— Если можете.
Он долго изучающе смотрел на меня. Он облизнул губы, сжал их, нахмурился, задумался. Вдруг его выражение изменилось. Глаза потускнели, остановились, как будто бы он смотрел кино из последнего ряда огромного зала или, возможно, он вошел в глубокую медитацию. Его зрачки расширились и, расширившись, перестали реагировать на изменение освещения, хотя мимо нашего столика ходили люди, перекрывая свет. Его лицо застыло в напряжении. Было слышно, как он медленно, ровно дышал. Он сидел абсолютно спокойно, казалось, что его здесь нет. Прошла, может быть, минута, показавшаяся мне невыносимо долгой, затем его напряженность стала таять. Он расслабился, плечи опустились, ссутулились, щеки порозовели, глаза увлажнились и погрустнели. Дрожащей рукой он взял стакан и залпом проглотил его содержимое. Он ничего не сказал. Я не решился заговорить.
Наконец, Карваджал спросил:
— Как долго я отсутствовал?
— Несколько секунд. Хотя мне показалось, что гораздо дольше.
— А для меня это было, по меньшей мере, полчаса.
— Что вы ВИДЕЛИ?
Он передернулся:
— Ничего нового. То же самое, виденное, пять, десять, двадцать раз. Как обычно вспоминают. Но память изменяет события, сцены же, которые я ВИЖУ, никогда не меняются.
— Вы не хотели бы рассказать о них?
— Ничего не было, — сказал он небрежно. — Кое-что, что должно случиться следующей весной. И вы там были. Неудивительно, неправда ли? Вам и мне придется много времени провести вместе в ближайшие месяцы.
— А что я делал?
— Наблюдали.
— За чем наблюдал?
— За мной, — сказал Карваджал. Он улыбнулся. Это была улыбка скелета, ужасная мрачная улыбка, которую я впервые увидел в кабинете Ломброзо. Та неожиданная для меня жизнерадостность, которая владела им еще двадцать минут назад, покинула его. Я пожалел о том, что попросил его продемонстрировать. Я чувствовал себя так, будто уговорил умирающего станцевать джигу. Но после небольшой паузы, пока мы смущенно молчали, он, похоже, пришел в себя.
Он судорожно затянулся сигарой, допил свой шерри и выпрямился.
— Теперь лучше, — сказал он. — Иногда это изнурительно. Может, теперь попросим меню, а?
— А вы действительно в порядке?
— Абсолютно.
— Извините, что я попросил вас…
— Не беспокойтесь об этом. Это не было так ужасно, как вам показалось.
— Вас напугало то, что вы ВИДЕЛИ?
— Напугало? Нет, нет не напугало. Я же говорил вам, что я уже ВИДЕЛ это. Когда-нибудь я вам расскажу об этом, — он подозвал официанта. — Я думаю, пора обедать, — сказал он.
На моем меню цен не было. Признак высокого класса. Предлагаемый список был бесподобен: печеный лосось, лобстеры с Майка, жареный филей, филе рыбы — «морской язык», полный список дефицита, все, кроме птичьего молока. Любой первоклассный нью-йоркский ресторан мог предложить вам один вид свежей рыбы и один сорт мяса, но найти девять-десять разных блюд в одном меню было свидетельством могущества и богатства членов клуба «Купцов и судовладельцев» и высоких связей его шефа. Вас меньше бы удивило меню, в котором было бы филе единорога, отбивная бройлерного сфинкса. Не представляя, что сколько стоит, я радостно заказал моллюсков и филей. Карваджал заказал креветочный коктейль и лосося. Он отказался от вина, но настоял на том, чтобы я заказал себе полбутылки. Список вин тоже не имел цен. Я выбрал Латор девяносто первого года, возможно, за двадцать пять долларов. Ни намека на скупость со стороны Карваджала не последовало. Я был его гостем, и он мог себе это позволить.
Карваджал внимательно наблюдал за мной. Он был более загадочен, чем обычно. Ему, определенно, было что-то от меня нужно, определенно, он хотел меня как-то использовать. Казалось, он добивался моего расположения в своей ненавязчивой, тихой, незаметной манере. Он ни на что не намекал. Я чувствовал себя, как человек, вслепую играющий в покер с партнером, который знает мои карты.
Демонстрация ВИДЕНИЯ, которую я вытянул из него, так нарушила наш разговор, что я не решался вернуться к теме, и какое-то время мы вели пустую дружелюбную беседу о вине, еде, бирже, национальной экономике, политике и тому подобных нейтральных вещах. Неизбежно мы подошли к вопросу о Полу Куинне. И атмосфера заметно сгустилась. Он сказал:
— Куинн хорошо справляется со своими обязанностями, не так ли?
— Думаю, да.
— Я думаю, что за последние десятилетия он самый популярный мэр. У него есть шарм. И огромная энергия. Иногда даже слишком много. Он часто кажется таким нетерпеливым, не желающим идти по обычным политическим каналам, чтобы достичь того, чего он хочет.
— Полагаю, — сказал я, — он определенно порывист. Недостатки молодости. Вспомните, ему нет сорока.
— Ему надо быть легче. Временами его нетерпение делает его слишком своевольным, властным. Мэр Готфрид тоже был властолюбив, а вы помните, к чему это привело.
— Готфрид был полным диктатором. Он старался превратить Нью-Йорк в полицейское государство, и… — я осекся, ужаснувшись. — Секундочку. Вы подозреваете, что Куинну грозит террористический акт?
— Не совсем. Не больше, чем другой крупной политической фигуре.
— Вы ВИДЕЛИ что-нибудь такое, что…
— Нет. Ничего.
— Я должен знать. Если у вас есть какие-либо данные, касающиеся покушения на жизнь мэра, не играйте с этим. Я хочу услышать от вас все.
Карваджал выглядел довольным.
— Вы не поняли. Куинну не грозит никакая опасность. Я точно знаю это. Я выбрал неправильные слова, если дал понять, что ему что-то грозит. Я имел ввиду, что тактика Готфрида рождала его врагов. Если бы его не убили, он встал бы перед проблемой переизбрания. Последнее время Куинн тоже создает себе врагов. Он все больше пренебрегает городским советом, он разочаровывает определенные группы избирателей.
— Негров, да, но…
— Не только негров. Особенно евреи не радуются ему.
— Я не знал об этом. Избиратели не…
— Нет, еще нет. Но через несколько месяцев это начнет выходить на поверхность. Его позиции по религиозному обучению в школах, например, уже почти принесли ему вред в еврейских районах, и его комментарии по поводу Израиля в речи, посвященной презентации банка Кувейта на Лесингтон-Авеню…
— Это посвящение состоится только через три недели, — заметил я.
Карваджал рассмеялся.
— Да? Я опять все перепутал! Я думал, что видел его речь по телевизору, но возможно…
— Вы не видели ее. Вы ВИДЕЛИ ее.
— Несомненно. Несомненно.
— Что же он собирается сказать по поводу Израиля?
— Несколько мелких саркастических замечаний. Но местные евреи очень чувствительны к таким замечаниям, и реакция не была (нет, не будет очень хорошей). Вы знаете, что нью-йоркские евреи традиционно не доверяют ирландским политикам. Особенно мэрам — ирландцам, они не так уж любили Кеннеди до того, как он был убит.
— Куинн не больше ирландец, чем вы — испанец, — сказал я.
— Для евреев любой по имени Куинн — ирландец, и его потомки в пятнадцатом колене будут ирландцами, а я — испанец. Им не нравится агрессивность Куинна. Скоро они начнут думать, что у него нет правильных взглядов на Израиль. Они будут ворчать по этому поводу все громче.
— Когда?
— К осени. «Таймс» даст большую стать на первой полосе об отчуждении еврейского контингента избирателей.
— Нет, — сказал я, — я пошлю Ломброзо выступать на посвящении Кувейта вместо Куинна. Это закроет Куинна и также напомнит всем, что у нас есть свой еврей на самом высоком уровне муниципальной администрации.
— О, нет, вы не можете этого сделать, — сказал Карваджал.
— Почему нет?
— Потому что Куинн будет держать речь. Я ВИДЕЛ его.
— А что, если мы устроим Куинну поездку на Аляску на той неделе?
— Пожалуйста, Лью. Верьте мне. Куинн не может быть нигде, кроме здания кувейтского банка в день презентации. Это невозможно.
— Полагаю также невозможно для него избежать острот но поводу Израиля, даже если предупредить его об этом?
— Да.
— Я не верю. Думаю, если я завтра зайду к нему и скажу: «Эй, Пол, я высчитал, что еврейские избиратели начинают волноваться», что он пропустит выступление у кувейтцев или сделает помягче свои замечания.
— Он все равно сделает по-своему.
— Независимо от того, что я его предупрежу?
— Независимо от того, что вы его предупредите, Лью.
Я покачал головой.
— Будущее не настолько неизменно, как вы думаете. У нас ведь есть предсказания о событиях, которые еще придут. Я поговорю с Куинном по поводу кувейтской церемонии.
— Пожалуйста, не надо.
— Почему? — спросил я резко. — Потому что вам нужно, чтобы будущее шло только правильным путем?
Похоже, это ранило его. Он мягко сказал:
— Потому, что я знаю, что будущее всегда идет правильным путем. Вы настаиваете на том, чтобы проверить это?
— Интересы Куинна — мои интересы. Если вы ВИДЕЛИ, что он делает что-то, наносящее урон этим интересам, как я могу сидеть сложа руки и позволять ему продолжать это делать.
— Но ведь выбора нет.
— Я пока этого не знаю.
Карваджал вздохнул.
— Если вы подымите шум по поводу участия мэра в кувейтской церемонии, — сказал он твердо, — то вы в последний раз имели доступ к тому, что я ВИЖУ.
— Это угроза?
— Утверждение факта.
— Утверждение, направленное на подтверждение вашего профессионального самоудовлетворения. Вы знаете, что мне нужна ваша помощь, поэтому вы закрываете мне рот вашей угрозой. В этом случае, конечно, церемония пойдет тем путем, который вы ВИДЕЛИ. Но какая польза от того, что вы мне раскрываете события, если я не могу предпринять действия по их поводу. Почему вы не рискнете предоставить мне свободу действий? Вы настолько не уверены в силе своих видений, что вынуждены держать меня в узде, чтобы события гарантированно пошли нужным путем?
— Очень хорошо, — мягко и беззлобно сказал Карваджал. — У вас есть свобода действий. Делайте, как хотите. Посмотрим, что произойдет.
— А если я поговорю с Куинном, будет ли это значить разрыв наших с вами отношений?
— Посмотрим, что произойдет, — сказал он.
Он меня поймал. Он опять переиграл меня. Как я мог решиться рискнуть потерять доступ к его видениям, как мог я предвидеть, какой будет его реакция на мои действия? Я должен был позволить Куинну оттолкнуть от себя евреев в следующем месяце и надеялся восстановить урон позже, пока не найду способа обойти требование молчания, которое Карваджал предъявлял мне. Может быть, мне стоит обсудить это с Ломброзо?
— В какой степени он разочарует евреев? — спросил я.
— В достаточной для того, чтобы потерять много голосов. Он ведь собирается баллотироваться на переизбрание в две тысяча первом году?
— Если его не выберут президентом в следующем году.
— Его не выберут, — сказал Карваджал, — и мы оба знаем это. Он не будет даже участвовать в выборах. Но ему нужно переизбрание в мэры в две тысяча первом году, если он хочет попытаться попасть в Белый Дом через три года.
— Точно.
— Поэтому он не должен отталкивать от себя еврейских избирателей Нью-Йорка. Это все, что я могу вам сказать.
Я про себя отметил, что стоит посоветовать Куинну начать восстанавливать связи с евреями города — посетить несколько кошерных деликатесных лавок, заглянуть в несколько синагог в пятницу вечером.
— Вы рассердились на меня за мои слова? — спросил я.
— Я никогда не сержусь, — сказал Карваджал.
— Но вас это обидело. Вы выглядели обиженным, когда я сказал, что вам нужно, чтобы будущее шло правильным путем.
— Похоже, да. Потому что это говорит о том, как мало вы меня понимаете. Как будто вы действительно думаете, что я вынужден под влиянием какого-то невротического состояния выполнять свои видения. Как будто вы думаете, что я использую психологический шантаж, чтобы удержать вас от изменения предначертаний. Нет, Лью. Предначертанное не может быть изменено. И до тех пор, пока вы не поймете и не примете этого, между нами не может быть истинного духовного родства и, соответственно, общих видений. То, что вы сказали, опечалило меня, так как я увидел, насколько вы от меня далеки. Но нет, нет, я не сержусь на вас. Вам нравится филей?
— Потрясающий, — сказал я. И он улыбнулся.
Мы закончили еду в молчании и вышли, не дожидаясь счета. Я думаю, клуб пришлет ему чек. Стол, должно быть, обошелся далеко за сто пятьдесят долларов.
На улице во время прощания Карваджал сказал:
— Когда-нибудь, когда вы начнете сами ВИДЕТЬ, вы поймете, почему Куинн должен сказать то, что он собирается сказать на посвящении кувейтского банка.
— Когда я сам буду ВИДЕТЬ?
— Вы будете.
— Но у меня нет дара.
— У всех есть дар, — сказал он. — Только очень немногие знают, как им пользоваться. — Он пожал мне руку и скрылся в толпе на Уолл-стрит.
20
Я не бросился сразу звонить Куинну, но был близок к этому. Как только Карваджал скрылся из виду, я задумался, почему я медлю. Видения Карваджала были наглядно точны; он дал мне информацию, важную для карьеры Куинна, моя ответственность перед Куинном превосходила все мои другие обязанности. Кроме того, концепция Карваджала о неизбежной неизменяемости будущего все еще казалась мне абсурдной. Все, что еще не случилось, может быть изменено. Я мог бы изменить его, и я изменю его ради Куинна.
Но я не позвонил.
Карваджал попросил меня — приказал мне, угрожая, предупредил меня — не вмешиваться в эту сферу. Если у Куинна сорвется выступление в кувейтском банке, Карваджал будет знать почему. И это положит конец моим хрупким, сложным отношениям с этим странным могущественным человечком. Но отказался бы Куинн от выступления на Кувейтской презентации, даже если бы я вмешался? По Карваджалу, это было невозможно. С другой стороны, возможно, Карваджал вел двойную игру и предвидел, что Куинн не выступал на Кувейтской церемонии. В этом случае по сценарию я должен был быть агентом изменения, тем, кто помешал Куинну выполнить свои обязанности, и тогда Карваджал будет считать, что именно из-за меня все идет непредначертанным путем. Это звучало не совсем правдоподобно, но я должен был принимать в расчет и такую возможность. Я терялся в массе тупиковых вариантов. Мое чувство стохастичности подводило меня. Я больше не знал, чему верить в будущем, даже в настоящем, и я перестал быть уверенным в самом прошлом. Я думаю, что обед с Карваджалом положил начало срыванию с меня покровов того, что я считал здравомыслием.
Пару дней я раздумывал. Потом я пошел в знаменитый офис Боба Ломброзо и вывалил ему все, что я узнал.
— У меня проблемы в отношении политической тактики.
— Почему же ты пришел ко мне, а не к Хейгу Мардикяну? Он ведь стратег.
— Потому что моя проблема касается сокрытия секретной информации о Куинне. Я знаю кое-что, о чем Куинн может хотеть знать, а я не имею возможности рассказать ему обо этом. Мардикян настолько преданный Куинну человек, что он, скорее всего, вытянет из меня эту историю, пообещав сохранить тайну, а сам прямиком отправится с ней к Куинну.
— Но я ведь тоже преданный Куинну человек, — сказал Ломброзо, — и ты тоже его человек.
— Да, но ты не настолько предан ему, чтобы разрушить дружеское доверие ради Куинна.
— А ты думаешь, что Хейг способен на это?
— Надеюсь, ты ему этого не передашь? — сказал я. — Я ЗНАЮ, что ты этого не сделаешь.
Ломброзо не ответил, он просто стоял у шкафа своей средневековой коллекции, глубок запустив пальцы в свою густую черную бороду и сверля меня взглядом. Наступило долгое тревожное молчание. И все же я чувствовал, что поступил правильно, придя к нему, а не к Мардикяну. Из всей команды Куинна, Ломброзо был самым уравновешенным, разумным, самым надежным, убежденным и неподкупным, самым независимым. Если бы я в нем ошибся, я был бы конченным человеком.
Наконец я сказал:
— Договорились? Ты не перескажешь того, что я тебе расскажу сегодня?
— Это зависит…
— От чего?
— От того, соглашусь ли я с тобой скрыть то, что ты хочешь утаить.
— Значит, я расскажу тебе, а ты еще подумаешь?
— Да.
— Это значит, что мне ты тоже не доверяешь, так?
На минуту я растерялся. Интуиция подсказывала мне: «Давай, рассказывай ему все». Осторожность говорила, что он может меня подвести и все рассказать Куинну.
— Хорошо, — сказал я, — я расскажу тебе. Надеюсь, что все, что я скажу, останется между нами.
— Валяй, — сказал Ломброзо.
Я глубоко вздохнул:
— Несколько дней назад я обедал с Карваджалом. Он сказал мне, что Куинн сделает несколько саркастических замечаний в адрес Израиля, когда будет выступать на презентации в кувейтском банке в начале следующего месяца и что эти остроты обидят многих еврейских избирателей, усилят недовольство местных евреев Куинном. Об этих недовольствах я не знал, а Карваджал сказал, что они уже достаточно сильны и будут заметно возрастать.
Ломброзо удивился:
— Ты в своем уме, Лью?
— Возможно. А что?
— Ты действительно веришь, что Карваджал может видеть будущее?
— Он играет на бирже так, как будто читает газеты следующего месяца, Боб. Он предупреждал нас о смерти Лидеккера и о том, что Сокорро займет его место. Он сказал нам о Джилмартине. Он…
— И о замораживании нефти, да? То есть его догадки правильны? По-моему, мы уже однажды об этом разговаривали, Лью.
— Он не угадывает. Это я гадаю. А он ВИДИТ.
Ломброзо рассматривал меня. Он старался выглядеть спокойным и уравновешенным, но было видно, что он взволнован. Кроме всего прочего, он был разумным человеком. А я ему говорил какие-то сумасшедшие вещи.
— Ты думаешь, что он может предсказать содержание импровизированной речи, с которой необязательно будут выступать через три недели?
— Да.
— Как это возможно?
Я вспомнил нарисованную Карваджалом на скатерти диаграмму двух временных линий, идущих в противоположном направлении. Я не мог выдать этого Ломброзо. Я сказал:
— Я не знаю. Вообще не знаю. Я принимаю это на веру. Он предъявил мне достаточно доказательств таких, что я убедился, что он может это делать, Боб.
Казалось, что я не убедил Ломброзо.
— Я впервые слышу, что у Куинна какие-то проблемы с еврейскими избирателями, — сказал он. — Где доказательства? Что показывают твои опросы?
— Ничего. Пока ничего.
— ПОКА? Когда начнутся изменения?
— Через несколько месяцев. Боб. Карваджал говорит, что «Таймс» поместит большую статью этой осенью по поводу потери Куинном поддержки со стороны евреев.
— Ты не думаешь, что я бы достаточно быстро узнал, если бы у Куинна возникли неприятности с евреями, Лью? Из всего, что я слышал, он у них наиболее популярный мэр со времен Бима, а может даже и Ля Гуардбе.
— Ты миллионер. Как и твои друзья, — сказал я ему. — Ты не можешь иметь точного-представления об общественном мнении, так как вращаешься среди миллионеров. Ты даже не представитель евреев, Боб. Ты сам сказал, что ты сефард, ты латинянин, пуэрториканец. А сефарды — элита, меньшинство, маленькая аристократическая каста, у которой очень мало общего с миссис Гольдштейн и мистером Розенблюмом. Куинн может ежедневно терять поддержку сотен Розенблюмов, и эта информация не дойдет до группки Синоз и Кардозов, пока они не прочтут от этом в «Таймс». Разве я неправ?
Пожав плечами, Ломброзо сказал:
— Я допускаю, что в этом есть доля правды. Но мы отклоняемся от темы. Что у тебя за проблема, Лью?
— Я хочу предупредить Куинна не выступать с речью в Кувейтском банке или хотя бы не вставлять остроты. Но Карваджал не разрешил мне говорить ни слова об этом.
— Не РАЗРЕШИЛ тебе?
— Он сказал, что речь должна быть произнесена так, как он воспринял ее, и он настаивает, чтобы я позволил этому случиться. Если я сделаю что-нибудь, чтобы предотвратить Куинна от того, что предписывает сценарий на этот день, Карваджал грозит порвать со мной отношения.
Ломброзо в смятении и огорчении медленно кружил по своему кабинету.
— Я не знаю, что безумнее, — сказал он, — верить в то, что Карваджал может видеть будущее или бояться того, что он порвет с тобой, если ты передашь его предсказание Куинну.
— Это не предсказание. Это реальное видение.
— Это ты говоришь.
— Боб, больше чем когда-либо, я хочу видеть Пола Куинна на высочайшем посту в стране, я не имею права прятать от него данные, особенно те, которые получаю из такого уникального источника, как Карваджал.
— Может быть, Карваджал просто…
— Я полностью верю в него! — сказал я со страстью, удивившей меня самого, так как до этого момента у меня были мучительные сомнения в силе Карваджала, а сейчас я был полностью уверен, что она существует, — поэтому я не могу подвергнуть себя риску порвать с ним.
— Ну, так тогда скажи Куинну о Кувейтской речи. Если Куинн ее не произнесет, как Карваджал узнает, что это из-за тебя?
— Он узнает.
— Мы можем заявить, что Куинн заболел. Мы можем даже направить его в Беллеву на день на полное медицинское обследование. Мы…
— Он узнает.
— Тогда мы можем предупредить Куинна, чтобы он был осторожен в высказываниях, которые могут быть расценены как антиизраильские.
— Карваджал узнает, что это я сделал.
— Он действительно держит тебя за горло, так?
— Что мне делать. Боб? Карваджал может быть фантастически полезен нам. Что бы ты сейчас ни думал, я не хочу портить отношения с ним.
— Тогда не надо. Пусть Кувейтская речь идет как запланировано, раз ты так боишься обидеть Карваджала. Несколько острот не принесут долговременного вреда, ведь так?
— Но и пользы тоже.
— Но не так уж они навредят, У нас будет еще два года до того, как Куинн начнет опять обращаться к избирателям. За это время, если понадобится, он пять раз может съездить в Тель-Авив, — Ломброзо подошел и положил руку мне на плечо. Рядом с ним я чувствовал себя защищенным. Он сказал с Теплотой в голосе:
— Ты хорошо сейчас себя чувствуешь, Лью?
— Что ты имеешь ввиду?
— Ты беспокоишь меня. Это бред о возможности видеть будущее. Такое возбуждение по поводу одной вшивой речи. Может, тебе надо отдохнуть? Я знаю, последнее время ты был в таком напряжении, и…
— Напряжении?
— По поводу Сундары, — сказал он, — не надо притворяться, что я не знаю, что происходит.
— Сундара меня не радует. Нет. Но если ты думаешь, что псевдорелигиозная деятельность моей жены как-то влияет на мои суждения, умственную уравновешенность, мою способность функционировать в качестве сотрудника аппарата мэра…
— Я только предположил, что ты очень устал. А усталые люди часто начинают волноваться по поводу таких вещей, которые того не стоят, и это волнение еще больше способствует усталости. Сломай схему, Лью. Съезди на пару недель в Канаду. Охота и рыбалка сделают тебя новым человеком. У моего приятеля есть имение возле Бандофа, очаровательная тысяча гектар в горах, и…
— Благодарю, но я в лучшей форме, чем тебе кажется, — сказал я. — Извини, что заставил тебя впустую потратить время сегодня.
— Это не пустая трата времени. Очень важно, чтобы мы делились своими трудностями, Лью. Из всего я понял, что Карваджал действительно ВИДИТ будущее, но такому рациональному человеку, как я, очень трудно это переварить.
— Просто принимай это на веру. Что же ты предлагаешь?
— Принимать это на веру. Я думаю, будет достаточно мудро не делать ничего такого, что заставит Карваджала отвернуться от нас. Принимать на веру. Принимать на веру — в наших интересах, чтобы выдавить из него дальнейшую информацию, и поэтому ты не должен допустить разрыва по поводу такой мелочи, как последствия одной-единственной речи.
Я кивнул:
— Я тоже так думаю. Ты ни слова не намекнешь Куинну по поводу того, что он должен или не должен говорить на презентации банка.
— Конечно, нет.
Он начал подталкивать меня к двери. Я дрожал и обливался потом, глаза, похоже, у меня были безумными. Но я не мог остановиться:
— И ты не будешь никому рассказывать, что я ослаб, Боб? Потому что я не ослаб. Я, может быть, на пороге грандиозного прорыва в сознании, но я не схожу с ума. Я действительно не схожу с ума, — говорил я так страстно, что это звучало неубедительно даже для меня самого.
— Я думаю, что тебе нужно все-таки взять небольшой отпуск. А я не буду распускать никаких слухов о твоем предстоящем заключении в сумасшедший дом.
— Спасибо, Боб.
— Спасибо, что пришел ко мне.
— Больше не к кому.
— Все решено, — сказал он успокаивающе. — Не беспокойся о Куинне. Мы начнем все перепроверять. Если он действительно попадет в переделку с миссис Гильдштейн или мистером Розенблюмом, ты сможешь провести опрос общественного мнения через свой департамент, — он пожал мне руку. — Отдохни, Лью. Заставь себя отдохнуть.
21
Итак, я организовал выполнение пророчества, хотя в моих силах было помешать ему. А было ли? Я отказался подвергнуть испытанию холодный несгибаемый детерминизм Карваджала. Я совершил то, что мы в детстве называли «полиция не вмешивается». Куинн будет держать речь на презентации. Куинн произнесет свои тупые шутки по поводу Израиля. Миссис Гольдштейн будет ворчать, мистер Розенблюм будет посылать проклятия. Мэр приобретет ненависть врагов, «Таймс» поместит первоклассную статью, а мы приступим к процессу возмещения политического ущерба, Карваджал еще раз убедится в своей правоте. Вы скажете, что было бы очень легко вмешаться. Почему бы не проверить систему? Проверить, не блефует ли Карваджал, сбудется его утверждение, что однажды увиденное будущее выгравировано как на каменных плитках. Я не сделал этого. У меня был шанс и я побоялся его использовать, как будто по секрету узнал, что звезды придут в странное замешательство, если я вмешаюсь в течение событий. Так, я уступил предписанной неизбежности всего этого в тяжелой борьбе. Но неужели я на самом деле так легко сдался? А имел ли я вообще свободу действия? Не было ли то, что я сделал, возможно, частью неизменного вечного сценария?
22
«Дар есть у всех, — сказал Карваджал мне, — но лишь немногие знают, как пользоваться им». И он говорил о том времени, когда я смогу ВИДЕТЬ сам.
Правда ли, что он планировал разбудить этот дар во мне?
Эта мысль пугала и приводила меня в неописуемое волнение. Смотреть в будущее, быть свободным от ударов неожиданностей, перейти от туманной неизвестности стохастического метода к абсолютной определенности — о, да, да, да, как чудесно! Но как пугающе! Распахнуть дверь в темноту, взглянуть на чудеса и тайны, лежащие в ожидании на пути времени.
Шахтер выходил из дома на работу Когда услышал, как кричит его крошка Он подошел к кроватке ребенка Она сказала: Папочка, я видела такой страшный сон.
Пугающе, потому что я знал, что могу увидеть что-то такое, чего не хотел бы видеть, и это высушит и разрушит меня, как, очевидно, высушило и разрушило Карваджала — знание о его смерти. Чудесно, потому что ВИДЕТЬ — значит избежать хаоса неизвестности, это значит достичь, наконец, полностью сконструированной, полностью детерминированной жизни, к которой я стремился с того момента, как отверг свой юношеский нигилизм ради философии причинности.
Пожалуйста, папочка, не ходи сегодня в шахту, Ведь сны так часто сбываются.
Папочка, папочка мой, не уходи, Ведь я не смогу жить без тебя.
Но если Карваджал на самом деле знает, как дать мне видение жизни, я клялся, что буду обращаться с ним по-другому, не позволю сделать из себя съежившегося затворника, пассивно кланяющегося законам какого-то невидимого писателя, не стану марионеткой, как Карваджал. Нет, я бы использовал этот дар активно, я бы заставил его формировать и направлять течение истории, я бы воспользовался своим особым знанием, чтобы руководить, выравнивать и изменять, насколько смогу, рамки событий человеческого существования.
О, мне снилось, что шахта объята огнем, И люди борются за свои жизни.
Только лишь сцена сменилась, у входа в шахту Стояли возлюбленные и жены.
Согласно Карваджалу, такое формирование и направление было невозможным. Для него, может, и невозможно; но буду ли я связан его ограничениями? Даже если будущее точно установлено и неизменно, знание его может быть поставлено на пользу, чтобы смягчить удары, перераспределить силу, создать новые схемы на разрушенных старых. Я попытаюсь. Научи меня ВИДЕТЬ, Карваджал, и дай мне попробовать!
О, папочка, не работай сегодня в шахте. Ведь сны так часто сбываются. Папочка, папочка мой, не уходи, Ведь я не смогу жить без тебя.23
Сундара исчезла в конце июня, не оставив записки, и отсутствовала пять дней. Я не заявлял в полицию. Когда она вернулась, ни сказав ни слова объяснения, я не стал спрашивать, где она была. Опять в Бомбее, в Тьерра дель Фиего, в Кейптауне, Бангкоке ли — мне было все равно. Я становился хорошим Транзитным мужем. Возможно, она провела все пять дней распростертой на алтаре какого-нибудь местного Транзита, если у них есть алтари, или, может, она была все это время в каком-нибудь борделе Бронкса. Не знать — не хотеть беспокоиться.
Теперь мы не касались друг друга, как будто скользили бок о бок по тонкому льду, не глядя друг на друга, не говоря друг другу ни слова, просто молча катились к неизвестному и опасному месту назначения. Процессы Транзита забирали всю ее энергию днем и ночью. «Что вы получаете от этого? — хотел я спросить ее. — Что это ЗНАЧИТ для тебя?» Но я не спрашивал. Однажды душным июльским вечером она вернулась домой поздно из города, где Бог ее знает что делала, в прозрачном бирюзовом сари, которое припало к ее влажной коже, вызывая такую похоть, что ее приговорили бы к десяти годам за непристойный вид в пуританском Нью-Делфи, подошла ко мне, положила руки мне на плечи, так тесно прижалась, что я, почувствовав тепло ее тела, задрожал, и посмотрела мне в глаза. И в этих темных глазах была боль потери и сожаления — ужасный взгляд страдающей печали. И если бы мог читать ее мысли, я бы ясно услышал, как она говорит мне: «Скажи мне одно слово. Лью, скажи одно-единственное слово — и я оставлю их, и все у нас будет по-старому». Я знаю, что ее глаза говорили мне именно это. Но я не сказал ни слова. Почему я промолчал? Потому что я подозревал, что Сундара просто проигрывает на мне еще одно бессмысленное упражнение Транзита из серии «Ты-думаешь-я-это-имела-в-виду?» Или потому что где-то внутри я действительно не хотел, чтобы она свернула с курса, который сама выбрала.
24
Куинн послал за мной. Это было за день до церемонии в здании Кувейтского банка.
Он стоял в середине кабинета, когда я вошел. Комната была бесцветной, ужасающе функциональной, ничего похожего на внушительное святилище Ломброзо: темная неуклюжая муниципальная мебель, портреты бывших мэров; но сегодня она была неестественно яркой. Солнечный свет, бьющий в окно, освещал Куинна сзади, образуя вокруг него ослепительный золотой нимб, и он, казалось, излучал силу, властность и целеустремленность, испуская потоки света еще более интенсивные, чем те, которые поглощал. Полтора года пребывания в должности мэра Нью-Йорка наложили на него отпечаток: сеть тонких морщинок вокруг глаз стала глубже, чем была в день инаугурации, светлые волосы потеряли часть своего блеска, его массивные плечи ссутулились, как будто он согнулся под тяжестью непомерного груза. Часто во время этого напряженного влажного лета появлялся утомленным и раздраженным и временами казалось, что он выглядит старше своих тридцати девяти лет. Но сейчас это все ушло. Старая энергия Куинна вернулась. Его присутствие наполняло комнату.
Он сказал:
— Помните, около месяца тому назад вы сказали, что вырисовываются новые структуры, и вы сможете дать мне предсказания на будущий год?
— Точно, но я…
— Подождите. Новые факты вырисовывались, но вы не имеете доступа к ним пока. Я хочу дать их вам, чтобы начали работу по их синтезу, Лью.
— Какие факторы?
— Мои планы по участию в президентских выборах.
После долгой неловкой паузы я смог вымолвить:
— Вы имеете ввиду выборы следующего года?
— У меня нет ни малейшего шанса на следующий год, — ответил Куинн ровно. — Вы не согласны?
— Да, но…
— Никаких но. Выборы двухтысячного за Кейном и Сокорро. Мне не нужно ваше искусство прогнозирования, чтобы понять это. У них в карманах достаточно делегатов для первой номинации. Они будут соперничать с Мортонсоном в течение года, начиная с ноября, и потерпят поражение. Я считаю, что у Мортонсона будет самое большое количество голосов со времен Никсона в тысяча девятьсот семьдесят втором году, независимо от того, кто будет с ним соперничать.
— Я тоже так думаю.
Куинн сказал:
— Поэтому я и говорю о две тысячи четвертом году. Мортонсон не сможет выдвинуть свою кандидатуру на следующий срок, а у республиканцев больше такой сильной фигуры нет. Кого бы новые демократы не выдвинули на номинацию — он будет президентом. Правильно?
— Так, Пол.
— У Кейна второй возможности уже не будет. Тот, кто когда-то потерял много голосов, никогда не выигрывает. Кто там еще? Ките? Ему будет уже больше шестидесяти. Повнел? У него нет достаточной поддержки. Он будет забыт. Рандольф? Пик его возможностей — стать вице-президентом при ком-то.
— Но все еще останется Сокорро, — заметил я.
— Да, Сокорро. Если он правильно разыграет свою карту во время кампании последующих лет, у него будут сильные позиции, как бы сильно они не проиграли сейчас. Как Маски проиграл в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом и Шривер в тысяча девятьсот семьдесят втором году. Я очень много размышлял о Сокорро все это лето, Лью. Я наблюдал за ним, когда он, как ракета, взлетел после смерти Лидеккера. Поэтому я решил больше не скромничать и уже сейчас начать проталкиваться к номинации. Я должен преградить путь Сокорро. Потому что, если он добьется номинации в две тысячи четвертом, то выиграет и станет президентом на два срока, а это поставит меня в сторону до две тысячи двенадцатого года, — он посмотрел на меня своим знаменитым гипнотизирующим взглядом, пронизывая меня им так, что я почувствовал, что сейчас начну извиваться. — Мне будет Пятьдесят один в две тысячи двенадцатом году, Лью. Я не хочу ждать так долго. Возможный кандидат потеряет свое значение, если будет дюжину лет ждать своей очереди. Как ты думаешь?
— Я думаю, что вы уже просчитали весь путь.
Куинн кивнул:
— О'кей. Вот расписание, которое мы с Хейгом составили за последнюю пару дней. Мы потратили остаток тысяча девятьсот девяносто девятого года и первую половину следующего, просто закладывая фундамент. Я проезжу с речами по стране, я лучше познакомлюсь с крупными партийными лидерами, я подружусь со множеством представителей мелкой рыбешки, которые СТАНУТ крупными партийными лидерами к две тысячи четвертом году. В следующем году, когда Кейн и Сокорро будут объявлены на номинацию, я разверну широкую компанию по их поддержке, особенно на Северо-Востоке. Я, черт побери, сделаю все возможное, чтобы предоставить им штат Нью-Йорк. Я высчитал, что они будут иметь поддержку шести или семи промышленных штатов, так какого же черта мне не предоставить им мой, если я хочу проявить себя энергичным партийным лидером. Мортонсон все равно уничтожит их, так как его будет поддерживать юг и вся фермерская прослойка. В две тысячи первом году я глубоко залягу и сосредоточу все свои усилия на том, чтобы быть переизбранным в мэры. И когда это будет позади, я возобновлю поездки с речами по стране, и после выборов в Конгресс, в две тысячи втором году, я заявлю себя кандидатом. У меня будет третий и половина четвертого года, чтобы подобрать делегатов, ко времени предварительных выборов я уже буду уверен в том, что буду избран. Правильно?
— Мне нравится это, Пол. Мне это очень нравится.
— Хорошо. Ты будешь мой ключевой фигурой. Я хочу, чтобы ты полностью сконцентрировался на выработке и прогнозировании основ национальной политики, так ты сможешь набросать план действий в рамках более крупной структуры, который я только что обрисовал. Местные штаты пусть тебя не касаются, мы все знаем о Нью-Йорке. Мардикян справится с моей предвыборной кампанией без посторонней помощи. Ты должен смотреть дальше, ты будешь рассказывать мне, чего хотят люди в Огайо, на Гавайях, в Небраске, а также о том, что им будет нужно через четыре года. Ты будешь человеком, который сделает из меня президента, Лью.
— Я расшибусь, но сделаю.
— Ты будешь моими глазами, которые смотрят в будущее.
— Будь уверен, старик.
Мы ударили по рукам.
— Вперед, в двухтысячный год! — воскликнул он.
— Даешь Вашингтон! — подхватил я.
Это был глупый момент, но трогательный. История у наших ног. Марш на Белый дом. Я в авангарде со знаменем бью в барабаны. Меня так переполняли эмоции, что я чуть не начал говорить Куинну о том, чтобы он не ездил на церемонию в Кувейтский банк. Затем мне показалось, что я увидел, как лицо Карваджала с печальными глазами мелькнуло среди пылинок, танцующих в луче света, падающем из окна кабинета мэра. И я сдержался.
Итак, я ничего не сказал. И Куинн поехал и произнес свою речь. И, конечно, он произнес ее с парой неуклюжих сарказмов по поводу политической ситуации на Ближнем Востоке, («…я слышал, что на прошлой неделе король Абдулла и премьер Елизар играли в покер в казино в Эйлате. Король поставил на кон трех верблюдов и нефтяную скважину, а премьер — пять поросят и субмарину. Итак, король…» — О, нет, это слишком глупо, чтобы повторять.) Выступление Куинна было, естественно, передано в этот вечер по всем программам, а на следующий день Сити-Холл был завален гневными телеграммами. Мардикян позвонил мне и сказал, что Сити-Холл пикетируется Бнай Бриттом, объединенным Еврейским воззванием. Лигой защиты евреев и всеми активистами Дома Давида. Я пошел туда, сгорая от стыда, пробираясь сквозь толпу разъяренных евреев. Мне мучительно хотелось извиниться перед всем миром за то, что я своим молчанием допустил происшествие. Ломброзо был рядом с мэром. Мы обменялись взглядами. Я ощущал триумф — разве Карваджал не предсказал этот инцидент в точности? И в то же время я дрожал, как овца, от страха. Ломброзо подмигнул мне. И его подмигивание означало одно: он прощал и подбадривал меня.
Куинн не выглядел смущенным. Он с удовольствием толкнул ногой огромный ящик с телеграммами и сказал, криво усмехнувшись:
— Вот так мы начинаем наш поход за голосами американских избирателей. Мы не слишком-то продвинулись, ребята?
— Не беспокойтесь, — сказал я ему с бойскаутским пылом, — подобное произошло в последний раз.
25
Я позвонил Карваджалу.
— Мне нужно поговорить с вами, — сказал я.
Мы встретились на набережной Гудзона недалеко от десятой улицы. Погода была мрачная, было пасмурно, сыро и тепло. Небо было зловещего темно-зеленого цвета, грозовые тучи нависали над Нью-Джерси, ожидание Апокалипсиса наполняло все вокруг. Зловещие лучи солнца, скорее серо-голубые, чем золотые, пробивались через тучи, накрывшие полнеба смятым одеялом. Нелепая, неестественная погода, шумный аляповатый фон для нашей беседы.
Глаза Карваджала неестественно блестели. Он выглядел выше, моложе, упруго шагая танцующей походкой. Почему казалось, что он набирает силу от встречи к встрече?
— Ну? — спросил он.
— Я хочу научиться ВИДЕТЬ.
— СМОТРИТЕ, я ведь не останавливаю вас.
— Будьте серьезны, — взмолился я.
— Я всегда серьезен. Чем я йогу вам помочь?
— Научите меня делать это.
— Разве я когда-нибудь говорил вам, что этому можно научить?
— Вы сказали, что у каждого есть такой дар, но очень немногие знают, как им пользоваться. Покажите мне, как пользоваться этим.
— Этому, может быть, и можно научиться, — сказал Карваджал, — но этому нельзя научить.
— Пожалуйста!
— Почему вам так не терпится?
— Я нужен Куинну, — сказал я униженно. — Я хочу помочь ему. Стать президентом.
— Ну и что?
— Я хочу помочь ему. Я должен ВИДЕТЬ!
— Но вы ведь так хорошо можете угадывать тенденции, Лью!
— Недостаточно.
Над Хобокеном раскатился гром. Холодный сырой западный ветер гнал рваные облака. Природа создавала гротесково-комическую декорацию. Карваджал произнес:
— Положим, я приказал бы вам вручить мне полный контроль над вашей жизнью. Предположим, я попросил бы вас принимать за вас все решения, подчинять все ваши действия моим командам, полностью передать в мои руки ваше существование. И тогда я сказал бы, что у вас есть шанс научиться ВИДЕТЬ. Только шанс. Каков будет ваш ответ?
— Я бы сказал, что игра стоит свеч.
— ВИДЕТЬ не так чудесно, как вам кажется, знаете ли. Сейчас вы рассматриваете это как магический ключ к любому решению. А что, если это окажется грузом и препятствием? А что, если это обернется проклятием?
— Не думаю, что так случится.
— Откуда вам знать?
— Подобная сила может оказаться грандиозно позитивной. Я не рассматриваю это иначе, как выгоду для меня. Конечно, я вижу потенциальную негативную сторону этого, но чтобы проклятие? Нет.
— А если все-таки?
Я пожал плечами:
— Я, пожалуй, рискну. Для вас это стало проклятием?
Карваджал помолчал, посмотрел на меня, стараясь поймать мой взгляд. Это был как раз подходящий момент, чтобы молния расколола небо, чтобы ужасный раскат грома прокатился над Гудзоном, чтобы потоки дождя хлынули на набережную. Но ничего подобного не случилось. Неожиданно прямо над нами облака расступились и мягкий теплый желтый солнечный свет рассеял грозовую тучу. Ну, достаточно о природе в роли постановщика сцены.
— Да, — спокойно промолвил Карваджал. — Проклятие. Только проклятие, проклятие.
— Я не верю вам.
— Какое это имеет для меня значение?
— Даже если это — проклятие для вас, я не думаю, что оно будет проклятием для меня.
— Очень смело, Лью, или очень глупо.
— И то, и другое. И тем не менее, я хочу научиться ВИДЕТЬ.
— Вы хотите стать моим учеником, преемником — странное, неприятное слово.
— В чем это будет заключаться?
— Я уже говорил вам. Вы подчинитесь мне, не задавая вопросов, но я не гарантирую результатов.
— А как же это поможет нам ВИДЕТЬ?
— Никаких вопросов, — напомнил он, — просто подчиняйтесь мне, Лью.
— Договорились.
Сверкнула молния. Небеса разверзлись, и сумасшедший ливень обрушился на нас с невероятной свирепостью.
26
Полтора дня спустя.
— Самое худшее, — сказал Карваджал, — видеть свою собственную смерть. Этот момент, когда жизнь покидает вас, а на самом деле вы еще не умираете, но должны ВИДЕТЬ это.
— Это то проклятие, о котором вы говорили?
— Да. Это проклятие. Это то, что убило меня. Лью, задолго до срока. Мне было около тридцати, когда я впервые ее УВИДЕЛ. И ВИДЕЛ с тех пор много раз. Я знаю день, час, место, обстоятельства. Я переживаю это снова и снова: начало, середину, конец, темноту, тишину. И однажды показавшись мне, она превратила мою жизнь в бессмысленное кукольное представление.
— А что хуже всего, — спросил я, — знать — когда; знать — как?
— Знать — что, — ответил он.
— Что вы вообще умрете?
— Да.
— Я не понимаю. Я имею в виду, это, конечно, неприятно, — наблюдать, как ты умираешь, видеть свой собственный конец, как в киножурнале, но разве может быть в этом такой серьезный элемент неожиданности? Я говорю, что смерть неизбежна, и мы все с раннего детства знаем об этом.
— Да?
— Конечно, знаем.
— Вы думаете, что вы тоже умрете, Лью?
Пару минут я моргал глазами в удивлении:
— Естественно.
— И вы абсолютно убеждены в этом?
— Я вас не понимаю. Неужели вы подозреваете, что у меня есть иллюзия бессмертия?
Карваджал безмятежно улыбнулся.
— У всех есть, Лью. Когда вы ребенок и умирает ваша любимая золотая рыбка или собака, вы говорите себе: «Ну, рыбки долго не живут, а у собак век короткий», — так вы отбрасываете от себя первый опыт смерти. Ваш юный сосед упал с велосипеда и сломал себе шею. «Ну, — говорите вы, — произошел несчастный случай, но это ничего не доказывает. Есть очень осторожные люди, и я — один из них». Умирает ваша бабушка. Она была старой и долго болела, она вообще не берегла себя, она выросла среди поколения, которое имело достаточно примитивную превентивную медицину, поэтому она не знала, как нужно заботиться о себе. Со мной этого не случится, говорите вы, со мной такого не будет.
— У меня умерли родители, сестра. У меня была черепаха, и она умерла. Смерть не является чем-то далеким и нереальным в моей жизни. Нет, Карваджал, я верю в смерть. Я принимаю факт смерти. Я знаю, что умру.
— Нет, не на самом деле.
— Но как вы можете так говорить?
— Я, знаю, как люди чувствуют это. Я знаю, как я чувствовал прежде, чем УВИДЕЛ, как сам умираю, и во что я превратился после этого. Те немногие, кто это пережил, изменились так же, как я. А может, до сих пор еще никто этого не пережил. Послушайте меня, Лью. Никто искренне и полностью не верит, что умрет, что бы он там ни думал. Вы можете принимать смерть тут, снаружи, но вы не принимаете ее на клеточном уровне обмена веществ и деления клеток. Ваше сердце не перестает биться в тридцатилетнем возрасте, и оно знает, что никогда не перестанет. Ваше тело работает, как трехсменная фабрика, производя кровяные тельца, лимфу, семя, слюну, все точно вовремя, и ваше тело знает, что так будет всегда. И ваш мозг, который воспринимает себя центром великой драмы, где звезда — Лью Николс, целая вселенная, огромная коллекция собственности, все, что происходит, происходит вокруг ВАС, в связи с ВАМИ, с ВАМИ как центром и осью, вокруг которой все вращается. И если вы идете к кому-нибудь на свадьбу, то эта сцена называется не «Свадьба Дика и Джуди», а «Лью Николс на чьей-то свадьбе». И если политик становится президентом, это не «Пол Куинн становится президентом», а «Переживания Лью Николса по поводу становления Пола Куинна президентом». И если звезда взорвется, то заголовок будет не «Образование новой звезды», а «Вселенная Лью Николса потеряла свою звезду», и так далее. И так с каждым. Каждый — герой огромной драмы существования. Дик и Джуди тоже выполняют роль звезд в своих головах, и Пол Куинн, и каждый из вас знает, что если он умрет, то погаснет целая вселенная, как выключенный свет. Это невозможно. И поэтому вы не собираетесь умирать. Вы уверены, что вы — исключение. Чтобы дело продолжалось, вы будете существовать. Все другие — это вы, Лью, понимаете — умрут, им не повезло, их карьеры сломаны, сценарий предписывает им исчезнуть с дороги, но только не вам, нет, не вам! Не так ли на самом деле все обстоит. Лью, в глубине вашей души, на том таинственном уровне, в который вы время от времени спускаетесь?
Я заставил себя улыбнуться.
— Может быть, в конечном итоге и так, но…
— Так. И так для всех. И так для меня. Да, люди умирают, Лью. Некоторые умирают в двадцать лет, а некоторые в сто двадцать. И ВСЕГДА это неожиданность. Они стоят, глядя в открывающуюся им темноту, как говорят в бездну. Боже мой, я был не прав, это действительно происходит со мной, даже СО МНОЙ! Это такой шок, такой ужасный удар для своего Я — узнать, что ты не уникальное исключение, как ты считал. Но есть что-то успокаивающее, вплоть до последнего момента, в приверженности идеи, что, может быть, ты выберешься, как-нибудь избежишь. И у всех есть это успокоительное чувство, Лью. У всех, кроме меня.
— Вы УВИДЕЛИ это так ужасно?
— Это уничтожило меня. Это лишило меня той большой иллюзии, тайной надежды на бессмертие, которая помогает нам держаться. Конечно, я вынужден был продолжать жить еще тридцать лет или более, потому что я ВИДЕЛ, что это не произойдет со мной, пока я не стану стариком. Но знание этого возвело стену вокруг моей жизни, границу, непробиваемый замок. Я больше не был мальчиком, у меня был настоящий приговор и время до его исполнения. Я не мог рассчитывать на то, что буду наслаждаться вечностью, как другие. У меня оставалось только тридцать жалких лет жизни. Знание этого ограничивает вашу жизнь, Лью. Оно лимитирует ваши возможности.
— Мне нелегко понять, почему оно должно произвести такое действие.
— Со временем вы поймете.
— Может быть, для меня это будет не так, когда я узнаю.
— Ах, — воскликнул Карваджал, — мы все считаем себя исключением.
27
Когда мы встретились в следующий раз, он рассказал, как будет проходить его смерть. Он сказал, что ему осталось жить меньше года. Это должно будет случиться весной двухтысячного года, где-то между десятым апреля и двадцать пятым, хотя он утверждал, что знает точную дату, вплоть до времени дня, но не желал быть более точным.
— Почему вы не раскрываете мне этого? — спросил я.
— Потому, что я не хочу страдать от вашего собственного напряжения и ожидания, — ответил Карваджал резко, — я не хочу, чтобы вы демонстрировали в тот день, что он настал, прибыв ко мне в полном расстройстве чувств.
— А я буду здесь? — спросил я удивленно.
— Конечно.
— А вы не скажете, где это случится?
— У меня дома, — сказал он. — Мы с вами будем обсуждать кое-какие проблемы, которые вас будут тогда волновать. В дверь позвонят. Я отвечу, и человек насильно ворвется в дом. Вооруженный человек с рыжими волосами, который…
— Минуточку. Вы однажды мне говорили, что в этом районе вас никто никогда не беспокоил, и никогда не побеспокоит.
— Никто из тех, кто ЖИВЕТ ЗДЕСЬ, — произнес Карваджал. — Это будет незнакомец. Ему дадут мой адрес по ошибке, он перепутает квартиру — он придет за партией наркотиков, каких-то, какие используют нюхачи. Когда я ему скажу, что у меня нет лекарств, он мне не поверит. Он подумает, что здесь какая-то двойная игра, и рассердится, начнет размахивать пистолетом, угрожая мне.
— А что буду делать я, когда это будет происходить?
— Смотреть.
— Смотреть? Просто смотреть со сложенными руками, как зритель?
— Просто смотреть, — подтвердил Карваджал, — как зритель.
В его голосе послышались острые нотки, как будто от отдавал мне приказание: «Вы ничего не будете предпринимать во время этой сцены. Вы будете оставаться вне ее, в стороне, как простой наблюдатель».
— Я мог бы ударить его лампой, я мог бы попытаться выхватить оружие.
— Вы не сделаете этого.
— Ладно, — сказал я. — Что же случиться?
— Кто-то постучит в дверь. Один из моих соседей, который услышит шум и забеспокоится обо мне… Вооруженный запаникует. Подумает, что это полиция, или, может быть, соперничающая банда. Он выстрелит три раза; затем он разобьет окно и скроется. Пули ударят меня в грудь, руку и заденут голову. Я буду умирать около минуты. Вы вообще не пострадаете.
— А потом?
Карваджал засмеялся:
— А потом? А потом? Откуда я знаю. Я вам говорил: я ВИЖУ как через перископ. Перископ может достать только до этого момента, не дальше. Там для меня восприятие кончается.
Как он был спокоен! Я воскликнул:
— Вы именно это ВИДЕЛИ в тот день, когда мы с вами обедали в клубе «Купцов и судовладельцев».
— Да.
— Вы сидели; наблюдая, как вас расстреливают, а потом как ни в чем не бывало предложили просмотреть меню?
— Сцена для меня была не нова.
— Как часто вы ее видели? — поинтересовался я.
— Не представляю. Двадцать раз, пятьдесят, может быть, сто. Как повторяющийся сон.
— Повторяющийся кошмар.
— К этому привыкаешь. Это вызывало много эмоциональных переживаний после первой дюжины просмотров.
— Для вас это не более, чем кино? Старый фильм по ночному телевидению?
— Что-то вроде этого, — согласился Карваджал. — Сцена сама по себе стала обычной, скучной, избитой, предсказуемой. Это соучастие, которое продолжается, которое никогда не теряет власти надо мной, и детали сами по себе становятся неважными.
— Вы просто подчинились этому. Почему бы вам не попытаться захлопнуть дверь перед этим человеком, когда он придет. Почему бы вам не позволить мне спрятаться за дверью и сбить его с ног? Почему бы вам не попросить полицию обеспечить вам специальную охрану в этот день?
— Естественно, нет. Что хорошего это даст?
— Ну, как эксперимент…
Он поджал губы. Он казался раздраженным моим упорным возвращением к теме, которая была для него абсурдной.
— То, что я ВИЖУ — это то, что произойдет. Время для экспериментов было пятьдесят лет назад, и все эксперименты провалились. Нет, мы не будем вмешиваться, Лью. Мы послушно сыграем наши роли, вы и я. Я знаю, что мы сыграем.
28
Теперь я совещался с Карваджалом ежедневно, иногда несколько раз в день, обычно по телефону, передавая мою самую последнюю политическую информацию — стратегию, сведения о планах, все, что хотя бы отдаленно имело отношение к делу введения Пола Куинна в Белый Дом. Причиной для наполнения всем этим материалом ума Карваджала был эффект перископа: он не мог ВИДЕТЬ ничего из того, что каким-нибудь образом не было получено его сознанием, а того, чего он не мог УВИДЕТЬ, он не мог и передать мне. Что же я делал? Я звонил в будущее и получал оттуда послания через Карваджала. Те сведения, что я передавал ему сегодня, конечно, были бесполезны, так как я сегодня уже знал их. Но то, что я буду сообщать ему через месяц, может иметь огромную ценность для меня сегодня. Информация, возможно, в какой-то момент выстроится в систему. Я начал вводить сюда струю, питая Карваджала данными, которые он ВИДЕЛ месяц или даже годы тому назад! За оставшийся год жизнь Карваджала должна стать уникальным хранилищем будущего, будущих политических событий. (Фактически, он уже был этим хранилищем, но теперь я постоянно проверял его, чтобы убедиться, что он получает именно ту информацию, которую ты запрашиваешь. Все это было парадоксально, но я предпочитаю не принимать эти парадоксы близко к сердцу.) И Карваджал день за днем выплескивал мне данные — главным образом то, что касалось заблаговременного формирования удела Куинна. Все это я передавал Хейгу Мардикяну, хотя кое-что попало и в сферу деятельности Джорджа Миссакяна — отношения со средствами массовой информации; кое-что, имеющие отношение к финансовыми делам, шло к Ломброзо; кое-что я отправлял непосредственно Куинну. Мои выведенные Карваджалом памятки на текущую неделю включали в себя такие пункты:
— Пригласить комиссионера общественного развития Спрекласса на ленч. Предложить возможные суждения.
— Посетить свадьбу сына сенатора Вилкома.
— Сказать Кону Эду (конфиденциально), что нет надежды на «добро» на Флатбушский плавильный завод.
— Брат губернатора — напомните о нем администрации Триборо. Предварительно шутливо осудите кумовство на пресс-конференции.
— На подписании билля в Нью-Масс-Кон подойдите к спикеру ассамблеи Файнбергу и тепло пожмите ему руку.
— Точка зрения газет: библиотеки, лекарства, миграция населения внутри штата.
— Поездка по историческим окрестностям района Гармента с новым израильским генеральным консулом. В группу включить Либмана, Беровнца, миссис Вайсбард, Рэбби Дибина, а также миссис О'Нил.
Иногда я понимал, почему мое я рекомендовал Куинну единый образ действий, а в другое время меня ставило в тупик, например, почему я велел ему наложить вето на безобидное предложение городского совета запретить стоянку на юге Канал-стрит. Как это могло бы помочь ему стать президентом? Карваджал не помогал. Он просто передавал замечания от меня того, который жил в восьмом или девятом месяцах впереди от сегодняшнего дня. Так как он будет мертв до того, как эти вещи смогут раскрыть свой истинный смысл, он не имел представления, какой эффект они могут произвести, да и не желал знать этого. Он давал мне все эти сведения с видом «бери и уходи». Не расспрашивай, почему. Следуй сценарию, Лью, сценарию.
И я следовал сценарию.
Мои политические амбиции в пользу другого человека начали принимать характер божественной миссии: используя дар Карваджала и харизму Куинна, я смогу переделать мир в лучшее место идеального неспецифичного характера. Я чувствовал пульс власти у себя в руках. Если раньше я рассматривал президентство Куинна как самоцель, то теперь я создал целую утопию, планируя править всем миром благодаря возможности ВИДЕТЬ. Я думал: больше никаких манипуляций, передислокаций, мотиваций, политических махинаций, кроме как на службу великому предназначению, которое я сам и создал.
День за днем я посылал свои записки Куинну и его фаворитам. Мердикян и мэр принимали материал, который я им вручал, за результат моих собственных прогнозов, за продукт опроса избирателей, работы моего компьютера и моего прекрасного хитрого мозга. А так как достижения моего стохастического внутреннего взгляда в течение многих лет были постоянно блестящими, то они в точности следовали моим предписаниям. Без всяких вопросов. Иногда Куинн смеялся и говорил: «Послушай, парень, я что-то не вижу в этом смысла», — а я отвечал ему: «Он будет, будет», — и он делал как я говорил. Хотя Ломброзо, должно быть, понимал, что большинство этих вещей я получаю от Карваджала. Но он ни разу не сказал об этом ни слова мне, а тем более — я верю — Куинну или Мардикяну.
От Куинна я получал также инструкции более персонального плана.
— Вам пора состричь волосы, — сказал он мне в начале сентября.
— Вы имеете ввиду покороче?
— Совсем.
— Вы предлагаете мне обрить череп?
— Именно об этом я и говорю.
— Нет, — сказал я. — Если и есть какая-то глупая прихоть, к которой я питаю отвращение, так это…
— Это не имеет отношения к делу. Так что с этого месяца вы начинаете носить волосы именно так. Займитесь этим завтра, Лью.
— Я никогда не имел ничего общего с пруссаками, — возражал я, — это настолько не соответствует моим…
— Надо, — сказал Карваджал просто. — Как вы можете с этим спорить?
Да и что было толку в спорах? Он ВИДЕЛ меня лысым, так что я должен был пойти и превратиться в пруссака. Не задавай мне никаких вопросов, сказал мне этот человек, когда я пришел к нему — просто следуй сценарию, малыш.
Я с писком затащил себя в парикмахерскую. И вышел оттуда гротесковым Эрихом фон Штрохаймомоминус — монокль и пластмассовый воротничок.
— Как ты волшебно выглядишь! — воскликнула Сундара. — Грандиозно!
Он нежно провела пальцами по моему колючему скальпу. Это было впервые за два-три месяца, когда между нами возникли какие-то флюиды. Ей нравилась стрижка, она просто обожала ее. Конечно, иметь на голове такую сжатую стерню было как раз в стиле сумасшедшего Транзита. Для нее это было знаком, что я, может быть, приму эту религию.
Затем последовали другие приказы.
— Проведите выходные дни в Каракасе, — велел Карваджал. — Зафрахтуйте рыболовное судно. Вы поймаете меч-рыбу.
— Почему?
— Делайте, — произнес он неумолимо.
— Я считаю, что мне просто неуместно ехать в…
— Пожалуйста, Лью. С вами так трудно.
— Вы по-крайней мере хоть объясните?
— Объяснения нет. Вам надо ехать в Каракас.
Абсурд. Но я поехал в Каракас. Я выпил слишком много коктейлей с несколькими адвокатами из Нью-Йорка, которые не знали, что я — правая рука Куинна, и громко поносили его, без конца вспоминая добрые старые дни, когда Готфрид держал всю чернь навытяжку. Очаровательно. Я нанял лодку и действительно поймал меч-рыбу, чуть не вывихнув себе при этом запястье. За головокружительную цену мне сделали чучело из этого чудовища. Мне начало казаться, что Карваджал и Сундара, должно быть, объединились, чтобы свести меня с ума или отдать в лапы какого-нибудь проктора Транзита. (Одно и то же?) Но это было невозможно. Больше похоже, что Карваджал просто указывал мне сокрушительный курс следования сценарию. Принимайте любые диктаты, поступающие из будущего.
И я принимал диктаты.
Я отрастил бороду. Я купил новую модную одежду. Я снял медлительную с коровьим выменем шестнадцатилетку в Таймс-сквере, накачал ее ромовым коктейлем на верхотуре Хьятт Рейдженсу, снял там комнату и часа два страстно трахал ее. Я провел три дня в Колумбийском медицинском центре в качестве добровольца для сонопунктурных исследований. Когда я сбежал оттуда, я чувствовал, как гудит каждая моя косточка. Я отправился в игровой зал рядом с моим домом и поставил тысячу баксов на 666 и все проиграл, потому что в тот день выиграл шестьсот шестьдесят семь. Я горько упрекал в этом Карваджала: «Я не возражаю против безумств, но это слишком дорогое безумство. Неужели вы не могли дать мне, по-крайней мере, правильное число!» Он криво усмехнулся и сказал, что ДАЛ мне правильное число. Я понял, что и подразумевалось, что я проиграю. Все это составляло часть моего обучения. Экзистенциальный мазохизм: увлечение азартными играми. Хорошо. Никогда не задавать вопросов. Через неделю он дал мне число триста тридцать три, и я довольно много выиграл. Так что кое-какая компенсация все-таки была.
Следуй сценарию, детка. Не задавай вопросов.
Я продолжал носить свою смешную одежду. Я регулярно брил череп. Я примирился с зудом, который вызывала борода, и вскоре перестал замечать ее. Я посылал мэра завтракать и обедать с предсказанным ассортиментом пока невлиятельных политиков. Господи, помоги мне! Я следую сценарию.
В начале октября Карваджал сказал: «Теперь подавай документы на развод».
29
Развод, сказал Карваджал одним свежим блестящим солнечным днем в октябре, когда резкий западный ветер кружил желтые засохшие листья клена. Теперь подавай документы на развод, теперь клади конец своему браку. Среда шестого октября тысяча девятьсот девяносто девятого года, осталось всего восемьдесят шесть дней до конца века, хотя, конечно, пурист может логически настаивать, что новый век начнется только первого января две тысячи первого года. В любом случае осталось восемьдесят шесть дней до смены цифр. А КОГДА СМЕНИТСЯ ЦИФРА, сказал Куинн в одной из своих самых известных речей, ДАВАЙТЕ ПРОИЗВЕДЕМ ЧИСТКУ СРЕДИ ДЕПУТАТОВ И НАЧНЕМ ОБНОВЛЕНИЕ, ПОМНЯ, НО НЕ ПОВТОРЯЯ ОШИБОК ПРОШЛОГО. Неужели женитьба на Сундаре была одной из ошибок прошлого? Теперь подавай документы на развод, сказал мне Карваджал, при этом он не приказывал мне, а просто бесстрастно констатировал факт необходимости грядущего изменения положения. Значит, несгибаемое неотвратимое будущее неизбежно уничтожает настоящее. За братьями Орвилом и Вилбуром Райтами пришло время Нитту Хока; за Джоном Ф.Кеннеди пришло время Лью Харви Освальда, за Лью и Сундарой Николс приходит время развода, угрожающе маячащего, как айсберг, в грядущих месяцах. Почему? Почему? С какой целью? Por que (пур ке), pourquoi (пуркуа), warum (варум)? Я все еще любил ее. Хотя брак просто разваливался все это лето, и теперь было предписано облегчить его смерть. То, что у нас было, прошло, превратилось в руины: она потерялась в ритмах и ритуалах Транзита, полностью отдавшись своим священным нелепостям, а я глубоко погрузился в мечты и видения власти. И хотя у нас было общее жилье и постель, больше ничего общего не оставалось. Наши отношения питались тончайшей струйкой топлива, бесцветным бензином ностальгии, инерцией воспоминаний о страсти, которую мы когда-то переживали.
Я думаю, что мы занимались любовью три раза в то последнее лето. ЗАНИМАЛИСЬ ЛЮБОВЬЮ! Нелепый эвфемизм для обозначения полового акта, такой же плохой, как гротесковое СПАЛИ ВМЕСТЕ. Чтобы мы с Сундарой ни делали во время этих трех соприкосновений плоти, любовью там и не пахло. Мы потели, сбивали простыни, тяжело дышали, даже испытывали оргазм, но любовь? Любовь была где-то там глубоко спрятана, закрыта в капсуле внутри меня, а может, внутри нее тоже, отложенная давно и надолго и опечатанная, как марочное вино, как спрятанный в сейфе капитал. И когда наши тела совокуплялись в эти три влажные летние ночи, мы не занимались любовью, мы просто опустошали все еще существующий, но уменьшающийся депозит. Проживали свои активы.
Три раза за три месяца. Не так много месяцев назад нам удавалось иметь лучший счет в любые данные пять дней, но это было до того, как таинственный стеклянный барьер поднялся между нами. Может, это была моя вина: я теперь никогда не домогался ее, а она, возможно, под действием предписаний Транзита, обречена была не домогаться меня. Ее податливое страстное тело не потеряло в моих глазах своей прелести, меня также не душила ревность к какому-нибудь другому любовнику, даже случай с лицензией в публичный дом не повлиял на мое желание обладать ею. Ничего, ничего такого вообще. Чем она там могла заниматься с другими, даже это, теряло для меня значение, когда она находилась у меня в объятиях. Но в эти дни мне показалось, что секс между Сундарой и мной был каким-то неуместным, несоответствующим, вышедшим из употребления обменом лишенной стоимости валютой. У нас нечего было предложить «друг другу кроме своих тел, контакты между нами на всех других уровнях разрушились, а единственный — телесный — был хуже, чем бессмыслен.
Последний раз, когда мы… занимались любовью, спали вместе, совершали половой акт, трахались… имел место за шесть дней до того, как Карваджал вынес смертельный приговор нашему браку. Я не знал, что это будет в последний раз, хотя должен был бы, если бы был хотя бы наполовину таким пророком, которым люди меня считали и платили мне за это деньги. Но как я мог выявить апокалиптические полутона, осознать, что занавес опускается? Не было никаких признаков грозы в небе.
Это был четверг тридцатого сентября, тихая ночь на переходе лета к осени. Мы выезжали в эту ночь с нашими старыми друзьями — шведской семьей из трех Калдкоттов. Тим, Бет и Коринн. Мы обедали в Баббл, затем смотрели представление на крыше. Данным давно мы с Тим были членами одного теннисного клуба, и однажды выиграли смешанный парный турнир, этого оказалось достаточно для того, чтобы мы продолжали время от времени поддерживать связь. У нее были длинные ноги, легкая походка, она была очень богатой и полностью аполитичной, и ее компания доставляла мне истинную радость в дни моей деятельности в Сити-Холле. Никаких рассуждении о капризах избирателей, никаких завуалированных предложений, которые нужно было бы передать Куинну, никаких нудных анализов тенденций развития событий, просто веселье и игры.
Мы много пили, обкуривались наркотиками. Мы все пятеро флиртовали между собой. И этот флирт влек меня в постель с двумя Калдкоттами составить трио с очаровательной Тим и золотоволосой Коринн, пока Сундара устроится с третьим. Но по мере того, как вечер разворачивался, я почувствовал сильные сигналы в мою сторону со стороны Сундары. Удивительно! Может, она так обкурилась, что забыла, что я всего лишь ее муж? А может, она воплощала непредсказуемый процесс Транзита? А может, прошло так много времени с тех пор, как мы в последний раз были вместе, что я уже казался чем-то новым для нее? Не знаю. И никогда не узнаю. Но тепло ее неожиданного взгляда вызвало такой огонь между нами, что он быстро разбушевался. И мы быстро с извинениями покинули Калдкоттов, постаравшись сделать это весело и деликатно (они были настоящими аристократами чувственности, поэтому не возникло никакой неловкости, ни намека на неудовольствие; и мы расстались изящно, договорившись вскоре опять собраться), и поспешили домой, все еще пылая, все еще раскаляя страсть.
Не случилось ничего, что помешало бы этому нашему состоянию, одежда сброшена, тела сблизились. Сегодня не было никаких предварительных ритуалов Кама-Сутры. Она пылала, я тоже, и мы совокуплялись как животные. Она судорожно вздохнула, когда я вошел в нее. Ее всхлип, казалось, сочетал в себе сразу несколько нот, как звук, издаваемый одним средневековым индийским инструментом, настраиваемым только в минорном ключе и воспроизводящим печальные струнные аккорды.
Возможно, она знала, что это финальное соединение нашей плоти. Я двигался над ней с уверенностью, что я ничего не сделал не так: если когда-то я и следовал сценарию, то это был именно тот случай, никаких сомнений, расчетов, никакого отделения себя от действия. Я — как движущаяся точка на поверхности континуума, точно соответствуя, попадая в резонанс с колебаниями мгновения. Я лежал сверху, сжимая ее в объятиях — классическая западная позиция, которую мы, будучи приверженцами различных восточных вариантов, редко принимали. Мои спина и бедра были тверды, как закаленная дамасская сталь, упруги, как большинство полимерных пластиков, и я двигался туда и обратно, туда и обратно легкими уверенными толчками, поднимая ее как на драгоценном колесе на более высокий уровень чувствительности и перенося себя туда же.
Для меня это было безупречное слияние, рожденное и усталость, и отчаянием, опьянением и разочарованием, и состоянием типа «мне-нечего-больше-терять». Это нескончаемое движение могло бы длиться до утра. Сундара тесно прижималась ко мне, точно отвечая на каждый мой толчок. Ее колени были подняты почти к груди, и когда мои руки гладили шелк ее кожи, я снова и снова наталкивался на холодный металл эмблемы Транзита, прикрепленный ремнем к ее бедру. Она никогда не снимала ее, НИКОГДА. Но даже это не нарушало совершенства. Но, конечно, это не было актом любви: это было просто спортивное состязание, два бесподобных дискобола двигались в тандеме, совершая предписанный и определенный ритуал, который от них требовался. Какое отношение это имело к любви? Во мне была любовь к ней, да, отчаянно голодный, скребущий, кусающий и трепещущий род любви. Но у меня больше не было способа выразить эту любовь ни в постели, ни вне ее.
Итак, мы собрали все золотые олимпийские медали: за ныряние с вышки, фигурные прыжки с трамплина, фантастическое фигурное катание, прыжки с шестом, бег на четыреста метров, — и незаметными толчками и нашептыванием подвели друг друга к завершающему моменту и затем мы вошли в него, в эту бесконечную паузу растворения в источнике создания, затем эта бесконечная пауза закончилась, и мы оторвались друг от друга, обливаясь потом, жаркие и истощенные.
— Ты не мог бы принести мне стакан воды? — попросила Сундара через несколько минут.
Вот так это закончилось.
— А теперь готовь документы на развод, — сказал Карваджал шесть дней спустя.
30
Твое дело — подчиняться мне, никаких вопросов, никаких гарантий. Не задавать вопросов. Но сейчас я должен спросить. Карваджал толкал меня на шаг, который я не мог предпринять без какого-либо объяснения.
— Вы обещали не спрашивать, — мрачно произнес он.
— Тем не менее. Дайте мне какие-нибудь нити, объясните.
— Вам это очень нужно?
— Да.
Он старался подавить меня взглядом. Но его пустые глаза, иногда так сурово безответные, сейчас меня не испугали. Мои способности предчувствия подсказывали мне сейчас, чтобы я продолжал давить на него, требовать, чтобы он раскрыл передо мной структуры событий, в которые я вступаю. Карваджал упрямился. Он смущался, потел, напоминал о том, что я уже несколько недель, даже месяцев, учусь справляться этими неподобающими всплесками неуверенности. Он требовал принимать судьбу, следовать сценарию, делать так, как он говорит. И все будет в порядке.
— Нет, — говорил я, — я люблю ее, даже сегодня развод — не шутка, я не могу пойти на это из прихоти.
— Но вы же учитесь…
— К черту это! Почему я должен оставить жену только из-за того простого факта, что в последнее время у нас не очень хорошо? Порвать с Сундарой совсем не то же самое, что остричь волосы, знаете ли.
— Конечно, то же самое.
— То?
— В течении времени все события равнозначны, — произнес он.
Я фыркнул:
— Не говорите чепухи. Разные действия имеют разные последствия, Карваджал. Какие волосы я ношу, длинные или короткие, не оказывает сильного воздействия на окружающее меня. А в результате браков иногда появляются дети. А дети — уникальные генетические создания. И дети, которые могут родиться от меня и Сундары, если мы захотим родить, будут отличаться от тех, которые она или я можем произвести на свет от других особей противоположного пола. И разница… Боже, если мы расстанемся, я могу снова жениться на ком-нибудь еще и стать прародителем следующего Наполеона, а если я останусь с ней, я могу… ну, как вы можете говорить, что события равнозначны в течении времени.
— Вы очень медленно ухватываете суть, — печально выдавил из себя Карваджал.
— Что?
— Я не говорил о последствиях. Только о событиях. Все события равнозначны В СВОЕЙ ВОЗМОЖНОСТИ, Лью. Я имею ввиду всеобщую возможность осуществления любого события, которое произойдет…
— Тавтология!
— Да, но вы и я имеем дело именно с тавтологией. Говорю вам, я ВИЖУ, как вы разводитесь с Сундарой, так же, как ВИДЕЛ, что вы срезали волосы. Поэтому эти события имеют равнозначную возможность.
Я закрыл глаза и долго сидел молча.
Наконец, я сказал:
— Расскажите мне, ПОЧЕМУ я развожусь с ней. Нет ли какой-либо возможности восстановить отношения? Мы не ссоримся. У нас нет серьезных несогласий по поводу денег. Мы одинаково смотрим на многие вещи. Мы перестали касаться друг друга, да, но это все, просто перешли в разные сферы. Вы не думаете, что мы могли бы вернуться друг к другу, если бы предприняли искренние попытки?
— Да.
— Так почему бы нам тогда не попробовать, вместо того, чтобы…
— Тогда вам надо войти в Транзит.
Я пожал плечами.
— Я мог бы сделать это, если надо. Если единственной альтернативой является потеря Сундары.
— Вы не сможете. Это враждебно вам. Лью. Транзит противостоит всему, во что вы верите, и всему, на что вы работаете.
— Но чтобы удержать Сундару…
— Вы уже потеряли ее.
— Но это только в будущем. Она все еще моя жена.
— То, что потеряно в будущем, потеряно уже сейчас.
— Я отказываюсь…
— Вы должны, — закричал он. — Это единственное, Лью! Это единственное. Вы так далеко прошли со мной и до сих пор не видите этого?
Я видел это. Я знал каждый аргумент, который он может привести. Я верил им всем. И моя вера не была тем, что находилась снаружи, как панели орехового дерева, она была чем-то внутренним, чем-то, что выросло и развивалось во мне в эти последние месяцы. И все-таки я настаивал. Я все еще искал выхода. Я продолжал цепляться за любую соломинку в штормящем море, как будто меня должно было затянуть на дно.
Я взмолился:
— Заканчивайте свой рассказ. Почему так необходимо и неизбежно покидать Сундару?
— Потому что ее судьба в Транзите, а вы максимально отстоите от него. Они стремятся к неуверенности, а вы — к уверенности. Они стараются разрушать, а вы — строить. Это фундаментальное философское расхождение, которое будет становиться все шире, и через которое невозможно перебросить мост. Поэтому вам надо расстаться.
— Как скоро?
— Вы будете жить один уже до конца этого года, — рассказывал он мне. — Я несколько раз ВИДЕЛ вас на новом месте.
— Со мной не было никакой женщины?
— Нет.
— Я не особенно хорош в безбрачии. Маловато практики.
— У вас будут женщины. Лью. Но жить вы будете один.
— Сундара достанется Кондо?
— Да.
— А картины, скульптуры…
— Я не знаю, — Карваджал выглядел раздраженным. — Я не обращаю внимания на такие детали. Вы знаете, что для меня они не имеют значения.
— Знаю.
Он отпустил меня. Я прошел пешком по городу около трех миль, ничего вокруг себя не видя и не слыша, ни о чем не думая. Я был один в вакууме; я один населял огромную пустоту. На углу какой-то улицы и Бог-знает-какого авеню я обнаружил телефонную будку, бросил жетон в щель и набрал номер конторы Хейга Мардикяна, я слушал гудки, пробивавшие себе путь сквозь заслон абонентов, наконец, Мардикян взял трубку.
— Я собираюсь разводиться, — сообщил я ему и минуту слушал рычание тишины его изумления, бьющее провода, как прибой на Огненной Земле во время мартовского шторма. Затем я добавил: — Меня не интересуют финансовые аспекты. Мне нужен чистый разрыв. Назови мне адвоката, которому ты доверяешь, Хейг, какого-нибудь, кто сможет сделать это быстро, не причиняя ей страданий.
31
В снах перед пробуждением я представлял то время, когда я действительно смогу ВИДЕТЬ. Мое видение пронзит темную невидимую сферу, которая окружает нас, и я попаду в царство света. Я еще сплю, я еще заключен в темницу, я еще слеп, а сейчас на меня снисходит трансформация. Она похожа на пробуждение. Мои оковы падают, мои глаза открываются. Вокруг меня медленно, неуверенно передвигаются окутанные покрывалом тьмы фигуры, слепые и спотыкающиеся, с серыми лицами, на которых написано недоумение и неуверенность. Эти фигуры — вы. А среди вас и над вами танцую я, мои глаза светлы, тело объято пламенем радости нового восприятия. Как будто я жил на дне моря, согбенный под ужасным давлением, удерживаемый в стороне от мучительной яркости этой преградой неизменной и непроницаемой, этой поверхностью между морем и небом, а теперь я прорвался сквозь нее туда, где все сияет и светится, все окружено ореолом блеска, сверкающего золотом и пурпуром. Да. Да. Наконец я ВИЖУ!
Что я ВИЖУ?
Я ВИЖУ прекрасную безмятежную землю, на которой разыгрываются драмы. Я ВИЖУ изнурительную борьбу слепоты и глухоты, избиваемых недостойной судьбой. Я ВИЖУ, как горы развертываются передо мной, как раскрываются листья папоротника весной, ярко-зеленые на верхушках, устремляясь от меня в бесконечность. В бриллиантовых всплесках перемежающегося света я ВИЖУ, как десятилетия разрастаются в века, века становятся эрами и эпохами. Я ВИЖУ медленное изменение времен года, систолы и диастолы зимы и лета, осени и весны, полностью очерченные ритмы тепла и холода, засухи и дождей, солнечного света, туманов и темноты.
Нет предела моему видению. Вот лабиринты завтрашних городов, подъемы и спады, и вновь подъемы, Нью-Йорк в лунатическом росте, башня на башне, старые постройки превращаются в руины, на которых покоятся новые сооружения, слой за слоем вниз, как изменение пластов Трои Шлимана. Через кривые улочки торопливо бегут незнакомцы в странной одежде, разговаривая на жаргоне, которого я не понимаю. Передвигаются машины на комбинированных ногах. Механические птицы щебечут, как скрипучие калитки, трепещут крыльями над головой. Все в изменении. Взгляните, океан отступает и ползающие коричневые твари лежат на мели, ухватившись за обнаженное морское дно! Смотрите, море возвращается, бурля вокруг древних магистралей, почти приближаясь к границе города! Видите, небо зеленое, а дождь черный! Взгляните, здесь изменение, здесь трансформация, здесь капризы времени. Я ВИЖУ все это!
Это вечное движение галактик, туманных и бесконечных. Эти давящие параллели, эти зыбучие пески. Солнце очень теплое. Слова стали острыми, как иглы. Я мельком выхватываю видение крупных явлений, возникающих, поднимающихся, распадающихся и умирающих. Это границы империи гадов. Это стена, от которой начинается республика длинноногих насекомых. Сам человек изменяется. Его тело много раз трансформируется, он становится огромным, потом одноклеточным, затем еще большим, чем когда-либо. У него появляются и развиваются странные органы, которые дрожат, как настраиваемые камертоны, торчащие из наростов на его коже. У него нет глаз и все его лицо гладкое, от губ до скальпа, без единого шва. У него много глаз, он весь покрыт глазами. Он больше не мужчина, не женщина, и действует, как какое-то бесполое существо. Он маленький, он большой, он жидкий, он металлический. Он перепрыгивает через звездное пространство. Он толпится в сырых пещерах, он заполняет планеты легионами себе подобных. Затем, по воле случая, уменьшается до нескольких десятков. Он грозит своим кулаком багровым нависшим небесам, он отдает свою любовь монстрам, он уничтожает смерть, он наслаждается, как всемогущий кит в море, он превращается в ряды жужжащих насекомообразных тружеников, он раскладывает свою палатку в адских алмазно-ярких песках пустыни, он смеется под звук барабанов, он обнимается с драконами, он пишет стихи о траве, он строит воздушные суда, он становится Богом, он становится дьяволом, он — все, он — ничто.
Континенты медленно передвигаются, как гиппопотамы, величаво танцующие польку. Луна глубоко ныряет в небо, выглядывает из-под нахмуренных бровей как белый водяной волдырь, и лопается с чудесным стеклянным звуком, который потом еще годы продолжает вибрировать. Само солнце срывается со своих швартовых, так как все во вселенной находится в постоянном движении и это движение совершенно неопределенно и непредсказуемо. Я ВИЖУ его соскальзывающим в залив ночи и жду, когда оно вернется, но оно не возвращается. И рукавообразная льдина скользит по черной коже планеты, и те, кто живет в это время, принадлежат ночи, становятся хладнокровными, самообеспечивающимися. Сквозь лед выходят тяжело дышащие звери, из ноздрей которых вырывается туман. А изо льда пробиваются цветы, созданные из голубых и желтых кристаллов. А небеса сияют новым светом, и я не знаю откуда он исходит.
Что я ВИЖУ? Что я ВИЖУ?
Эти лидеры человечества, новые короли и императоры, высоко держащие свои жезлы и вызывающие огонь из горных вершин. Это еще не предполагаемые боги. Это шаманы и колдуны. Это певцы, это поэты, это создатели кумиров. Это новые ритуалы. Это плоды войны. Посмотрите: любовники, убийцы, мечтатели, пророки! Посмотрите: генералы, священники, исследователи, законодатели! Неизвестные континенты ждут своих открывателей. Неведомые яблоки ждут своих вкусителей. Посмотрите! Сумасшедшие! Куртизанки! Герои! Жертвы! Я ВИЖУ интриги. Я ВИЖУ ошибки. Я ВИЖУ удивительные достижения и они наполняют мои глаза слезами гордости. Вот дочь дочери вашей дочери. Вот, несомненно, сын ваших сыновей. Это нации, которые еще не известны. Это заново возрожденные нации. Что это за язык, целиком состоящий из щелчков, свистов и шипений? Что это за музыка из буханий и рычаний? Рим снова падет. Снова вернется Вавилон и заполнит мир, как огромный серый осьминог. Как удивительны грядущие времена! Произойдет все, что вы только можете себе представить, и даже больше, гораздо больше, и я все это ВИЖУ!
Это именно то, что я ВИЖУ?
Все ли двери открыты для меня? Все ли стены сделаны из стекла?
Смотрю ли я на убиенного принца или на новорожденного спасителя, на огни разрушенной империи, полыхающие на горизонте, на надгробие лорда лордов, на путешественников с сумасшедшими глазами, отправляющихся через золотое море, которое простирается в подбрюшье преображенного мира? Обозреваю ли я миллионы и миллионы завтрашних дней этой расы, и выпиваю ли все это до дна и делаю ли плоть будущего своей собственной? Небеса падают? Звезды сталкиваются? Что это за неизвестные созвездия, кроящие и перекраивающие сами себя, которые я наблюдаю? Кто эти лица в масках? Что представляет этот каменный идол, высотой с три горы? Когда обрамляющие море утесы разрушатся в красную пыль? Когда лед полярных шапок сползет, как неумолимая ночь, на поля красных цветов? Кому принадлежат эти фрагменты? Что я ВИЖУ? Что я ВИЖУ?
Все времена. Все пространства.
Нет. Конечно, так не будет. Все, что я увижу — это только то, что я смогу послать сам себе из своего недолгого пыльного завтра. Краткие скучные послания, как неясные послания из телефонов, которые мы мальчишками делали из консервных банок, Никакого эпического великолепия, никакого пышного апокалипсиса в стиле барокко. Но даже эти неясные смутные отзвуки были большим, чем то, на что я мог рассчитывать, когда спящий, как и вы, брел неуверенной походкой среди слепых и спотыкающихся фигур по королевству теней, которым является этот мир.
32
Мардикян нашел мне адвоката. Им был Ясон Комурьян — еще один армянин, конечно, один из партнеров собственной фирмы Мардикяна, специалист по разводам, великий защитник со странно печальными глазами, близко сидящими на массивном металлическом монолите его лица. Он был однокашником Хейга, и поэтому должен был быть одного возраста со мной, но казался гораздо старше, безвозрастным патриархом, принявшим на себя травмы тысяч неподчиняющихся решению суда супругов. Его черты были молодыми, его аура была древней.
Мы совещались в его кабинете на девяносто девятом этаже здания Мартина Лютера Кинга. В темной, пропитанной ладаном комнате, соперничающей с кабинетом Ломброзо по помпезности обстановки, как в императорской часовне Византийского собора.
— Развод, — мечтательно произнес Комурьян, — вы хотите получить развод, положить конец, да, окончательно разделаться, — обкатывая концепцию на широкой сводчатой арене своего сознания, как будто это был какой-то тонкий теологический пункт, как будто мы обсуждали единую сущность Бога-отца и Бога-сына или доктрину преемственности апостолов. — Да, этого можно для вас добиться. Вы сейчас живете отдельно?
— Еще нет.
Его мясистое лицо с обвислыми губами отразило неудовольствие.
— Это необходимо сделать, — сказал он. — Продолжение совместного проживания вызовет благовидные предлоги любого рода для продолжения супружества. Даже сегодня, даже сегодня. Снимете отдельную квартиру. Разделите финансы. Продемонстрируйте свои цели, мой друг. Ладно? — Он прикоснулся к украшенному драгоценными камнями распятию у себя на стене, вещичке из рубинов и изумрудов, поиграл с ним, пробегая толстыми пальцами по гладкой, отлично выделанной поверхности, и на какое-то время погрузился в собственные размышления. В моем воображении заиграли звуки невидимого органа, я увидел процессию разряженных бородатых священников, медленно проходящую по хорам его ума. Я почти услышал, как он бормочет на латыни, не на церковной, а на юридической латыни, латыни банальностей. Magna est vis consuetufinis, falsus in uno, falsus in ompibus, eadem sed aliter, res ispa loguiter. Иисус, Иисус, Иисус, ханк, хаек — хок. Он поднял глаза, пронзая меня неожиданно решительным взглядом:
— Основания?
— Никаких особых для развода. Мы просто хотим разойтись, идти каждый своим путем. Просто истечение срока.
— Конечно, вы обсудили это с миссис Николс и пришли к предварительному соглашению?
— Э-э, еще нет, — выдавил я, покраснев.
Комурьян выразил явное неодобрение.
— Вы достаточно понимаете, что должны прийти к соглашению. По-видимому, ее реакция будет положительной. Тогда я встречусь с ее адвокатом, и мы все сделаем. — Он потянулся к записной книжке. — Что же касается раздела имущества…
— Она может взять все, что захочет.
— Все? — в его голосе звучало удивление.
— Ничего не хочу у нее оспаривать.
Комурьян положил руки на стол. Он носил даже больше колец, чем Ломброзо. Эти левантийцы, эти роскошные левантийцы!
— А если она потребует вообще все? — спросил он. — Все, чем вы владеете? Вы отдадите без возражений?
— Она этого не сделает.
— А разве она не приверженка учения Транзита?
Обескураженный, я сказал:
— Откуда вы знаете это?
— Вы должны понимать, что мы с Хейгом обсуждали это дело.
— Понимаю.
— Ведь члены Транзита непредсказуемы.
Мне удалось выдавить из себя смешок.
— Да, очень.
— Она может из прихоти затребовать все имущество, — заявил Комурьян.
— Или из прихоти не потребовать ничего.
— Или ничего, правильно. Ни кто не знает. Вы предписываете мне принять любую позицию, какую она займет?
— Подождем — увидим, — сказал я. — Я думаю, она разумная особа. Я чувствую, что она не предъявит необычных требований по поводу раздела имущества.
— А как насчет распределения доходов? — спросил адвокат. — Она может захотеть получать от вас алименты? Вы заключали стандартный брачный контракт, да?
— Да. С прекращением брака заканчивается финансовая ответственность.
Комурьян начал напевать, очень тихо, так, что я почти не слышал. Почти. Какой рутиной это должно было ему казаться, все эти страдания сакраментальных союзов!
— Тогда проблем не должно быть. Но вы должны объявить о своих намерениях своей жене, мистер Николс, прежде, чем мы пойдем дальше.
Что я и сделал. Сундара теперь была так занята своей разнообразной транзитной деятельностью, своими обычными встречами, своими кругами непостоянства, упражнениями по разрушению своего эго, что прошла почти неделя, прежде чем я смог спокойно поговорить с ней дома. К тому времени я тысячу раз прокрутил весь разговор у себя в голове, так что его основные линии были протоптаны, как тропинки. Если это и есть отдельный случай следования сценарию пусть он таким и будет. Но будет ли она подавать мне правильные реплики?
Почти извиняясь, как будто просьба в привилегии разговора с ней была покушением на ее личность, я сказал однажды ранним вечером, что хотел бы поговорить с ней о чем-то очень важном. И затем я сказал ей, как часто повторял про себя, что я хочу получить развод. Сказав это, я понял кое-что из того, как это было для Карваджала — ВИДЕТЬ, потому что я переживал эту сцену так часто в своем воображении, что она воспринималась мной как событие прошлого.
Сундара задумчиво рассматривала меня, не говоря ни слова, не выражая ни удивления, ни раздражения, ни враждебности, ни энтузиазма, ни страха, ни отчаяния.
Ее молчание озадачило меня. Наконец я сказал:
— Я нанял Ясона Комурьяна в качестве адвоката. Одного из партнеров Мардикяна. Он встретится с твоим адвокатом, если ты его наймешь, и они обо всем договорятся. Я хочу, чтобы это был цивилизованный способ расторжения брака, Сундара.
Она улыбнулась. Мона Лиза из Бомбея.
— Тебе нечего сказать? — спросил я.
— Нет.
— Развод такой пустяк для тебя?
— Развод и брак — аспекты одной и той же иллюзии, моя любовь.
— Я думаю, что этот мир для меня более реален, чем для тебя. И это одна из причин, почему нам не стоит продолжать жить вместе.
Она спросила:
— Предстоит грязная драка по поводу раздела наших вещей?
— Я сказал, что хочу, чтобы это был цивилизованный способ разделения наших путей.
— Хорошо. Я тоже.
Легкость, с которой она принимала все это, ошеломила меня. В последнее время мы так редко соприкасались, что даже никогда не обсуждали растущее отсутствие общения между нами. Но веками так существуют многие браки, безмятежно дрейфуя, и никому не приходит в голову качать лодку. Я же теперь готов уничтожить ее, утопить, а у нее не было замечаний по этому поводу. Восемь лет мы жили вместе. Вдруг я обратился к адвокатам, а у Сундары нет замечаний. Я решил, что ее спокойствие было мерой того изменения, которое произвел в ней Транзит.
— Все транзитовцы так легко принимают великие перевороты своей жизни? — поинтересовался я.
— А это великий переворот?
— Во всяком случае, мне так кажется.
— А мне это кажется ратификацией давным-давно принятого решения.
— Нам было плохо, — допустил я, — но даже в худшие времена я не уставал повторять себе, что это временно, что это пройдет, каждый брак проходит через это, и что в конце концов мы вернемся друг к другу.
Говоря это, я обнаружил, что убеждаю себя, что это все еще так, что мы с Сундарой сможем достичь продолжения взаимоотношений, ведь мы были разумными существами. И в то же время, я только что попросил ее нанять адвоката. Я понимал, как Карваджал говорил мне: «Вы уже потеряли ее» — с безжалостной окончательностью в голосе. Но он говорил о будущем, а не о прошлом.
Она сказала:
— Ты теперь думаешь, как это безнадежно, правда? Что заставило тебя переменить мнение?
— Как?
— Ты изменил свое мнение?
Я ничего не ответил.
— Ты не считаешь, что на самом деле хочешь развода, Лью.
— Я хочу, — прохрипел я.
— Ты так только говоришь.
— Я не прошу тебя читать мои мысли, Сундара. Мы должны только пройти этот юридический вздор, чтобы как положено освободиться друг от друга и жить отдельными жизнями.
— Ты не хочешь развода, но все-таки разводишься. Как странно, Лью. Позиция совершенно транзитной ситуации. Ты знаешь, что мы называем ключевой точкой ситуацию, в которой ты противостоишь каким-то положениям и в то же время стараешься следовать им. Из этого есть три возможных исхода. Тебе интересно слушать? Одна возможность — шизофрения. Другая — самообман, когда ты притворяешься, что принимаешь обе альтернативы, а на самом деле — нет. И третья — состояние вдохновения, известное в Транзите как…
— Ради Бога, Сундара!
— Я думала, тебе интересно.
— А я полагаю, что нет.
Долгое мгновение она изучала меня. Потом улыбнулась.
— Это дело по поводу развода как-то связано с твоим даром предсказывания, ведь так? На самом деле сейчас ты не хочешь развода, даже хотя у нас не очень-то хорошо все идет, но тем не менее ты думаешь, что ОБЯЗАН начать организовывать развод, потому что у тебя было предвидение, что в ближайшем будущем у тебя он будет, и… разве это не так. Лью? Давай, скажи мне правду. Я не рассержусь.
— Ты недалека от истины, — ответил я.
— Думаю, что нет. Ну, и что мы будем делать?
— Вырабатывать договор о разделении, — мрачно ответствовал я. — Нанимай адвоката, Сундара.
— А если я не сделаю этого?
— Ты имеешь ввиду, что будешь оспаривать?
— Этого я не говорила. Я просто не хочу иметь дело с адвокатами. Давай сделаем это сами, Лью. Как цивилизованные люди.
— Я должен буду посоветоваться с Комурьяном об этом. Это, может быть, цивилизованный способ, но мы сделаем это неуклюже.
— Ты думаешь, я обману тебя?
— Я больше ничего не думаю.
Она подошла ко мне. Ее глаза сверкали, ее тело излучало трепещущую чувственность. Я был беспомощен перед ней. Она могла получить от меня все. Наклонившись, Сундара поцеловала меня в кончик носа и сказала сипло, театрально:
— Если ты хочешь развода, дорогой, ты его получишь. Все, что ты хочешь. Я не буду стоять на твоем пути. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Я люблю тебя, и ты это знаешь. — Она озорно улыбнулась. О, эта транзитная озорница!
— Все, что ты хочешь, — сказала она.
33
Я снял для себя трехкомнатную меблированную квартиру в Манхэттене в старой, когда-то роскошной высотке на Восточной шестьдесят третьей, недалеко от Второй Авеню, в когда-то роскошном районе, не пришедшем еще окончательно в упадок. Генеалогия здания была свидетельством ассортимента средств безопасности, датируемых от шестидесятых до ранних девяностых, все, от полицейских запоров и скрытых смотровых отверстий до ранних моделей фильтровых лабиринтов и скоростных экранов. Мебель была проста и по стилю не относилась ни к какому времени, древняя и чисто утилитарная. Кушетки, стулья, кровать и столы, книжные шкафы и все остальное было настолько анонимным, что казалось невидимым. Я сам себя тоже ощущал невидимым после того, как окончательно переехал, и грузчики, и суперинтендант здания ушли, оставив меня в одиночестве в моей новой гостиной, как вновь прибывшего посла из ниоткуда, чтобы занять резиденцию в забвении. Что это за место и как случилось, что я живу здесь? Чьи это стулья? Чьи отпечатки пальцев на голых голубых стенах?
Сундара позволила мне взять несколько картин и скульптур, и я расположил их здесь и там; они, казалось, великолепно вписывались в роскошную структуру нашего кондо в Стейтен-Айленде, но здесь они выглядели странно и неестественно, как пингвины в степи. Здесь не было ни подсветок, ни хитрого сплетения соленоидов и реостатов, ни покрытых коврами пьедесталов. Только низкие потолки, грязные стены и окна без светозащиты. Но я не испытывал жалости к себе за то, что я оказался здесь, только смятение, пустоту, растерянность.
Первый день я провел распаковываясь, размещаясь, расставляя, образуя для себя лары и пенаты. Работал я медленно и неэффективно. Часто останавливался, задумываясь, но ни на чем не мог сосредоточиться. Я не выходил даже за продуктами. Вместо этого я по телефону сделал стодолларовый заказ в супермаркете Гриктеда на углу, просто для того, чтобы дома был какой-то начальный запас продуктов. Обед в одиночестве казался безвкусным: набор случайно подобранных блюд, равнодушно приготовленных и торопливо проглоченных. Спал я один и, к своему удивлению, спал очень хорошо. Утром я позвонил Карваджалу и отчитался перед ним в том, что делал накануне.
Он сказал, выразив свое одобрение:
— У вас из окна спальной комнаты вид на Вторую Авеню?
— Да.
— Темная кушетка?
— Да. А почему вы хотите это знать?
— Просто проверяю, — сказал он. — Чтобы быть уверенным, что вы нашли правильное место.
— Вы имеете ввиду, что я нашел то, что вы ВИДЕЛИ?
— Верно.
— А разве было какое-нибудь сомнение, — спросил я. — Вы перестали верить тому, что ВИДИТЕ?
— Ни на секунду. А вы?
— Верю ли я вам? Я верю вам. А какого цвета у меня раковина в ванной?
— Я не знаю, — сказал Карваджал, — я никогда и не старался заметить этого. А вот холодильник у вас светло-коричневый.
— О'кей. Вы произвели на меня впечатление.
— Надеюсь. Вы готовы записывать?
Я нашел блокнот.
— Давайте, — сказал я.
— Четверг, тридцать первого октября. Куинн полетит в Луизиану на следующей недели для встречи с губернатором Тибодо. После этого Куинн заявит о своей поддержке проекта строительства дамбы. Когда он вернется в Нью-Йорк, он уволит сотрудника отдела жилищных проблем Риккарди и предоставит эту должность Чарльзу Льюисону. Риккарди будет назначен в администрацию по расовым вопросам, а потом…
Я все это записал, качая головой, как обычно, в то время как Карваджал бормотал свое. Какое мне дело до Тибодо? Почему я должен предсказывать строительство дамбы? Я думал, что дамбами уже не пользуются. И Риккарди справляется со своей работой насколько хватает его интеллектуальных способностей. Разве итальянцы не обидятся, если я предложу ему такую высокую должность? И так далее, и так далее.
В эти дни я все чаще приходил к Куинну со странными стратагемами. Необъяснимыми и невероятными, потому что сейчас трубопровод от Карваджала вел свободно из ближайшего будущего, неся мне советы, как лучше маневрировать и манипулировать, которые я должен был передавать Куинну. Куинн следовал всему, что я предлагал, но иногда мне трудно было заставить его делать то, о чем я просил. В один прекрасный день он откажется, не уступит ни на йоту; что тогда случится с безальтернативным будущим Карваджала?
На следующий день в привычное время я был в Сити-Холле. Необычно было ехать по второй Авеню вместо привычного пути со Стейтен-Айленда — и к половине десятого пачка моих записей для мэра была готова. Я отправил их. Через десять минут телефон внутренней связи подал голос, и мне было сообщено, что помощник мэра Мардикян хочет видеть меня.
Похоже, готовились неприятности. Я это интуитивно почувствовал, когда спустился в холл и увидел лицо Мардикяна, направлявшегося в свой кабинет. Он выглядел недовольным, выведенным из себя, раздраженным, напряженным. Его глаза блестели сильнее обычного, он покусывал губу. Мои самые свежие записи были вложены в украшенную алмазами подставку на его столе. Где был лощеный, гладкий, отлакированный Мардикян? Исчез. Испарился. На его месте был этот резкий, взвинченный человек.
Он спросил, глядя на меня тяжелым взглядом:
— Лью, что это за чертова чепуха по поводу Риккарди?
— Желательно передвинуть его с его нынешней работы.
— Я знаю, что желательно. Ты только что предложил нам это. Почему желательно?
— Это диктуется динамикой дальнего уровня, — сказал я, пытаясь блефовать. — Я не могу дать тебе убедительной и конкретной причины, но мои чувства подсказывают мне, что не очень мудро держать на этой работе человека, который так близко идентифицируется с Итало-Американской общиной здесь, особенно с реальными сословными интересами внутри этой общины. Льюисон — хорошая, нейтральная, неабразивная фигура, которая может быть более безопасной в этой щели, когда мы в следующем году вплотную подойдем к выборам мэра, и…
— Оставь это, Лью.
— Что?
— Брось. Ты не говоришь мне дела. Ты просто создаешь шум. Куинн считает, что Риккарди достойно справляется со своей работой, и твои записи его расстроили. А когда я запросил у тебя подтверждающих данных, ты просто пожимаешь плечами и говоришь, что у тебя предчувствие…
— Мои предчувствия всегда…
— Подожди, — сказал Мардикян. — А это дело в Луизиане. Боже! Тибодо — полная противоположность всему, чего старается придерживаться Куинн. Почему, черт побери, мэр должен тащить свою задницу в Батон Руж ради того, чтобы обняться с допотопным фанатиком и поддержать бесполезный, спорный и экологически рискованный проект строительства дамбы? Куинн все теряет и явно ничего не приобретает от этого, в то время, как ты думаешь, что это поможет ему получить голоса деревенщин в две тысячи четвертом году, и ты думаешь, что именно голоса этих деревенщин для него будут решающими. Чей Бог поможет нам, если поможет, ну?
— Я не могу объяснить этого, Хейг.
— Ты не можешь это объяснить? Не можешь объяснить?! Ты даешь мэру совершенно определенные инструкции, вроде этой, или по поводу Риккарди, которые, очевидно, должны быть результатом множества сложнейших размышлений, и ты не знаешь почему? Если ты не знаешь почему, то как ты можешь это знать? Где рациональная основа наших действий? Ты хочешь, чтобы мэр продвигался вслепую, как какой-нибудь зомби, просто выполняя твои указания и не задумываясь почему? Давай, парень! Предвидения предвидениями, но мы нанимали тебя, чтобы ты делал разумные и понятные прогнозы, а не был просто предсказателем.
После долгой неуверенной паузы я сказал:
— Хейг, у меня в последнее время было так много неприятностей, что у меня совсем не осталось запасов энергии. Я не хочу ссориться с тобой сейчас. Я просто прошу тебя принять на веру, что в том, что я предлагаю, есть логика.
— Я не могу.
— Пожалуйста.
— Послушай, я понимаю, что ты совершенно выпотрошен своим распавшимся браком, Лью. Но именно поэтому я вынужден подвергнуть сомнению то, что ты вручил нам сегодня. Уже несколько месяцев ты вручаешь нам эти «тропы судьбы», иногда ты их убедительно объясняешь, иногда нет, иногда ты даешь нам бесстыдно дурацкие объяснения курса действий, и Куинн точно следует всем без исключения твоим указаниям, часто наперекор собственному мнению. И я должен допустить, что до сих пор, все, что ты выработал, было удивительно хорошо. Но теперь… — он поднял взгляд, его глаза впивались в меня. — По дружбе, Лью. У нас появляются сомнения в твоей устойчивости. Мы не знаем, следует ли нам доверять твоим предложениям так же слепо, как раньше.
— Господи Иисусе! — воскликнул я. — Ты думаешь, что разрыв с Сундарой расстроил мое психическое здоровье?!
— Я думаю, что на тебя он очень сильно подействовал, — сказал Мардикян, стараясь говорить как можно мягче. — Ты сам произнес фразу о том, что у тебя не осталось резервов энергии. Говоря дружески, Лью, мы думаем, что ты расстроен, мы думаем, что ты изнурен, устал, потерял устойчивость, что это серьезно обременило тебя, что тебе нужно отдохнуть. И мы…
— Кто мы?
— Куинн, Ломброзо и я.
— Что говорил обо мне Ломброзо?
— Главным образом, что он пытается заставить тебя еще с прошлого августа взять отпуск.
— Что еще?
Мардикян казался озадаченным.
— Что ты подразумеваешь под этим «еще»? Что, ты думаешь, он должен был сказать? Боже, Лью, ты говоришь, как настоящий параноик. Помни, Боб — твой друг. Он на твоей стороне. Мы все тебя поддерживаем. Он предлагал тебе поехать в какой-то охотничий домик, но ты не захотел. Он беспокоился о тебе. А сейчас мы хотим заставить тебя. Мы чувствуем, что тебе нужен отдых, и мы хотим, чтобы ты взял отпуск. Сити Холл не развалится, если ты будешь отсутствовать несколько недель.
— О'кей. Я поеду в отпуск. Уверяю тебя, я смогу. Но, пожалуйста, одно одолжение.
— Продолжай.
— Эти дела по поводу Тибодо и Риккарди. Я хочу, чтобы ты настоял на том, чтобы Куинн сделал их.
— Если ты дашь мне прямое обоснование.
— Я не могу, Хейг. — Неожиданно я покрылся потом. — Ничего, что звучало бы убедительно. Но очень важно, чтобы мэр последовал рекомендациям.
— Почему?
— Просто. Очень важно.
— Для тебя или для Куинна?
Это был жестокий удар, и он сильно потряс меня. «Для меня, — думал я про себя, — для меня, для Карваджала, для всей схемы судьбы и веры, которую я конструирую. Неужели, наконец, пришел момент истины? Неужели я вручил Куинну инструкции, которым он откажется следовать? И что тогда? Парадоксы, которые могли произойти из такого отрицательного решения, вызывали у меня головокружение. Я почувствовал, что меня тошнит».
— Важно для всех, — сказал я. — Пожалуйста. Как одолжение. До сих пор я не дал ему ни одного плохого совета, ведь так?
— И он благодарен за это. Но ему нужно знать хоть что-нибудь о том, что скрывается за этими предложениями.
Впадая в панику, я произнес:
— Не дави на меня так сильно, Хейг. Я прямо на краю пропасти. Но я не сумасшедший. Выдохся Может быть, да, по не сошел с ума. И материал, который я передал сегодня утром, имеет смысл, и он сработает. И это будет очевидно через три месяца, через пять, шесть, когда-нибудь. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Я возьму этот отпуск. Я ценю тот факт, что вы все заботитесь обо мне. Но я хочу это одно одолжение от тебя, Хейг. Ты сходишь к Куинну и скажешь ему, чтобы он выполнил мои предложения? Ради меня. Ради всех тех лет, в течение которых мы знаем друг друга. Уверяю тебя, эти заметки котированы. — Я остановился. Я чувствовал, что это просто лепет, И чем больше я говорил, тем меньше было похоже, что Хейг будет воспринимать меня серьезно. Неужели он действительно считал меня опасно неуравновешенным сумасшедшим? Может, в коридоре меня уже ждали люди в белых халатах? Какова была возможность того, что кто-нибудь действительно обратит внимание на мои утренние заметки? Я чувствовал, что, колонны дрожат, небо рушится.
К моему удивлению, Мардикян сказал, тепло улыбаясь:
— Хорошо, Лью, может, я тоже рехнулся, но я сделаю это. Но только это. А ты отправишься на Гавайи или еще куда-нибудь и пару недель будешь сидеть на берегу. А я пойду и поговорю с Куинном об увольнении Риккарди, о посещении Луизианы и обо всем остальном. Я думаю, что это безумное предложение, но я рискну ступить на проложенную тобой тропу. — Он вышел из-за стола, обогнул его, подошел ко мне и, наклонившись, резко, неловко притянул меня к себе и обнял. — Ты очень беспокоишь меня, парень, — пробормотал он.
34
Я взял отпуск. Но я не поехал ни на Гавайский берег — слишком многолюдно, слишком суетливо, слишком далеко — ни в охотничий домик в Канаде, так как снега поздней осени, должно быть, уже нагрянули туда; я отправился в золотую Калифорнию, Калифорнию Карлоса Сокорро, в великолепный Биг Сер, где другому другу Ломброзо случилось владеть изолированным коттеджем красного дерева на акре большого утеса над океаном. Десять дней я безвылазно жил в деревенском уединении с густо покрытыми лесом склонами гор Санта Люсии, темных, таинственных, поросших папоротником сзади от меня и широкой грудью Тихого океана, безбрежно раскинувшейся на пятьсот футов внизу передо мной. Меня уверяли, что это было самое прекрасное время в Биг Сере, идиллический сезон, отделяющий летние туманы от зимних дождей. И действительно, он был таковым: с теплыми солнечными днями, холодными звездными ночами и удивительным пурпуром золотого заката каждый вечер. Я гулял в молчаливых рощах красивых деревьев, я плавал в ледяных бурных горных реках, я сползал по камням, покрытым каскадом сочных глянцево-блестящих растений, к берегу и волнующейся поверхности океана. Я наблюдал за бакланами и чайками, пожирающими свой обед. Однажды утром комичная морская выдра проплыла животом кверху в пятидесяти метрах от берега, чавкая крабом.
Я не читал газет. Я не звонил по телефону. Я не делал записей.
Но спокойствие не приходило ко мне. Я слишком много думал о Сундаре, недоумевая, как я мог потерять ее. Я мучился, раздумывая над кошмарными политическими проблемами, которые любой здравомыслящий человек выбросил бы из головы в таком сногсшибательном окружении. Я изобретал сложные энтропические катастрофы, которые могут произойти, если Куинн не поедет в Луизиану. Живя в раю, я ухитрялся быть судорожно и напряженно не в себе.
И все же, медленно я позволил себе почувствовать себя освеженным. Медленно магия пышной береговой линии, волшебно сохранявшаяся в веках, когда почти все остальное было безвозвратно испорчено, подействовала на мою смятенную и истерзанную душу.
Похоже, что я впервые УВИДЕЛ именно тогда, когда был на Биг Сере.
Я не уверен. Месяца, проведенные рядом с Карваджалом, не привели ни к какому видимому результату. Будущее не передавало мне никаких посланий, которые я мог бы прочесть. Я теперь знал те трюки, которыми пользовался Карваджал, чтобы вызвать в себе нужное состояние. Я знал симптомы приближающегося видения, я был уверен, что совсем скоро буду ВИДЕТЬ, но у меня не было никакого определенного опыта видения. И чем сильнее я пытался его приобрести, тем дальше становилась моя цель. Но к концу моего прибывания на Биг Сер был один странный момент. Я был на берегу и теперь, в конце дня, я быстро взбирался по крутой тропе к коттеджу, все сильнее уставая, тяжело дыша, испытывая радость от головокружения, вызванного моим стремлением заставить сердце и легкие работать на пределе. Добравшись до острой вершины горы, я помедлил мгновение, отвернувшись, чтобы посмотреть вниз, и вид погружающегося в морскую пучину солнца потряс меня, вызвав головокружение. Я покачнулся и, задрожав, вынужден был ухватиться за ближайший куст, чтобы не упасть. И в этот момент мне показалось — показалось, это было только иллюзорное состояние, краткий запредельный проблеск — что я смотрю сквозь золотой огонь солнечного света во время, которое еще не пришло. Я видел широкое прямоугольное зеленое знамя, развевающееся над огромной совершенно определенной площадью, и лицо Куинна смотрело на меня из центра этого знамени, властное лицо, командное лицо, и площадь была полна людей, тысячи стояли, тесно прижавшись друг к другу, сотни тысяч, размахивая руками, дико крича, салютуя знамени, огромный реально существующий коллектив, захлестнутый истерией, Куиннизмом. Точно так же должно было быть в тысяча девятьсот тридцать четвертом году, Нюрнберг, другое лицо на знамени, жесткие выпученные глаза и жесткая щеточка черных усов на знамени. И то, что они кричали, могло бы быть: Зиг! Хайль! Зиг! Хайль! У меня перехватило дыхание, я упал на колени, сбитый страхом, не знаю еще чем. Я застонал и закрыл лицо руками, и видение исчезло, вечерний бриз выдул знамя и толпу из моего пульсирующего мозга. Больше ничего не было перед моими глазами, кроме безбрежного Тихого океана.
Я ВИДЕЛ? Покров времени раздвинулся передо мной? Куинн стал будущим фюрером, завтрашним дуче? Или мой истерзанный мозг вступил в заговор с моим усталым телом, чтобы проявиться в мимолетном параноидальном всплеске безумных представлений, и больше ничего? Я не знал. Я до сих пор не знаю. У меня есть теория, и моя теория — это то, что я ВИДЕЛ. Но больше я никогда не ВИДЕЛ этого знамени, никогда не слышал ужасных, отдающихся эхом криков исступленной толпы, и до того дня, пока знамя действительно не развернется над нами, я не узнаю правды.
В конце концов решив, что я достаточно долго уединялся в лесах и могу теперь восстановить свое пребывание в Сити Холле в качестве постоянного и надежного советника, я поехал в Монтеррей, запрыгнул в аэробус до Сан-Франциско и прилетел домой; в Нью-Йорк, в свою неуютную пыльную квартиру на Шестьдесят пятой улице. Почти ничего не изменилось. Дни стали короче. Пришел ноябрь. Суета осени уступила под натиском первых сильных порывов зимнего ветра, продувающего насквозь улицы и перекрестки от реки до реки. Мэр побывал в Луизиане и к неудовольствию редакционных статей «Нью-Йорк Таймс» поддержал строительство сомнительной Псенемайнской дамбы, в газете была помещена фотография, на которой мэр обнимал губернатора Тибодо, Куинн на ней выглядел полным угрюмой решительности, изображая улыбку, которую можно было бы ожидать от человека, спавшего в объятиях кактуса.
Первым делом я поехал в Бруклин нанести визит Карваджалу.
Прошел месяц с тех пор, как мы с ним виделись, но по его внешности можно было бы сказать, что прошли годы: он пожелтел и сморщился, тусклые глаза слезились, руки дрожали. Он не казался таким истощенным и измученным с нашей первой встречи в кабинете Боба Ломброзо в прошлом марте. Все силы, которые он восстановил весной и летом, теперь покинули его, ушла вся та внезапная жизнеспособность, которую он, возможно, черпал из общения со мной. Нет, не «возможно», а точно. С каждой минутой, когда мы сидели и разговаривали, румянец возвращался к нему, проблески энергии появлялись в его чертах.
Я рассказал ему, что случилось на склоне горы в Биг Сер. Он позволил себе улыбнуться.
— Возможно, это начало, — сказал он мягко. — Это должно было начаться в конечном итоге. Почему бы и не там?
— А если я ВИДЕЛ, что значит мое видение? Куинн со знаменами? Куинн, зажигающий толпу?
— Откуда мне знать? — спросил Карваджал.
— А вы никогда не ВИДЕЛИ чего-нибудь подобного?
— Время деятельности Куинна придет после моего, — напомнил он мне. Его глаза мягко упрекали меня. Да, этому человеку осталось жить меньше шести месяцев, и он знал это, с точностью до часа, до минуты. Он произнес:
— Может быть, вы помните, в каком возрасте казался Куинн в вашем видении? Цвет его волос, морщины на лице…
Я старался вспомнить. Сейчас Куинну было только тридцать девять. Сколько лет было человеку, лицо которого было изображено на том огромном знамени? Я в нем сразу узнал Куинна. Так что возрастные изменения были не так уж велики. Мордастее, чем теперешний Куинн? Светлые волосы серебрились на висках? Резче очерчены линии этой железной усмешки? Я не знал. Я не заметил. Может, это только моя фантазия, галлюцинация, порожденная усталостью. Я извинился перед Карваджалом. Я обещал постараться в следующий раз, если я могу рассчитывать на следующий раз. Он уверил меня, что могу. Я буду ВИДЕТЬ, он сказал это твердо, тем более воодушевляясь, чем дольше мы были вместе. Я буду ВИДЕТЬ, в этом нет сомнения. Он сказал:
— Пора заняться делом. Новые инструкции для Куинна.
Сейчас нужно было передать только одну вещь: мэру полагалось начать присматривать нового полицейского комиссара, потому что комиссар Судакис вскоре собирается уйти в отставку. Это поразило меня. Судакис был одним из наиболее удачных назначений Куинна — удачливый и популярный, почти герой нью-йоркского отделения полиции, впервые за два поколения твердый, надежный, некоррумпированный, мужественный человек, за первые полтора года в качестве главы департамента, казалось, что он прочно обосновался в должности, что он всегда здесь был и всегда будет. Он проделал прекрасную работу по трансформации Гестапо, в которое превратилась полиция при мэре Готфриде, в обычные сила правопорядка. Работа еще не была закончена: только пару месяцев тому назад я слышал, как Судакис говорил мэру, что ему понадобится еще полтора года, чтобы закончить чистку. Выход Судакиса в отставку? Это не могло быть правдой.
— Куинн не поверит этому, — сказал я, — он рассмеется мне в лицо.
Карваджал пожал плечами.
— После первого года Судакис больше не будет комиссаром полиции. У мэра должна быть готова достаточно способная замена.
— Может быть, и так. Но все это чертовски неправдоподобно. Судакис сидит крепко, как скала. Я не могу пойти и сказать мэру о том, что Судакис будет отставлен, даже если так и будет. Было столько шума по поводу Тибодо и Риккарди, что Мардикян настоял, чтобы я отдохнул и подлечился. Если я приду с таким сумасшедшим предложением, они меня самого отставят.
Карваджал смотрел на меня равнодушно, без тени возмущения. Я сказал:
— Дайте мне по-крайней мере хоть какие-то объясняющие данные. Почему Судакис планирует уйти в отставку?
— Не знаю.
— Я смогу нащупать какие-нибудь нити, если сам переговорю с Судакисом?
— Я не знаю.
— Вы не знаете. Вы не знаете. И вас вообще ничего не волнует, не так ли? Все, что вы знаете, это что он собирается в отставку. Все остальное для вас тривиально.
— Я даже этого не знаю, Лью. Только то, что он не будет работать. Сам Судакис может пока ничего не знать.
— О, прекрасно! Прекрасно. Я говорю мэру, мэр посылает за Судакисом, Судакис все отрицает, потому что сейчас этого еще нет.
— Реальность всегда предопределена, — сказал Карваджал. — Судакис уйдет в отставку. Это случится очень скоро.
— А я должен быть тем, кто скажет об этом Куинну. А что, если я ничего не скажу? Если реальность на самом деле предопределена, Судакис уйдет независимо от того, что я сделаю. Разве это не так? Не так?
— Вы хотите, чтобы мэр был захвачен врасплох, когда это случится?
— Лучше так, чем мэр будет думать, что я сумасшедший.
— Вы боитесь предупредить Куинна об отставке?
— Да.
— А что, вы думаете, тогда случится с вами?
— Я буду поставлен в неловкое положение, — ответил я, — меня попробуют оправдать, объяснить то, что не имеет для меня никакого смысла. Я вынужден буду сказать, что это предсказание, просто предсказание. Судакис опровергнет мое заявление о том, что он собирается в отставку, я потеряю влияние на Куинна. Я даже могу потерять работу. Вы этого хотите?
— У меня вообще нет желаний, — отчужденно сказал Карваджал.
— Между прочим, Куинн не позволит Судакису уйти в отставку.
— Вы уверены?
— Да. Он слишком нуждается в нем. Он не примет его отставку. Независимо от того, что говорит Судакис, он останется на работе. И как это будет соотносится с реальностью?
— Судакис не останется, — безразлично ответствовал Карваджал.
Я ушел и долго раздумывал над этим.
Мои возражения насчет того, чтобы рекомендовать Куинну начать поиски замены Судакису казались мне логичными, резонными, правдоподобными и неоспоримыми. Я не хотел впутываться в такую опасную позицию сразу после возвращения, когда я еще был уязвлен скептицизмом Мардикяна по поводу моего здравомыслия. С другой стороны, если какой-то непредвиденный поворот событий ВСЕ ЖЕ заставит Судакиса уйти, то я не исполню своих прямых обязанностей, если не передам мэру предупреждения. В городе, постоянно находящемся на грани хаоса, недопонимание полицейскими властями политики правительства хотя бы в течение нескольких дней приведет к анархии на улицах, и единственное, чего Куинну как потенциальному кандидату в президенты было совершенно не нужно, так это воцарения, даже на короткое время, беззакония, которое так часто заполняло город до репрессивного режима администрации Готфрида и во времена слабовольного мэра Ди Лоренцо. И, в-третьих, раньше я никогда не отказывался служить проводником ни одного из указаний Карваджала, поэтому мне бы не хотелось бросать ему вызов сейчас. Незаметно идеи Карваджала о сохранении окружающей действительности в неизменности стали частью меня. Незаметно я воспринял его философию до такой степени, что стал бояться попыток изменить неизменное в неизменном. Испытывая чувства человека, взбирающегося на высокую льдину, плывущую по реке к Ниагарскому водопаду, я пришел к решению, предупредить Куинна о Судакисе, как бы это на меня не повлияло.
Я подождал неделю в надежде, что ситуация каким-либо образом разрешится сама собой без моего вмешательства, потом я подождал еще почти неделю. Таким образом я мог бы прождать целый год, но знал, что только обманывал себя. Поэтому я написал записку и послал ее Мардикяну.
— Я не собираюсь показывать ее Куинну, — сказал он мне два часа спустя.
— Зато я собираюсь, — сказал я без особой убежденности.
— Ты знаешь, что может произойти, если я сделаю это? Он вздрючит тебя, Лью. Мне понадобилось полдня, чтобы убедить его по поводу Риккарди и поездки в Луизиану, и то, что говорил о тебе Куинн, было весьма нелестно. Он боится, что у тебя поехала крыша.
— Все вы так думаете. Нет, я в порядке, я прекрасно отдохнул в Калифорнии и я еще никогда в жизни не чувствовал себя так хорошо. С наступлением января будущего года этот город будет нуждаться в новом полицейском комиссаре.
— Нет, Лью.
— Нет?
Мардикян тяжело вздохнул. Он терпел, высмеивал меня. Но его уже тошнило от меня и моих предсказаний. Я знал это. Он сказал:
— После того, как я получил твою записку, я позвал Судакиса и сказал ему, что ходят слухи об его отставке. Я никак не прокомментировал это. Я дал ему понять, что я узнал об этом от одного из парней из журналистского корпуса. Тебе стоило бы увидеть его лицо, Лью, как будто я сказал, что его мать — турчанка. Он поклялся семидесятью святыми и пятьюдесятью ангелами, что оставил бы свой пост только в том случае, если бы шеф сам уволил его. Я всегда легко распознаю, если кто-нибудь пытается провести меня, но Судакис был искренен со мной, как никто другой.
— Все равно, Хейг, он прекратит работу через месяц или два.
— Как такое может случиться?
— Возникнут неожиданные обстоятельства.
— Например?
— Всякое может случиться. Например, по здоровью. Неожиданный скандал в департаменте. Предложение работать в Сан-Франциско с зарплатой в миллион долларов. Я не знаю, какой может быть конкретная причина. Я просто говорю тебе…
— Лью, как ты можешь знать, чем будет заниматься Судакис в январе, когда даже он сам этого не знает?
— Я знаю, — настаивал я.
— Как ты это можешь знать?
— Это предвидение.
— Предвидение. Предвидение. Ты постоянно твердишь об этом. Слишком много голых предсказаний, Лью. Ты должен использовать свои способности, чтобы интерпретировать тенденции, а не предсказывать нам конкретные факты, правильно? Но больше и больше ты приходишь к нам с этими частностями, чистейшей воды трюками, этими…
— Хейг, разве хоть один из них оказался неверным?
— Я не уверен.
— Никогда, ни один. Многие из них еще пока так или иначе не подтверждены, но нет ни одного, который бы противоречил дальнейшему развитию событий, ни один из рекомендованных способов действия не оказался неразумным, ни один…
— Все равно, Лью. В последний раз говорю тебе, Лью, мы здесь не верим в предсказателей. Придерживайся, пожалуйста, предсказания видимых тенденций, ладно?
— Я пекусь только о благополучии Куинна.
— Безусловно. Но я думаю, что тебе следовало бы начать печься и о своем собственном.
— Что это значит, — спросил я.
— А это значит то, что если твоя работа здесь, как бы это сказан, станет еще более «оригинальной», то мэр примет меры, чтобы отказаться от твоих услуг.
— Ерунда. Я ему нужен, Хейг.
— Он начинает думать по-другому. Он начинает думать, что ты даже становишься помехой.
— Тогда он не осознает, как много я для него сделал, он на тысячу километров ближе к Белому Дому, чем мог бы быть без меня. Послушай, Хейг, пусть ты и Куинн думаете, что я сошел с ума, но однажды в январе этот город проснется без комиссара полиции. И с сегодняшнего дня мэр должен начать подыскивать кандидата на замену. И я хочу, чтобы ты дал ему знать об этом.
— Я не сделаю этого. Ради твоей собственной безопасности, — сказал Мардикян.
— Не упрямься.
— Я упрямлюсь? Упрямлюсь? Я пытаюсь спасти твою шею.
— Кому будет хуже, если Куинн начнет потихоньку присматривать нового комиссара? Если Судакис не уйдет, Куинн прекратит поиски, и никто об этом не узнает. Неужели я все время должен быть прав? Я прав в отношении Судакиса, но даже если это и не так, что тогда? Это потенциально полезная информация и важно если она подтвердится, и…
Мардикян сказал:
— Никто и не говорил, что ты должен быть прав на сто процентов. И конечно, беды не будет, если мы начнем тайный поиск кандидатов на должность комиссара полиции. Я пытаюсь избежать только неприятностей для тебя. Куинн не раз говорил мне, что если ты еще хоть раз явишься к нему с результатами своей черной магии, он переведет тебя в департамент оздоровления, а то и дальше. И он сделает это, Лью, сделает. Может быть, тебе потрясающе везло, когда ты высасывал из пальца подобную информацию, но…
— Это не везение, Хейг, — тихо проговорил я.
— А что?
— Я вообще не использую стохастических процессов, я не действую методом догадки. То, что я говорю, я ВИЖУ. Я способен заглядывать в будущее, слышать разговоры, читать заголовки, обозревать события, я могу вылавливать всяческие данные из грядущих времен, — это была маленькая ложь, я просто приписал возможности Карваджала себе. Практически результат был тем же самым, независимо от того, кто из нас осуществлял «видение». — Вот почему я не всегда могу дать подтверждающие данные, чтобы объяснить свои записки. Я заглядываю в январь. Я вижу, что Судакис в отставке. Вот и все. Я не знаю, почему. Я пока еще не воспринимаю окружающие структуру причины и следствия, только само событие. Это отличается от проектирования тенденций, это совсем другое, шире, меньше внушает доверие, но более надежно, стопроцентная надежность, стопроцентная Потому что я могу ВИДЕТЬ, что произойдет.
Мардикян долго молчал. Наконец, он сказал внезапно охрипшим голосом:
— Лью, ты это серьезно?
— Абсолютно.
— Если я пойду и договорюсь с Куинном, ты скажешь ему точно то, что сказал мне? Точно?
— Да.
— Подожди здесь, — сказал он.
Я подождал. Я старался ни о чем не думать, освободив ум, запустив стохастический поток: может, я ошибся, перехитрил сам себя? Я старался не верить в это. Я убеждал себя, что пришло мое время раскрыть то, на что я действительно способен. Достоверности ради я не стал упоминать о роли Карваджала в этом процессе, а с другой стороны, мне ничего не оставалось делать, и я почувствовал огромное облегчение, я чувствовал теплый легкий поток внутренней свободы теперь, когда выбрался из своего укрытия.
Минут через пятнадцать Мардикян вернулся. С ним был мэр. Они сделали несколько шагов и остановились бок о бок у двери, странно несочетающаяся пара. Темный и удивительно высокий Мардикян и светловолосый, низенький, крепкий Куинн. Они выглядели ужасно торжественно. Мардикян сказал:
— Расскажи мэру то, что рассказал мне, Лью.
Радостно я повторил свою исповедь о втором видении, используя, насколько возможно, те же самые фразы. Куинн бесстрастно слушал. Когда я закончил, он спросил:
— Сколько вы у меня работаете, Лью?
— С начала девяносто шестого.
— Почти четыре года. А сколько прошло с тех пор, как вы открыли в себе прямой канал в будущее?
— Недавно, только с последней весны. Помните, когда я предложил вам провести через городской совет билль о замораживании нефти, как раз перед тем, как танкеры потерпели крушение недалеко от Техаса и Калифорнии. Это было тогда. Я не просто гадал. А потом и другие дела, которые иногда казались такими непонятными…
— Как будто у вас сеть волшебных глаз? — поинтересовался Куинн.
— Да, да. Помните, Пол, тот день, когда вы сказали мне, что решили начать борьбу за Белый дом в две тысячи четвертом году, что вы мне тогда сказали? Вы сказали мне, что я буду вашими глазами в будущее. Вы даже представить не можете, как вы были правы.
Куинн рассмеялся. Это был не радостный смех. Он сказал:
— Я думал, что вам нужна только пара недель отдыха, чтобы прийти в себя. Лью. Но сейчас я вижу, что проблема гораздо серьезнее.
— Что?
— Вы были хорошим другом и ценным советником для меня в течение четырех лет. Я не стану принижать ценность оказанной вашим помощи. Может быть, вы получили свои идеи из глубокого интуитивного анализа тенденций, может, из компьютера, может, какой-то гений нашептывал вам их на ухо, но независимо от того откуда вы их получали, вы давали мне полезные советы. Но после того, что я услышал, я не могу продолжать рисковать держать вас в штате. Если начнут говорить, что ключевые решения Пола Куинна предсказаны ему каким-то гуру, провидцем, чем-то вроде ясновидящего Распутина, что я сам — ничто, просто кукла, танцующая на веревочках, я кончен, я мертв. Мы отправим вас с бессрочный отпуск, который был бы эффективен сейчас, с сохранением содержания до конца финансового года, согласны? Это даст вам более чем семимесячный срок для восстановления старого частного консультативного бизнеса, прежде чем вас снимут с муниципального довольствия. С этим вашим разводом и всем остальным вы, вероятно, находитесь в стесненном финансовом положении и я не хотел бы его усугублять. И давайте договоримся: я не делаю никаких публичных заявлений о причине вашей отставки, а вы не будете открыто объявлять о предполагаемом происхождении советов, которые вы мне давали. Достаточно справедливо, по-моему.
— Вы увольняете меня, — пробормотал я.
— Мне жаль, Лью.
— Я могу сделать вас президентом, Пол.
— Предполагаю, что я должен добиться этого сам.
— Вы думаете, что я сумасшедший, не так ли? — спросил я.
— Это слишком резкое слово.
— Но ведь вы так думаете? Вы думаете, что получаете советы от опасного помешанного, и не имеет значения, что советы этого помешанного всегда верны. И теперь вам надо от него избавиться, потому что люди начнут думать, что у вас в администрации работает колдун, и поэтому…
— Пожалуйста, Лью, — сказал Куинн. — Мне и так тяжело.
Он пересек комнату, сжал своей сильной рукой мою влажную и холодную. Он приблизил свое лицо к моему. Вот оно, знаменитое обхождение Куинна — еще раз, на прощание. Он сказал настойчиво:
— Верьте мне. Мне будет очень вас не хватать. Как друга, как советника.
— Может быть, я совершил большую ошибку. Мне очень больно это делать. Но вы правы, я не могу рисковать, Лью. Я не могу рисковать.
35
После обеда я вычистил свой стол и пошел домой, пошел туда, где теперь был мой дом, бродил по убогим полупустым комнатам весь остаток дня, стараясь оценить, что же произошло со мной. Уволен? Да, уволен. Я снял маску, и им не понравилось то, что было под ней. Я перестал притворяться наукообразным и раскрыл колдовство, я сказал Мардикяну истинную правду, и теперь я больше не буду ходить в Сити Холл, сидеть среди сильных мира сего, больше не буду формулировать и направлять судьбу харизматического Пола Куинна. И когда он будет принимать клятву в январе через пять лет в Вашингтоне, я буду наблюдать эту сцену издалека, по телевидению, всеми забытый смиренный изгой от администрации. Я чувствовал себя таким несчастным, что готов был заплакать. Без жены, без работы, без цели, я часами бродил по своей квартире и, устав от этого, бездумно стоял больше часа у окна, наблюдая, как небо становилось свинцовым, как первые в этом сезоне снежинки падали, медленно кружась, наблюдал холодную ночь, распростершуюся над Манхэттеном.
Затем отчаяние сменилось гневом, я позвонил Карваджалу.
— Куинн знает, — сказал я, — об отставке Судакиса. Я дал записку Мардикяну и он связался с мэром.
— Да?
— И они уволили меня. Они думают, что я сошел с ума. Мардикян переговорил с Судакисом, который сказал, что ни в какую отставку не собирается. И Мардикян сказал, что они с мэром обеспокоены моими дикими предсказаниями по магическому глазу. Они сказали, чтобы я вернулся к простой прогностической работе, поэтому я сказал им о ВИДЕНИИ. Я не упоминал вас. Я сказал, что я сам могу делать это, и что оттуда я получил такие данные, как поездка к Тибодо или отставка Судакиса. Мардикян заставил меня повторить все Куинну. И Куинн сказал, что для него слишком опасно держать в штате помешанного вроде меня. Хотя он высказал это более мягко. До тридцатого июня я в отпуске, а затем я буду исключен из платежной ведомости.
— Понятно, — сказал Карваджал, в его голосе не звучало ни сочувствия, ни разочарования.
— Вы знали, что это случится?
— Я?
— Вы должны были. Не играйте со мной в игры, Карваджал. Вы знали, что меня выкинут, если я расскажу мэру, что Судакис собирается в отставку в январе?
Карваджал ничего не ответил.
— Вы знали или нет? — я уже кричал.
— Я знал, — сказал он.
— Вы знали. Конечно, вы знали. Вы знаете все. Но мне вы не сказали.
— А вы не спрашивали, — невинно ответил он.
— Мне и в голову не пришло спрашивать. Бог знает, почему, но не пришло. А вы не могли предупредить меня? Вы не могли сказать «Держи язык за зубами, ты попадешь в еще худшую беду, чем ожидаешь, тебе дадут по заднице, если ты не будешь осторожен»?
— Почему вы так поздно задаете такой вопрос, Лью?
— А вы хотели спокойно сидеть и позволять моей карьере рушиться?
— Подумайте внимательно, — сказал Карваджал, — я знал, что вас уволят, да. Так же, как знаю, что Судакис уйдет в отставку. Но что я мог сделать? Запомните, для меня ваше увольнение уже произошло. Это не предмет для предотвращения.
— О, боже! Опять консервация реальности?
— Конечно. Действительно, Лью, вы думаете, что если бы я вас предупредил, то в вашей власти было бы что-нибудь изменить? Как это было бы бесполезно! Как глупо! Ведь нам не дано менять события, не так ли?
— Не дано, — сказал я горько. — Мы стоит в стороне и вежливо позволяем им происходить. А если необходимо, мы ПОМОГАЕМ им происходить. Даже если это несет разрушение карьеры, даже если это несет крушение попыток стабилизировать политические судьбы этой несчастной, плохо управляемой страны, ведя к президентству человека, который… О, господи, Карваджал, вы привели меня прямо туда, не так ли? Вы втянули меня во все это, а теперь умываете руки. Разве не так? Вы просто умываете руки!
— Есть кое-что похуже потери работы, Лью.
— Но все, что я строил, все, что я пытался сформировать… Как теперь, ради всего святого, я смогу помочь Куинну? Что мне делать? Вы сломали меня!
— Случилось то, что должно было случиться, — сказал он.
— Будьте вы прокляты, вместе с вашим благочестивым принятием!
— Я думал, что вы уже подошли к тому, чтобы разделить со мной это принятие.
— Я ничего не разделяю с вами, — ответил я ему. — Я вне себя, что позволил себе связаться с вами, Карваджал. Потому что я потерял Сундару, место рядом с Куинном, я потерял здоровье и рассудок, я потерял все, что имело значение для меня, и ради чего? РАДИ ЧЕГО? Ради вонючего взгляда в будущее, который, может быть не дает ничего, кроме усталости? Кроме головной боли по поводу фаталистической философии и полусырых историй о течении времени? Боже мой! Я хотел бы никогда не слышать о вас! Вы знаете, кто вы Карваджал? Вы вампир, кровосос, вытягивающий из меня энергию и жизнеспособность, использующий меня для поддержки своих сил во время вашего движения к концу вашей собственной бесполезной, стерильной, лишенной мотивов, бесцельной жизни.
Похоже, Карваджала все это даже не задело.
— Мне жаль слышать, что вы так расстроены, Лью, — сказал он мягко.
— Что еще вы скрываете от меня? Валяйте, выкладывайте мне все плохие новости. Я поскользнусь на льду на Рождество и сломаю себе шею? Я проживу все мои сбережения и меня выкинут из банка? А затем я стану наркоманом? Давайте, рассказывайте, что мне предстоит теперь!
— Пожалуйста, Лью.
— Рассказывайте!
— Вы должны постараться успокоиться.
— Рассказывайте!
— Я ничего не прячу. Зима для вас не будет насыщена событиями. Это для вас будет время перехода, размышлений и внутреннего изменения без каких-либо драматических внешних событий. А затем… Потом… Я не могу вам больше ничего сказать, Лью. Я не могу ВИДЕТЬ дальше наступающей весны.
Эти последние слова ударили меня как колом ниже пояса. Конечно! Конечно! Карваджал собирался умереть. Человек, который ничего не сделал бы для предотвращения собственной смерти, не собирался вмешиваться, когда кто-нибудь другой, даже его единственный друг, безмятежно шел к катастрофе. Он мог бы даже столкнуть этого друга со скользкого склона, если бы чувствовал, что такой толчок необходим. Было наивно с моей стороны думать, что Карваджал сделал бы что-нибудь, чтобы защитить меня от беды, если бы он когда-нибудь УВИДЕЛ эту беду. Это был человек, приносящий плохие новости. И этот человек накликал на меня беду. Я сказал:
— Всякие отношения между нами прекращаются. Я боюсь вас. Я не хочу больше иметь с вами дела, Карваджал. Больше вы обо мне не услышите.
Он молчал. Может, он спокойно смеялся. Да, почти точно, он спокойно смеялся. Его молчание лишило мою, прощальную речь мелодраматической силы.
— До свидания, — сказал я, чувствуя себя глупо, и с треском повесил трубку.
36
Зима подступила к городу. В течение нескольких лет снега не было до января и даже до февраля. А в этом году на День Благодарения все было бело от снега, в первые недели декабря вьюга сменяла вьюгу до тех пор, пока не стало казаться, что вся жизнь в Нью-Йорке замрет в новой хватке ледникового периода. В городе была сложнейшая снегоуборочная техника: под дорожным покрытием везде были проложены кабели обогрева, уборочные грузовики с платформами, снабженными огромными емкостями для растапливания снега, армада снегоуборочных машин и снегоприемников, волокуш-скребков и снегосепараторов, но никакие уборщики не могли справиться с проделками погоды, которая покрыла все десятисантиметровым слоем снега в среду, дюжиной сантиметров в пятницу, пятнадцатью в понедельник и полуметром в субботу. Неожиданно между штормами наступила оттепель, и верхний слой снежной массы размяк и начал таять, переполняя водосточные канавы. Но затем опять наступил холод, убийственный холод, и то, что растаяло, быстро превратилось в острые, как нож, льдинки. Вся деятельность остановилась в замерзшем городе. Везде царило таинственное молчание. Я не выходил из дома; так же поступали все, у кого не было очень мощных стимулов для того, чтобы выходить. Тысяча девятьсот девяносто девятый год, весь двадцатый век, казалось, отбывал в тишину вечной мерзлоты.
В это суровое время я фактически ни с кем не контактировал, кроме Боба Ломброзо. Финансист позвонил через пять или шесть дней после моего увольнения, чтобы выразить сожаление.
— Но почему? — хотел он знать, — ты вообще решил рассказать Мардикяну об истинной подоплеке всего этого?
— У меня не было выбора. Они с Куинном перестали воспринимать меня серьезно.
— И ты думаешь, что они стали бы относится к тебе серьезнее, если ты заявишь им о том, что ты можешь видеть будущее?
— Я рискнул и проиграл.
— Для человека, у которого всегда было так сильно развито шестое чувство, Лью, ты повел себя в этой ситуации удивительно глупо.
— Я знаю, знаю. Полагаю, я посчитал, что у Мардикяна более гибкое воображение. Куинна я, возможно, тоже переоценил.
— Хейг не добился бы того, чего достиг сегодня, если бы у него было гибкое воображение, — сказал Ломброзо. — Что касается мэра, он делает большие ставки и не хотел бы рисковать без необходимости.
— Но ради меня стоит рисковать, Боб. Я могу помочь ему.
— Если ты намереваешься добиться, чтобы он взял тебя обратно, забудь об этом. Куинн в ужасе от тебя.
— В ужасе?
— Ну, может, это и слишком сильное слово. Но ты доставил ему достаточно неудобств. Он почти уверен, что ты действительно можешь делать то, о чем заявил. Я думаю, это напугало его.
— Так, что он смог уволить подлинного пророка?
— Нет, что подлинные пророки вообще существуют. Он сказал (это абсолютно конфиденциально, Лью, у меня будут большие неприятности, если он узнает, что ты это слышал), он оказал, что сама идея того, что люди на самом деле могут быть способны видеть будущее, сокрушила его, как будто его схватили за горло. Что это заставляет его чувствовать себя параноиком, это ограничивает его право выбора, это заставило его почувствовать, что горизонт вокруг него сужается. Это все его фразы. Ему ненавистна концепция детерминизма как таковая. Он верит, что он человек, который всегда сам формировал свою судьбу. Он чувствует что-то вроде экзистенциального террора, когда контактирует с людьми, интерпретирующими будущее как четкую запись, как книгу, которую можно открыть и прочесть. Потому что это превращает его самого в марионетку, действующую по предопределенной схеме. Этого достаточно, чтобы ввергнуть Пола Куинна в паранойю. А ты оказался именно таким человеком. И что его особенно беспокоит, так это то, что он принял тебя на работу, сделал человеком своей команды, держал тебя рядом с собой четыре года, не сознавая, какую опасность ты представляешь для него.
— Я никогда не представлял для него опасности, Боб.
— Он смотрит на это по-другому.
— Он неправ. Хотя бы в одном: будущее не было для меня открытой книгой все те годы, в которые я был рядом с ним. Я пользовался стохастическими средствами до недавнего времени, пока не попал в ловушку Карваджала. Ты это знаешь.
— Но Куинн этого не знает.
— Что из того? С его стороны абсурдно считать, что я представляю угрозу. Послушай, все мои чувства к Куинну всегда вертелись вокруг благоговения я обожания, уважения и даже любви. Я люблю его. Даже сейчас. Я все еще считаю его великим человеком, великим политическим лидером. И я хочу, чтобы он был президентом. И хотя мне бы хотелось, чтобы он не паниковал по моему поводу, я вообще на него не обижен. Я осознаю, что с его точки зрения, должно быть, кажется необходимым избавиться от меня. Но я ВСЕ ЕЩЕ хочу делать для него все, что могу.
— Он не возьмет тебя обратно, Лью.
— О'кей, я принимаю это. Но я могу продолжать работать на него так, чтобы он не знал об этом.
— Как?
— Через тебя, — сказал я. — Я могу передавать тебе предложения, а ты можешь переправлять их Куинну, как будто это результат твоих собственных размышлений.
— Если я приду к нему с чем-нибудь вроде того, что ты ему принес, — сказал Ломброзо, — он избавится от меня так же быстро, как избавился от тебя. А может быть, еще быстрее.
— Они будут иного сорта, Боб. Во-первых, я теперь знаю, о чем слишком рискованно говорить ему. Во-вторых, у меня нет больше моего источника. Я порвал с Карваджалом. Ты знаешь, что он вообще не предупредил меня о том, что меня уволят? Будущее Судакиса он мне предсказывает, а мое — нет. Я думаю, он ХОТЕЛ, чтобы меня уволили. От Карваджала у меня одни только огорчения, больше я не хочу. Но я по-прежнему могу переложить свои собственные интуитивные способности, мои стохастические умения. Я могу анализировать тенденции и вырабатывать стратегии, а затем я могу передавать тебе свои предвидения, ведь так? Можно? Мы будет отправлять это Куинну, и Мардикян никогда не догадается, что мы с тобой в контакте. Ты не можешь взять и бросить меня в пустоте. Боб. Пока есть работа, которую нужно делать для Куинна. Ладно?
— Мы можем попытаться, — осторожно ответил Ломброзо. — Полагаю, мы можем сделать такую попытку, да. Хорошо. Я буду твоим рупором, Лью. Но ты должен позволить мне выбирать, что я буду передавать Куинну, а что нет. Запомни, теперь моя шея на плахе, а не твоя.
— Конечно, — сказал я.
Если я сам не могу служить Куинну, я буду делать это через доверенных лиц. Впервые со времени своего увольнения я почувствовал надежду и ожил. В эту ночь даже не было снега.
37
Но работа через доверенное лицо не получилась. Мы пытались, но провалились. Я прилежно засел за газеты и стал изучать текущие события — за одну неделю без работы я потерял нити полудюжины возникающих структур. Затем я предпринял рискованное путешествие по морозному городу в контору «Лью Николс ассошиэйтс» (все еще работающую, хотя почти на холостом ходу и совсем вяло) и заложил свои прогнозы в компьютер. Я послал результаты Бобу Ломброзо с курьером, так как не хотел прибегать к помощи телефона. То, что я передал ему, не было чем-то значительным, так, пара пустяковых предложений по поводу политики организации трудовой деятельности и трудоустройства. В течение следующих нескольких дней я выработал еще несколько почти таких же банальных идей. А потом позвонил Ломброзо и сказал:
— Нам придется остановится. Мардикян нас засек.
— Что случилось?
— Я передавал твою информацию небольшими порциями, время от времени. А прошлым вечером мы обедали с Хейгом, и когда дошли до десерта, он вдруг спросил меня, поддерживаю ли я тобой связь.
— И ты сказал ему правду?
— Я старался не сказать ему ничего. Я пытался увильнуть, но у меня не получилось. Ты знаешь, что Хейг очень проницателен. Он видел меня насквозь. Он прямо спросил, получаю ли я от тебя материал. Я пожал плечами, а он засмеялся и сказал, что уверен в этом, потому что чувствует твое прикосновение к информации. Я не признался ни в чем. Хейг только предположил. И его предположения были верны. Очень благожелательно он приказал мне перестать, так как я подвергаю опасности свое собственное положение рядом с Куинном, если мэр начнет подозревать, что происходит.
— Значит, Куинн еще не знает?
— Скорей всего нет. И Мардикян, похоже, не планирует настучать ему. Но у меня нет выбора. Если Куинн узнает обо мне, меня выкинут. Он впадает в абсолютную паранойю, когда кто-нибудь в его присутствии упоминает имя Лью Николса.
— Так плохо, да?
— Так плохо.
— Так что теперь я стал врагом, — сказал я.
— Боюсь, что да. Мне очень жаль, Лью.
— Мне тоже, — вздохнул я.
— Я не будут звонить тебе. Если я тебе понадоблюсь, связывайся со мной через мою контору на Уолл-стрит.
— О'кей. Я не хочу завести тебя в беду, Боб.
— Мне очень жаль, — повторил он.
— О'кей.
— Если я могу что-нибудь для тебя сделать…
— О'кей. О'кей. О'кей.
38
За два дня до Рождества был отвратительный шторм, просто ужасный шторм, суровые жестокие ветра и субарктическая температура, сильный, сухой, тяжелый, бесчеловечный снегопад. Такой шторм, чтобы ввергнуть в депрессию жителя Миннесоты и заставить плакать эскимоса. Весь день дрожали стекла в верхних рамах моего дома, а каскады снега обрушивались на них, как полные горсти гальки. Я дрожал вместе с. ними, думая о том, что еще грядут невзгоды января и февраля, да и в марте снег вполне возможен. Я рано лег в постель и рано проснулся ослепительным солнечным утром. Холодные солнечные лучи часто бывают после вьюги, так как ветер приносит сухой воздух и безоблачное небо. Но было что-то необычное в наполняющем комнату свете. Он был неприятного оттенка замерзшего лимона, обычного для зимнего дня. И, включив радио, я услышал, как диктор говорит о коренном изменении погоды. Неожиданно ночью огромные массы воздуха из Калифорнии переместились на север, и за ночь температура поднялась до неправдоподобной теплоты позднего апреля.
И апрель остался с нами. День за днем необычная жара холила и нежила измученный зимой город. Конечно, сперва все было в кутерьме, пока огромные торосы совсем недавнего снега размягчались и таяли, бежали бурными реками по водостокам.
Но к середине праздничной недели самая большая слякоть исчезла. И Манхэттен, сухой и приведенный в порядок, принял непривычно хороший вычищенный вид. Мимоза и сирень поспешно начали пускать почки за два месяца до срока. Волна легкомыслия прокатилась над Нью-Йорком: теплые пальто и куртки исчезли, по улицам ходили толпы улыбающихся, жизнерадостных людей в легких туниках и куртках, множество обнаженных и полуобнаженных любителей загара возлежало на солнечных набережных в Центральном парке, возле каждого фонтана в центре города был полный комплект музыкантов, фокусников и танцоров. Карнавальная атмосфера усиливалась по мере того, как отступал старый год и держалась поразительная погода. Ведь это был тысяча девятьсот девяносто девятый год, и это было не только убытие года, но и целого тысячелетия. (Те, кто настаивал, что двадцать первый век и третье тысячелетие не начнутся до первого января две тысячи первого года, считались педантами и. просто людьми, желающими испортить настроение.) Пришедший в декабре апрель выбил всех из колеи. Неестественная мягкость погоды, последовавшая так скоро за неестественным холодом, непостижимая яркость солнца, висящего низко над южным горизонтом, волшебная мягкость весеннего воздуха придавали эксцентричный апокалиптический аромат этим дням. Все казалось возможным, не вызывало бы удивления появление странных комет в ночном небе или интенсивное перемещение созвездий.
Я представлял, что что-то подобное было в Риме накануне прибытия готтов или в Париже на рубеже террора. Это была веселая, но непонятно тревожная и пугающая неделя. Мы наслаждались чудесным теплом, но в то же время воспринимали это как примету, знамение наступающего мрачного противостояния. По мере того, как приближался финальный день декабря, чувствовалось странное сильное напряжение. Ветреное настроение все еще не оставляло нас, но ему должен был наступить резкий конец. Наше чувство можно было сравнить с отчаянной веселостью канатоходцев, танцующих над бездонной пропастью. Были такие, кто говорил, что канун нового года будет отравлен неожиданным снегопадом и ураганом, несмотря на предсказания бюро погоды о продолжении потепления. Но день оказался солнечным и приятным, как и все семь предшествующих. К полудню мы узнали, что это самое теплое тридцать первое декабря в Нью-Йорке с тех пор, как такие данные стали отмечать, и что ртутный столбик продолжает подниматься, так что мы перешли из псевдо-апреля, в приводящий в смущение воображение июнь.
Все это время я сосредотачивался на себе, завернувшись в саван мрачного смятения и, похоже, жалости к себе. Я не звонил никому: ни Ломброзо, ни Сундаре, ни Мардикяну, ни одному из клочков и фрагментов своего прошлого существования. Я выходил на несколько часов каждый день побродить по улицам (кто мог устоять перед этим солнцем?), но я ни с кем не разговаривал, и сам отбивал охоту у людей разговаривать со мной. К вечеру я бывал дома, один, немного читал, выпивал немного бренди, слушал музыку, не очень-то вслушиваясь, и рано ложился спать. Моя изоляция лишила меня всей стохастической грации: я жил целиком в прошлом, как животное, без малейшего представления о том, что может быть дальше, без предсказаний, не собирая и не распутывая схемы сознания.
В канун нового года я почувствовал, что мне нужно выйти на улицу. Невыносимо было баррикадироваться в одиночестве в такую ночь, накануне, кроме всего прочего, моего тридцать четвертого дня рождения. Я подумал позвонить кому-нибудь из друзей, но нет, социальная деятельность опустошила меня. Я должен красться одинокий и неузнанный по улочкам Манхэттена, как Гарун-аль-Рашид по Багдаду. Но я надел свой самый модный и лучший летний костюм фазаньей расцветки, переливающийся и искрящийся алыми и золотыми нитями, расчесал бороду, побрил череп и беспечно вышел провожать век в последний путь.
Стемнело рано — все-таки это была глубокая зима, независимо от того, что показывал термометр — и город сиял огнями. Хотя было только семь часов, чувствовалось, что празднование уже началось. Я слышал пение, отдаленный смех, звуки музыки и вдалеке звон бьющегося стекла. Я съел постный обед в крохотном ресторане самообслуживания на Третьей Авеню и бесцельно пошел на юго-запад.
Обычно никто не бродил по Манхэттену после наступления темноты. Но в этот вечер улицы были заполнены народом, как днем: везде пешеходы, смеющиеся, глазеющие на витрины, приветствующие незнакомцев, весело толкающиеся — и я чувствовал себя в безопасности. Неужели это был Нью-Йорк? Город закрытых лиц и настороженных глаз, город ножей, поблескивающих на темных мрачных улицах? Да, да, да, Нью-Йорк, но преображенный Нью-Йорк, Нью-Йорк тысячелетия, Нью-Йорк в ночь критической Сатурналии.
Сатурналия, да, вот что это было, безумное празднество, неистовство исступленного духа. Каждая таблетка психиатрической фармакопеи продавалась вразнос на каждом углу, и торговля шла оживленно. Ни один человек не шел прямо. Везде выли сирены, как бы знаменуя веселье. Сам я не принимал наркотиков, кроме древнейшего — алкоголя, который обильно вливал в себя, переходя из таверны в таверну. Здесь пиво, там глоток ужасного бренди, немного текилы, немного рома, мартини и даже старого темного шерри. Голова у меня кружилась, но я не падал. Каким-то образом я умудрялся держаться прямо и более-менее координировал свои движения. Мой мозг работал с привычной ясностью, наблюдая, запоминая.
Час от часу безумие определенно нарастало. До девяти в барах почти не видно было обнаженных тел, а в половине десятого голая потная плоть была повсюду, подскакивающие груди, трясущиеся ягодицы, все кружилось, прихлопывая и притопывая. До половины десятого я почти не видел парочек, прижавшихся друг к другу, а в десять на улицах совокуплялись вовсю. Подспудное насилие ощущалось весь вечер — выбивали окна, били уличные фонари — а после десяти оно быстро стало набирать силу: кулачные бои, иногда веселые, иногда убийственные, а на углу Пятьдесят Седьмой и Пятой шло сражение толпы, сотня мужчин и женщин били друг друга кулаками куда попало. Везде шли шумные разборки автомобилистов. Казалось, что некоторые водители намеренно врезались в автомобили, явно чтобы получить удовольствие от разрушения. Были ли убийства? Очень вероятно. Изнасилования? Тысячи. Увечья и другие безобразия? Без сомнения.
А где была полиция? Я видел их здесь и там, некоторые безуспешно пытались предотвратить нарастание беспорядков, другие позволяли их и сами подключались. Полицейские с пылающими лицами и горящими глазами счастливо вступали в бои, превращая их в военные сражения. Полицейские покупали наркотики у уличных торговцев, голые до пояса полицейские тискали голых девушек в барах, полицейские с хрипом разбивали ветровые стекла машин своими дубинками. Общее сумасшествие было заразительно. После недели апокалиптических комментариев, недели огромного напряжения никто не мог бы удержаться в рамках здравомыслия.
Полночь застала меня в Таймс сквере. Старая традиция, отринутая городом еще десять лет назад: тысячи, сотни тысяч людей заполонили пространство между Сорок шестой и Сорок седьмой улицами, крича, распевая, целуясь, раскачиваясь. Неожиданно раздался бой часов. Потрясающие лучи пронзили небо. Вершины башен офисов озарились сиянием под лучами прожекторов. Двухтысячный год! И пришел мой день рождения! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!
Я был пьян. Я был вне себя. Общая истерия передалась и мне. Я обнаружил, что мои руки хватают и стискивают чьи-то груди, мои губы впиваются в чьи-то губы, чье-то жаркое влажное тело прижимается к моему. Толпа подалась и разделила нас. Я двигался в тесноте, толкаясь, смеясь, борясь, чтобы схватить воздуху, спотыкаясь, падая, подымаясь, чуть не упав под тысячу пар ног.
— Пожар! — закричал кто-то. И действительно, языки пламени плясали высоко на здании к западу от Сорок четвертой улицы. Какое прекрасное оранжевое освещение — мы стали орать и аплодировать. Мы все Нероны сегодня, думал я, и меня тащило вперед, на юг. Больше я не мог видеть пламени, но запах дыма распространился повсюду. Били колокола. Выли сирены. Хаос.
А затем я почувствовал, как будто меня ударили кулаком в затылок, я упал на колени на открытом пространстве, ошеломленный, закрыл лицо руками, чтобы защититься от следующего удара, но следующего удара не было, только поток видений. Видений. Изменчивый стремительный поток образов бурлил в моем мозгу. Я видел себя старым и изношенным, кашляющим на больничной кровати, окруженным блестящими тонкими трубками медицинской аппаратуры. Я видел себя плавающим в чистом горном озере. Я видел, как бил и трепал меня прибой на каком-то диком тропическом берегу. Я заглянул в таинственную внутренность какого-то огромного непостижимого хрустального механизма. Я стоял у края расплавленной лавы, смотря, как расплавленные массы пузырятся и лопаются на поверхности, как в первое утро Земли. Цвета атаковали меня, голоса нашептывали мне кусками, пульсирующими клочками слов обрывки фраз.
— Это поездка, — говорил я себе, — поездка, путешествие, очень плохое путешествие, но даже самое плохое путешествие в конце концов кончается. — И я припал к земле, дрожа, стараясь сопротивляться, чтобы кошмар прошел сквозь меня и выплеснулся наружу. Возможно, это состояние продолжалось несколько часов, а может, всего одну минуту. В краткий миг прояснения сознания я сказал себе: «Это ВИДЕНИЕ, вот как оно начинается, как лихорадка, как сумасшествие», — я помню, как говорил себе это.
Я помню, как меня рвало, как судорожные толчки желудка выворачивали из меня смесь напитков, и как я лежал возле моей собственной вонючей лужи, ослабленный и дрожащий, и не мог подняться на ноги.
А затем грянул гром, как будто величественный Зевс метнул свою стрелу гнева. Гнетущая тишина последовала за этим ужасающим ударом грома. По всему городу вакханалия остановилась, так как все нью-йоркцы остановились, застыв в удивлении, и с благоговейным страхом подняв глаза к небесам. Что теперь? Гроза в зимнюю ночь? Земля разверзнется и проглотит нас? Море поднимется и превратит в Атлантиду место нашего пребывания?
Через несколько минут раздался второй удар грома, но молнии не было, а затем, после некоторой паузы, третий. А потом начался дождь, вначале мелкий, а через мгновение проливной теплый весенний дождь приветствовал нас на пороге двухтысячного года. Я неуверенно поднялся на ноги. Я был целомудренно одет весь вечер, а теперь без одежды, обнаженный, стоял босыми ногами на тротуаре Бродвея возле Сорок первой улицы, подняв лицо к небу, подставляя себя под струи ливня, смывающего с меня пот, слезы и усталость, открыв рот, чтобы выполоскать мерзкий вкус рвоты.
Это был чудесный момент. Но очень быстро я продрог. Апрель кончился, возвращался декабрь. Мой член съежился, плечи ссутулились. Я нащупал свою мокрую одежду, и рыдая, насквозь промокший, жалкий, несчастный, трясясь от страха и представляя спрятавшихся в каждой аллее разбойников и грабителей, я начал медленное передвижение по городу. Температура, казалось, опускалась на пять градусов с каждым пройденным мной кварталом. К тому времени, как я добрался до Ист-Сайда, я чувствовал, что окоченел. А когда я переходил Пятьдесят седьмую улицу, я заметил, что дождь превратился в снег. И снег был колючий, как мелкая пудра, покрывающий улицы, автомобили, упавшие тела тех, кто был без сознания, и мертвых. К тому времени, как я добрался до дома, снег и ветер секли с полной зимней озлобленностью.
Было пять часов утра первого января двухтысячного года. Я сбросил одежду на пол и бросился в постель. Меня тряс озноб, я чувствовал себя больным. Прижав колени к груди, я съежился под одеялом, будучи наполовину уверенным, что умру еще до восхода. Я проснулся через четырнадцать часов.
39
Что за утро! Для меня, для вас, для всего Нью-Йорка! Еще до того, как ночь этого первого января подошла к концу, стали очевидны все коллизии безумных событий предыдущей ночи. Сколько сотен граждан погибло в жестоких или просто глупых приключениях, или просто от того, что были оставлены на произвол судьбы, сколько магазинов было ограблено, сколько общественных памятников подверглось актам вандализма, сколько кошельков было похищено, сколько тел изнасиловано. Знал ли какой-нибудь город такое со времен разграбления Византии? Массы населения стали неистовыми, и никто не попытался сдержать их ярость, никто, даже полиция. Первые доклады сообщили, что большинство стражей закона присоединились к веселью, и как показали более детальные расследования в течение дня, оказалось, что это фактически было повсеместно: заразившись моментом, люди в голубой форме часто сами становились возбудителями хаоса.
В вечерних новостях впервые было сказано, что, заявив о своей персональной ответственности за разгром, комиссар Судакис подал в отставку. Я смотрел на его лицо на экран, суровое, с покрасневшими глазами, и видел, что он держит под контролем свою ярость. Он отрывочно говорил о чувстве стыда, о позоре, он говорил о падении морали, даже об упадке городской цивилизации. Он выглядел как человек, не спавший неделю. Жалкий, разбитый, смущенный человек, бормочущий и покашливающий. Я молча молил телевизионщиков заканчивать передачу и переходить к другой теме.
Я сам предсказал отставку Судакиса, но не находил удовольствия в том, что мое предсказание сбылось. Наконец, сцена сменилась. Мы увидели руины пяти кварталов в Бруклине, которым рассеянные пожарные позволили сгореть.
Да, да, Судакис подает в отставку. Конечно. Реальность законсервирована. Неизменяемость по Карваджалу еще раз подтверждена. Кто мог предвидеть такой поворот событий? Ни я, ни мэр Куинн, ни даже Судакис, а Карваджал мог.
Я подождал несколько дней, пока город потихоньку не пришел в норму. Затем я позвонил Ломброзо в его контору на Уолл-стрит. Его, конечно, не было, я велел автосекретарю запрограммировать ответный звонок при первой возможности. Все представители высшей власти были на круглосуточном совещании у мэра на Грейс Мансон. Пожары в каждом округе оставили тысячи бездомных, больницы заполнены в три раза большим количеством жертв насилий и несчастных случаев, чем они могли принять. Протесты в адрес городской администрации главным образом за неумение предоставить должную полицейскую защиту достигли уже миллионов и увеличивались с каждым часом. Был нанесен опасный удар по имиджу всего города. С момента прихода к власти Куинн настойчиво пытался восстановить репутацию Нью-Йорка до уровня середины двадцатого века, как самого захватывающего, жизнерадостного, стимулирующего города, истинной столицы планеты, центром всего самого интересного, что привлекало бы и в то же время гарантировало безопасность туристам. Все это было разрушено оргией одной ночи и утвердило нацию в привычном ей мнении, что Нью-Йорк — жестокий, безумный, свирепый, мерзкий зоопарк. Поэтому я не слышал ничего от Ломброзо до середины января, пока все окончательно не успокоилось. К тому времени, как он позвонил, я перестал уже верить, что когда-нибудь услышу его.
Он рассказал мне, что произошло в Сити-Холле. Мэр обеспокоен тем эффектом, которое может оказать имевшее место нарушения общественного порядка на его надежды стать президентом. Он готовит пакет решительных мер, почти в стиле Готфрида, чтобы обеспечить общественный порядок. Перестройка полиции будет ускорена, торговля наркотиками будет ограничена почти так же строго, как перед либерализацией восьмидесятых годов, будет введена система раннего предупреждения нарушений для предотвращения гражданских волнений, в которой будет задействовано более двух дюжин человек, и так далее, и тому подобное. Я видел, что Куинн продолжает упорствовать в своих заблуждениях, принимая по поводу необычных событий поспешные и необдуманные решения. Но в моих советах больше не нуждались, я оставался при своем мнении.
— А как насчет Судакиса? — спросил я.
— Он точно уходит. Куинн отказался подписать его отставку и в течение трех дней пытался убедить его остаться. Но Судакис считает, что он навсегда дискредитирован поведением своих людей той ночью. Он уже подыскал работу в каком-то маленьком городе в Западной Пенсильвании и уже ушел.
— Я не это имею в виду. Я имею в виду, повлияла ли точность моих предсказаний в отношении Судакиса на отношение Куинна ко мне?
— Да, — ответил Ломброзо. — Определенно.
— Он передумывает?
— Он думает, что ты колдун. Он думает, что ты продал душу дьяволу. Буквально. Несмотря на всю свою изощренность он, не забудь, все же ирландский католик. В Сити Холле все считают тебя Антихристом, Лью.
— Неужели он настолько глуп, что не может понять, что вокруг него должны быть люди, способные предсказать ему вовремя такие вещи, как, например, отставка Судакиса?
— Безнадежно, Лью. Забудь о работе с Куинном. Выкинь это из головы насовсем. Не думай о нем, не пиши ему писем, не пытайся звонить ему, не имей с ним никаких дел. Лучше подумай о том, чтобы убраться из города.
— Боже мой! Почему?.
— Для твоего блага.
— Что это должно означать? Не хочешь ли ты сказать. Боб, что мне грозит опасность от Куинна?
— Я не пытаюсь тебе ничего сказать, — занервничал он.
— Что бы ты не говорил, я не поверю. Я не верю, что Куинн боится меня настолько, и наотрез отказываюсь верить, что он сможет предпринять против меня какие-то действия. Это невероятно. Я знаю его. Я был практически его «альтер эго» в течение четырех лет. Я…
— Послушай, Лью, — сказал Ломброзо. — Я должен закончить разговор. Ты не представляешь, как много здесь накопилось работы.
— Хорошо. Благодарю за то, что ты не забыл позвонить мне.
— И… Лью…
— Да?
— С твоей стороны было бы лучше не звонить мне. Даже на Уолл-стрит. За исключением, конечно, случаев крайней необходимости. Мои собственные позиции стали несколько деликатными после того, как мы попытались работать по передаче твоих полномочий мне, а теперь… ты понимаешь?
40
Я понимал. Я освободил Ломброзо от угрозы моих телефонных звонков. Почти одиннадцать месяцев прошло со дня нашей беседы. И за все время я ни разу с ним не разговаривал, ни слова не сказал человеку, который был моим ближайшим другом в течение всех лет моей работы в администрации Куинна. Не было у меня также контактов, ни прямых, ни косвенных, с самим Куинном.
41
С февраля начались видения. Было два предвестника: один на утесе Биг Сур, и другой на Таймс-сквер в канун Нового года. А сейчас они стали моей обычной ежедневной практикой. Поэт сказал: «Никому не ведома пропасть эта, так как туда не доходит луч света». Луч света озарил бы мои зимние дни.
Сначала видения приходили ко мне не чаще раза в сутки. И они приходили непрошенными, как припадки эпилепсии. Обычно поздно вечером или прямо перед полночью, подавая сигналы жаром в затылке, теплом, щекотанием, которое не проходило. Но вскоре я понял технику их пробуждения и мог вызывать их по собственному желанию. Даже тогда мог ВИДЕТЬ не больше раза в день, и мне требовался после этого довольно продолжительный период восстановления. Через несколько недель у меня появилась способность входить в состояние ВИДЕНИЯ чаще, два или даже три раза в день, как будто эта сила была мускулом, развивающимся по мере тренировки. В конце концов время рекуперации стало минимальным. Сейчас я уже могу включать свою способность каждые пятнадцать минут, если в этом есть необходимость. Однажды в начале марта я попробовал поэкспериментировать. Я включал и выключал ее постоянно в течение нескольких часов, изматывая себя, но не уменьшая интенсивности того, что я ВИДЕЛ.
Если я не вызывал видений хотя бы раз в день, они все равно приходили ко мне, прорываясь самотеком, вливаясь непрошенно в мой мозг.
42
Я ВИЖУ маленький, покрытый красной черепицей дом на деревенской улочке. Деревья покрыты темно-зеленой листвой, должно быть, это позднее лето. Я стою у ворот. Волосы у меня еще короткие, ежиком, но отрастают. Должно быть, это сцена из не очень далекого будущего, вероятно, из этого года. Рядом со мной два молодых человека, один темноволосый и хрупкий, другой дородный и рыжий. Я понятия не имею, кто они, но себя я вижу держащимся с ними свободно, как будто они мои близкие друзья, значит, они мои приятели, которых я еще должен встретить. Я ВИЖУ, как я достаю ключ из кармана.
— Давайте я вам покажу дом, — говорю я. — Думаю, это как раз то, что нам нужно под штаб-квартиру для Центра.
Падает снег. Автомобили на улицах имеют форму пули с задранным носом, очень маленькие, кажущиеся мне очень необычными. Над головой парит что-то вроде вертолета. От него спускаются три лопасти, снабженные чем-то вроде громкоговорителей. Из всех трех доносится свистяще-блеющий звук, высокий и нежный, длительностью в две секунды с пятью секундными интервалами. Ритм исключительно постоянен, каждый писк испускается по четкому расписанию, отрезая без усилия плотную стену падающих хлопьев. Вертолет медленно летит вдоль Пятой Авеню на высоте менее пятисот метров, и по мере того, как он движется на север, снег под ним тает, расчищая зону шириной точно по размерам Авеню.
Сундара и я встречаемся за коктейлем в сияющей галерее, висящей как сады Навуходоносора на вершине гигантской башни, возвышающей над Лос-Анджелесом. Я думаю, что Лос-Анджелес, потому что различаю веерообразные очертания пальм, растущих на улице далеко внизу. И архитектура окружающих зданий четко южно-калифорнийская. В сумеречном свете видны берега огромного океана на Западе и гор на Севере. Я не знаю, ни что я делаю в Калифорнии, ни как я оказался там с Сундарой. Возможно, она вернулась жить в свой родной город, а я, находясь там по делам, договорился о встрече. Мы оба изменились. Ее волосы подернула седина, ее лицо, кажется, похудело, стало менее сладострастным, глаза по-прежнему блестят, но этот блеск — свидетельство трудно завоеванного знания, а не просто игривости. У меня длинные седеющие волосы, одет со строгой аскетичностью в черную тунику без украшений. Мне около сорока пяти лет. Я произвожу впечатление жесткого, подтянутого, внушительного, командно-административного типа, такого хладнокровного, что я сам перед собой благоговею. Есть ли в моих глазах слезы трагического истощения, того ожигающего опустошения, которым был отмечен Карваджал после стольких лет ВИДЕНИЯ? Я не думаю. Но может, мой внутренний взгляд еще не так интенсивен, чтобы отличить такие подробности? На Сундаре нет ни обручального кольца, ни какого-нибудь знака Транзита. Я, наблюдающий, хотел бы задать тысячи вопросов. Я хочу знать, было ли между нами примирение, часто ли мы видимся, находимся ли мы в любовной связи или даже снова живем вместе. Но у меня нет голоса, я не способен говорить губами своего будущего я. Я также не могу направить или изменить его действия. Я могу только наблюдать. Сундара и ОН заказывают выпивку, они чокаются, улыбаются, идет тривиальная болтовня о заходе солнца, погоде, оформлении коктейльной галереи. Затем сцена ускользает и я ничего так и не узнал.
Солдаты маршируют по каньонам Нью-Йорка, по пяти в ряд, воинственно озирая все вокруг. Я смотрю на них из окна верхнего этажа. Причудливая униформа, зеленая с красными кантами, яркие желто-красные береты, на плечах винтовки. Оружие не похоже на арбалеты, металлические трубки длиной примерно в метр, с расширением вверху, ощетинившиеся боковыми усами блестящих проволочных пружин, которое они несут наперевес на левой руке. Я, наблюдающий за ними — человек в возрасте около шестидесяти лет, с белыми волосами, изможденный, с глубокими вертикальными морщинами, пробороздившими щеки. Это я, но в то же время почти полностью незнаком мне. На улице какая-то фигура выскакивает из здания и безумно бросается к солдатам, выкрикивая лозунги, размахивая руками. Один очень молодой солдат вскидывает правую руку, и из его оружия вылетает бесшумно зеленый луч света. Фигура падает, сгорая, и исчезает. Исчезает.
Я, которого я вижу, все еще молодой, но старше, чем сейчас. Скажем, сорок. Тогда это где-то две тысячи шестой год. Он лежит на помятой постели рядом с привлекательной молодой женщиной с длинными черными волосами. Они оба обнажены, покрыты потом, растрепаны. Наверняка они занимались любовью. Он спрашивает:
— Ты слышала речь президента вчера вечером?
— Почему я должна терять время, слушая этого фашистского убийцу-ублюдка? — отвечает она.
Идет вечеринка. Звучит незнакомая музыка. Странное золотое вино льется из бутылок с двумя горлышками. Воздух напоен голубыми ароматами. Я веду разговор в углу переполненной комнаты, настойчиво убеждая веснушчатую молодую женщину и одного из молодых людей, который был со мной в том доме, покрытом красной черепицей. Но мой голос перебивается хриплой музыкой, и я воспринимаю только обрывки того, то я говорю. Я выхватываю такие слова, как «неправильная калькуляция», «перегрузка», «демонстрация», «альтернативная дистрибуция», но они тонут в шуме и практически неразбираемы. Стиль одежды странный, свободные нестандартные одеяния, декорированные складками и лентами, несочетаемые ткани. В середине комнаты танцует около двух десятков гостей с безумной страстью, вращаясь замкнутыми кругами, нещадно нахлестывая воздух локтями и коленями. Они наги, их тела целиком покрыты блестящей пурпурной краской, все они, и мужчины, и женщины, с обритыми головами, волосы выщипаны со всего тела с головы до пят. Если бы не болтающиеся гениталии и трясущиеся груди, их легко можно было бы принять за пластиковые манекены, подпрыгивающие в судорогах спазматической подделки под жизнь.
Влажная летняя ночь. Тупой гулкий звук, еще один, еще. Фейерверк разрывает темноту ночного неба над Джерси на Гудзоне. Ракеты расцвечивают небеса китайскими огнями, красным, желтым, зеленым, синим. Ослепительные шары светящихся звезд, круг за кругом пламенеющей красоты сопровождается свистом и хлопками, рычанием и выстрелами, кульминация за кульминацией, и затем, как раз когда кажется, что чудо исчезло в тишине и темноте, наступает финальное пиротехничекое безумство, завершающееся огромным двойным представлением: американский флаг зрелищно развевается над нами с четко различимой каждой звездой на нем, взрываясь в центре поля Старой Славы видением человеческого лица, изображенного в удивительно реалистических живых тонах. Это лицо — лицо Пола Куинна.
Я на борту огромного самолета, его крылья, кажется, распростерты от Китая до Перу. Через иллюминатор возле моего места я вижу огромную серо-голубую гладь моря, отражающую солнечный свет с яростной слепящей яркостью. Я пристегнут, жду приземления, и сейчас я могу различить пункт нашего назначения: огромную шестиугольную платформу, подымающуюся с поверхности моря, искусственный остров, симметричный по углам, как снежинка, конкретный остров, инкрустированный квадратами краснокирпичных зданий и разделенный в середине длинной белой стрелой посадочной полосы. Остров полностью одинок в этом огромном море, окружен тысячами километров пустоты с каждой из своих шести сторон.
Манхэттен. Осень. Холодно. Небо темное. Светятся окна над головой. Передо мной колоссальная башня, подымающаяся к востоку от древней библиотеки на Пятой авеню.
— Самая высокая в мире, — говорит кто-то позади меня, один турист другому, ясно различаемый западный акцент. Правда, должно быть так. Башня заполняет собой небо.
— Это все правительственные здания, — продолжает уроженец Запада. — Ты можешь это осознать? Двести этажей. И все правительственные офисы. Говорят, что на самом верху дворец Куинна. Для тех случаев, когда он приезжает в город. Проклятый дворец, прямо как для короля.
Чего я особенно боялся, когда видения толпой наступали на меня, это своей первой очной ставки со сценой своей смерти. Буду ли я сломлен ею, как Карваджал, и все мои устремления и цели будут высосаны из меня одним видом моего последнего мгновения? Я жду его, недоумевая, когда он придет, пугаясь и страстно желая увидеть, желая впитать это пугающее знание, которое расправится со мной. И когда она приходит, у меня не возникает чувства кульминации, я испытываю почти комическое разочарование. Я вижу увядающего утомленного жизнью старика на больничной койке, худого и изможденного, лет семидесяти пяти или восьмидесяти, а может, даже девяноста. Он окружен ярким коконом поддерживающей жизнь аппаратуры: различные трубки с иглами на концах, изгибаясь дугами, обвились вокруг него, как хвосты скорпионов, вливая ферменты, гормоны, вещества против закупорки сосудов, стимулирующие растворы и Бог знает что еще.
Я уже видел его раньше, мельком, той пьяной ночью на Таймс-сквер, когда я лежал, припав к земле, ослепленный и пораженный, сбитый с ног потоком голосов и образов. Но сейчас видения длятся чуть дольше, чем в тот другой раз, так что я распознаю, что этот будущий я не просто больной старик, а умирающий старик, на пути из жизни, уходящий, ускользающий, уплывающий — огромный чудесный салат медицинского оборудования не в силах больше поддерживать слабое биение его жизни. Я чувствую, как пульс угасает в нем. Спокойно, совершенно спокойно он отходит в темноту. В покой. Он очень неподвижен. Еще не мертвый, мое восприятие его еще будет уменьшаться. Но почти. Почти. А теперь. Больше данных нет. Спокойствие и тишина. Да, хорошая смерть.
Это все? Он правда мертв через пятьдесят или шестьдесят лет, или видение просто прервалось? Я не могу быть уверен. Если бы я только мог ЗАГЛЯНУТЬ за пределы того момента смерти, бросить один взгляд на занавес, увидеть рутину смерти, бесстрастных санитаров, спокойно рассоединяющих систему, поддерживавшую жизнь, простыню, натянутую на лицо, труп, отвезенный в морг. Но нет способа продолжить видение. Картинка представления закончилась последним проблеском света. Хотя, я уверен, что это и есть то самое. Я думаю о Карваджале, сводящим себя с ума тем, что так часто видел себя умирающим. Но я не Карваджал, как может знание об этом повредить мне? Я допускаю неизбежность своей смерти, а подробности, которые я вижу, просто примечание к ней. Сцена возвращается спустя несколько недель, а потом снова и снова. Всегда одна и та же. Больница, тонкая паутина трубок и катетеров, ускользание, темнота, покой. Так что нечего бояться ВИДЕТЬ. Я видел самое худшее, и оно не повредило мне.
Затем все разбивается сомнениями и моя недавно сформированная уверенность пошатнулась. Я ВИЖУ себя опять в большом самолете. Мы устремляемся вниз к большому шестигранному искусственному острову. В смятении потерявшая рассудок стюардесса несется по проходу, а за ее спиной появляется вздувающийся маслянистый взрыв черного дыма. Пожар на борту! Крылья самолета дико кренятся. Визг пассажиров, неразборчивые выкрики по системе внутренней связи. Глухие бессвязные инструкции. Странное давление, пригвоздившее мое тело к сидению. Нас несет вниз, к океану. Вниз, вниз. Мы ударяемся, невероятный раскалывающий удар, корабль разваливается на части. Все еще пристегнутый к сидению, я, как свинцовая гиря, опускаюсь лицом вниз в холодную темную глубину. Море проглатывает меня. Больше я ничего не знаю.
Солдаты движутся зловещими колоннами вдоль улиц. Они останавливаются возле дома, где я живу. Они совещаются, затем отряд врывается в здание. Я слышу грохот их шагов по лестнице. Прятаться бесполезно. Они распахивают дверь, выкрикивая мое имя. Я приветствую их, подняв руки вверх. Я улыбаюсь и говорю, что пойду спокойно. Но затем — кто знает, почему — один из них, очень молодой, фактически мальчик, резко разворачивается, нацелив на меня свое оружие, похожее на арбалет. Я успеваю только вдохнуть. Затем вылетает зеленый конус огня. После этого наступает темнота.
«Вот он!» — кто-то кричит, высоко поднимая дубинку над моей головой. И с сокрушительной силой обрушивает ее на меня.
Сундара и я наблюдаем, как ночь опускается на Тихий океан. Перед нами поблескивают огни Санта-Моники. Нерешительно и робко я кладу свою руку на нее. И в этот момент я чувствую пронзающую боль в груди. Я сгибаюсь, падаю головой вниз, безумно взбрыкиваю ногой, опрокидывая стол. Я бью кулаком по толстому ковру. Я борюсь, цепляясь за жизнь. Во рту вкус крови. Я бьюсь за жизнь, и я проигрываю.
Я стою на парапете восьмидесятого этажа над Бродвеем. Быстрым легким движением я выталкиваю свое тело в прохладный весенний воздух. Я парю. Я делаю грациозные плавательные движения руками. Я безмятежно ныряю в тротуар.
— Посмотрите! — кричит женщина позади меня. — У него бомба!
Морская поверхность волнуется сегодня. Серые волны вздымаются и обрушиваются, вздымаются и обрушиваются. Я преодолеваю волны. Я прокладываю себе путь через буруны. С безумной целеустремленностью я плыву к горизонту, рассекая холодные воды, как будто устанавливая рекорд на выносливость. Плыву вперед и вперед, несмотря на пульсирование в висках и бухающие удары в груди почти у горла. А море становится все более бурным, его поверхность вздымается и раздувается все сильнее. Волна бьет мне в лицо, и я иду вниз, задыхаясь, стараясь вынырнуть на поверхность. Меня бьет снова, снова и снова…
— Вот он! — кричит кто-то.
Я опять ВИЖУ себя в большом самолете. Мы устремляемся вниз, к шестигранному искусственному острову.
— Посмотрите! — кричит женщина позади меня.
Солдаты движутся зловещими колоннами вдоль улиц. Они останавливаются возле дома, где я живу.
Морская поверхность волнуется сегодня. Серые волны вздымаются и обрушиваются, вздымаются и обрушиваются. Я преодолеваю волны, я прокладываю себе путь через буруны. С безумной целеустремленностью я плыву к горизонту.
— Вот он! — кричит кто-то.
Мы с Сундарой наблюдаем, как ночь опускается на Тихий океан.
Я стою на парапете восьмидесятого этажа над Бродвеем. Быстрым легким движением я выталкиваю свое тело в прохладный весенний воздух.
— Вот он! — кто-то кричит.
И опять. В разных формах снова и снова приходит ко мне смерть. Сцены повторяются, не изменяясь, противореча друг другу и аннулируя одна другую. Какое из этих видений верно? А как же старик, мирно угасающий на больничной койке? В какую мне верить? Голова моя идет кругом, перегрузившись различными данными. Я спотыкаюсь о шизофреническую лихорадку, ВИДЯ больше, чем я могу постичь, не имея возможности составить целое. И постоянно мой пульсирующий мозг орошает меня сценами и видениями. Я распадаюсь на части. Я валюсь на пол возле кровати, дрожа, ожидая, что следующая путаница навалится на меня. Каким образом я погибну в следующий раз? На дыбе палача? Под бичом ботулизма? От ножа в темной аллее? Что все это значит? Что происходит со мной? Мне нужна помощь. Объятый ужасом, в отчаянии, я мчусь увидеться с Карваджалом.
43
Прошло несколько месяцев с тех пор, как я виделся с ним в последний раз, полгода, с конца ноября до конца апреля. Он явно изменился. Он стал меньше, почти как кукла, миниатюра старого Карваджала, все излишки срезались, кожа туго обтягивала скулы, лицо желтое, как будто он превратился в престарелого японца, одного из этих высохших крошечных древних стариков в синих костюмах и галстуках бантом в брокерских домах в нижнем городе. В Карваджале было незнакомое восточное спокойствие, сверхъестественное спокойствие Будды, которое, казалось, говорило, что он достиг тихой бухты, спокойствие, которое заражало все окружающее. Через минуту после своего прихода в паническом недоумении я почувствовал, как груз напряжения покидает меня. Он любезно усадил меня в своей унылой гостиной и милостиво преподнес традиционный стакан воды.
Он ждал, пока я заговорю.
Как начать? Что сказать? Я решил не упоминать о нашем последнем разговоре, отринуть его, не намекая на мой гнев, мои обвинения, мое отречение от него.
— Я ВИДЕЛ, — выпалил я.
— Да, — насмешливо, без удивления, слегка обеспокоенно.
— Странные вещи.
— О? — Карваджал изучал меня без любопытства, ожидая, ожидая, ожидая. Как спокоен он был, как сдержан! Как будто вырезан из слоновой кости, прекрасной, блестящей, неподвижной.
— Сверхъестественные сцены. Мелодраматические, хаотичные, противоречивые, странные. Я не знаю, что из этого ясновидение, а что — шизофрения.
— Противоречивые? — задал он вопрос.
— Иногда. Я не могу доверять тому, что ВИЖУ.
— Что за вещи?
— Во-первых, Куинн. Он появляется почти ежедневно. Видения Куинна как тирана, диктатора, какого-то монстра, манипулирующего всей нацией, не столько президент, сколько генералиссимус. Его лицо над всем будущим. Куинн здесь, Куинн там, все говорят о нем, все боятся его. Это не может быть реальным.
— Все, что вы ВИДИТЕ, реально.
— Нет, это не настоящий Куинн. Это параноидальная фантазия. Я ЗНАЮ Пола Куинна.
— Да? — голос Карваджала доходил до меня как через толщу расстояния в пять тысяч лет.
— Послушайте, я был предан этому человеку. Я на самом деле любил его. Мне нравилось то, за что он выступал. Почему же я вижу его как диктатора? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН БОЯТЬСЯ ЕГО? Он не такой. Я знаю.
— Все, что вы ВИДИТЕ, реально, — повторил Карваджал.
— Тогда, значит, в эту страну придет диктатура Куинна?
— Возможно. Очень похоже. Откуда мне знать? — пожал плечами Карваджал.
— А мне откуда? Как я могу верить в то, что я ВИЖУ?
Карваджал улыбнулся и поднял руку ладонью ко мне.
— Верьте мне, — убежденно произнес он слабым голосом, подражая тону старого мексиканского вождя, предлагающего взволнованному мальчику доверить свою судьбу ангелам и милосердию Девы Марии, — не сомневайтесь, верьте.
— Я не могу. Слишком много противоречий, — я яростно потряс головой. — Это не только Куинн. Я ВИДЕЛ также свою смерть.
— Да, это надо принять.
— Много раз. В самых различных вариантах. Авиакатастрофа. Самоубийство, сердечный приступ. Утонул. И тому подобное.
— Вам это кажется странным, да?
— Странным?! Я нахожу это абсурдным! Какая из них реальна?
— Все.
— Это сумасшествие!
— Существует много уровней реальности, Лью.
— Но все они не могут быть реальными. Это нарушает все, что вы мне говорили об определенном и неизменяемом будущем.
— Существует только одно будущее, которое ДОЛЖНО иметь место, — сказал Карваджал. — Одно действительное и много потенциальных, бесплодных линий, линий, которые существуют только на туманных границах возможности. Иногда информация из этих времен поступает к тому, чей ум достаточно открыт, если он достаточно уязвим. Я это пережил.
— Вы никогда ни слова не говорили об этом.
— Я не хотел смущать вас. Лью.
— Но что мне делать? Какая польза от информации, которую я получаю? Как я могу отличить реальное видение от воображаемого?
— Успокойтесь, все станет на свои места.
— Как скоро?
— Когда вы УВИДИТЕ, как вы умираете, — сказал он. — Вы когда-нибудь видели одну и ту же сцену больше одного раза?
— Да.
— Которую?
— Каждую по меньшей мере дважды.
— Но одну чаще, чем все другие?
— Да, — ответил я, — первую. Я старик в больнице, множество сложной медицинской аппаратуры окружает мою кровать. Это приходит часто.
— С особой интенсивностью?
Я кивнул.
— Верьте ей, — сказал Карваджал. — Другие — фантомы. Они скоро перестанут вас беспокоить. Эти представления возникают вследствие лихорадочных иллюзорных чувств. Они колеблются и расплываются в конце. Если вы близко вглядитесь в них, пронзите их взором, то заметите пустоту за ними. Скоро они исчезнут. Прошло тридцать лет с тех пор, как такие видения беспокоили меня.
— А видения Куинна? Они тоже фантомы из какой-то другой временной линии? Я помог впустить монстра в эту страну или просто вижу плохие сны?
— У меня нет способа ответить на этот вопрос. Вам нужно просто ждать и смотреть, учиться очищать ваши видения, и снова смотреть и оценивать очевидность.
— И вы не можете дать мне каких-либо более точных предложений, чем эти?
— Нет, — сказал он. — Невозможно.
Прозвенел звонок.
— Извините меня, — сказал Карваджал.
Он вышел из комнаты. Я закрыл глаза, позволил поверхности какого-то незнакомого тропического моря расплескаться в моем мозгу; теплая соленая вода обнажила всю память и всю боль, заравнивая острые места. Я сейчас воспринимал прошлое, настоящее и будущее равно нереальными: обрывки тумана, перемещение пятен неяркого света, отдаленный смех, приглушенные голоса, произносящие фрагменты предложений. Где-то игралась пьеса, но меня на сцене больше не было, не было и среди зрителей. Время остановилось. Возможно, случайно я начал ВИДЕТЬ. Я думаю, резкие серьезные черты лица Куинна колебались передо мной в ослепительных синих и зеленых вспышках, я, должно быть, видел старика в больнице и вооруженных людей, движущихся по улицам. И были виды миров над мирами, еще не рожденных империй, пляска континентов, инертных созданий, ползущих по огромной оболочке опоясывающего планету льда к концу времени.
Затем я услышал голоса в прихожей, кричал какой-то человек, Карваджал спокойно объяснял, отрицал. Что-то по поводу наркотиков, обман, сердитые обвинения. Что? ЧТО?! Я выбрался из тумана, окружающего меня. Напротив Карваджала у двери стоял низенький веснушчатый человек с дикими голубыми глазами и нечесаными рыжими волосами, незнакомец сжимал ружье странного старого образца, возбужденно размахивая им из стороны в сторону. «Груз — продолжал он кричать, — где груз, который вы пытались стащить?» Карваджал пожимал плечами, смеялся, качал головой, и тихо говорил, стараясь успокоить его, что это ошибка, просто что-то перепутано. Карваджал сиял. Казалось, вся его жизнь шла и формировалась для этого момента изящества, этого богоявления, этого смущенного и комичного диалога у двери.
Я выступил вперед, готовый сыграть свою роль. Я разработал для себя линию поведения. Я скажу: «Спокойно, парень, перестань махать своим ружьем. Ты ошибся местом. У нас нет наркотиков». Я видел себя уверенно продвигающимся к незванному гостю, говоря: «Почему бы тебе не успокоиться, не отложить ружье, не позвонить своему боссу и все выяснить? Потому что иначе ты окажешься в тяжелой переделке, и…» Продолжая говорить, замаячу перед веснушчатым коротышкой с ружьем, спокойно дотянусь до ружья, выверну его из его рук, прижму к стене…
Неверный сценарий. Правильный сценарий предписывал мне ничего не делать. Я это знал. И я ничего не сделал.
Человек с ружьем посмотрел на меня, на Карваджала, опять на меня. Он не ожидал, что я появлюсь из гостиной, и не знал, как реагировать. Затем постучали в дверь. Мужской голос из коридора спрашивал Карваджала, все ли у него там в порядке. Глаза человека вспыхнули страхом и недоумением. Он отскочил от Карваджала, прижимая к себе ружье. Раздался выстрел, почти случайный. Карваджал начал падать, сползая по стене. Человек метнулся мимо меня к гостиной. Помедлил там, дрожа, почти падая от страха. Он выстрелил снова. И третий раз. Затем он вдруг бросился к окну. Я стоял как замороженный. Наконец я начал двигаться. Слишком поздно. Непрошенный гость выпрыгнул из окна, вниз по пожарной лестнице, скрылся на улице.
Я повернулся к Карваджалу. Он упал и лежал у входа в гостиную, неподвижный и молчаливый, глаза открыты, еще дыша. Его рубашка пропиталась кровью на груди. Вторая струйка крови бежала по его левой руке. Третья рана, странно аккуратная и маленькая, была в голове, прямо под скулой. Я подбежал к нему, схватил и увидел, что его глаза стекленеют. И мне показалось, что он засмеялся прямо в конце маленьким легким смешком. Но может быть, это моя собственная трактовка сценария, маленькое легкое исправление сцены. Итак. Итак. Свершилось наконец. Как спокоен он был, как принимал все, как рад был покончить с этим. Так долго репетируемая сцена, наконец, сыграна.
44
Карваджал умер двадцать второго апреля 2000 года. Я начал писать это в начале декабря, за несколько недель до действительного начала двадцать первого века и старта нового тысячелетия. Наступающее тысячелетие застанет меня в этом неизвестно кому принадлежащем доме, в этом неустановленном городке в северном Нью-Джерси, управляющим подпольно, Центром Стохастических Процессов. Мы находимся здесь с августа, когда завещание Карваджала было официально утверждено, и я объявлен единственным наследником его миллионов.
Конечно, здесь, в Центре, мы не очень-то занимается стохастическими процессами. Местечко маскируется под этим названием. Мы здесь не столько стохасты, сколько постстохасты, мы переходим от манипулирования возможностями к определенности второго взгляда. Но я считаю, что мудро быть не слишком уж искренним по этому поводу. То, чем мы занимаемся — более-менее определенный вид колдовства. И самый большой урок, который следует извлечь из пока еще не завершенного двадцатого века, что если вы собираетесь заниматься — колдовством, называйте его как-нибудь по-другому. «Стохастический» — это название имеет приятное псевдо-научное звучание, создает необходимую маскировку, вызывая в воображении взвод бледных молодых исследователей, закладывающих данные в компьютеры.
Пока нас только четверо. Придет больше. Мы здесь постепенно разрастаемся. Я нахожу новых последователей по мере того, как в них появляется необходимость. Я уже знаю имя следующего, и знаю, как склонить его присоединиться к нам, и в нужный момент он придет к нам, так же, как пришли и эти трое. Шесть месяцев назад я был незнаком с ними, сегодня они мои братья.
То, что мы строим здесь — это община, братство, коммуна, приход или, если хотите, банда провидцев. Мы расширяем и очищаем возможности нашего видения, устраняя неясности, обостряя восприятие. Карваджал был прав: у каждого есть дар. Его можно разбудить в любом человеке. В вас. И в вас. И так мы распространяемся, предлагая руку другому. Спокойное распространение религии постстохатизма, неспешное приумножение количества тех, кто ВИДИТ. Это будет медленно. Опасно. Мы будем подвергаться гонениям. Приходят трудные времена, но не только для нас. Мы все еще должны пройти через эру Куинна. Эру, которая мне знакома, как другие факты истории, хотя она еще не началась: он будет помазан на выборах через четыре года. Но я ВИЖУ дальше выборов, вижу перевороты, которые последуют за ними, беспорядки, боль. Но ничего. Мы переживем режим Куинна, как мы пережили Сарданапала, Атиллу, Чингиз Хана, Наполеона. Облака предвидения уже разошлись и мы ВИДИМ за наступающим мраком времена восстановления.
То, что мы создаем здесь — это союз, посвятивший свою деятельность уничтожению неопределенности, абсолютному исключению сомнений. В конечном итоге мы приведем человечество в тот мир, где ничего не будет делаться наугад, не будет ничего неизвестного, все предсказуемо на любом уровне от микрокосмического до макрокосмического, от скачков электронов до движения галактических туманностей. Мы научим человечество ценить сладкий комфорт предопределенности. И на этом пути мы уподобимся Богам.
Богам? Да.
Послушайте! Ведал ли Иисус страх, когда центурионы Пилата пришли за ним? Он плакал по поводу своей смерти, стенал по поводу сокращения своего служения? Нет, нет он спокойно шел, не выказывая ни горя, ни страха, ни удивления, следуя сценарию, играя назначенную ему роль, безмятежно уверенный, что все, что случится с ним — часть предопределенного, необходимого и неизбежного плана.
А Исида, юная Исида, которая любила своего брата Осириса, которая даже ребенком знала все, что заложено, что Осириса разорвут на части, что она будет искать части его тела в грязи Нила, что ею он будет восстановлен, и из их чресел выйдет могущественный Гор? Исида жила в скорби, да, Исида жила, заранее зная об ужасной потере, ОНА ЗНАЛА ВСЕ С САМОГО НАЧАЛА, потому что она была богиней. И она играла свою роль так, как должна была играть. Богам не даровано право выбора. Это цена чуда быть Богом. И Боги не знают страха, жалости или сомнения, потому что они — Боги, и не могут выбирать иного пути, кроме единственного истинного.
Очень хорошо. Мы будем как Боги, все мы. Я миновал время сомнений, я вытерпел и пережил атаку смятения, страхов, перешел в царство за их пределами, а не в паралич, заставлявший страдать Карваджала. Я нахожусь в другом месте и могу помочь вам прийти туда. Мы будем ВИДЕТЬ, мы будем понимать, мы будем правильно оценивать неизбежность неизбежного, мы будем принимать каждый поворот сценария радостно и без сожаления. Не будет неожиданностей, не будет боли. Мы будем жить в прекрасном мире, сознавая, что мы — части одного великого Плана.
Около сорока лет назад французский ученый и философ Хак Моно писал: «Человек знает, наконец, что он один в равнодушной бессмертности вселенной, где он появился случайно».
Я верил в это когда-то. Вы, может быть, верите в это сейчас.
Но рассмотрите утверждение Моно в свете замечания, которое однажды сделал Альберт Эйнштейн. «Бог не бросает кости», — сказал Эйнштейн.
Одно из этих утверждений неверно. Я думаю, я знаю, какое.
ПЕРСТ ГОСПОДЕНЬ
В своих межгалактических полетах Земляне столкнутся с новыми мирами неразвитых существ — примитивными цивилизациями, которые будут смотреть на нас с благоговением и суеверным почтением. У этих примитивных существ, живущих на краю света, существуют свои законы и обычаи, которые они будут яростно отстаивать перед лицом людей, прибывших с Земли. В результате произойдут разнообразные конфликты с нашим будущим Кодексом о правах Человека. Пойманные в ловушку между этическим устройством общества Землян и желанием проявить уважение к населению других планет, люди столкнутся с дилеммой, подобной этой…
Прошлым вечером закат был кроваво-красным, и полковник Джон Девал из-за этого отвратительно спал. Обычно атмосфера Маркина не образовывала кроваво-красных закатов, но все же иногда они случались по вечерам, когда рассеивалась лазурь солнечного света. Обитатели Маркина связывали красные закаты с приближающимся несчастьем. Полковник Девал, возглавлявший Земную культурную и военную миссию на Маркине, был более образован, чем обычный военный, и поэтому старался принять веру здешних жителей в то, что подобный закат являлся предчувствием конфликта.
Это был высокий, ладно скроенный мужчина с острыми глазами и выправкой военного. Он старался производить впечатление авторитетного офицера, и его подчиненные уважали и побаивались его.
Он получил степень по антропологии, а военное образование позже и по расчету: оно позволило ему стать командиром отряда на Маркине. Департамент Внеземных Дел настаивал на том, чтобы все миссии на примитивных чужих мирах возглавлялись военными. Девал рассудил, что пока он сможет создавать внешний вид твердого солдата, никто не узнает, что в душе он совсем иной.
Жители Маркина были спокойными и мирными. Они умны, хорошо развиты, если не в техническом, то в культурном смысле, с ними легко было иметь дело.
Вот почему в вечер красного заката Девол плохо спал. Несмотря на свою военную выправку, сам он смотрел на себя, как на человека гражданского, а вовсе не военного. Были у него некоторые сомнения относительно собственного возможного поведения во время непредвиденных кризисов. Ложная оболочка офицерства могла треснуть под внешними ударами, и он это знал.
Наконец, уже под утро, он задремал, сбросив одеяло на пол и сбив простыню в измятый комок. Ночь была теплейшая, как и большинство ночей на Маркине, но его бил нервный озноб.
Проснувшись поздно, всего за несколько минут до общего завтрака офицеров, он поспешно оделся, чтобы явиться вовремя. Как старший командир, он имел привилегию спать сколько хочет, но этот подъем вместе с остальными тоже был частью придуманного им самим ритуала. Натянув светлую летнюю форму, он быстро скользнул по лицу депилятором, застегнул ремень и, прицепив к нему форменный бластер, дал сигнал ординарцу, что он встал и уже готов.
Территория Миссии занимала десять акров и находилась в получасе езды от крупнейшего маркианского поселения. У маленького домика Девола, его уже поджидал джип. Он влез в него, кивнув ординарцу.
— Доброе утро, Харрис.
— Доброе утро, сэр. Как спали?
Они соблюдали обычный ритуал.
— Отлично, — автоматически ответил Девол.
Взревел мотор джипа и легкая машина понеслась к зданию столовой. К соседнему с Деволом сиденью был прикреплен лист с программой на день, составленной дежурным. Сегодняшний листок подписал Дадли, невообразимо исполнительный мастер своего дела. Он уже служил в Космической Службе и Военно-воздушных силах. Девол пробежал глазами назначения на сегодня, аккуратно выведенные четким почерком Дадли.
«Колли, Дорфман, Меллорс, Стебер — лингвистические исследования. То же назначение, что и вчера — город.
Хаскель — медицинские обязанности. Анализы крови, мочи.
Мацуоко — техническое обслуживание (до пятницы).
Джоли — исследование животного мира.
Монардс, Митер, Родригес — ботанические исследования (два дня). Для сбора коллекций выделить дополнительный джип».
Девол просмотрел оставшийся список. Как и следовало ожидать, Дадли проделал великолепную работу, назначая людей туда, где они были бы наиболее полезными и в то же время довольными. Девол задумался о Леонардсе, назначенном на ботанические исследования. В этом двухдневном путешествии ему необходимо пересечь дождевой лес на юге. Девол почувствовал смутное беспокойство. Парень был его племянником, сыном сестры — вполне компетентный ботаник с еще незапятнанным послужным списком. Это было первое поручение парня. Его случайно назначили в команду Девола как новичка. Девол скрывал от других свое родство с Леонардсом, зная, что парню может быть неловко, но все же прикрывал его своими родственными крыльями.
«Я думаю, малыш сможет и сам позаботиться о себе», — думал Девол и, расписавшись внизу листка, прикрепил его на место. Ему необходимо выехать очень рано, когда весь лагерь убирает свои квартиры, а офицеры едят. К 9:00 каждый приступит к исполнению своих обязанностей согласно сегодняшним назначениям. «Как много нужно сделать, — думал Девол, — и как мало на это времени. Так много миров…» Он выскочил из джипа и вошел в столовую. Офицерская столовая помещалась в алькове, слева от главного зала. Когда Девол вошел, семеро людей замерли вытянувшись в ожидании его приветствия. Они вытянулись по стойке смирно, когда их командир — вероятно лейтенант Леонарде, самый младший из офицеров, — предупредил о его приближении. «Что же, — подумал он, — это ни о чем не говорит. До сих пор внешние приличия сохраняются». Формальность.
— Доброе утро, джентльмены, — звонко приветствовал их Девол и занял свое место в центре стола.
Какое-то время казалось, что день может пройти без особых происшествий.
В безоблачном небе светило солнце, и термометр, установленный на флагштоке Миссии, показывал 93 градуса. Девол уже знал, что к полудню, можно ожидать 110 градусов в тени, а затем медленное, ровное понижение до 80 к полуночи.
Команда ботаников отправилась согласно расписанию, проехав через лагерь на двух джипах, и Девол минутку постоял на ступеньках столовой, наблюдая их отъезд и приготовления остальных к исполнению своих сегодняшних назначений. Небритый сержант Джоли приветствовал его, протрусив мимо к зверинцу ухаживать за представителями фауны Маркина, предназначенными по окончанию работ для отправки на Землю. Протащил плотницкое снаряжение маленький жилистый Мацуоко. Команда лингвистов забралась в джип и улетучилась в город, где продолжала исследования языка жителей Маркина.
Все были заняты. Экспедиция прибыла на Маркин четыре месяца назад и для исследований оставалось еще восемь. Когда закончится срок пребывания здесь, весь лагерь на полгода вернется на Землю для отчета, а затем будет снова назначение на один год на какую-нибудь другую планету.
Девол не испытывал особенного желания покинуть Маркин. Этот мир был довольно приятным, хотя и немного жарким, но кто знает, каким будет следующий. Возможно, они проведут год на холодном шаре замороженного метана, закованные в скафандры, в попытках наладить контакт с разумными моллюсками, дышащими аммиаком.
Маркин — его одиннадцатый мир, и еще множество миров впереди. На Земле не хватает квалифицированных исследовательских команд, чтобы охватить, хотя бы и неполно, десять тысяч миров, а жизнь обнаружена на десяти миллионах. Он останется во главе этой команды, удовлетворяющей его добросовестным выполнением своих обязанностей, заменит неподходящих, и спустя восемь месяцев отправится к следующему месту работы.
Индикатор засветился мягким красным светом. Девол начал:
— Четвертое апреля 2705. Запись полковника Джона Ф. Девола. Сто девятнадцатый день пребывания на Маркине, седьмом мире 1106-суб-а системы.
Температура 93 градуса в 9:00, ветер слабый, южного направления…
Он продолжил обычный утренний доклад с обязательным указанием всех мелких происшествий. Закончив его, он взял подборку отчетов, оставленных для него прошлым вечером и начал заносить в бортжурнал выдержки из них.
Печатающее устройство весело постукивало, а машина где-то в здании Департамента Внеземных дел в Рио-де-Жанейро воспроизводила его слова, передаваемые по субрадио.
Работа была весьма нудной и Девол частенько спрашивал себя, не интереснее ли делать простую полевую работу по антропологии, которую он выполнял прежде, чем тащить на себе всю эту рутину, которую его обязывал делать занимаемый им пост.
«Но кто-то же должен нести и эту ношу» — думал он. — Ношу землянина. Мы — самая развитая раса, мы помогаем другим. Но никто не принуждает нас приходить в другие миры и делать то, что мы делаем. Назовем это внутренним принуждением».
Он собирался работать до полудня, а после полудня его навестит Высший священнослужитель Маркина. Переговоры с ним могут продлиться до заката. В одиннадцать часов его работу неожиданно прервал звук въехавших в поселок джипов, и он услышал гул голосов — и земных, и чужих.
Казалось, там нарастал ужасный спор, но группа говоривших была слишком далеко, а знание Девола в области языка этого мира не настолько хорошим, чтобы он смог на таком расстоянии разобраться, в чем причина споров. С некоторым раздражением, он оторвался от принтера, встал со стула и выглянул из окна.
Он увидел два джипа команды ботаников, уехавшей менее двух часов назад.
Четверо местных жителей окружили троих землян. Двое из них были вооружены копьями, третья — женщина, четвертый — старик. Все они горячо протестовали против чего-то.
Девол нахмурился. По бледным и напряженным несчастным лицам людей в джипе, он понял, что произошло что-то очень неприятное. «Этот кровавый закат предсказывает точно», — подумал он, спускаясь из своей конторки.
Когда он появился перед группой, на него устремились взгляды спорщиков.
— Что здесь происходит? — требовательно спросил Девол.
Маркианцы зашлись в громкой болтовне, словно квартет белок. Девол никогда прежде не видел их в таком возбужденном состоянии.
— Тихо! — прокричал он.
В наступившей тишине, он очень спокойно сказал:
— Лейтенант Леонарде, четко объясните, в чем дело?
Парень казался очень испуганным: челюсти крепко сжаты, губы без кровинки.
— Д-д-да, сэр, — запинаясь, сказал он. — Простите, сэр. — Я, кажется, убил чужака.
В знакомом уединении офиса Девол снова вгляделся в лицо Леонардса, сидевшего очень тихо, уставившегося на свои блестящие ботинки, Мейера и Родригеса, сопровождавшего его в этой неудачной поездке. Чужие остались снаружи. Позже придет время успокоить их.
— О кей, — сказал Девол. — Леонардс, я хочу, чтобы ты повторил свой рассказ точно так, как сейчас его рассказал, и я запишу твои слова на принтер. Начинай говорить по моему сигналу.
Он включил печатающее устройство и сказал:
— Показания Второго Лейтенанта Пола Леонардса, ботаника, сделанные в присутствии старшего офицера 4 апреля 2705 года.
Он подал сигнал Леонардсу начинать свой рассказ.
Лицо парня казалось восковым: бледный лоб испещрили капельки пота, а светлые волосы были взъерошены и спутаны. Он сжал губы, почесал рукой затылок и наконец произнес:
— Мы покинули поселение около девяти часов сегодня утром и направились к юго-западу от лагеря для проведения исследований. Нашей целью был сбор ботанических объектов. Я возглавлял группу, в которую входили сержанты Мейер и Родригес. — Он сделал паузу. — Мы… мы немного успели сделать за первые полчаса — этот район был уже ранее тщательно осмотрен нами. Около 9:45 Мейер заметил густо заросший район недалеко от главной дороги и обратил на него мое внимание. Я предложил остановиться и исследовать его.
На наших джипах невозможно проникнуть в лесные зоны, поэтому мы отправились туда пешком. Родригеса я оставил присматривать за машиной.
Мы прошли сквозь заросли деревьев уже известного нам вида и оказались в уединенной зоне. Мы нашли некоторые виды растений, которые еще не были занесены в каталог. Особенно поразило нас одно — куст, состоящий из единственного толстого сочного зеленого стебля, около четырех футов высотой с громадными золотым и зеленым цветком на макушке. Мы детально засняли его, взяли образцы аромата и сорвали несколько листьев.
Внезапно вступил Девол:
— Говорит Девол. Вы не сорвали сам цветок?
— Конечно, нет. Это был единственный представитель этого вида, а срывать для коллекции такие растения не в нашей практике. Но я отщипнул от ствола несколько листьев. И в этот самый момент из-за купы папоротника выскочил абориген. Он был вооружен копьем, с отточенным камнем. Мейер увидел его первым и закричал. Я успел отпрыгнуть в тот момент, когда тот Попытался поразить меня копьем. Мне удалось отразить удар. Абориген отступил на несколько футов и что-то прокричал на своем языке, который я еще не очень понимаю. При себе у меня был стандартный радиальный бластер.
Я вытащил его и приказал ему опустить копье, говоря, что мы не хотим зла.
Он игнорировал мои слова и напал снова. Я открыл огонь для самозащиты, стараясь стрелять в копье или, в худшем случае, ранить его в руку, но он развернулся, попал в зону поражения бластера и тут же погиб. — Леонарде пожал плечами. — Вот и все, сэр. Мы сейчас же вернулись обратно.
— Ммм. Говорит Девол. Сержант Мейер, признаете ли вы, что это правда?
Мейер, тонколицый, темноволосый, улыбчивый парень, сейчас не улыбался.
— Это сержант Мейер. Я подтверждаю, что лейтенант Леонарде точно пересказал все происшедшее. Кроме, разве, того, что мне показалось, что чужак не так уж яростно нападал, он скорее пугал нас, и я удивился, когда лейтенант Леонарде выстрелил в него. Вот и все, сэр.
Нахмурившись, полковник сказал:
— Говорит Девол. Это были показания по делу убитого лейтенантом Леонардсом маркианца.
Он выключил принтер, встал и, наклонившись над столом, сурово разглядывал лица трех молодых ботаников.
— Сержант Родригес, поскольку вы не присутствовали во время происшествия, я считаю вас свободным от ответственности в этом деле и не требую ваших показаний. Обратитесь к майору Дадли за заданиями на остаток этой недели.
— Благодарю вас, сэр.
Родригес отдал честь, благодарно улыбнулся и удалился.
— Что же касается вас двоих, — тяжеловесно сказал Девол, — вы оба должны находиться на базе, пока идет расследование дела. Нет нужды говорить вам, насколько это может быть серьезным, независимо от того, совершено убийство с целью самозащиты или нет. Многие не понимают суть самозащиты. — Он облизнул внезапно пересохшие губы. — Мне не нравится также и то, что этот случай может привести ко многим осложнениям. Это чужие люди на чужой планете, и их поведение нам неизвестно.
Он бросил взгляд на Леонардса:
— Лейтенант, для вашей же собственной безопасности, я должен просить вас не покидать свою квартиру без моего распоряжения.
— Есть, сэр. Это арест?
— Пока нет, — ответил Девол. — Мейер, а вы займитесь сегодня техническим обслуживанием. Нам, вероятно, еще потребуются ваши показания.
Можете идти.
Когда подчиненные вышли, Девол снова погрузился в свое кресло и стал в раздумьи рассматривать кончики пальцев. Руки его дрожали, словно жили собственной жизнью.
Джон Ф. Девол, доктор антропологии, Коламбия 82, вступил на службу в Космическую Службу Военно-воздушных сил в 87-м и впервые попал в переплет.
Что ты собираешься предпринять, Джек? — спросил он самого себя. — Можешь ли ты доказать, что имеешь право занимать свой пост?» Он обливался потом и чувствовал жуткую усталость. На секунду прикрыл глаза, открыл их и сказал в переговорное устройство:
— Пришлите маркианцев.
Они вошли уже впятером и, отвесив церемонный поклон, нервничая, выстроились вдоль стены, словно приговоренные к расстрелу. Их сопровождал Стебер из команды лингвистов. Его срочно вызвали из города в качестве переводчика. Знание полковником языка было не плохим, но все же недостаточным, поэтому он хотел, чтобы Стебер был под рукой в случае непонимания им деталей возникшей проблемы.
Маркианцы были гуманоидами, им бы следовало быть более похожими на землян по физиологическому устройству. Но они были не похожи. Кожа их была грубой и жесткой, словно галька, темного тона, стремящегося к грязно-бурому и иногда глубокому лиловому. Челюсти в процессе эволюции приобрели сходство со ртом рептилий, что практически лишало их подбородка, зато они могли заглатывать пищу крупными кусками, которыми землянин просто подавился бы. Их глаза цвета расплавленного золота были широко поставлены и давали ненормальный обзор. Носы, словно приплюснутые пуговки, иногда превращались в едва заметные бугорки над ноздрями.
Девол увидел двух молодых людей, очевидно, воинов. Оружие они оставили снаружи, но их челюсти выпирали весьма агрессивно. Женщина выглядела как все маркианские женщины и была одета в потрепанный меховой плащ Оставшаяся пара — священники: один — старый, а другой — совсем старый. Последнему старцу и адресовал Девол свои первые слова.
— Мне очень жаль, что наша сегодняшняя встреча явилась встречей скорби.
Я с нетерпением ждал приятной беседы. Но не всегда можно предугадать, что может случиться.
— Для убитого уже ничего не случится, — сказал старый священник сухим высоким голосом, который выражал гнев и презрение.
Внезапно защебетала женщина, полдюжина слов прозвучала так слитно и быстро, что Девол не смог их разобрать.
— Что она сказала? — спросил он Стебера.
Переводчик в раздумьи сложил ладони вместе.
— Она женщина убитого. Она… требует мести, — сказал он по-английски.
Ясно. Значит два молодых воина — друзья покойного. Глаза Девола пробежали по пяти чужим враждебным лицам:
— Это очень прискорбное происшествие, — сказал он по-маркиански, — но я верю, что оно не повлияет на теплые отношения между землянами и маркианцами. Это непонимание…
— Кровь должна быть искуплена, — произнес меньший и менее возбужденный из священников. «Возможно, это местный священник, — подумал Девол, — и он доволен, что рядом с ним старший по должности».
Полковник смахнул пот со лба.
— Молодой человек, совершивший проступок, несомненно будет наказан. Вы, конечно, понимаете, что убийство в целях самозащиты, не является убийством как таковым, но я признаю, что молодой человек поступил неразумно и понесет показание.
Слова прозвучали неубедительно даже для него самого и вряд ли произвели впечатление на маркианцев.
Высший священник издал два коротких, резких возгласа. Таких слов не было в словаре Девола и он призывно посмотрел в сторону Стебера.
— Он сказал, что Леонарде посягнул на священную землю. Он сказал, что преступление, за которое они на него рассердились, не убийство, а богохульство.
Несмотря на жару Девола зазнобило от холода. Не убийство? «Похоже, дело осложняется», — мрачно подумал он, а священнику ответил:
— Разве это меняет суть дела? Он ведь понесет наказание за свои непростительные действия.
— Если вы так решили, вы можете наказать его за убийство, — высший священник говорил медленно и Девол различал каждое слово.
Вдова сдерживала рыдания, звучавшие очень по-земному, а молодые войны спокойно внимали.
— Убийство — не наше дело, — продолжал священник. — Он взял жизнь; жизнь принадлежит Им, и Они берут ее, когда считают нужным. Но он осквернил священный цветок на священной земле. Для нас это серьезное преступление. Вдобавок ко всему он пролил кровь стражника на священной земле. Мы требуем выдать его нам. Мы будем судить его церковным судом за это двойное богохульство. Впоследствии, вы сможете судить его по вашим законам, если они нарушены.
Какой-то миг все, что видел Девол, было неумолимое жесткое лицо старого священника, затем он повернулся и уловил на побледневшем лице Стебера выражение удивления и тревоги.
Прошло несколько секунд, прежде чем до сознания Девола дошел смысл сказанных священником слов и еще несколько секунд он осознавал их значение. Они хотят судить Землянина. По своим законам. Своим судом. И вынести свой приговор.
Внезапно из просто мелкого происшествия, которое следовало выяснить, записать в журнал и забыть, оно стало вопросом галактической важности, а Девол был человеком, который должен был принимать все решения.
Вечером, после ужина, он навестил Леонардса. К тому времени о случившимся знали уже все жители лагеря, хотя Девол приказал Стеберу молчать о том, что чужие хотят сами судить Леонардса.
Когда Девол вошел в комнату, парень взглянул на него снизу вверх и вяло отдал честь.
— Вольно, лейтенант, — Девол присел на краешек постели и покосился на Леонардса. — Сынок, у тебя большие неприятности.
— Сэр, я…
— Я знаю. Ты не хотел срывать листья со священного куста и не мог не выстрелить в аборигена, напавшего на тебя. И если бы дело было только в этом, я выговорил бы тебе за твою горячую голову и все шло бы своим чередом. Но…
— Что но, сэр?
Девол поморщился и заставил себя посмотреть парню прямо в лицо:
— Но чужие хотят сами судить тебя. Не столько за убийство, сколько за двойное богохульство. Этот старый колдун хочет, чтобы ты предстал перед их церковным судом.
— Вы ведь не позволите им этого, полковник? — Казалось Леонарде уверен, что не может произойти такая немыслимая вещь.
— Я не уверен. Пол, — тихо ответил Девол, невольно назвав парня по имени.
— Что, сэр?
— Ты явно совершил нечто очень серьезное. Высший священник созывает церковное собрание. Завтра в полдень они вернутся.
— Но вы же не выдадите меня им, сэр! В конце концов, я был на службе, я не знал, что совершаю правонарушение. Это не их дело!
— Заставь их понять это, — категорически оборвал его Девол. — Они чужие. Они не понимают правового кодекса Земли. Они не хотят слышать о наших законах. Для них, ты совершил богохульство, а богохульник должен быть наказан. На Маркине законопослушная раса. Они — этически развитое общество. Этически они на таком же уровне, что и мы.
Леонарде побледнел:
— Вы меня выдадите?
Девол пожал плечами:
— Я этого не сказал. Но взгляни на дело с моей стороны. Я — начальник культурной и военной миссии. Наша цель — жить среди этих людей, изучать их жизнь, направлять их насколько возможно во время нашего ограниченного срока пребывания здесь. Мы, по крайней мере, пытаемся сделать вид, что уважаем их права как личностей и как вида, понимаешь? Мы везде проводим такую политику. Кто мы? Друзья, живущие среди них и помогающие им, или господа, у которых они под башмаком?
— Сэр, мне кажется вы слишком все упрощаете, — нерешительно заметил Леонарде.
— Может и так. Но дело обстоит просто. Если мы отвергнем их притязания, это значит, между Землей и этими чужими возникнет пропасть превосходства, несмотря на то грандиозное шоу, в котором мы пытались выглядеть братьями.
И слух об этом распространится на другие планеты. Мы стараемся казаться друзьями, но наши действия в твоем деле обнажают нашу истинную окраску. Мы высокомерны, снисходительны и… в общем, понимаешь?
— Итак, вы собираетесь выдать меня, чтобы они судили меня по своим законам, — спокойно подытожил парень.
Девол покачал головой:
— Я не знаю. Я еще не решил. Если я тебя выдам, это конечно будет очень опасно. Но если нет, я не знаю, что может случиться. — Он пожал плечами. — Я хочу просить помощи у Земли. Я не в силах сам принять решение.
«На самом деле, — думал он, — это должно быть его решение». Покинув комнату парня, он отправился в радиорубку. Полковник был на месте происшествия и только он мог разобраться в хитросплетениях этого дела.
Земля, вероятнее всего, переложит ответственность принятия решения на него. Он испытывал благодарность за то, что Леонарде не призвал к нему, как к родственнику. Он чувствовал за него гордость и некоторое облегчение.
Тот факт, что парень был его племянником, он настойчиво изгонял из своего сознания, пока дело не будет завершено.
Сигнальщик работал в задней части рубки, ссутулившись над заваленным рабочим столом. Девол немного подождал, покашлял и негромко окликнул:
— Мистер Рори?
Рори обернулся:
— Да, полковник?
— Немедленно наладьте связь с Землей по субрадио. Мне нужен директор Торнтон из Департамента Внеземных дел. Когда будет контакт, позовите меня.
Чтобы пересечь световые годы и отыскать земной приемник, импульсу понадобилось двадцать минут, еще десять минут пройти через ретранслятор и попасть в Рио. Когда Девол вернулся в рубку, зеленое поле экрана уже было настроено и ожидало его. Он подошел поближе и оказался в нескольких шагах от стола главы департамента. Изображение Торнтона было отчетливым, а стол по краям немного плыл из-за того, что крупные неорганические объекты всегда передавались плохо по субрадио.
Девол вкратце изложил создавшуюся ситуацию. Торитон во время доклада сидел спокойно и неподвижно. Руки его застыли, худое лицо не меняло выражения, он казался памятником. Наконец он произнес:
— Неприятное дело.
— Весьма.
— Вы говорите, что маркианцы вернутся завтра? Боюсь, этого времени недостаточно, чтобы провести собрание и обсудить проблему, полковник Девол.
— Возможно, я смогу оттянуть срок дня на два.
Тонкие губы Торитона слились в узкую бескровную линию. Через минуту он сказал:
— Нет. Делайте то, что считаете нужным, полковник. Если психологические особенности расы таковы, что отказ может привести к нежелательным последствиям, то вы, конечно, должны его выдать. Если же этого шага можно избежать, избегайте. В любом случае, этот человек должен быть наказан.
Директор слабо улыбнулся:
— Полковник, вы — один из лучших наших людей. Я убежден, что вы найдете наиболее удовлетворительное решение в данном инциденте.
— Благодарю вас, сэр, — выдавил Девол сухим, неуверенным голосом.
Он кивнул и вышел из поле действия прибора. Изображение Торитона замерцало. Девол уловил последнюю фразу:
— Доложите мне, как закончится дело.
Затем поле погасло. Он одиноко стоял в рубке, ослепший от внезапной темноты, которая нахлынула на него после яркого света солидофона. Через минуту, пробираясь между грудами оборудования, он вышел из здания.
Случилось то, чего он и ожидал. Торитон — неплохой человек, но он гражданский и находится под контролем правительства. Он терпеть не мог принимать решения на высшем уровне — особенно когда полковника, находящегося на расстоянии нескольких сотен световых лет можно было заставить принять их самому.
На следующее утро на 9:45 Девол назначил собрание командного состава.
Все работы на базе были приостановлены. Команда лингвистов осталась в лагере и Девол приказал охранять все входы. Даже среди самых мирных людей могла неожиданно возникнуть вспышка насилия. Невозможно предугадать момент, когда прекратит существование мирное сожительство и выплеснется яростная ненависть.
В полной тишине они прослушали запись показаний Леонардса, комментарий Мейера и краткое интервью Девола с пятью чужими. Девол быстро оглядел сидящих вокруг стола: два мастера, капитан и четыре лейтенанта составляли его штаб, один из лейтенантов находился под домашним арестом.
— Вот такая картина. Сегодня около полудня высший священник придет за ответом. Я решил, что сначала стоит посоветоваться с вами.
Слова попросил мастер Дадли. Это был невысокий, коренастый мужчина с темными блестящими глазами. В нескольких случаях в прошлом он уже яростно спорил с Деволом по процедурным вопросам. Несмотря на это, у них было позади уже четыре успешных поездки. Полковник уважал многообразие мнений, а кроме того, Дадли был потрясающим организатором.
— Мастер?
— Сэр, мне не кажется, что могут возникнуть различные мнения по вопросу, какие действия принять. Отдать им на суд Леонардса невозможно.
Это — негуманно и не по-человечески!
Девол нахмурился:
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее, мастер.
— Это довольно просто. Мы — раса, путешествующая в космическом пространстве, мы — наиболее развитая в галактике раса. Я думаю, это не требует обсуждения.
— Конечно, — согласился Девол, — продолжайте.
Дадли продолжил довольно зло:
— Что бы вы ни думали, сэр, все чужие смотрят на нас, как на старших.
Не думаю, что это можно отрицать, а нужно просто принять это как факт. Ну, а если мы отдадим им на суд Леонардса, мы многое потеряем. Мы покажемся слабыми, бесхребетными. Мы…
— Значит, вы предлагаете, — перебил его Девол, — удерживать свое положение господ в галактике, а если будем уступать своим крепостным, мы можем утратить контроль над ними. Вы так полагаете, мастер?
Девол уставился на него.
Дадли спокойно встретил сердитый взгляд Девола.
— Это так. Черт побери, сэр, я старался заставить вас понять это еще со времени экспедиции на Хечу. Мы здесь, на звездах, не для того чтобы собирать бабочек и белок! Мы…
— Неверно, — отрезал Девол. — Наша миссия носит как военный, так и культурный характер, мастер, и пока я здесь командую, она в основном будет культурной.
Почувствовав, что теряет терпение, он отвернулся от Дадли и сказал:
— Мастер Грей, ваше мнение?
Грей был судовой астронавигатор. Его функции включали надзор за сохранностью конструкций и картографию. У этого жилистого, неулыбчивого маленького человека были острые скулы и румяные щеки.
— Мне кажется, нам следует быть очень осторожными, сэр. Отдать им Леонардса значит нанести непоправимый ущерб престижу Земли.
— Ущерб? — воскликнул Дадли. — Да это нас покалечит! Мы никогда уже не сможем с честью держаться в галактике, если…
Девол спокойно перебил его:
— Мастер Дадли, вы нарушаете порядок. Покиньте собрание, мастер. С вами я разберусь позже.
Снова повернувшись к Грею и уже не глядя в сторону Дадли, он сказал:
— Вы не верите, мастер, что такие действия могут привести к благоприятному влиянию на наш престиж в глазах других миров?
— Это невообразимо трудно определить заранее, сэр.
— Ну ладно, — Девол поднялся. — Согласно правилам, я представил это дело на рассмотрение властям Земли, а также предложил его для открытого обсуждения офицерам. Благодарю вас, господа.
Капитан Мармал неуверенно произнес:
— Сэр, может проголосуем, что делать?
Девол холодно усмехнулся:
— Как командир базы, я возьму на себя всю ответственность за решение этого вопроса. Это может облегчить дело нам всем при дальнейшем расследовании в трибунале.
«Есть только один способ, — думал он, напряженно ожидая появления священника в своем офисе. — Офицеры кажется настроены весьма сурово против каких-либо примирительных действий, во имя престижа Земли. Вряд ли справедливо заставлять их принять ответственность за неприемлемое для них решение».
«А с Дадли очень скверно, — задумался Девол. — Несоблюдение субординации непростительно. В следующей экспедиции придется исключить Дадли из состава команды. Если у меня будет следующая экспедиция».
Засветился огонек переговорного устройства.
— Да?
— Прибыла делегация маркианцев, сэр, — сообщил ординарец.
— Не впускай их до моего сигнала.
Он шагнул к окну и выглянул во двор. На первый взгляд там было полно аборигенов. На самом деле их вряд ли было больше десятка, но они были снаряжены по полной форме в ярко-красные и безумно-зеленые платья, вооружены копьями и резными мечами. Полдюжины незанятых работой людей нервно разглядывали их издалека, их руки готовы были при необходимости моментально выхватить бластеры.
Он в последний раз взвесил свои возможности. Если он отдаст Леонардса, будет удовлетворен сиюминутный гнев чужих, но возможно надолго подорван престиж Земли. Девол давно считал себя в сущности слабым человеком с великолепной способностью камуфляжа, но не покажет ли его уступка чужим, что вся Земля слаба?
С другой стороны, предположим, что он откажется выдать Леонардса. Тогда он станет карающим перстом Господним, дающим всей Вселенной знать, что земляне отвечают только перед собой, а не перед народами миров, которые они посещают.
В таком случае, положение землян в галактике пострадает. В одном случае они окажутся уступчивыми слабаками, в другом — тиранами. Он вспомнил прочитанное однажды определение: «Мелодрама — это конфликт правильного и неправильного, а трагедия — конфликт правильного и правильного». Сейчас обе стороны правы. Какой бы путь он ни выбрал, везде ждут трудности.
А был еще и дополнительный фактор: парень. Что если они его казнят?
Соображения о том, что это его родственник, казались сейчас абсурдными, но все же отдать собственного племянника чужим… А если он будет ими казнен…
Он глубоко вздохнул, расправил плечи, придал остроту взгляду. Зеркало, куда он бросил взгляд, подсказало ему, что он командир до кончиков ногтей.
При взгляде на него не проглядывался даже намек на внутреннюю борьбу.
Он нажал кнопку селектора:
— Впустите верховного священника. А остальные пусть подождут.
Священник выглядел очень крохотным и морщинистым, гномом с фантастически изрытой и испещренной отметками лет кожей. Безволосую голову покрывал зеленый тюрбан — знак глубокой скорби.
Маленький чужак низко поклонился, соединив руки за спиной под острым углом — этим он выражал уважение. Когда священник выпрямился, его голова резко откинулась назад и маленькие круглые глаза уставились прямо на Девола.
— Судьи выбраны, суд готов к работе. Где молодой человек?
Деволу страстно хотелось воспользоваться в этой последней беседе услугами переводчика. Но это было невозможно. Он должен был сделать это один, без чужой помощи.
— Обвиняемый в казармах, — медленно ответил Девол. — Сначала я хочу задать вам несколько вопросов, старейший.
— Спрашивай.
— Если я отдам парня на ваш суд, будет ли у него шанс избежать смертной казни?
— Не исключено.
Девол нахмурился:
— Не можете ли вы сказать определеннее?
— Как можно знать приговор до суда?
— Оставим это, — сказал Девол, понимая, что не добьется конкретного ответа. — Где вы собираетесь его судить?
— Недалеко отсюда.
— Могу ли я присутствовать на суде?
— Нет.
Девол уже достаточно изучил маркианскую грамматику, чтобы понять, что отрицательная форма, которую употребил священник значила: Я-говорю-нет — и имею-в-виду-то-что-говорю.
Облизнув губы он сказал:
— Предположим я отказался бы выдать вам лейтенанта Леонардса. Какой реакции ваших людей мне следует ожидать?
Установилась тишина. Наконец старик сказал:
— Вы могли бы сделать такое?
— Я говорю гипотетически.
— Было бы очень плохо. Мы много месяцев не смогли бы очистить священный сад. А также… — он добавил целую фразу из незнакомых слов.
Девол безуспешно пытался угадать их значение почти минуту.
— Что это значит? — спросил он наконец. — Сформулируйте это другими словами.
— Это название ритуала. Мне пришлось бы предстать перед судом вместо землянина и я бы умер, — просто сказал священник. — А потом мой преемник попросил бы вас всех убраться.
В офисе стало очень тихо. Единственные звуки, которые слышал Девол, это хриплое дыхание старого священника да стрекотание какого-то похожего на сверчка насекомого в траве под окном.
«Умиротворение? — раздумывал он. — Или перст Господень?» И вдруг в его голове не осталось никаких сомнений и он не мог понять, как можно было так долго колебаться.
— Я прислушиваюсь и уважаю ваши желания, старейший, — произнес он ритуальную формулу, которой научил его Стебер. — Парень ваш. Но могу я просить об одолжении?
— Просите.
— Он не знал, что нарушает ваши законы. Он желал только добра и искренне сожалеет о случившемся. Он в ваших руках, но я хочу просить о пощаде от его имени.
— Суд рассмотрит все, — холодно ответил священник. — Если будет возможность пощадить его, то так и будет. Я не обещаю.
— Очень хорошо, — сказал Девол.
Он подошел к столу и нацарапал приказ о выдаче лейтенанта Пола Леонардса суду маркианцев и подписал его полным именем и званием.
— Вот. Отдайте это землянину, который впустил вас сюда. Он поймет, что парня нужно отдать вам.
— Ты мудрец, — произнес священник.
Он низко поклонился и направился к дверям.
— Минутку, — с отчаянием в голосе обратился к священнику Девол, когда тот уже открыл дверь. — Еще один вопрос.
— Спрашивай, — величественно произнес священник.
— Вы мне сказали, что если бы я отказался его выдать, то перед судом предстали бы вы. А как насчет другой замены? Предположим…
— Твоя кандидатура неприемлема для нас, — священник словно прочитал мысли Девола и вышел.
Через пять минут полковник выглянул во двор и увидел торжественную процессию чужих, выходящих через пост у ворот. В самом центре процессии, совершенно подавленный, шел Леонарде. Он не оглянулся, и Девол порадовался этому.
Полковник долго смотрел на ряд книг, на потрепанные тома, сопровождавшие его из мира в мир, из серого Данелона в штормовой Луррии, сухой Корвель, на Хегу, М'Квалт и другие, и вот теперь на теплый Маркин с голубым небом. Покачав головой, он отвернулся от книг и тяжело рухнул в мягкое кресло.
Привычным жестом он включил принтер и продиктовал полный отчет о своих действиях, от самого начала до кульминационного решения, и горько улыбнулся. Через некоторое время факсимильная машина в Департаменте в Рио на Земле начнет выстукивать слова и Торитон узнает все, что сделал Девол.
Все свалят на Торитона, поскольку такова политика Департамента.
Девол включил селектор и сказал:
— Не беспокоить меня ни при каких обстоятельствах. Если возникнет что-то срочное, обратитесь к мастеру Грею. Пока я не отменю приказ, он командует базой. Если придут сообщения с Земли, пусть Грей примет и их.
Интересно, его сразу освободят от командования или дождутся, пока он вернется на Землю? Последнее более вероятно: у Торитона есть некая утонченность. Но расследование несомненно будет и кто-то должен подставить голову.
Девол пожал плечами и втянулся в кресло.
«Я поступил правильно, — твердо сказал он себе. — Это единственное, в чем я уверен. Но надеюсь, я никогда не посмотрю в глаза сестре».
Спустя какое-то время он задремал, его полуприкрытые веки сомкнулись.
Сон пришел к нему, и он приветствовал его, поскольку безумно устал.
Его разбудил неожиданный шум за окном. Ликующие крики множества глоток сразу раскололи послеполуденную тишину. Девол сразу не сообразил в чем дело, потом, стремительно очнувшись от сна, он бросился к окну и выглянул во двор.
В открытые ворота входил одинокий пеший человек. Он был одет в обычную форму, мокрую и порванную в нескольких местах. Светлые волосы прилипли к голове, словно он только что искупался. Он выглядел усталым.
Леонарде. Полковник был уже на полпути к входной двери, когда понял, что его форма не в порядке. Он заставил себя повернуть назад, привел в порядок одежду и с достоинством вышел во двор.
Леонардса окружила толпа улыбающихся людей, свободные от дежурства рядовые и офицеры. Парень устало улыбался.
— Смирно! — рявкнул Девол и мгновенно наступила тишина.
Он шагнул вперед.
Леонарде вскинул руку в вымученном салюте. Девол заметил на нем несколько синяков.
— Я вернулся, полковник.
— Я вижу. Надеюсь, ты понимаешь, что я все равно вынужден буду вернуть тебя на суд маркианцев, несмотря на твой побег.
Парень улыбнулся и покачал головой:
— Нет, сэр. Вы не поняли, сэр. Суд закончился. Меня испытали и оправдали.
— Как это?
— Это был суд испытанием, полковник. Примерно с полчаса они молились, а затем сбросили меня в озеро. Двое братьев убитого последовали за мной и пытались утопить меня, но я выплыл и благополучно достиг противоположного берега.
Он потряс головой, как насквозь промокший кот, и во все стороны полетели брызги.
— Однажды им чуть было не удалось потопить меня, но я все же переплыл озеро живой и невредимый, и это убедило их, что я не хотел принести им вред. Итак, они объявили меня невиновным, извинились и отпустили. Когда я уходил, они все еще молились.
К решению о его выдаче Леонарде, казалось, не имел претензий.
«По-видимому, — думал Девол, — он понял причины решения выдать его и не держит зла». Это его удовлетворило.
— Вам необходимо пойти в казарму, лейтенант, и просушиться. А затем зайдите ко мне в кабинет. Мне хочется переговорить с вами.
— Да, сэр.
Девол резко развернулся и пошел через поляну к офису. Захлопнув за собой дверь, он включил принтер. Доклад на Землю следовало изменить.
Через пару минут, после того как он закончил с докладом, зажегся огонек на селекторе. Он включил его и услышал голос Стебера:
— Сэр, вас просит принять старший священник. Он хочет извинится за происшедшее. На нем торжественная одежда и он принес нам мирные предложения.
— Скажите ему, что я сейчас выйду, — сказал Девол, — и соберите всех людей, включая Дадли. Особенно Дадли. Я хочу, чтобы он это видел.
Он снял взмокший от пота китель и надел свежий. Осмотрев себя в зеркале, он одобрительно кивнул.
«Хорошо, — думал он. — Итак, парень уже в безопасности. Это хорошо».
Но он знал, что судьба Пола Леонардса была тут вовсе ни при чем, если не принимать в расчет межличностные отношения. Дело было намного важнее.
Впервые Земля на этом примере подтвердила свою доктрину равенства разумной жизни, которую она так долго провозглашала. Он показал, что уважает законы Маркина так же, как и его обитатели и в результате победил.
А то, что парень вернулся невредимым, было нежданной наградой.
Но прецедент был. И в следующий раз, возможно, в каком-то другом мире, исход может быть не таким благополучным. У некоторых культур существуют ужасные способы казни преступников.
Он ясно сознавал, что теперь ноша земных экспедиций стала еще тяжелее, что теперь земляне будут подчиняться законам планет-хозяев, и никакие нежелательные ботанические экспедиции в священные сады не потерпят. Но это и на пользу, думал он. Мы показали им, что мы — не господа и что большинство из нас не хочет быть господами. И теперь перст упал и на нас.
Он открыл дверь и шагнул на улицу. Люди собрались, а старый священник преклонил колена у подножия лесенки, держа покрытый эмалью ящичек в качестве подношения. Девол улыбнулся и, вернув поклон, нежно поднял старика на ноги.
«Теперь нам нужно вести себя более осмотрительно, — думал он. — Нам действительно надо следить за каждым своим шагом. Это необходимо».
СТАРИК
Корабль приземлился на самом краю посадочного поля. Старик спустился по трапу и замер оглядываясь. Приятно было снова увидеть Землю. Четверть своей жизни ему это удавалось только урывками, между полетами.
Он стоял, держась за прохладный металлический поручень, и смотрел на поле. С Каллисто он улетел ночью, и космодром на спутнике был ярко освещен блестящими точками натриевых прожекторов и мерцающими созвездиями сигнальных огней. Без яркого света было никак — посадка корабля требовала от пилота чертовски хороших рефлексов, все решалось за доли секунды.
Старик посмотрел на свои руки, которые его еще ни разу не подвели, и гордо улыбнулся.
Потом он подобрал вещмешок и зашагал через поле.
Не успел он сделать нескольких шагов, как из-за тележки техобслуживания выступил кто-то и улыбнулся ему.
— Привет, Картер!
— Привет, — добродушно отозвался Старик.
Судя по выражению лица, он явно не узнал того, кто его приветствовал.
— Я Селвин, Джим Селвин. Вспомнил?
На лице Старика, покрытом морщинами — свидетельством постоянного нервного напряжения — появилась улыбка.
— Конечно, помню, лейтенант.
— Больше не лейтенант, — покачал головой Селвин. — Меня отправили в отставку.
— О, — произнес Старик.
Он помнил Селвина с тех времен, когда сам был еще кадетом. А лейтенант Джеймс Селвин тогда был одним из самых известных людей в Космическом Патруле. Как-то он посетил Академию, разговаривал с новобранцами, и одним из них был Старик. Старик слегка покраснел, вспомнив, какими глазами восторженного идолопоклонника смотрел тогда на Селвииа.
И вот Селвин снова перед ним. В отставке. Бывший…
— А чем вы сейчас занимаетесь? — спросил Старик.
— Сейчас я механик. Занимаюсь техобслуживанием. Никак не избавиться от тяги к ракетам. Меня отправили в отставку после очередного полета на Плутон. Я, похоже, немного замешкался с разворотом, или что-то в этом роде. Хорошо, что это заметили прежде, чем я устроил аварию.
— Да, — сказал Старик. — Хорошо.
Для того чтобы управляться с такой махиной необходимо острое зрение и отличная реакция! Как только рефлексы начнут сдавать — все, на выход.
Он вдруг бросил на Селвина быстрый вопросительный взгляд.
— Кстати, Селвин, скажи мне одну вещь.
— Какую?
— Не было обидно, что тебя так взяли и выперли, в смысле отправили в отставку? Ну, не больно смотреть, как корабли взлетают, а ты остаешься?
— Черт побери, нет! — ответил Селвин, кашлянув. — Сначала я отбрыкивался как мог, но потом все прошло. Конечно, чего-то не хватает, но я понимаю, что уже было пора. Ты же помнишь Леса Хадлстона?
Старик, помрачнев, кивнул. Хадлстон был одним из немногих, кому удалось одурачить врачей. Все пилоты его возраста давно вышли в отставку, а он продолжал летать до того самого злополучного старта с Марса. Он замешкался всего на одну пятую секунды, но это обошлось в сто человеческих жизней и пятьдесят миллионов долларов. После этого контроль был ужесточен.
— Как полет? — спросил Селвин.
— Нормально, — кивнул Старик. — Я летел с Каллисто. Там везде сплошной голубой лед. Ничего особенного.
— Да, — кивнул Селвин. Глаза его почему-то затуманились. — Ничего особенного. Просто голубой лед.
— И все. Но полет прошел нормально. Следующий рейс, похоже на Нептун.
Неплохо?
— Да, Нептун — интересное место, — произнес Селвин и облокотился на ручку тележки. — Мне, правда, больше всего нравилась Венера. Там…
Внезапно ожили громкоговорители.
— Лейтенанту Картеру срочно явиться в административный корпус, разнеслось над полем. — Лейтенанту Картеру срочно явиться в административный корпус.
— Это меня, — сказал Старик. — Пожалуй, пора. Наверное, сейчас мне дадут новое назначение и еще чек за прошлый рейс. На кругленькую сумму, кстати.
— Счастливо, Картер, — улыбнулся Селвин и похлопал Старика по плечу. — Задай им там.
— Не беспокойся, — отозвался старик, подобрал вещмешок и направился через поле к огромному белому блестящему куполу Административного корпуса.
По пути он встретил новых пилотов — совсем еще зеленых юнцов, только из Академии, — без той ауры посвященности, что отличает пилотов-ветеранов.
Они куда-то бежали, от избытка энергии подпрыгивая, словно на пружинах.
Может торопились в один из первых рейсов, или даже самый первый.
— Привет, Старик! — крикнули они, пробегая мимо. — Как дела, лейтенант?
— Не могу пожаловаться, — ответил Старик и пошел дальше.
Он снова подумал о Селвине. Значит, вот это как, когда тебе дают пинка под зад? Ты слоняешься по космодрому, толкаешь тележку, возишься с топливопроводом и благодарен за то, что тебе дают еще понюхать, как пахнут космические корабли, и почувствовать, как дрожит под ногами земля во время старта. Ты смотришь на пилотов, у которых еще нормальное зрение и хорошая реакция, и завидуешь им.
Старик грустно покачал головой. Ну и паршивая же иногда работа — водить космические корабли! Одни тесты, например, чего стоят: тест перед взлетом, тест после посадки… Последний раз он проверялся на Каллисто, и скоро ему это снова предстоит, перед тем как отправиться на Нептун. Да уж, следят за тобой что надо.
— Привет, лейтенант Картер. Как полет?
Это был Халверсен, главный врач базы.
— Все нормально, док. Жаловаться не на что.
— Очередной осмотр скоро, лейтенант?
— Наверное скоро, — ответил Старик. — Говорят, следующий мой рейс — к Нептуну. — Он широко улыбнулся и пошел дальше.
Через несколько минут он уже был у входа в Административный корпус.
Дверь из пластика распахнулась при его приближении. Навстречу ему поднялся делового вида секретарь в отутюженном мундире и сверкнул рядом ослепительно белых зубов.
— Добрый вечер, лейтенант Картер. Командующий базой ждет вас.
— Сообщите ему, что я уже здесь, — произнес Старик, подошел к аппарату с газированной водой, спокойно выпил стакан (ничего более крепкого он себе не позволял, чтобы не ослабить рефлексов) и направился к деревянной двери с табличкой «Д. Л. Джекобс. Командующий базой».
Старик на мгновение остановился, отряхнул летную куртку, разгладил галстук, расправил плечи, потом постучал.
— Кто там?
— Лейтенант Картер, сэр.
— Входите, лейтенант!
Старик отворил дверь и вошел.
Командор Джекобс застыл у стола, в позе его читалась въевшаяся в плоть и кровь военная выправка. Рука Старика резко вздернулась в приветствии, Командор отсалютовал в ответ.
— Садитесь, лейтенант.
— Спасибо, сэр.
Старик выдвинул стул, сел и выжидающе уставился на Джекобса. Старик знал, что в прошлом Джекобс сам был космонавтом. Интересно, подумал он, и как это так получилось, что Селвин стал механиком, а Джекобс — командующим базой? Впрочем, по сравнению с работой пилота, ни то, ни другое гроша ломаного не стоит.
Командор Джекобс порылся в ящике стола и извлек оттуда длинный коричневый конверт. Старик широко улыбнулся: в конверте должен был быть чек за полет с Каллисто.
— Как прошел полет, лейтенант?
— Хорошо, сэр. Я заполню журнал чуть позже. Но все прошло нормально.
— Все и должно было быть хорошо, лейтенант. Чуть хуже — уже катастрофа.
Вы об этом, конечно, знаете.
— Конечно, сэр.
Командор нахмурился и вручил Старику коричневый конверт.
— Здесь оплата за выполненный рейс.
Старик взял конверт и засунул в нагрудный карман. Обычно после этого выдавалось назначение на следующий полет — в толстом зеленом конверте.
Но командор Джекобс покачал головой.
— Пожалуйста, лейтенант, вскройте конверт. Я хочу, чтобы вы взглянули на чек сейчас.
— Но электронный кассир еще ни разу не ошибался, — недоуменно поморщился Старик. — Готов поспорить…
— Вскройте конверт, лейтенант.
— Есть, сэр.
Старик вскрыл конверт кончиком пальца и вытряхнул на стол содержимое.
Отложив в сторону голубой чек, он бросил взгляд на сумму и присвистнул.
Потом он прочитал прилагающуюся распечатку.
«Картер, Реймонд Ф., лейтенант.
За рейс с Каллисто, по обычным расценкам: 7431.62 долл.
Выходное пособие: 10 000 долл.
Итого: 17 431.62 долл.»
— Выходное пособие? — ошарашенный Старик поднял глаза. Голос его упал до хриплого шепота. — Но это значит, что я… я…
— Боюсь, что так, — кивнул командор Джекобс. — Тот тест, который вы проходили на Каллисто…
— Но я же прошел его!
— Но он показал, что ты завалишь следующий. Я просто стараюсь обойтись без неприятной, но неизбежной сцены.
— Так вы что, вышвыриваете меня? — спросил Старик.
Когда-нибудь этого следовало ожидать, но он оказался не готов. Ему показалось, что весь мир вокруг начинает неудержимо вращаться.
— Мы увольняем тебя в отставку, — поправил его Джекобс.
— Но у меня же еще есть время! Дайте слетать еще хоть разок к Нептуну!
— Это будет уже рискованно, — отрезал Командор. — Послушай, Картер, не мне тебе объяснять, что пилот обязан быть только в превосходной форме, и никак иначе. Все мы через это проходим.
— Но я же еще молод.
— Молод? — усмехнулся Джекобс. — Молод? Чушь, Картер. Ты ветеран. У тебя даже прозвище Старик, разве не так? Взгляни только на эти морщинки около глаз! Да ты просто живая окаменелость, тебе место в музее. Боюсь, мы должны тебя уволить. Но работа на базе для тебя всегда найдется.
Старик сглотнул подступивший к горлу ком, стараясь сдержать слезы.
Внезапно ему вспомнился Джим Селвин, и он понял, что ничем не отличается от остальных. Старикам не место в космосе. Только молодой может быть пилотом, и реакция у него должна быть молниеносной.
— Хорошо, сэр, — хрипло выдавил он. — Сдаюсь. Я зайду дня через два… мы поговорим насчет работы на базе. Мне надо немного прийти в себя.
— Мудрое решение, лейтенант. Я рад, что вы понимаете.
— Конечно. Конечно понимаю, — сказал Старик. Он подобрал чек, засунул его в карман, вяло отсалютовал и двинулся к выходу. Выйдя на поле, он обвел взглядом ряд сверкающих кораблей, готовых рвануться к звездам.
«Это больше не для меня, — подумал он. — Никогда больше».
Но все-таки он признал, что Джекобс был прав. Как бы он сам ни отрицал этого, несколько последних полетов основательно вымотали его.
Скрывать это больше не было смысла. Он махнул рукой Джиму Селвину и направился к нему поделиться новостью.
Плохо, конечно, но что поделаешь. Для пилота он уже стар, и трудно на его месте ожидать чего-то другого. Когда-нибудь это должно было случиться.
Да он действительно настоящая живая окаменелость.
Подумать только, ему уже почти двадцать!




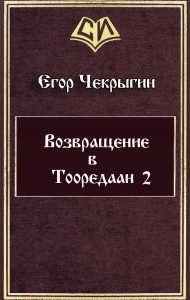




Комментарии к книге «Царь Гильгамеш», Роберт Силверберг
Всего 0 комментариев