Джеймс Блэйлок Подземный левиафан
Посвящается Вики, а также Джонни и Дэнни — лучшим на свете сыновьям и консультантам по научным вопросам.
Но самое главное, Дэйзи и Лорену Блэйлок, моим родителям.
Конечно, человек — престранный зверь,
И странное находит примененье
Своим чудесным склонностям. Теперь
У всех экспериментом увлеченье:
Мы все стучимся в запертую дверь.
Таланты процветают, без сомненья.
Сперва поманят истиной, а там
Исподтишка и ложь подсунут вам.
Д. Г. Байрон. Дон Жуан. Часть I, октава 128КНИГА ПЕРВАЯ ДОМ-МОРЕХОД
…Признаться, раньше я тешил себя надеждой, что произведение мое не лишено светлой искры. Однако кроме того, что оно доходит объемом до двухсот страниц, обнаружилось, что в нем имеется не единственное указание на глупость созданной Богом вселенной и не один намек на то, что сам я мог бы создать нечто гораздо лучшее. Не знаю, где все это время была моя голова. Похоже на то, что я забыл о знаменательной и важной роли человека в этом мире. Вот мое упущение, которое делает эту книгу совершенно неважной с философской точки зрения; тем не менее я надеюсь, что ее эксцентричность покажется любопытной определенным фривольным кругам.
Пролог
Казалось, мангровые деревья движутся в серебряном свете полночной луны. Из солоноватых вод Риу-Жари, в переплетении рукавов тянущейся на север к Суринаму, туда, где голосистые лягушки квакают и плещутся в стоячей воде, вздымались арками изогнутые корневища. Меньше чем в пяти милях к югу медленно текла темная молчаливая ширь Амазонки — почти сорок миль от берега до берега. Ночь была теплая, луна, которая, казалось, закрывала собой почти половину неба, лила на цветы мангров свой водянисто-желтоватый свет, игравший на пятнистой коре лежащих на берегу и наполовину утопленных в воде огромных древесных стволов, увитых стеблями орхидей.
Бэзил Пич половчей перехватил расщепленный конец кривого сука, поднатужился и с размаха забросил тяжелую сеть в воду. На берегу, за его спиной, горела парафиновая лампа, но ее грязно-желтый свет почти мгновенно терялся в лунном мерцающем сиянии.
Уильям Ашблесс писал стихи и наблюдал за тем, как Пич ловит рыбу. Вот уже три часа Пич не говорил ни слова. Выше, на песке, спали профессор Рассел Лазарел и Филлип Мэйс, специалист по чешуекрылым. Было два часа ночи. Ашблесс тоже спал бы, если б не луна, так способствующая стихосложению, и если бы не его подозрения в отношении Бэзила Пича.
Неделю назад, после ловли цихлид на реке Пиватин во Французской Гвиане, они отправились на юг на пароме, курсирующем между Беленом и Ресифи. Паром шел ужасно медленно. Бэзил Пич не сводил глаз с джунглей: они притягивали его, как рыбу притягивает тень внутри подводных пещер. В Макапа он остался на корабле и три дня кряду пролежал пластом в каюте, где было жарко, влажно и парно, как в бане.
В Макапа профессор Лазарел нанял лодку и, к изумлению ее хозяина-рыбака, занялся тем, что приказал возить себя взад-вперед вдоль берега Амазонки, где разыскивал омуты и промерял их при помощи пятисотфутового троса со свинцовым грузилом размером с небольшой апельсин на конце. Через неделю в бассейне Риу-Жари у Лазарела вышел весь трос. Грузило уходило все глубже в темную бездну реки, увлекая за собой ярды троса, от которого наконец не осталось ничего, кроме восьми или десяти дюймов, привязанных к чудной резной деревянной фигурке, украшающей нос нанятой рыбацкой лодки. Профессор Лазарел обругал себя за то, что не запасся еще пятью сотнями футов троса — однако он знал или по крайней мере верил в то, что ругает себя понапрасну, так как и тысячи футов троса здесь не хватило бы. Омут, не сомневался он, был бездонным. На следующий день он поймал семьдесят четыре тетры, с большой палец руки каждая. Рыбки были необычной люминесцентно-голубой окраски — голубой с оттенком весенней масти лосося, розового и фиолетового. Профессор Лазарел был совершенно удовлетворен.
Но Бэзил Пич не знал покоя. Его рыбалка успеха не имела, а удлиненное, лишенное растительности лицо оставалось девственно белым, несмотря на сияющее тропическое солнце. И днем и ночью он носил, не снимая, фуражку с прозрачным зеленым козырьком в фут длиной и поднимал воротник рубашки, пряча под ним шею, на которой прямо под ушами с обеих сторон были заметны следы полосок жабр-рудиментов в форме правильных полумесяцев. По мнению Ашблесса, Бэзил Пич был человеком очень необычным, со странностями. Как и дед и отец Пича. Вполне возможно, что когда-то они были рыбами или по крайней мере бледными человекообразными земноводными. Что касается Бэзила, тот гораздо лучше чувствовал себя здесь, в душных мангровых болотах бассейна Амазонки, чем на улицах Лос-Анджелеса за тысячи миль отсюда.
Пич снова закинул сеть и, потянув за поводок, выставил снасть поперек течения. Ашблесс курил трубку и время от времени что-то царапал карандашом в своей записной книжке. Этот цикл стихотворений он хотел назвать «Луна Амазонки» и посвятить его своему старому другу Дону Блэндингу. Но больше всего Ашблессу хотелось сейчас пропустить хорошую порцию скотча и послать ей вдогонку бутылку пива. Краем правого глаза он видел в небе огромный, обращенный горбом вверх серп луны. Ашблессу начало казаться, что он, закрытый сверху лунной крышкой, сидит в банке, стенки которой состоят из мангровых зарослей. На луне он замечал тени, возможно горы, а в западной части горящего серпа — длинную извилистую полоску, похожую на пыльное устье высохшей могучей реки, которой Амазонка в подметки не годилась. Вместе тени гор и высохшая река складывались в издевательски смеющуюся рожицу, напоминающую древнее японское нэцке, наглотавшееся звезд. Но Бэзил Пич на все это не обращал внимания. Он стоял среди речных водорослей и прислушивался.
Выше по течению реки что-то сильно плеснуло. Пич забросил снасть, и та, несколько секунд пролежав в воде неподвижно, внезапно забилась и затрепетала под погруженным в воду суком, дернула его и изогнула. Неожиданно верховье реки ожило в серебристом огне. Миллионы искр отраженного лунного света засияли на рябистой поверхности, расходясь во все стороны по темной воде. Маленькие сверкающие блестки появлялись и исчезали, словно кто-то разбрасывал в темноте пригоршни алмазов. Река была полна рыбы, и тысячи голубых тетр сверкали чешуей в удивительном фосфоресцирующем свете невероятной луны.
В воздухе пронесся стон, как будто само небо изнемогло от напора могучего прилива — бесчисленные рыбки поднялись над джунглями переливчатым потоком, водоворотом закружились около ночного светила, словно пытались столкнуть его с небес. Серебряные искорки замерцали, и в мире не стало ничего, кроме рыбы, а река была темна и тиха, не считая слабых и таинственных всплесков попавшегося в сеть существа.
Когда Ашблесс сумел наконец оторвать взгляд от этого зрелища и наклонился чтобы поднять с песка выпавший из пальцев карандаш, Бэзил Пич двадцатью футами выше по реке с плеском брел по мелководью, очевидно тоже привлеченный луной. Ашблесс следил за Пичем до тех пор, пока тот не скрылся из виду, после чего, выждав час, провалился в сон, чтобы очнуться лишь утром, когда сквозь вершину мангров уже пробивалось солнце. Пича нигде не было.
Доносящийся с реки тихий плеск напомнил Ашблессу о рыбе в сети. С помощью Мэйса он вытащил снасть и развернул ее в траве на берегу. В сети обнаружилась одна-единственная жертва — к невероятному изумлению профессора Лазарела, это был морской целакант с прицепившимся совсем недавно к подбрюшию паразитом; черная чешуйчатая рыба медленно умирала на солнце. Лазарел препарировал улов и поместил в бутыль органы, не в силах поверить в то, что имеет дело с живым представителем рода Latimeria. В желудке существа он нашел панцирь и фрагменты щупалец однополостного цефалопода-головоногого, по всей вероятности относящегося к позднедевонскому периоду.
Бэзил Пич так и не вернулся. Через четыре месяца Лазарел получил открытку из английской глубинки с адресом местечка близ озера Виндермеер.
Глава 1
Уже три дня дули горячие ветры Санта-Ана, наполняя воздух статическим электричеством и принося с собой запах пустыни. На холмах Голливуда и горах Сан-Гейбриел полыхали пожары. К первому ноября сложилось впечатление, что все окрестности Лос-Анджелеса выгорели дотла. Темные тучи дыма застилали горизонт, а когда ветер изредка стихал и переставал гнать дым на северо-запад, тонкая черная зола и сажа сыпались с неба подобно мертвому мельчайшему дождю. По вечерам склоны холмов в разных местах пестрели пятнами ярко-оранжевого огня и сумерки разрывал вой сирен пожарных машин, мчащихся по бульварам. Из приемников автомобилей доносились обрывки трагических репортажей с места событий, в которых не последнее место отводилось предположительному поджогу. По мнению Джима Гастингса, в эти минуты направлявшегося в «Гудзоне Осе» — машине дяди Эдварда — к океанскому побережью, все эти разговоры о поджогах не имели под собой никаких оснований. Он пребывал в полной уверенности, что исчезни в одночасье все на свете поджигатели, все равно, едва почувствовав первые порывы жаркого осеннего ветра, склоны холмов, покрытые сухим кустарником, запылали бы сами собой, в лучших традициях мистера Крука, старьевщика.
Отлив был невероятно низким — вода отхлынула почти на восемь футов. В три часа пополудни океан отступил на две сотни ярдов, обнажив вдоль побережья полуострова Пало-Верде все скалы и рифы. Береговой бриз, поднявшийся поздним утром, разогнал облака, и небо было чистым и ясным, как дождевая вода. С вершины утеса Джим Гастингс и его лучший друг Гил Пич могли видеть остров Каталина, во всей своей волшебной красе плывущий среди бесчисленных солнечных бликов, играющих на мелких волнах. Каждый клочок зарослей чапараля и кривой дуб на острове были видны преотлично, и Джиму с Гилом казалось, что пролив Санта-Барбара, пробудившись от сна, вдруг почувствовал себя не чем иным, как частью Эгейского моря. Мальчики быстро спустились по крутой каменистой тропинке к пляжу, предоставив разгрузку старого «Гудзона» Эдварду Сент-Ивсу, дяде Джима. Джим, романтик, заявлял, будто знает из достоверных источников, что в пещерах утеса обитают дикие свиньи-пекари и циклопы, в зимние дни разгуливающие по пустынному пляжу. Гил, прагматик, отвечал, что все это выдумки.
Перебегая от одной группы камней к другой, мальчики разыскали несколько отличных прудков, оставшихся после прилива и содержавших в себе замечательных и удивительных рыб. Маленькие осьминожки и фиолетовые гольцы висели в тени зеленой и голубой морской травы и ленточных водорослей. Малочисленные стайки матово-серебристых морских окуней стрелой пересекали поперечник прудов побольше, в одном из которых под охраной бугристых оранжевых родителей обнаружилось десять тысяч медленно клубящихся мальков гарибальди, по пути от одной скальной тени к другой сверкавших на солнечном свету подобно вспышкам голубого огня.
Вскоре к ним присоединился дядя Эдвард, принесший с собой деревянное ведро, которое он называл «око Момуса». Дно ведерка было аккуратно выпилено, а на его место вставлен, плотно законопачен и просмолен по шву круглый кусок толстого стекла. Погрузив ведро со стеклянным дном до половины в рябистую воду пруда, можно было спокойно рассматривать подводную страну, которая после этого приобретала вид кристально-ясный, как за стенкой аквариума.
Однако в глубине некоторых прудов даже сквозь «око Момуса» ничего не было видно, кроме мрачных теней. Красные, голубые и зеленые водоросли исчезали в бездонной темной пропасти. Из-за рефракции света в толще воды невозможно было точно сказать, на какой глубине, например, спешит по зарослям латука краб — десять футов, двадцать или всего один.
Разбив с размаху о камни устрицу, Джим принялся один за другим бросать в пруд скользкие кусочки ее оранжевого мяса, наблюдая за тем, как они исчезают, схваченные жадными щупальцами анемонов. Один раз, на мгновение, ему почудился уставившийся на него из колеблющейся, испещренной тенями глубины огромный светящийся глаз — глаз рыбы, из любопытства поднявшейся из недр бездонной океанской впадины.
Джим был твердо уверен, что некоторые из приливных прудов фантастически глубоки. Это убеждение появилось у него после того, как он где-то вычитал, что Лос-Анджелес стоит на обширнейшей плавающей скальной подушке. Любая достаточно глубокая дыра в основании города рано или поздно приводила к океану. Ему вторил дядя Эдвард, любивший повторять, что пока вы спокойно посиживаете в своем кресле, курите трубку и читаете книгу, вполне возможно, где-то под вами, на глубине нескольких миль, плавает подводная лодка, высвечивая прожекторами колонии гигантских головоногих. При этом приливные пруды могли образовываться где угодно. Таким образом все это представлял себе Джим. Гил не торопился оспаривать гипотезу друга, как в случае циклопов. Он имел странную тягу ко всему, связанному с океаном, с древними морями с палеонтологическим чудовищами, которые ползали — и могли ползать до сих пор — по дну под толщей воды.
Гил появился на свет с точно такими же, как у его отца, полосками-рудиментами жабр на шее с обеих сторон. По странному совпадению, между указательными и средними пальцами его рук имелось нечто, напоминающее кожистые перепонки. Сразу после рождения врачи предлагали оперировать ребенка, но Бэзил Пич наотрез отказался от операции, вероятно считая эти отметины наследственной чертой своей семьи. Устранить их означало признать их ненормальность, на что Бэзил Пич пойти, конечно же, не мог. В свою очередь Джим не слишком задумывался о странностях Гила — до тех пор пока не познакомился с Оскаром Палчеком. До этой встречи Джим твердо полагал, что на свете множество людей с точно такими же, как у Гила, «украшениями». Оскар, однако, немедленно усмотрел в имени и отметинах Гила смешное — жабры. С тех пор его шутки и издевательства не прекращались — похоже, он мог продолжать их годами. Гил же был выше насмешек — или по крайней мере так казалось.
Гил не стал опровергать теорию Джима о бездонных прудах. Раскинув мозгами, Джим предположил, что, заметив в один прекрасный день у себя на лбу единственный глаз, Гил начнет относиться более терпимо и к идее циклопов. Сейчас же, взяв ведро, Гил лежал на сухом куске скалы на краю прудка, уставившись в воду как зачарованный — высматривая, быть может, левиафана.
Со стороны дяди Эдварда донесся громкий удивленный возглас. Перескакивая с камня на камень, Джим подбежал и упал на колени подле прудка, в глубине которого дядя Эдвард что-то нашаривал рукой. Ожидая увидеть какое-нибудь сокровище — жемчужину, старинную испанскую монету или на худой конец морскую раковину, Джим смотрел в воду во все глаза. Разглядеть ему, однако, ничего не удавалось — поверхность воды колыхалась от ветра, поднимающегося прилива и резких движений дядиной руки. Внезапно, набрав в грудь воздуха, дядя Эдвард по плечи погрузился в холодную воду и быстро выпрямился, добыв из прудка нечто, поначалу показавшееся Джиму куском белого коралла или высохшей лапой пеликана. Через несколько секунд он убедился, что это ни то ни другое. Это были выбеленные временем кости маленькой и узкой человеческой руки.
Находка, странная и таинственная для Джима, показалась не менее таинственной и дяде Эдварду, который, не обращая внимания на начинающийся прилив, некоторое время топтался на камнях, бормоча себе под нос что-то о батисферах. Прилив оказался таким же мощным, как и предшествующий ему отлив — все трое вскарабкались на утес и вернулись к машине уже мокрые по пояс. По дороге Джим не заметил ни одного циклопа.
На обратном пути Гил Пич, все еще в плену колышущихся глубин приливных прудов, обратил странно мало внимания на найденную руку. Когда «Гудзон» наконец выбрался на Береговое шоссе и зелень океана скрылась на западе за холмами, Джим вдруг пожалел, что у него нет под рукой какого-нибудь смотрового стекла — сродни ведру со стеклянным дном, «оку Момуса», — чтобы приставить его к голове Гила и узнать, что в ней творится. Он совсем не удивился бы, обнаружив там только медленно и плавно раскачивающуюся морскую траву и водоросли, а также стайки любопытных рыбешек и скопления моллюсков.
Совсем незадолго до этого Гил Пич увлекся книгами Эдгара Райса Берроуза. Эдвард Сент-Ивс собирал книги, преимущественно приключенческого жанра и научную фантастику, и чем более старым и безвкусным оказывался роман, чем крикливее были название и обложка, тем с большей охотой присоединял он его к своей коллекции. Тот факт, что сюжет или картинка на обложке могли не иметь никакого — хоть малейшего — привкуса достоверности, дядю совершенно не беспокоил. Подводные чудовища, сигарообразные стремительные ракеты, летающие тарелки классического абриса — вот что влекло его. Что-то в их облике взывало к той части его существа, которая ценила и уважала старый «Гудзон Осу». Кроме всего прочего, дядя Эдвард был одержим страстью накопительства, обладания большим количеством вещей. Он почти не читал своих книг, так как их содержание зачастую значительно уступало захватывающим иллюстрациям. Примерно раз в месяц, после удачного улова в «Книжном развале», дядя Эдвард устраивал смотр своей коллекции: вытаскивал романы Берроуза в бумажных обложках, раскладывал похождения Тарзана с одной стороны, марсианские приключения с другой, хроники Пеллюсидара где-нибудь еще. Обложки книг Роя Кренкеля, с их импрессионистскими пятнами и зигзагами, далекими шпилями полуразрушенных городов и тенями под мрачным пурпурным небом, он ценил особенно высоко.
— Взгляни-ка на эту машину, Джим, — говаривал дядя Эдвард, указывая на загадочный парящий аппарат, которым управлял Повелитель Марса. Кроме того, обложку украшали блестящий пурпурный шарообразный комплекс, несколько роботов и многочисленные перекрестия серебристых проводов. Повелитель Марса заносил над лежащей навзничь девушкой в оранжевом некий зловещий предмет, напоминающий шприц.
— Для чего эта конструкция ему понадобилась, как ты думаешь? — спрашивал дядя Эдвард.
— Может быть, для работы в саду? — отвечал вопросом на вопрос Джим.
После этого, несколько секунд попритворявшись, что внимательно рассматривает картинку, дядя Эдвард обычно отвечал:
— Да, я думаю, ты прав. Это трансмутатор репы. Точно, это он и есть.
В одну из таких суббот, когда Берроуз в очередной раз был разложен по полу, к Джиму заглянул Гил Пич и немедленно погрузился в созерцание книжных обложек, впав точно в такой же транс, как и на берегу приливного прудка. Эти иллюстрации стали для него окнами в другой мир, и он быстро нашел способ проникать в него сквозь непрочную поверхность бумаги. Медленно перелистывая один из маленьких томиков, Гил с восхищением рассматривал мастодонтов, обитающих в пронизанных солнцем джунглях, обводил пальцем туманные очертания облаков, плывущих над удивительными зданиями города Опар.
— Эй, взгляни-ка на эту машину, — громко и отчетливо произнес дядя Эдвард, подмигивая Джиму и указывая на знакомое шарообразное устройство. — Для чего она может быть нужна?
Джиму, отлично знакомому с правилами игры, не нужно было объяснять, что к чему.
— Может, для работы в саду? — откликнулся он нарочито искренним тоном, желая вернуть Гила в гостиную.
— Сомневаюсь — вряд ли он по этой части, — чувство юмора у Гила всегда было не на высоте. — По крайней мере, если он на самом деле садовник, то эта машина нужна ему для другого.
Гил некоторое время молча рассматривал странное устройство на обложке, пытаясь вникнуть в его возможное предназначение.
— В самом деле? — не выдержав, наконец подал голос дядя Эдвард. — А по-моему, она выглядит в точности как трансмутатор репы. Примерно такими же пользуются ирландцы для того, чтобы делать из картошки другие корнеплоды.
Гил поднял глаза и посмотрел на дядю Эдварда с сожалением и отчасти снисходительно, после чего указал на распростертую девицу.
— Вы хотите сказать, что он собирается превратить в репу эту девушку? — спросил он, словно допуская, что книга может быть посвящена вовсе не научно-фантастическим приключениям, как представлялось на первый взгляд. — Мне кажется, это устройство больше похоже на зубное сверло, — продолжал Гил, проводя пальцем по предмету, напоминающему шприц. — Этот врач собирается просверлить отверстие в ее черепе и произвести электродное прижигание.
— Гил! — воскликнул дядя Эдвард, чрезвычайно удивленный. — Где ты мог слышать о таких вещах?
— Я читал об этом, — спокойно ответил Гил, словно чтение о прижигании мозга электричеством сквозь отверстия, проделанные при помощи зубных сверл, было вполне обычным делом для пятнадцатилетних мальчишек в Игл-Роке. — Есть один человек, — продолжал Гил, — который прижигал мозг крысам, чтобы заставить их танцевать, — вживлял им какие-то маленькие железки, так, кажется.
— В самом деле? — переспросил дядя Эдвард, которому идея танцующих крыс была очень близка. — Так ты любишь читать о таких вещах, Гил?
— Люблю, сэр. Я ведь собираюсь стать ученым, изобретателем.
— Ну что ж, это очень неплохо, парень. Хорошее дело наука.
Дядя Эдвард собрал с пола несколько книг и поставил их обратно на полку. Краем глаза он наблюдал за Гилом — тот рассматривал обложку «Путешествия к центру Земли» с цветущими джунглями и двумя более чем легко одетыми женщинами, едущими верхом на двух синих динозаврах сквозь солнечное сияние. Гил осторожно открыл томик, перелистал несколько страниц, наконец добрался до начала первой главы и зачитал оттуда вслух две совершенно судьбоносные фразы.
— «После этого я попросил Перри рассказать мне о его изобретении. Перри был уже немолод, и большую и лучшую часть своей долгой жизни посвятил усовершенствованию собственного изобретения — машины, способной передвигаться под землей».
Гил захлопнул книгу, пристально всмотрелся в обложку еще раз, потом встал и вышел на улицу, не сказав больше ни слова. Он совсем не хотел быть невежливым. Просто изобретение Перри — сама идея такого изобретения — захватило его воображение. Через год после этого Эдвард Сент-Ивс со знанием дела сказал, а потом повторил еще несколько раз, кстати и не очень, что за людьми изобретательными, но ничего не понимающими в транс-мутаторах репы, нужен глаз да глаз: они слишком серьезны, и от них можно ждать серьезных неприятностей. Как бы там ни было, но механический крот — подземный левиафан — был задуман Гилом в тот самый день и появился на свет через месяц.
Крот был не единственным изобретением Гила, воплощенным технически, — подобное выглядело бы удивительным. Конечно, нет. Созданием механических устройств Джим и Гил увлекались несколько лет. Время от времени, довольно регулярно, руку помощи им протягивал Оскар Палчек, и выражалось это в насмешках над недостатками созданных механизмов. В гараже у Гила была бочка, полная всевозможного механического барахла и утиля, который они с Джимом таскали отовсюду, откуда только можно: старых электромоторов, сломанных часов, болтов и кусков медной проволоки, зонтов-автоматов и радиоламп, алюминиевых бутылочных крышечек и велосипедных деталей, маленьких кожаных мешочков с капельками припоя и прочая, и прочая. На основе моторчика от старого вентилятора Джим и Гил собирали изумительные устройства. Проку от этих устройств не была никакого, за исключением самого их существования. Конструкторская деятельность началась с вращающейся модели Солнечной системы. При помощи кусков стальной проволоки различной длины к оси мотора крепилось девять разных шариков, и после подключения к сети планеты носились вокруг Солнца по тесным маленьким орбитам до тех пор, пока все устройство не разлетелось на куски.
После этого, придумав передачу, добавив к моторчику несколько деревянных шпулек, колесиков от старых будильников и резиновую ленту, Гил доработал систему так, что она смогла одновременно обслуживать сразу несколько солнечных систем, причем каждая из них вращалась по-своему. Оценив свое изобретение с точки зрения приобретенных начатков знаний из астрономии, он пришел к выводу, что подобное изобилие одновременно обращающихся планет так же ненаучно, как и трансмутатор репы, и в результате решил искать способ при помощи мотора приводить во вращение электрическую елочную гирлянду, растянутую особым образом между проволоками для крепления планет. Из гирлянды затем была изготовлена модель туманности Андромеды, которую Гил собирался подвесить под потолком гаража, зажечь, выключить свет, закрыть дверь на улицу и, приведя во вращение, смотреть, как она будет кружиться в космическом пространстве. Включенная в сеть туманность просуществовала несколько прекрасных калейдоскопических мгновений, взрываясь чередой коротких замыканий, и угасла навсегда.
После гибели туманности притязания изобретательской деятельности на научность были отброшены. Джим и Гил сняли с проволок звезды и заменили их всякой всячиной, в основном головами резиновых обезьянок и коллекцией пластиковых японских божков — кричаще раскрашенных фигурок с отвислыми брюшками и большими ушами. Оторвав от подставки копилку в виде глобуса, они прикрепили ее к длинной вешалке, установив среди разнообразных божков и обезьяньих морд. В довершение всего Гил нанизал на самый длинный кусок проволоки чучело зубастого крокодильчика с отломанным хвостом. Крокодильчик, весь изъеденный жучком, имел очень грустный вид, но когда механическая Земля была приведена во вращение и зубастое создание с распахнутой пастью устремилось в бесконечную погоню за морями, континентами и обезьянками, зрелище показалось Джиму и Гилу великолепным. Гил заявил, что в конструкции кроется глубокий смысл: крокодил — это Левиафан, и он должен в один прекрасный день проглотить Землю.
Они наблюдали за работой своего устройства два часа кряду, пока в гараже не появился Оскар Палчек и не поднял машину на смех, в особенности изгаляясь над крокодильчиком. Гил и Джим, смущенные, вынуждены были поддержать веселье и согласиться с тем, что, если засунуть одну из обезьяньих голов крокодилу в пасть так, чтобы она смотрела оттуда сквозь частокол зубов прямо на Африку, зрелище от этого только выиграет. С этого момента чистый эксперимент дегенерировал окончательно, и, прежде чем продолжить в этот вечер свой таинственный маршрут, Оскар Палчек, разыскав в углу гаража бейсбольную биту, как следует хватил ею по машинке. Глобус отлетел к стене гаража и разбился на этом существование механической Земли закончилось.
Тот же самый вентиляторный мотор и два его собрата в один из следующих субботних вечеров стали основной частью механического человека. Когда моторы включали в сеть, этот человек дергал руками и ногами, сделанными из консервных банок, связанных кусками веревки. Механический человек претерпел больше эволюционных изменений, чем вращающаяся модель Земли, но так же быстро пришел в упадок и закончил свои дни под колесами «Гудзона Осы» дяди Эдварда, сброшенный туда с кроны китайского вяза Оскаром Палчеком шутки ради.
После этого Гил пришел к убеждению, что любое изобретение, лишенное практического смысла, обречено физическими законами на гибель по тем же причинам, по которым деградирует человеческое существо, не имеющее целей и решимости их исполнить. Оскара Палчека Гил расценивал как явление природы.
К чему эта изобретательская деятельность могла привести, в ту пору никто из них не знал. Возможно, единственным, кто хоть как-то об этом догадывался, был Джон Пиньон, полярный исследователь, который всячески поощрял увлечение Гила механикой, заходя при этом настолько далеко, что время от времени покупал ему кое-какие детали и инструменты и заводил серьезные разговоры о диаметре земного шара. На этом этапе Джим сошел с дистанции. Серьезное изобретательство никогда его не интересовало, а в то, что постепенно обретающий форму механический крот Гила сможет закопаться в землю хоть на дюйм — не то что добраться до ее центра, — он и вовсе не верил.
Тот единственный раз, когда Джиму довелось взглянуть на крота, совершенно не изменил его мнения. По просьбе матери Гила они заехали за ним на ранчо Пиньона к подножию холмов Игл-Рок, чтобы отвезти домой. Там-то Джим и увидел крота — Подземного левиафана, как любил его называть дядя Эдвард, — сооружение из клепаных металлических листов в двадцать футов длиной, покоящееся на козлах, сбитых из железнодорожных шпал. Как бы там ни было, крот впечатлял: невиданное диво со странными плавниками, черпаками и глазами-иллюминаторами, забранными толстым стеклом. То же самое еще до зари космической эры мог бы нарисовать вам на тему «картинки будущего» какой-нибудь мелкий художник из бульварной газетенки, неуч, начисто лишенный даже зачатков фантазии и воображения.
Джим был сражен наповал. Эдвард Сент-Ивс исполнился презрения. «Пиньон — болван, каких поискать», — вот что он сказал, когда ревущий «Гудзон» нес его, Джима и равнодушного ко всему Гила, тихо ссутулившегося на заднем сиденье, обратно по бульвару Колорадо. Желанием создать такую машину Пиньон загорелся только из зависти и амбиций, но никак не из научных побуждений. Центр Земли ему и подавно не был нужен, он просто рвался обставить Рассела Лазарела и дядю Эдварда. Джим мудро кивал, соглашаясь с дядей.
Гил продолжал заниматься «кротом» и усердно трудился над его узлами и механизмами на заваленном всякой рухлядью и плохо освещенном верстаке в своем гараже. Частенько он словно исчезал из мира сего, полностью отдаваясь возне с механическими потрохами своего детища, его зубчатыми передачами и шатунами, проволоками и пружинами, болтами и электрическими проводами. Однажды, когда Гил ненадолго оставил его в гараже одного, Джиму посчастливилось прочитать несколько страниц из дневника, который Гил прятал у себя под матрасом.
В этом дневнике, на удивление длинном, было все. Гил не стал обуздывать свое самомнение и назвал эти записки «Конец Истории» — и вел их уже много лет. То, что Джим прочитал там, заполняло некоторые пробелы. Всего Джиму удалось бегло просмотреть всего шесть или пять страниц, но и это ужасно его взволновало, хотя он не мог точно сказать, почему. В этом дневнике было что-то странно необычное, как будто его строки неким непонятным образом были связаны с приливами и отливами океана, с течением времени и изгибами пространства, словно то, что Джим видел перед собой, не было дневником в обычном смысле этого слова — прошитыми четвертушками бумаги, заполненными рукописным текстом. Джиму показалось, что под обычной поверхностью его подстерегает нечто, похожее на смутные тени, скользящие в океанских глубинах, — может быть, тени облаков, а может быть, проплывающих огромных темных рыб, мчащихся сквозь серую и стремительную воду. Что-то искусно пряталось за строками дневника, уплывало в сторону и кружило, так ни разу и не показавшись на поверхности. Стоило Джиму начать думать об этом, еще не сознавая пока, что это — тени высоких облаков или подводных чудовищ, — он уже не мог об этом забыть или выбросить из головы.
Он не успел перелистнуть шестую страницу: дверь гаража стукнула, и появился Гил, груженный здоровенным мотком медной проволоки. Джим быстро засунул дневник обратно под матрас и притворился, что захвачен чтением «Дикого Пеллюсидара». Неделей позже он совершил ошибку, рассказав о дневнике Гила Оскару Палчеку. Тот, недолго думая, его свистнул.
Глава 2
То, что он остался в одном ботинке, Уильям Гастингс заметил, только когда начал перелезать через стену в глубине собственного сада — верно, он потерял его, зацепившись за корень плюща. Прыгая возле кирпичной кладки и безуспешно пытаясь подтянуть свое тело наверх, он тихо ругался, задыхаясь и чувствуя, что теряет пуговицы на пальто. Требовалось действовать тихо — вот в чем был весь фокус. Тихо и быстро, только так. Но былая сила ушла из его рук. Да и тело совершенно утратило гибкость — вероятно, из-за того, что впоследние два года Уильяма регулярно пичкали лекарствами.
Уильям повернулся и, решив отдышаться, некоторое время рассматривал через плечо видный ему из-за угла соседнего пустующего дома испещренный тенями деревьев кусок Стикли-авеню. Погони пока не было, но он знал, что они все равно кинутся следом, по крайней мере Фростикос. Бдительность была крайне необходима. Каждая минута сейчас шла по двадцать долларов, а то и по пятьдесят. Справа, посреди травянистой лужайки, виднелся приземистый дом Пембли. В ту секунду, когда от его пальто отлетела и скрылась в траве очередная пуговица, Уильяму показалось, что он заметил лицо наблюдающей за ним из окна миссис Пембли. Старуха, вне всякого сомнения, следила за ним — он был уверен в этом. Он что есть силы рванулся вверх, навалился на забор грудью, на миг завис в таком положении, перекувырнулся и упал в траву на спину, словно жук.
Сердце стучало в груди словно молот. Уильям полежал тихо, глубоко дыша. Потом попробовал пошевелить пальцами рук и ног — ему показалось, что он сломал позвоночник, что тот хрустнул, словно сухой сучок. Но все было в порядке.
Когда Эдвард Сент-Ивс оторвал взгляд от книги и взглянул в окно, то увидел Уильяма, своего шурина, проворно бегущего к дому на четвереньках. Эдвард поспешно встал и распахнул окно.
— Уильям! — удивленно воскликнул он. — Откуда ты взялся?
Уильям бешено замахал руками, словно комкая невидимую газету, потом быстро и резко указал пальцем через плечо, страшно выпучил глаза и замотал головой. Через секунду он ворвался в дом через черный ход, весь увитый плющом, в растерзанном пальто, и с размаху упал на кухонный стул. Эдвард закурил трубку.
— Решил погостить дома, да? — спросил он. — Устроил себе что-то вроде каникул?
— Верно.
Уильям внезапно снова бросился к двери черного хода и, резко отдернув на ее маленьком окошке занавеску, выглянул на улицу. Ему только что померещилось в щелке между занавеской и краем оконца: кто-то или, может быть, что-то — огромная медная голова или смеющееся детское лицо величиной с купальный тазик — внимательно смотрело на него из-за забора, выследив по оторванным пуговицам и потерянному ботинку. Однако ничего подобного за забором он не заметил.
Эдвард пыхтел трубкой как паровоз — под облаком вьющегося дымка то и дело загорался красный огонек. Уильям катится по наклонной — это было ясно. И не только по потертому пальто без пуговиц и отсутствующему ботинку. Его шурин был бледен и изможден, спутанные нестриженые волосы над ушами торчали на три дюйма. Кроме того, было и что-то еще — косая, жесткая складка рта, выдающая муки многомесячной конспирации и утаиваний.
Уильяму казалось, что в облезающей кудрявыми чешуйками краске на карнизах тихого соседского дома Пембли, в глубоких тенях под облетающими вязами, протянувшими корявые ветви через забор и роняющими осенние листья на лужайку под порывами полуденного ветра, таится предчувствие катастрофы. Он прислушивался, почти не дыша, разбирая и частью понимая кодовое перекаркивание пары черных ворон на ореховом дереве в конце улицы, которые — он видел это даже на расстоянии — следили за ним, подосланные, может быть, самим доктором Иларио Фростикосом.
Тишина надвигающихся сумерек была полна неизъяснимых грозных предположений, похожих на неотвратимо опускающийся кузнечный пресс.
— Что слышно от Пича? — неожиданно поинтересовался он, повернувшись к Эдварду, который задумчиво глядел на телефон.
— Почти ничего. Получили карточку из Виндермеера, месяц назад. Два месяца.
— И что он пишет?
— Ничего важного.
Уильям оставил занавеску в покое, подошел к буфету, распахнул дверцу и достал бутылку портвейна.
— Сейчас все важно, — изрек он. — На прошлой неделе я тоже получил письмо. Что-то затевается. Я совершенно уверен, что письмо читали — отпарили клапан, а потом заклеили снова библиотечным клеем. Я чую его за версту.
Эдвард кивнул. Юмор в таких случаях мало помогал. Безопасней было молчать. А в клинику он решил пока не звонить. Это он успеет сделать в любое время. Но состояние Уильяма действительно ухудшилось. Однако если он немного побудет дома, хуже от этого не станет.
В этот вечер, вернувшись из школы, Джим Гастингс нашел дома отца и дядю, которые уютно расположились в креслах в гостиной. На кофейном столике и на полу под ним были разбросаны годовые подписки «Сайнтифик америкэн» и «Эволюции амфибий», а на сложенных стопкой перед отцом затертом томике избранной поэзии Блэйка и «Луной Амазонки» в твердом переплете лежал скелет маленькой кисти из приливного прудка. Уильям Гастингс был погружен в глубокие раздумья.
На следующее утро с океана нанесло тумана; он клубился над росистой травой двора, капая с ветвей вязов. Уильям стоял у окна, лениво потирая лоб и размышляя о реках тумана, о подземных реках, о реках, несущих свои воды к центру Земли, к подземным морям, где жизнь проявляет себя быстрыми проблесками темных блестящих плавников и гладких спин зубатых китов. Туман на секунду рассеялся, и Уильям моментально прижался лицом к стеклу.
— Эдвард! — взволнованно воскликнул он.
— В чем дело? — Сент-Ивс торопливо вошел в комнату, вытирая руки кухонным полотенцем.
— Взгляни-ка вот на это.
В течение нескольких мгновений за окном не было видно ничего, кроме молочного марева. Затем туман расступился, и Уильям победно указал на лужайку под развесистым вязом.
— И что ты по этому поводу думаешь?
— Что пес все-таки пробрался в наш сад, — раздраженно заметил Эдвард. — Наверно, я оставил ворота открытыми.
Уильям вихрем вылетел из комнаты. Дверь черного хода хлопнула, потом еще раз, и он вновь ворвался в комнату, на этот раз с глазами круглыми, как блюдца.
— Ворота заперты. Но не в воротах дело, черт возьми. Открытые ворота тут ни при чем. Это как раз то, о чем я тебе говорил.
— Ага, — отозвался Эдвард, начиная опасаться, уж не дошло ли и впрямь до этого.
— Я уверен, что Пембли приложили к этому руку. На всем этом дерьме я вижу отпечатки их подлых пальцев.
— По-моему, — ответил Эдвард, не совсем понявший шурина, — кучка нетронута и имеет первозданный вид. Пембли пока рано обвинять. Честно говоря, мне кажется, что ты ошибаешься.
— Они перебрасывают свою собаку через забор, чтобы она гадила на нашу лужайку, ни более ни менее — вот о чем я говорю. Какие уж тут сомнения. Ты наивен, Эдвард, и ничего не замечаешь. А я много думал и наблюдал. И если хочешь знать, то здесь есть связь. Но мы не должны уступать им в бдительности и коварстве.
— Ага, — ответил дядя Эдвард.
— Для начала мы подстрижем живую изгородь вдоль забора. Понимаешь, если укоротить изгородь на фут, то, спрятавшись вон там, за шторой, я смогу видеть всю их гостиную как на ладони. Они примут меня за торшер. Никто ни о чем не догадается. Я собираюсь раскрыть их мелкие каверзы. Им меня не провести — я их вижу насквозь.
И снова дядя Эдвард не знал, как быть — свести все к шутке или вразумлять шурина. Он давно уже взял себе за правило во всем соглашаться с людьми горячими и рьяными, поскольку они в большинстве своем обычно страдали сумасшествием разной тяжести. Вести открытую дискуссию на равных смысла не было.
— В чем конкретно, — спросил он Уильяма, — ты подозреваешь Пембли? Если они строят каверзы, то делают это ужасно ловко.
— Ловко? — фыркнул Уильям с диким смешком. — Да они мне в подметки не годятся. Я их проучу, помяни мое слово. Ты удивляешь меня, Эдвард.
Сказав так, Уильям, видимо, удовлетворенный своим планом стрижки живой изгороди, повалился в зеленое просторное и очень мягкое кресло и, прихлебывая кофе, задумчиво уставился сквозь решетку камина в его пустые, черные от сажи недра.
Внезапно что-то сообразив, он вскинул голову.
— Неужели ты не видишь, что эта рука и рыба профессора Лазарела суть звенья одной цепи? А открытка Пича из Виндермеера? Да здесь голову сломаешь, такая тайна…
Уильям сделал паузу и покосился на свой кофе, потом принялся нашаривать на столе трубку.
— Ты помнишь, — продолжил настаивать он, — второе собрание Общества Блейка? Тот вечер, когда этот университетский болван прочитал нам лекцию об образах рыб у поэтов-романтиков? Как его звали? Как-то ужасно нелепо. Явный псевдоним. Пядинг, так, что ли? Тогда он еще вывел Ашблесса из равновесия. Вспомнил теперь?
— Да, пожалуй, — ответил Эдвард, — тогда действительно вышел небольшой спор. Но никто не срывался. А фамилия того джентльмена была Бадинг. Стирфорт Бадинг. И с докладом тогда выступал не он. Это был Брендан Дойл. А Бадинг совсем ненамного старше Джима и Гила.
— Значит, это был Дойл? Этот маленький заносчивый выскочка? Эксперт по романтикам! Эксперт по многим вопросам, не сомневаюсь! Знаешь, не удивлюсь, если окажется, что это он оставил нам свой автограф под вязом, — широко махнув рукой, Уильям указал на задний двор.
— Он немного хвастлив, это верно, — отозвался Сент-Ивс, пожимая плечами. — Но не так уж плох. Признаться, он мне даже симпатичен.
Во взгляде Уильяма ясно читалось, что в некоторых вещах Эдвард так и остался ребенком.
— Ашблесс в тот вечер налетел на него как петух — и не спорь со мной, Эдвард. Он готов был броситься на него с кулаками и кричал, что расквасит ему нос — вспомнил теперь? И все оттого, что тот допускал исторические несоответствия. Ашблесс тот еще тип. Можешь думать что хочешь о Дойле и об этих грязных Пембли, но с Ашблессом будь осторожен. Это мой тебе совет, — как бы подводя черту под приговором, Уильям махнул в сторону Эдварда черенком трубки.
— Я испытывал недоверие к Ашблессу с того дня, как с ним познакомился, — продолжил Уильям, пускаясь в приятное распутывание чужих интриг. — Человеку, сознательно взявшему псевдоним умершего поэта, для того чтобы прибавить своим стишкам веса, нельзя доверять. Не могу, конечно, сказать, чтобы он был совсем уж плох. В «кахуэнга» он один из лучших поэтов. Но он скользкий, как налим. Знаешь, кого он мне напоминает — Короля из «Приключений Гекльберри Финна». Я так и жду, что однажды он снимет шляпу и объявит при всех: «Я — дофин».
Выслушивая Уильяма, Эдвард медленно распалялся и уже составил в уме фразу в защиту Ашблесса, когда его шурин сорвался с места и стремглав подлетел к своему посту у шторы. Миссис Пембли, с бигуди в волосах и в халате с претензией на восточный стиль, бродила по своему саду за забором, высматривая что-то в сорняках. Крупный, мускулистый доберман-пинчер описывал круги около нее.
— Старуха что-то замышляет, — доложил Уильям. — Голову даю на отсечение — она перебрасывает ночью свою псину через забор, чтобы та гадила на нашу лужайку. Какая-то подлость затевается, помяни мое слово.
На секунду остановившись под вязом, миссис Пембли подняла голову и зачем-то заглянула вглубь кроны дерева.
— Понял! — выкрикнул Уильям с жаром, взмахивая левой рукой. — Проще пареной репы. Неужели они и в правду надеялись меня провести?
Эдвард определенно чувствовал, что обстановка накаляется.
— О чем это ты? — спросил он осторожно.
— Блок и помочи с уздой. Они переносят проклятую зверюгу через стену при помощи помочей с уздой и блока, дожидаются, пока она совершит свою гнусность, а потом выдергивают ее обратно, словно марионетку, будь она неладна.
И прежде чем Сент-Ивс нашелся, что ответить, Уильям уже был у задней двери. Выхватив из ящика с садовыми принадлежностями лопату, он подбежал к вязу, подхватил на лопату следы преступления и перебросил их через забор прямо в сорняки Пембли. Увидев, от кого исходит угроза, миссис Пембли прижалась спиной к стене гаража, стиснув обеими руками и что есть силы запахнув на груди отвороты халата. Казалось, она лишилась дара речи.
— Зря стараетесь! — прокричал ей Уильям и, пребывая в полной уверенности, что его ответный выпад и комментарии поняты должным образом, победоносно бросил лопату себе под ноги. Картинно отряхнув с рук пыль, он развернулся и возвратился в дом, к Эдварду, задумчиво скребущему макушку, в ожидании неминуемой бури. Но обошлось без последствий. Уильям вышел полным победителем. Позднее, тем же утром, он подстриг мешающую обзору часть живой изгороди и битых два часа передрапировывал шторы и переставлял мебель в гостиной, превращая ее в наблюдательный пост, заняв который он мог бы казаться случайному стороннему наблюдателю торшером, стоящим в углу перед окном. В своих стараниях Уильям зашел так далеко, что, приказав Эдварду прогуливаться с подчеркнуто беззаботным видом взад-вперед вдоль внешней части забора, сам, надев на голову широкополую соломенную шляпу (на западе такими иногда украшают напольные лампы, а на востоке их носят преимущественно кули), простоял некоторое время как фламинго на одной ноге за занавеской. О том, что дело шурина плохо, Эдвард догадался как только увидел Уильяма бегущим по двору на четвереньках, но то, что регресс оказался таким быстрым, стало для него пугающим сюрпризом. Выход из положения был только один: срочно перенаправить поток мыслей его бедного шурина в русло погони за интеллектуальными ценностями, отвратив его от воображаемых угроз. Нужно было подумать о Джиме. Мальчику наверняка тяжело смотреть, как его отец медленно, но верно «съезжает с катушек». Необходимо оградить сына Уильяма от заразительного безумия. В качестве одного из первых шагов нужно уговорить Уильяма снять с рубашек омерзительные алюминиевые бутылочные крышечки, которые он прикреплял там при помощи пробковых прокладок от этих крышечек. Вид подобных украшений на одежде отца несомненно причинял Джиму боль.
— На завтра намечено собрание Общества, — заметил Сент-Ивс Уильяму, когда идея с торшером исчерпала себя.
— Общества Блэйка?
— Нет, ньютонианцев, — ответил Эдвард. — Соберутся у нас. Придет кое-кто из твоих старых друзей.
— Сквайрс?
— И он тоже. Он сейчас занимается модификацией своей батисферы — устанавливает в ней нечто под названием «абсолютный гироскоп». Насколько я понял, это механизм, который помогает сохранять равновесие, но ты ведь знаешь, я не инженер. Лазарел затевает в следующем месяце экспедицию с погружением в одну из главных впадин Пало-Верде.
— Старина Сквайрс, — протянул Уильям. — У меня есть кое-какие идеи — хочу опробовать их на нем. Я недавно прочитал Эйнштейна, и у меня есть сюжет для превосходного рассказа. Высокая наука, высочайшая — гранит. Именно поэтому я хочу, чтобы Сквайрс был первым, кому я все расскажу. — Уильям почесал переносицу. — Как поживает лабиринт — цел еще?
— Конечно, — ответил Эдвард.
— Тогда пойду покопаюсь там пару часов. — Заново набив трубку, Уильям раскурил ее и поднялся из кресла, пыхая дымом. — Мыши, конечно, сдохли?
— Нет, — ответил Эдвард. — И есть прибавление. Все белые, ни единого черного пятнышка. Одна самка разродилась только вчера.
— Отлично! — воскликнул Уильям, просияв. — Нужно будет поместить помет к bufomorinus. Может, если мы будем кормить его кониной до отвала, он оставит мышат в покое и даст им возможность освоиться с ним. Это будет означать, что мы на полпути к успеху.
— Буфо сдох два месяца назад. Но я купил аксолотля — он здоровый как кролик, и разницы особенной нет.
Уильям кивнул, уже подхваченный вихрем научной мысли.
— Это хорошо, — сказал он. — Просто отлично. Наружные жабры — тоже хорошо. Кстати, как поживает Гил Пич?
— Лучше всех. По-моему, он напал на что-то крупное. Джон Пиньон присматривает за ним.
Не успели последние слова слететь с губ Эдварда, как он пожалел о том, что произнес их.
— Пиньон! — Уильям задохнулся. — Пиньон добрался своими грязными лапами до Гила Пича? Но Пич наш!
— Конечно, — успокоительно отозвался Эдвард. — Конечно. Я неверно выразился. К черту Пиньона.
В конце концов Уильям, надев широкий кожаный фартук, направился к задней двери, все еще бормоча себе под нос. На полдороге к «лабиринту» он остановился, повернулся, ворвался обратно в дом и проорал в кухонную дверь что-то нечленораздельное. Все, что Эдварду удалось разобрать, было «Пиньон» и «извращенец», но, решив не уточнять, он не стал спрашивать у Уильяма объяснений.
Глава 3
Общество ньютонианцев устраивало свои встречи раз в месяц, а если находилась причина, то и чаще. Два года назад то же самое общество носило имя Блэйка и занималось обсуждением вопросов литературы. В те времена Уильям Гастингс еще не «съехал с катушек» и был вполне в себе: обычный, может быть слегка эксцентричный, профессор университета Игл-Рок, специалист по романтической литературе, владелец потрясающей библиотеки, который, обнаружив в один субботний вечер, что у него на книжных полках в гостиной уже нет места для книг, отчего-то решил приспособить под это дело холодильник и засунул Геродота и томик «Белых дубов Джалны» между банками консервированного перца и пикулей.
Общество ньютонианцев образовалось уже после ухода со сцены Уильяма Гастингса, когда за ним, по жизнерадостному выражению Оскара Палчека, «закрылась дверь». Лирику принесли в жертву физике, а точнее, открытым разборам теорий профессора Лазарела. Вечером следующего после неожиданного появления Уильяма Гастингса дня — это был субботний вечер — Гил Пич и Джим торопливо шагали к дому Джима, взволнованно предвкушая встречу с учеными мужами и в особенности желая услышать мнение профессора Лазарела по поводу найденной в приливном прудке маленькой руки.
Средство передвижения профессора Лазарела — другого наименования для этого аппарата Джим просто не мог подобрать — со скрежетом затормозило возле кустов перед домом Джима как раз тогда, когда мальчики подходили к дверям. Это был допотопный «лендровер», огромное кубическое сооружение, казалось, почти целиком сделанное из дерева — дерева, покрытого слоями дорожной серой пыли, что наводило на мысли о саркофагах египетских фараонов, пролежавших дюжину веков в пустыне; дерева, которое само, под влиянием неведомых метаморфоз, постепенно начинало превращаться в пыль. Джим был уверен, что наступит день, когда эта машина, со скрипом и стуком преодолевая очередной извив шоссе в юго-восточной пустыне, наконец завершит трансформацию и превратится в несколько пригоршней серого праха, который развеет над песком смерчик, порожденный внезапной остановкой движения. Водитель едущего вдогонку автомобиля, еще не успев поверить до конца в существование катящегося впереди механизма, увидит в некотором отдалении серебристое облачко, тающее на голубом горизонте в туманном мареве, поднимающемся от горячей пустыни, и примет видение за мираж, не обратив внимание на удаляющуюся спину уцелевшей сердцевины исчезнувшего патриарха автомобильного движения — профессора Лазарела, спокойно шествующего с сачком для бабочек на плече к ближайшим зарослям юкки. Джим отдал бы все на свете, чтобы самому иметь такую же машину.
Следовало отметить, что профессор Лазарел всегда был готов к походу, это было его привычным состоянием. К огромному заднему бамперу его авто было приторочено нечто похожее на колчан с доисторическими лопатами и кирками и несколько парусиновых бурдюков для воды, которые вечно протекали, но в которых всегда что-то плескалось. Внутри «лендровера» по сиденьям были разбросаны топографические карты и лежала примерно миля пеньковой веревки, свернутой в бухту.
Сам Лазарел был свиреп и сухощав, все и вся принимал всерьез и презирал использование расчески. По сравнению с машиной, его пальто оставляло желать лучшего. Он торопливо прошагал мимо Джима, быстро кивнув, но, увидев Гила Пича, остановился. Мучительно придумывая, что сказать, профессор Лазарел пожал Гилу руку. Было заметно, что не смотреть на остатки жабр на шее Гила, которые почти не были видны под высоким воротом свитера, стоило Лазарелу огромного труда.
— Ты виделся с профессором Пиньоном? — спросил Лазарел внезапно, поднимая бровь.
Гил ответил, что виделся, вчера.
— Ах вот как, — отозвался профессор Лазарел, кивая. — И что же он сказал интересного?
— Ничего, сэр. Спрашивал меня о землеройной машине.
— Ах вот как, — снова сказал профессор Лазарел. — О той твоей машине, которая сможет передвигаться под землей? Эдвард много мне о ней рассказывал. Мне хотелось бы на нее взглянуть, если получится.
Гил ничего не ответил. Он слабо кивнул, не выказывая особого энтузиазма — что было странно, поскольку обычно Гил с жаром рассказывал о своих изобретениях. Джим заметил, что профессор Лазарел растерян, хотя и старается этого не показать. Они гуськом вошли в дом, в котором уже слышались громкие голоса, лился по рюмкам портвейн и висел густой табачный дым. Заметив отца, оживленно беседующего с Ройкрофтом Сквайрсом, Джим испытал облегчение. Страх перед тем, что под тонкой наружной пленкой нормальности в отце таится и ждет своего часа безумие, никогда не отпускал Джима. Ему казалось, что в любой момент его отец может соскользнуть с узкого края нормальности, дядя помчится к телефону, и появится санитарная машина, белая и завывающая сиреной. Оскар Палчек любил называть тех людей «парни в белых халатах» и очень веселился, описывая сачки, точь-в-точь как для ловли бабочек, только гораздо больше, и пастушьи арканы. Обычно Джим виновато смеялся над этими шутками. Но теперь отец был дома, и Джиму стало не до шуток. По правде говоря, он не мог сказать, как он относится к отцу. Все мысли Джима будто скрывала стена дымки, сквозь которую его разум не мог проникнуть. Насколько он понимал, такая же стена, порожденная той же туманной неопределенностью, существовала и в голове отца. Джим нередко возвращался в мыслях к тому дню, когда его мать умерла на склоне холма в предместье Лос-Анджелеса, и иногда задавал себе вопрос — вспоминает ли об этом дне его отец, и если вспоминает, то как часто?
В тот день они отправились на пикник в Гриффит-парк — Джим, его отец и мать. Общим голосованием было решено, что дядя Эдвард останется дома, тем более что и сам он собирался повозиться в гараже. Мама Джима сделала бутерброды, сказала, что они сначала прокатятся по холмам — уже покрытым зеленью после весенних дождей, — перекусят где-нибудь, а потом посетят дневной сеанс в планетарии.
На холмах они нашли небольшую дубовую рощицу (на деревьях еще совсем не было листьев), расположились и съели свои припасы. Мама говорила о новых занавесках для кухни, о знаках внимания, которые дядя Эдвард оказывает Вильме Пич, матери Гила. Джим помнил этот разговор слово в слово, несмотря на то, что в ту пору был совершенно равнодушен к кухонным занавескам и не понимал, почему кто-то должен интересоваться Вильмой Пич, да и вообще чьей-либо матерью. Теперь же, два года спустя, выцветшие кухонные занавески прочно связывались в его памяти с лицом мамы, и он мог вспоминать и думать только о том и другом одновременно.
После ленча Джим с отцом принялись бродить по бесчисленным тропинкам на склоне холма среди чапараля, наполняя бумажный мешок всяким полезным барахлом. У них и в мыслях не было наводить на холме чистоту; они были заняты поисками сокровищ — интересного и не очень механического мусора, которым можно было пополнить бочку в гараже Гила. В тот день на холмах их улов на девяносто процентов состоял из бутылочных крышечек того типа, у которых изнутри имеется пробковая прокладка и которые можно использовать по-разному с большим толком. Можно было, например, вынув прокладку, приложить крышечку к рубашке и вставить прокладку через рубашку обратно, зажимая тем самым ткань — крышечка после этого висела прочно и не падала. В ту субботу в парке Уильям Гастингс был просто одержим идеей бутылочных крышечек, и к тому времени, как их жажда сокровищ была отчасти утолена, их рубашки украшало от пятнадцати до двадцати бутылочных знаков отличия на каждого, отчего оба они напоминали представителей съезда в поддержку безалкогольных прохладительных напитков.
Мама Джима в притворном ужасе закатывала глаза, словно ее мужчинам такие проделки грозили жизнью в палате с мягкими стенами. В конце концов она согласилась поносить одну из найденных крышечек на блузке сама, по крайней мере до тех пор, пока они не приедут в планетарий.
Наполнив мешок доверху, Джим с отцом мирно спускались по тропинке к месту пикника, где их ожидала мама, отказавшаяся принять участие в экспедиции, — сославшись на непонятного происхождения боли, она осталась под дубами с книгой; Джим отлично помнил, что это был Бальзак и мама читала его в подлиннике. С первого взгляда Джиму показалось, что его мать уснула. Он поднял шум — засвистел и закричал отцу, который шел в пяти шагах позади, крикнул маме, какие замечательные вещи лежат в их бумажном мешке. Запустив руку в мешок, Джим вытащил оттуда вполне приличный перочинный нож с отскочившей костяной накладкой с одной стороны ручки.
По неким причинам отец Джима не повторил его ошибки и сразу понял, что мама вовсе не спит. Возможно, это объяснялось положением ее тела, тем, как она лежала. Следующие полчаса показались Джиму жуткой пантомимой: первые десять минут его отец пытался привести маму в чувство, а следующие двадцать сидел рядом с ней неподвижно, оцепенело глядя на голые ветви дуба, напротив которого стоял Джим.
Два рейнджера из охраны Парка, вызванные водителем случайно проезжавшей мимо машины, отнесли мать Джима на носилках к карете «скорой помощи», которая доставила ее в Мемориальный госпиталь, где было объявлено, что она умерла. Дядя Эдвард приехал в госпиталь за Джимом и его отцом. При желании Джим мог по минутам вспомнить три унылых, белых и хромированных часа, проведенных им в госпитале. Однако теперь, спустя два года, эти воспоминания никак не связывались в его памяти с матерью и, стало быть, не значили для него ничего. Он почти ничего не знал о работе человеческого сердца, и ему казался необъяснимым тот факт, что сердце матери вдруг решило остановиться, как часы, у которых кончился завод. Когда вечером дядя Эдвард вез их из госпиталя домой, на рубашках Джима и его отца все еще было полно бутылочных крышечек. Спросить, что это и откуда, дяде Эдварду не хватило чувства юмора. Сейчас, на встрече ньютонианцев, через два года после тех событий, Джим заметил, что отец все еще носит крышечки — к его рубашке были прикреплены две: крем-сода «Уайт Рок» и «Нэхи орандж». С чувством вины и досады Джим поймал себя на мысли, что хочет, чтобы отец не носил такие украшения.
Однако сию минуту Уильям Гастингс был далек мыслями от того трагического и переломного в его судьбе полдня в парке, от которого он не мог оправиться потом почти два года, — сейчас он был увлечен рассказом, который собирался написать. Ройкрофт Свайрс кивал, косился по сторонам, ковырялся в своей трубке с отделкой под армадилл, запихивал в ее просторную чашечку большую щепоть кудрявого табака, уминая сначала большим пальцем, а потом шляпкой большого гвоздя.
— Я понял, — вещал Уильям, попыхивая трубкой, — что релятивистская механика выеденного яйца не стоит. У меня родилась на ее счет своя мысль — выслушай меня, Рой, только со стула не свались.
Сквайрс кивнул, давая понять, что готов ко всему, в том числе и к падению со стула.
— Предположим, есть некий предмет, который разгоняется до скорости света, — продолжил Уильям, подавшись вперед и наставив на Сквайрса черенок трубки. — Масса предмета при этом возрастает, и это означает, что сам он увеличивается — наш предмет становится все больше и больше. Раздувается, словно воздушный шар, если ты понимаешь мою мысль. Именно это не позволяет развивать скорость, равную световой, — при такой скорости для нас места не хватит во всей вселенной.
Сквайрс хотел было что-то сказать, может быть опротестовать услышанное, но не успел и рта открыть, как Уильям, захваченный переполняющими его догадками и идеями из области науки и искусства, обрушил на него новое откровение.
— Кроме того, при приближении к скорости света мы оказываемся в условиях, которые на языке физиков называются «замкнутая прямая». Все вокруг нас, как ты понимаешь, идет по кругу — смена времен года, четыре этапа жизни человека, трансмутация основных металлов в золото, циклы эволюции, пространство и время. Все имеет одну и ту же природу. Кстати, ты знаком с диалогами Фибоначчи о цветах подсолнухов и циркулярных потоках звезд во вращающихся галактиках?
Вопрос был риторическим. Уильям и не думал дожидаться ответа.
— Параллельные линии, — продолжил он, — встречаются в отдаленном месте пространства. Прямая, уходящая в бесконечность, ловит свой хвост, как известный мифологический морской змей. Видишь ли, Рой, люди науки допускают здесь основную ошибку, потому что остаются слепы к определенным таинствам, к некоторым связям. Они полагают, что лесная поляна и в солнечном свете, и в лунном остается той же самой поляной. Но мы с тобой оба знаем, что это не так.
Сквайрс наконец уловил нить рассуждений. И кивнул.
— Понимаешь, Рой, лучи лунного света — отраженные и живые, но дневной свет — это совсем другое дело.
Хочу сказать тебе, что все это имеет первостепенное значение. В моем рассказе астронавт летит в своем корабле к альфе Центавра. Откинувшись на спинку кресла, он сидит перед большим круглым обзорным экраном и глядит на приближающиеся к нему звезды, представляя всю Вселенную в виде океана у своих ног, где звезды, как говорится в популярных стихах, «плавают, что сельди». Или можно сказать иначе: ему кажется, что он в озере с рыбой, а звезды и планеты, кружащие около него в пространстве, это следящие за ним, стремящимся вперед, глаза. Астронавт начинает расти — сначала незаметно, потом очень сильно. Его корабль распухает, достигая невообразимых размеров. Лицо астронавта приобретает сходство с улыбающимся месяцем, но сам он этого не замечает. Его корабль заполняет Вселенную. И вдруг впереди, там, где горит его цель, нужная ему звезда, в то время как его родная звезда у него за спиной мигает, угасая — столь велика его скорость, — он замечает невиданное: сквозь просторы космоса мчит сияющий корабль, колоссальный, застящий полнеба, весь в переливах разноцветных огней, непрерывно разрастающийся от безумной и все увеличивающейся скорости. Наш астронавт бросается за таинственным кораблем в погоню, чувствуя, как в глубине души зарождается благоговейный холод. И вдруг через смотровой иллюминатор прекрасного корабля он видит голову и плечи могучего гиганта, гротескного круглощекого бога, парящего над просторами Млечного Пути. И в краткий миг яростного прозрения и кристальной ясности сознания узнает незнакомца!
Бледный и потный, Уильям откинулся в глубину своего зеленого кресла. Сквайрс был сражен наповал. Профессор Лазарел, еще не пришедший в себя после неожиданного явления Уильяма, ошарашенно замер.
— Шедевр! — проговорил прислонившийся с бутылкой пива в руке к камину Ашблесс, седой и всклокоченный.
— Я еще не написал ни строчки, — живо ответил Уильям. — Когда моя проклятая печатная машинка наконец вернется из чистки, я сразу же засяду за работу. Что скажешь, Рой? Неплохо? Наука сейчас идет семимильными шагами, я уверен в этом, все заждались коллизий между искусством и законами природы. Ты читал «Две культуры» Сноу?
— Нет, — наконец выдавил Сквайрс. — Но не так давно я закончил книгу Бертрана Рассела по релятивистской механике. Советую тебе почитать…
Возможности закончить свою речь он так и не получил — Уильям звонко хлопнул ладонями по ручкам своего кресла, вскочил на ноги и с энтузиазмом внес предложение открыть новую бутылку портвейна. За успех, сказал он. Для начала он попробует отослать свой рассказ в «Аналог», который по достоинству оценит научное правдоподобие его произведения. Еще через секунду Уильям скрылся в кладовке в поисках штопора.
Ройкрофт Сквайрс осторожно взглянул на Эдварда Сент-Ивса — тот пожал плечами.
— Я уверен, — заявил тогда Сквайрс, — что Уильям намного опередил свое время.
Ашблесс сказал, что он в этом никогда не сомневался, а Сквайрс снова посмотрел на Эдварда и мигнул. Ашблесс задумался.
Профессор Лазарел громогласно откашлялся.
— Минутку внимания. Эти литературные дискуссии прекрасны, но ньютонианцы — научная группа, и сейчас я попрошу мистера Ашблесса дать нам отчет о его полярной экспедиции. Среди нас приглашенные гости — мистер Спековски из «Таймс» и доктор Орвилл Лассен из «Амфибианы».
Названные встали и поклонились — мистер Спековски, явный репортер, в очках и галстуке-шнурке, и второй гость, человек в огромном оранжевом свитере и штанах хаки, доктор Лассен из университета. Спековски хмурился.
— Я уверен, что выступавший сейчас джентльмен мало знаком с физикой. Масса, если я не ошибаюсь…
— Возможно, так оно и есть, но зато он хорошо разбирается в таинствах природы, — перебил Спековски Ашблесс. — Все сказанное им у меня не вызывает сомнений. Миру вокруг нас плевать на ваши расплывчатые «окончательные определения».
Спековски не нашелся что ответить. Возвратившийся Уильям наполнил бокалы присутствующих из только что откупоренной бутылки, не забыв Джима с Гилом, примостившихся в углу на кухонных стульях: им он вручил по полрюмки темно-красного вина.
— Насколько я понял, — снова заговорил Спековски голосом, полным сомнения, — нас пригласили сюда для того, чтобы мы услышали об открытии, которое вы, джентльмены, совершили несколько лет назад. Как мне показалось, ни о чем подобном до сих пор речи не было.
Ашблесс презрительно фыркнул.
Заседание было объявлено открытым. Уильям, все еще в лихорадке вдохновения, повалился в зеленое кресло и громко пыхтел трубкой. Ашблесс, единственный среди присутствующих, кроме профессора Лазарела, побывавший на полюсе, задумчиво взбалтывал содержимое своего бокала, наблюдая за водоворотом внутри. Глядя на поэта, Эдвард понял: тот собирается с силами и напрягает память, с тем чтобы доказать Спековски, что тот не потратил свой вечер зря.
Глава 4
— Пич тоже был там, — начал Ашблесс. Такое предисловие прозвучало весьма таинственно. — Не уверен, что все здесь знают, что это означает. Со временем вы поймете.
Глаза Ашблесса нацелились на Гила, который сидел в своем углу сонный, погруженный в мечтательную задумчивость. Трудно сказать, слышал ли он вообще многозначительную и малопонятную вступительную фразу поэта, в которой упоминалось имя его отца. Ашблесс нахмурился и продолжил:
— Хочу напомнить, что было это в 1954 году. С тех пор прошло десять лет. Экспедицию к Южному полюсу возглавлял профессор Пиньон. В шести сотнях миль вниз от Терра-дель-Фуэга в стене льда его носильщики нашли замороженного пещерного медведя — это была сенсация. Сейчас эта находка хранится в холодильной установке в подвалах Музея естественной истории в Лос-Анджелесе. Каждый из вас может взглянуть на этого медведя. Но сама по себе находка не так важна. Важно другое — сам этот факт. В книге Пиньона «Вход в Землю» теория пустотелой Земли основывается на открытиях, совершенных адмиралом Бердом на Южном полюсе, и на найденном пещерном медведе — на слухах и на одном неопровержимом доказательстве. Пиньон отмел результаты исследований других экспедиций и взял только то, что ему подходило — в этом он большой специалист. Он из тех зазнаек, которые высасывают доказательства из пальца, лишь бы подтвердить силу своего ума.
Ашблесс порылся в кармане пиджака и выудил оттуда несколько сцепленных скрепкой вырезок из «Таймс».
— «Путь к центру Земли?», «Пещерный медведь на Южном полюсе» — такие вот заголовки. В статьях есть ссылки и на другие удивительные находки, сделанные на полюсе совместной исследовательской партией Пиньона-Лазарела: ветки деревьев с листьями, бледно-оранжевая репа, вмерзшая в лед, каменный наконечник копья в теле доисторической птицы.
Ашблесс с подчеркнутым презрением бросил вырезки на стол и не стал нагибаться за ними, когда они соскользнули на пол. Уильям поднял вырезки и подал Спековски, который тут же положил их на курительный столик, даже не потрудившись просмотреть.
— Того, что было открыто лично мной, профессором Лазарелом и Бэзилом Пичем, пока партия Пиньона в пятидесяти милях к востоку гонялась за (розыгрыш — у меня нет в этом сомнений) призрачным живым мамонтом, которого, по слухам, видели несколько индейцев-охотников, нет в музейных подвалах. Четыре дня подряд мы прожили на краю ледяной пустыни около теплого озера, образовавшегося в естественной ледяной каверне — от его воды поднимался пар. Этот горячий источник — хотите верьте, хотите нет — находился на Эллсворстской возвышенности. Подо льдом мы обнаружили целую систему ходов и пещер, и небольшую их часть нам удалось осмотреть. Один из таких тоннелей, по которому мы шли, через четыре сотни футов привел нас на скалистый берег небольшого подземного озера. Как потом оказалось, это была только «верхушка айсберга». В тоннелях было светло — свет проникал сквозь полупрозрачную толщу льда над головой. На глубине сотен футов под поверхностью мы видели застывшие во льду окаменелости, остатки древних животных. В одном месте нам удалось рассмотреть сквозь лед только несколько толстых изогнутых костей янтарного цвета — насколько мы поняли, часть грудной клетки огромного, в десяток метров, существа — возможно, динозавра, — вмерзшего в лед. Под потолком туннеля, как раз там, где он выходил на берег удивительного озера, мы заметили голову и крылья отлично сохранившегося птеродактиля, застывшего в полете и с тех пор пристально смотрящего вниз сквозь голубой лед. Другая часть туловища птицы, скрытая молочно-белой наледью, принадлежала «темной стороне луны».
Хочу заверить вас, что Пиньону так и не удалось увидеть ничего из этих сокровищ. Вся система тоннелей обрушилась вследствие землетрясения, случившегося за день до того, как его партия вернулась из погони за собственной тенью с сомнительным гипсовым слепком непонятно кому принадлежащего следа.
Спековски многозначительно посмотрел на Лассена. Ашблесса это не смутило.
— Два участника нашей партии — индейцы-фуэги — исчезли бесследно. В один из вечеров они ловили рыбу на берегу того самого подземного озера. Бэзил Пич находился внутри ледяных пещер, когда ему навстречу с криками об ужасных чудовищах выбежал третий индеец. По словам фуэга, из недр озера появилась голова огромной рептилии и проглотила обоих его товарищей. После Пич клялся, что самолично видел под ледяным полом тоннеля скользящие тени огромных животных, похожих на саурианов — мезозойских амфибий, поднимающихся из глубины и вновь в ней исчезающих. По его мнению, ледяные туннели образовались в поверхностной корке, намерзшей на бескрайнем подземном море, лишь малой толикой которого было обнаруженное нами озеро. От индейцев не осталось никаких следов, кроме пятна крови и плавающей на воде шапки из ламы, принадлежавшей одному из них.
На следующий вечер профессор Лазарел и Бэзил Пич собственными глазами видели, как из озера высунула голову морская черепаха размером с автомобиль. Через секунду животное скользнуло обратно в пучину подземного моря.
— Фокус-покус! — неожиданно каркнул Спековски, не в силах и дальше сдерживаться. В отличие от репортера, его спутник застыл на краешке своего стула, разинув рот. Ашблесс пожал плечами. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился Филлип Мэйс, изнемогающий под тяжестью картонной коробки со спиртным и с сигаретой, криво свисающей из угла рта.
Джим обрадовался его приходу. Он всегда был рад Мэйсу, в основном по причине его предсказуемости. Невразумительное предчувствие обреченности и безумия, которое так угнетало Джима в общении с кем угодно, даже с отцом — в особенности с отцом, — забывалась в разговорах с Филлипом Мэйсом. И хотя Мэйс был неисправимым чудаком, это Джим ценил в нем более всего. Мэйс был заядлым путешественником, хотя ничто в его облике не напоминало об этом — он слегка косил и был вечно сонный. Однако он путешествовал по Амазонке в погоне за легендарным фиолетовым мотыльком величиной с небольшую птицу, поднимался на Гималаи, прочесывая невзрачные заросли высокогорной тундры в поисках крохотных бабочек, обладающих удивительной способностью к мимикрии и точно воспроизводящих рисунок окружающего, будь то дикая сирень, кусок гранита на склоне скалы, стебель травы или человеческое лицо. В жилище Мэйса было не продохнуть от запаха камфары, на стене в его кабинете висела приклеенная эпоксидной смолой к листу зеленого пластика засушенная бабочка размером с цаплю, пойманная в Колумбии индейцами и обожествленная ими, но затем проданная Мэйсу за пятидолларовую золотую безделушку, зажигалку и карманный фонарь с миниатюрой Санта-Моники внутри, на которую нужно было смотреть сквозь маленький глазок в тыльном торце фонаря, направив противоположный конец на солнце и постоянно напрягая хрусталик, чтобы отсеять от картинки тени ресниц и пальмовых ветвей. У Мэйса был целый ящик подобных безделушек. Он никогда не отправлялся в джунгли без дюжины предметов для обмена из этого ящика в своем рюкзаке. Во время второй встречи ньютонианцев он подарил Джиму один из своих знаменитых фонариков.
— А, Фил, — приветствовал Мэйса дядя Эдвард, когда дверь со стуком распахнулась. — Позволь представить тебе мистера Спековски и доктора Лассена.
Мэйс зажал коробку между коленом и левой рукой и подал Спековски правую, которую тот пожал с иронической улыбкой. Доктор Лассен, погруженный в свои пометки, которые делал в толстом блокноте, прошитом тугой пластиковой пружиной, никак не отреагировал на представленного ему нового гостя.
— Мы здесь обсуждаем открытие профессора Лазарела на Южном полюсе, — объяснил Эдвард. — Возможно, ты, Фил, возьмешь на себя труд познакомить мистера Спековски с интересными и странными обстоятельствами поимки двух тропических рыбок, добытых тобой и профессором.
Мэйс ответил, что сделает это с удовольствием, добавив, что с собой у него не только фотографии рыбок, но и одна из них непосредственно, законсервированная и плавающая в формальдегидном море в плотно закупоренной стеклянной банке. Двухдюймовая рыбка в банке оказалась бледной тенью фотографического изображения маленькой чудо-тетры, выловленной Лазарелом в Риу-Жари.
— Насколько я понял из ваших слов, — сказал Спековски, после того как Мэйс наконец замолчал, чтобы перевести дух, — одна из этих рыбок была выловлена в упомянутом озере на Южном полюсе, а другая — в устье тропической реки в Южной Америке?
— Совершенно верно. Что само по себе представляется невероятным.
— И это, по-вашему, должно убедить меня, что Земля полая внутри? Что под нами в эту самую минуту неандертальцы охотятся на мамонтов?
Гил Пич сидел и слушал как завороженный, с огромными как блюдца глазами.
— Положим, о неандертальцах до сих пор речи не было, — в интересах научной точности ответил профессор Лазарел. — Тем не менее этих двух рыбок мы расцениваем как веское доказательство.
Спековски презрительно рассмеялся, но было видно, что наживку он заглотил.
— Все это очень напоминает мне доказательства дрейфа материков.
Он еще раз взглянул на фотографию и на рыбку в банке. На цветном снимке окраска тетры была люминесцентно-розовой у хвоста и постепенно переходила в бледно-лиловую и голубую, а затем снова в розовую у жабр. Если бы не плавники, человек со слабым зрением легко мог принять эту рыбку за пасхальное яйцо.
— Послушайте, — вскочил вдруг Ашблесс, он раскраснелся и взволнованно приглаживал свои седины, — мы напрасно теряем время. На кой черт нам сдалась пресса? Боже мой, на полюсе мы видели такое, что этому… этому… журналисту и не снилось. Неужели для того, чтобы доказать подлинность наших открытий, нам нужны его дурно написанные заметки на последних страницах «Таймс»? Я далек от того, чтобы аплодировать Пиньону, но не могу не признать, что он человек дела и давно уже нас обставил, джентльмены, помяните мое слово. Мы мечем бисер втуне и не приобретем ничего, кроме головной боли.
Спековски с видом оскорбленного достоинства, поправил галстук и встал, потом перебросил через плечо пальто и, театрально расхохотавшись, покинул собрание. Эдвард Сент-Ивс, махая репортеру вслед костяной рукой, найденной в приливном прудке, пытался сообщить ему что-то о последних открытиях и о предстоящей экспедиции на батисфере, но остановить Спековски было невозможно — с него уже было довольно. Дверь хлопнула, комната погрузилась в молчание, во время которого — Джим был уверен в этом — профессор Лазарел собирался с духом, намереваясь обрушиться на Уильяма Ашблесса с обвинительной речью.
— Иногда, — начал Лазарел после недолгой паузы, — я не понимаю, на чьей ты стороне.
— Расс! — воскликнул Ашблесс. — Спековски нам нужен как собаке пятая нога.
— Он просто заинтересовался нашими достижениями, вот и все. Но теперь мы его потеряли. Теперь он не только не за нас, он против нас. Воображаю, какую статью он напишет.
— Кстати, о статьях, — внезапно подал голос доктор Лассен, отрываясь от своих грез. — У меня с собой вырезка из последнего номера массачусетской «Трибюн», которая наверняка вас заинтересует.
Лассен предъявил присутствующим квадрат картона с приклеенной к нему L-образной вырезкой.
«На массачусетском побережье найден гигантский кальмар!» — гласил заголовок. Статья, объемом около двухсот пятидесяти слов, описывала чудовищное головоногое следующим образом: «Гигантский кальмар, весьма похожий на того, с которым сражался в известном классическом романе Жюля Верна капитан Немо, длиной около сорока пяти футов, был вывезен с пляжа на автоплатформе». Биологи Вудс-хоула препарировали животное, в животе которого, вместе с частью древней деревянной статуи, украшавшей некогда неизвестный парусник, и парой медных щипцов с зажатым в них зубом, найдена полупереваренная часть туловища — торс и шея — предположительно человекообразного существа, хотя в этом ученые не до конца уверены: желудочный сок головоногого сильно повредил останки. Кроме того, вскрылось еще одно странное обстоятельство: существо, фрагменты которого были извлечены из желудка кальмаpa, имело жабры, иными словами являлось амфибией. В статье жертву кальмара не называли впрямую «водяным человеком», но это подразумевалось. Кальмара и содержимое его желудка перевезли в Бостон для дальнейшего исследования.
Статью от начала до конца зачитал дядя Эдвард. Последние фразы долетали до Джима сквозь застилающий его глаза и уши туман — он словно засыпал с открытыми глазами. Гил Пич спокойно сидел рядом с ним и внимательно слушал, приоткрыв рот, однако смотрел при этом в окно, туда, где в темноте скребли по стеклу под порывами ветра ветви низких кустов. Внезапно Джиму почудилось, что он, полугрезящий, висит в странном подводном саду. В стороне, там, где он мог видеть их только краем глаза, выплывали, словно из подводного грота сна, колышущиеся заросли водорослей, подсвеченные сквозь толщу воды. Свет медленно угасал, и комната погружалась в тень. Голос дяди, заунывно вещающий что-то об огромных кальмарах и водяных людях, по мере того как Джим засыпал, проплывая над бездонными воронками своих видений, постепенно затихал, приближаясь к абсолютной тишине. Гил Пич продолжал сидеть тихо и прямо, рубцы жабр у него на шее мягко и ритмично пульсировали. Перед Джимом опустился занавес морской травы: зеленое волокнистое чудо с редкими улитками и морскими звездами и темными кавернами рифов, откуда за ним следили светящиеся глаза затаившихся рыб.
Он проснулся от резкого крика. Гил Пич уже встал и шел к двери, доктор Лассен натягивал удивительно длинное, до пола, пальто, отец Джима спокойно спал в своем кресле, дядя Эдвард вместе с Мэйсом и Сквайрсом копался в сигарной коробке, полной засушенных жуков. Джим услышал, как Ашблесс и профессор Лазарел громко кричат друг на друга на кухне. В эту ночь Джим лег спать с твердой, непоколебимой уверенностью, что он не просто уснул на стуле, а что-то с ним случилось, нечто другое, более странное. В постели он уснул почти мгновенно, а проснувшись утром, первым же делом почуял бодрящий аромат кофе и жареного бекона и услышал треск косилки на лужайке. Дядя и отец завтракали на кухне.
— Странное дело с этим кальмаром, верно? — заметил Уильям, запихивая в рот вилку с огромным куском яичницы.
— Очень странное, — согласился Эдвард.
— Знаешь, что я думаю об этой амфибии? Это очень любопытно, черт возьми, — как раз наш случай. Этим стоит заняться. Я напишу в Вудс-хоул сегодня же. Подпишусь именем Лассена — он не будет возражать. Чертова косилка!
Газонокосилка приближалась к окну кухни, ее рев нарастал, становясь оглушительным и невыносимым; наконец в окне появился улыбающийся азиат в широкополой шляпе и широких брюках и кивнул остолбеневшему Уильяму. Миновав куст роз, азиат покатил свою машинку дальше, за угол дома.
— Кто это, черт возьми? — страшным шепотом спросил Уильям, словно косильщик мог его подслушать.
— Садовник. Ямото. Я нанял его полгода назад. Удивительно пунктуальный человек. Работает строго по часам, будь на улице дождь или солнце.
Уильям молча проследил за тем, как косилыцик за кухонным окном исчезает из вида, потом вскочил и бросился к окну в гостиной, чтобы посмотреть на результаты его труда — дорожку, выкошенную в траве скрежещущим механизмом. Вернулся к столу он очень задумчивый.
— Мне это не нравится, — заявил он. Эдвард попытался сменить предмет разговора.
— Прошлым вечером со мной случилась странная штука. Длилось это недолго, всего несколько секунд. По-моему, это было как раз тогда, когда я читал статью о кальмаре. Мне показалось, что к моему лицу прикоснулось влажное щупальце или прядь водорослей. Я даже уверен, что почувствовал запах, на мгновение. Но в тот момент я всего этого почти не осознавал, понимаешь, так бывает с жужжащей над ухом мухой за секунду до того, как ты ее заметил. Жужжание уже стихло, тут-то ты и начинаешь крутить головой. Пытаешься разглядеть муху. Но мухи уже нет, может быть, она уже села куда-нибудь. Ничто больше не жужжит и не летает, и тебе начинает казаться, что, может быть, ничего и вовсе не было. Понимаешь, о чем я?
Но Уильям, чье лицо застыло в дюйме от оконного стекла, сейчас понимал только одно: Ямото приближается, выворачивает из-за угла и направляется к окну, широко улыбается и машет ему рукой. Рев косилки быстро поднялся до максимума, потом, по мере того как Ямото шел дальше вдоль волнистого края лужайки, кольцом обнимающей дом, начал стихать.
— От кого у этого человека были рекомендательные письма? — неожиданно спросил Уильям.
— Понятия не имею, — откликнулся Эдвард. — Кто-то посоветовал мне нанять его. Он просто стрижет наш газон, и все. Знаешь, у меня есть отличная мысль…
Но сколь бы прекрасна эта мысль ни была, она не могла ни завлечь, ни унять Уильяма — не обращая внимания ни на что на свете, кроме стрекота косилки, он замер у окна.
— Я знаю его.
— Вряд ли.
— Он работает садовником в Поместье. Я уверен.
— Эти азиаты… — ответил Эдвард, небрежно взмахнув рукой.
— Здесь нет ничего смешного, Эдвард! — выкрикнул Уильям. — Ничего смешного я здесь не вижу. За этим стоит Фростикос. Мне все теперь ясно. Я все понял. Ты тоже с ними?
Прежде чем Эдвард сумел мысленно сформулировать в голове достойный ответ, из-за угла снова появился Ямото со своей неизменной улыбкой, обращенной в сторону кухонного окна, и со скрежетом заложил вираж вокруг жасминового куста — рев косилки нарастал медленно, словно громовая поступь еще невидимых, но неуклонно приближающихся войск или конвульсии огромной, невероятной и, возможно, неосуществимой машины, пробивающейся под бетоном сквозь земные недра в упорном, маниакальном ритмическом стремлении.
Уильям застыл, пораженный ужасом. Перед его глазами без конца и удержу двигались бесчисленные, пялящиеся на него Ямото. Сворачивали за угол. Внезапно появлялись снова из-за куста или ствола дерева. Приближались почти вплотную, потом совершенно непредсказуемо поворачивали и удалялись прочь, расплываясь в пятно и превращаясь в окаменелости Бэзила Пича, вмерзшие в вековой лед.
Рев косилки стал невыносимым. Уильям не сомневался, что, останься он в тихой кухне, очень скоро за рукоятками машины появился бы кто-то другой, уже не Ямото. Возможно не после этого поворота и не после следующего, но скоро, очень скоро белокурый врач улыбнется Уильяму и протянет к нему затянутые в резиновые перчатки руки. Нужно только подождать. Под низкими ветвями вяза мелькнули на краткий миг белые парусиновые брюки, и Ямото снова предстал во всей своей красе. Эдвард беспомощно оглянулся на Джима, который сидел, не отрывая глаз от тарелки с яичницей. Ямото прошествовал мимо. Уильям внезапно сорвался с места, выбежал из гостиной к парадной двери и замер на крыльце. Ямото неспешно плыл над травой — легкий ветерок развевал его брюки; косилка плавно обогнула угол дома, развернулась кормой к участку Пембли и устремилась к застывшему на крыльце Уильяму. Дрожащему. Лишившемуся дара речи. Эдвард делал ему приглашающие знаки чашкой с кофе, но Уильям не заметил его сигналов, собираясь, вероятно, оборонять свое жилище до последнего вздоха.
— И лужайку Пембли тоже? — вдруг каркнул он.
— Что?
— Лужайку Пембли он тоже подстригает? Он работает на них?
— Ну, «работает» не совсем то слово… — начал Эдвард. В ту же секунду, подобно персонажу кошмарных снов, появилась и ступила на траву перед своим домом миссис Пембли, в розовых пластиковых бигуди и развевающемся объемистом халате, очевидно, намереваясь переброситься парой слов с Ямото. Садовник кивнул ей и указал на Уильяма и Эдварда — к несчастью!
— Боже мой! — воскликнул Уильям, прыгая с крыльца. — Все ясно! Теперь ясно — откуда идет вся эта грязь, кто на кого работает. Господи Боже мой, конечно же он работает не на меня!
Миссис Пембли вскинула руку ко рту, повернулась и, подобрав полу халата, мигом скрылась внутри своего жилища. Ямото, разумеется не расслышав Уильяма за грохотом косилки, сделал в его сторону маленький полупоклон, вежливо ожидая продолжения разговора.
— Кто ты? — заорал Уильям. Ямото покачал головой и улыбнулся.
— Будь ты проклят! Это Фростикос прислал тебя? Где он прячется?
Уильям забегал по двору, словно ожидая найти вездесущего доктора, потом быстро свернул за можжевеловый куст миссис Пембли. Несчастный Ямото, еще не сообразивший, что дело плохо, торопливо устремился следом, желая помочь. В окне в ореоле бигуди появилось искаженное ужасом лицо миссис Пембли, которая наблюдала за разворачивающимися событиями. В горячке подозрений Уильям вломился в можжевельник, рубя его наотмашь ладонями, потом повернулся к злополучному Ямото. Миссис Пембли исчезла из окна. Эдвард заторопился к месту действия, опасаясь насилия.
Уильям принялся пинать бездушную ревущую машину, но ничего не добился. Ямото пытался протестовать. Оттолкнув садовника в можжевельник, Уильям нагнулся и ухватился рукой за идущий от свечи провод, очевидно собираясь вырвать его с корнем. Испустив дикий вопль, он отдернул руку, отшатнулся и налетел на Сент-Ивса. Обогнув его, Уильям, кривя рот, бросился к садовому шлангу Пембли, свернувшемуся змеей под акацией. Открыв кран, он поволок шланг за собой, с ходу окатил Ямото, брызнул Эдварду в глаза, полоснул струей по окнам миссис Пембли, которая со все нарастающим ужасом в вытаращенных глазах снова взирала на него, и направил воду в сторону косилки. Мотор с бульканьем захлебнулся. В тот же миг струя воды иссякла — сгиб шланга перекрыл ток. Уильям яростно заорал в устье металлической насадки шланга, но безрезультатно. Из шланга не появилось ни капли. Эдвард про себя молился, уповая на то, что своенравие шланга даст Уильяму время одуматься, однако, к сожалению, его шурин не был настроен опомниться и полностью перенес свою ненависть на садовый шланг, который, внезапно распрямившись, бросился прямо на Уильяма, словно одна из ист-индских змей, окатив водой с головы до ног. Издав вопль изумленного негодования, Уильям уронил коварный шланг на траву и метнулся к стоящей на дорожке тележке Ямото, в которой еще загодя присмотрел садовые ножницы. К неописуемому удивлению дюжины наблюдателей из числа соседей, Уильям, недолго думая, рассек шланг на десяток неравных кусков. Побросав обрезки в куст можжевельника, он медленно и торжественно водрузил самый длинный, шестифутовый, на вершину того же куста — вероятно, в назидание, как это делал управитель Ямайки, насаживающий головы пиратов на колья перед крепостной стеной Порт-Рояля.
Оскалив зубы в улыбке, Уильям обвел зрителей взглядом победителя и, переступив через поверженный шланг, направился к дому. Но вой сирен пресек любые его намерения, каковы бы они ни были. Уильям без сил уселся в натекшую из остатка шланга небольшую лужу, из которой вода уходила в решетку дождевого стока на обочине дороги.
Полицейский автомобиль и санитарная машина прибыли одновременно. Доктор Иларио Фростикос явился на место недавнего сражения, поднял Уильяма с земли и, обняв за плечи, будто поддерживая, увел к санитарной машине. Сбежав по ступенькам с крыльца на лужайку, Джим увидел, как машины скрываются за поворотом улицы. В траве рядом с остатками шланга он заметил трехдюймовую пробковую прокладку. Джим нагнулся и поднял прокладку, а вместе с ней и крышечку с пятнышками ржавчины внутри.
Глава 5
Сарай-лабиринт, как его называл Эдвард Сент-Ивс, представлял собой дощатую пристройку к гаражу с двумя рядами многоярусных мышиных лабиринтов в глубине и с правой стороны. Левая сторона пристройки была занята мутноватыми аквариумами с гудящими компрессорами. В сарае-лабиринте Эдвард и Уильям ставили эксперименты по подавлению водобоязни у мышей.
Лабиринт был собран из розового дерева, покрытого серым, «асфальтовым» лаком. Набор шлюзов позволял заполнять водой только часть секций, оставляя прочие сухими, а кроме того, специальная система ходов давала мышам возможность добираться из жилых проволочных клеток непосредственно в лабиринт. Разрастаясь и усложняясь с каждым годом, лабиринт прошел путь, сходный с совершенствованием известных наборов игрушечной железной дороги: от овальных замкнутых путей на листе фанеры до миниатюрной модели развитой железнодорожной страны с горами и холмами из папье-маше и сельскими домиками с картонными цыплятами и жестяными свиньями.
Вдоль одной из стен под лабиринтом висели покосившиеся книжные полки, забитые всякой всячиной, в том числе заплесневелыми от вечной сырости подшивками «Амфибианы и акваэволюции», а также сорокатомным изданием заметок знаменитого вивисектора доктора Игнасио Нарбондо, носящих название «Иллюстрированные эксперименты с жабродышащими», которое Уильям выкопал однажды в дальнем углу «Книжного развала» Бертрама Смита и приобрел за двадцать долларов. На рабочем столе лежал раскрытым последний экземпляр «Сайнтифик америкэн» со статьей, в которой обсуждались результаты экспериментов по инъекции в легкие крыс воды, которой те дышать отказывались, и в результате одна за другой погибали из-за собственного упрямства. Лениво перелистывая журнал, Эдвард думал о своем шурине.
На рабочем столе — старом большом планшете для карт — грудой лежали около двадцати разнообразных подводных растений сгрузилами из свинцовой проволоки у корней, удерживающими их на дне и не позволяющими плавать по поверхности аквариума. Дюжина продуманно отпиленных кусков плавника, расставленных среди мышиных ходов, предположительно должна была настроить грызунов на непринужденный лад и подготовить их к мысли о том, что они находятся в приятной и благожелательной близости к воде, что теоретически могло поощрить их к плаванию. Уильям потратил очень много сил и времени, привязывая леской пластиковые подводные растения и водоросли к дощечкам из плавника, но происшествие во время последнего уикэнда не дало ему закончить свой труд. По его словам, важно было дать подопытным объектам понять, что они находятся внутри реки, пускай и искусственной. Неудача экспериментов, описанных в«Сайнтифик америкэн», была связана, по его мнению, стем, что крысы не были подготовлены психологически к эволюционному скачку из среды обитания млекопитающих в воду. Попав в непривычную обстановку, подопытные крысы, естественно, терялись и потому тонули и погибали.
До конца убедить Сент-Ивса в своей правоте Уильям так и не сумел. Эдвард подтолкнул аксолотля и провел его между дощечками плавника — неуклюжее существо радостно шлепало по воде и совершенно не интересовалось мышами, которые смело бросались вплавь прямо перед носом амфибии, отважно переправляясь с одного клочка суши на другой. Воспринимала ли мышиная молодь амфибию в качестве матери или нет, сказать было трудно, тем более что Эдвард все больше склонялся к мысли о том, что возникновение таких связей между животными подобных типов маловероятно. Мышата и аксолотль полностью игнорировали друг друга. Конечно, имелась слабая возможность, что эксперимент даст результат, совершенно противоположный ожидаемому — амфибия могла почувствовать родство с мышами и начать устраивать гнезда для сна из клочков бумаги и веточек кедра для аромата. Для себя Эдвард уже давно решил, что их с Уильямом эксперименты провалились.
Фактически весь многолетний цикл мышиных экспериментов оказался безрезультатным.
Укладывая в ящик стола пластиковые водоросли, Эдвард услышал с улицы приглушенный звон колокольчика, без конца наигрывающего ускоренную примерно вдвое вариацию на тему: «Спи, мой черный барашек, усни». Эдвард оглянулся и сквозь пыльное окно заметил остановившийся перед его домом белый грузовик и водителя с неразличимым в тени кабины лицом под кепкой с длинным козырьком. Грузовик снова заурчал мотором, и бесконечное дребезжание колокольчика стихло в отдалении.
Появление белого грузовичка около их с Уильямом дома Эдварду почему-то совсем не понравилось.
— Что-то затевается, — сказал он вслух самому себе, и тут же спохватился, что начинает вести себя как Уильям. Достав довольного жизнью аксолотля из лабиринта, он перенес его в просторный аквариум, после чего одну за другой спас несчастных мышей, промокнул их кухонным полотенцем и по очереди выпустил в коридорчик, ведущий в клетку.
За его спиной кто-то фыркнул, с трудом сдерживая смех, потом не выдержал и громко расхохотался. Эдвард повернулся и заметил мясистую физиономию Оскара Палчека, весело уставившуюся на него сквозь приоткрытое окно. У Оскара были очень маленькие глазки, упрятанные в толстые мясистые валики щек. «Поросячьи», вот как назвал бы их Эдвард. Оскара нельзя было назвать толстяком, но он был как-то глупо мясист и вроде царя Мидаса отмечен странным проклятием — разбивал и ломал все, что попадало ему в руки. Сейчас он неотрывно рассматривал полупустой лабиринт.
— Джима здесь нет? — спросил он наконец, преодолевая очередной взрыв смеха.
— Нет.
— А что вы делаете с мышами?
— Ничего особенного, — ответил Эдвард. — Экспериментирую.
— А вон та большая толстая ящерица с перьями на шее — вы тоже с ней экспериментируете?
— Это аксолотль, — объяснил Эдвард. — Если тебе интересно, это один из видов саламандр. Очень дружелюбное создание, могу заметить.
— Похоже на то, — откликнулся Оскар. — А что вы с ним сделали?
— Что я с ним сделал! Я ничего с ним не сделал. Таким необычным его создал Бог. Не знаю, почему. В мире полно Божьих творений, которых я и наполовину понять не могу, и этот аксолотль не последний в их числе.
Ирония Эдварда не задела Оскара, который вновь захихикал, а потом обернулся, заслышав позади голоса Джима и Гила. Втроем они вышли на улицу, разговаривая о своем, причем Оскар без конца фыркал, отпуская громкие комментарии о «толстой ящерице», которой чокнутый дядя Джима пугал мышей. Эдвард печально вздохнул и взобрался по стремянке к книжным полкам, где разыскал третий том «Жабродышащих» Нарбондо и, присев к конторке, перелистал и открыл на разделе, посвященном водяному человеку. В десятый раз он перечитал описание найденного в семнадцатом веке в Саргассовом море мертвого, похожего на человека существа с жабрами. Его тело запуталось в пурпурных стеблях и листьях плавучих водорослей. Раздел был снабжен рисунком на отдельной странице, где был изображен странный жабоподобный человек, без сомнения давно умерший и полуразложившийся, но все еще не утративший трагического и задумчивого выражения лица, словно он недоумевал, за что его изгнали из Рая и оставили среди чудовищ.
— С тебя причитается, — заявил Оскар Палчек, размахивая перед носом у молчаливого и печального Пича уворованным дневником, откуда готова была вот-вот выпасть половина листков. Джим выжидал и молчал. Взвешивая при этом все за и против принятия стороны Гила в противоборстве с Оскаром. Эта мысль приводила его в ужас. Если он промолчит, то, возможно, все утрясется само собой. Игра наскучит Оскару, и он отдаст Гилу его дневник. Джим сидел на краю тротуара перед домом Гила, машинально щипал траву с газона и, притворяясь равнодушным, рассматривал мужчину на другой стороне улицы — мистера Хасбро, — который ползал по тротуару на четвереньках и заглядывал под свой старый оранжевый «Метрополитен». Хасбро интересовал глушитель. Рядом с автомобилем на асфальте лежал новый глушитель — хромированное чудо из гнутых трубок, клепок и непонятных овальных коробок.
— Послушай-ка вот это, — крикнул ему Оскар, вовлекая в веселье.
Гил отчаянно рванулся вперед, пытаясь достать дневник, но промахнулся примерно на фут — внимательный Оскар со смешком отдернул тетрадь к себе.
— Послушай.
Оскар нарочито громко откашлялся, взмахнул свободной рукой в сторону Гила, словно защищаясь от него, и начал читать:
— «Отец ушел от нас. По-моему, он отправился к центру Земли. Почему он не взял меня с собой? Может быть, он окончательно превратился в рыбу?» — Оскар захохотал. — В рыбу! Его старик превратился в рыбу и сбежал к центру Земли! Вот балбес! Мы ищем дураков повсюду, а они среди нас! Подожди, подожди.
Гил снова бросился на него, но Оскар опять увернулся и принялся отступать за куст сирени, отмахиваясь от наседающего Гила, по лицу которого текли слезы бессилия. Гил размахнулся, пытаясь ударить мучителя в плечо, но удар получился слабым и кулак соскользнул, после чего мальчики некоторое время кружили около куста — Оскар кричал и радостно смеялся, а Гил, всхлипывая, нападал снова и снова. К удивлению и испугу Джима, следы жабр на шее Гила покраснели и пульсировали, чего Оскар в своем веселье, по счастью, не замечал.
Мистер Хасбро поднял с дороги новый глушитель и понес его к своей машине. Предмет, видный Джиму все время под разными углами, блестел на солнце и, казалось, менял форму, словно по волшебству. Натянутые в середине глушителя между двумя фарфоровыми трубками серебристые струны делали его похожим на арфу. Несколько раз Джиму показалось, что чудесное устройство словно летит по воздуху, плывет в нескольких футах над дорогой.
Забыв о страхе, Джим больше не мог удерживать себя.
— Отдай ему дневник, Оскар, — сказал он как можно тверже.
— Отдам, отдам, не беспокойся. Я просто хочу дать тебе послушать еще кое-что. Я же все равно обещал тебе дать почитать, забыл? Ты же так хотел узнать, что там написано. У самого духу не хватило украсть. Твой дядя должен поместить Гила в свой дурацкий лабиринт вместе с мышами и ящерицей. Вот послушай.
— Ничего не хочу слушать, — крикнул в ответ Джим, поднимаясь на ноги. Он еще не решил, что сделает дальше, но сидеть на траве больше не мог — ситуация требовала действий. Гил стоял неподвижно и тихо дрожал, очевидно сдавшись и решив прекратить бесполезную борьбу. С другой стороны улицы доносилось позвякивание инструментов: стук молотка, скрип гаечного ключа и сдавленная ругань мистера Хасбро, который выдернул руку из-под машины и засунул палец в рот. Хромированного чуда больше не было видно, от него остались только два сверкающих пятна: одно изумрудно-зеленое, другое — неописуемая смесь переливчатого бледно-лилового и голубого. Изумрудное сияние, казалось, растворялось в окружающем воздухе, окрашивая в свой цвет — бледной морской воды — улицу, деревья и тротуар, словно солнечный луч вдруг пронизал взметнувшийся гребень волны, так и застывшей на подъеме. В течение одной сверхъестественной и пугающей секунды Джим был уверен, что слышит в воздухе соленый запах моря — океана и водорослей, приросших к мокрым изъязвленным камням на берегу. Однако воздух был тих и недвижим. О ветре приходилось только мечтать. Мистер Хасбро выпрямился, отступил на шаг и некоторое время, подбоченясь, с видимым удовольствием рассматривал свою машину. Старый глушитель, заржавленный и со сквозными дырами размером с пятицентовик, лежал теперь на траве под камфорным деревом.
— «Сегодня я изобрел антигравитацию. Сомнений быть не может», — начал чтение Оскар Палчек, на этот раз только для себя, поскольку Джим самовольно вышел из числа благосклонно настроенной аудитории, а Гила дальше заманивать было бесполезно. — «По сути дела, это очень просто. Я нашел катушку медного провода на свалке рядом с мастерской, где чинят холодильники, еще потребовались сотня больших канцелярских скрепок и фонарик…» Вот болван-то! — заорал Оскар, желая подчеркнуть свое неверие. — Просто чокнутый. Ты чокнутый, Гил, вот ты кто. Может быть, это шутка или юмористический рассказ — а ну колись.
Вопрос был обращен к Гилу, но тот промолчал. Заметив, что Оскар начинает злиться, Джим слегка удивился. Возможно, причиной раздражения Оскара было неодобрительное отношение зрителей к его выходке.
Однако удивление Джима возросло в сотню раз, когда на его глазах мистер Хасбро, тщательно вытерев руки голубой тряпкой, привычно скользнул за рулевое колесо своего «Метрополитена», запустил мотор, дал ему время прогреться — и легко взмыл в небо. Маленький «Метрополитен» блеснул в лучах полуденного солнца и взял курс на голливудские холмы, похожий на пузатую оранжевую рыбку — пожалуй, на огромного гарибальди, — спешащую в тень подводной пещеры. Через мгновение автомобильчик превратился в едва заметное пятнышко на фоне серо-голубых небес.
У Джима закружилась голова. Он указал трясущимся пальцем вслед исчезнувшему «Метрополитену», сумев выдавить из себя единственное слово.
— Посмотрите, — прохрипел он.
Оскар, заметив выражение лица Джима, резко обернулся, но не увидел ничего, кроме ржавого старого глушителя на пожухлой траве под деревом.
— Во дурак, — протянул он и длинно сплюнул сквозь дыру между передними зубами. — Ты такой же дурак, как и твой дружок.
Сказав так, Оскар с силой захлопнул дневник Гила, презрительно бросил его на асфальт, повернулся и пошел прочь, крутя головой. Книжечка дневника упала ребром и раскрылась, из нее вылетело с полдюжины страниц и весело припустилось по улице, словно в погоню за Оскаром. Джим настиг беглянок, подобрал дневник с асфальта и подал Гилу. Тот сидел словно в трансе, не замечая протянутой тетрадки. Джим испытал сильный соблазн открыть ее и прочитать несколько страниц — или запихнуть выпавшие листки под рубашку и унести домой. Но он не сделал ни того, ни другого. Он присел на траву рядом с другом, сделав вид, будто молчание меж ними имеет некое значение, и принялся смотреть на полосу темных, бурно клубящихся облаков, тянущихся со стороны гор Сан-Гейбриел.
На востоке небо пронизала молния — яркая изломанная узкая полоска лизнула вершины холмов, словно язык электрической змеи. Темная завеса дождя приближалась ровной стеной, подсвеченная вспышками молний, а вдоль улицы, хотя небо над головой еще было ясным, разносился грохот катящихся по скальному склону камней — эхо далекой бури, принесенное могучим ветром. И примерно за минуту до того, как на теплый асфальт упали первые капли дождя, а в воздухе над мостовой и тротуарами разлился острый, изумительный запах озона, над крышами домов торопливо проехал на велосипеде человек, бешено работавший педалями, словно именно быстрота вращения колес удерживала его в воздухе. Не в силах вымолвить ни слова, Джим проследил за тем, как летающий велосипед и его странно знакомый пассажир приблизились к нему и Гилу, затем проплыли у них над головами, над трубой дома Хасбро, над провисшими телефонными проводами и исчезли в небе, в темной стене дождя, которая обрушилась из разверзшихся небес и почти полностью закрыла собой улицу, заслонила весь мир. Джим торопливо запихнул дневник Гила под куртку, ошалело прокручивая в памяти фрагменты невероятного полета машины Хасбро, вспоминая отчаянно крутящего педали презревшего гравитацию — презревшего здравый смысл — Ройкрофта Сквайрса. Но почему именно Ройкрофт Сквайрс? Джим вспомнил выражение глаз отца, когда тот следил из окна за вооруженным косилкой Ямото, его непоколебимую убежденность, что «теперь все становится ясно». Неужели отец был прав? Или, может быть, совсем наоборот — ужасно заблуждался? Может быть, он заразился от отца сумасшествием?
Гил неожиданно очнулся от транса, вздрогнув, словно от испуга. Пригнувшись, они бросились бежать к дому Гила под тяжелыми каплями ливня. Когда Джим, уже в доме, отдал Гилу тетрадь дневника, тот без слов спрятал ее среди дюжины таких же. Джим тоже не стал вспоминать о случившемся, хотя недавние события кружились у него в голове со скоростью педалей под ногами Сквайрса. Должно быть, ему привиделось. Наверно, съел что-нибудь. Джим вспомнил прочитанный как-то рассказ о человеке, который, проглотив в один присест три дюжины сырых устриц, увидел в небе светящуюся свинью. Но он не ел никаких устриц.
Сквозь грохот ливня послышалось слабое треньканье колокольчика — перед домом Гила остановился белый грузовичок. Джим и Гил повернулись к кухонному окну; в тот же миг колокольчик смолк.
Дверь кабины отворилась, и под дождь вышел Джон Пиньон. На нем были белые парусиновые брюки и голубая куртка «человека с хорошим чувством юмора», и, прежде чем выбраться из кабины, он раскрыл над головой маленький и смешной прорезиненный зонтик. Джим понял, что сейчас его попросят вон, поскольку его вид напоминал о конкурентах. Кроме того, Джон Пиньон ему не нравился, и не только потому, что был коренастым и бледным, но более всего из-за привычки пожимать руку словно рыбьим плавником: слабо и мягко, подобострастно, будто ему чрезвычайно приятно и радостно видеть вас и — что еще хуже — нравилось дотрагиваться до вас, до вашей кожи. Джим очень не любил, когда его трогали. Он собирался «отшить Пиньона», как выражался в таких случаях Оскар Палчек.
Пиньон позвонил в дверь и воровато оглянулся через плечо, потом заглянул в дом сквозь дверное стекло, шалашиком сложив ладони перед лицом, и смотрел так на Джима и Гила секунд десять, прежде чем на него обратили внимание. После этого Пиньон выпрямился и растерянно улыбнулся. Гил открыл дверь.
— Преотвратная погодка, — приветствовал его Пиньон, обожающий употреблять в разговоре выражения из книг с английским юмором. — Становится сыровато.
Он подержал в своей руке руку Гила — может быть, единственную такую же холодную и рыбью, как и его собственная, на милю вокруг. После чего устремился за рукой Джима, но Джим, взрослый не по годам и давно научившийся от дяди Эдварда разным хитростям с рукопожатием, был к этому готов. Он первым протянул руку и прихватил только кончики пальцев Пиньона, да так, что тот уже не мог наложить на его ладонь ничего, кроме большого пальца. Схваченное в кулак Джим пожал от души, потом разжал ладонь и быстро спрятал ее за спину. Пиньон глупо улыбнулся.
— У тебя найдется минутка? — спросил Пиньон Гила напевным, заупокойным голосом, избегая смотреть на Джима.
«Черта с два я уйду», — подумал Джим. После схватки с Оскаром Палчеком его все еще переполняла решимость. Можно было даже говорить об отваге, если бы не странное происшествие с машиной Хасбро. Однако теперь Джим уже почти убедил себя в том, что все это ему привиделось. Наверняка именно так. Ведь Оскар ничего не заметил. Гил, по всей видимости, тоже. Но если кто-то и имел какое-то отношение к видениям Джима, то этим человеком мог быть только Пиньон и никто другой. Одно своевременное прибытие его грузовичка наводило на подозрения. Нет, сейчас Джим не мог уйти. Что-то определенно затевалось.
Пиньон, однако, был настолько же молчалив, насколько спокоен. Он улыбнулся Джиму — на этот раз недобро. В этом не было никаких сомнений. Пиньон не собирался раскрывать свои планы, в особенности перед племянником Эдварда Сент-Ивса, соратника Рассела Лазарела. Пиньон дождется, пока Джим уйдет.
Внезапно Джим ощутил прилив вдохновения. Он пробормотал слова прощания, пригнулся, выскочил под дождь, обогнул дом и оказался на заднем дворе, потом бесшумно скользнул в дверь кухни и, замирая от страха и восторга, начал красться к гостиной, откуда доносилось приглушенное бормотание Пиньона. Заслышав громкий звук, Джим упал на четвереньки: в ответ на неслышный вопрос Гила Пиньон громко выкрикнул: «Да!». Джим снова поднялся на ноги, обругав себя за то, что решил стать невидимым на четвереньках. Кровь лихорадочно гудела в ушах. Ему необходим был план. Отсюда он ничего не услышит. Вдали, в конце коридора, перед ним виднелись дверцы чулана. Джим на цыпочках пробрался туда, напряженно вспоминая, когда приходит домой из пекарни по субботам Вильма Пич. В четыре; у него есть еще несколько часов. Пиньон громко рассмеялся и издал странный резкий звук — хлопнул кулаком по раскрытой ладони, должно быть, чтобы подчеркнуть свою мысль. А когда Вильма Пич приезжает домой на обед? Сейчас почти полдень. Если Гил найдет его в чулане — Джим с криком набросится на него, как часто делает Оскар Палчек, и сделает вид, что это розыгрыш. Но если Вильма Пич откроет чулан, чтобы повесить туда плащ… Но об этом лучше не думать. Это будет означать конец света. Джим скользнул в чулан, протиснувшись мимо огромной шубы — из обезьяны, наверно, судя по запаху, напоминающему запах голубого грибка, появляющегося внутри ботинок, если они простоят слишком долго в чуланной сырости.
Джим прижался ухом к стене. За стеной царила тишина. Он не слышал ничего, кроме стука собственного сердца. Внезапно голос Пиньона загрохотал у него над самым ухом — от испуга Джим отшатнулся и упал прямо в обезьянью шубу. Он выпрямился и затих, дыша через рот и прислушиваясь.
— …голые эскимосы. Но это еще не все. Взять, например, северный ветер: если плыть вдоль побережья Арктики на север, этот ветер становится теплее. Насколько тебе известно, Лазарел в Арктике не был. А еще строит из себя путешественника! Тьфу! Да он просто сопляк, мальчишка, исследователь свалок на заднем дворе. Подумай вот над чем, Гил: если реки текут не из центра Земли — хотя я уверен, что это так и есть, — тогда почему айсберги состоят из пресной воды? И ответь мне, ради Бога, почему овцебыки мигрируют на север? Что они там ищут? Может быть, им нравится коротать зимы среди ледяных пустынь? Ответь мне, Гил!
Ответ Гилу был неизвестен, или же он просто решил оставить его при себе. Он что-то пробормотал о гравитации, как обычно, в первую очередь озабоченный физикой.
— Потрясающе, — ответил Пиньон. — Просто потрясающе. Видишь ли, Гил, сила тяжести при прохождении от наружной поверхности Земли вглубь меняется весьма существенно. Если мы начнем путешествие сквозь полярный вход по одной из этих рек, то наш вес вначале приблизительно удвоится. Но другое дело внутри! Внутри мы будем весить вполовину меньше! Человек весом в сто пятьдесят фунтов будет весить только семьдесят пять. Это должно произойти — на то существует центробежная сила. Внутри вращающегося полого шара вес тела существенно уменьшается.
Но не это главное. Уверен, что все это ты уже слышал от Лазарела. Не для того я ехал сегодня под проливным дождем, чтобы обсуждать с тобой общеизвестные истины. У меня есть кое-что, что Лазарелу и не снилось. Кое-что, о чем он представления не имеет! Внутри Земля населена людьми — удивительной расой. Говорил он тебе что-нибудь об этом? Думаю, нет.
Джим снова услышал хлопок — наверное, Пиньон опять хватил ладонью по ручке кресла, или по крышке стола. Собеседник Гила помолчал, откашлялся и наконец выложил свой последний козырь.
— Посланец подземных жителей связался со мной. Это очень любопытный джентльмен, смею заверить. Он обладает — как бы это выразиться? — некоторыми физиологическими особенностями, которые напомнили мне о тебе. Короче говоря, у него есть жабры. Это водяной человек, если такое название тебе больше нравится. Он твой близкий биологический родственник, вот что я хочу сказать. Твой и некоторых членов твоей семьи. Изгнанников из страны, лежащей в центре нашей планеты. Из рая, полного чудес и несметных богатств. Россыпи самоцветов. Реки, где среди камней полно золотых самородков. Огромные субтропические леса, не знающие смены времен года, где фрукты зреют постоянно. Там нет зимы, мой мальчик! Только вечные весна и лето.
Это страна из легенд — Ультима Туле, Атлантида, Шамбала, Агхарта, Пеллюсидар! Происхождение всех древних мифов теперь становится понятным. И ты, мой мальчик, тоже был изгнан из этого края вечного солнца, ты и твой несчастный отец… Вот так!
Джим отчетливо представлял себе, как Джон Пиньон качает головой и, может быть, гладит Гила по плечу — лживый старый лицемер. К нему явился посланец, надо же! А почему этот посланец выбрал именно Джона Пиньона? Почему не явился прямиком к Гилу Пичу? Зачем ему поощрять вторжение сквозь дыры в полюсах на свою родину безумцев вроде Джона Пиньона? Джим был вне себя. Неужели Гил клюнет на эту удочку? Хотя, конечно же, клюнет. Он уже на девяносто процентов сделал то, что от него хочет Пиньон. А почему бы и нет? Разве дядя Эдвард не мечтает о том же? А профессор Лазарел? Да и сам он тоже, решил после секундного размышления Джим. Он и наполовину не верил в посланца Пиньона, но в одном Ашблесс был прав — когда говорил на встрече ньютонианцев о том, что Пиньон легко обставит их всех. У него нет чести, за ним нет сплоченности ньютонианцев. Зато у него есть, или скоро будет, машина Гила Пича.
Входная дверь хлопнула, и Джим, вырванный из своих размышлений, от неожиданности снова упал в объятия волосатой шубы. Вильма Пич пришла домой на обед. Джим слышал, как она ходит буквально в футе от него. Сквозь щель между дверью и косяком он увидел перекинутый через ее руку плащ. Она не станет вешать его в чулан, конечно же не станет. Она заглянула домой совсем ненадолго, только пообедать — и снова на работу. Джим закрыл глаза и принялся ждать, придумывая различные объяснения и отбраковывая их одно за другим. В чулане ему не спрятаться, здесь слишком мало места.
— Что вы здесь делаете? — воскликнула миссис Пич. На одно полное отчаяния мгновение Джим уверился, что этот возглас относится к нему. Потом он услышал удаляющиеся по направлению к гостиной шаги. Вильма Пич заметила Джона Пиньона.
— Сударыня… — начал тот.
— Что вам здесь нужно?
— Меня беспокоит только благополучие вашего сына.
— Ваши скользкие делишки — вот что вас беспокоит, уж я-то знаю! Если хотите поговорить с Гилом, то сначала спросите меня. Я вас вижу насквозь. Не суйтесь к Гилу, он и без вас обойдется.
— Гил лучше знает, что ему нужно, смею вас заверить, — отозвался Пиньон неожиданно ледяным тоном. — История нас рассудит, голубушка. Помяните мое слово…
Но Пиньону не удалось закончить свою мысль — Вильма Пич закричала, что сейчас покажет ему «голубушку», сейчас он отсюда вылетит; решив не терять больше времени, Джим, никем не замеченный, змеей выскользнул из чулана, пронесся по коридору и через кухню спасся на задний двор. Парадная дверь грохнула, грузовичок Пиньона завелся и спешно укатил прочь, а Джим, уже не спеша, только раз или два опасливо оглянувшись через плечо, шагал к собственному дому, лихорадочно размышляя по поводу Пиньоновского атланта, машины мистера Хасбро и возможного похищения записей Гила. Какую часть дневных событий можно пересказать дяде Эдварду? Куда не кинь, все было чрезвычайно важно. Несомненно, он должен рассказать о том, как подслушивал Пиньона. И упомянуть историю с «Метрополитеном» Хасбро, это допустимо. Ведь дядя Эдвард тоже рассказал им с отцом о том, как на встрече ньютонианцев ему почудились чьи-то невидимые мокрые щупальца. Об одном он не сможет даже заикнуться — о летающем велосипеде Ройкрофта Сквайрса. Скажи Джим об этом, и его немедленно уложат в постель и вызовут доктора Фростикоса. Тут Джим почему-то расстроился: ему вспомнилось, как отец испугался Ямото и как все время твердил, дескать, что-то должно произойти. Если отец был прав и если все, что сегодня видел Джим, случилось на самом деле, то это означало, что они сломя голову несутся навстречу каким-то новым, совершенно невообразимым событиям.
Глава 6
Весь следующий месяц погода стояла отвратительная: дождь и облака, северо-восточный ветер, высокие приливы и бесконечные штормы на южном побережье. Дожидаясь снижения приливов, профессор Лазарел изучал бесчисленные бухточки на полуострове Пало-Верде, промеряя глубины тысячефутовым отвесом. Пришло известие от Ройкрофта Сквайрса. Погружение на батисфере было невозможно. Нечего даже и думать. Пришлось отложить экспедицию, пока погода не улучшится.
В середине декабря потеплело, Санта-Ана задул снова, и океан успокоился. Понаблюдав за погодой три дня, дядя Эдвард и профессор Лазарел решили еще немного выждать перед погружением. Если ветры продержатся, то погружение скорее всего состоится в субботу.
В четверг около полудня Гил, Джим и Оскар Палчек бродили по бульвару Колорадо, продуваемому всеми ветрами. Ветер гнал вдоль улицы редкие клубки перекати-поля, которые заканчивали свою жизнь под колесами встречных автомобилей, превращаясь там в кучки коротких веточек. Воздух пах жарой и сухостью, как должен был пахнуть ветер, мчащийся над каменистой пустыней. Тремя месяцами ранее несущаяся пыль и наэлектризованный воздух могли мешать и раздражать, но в начале декабря теплый ветер Санта-Ана возвещал бабье лето, а дующий ближе к ночи с востока был почти праздником.
Гил и Джим рыскали в поисках рождественских подарков. Это был отличный повод пройтись по букинистическим и сувенирным магазинчикам и лавочкам старьевщиков, которых на бульваре Колорадо было видимо-невидимо. В свою очередь, Оскар был совершенно равнодушен к идее приближающегося Рождества, и букинистические магазинчики и лавочки со стариной не привлекали его, какими бы любопытными они ни казались. Оскар обидно посмеялся над коллекцией чучел саламандр, которую Джим присмотрел в подарок дяде Эдварду. В наборе было двенадцать ящериц на одной подставке, каждая со своей биркой. Не считая пары отвалившихся лап и выпавшего глаза у пятнистого тритона (в глазнице проглядывала набивка), коллекция была в превосходном состоянии. Оскар страшно заинтересовался неизвестного предназначения хитроумным приспособлением из гнутых трубок, висящим на стене, громко обозвав его спринцовкой для носа. После этого он добрую минуту настаивал на том, что керамический сливочник в виде утенка, из клюва которого можно было лить содержимое, — тоже спринцовка. Саламандры Джима само собой, тоже очень скоро стали спринцовками, а за ними и хозяин лавочки — сухонький, маленький беззубый старичок с огромным слуховым аппаратом. Этот старичок не только заявил, что не продаст Джиму саламандр ни за какие деньги, но и выгнал их троицу обратно на ветер, азатем и крепко обругал, после того как Оскар Палчек исполнил на тротуаре перед окошком лавочки насмешливый танец.
Это происшествие здорово подняло Оскару настроение, и он объявил, что остаток дня они посвятят так называемому «зарабатыванию очков» — времяпрепровождению, в ходе которого участники игры устраивали всякие безобразия, оцениваемые соответствующим количеством баллов. Оскар, у которого совесть и чувство вины отсутствовали напрочь, в этой игре неизменно побеждал.
По его настоянию, за устроенное в лавочке старьевщика представление ему присудили три очка, с чем ни Джим, ни Гил спорить не стали. Джим получил два очка, после того как незаметно прокрался в бильярдную и всех там перепугал, заорав дурным голосом: «Всех перевешаю!», а потом пулей вылетел на улицу. Оскар предлагал Гилу шесть очков за то, что тот просто-напросто будет в течение минуты громко сморкаться в платок в читальном зале публичной библиотеки Игл-Рока, встав прямо перед мистером Роббом, злющим библиотекарем. Оскар и Джим будут следить по часам, висящим прямо над головой мистера Робба. Гил мудро отказался от этой затеи. Ему со скрипом было начислено одно очко, после того как он согласился купить Оскару Палчеку черничный молочный коктейль в «Высшем классе», стоячей закусочной Питера, где торговали гамбургерами. Они все Втроем шли через парковку грузовиков к складам, когда Джим заслышал впереди на бульваре отрывистые трели электрического колокольчика.
Белый грузовичок Джона Пиньона медленно вывернул из-за угла и подрулил к краю тротуара. Гил и бровью не повел. Джим знал, что на этот раз он Гила наедине с Пиньоном не оставит — что бы тот ни говорил. Завидев вылезающего из кабины человека с приветливо-наивным выражением лица, Оскар немедленно признал в нем фальшивого мороженщика — о подобной забаве он мог только мечтать. Пиньон выкрикнул какое-то приветствие.
Обрабатывая челюстями монументальный ком жевательной резины, Оскар ответствовал Пиньону примерно так:
— Чосказал?
Пиньон хохотнул и по-отечески улыбнулся, подавая Палчеку руку для неизменного пожатия. Оскар протянул свою в ответ, но за мгновение до установления контакта ловко отдернул.
— С какашками не здороваюсь! — объявил он и, подмигнув Джиму, который был вынужден подмигнуть в ответ, прыснул. Гил продолжал хранить молчание. Пиньон тоже рассмеялся, словно отдавая дань остроумию шутки.
— Откуда рубашечка? Почем брали? — поинтересовался у Пиньона Оскар, ткнув пальцем в его обмундирование мороженщика.
Пиньон оставил вопрос без ответа. Он широко улыбнулся, решив не отступать и отплатить Оскару той же монетой — как потом оказалось, это была ужасная ошибка. Подобрав живот и подтянув жизненно важные органы и жир к животу — должно быть, чтобы придать себе более спортивный вид — он заговорил по-простецки, тоном, совершенно отличным от обычного придурковато-комического английского, вероятно надеясь, что Оскар примет его за своего.
— Сколько, по-твоему, мне лет? — спросил Оскара Пиньон, подмигивая Гилу и Джиму. — Не робей, говори, что думаешь. Сколько мне, по-твоему, — сорок?
На самом деле Пиньону было около шестидесяти, это было заметно, и все это знали. Внезапно, на глазах у пораженного Джима, Пиньон взмахнул руками и сделал довольно ровную стойку на руках. Из его карманов на асфальт со звоном посыпалась мелочь и выпал перочинный нож. Джим заметил, что из окон «Высшего класса» Питера за гимнастическими упражнениями Пиньона наблюдают с полдюжины лиц.
Простояв на руках бесконечных тридцать секунд, Пиньон повторил процесс в обратном порядке и встал на ноги. Его розовое лицо сделалось пурпурным, он отдувался и пыхтел, словно паровая машина. Неожиданно у Джима появилась ужасная уверенность в том, что все они неожиданно оказались вовлеченными в какую-то безумную, может быть преступную, выходку. Пиньон подобрал с мостовой свой нож, проигнорировав мелочь. Потом утер со лба пот тыльной стороной руки.
— Что скажешь? — поинтересовался он у Оскара. — Я в замечательной форме — в нашем городке таких поискать. Знаешь, кто я? Я — полярный исследователь. Полярник, вот кто — понял?
Оскар повернулся к Джиму и улыбнулся ему до ушей, полный решимости не дать Пиньону взять верх. Выплюнув резинку на тротуар, Оскар проговорил:
— Ну как, ребята — сто или девяносто?
Обернувшись к Джиму снова, Оскар опять ему подмигнул, как бы говоря, что ситуация под контролем. Ощущая в груди нарастающий ужас, Джим сделал все возможное, чтобы поддержать шутку. И подмигнул Оскару в ответ. Для Пиньона это подмигивание было что красная тряпка для быка.
— Значит, сто, говоришь?
Пиньон принялся скакать из стороны в сторону и молотить кулаками по воздуху, изображая бой с тенью.
— Сынок, — уверенно продолжил он, не собираясь, к восторгу Оскара, остепеняться, — я был чемпионом Арканзаса. Бойцов тридцать уложил!
Прыгая как заводной, Пиньон продолжал боксировать, пригибаться и финтить, всеми силами подкрепляя свою ложь. В том, что это ложь, Джим не сомневался. Он никогда не слышал о том, чтобы Пиньон занимался боксом, пусть в молодости. Сейчас же, по мнению Джима, невероятное самомнение Пиньона не позволяло ему уступить Оскару. И он решил призвать на помощь психологию — воззвал к брутальности своего противника.
Оскар тоже подпрыгнул раз или два, изобразив в лучшем виде чемпиона Арканзаса, вращая в воздухе руками как мельничными крыльями и тараща на Гила с Джимом глаза. Оскар был в своей тарелке — для таких представлений он жил, и Джим опасался за Пиньона все больше. Он заметил, что лицо Гила помрачнело.
Пиньон продолжал гнуть свое.
— Когда-нибудь слышал про ирландца О'Рейли Миллера?
— Само собой, — соврал Оскар. — А кто это такой?
— Я был его тренером. Я работал в гимнастическом зале в восточном Лос-Анджелесе. О'Рейли дрался со Стэдом Притчардом и разделал его под орех. Я стоял в углу О'Рейли — все шло так, как я его учил. Первые три раунда он держался спокойно — вот так… — Пиньон провел три быстрых прямых левой, — … а иногда вот так… — он сделал пару близких хуков правой.
— И иногда вот так, — подхватил Оскар, замахал руками и комично отшатнулся назад с наигранно-растерянной гримасой.
— А в конце третьего раунда, — продолжил Пиньон, ничуть не смущенный насмешками Оскара, — Притчард сбросил темп, сделал то, что мы, боксеры, называем «убийственной паузой».
— Само собой, — немедленно отозвался Оскар, мимикой иллюстрируя переживания боксера во время «убийственной паузы».
— Тогда я вскочил и крикнул: «Миллер, кончай его!» И О'Рейли кончил!
Услышав подобное откровение, Оскар был не в силах дальше сдерживаться и дико загоготал — выражение, которое употребил Пиньон, в сленге имело особое значение, чего тот наверняка не имел в виду. Палчек немедленно показал, как дальше развивались события между О'Рейли и Притчардом, и сделал это с таким глупым и напряженным лицом, что Джим, сам того не желая, рассмеялся. На мало что понявшего Пиньона пантомима Оскара особого впечатления не произвела.
Отступив на шаг, он натужился что было сил и постучал себя кулаком по животу.
— Бей сюда, — прохрипел он, кивая Оскару. — Прямо сюда. Твердый, как дерево.
Пиньон напыжился и снова подобрал живот, изготовившись держать удар не меньше чем от самого Ирландца О'Рейли Миллера.
К ужасу Гила и Джима, Оскар, размахнувшись как следует, послушно вогнал кулак в подставленное пузо. Пиньон сложился пополам, обмяк, словно проколотый воздушный шар. Со стороны «Высшего класса» послышались предупреждающие крики. Пиньон повалился на землю как подкошенный и заскреб ногами, его губы внезапно посинели, а глаза закатились под лоб.
Скованный по рукам и ногам ужасом, Джим секунды три простоял неподвижно, но когда Оскар с криками и хохотом бросился бежать к Хаббард-роуд, он опомнился и, схватив Гила за руку, потащил следом. Гил послушно пошел, продолжая через плечо смотреть на Пиньона, возможно желая убедиться, что тот ненароком не помер, чего они с Джимом так боялись. Но когда несколько зевак из числа любителей чизбургеров высыпало на улицу из заведения Питера, Гил махнул на Пиньона рукой и устремился за Джимом. Они свернули в первый попавшийся переулок, потеряв по дороге Оскара, и, выскочив на Стикли-авеню, сбавили ход до прогулочного шага, а через несколько минут уже очутились в спасительной сени дома Джима. Перед домом на грузовике с откидными бортами стояла далеко не новая, видавшая виды и обшарпанная батисфера, вокруг которой суетились дядя Эдвард, профессор Лазарел и Ройкрофт Сквайрс. Джим прошел мимо батисферы так, словно каждый день видел такие, вполне равнодушно, все еще с трепетом ожидая появления из-за угла улюлюкающей толпы с вилами, кольями и факелами. Всю дорогу Джим всячески убеждал себя, что они с Гилом ни в коем случае не были соучастниками происшествия, а лишь свидетелями — ответственность за увечья Пиньона не могла быть возложена на них. Но вспоминая, как за секунду до рокового удара сам он громко смеялся и подзадоривал Оскара, Джим понимал, что виновен ничуть не менее Палчека. Но Гила обвинить ни у кого язык не повернется. Тем более что Пиньон, конечно, будет всячески его покрывать. Он испытывает к Гилу отеческие чувства — если, конечно, все еще жив. А вот Джима с Оскаром он не пожалеет. В этом можно было не сомневаться. Пиньон очень мстительный и не упустит случая бросить камешек в огород своих конкурентов — профессора Лазарела и дяди Оскара.
Джим посмотрел из окна гостиной на улицу. Миссис Пембли бродила по дорожке своего сада, делая вид, что рассматривает маленькие кустики бегоний. На самом деле она следила за их домом — можно было не сомневаться. Джим почувствовал, что кровь в его жилах побежала быстрее. Может, она была заодно с Фростикосом и Пиньоном? Миссис Пембли добралась до конца дорожки и выглянула через забор на улицу, не замечая, что за ней самой наблюдают. Она смотрела на батисферу. Джим повернулся к Гилу, сидевшему в зеленом кресле неподвижно и мрачно, словно каменное изваяние.
— Ну, что скажешь? — бросил Джим, натянуто улыбаясь. — Задали старому Пиньону жару, верно?
Джим собирался произнести эти слова весело и беззаботно, но немедленно раскаялся в своих намерениях, едва только заметил выражение лица Гила. Пич стряхнул с себя оцепенение, впился руками в подлокотники кресла и несколько секунд беззвучно открывал и закрывал рот, пытаясь что-то сказать.
— Б… б… б… бедный Пиньон! — наконец выдавил из себя Гил. — Оскар! — вдруг по-змеиному зашипел он, да так неожиданно, что Джим испуганно оглянулся, ожидая увидеть позади себя Палчека. Гил затряс головой. Его губы дрожали. Джиму показалось, что Гил хочет сказать что-то страшное, ужасное, такое, что невозможно выразить словами. Гил резко поднялся, прошел мимо Джима и вышел на задний двор, хлопнув дверью. Однако вид батисферы привлек его, и уже через секунду его гнев улетучился, вытесненный научным любопытством. Засунув руки в карманы, Гил остановился перед аппаратом и принялся разглядывать его. Джим вышел из дома и остановился позади Гила.
Батисфера, взятая напрокат профессором Лазарелом в океанографической лаборатории Гавиота, походила на большой шар. Устройство было древнее, без пяти минут антиквариат. В грузовике рядом с батисферой лежали шланги, свернутые кольцами; примерно на уровне двух третей высоты аппарата по окружности шло несколько круглых иллюминаторов, окольцованных клепаными рамами. На самой вершине батисферы был откинут люк с большущей медной винтовой задрайкой. Поверхность устройства, сплошь изъеденная ржавчиной, отслаивалась зелено-голубыми чешуйками. Джиму батисфера показалась взятой прямиком из фильмов по романам Жюля Верна. Ройкрофт Сквайрс осматривал шланги, проверяя фут за футом всю их длину, должно быть выискивая течи. Кивнув Джиму, он принялся рассматривать и скрести пальцем подозрительное утолщение на ровной поверхности шланга.
— Дефект? — деловито осведомился Джим.
— Думаю, нет, — ответил Сквайрс, не отрывая глаз от шланга. — Просто кусочек резины пристал.
Наконец он поднял голову и соизволил взглянуть на Джима.
— А ты здорово бледный. Как себя чувствуешь?
Джим утер с носа пот, на один невозможный миг совершенно уверившись, что Сквайрс видит его насквозь и наверняка уже все знает об избиении Пиньона Оскаром Палчеком.
— Я в порядке, — отозвался Джим. — Правда. Это все ветер. От него у меня голова плохо соображает.
— Этот ветер приносит с собой положительно заряженные ионы — вот в чем штука. В старину, когда дул Санта-Ана, местные индейцы бросались в океан с утесов.
— Если завтра повезет, мы сделаем то же самое, — загрохотал из недр шара профессор Лазарел. Джим заметил в иллюминаторе его лицо — оно улыбалось. За толстым, в дюйм, стеклом лицо профессора Лазарела было искажено, словно его надули, как воздушный шар.
— Вот думаю купить велосипед, — ни с того ни с сего вдруг непринужденно заметил Джим.
Сквайрс сделал основательный глоток пива из бутылки, уже наполовину опорожненной.
— Гм? — удивился он.
— Вы разбираетесь в велосипедах?
— Признаться честно, не очень. Я не любитель велосипедной езды.
— Готов поклясться, что я не далее как вчера видел вас на велосипеде. — Джим притворился, что его ужасно интересует медный борт батисферы.
— Нет, это вряд ли был я. Я уже лет сорок на велосипед не садился. Очень подлые штуки, эти велосипеды. У последнего, который у меня был, цепь слетала через каждые сорок или шестьдесят футов.
Джим ответил, что он, наверное, ошибся, и оставил велосипеды в покое. Сквайрс не сказал ничего, что помогло бы разрешить загадку.
Гил Пич забрался в кузов грузовика и теперь смотрел через верхний люк внутрь батисферы, на профессора Лазарела.
— Для чего нужны эти шланги? — спросил он.
— Воздух и давление, — ответил Лазарел. — Красный — воздух, черный — давление.
Гил кивнул, словно и так знал это, потом шмыгнул носом, почесал ухо и поднял бровь с видом чуть удивленным и снисходительным к недостаткам чужого механизма.
— Довольно примитивно, — заметил он. В теперешней обстановке эти слова Гила изумили Джима несказанно.
— Они делают свое дело, и с нас довольно, — заверил его профессор Лазарел.
Гил прищурился и присмотрелся к шлангу.
— Не лучше ли использовать генератор кислорода? — Не дожидаясь ответа, Гил просунул голову глубже в люк, чтобы рассмотреть панель управления. — Мотора нет?
— Нет, конечно.
— Значит, ваше передвижение ограничено длиной шлангов?
— Верно, — ответил Лазарел, принимаясь раздраженно гудеть себе под нос.
— И как глубоко она погружается?
— На двести пятьдесят футов, плюс-минус. Для начала хватит. Если мои расчеты верны, в этот раз глубина не понадобится. На стенах впадины приливного пруда будет до черта интересного, ручаюсь головой. Джон Пиньон выбрал неправильное место для рыбалки. — Лазарел захохотал, довольный своей шуткой.
После слов Лазарела Гил почему-то загрустил — Джим понять не мог, почему. Пиньон был мерзким типом.
— Кстати, о Пиньоне, — продолжил профессор Лазарел. — Как там продвигается постройка твоего аппарата, Гил? Твоего землеройного вездехода?
Гил пожал плечами.
— Вечный двигатель, который ты сконструировал, еще не работает? — Лазарел подмигнул сквозь иллюминатор Джиму.
— Надеюсь, скоро им можно будет пользоваться, — ответил Гил. — Мне была нужна одна деталь, и я никак не мог ее найти. Сегодня днем я увидел ее в одном из магазинчиков на Колорадо.
Гил помолчал немного, потом добавил:
— Оскар Палчек решил, что это спринцовка для носа. Наверное, чтобы подчеркнуть глупость и грубость Оскара, Гил немедленно покраснел — как догадался Джим, в досаде на собственную грубость, на то, что сам сказал такое.
Профессор Лазарел усмехнулся.
— Спринцовка для носа, да? И он нужен тебе для вечного двигателя? — он снова захохотал, не скрывая своего веселья.
— Ну, не полностью. Мне нужен узел, который прикреплен к паровому бачку, но Оскар…
— Пар! — вскричал профессор Лазарел, подчеркивая свои слова щелчком медного тумблера на панели управления. — Ты говоришь о паровом бачке? Тогда твой друг прав. Это действительно была спринцовка для носа.
Сказав это, профессор Лазарел выпрямился во весь рост, высунул голову из люка и, подняв палец, торжественно провозгласил:
— А нос — он и есть нос, всего лишь. — После чего достал из кармана просторный клетчатый платок и оглушительно высморкался, так что батисфера загудела от могучего эха. Повернувшись в люке к дяде Эдварду, он пересказал ему историю Гила слово в слово, добавив в конце, что будь с ними тонко чувствующий слово Уильям, спринцовка наверняка доконала бы его.
Однако Гил не разделял восторга профессора. Устремив взгляд к далеким горам, четко выделявшимся на голубом небосводе, он печально и безмолвно покачал головой; легкий ветерок сдувал пряди светлых волос с его лица. Через пять минут Гил ушел, так и не сказав больше ни слова. Джим совершенно непоследовательно впал в уныние из-за ощущения, что профессору Лазарелу не следовало быть таким бесцеремонным с Гилом, который совсем не понимает шуток. Сама по себе мысль о том, что спринцовка для носа Оскара может стать частью вечного двигателя, была определенно глупой, но Гил не был глуп — возможно, он был сумасшедшим, но никак не глупцом. Оставшись, Джим рассказал про случай с машиной Хасбро, который дядя Эдвард почел, конечно же, вымыслом. Он выслушал Джима с вниманием и обеспокоенностью, однако беспокойство дяди было того же рода, что и появляющееся на его лице во время периодических визитов домой Уильяма Гастингса.
В субботу утром, за завтраком, чуть не подавившись кофе, дядя Эдвард воскликнул:
— Ты можешь в это поверить?
Джим оторвал взгляд от своей книги «Злоключения Фу Манчу». Мать не разрешала ему читать за столом, но дядя Эдвард ничего против не имел. Дядя бросил газету на стол и прихлопнул ее ладонью.
— В четверг Джон Пиньон был избит бандой уличных хулиганов! Его отвезли в больницу!
Джим опустил книгу на стол и отпил молока.
— Сильно ему досталось?
— Нет, пострадал в основном морально, — ответил дядя Эдвард, качая головой. — Его ударили под дых. Прохожие доставили Пиньона в больницу Глендейл, но он ушел оттуда на своих двоих через пару часов. Напавших он опознать не смог.
Дядя Эдвард замолчал и поднес к губам чашку с кофе, еще раз пробегая глазами заметку. Джим глубоко вздохнул и снова взялся за Фу Манчу.
— Ха! — снова выкрикнул дядя Эдвард. — Послушай-ка вот это! Понятно, почему он не захотел назвать имена тех, кто его бил. Он был переодет мороженщиком. И приехал на белом грузовичке с рекламой и электрическим колокольчиком, играющим «Спи, мой черный барашек, усни». Так вот кто это был! Господи! — Дядя Эдвард бросил газету на стол, схватил телефонную трубку и поспешно набрал номер Лазарела. — Привет, это я, — крикнул он в трубку. — Молчи и слушай. Помнишь тот белый грузовичок, о котором я тебе рассказывал, — он без конца колесил по дороге мимо моего дома? Помнишь? Так вот, ты не поверишь. Там сидел Пиньон — я только что прочитал в газете.
Дядя зачитал в трубку заметку от начала до конца. В ней также говорилось, что, по словам свидетелей происшествия, Пиньон, пытаясь заманить в свой грузовичок троих мальчиков, пел песенки и танцевал перед ними. Но все его уловки оказались бесполезными, ребята за ним не пошли, а самый крупный из них, толстяк в красной рубашке, ударил Пиньона в живот. После того как Пиньон упал, мальчики убежали в сторону Хаббард-стрит.
— Похоже, они намекают на то, что Пиньон извращенец! Можешь себе представить? — Эдвард помолчал, выслушивая ответ профессора Лазарела, потом хмуро кивнул. — Этого следовало ожидать. У меня, кстати, давно уже возникали такие мысли. Что-то затевается.
Дядя Эдвард покосился на Джима, прячущегося за книгой, на обложке которой был изображен бородатый Фу Манчу, розовый гриб и пузатый инопланетного вида скорпион, удирающий без оглядки, как будто за ним черти гонятся.
— Я перезвоню, — сказал дядя Эдвард в трубку. — Забудь о нем; встретимся через час в доках.
Закончив переговоры с Лазарелом, дядя Эдвард многозначительно откашлялся. Джим поднял глаза, предчувствуя приближение серьезного разговора.
— У Оскара есть красная рубашка?
— Да.
— Он часто ее надевает?
— Да, довольно-таки.
— Она была на нем в четверг?
— Кажется.
Дядя Эдвард кивнул.
— Может быть, расскажешь мне обо всем? Это может оказаться важным. Уже оказалось. Чего добивался от вас Пиньон? Это все, что я хочу знать. Он зазывал вас в свой грузовичок, да?
— Нет, меня он не звал, это точно. Мне кажется, ему нужен был Гил…
Джим рассказал всю историю — как он урезонивал Оскара, как Пиньон попытался похитить Гила, как Оскар, заметив, что Пиньон собирается забрать Гила, ударил его, и как они потом убежали, испугавшись, что нападение на полярного исследователя им даром не пройдет. Разговорившись, Джим перешел к описанию подробностей подслушанного разговора между Пиньоном и Гилом, завершившегося явлением Вильмы Пич. Только огромным усилием воли он сумел опустить эпизод с летающим велосипедистом, иначе весь рассказ мог принять оттенок сомнительный и неправдоподобный, усугубив подозрения, зародившиеся у дяди Эдварда после того, как Джим признался, что видел перед грозой улетевший в небо автомобиль.
Дядя Эдвард выслушал Джима внимательно, не перебивая, и в заключение заявил, что все его худшие опасения подтвердились. Пиньон плетет интриги и замышляет какие-то пакости — в этом не было сомнения. Причины его странной заинтересованности в Гиле, кроме имеющих научное свойство и связанных с аномалиями Пича, оставались неясны. Свои рассуждения и догадки дядя Эдвард продолжил излагать по дороге к гавани Сан-Педро, куда они с Джимом покатили час спустя.
Глава 7
Океан, мерно, медленно и монотонно вздымающийся всей своей массой, был тих и спокоен. Пригнанные ветром шестидюймовые волночки лениво лизали берег, а слабый, ласкающий ветерок с побережья — отдаленные воспоминания о ветре Санта-Ана — ерошил волосы Джиму, когда тот время от времени нагибал голову, чтобы откусить новую порцию от темной лакричной полоски. Джим сидел на носу «Герхарди», старого рыбацкого бота, принадлежащего Ройкрофту Сквайрсу. Обводы бота были более чем странными — на носу шире, чем в корме, но Джиму, ничего в лодках не смыслящему, подобные очертания не только не казались необычными, а совсем напротив, нравились — бот Сквайрса представлялся ему неким морским собратом «Гудзона Осы» дяди Эдварда. Каюта «Герхарди», горбатая и округлая, напоминала ему очертания каплевидных трейлеров «Эрстрим». Проект бота, вероятно, создавал человек, наделенный живым воображением, и поэтому батисфера, укрепленная у него на корме, казалась здесь вполне уместной.
В лучах солнца, играющих на поверхности моря, борта батисферы блестели, подобно огромной драгоценности, — смешанное сияние сапфира, изумруда и золота. Отражаясь от воды, блеск играл в полированном стекле круглых иллюминаторов аппарата, затмевая собой при каждом покачивании «Герхарди» на волнах одинокую фигуру на берегу.
На берегу сидел Уильям Ашблесс. Прикрывая ладонью глаза от солнца, он непрерывно нажимал кнопку вызова небольшого радиопередатчика, из динамика которого доносился в основном шум статических зарядов. Время от времени сквозь треск и скрежет пробивался голос профессора Лазарела:
— Проверка, проверка, проверка… — и так полдюжины раз с разными интервалами. Иногда профессор для разнообразия принимался считать, но никогда не забирался дальше четырех. Результатами испытаний передатчика Лазарел был вполне удовлетворен, при этом, по его мнению, самым лучшим способом в этом случае было пересказывать в эфире бородатые анекдоты. Ашблесс вообще не любил и презирал анекдоты, а Лазареловы в особенности.
— Как-то раз, — начал Лазарел новый анекдот, — входит в один бар на Пьер-стрит в Лонг-Бич мартышка, бросает на стойку перед барменом десятку и заказывает пиво. Бармен видит… — динамик передатчика взревел статическими разрядами; передача прервалась. Ашблесс торопливо убавил громкость, приглушив и треск, и голос Лазарела, тонущий в нем. На секунду ему почудилось, что он различил среди помех слова «…идем вообще гору…», ни с чем не увязываемые. Неожиданно радио затрещало громче и сразу же опять утихло. Из динамика донесся хохот. Ашблесс выругался. Он упустил соль чертова анекдота — Лазарел не умеет их рассказывать как следует. Еще через секунду поэт уже знал, что ошибся. Профессор смеялся, лишь предвкушая развязку.
— Тогда бармен и думает по себя: «Наверно, мартышка не разбирается в деньгах».
Не в силах более сдерживаться, Лазарел прыснул прямо в микрофон; передатчик Ашблесса внезапно умолк. Ашблесс в сердцах хлопнул по черной коробочке ладонью. После наполненной статическим треском двадцати — или тридцатисекунднои паузы в динамике снова зазвучал голос Лазарела.
— Проверка, — сказал он. — Ты слышишь меня, Уильям?
— Слышу, — прохрипел Ашблесс в чертову машинку. — Чем там кончилось с мартышкой, будь она неладна?
— Ах, ты об этом. — Лазарел захихикал. — Знаешь, я сам не совсем разобрался, сейчас спрошу у Эдварда, — динамик умолк.
Ашблесс несколько раз включил и выключил передатчик, покрутил колесико настройки, свистнул в микрофон, надеясь привлечь внимание Лазарела. Потом принялся смотреть на крошечного Ройкрофта Сквайрса с трубкой в зубах, который стоял на мостике своей шхуны, устремив взгляд в море. В двадцати милях по курсу от качающегося на волнах «Герхарди» в океане плыли затянутые дымкой скалистые утесы острова Санта-Каталина. Когда бот накренялся на правый борт, Сквайрс, выпускающий клубы дыма, исчезал за горбом вздымающейся каюты и казалось, что южная оконечность далекого острова скрывается за горизонтом вслед за капитаном. После того, как лодка выпрямлялась и Ройкрофт опять появлялся из-за каюты, с маленьким облачком табачного дыма, расплывающимся над его головой, край острова на несколько мгновений становился хорошо виден, а потом, когда Сквайрс начинал опускаться за каюту, гипнотически снова исчезал. Радио молчало, вокруг царили тишь и благодать, нарушаемые редкими криками чаек, и Ашблесс сидел, почти убаюканный раскачиванием бота. Ему не составило труда очень быстро убедить себя, что качающаяся лодка, пыхающий дымом Сквайрс и подернутые туманом утесы далекого острова у края моря суть не что иное, как части одной сказочной циклической машины, работающей в неслышном ритме под напором легкого утреннего бриза.
Треск радио прервал замедленное качание и вырвал Ашблесса из полуденных грез. Лазарел снова начал проверку. Ашблесс испытывал огромный соблазн вообще выключить передатчик.
— Бармен отсчитал… — сказал Лазарел, — …сорок центов сдачи.
Треск разрядов вычеркнул из анекдота три или четыре секунды.
— Мартышка убрала сдачу в карман и с удивлением посмотрела по сторонам… — могучий всплеск помех поглотил причины удивления мартышки. Позади Ашблесса, на тропинке, ведущей с вершины утеса к пляжу, захрустел гравий — кто-то спускался. Ашблесс, раздраженно крутя колесики передатчика, оглянулся и увидел Спековски, репортера: тот отряхивал полы пальто и поправлял ремень огромного футляра с фотографической камерой, висевшего у него через плечо. Внезапно помехи в динамике исчезли, и из него выплеснулся дикий взрыв хохота Лазарела.
— Чтобы поддержать разговор, бармен ей отвечает: «К нам сюда не часто мартышки-то заглядывают».
Несколько секунд Спековски молчал. Заслонив глаза, он рассмотрел на корме бота батисферу. Ашблесс посчитал последнюю фразу в анекдоте заключительной, но опять ошибся.
— А мартышка тогда ему и говорит, — Лазарела душил смех и разобрать его слова было трудно, к тому же шипение помех снова стало набирать силу. — …при цене девять шестьдесят за кружку пива я этому совсем не удивляюсь!»
Ашблесс выключил машинку и с видом смиренным и тихим кивнул репортеру. Спековски достал из кармана пальто записную книжку на спиральной пружине и быстрым угловатым почерком принялся делать пометки.
Джим заметил Спековски за минуту до того, как о нем узнал Ашблесс, — он увидел фигуру репортера на вершине утеса, когда тот высматривал удобную тропинку вниз. Учитывая случившееся на последней встрече ньютонианцев, Джима отчасти удивило появление Спековски и в особенности как запросто он болтает с Ашблессом. Джим обратил на это внимание дяди, и того это также немало озадачило. Спековски достал из футляра камеру и принялся ее настраивать.
Через двадцать минут начался бурный прилив, и Эдвард Сент-Ивс с профессором Лазарелом поспешно забрались в батисферу, опустили и задраили за собой люк. С гулом и плеском аппарат был снят с палубы бота и опущен в голубые воды океана.
Джим наблюдал за спуском батисферы. Восходящие потоки пузырей частично скрывали от глаз темную сферу, окруженную ореолом света шести прожекторов. Батисфера опустилась на десять или двенадцать футов в глубину и на мгновение замерла, потом опустилась еще на десять. Джим смотрел в воду сквозь «око Момуса», но уже через несколько минут не мог различить ничего, кроме танцующих пузырьков воздуха и отдаленного подводного сияния — батисфера ушла в не знающие света недра широкой впадины. Время от времени передатчики на мостике бота и на берегу у Ашблесса оживали и из них доносился голос дяди Эдварда вперемешку с треском помех. Спековски сидел на куче плавника и, наклонившись вперед, прислушивался к передатчику, делая пометки в блокноте.
Внутри батисферы, в тесноте и холоде, сидели на низеньких стульчиках Эдвард Сент-Ивс и профессор Лазарел. Маленькие дефростеры обдували стекла иллюминаторов воздухом, однако те все равно запотевали, и время от времени Лазарел принимался яростно протирать их, используя для этой цели свой носовой платок. Профессор попеременно то клял мутнеющее стекло, то восторгался подводными чудесами — крупным розовым спрутом, бежавшим в тень скальной расселины, или огромным скатом размером с автомобильный чехол, грациозно скользящим в отдалении среди извивающихся прядей водорослей.
— Плюнь и разотри, — сказал Эдвард.
— Что?
— Плюнь на стекло и разотри по кругу.
— И что получится?
— Иллюминатор перестанет запотевать. Господи, что это!
Дядя Эдвард ткнул пальцем в океанскую темноту и прижал лицо к холодному, влажному стеклу иллюминатора. Лазарел вскочил со своего места и наклонился, чтобы лучше видеть.
— Что ты там увидел?
— Теперь уже ничего. Но на секунду мне показалось, что я вижу нечто очень большое.
— Какого размера?
— Понятия не имею. — Эдвард покачал головой. — Там был здоровенный светящийся глаз. Величиной с грейпфрут. Или даже больше. Этот глаз смотрел на нас несколько секунд, а потом закрылся.
— Закрылся! Ты хочешь сказать, что у этого глаза было веко?
— Похоже на то.
Эдвард поймал пальцем на стене батисферы крохотный ручеек морской воды, вытекающий из-под прохудившегося уплотнения одного из иллюминаторов. За стеклом не было видно ничего, кроме стайки живописно окрашенных гольцов, снующих между поросшими морской травой камнями.
Внезапный удар бросил Лазарела вперед. Равновесие он сумел удержать, только ухватившись рукой за скобу, приваренную к обшивке батисферы сразу под выходным люком.
— Все, сели.
Эдвард повернулся и посмотрел в иллюминатор, потом принялся работать двумя суставчатыми манипуляторами, пытаясь оттолкнуть аппарат от скалы, на уступе которой они стояли. Через несколько секунд батисфера дернулась и подалась назад дюймов на шесть. Лазарел поставил в известность Сквайрса. Издав скрежещущий звук, батисфера подвинулась еще, потом внезапно накренилась — одна из ее опор повисла над жерлом впадины. Несколько секунд аппарат раскачивался в таком положении. Эдвард уперся манипулятором в риф — батисфера накренилась еще больше и соскользнула с камней в пучину.
— Эй! — предостерегающе выкрикнул Лазарел за мгновение до того, как аппарат освободился. — Стой! Подожди!
Но было поздно. Они уже спустились ниже. Профессор пригнулся, повернул голову и посмотрел сквозь иллюминатор вверх. Но наверху, над тремя футами подсвеченной воды, ничего не было видно, кроме темной стены океана.
— Что там было? — спросил Эдвард.
— Ты не поверишь.
— Но все-таки?
— Изогнутая кость, футов шесть длиной.
— Китовая, — предположил Эдвард, усаживаясь на свое место.
— Это был бивень мамонта, — отозвался Лазарел. — Я уверен. Нужно подняться к уступу и попытаться забрать бивень манипулятором.
— Мы займемся им на обратном пути, — ответил Эдвард. — Все равно мы мимо этого уступа пройдем. Я засек по глубиномеру — мы сели на карниз на глубине примерно двадцать морских саженей. Бивень мамонта, говоришь?
— Могу поспорить на обед в ресторане. Даже на бутылку хорошего виски.
Лазарел уселся на стул, плюнул на иллюминатор и растер слюну указательным пальцем. Батисфера продолжала медленно, но верно погружаться. Лазарел чувствовал, что его одежда пропитывается влагой, но никаких отрицательных эмоций по этому поводу не испытал. Наоборот, он ощущал странное возбуждение и приподнятость, словно виной тому была скапливающаяся внутри шара сырость. Его волосы намокли и прилипли ко лбу, одна прядь свисала прямо на глаза. Внутри батисферы царил плесневелый, застоявшийся дух, напоминающий Лазарелу запах из давно не мытого аквариума с морской водой. Он нажал кнопку передатчика.
— На какой мы глубине?
— Сто семьдесят пять футов, — ответили из динамика. Голос Сквайрса слышался Лазарелу странно далеким — как будто словам приходилось проделывать длинный путь по переговорной трубе или по двухсотфутовому аквариумному шлангу. Эта мысль внезапно показалась Лазарелу ужасно смешной — он повернулся, чтобы поделиться с Эдвардом.
Однако тот не обратил на него внимания. Сент-Ивс делал руками знаки повисшему перед иллюминатором кальмару, который, похоже, сигналил ему в ответ. Лазарел не заметил кальмара, но моментально проникся духом пантомимы Эдварда и сам сделал несколько оживленных жестов, в результате сильно ударившись рукой о медную задрайку. Кровь из ссадины на тыльной стороне кисти окрасила рукав его рубашки.
— Надо же, — с искренним удивлением произнес он.
Кровь на рукаве напомнила ему о том, чему он научился у отца сорок лет назад. Лазарел порылся в карманах и выудил оттуда четвертак.
— Смотри, — крикнул он Эдварду. — Смотри сюда.
Эдвард с улыбкой повернулся.
Лазарел помахал в воздухе растопыренными пальцами, забрызгав кровью брюки.
— Следите за руками и пальцами, — объявил он тоном заправского фокусника.
С торжественным выражением Лазарел зажал монету между большим и средним пальцами правой руки, потом щелкнул этими пальцами — четвертак соскользнул в рукав. Не успел Лазарел насладиться успехом, как монета выпала из своей ловушки и звякнула под ногами.
Из динамика доносился тревожный голос Сквайрса — он пытался предупредить о чем-то. Лазарел перебил его, заорав в микрофон:
— Нос он и есть нос! — и безудержно расхохотался. Эдвард снова принялся подавать сигналы кальмару. Не поворачиваясь к Лазарелу, Сент-Ивс похвалил сообразительное животное. За спиной Эдварда профессор, кивая, отбивал чечетку, насколько это было возможно в тесноте кабины.
На звуки, вылетающие из приемника, Уильям Ашблесс не обращал никакого внимания — его голова была занята поэзией. Испытывая муки творчества, он сражался со сложными четверостишиями на морские темы — однако чувство рифмы оставило его. Уильяма немного раздражал скрип пера Спековски и — заметно меньше — голос Рассела Лазарела в передатчике, выкрикивающий всяческие глупости о носах. Нашел, где дурачиться. Последняя надежда Ашблесса на то, что попытка Лазарела достигнуть центра Земли увенчается хоть каким-то успехом, сегодня растаяла. Он услышал, как Спековски фыркает от смеха. Из динамика неслось следующее:
— Дуйте ветры, раздувайте! Дуйте-уйте-уйте-уйте! Гип-гип-ура!
На некоторое время голос в динамике стих, было слышно, как кто-то кричит внутри батисферы «ура» и прочее — вероятно, это был Лазарел. Потом снова заговорили:
— Как перековал мне кузнец талию поуже! — в динамике засмеялись дуэтом. — Качай-качай головушкой, мой дорогой кальмар! Я от тебя в безумии, в душе моей пожар!
Ашблесс торопливо нажал на кнопку вызова. Вскинув голову, он принялся смотреть в сторону «Герхарди» — на боте Сквайрс суетился вокруг лебедки, пытаясь выровнять шланги, которые натянулись туго, как струны, очевидно выбрав всю свою длину. Спековски поднялся, собираясь уходить, — он уже увидел все, что хотел. Удивленный выкрик в динамике заставил его остановиться и прислушаться.
— Говорю тебе, я снова это видел, — горячился Эдвард. Последовала короткая пауза, заполненная электрическим шорохом. Ашблесс прислушивался изо всех сил. — Что это такое было, черт возьми? Цефалопод?
Внезапно истерически рассмеявшись, Лазарел крикнул:
— Кушай на здоровье, аркебуз!
— Вон там! — снова закричал Эдвард. — Вон там, над уступом!
Лазарел, принявшийся было напевать что-то ужасно глупое, моментально умолк. Некоторое время никто ничего не говорил. В динамике Ашблесс различал странный звук, похожий на капель. Внезапно Лазарел растерянно прошептал:
— Плезиозавр.
— Слишком велик, — ответили ему.
— Вода и стекло искажают размеры.
— Все равно слишком большой. В нем все сорок футов будут.
— Эласмозавр. Эрасмус, прямо из Баобеля. — Лазарел хихикнул.
Снова никто долго ничего не говорил.
— Что он задумал? — раздался голос Эдварда.
— Он изучает нас. Господи, ну почему мы не взяли с собой фотоаппарат? Оп-ля! Куда это он? Поднырнул под нас! — Лазарел снова принялся булькать и хихикать, потом оглушительно высморкался.
Раздался скрежет стали, словно батисферу волочили по битому камню.
— Эй! — выкрикнул кто-то.
Снова заскрежетало, потом послышался приглушенный водой металлический стук.
— Боже мой! — крики Лазарела перемежались с мерными ударами по металлу. — Он играет со шлангами!
— Пошел прочь! Сквайрс! — внезапно в динамике воцарилась полная, гнетущая тишина.
Ашблесс уже вскочил на ноги и бежал к маленькому ялику, на котором не так давно добрался до берега, а потом вытащил на гальку. Спековски покачал головой, очевидно давая понять, что он не желает иметь ничего общего с этим дуракавалянием. Ашблесс уже забыл о нем. Он столкнул лодку с берега, отвел ее подальше и, когда вода дошла ему до пояса, забрался внутрь опасно кренящейся скорлупки, потеряв по дороге шляпу, обернулся и выловил шляпу из воды, наконец уселся на банку и, поднимая тучи брызг, принялся грести к «Герхарди».
От раскачивающегося бота доносилось гудение и громыхание. Со шлангов и кабеля, поднимающихся из океана и кольцами валящихся на палубу, потоками лилась вода. Джим стоял на фальшборте и напряженно всматривался в воду, надеясь разглядеть всплывающую батисферу, но пока ничего не было видно, кроме бурлящих пузырей. Краем глаза Джим заметил, что от берега к боту что-то приближается; это был ялик, в котором отчаянно работал веслами Ашблесс. Маленькая лодка весело скользила по волнам, поэт изредка оглядывался через плечо, чтобы не сбиться с курса. Он быстро приближался — так быстро, что Джим огляделся в поисках чего-нибудь, чем можно было бы придержать ялик, когда тот окажется совсем близко. Ашблесс последний раз сильно налег на весла и принялся табанить, потом оглянулся и понял, что перестарался с заключительным гребком. Он вскочил, уперся в банку коленями и попытался вынуть весло из уключины, но передумал и выставил в направлении неуклонно приближающегося бота ногу. Внезапно внизу прямо под яликом вода осветилась, и в водовороте воздушных пузырей, с шипением, на поверхности появилось темное тело, чужеродное и холодное, — батисфера, подсвечивающая бурлящую воду вокруг себя слабыми на дневном свету лучами прожекторов. Отшвырнув в сторону ялик, батисфера, похожая на невероятного шарообразного жителя океанских глубин, обливаясь водой, поднялась в воздух. За спиной у Джима, наматывая трос, отчаянно скрипела, завывая от натуги, лебедка, вырвавшая наконец батисферу из водяного плена и дотянувшая ее до пристанища на палубе бота. Опустившись на палубу, батисфера завалилась на бок — одна из трех ее опор была согнута под немыслимым углом.
Внизу у борта бота барахтался в воде Ашблесс. Его ялик, получивший тяжкий удар в корму, в стороне плавал в дюйме под поверхностью воды. Джим спустил с борта бота переносную лестницу и меньше чем через минуту Ашблесс, поминая всех святых, уже лез из воды. Джим подал ему руку, потом бросился помогать Сквайрсу, разбирающемуся с задрайкой на люке. Наконец люк распахнулся, из него появилась голова дяди Эдварда, он что-то сказал Сквайрсу и снова скрылся внутри. Сквайрс опустился на колени, подхватил Лазарела под мышки и с помощью Эдварда, который толкал снизу, вытащил его из батисферы и уложил на палубу. Профессор был без сознания — у него была сильно рассечена голова.
Через несколько часов грузовичок с батисферой вновь стоял у обочины напротив дома Джима. Уильям Ашблесс, дядя Эдвард и профессор Лазарел наскоро осматривали аппарат, исправляя что можно.
— Наркотическое отравление азотом, — заметил дядя Эдвард. — Веселящий газ — вот что это было. Или же кислородное отравление — если шланги дали течь.
— Одно из двух, — отозвался Ашблесс, отводя от лица пряди прямых светлых волос. — Поначалу мне показалось, что вы дурачитесь. Когда ты начал болтать что-то о кальмаре. Я думал, что это один из очередных анекдотов Рассела.
— Какие уж там анекдоты, — отозвался Лазарел, который, работая молотком, начерно выпрямлял поврежденную опору батисферы. — Дай плоскогубцы — вон те, с острым носиком.
Эдвард, очищавший иллюминаторы от соли, взял плоскогубцы и подал профессору.
— Вы только посмотрите! — воскликнул Лазарел, поковырявшись в изогнутой опоре с полминуты. — Значит, мы дурака валяли? Веселящий газ, говоришь? Морская пучина! Звоните Спековски! Звоните в музеи!
С криками он спрыгнул с кузова, высоко держа над головой плоскогубцы с зажатым в них, как поначалу показалось Джиму, куском белой пластмассы.
— Что скажете? — триумфально провозгласил он и выложил добычу на ладонь. Это был крупный зуб почти правильной конической формы, с неровными краями, длиной в два дюйма. Обломанный наискось.
— Он был зажат между металлом опоры и ее резиновой шиной. Я заметил его совершенно случайно. Великая пучина!
— Акулий? — с сомнением предположил Ашблесс. Лазарел посмотрел на него презрительно и сожалением.
— Может быть, я недостаточно хорошо разбираюсь в «Короле Лире», — ответил он, — но то, что это не акулий зуб, могу сказать наверняка. Я отлично рассмотрел это проклятое чудище. Это не было галлюцинацией. Этот зуб еще недавно находился во рту гигантского плезиозавра, могу поспорить на что угодно. Черт возьми! — выкрикнул он, сильно ударяя кулаком в загудевший борт батисферы. — Нам обязательно нужно будет вернуться туда за бивнем.
Эдвард кивнул, рассматривая обломанный зуб.
— Нам нужно что-то получше батисферы. В ней мы как пес на привязи. Гил Пич был прав, когда говорил о генераторе кислорода и регуляторе давления.
— А антигравитацию не хочешь? А вечный двигатель? Гил Пич начитался фантастики. — Лазарел покачал головой. — Нет. Я думаю, что для начала мы должны показать этот зуб нужным людям. Организуем новую экспедицию. На новой батисфере или, может быть, даже на батискафе. Нам необходима финансовая поддержка, но с помощью вот этого мы добьемся чего угодно. — Лазарел щелчком, как монету, подкинул зуб в воздух и снова поймал его на ладонь.
Дядя Эдвард открыл рот, собираясь что-то сказать, но ему помешали — у него за спиной на газон шлепнулась пущенная меткой рукой разносчика-велосипедиста свернутая в тугой рулон газета. Он схватил и поднял ее одновременно с Лазарелом — оба жаждали прочитать статью Спековски. Однако их внимание в первую очередь приковала заметка в нижней части первой страницы. Оскар Палчек найден мертвым в смоляной яме на Ла-Бреа.
Что он там делал, никто не знал. Он был полностью утоплен в вязкий деготь — над поверхностью черной жижи торчал только один ботинок, внутри которого при проверке обнаружилась нога владельца. Если бы не ботинок, тело Оскара могло пролежать в объятиях дегтя многие тысячелетия в ожидании археологов будущего, подобно останкам из эры мезозоя. У компетентных органов сложилось впечатление, что, кроме всего прочего, Палчек стал жертвой какой-то странной болезни — его кожа, в особенности на голове и шее, была покрыта чешуей; все его тело было начисто лишено растительности, а веки стали странно полупрозрачными. Гибель Оскара, учитывая место происшествия, явно была связана с криминальными обстоятельствами — если только он не кинулся в деготь головой вниз сам, что представлялось маловероятным. Вскрытие почти ничего не показало. Полиция начала расследование. Выяснилось, что Оскар был одним из тех мальчиков, которые несколько дней назад напали на Джона Пиньона на площади между складами и парковкой. Пиньон, известный полярный исследователь и антрополог, был допрошен полицией и отпущен домой под подписку о невыезде.
— Это Пиньон! — задыхаясь, вымолвил дядя Эдвард. — Неужели он способен на такое?
Ашблесс выхватил из слабых пальцев Сент-Ивса обвисшую газету и, скептически прищурясь, перечитал статью.
— Не думаю, что Пиньон в этом замешан. Могу держать пари, что он, скорее всего, невиновен. Мне кажется, эта история гораздо более загадочна, чем представляется на первый взгляд.
— Точно, — сказал громкий голос у них за спиной. Присутствующие обернулись.
Уильям Гастингс, изможденный и оборванный, в невероятных накладных усах и бородке а-ля ван Дейк, выступил из-под сени кустов на заднем дворе.
Глава 8
— Ты получил мое письмо? — озираясь по сторонам, спросил Эдварда Уильям, не успели они еще пожать друг другу руки.
— Какое письмо? Нет, не получил. А когда ты отправил?
— Неделю назад. Эти ублюдки наверняка прочитали его.
Уильям устало привалился плечом к борту грузовика и несколько секунд молчал, словно переводя дыхание. Он кивнул Ашблессу и Лазарелу — профессор нервно подкидывал на ладони найденный зуб, в его голове вращались гигантские шестеренки, елозили шатуны и вспыхивали разноцветные пятна света. Как всегда, внезапное появление Уильяма ничуть не упрощало ситуацию.
— Зачем им нужно было читать твое письмо? — спокойно спросил Сент-Ивс, надеясь, что его тон внесет элемент рациональности, одновременно скрыв сомнение. Спокойствие сейчас было залогом безопасности.
Уильям энергично помотал головой, как будто разгонял туман, мешающий дышать. После чего ответил, очень спокойно и уверенно:
— Потому что они хотят уничтожить наш мир. Взорвать его.
— Но зачем? — воскликнул Эдвард с неподдельным удивлением.
— Потому что они сукины дети, — объяснил Уильям. Чуть заметно закатив глаза и пожав плечами, Ашблесс вернул Эдварду газету.
— Рад был повидаться, старина, — кивнул он Уильяму. — Выше голову. Мы не позволим им взорвать мир. По крайней мере до тех пор, пока я не пропущу стаканчик. Увидимся.
Ашблесс взял под воображаемый козырек, прощаясь, и зашагал к дороге. Через несколько секунд мотор его машины взревел, и он укатил.
— Смеется, да еще как снисходительно, — пробормотал Уильям, снимая бородку и усы. — Я почти уверен, что он с ними заодно. Он потому и заторопился, чтобы его не раскрыли.
Тут Уильям неожиданно обнаружил, на что именно он опирается плечом, отступил на шаг и оглядел батисферу. Его лицо изменилось.
— Значит, вы начали без меня, — объявил он уныло, словно уже давно знал, что так выйдет.
— Приливы, — устало объяснил Эдвард. — И это было всего лишь пробное погружение. Мы получили доказательства, которые потрясут научный мир.
Лазарел передал Уильяму зуб и пересказал всю историю с эласмозавром, приукрасив ее мамонтовым бивнем. Уильям щурился и кивал, принялся прилаживать на место фальшивую остроконечную бородку, но потом, захваченный газетной статьей о смерти Оскара Палчека в смоляной яме, забыл о ней да так и оставил висеть скособоченной. Эдвард не в силах был отвести глаз от этой бородки. Она имела ужасно карикатурный вид и злила его невероятно.
— Твоя борода, Уильям, — наконец решился он сказать, убоявшись, что криво налепленная бородка может привлечь внимание соседей как явный признак ненормальности происходящего.
— Что? Ах да, — спохватился Уильям, сорвал бородку и запихнул ее в карман пальто.
— Спековски! — вдруг вскричал Лазарел. — Мы совсем забыли о Спековски.
Выхватив из газеты страницы, посвященные науке, он почти сразу обнаружил там полколонки, посвященные погружению на батисфере. «Путешествие к центру Земли» — гласил заголовок заметки, в которой далее излагались подробности «нелепого экскурса профессора Лазарела в глубины приливной впадины» в полной течей батисфере на конце двухсотфутового троса с намерением достигнуть земного ядра. Ссылки на виденных акванавтами морских змеев и слонов относились к азотному отравлению, а заканчивался опус извинениями и сожалениями автора по поводу публикации подобного материала как такового, что было сделано только ради освещения научного курьеза и ввиду дотошности издателей.
Лазарел был вне себя от ярости. Эдвард уже ничему не удивлялся.
— Мы еще посмотрим! — бушевал профессор. — Я воспользуюсь твоим телефоном.
— Конечно, — отозвался Уильям, решивший, что сказанное адресовано ему.
Лазарел вернулся через пять минут, красный как рак и в мрачнейшем расположении духа, понося на чем свет стоит науку вообще и директора музея естественной истории в частности, который, видимо, уже успел прочитать статью Спековски. Директор не верил ни в какие зубы динозавров и не проявлял ни малейшего интереса к стране под землей — саму мысль о ее существовании он назвал «научным шарлатанством». Лазарелу просто оказалось нечем крыть.
— Он на их стороне! — заявил Уильям, рассматривая профессора прищуренным глазом.
— Я близок к тому, чтобы согласиться с тобой, — ответил Лазарел. Он снова тщательно осмотрел зуб и спрятал его в карман.
— Встречаемся завтра утром. Нужно вернуть аппарат в Гавиоту. Может быть, они согласятся финансировать новое погружение.
Лазарел хмуро покачал головой, размышляя по поводу научного шарлатанства. Полностью отдавшись невеселым мыслям, он с раздражением завел мотор своего «лендровера» и в облаке пыли укатил восвояси.
Уильям неожиданно упал на колени и с живостью, поразившей Сент-Ивса, заполз за грузовик, откуда по-крабьи, безжалостно круша по пути чахлые бегонии, тоненький бамбук и прочую растительную мелочь, перебежал в кусты, оглядываясь на дорогу.
— Меня здесь нет, — прошипел он из своего убежища Эдварду. — Ты не видел меня уже несколько недель.
Заметив медленно и целенаправленно едущую по улице знакомую белую санитарную машину, Эдвард понял, в чем дело. Сердце у него упало. В течение нескольких секунд, не отдавая себе отчета, он отчаянно искал пути спасения Уильяма. Неужели его заметила миссис Пембли? Театральная бородка, конечно же, выдала Уильяма с головой. Она была опознавательным знаком, заметным с другого конца улицы. Эдвард сейчас скажет Фростикосу все, что о нем думает. Хотя нет — он не станет этого делать. Он просто постарается скорее спровадить его отсюда, не выдавая шурина.
Но белая машина проехала мимо их дома как ни в чем не бывало и остановилась около дома Пичей. Эдвард забрался в грузовик, пригнулся и спрятался позади батисферы, чтобы следить за происходящим из-за крышки верхнего люка.
— Они не к нам приехали, — прошептал он, наблюдая за тем, как в полуквартале от их дома из санитарной машины выходит Фростикос в сопровождении одетого в белое ассистента-азиата, Эдвард сразу это заметил. В течение одного сводящего с ума мига Эдварду казалось, что ассистентом доктора был Ямото, экс-садовник. Но нет. Напарник Фростикоса был на голову ниже Ямото. «Нервы стали ни к черту, нужно держать себя в руках», — решил Эдвард. Но с грузовика не слез — он хотел увидеть все до конца. Что, черт возьми, Фростикос забыл у Пичей? Здесь уже не пахло паранойей. За спиной Эдварда в кустах раздался треск — Уильям начал пробираться к забору, чтобы лучше видеть улицу.
Готовилось что-то странное и ужасающее. Уильям чуял это очень отчетливо. Откуда-то издалека до него донесся успокоительный шепот Эдварда — он не обратил на него внимания. По сути дела, шепот шурина показался Уильяму частью белого шума, неожиданно обрушившегося на него в предвечерней пустоте. Он полз на четвереньках вдоль стены дома, раздвигая руками цветы и чахлые растеньица, ломая руками и коленями хрупкие стебли с болтающимися диковинными бутонами цвета лососины. Сухой мертвый сук разогнулся и выхватил из кармана его пальто фальшивую бородку, вздернул ее вверх и закачался с жидким, похожим на накладку, треугольником волос на верхушке. Уильям проводил глазами бородку, завершил свой путь к забору, раздвинул стебли оранжевого и зеленого бамбука и выглянул на улицу.
В атмосфере произошла мгновенная перемена. Облака, которых только что не было на небе, скользнули по лику солнца, неожиданно погрузив улицу в тень. Вокруг воцарилась мертвая тишина, только похрустывали сухие листья и веточки у Уильяма под ногами и жужжала далекая муха. Но в мертвом воздухе ему очень ясно слышался голос — словно он вдыхал его, или, скорее, наоборот, словно его дыхание было частью другого, необъятного и ритмичного, дыхания, которое поднималось и опускалось, как приливы и отливы невообразимого океана, состоящего из единого великого свистящего шепота, переплетения бесчисленных шелестящих одновременных голосов. Уильям напряг слух, пытаясь разобрать эти голоса, но поток был неразделим, словно полночный океан, бескрайний непроглядный водный простор.
Темный асфальт улицы всколыхнулся длинными пологими волнами, ожил и превратился в медленную реку. На поверхности дороги возникли широкие темные водовороты. Что-то невидимое мелькало внизу, лишь на короткое время приближаясь к границе с сумрачным днем. Что это было? Уильям терялся в догадках, хотя знал, что оно есть там наверняка. Левиафан. Машина доктора Фростикоса медленно покачивалась на поверхности асфальтовой реки, похожая на белого кита, — он буравил Уильяма недобрыми неподвижными глазами, наблюдал, следил. Чего он дожидается, этот кит? Чего дожидаются все эти люди? Улица была рекой, медленно текущей на восток, под ее поверхностью скрывались чудовища — неописуемые создания, высовывающие свои рыла из темных подземных пещер. Уильяму представилось, что река течет прямо сквозь него, и в голове его сами собой всплыли слова: «Да проклянут ее проклинающие день, способные разбудить левиафана! Да померкнут звезды рассвета ее: пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы».
Уильям почувствовал, как земля у него под ногами заколебалась, взмахнул рукой и ухватился за влажный и хрупкий стебель бамбука, который почти сразу же сломался в сочленении. Силясь продохнуть, он отбросил от себя растение. Около него закружились водоросли морских садов, раскачиваясь в течениях: изящные бурые и пурпурные вееры, волнующиеся ленты морской травы, коричневые стебли и листья, между которыми опасливо скрывались моллюски и креветки. Перед глазами Уильяма пробежала боком парочка крабов. Вдоль стены дома медленно опускались фиолетовый трубчатый червь и гидра.
Уильям задыхался, тонул. Он ухватился рукой за похожее на веер морское растение, вырвав его с корнем, — кружевные листья подводного обитателя рассыпались в розовую пыль, она блеснула в пробивающихся сквозь воду солнечных лучах и поплыла прочь медленно расплывающимся в течении облаком. Уильям забился, замахал руками, ударился кистью о стену дома, испугав маленьких жителей подводного мирка. Но уже через секунду, как это обычно бывает в снах, понял, что если захочет, то сможет дышать — в отличие от тупых крыс, которым не хватало сообразительности выдыхать из легких воду, он делал это без труда. Уильям расслабился и поплыл вперед, хватаясь за растения, дыша свободно, полной грудью. Срывающиеся с его губ дрожащие пузырьки воздуха медленно восходили к далекой поверхности океана.
Это очень удивило Уильяма, в особенности пузырьки. Но стоило ему подумать о них, как пузырьки начали исчезать сериями крошечных кристаллических взрывов, дробя подводный мир на части. Улитки-луны и бленнии, анемоны и крабы, лоторины и морские звезды — все это торопливо исчезало, выпрыгивало из бытия: Уильям, лишенный поддержки, начал медленно подниматься к свету. Уильям моргнул — он лежал на кушетке в гостиной своего дома. Над ним стоял Эдвард, раздраженно попыхивая трубкой.
Уильям, несколько удивленный тем, что его брюки сухие, поднялся и сел. Потом провел рукой по волосам.
— Который час? Долго я пробыл там?
— Сейчас шесть. Ты был без сознания минут пятнадцать. Фростикос уехал. Гила он с собой не забрал — я специально следил.
— У меня было удивительное видение, — мечтательно протянул Уильям. — Уверен — пророческое.
Он поднял руку, как будто ожидая возражений от своего шурина, который с сомнением относился к вещим снам и прочей мистике. Однако Эдвард, не настроенный спорить, промолчал.
— Эта землеройная машина… Как там ее называет Гил Пич?
— Подземный левиафан, если не ошибаюсь. Отдаленно это сооружение напоминает крокодила. Я видел ее своими глазами и думаю, что это всего лишь шутка. Пиньон напустил вокруг этого Левиафана туману, но сама идея совершенно невозможна с начала до конца: вечный двигатель, антиматерия, антигравитация. Все сфабриковано — сплошные выдумки. Полное сумасшествие. В той части, что касается Пиньона. Гила винить нельзя: он всего лишь мальчик. Но Пиньон определенно спятил. Лазарел тоже так думает.
Уильям внимательно посмотрел на шурина.
— Ты чем-то обеспокоен? — спросил он. — Ты что-нибудь видел недавно?
— Что я должен был видеть? — Эдвард нервно усмехнулся. — Ничего особенного. Я вытащил тебя из кустов. То, как ты потерял сознание, я заметил с грузовика. Ты упал и ударился головой о стену. Здорово меня напугал.
— Не я тебя так напугал, а что-то другое. Ты видел то же самое, что и я?
— Нет, — ответил Эдвард.
— Откуда ты знаешь? Ты ни черта не можешь знать о том, что видел я. Я все помню очень хорошо. То щупальце, которое мелькало у тебя перед лицом на собрании ньютонианцев, — не припоминаешь? Конечно, ты этого не забыл. Я был слишком занят садовником в то утро, когда ты рассказывал мне о своих видениях, но я все помню. А сегодня — ты видел новые щупальца? Признайся, Эдвард.
— Что-то вроде, — нехотя отозвался Эдвард, принимаясь уминать пальцем в трубке тлеющий табак. Вскрикнув от боли и удивления, он отдернул руку и раздраженно уставился на обожженный палец. — На мгновение мне показалось, что окружающий ландшафт сделался несколько… как бы это сказать… — Эдвард замолчал.
— Подводным? — напористо предположил Уильям.
— Правильно. Но это же глупость. Не понимаю, как со мной могло случиться такое.
— Я тоже ничего не понимаю. — Уильям запустил руку в карман и добыл оттуда кисет. — Я собираюсь опрокинуть стаканчик портвейна и покурить. Составишь мне компанию?
— Конечно, — ответил Эдвард.
— Мне многое становится теперь понятно, — начал Уильям, после того как они с Эдвардом расположились в креслах со стаканами портвейна. Эдвард мысленно поморщился, как он делал всегда при подобных заявлениях Уильяма. Однако на этот раз мысленная гримаса была не совсем искренней, поскольку Эдвард хорошо помнил, какой ему увиделась белая санитарная машина Фростикоса сквозь толстое стекло батисферы, куда он забрался, чтобы было удобнее следить за домом Пичей. В течение нескольких секунд вместо машины доктора Эдвард видел огромную рыбу или призрак рыбы, лениво плещущийся на поверхности темного моря. Он до сих пор не мог отогнать это видение. Все те десять минут, что он сидел внутри батисферы, ему периодически начинало мерещиться, будто он падает во тьму бездонного океанического провала, все быстрее и быстрее скользя в его невероятную глубину. Галлюцинации, если это были они, пришли и ушли безвозвратно, и чуть позже он заметил у наружного забора шатающегося и цепляющегося за стебли бамбука Уильяма, который затем повалился навзничь прямо на стену дома.
— Знаешь, я тут заинтересовался физикой, — грубо вторгаясь в воспоминания Эдварда, заметил Уильям.
— Что? — испуганно вздрогнул Эдвард. — А, да. Толстяк в ракете и все такое. Ты уже написал рассказ?
— Да, закончил. И отослал в «Аналог». Я уверен, это как раз по их профилю. Но не в том дело. Я говорю не о литературе. — Уильям быстро помотал головой, подчеркивая свои слова. Заглянув в жерло своей трубки, он ткнул черенком в сторону Эдварда. — Этот левиафан. Мне он не нравится. Совершенно. Я почти убежден в том, что его появление — конец всему. Ты представляешь, какое огромное давление существует внутри земного шара?
Эдвард задумчиво округлил глаза, но должен был признать, что не имеет об этом ни малейшего понятия.
— Давление? Но ведь есть же выходы на полюсах?
— Какие выходы? Их кто-нибудь видел? Пиньон их видел? Я лично считаю, что все эти входы находятся на дне океана, вроде твоих приливных прудов. Нет, сударь. Внутри Земли давление так велико, что однажды всю нашу планету может разорвать на куски. Я уверен в этом. — Уильям снова заглянул в свою трубку, потом изучил остатки на дне стакана.
— На прошлой неделе мне приснился очень странный сон. В отличие от того, что случилось сегодня, тогда это определенно был сон. Тем не менее, как я уже сказал, очень странный. В нем принимал участие Гил Пич и его машина — этот механический крот. Машина начала зарываться в землю — кто ее вел, понятия не имею, но это был не Пич, — где-то в пустыне, кажется около Палм-Спрингс. Вокруг было полно народа — словно в цирке. Развевались знамена, гремели фанфары — ни дать ни взять открытие Вавилонской башни. Уже тогда мне все это показалось ужасно странным. Гил Пич стоял на трибуне прямо над шахтой и следил за тем, как его крот вгрызается в Землю, приближаясь к ее пустому ядру. На Гиле был какой-то невообразимый наряд. Рядом с ним на трибуне стояли важные шишки, махали флажками, и каждый говорил что-то приветственное. Наконец крот достиг места назначения, и все вокруг замолкли в ожидании.
— Земля содрогнулась, и где-то далеко внизу раздался глухой сильный взрыв. Гил Пич перегнулся через перила и заглянул в зияющую шахту. Потом бросил туда камень размером с яйцо, словно мальчишка, которому охота проверить глубину колодца. В ответ из шахты вырвался могучий порыв ветра и вынес тот самый камень, который бросил Гил, обратно. Камень вылетел как пуля и ударил Гила прямо в лоб…
— В самом деле? — спросил Эдвард, пораженный до глубины души. — Тебе действительно все это приснилось?
— Да, — отозвался Уильям, успевший за время короткой паузы задуматься о чем-то другом. — Но это еще не все. Вслед за ветром, порожденным огромной разницей давлений, из шахты полезли вымершие чудовища — мастодонты, стегозавры, трицератопсы — в огромном количестве и принялись разбегаться по пустыне кто куда, словно возвращались, чтобы вновь обрести потерянную некогда страну.
— А что стало с Пичем? — спросил Эдвард.
— Убит на месте, — ответил Уильям. — Камень разбил ему голову. Как, по-твоему, это вероятно?
— Конечно, камень мог его убить, — задумчиво отозвался Эдвард. — Если удар был достаточно сильным, то, конечно, мог.
— Я не о том. Я говорю о моем сне. Может он быть вещим?
Эдвард мигнул.
— Несомненно. Думаю, да — здесь ясно читается какое-то предзнаменование. Я небольшой специалист по снам, но здесь классический случай. Не стоит сомневаться. — Эдвард вздернул к подбородку руку с непочатым стаканом, расплескав вино и залив грудь рубашки. — Черт побери! — воскликнул он, вскакивая.
Но урон был уже нанесен, и Эдвард снова сел.
— По-моему, это сюжет для хорошего рассказа — а, Уильям? О путешествии к центру Земли.
— Это никакой не рассказ. Это мой сон. Пич — ключевая фигура ко всему, голову даю на отсечение. Ашблесс это тоже понимает. Помяни мое слово. А потом я увидел этот сон. Вот уже неделю я не могу его забыть. Я собирался его записать, да Фростикос помешал — что он хотел от Пичей? Что он там вынюхивал? Мы должны это узнать.
— Я узнаю обязательно. Загляну к Вильме Пич завтра же утром. Как бы там ни было, ее нужно предупредить, что с Фростикосом следует держать ухо востро. Не к добру он к ним пожаловал. — Едва сказав это, Эдвард мгновенно почувствовал всю странность своих слов, а вместе с тем и уверенность, что скоро, очень скоро доктор явится и за Уильямом. И на этот раз без последствий не обойдется. Эдвард перебрал в памяти несколько побегов Уильяма, вспоминая каждый раз странно мягкую реакцию Фростикоса. Но теперь дело зашло слишком далеко, и с каждым днем положение осложняется.
— Пойду в кабинет — хочу изложить все на бумаге, — заявил Уильям, поднимаясь из кресла. — Возможно, ты прав, и из этого выйдет небольшой рассказ. Жалко, если такой сон пропадет даром.
Эдвард выразил согласие, от себя прибавив, что ужасно проголодался и что возиться с барбекю сил уже нет. Но после ухода Уильяма он просидел в кресле в глубокой задумчивости еще целых полчаса и только после этого встал и начал готовить обед. Он твердо решил поговорить с Вильмой Пич. С Гилом что-то было неладно, и он должен узнать, что.
Глава 9
Время близилось к полудню, когда Эдвард и профессор Лазарел вернулись из Гавиота. Уильям со свежими силами работал в сарае-лабиринте, полный обновленного сознания важности своей миссии. Все трудности науки, по его мнению, происходили от недостатка воображения. Наука с кронциркулем гонялась по клеткам за крысами, засовывала грызунам в пасти трубки и накачивала их легкие водой. Науке никогда не хватало терпения. Домашние условия и приручение — вот где кроется решение всех проблем. Акт приручения есть акт насаждения цивилизации. Решись Уильям изложить свои мысли в тезисах, он озаглавил бы их «Теория цивилизации». И мог бы поколебать господство Дарвина. Зверей всегда тянуло к местам обитания человека. Эту тенденцию можно проследить во всем эволюционном развитии. Человек насаждает цивилизацию. Собаки и кошки первыми отдали себя в ее лоно. Даже крысы предпочитают соседство с людьми привольной жизни в дикой природе. Во всем этом кроется великая истина, которую Уильям намеревался открыть.
Он осторожно натянул крохотную кукольную распашонку на тоненькие мышиные лапки. Зверек с одобрением обнюхал и осмотрел обнову. Со штанишками вышла заминка — надеть готовые было невозможно, нужно менять фасон. Необходимо придумать и скроить что-то самому. Но на первых порах должно хватить и распашонок с рубашечками. Уильям принялся насвистывать какой-то мотив. Вот уже несколько месяцев он не был так счастлив. Его существо жаждало творческой деятельности.
С менее покладистым аксолотлем возникли проблемы — он был тварью иного рода. Скользкий и противный, он не желал носить шляпки и куртки, и Уильяму с огромным трудом удалось натянуть на него пару штанишек, предварительно сделав в них широкую прорезь для хвоста. В поисках подходящей шляпы Уильям высыпал из коробки всю имеющуюся в его распоряжении кукольную одежду. Ему удалось найти только маленький головной убор типа берета, который обычно носят французы. Лучше уж совсем без шляпы.
Когда Эдвард распахнул дверь сарая, вид пестро разодетых зверюшек заставил его замереть — несколько секунд он просто не в силах был поверить в реальность происходящего и немного постоял, чтобы рассмотреть все как следует. Потом улыбнулся шурину.
— И кто из них кто?
— Ага! — вскричал Уильям, застегивая на мыши пальтишко. — Эдвард, иди сюда. У меня появилась отличная новая идея. В ее успехе я не сомневаюсь. Все наши прежние неудачи объясняются тем, что мы пытались двигаться в обратном направлении — от млекопитающих к эпохе амфибий. Деволюционировали животных. Но все не так примитивно. Даже самое простейшее из животных — сложная система. Нет ничего сложнее мыши. В племени грызунов имеются некоторые тенденции, которые раньше мы не удосуживались принять во внимание; одна из них, как я понял, — это природная тяга к очагам цивилизации, желание совершенствоваться. В самых общих чертах, конечно. Но этим моя величайшая догадка не ограничивается. Я хорошо знаком с Шекспиром. Елизавета отмечала врожденную способность животных предчувствовать приближение момента хаоса, крушения. В Китае, насколько я помню, по поведению свиней и коров предсказывают приближение землетрясений — эти животные необыкновенно восприимчивы ко всему, что угрожает их чувству естественного порядка, их склонности к одомашниванию и цивилизации. Что это нам дает, спросил тогда я себя. Мы ускорим этот процесс, вот что мы сделаем. Вручим животным блага цивилизации. Ставлю доллар против ореховой скорлупки, что мы скоро увидим результаты. Немного взаимовыгодного сотрудничества. Пожалуйста, помоги мне надеть на аксолотля куртку. Я никак не могу удержать его одной рукой.
Эдвард взял амфибию за спину, прижал к столу и держал так, пока Уильям возился с одеждой.
— А как же вода? — наконец спросил Эдвард. — Я не собираюсь оспаривать твою гипотезу — это стройное построение, и здесь все на месте, насколько я понимаю, — но не потеряют ли эти наряды свой цивилизующий эффект, когда намокнут?
Уильям бросил на шурина взгляд, ясно говоривший: в том, что касается теории цивилизации, Эдвард так и остался несмышленышем. Потом покачал головой.
— Ты переоцениваешь животных, Эдвард. Пытаешься искусственно расширить границы моей теории. Наука часто попадает в подобные ловушки — споткнувшись о мелкие недостатки, она упускает магистральное направление. Тяга к цивилизации не заходит у животных так далеко. Хоть я и уверен в том, что одетые должным образом звери будут проявлять адекватные реакции, я сомневаюсь, что они способны понять условности и тонкости моды. Улавливаешь мою мысль?
— Да, — ответил Эдвард. — Кажется, да. Я вижу, ты все продумал досконально.
Эдвард откашлялся, потом заметил внутри просторной клетки, дверца которой была распахнута настежь, с десяток суетящихся мышей различной степени одетости, с интересом разглядывающих друг друга. Один из грызунов успел изорвать свое пальтишко в клочки и теперь устраивал себе из них гнездо в углу. Сент-Ивс никогда еще не видел Уильяма таким серьезным, воодушевленным и бодрым. «В хорошем настроении нет ничего опасного», — сказал себе Эдвард.
Стук захлопнувшейся дверцы машины возвестил о прибытии Уильяма Ашблесса, взбудораженного и с всклокоченной шевелюрой. Выбираясь из машины, он больно ударился подбородком о дверцу, обругал ее распоследними словами, в довершение пнул и только после этого направился к гаражу, размахивая фотографией.
Заслышав ругань и удары, Уильям посмотрел в окно, затем подчеркнуто равнодушно вернулся к своим манипуляциям с одеждой и мышами. Все еще доругиваясь вполголоса, Ашблесс влетел в гараж и, увидев, чем занимается Уильям, внезапно онемел. Но уже через несколько секунд он сумел взять себя в руки, видимо сказав себе, что в поведении Уильяма уже не может быть ничего неожиданного. Взмахнув фотографией еще раз, он протянул ее Эдварду.
— Бэннер, — объявил Ашблесс. — Ты должен помнить молодого Стирфорса Бэннера. Самодовольный маленький змееныш, но довольно полезный. Так вот, я узнал, что он работает на полставки окружным коронером, заведует крематорием или что-то в этом роде. Я позвонил ему, и вот что он мне достал.
Эдвард взял в руку черно-белое фото — снимок извлеченного из смоляной ямы мертвого Оскара Палчека. Увиденное поразило Эдварда. Он не мог поверить своим глазам. Перевернув снимок, он проверил обратную сторону, как будто надеясь найти там опровержение, потом снова внимательно рассмотрел несчастного Оскара, поднеся фотографию к солнечному свету, проникающему в сарай через окно. На шее Оскара были заметны необычные пятна. Поначалу эти пятна показались Эдварду странно симметричными отпечатками пальцев — словно Палчека очень аккуратно задушили. Он достал из ящика стола увеличительное стекло. Следы на шее Оскара не были отпечатками или пятнами — это были бескровные разрезы, скорее щели. Голова покойного, как и отмечалось в «Таймс», была полностью лишена растительности и имела необычную треугольную форму. Как ни странно, глаза Палчека были открыты. Застывшее в них удивленное выражение показалось Эдварду пугающе знакомым.
— Уильям! — Эдвард хлопнул шурина по спине. Уильям резко обернулся, разыгрывая удивление, словно, поглощенный работой, не заметил появления поэта.
— Взгляни вот на это. Узнаешь?
Уильям осторожно взял фото двумя пальцами за уголок, помигал, потом резко опустился на вертящийся стул перед рабочим столом.
— Конечно, узнаю, — отозвался он. — Это водяной человек Игнасио Нарбондо.
— Это Оскар Палчек, — сказал ему Эдвард.
— Который Нарбондо? — удивленно спросил Ашблесс.
— Есть только один Нарбондо, иногда упоминающийся в научных кругах, — объяснил Эдвард, снимая с полки нужный том «Жабродышащих». Он открыл книгу на странице, описывающей водяного человека из Саргассова моря, — с рисунка на них взглянула амфибия, карикатура на мертвого Оскара Палчека, кстати, тоже несколько смахивающего на человека-жабу в брюках.
Некоторое время все молчали. Эдвард положил фото рядом с рисунком. Сходство было потрясающим.
— Это книги Нарбондо? — поинтересовался Ашблесс.
— Именно так, — отозвался Эдвард.
Ашблесс подошел к полкам, вытащил первый том записок и открыл его на странице, где был помещен портрет доктора Нарбондо — гравюра на дереве.
— Он был законченным сукиным сыном, — сказал поэт. — Безумцем, снедаемым манией величия. Родился и вырос в Виндермеере. Занимался какими-то гадкими опытами с овцами. Ненавидел все и вся. Одно время грозился отомстить ученым Академии, отравив все океаны и уничтожив население Земли.
— Он твой родственник? — шутливо поинтересовался Уильям.
— Он состоял в отдаленном родстве с Вордсвортами. Но об этом почти никто не знал. Нарбондо не выносил друзей Вордсвортов. Считал их обреченными и недоразвитыми. Сам он был исследователем. Искателем приключений. В течение нескольких лет пропадал на Борнео, экспериментируя там с орангутангами. По его словам, он сумел найти рецепт некой сыворотки, которая позволяла ему выводить породы новых, удивительных животных — помесей гиппопотамов и змей, рыб и птиц. В конце концов ему запретили въезд в Англию, обвинив в вивисекции. Нарбондо стал прообразом уэллсовского доктора Моро. По слухам, после этого он появился в Китае, где искал сказочный эликсир долголетия и каких-то необыкновенных рыб, но с тех пор прошло уже больше ста лет. — Ашблесс внезапно умолк, как будто испугался, что увлекся и сказал больше, чем следовало.
На протяжении всего рассказа Ашблесса Уильям всей душой ненавидел поэта — словно тот оказался посвященным в знания для избранных. Сообщив пару пикантных новостей, поэт успокоился и замолчал, предоставив этому молчанию — полному намеков и удивительных недоговоренностей — возможность еще больше укрепить его репутацию.
Ашблесс щурился на гравюру Нарбондо, а Уильям незаметно рассматривал поэта, стараясь угадать его возраст. Это оказалось трудно, практически невозможно. При неярком свете Ашблессу можно было дать семьдесят. Тем не менее его густые, длинные и совершенно седые волосы говорили о хорошем самочувствии и имели вполне здоровый вид. Однако при свете солнца, когда тень и недостатки освещения уже не могли скрыть всех впадин и морщин на лице поэта, он выглядел значительно старше, на диво старше. Может быть, на все девяносто. Далеко за девяносто, говоря точнее. Уильям вспомнил Теннисона, который, по воспоминаниям современников, чтобы доказать свою силу, носил на спине лошадей. Не забывая при этом о печати на своем челе, о предначертании быть поэтом. Примерно то же сквозило и в Ашблессе, и это ужасно раздражало Уильяма. Поэты всегда оказывались близкими родственниками известным личностям, вечно расхаживали с важным видом, поглощенные своей значимостью, с неизменными претензиями на серьезность и самоуглубленность.
Кроме всего этого, в Ашблессе было что-то еще, что Уильяму пока не удавалось разглядеть. Он решил попробовать заманить поэта в ловушку, просто ради забавы.
— Я знаком с некоторыми произведениями твоего предка, — объявил Уильям, отлично понимая, что намек на присвоение и фальшивость имени заденет поэта.
Ашблесс ничего не ответил.
— Это очень хорошие стихи, — продолжал Уильям, довольный своей находчивостью. — Нетрудно заметить их влияние на твой стиль. Они чисты, как звон колокольчика, вот что я хочу сказать. Ты очень изящно сумел использовать его темы.
— Я ощущаю его духовное влияние, — пробормотал Ашблесс, делая вид, что «Жабродышащие» Нарбондо занимают его гораздо больше, чем обсуждение вопросов поэзии.
Уильям степенно кивнул, как будто отлично понимал, что Ашблесс имеет в виду.
— Это как запись стихов в сомнамбулическом состоянии? — спросил он. — Автоматическое письмо? Что-то вроде этого? Тогда нечего удивляться, откуда у тебя такое живое понимание эпохи поэтов-романтиков.
— Я не верю в сочинение стихов в трансе. Мои знания об эпохе романтизма основаны на скрупулезном изучении материала. Кстати, вы знаете, что Пичи наследственно владели поместьем в Виндермеере?
«Дерет нос и виляет», — подумал Уильям.
— Понятия не имел, — отозвался он. — Мне казалось, что отец Пича купил это поместье после войны, когда началась свистопляска с деньгами. Какой-то древний род оказался не в состоянии платить налоги, ну и так далее.
— А на самом деле, — ответил Ашблесс, притворяясь до крайности удивленным, — Пичи живут в Виндермеере около десяти веков, а то и дольше. Если память мне не изменяет, дед Пича и Игнасио Нарбондо были знакомы. Доктор питал к Пичу научный интерес — понимаете, о чем я?
— Конечно, конечно. — Уильям отложил трубку и поднялся. — Твои познания на редкость обширны.
— Но не настолько, насколько хотелось бы, — таинственно ответил Ашблесс, убирая снимок во внутренний карман.
Уильям повернулся к шурину, который полностью ушел в очередное перечитывание отчета о находке в Саргассовом море.
— Кстати, о Пиче, Эдвард, — ты собирался сегодня утром поговорить с Вильмой?
Эдвард испуганно вскинул голову. Ашблесс взял из его рук книгу и рассеянно принялся листать.
— Я разговаривал с ней — рано утром, — ответил Эдвард. — Она ехала к себе в пекарню, а мы с Расселом как раз собирались в Гавиоту. Я с ней обо всем поговорил. Предупредил насчет Фростикоса. Она сказала, что с Гилом случился какой-то припадок — что-то с дыхательными путями, так, кажется. Плюс обезвоживание и переутомление. С Бэзилом в свое время тоже это случалось. Дело в том, что двадцать лет назад Фростикос лечил Бэзила, поэтому Вильма ему и позвонила. Фростикос ей совершенно не нравится, но он мигом во всем разобрался. На голову бедной женщины валятся все новые и новые неприятности.
Уильям наблюдал за поэтом: притворяясь, будто увлечен книгой, Ашблесс на самом деле краем глаза следил за Эдвардом.
— Вильма сказала, что с Фростикосом она познакомилась еще до Арктики, когда Пич и Пиньон дружили. С ее слов у меня сложилось впечатление, что Пиньон и Фростикос довольно давние и близкие друзья. Это Вильму особенно настораживает. Она терпеть не может Пиньона, который Гилу проходу не дает и заставляет помогать в каких-то безумных планах по созданию подземной машины — понимаете, о чем речь? Она опасается, что Гил подпадет под его влияние. Как бы там ни было, она сегодня с утра позвонила Фростикосу и сообщила, что в его услугах больше не нуждается. Попросила его прислать счет, сказала, что Гил поправился. Вот такие новости.
Многократное упоминание Фростикоса умерило энтузиазм Уильяма. Он принялся мрачно размышлять о предполагаемых связях Фростикос-Пиньон и мертвом Оскаре Палчеке, о тайне доктора Нарбондо и улыбающемся Ямото, о пока еще неясной, но неминуемой грозе, собирающейся над их головами. Эдвард говорил что-то еще, но Уильям уже не слушал — он смотрел на пыльную, порванную, старую-престарую карту приливов, прикрепленную к стене кнопками и украшенную под графиком месячных приливов смешным маленьким осьминогом, подмигивающим Уильяму из-под козырька лихой капитанской фуражки, на околыше которой вычурными буквами было написано: «Рыбачья хижина Ленца».
Бросив «Невесту Фу Манчу» на кофейный столик, Джим резко поднялся и торопливо пошел к парадной двери. Почему эта мысль не приходила ему в голову раньше, он понять не мог. До этого момента он не видел здесь ничего необычного. Но теперь… На первый взгляд смерть Оскара Палчека была своеобразным несчастным случаем — не более. Но где-то внизу, под поверхностью, во тьме подводных пещер, таилось и скрывалось до времени еле заметное объяснение, на свету засиявшее как кристалл, простое и очевидное, как ни ужасно.
Джим скорым шагом дошел до дома Хасбро, перед которым у обочины дороги был припаркован маленький «Метрополитен». Вокруг ке было ни души. Джим лег животом на траву и заглянул под машину, почти не сомневаясь, что увидит там какое-нибудь чудо, возможно лицо самого Хасбро, уставившееся на него. Под машиной не было ничего, кроме глушителя. Обыкновенного глушителя. На стальной коробке которого были выдавлены и залиты краской слова «Глушитель Аякс — тише шепота» — краска уже начала выцветать от жара и времени. Никаких тебе серебряных проводков, зеленых или лиловых огней, ничего необычного или фантастического.
Джим поднялся, усиленно размышляя. На другой стороне улицы стояла машина Вильмы Пич. Джим медленно подошел туда, раздумывая, стоит ли говорить с Гилом об убийстве Оскара вообще, а если да, то нужно ли намекать на подозрения о причастности к нему Гила. Намека было бы достаточно — после этого Джим, словно Нэйленд Смит, просто заглянет Гилу в лицо, увидит, как изменится его выражение, что, конечно, выдаст того с головой — секунда растерянности, в соответствии с восточными клише Фу Манчу, могла значить гораздо больше тысячи слов.
Прервав размышления Джима, из дверей дома Гила выбежала Вильма Пич. Миссис Пич была необыкновенно испугана и взволнована — в руке она держала одинокий листок из записной книжки.
— Ты видел сегодня Гила? — спросила она Джима срывающимся голосом.
— Сегодня — нет. Последний раз мы виделись вчера утром.
— Я уехала в восемь утра, и он еще был дома.
— Я его не видел, — повторил Джим. — А что случилось?
— Твой дядя дома? — спросила миссис Пич и, не дождавшись ответа, быстро пошла вниз по улице.
Размахивая листком из записной книжки, она ворвалась в сарай-лабиринт. Гил пропал — может быть, похищен. На столе миссис Пич нашла записку, написанную почерком сына. Он ушел. Маме не нужно волноваться. Ему необходимо сделать кое-что важное. Жизненно важное. Он всегда был ей обузой, но теперь это кончилось. Настало время, когда он обязан действовать. Грядет новая эра. Далее шел абзац, в котором очень туманно и путано разъяснялась та грандиозная цель, на трудные поиски которой отправился Гил.
— Он вернется, — заверил Вильму дядя Эдвард.
— Дай ему время до полуночи! — со слабым смешком объявил Ашблесс.
Уильям отметил, что Ашблесс вовсе не весел, а выглядит странно, словно что-то вот-вот может раскрыться, что-то такое, что он отчаянно пытался утаить.
— Ну, — продолжал поэт, — мне пора. Я заглянул только на минутку. Не стоит так волноваться, дорогая, — посоветовал он Вильме Пич, одобряюще похлопывая ее по руке и улыбаясь так, словно сказал что-то прочувствованное и сердечное.
Ашблесс повернулся и торопливо прошагал мимо Джима к своей машине. На полдороге он, однако же, остановился и, поманив Джима, достал из кармана фотографию. Эдвард и Уильям утешали Вильму Пич.
— Крепись, парень, — сказал Джиму Ашблесс, положив ему руку на плечо и увлекая через лужайку к дороге. — Видел когда-нибудь такое фото?
Поток новостей немного выбил Джима из колеи и, услышав от Ашблесса такие слова, он почему-то решил, что ему сейчас поднесут какой-нибудь пошлый снимок, учитывая фамильярность объятий. Но фотография оказалась совсем другого рода. Джим увидел на ней Оскара Палчека, который умер, так и не успев окончательно превратиться в рыбу.
Джим помедлил. Почему-то ему стало страшно.
— Да, — ответил он, не уверенный до конца, куда клонит Ашблесс. — Я видел похожее в одной книге в лабиринте. В книге доктора Нарбондо.
Джим поднял глаза и заглянул Ашблессу в лицо, пытаясь прочесть там ответ, но поэт был доволен и совершенно спокоен.
— Мог ли Гил Пич видеть эту книгу? — спросил его Ашблесс. — Приключения и тайны всегда увлекают мальчиков его лет. Он мог видеть этот рисунок?
— Он видел его, — честно признался Джим. — Смотрел, наверно, раз десять. И даже переписал ту главу, что относится к рисунку, в свой дневник, слово в слово.
Ашблесс кивнул, спрятал фотографию в карман, пожал Джиму руку и торопливо зашагал к машине.
КНИГА ВТОРАЯ ТЕОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Робинзон Крузо представляет нам наиболее трогательный образец тоски человеческого сознания по зонтам… воспоминания об исчезнувших светских привычках ищут формы внешних проявлений, в результате чего и появляется зонт. Человек набожный, попав на необитаемый остров, скорее всего состряпает себе башенку-часовню, дабы скрасить воскресные утра иллюзией колокольного звона; однако Крузо был более моралист, чем пиетист, и его зонтик из листьев — это замечательный пример борьбы человеческого разума и его самовыражения в наиболее неблагоприятных, из всех возможных, обстоятельствах.
Роберт Льюис Стивенсон. Философия зонтиковПролог
В неподвижном воздухе витал соленый запах морской воды и затхлый дух ограниченного пространства. Уильям Ашблесс сидел на земле, прислонившись спиной к стене хижины — былой каюты корабля, скорее всего рыбацкой шхуны, с широкими окнами по всем сторонам. Большая часть стекол была выбита — чудо, что несколько стекол все-таки уцелело, — однако осколки из рам были аккуратно вынуты кем-то, кто жил здесь все эти годы.
За спиной поэта, на возвышении, горел большой, но неяркий костер; дым поднимался столбом прямо к темному невидимому своду над головой. В двадцати футах от странной лачуги на берегу лежала весельная лодка, на носу которой на тонком бамбуковом шесте теплился масляный светильник, отбрасывая на маленький каменистый участок острова вокруг себя загадочные ломаные тени.
Ашблесс ощущал невероятную усталость. Он давно уже был в деле и повидал всякое. Однако теперь в нем крепла уверенность в близости чего-то нового и незнакомого. Воздух был словно наэлектризован, полон магии и таинств. Приблизительно то же самое он переживал на Риу-Жари, когда Бэзил Пич призывал миллионы тетр и срывал с неба луну. Чувство было таким, словно корабль уже отплыл и, увлекаемый течением таинственной неведомой реки, приближался теперь к ее устью, которое вот-вот откроется в простор безбрежного древнего моря, полного загадок. Ашблесс желал быть на борту этого корабля, когда это произойдет.
Можно было действовать более осторожно, но столь же безуспешно. Вопрос о том, кто сейчас правит бал, уже отпал. Пиньон предлагал ему всяческое содействие, поддержку, деньги. Выдвигал различные идеи. Ашблесс иронически хмыкнул. Мания величия, снедающая Пиньона, требовала теперь ему в утешение и дифирамбов от придворного поэта. Хотя, конечно, деньги здесь тоже были поставлены немалые. Но что ему до этих денег? Дело-то вовсе не в деньгах. Существовала возможность — и все более явная, — что именно корабль Пиньона первым выйдет в таинственное море.
Слева от поэта в ветхом доке стояли на якоре три китайские джонки — две тихие и темные, а в одной каюта была освещена. Лодка покачивалась на темной воде, и пятна света, льющегося из окон ее каюты, создавали ощущение, что и остров качается. Ашблесс поднялся, отряхнул брюки и двинулся по едва заметной тропинке, вьющейся между камней. Стараясь ступать как можно тише, он дошел до разваливающегося пирса. Внутри залитой светом каюты джонки поэт заметил склоненную голову Иларио Фростикоса; доктор был чем-то занят — наверное, творил очередную пакость, решил Ашблесс, с кем-то из семейства Пичей.
Оглядевшись по сторонам и убедившись, что за ним никто не следит, поэт заглянул в окно. На столе для препарирования перед Фростикосом лежал крупный карп, аккуратно вскрытый от жабр до хвоста, распяленный и приколотый к подставке длинными Т-образными булавками. Все внутренние органы рыбы были как на ладони. Фростикос что-то проделывал с медленно бьющимся сердцем, срезал с него скальпелем тончайшие полоски тканей. Полные ужаса глаза карпа неподвижно смотрели в окно. Небольшое вращающееся устройство непрерывно орошало глотающую воздух рыбу водяной пылью, предохраняя ее от пересыхания и гибели. Фростикос осторожно достал из брюха карпа орган размером с оливку и опустил его в наполненную прозрачной жидкостью лабораторную колбу. Подняв колбу к свету, он некоторое время рассматривал ее содержимое. На миг Ашблесс поверил, что Фростикос собирается единым духом осушить колбу, словно бокал с мартини, однако тот просто закупорил ее и убрал в стеклянный шкаф.
Внезапно Фростикос замер, будто у него перехватило дыхание, и, пошатнувшись, отступил от стола на шаг. Захрипев, он широко открыл рот и вцепился рукой в горло; при этом выражение его лица приобрело заметное сходство с выражением карпа на препарационном столе — такие лица бывают у тех, кто, открыв дверь, сталкивается за ней нос к носу с улыбающейся смертью. Фростикос упал на колени, его грудь судорожно вздымалась от невероятных усилий. Непроизвольно махнув рукой, он сбросил на пол поднос с блестящими хирургическими инструментами. Потом впился скрюченными пальцами в застежки черного саквояжа и, ломая ногти, принялся их расстегивать, потом вывалил содержимое саквояжа на пол перед собой. Баночки, коробки, упаковки таблеток и прочие медикаменты раскатились во все стороны. Трясущимися руками Фростикос схватил зеленую склянку, с усилием откупорил ее, отхлебнул, потом привалился спиной к книжному шкафу — по его подбородку стекала и капала на рубашку зеленая жидкость.
Фростикос ужасно осунулся — кожа обтянула кости так туго, что его лицо стало напоминать череп, и доктор походил на живой труп. Пергаментная кожа под скуловыми костями медленно то втягивалась внутрь, то чуть раздувалась, словно тонкий слой ткани на пульсирующих жабрах. Фростикос с усилием поднялся, упал в кресло, склонив голову на руки, и просидел так с минуту, тяжело дыша, потом встал, поправил одежду и не торопясь, методично собрал с пола и спрятал обратно в саквояж рассыпавшиеся склянки и пачки таблеток. После этого он собрал хирургические инструменты в неглубокий поддон, выключил обрызгиватель, вытащил булавки из мертвого карпа и, взяв рыбу за хвост правой рукой, облизал пальцы левой. При виде такого странного действия Ашблесс вздрогнул и поежился, затем поспешно отступил в тень — Фростикос резко обернулся.
На глазах у Ашблесса рука в белом рукаве высунулась из окна и выбросила карпа в воду около пирса. Как только рука скрылась, Ашблесс вернулся к окну. Он опять увидел Фростикоса — доктор с закрытыми глазами сидел в кресле, его спокойное лицо больше не казалось изможденным. Фростикос словно бы засыпал, как будто странное происшествие неимоверно измотало его.
Ашблесс обернулся и посмотрел в воду — препарированный карп был еще там, висел, зацепившись за выступающие щепы сломанной сваи, — и хотя поэт знал, что рыбина ему мало что скажет, он решил посмотреть на нее. Он лег на живот и свесился над водой, потом сполз вниз еще немного, удерживаясь правой рукой, а левую вытягивая вперед до отказа — рискуя сорваться вниз. Он сумел дотянуться до носа карпа, но подхватить рыбу не смог — она была слишком скользкой. Карп соскочил с щепы и упал в воду — в желтом свете, льющемся из каюты джонки, Ашблесс не отрываясь следил, как карп тонет хвостом вперед.
Не успел карп скрыться в темноте под водой, как из глубины ему навстречу выскользнула тень, огромные зубастые челюсти сомкнулись, и, блеснув чешуей, ужасный хищник снова ушел вниз. С преувеличенной осторожностью Ашблесс выбрался на доски пирса, еще раз глянул на спящего Фростикоса и зашагал по тропинке обратно — туда, где на конце бамбукового шеста горел масляный светильник. Столкнув лодку в воду, он уселся на банку и принялся тихо грести прочь от острова, где оранжевое пламя костра медленно угасало, сливаясь с темнотой.
Глава 10
Когда Вильма Пич закричала, Джим стоял на краю тротуара, глядя вслед сворачивающей за угол машине Ашблесса. Миссис Пич вопила благим матом, срываясь на визг, истошно и пронзительно, как будто видела перед собой что-то невообразимо ужасное. Она выбежала из лабиринта — выражение ужаса и растерянности застыло на ее лице. Вслед за миссис Пич из дверной щели выскользнула пара забавно одетых, как на праздник, мышей. За мышами из сарая выбежал отец Джима с сачком в руках, за ним дядя Эдвард.
Мыши были не лыком шиты и бросились врассыпную. Одна во весь опор рванула к кустам, а другая, хмельная от свободы, смешно запрыгала через лужайку заднего двора.
— Аксолотль! — в отчаянии закричал Уильям. — Поймай аксолотля! Черт с ними, с мышами!
Вильма Пич испустила новый крик и с ногами забралась на капот «Гудзона», прижимая руки к горлу. Хлопнула дверь. На дорожку перед своим домом вышла миссис Пембли, быстро взглянула на Джима и сосредоточила свое внимание на дрожащей Вильме Пич, которая в страхе озиралась по сторонам в ожидании появления новых кошмарных созданий в кукольных одежках.
Преследуя мышь, пытавшуюся спастись в кустах, Уильям выскочил на улицу. Он промчался пред очами миссис Пембли, размахивая сачком, словно дворник метлой, резко развернулся и бросился обратно на задний двор, возможно решив поскорее убраться с глаз ненавистной и опасной соседки, а может быть надумав в первую очередь заняться ловлей аксолотля. В конце концов, мыши шли по десять центов за дюжину, а вот хороший аксолотль… Дядя Эдвард что-то крикнул приближающемуся шурину. Джим устремился вслед за отцом. Вильма Пич поспешно перебралась в кабину «Гудзона» и захлопнула за собой дверцу.
— Вот они! — заорал Эдвард, словно Килрой, прыгая у забора и заглядывая во двор Пембли. Аксолотль каким-то образом уже пробрался туда. Амфибию преследовала пара мышей, одна из них была в рваном пальтишке. К месту действия приближался привлеченный криками Эдварда пес миссис Пембли, уже завидевший издалека добычу.
— Господи! — вскрикнул Уильям, гораздо больше обеспокоенный возможной трагедией, чем его шурин. Метнув в собаку сачок, от которого та презрительно увернулась, он обругал животное последними словами.
— Я сейчас их достану, — предложил Джим, понимая, что дело принимает угрожающий оборот. Но было поздно — Уильям, ужасно встревоженный судьбой своих подопечных, а также будущим теории цивилизации, перебрался через забор, схватился с озадаченным псом и наконец принялся ловить драгоценного аксолотля.
Из дверей своей кухни выплыла миссис Пембли, по необъяснимым причинам с увесистой скороваркой в руках, и начала угрожающе надвигаться на Уильяма. В ответ тот, решив, конечно же, что угроза нависла над его зверями, подхватил брошенный сачок и предостерегающе выставил рукоятку в сторону пожилой леди. Вид переваливающегося в высокой траве упитанного аксолотля в коротких панталонах произвел на миссис Пембли потрясающее впечатление — на мгновение она застыла, пораженная немотой. Швырнув на землю скороварку, она пронзительно завизжала и бросилась искать спасения на кухне, с грохотом захлопнув за собой дверь. Звякнула накидываемая цепочка, лязгнули задвижки.
Уильям подобрал из травы одуревшего аксолотля, подал его через забор Эдварду и хотел перебраться сам. Однако силы неожиданно оставили его. Он едва держался на ногах. О том, чтобы карабкаться на забор, и речи быть не могло. Забыв о сачке, он направился к воротам. На Джима накатило ощущение безысходности. Вот-вот должен был послышаться нарастающий вой неизменных сирен, предвестник появления белой машины. Его душили отчаяние и яростная злоба — на отца, на миссис Пембли, на себя самого. Отец шел к дому страшно медленно, как человек, не имеющий определенной цели.
Уильям добрался до заднего двора, остановился там и, покачиваясь, оглянулся, потом лег на траву и, откинув деревянный щит, принялся протискиваться под дом. Эдвард, все еще с аксолотлем в руках, пытался слабым голосом увещевать своего шурина. Ноги Уильяма примерно секунд десять торчали из-под дома, словно ноги раздавленной Злой Волшебницы Гингемы. Потом втянулись в темноту. Сразу же вслед за этим ветер принес отдаленный вой сирен.
Мягкая пыль под домом была прохладной на ощупь. Она копилась здесь вот уже скоро пятьдесят лет. Она понятия не имела о дуновениях вечернего воздуха под крыльями огромной птицы. Она была равнодушна к ходу истории, к теории цивилизации и к людским страданиям. Уильям лежал на боку, прижавшись щекой к ладони, которая утопала в мягкой пыли. Он слышал глухие звуки, доносящиеся из-под земли — прямо сквозь ладонь. И вспомнил о том, как обитавшие на Великих Равнинах индейцы, преследуя стада бизонов, слушали прерию, прикладывая ухо к земле, а потом вспомнил себя самого сорок лет назад: он тогда слушал горячие стальные рельсы и воображал далекие экспрессы, неудержимо и яростно мчащиеся к неведомым и экзотическим пунктам назначения.
Сейчас же ему представлялось, что где-то глубоко внизу он слышит приглушенный надсадный рокот — эхо могучих водопадов, переливающихся из одной подземной пещеры в другую, или скрежет вращающихся челюстей левиафана, прогрызающего себе путь в земной коре где-то далеко, в нескольких милях внизу.
Уильям почувствовал, что засыпает. Сегодня был длинный день. День, овеянный вдохновением теории цивилизации. У Уильяма был свой взгляд на философию вещей, он верил, что разделенные фрагменты и детали часто несут в себе нечто гораздо большее, чем сложенные вместе. Пальто для мыши, распашонка для аксолотля, штанишки для крота — так шаг за шагом наука приблизится к знаменательному дню, когда провозгласит конец дикости и приход цивилизации. Он без устали раскрывает чужие козни, рушит каверзные планы, однако истина от этого не становится яснее, а более того — ускользает от него все дальше. В чем причина? Узнать правду — значит разрушить порядок вещей. Знание не есть связующий материал, крепостная стена порядка на пути хаоса; это множащиеся мельчайшие трещины, разбегающиеся в тысячах направлений, постоянно грозящие развалить нашу веру на невосстановимые части. Подобное не укладывалось у Уильяма в голове. Это было слишком сложно для его понимания.
— Если ты считаешь, что все понял, — сказал он вслух, — то прими мои поздравления.
— Понял что? — спросил голос в нескольких дюймах от его уха. Кто-то потряс его за ногу. — Давай вылезай.
Уильям открыл глаза, но не сумел рассмотреть ничего, кроме сгорбленной тени — силуэта существа, явившегося из преисподней мучить его. Вокруг стало темно и холодно. Правая нога Уильяма совершенно потеряла чувствительность.
— Вот умница, — сказала Уильяму разбудившая его тень. Уильям снова провалился в сон.
Сквозь дрему он почувствовал, как скользит в пыли на боку, словно змея. Это скольжение стало частью его чудесного сна, который тянулся целую вечность, приятно переплетенный с далекими тихими голосами, хлопающими дверями и прочим, в тихом и покойном отрыве от переживаний внешнего мира.
Эдвард ничего не понимал. Все это время он занимался своим делом, обычным и нормальным: возился с мышами, изучал тропических рыб, устраивал встречи ньютонианцев, чтобы был повод приятно выкурить трубку за обсуждением интересных проектов путешествия к центру Земли. И где-то среди этой ясной и выверенной цепочки — где именно, он не знал и сам, — ступил ногой в трясину беспорядка и досады. «Да, именно», — решил он. Все не так просто, как кажется. Уильям был совершенно прав.
Бедный Уильям. Его снова увезли. Это уже начинало надоедать — пора положить конец этим увозам. Это будет непросто, но он что-нибудь придумает, переедет с Уильямом куда-нибудь. В последние дни события ускорились. Факты и связи, еще вчера незаметные, сегодня обретали вещественность и пугали. Он начал подозрительно оборачиваться вслед незнакомым и скорее всего совершенно безвредным людям, улыбнувшимся ему, или равнодушным к нему, или взглянувшим на него из-под странных темных очков. Два дня назад он шел по бульвару Лонг-Бич к «Книжному развалу» и встретил женщину с картонной коробкой на голове. Это была коробка из-под карамельных батончиков «Баттерфингер» — их туда влезало, наверное, с дюжину. Картонку удерживала на взлохмаченной голове женщины тонкая эластичная резинка. Предусмотрительная дама не хотела, чтобы головной убор сыграл с ней злую шутку, позволив ветру унести себя. Она поработала над своей коробкой — прорезала маленькие дырочки, добыла примерно фут эластичной резинки, продела в дырочки и крепко завязала ее концы. По каким-то необъяснимым причинам эта женщина показалась Эдварду подозрительной. Почти сразу же он задался вопросом: а кто из них двоих больший сумасшедший? И успокоился, напомнив себе, что настоящий безумец не осознает свое безумие, не ведает того, что уже переступил черту. В один прекрасный день он проснется, и готово — он уже по другую сторону, в смежном мире. Надевай на голову картонную коробку и марш-марш в город, как ни в чем не бывало.
«С чего это я привязался к картонным коробкам?» — удивился Эдвард. А почему не колпак от автомобильного колеса? Или большой ботинок? И кто, начал он ломать себе голову в очередной раз, опять сомневаясь и снова подозревая, в таком случае больший сумасшедший: невинная блаженная, разгуливающая по городу с коробкой на голове, или такой человек, как он сам, безосновательно недоверчивый, отлично сознающий беспочвенность собственных подозрений, но все равно им потакающий? Это очень опасно. И он это понимает. Нет смысла искать в себе следы помешательства. Безумие — это судьба, если оно назначено тебе, то от него не уйти. Разум — тонкая скорлупа, которая может в один прекрасный день — чьей-то забавы ради — рассыпаться, оставив тебя с соломой в волосах и с картонной коробкой вместо шляпы.
Эдвард уволил Ямото, сославшись на то, что почувствовал вдруг неодолимую тягу к работе в саду. Сразу же после этого он нанял нового садовника, датчанина по фамилии Тээслинк, который сразу же принялся щелкать секатором среди кустов перед забором и остановился лишь тогда, когда там остались только уродливые короткие пучки веточек. Эдвард постоянно страшился того, что визит Ямото в сад Пембли совпадет с приходом Тээслинка. Или хуже того — явится Уильям, выбравшись неожиданным образом откуда-нибудь из каминной трубы или из-под дома, например, и опознает в Тээслинке агента Иларио Фростикоса. Эдварду хотелось умыть от всего этого руки. Однако он отлично знал, что не сможет этого сделать.
Перед домом с громким скрежетом и скрипом затормозил «лендровер» профессора Лазарела. Лазарел был возбужден до крайности. Мир сотрясали монументальные открытия. Газеты трубили о них. Водяных людей теперь находили где угодно, они стали таким же обычным делом, как сорняки или, скажем, блохи.
— Водяные люди! — удивленно воскликнул Эдвард, забыв о своих переживаниях. — И сколько же их?
Лазарел немного успокоился.
— В газете пишут о двух найденных.
— Ага, — отреагировал Эдвард.
— Но эти двое — все равно что тысяча. Один был найден в другом полушарии. Послушай: мне об этом рассказал Лассен полчаса назад по телефону. Человека с жабрами нашли на западном побережье Мадагаскара. Перед тем как его обнаружили, он пролежал на берегу примерно неделю. Птицы хорошо над ним поработали, но сомнений ни у кого нет. Его перевезли на корабле в Лос-Анджелес.
Эдвард нахмурился.
— Я подумал о том же. Почему в Лос-Анджелес? Здесь есть какая-то связь с Оскаром Палчеком. Я сел в машину и поехал к тебе, и посмотри только, что по дороге я увидел в «Таймс»! — Лазарел выхватил из кармана пиджака газету и бросил ее на стол. На первой странице в углу невразумительная статья под заголовком «Водяной человек на острове Каталина» повествовала о найденном рыбаками на берегу полуразложившемся трупе человека с жабрами.
— Здесь есть связь! Уверен на сто процентов! — вскричал Лазарел, ударяя кулаком по столу.
— И ты и я, мы оба знаем, откуда пришло это существо, — продолжил он. — Из приливного пруда на Пало-Верде, вот откуда. Дно океана там похоже на ноздреватый сыр. Я ждал чего-нибудь такого.
Зазвонил телефон. Это был Ашблесс. Да, они уже видели газету. Они согласны, что случилось действительно нечто важное. Он приедет к ним через полчаса. Эдвард бросил трубку на аппарат, ощущая смутное беспокойство — по тем же причинам, по которым он уволил Ямото, он теперь подозревал Ашблесса. Влияние Уильяма нельзя было назвать благотворным. Профессор Лазарел, тем не менее, был полон энтузиазма. Им нужны помощь и содействие, заявил он. Нужно привлечь всех, кого только можно.
Достав из бумажника карманный календарик, он принялся считать дни.
— Сколько осталось у Джима до школы?
— Почти неделя, — ответил Эдвард. — До второго января.
— Отлично. Начинаем сборы сейчас же. Звони Сквайрсу — нам нужна его лодка.
— А что мне ему сказать — куда мы идем? — спросил Эдвард.
— На остров Каталина! У меня есть четкое предчувствие, что на этот раз мы близко подобрались к чему-то крупному. Все постепенно становится на места. Мы сейчас ближе к цели, чем ты можешь представить. Стоит допустить заминку, и Пиньон снимет все пенки — ты ошибаешься, если думаешь, что это не так. Нам нужно его опередить.
Когда Джим вернулся в полдень домой, он увидел, что их крыльцо завалено походным снаряжением, топографическими картами, жестянками консервов, фотографическим оборудованием и зелеными канистрами с питьевой водой. Ночь они провели на борту «Герхарди», качаясь на волнах. Холодно было ужасно. Профессор Лазарел и Ашблесс, словно два приятеля неразлей-вода, весь вечер напролет сидели на палубе на ветру, курили и болтали, вспоминая экспедиции и приключения прошлых лет. Профессор Лазарел заявил: тот не мерз по-настоящему, кто не побывал на полюсе. Джим поклялся себе, что ноги его на полюсе не будет. Просидев на палубе «Герхарди» с полчаса и всячески крепясь, он решил, что достаточно познакомился с холодом, и сдался. Было невозможно представить, что где-то бывает еще холоднее. Его пальцы потеряли чувствительность и одеревенели, голова под шерстяной шапкой раскалывалась от тупой боли, казалось занесенной туда ветром. Остаток вечера он читал в каюте, по опыту зная, что морская болезнь не доберется до него, если он не станет о ней думать. Около полуночи он решил предпринять еще одну вылазку на палубу.
Вокруг бота теперь клубился туман, густой, влажный и мертво-неподвижный. Ашблесс и Лазарел стояли на носу и разговаривали, звуки их голосов тонули в тумане и представлялись Джиму доносящимися из другой реальности, может быть из другого измерения, — словно он отведал один из грибов Фу Манчу и теперь погрузился в сумрачный, соседний с обычным мир. Ему казалось, что можно оттолкнуть от себя туман руками, а то и плыть в нем. Едва воображение Джима принялось за дело, ему начали чудиться всякие разные удивительные вещи — на добрую минуту он уверился, что в десятке футов за бортом бота в тумане зависла, перед тем как вернуться в океан, огромная летучая рыба, пятнистая и влажная, с глазами как бутылочные донышки.
Джим прищурился, словно на ярком солнце, решив вдруг, что тот же самый прием сработает и в темноте, и принялся вглядываться в мутный мрак. Разумеется, ничего он там не увидел — смотреть было абсолютно не на что: за бортом «Герхарди», вплоть до самого острова Каталина лежала лишь тихая вода, спокойная и маслянистая, придавленная сверху одеялом тумана. Джиму внезапно показалось, что остров этот к нему не ближе, чем ближайшая звезда. И что сейчас он смотрит в никуда, в открытый океан. Но и в том, и в другом он не усматривал ничего нового. Бот окружала белесая непроницаемая стена.
Зашептал ветер и ненадолго разогнал клубящийся туман; над ночной водой образовался длинный и поразительно чистый коридор, в котором тихо лежало полупогруженное призрачное тело — странное плавучее средство, похожее на белую субмарину с плавниками и высоким килем, происходящую, быть может, из Атлантиды и теперь затерянную в тумане. Уже через секунду гигантское облако тумана, пришедшее со стороны океана, поглотило удивительный корабль. Джим не успел даже разобрать, что случилось — ушло ли таинственное устройство под воду само или, наоборот, пучина поглотила его, но уже через несколько мгновений, когда туман рассеялся снова, никакой подводной лодки не было, только темный медленно вздымающийся океан.
Джим поспешил рассказать обо всем Лазарелу. Профессору это страшно не понравилось. Ашблесс приписал лодку игре воображения — туман и тишина, сказал он, оказывают сильное воздействие на сознание человека. Галлюцинации, наведенные туманом, в море обычное дело: корабли-призраки, водяные люди, морские чудовища, лица среди скоплений водорослей — все это порождения тумана. На палубу вышел дядя Эдвард, в теплой куртке и с трубкой в зубах. По его словам, вполне возможно, что чудовища и корабли-призраки не случайно появляются именно в тумане, может быть, туман — это часть их среды обитания, воздух их фантомного мира, просочившийся к нам и принесший с собой ночные тени и сумеречных существ.
Джим продолжал стоять на том, что он что-то видел. Был ли это призрак или нет, он сказать не мог, но что-то определенно было. Неожиданно он подумал, что будь здесь отец, он сумел бы найти всему этому приемлемое объяснение. Эта мысль показалась Джиму курьезной, но не потому, что его отец был склонен вкладывать в обычные события особенный смысл, а более всего потому, что сама эта склонность Уильяма казалась теперь ему вполне нормальной и обоснованной. Джим принялся глядеть в туманный океан, высматривая сам не зная что: то ли опять неизвестную субмарину, то ли опутанную водорослями компанию скелетов-призраков с потерпевшего крушение корабля, вечных странников подводного мира.
Лазарел сказал, что идет вниз, и дядя Эдвард к нему присоединился. Джим двинулся за ними следом, внезапно почувствовав, что кровавые и невероятные похождения Фу Манчу ему все-таки ближе странных порождений ночи, которые могут — кто знает? — воспользовавшись приливом, подобраться к ним вплотную. Кроме того, сквозь решетку вентиляции из каюты доносился густой аромат крепкого кофе — кофе, который изумительно готовил Ройкрофт Сквайрс, кофе — первого врага любых привидений, обитающих в тумане или нет. Уильям Ашблесс сказал, что еще посидит на палубе, так как эта атмосфера создавала, по его словам, настроение. Нахлобучив теплую фуражку поплотнее, он объявил, что останется «на вахте» и достал из кармана куртки блокнот и ручку. Еще через сорок пять минут, убаюканный монотонными переговорами дяди Эдварда и профессора Лазарела, Джим начал засыпать. Со стороны взрослых доносилось что-то о подводных лодках, Пиньоне и водяных людях, а его тем временем медленно куда-то уносило, и обрывки разговора превращались в фрагменты снов.
Когда он проснулся, ярко светило солнце. Остатки тумана клубились у горизонта, испаряясь в сиянии дня. Остров Каталина, зеленый и скалистый, вздымался из моря удивительно близко к боту, и Джиму показалось невероятным, что все эти скалы так и простояли здесь всю ночь, а не поднялись из океана вместе с солнцем. Ашблесс, который до рассвета просидел на палубе, занимаясь тяжким поэтическим трудом, объявил, что никаких призрачных подводных лодок не заметил, и повалился в койку. Он определенно попытался обратить все в шутку, чтобы снять с Джима подозрение в озорстве. После завтрака они подплыли на лодке к острову и выгрузили провиант и канистры с водой. На берегу их не встречал никто, кроме малочисленного стада удивленных коз. Ближе к полудню Ройкрофт Сквайрс распрощался и, взревев мотором, отчалил к недалекому материку, пообещав вернуться через четыре дня.
Искатели приключений остались в полном одиночестве на скалистом, поросшем клочками чапараля восточном побережье острова, где предположительно должны были что-то найти — Джим понятия не имел, что.
Однако профессору Лазарелу сомнения были неведомы. Через час после того, как был разбит лагерь, он отплыл от берега на гребной лодке и начал промерять отвесом подозрительные впадины. Дядя Эдвард, похожий в водонепроницаемом костюме на худого тюленя, принялся было расхаживать в холодной воде вдоль берега, рассматривая глубины сквозь заросли испещренных солнечными пятнами водорослей, но уже через час от этого занятия у него невыносимо разболелась голова, он с плеском выбрался на берег и завалился спать в своей палатке, так и не найдя ни одного бездонного прудка.
Лазарел отгреб от берега на несколько сотен футов, опустил грузило в воду и размотал трос, вытащил грузило, отгреб чуть дальше и снова промерил глубину — уносимый течением, он медленно скрывался из виду за коротким мыском.
Петляя между непролазными зарослями кустарникового дуба и шипастых груш, Джим начал подниматься через высокую, по колено, траву на холм, начинавшийся сразу позади лагеря. В теплом и неподвижном воздухе витал аромат шалфея, по пути мальчик спугнул стадо пекари — глупые звери выскочили из кустов и, смешно семеня худыми короткими ножками, с взволнованным хрюканьем припустились наутек. Джим был почти уверен, что с вершины холма он увидит внизу на равнине домик, рядом с которым темноволосая женщина будет пасти свиней. Если это действительно окажется так, то он подойдет к этому дому, просто из любопытства, и посмотрит, сумеет ли устоять перед чарами хозяйки. К тому времени, как Джим наконец добрался до вершины, солнце на западе уже начало клониться к океану. Внизу перед ним расстилалась равнина, но домика видно не было, а было только шесть коз, которые испуганно помчались скачками прочь, вниз по каменистому склону. Джим двинулся по гребню холма вперед, в сторону океана, и шел, пока не добрался до обрыва, откуда открывался отличный вид на тысячи миль тихоокеанского простора, отделяющих остров от Японии. В нескольких сотнях футов внизу он заметил в лодке профессора Лазарела, гребущего к берегу по направлению к лагерю. Для того чтобы выбраться из потока течения, который снес его часа два назад за мыс, профессор решил теперь держаться как можно ближе к берегу. Джим надумал посидеть на краю обрыва до заката, рассчитывая, что за полчаса до сумерек успеет пройти две мили и вернуться обратно. Заметив надвигающуюся с океана стену тумана, он быстро передумал и принял решение не дожидаться захода солнца.
Джим бросил последний взгляд на Лазарела: если профессор не сбавит ход, он вполне может обставить его и раньше вернуться в лагерь. Вдоль всего побережья вода была изумительно чистой и зеленой, все подводные камни, пучки водорослей и мели были видны ясно и отчетливо, словно нарисованные на акварели — складочки мелких волн были изумительно ровными, словно ряды волос под расческой. Джиму показалось, что почти прямо перед крохотной лодкой Лазарела он различает какое-то темное пятно, заметно отличающееся по цвету от окружающей зелено-голубой мели. Поначалу Джим решил, что это, вероятно, крупный подводный камень или островок особенно густо разросшихся водорослей, но пятно было настолько темным, чернильным и странно правильным, что он догадался — это впадина, и очень глубокая. Джиму сделалось любопытно, станет ли профессор промерять ее по пути к лагерю. Он поднял камень и швырнул его с обрыва. Камень полетел вниз по дуге и скрылся в зарослях кустарника. Склон обрыва оказался значительно более пологим, чем это представлялось сверху. Джим поднял второй камень, размахнулся и, за миг до того как выпустить его из руки, понял, что камень этот непростой — он мельком заметил на его плоской грани рисунок. Прежде чем эта мысль успела как-либо изменить его намерения, камень выскользнул из его пальцев и устремился в сторону океана, упал на каменистый склон и некоторое время несся вниз, подскакивая, пока наконец не пропал в кустах. Но оказалось, что на краю обрыва разбросано множество таких камней — сколько угодно. Более того, впечатление создавалось такое, словно весь утес был выстроен из этих камней, словно какой-то сказочный каменщик-гигант обтесывал их и аккуратно укладывал друг на друга — причем выбирал те, на которых темнели силуэты ископаемых, — устроив своеобразное кладбище вымерших рыб.
Джим принялся набивать чудесными камнями карманы, сразу же извлекая их обратно и выбрасывая, как только попадался лучший экземпляр. Затем начал спускаться вниз вдоль скальной расселины, хватаясь руками за кустики мескито, выковыривая из грунта отпечатки ископаемых раковин конической формы и другие, похожие на наутилуса, увлекся и опомнился только когда заметил, что дальняя оконечность острова уже окрашена оранжевым светом утопающего в океане солнца, но в этот же миг увидел под ногами плоский камень с отличным отпечатком трилобита — создания из невообразимой глуби времен — в самой середине. Он выбросил из карманов камни с рыбами, тщательно спрятал трилобита, снова осторожно, словно нес пакет с яйцами, забрался на утес и в сгущающихся сумерках двинулся обратно. Внизу на воде он видел маленькое пятно — скорлупку профессора Лазарела, уже подгребающего к берегу.
Когда Джим, прыгая с камня на камень и громко шурша галькой, спустился наконец к лагерному костру, было почти темно; дядя Эдвард уже собирался идти его искать. Поспевал ужин. Голова дяди Эдварда все еще мучительно болела. Профессор Лазарел так и не открыл ничего интересного, с воды уже тянулся туман, и его первые похожие на змей щупальца колыхались над берегом. Довольно скоро, почти полностью утонув в тумане, сверхъестественным покрывалом стелющемся над землей, ветви молодых дубков за палаткой стали ветками-призраками.
С улыбкой, предвкушая реакцию дяди Эдварда, Джим вытащил из кармана трилобита. Удивление дяди, у которого почти сразу прошла голова, не обмануло его ожиданий. Профессор Лазарел изумился еще сильнее, когда Джим поведал ему об обрыве, полном камней с отпечатками ископаемых, и о впадине, над которой профессор проплыл полтора часа назад да так и не заметил, — ошарашенный ученый был готов немедленно бежать к лодке, не дожидаясь рассвета. Обязательно должен буду промерить ту впадину, сказал он. Но в конце концов это может подождать и до утра, решил профессор чуть погодя, завидев, как Уильям Ашблесс опускает в котелок с кипящим бульоном шейки лобстеров. Если Джим не ошибся и это действительно окажется впадина, то, возможно, им стоит завтра днем перенести лагерь к ней поближе.
Туман на острове был не таким густым, как прошлой ночью в океане. Он плыл мимо белесыми ватными прядями, то скрывая, то снова обнажая дубки на границе лагеря, просачиваясь сквозь кусты, ветки которых, совершенно ясно видимые, иногда оставались потерянно торчать из молочной ваты в серых тенях. Но уже через несколько минут облако более плотного тумана скрыло и кусты, и лагерь, и костер, и людей вокруг него, и серый спокойный океан.
Туман с просветами и неровный сбивал с толку больше, чем густой и непроглядный, и теперь, вместо того чтобы угрожать невидимыми обитающими в нем чудовищами, подкрадывающимися потихоньку, время от времени показывал в просветах странные и неожиданные ночные силуэты: гранитный выступ необычной заостренной формы, похожий на зверя, изготовившегося к прыжку, да так и окаменевшего, стену зеленой листвы, ставшую иллюзорно двумерной и превратившуюся в арочный вход в страну чудес.
Разговоры у костра не клеились. Все помалкивали, даже Уильям Ашблесс. Поэт казался странно обеспокоенным и часто прикладывался к своей серебряной фляжке со скотчем, а когда туман немного рассеивался, вставал и смотрел на воду, словно ждал чьего-то появления. Все согласились с тем, что итог у этой экспедиции может быть только один — они должны найти водяного человека, и лучше живого, чем мертвого. С таким же успехом они могли искать черную кошку в темной комнате, однако по каким-то необъяснимым причинам Лазарел был уверен, что разгадка тайны земного ядра сейчас близка как никогда. Не для того он посвятил этому всю жизнь, чтобы в решающий момент оказаться не в форме. На чем была основана его уверенность, он толком объяснить не мог, но не уставал повторять, что все признаки налицо. Он что-то чуял в воздухе. И в таинстве тумана, окутывающего остров, в тихом шепоте шуршащего галькой океана и в слабом, далеком голосе ревуна, бормочущего что-то на канале Санта-Барбара, Джим ощущал ту же уверенность. Он серьезно сказал себе, что все это исчезнет, стоит лишь взойти солнцу, однако уговоры ничего не изменили, и, может быть, потому ночь действительно опутала его своими чарами. И об этом он тоже знал.
Неожиданно, без всякой на то причины, веской или таинственной, он стал думать о том, похоже ли нисходящее от побережья в глубины океана морское дно на поросший чапаралем гранитный склон холма за их палатками. Вполне вероятно, что одно было перевернутым отображением другого — страна под водой была темным эхом страны на свету, зеркальным отражением, замаскированным морской травой и водорослями, вековыми наслоениями полипов, ракушечника и отмершей растительности, искаженным корнями деревьев и кустарника, слоями праха и ископаемых останков неисчислимых поколений умерших животных. Как вышло, что до сих пор этого никто не заметил?
В тяжелых клубах тумана почти невозможно было разубедить себя, втолковать, что он и трое его взрослых спутников находятся сейчас на суше, а не сидят вокруг костра из плавника на дне океана. Неожиданно Джим вспомнил Гила Пича, который наверняка чувствовал бы себя как дома в этих подводных садах спятившего капитана Немо, решившего поселиться вместе с осьминогами и морскими звездами.
Джим чуял в воздухе запах водорослей — коричневых высохших пятен, гниющих на прибрежных камнях. Соленый и холодный привкус тумана на языке напоминал вкус сырых устриц. Притихший Джим клевал носом, и ему казалось, что омывающие их со всех сторон струи тумана сгущаются, что в этом невидимом течении к ним плывут, медленно вращаясь и переворачиваясь, разные чудные следы жизнедеятельности океана: бумажные раковины наутилусов, раскрашенные и подсвеченные изнутри как китайские фонарики; неспешно клубящиеся созвездия крохотных розовых креветок и танцующего планктона; облака из блесток морского песка, раздутые течением и сияющие в воде подобно затянутому дымкой звездному ночному небу. Повернувшись к взрослым, Джим увидел, что те уже давно отошли ко сну, наверное, тоже подхваченные видениями моря, и теперь странствуют в Стране Снов. Неожиданно ему показалось, что он различает какие-то звуки, доносящиеся из океана, — быстрый плеск и короткий вскрик, почти стон, странно человеческий и жалобный.
Туман поредел. Джим встал и, засунув руки в карманы, спустился по тропинке к пляжу, напряженно высматривая там невесть что. Он ощущал присутствие чего-то привычного и знакомого, словно знал, что или, может быть, кого там увидит. Отблески лунного света играли на оставшихся после отлива прудках в четких кругах водорослей, почти бесцветных в отраженном свете. Нигде не было заметно никакого движения. Голое каменистое дно уходило у него из-под ног и смыкалось с темной водой впереди. Слева от Джима, почти невидимый сейчас в тумане, выдавался в океан мыс. В воде не было видно ничего, кроме зыбкого лунного круга, вколыхнувшегося на секунду, а потом поглощенного туманом. Справа от Джима за ближайшей грудой камней что-то плеснуло. Что-то поднялось на мгновение из глубины и сразу же снова исчезло под водой. В сторону берега побежала дорожка пузырей и волнующейся воды, словно какое-то неизвестное существо плыло к ногам Джима по мелководью. Он хотел закричать, разбудить дядю, предупредить о приближающемся водяном человеке, но испугался, что рассеет этим наваждение, разорвет тонкую пленку очарования ночи, после чего таинственное существо наверняка исчезнет, уйдет в глубину.
Из воды показалась голова в каплях влаги и взглянула на него снизу вверх, умоляя о чем-то. Рот существа задвигался, оно покачало головой из стороны в сторону, словно владело огромной и печальной тайной, которую не могло раскрыть. Это был Гил Пич.
Джим вскрикнул, хотя увиденное его совершенно не удивило. Он давно уже чувствовал близкое присутствие Гила. Именно в ответ на его неслышный зов он отправился к берегу. Не успел крик Джима утихнуть, как Гил исчез — снова погрузился в воду. Туман на мгновение рассеялся, и в сиянии луны Джим увидел субмарину-призрак, выбирающую якорь. За его спиной раздался топот, и через миг после того, как туман снова сомкнулся, совершенно скрыв океан, трое его спутников подбежали к нему.
Лазарел долго не унимался и по пояс в воде бродил по мелководью в поисках водяного человека, спотыкаясь о камни и путаясь в водорослях. В то, что из воды высовывал голову Гил Пич, он не поверил. Водяной человек, говорил Лазарел, выглядит примерно так же, имеет похожие признаки — щелевидные жабры на шее, перепонки между пальцами и все такое. Обходя массивный, торчащий из воды камень, Лазарел ухватился за его выступ, покрытый скользкой тиной, попытался переступить и подняться чуть повыше, но рука его соскользнула, и с пригоршней зеленых водорослей он с криком упал спиной в прудок и исчез под водой. Дядя Эдвард, закатав штаны по колено, что было совершенно бесполезно, бросился на помощь, и в конце концов оба, ничего не обнаружив, мокрые с головы до ног выбрались на берег.
— Видел что-нибудь? — спросил Лазарела Ашблесс, в очередной раз прикладываясь к своей фляжке. Он протянул фляжку профессору, который отстранил ее, слегка обиженный беспечностью вопроса.
— Я должен с ним встретиться! — объявил он час спустя, сидя у костра с чашкой кофе в руке и уже относительно обсохший. Ашблесс рассмеялся и попытался прокомментировать слова профессора очередной шуткой, но осекся под взглядом Лазарела.
— Что здесь нужно этой подводной лодке? — удивлялся дядя Эдвард, вороша угли палочкой. — Для чего она кружит около острова? Может быть, этот водяной человек тоже оттуда? Что-то вроде разведывательной миссии.
— Если у них имеется в распоряжении подводная лодка, — отозвался Ашблесс, — тогда зачем им водяной человек? Это уже излишество — тебе не кажется? — он улыбнулся Эдварду.
— А я уверен, что это был Гил, — вставил Джим. — Я не просто видел его. Мне показалось, что он звал меня по имени.
— Я допускаю такую возможность, — серьезно кивнув, заметил профессор Лазарел. — Но более вероятно, что это был обычный водяной человек, один из тех, которых сейчас начали замечать в разных местах. Появление Пича у нашего острова было бы невероятным совпадением — мы знаем, что случилось с его отцом… среди миллионов квадратных миль всех океанов Гил выбрал тот же клочок суши и тот же уикэнд — нет, это невозможно. Я просто не могу в это поверить.
— Если только он не приплыл на субмарине, — отозвался Эдвард. — Это не был случайный водяной человек. Может быть, меня сбил с толку туман, но сегодня ночью я ощущал в воздухе что-то необычное, что-то… — он замолчал и прищурился, глядя на Лазарела, как будто ждал, что его друг напомнит ему вертящееся на языке слово, как сделал бы Уильям. Ашблесс выручил его.
— Что-то рыбье, — вставил он.
— Да, что-то вроде. — Эдвард набил табаком трубку. — Не уверен, что вы правильно меня поняли. Некоторое время назад мне показалось, что все мы словно бы под водой. Жуткое ощущение.
— Хм, — отреагировал Лазарел, — мне кажется, я понимаю тебя.
— Тут все дело в тумане, джентльмены, — объяснил Ашблесс. — Я уже говорил вам, что воздействие его на человека очень сильно. Это то же самое, что темнота — очень похоже на темноту. Нам необходимо видеть, что творится вокруг. Это у нас в крови. Если мы не можем видеть окружающее, то населяем его гоблинами — вымыслом. Все очень просто. Мы в два раза сильнее боимся того, что может случиться, чем того, что уже происходит. Например, поэт должен уметь сдерживать свое воображение. Он обязан это делать, если желает, чтобы оно служило ему. Поэзия не похожа на скачку с отпущенными удилами, наоборот, нужно долго учиться править ею. Сегодня ночью мы с вами, джентльмены, были свидетелями простейшего с научной точки зрения явления — встречи теплого воздуха и холодной морской воды. Результат — туман. Влажность достигает такого уровня, что в воздухе возникает водяная взвесь. Проще пареной репы, и не нужно выдумывать никаких бежавших друзей или кораблей-призраков. — Поэт отечески улыбнулся Джиму, словно говоря ему, что галлюцинации — обычное дело, если принять во внимание его возраст и необузданное воображение.
Джим внезапно перестал доверять поэту. Ему почему-то вспомнился Пиньон, и это укрепило подозрения, превратив их в уверенность, что Ашблесс ведет двойную игру, водит их за нос. Дядя Эдвард тоже казался недовольным. Он подмигнул Джиму и покачал головой. Профессор Лазарел, тем не менее, в рассуждениях Ашблесса нашел рациональное зерно. Он предпочитал верить в конденсацию влаги, а не в призрачные корабли. Мысли о таинственной субмарине, блуждающей вдоль побережья острова и наблюдающей за ними, осложняли и без того непросто складывающуюся ситуацию, которую усугубляли нестерпимый зуд в спине под просоленной рубашкой, холод ночи и туманная сырость, пропитывающая волосы, что выбивало его из колеи. А о кораблях-призраках можно будет подумать завтра при свете дня.
Остаток ночи прошел без приключений, а к утру туман рассеялся. Ровно в восемь профессор Лазарел и дядя Эдвард снова вышли на лодке в океан, а Джим отправился на свой холм. Ашблесс, всю ночь сражавшийся с рифмами, остался в лагере отсыпаться.
Зимние дожди размыли склоны холма и снесли камни и кустарник к его подножию, ближе к океану, нагромоздив все это с узкими вертикальными промоинами прямо над верхней кромкой прилива. Куски скал с торчащими острыми краями грозили вот-вот сорваться вниз, по пути размолов в порошок палеозойских цефалоподов и ископаемые останки водорослей. Пока профессор Лазарел опускал в воду грузило, отматывая в пучину бесчисленные ярды троса, Эдвард в бинокль изучал склон холма.
Отвернувшись к океану, он принялся рассматривать яркие блики утреннего солнца на волнах. Что он там хотел увидеть, он и сам не знал. Скорее всего — ничего. Он вспомнил, как тринадцатилетним мальчишкой бродил по окраинам пустыни в поисках драгоценных камней — рубинов, изумрудов, все равно — и в результате нашел среди черных и коричневых булыжников кусок кристаллического кварца величиной с кулак.
Только недавно ему казалось, что среди теней и складок холма он различает что-то, напоминающее кости доисторических животных, — рогатый череп трицератопса, позвоночник стегозавра сдвумя рядами выростов, похожих на акульи зубы, — а на поверку оказывалось, что он принимал за желаемое силуэты скользящих по небу мимо солнца редких облаков, под которыми тени и пятна темнели и приобретали глубину, ненадолго четко выделяя части формаций длинных слоев отложений.
Эдвард вдруг подумал, что склон утеса, нисходящий в океан на невообразимую глубину, при желании можно представить в виде вертикальной дороги, один конец которой уходил в недра земли, а другой возносился к звездам, — дороги, по которой легко отправиться в прошлое, мимо хрупких слоев отложений кайнозоя в мезозой, в эру крылатых рептилий, в эру джунглей, полных гигантских цикад, откуда еще через 300 миллионов лет он попадет в папоротниковые топи и мутные моря палеозоя, кишащие рыбообразными чудовищами и зубастыми китами. Еще глубже, вблизи полого ядра Земли, начнется эра рыб и странных бесчелюстных.панцирных созданий, ползающих по травянистому дну силурийских морей, которые исчезнут в кембрии с его бесцельно копошащимися в водорослях жуками-трилобитами и брахиоподами, что продолжится около миллиона лет, за чем последует миллиард лет, где не будет абсолютно ничего, кроме мутной слизи и одноклеточных растений, следы которых сейчас скрыты глубоко под слоями геологических древностей на дне морей и океанов.
Внезапно Эдвард поймал себя на том, что смотрит в бинокль, но ничего не различает. Он сфокусировал взгляд на захлестываемом волнами гроте у подножия утеса, с зарослями похожих на резину водорослей, которые не менее чем через час скроются под тремя или четырьмя футами воды. Эдвард немедленно представил себе пещеру в Лурде, почти ожидая, что сейчас ему в тумане моря явится Святая Дева. Но вместо Богородицы он увидел в гроте мертвое тело — белесое и согнутое пополам в поясе, вероятно выброшенное на скалы во время предыдущего прилива. Эдвард толкнул Лазарела, который в совершенном экстазе отматывал в прудок последние ярды тысячефутового троса.
— Что такое? — вздрогнул Лазарел. — Это потрясающе. Нам необходима батисфера. Мы получим…
Но Эдвард махнул рукой и протянул бинокль, указывая в сторону грота. Лазарел быстро взглянул туда, испустил пронзительный вопль и моментально схватился за весла. Через несколько минут их утлая лодка уже плясала на волнах у камней перед утесом. Пытаясь направить лодку и уменьшить качку, Эдвард хватался руками за длинные мясистые пряди водорослей. В воздухе витал соленый дух высыхающей морской растительности и другой, сильный — разложения, исходящий от молочно-бледного тела. Казалось, что морская вода просочилась в слои кожного покрова этого существа, разделила их и напитала до такой степени, что оно раздулось и отекло и теперь готово развалиться в любое мгновение. Эдвард был почти уверен: стоит прикоснутся к мертвому телу хотя бы пальцем, и оно немедленно превратится в груду гниющих кусков. В смысле научного открытия находка была ему совершенно безразлична; для него водяной человек был лишь верным знаком того, что где-то недалеко от них под волнами прячется вход в волшебную страну Пеллюсидар.
Профессор Лазарел, однако, был настроен перетащить труп в лодку. У существа имелись перепонки между пальцами на руках и ногах, и несмотря на то, что плоть на его голове и шее сильно объели рыбы и крабы, отлично были видны жабры. Тело водяного человека, совершенно лишенное волосяного покрова, было покрыто чешуей размером с ноготь большого пальца, переливающейся на солнце всеми цветами нежной радуги — очень красиво, что находилось в странном противоречии с исходящей от тела вонью.
— Помоги мне погрузить его, — отдувался Лазарел, раздраженный колебаниями Эдварда.
— Ты что, собираешься его трогать? — содрогнулся Эдвард, машинально прижимая к лицу ладонь. — Он же развалится у тебя в руках. Тебе нужна лопата для уборки снега.
— Ерунда. Он еще твердый. Недели не прошло с тех пор, как умер. Слезай в воду, подтолкни лодку к камням и держи ее ровно. Когда волна поднимет лодку, я положу этого парня туда.
Принеся себя в жертву науке, Эдвард спрыгнул в воду и встал на песчаное дно, которое лежало на два или три фута глубже, чем представлялось из лодки. Холодная вода колыхалась у его груди. Он коротко глотал воздух и охал от холода, не в силах сдержаться.
Лазарел смотрел на воду, дожидаясь подходящей волны.
— Прекрати ныть и держи лодку ровно, — командовал он. — Давай!
Через мгновение волна подняла Эдварда и оторвала его ноги от дна, затем вода запенилась вокруг камней и отнесла лодку от берега. Не раскрывая глаз, Эдвард забил руками, потом нащупал дно и оттолкнулся ногами, но по пути к поверхности врезался головой в дно лодки. Он дернулся вперед, запутался в клубке морской травы и через секунду наконец появился над водой, весь увитый бурыми водорослями. К тому времени лодка уже успела отплыть от грота ярдов на десять. Мокрый по пояс Лазарел стоял на камнях, склонившись над своим водяным человеком и, судя по выражению его лица, явно полагал, что Эдвард выбрал не лучшее время для купания.
— Хватай лодку, старина, — крикнул он, кивая на их прыгающую на волнах скорлупку. — Еще одна такая волна — и парня унесет в океан. Тогда без сети мы точно не обойдемся.
Эдвард подплыл к лодке, которая услужливо подалась ему навстречу, соскользнув вниз с волны, захлестнувшей риф. Загребая руками воду, чтобы остаться на плаву, Эдвард исхитрился вцепиться в лодку и принялся ждать следующей волны, которая должна была подогнать его к камням. При помощи волны он толкнул посудину вперед, встал на дно и взялся руками за борта, ощущая при этом, что ужасно промерз.
— Еще раз! — крикнул Лазарел, с натугой выпрямляясь с водяным человеком на руках.
Упершись ногами в дно, Эдвард толкнул лодку вперед и, затаив дыхание, снова ушел под воду с головой. Внезапно лодка дернулась и вырвалась у него из рук. Эдвард упал лицом вперед, сделал несколько гребков и вскарабкался на камень рядом с Лазарелом, который просто лучился от счастья. Тело водяного человека, немыслимо скрюченное, лежало на дне лодки между банками — существо запрокинуло голову, уставившись невидящими глазницами на солнце. Рука водяного человека легла на бинокль Эдварда, словно подводный житель намеревался взглянуть на утес.
— Мой мальчик, все замечательно, — торжественно объявил Лазарел. — Посмотрим, что скажет по этому поводу «Таймс»! — Профессор повернулся и осмотрел склон утеса. — По-моему, отсюда тебе лучше всего взять к западу. Это около пятидесяти ярдов. У обрыва ты, похоже, сможешь срезать. Там, где дубы почти спускаются к воде.
Эдвард оглянулся на дубки у подножия стены каменного каньона. Он еще не понимал, что его друг имеет в виду.
— Взять западнее? — переспросил он, стаскивая с ноги ботинок и выливая из него воду.
— Чтобы добраться до лагеря, — объяснил Лазарел. — Все вместе мы в лодку не влезем. Поэтому я предлагаю тебе прогуляться пешком. На суше теплее, чем на воде, а на месте мы окажемся одновременно.
Эдвард открыл рот, чтобы запротестовать, но потом понял, что Лазарел прав. Перспектива долгой и нудной гребли против течения с давно умершим водяным человеком под боком не вызывала у него энтузиазма. Он держал для Лазарела лодку, пока тот забирался в нее и, скинув куртку, закутывал ею сгнившее лицо нового члена своей команды. Наконец Лазарел сел на весла и начал грести от берега.
— Увидимся через час! — крикнул он, налегая на весла изо всех сил. Перескакивая с камня на камень, Эдвард взял курс на запад, добрался до чапараля и исчез под кронами деревьев в пологом каньоне.
— Я против того, чтобы держать это в лагере, — заявил Ашблесс, скептически оглядывая добычу Лазарела. — До прибытия Сквайрса еще целых два дня. Ты представляешь, во что этот труп может к тому времени превратиться? Он уже сейчас сплошная гниль. Мы сделаем вот что — засунем его в чехол от палаток и похороним. Послезавтра мы его откопаем и отвезем домой прямо в чехле.
— Но в чехол нам его не засунуть, — возразил Эдвард. — Он развалится на куски.
Лазарел кивнул.
— У мыса сильно качало, и мне приходилось вовсю работать веслами — там-то он чуть и не рассыпался. Я не буду засовывать его ни в какие чехлы. Нужно держать его на холоде. Для этого подойдет морская вода. Положим парня в лодку, придавим сверху камнями и зальем водой. Пусть отдыхает.
— Но не здесь! — заорал Ашблесс. — Я этого не вынесу! Мы перенесем его в следующую бухточку, подветренную. И к тому же вода в лодке на таком солнце нагреется уже через пару часов. Придется постоянно обновлять воду, другого пути нет. На меня в таком случае можете не рассчитывать.
— И если он будет лежать в лодке, то как нам без нее обойтись? — поинтересовался Эдвард. — Лучше завернуть его во что-нибудь и отнести подальше.
— В спальный мешок, — предложил Джим. — У нас полно запасных одеял, а ночью не слишком холодно. Расстегнем на мешке молнию, вывалим туда тело из лодки и снова застегнем.
— Он там спечется от жары, — возразил Ашблесс. — Представляю, что за дрянь мы найдем в мешке, когда вернемся домой.
— С ним ничего не случится, — заявил Лазарел, — если мы предварительно вытряхнем из мешка весь пух. Думаю, это то, что нам нужно. Мы перетянем горловину мешка шнуром и пустим его плавать на веревке в воду неподалеку от берега.
— Как наживку на крючке, — радостно объявил Ашблесс.
— Точно. — Лазарел уже направился к палаткам.
Из спального мешка Джима, единственного, который расстегивался полностью, вскоре выпотрошили перья. Пустой мешок расстелили во всю ширину, подняли лодку, вывалили из нее труп на мешок и бегом оттащили лодку обратно к воде, отмывать. Профессор Лазарел, дыша через носовой платок, смоченный в керосине, застегнул молнию и затянул горловину. Вместе с Эдвардом он понес мешок в небольшую бухточку к востоку от лагеря, время от времени задевая им за коряги и камни и страшно ругаясь при каждом ударе — профессор опасался, что его драгоценная находка не доживет до дома и превратится в мешанину отдельных частей тела. В конце концов мешок благополучно притопили в приливном прудке. В воде он уже не пах так умопомрачительно. Несколько десятков обитателей прудка, окуньков и другой рыбешки, выплыли из тени и собрались вокруг полюбопытствовать, тычась ртами в голубой нейлон. Лазарел посмотрел на них очень подозрительно.
— Ночью будем дежурить по очереди, — сказал он.
Эдвард согласился, хотя и не знал, от кого они будут сторожить мешок. Знал он только одно: когда придет его очередь заступать в дозор, он будет держаться на расстоянии. Возможно, эту миссию согласится взять на себя Ашблесс, который редко спит по ночам.
Ночь выдалась ясная — никакого тумана и всего с ним связанного, только редкие угрюмые облачка выносило порой из океана; они взбирались на холм и исчезали. В небе сияла огромная луна, отражаясь в океане широкой серебряной двойной дорожкой. Профессор Лазарел и Эдвард отправились к бухточке с водяным человеком, следить за своим сокровищем. Ашблесс, сегодня особенно усталый и дряхлый, сидел у костра напротив Джима и развлекал его явно выдуманными рассказами о лондонском свете девятнадцатого века — анекдоты, семейные истории и невероятные подробности из жизни Вордсворта и Байрона, которых он неизменно величал не иначе как Билл и Ноэл. Джиму все это совершенно не нравилось. Ему грустно было думать, что судьбы и имена великих поэтов теперь служат литературному приукрашиванию чьих-то пустых историй. Джим и представить себе не мог, что за удовольствие Ашблесс находит в пересказывании подобных сплетен.
Ровно в полночь Ашблесс встал, достал из рюкзака бутылку и наполнил из нее фляжку, после чего спрятал и то и другое в карманы своего удивительно длинного пальто. Поэт быстро повернулся и внимательно посмотрел на Джима, который, сидя перед костром, уже давно клевал носом. Покопавшись в рюкзаке, Ашблесс вытащил оттуда разные мелочи и тоже рассовал их по карманам. Сложив на свой спальный мешок пару рубашек, брюки, несколько книг и бумаги, поэт скатал его и перевязал получившийся неуклюжий тюк шпагатом. Было ясно, что Ашблесс куда-то собирается, вероятно в ночное дежурство к бухте с драгоценным мешком, чтобы подменить там профессора Лазарела и дядю Эдварда. Джим озадаченно посмотрел Ашблессу вслед, чувствуя, что его неудержимо клонит в сон.
Через час Джим проснулся от холода — костер почти догорел — и с затекшими ногами. Он решил остаться спать на воздухе, поскольку ночь была ясная, встал и пошел за вторым одеялом. Из-под сетчатого полога его просторной парусиновой палатки выглядывали ноги дяди Эдварда в спальном мешке. Из обиталища профессора Лазарела доносился богатырский храп. Заметив рюкзак Ашблесса, пустой и приплюснутый, Джим вспомнил о своих подозрениях часовой давности. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто его не видит, Джим взял рюкзак в руку и поднял его. Рюкзак был совершенно пуст.
Джим скинул куртку, быстро натянул свитер и снова надел куртку. Он решил взглянуть на Ашблесса и зашагал по тропинке на запад, в сторону соседней бухточки. Если у бухты никого не окажется, это будет совсем неудивительно, подумал Джим. Он дал маху, нужно было следить за Ашблессом с самого начала. Он еще не дошел до бухточки, когда услышал доносящиеся оттуда тихие голоса, два из которых узнал сразу же. Спрятавшись в тени гранитного выступа, Джим тихонько высунулся из своего убежища и увидел на берегу бухточки трех человек — Ашблесса, Пиньона и доктора Иларио Фростикоса.
Растерзанный спальный мешок Джима с его таинственным содержимым все еще плавал в прудке, привязанный веревками к трем большим камням. Ночь была настолько светлой, что рядом с мешком с водяным человеком можно было различить водоросли и подводные камни. Стоя друг напротив друга на прибрежном испещренным длинными тенями песке, Пиньон и Ашблесс спорили. Неподалеку от берега качалась на волнах небольшая подводная лодка, та самая, которую Джим уже видел два раза в тумане.
— Они сейчас знают не больше чем месяц назад, — презрительно произнес Ашблесс.
— В этом я не сомневаюсь, — спокойно отозвался Пиньон, словно сказанное поэтом само собой разумелось. — Но если они и узнают что-нибудь? Если поймут природу приливных прудков, что с того? Вы что, броситесь туда за ними вслед?
Ашблесс промолчал.
— Мое предложение все еще в силе, — продолжил Пиньон. — Мне нужен биограф-долгожитель вроде вас — извините за выражение. Условия остаются неизменными. А теперь взгляните вот на это.
Пиньон вытащил из кармана пальто фонарик и посигналил им субмарине — включил и выключил четыре раза. Ашблесс поднес к губам фляжку и сделал долгий глоток, но подавился и закашлялся — лодка с гудением вертикально поднялась в небо, с нее полились вниз, в океан, потоки воды, под днищем горел изумрудный и лиловый свет, берущийся непонятно откуда, из невидимого источника, может быть от самой луны. Подобно «Метрополитену» Хасбро, подводная лодка, напоминающая гигантскую пулю, приблизилась к берегу. Теперь Джим уже не сомневался в том, что вчера видел в воде именно Гила. Летающая субмарина рассеяла все его сомнения.
Ашблесс стоял как завороженный и с открытым ртом смотрел на медленно и лениво вращающийся в лунном свете винт лодки.
— Антигравитация? — прохрипел он.
— Конечно, — отозвался Пиньон. — Проще простого. И это еще не все. К первому апреля мы собираемся достигнуть центра Земли. Машина уже полностью закончена. Этот парень Пич — гений. Он может все — он сделал вечный двигатель и антиматерию, представляете? По сути дела, большая часть его изобретений проста до смешного. А что есть за душой у ваших чистоплюев? Мертвец в мешке. Что они собираются с ним сделать — спросить у него, как пройти в Эльдорадо? — Пиньон хихикнул. Ашблесс провел рукой по волосам. Потом оглянулся через плечо на лагерь — виновато, как показалось Джиму. Встреча на берегу, уже не сомневался Джим, была назначена заранее. Поэт был готов к бегству. Поутру им предстояло проснуться и обнаружить, что тот исчез вместе с водяным человеком.
Субмарина снизилась к пляжу, из ее брюха выпала и развернулась веревочная лестница, она раскачивалась прямо у ног поэта. Один за другим вся троица вскарабкалась по лестнице и скрылась внутри четко вырисовывающегося на фоне луны аппарата. Лестницу втащили обратно, и подводная лодка медленно заскользила в сторону океана, унося изменника Ашблесса. Над прудком с водяным человеком летающая субмарина на миг зависла. Существо в мешке изогнулось и дернулось два раза, словно рыба в сети. Джим вскрикнул. Привязанные к камням веревки натянулись и лопнули, мешок с водяным человеком поднялся невысоко в воздух, пронесся над водой, осыпая океан градом поспешно отцепляющихся крабов, и шлепнулся в волны в сотне футов от берега.
К тому времени, как Джим разбудил профессора Лазарела и дядю Эдварда и они вместе прибежали обратно к бухточке, подводная лодка превратилась в отдаленное сияние в небе, неторопливо спускающееся к воде. В течение нескольких минут казалось, что субмарина летит на север в глубь континента, но у самого берега лодка скрылась под волнами.
— Это был Фростикос? — спросил Джима дядя Эдвард, после того как снова разожгли костер.
— Да, — ответил Джим. — Это был он. Я узнал по волосам — белым, как подводная лодка. Ашблесс знал, что они будут ждать его на берегу. Я почти уверен. Он специально забрал все из своего рюкзака. Он давно уже с ними договорился. Не понимаю, зачем он так потешался над нами все это время?
— Предатель! — воскликнул профессор Лазарел, гораздо больше разъяренный потерей водяного человека, чем переходом поэта на сторону неприятеля. Профессор замолчал, раздумывая о летающей субмарине. — Ты уверен, что это дело рук Пича? — спросил он внезапно. — Господи! Помните эту его спринцовку для носа, о которой он болтал в день погружения на батисфере? Зачем она была ему нужна? Для использования приливов и отливов в своих целях или для чего-то другого?
— Для антигравитационного двигателя, — подсказал Джим.
— Антигравитационный двигатель! — Лазарел покачал головой. — На кой черт сдалась им антигравитация, если они собираются к центру Земли? Они кончат в сумасшедшем доме. Поправь меня, Эдвард, если я ошибаюсь, но антигравитация противоречит всем основным принципам релятивистской теории.
— Ты прав.
Лазарел вздохнул. Дядя Эдвард попросил Джима еще раз рассказать им историю с машиной Хасбро и ее антигравитационным глушителем. Джим, во имя истины и ввиду изменившихся обстоятельств, при которых его теперь вряд ли приняли бы за помешанного, описал в заключение и полет под дождем над крышами домов Ройкрофта Сквайрса на велосипеде — чего впоследствии сам Сквайрс не помнил или отказывался признавать.
— Мы были неправы с самого начала, — сказал Эдвард. — Мы полагали, что изобретения Гила — продукт научного метода, что все они из разряда традиционных, механистических. Но это не так. И теперь мы это знаем. Антигравитация невозможна. Тем не менее, сегодня ночью мы были свидетелями полета подводной лодки и левитации трупа. Теперь можно с уверенностью сказать, что соседство Гила Пича либо приводит к массовым галлюцинациям, либо, что еще тревожнее, изменяет условия окружающей среды. Помните рассказ Ашблесса о Бэзиле Пиче на Риу-Жари? Чушь от начала до конца. Я хочу сказать, что все, с чем мы сталкивались до сих пор и считали однозначным, на самом деле имеет совсем иную природу, более опасную, чем нам казалось, тем более что к этому причастен Пиньон. И знаете, что здесь, по-моему, самое удивительное?
Лазарел взглянул на дядю Эдварда пустыми глазами и покачал головой.
— Самое удивительное то, что Уильям знал об этом уже давно. Знал или догадывался почти обо всем. Но тогда, скажите мне, к чему был весь этот спектакль с его бесчисленными побегами из лечебницы и новыми заключениями в нее? Кому это было нужно?
— Они следили за нами, — ответил Лазарел. — Вот в чем дело. Все побеги Уильяма были организованы. Они окружали его сфабрикованными, поддельными угрозами. Провоцировали в нем паранойю. Вскрывали над паром его письма. Намекали на яд в супе. Наняли садовника-японца, чтобы он следил за Уильямом и изводил его, появляясь перед ним неожиданно. И Уильям решил, что стал объектом чудовищного заговора, в котором сделана ставка на его рассудок и жизнь. Он бежал домой, на следующий день его провоцировали, он совершал проступки разной тяжести, и его снова помещали под надзор. В лечебнице его немедленно накачивали лекарствами и вытягивали всю возможную информацию о нас. Он был их связником.
Эдвард кивнул и мрачно нахмурился.
Джим, здорово напуганный картиной новых интриг и в особенности тем, что разговор о них зашел в такой поздний час, после приключений с летающими субмаринами и мертвецами, немного утешился тем, что профессор Лазарел больше не смотрит на его отца как на безусловно сумасшедшего. По крайней мере, такой вывод можно было сделать из слов профессора. Но в таком случае насколько отец нормален? — лихорадочно думал Джим. А если рассуждать далее, то в этом случае каждый из них по-своему в чем-то безумен, решил он. Более того, в каждом из них безумие прогрессирует — они быстро катятся по наклонной, увлекаемые совершенно ненормальными идеями и целями. И какой, спросил он себя, можно сделать отсюда вывод? Что, если очень скоро все они одновременно свихнутся? Может ли Гил Пич манипулировать ими, и если так, то как далеко распространяются его возможности? Это были вопросы первостепенной важности. Невозможно было поверить, что все эти незримые силы вокруг, поддерживающие целостность мира — приливы и отливы, магнитное поле Земли, космические лучи, все, что сохраняет порядок вещей, — отступает перед лицом отдельного индивидуума. Узы бытия исчезают по одному мановению его руки. Мир рассыпается на части.
— Я сейчас понял одну ужасную вещь, — сказал дядя Эдвард.
— Ого! — хмыкнул профессор Лазарел.
— Послушайте меня. Ты прав, говоря, что они следили за нами с помощью Уильяма. Это означает, что Уильям, самый восприимчивый из нас и самый — как бы получше выразиться? — доступный для них, сейчас оказался в беде. Теперь, когда у Пиньона и Фростикоса появился Гил, Уильям им больше не нужен. Мы с нашей батисферой для них мелочь. Пока мы ведем с музеями споры о зубах динозавров, у Пиньона уже есть подземный вездеход в полной боевой готовности. Ему и Фростикосу мы больше не интересны, и им ни к чему за нами следить. Мне кажется, недавний побег Уильяма был последним. Или я идиот, или у него серьезные неприятности. Гил Пич — это счастливый прикуп Пиньона. А Уильяма он теперь выбросит.
Нахмурившись, Лазарел пошуровал палочкой в костре и молчал до тех пор, пока палочка не разгорелась. Потом он взмахнул ею в воздухе, выписав во тьме оранжевую восьмерку.
— Мы уже слишком глубоко в этом увязли, вот что. Поверили в маркиза Куинсберри и ошиблись, но теперь ставки слишком велики. По-моему, мы должны вернуть Гила. Украсть его, если другого выхода не окажется. Каким образом Пиньон сумел его заманить? Ведь он такой слизняк…
— Очевидно, он пообещал взять Гила с собой к центру Земли, — ответил Эдвард, кивком намекая Джиму на подслушанный им разговор.
— Обещал взять Гила с собой к центру Земли! — откликнулся эхом Лазарел. — Да Гилу Пичу Пиньон нужен как рыбе зонтик. Судя по всему, Гил способен добраться туда в коробке из-под обуви.
— Гил, если я не ошибаюсь, верит в то, что он изобретатель, — заметил Эдвард, раскуривая трубку. — Он смотрит на Пиньона как на источник финансирования для создания своих сложных машин. Понимая науку по-своему, Гил верит в концепции своих механизмов. И хотя мы знаем, что он все это выдумывает, сам он не отдает себе в этом отчета.
Лазарел удивленно мигнул.
— И какую же часть своих изобретений он выдумал, по-твоему?
Эдвард пожал плечами.
— Он ничего не выдумывает, — возмущенно подал голос Джим.
Эдвард снова пожал плечами.
— Я пришел к выводу, что разобраться в этом, по крайней мере мне, невозможно. Хочу только повторить, что Уильям в большей опасности, чем ему кажется. С тем, что Гила тоже нужно освободить, я согласен. Он хороший парень, и мы должны ему помочь. Пиньон и Фростикос — подлецы, каких еще свет не видывал, — умыкнули сына у несчастной матери. Нужно выручать и Уильяма, и Гила.
— А до прибытия Сквайрса еще целых два дня, — заметил Джим, думая о своем отце и о сыновнем долге.
Оставалось только ждать. Перебираться на другую сторону острова и пытаться связаться оттуда со Сквайрсом не стоило — это вряд ли ускорило бы его прибытие. Весь следующий день они маялись, делая вид, что ищут водяного человека, отлично понимая, что никакие водяные не приблизят их к центру Земли ни на четверть мили. Похвальные грамоты и финансирование от музеев и лабораторий тоже не поможет. В своей батисфере они далеко не уплывут. То, что они узнали теперь — мир внутри Земли действительно существует — еще ничего не значило. Будущее было связано с Гилом Пичем. Ашблесс давно это понял.
Глава 12
Через неделю Эдвард получил от Уильяма письмо, где тот писал, что не потерял тяги к научной работе. К нескольким страницам послания, содержавшим малопонятные Эдварду витиеватые рассуждения, было приложено около дюжины сделанных Уильямом собственноручно чертежей неких механизмов, так или иначе связанных с гравитацией, которая, как настойчиво повторял Уильям, «на самом деле совсем другая». В чем гравитация могла быть «другой», Эдвард представить себе не мог, причем положение ничуть не исправляли содержащиеся в письме туманные намеки на то, что гравитационные гипотезы Уильяма имеют некоторое отношение к пустотелому земному ядру. Гравитация, не уставал повторять в своем письме Уильям, имеет волновую природу и может быть представлена в виде спиральных волн, весьма напоминающих расположение семян подсолнуха. На предметы эти волны оказывают центростремительный, водоворотный эффект, близкий к тому, который наблюдается при засасывании и закручивании воды над сливом рукомойника.
Продолжая тему использования сверхчувствительности «фаунианы», как Уильям именовал животный мир, он предлагал несколько чертежей прибора под названием «кальмарный датчик», в состав которого должны были входить алюминиевый цилиндр с морским животным внутри — кальмаром или осьминогом, — охлажденным до температуры, достаточно низкой для того, чтобы притупить его чувствительность к физическим воздействиям, в том числе, как настаивал Уильям, и к гравитации. Никакого смысла в подобном приборе Эдвард не видел. Письмо оставляло неясным, был ли кальмар частью датчика или же, наоборот, этот датчик создавался для его изучения. Что должен был Эдвард со всем этим делать? Изготовить такой прибор? Планы были грандиознейшими. Необходимо было привлечь огромные технические средства. На одном из рисунков в центре перевитой овальной конструкции из треугольников и волнистых линий — означающих либо электрические схемы, либо волновую природу гравитации, Эдвард не разобрал, — были замаскированы написанные задом наперед слова: «Разыщите „Подземных Обитателей Лос-Анджелеса“ капитана Г. Фрэнка Пен-Сне». Далее в письме ничего подобного не упоминалось.
Эдвард оказался в затруднительном положении. На последней странице Уильям велел ему выслать чертежи в Калифорнийский Технологический, некоему профессору Фэрфаксу, непререкаемому авторитету в области теории гравитации, который, кроме всего прочего, мог устроить через свои связи в океанариуме поставки неограниченного количества кальмаров для целей конструирования прибора.
Эдвард сделал фотокопию письма и в тот же день отправил заказной бандеролью. После этого он позвонил и вызвал к себе Лазарела, который тоже понятия не имел о подземных обитателях.
— Если понимать под подземельями канализационные сети, — предположил профессор, — то, возможно, Уильям имеет в виду тех огромных крокодилов и слепых свиней, которые, по слухам, там водятся.
— Может быть и так, — с сомнением отозвался Эдвард. — Но зачем они ему?
— Возможно, он собирается использовать их в своем приборе. В этом «кальмарном датчике». Это тоже животные. В его инструкциях нет ничего о том, что он не собирается этого делать.
— Но там нет также и ничего о том, что это входит в его планы, — возразил Эдвард. — Свиньи и кальмары — вовсе не одно и то же. И потом — если ему нужны слепые свиньи, тогда почему он так прямо не написал? Нет, я уверен, что тут дело в другом.
— Может быть, этот Фэрфакс что-то знает? Давай ему позвоним. Уильям, похоже, возлагал на него большие надежды.
— Я позвонил ему сразу же, как только прочитал письмо. Его нет ни в университете, ни в городе. Он сейчас в Берлине на конференции по гравитации. Уильям прав — Фэрфакс действительно заметная фигура.
— Значит, профессор отпадает, — задумчиво проговорил Лазарел. — У меня появилась одна мысль, Эдвард. Чем больше я думаю об этом письме, тем больше мне кажется, что мы ищем в нем совсем не то, что следует. Представь себе вот что. Может быть так, что вся эта трепотня о «кальмарном датчике» — сущая чепуха для отвода глаз: Уильям просто взял и пересказал своими словами какую-нибудь статью из журнала. Об этом Фэрфаксе он упомянул для правдоподобия, специально для тех, кто вскрывает его письма над паром. Приложи к листкам зеркало — что ты видишь? Десять страниц чепухи и только одну осмысленную строчку. Я думаю, что именно ее Уильям здесь и спрятал — среди всех этих листов законченной ерунды, рассчитывая, что ты достаточно сметлив и сумеешь догадаться.
Эдвард глубоко задумался. В предположении Лазарела был смысл — в двадцать раз больше смысла, чем во всей этой белиберде с кальмарами.
— Подземные обитатели — или обитатели канализации, — проговорил он, пыхая трубкой. — К чему бы это?
— Звучит на индейский манер, — заметил Лазарел, напряженно думающий о чем-то своем.
— Индейцы?
— Этот Пен-Сне. Помнишь у Оуэна Вэйли?
— А, ты про это, — протянул Эдвард. — Пен-Сне из другой оперы.
Лазарел кивнул. Потом махнул рукой и вскочил на ноги.
— Это книга! А Пен-Сне ее автор. Это наверняка псевдоним. Да, должно быть, я прав. Уильям хочет, чтобы мы отыскали книгу. Звони в библиотеку! Спроси Робба с выдачи. Этот человек — ходячая энциклопедия. Удивительная личность. Нет такого вопроса, на который он не дал бы ответ. Он должен был слышать о Пен-Сне. — Лазарел подлетел к телефону и самолично набрал номер. Книга, если именно о ней шла речь, обещала быть потрясающей. Уильям исписал десять страниц кальмарно-датчиковой галиматьей, чтобы замаскировать ее.
Эдвард с волнением прислушивался к односложным репликам, при помощи которых кивающий Лазарел общался с мистером Роббом, библиотекарем на выдаче. Такая книга ему известна, она написана капитаном-моряком из Бостона, имевшим возможность хорошо изучить канализационные сети Лос-Анджелеса, а также первым выйти к тому, что, по его словам, является подземными морями, исследовать их и начертить их карты. Как и Вильгельму Рею, Пен-Сне тоже быстро заткнули рот. Он явно прикоснулся к какой-то тайне.
— Кто заткнул? — спросил Лазарел, делая Эдварду страшные глаза и повернув голову.
Внезапно телефонная трубка замолчала. Лазарел постучал по рычагу, и в микрофоне раздался гудок.
— Нас разъединили. Странно. Очень странно. — Он пересказал Эдварду весь разговор.
— Когда эта книга была издана? — спросил Эдвард.
— Робб сказал, что небольшой тираж был выпущен на средства автора в 1947. Что, по-твоему, с ним могло случиться?
— С Пен-Сне? Не знаю…
— Я говорю о Роббе. Надеюсь, что он… — Эдвард задумался.
— В сорок седьмом, говоришь? Может быть, посмотрим в телефонном справочнике?
Он принес с кухни толстый том и открыл его на букве «П».
— Вот он. Боже мой! Г.Ф. Пен-Сне, Лонг-Бич, 815; Четвертая улица. Это в районе Форс и Зимено, — объяснил Эдвард. — Около Эгг Хэвен. Поехали туда!
Не успел он договорить, как Лазарел уже был у двери и натягивал куртку. Погрузившись в «Гудзон», они помчались в сторону шоссе Санта-Ана, счастливые тем, что теперь, по словам Эдварда, «имели перед собой цель», причем оба соглашались, что Уильям каким-то образом стал вожаком и руководит теперь их действиями из застенков лечебницы.
Капитан Г. Фрэнк Пен-Сне оказался мужчиной «девяноста двух лет», о чем он и сообщил им лично, сидя за стаканом виски в своих апартаментах, заставленных всевозможным мореходным антиквариатом из «Страны Чудес».
— Я непробиваемо глух, — добавил Пен-Сне, делая странное ударение на слове «непробиваемо». При этом он прикладывал к уху огромный, но совершенно бесполезный слуховой рожок. Глухой капитан был сухощав и высок ростом, заметно сутулился от возраста, а лицо его было сморщенным, как печеное яблоко. Седые волосы Пен-Сне были коротко пострижены, что придавало ему вид человека, привыкшего отдавать приказы и видеть, как эти приказы исполняются.
— Капитан Пен-Сне… — начал Лазарел, собираясь сразу же перейти к теме подземелий и канализационных сетей.
— Что? — крикнул капитан.
— Я сказал, капитан Пен-Сне! — крикнул в ответ профессор.
— Верно, — уже тише отозвался Пен-Сне и странно посмотрел на Лазарела. Поднявшись из кресла, он вышел из комнаты и через минуту вернулся обратно с древним электрическим вентилятором в руках.
— Можете починить? — заорал он. Лазарел был сражен наповал.
— А что с ним случилось? — спросил он нормальным голосом. С таким же успехом он мог промолчать.
— Что… случилось… с… вентилятором! — проорал Эдвард, делая паузы между словами и выразительно проговаривая слова губами в надежде на то, что гримасы помогут контакту.
— Он поет, — моментально отозвался Пен-Сне. Эдвард оглянулся на Лазарела.
— Поет?
— Поет! Черт его… побери! — вскрикнул Пен-Сне. — Чтоб его… его… черти взяли! Когда это происходит?
— Он не слышит своих слов, — шепнул Лазарел Эдварду. — Говорит всякую ерунду, а основное пропускает. Когда эта штуковина поет?
— По ночам! — заорал Эдвард.
Пен-Сне просиял и по-дружески плеснул в стакан Эдварда лошадиную порцию виски.
— Поет, черт побери, все ночи напролет! Это их рук дело, — продолжил он. — Они специально подстроили. Оттуда сзади выходят лучи, из этой хреновины.
— Так выбросьте его и плюньте! — безуспешно прокричал Лазарел.
— Полить? — переспросил Пен-Сне, глядя на Лазарела как на идиота. Потом снова обернулся к Эдварду. — Так вы почините его?
— Попробую, — ответил Эдвард, вышел за дверь и спустился по ступенькам к машине. Через несколько секунд он вернулся с отверткой в руке и с маленьким фарфоровым китайским шариком с иероглифами для гадания в кармане, который он возил с собой в бардачке как талисман. Сняв с вентилятора заднюю крышку, Эдвард несколько секунд делал вид, что копается внутри, потом с улыбкой повернулся к капитану, держа шарик на ладони, как будто только что нашел его. Пен-Сне в ужасе отшатнулся и прижал к ушам ладони. Эдвард завернул шарик в носовой платок, завязал концы платка в узел и спрятал сверток в карман. Установив крышку вентилятора на место и завернув винты, он картинно отряхнул руки от пыли.
Покончив с вентилятором, Эдвард заметил сигналы, которые подавал ему Лазарел, кивающий в угол комнаты. Там, на маленьком кофейном столике, среди закопченных трубок, рассыпанного табака и обгорелых спичек, лежала потрепанная книга в темно-голубой обложке. Название на обложке книги было вытерто настолько, что Эдвард решил поначалу, что там вообще ничего не написано. По выражению лица Лазарела он понял, что это за книга. Пен-Сне взял в руки вентилятор и приложил к нему ухо. Похоже, результат его вполне удовлетворил. Внезапно он испуганно вскинул голову на Лазарела.
Лазарел широко улыбнулся.
— Разрешите? — заорал он, указывая рукой в сторону столика. На лице Пен-Сне, решившего, что просьба относится к курительным принадлежностям, отразилось удивление перед чьим-то желанием курить чужую трубку.
Лазарел не знал, как иначе выразить свое намерение. Он бросился к столику, разгреб мусор и схватил книгу, потом повернулся к капитану и кивнул. Раскрыв книгу, Лазарел присвистнул.
— То, что нужно, — пробормотал он.
— Говори нормально, старикан глух как пень.
— Что! — крикнул им Пен-Сне, быстро оборачиваясь. — Путь! Да всю жизнь в пути, черт возьми, ребята!
— Конечно, конечно, — ответил Эдвард, кивая и улыбаясь.
Не отрывая глаз от книги, Лазарел прошел к стулу и упал на него.
— Предложи ему денег, — бросил он Эдварду. — Столько, сколько он попросит.
Не до конца убежденный, Эдвард тем не менее достал бумажник. Вытащив оттуда двадцатку, он помахал ею у Пен-Сне перед носом. Старик величественно кивнул и протянул к деньгам руку. Выхватив банкноту из пальцев Эдварда, он презрительно сунул ее в нагрудный карман, словно двадцать долларов в теперешней ситуации не значили ровно ничего.
— Я по горло сыт вашими домогательствами! — крикнул он, снова прикладывая к уху рожок.
— Я понимаю, — откликнулся Лазарел, поднимаясь со стула.
Злобно взглянув на профессора, капитан Пен-Сне замахнулся на него своим слуховым аппаратом.
— Дай ему еще двадцать! — зашипел Лазарел, снова опускаясь на стул. — Сейчас не время жадничать.
Эдвард взмахнул второй двадцаткой. Пен-Сне, моментально успокоившись, схватил деньги. Зазвонил телефон. Капитан не обращал на аппарат внимания до тех пор, пока Эдвард, которому бесконечные звонки невыносимо терзали слух, подняв бровь, не указал на него Пен-Сне.
— Хорошо, но это будет стоить вам еще двадцатку, — ответил капитан.
— Дай, — приказал Лазарел, не сводивший глаз с книги. Эдвард передал старику третью двадцатку, свою последнюю. В тот же миг телефон стих. Капитан Пен-Сне засунул руку в карман и выудил оттуда две первые банкноты. С выражением сильнейшего изумления он пожевал уголок одной из бумажек, словно желал убедиться в том, что они не фальшивые.
— Проклятье, — бросил он потрясенно. — На чьей вы стороне, ребята?
— На чьей стороне? — слабо переспросил Эдвард.
— Вы с ним или против него? — Пен-Сне прищурил глаза.
— Против, — заорал Эдвард, мудро рассудив, что, прожив девяносто два года, капитан Пен-Сне должен быть против всего мира.
— Он сволочь, — согласился капитан, устало качая головой. — Но деньги я все-таки получил, — он помахал в воздухе тремя двадцатками. — Пайола. Он боится меня. Я слишком много знаю. — Старик тихо улыбнулся, потом повернулся к Лазарелу, который листал книгу, время от времени поднимая брови и выражая изумление всякими иными способами.
— Кто он такой? — крикнул, по возможности безразлично и беспечно, Эдвард.
— А что ты о нем можешь знать? — проорал вопросом на вопрос Пен-Сне, хитро уставившись на Эдварда и приканчивая свое виски. Подняв руку, капитан похлопал ладонью по тусклому медному цилиндру, стоящему рядом с ним, какой-то мореходной принадлежности неизвестного предназначения.
Эдвард тупо покачал головой, силясь придумать ответ на вопрос капитана. Так ничего и не надумав, он крикнул:
— О ком? — в надежде на то, что подобная настойчивость старику не покажется подозрительной.
— Игнас, — ответил Пен-Сне, — де Винтер.
— Он самый! — откликнулся Эдвард, так и не открыв для себя ничего нового. — И что вы о нем знаете? — Сказав это, он поймал себя на мысли том, что разговор со стариком может пойти по кругу.
— Карп не умер, — заявил Пен-Сне. — Я слишком много знаю. Есть, сэр, такое дело.
Эдвард пораженно кивнул. Затем под влиянием внезапного порыва наклонился к старику и крикнул:
— Вы знакомы с Ашблессом?
Услышав знакомое имя, Лазарел вскинул от книжки голову. Пен-Сне откинулся в кресле и устало махнул рукой, словно говоря, что по горло сыт Ашблессом и ему подобными, что с него довольно общения с такими людьми. Эдвард сделал Лазарелу страшные глаза и не менее утомленным жестом предложил капитану говорить.
— Старый поэт? — переспросил капитан, задумчиво улыбаясь, как будто вспоминал дела давно минувших дней.
Лазарел захлопнул книгу. Эдвард удивленно моргнул. Пен-Сне покачал головой.
— Я встретил его и Блендинга в Пэдро, — продолжил капитан, произнося название с длинным «э». — Блендинг был в порядке, а Ашблесс — он просто был стар. Усталый, так мне показалось. Он спятил, вот что я о нем думаю.
— Кто, Блендинг? — крикнул Эдвард в слуховой рожок.
— Тоже поэт, — капитан многозначительно глянул на Лазарела, потом поднялся из кресла, чтобы осмотреть столик с трубками. Эдвард испугался, что Лазарел потребует снабдить Пен-Сне еще одной двадцаткой, но кризис миновал, и капитан успокоился. На несколько секунд его лицо сделалось озадаченным, потом он медленно закрыл глаза, поглаживая медный цилиндр.
Сообразив, что старикан собрался прикорнуть, Эдвард гаркнул:
— Эй! — и широко улыбнулся капитану, когда тот, вздрогнув, пробудился. Пен-Сне вытащил из кармана смятые двадцатки и, послюнив палец, дважды их пересчитал.
— Сколько, по-вашему, я вам должен? — спросил он Эдварда.
— Сорок будет в самый раз, — немедленно отреагировал тот, но его слова заглушил крик Лазарела:
— Ничего! Совсем ничего! Так что там с Ашблессом? С поэтом?
— Он нанял меня, чтобы я подбросил его до Бердо.
— До Сан-Бернандино? — переспросил Эдвард.
— А что такого?
— Когда? — Лазарел взглянул на Эдварда, кивнул ему и указал на книгу, словно намекая на то, что под ее обложкой скрывались ответы на все вопросы, в том числе и на тот, как можно доплыть на корабле до Сан-Бернандино, находящегося в глубине материка, в пятидесяти милях от ближайшего побережья и так же далеко от любой судоходной реки.
Эдвард кивнул Пен-Сне и проорал:
— Когда?
— В тридцать шестом, — не раздумывая ответил тот. — За два года до того, как это чертово землетрясение обрушило подземный проход. Вот неудача-то, а?
Эдвард сочувственно кивнул.
— Вам тогда было шестьдесят пять или шестьдесят шесть.
Пен-Сне поджал губы, что-то подсчитал на пальцах, потом утвердительно кивнул.
— А сколько лет было Ашблессу, когда вы везли его до Бердо?
— Трудно сказать. Может, все сто. Запросто. Только до Бердо мы не добрались. Нет, слишком далеко. Я повез его обратно в Пасадину, но на полпути зверь перевернул лодку. Я таких никогда не видел. Мой катер пошел ко дну. Мы с ним выбрались к реке Лос-Анджелес и здорово потом надрались в Лос-Фелисе, в кабаке под названием «Маленький оазис Томми». Как сейчас помню.
— Зверь? — переспросил Лазарел. Пен-Сне уставился на него.
— Что это был за зверь?
— А откуда мне знать? — ответил Пен-Сне. — Там внизу полно всякой живности водится, верно?
— Конечно, там всего полно, — отозвался Эдвард. — А тот зверь, он был большой?
Капитан кивнул. Телефон снова зазвонил, да так неожиданно, что Эдвард подпрыгнул на стуле. Капитан Пен-Сне и бровью не повел. В конце концов отвечать пришлось Эдварду. Несколько секунд в трубке молчали, слышно было только чье-то далекое дыхание, потом раздался долгий, улюлюкающий смех — хохот законченного и неизлечимого безумца, доносящийся странно издалека, как будто источник смеха находился на расстоянии нескольких шагов от микрофона, словно звонивший набрал номер, положил трубку на стол, а сам принялся бегать по комнате вокруг стола, дико и счастливо хохоча. В трубке щелкнуло, смех оборвался и запищал сигнал отбоя. Звонок показался Эдварду очень таинственным, хотя его, конечно, это не касалось. Однако он почувствовал тревогу. Через несколько секунд он уже был уверен, что звонок имел отношение именно к нему и его ответа ждали на другом конце линии, поскольку вряд ли кто-то мог звонить сюда с намерением поговорить с Пен-Сне.
— Ошиблись номером, — сказал Эдвард, опуская трубку. Капитан Пен-Сне благополучно спал в своем кресле. Лазарел уже шел на цыпочках к двери, унося драгоценную книгу. Эдвард помедлил в нерешительности, сомневаясь, вспомнит ли старик, проснувшись, о том, что продал ее. Он уже совсем было собрался разбудить глухого капитана и объясниться с ним через слуховой рожок, когда заметил около полудюжины книг, точно таких же, как только что ими приобретенная, сложенных стопкой и служащих подставкой для нижней полки в поломанном книжном шкафу. У верхнего тома недоставало обложки и, судя по тому, как он пожелтел, его использовали в качестве подпорки годами. Эдвард перевел взгляд на три двадцатки, лежавшие рядом с Пен-Сне на столике, и покачал головой. О том, что капитан получил эти деньги, Эдвард не жалел; сожалел он только о том, что это были его деньги, а не Лазарела. Лазарел молча поманил его от двери, и они вместе сбежали вниз по ступенькам к машине — на ходу Эдвард поведал своему другу о странном телефонном звонке.
— Ребятишки, — ответил Лазарел, помахивая книгой, — хулиганят.
— Не думаю, что это были дети.
— Но кому нужно звонить сюда и смеяться в трубку? Это наверняка ребятишки.
— Тот, кто звонил сюда, не смеялся. Смеялся другой человек, рядом со звонившим. И это был совсем не тот смех…
— Ты только послушай! — перебил его Лазарел, когда «Гудзон» начал выворачивать с Четвертой улицы к центру. — «Корабль бросил якорь в Аройо-Секо. На борт были взяты два пассажира, один с герметичным металлическим сундуком, второй высокий, бледный и худой, с ужасными шрамами на шее. Мне было сказано, что в сундуке находится мальчик с головой рыбы».
— Что? — переспросил Эдвард, не в силах поверить услышанному. — Что значит «с головой рыбы»? Что в сундуке сидел рыбоголовый мальчик или что у обычного мальчика была с собой рыбья голова? Что это такое, роман?
— Это судовой журнал, — спокойно ответил Лазарел. — Основную его часть занимают карты и наброски. Кстати, здесь написано, что между Тихим океаном и горами Сан-Гейбриел имеется судоходное подземное море. Я не совсем разобрался с обозначениями, но похоже, что ходить по большей части этого моря можно только на подводной лодке.
Эдвард вздрогнул и озадаченно уставился на Лазарела, который многозначительно покивал.
— И похоже, что в сундуке действительно был рыбоголовый мальчик. Слушай. «Я довез доктора до Венеции…»
— Какого доктора? — перебил с вопросом Эдвард.
— Того парня с сундуком, по всей видимости, — ответил Лазарел, пробегая глазами строки. — «Я отвез доктора до Венеции, где поздно вечером 26 числа он передал сундук китайцу в обмен на три брикета черного опиума-сырца. Китаец, по имени Хан Кой, называл хозяина сундука, который мне представился как де Винтер, доктором Фростом и ужасно его боялся». — Не отрываясь от книги, Лазарел махнул рукой Эдварду, приказывая молчать, затем продолжил: — «Мне тоже бывало в присутствии доктора не по себе, поскольку до меня дошли слухи, что мертвое, как было сказано, тело в сундуке — жертва одного из экспериментов Винтера. Под самый конец, выгружая, сундук уронили на палубу и он раскрылся — внутри, в луже зеленой желчи, находилось судорожно бьющееся и мычащее существо, мальчик или юноша с головой рыбы, задыхающийся и со страшно вращающимися и дергающимися испуганными глазами. Хан Кой крикнул, и на борт ко мне взбежало с полдюжины китайцев с косичками, что твои крысиные хвосты, все как один с ножами. Они подняли сундук и унесли его на заброшенный консервный завод на окраине порта. За все труды мне вручили два шарика неочищенного опиума два дюйма каждый — сам я был рад избавиться от де Винтера». Вот такие дела, — заключил Лазарел.
— И это все? — выкрикнул Эдвард. — Что сталось с существом из сундука?
— Об этом здесь ничего не сказано. Говорю тебе — это судовой журнал. Пен-Сне либо не знал, что случилось дальше с содержимым сундука, либо не решился писать об этом.
— Надеюсь, ты не сомневаешься в том, кто был этот де Винтер?
— Ни в малейшей степени.
— Не удивительно теперь, почему Уильям столько сил потратил, чтобы спрятать свое послание. — Несколько минут оба молчали — машина поднималась по въездному пандусу на автостраду Харбор. — Возможно, все это сплошные выдумки, — подал наконец голос Эдвард.
— Мне так не кажется, — отозвался Лазарел. — К чему старику было приукрашивать свои похождения? К тому же до хорошего приключенческого романа его произведение не дотягивает. Примерно половина книги состоит из разных приложений — карт, рукописных схем и прочего. По-моему, ты один из первых читателей, кто догадался об истинном лице де Винтера.
— Кто такой был этот мальчик-рыба? — внезапно спросил Эдвард.
— Какой-нибудь несчастный бездомный мальчонка, так мне кажется. Доктор подобрал его, как бродячую собаку, и использовал для своих целей.
Эдвард с сомнением покачал головой.
— Помнишь, исчез Реджинальд Пич? Он был младше Бэзила, так ведь?
— На десять лет, — ответил Лазарел. — Это случилось в тридцатых годах, если память мне не изменяет. Я помню это, потому что Бэзил как раз тогда и заболел. Мы с тобой оба знаем, кто его лечил.
— А этот второй худой пассажир, — продолжил Эдвард, — что если это был Бэзил Пич?
— Тогда мы живем в поразительном мире, — ответил Лазарел, закрыл книгу и уставился в окно.
— Пен-Сне намекает на то, что де Винтер вивисектор. Так выходит по книге. Капитан ничего не говорит о том, что мальчик родился таким на свет естественным путем — другого объяснения, кроме вивисекции, быть не может.
— Пожалуй, — отозвался Лазарел, — хотя возможно, что Пен-Сне, много раз ходивший по подземным морям, видел подобных существ не раз. В таком случае он просто не посчитал нужным отметить его оригинальность — Бог знает, что он считает в природе естественным, а что нет.
Эдвард согласно кивнул. Чем больше он думал о книге и капитане Пен-Сне, тем больше соглашался с Лазарелом. Перестроившись вправо, он съехал на пандус, спускающийся к Карсон-стрит, там повернул направо и влился в поток транспорта, следующий от Фигуэра к Сепульведа, откуда, снова попав на автостраду Харбор, покатил обратно, туда, откуда только что приехал, — на запад. Лазарелу не нужно было ничего объяснять, он все понял без слов. Они не узнали у глухого капитана и половины того, что должны были узнать. Но в момент первой встречи это было невозможно. Ни тот ни другой не знали, о чем спрашивать старика. Раструб слухового рожка и старческий маразм очень быстро охладили их пыл.
Казалось, шоссе Пасифик-Коуст никогда не кончится — светофоры точно сговорились и дружно встречали их красным. Они пересекли Аламеда и проехали над каналом Доминика, потом свернули на Санта-Фе и перемахнули на другую сторону автострады Лонг-Бич, въехали на мост и понеслись над рекой Лос-Анджелес — узким каналом, вяло влекущим свои темные и мутные воды, напоминающие чайную заварку, в неведомые и невообразимые края. Железные двери в бетонных берегах реки вели в дебри темного подземного мира, освещаемого только прожекторами бесшумно скользящих субмарин и нашлемными фонарями случайно встреченных обитателей канализационных подземелий, гоблинскими огоньками в непроглядной бесконечности, простирающейся на многие мили под бетоном и асфальтом городских улиц.
Перед подъездом дома на углу Четвертой улицы и Зимено стояли микроавтобус скорой помощи и машина полиции. Эдвард проехал мимо, свернул за угол на Зимено и остановился на обочине Бродвея. Замирая от ужасных предчувствий, они выбрались из машины и торопливо устремились к дому Пен-Сне. Подходя к углу улицы, они заставили себя успокоиться и сбавили шаг. Это был он — глухой капитан; его тело как раз грузили в широко распахнутые задние дверцы микроавтобуса. С погрузкой было покончено в два счета — «скорая помощь» не торопясь проплыла мимо полудюжины жадно взирающих на происходящее зевак. Никто не удивился, что девяностодвухлетний старик вдруг взял да умер, — никто, кроме Эдварда и профессора Лазарела, а также лысого толстяка с сигарой во рту, опиравшегося на трость с набалдашником, который отрекомендовался хозяином дома. Похоже, толстяка чрезвычайно злило то обстоятельство, что для расставания с этим миром Пен-Сне выбрал именно его дом.
— Старый дурак, — заявил хозяин, подкрепляя свои слова ударом трости о маленький кубический каменный вазон с чахлой растительностью.
— Что случилось — сердечный приступ? — поинтересовался Эдвард, изображая любопытного прохожего.
— Наверно, — отозвался толстяк, пожевывая сигару. — Отправился прямиком в ад. У него на лице это было написано. Что за рожа, вы бы видели. Надеюсь, что никогда не увижу того, что увидел он. Думаю, дьявол в конце концов явился за ним. Это я его нашел. Он заорал — так жутко, черт возьми, что кровь в жилах застыла. Я сбежал к нему вниз — но опоздал, он уже лежал физиономией в пол. И в руке у него была рыба. Сырая, можете представить? Треска, по-моему. Что он, ел ее, что ли? Черт его побери — его и его восточные замашки.
Эдвард пытался придумать предлог, чтобы спросить разрешения зайти в квартиру капитана еще раз. Упоминание о мертвой рыбе очень его обеспокоило. Однако следовало проявить осторожность — если они с Лазарелом и дальше будут крутиться здесь, их запросто могут взять на заметку. Пен-Сне умер не своей смертью, Эдвард почти не сомневался в этом — по крайней мере это не был обычный инфаркт. В словах хозяина была доля истины. Вот только дьявол, привидевшийся Пен-Сне, был не посланцем ада, а существом из плоти и крови.
Тем временем толстяк-хозяин, не зная, о чем еще говорить, вытащил из кармана своих рабочих штанов-хаки несколько скомканных банкнот и принялся их разглаживать. О достоинстве и количестве бумажек Эдвард догадался без труда — двадцатки, три штуки. Весьма довольный собой, толстяк пересчитал деньги. Эдвард взглянул на Лазарела, который покачал головой.
— Считай это пожертвованием церкви, — сказал он.
— Мы из Комиссии по жилищному надзору, — объявил Эдвард толстяку. — Этот дом объявлен на карантине — у вас люди умирают от неизвестных болезней. И посмотрите на это!
Эдвард указал пальцем в сторону до срока пожелтевшего можжевельника в каменном вазоне: под ним валялась окоченевшая тушка мертвой крысы, издохшей, наверное, с неделю назад — еще один символ вечного покоя. Эдвард подошел к клумбе, палочкой достал крысу из-под куста и выбросил ее на мостовую. Крыса раздулась и была почти в фут толщиной — ни дать ни взять кожаный мешочек. Эдвард горько покачал головой.
— Мы заглянем к вам в среду, — сказал он. — Дадим вам последний шанс.
С этими словами он кивнул Лазарелу, и они скрылись за углом, оставив беззвучно открывающего и закрывающего рот хозяина дома одного. Когда они отъехали от дома Пен-Сне, Эдвард внезапно подумал, что за ними могут следить — запросто. Тот, кто прикончил капитана, наверняка слонялся неподалеку. Они сделали круг по Лонг-Бич и не обнаружили за собой ничего подозрительного, а через час уже были дома, с ума сходя от обилия возможностей того, что могло быть простым совпадением, а что действительно тревожным предвестником надвигающейся неведомой беды.
— Здесь все было важно, — сказал им потом, по прошествии бесконечной недели, Уильям.
Глава 13
Гил Пич по-прежнему где-то скрывался. Он прислал матери открытку, полную расплывчатых намеков, уверял ее, что жив и здоров, давал понять, что собирается путешествовать, может быть, заедет в Виндермеер повидаться с отцом. На открытке стоял почтовый штемпель Лос-Анджелеса, что, естественно, ничего не проясняло.
Попытки вызволить Уильяма из лечебницы провалились. Уильям Гастингс был объявлен опасным маньяком. По нему состоялся консилиум, и диагноз был однозначен. В настоящее время он проходил курс усиленной терапии. Доктор Иларио Фростикос настаивал на продолжении процедур. На стороне эскулапа стоял окружной суд. Эдвард хотел знать, что сказали бы судьи, узнай они о герметичном сундуке Фростикоса с чудовищем внутри. Но их ответ он знал заранее: его слова восприняли бы как нелепость. Не было никаких веских доказательств причастности Фростикоса к незаконным действиям. Однако необходимо было что-то предпринять — бездействие могло оказаться смерти подобно.
Эдвард получил письмо от Фэрфакса из Калифорнийского технологического: доктор благодарил его за интересные данные. Ваш шурин, писал Фэрфакс, «обладает потрясающим умом, но удивительно несведущ». Для проникновения в математическое и физическое таинство рисунков и диаграмм Уильяма и их обсуждения потребуется, конечно, не один год, однако идея использования головоногих для обнаружения гравитационных аномалий — блестящая идея. Короче — либо рассуждения Уильяма неверны, либо вся современная физика допустила чудовищную ошибку.
От чудовищных ошибок не застрахован никто, особенно в последнее время, сказал себе, прочитав письмо, Эдвард. Он давно уже сформулировал для себя эту максиму — представляя, как потрясенно должна взирать вечность на беспредельную глупость человечества, гордо расхаживающего с картонными коробками на голове и в ботинках из панциря броненосца, человечества, которое вопит, словно стадо обезьян, потакает своим капризам и прихотям, пустым и бессмысленным, точно ореховая скорлупа, а после — хлоп! — по непонятным причинам падает замертво на полуслове и полувздохе с треской в руке только для того, чтобы хозяин дома его нашел — и презрительно покачал головой.
Лучше всего, подумал Эдвард, и сам качая головой, не высовываться.
За окном царила ночная темень. Было около трех часов утра. Уильям Гастингс тихо лежал в кровати, прислушиваясь к стуку собственного сердца и взрывам клекочущего смеха безумца где-то в корпусе «X» за оградой из цепей. В окно ворвались острые лучи света, скользнули по шести футам потолка и погасли — машина въехала на подъем и свернула направо, на территорию лечебницы. Из выложенного плиткой коридора донеслись мерные тихие шаги резиновых подошв ночного дежурного.
Дверь палаты приоткрылась. Уильям, полностью одетый, лежал под одеялом, притворяясь спящим. Дверь осторожно закрыли — звуки шагов начали удаляться, замерли на мгновение, потом стихли в холле.
Уильям, уже в своем потрепанном твидовом пальто, выскользнул из-под одеяла и на цыпочках подбежал к двери, которую только что закрыл дежурный. В правой руке он нес ботинки, а левой шарил в кармане, в двадцатый раз удостоверяясь, что не забыл взять с собой листок, вырванный из судового журнала капитана Г. Фрэнка Пен-Сне, который он нашел раскрытым в кабинете Фростикоса. Теперь он разберется со всеми недругами. Уж он-то раскроет их грязные планы. Потянувшись к дверной ручке, Уильям с ходу врезался пальцами ноги в ножку кровати своего соседа, старого Вернера, сон которого был неспокоен. На кровати застонали и всхрапнули.
— Что такое? — спросил испуганный голос. — Уже шесть?
Уильям пригнулся и замер, прислушиваясь. Вытекающая из разбитого пальца кровь пропитывала носок.
— Кошки, плошки, чижи и ножи, — четко проговорил старик, сражаясь с очередным кошмаром. — Со слов ребенка шесть сотен взяли!
Уильям задумался, не вернуться ли в кровать. Старый Вернер снова всхрапнул и дюжину раз быстро-быстро-быстро щелкнул зубами, наподобие заводных челюстей-игрушек, продающихся в любом магазинчике розыгрышей. Уильям выглянул за дверь и осмотрел коридор, потом выскользнул наружу, зацепившись за дверь одной из двух оставшихся на рубашке крышечек-медалей; та отскочила и со стуком упала на плитки пола. Уильям беззвучно выругался, поминая себя, старого Вернера и свой разбитый палец, а также неожиданно возникшую малую нужду. Подобрав с пола крышечку и ее пробковую прокладку, он спрятал все это в карман, где уже лежали две красные капсулы нембутала, утаенные им от санитара под языком несколько часов назад.
Пройдя по коридору двадцать футов, Уильям остановился перед служебной комнатой. Дверь туда была чуть-чуть приоткрыта. Уильям облегченно вздохнул. Если бы эта дверь была заперта, то из-за темноты он вряд ли смог бы довести задуманное до конца. Но стоило ему взяться за дверную ручку, как новая волна ужаса окатила его. Дверь не заперта, лихорадочно объяснял он себе, и это может означать только одно — кто-то прячется там внутри. Его план раскрыли, кто-то обнаружил пропажу страницы из судового журнала. Все было подстроено с самого начала — две недели назад ему повезло, и он сумел пробраться в святая святых Фростикоса, в его кабинет, дверь которого оказалась открытой. Но все было подстроено. Одна незапертая дверь могла означать чье-то головотяпство, забывчивость, но два таких случая были невероятным совпадением. Кто сейчас таится в чулане за дверью? Фростикос собственной персоной? Кошмарный дьявол в белом со шприцом в занесенной руке? Бригада врачей со стальными подносами блестящих хирургических инструментов для лоботомии? Уильям крепче сжал ручку двери, решив ударить ногой в лицо любого, кто за ней окажется. В комнатке никого не было. Подле оцинкованного ведра и пластиковой корзины с тряпками стояла истрепанная швабра. На полке аккуратно выстроились три длинных и толстых четырехбатареечных фонаря, дальше виднелись банки с чистящими средствами и бутылки с лизолом.
Забрав с полки крайний фонарик, Уильям щелкнул выключателем, на секунду осветив дальний угол чулана, и начал осторожно открывать дверь. Из перпендикулярного коридора донеслись тяжелые звуки приближающихся шагов — Уильям вздрогнул и прижался спиной к стене. Оставив дверь приоткрытой, он отодвинулся в глубь чулана. Решив не сдаваться без боя, занес над головой тяжелый фонарь. Перед дверью чулана шаги стихли. Снаружи кто-то приглушенно рыкнул. Уильям почувствовал, что от страха мороз продирает по коже. Господи, что за ужасное создание он сейчас увидит! В щель, открывая дверь шире, просунулась чья-то нога. В коридоре стояло чудовище с человеческим телом и картонной коробкой вместо головы. Ничего не видя вокруг, существо качнулось к Уильяму. Он изготовил фонарь для удара. В тот же миг он узнал курчавые рыжие волосы подручного, дурачка от рождения, живущего при лечебнице: тот протискивался в чулан с тяжелой коробкой. Он был совершенно безобиден. Уильям испытал сожаление по поводу того, что на месте подручного не оказался кто-то другой, из тех, нормальных. Решительно закусив губу, он что есть силы хватил вошедшего раструбом фонаря по голове, но промахнулся и попал в шею — его жертва повалилась на пол носом в свою коробку, толкнув по пути Уильяма. Пошатнувшись, тот схватился рукой за полки позади себя. На спину стонущему слабоумному посыпались банки с чистящими средствами, окутывая его облаками белого и голубого тумана.
Отстранившись от ворочающегося на полу тела, Уильям продвинулся к свету. Коротко и сильно размахнувшись еще раз, он припечатал фонарь к затылку подручного, который сразу же перестал мычать, очевидно потеряв сознание. Уильям вытащил ноги из-под упавшего, переступил через него и встал спиной к двери. Фонарь у него в руке был разбит, остатки стекла осыпались на плитки. Уильям сунул негодный фонарь в угол, задвинул картонную коробку внутрь чулана так далеко, как смог, затолкав следом бесчувственное тело, взял с полки новый фонарь и только после этого прикрыл дверь.
Но, сразу же передумав, снова открыл дверь, приподнял голову бесчувственного подручного, раскрыл ему рот и вложил туда две припасенные капсулы нембутала. Одна из капсул моментально вывалилась изо рта парня на пол и потерялась, другая приклеилась к языку. Уильям вполголоса ругнулся. Прошло уже десять минут, а он все еще торчит в двадцати футах от двери своей палаты. Его побег развивается страшно медленно. До сих пор он не предпринял ничего дельного, только врезал пару раз по голове бедному недоумку-подручному, который вот-вот очухается и поднимет крик. Уильям схватил с полки тряпку, раздумывая, нельзя ли использовать ее в качестве кляпа. Потом он заклеит парню рот липкой лентой. Однако это означало, что придется связать подручного, для чего того необходимо вытащить в коридор. Он стянет ему руки той же клейкой лентой. Человек на полу зашевелился. Уильям поднял фонарь, но мысль о том, что придется бить лежачего, показалась ему отвратительной; события развивались словно в кошмаре — он целую вечность торчит в коридоре, раз за разом оглушая невинного дурачка из-за боязни быть обнаруженным. Нет, нужно действовать быстро — в скорости спасение.
Уильям решительно закрыл дверь и припустился по коридору, пригнулся и свернул в проходную кладовую, через которую попал в огромную кухню. Достав из кармана заделанный в пленку карманный календарик, он просунул тонкую пластину между язычком замка и косяком, распахнул наружную дверь и оказался под навесом на пандусе, где разгружались грузовики с продуктами — перед ним лежала ночь. За полоской асфальта начиналась лужайка и деревья, а за ними дорога вела к высоким железным воротам и свободе.
В слабом свете тусклого склоненного лунного серпа отдельные кусты вокруг лужайки сливались в сплошную полосу, неотличимую от травы. Высокое ясное небо было обильно усыпано звездами. Огромная, с грейпфрут, Венера плыла мимо нижнего рога месяца, да так близко, что, казалось, от одного до другого можно добросить камнем. Из-под кустов на бледный лунный свет выскочил кролик, дал стрекача к дороге и быстро затерялся в ночи. Пригнувшись и размахивая фонариком, Уильям побежал через лужайку вслед за кроликом, в ужасе ожидая, что в палатах начнет вспыхивать свет, очнувшийся в чулане подручный поднимет шум, колотясь в дверь, а за спиной зазвучат крики — опасный больной снова сбежал и проламывает теперь головы всем встречным-поперечным! Однако кругом царила тишина.
Вдоль дороги тянулась живая изгородь из гибискуса. Скрываясь в тени изгороди, Уильям побежал вдоль нее, все еще сгибаясь в три погибели — его твидовое пальто и брюки отлично сливались с кустарником. Он точно знал, куда собирается попасть. Впереди, невдалеке, в каких-нибудь тридцати ярдах от главных ворот, прямо посередине дороги находилась железная крышка канализационного люка, огромного, как колесо грузовика. Если поднять люк окажется ему не под силу, Уильям отправится к воротам. Ему уже доводилось перелезать через них во время одного из ранних побегов, и теперь, если только охранник не проснется, он без труда проделает то же самое и в два счета окажется на той стороне.
Если охранник проснется, Уильям оглушит и его. Продолжая красться вдоль живой изгороди, он решил при первой возможности послать подручному письмо с извинениями и объяснениями. Как истинному джентльмену, ему надлежало сделать это непременно. Остановившись у раздвоенного ствола самшитового дерева, Уильям осторожно высунулся из-за него и поверх живой изгороди рассмотрел будку охранника; в маленьком освещенном окошке виднелась спина человека в форме. Охранник читал книгу. Уильям протиснулся сквозь изгородь, но споткнулся и вывалился на дорогу, мгновенно упал на четвереньки и скользнул обратно в спасительную темноту кустов. Запустив руку в карман пальто, он вытащил оттуда небольшой черный гвоздодер, похищенный из ящичка с инструментами, принадлежащего садовнику. После этого он, раскорячившись словно краб, снова выбрался на дорогу и без промедления просунул загнутый конец гвоздодера в отверстие размером с четвертак, имеющееся в железном диске, и как следует потянул на себя.
Крышка люка не шелохнулась. С таким же успехом Уильям мог пытаться поднять саму улицу. Он вытащил гвоздодер из дыры и, вставив его в щель между крышкой и стальным кольцевым периметром, действуя своим орудием как рычагом, приподнял крышку почти на полдюйма. Просунув под нее пальцы, Уильям сразу же мудро вытащил их обратно. Опуская крышку, он выдернул из-под нее гвоздодер прежде, чем она успела его прижать.
Металлический лязг упавшей на место крышки эхом разнесся над дорогой. Уильям метнулся в тень живой изгороди, забрался за кусты и притаился. Выглянув наружу, он увидел, что охранник стоит на дороге и шарит по асфальту лучом своего фонаря. Так ничего и не заметив, охранник через минуту сдался, выключил фонарик и вернулся к книге. Уильям выполз на дорогу. Он попытался прикинуть, сколько времени прошло с тех пор, как он ускользнул из палаты. Двадцать минут? Ему начинало казаться, что звезды на небе бледнеют, а на востоке розовеет горизонт.
Присев на корточки над люком, он засунул гвоздодер в дыру и что есть сил потащил крышку на себя. Сжав губы, он затаил дыхание. Острая боль пронизала его спину и шею. Крышка медленно поднялась, открыв круглый черный провал, потом снова опустилась на место, сводя с ума. Уильям на мгновение расслабился, чувствуя, что по спине стекают струйки пота. Выждав, он снова рванул крышку вверх. Безрезультатно. Понаблюдав немного за охранником и убедившись, что тот спокоен, Уильям еще раз натужился, и в тот же миг пространство за его спиной залил свет. Со стороны кухни раздались крики. Распахнулось окно и трижды душераздирающе проревела приводимая в действие воздухом сирена. Со стороны корпуса «X» донесся взрыв хриплого хохота, охранник выскочил из своей будки и, светя фонариком по сторонам, устремился за живую изгородь на крики. Сдирая с ладоней кожу, Уильям крепко ухватился за шестигранную рукоятку гвоздодера и, понимая, что еще имеет шанс добежать до ворот и перебраться через них раньше, чем там окажется охранник, снова принялся тянуть крышку. Через секунду думать о воротах стало поздно. За спиной у него снова раздались крики, совсем близко.
— Вон он! — надрывался один голос.
— Стой!
— Разворачивай сеть! — кричали другие.
— Сволочи! — заорал в ответ Уильям и вдруг, со всхлипом выдохнув воздух, приподнял крышку и сдвинул ее с жерла колодца почти до половины, живо выдернул гвоздодер, схватил край люка пальцами и оттянул крышку на себя еще на несколько дюймов, потом выхватил из кармана фонарь, включил его и осветил ствол колодца. Через секунду, дико хохоча, он уже спускался, перехватывая руками стальные скобы, в колодец, осыпая дурацкими ругательствами своих преследователей, которые уже суетились вокруг зева люка, все еще бессмысленно приказывая беглецу остановиться. Над головой Уильяма появились и задергались, нащупывая скобы, ноги в белых брюках. Уильям ударил по чужой ноге торцом фонарика.
— У меня пистолет! — выкрикнул он так яростно и угрожающе, что белые ноги мигом исчезли.
Проорав наверх несколько прощальных ругательств, он побежал по канализационному тоннелю на восток, стараясь не ступать в узкий грязный ручеек нечистот, змеящийся по дну бетонной трубы. Через пятьдесят ярдов он круто свернул направо, потом сделал то же самое еще раз и оказался в трубе примерно вдвое уже первой. Дальше Уильям продвигался на четвереньках, шлепая ладонями по жиже на дне и бороздя ее коленями, при каждом движении задевая спиной жесткий потолок. Довольно скоро узкий проход перешел в просторный, похожий на пещеру тоннель, по которому Уильям припустился бегом, выпрямившись во весь рост, глубоко дыша и освещая себе путь фонариком. Теперь его невозможно было догнать — спасибо капитану Г. Фрэнку Пен-Сне и его картам канализационных подземелий.
Он быстро оглянулся через плечо — за его спиной была сплошная темнота, никто не гнался за ним. Быстро же сдались проклятые черви. Уильям рассмеялся и перешел на быстрый шаг. А он отчаянный парень — свалил дюжего подручного, разобрался со здоровенной крышкой канализационного люка, которая закрывала почти половину дороги.
— Я ужасный Жаб! — легкомысленно выкрикнул он, почувствовав смешное родство с любимым литературным героем. Громкое, басистое эхо, трижды отразившись от бетонных стен, загрохотало вокруг и унеслось по коридору дальше вперед.
Уже не замечая луж и поднимая брызги, Уильям быстро шагал вперед, потом принялся распевать глупые песенки, слова которых придумывал тут же, на ходу, вставляя «хо-хо, хо-хо» там, где не хватало рифмы.
— Лежали гады по постелям, хо-хо, когда Уильям убежал, сбив с ног подручного-больного, хо-хо, своей могучей булавой! — распевал он, широко размахивая своим «оружием», освещая то стены тоннеля, то его верх, то дно.
Но не успело эхо последних слов его песенки затихнуть вдалеке, как Уильям услыхал позади себя во тьме топот доброго миллиона бегущих и настигающих его ног, гул голосов. Он рванулся вперед, споро удвоил скорость, хрипло дыша и чувствуя, что в корнях его легких разгорается огонь.
— Самодовольный Жаб, — выругал он себя со смехом, потом погасил фонарь и, свернув в широкий наклонный тоннель, понесся вниз, словно с крутого холма. Шагов через сто он замедлил бег, снова включил фонарик и, заметив впереди скобы новой уходящей вверх лестницы, бросился к ней, засунул фонарик за пояс и начал быстро взбираться к потолку трубы. Просунувшись в овальный лаз, Уильям оказался внутри помещения — в пещере, естественной или вырубленной людьми в камне, он не разобрал. Нащупав мечущимся лучом уходящий вниз под углом двадцать или тридцать градусов проход, он устремился к нему и, спотыкаясь, побежал к другому тоннелю.
На бегу он споткнулся, шлепнулся на седалище и, хватаясь за драгоценный фонарик, съехал по скользкому дну, врезавшись с маху в кучу щебня. При падении карман пальто порвался — Уильям вытащил из него заветную страницу из судового журнала Пен-Сне, сверился с вычерченным еще неделю назад красными чернилами маршрутом, спрятал карту на груди и не раздумывая бросился к восточному рукаву открывшегося перед ним разветвления, пробежал коридор насквозь и у следующей развилки взял к северу. Через каждые сто ярдов он замедлял бег, глупых песенок ввиду крайней усталости больше не пел и все время, затаив дыхание, слушал звуки погони. Но все было тихо. Уильям улыбнулся и похлопал ладонью по карману с картой. Через пять минут он уже держал под землей курс на Глиндейл, к свободе.
Он был чист перед всеми судами, земными или небесными. Судьям хватило бы одного взгляда на Фростикоса, а второго — на бумагу, в которой отвратительный эскулап собственной рукой прописывал пациенту Уильяму Гастингсу обширную фронтальную лоботомию. Эту бумагу Уильям нашел на столе Фростикоса, и теперь она покоилась во внутреннем кармане его твидового пальто по соседству с ценной картой. Ни у кого язык не повернется вменить человеку в вину то, что он предпочел свободу уделу вечного «овоща». Научная общественность его поддержит. Фэрфакс нажмет на скрытые пружины и поднимет определенные круги; Эдвард должен был отправить ему результаты работ по кальмарному датчику. И профессор Райн из Бингхемптона — в его тезисах к трактату о теории цивилизации он отметил черты сходства с собственной блестящей работой. Если дойдет до суда, это будет процесс века. Узколобые обезьяны — окружные судьи — будут посрамлены. Фростикос будет с позором низвергнут, безвозвратно. Все станет достоянием общественности — вивисекция, подземный левиафан, планы уничтожения Земли. Уильям улыбнулся своим мыслям — полное оправдание и победа. Он уже чувствовал на губах ее вкус. Этот грязный клубок червей пытался остановить его, но он перехитрил их. Он расхохотался в голос, попробовал придумать продолжение своей песенки, на ум приходили в основном одни «хо-хо, хо-хо», и Уильям решил отложить песни до лучших времен и беречь силы.
Через десять минут он сделал очередной привал. Пошарив в кармане штанов, он выудил оттуда бутылочную крышечку. Это была крышечка от крем-соды «Уайт Рок». Уильям представил себе этикетку напитка с крылатой женщиной, сидящей на скале. Пробковая прокладка была слишком тоненькой, отломленной с одного края, но, крепко сжав прокладку и крышечку большим пальцем, Уильям укрепил свой знак на рубашке. Полюбовавшись на крышечку, он щелкнул по ней раз или два ногтем. Наконец поднявшись на ноги, вполне довольный собой, он ровным шагом снова двинулся вперед по бетонному тоннелю, скругленные стены которого уходили вдаль, в кромешную темноту.
Ройкрофт Сквайрс перечитывал «Судьбу» в шестой раз — книжечка уже порядком истрепалась. Он подбирался к своей любимой главе, в которой у автомобиля лорда Выдраса вырастали крылья и он летел над крышами Флит-стрит, «уносясь к Пикадилли». В романе было ровно столько наукообразия, сколько нужно. Сквайрс глотнул кофе, уже остывшего до половины пригодности к употреблению, и, набрасывая на полях книги заметку касательно некоторых моральных принципов, задумчиво качал головой. Во входную дверь постучали. Сквайрс нахмурился. Никто из пребывающих в здравом уме не стучал в его дверь до полудня. Скорее всего это свидетели Иеговы, пришедшие наставить его на путь истинный в канун Рождества. Он будет суров с ними. Возможно, они милостиво примут от него десять центов для своего журнальчика и с тем отчалят.
Но за дверью были вовсе не свидетели Иеговы, а восьмилетний соседский мальчик со скрученной бумажкой в руке.
— Извините, сэр, — испуганно залепетал он, устрашенный нахмуренным видом Сквайрса, — но это вам.
— Мне? — серьезно кивая, переспросил Сквайрс. — И что же это?
— Ветер нес это по улице, сэр, — ответил мальчик. — Они появляются одна за другой без конца.
С этими словами мальчишка вытащил из кармана пригоршню записок, свернутых в трубочки, как будто их проталкивали сквозь узкие отверстия. Вид скрученных бумажек озадачил Сквайрса, почему-то сразу решившего, что это наверняка имеет отношение к Эдварду Сент-Ивсу и его таинственным предприятиям. Вручив потрясенному мальчику полдоллара, он отослал его, закрыл дверь, потом разложил записки на журнальном столике. Всего бумажек было восемь.
Их содержание не блистало разнообразием. «Передайте эту записку Ройкрофту Сквайрсу, 210, Ист-Рексрот» — вот что было там написано. На одной из записок просьба начиналась со слова «пожалуйста», на другой с «немедленно», третья взывала «Ради Бога!», словно отчаяние писавшего их постепенно нарастало. На обратной стороне листков имелась однотипное загадочное указание: «Ждать в шесть вечера под грабом. Смотреть внимательно. У. Г.»
— «У. Г.»? — вслух повторил Сквайрс.
Несколько секунд он задумчиво вертел одну из записок перед глазами, размышляя о том, не стал ли он объектом розыгрыша шайки уличных мальчишек. У. Г.? Уильям Гастингс! Ну конечно! А кто же еще? Но почему эти записки ветер нес по улице, задумался Сквайрс, что это могло означать? Здесь что-то не вязалось. Раздвинув шторы на большом арочном окне, выходящем на улицу, он рассмотрел граб, под которым ему надлежало стоять. И с изумлением увидел, как из отверстия на крышке канализационного люка под деревом появилась белая свернутая в трубочку бумажка и весело покатилась по улице, увлекаемая ветерком. Вслед за удивительной бумажкой припустился соседский мальчик.
С ума сойти. Уильям Гастингс — если это был он — прятался в канализационном колодце. Так обстояли дела. Размышлять над вопросом, почему шурин Сент-Ивса отсиживается в канализации, вместо того чтобы выбраться на свет божий, у Ройкрофта Сквайрса не было ни сил, ни желания. Он вырвал из блокнота листок, взял ручку и написал следующее: «Готов смотреть внимательно прямо сейчас, но если шесть часов предпочтительней, то стукнуть два раза. Можете положиться на меня во всем. Р. С.»
Свернув бумажку сигареткой, Сквайрс вышел из дома и осмотрелся по сторонам. Вокруг не было ни души, исчез даже соседский мальчик. Прогулочным шагом Сквайрс дошел до канализационного люка и просунул в отверстие на крышке записку. Бумажку немедленно вырвали у него из руки и втянули внутрь. Через несколько секунд в крышку изнутри глухо ударили дважды. Сквайрс пожал плечами и вернулся в дом. До срока оставалось семь часов. Он ощутил нарастающее раздражение. Он ненавидел ждать. Читать дальше было невозможно: мысли о скрывающемся в канализации Уильяме не позволяли сосредоточиться на книге. Сквайрс перешел в кабинет и принялся упаковывать книги для посылки. Не так давно он продал одной богатой даме из Нью-Йорка свое полное собрание «Походов Вельмана» за кругленькую сумму. Но даже такое простейшее занятие не смогло унять его волнение. Сквайрс без конца смотрел в окно и курил одну трубку за другой, рассматривая канализационный люк, на который двадцать пять предыдущих лет не обращал внимания.
День начал клониться к закату, сгущались сумерки, и время медленно, минута за минутой, приблизилось к шести. Сквайрс вышел на улицу, остановился в тени граба, и ровно в шесть железная крышка люка приподнялась, подталкиваемая снизу какой-то темной массой, оказавшейся на поверку обтянутой твидом спиной Уильяма Гастингса. Сквайрс бросился к люку, рванул и оттащил крышку — из жерла колодца появился смертельно усталый, грязный и мокрый Уильям. Выбравшись на траву он, ни слова не говоря, устремился к дому Сквайрса.
Глава 14
Было уже около десяти вечера, когда Эдвард и профессор Лазарел припарковали «Гудзон Осу» около кантины Расти в шести кварталах от Вестерн-авеню и не спеша двинулись вверх по улице в сторону Пэтчен-стрит. По общему мнению, «Гудзон Оса» не был той машиной, которую можно оставлять неподалеку при выполнении тайной миссии. Было сыро и холодно, природа делала решительный поворот к зиме, ветер дул прямо с океана через пляжи Южной бухты. Эдварду казалось, что он чует в воздухе запах соли. Он поплотнее запахнул свою вельветовую куртку и закурил трубку. На востоке, похожий на дольку апельсина, над невысокими холмами висел в небе кусок луны.
Улицы жилых кварталов были тихи и пустынны, и Эдварду казалось, что их с Лазарелом шаги разносятся вокруг на многие мили, долетая до находящегося в четырех кварталах отсюда приземистого дома доктора Иларио Фростикоса, хозяин которого, заслышав звук шагов, принесенный ветром, пропахшим морем, навострял уши. Из-под фонарей тянулись зыбкие раскачивающиеся тени кустов и понурых голых деревьев. В окне одного из домов внезапно вспыхнул свет, и Эдвард вздрогнул, невольно ускорив шаг — рядом тут же сдавленно зашипел Лазарел, требуя от него немедленно прекратить привлекать к себе внимание. Договорились притворяться обычными прохожими.
На возможный вопрос полицейского они собирались ответить, что направляются к Ройкрофту Сквайрсу, живущему неподалеку на Рексрот. Почему пешком? Машина сломалась, и пришлось оставить ее у кантины Расти. Черт побери эти старые рыдваны. С ними всегда одна головная боль. Глядя на фары встречной машины, Эдвард прокручивал эту ложь в голове — чья-то ржавая колымага прогромыхала мимо них и исчезла за углом. За два квартала до нужного дома они перебрались на другую сторону улицы. В отдалении можно было различить стилизованные под башенку входные двери жилища Сквайрса. Эдвард заметил в окнах Ройкрофта свет, пробивающийся сквозь плотные жалюзи. Он вспомнил о холодильнике Сквайрса — выставка всевозможных сортов пива, бесконечные ряды бутылочных горлышек — и решил, что еще до рассвета изучит их.
Они свернули на Пэтчен и, не доходя до конца улицы, сбавили шаг. Дом Фростикоса занимал двойной участок. Лужайка перед домом даже сейчас, в середине зимы, зеленела и была подстрижена так аккуратно и ровно, что напоминала ковер. Сам дом, выстроенный в виде приземистого широкого бунгало, стоял тих и темен, а в тени двух могучих камфорных деревьев казался почти черным. Эдвард живо представил себе Ямото, снующего кругами между стволами деревьев вслед за своей тарахтящей газонокосилкой.
На втором этаже бунгало горел свет, и что-то, похожее на свечи в канделябре, мерцало в подвале. Хлопнув Эдварда по плечу, профессор Лазарел проворно пересек улицу и слился с кустами можжевельника, высаженными вдоль стены дома. Эдвард сделал то же самое.
Они протискивались и продирались сквозь кусты, как показалось, вечность; потом снова наступила тишина. Ни крика, ни звука, ни собачьего лая. На цыпочках пробравшись к углу бунгало, пригибаясь и держась в тени, они остановились перед окошком подвала, за которым теплился свет. Доктор не пользовался канделябрами — почти под потолком подвала еле светила одинокая пыльная лампочка в коричневом плафоне в форме тюльпана. Свет был настолько тусклым, что поначалу Эдвард не смог ничего разглядеть. Пол подвала был либо утрамбованным земляным, либо бетонным. Под лампочкой одиноко стояло большое раскладное кресло с прямой высокой спинкой и кожаным сиденьем, которое кто-то словно специально перенес к свету. Все остальное было погружено в тень.
Внезапно из подвальной комнаты донесся влажный булькающий звук. Эдвард прищурил глаза, силясь хоть что-то разглядеть во мраке. Через несколько секунд он заметил край непонятной круговой структуры, предназначение которой в темноте нельзя было угадать. Однако еще через несколько мгновений он понял, что это — борт приподнятого над полом кольцевого бассейна, бетонного или вырубленного из камня. Через края бассейна свешивались пряди водорослей — как представилось Эдварду, возможно, элодеи. Теперь он уже различал что-то — или кого-то — внутри бассейна. Вода плеснула и забурлила. На пряди водорослей нахлынула мелкая волна и разлилась на полу лужей, в которой тут же заблестел тусклый желтый свет. В наполненном водой и водяными растениями бассейне кто-то тяжело ворочался. Можно было даже увидеть очертания головы существа. Поднялась рука и почесала голову, перепончатые пальцы потерли ухо.
Эдвард смотрел как зачарованный, хотя и ожидал увидеть здесь что-то подобное.
Решив забраться на выступающий цоколь дома, он оперся коленом о трубу приземистого газового счетчика, находящегося между ним и Лазарелом — профессор заслонял собой почти все окно. Он должен был увидеть это, хотя бы на один краткий миг. Надежно пристроив колено на трубе, Эдвард приподнялся над головой Лазарела, который, прижавшись лицом к стеклу, во все глаза смотрел на существо в воде. С трубы Эдвард ступил ногой на короб счетчика, и в ту же секунду ощутил, как труба оторвалась и подалась под ним. Заскрежетало железо. Эдвард прянул вперед, головой в окно — зазвенело разбитое стекло.
Создание в бассейне испуганно плеснуло. В соседнем доме одно за другим осветились окна. Хлопнула дверь. Откуда-то с другой стороны бунгало Фростикоса раздались крики. Неожиданно Эдвард четко осознал три вещи: по его носу из рассеченного лба течет струйка крови, вокруг сильно пахнет вытекающим из трубы газом, профессор Лазарел стремглав мчится, пригнувшись, через залитую призрачным лунным светом лужайку к Пэтчен-роуд. Через долю секунду Эдвард уже летел за Лазарелом следом.
Краем глаза он заметил, как кто-то — растревоженный сосед, может быть, — выскочил на крыльцо своего дома. Эдвард сказал себе, что Лазарел поступает глупо, что нужно было действовать увереннее и наглее, у всех на виду. Если в бассейне Фростикоса действительно находится похищенный Гил Пич, то доктор будет последним, кто попытается вызвать полицию. Но теперь было поздно что-либо менять — нужно было следовать за Лазарелом, который, всклокоченный и взбудораженный, бежал, удивительно быстро для своей комплекции. Они свернули за угол, не оборачиваясь пробежали два квартала вверх по Рексрот и рванули через лужайку к дому Сквайрса. Воткнув палец в кнопку звонка, Лазарел одновременно распахнул дверь и ввалился в дом, красный и запыхавшийся. За его спиной маячил Эдвард.
— Запри скорее дверь, старина, — прохрипел Лазарел и, не желая ждать ни секунды, захлопнул дверь и самолично задвинул засов трясущимися руками. — Они сейчас будут здесь.
— Кто будет? — спросил ошарашенный Сквайрс, вынимая изо рта трубку.
— Твои ужасные соседи.
— Мои ужасные соседи гонятся за вами?
— Да, — ответил Эдвард, отдуваясь. — И понятно почему.
— Эдвард, что с тобой! — воскликнул Лазарел, наконец рассмотрев лицо своего друга.
— На вас напали? — снова спросил Сквайрс, провожая Эдварда на кухню. Смочив полотенце под краном, он стер с лица Эдварда кровь и промыл порез на лбу.
— Нет, нет, — отозвался Лазарел. — Мы были на соседней улице. Знаешь, около дома Фростикоса на Пэтчен…
Он замолчал, услышав громкий стук в дверь. Схватив Эдварда за плечо, Лазарел затолкал его в кабинет Сквайрса и, закрывая дверь в кабинет, одновременно выхватил из холодильника бутылочку чего-то похожего на пиво. Из-за двери донесся удивленный возглас Эдварда, но Лазарел не желал его слышать. Сорвав со своей бутылочки пробку, он вылил половину содержимого в раковину, кивнул Сквайрсу и уселся за кухонный стол с видом человека, вот уже два часа обсуждающего философские проблемы. Сквайрс открыл парадную дверь и отступил к стене, набивая черным кудрявым табаком трубку. На пороге, подозрительно оглядываясь по сторонам, стоял человек в майке.
— Вы не видели здесь двоих мужчин? — спросил он, осмотрев Сквайрса с головы до ног. — Всклокоченный толстяк и второй, высокий, в коричневой куртке? Один из них скорее всего ранен.
Уголком глаза Сквайрс заметил, как Лазарел поспешно приглаживает свою растительность карманной расческой.
— Нет, ничего такого не видел. А они что, ваши друзья?
— Не сказал бы, — ответил мужчина, заглядывая мимо Сквайрса в дом.
Из кухни появился Лазарел — волосы гладко расчесаны, посередине головы устроен нелепый пробор. Вдобавок он снял пальто и пиджак и закатал рукава рубашки. Приветливо отсалютовав бутылкой человеку на пороге, Лазарел сказал следующее:
— Я пока еще не решил, что готов предложить тебе за первое издание «Полиглоты», Рой. Оно весьма и весьма зачитанное.
Слова Лазарела не значили для Сквайрса ровным счетом ничего. По сути дела, они ничего не значили и для самого Лазарела. Мужчина в майке, стоящий на пороге, возможно мог увидеть в них какой-то смысл, но рассмотрев хорошенько Лазарела, даже он засомневался.
— Кто это? — спросил он.
— Не ваше дело, — спокойно отозвался Сквайрс. — А вы-то сами кто, что позволяете себе колотить в двери в такой час?
Человека в майке подобный поворот событий потряс. Лазарел улыбнулся ему и непринужденно приложился к своей бутылке, из которой не сделал еще ни глотка. Как только жидкость попала ему на язык, он изумленно задохнулся и невольно закашлялся. Отвернувшись, он некоторое время прокашливался, делая вид, что подавился.
— А кто, по-вашему, я такой, дружище? — хрипло поинтересовался он наконец, быстро взглянув на этикетку бутылки и обнаружив, что впопыхах схватил из холодильника вместо пива «Лечебный эликсир доктора Брауна».
— Наш гость, по-видимому, считает, что ты один из тех беглецов, за которыми он гонится, — ответил Сквайрс, строго взглянув на пришельца.
— Нет, нет, — засуетился человек в майке, протестующе поднимая руку, — я не собираюсь никого обвинять. На Пэтчен двое мужчин пытались забраться в дом и убежали в эту сторону, вот и все. Теперь я вижу, что здесь их нет.
— Не повезло, — сказал ему Лазарел. — А вы, видно, решили, что застукали взломщиков. Обязательно найдите их — они могут оказаться опасными.
Повернувшись к Сквайрсу, профессор добавил:
— Наверное, лучше будет запереть дверь на засов. А то грабители могут попробовать вломиться и к нам.
Мужчина в майке постоял на пороге еще несколько секунд, словно подыскивал слова, чтобы закруглить разговор. Неожиданно с дороги послышались крики и топот бегущих ног — гость мигом развернулся и, буркнув что-то вроде «ну, держитесь, хулиганы», побежал на шум. Сквайрс закрыл за ним дверь и поплотнее задернул на окне тяжелые шторы.
Из кабинета выглянул Эдвард.
— Ну как — пронесло?
— Кажется, — отозвался Лазарел. — Но лучше будет, если мы немного посидим здесь, пока шум не утихнет.
К величайшему удивлению Лазарела Эдвард вышел в кухню вместе со своим шурином Уильямом Гастингсом.
— Что, черт возьми, ты сделал со своими волосами? — спросил профессора Уильям.
Лазарел на секунду задумался.
— Ничего, — ответил он. — Откуда ты взялся?
— Из канализации, — с улыбкой ответил Уильям, предвкушая историю, которую сейчас расскажет.
Все четверо уселись полукругом перед электрическим камином.
— Итак, — сказал Уильям, проглотив остатки пива из своей бутылки, — я провел кое-какие теоретические изыскания. Установил некоторые связи. Физическая вселенная, как я понял, гораздо загадочнее, чем кажется на первый взгляд. Ваши сведения о Гиле Пиче лишь подтверждают мои догадки. Институт науки несовершенен, но это не его вина. Мы сами надели на науку шоры. Пора сорвать их. Настало время литераторам доказать, на что они способны.
Уильям поднял свою пустую бутылку и посмотрел в нее через горлышко, словно в подзорную трубу — после третьей бутылки пива он всегда так делал. У Эдварда каждый раз язык чесался спросить, что Уильям там, собственно, видит, но как сформулировать этот вопрос, чтобы в нем не слышалось намека на чудаческий оттенок этой привычки, он не знал.
— Кстати, о литературе, — продолжил Уильям. — Я пристроил свой релятивистский рассказ.
— Ты говоришь о приключениях увеличивающегося в размерах человека в ракете? — спросил Сквайрс, поднося к трубке спичку.
— Именно. Мне прислали письмо с наилучшими пожеланиями — даже добавили, что всегда рады сотрудничеству.
— Кто? — поинтересовался Сквайрс.
— «Аналог», — ответил Уильям.
От неожиданности Сквайрс выронил изо рта трубку, и щепотка тлеющего табака, высыпавшегося оттуда, скользнула между его ногой и подлокотником кресла. Сквайрс вскочил, спасая свое имущество, сбил табак на пол и, подхватив полотенцем, выбросил в выложенный кафелем камин. Скрывшись в кухне, он вскоре вернулся с подносом свежеоткупоренных бутылок.
— За релятивистский рассказ, — объявил он, раздавая пиво. Широко улыбаясь, Уильям согласно кивнул. В пивной эйфории ситуация представлялась в розовом свете даже ему. Бурые пятна на брюках и рваный рукав пальто уже стали для него памятными знаками. Он здорово разобрался с этими подонками. Они еще услышат об Уильяме Гастингсе, он устроит им хорошую жизнь. Предчувствуя грядущие битвы, он улыбнулся снова.
— Рой, — внезапно обратился он к своему другу, который заново набивал трубку. — Я недавно опять перечитал книгу по релятивистской механике, и знаешь, что теперь меня там особенно поразило? Световые конусы. Ты слышал когда-нибудь о них?
Сквайрс мгновение помедлил, возможно, раздумывая над всей бесполезностью разговора, который, без сомнения, последует за его ответом.
— Термин «световой пучок» или «световой конус», — спокойно сказал он, — применяется при изображении трех измерений пространства и одного — времени в виде кубического графа, где на одной оси откладывается время, а на остальных перемещение в пространстве…
— Это я понимаю, — перебил его Уильям, подавшись вперед и приходя во все более возбужденное состояние. — Сам по себе конус происходит из световой сферы, равномерно расширяющейся во все стороны, словно надувающийся воздушный шар. Вот что здесь важно — все мы находимся в центрах таких бесконечно расходящихся фотонных окружностей, стремящихся со световой скоростью к звездам, словно круги на ровной поверхности пруда Вселенной. Это наши ауры, если хотите. Гало, если смотреть с другой стороны — на что большинство из нас обычно не желает обращать внимания. До сих пор, по крайней мере, было так. Но обратимся снова к аллегориям, что не раз оказывалось весьма полезно.
Прищурив глаз, Уильям взглянул на Сквайрса. Тот строго кивнул в ответ.
— Человек, если я понимаю суть световых конусов правильно, является центром расходящегося фотонного гало — при графическом изображении почти бесконечная последовательность таких гало образует циклическую схему восходящего к звездам излучения.
— Не могу спорить с тобой, — отозвался Сквайрс, бросая быстрый взгляд на Лазарела. Тот поспешно подтвердил, что и по его мнению пока все верно.
— В таком случае, джентльмены, наши жизни в пространственно-временных терминах можно представить в виде череды световых конусов на магистрали — символов человеческого мирского пути, его шествия сквозь пространство и время.
— Конусов на чем? — переспросил Лазарел. — Я не совсем понял, при чем здесь магистраль.
— Эти красные конусы. Клоунские колпаки с лампочками внутри, которые выставляются на магистралях для разграничения полос. Они не что иное, как перевернутые световые пучки-конусы, фигурально выражаясь.
Непосредственное представление приземленности нашего существования, буквальное отображение нашей прикованности к Земле с точки зрения этих расширяющихся в бесконечность ореолов света.
Уильям замолчал и несколько секунд обдумывал сказанное. Схватив с кухонного стола клочок бумаги и карандаш, он принялся делать стремительные пометки, в задумчивости забыв обо всем. Набросав несколько строк, он остановился, потом прибавил к написанному еще несколько фраз и, весьма довольный собой, откинулся на спинку стула.
— Видишь ли ты в этом хоть один изъян? — спросил он, обращаясь к Сквайрсу.
— Вот так, с ходу, — нет, — отозвался тот, качая головой. — Как и во всем, что слышал от тебя до сих пор.
— Благодарю, — ответил Уильям, приняв услышанное за комплимент. Пробежавшись пальцами по столу на манер паучьих лапок, он глубокомысленно улыбнулся, потом согнал с лица сосредоточенность и вознаградил себя за труды глотком пива.
— Допустите человека литературы в науку, — торжествующе провозгласил он, — и все встанет на свои места.
— В твоих словах я слышу отголоски великой истины, — ответствовал Сквайрс, — и вижу очертания будущего небольшого рассказа.
Уильям кивнул.
— По сути, этот рассказ уже готов, согласись? Добавить пару-тройку персонажей для живости и… — он несколько раз красноречиво взмахнул руками, чтобы проиллюстрировать то, что произойдет после прибавления двух-трех персонажей.
После короткой паузы Эдвард спросил:
— Так что мы будем делать с Пичем?
— А ты уверен, что это был он? — спросил Уильям.
— Я заметил его лицо, когда он повернулся к окну. Это был он — вылитый отец, кстати говоря.
— Тогда нам необходим ордер на обыск, — заявил Уильям. — Все говорит о том, что Гил скорее всего похищен. Сначала он, возможно, убежал из дома сам. Потом Фростикос его выследил и поймал, что, в общем-то, не меняет состава преступления.
— А что мы скажем окружному прокурору, когда придем к нему с просьбой выдать ордер, — что заглядывали в окна на улице, где живет Фростикос, и случайно увидели в подвале его дома Гила в бассейне? — Эдвард покачал головой. — А как мы объясним разбитое окно? Это похоже на попытку ограбления или что-то в этом духе.
— Мы ничего такого не скажем, — ответил Уильям. — Мы составим письмо. Напечатаем его. Подделаем подпись Гила. В письме будет указано, что он содержится в доме Фростикоса вопреки собственной воле — что доктор занимается вивисекцией и собирается оперировать его. Полиция войдет в подвал дома Фростикоса, и что, по-вашему, она там обнаружит? Гила, конечно, не будет, зато будут доказательства, которые подкрепят подозрения властей. А если там окажется Гил и все опровергнет? Все признаки того, что на него оказывают давление, будут налицо. Не нужно забывать, ему всего пятнадцать. Так что все варианты беспроигрышные. Вильма Пич нас всегда поддержит.
Лазарел медленно кивнул.
— Это может сработать, — сказал он Эдварду.
— Это может сработать завтра, — устало отозвался Эдвард. — Но не сейчас, в два часа ночи. Поехали по домам.
Через двадцать минут, после прогулки до кантины Расти, Эдвард, Уильям и профессор Лазарел молчаливо катили сквозь ночь в «Гудзоне Осе» по Вестерн-авеню на север. Первым открыл рот Уильям.
— Знаете, что мне кажется, — начал он, ероша пальцами волосы. — Мне кажется, что с письмом мы опоздали. Скорее всего, они уже замели следы. Жалко, что ты разбил окно.
Эдвард кивнул. Жалко — что правда, то правда. Если бы он не сломал трубу и не разбил окно, Фростикос ничего бы не заподозрил. Они могли бы выждать еще немного, до более удобного момента, и тогда нагрянуть за Гилом — и увезли бы его оттуда без проблем. Вильма Пич была бы на их стороне. Но теперь Фростикос насторожился. Уильям прав. Все следы уже давно заметены.
— Что сказать? — подал голос профессор Лазарел, похлопывая ладонью по сиденью. — Я за то, чтобы взяться за дело самим. От властей ждать нечего. Полиция заглянет к доктору домой, задаст пару вопросов. Что мы им можем сказать? Что Гил водяной человек? Что мы собираемся добраться до ядра Земли? Что Фростикос и Пиньон прилетали на остров Каталина на летающей субмарине? Это все глупо звучит. Сплошная чушь. Нас засмеют. Никто не увидит в наших рассказах ни капли смысла, если, конечно, в полиции не держат специальных экспертов по науке. Нет, джентльмены, я предлагаю преступить закон.
— Каким образом? — поинтересовался Эдвард, скептически относящийся к любым предложениям браться за дело самим и нарушать закон. Того, как Лазарел взялся за дело сам несколько часов назад, было для него более чем достаточно.
— Мы попытаемся выкрасть Гила у доктора и Пиньона. Сейчас мы не знаем, увезли они парня оттуда или нет. Но скажите мне, почему они вообще должны увозить его? Они нас не боятся. Они даже не знают, кто к ним наведался — наших лиц никто не видел. И потом — куда они денут Гила? Отвезут к Пиньону? Там его не спрячешь. Смысла нет. Я предлагаю воспользоваться картами подземелий капитана Пен-Сне. Будем брать пример с французского Сопротивления. Устроим побег через канализацию.
— Пен-Сне! — воскликнул с заднего сиденья Уильям. — Значит, вы нашли его книгу?
— Мы нашли самого капитана, — мрачно ответил Эдвард. — Но Фростикос добрался до него сразу после нас. Так нам кажется.
Эдвард рассказал о встрече с Пен-Сне, стараясь передавать разговор дословно, в надежде на то, что Уильям, с его врожденным нюхом и интуицией, сумеет найти какой-то смысл в таинственных заявлениях капитана об Игнасе де Винтере и бессмертном карпе. Уильям покачал головой.
— Так вы нашли книгу? — Эдвард кивнул.
— Да. Эта книга обошлась нам в шестьдесят долларов и стоила Пен-Сне жизни.
— И мы можем воспользоваться ею! — воскликнул Лазарел. — Мы похитим Гила и легко уйдем от погони. Проберемся в дом Фростикоса, перенесем Гила к ближайшему канализационному люку — и через полчаса уже будем дома.
В машине наступило молчание. Эдвард колебался, так как чувствовал всю отчаянность таких прожектов. Разбить окно в доме Фростикоса уже было для него достаточно дерзкой выходкой; собственная логика Лазарела говорила против поспешных действий. Что они скажут властям, когда их поймают, когда над их головами засвистят пули, когда у них спросят, почему они посчитали возможным врываться в жилище врача такой высокой репутации?
Воодушевленный собственной недавно одержанной победой, Уильям, однако, имел иное мнение.
— Мы не станем отсиживаться, — заговорил он, развивая план Лазарела. — Начнем завтра. Даже если они и собрались увезти Гила отсюда, все равно до завтра им не успеть. Они решат, что я заявился домой и теперь у вас болит голова только обо мне. Что я вас по рукам и ногам связал. Кроме того, они вряд ли сочтут, что у нас хватит отваги для такой вылазки. Ту же самую ошибку они допустили и в лечебнице. Думали, что я слабак. Чокнутый. Рохля. Решили, что сломили мой дух. Черви. Но со мной им не совладать. Мужчина должен отвечать ударом на удар, Боже мой, и черт с ними, с последствиями!
Уильям подался вперед, дрожа от возбуждения.
— Конечно, разделаться с ними со всеми мне пока не по зубам, но я все равно здорово им насолил, верно?
Я пробрался в кабинет Фростикоса, копался в его книгах и бумагах и ушел невредимым. После я ускользнул из-под самого их носа и исчез под землей, а в канализации меня ищи-свищи — кишка у них тонка. А теперь подумайте, на что мы способны все вместе! Все мы. Что они, с их глупыми планами, такое против нас? Старый гомик, который гоняется за мальчиками в грузовичке мороженщика, и безумец в белом халате, пораженный манией величия и способный думать только о том, как отправить Землю в тартарары? Если мы не сможем с ним разделаться, грош нам цена. Вот.
— И я тоже так думаю! — выкрикнул Лазарел. — Завтра же и начнем. Что скажешь, Эдвард?
Эдвард, захваченный волной энтузиазма, согласно кивнул. Сейчас не время было становиться слабым звеном.
На следующее утро в девять часов Эдвард позвонил в лечебницу. Да, доктор на месте. Он рад будет поговорить с мистером Сент-Ивсом. Не слыхал ли мистер Сент-Ивс случайно что-либо об Уильяме? Нет, он ничего не слышал. Уильям, так считал Эдвард, на этот раз бежал далеко. Может быть, в Сан-Франциско. Может быть, и еще дальше на север — в округ Гумбольдт, где он недолго жил до женитьбы. Одно время он поговаривал о том, чтобы вернуться туда. Говорил о зелени и полях. Эти леса изумрудного цвета, обычно в таких случаях повторял он, напоминают мне стены страны Оз. Это ностальгия, Эдвард уверен. Хотя сам он начал бы поиски Уильяма с Юрики.
Доктора Фростикоса не особенно интересовало, с чего начал бы Эдвард. Его шурин, заявил он, представляет опасность как для себя самого, так и для окружающих. Он жестоко избил ни в чем не повинного человека, а другому повредил ногу. Власти скоро будут поставлены в известность.
— Было бы лучше, — медленно произнес Эдвард, — власти в известность не ставить.
— Это не представляется возможным, — ровным голосом ответил Фростикос.
— В таком случае, возможно, власти следует поставить в известность и кое о чем другом. Возможно, власти проявят интерес к некоему герметическому металлическому сундуку и китайцу по имени Хан Кой.
Эдвард сделал паузу с тем, чтобы его слова возымели действие. На другом конце линии молчали.
— Возможно, что власти также заинтересует смерть капитана Г. Фрэнка Пен-Сне. Нам многое об этом известно. Очень многое.
В трубке продолжали молчать. Внезапно в душе Эдварда зародилось сомнение. Он прислушался, но не смог расслышать ничего, кроме далекого дыхания. Неожиданно тишину на линии разорвал безумный и издевательский смех, странно далекий, своими перепадами переплетающийся с загадочным дыханием. Потом снова наступила тишина.
— Если вы хотя бы отдаленно догадывались, кто я такой, — медленно проговорил Фростикос, — вы бы уже сами давно держали путь на север.
Эдвард попытался изобразить смех — издал слабое «ха, ха, ха», совершенно не впечатляющее. Лучше бы он этого не делал. Затем он сказал, что Фростикосу самому стоит подумать о том, чтобы покинуть город, но его перебили.
— Мальчик в сундуке — несчастная жертва неумелой руки. Мой помощник, с которым мы давно расстались, был не так ловок со скальпелем, как я. Но Гилу повезет больше, чем его дяде. Он очень многообещающий юноша. Тем не менее должен заметить, что Реджинальд не стал полным провалом — он по сию пору жив, обитает в аквариуме. Однако все, кто его видит, считают его подделкой. Их смущает сама невероятность существования подобного организма. Они представить себе не могут нечто настолько — как бы это сказать — гротескное. Хан Кой собирался получить от Реджинальда потомство, от него и гигантского трехцветного карпа. Любопытно было бы взглянуть на их мальков, не правда ли?
У Эдварда перехватило дыхание. Все слова неожиданно улетучились из его головы. Ему страшно хотелось кричать, как-нибудь оскорбить Фростикоса, смутить его, сбить ненавистную спесь, но нужные слова не находились.
— Мой вам совет, — спокойно закончил врач, — мистеру Гастингсу живым лучше не попадаться.
С этими словами он дал отбой.
— Ты задал ему перца? — спросил Уильям.
— Не знаю.
Эдвард взял в руку свою чашку и бездумно вылил остатки кофе на разделочный столик, после чего спокойно поставил чашку в коричневую лужицу, из которой по направлению к раковине уже бежал веселый тонкий ручеек.
— Его непросто достать, — отозвался Уильям, устало откидываясь на стуле. — А что он сказал по поводу округа Гумбольдт?
— Даже не клюнул. Не поверил ни единому слову. С первых же его слов я понял, что он знает о том, что ты стоишь рядом.
— Он что-нибудь говорил о том, что у него прошлой ночью разбили окно?
— Нет, — ответил Эдвард, — ничего.
— Ага! — Уильям хватил себя кулаком по раскрытой ладони. — Тут-то мы его и поймаем. Проделками с Реджинальдом Пичем Фростикоса уже не пронять — уж очень давно это было. Но Гил — дело другое. Здесь-то он затрясется от страха, будь спокоен. Начнем сегодня. Сейчас Фростикос в лечебнице — и мы наносим удар.
— Что? — удивился Эдвард. — Прямо сейчас?
— Конечно. Джим в школе и не увяжется за нами. Захватим с собой Рассела и через час уже будем в канализации. Нужно заглянуть в магазин армейских излишков на Брэнд и купить каждому по шахтерскому шлему с фонариком.
— Ну не знаю, — отозвался Эдвард, качая головой. — По-моему, было бы лучше, если бы ты на несколько дней залег на дно, пока все не утрясется.
Уильям презрительно на него посмотрел.
— Залечь на дно, говоришь? Для чего? Машина из лечебницы будет у дверей нашего дома еще до полудня. И где ты предлагаешь мне залечь? В каком-нибудь отеле? Для меня есть теперь одно место — канализация. Лучше не найти. И я хочу выручить Гила. Так ты идешь со мной или нет?
— Иду, — покорно ответил Эдвард. — Звони Лазарелу. Скажи, что мы подхватим его через десять минут. Его тебе уговаривать не придется.
— Давно бы так, — в упоении воскликнул Уильям. — Мы им шеи посворачиваем. Мы поднимем старого Пен-Сне из могилы. Гастингс на тропе войны.
Через несколько минут они, полные решимости, уже мчались к дому профессора Лазарела в Пасадине, сидя в «Осе» с каменными лицами, оба подозревая, что обращают на себя внимание: Уильям — с гордостью, а Эдвард — в ужасе от того, что его собственные глаза могут выдать их преступные намерения. Как ни странно, никто не попытался их остановить. Ни один осуждающий взгляд не был брошен в их сторону. В магазинчике армейских излишков ни одна живая душа не догадалась о том, что фонари трех шахтерских шлемов предназначены освещать канализационные подземелья в ходе преступной вылазки с целью разбойного нападения на частный дом и вызволения водяного человека из лап безумного хирурга. И когда около полудня трое искателей приключений спустились около Лос-Фелис по бетонному берегу реки Лос-Анджелес к мутной воде, приоткрыли огромную круглую железную дверь, похожую на морду ухмыляющегося кота, и проскользнули в уходящий вниз тоннель, никто их не видел, кроме водителей полудюжины контейнеровозов на автостраде, направляющихся из Бей-керфилда в Сагус или Сан-Франциско и принявших троицу в шлемах за муниципальных рабочих.
Глава 15
— Что я хочу знать, так это почему мы начали так далеко от Пэтчен, черт побери. Экономия движений — вот мой стиль, а сейчас мы бредем черт знает где и зачем. Мы могли бы снова без хлопот припарковаться у Расти.
Лазарел сдвинул на макушку шахтерский шлем, который все время съезжал ему на глаза. На дне трубы под ногами хлюпала подозрительная жижа, но, к счастью, проход был достаточно широк, и самые глубокие места удавалось обходить стороной.
— Если не ошибаюсь, — отозвался Уильям, целеустремленно вышагивавший во главе процессии, — этот тоннель ведет точно к подножию холмов, ровный как луч. Здесь должно быть с сотню выходов на поверхность. Неподалеку от Брэнд я заметил несколько коридоров, которых не нашел на карте. Там есть кое-что — тоненькие пунктиры, наподобие линий уровня на топографических картах, уводящие в разных направлениях. Очень странные, на мой взгляд, и я решил заодно проверить их.
— У нас нет времени глазеть по сторонам, — яростно зашипел Лазарел. — Сейчас нужно действовать, а не заниматься осмотром достопримечательностей.
Он хотел сказать что-то еще, но фонарь на его шлеме погас, и он остался в темноте. Впереди, каждый в своем световом пятне, от него уходили Уильям и Эдвард.
— Подождите! — раздраженно крикнул им в спины Лазарел, стаскивая с головы проклятый шлем. Перевернув головной убор, он принялся трясти и дергать пару проводков, идущих к лампочке от батареи. Фонарик мигнул и сразу же снова погас. На секунду, однако, он высветил в перпендикулярном, заворачивающем в темноту коридоре на полу невероятно огромную переливчатую розово-зеленую змею, которая зизагами ускользала восвояси, в недра Земли. Все замерли. Существо исчезло во мраке, словно на него с потолка упала завеса. Как только хвост змеи исчез, фонарик Лазарела вспыхнул и дальше светил ровно.
— Боже мой, — простонал Уильям, шумно переводя дух. — Вот бы проследить за ней. Могу на что угодно поспорить, что это один из обитателей подземных морей капитана Пен-Сне.
— В другой раз, — ответил Эдвард, который никогда не питал особой симпатии к змеям. Не дожидаясь своих спутников, он зашагал вперед; остальные потянулись следом.
— Сейчас мы прямо перед домом Сквайрса, — сообщил по прошествии некоторого времени Уильям, указывая рукой на темный круг под потолком, оттуда пробивались два цилиндрика солнечного света. — Я много времени провел здесь — все писал записки. К вечеру уровень вод поднялся, и я делал из бумаги кораблики и отправлял их в плавание на север. Когда-нибудь, когда мы покончим со всем этим, я сложу огромный корабль из вощеной бумаги и отправлюсь на нем на закат. Я почему-то думаю — почти уверен, — что когда я наконец отправлюсь на темное дно, то окажусь… — Уильям замолчал, вероятно, не зная, как выразить свои чувства словами.
— Где? — спросил его Эдвард.
— В воде, — ответил Лазарел, которого не коснулась магия бумажных корабликов. — В состоянии погруженности под воду. Так мой отец обычно говорил. «Где вы родились?» — спрашивали его. «В роддоме. В состоянии обнаженности», — отвечал он. Ха-ха! Я хорошо это запомнил. До сих пор без смеха вспоминать не могу.
Уильям сверкнул своим фонарем в сторону Лазарела, раздраженный потоком вдохновенных воспоминаний детства своего друга, которыми тот так быстро оттеснил его кораблик из вощеной бумаги на второй план.
— Где-то среди лесов и полей, — сказал Уильям Эдварду. — Вот только под водой все это будет голубого или аквамаринового цвета. Такие мысли приходят порой в голову, когда берешься перечитывать «Морских детей» и представляешь себе морских коньков и осьминогов, наигрывающих на виолончелях и флейтах, из которых поднимаются вверх пузыри, покачивающие мой кораблик из стороны в сторону, и лопаются, натыкаясь на риф из розового коралла.
Эдвард кивнул.
— Я понимаю тебя.
— Послушайте, — вклинился в разговор Лазарел, опять сражающийся с фонариком и все еще охваченный воспоминаниями об отцовском остроумии. — У него была еще одна коронная шутка. Он каждый день ее повторял за завтраком. «Не хотите ли отведать дудца-с?» — спрашивал он просто так, знаете, ни к кому конкретно не обращаясь. А потом, будто бы другим голосом, сам себе отвечал. «Дудца-с? Нет, я еще не пил кофейку-с!» — и хохотал так, что стены тряслись.
Лазарел улыбнулся своим мыслям.
— Конечно, никаких дудцов мы не ели. Я даже не знаю, что это такое. Отец обычно показывал при этом на что-нибудь: на солонку или стакан молока — все равно на что. И смеялся до истерики.
Он усмехнулся себе под нос и потряс головой. Внезапно его фонарик снова погас.
— Проклятье! — тихо ругнулся он и сорвал с головы шлем. Под его руками фонарик на шлеме то вспыхивал, то опять гас.
— Пора, — сказал Эдвард, чей интерес к главной цели их плана — похищению — быстро увядал. — Действуем как договорились. Сейчас идем вверх до Пэтчен и посмотрим там, что и как.
Уильям выудил из кармана карту Пен-Сне и сверился с вычерченной на ней синей линией, обозначающей их маршрут. Все двинулись вперед, отсчитывая про себя шаги, и через пять минут остановились под одним из люков, через который было решено произвести разведку.
— Как я выгляжу? — спросил Лазарел, отчищая рукавом опознавательный знак на груди своей защитно-зеленой куртки. На значке было написано: «Южнокалифорнийская газовая компания». Сняв шлем, он передал его Эдварду.
— Я вылезу, посмотрю, как там снаружи, и просигналю вам — либо все чисто, либо есть опасность.
— Не нравится мне этот маскарад, — сказал Эдвард, — эти костюмы газовщиков. Одно дело надевать их, когда делаешь вид, что ищешь утечку газа, а другое, когда выскакиваешь из канализационного люка, как чертик из табакерки.
— Всем до лампочки, — заявил Лазарел, взмахивая рукой, чтобы показать, какова степень общей невнимательности. — Униформа — великое дело. И еще вот эта связка ключей на поясе. Дайте мне формуляр, и я перепишу весь мир.
Эдвард, так и не убежденный, пожал плечами. С полминуты они прислушивались к шелесту колес над головой и рыку автомобиля, проехавшего по Пэтчен. После уже ничего не было слышно, кроме криков детей, вероятно играющих в мяч. Общими усилиями крышку люка сдвинули, в колодец ворвался режущий глаза дневной свет, и Лазарел выбрался наружу. Люк снова закрылся, и Эдвард с Уильямом остались в темноте, подсвеченной показавшимися неожиданно тусклыми нашлемными фонарями.
Они немного постояли молча, дожидаясь сигнала от Лазарела. Темнота вокруг стала медленно рассеиваться. Внезапно Уильям пригнулся, направив свой фонарь куда-то в глубь тоннеля. Потом указал рукой на потолок.
— Смотри, вон там.
Эдвард обернулся, но не увидел ничего.
— Вон там. В десяти ярдах отсюда.
Уильям бросился вперед. Эдвард шагнул следом, все еще не понимая, о чем речь. Уильям остановился — над его головой, почти в самом потолке широченной трубы тоннеля, находилась опускная дверь.
Уильям поднял руку и ухватился за ржавое кольцо-ручку. Дверь легко подалась, опустилась, чуть не сбив Уильяма с ног, и превратилась в лесенку. Ковер, прикрывающий проход за дверью, скользнул вниз, провис и замер — Уильям пригнулся, решив, что кто-то собирается напасть на него. Он осторожно протянул к ковру руку н чуть-чуть его пошевелил, потом отбросил осторожность, поднялся по лесенке, откинул край ковра и заглянул в образовавшуюся дыру.
— То самое, — прошипел он через плечо.
— Что? — переспросил Эдвард.
Но Уильям уже не слушал его — протиснувшись в дыру, он откинул ковер еще дальше и исчез наверху. Эдвард медленно забрался по двери-лесенке следом и обнаружил, что очутился в подвале, затхлом, сыром и пропахшем мокрой растительностью. Большую часть почти не освещенного помещения занимал кольцевой бассейн. Под одиноким медным бра с плафоном в форме тюльпана стояло единственное большое раскладное кресло.
Высовываясь наружу, профессор Лазарел ожидал увидеть несущуюся к нему на страшной скорости машину с побледневшим водителем за рулем, вот-вот грозящую расплющить ему голову. Однако полуденная улица оказалась пустынной, только трое ребятишек гоняли палками взад-вперед мяч, словно хоккейную шайбу. Пораженные чудом его появления среди улицы, ребятишки с криками бросились к Лазарелу. Профессор торопливо задвинул канализационный люк крышкой, чтобы поскорее прикрыть находящихся внизу товарищей. Лишняя реклама им была ни к чему.
— Привет, привет, привет, — обратился он к детям, не имея ни малейшего представления, каким образом продолжить разговор. Дети, которые всегда лишались в его присутствии дара речи, были для Лазарела загадкой. На мгновение он пожалел, что сразу же не взял более грозный тон и не прогнал малышей, но теперь было поздно что-то менять. Один из детишек, вероятно мальчик, сильно ударил палкой по крышке люка, очевидно желая показать, что его намерения серьезны.
Лазарел, внезапно вспотев, погрозил пальцем, опасаясь, что внизу примут этот стук за некий сигнал.
— Никаких палок, — заявил он, понимая, что выглядит глупо, и надеясь только на то, что дети столь нежного возраста не станут вникать в смысл его указаний, а просто исполнят их буквально.
— А чевой-то? — удивился мальчик и снова замахнулся. Два его товарища — страшно худой и почти лысый мальчик в майке с необъяснимой надписью «Встретимся в Пицца Италия» и девочка, лет двух-трех, с туманными глазами — тоже обступили люк, воспринимая беспокойство профессора как какую-то новую игру. Лазарел еще сильнее замахал на них руками, получил удар палкой по голени и несколько шагов тяжело гнался за припустившими бегом озорниками. Ребятишки остановились под грабом.
Лазарел угрожающе улыбнулся, но передумал, решив, что такие улыбки только раззадорят малолетних хулиганов, и вдруг вспомнил о вчерашнем человеке в майке, который искал их в доме Сквайрса, — их преследователь, не угомонившись, мог все еще рыскать по окрестностям, продолжая поиски.
Возможно, с утра этот человек ушел на работу. Но мог ведь и не уйти? Насколько хорошо он успел прошлой ночью разглядеть лицо Лазарела в полумраке жилища Сквайрса?
Мальчик в майке «Пицца Италия» размахнулся и палкой сильно послал мяч в сторону Лазарела — чтобы проверить стойкость противника или получить повод вернуться к люку. Лазарел подобрал мячик и бросил обратно.
— Там очень хрупкие приборы, — сказал он, направляясь к троице и уповая на то, что хрупкость приборов хоть как-то их проймет. Старший из мальчиков вышел вперед и заслонил собой девочку, которая приготовилась разреветься.
— Старый жирдяй, — выкрикнул он, замахиваясь на Лазарела палкой.
Выглянув из-за своего защитника, девчушка эхом повторила его тонкое наблюдение:
— Сталый жилдяй, — пискнула она.
Лазарел чувствовал, что пора уходить, в то же время понимая, что любой стук по люку может быть воспринят внизу как сигнал, тем более сейчас, когда уже прошло столько времени. Он достал из кармана и, улыбнувшись — по-идиотски, как ему показалось, — протянул детям на ладони три десятицентовика. Не стоило ссориться. Черт с ними, пускай колотят по люку до посинения. Однако дети о таком уже слышали. Мальчик в загадочной майке испустил пронзительный вопль, развернулся и, умчавшись прочь, скрылся за дверью одного из соседних домов.
— Господи, — обессиленно простонал Лазарел. Его приняли за нового Пиньона, скрывающего свою страсть к детям под фальшивой униформой. Лазарел швырнул де-сятицентовики на лужайку, повернулся и торопливо зашагал к дому Фростикоса, поправляя куртку газовщика. Перед тем как скрыться за кустами, он обернулся и увидел, как дети бросились к лужайке и принялись там драться из-за монеток, точно дикие звери.
Насколько об этом можно было судить со стороны, в бунгало никого не было. Все жалюзи и на первом этаже и на втором были закрыты. Из дома не доносилось ни звука. Рядом с собой Лазарел увидел разбитое окно и газовый счетчик с недавно отремонтированной трубой.
Он наклонился над счетчиком и, делая вид, что осматривает его, незаметно оглянулся через плечо на улицу, откуда продолжали доноситься странный шум и звуки суматохи.
— Проклятые дети, — пробормотал Лазарел себе под нос и посмотрел в окно. Днем, при выключенном электричестве, внутри видно было еще меньше, чем вчера поздним вечером. Свет, просачивающийся сквозь грязное стекло, выхватывал из сумрака лишь маленькое серое пятно пола.
Лазарел прищурился, потом отдернул голову — внутри комнаты ему почудилось какое-то движение. Это Пич, сказал он себе, затаив дыхание. Значит, его все-таки не увезли! С улицы позади него неслись громкие голоса, что-то кричали дети, но профессор уже не обращал на них внимания. Привстав на цыпочки и прижавшись лицом к стеклу, чтобы лучше видеть, он снова принялся всматриваться внутрь. Внезапно в трех дюймах от его лица, прямо напротив окна, появилось и уставилось на него другое лицо, с невероятно скошенными глазами, с ворочающимся во рту языком, со слепящим светом, неожиданно брызнувшим из лба.
Лазарел вскрикнул, отпрянул, повалился в кусты и забился в них, пытаясь выбраться. За подвальным окном кто-то глухо засмеялся. Оконная рама с выбитым стеклом поднялась, в проеме появился с трудом сдерживающий хохот Уильям Гастингс — его лицо кривилось от смеха.
— Чтоб тебя! — всхлипнул Лазарел. — Сердце чуть не лопнуло! Я чуть на месте не помер! Я… — начал он, но тут же умолк, заметив внутри не только Уильяма, но и Эдварда, и начал подниматься на ноги.
Позади с улицы донесся посвист. Затем громкий крик.
— Он здесь прячется! — выкрикнул мужской голос.
— Господи! — охнул Лазарел, до которого внезапно дошел смысл уличной суеты. — Ведь это они за мной!
Он без промедления сунулся головой и плечами в окно. Проем был очень узкий — пролезал профессор с трудом. Эдвард бросился на подмогу, вместе с Уильямом схватил профессора за руки и принялся тащить его, извивающегося как змея, внутрь. Уильям снова прыснул.
— Скорее, черт возьми! — в ярости заорал Лазарел. — Меня за ногу схватили!
С этими словами он пробкой влетел в комнату, сбил с ног Эдварда и растянулся на полу вместе с ним. Уильям мгновенно опустил окно и, защелкнув задвижку, показал нос беснующимся за окном незнакомцам, один из которых в сердцах хватил отнятым у Лазарела ботинком как дубинкой по второму, целому стеклу и разбил его вдребезги.
Уильям испустил победный клич и следом за товарищами бросился к опускной двери, ведущей в подземелье. Через мгновение подвал опустел. Уильям потащил было ковер с восточным узором обратно, прикрыть дверь, но, сообразив, что все равно никого не обманет, бросил это занятие и захлопнул за собой дверь люка. Спотыкаясь, без одного ботинка, запыхавшийся Лазарел поспешно водружал на голову шлем.
— Они едва не схватили меня, — пожаловался он.
— Да, — отозвался Эдвард. — Бежим. Они будут здесь через минуту.
Но он ошибся — погоня появилась гораздо раньше. Не успел он закрыть рот, как сверху донесся скрежет отодвигаемой крышки канализационного люка. Преследователи не полезли в подвал — они воспользовались более простым и очевидным способом проникновения. Внутрь тоннеля ворвалась колонна солнечного света, и в золотом ореоле появилась человеческая голова. Уильям, имеющий опыт гонок по канализационным подземельям, уже бежал по проходу, криками призывая своих соратников следовать за собой. Преимущество пока оставалось на их стороне. Преследователям еще предстояло отыскать себе фонари. Кто рискнет гоняться в непроглядном мраке за представляющими неизвестно какую опасность лихачами? Но если они все-таки решатся… Уильям задумался.
Им предстояло пробежать три четверти мили по тоннелю без разветвлений и перекрестков. Улизнуть от погони они не смогут — они должны будут просто оторваться от преследователей. Горемыка Лазарел в одном ботинке вряд ли продержится долго — он сдаст уже через сто ярдов, а о целой миле и говорить нечего. О рукопашной не стоило и думать — глупее развязки не придумаешь, если, конечно, они не хотят сдать Пиньону все козыри, не хотят, чтобы он добрался до центра Земли. В таком случае о его триумфе они узнают уже за решеткой. Уильям услышал, как Лазарел с трудом глотает воздух. Он остановился и оглянулся.
Под проемом люка, залитый светом, стоял и смотрел им вслед солнечный великан. Отважный сосед Фростикоса, вероятно, ждал, чтобы доставили фонарь. Или ружье. Уильям снова пустился бежать. С каждым ярдом их шансы на спасение возрастали. Только бы успеть добраться до лабиринта под Брэнд.
Эдвард без конца понукал Лазарела, но тот медленно отставал. Если заставлять его бежать без передышки, он скоро свалится как загнанная лошадь — профессору не уйти, Уильям снова остановился. Лазарел немедленно сделал то же самое, благодарно отдуваясь, согнулся пополам и уперся руками в колени, шумно вдыхая и выдыхая воздух, как паровая машина.
— Я пойду назад, — сказал Уильям, — и собью их со следа. Попробую их напугать.
Эдвард замотал головой.
— Я решил. Вы бегите дальше. Если они схватят меня, то я просто спятивший псих, которому нравится изводить своего врача.
Эдвард пытался возражать.
— Нет времени, — прервал его Уильям, оглядываясь на люк. Еще один дюжий сосед доктора спускался по скобам вниз. Уильям побежал обратно, ломая голову над тем, что сейчас предпринять. Человек, первым спустившийся за ним в тоннель, что-то предостерегающе выкрикнул, очевидно решив, что убегающие перешли в нападение. Второй преследователь взлетел вверх по скобам как ужаленный, после чего первый с нечленораздельными криками тоже бросился к лестнице. Уильям усмехнулся.
— Сейчас вы у меня узнаете, почем фунт лиха! — закричал он, вскидывая для пущего устрашения кулаки над головой. Воспрянув духом, он завыл как сто чертей, в конце перейдя на хохот. Эти сосунки решили с ним потягаться? Уильям сам себе удивлялся. Лет в тринадцать он был не в пример осторожнее. Но после вчерашней схватки, этого крещения огнем, все изменилось — он стал другим. Теперь он нашел свою естественную среду обитания, свою нишу. Да пусть хоть вся их проклятая улица лезет сюда вниз. Он встретится с ними лицом к лицу! В отверстии люка появилась голова и уставилась на него Уильям сделал несколько прыжков, чтобы продемонстрировать свой боевой дух, срочно пытаясь выдумать подходящую фразу для нового угрожающего клича. Ему удалось вспомнить только строчку из Ашблесса: «Легла мне на ресницу тяжелая как дом крупица снега». Испугать этим находящихся наверху он не мог, но вот озадачить — запросто. Крикни он такое, так и сам, наверное, призадумался бы.
Уильям оглянулся через плечо. Фигурки Эдварда и Лазарела были едва различимы в отдалении. Теперь они в безопасности. В люк снова просунулась голова, и Уильям рявкнул. После чего погасил свой фонарик и со всех ног припустился в темноту, понимая, что тот, кто следил за ним, ни за что не решится гоняться по непроглядным тоннелям за орущим безумцем, внезапно выскакивающим на свет божий из своей подуличной вечно ночной страны, безрассудным и смертельно опасным. И будет прав. Голова в дыре люка исчезла, и крышку надвинули на место почти до конца, оставив узкий, ярко светящийся полумесяц.
Почти сожалея, что до кулаков дело так и не дошло, Уильям мчался за едва заметными впереди фигурками своих спутников, удивляясь тому, что успел за последние тридцать часов вступить в трения с таким количеством людей, вероятно совершенно невинных. Бог знает, чем Лазарел сумел так разъярить их. Может быть, пересказал одну из шуток своего отца?
Когда они открыли наконец железную дверь, выбрались втроем, измученные и несолоно хлебавши, на берег реки Лос-Анджелес и двинулись через прибрежные кусты и камни к дыре в заборе поблизости от Лос-Фелис, уже вечерело. Оставшийся без ботинка профессор Лазарел шел как ист-индский танцовщик и всю дорогу до машины ругался, а упав на заднее сиденье, еще на полпути к дому задремал без сил.
Среди ночи Уильям проснулся от раздирающего горло сухого крика — его глаза уже были широко раскрыты. Машинально махнув рукой и скинув одеяло на пол, он уставился на свои ноги — несколько секунд он был убежден в том, что по его голени ползет огромный, величиной с тарелку, жук, тонкими усиками ощупывая нежную кожу между пальцами стоп. Ему не хватало воздуха. Сердце стучало как мотор. Жука не было. Естественно — здесь нет никаких жуков. Таких жуков вообще не бывает — по крайней мере в цивилизованных странах.
В голову полезли обрывки сна. Уильям находился в книжной лавочке (одно из нескольких обязательных слагаемых страны его сновидений), где управлялся все тот же нахмуренный хозяин-продавец, неприятный высохший человек с темными нечесаными волосами и подозрительными глазами — возможно, продавцу, казалось, что Уильям хочет украсть книгу или грубо раскрыть ее и повредить переплет, или же он просто не считал его подходящим для своего заведения клиентом. Возможно также, что, глядя на Уильяма, хозяин лавочки вяло, как это обычно бывает в снах, размышлял о том, за какие провинности на его голову свалилось такое наказание — воплощаться одну тяжкую ночь за другой и снова и снова следить за порядком в случайных пыльных и лишь частично оформленных безликих магазинчиках, где всякий раз с точностью часового механизма появлялся один и тот же посетитель в твидовом пиджаке, тоже продукт игры сонного воображения, который сразу же принимался перебирать книгу за книгой, отвергая их по очереди то из-за названия, то из-за цены, а в заключение неожиданно пытался примерить на себя один из томиков, словно пару брюк. Так бывало всегда, Уильям хорошо это помнил. Все его сны о книжных лавочках неизменно заканчивались одним. Он каждый раз пытался, призвав на помощь особые законы физики снов, натянуть на себя книгу, не снимая ботинок. И книжки приходились ему как раз впору, это он тоже хорошо помнил. Да и цена не казалась чрезмерной. Однако что-то не так бывало с книгами, какими-то странными казались ему его брюки. Что-то ужасное виделось ему в них. На одной из первых страниц он замечал набросанный быстрыми штрихами портрет человека, мужчины — масса коротких извивающихся линий, словно колышущиеся стебли изящной водоросли, складывались в неподвижное и холодное лицо, совершенно невозмутимое и смахивающее на морду рептилии. Кто это был?
Уильям присел на край кровати, приопустил веки. У него не хватило духу закрыть глаза полностью, он боялся чьего-то появления; создание тьмы, которое скользило, невидимое, под темным мрамором хаоса и мрака, дожидалось того часа, когда, наконец открывшись, древняя дверь даст ему возможность промчаться сквозь сумрачный проход и впиться в горло своей жертвы. Но он узнал это лицо. Кружась перед его глазами, обрывки и осколки тающего сна сложились в узнаваемую мозаику. Темные линии на мгновение перестали трепетать и извиваться и замерли, образовав сначала голенастый абрис жука, а потом лицо доктора Игнасио Нарбондо, повисшее на исподе век Уильяма, словно темный контур освещенного вспышкой молнии окна, подобно парящей поддельной голове Великого и Ужасного Волшебника Оз. Лицо начало бледнеть и меняться, темные линии превратились в серые цвета осеннего океана, а после — в белые, оттенка рыбьей кожи или грязного снега, останки, и на долю секунды, прежде чем мигнуть и раствориться в небытии, перед ним колыхнулся образ Иларио Фростикоса, как обычно спокойного, с едва заметным следом легкой издевательской усмешки в жестких уголках рта.
Уильям вздрогнул. Пригладил трясущимися руками волосы. В комнате было невыносимо холодно. Он поспешно завернулся в одеяло и закурил трубку. Собственные голые ноги представлялись ему вылепленными из белой, влажной глины, а икры — совсем бестелесными. Он не мог представить себе, каким образом такие ноги могли выдерживать вес его тела.
Чтобы проверить ноги, Уильям неуверенно встал. Пальцы были огромными, на короткое время они показались Уильяму состоящими из невероятно большого количества суставов. Он начал пересчитывать эти суставы, потом опомнился и потряс головой с короткими бесполезными кустиками волос. Пальцы, конечно же, одно из самых уродливых порождений природы — как уши и носы. Те непременно стараются обратить на себя внимание, и считается, что человеческое достоинство и внешний вид в большой степени зависят от них.
Неожиданно он понял, что может написать об этом небольшой рассказ. Рассказ о поэте, которого время от времени посещают всепоглощающие и плодотворные приливы вдохновения. Однако каждый из них, подобно наркотику, оставляет после себя особый неприятный побочный эффект. Приступы вдохновения ужасно раздувают самомнение поэта, делают его совершенно бесстыдным. Он превращается в самодовольного шута. И в один прекрасный вечер, проносясь на гребне очередного вала сквозь новые витиеватые вирши, внезапно замечает свое отражение в темном оконном стекле или в блестящей поверхности подноса или соусника — и потрясение понимает, что видит перед собой морду обезьяны.
Уильям принялся нащупывать линованную бумагу и ручку, дожидаясь первых капель того, что потом станет водопадом слов. Поздний час придавал особую серьезность его стараниям. Он редко испытывал такой подъем — так ясно и отчетливо видел вещи. Однако ничего не произошло. Он набросал первый абзац, потом все перечеркнул. Сплошная глупость. Начал писать снова, остановился, снова раскурил трубку, резко поднялся и рассмотрел себя в стоящем на комоде маленьком зеркале в рамке. Испытав огромное облегчение, он положил бумагу и ручку на тумбочку у кровати, пообещав себе при трезвом свете утра вернуться к начатому. Накинув на плечи одеяло и зажав в зубах трубку, он вышел в темную прихожую. Проходя мимо комнаты Эдварда, он услышал, как тот тихо ворочается в кровати. Толкнув приоткрытую дверь комнаты Джима, Уильям неслышно ступил внутрь, придерживая одеяло у шеи.
Его сын спал, лежа щекой на подушке и приоткрыв рот. Уильям позавидовал снам сына, которые, судя по выражению лица мальчика, имели мало общего с кошмарами. Уильям давно уже подозревал, что души детей куда созвучнее капризам и чудесам Творения, чем души родителей, что годы, словно щелок, выедают и заставляют выцветать те переживания, к которым в детстве относишься серьезно, а с возрастом — безразлично, а то и просто забываешь.
Тихий ночной воздух, проникающий в отворенное окно, был напоен душистой прохладой, лишь слабо давая ноздрям знать о близости тумана, бетона и жухлой поздней зимней травы. Уильям вдохнул этот аромат полной грудью, стараясь насытиться им скорее, чем тот исчезнет, упиваясь и смакуя. Но прежде чем он успел завершить вдох, все ушло, запах иссяк и пустой обыденный воздух заполнил комнату. Однако Джим, Уильям был уверен в этом, по-прежнему плыл сквозь благоухание ночного ветра, за которым ему пока еще, по счастью, не приходилось гнаться, как за последним вечерним поездом, уходящим от пустого перрона. Только на прошлой неделе Уильям прочитал, что в небе не так много видимых глазом звезд, как принято думать, что их легко пересчитать — эти брызги, которыми чья-то рука окропила небо из далей бесконечности в чудесные незапамятные времена. Сколько лет, подумал Уильям, было тому астроному, который сказал такое? Число звезд на небесах уменьшается с каждым годом, прожитым их наблюдателем.
Его трубка почти потухла — он забыл о ней. Уильям принялся сильно втягивать воздух сквозь мундштук и выпускать дым, пока табак в трубке не заалел в темноте, словно маленький бакен. Облако серого дыма поднялось к потолку. Ночной ветерок принялся играть с легкими занавесками, наполнил их на мгновение, потом быстро ускользнул — занавески упали. Джим завозился и заворочался в постели и снова устроился на подушке.
На старом дубовом комоде, потемневшем от времени, была разбросана всякая мелочь — кое для каких вещей это было вполне законное место. Мелкие монеты, перочинный нож, скомканный носовой платок, разорванный театральный билет — и словно бы принадлежности волшебника: радуга подводных садиков в закупоренной банке; несколько блеклых аквариумных замков; согнутый деревянный пират, словно спрыгнувший со страниц иллюстрированного издания «Острова сокровищ»; китайский бумажный фонарик, на каждой стенке которого выписана изящная цветущая яблоневая ветвь, и пригоршня бутылочных крышечек, выложенных в аккуратный круг.
Уильям подошел к комоду, решив поближе взглянуть на крышечки. Он знал, откуда они взялись, мог представить себе всю их странную одиссею, начавшуюся в Гриффит-парке много лет назад. Среди этих крышечек была одна, которую он потерял два месяца назад во время закончившегося столь бесславно сражения с соседским садовым шлангом.
Уильям взял эту крышечку в руки и перевернул. Ее пробковая прокладка тоже была найдена в траве и тщательно вставлена внутрь, на место. Крышечка в ладони казалась теплой, почти живой, словно только недавно кто-то держал ее в руке. Он крепко стиснул крышечку в кулаке, представив ее маленьким круглым глазком, сквозь который, словно в перевернутой подзорной трубе, можно было увидеть залитый солнцем сад, крохотные деревья и кусты, все.
За его спиной скрипнула кровать. Уильям обернулся и увидел Джима, который, приподнявшись на локте, сонно тер глаза. Уильям улыбнулся, не зная о чем говорить. Чтобы заполнить паузу, он затянулся, но трубка давно погасла. Тогда он вынул трубку изо рта, поднял бровь и пожал плечами.
— Ты их тоже хранишь?
Джим кивнул, усаживаясь под одеялом.
— Я носил одну крышечку на куртке, но она отвалилась, и я ее потерял. Поэтому я держу их теперь на комоде.
— Мудрое решение, — ответил отец. — Я потерял их столько, что и подумать страшно. Иногда я думаю, что, возможно, было бы лучше, если бы я потерял их все до одной.
Джим покачал головой. Он был уверен, что стоит хранить крышечки — по крайней мере пока он не собирался их выбрасывать, но этого не сказал. Внезапно он почувствовал, что вообще не может больше говорить.
— Ты прав, — ответил отец. Он играл с крышечками на комоде, выстраивая из них разные фигуры, смешивал и выстраивал снова. — Думаю, что я тоже положу свои на свой комод. Там-то уж они не потеряются, верно?
— Можешь забрать обратно ту, которую ты потерял, — сказал Джим, обнаружив, что речь вернулась к нему. — Я сохранил ее для тебя.
— Правда? У меня есть другое предложение. Предлагаю обмен. Вместо «Нехи Орандж» я возьму виноградный «Краш». Буду носить ее в кармане. Вроде талисмана на счастье. Идет?
— По рукам, — ответил Джим.
Уильям взял зеленую крышечку с комода и сжал в кулаке так крепко, что края врезались ему в ладонь. Внезапно он ощутил на своем лице дуновение ночного ветра, запах прохлады и влаги омыл комнату.
— Пора спать, — сказал он, запахивая одеяло плотнее и направляясь к двери. — Увидимся утром?
— Ага.
Джим проследил, как за отцом закрылась дверь, гадая, чувствует ли тот приближение древней воображаемой стены. Потом встал и, откинув занавеску, выглянул в ночь. Откуда-то издалека еле слышно доносились звуки уличного движения. Одинокий сверчок наполнял двор своей негромкой стрекотней, а человечек с Луны все смотрел бдительным оком сквозь подсвеченные облака вниз, на спящую Землю.
КНИГА ТРЕТЬЯ ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
Нас носит по великому и грозному морю в худой скорлупке; как поется в старых моряцких балладах — мы уже слышали пение сирен и знаем, что нам никогда не суждено снова ступить на сушу. И стар и млад, все мы знаем — это наш последний поход и погибель близка. Эй, если остался у кого табачок, Христа ради, пустите по кругу — давай, брат, закурим напоследок.
Роберт Льюис Стивенсон. Юноши и ворчливые старикиПролог
Уильям Ашблесс сидел в лодке, укрывшись в зарослях ивняка, побегами которого обильно поросло илистое дно озера Виндермеер, полноводного после весенних дождей. Отдаленные склоны холмов казались неестественно зелеными — в зелень бледного изумруда вторгались лишь гребни скал, вырванных из земных недр в стародавние времена, которые теперь медленно и недоуменно погружались обратно, утопая в высокой траве.
Ни ветерка кругом. Озеро застыло, ровное и гладкое, словно зеркало, в его водах вокруг ивовых кущей отражаются силуэты могучих облаков, синевато-серых на фоне низкого неба. В воздухе пахнет близким дождем. Овцы на склонах холмов, кудлатые и пугливые, задумчиво жуют, озираясь по сторонам, словно ожидая чего-то. Каждые несколько минут то одна, то другая овца срывается с места и стрелой проносится вперед на несколько ярдов, как будто напуганная призраком, что-то шепнувшим ей на ухо, а потом при виде спокойно жующих товарок резко останавливается. «Тоже чуют дождь», — подумал Ашблесс. Запахнув плотнее куртку, он накинул на голову капюшон, прикрыв свои роскошные седины. Откуда-то из тенистых глубин озера лениво всплыла огромная рыба и на секунду замерла в дюйме от поверхности, будто рассматривая затягивающееся тучами небо, потом так же неторопливо скрылась в пучине. На носу лодки у Ашблесса тоже лежала рыба — странная и мертвая.
Впечатление было такое, словно эту рыбу, древнюю, похожую на снабженную несколькими рядами зубов торпеду, с хвостом, подобным оперению стрелы, и плавниками-лапами, быстро подняли к свету из невообразимых глубин и ее разорвало изнутри. По мнению Ашблесса, это был ганоид. Его познания в палеонтологии были не столь обширны, как хотелось бы, но все-таки достаточны, чтобы строить предположения о путях появления подобного существа в водах озера Виндермеер. Возможно, эта рыба просто решила попутешествовать, как и он сам.
Ашблесс поднял бинокль и осмотрел берег недалеко от того места, где прятался. По вымощенной булыжником дорожке к лодочному сараю шел, засунув руки в карманы, Бэзил Пич. Отперев дверь, Пич скрылся внутри, потом появился снова с сетью на длинных рукоятках и, очевидно преследуя какую-то цель, спустился к берегу. Позади домика высились каменные холодные стены Пич-Холла. Там и сям в щелях между огромными тесаными камнями рос коричневый и зеленый мох, а большую часть западной стены замка скрывали заросли плюща, пока еще лишенного листвы, но очень густо разросшегося и переплетенного. Стены замка опоясывал широкий ров с чащобами хвоща и папоротника-орляка по берегам. Точно в центре стены, чуть выше стоячей воды во рву, находились арочные ворота из древнего потемневшего дуба — единственное, что оставалось свободным от вьющегося растения. Некоторое время назад Ашблесс с любопытством наблюдал за тем, как эти ворота ненадолго открылись. На заре, вскоре после того как он занял свой пост под ветвями ив, половинка ворот со скрипом подалась внутрь, и из образовавшейся щели выглянуло нечто, плохо различимая тень на плохо освещенном фоне — опирающийся на трость сгорбленный силуэт с жабьей головой под капюшоном широкого плаща.
Бэзил Пич закинул сеть в заросли прибрежной травы, с усилием провел и поднял улов — улов давно умерший. Что это было, Ашблесс рассмотреть не мог. С тех пор как он последний раз видел Пича на реке Риу-Жари, перед его исчезновением, прошло много лет, а с тех пор как он последний раз ходил на лодке по озеру Виндермеер — и того больше. Здесь мало что изменилось. Возможно, Пич стал немного больше сутулиться. Его лицо растянулось, глаза стали крупнее, их взгляд сделался более неподвижным. Кожа Бэзила — так, по крайней мере, казалось на расстоянии — стала странно пятнистой, но вполне возможно, что виной тому были тени скользящих по небу облаков. Пич рассмотрел содержимое своей сети, вскарабкался обратно к лодочному сараю, открыл дверь, просунул внутрь сеть и вытряхнул улов.
Ашблесс попытался представить себе всю череду странных изменений, сквозь которые день за днем проходил Бэзил Пич, череду, подобную той, которую уже претерпели его отец и дед и, может быть — кто знает? — все бесчисленные Пичи до него, становясь в сырости и тиши уходящих лет все меньше похожими на людей, а больше на жаб или тритонов, пока не наступал день, когда, заслышав бесшумный глас подводных труб и влекомые тоской по тенистым кущам подводных садов, они выходили за дубовые ворота, чтобы никогда больше не ступать на сушу. Подобной судьбе можно бы позавидовать, подумал Ашблесс, не будь она столь мокрой.
Джон Пиньон, как видел Ашблесс, не понимал Бэзила Пича и тем более Гила. И тот и другой были выше его понимания. Пиньон алкал научной славы — далее этого он ничего не видел и видеть не хотел; в сущности он был почти невинен. Гил Пич был для него всего лишь средством достижения цели. Какие цели преследовал Иларио Фростикос? Его стремления не были целиком связаны с деньгами; от него веяло духом упадка, разложения и, как от его деда Игнасио Нарбондо, извращенности. А что он сам? Что нужно ему? Чего он жаждет — литературной славы? Поклонников? Бессмертия? Поэт удивился своим мыслям. Его цели были гораздо более далеко идущими. За многие годы он научился следовать им неотступно. Но отстоят ли его цели хоть на сколько-то от тщеты и сует мира?
Действия Эдварда Сент-Ивса и Уильяма Гастингса были продиктованы иными мотивами. То, что руководило действиями Уильяма, человеческому разуму постичь было не дано. Эдвард время от времени пускался в погоню за радугой, разыскивал падающие звезды, несомненно уверенный в близости какого-то огромного чуда, пока что скрытого от глаз, скажем, волнами прилива или густым покровом низких стремительных облаков. По большей части Сент-Ивс был наивен, но Ашблессу он нравился. Не будь в этой компании Лазарела с его глупыми шутками, он наверняка предпочел бы Фростикосу с Пиньоном Уильяма и Эдварда. Пиньон был напыщенным глупцом. Но за Пиньоном стоял его механический крот, в то время как у Уильяма и Эдварда не было ничего, кроме их несчастной смехотворной батисферы. Альтернативой был Бэзил Пич.
Ашблесс вздрогнул, клюнув носом. Бэзил Пич уже вернулся в замок, все вокруг замерло, и ничто не нарушало тишину, кроме редкого щебета случайных птиц и блеяния овец на холмах в отдалении. Разглядывая тянущиеся по небу облака, Ашблесс принялся тихо мурлыкать себе под нос песенку без слов. Располагая всем безграничным временем мира, он дожидался чего-то — сам не зная чего.
Замолчал он тогда, когда ворота в западной стене дома снова отворились внутрь. В проеме ворот в свете тусклого фонаря вновь появилось существо с головой под капюшоном и с клюкой. Прислонив палку к стеблям плюща на стене, создание скинуло плащ и, соскользнув в канал, скрылось в его зеленых водах. Присматриваясь к темной воде, Ашблесс принялся грести к устью канала. Внизу в глубине он различал длинные колеблющиеся полосы водяных растений да верхушки обманчиво далеких на мельчинке острых скальных выступов, порой мелькающих среди темной зелени вод и снова обрывающихся в глубину. Поэт прищурил глаза, словно человек, силящийся разглядеть что-то в темной комнате, но глубокая вода оставалась, или по крайней мере казалась, непроглядной, покуда от зева канала к просторам озера мимо него внизу не проплыло неспешно сгущающейся тенью существо величиной с человека, держа курс к неведомым подводным далям; оно медленно погружалось и растворилось, наконец, где-то в чернильной глубине, почти под лодкой.
Ашблесс достал из внутреннего кармана куртки заветную фляжку, отвинтил крышку и вылил несколько капель янтарной жидкости в воду. «Только что мы были ближе друг к другу, чем когда-либо, сударь, — сказал себе поэт, — так почему бы не выпить вместе?» Глотнув сам, он закрыл фляжку и спрятал ее в карман. Снова взявшись за весла, он быстро подплыл к причалу, где выбрался из лодки и привязал ее. Поднимаясь по берегу к Пич-Холлу, Ашблесс заглянул по пути в забранные частым переплетом окна лодочного сарая.
Из щелей между сосновыми досками исходило ужасное зловоние, запах гниющей плоти, близкий родственник аромату, которым разлагающийся водяной человек наполнял воздух острова Каталина. Затаив дыхание, поэт растворил скрипучую дверь и ступил внутрь. У противоположной стены на стойках висели четыре весельные лодки. У самой двери на досках пола были свалены грудой сломанные весла и ржавые уключины, ставшие прибежищем пауков и мышей. Впритык к ним высилась куча разлагающейся падали, запорошенная сверху пудрой негашеной извести. На самом верху окоченевшим карикатурным дозорным торчало раздувшееся мертвое существо, выловленное Бэзилом из осоки час назад: зубастый рыбообразный монстр, относящийся, по мнению Ашблесса, к юрскому периоду. Почувствовав, что легкие его вот-вот разорвутся, поэт поспешно вышел из лодочного сарая на свежий воздух, предоставив падали догнивать в тишине и покое.
Увидев, как Бэзил Пич очищает от мертвечины заросли прибрежной травы, и не особенно удивляясь появлению таких существ на берегу озера, Ашблесс догадывался об их происхождении. Странные мертвые полурыбы-полузвери всплывали только близ Пич-Холла, и было понятно почему — здесь, возможно непосредственно под устьем заросшего травой канала, находился вход в глубоководный тоннель, соединяющий озеро Виндермеер с загадочными подземными океанами Пеллюсидара — тайная тропа, которой пользовалось не одно поколение Пичей, вероятно, стражей этого выхода на поверхность.
Ореол таинственности, окружающий хозяина этой земли, был настолько силен, что появление в окрестностях его жилища нескольких мертвых доисторических животных мало кого могло удивить.
К замку от причала под сводами сомкнувшихся кронами лип тянулась мощеная дорожка. Из тени под кустом выбежал ежик и остановился, вопросительно уставившись на Ашблесса, словно ожидая, что тот положит его в карман и отнесет в дом. Поэт почтительно приветствовал колючего, но брать в руки отказался. Откуда-то спереди, из-за высокой стены самшитовой живой изгороди-лабиринта, до него доносился гул приглушенных голосов. Ашблесс остановился посовещаться со своей флягой, потом свернул в проход в живой изгороди и зашагал вперед по крайнему прямому коридору лабиринта. Свернув раз направо и раз налево, он уперся в тупик. Возвратившись по своим следам, поэт предпринял новую попытку. Звуки голосов сделались громче — теперь стало ясно, что разговаривают двое, а плеск воды иногда перебивает их. Ашблесс повернул за угол и вместо очередного образованного непролазной изгородью коридора увидел перед собой широкую лужайку, в центре которой в незапамятные времена был устроен просторный круглый бассейн. При появлении поэта голова и плечи существа, стоящего около каменного борта бассейна — Ашблесс не усомнился в том, что именно его он видел около ворот замка, а потом плывущим в канале, — с плеском метнулась в глубину: это был Кардиган Пич, отец Бэзила. Поэт и глазом не успел моргнуть, как вода уже успокоилась.
Удивленно сощурившись при виде приближающегося пришельца, без тени улыбки на лице, Бэзил поднялся и протянул ему руку.
Глава 16
На следующее утро после ночного визита отца Джим проснулся от шума бури за окном, от далеких раскатов грома, разносящихся на многие мили над крышами пригородов. Ветер налетал порывами: то слабел, то принимался хлестать дождем в стекло с новой силой — случайные капли залетали в комнату и попадали Джиму на одеяло. Джим читал «Приключения Гекльберри Финна», первые главы — по его мнению, отличное чтиво для дождливой погоды. Прежде чем книга наскучит, он сможет пронежиться еще два, а если повезет, то и три часа.
Прислушиваясь к бурливому потоку в водостоке, изливающемуся на лужайку перед домом и растекающемуся лужами в траве, Джим почти ощущал вкус дождя на языке. Он намеревался заняться обустройством аквариума — лучше дня для такой цели не придумаешь, — отправиться в ближайший магазин, торгующий тропическими рыбками, и приобрести там на карманные деньги парочку буйвологоловых цихлид (съездить туда на велосипеде, если дождь перестанет, или попросить отца или дядю подкинуть его). Однако сейчас ему ничего не хотелось — только смотреть в окно, время от времени опуская взгляд в книгу, освежая в памяти отрывки повести, смакуя картинки и звучание слов, которым перестук дождевых капель служил самым лучшим звуковым сопровождением.
Внезапно он вылез из кровати и подошел к старому комоду. На нем лежали несколько бутылочных крышечек. Джим выложил из них правильный шестиугольник, потом круг, потом, отчего-то чувствуя недовольство, все перемешал. Но и этого ему показалось мало. Он менял местами крышечки до тех пор, пока они не расположились в последовательности уже совершенно случайной: только разные цвета рядом, края не слишком далеко и не слишком близко друг от друга — эдакий небольшой цирк бутылочных крышечек. Выбрав потом «Нехи Орандж», он засунул ее в карман, на счастье, как говорил отец. Вот теперь все встало на свои места. Пустота среди оставшихся крышечек будет напоминать ему о той, которая лежит теперь в кармане, и о ночном визите отца.
Джим снова прилег, но зерно беспокойства уже было заронено — ему хотелось что-то делать, спешить куда-то.
Сегодняшний день был как раз в духе Гила Пича — день для того, чтобы всласть покопаться в гараже, день для претворения в жизнь самых бессмысленных проектов. Джим попытался представить себе, где и в обществе каких странных людей может сейчас находиться его друг. Принявшись думать о Гиле, он вспомнил кое о чем другом, связанном с ним, и вскоре уже знал, что ему предстоит сделать. Пока все в поисках приключений носились по канализации, он сидел дома с книгами. Настало время действовать и ему. Через десять минут он уже выскользнул из дома — никто его не видел. Мимоходом он услышал, как отец что-то передвигает в холле, а дядя Эдвард разговаривает по телефону — с профессором Лазарелом, наверное.
Джим направился к дому Гила Пича. Вильма Пич уже час как должна была уехать на работу — в среду она выходила в семь. Впереди у него был целый день. Он проберется на задний двор Пичей и через окно в кухне проникнет в дом. И он и Гил проделывали это не раз, обычно по ночам. Думая о своем, Джим постучал в дверь, просто чтобы убедиться, что все чисто, и чуть не закричал от испуга, когда дверь внезапно распахнулась и перед ним предстала Вильма Пич в домашнем халате. У нее был кислый вид, и она то и дело сморкалась в платок. Она простудилась и сегодня решила отлежаться дома.
Джим растерялся. Он все еще был захвачен планами вторжения через кухонное окно и забыл об извинениях.
— Я пришел за книгами, — честно признался он, — но если вам нездоровится, то не буду вас беспокоить. Я могу зайти в другой раз.
Вильма Пич широко распахнула дверь и кивком предложила ему зайти.
— Можешь забрать свои книги. Там их, наверное, тысяча — не знаю, каким образом Гил в них разбирается. Я даже приблизительно не знаю, какие из них его, а какие чужие.
Джим улыбнулся.
— Я разберусь, — ответил он и, проскользнув мимо миссис Пич, поспешно направился по коридору к комнате Гила, молясь про себя всем богам, чтобы его оставили там одного. Но Вильма Пич мало интересовалась книгами. Громко высморкавшись и бормоча что-то о таблетках от простуды, она зашаркала шлепанцами на кухню. Место, где под стеклянным пресс-папье Гил хранил стопкой свои дневники, Джиму было хорошо известно — он коршуном бросился туда. Под пресс-папье блокнотов было только три штуки. Остальные могли лежать в коробке — скорее всего под кроватью. Одну книжечку Джим унесет с собой наверняка. Конечно, будет странно, если он потащит через коридор всю коробку блокнотов со страничками на трех колечках. Засунув дневник с самыми последними записями под куртку, он убрал руки в карманы и отвел локти к спине. Он возвратился в коридор заметно потолстевшим и угловатым, но Вильме Пич, которая грохотала посудой в раковине, было все равно.
— Ты нашел, что искал? — крикнула она.
— Да, — откликнулся Джим, — спасибо.
И захлопнул дверь раньше, чем разговор мог быть продолжен. Через полторы минуты он уже сидел в собственной гостиной и с колотящимся сердцем читал первую страницу увесистой тетради.
— Здесь какая-то неразбериха с датами, — сказал Уильям, прихлебывая кофе. — Это первое, что бросается в глаза. В противном случае все остальное вообще ни в какие ворота не лезет.
— Возможно, здесь все сплошные выдумки, — предположил Эдвард.
— Конечно выдумки, — подхватил Лазарел, намазывая хлеб маслом и джемом. — У парня чересчур развито воображение. Здесь все нужно делить на пять, а то и на десять.
— Смотрите, — вдруг воскликнул Уильям, указывая на что-то в дневнике, чего, конечно, никто, кроме него, видеть не мог. — Запись от десятого ноября. Читаю: «На камнях, словно кораллы, выросли кости ребенка — волны раз за разом разметывали их в стороны. На одинокие останки обратила внимание каракатица и унесла их в свой угол, где мастерила гнездо. Осталась только кисть руки, которую каракатица трогать не решилась, так как боялась, что та схватит ее».
Эдвард слушал с открытым ртом.
— Где календарь? — сипло спросил он.
Уильям достал из бумажника карманный календарик.
— Каким числом обозначена запись? — переспросил Эдвард.
— Десятым.
— Это была суббота?
— Нет, — ответил Уильям. — Это была среда. Суббота была тринадцатое.
Эдвард с грохотом оттолкнул стул и вылетел из кухни.
— Хочу свериться с картой приливов, — крикнул он уже с порога черного хода. Со стены сарая-лабиринта ему улыбнулся осьминожек «Рыбачьей хижины Ленца» в глупой капитанской фуражке. Эдвард вернулся на кухню.
— Сейчас я угадаю, что ты выяснил, — сказал профессор Лазарел, нацеливаясь в Эдварда тостом. — Свою костяную руку ты нашел в приливном прудке через три дня после того, как была сделана запись.
— В пальцах этой руки были зажаты останки рыбы или головоногого, так мне показалось. — Эдвард сильно потер лоб. Все происходящее не лезло ни в какие ворота, казалось нелепой ошибкой. — Ты же не хочешь сказать, что… — начал он, но профессор Лазарел, рационалист, перебил:
— Конечно, нет. Ни один из нас не допускает этого ни на секунду. Парень просто воображал себя магом, волшебником — придумывал всякие несообразности, чудеса. Он изменил даты в своем дневнике — может быть, для того, чтобы выходило более гладко, — желая убедить самого себя. Все очень просто. Так же просто, как эта его спринцовка для носа.
— При помощи спринцовки для носа Гил заставил подводную лодку летать, — строго заметил Эдвард.
Уильям кивнул и снова пригубил кофе.
— Я склонен встать на сторону Эдварда, и у меня есть на то свои соображения. Давайте рассмотрим все по порядку, логически. Гил пишет, что рыба старалась держаться подальше от мертвой руки, но на деле, как мы видим, вышло иначе. Не все рыбы были такими осмотрительными. Одну из них рука сумела-таки схватить.
— Одну! — взорвался Лазарел. — Ты понимаешь, что говоришь? Предвидение — одно дело, но такое вот сказочное предвидение — чистая глупость. Повторяю, здесь все с начала до конца плод игры воображения Гила. Его чертова слишком живого воображения.
Уильям покачал головой.
— Ты просто не хочешь смотреть правде в лицо, Расс. Ты ошибаешься. Мы уже слишком далеко зашли в лес, чтобы теперь пугаться незнакомых пауков. Хотя с одним я не спорю — все это выглядит очень и очень странно. Истины ради мы должны согласиться с тем, что Гил не просто пришел в субботу вечером домой и заполнил свой дневник выдумками, проставив числа за прошедшие дни. Он знал, что эта рука может схватить рыбу. Чего ради ему создавать впечатление, что он об этом понятия не имел! Нет, джентльмены. Я уверен, что эта запись была сделана за несколько дней до находки Эдварда. Но в одном ли предвидении здесь дело, скажите мне?
— Я думаю, да, — отозвался Эдвард, сильно ударив ладонью по столу.
— Понятно, — сказал Уильям. — Тебе тоже нужно будет объяснять.
— Я в этом дневнике ничего, кроме сплошных глупостей, не вижу, — ответил Лазарел. — Но, тем не менее, согласен выслушать твои объяснения.
— Давайте на секунду предположим, что это не простое предвидение, — начал Уильям. — В таком случае ясно одно — Гиловы прогнозы будущего способны превращаться в реальные события. И рука из приливного прудка тоже появилась из записи в его дневнике.
Лазарел открыл было рот, чтобы возразить, но Эдвард опередил его.
— Но этого просто не может быть, — сказал он. — Ни за что на свете. Если все так, как ты говоришь, тогда почему эта рука поймала рыбу? Да и сам дневник свидетельствует против твоей гипотезы. Если Гил ясновидящий, то мы можем простить ему некоторые ошибки. Нельзя ожидать, что он видел происходящее в прудке во всех деталях.
— Конечно нет, — откликнулся Уильям, довольный тем, что все постепенно становится на свои места. Пробежав глазами несколько следующих записей в блокноте, он вскинул голову. — А кроме того, — продолжил он, — если рука появилась с подачи Гила, то нам следует ожидать также и появления головоногих, обитающих в домиках из человеческих костей. Одно без другого, в таком случае, невозможно.
— Согласен, — ответил Эдвард. — Посмотри следующую страницу. Может быть, там что-нибудь найдется.
Запись на следующей странице, датированная четвергом той же недели, была простой и короткой: «Рука поймала свою первую рыбу, которую быстро растаскали на куски крабы». Ниже имелись два слова, чье-то имя: «Оскар Навозный Жук».
— Оскар Навозный Жук? — переспросил Лазарел. — Что это такое? Парень спятил.
— Хуже, — ответил Уильям. — Эта запись пошатнула вашу теорию предсказания.
— Необязательно, — заметил Эдвард. — Просто это допускает возможность других теорий. Гила-творца в том числе. И каракатицу, живущую в домике из костей.
— Ради Бога, объясните мне, кто такой Оскар Навозный Жук? — взмолился Лазарел.
— Я думаю, что Гил имел в виду Оскара Палчека, — ответил Джим. — Он часто давал ему разные прозвища, но вслух редко говорил. Оскар постоянно издевался над ним.
Лазарел кивнул, до некоторой степени удовлетворенный предоставленным объяснением.
— Бедный измученный мальчик. Хотя каракатицам, живущим в домах из костей, нет никакого научного объяснения. Я уверен, что если бы нечто подобное имело место на самом деле, то феномен уже давно был бы документально подтвержден. Океан достаточно хорошо исследован.
— Не согласен с тобой, — ответил Уильям. — Даю голову на отсечение, что до прошлого ноября головоногие никогда не строили гнезд из человеческих костей. Но теперь дело другое — ты понимаешь, что я имею в виду?
— Если только Гил действительно необычный ясновидящий, — вставил Эдвард.
— Вот именно, — подхватил Лазарел, заглядывая в свою чашку с кофе.
Заметив в дневнике что-то интересное, Уильям присвистнул. На листке от тринадцатого ноября значилось: «Оскар Смоляная Яма».
За столом воцарилась тишина.
— Довольно зловещее предсказание, вы не находите? — заметил Эдвард.
— Косвенная улика, — отозвался Уильям. — Как ты думаешь, Гил способен на такое?
— Ты что же, — вспыхнул Лазарел, — хочешь сказать, что между Гилом и смертью сына Палчека есть какая-то связь?
Уильям пожал плечами.
— Я ничего не хочу утверждать. Просто такая запись есть в дневнике, вот и все. А вот еще кое-что. «Серебряные провода антигравитационного устройства могут быть вплетены между спицами велосипеда или присоединены к выхлопной системе автомобиля. И в том и в другом случае воздействие прибора на физические свойства эфира одинаково». Посмотрите, как он написал здесь слово «эфир». Где, черт возьми, он откопал это? Он что, изучал Парацельса?
Уильям замолчал, насыпал в свой кофе сахара, затем продолжил чтение.
— «Возможна также прямая левитация людей, поскольку при непосредственном воздействии на молекулярную структуру газа, содержащегося в легких, получаемого излучения достаточно для поддержания человеческого тела в воздухе». Этот парень настоящий гений! — воскликнул Уильям. — Мне нужно срочно связаться с Фэрфаксом. Это совершенно изменит наш взгляд на сенсор.
— Не вижу особой нужды спешить, — быстро заметил Эдвард, опасаясь, что Уильям, погрузившись в научную медитацию, будет тем самым потерян для общего дела. — Что там Гил пишет дальше про антигравитацию с помощью человеческих легких?
— Что? Ах, да. — Уильям пошарил глазами по странице, отыскивая место, где закончил чтение. — «Вполне возможно, что, направив луч должным образом, можно заставить человеческое тело летать. Хотя даже если я сброшу Толсторожего Оскара в одну из смоляных ям на Ла-Бреа, он все равно выберется оттуда. Сначала мне придется немного поработать над ним. Из него выйдет никуда не годная, отвратительная жаба».
— Верю! — выкрикнул Эдвард.
— Чему? — удивился Лазарел.
— Здесь все правда. До последнего слова. И Гил может стать как нашим спасением, так и погибелью.
— Совершенно верно. — Уильям поднялся из-за стола и прошелся по кухне, разминая ноги. Открыв дверцу холодильника, он заглянул внутрь, отодвинул пучок салата-латука и половину черствого батона и вытащил из-за них банку маринованных огурчиков.
— Пиньон просто дурак. Я уверен в этом на все сто. Вместо своего механического крота он с не менее гордой миной запросто может взгромоздиться на садовую скамейку.
На секунду задумавшись, он протянул раскрытую банку в сторону стола. Лазарел жестом отверг угощение, сморщившись от одной мысли о том, что можно начинать утро с маринованных огурцов. Уильям засунул в банку пальцы, выудил огурчик и смачно вгрызся в него, потом выставил перед собой как восклицательный знак.
— Если мы выкрадем Гила, — заявил он, причмокивая от острого вкуса, — то Пиньон и Фростикос с равным успехом могут отправиться к центру Земли на пригородном автобусе.
— Или на трамвае, — подхватил шутку Эдвард.
— Или на инвалидных креслах с моторчиками, — ответил Уильям, широко улыбаясь шурину.
В течение всей этой веселой болтовни под маринованные огурчики Джим лениво листал дневник Гила, быстро пробегая глазами описания разнообразных открытий и изобретений: вечного двигателя из подшипников, шпулек и пустых картонок из-под овсянки; генераторов антиматерии из зеркал и старых пылесосов; сверхсветовых ускорителей из старого лампового плафона и бутылки с подкрашенной розовым водой, кусков угольного шлака и пакетика синьки. В самом конце дневника, после жуткого описания полета Оскара Палчека, Джим увидел длинную торопливую запись. Прервав глубокомысленные разглагольствования своего отца и дяди по поводу того, как и в чем Гил мог бы улучшить конструкцию их батисферы, он прочитал эту запись вслух: «Старт намечен на 21 марта, на день весеннего равноденствия. Вначале аппарат возьмет курс на экватор, медленно забирая вправо до тех пор, пока не выйдет на вертикаль где-то под юго-западной пустыней. Все проникновение займет около восьми часов. Итог экспедиции пока что скрыт от меня в тумане. Возможно, это та самая туманная дымка, за которой, по словам доктора Пиньона, скрывается Эдем. Что касается меня, то мне за ней слышится отдаленный грохот землетрясений и взрывов, что, конечно, может оказаться и ревом подземных рек, изливающихся сквозь полярные проходы. Но, так или иначе, значения это не имеет».
— Да? — спросил Лазарел. — Черт возьми, неужели он не мог выражаться не так путано? Боже мой, это все похоже на научно-фантастический роман, вот на что.
— Гил пишет здесь о катаклизмах, — сказал Уильям. — Эдвард, помнишь мой сон? Смерть Гила Пича в пустыне? Исход динозавров? Когда все внутри Земли взрывается и разлетается на части?
Эдвард кивнул. Он помнил описание сна своего шурина слово в слово и теперь, услышав прочитанное Джимом, сразу же похолодел.
— Я начинаю опасаться, — медленно произнес он, расковыривая тост вилкой, — что Гил за многое в ответе. За все не поддающиеся объяснению явления уж наверняка. И, возможно, за найденных водяных людей тоже…
— А может быть, даже, — перебил его Уильям, — за полость внутри Земли. Я вполне могу допустить, что он создал ее на пару со своим отцом. Если посмотреть на все это с точки зрения психологии…
— Перестань, — воскликнул Лазарел, который медленно терял терпение. — Я не собираюсь ломать копья и тратить силы ради вымыслов. Это не для меня. Делать из мухи слона вполне в вашем с Эдвардом духе.
— Боюсь, — мрачно отозвался Уильям, — дело принимает такой оборот, что преувеличениями здесь и не пахнет. Я почти уверен, что, появись у Гила желание расколоть Землю на части как дыню, он легко сделает это. Ситуация становится крайне опасной, и наше вмешательство просто необходимо. Будет лучше, если двадцать первого Пича на борту подземного вездехода не будет.
— Опять двадцать пять, — ответил Лазарел, намекая на то, что разговор снова вернулся к проблеме похищения Гила. — И что ты хочешь по этому поводу предложить?
Уильям пожал плечами. Эдвард вылил остатки кофе из кофейника в свою чашку и взглянул в окно. Мимо их дома по улице протарахтел обшарпанный грузовичок, свернул к обочине и со скрежетом остановился у соседнего забора. В кузове грузовичка виднелись газонокосилка и машинка для стрижки живой изгороди, а также всевозможные метлы, грабли, секаторы, джутовые мешки и лопаты. Садовник Ямото приехал привести лужайку миссис Пембли в порядок. Сердце у Эдварда упало.
Разрушение, грозящее Земле, немедленно было забыто, когда Уильям, заслышав громыхание и скрип грузовичка Ямото, отставил банку маринованных огурцов и бросился в гостиную.
Пригнувшись у окна и спрятавшись за портьерой, почти невидимый, он принялся следить за садовником. В том, с какой целью азиат появился здесь, Уильям не сомневался. Стрижка газонов только прикрытие — кого-кого, а его японец не одурачит. Ямото красовался в просторных белых брюках и белой полотняной фуражке с козырьком — и то и другое вот уже несколько лет было стандартной экипировкой обслуживающего персонала лечебницы. Уильяму были неведомы сомнения. Для чего, скажите на милость, садовнику рядиться в такие нелепые одежды? Ямото делал вид, что возится со своим снаряжением: подливает бензин в косилку, проверяет свечу у машинки для стрижки живой изгороди, чистит ее стерженек наждачной бумагой. Но Уильяма ему не одурачить. Он отлично видит, как желтолицый человек озирается по сторонам, от него не ускользают ни внимательные взгляды, которые тот украдкой бросает поверх живой изгороди, прикидываясь, что проверяет, как та разрослась, ни то, как дотошно Ямото осматривает газон под вязами у дороги и дождевальные установки, а сам все время присматривается, прислушивается, принюхивается.
В небе словно бы снова сгустились облака. Улица, еще не просохшая от дождя, снова погрузилась в предливневую тень. Ветер, пронесшийся над домами, принес рокот далекого грома, ворчливый и едва различимый, похожий на чей-то приглушенный воркующий смех. Уильям слушал этот смех сквозь оконное стекло, к которому крепко прижимался ухом. Голоса профессора Лазарела и Эдварда медленно затихали и растворялись во мраке, на смену им приходили звуки возни Ямото, звяки и бряки его инструментов, которые сейчас представали перед Уильямом отчетливо и ясно, как голые, безлистые деревья на безжизненном склоне зимнего холма.
Садовник резко дернул шнур стартера, запустил косилку и повел ее через лужайку, наполняя стальной сетчатый сборник скошенной травой. Добравшись до поворота стены гибискуса, перед тем как скрыться за живой изгородью, японец внезапно резко обернулся, будто услышал что-то — скрип ногтей Уильяма по подоконнику, или стук его обручального кольца о стекло, или его слабое мерное дыхание. Через мгновение Ямото исчез.
— Не стоит, — внезапно раздался за спиной Уильяма голос шурина. — Не стоит с ним связываться. Он ведь не делает нам ничего плохого. Только не попадайся ему на глаза, и все. Возможно, для того его и прислали, чтобы выкурить тебя.
— Конечно для этого. Нисколько не сомневаюсь. — Уильям умолк на полуслове, устремив взгляд вдоль занавески, куда-то за пределы дома, потом мгновенно отпрянул, когда Ямото с треском снова вывернул из-за изгороди — садовник явно спешил, стараясь управиться до близкого дождя. Но Уильям знал, что все это ложь. Стрижка газона только повод. Экипировка садовника — маскарад. Они боятся его, потому что знают, на что он способен. Теперь знают. Они упрятали его в тюрьму, замаскированную под больницу, наняли охранников-здоровяков, чтобы те следили за ним, накачивали его разными препаратами, чтобы сделать покорным, а он ускользнул у них из-под самого носа. Скрылся в канализации и был таков — хлоп, и исчез, как монета в руках у фокусника, — потом появился снова, в самом стане неприятеля, в подвале доктора, и скрылся опять, одурачив вражеские полчища.
И Ямото его боится. Этим можно объяснить странности поведения садовника, его страх. Ведь Ямото послали следить за призраком. Уильям опасный противник — сам Фростикос не сумел его одолеть. Сейчас он потешится над этим азиатом. Червь должен знать свое место. Герои вознесутся, а трусы падут. Уильям потянулся к дверной ручке.
— Я серьезно, — снова подал голос Эдвард. — Оставил бы ты его в покое. Он закончит стричь свою дурацкую траву и уберется восвояси. Не нужно с ним ссориться, по крайней мере сегодня.
Уильям оттолкнул шурина с дороги.
— Они пожалеют, что связались со мной. Нужно сразу дать им по рукам. Сейчас не время отсиживаться по углам. Они все равно чуют меня. Чуют как волки, как стервятники. Чуют и боятся. А человек имеет право нанести ответный удар. Чувство собственного достоинства — вот что важно. Черт с ним, с Ямото и его проклятой машинкой. Этот азиат — мелочь. Я сейчас собью с него спесь. Вот увидишь.
Уильям потянул на себя дверь, но, взглянув в лицо Эдварду, осекся.
— Подумай о Джиме, — сказал Эдвард тихо.
— Я постоянно о нем думаю, — отозвался Уильям. — И уверен, что он меня понимает. И потом — я не собираюсь затевать драку, просто хочу припугнуть нашего садовника, сыграть на его суевериях.
Первый порыв надвигающейся бури ударил в окно. Принесенные ветром, по скатам крыши забарабанили тяжелые капли дождя, просыпались по мощенной булыжниками дорожке сада темными пятнами. Гроза быстро набирала силу. Через секунду из водостоков уже хлестали потоки воды. Бросив лужайку миссис Пембли наполовину недостриженной, Ямото в мокрых, облепивших ноги брюках бежал к своему грузовичку — грузить в кузов косилку.
— Так ему и надо, подлецу! — выкрикнул Эдвард, приободренный дождем и молниями, вступившими в игру как нельзя более кстати. Угроза миновала, по крайней мере на ближайшие дни. Сейчас ставка делается на нечто большее, чем просто свобода Уильяма. На нечто гораздо большее.
Уильям разочаровано глядел садовнику вслед. Добыча уходила из рук. Конечно, не все еще было потеряно, кое-что он еще был в силах предпринять — например, вытоптать бегонии миссис Пембли, потом исполнить перед ее окнами дикий танец под дождем, для острастки. Но Эдвард его не поймет. Это видно невооруженным глазом. К тому же машины миссис Пембли перед домом не было. Старуха куда-то укатила. Поэтому его танец под дождем пропадет зря — все будут смотреть на него как на дурачка. Но рано или поздно он до нее доберется. Возможно, сегодня же вечером. Она пожалеет, что согласилась иметь дело с этим посланцем дьявола, садовником Фростикоса.
Глухой стук газеты, упавшей на крыльцо, расколол его сладкие мстительные грезы, а подняв глаза, Уильям увидел в окне мальчишку-разносчика в прозрачном плаще-накидке, катившего под дождем на велосипеде к следующему дому.
— Это, наверное, «Таймс», — живо предположил Эдвард. — Давай посмотрим колонку Спековски. Убежден, что в тот вечер на встрече ньютонианцев Ашблесс специально вывел его из себя, чтобы потом использовать в своих целях.
Эдвард приотворил дверь, подобрал газету и передал ее Уильяму, отчаянно надеясь отвлечь его. Уильям, все еще отчасти думая о своем, распечатал газету и пролистал ее. Из кухни за ними молча наблюдал Лазарел.
— Вот, — воскликнул Эдвард, когда Уильям показал ему разворот, — на десятой странице. Расс!
Эдвард встряхнул газету, распрямляя. Колонка начиналась со статьи о гигантской лягушке-быке, Bufomorinus, — та, по свидетельству очевидцев, гонялась за бродячей собакой, — и продолжалась заметкой о новых свидетельствах существования десятой планеты, которая, по мнению астрономов, имела вид диска, совершенно невидимого с ребра, — порождение четвертого измерения. Третья статья была посвящена таинственной, леденящей кровь находке, сделанной рыбаками на рифах, — близ полуострова Пало-Верде они обнаружили огромное беспорядочное скопление человеческих костей. Откуда там взялись все эти кости, было неизвестно, предполагалось только, что их принесло на склоны рифа и намыло там из них груды, сотворив сверхъестественное кладбище, прибрежное течение. Некоторые кости были сплошь покрыты полипами и гидрами и, видимо, покоились здесь с незапамятных времен. Найденные среди скелетов старинные испанские монеты навели океанографов на мысли о том, что часть бренных останков принадлежала морякам, принявшим смерть от руки пиратов многие сотни лет назад. Высказывались соображения о том, что Фрэнсис Дрейк во время своих рейдов мог подниматься гораздо выше к югу, чем ранее предполагалось. Наиболее же поразительным было собственно количество костей — бесчисленные миллионы их громоздились белесо-желтоватыми кучами среди зарослей подводной растительности. Среди костей устроили свой город головоногие — их там были многие тысячи.
— Представляю, как мы удивлялись бы этой заметке, — сказал Уильям, — если бы прочитали ее вчера. А скольких людей она ошарашила сегодня!
Лазарел поперхнулся посередине глотка. Покраснев, он долго откашливался.
— Но для нас-то это обычное дело, — наконец выдавил он, продохнув. Уильям с серьезной миной кивнул, не уловив в словах своего друга иронии.
— А вот еще кое-что, — воскликнул Эдвард, переворачивая очередную страницу выдающейся газеты. — Как раз то, чего мы ждем. «Сегодня профессор Пиньон объявил о завершении постройки своей землеройной машины, сконструированной с целью исследования недр Земли. Старт аппарата, использующего несколько новых фундаментальных открытий в механике и физике, намечен на конец марта».
— Выходит, они и впрямь готовы, — хмуро сказал Уильям. — Вот уж действительно новость так новость.
— Не вижу поводов для расстройства, — отозвался Лазарел. — Не думаешь же ты, что Пиньон на самом деле потряс своим вездеходом основы математики и физики? Все это не более чем глупый спектакль.
— Конечно, — согласился Эдвард. — Сам Пиньон палец о палец не ударил, только давал Гилу деньги на машину. Проблема, если я правильно понял Уильяма, в другом — коль скоро машина закончена, нужда в Гиле отпадает. Они постараются от него избавиться или, по крайней мере, спрячут понадежней. Он перестал быть для Пиньона и Фростикоса жизненно важным. Не сегодня завтра они посадят Гила на автобус до Аризоны, а там он будет для нас так же недосягаем, как на Луне. Мы никогда его не найдем.
Лазарел молчал. Уильям выстукивал пальцами марш на ручке своего кресла. Эдвард прищурил глаз и уставился на свой ботинок. В сущности, все, что они делали до сих пор, было по большей части пустой тратой сил и энергии — предприняли плавание через канал к острову Каталина, потом носились туда-сюда по канализационным сетям. Эдвард не мог заставить себя вчитаться в последние страницы дневника, настолько его потрясла близость катаклизма. Они теперь точно знали, что мир может разлететься вдребезги — когда, может быть, первого апреля, в день смеха и розыгрышей? — но это было слабым утешением. Древние мамонты и неандертальцы Уильяма примутся выскакивать из дыры в Земле как лопнувшие кукурузные зерна из жаровни для приготовления попкорна, и только они трое будут знать, в чем причина. Разгадка последней и величайшей из тайн науки будет известна им одним, но что толку?
Внезапно вскочив с выражением ужаса на лице, Джим махнул блокнотом Гила в сторону окна. Уильям, решив было, что неуемный Ямото вернулся, оттолкнул свое кресло и был уже на полпути к двери, когда обнаружил, как ужасно он ошибался: перед их домом у обочины стояла полицейская машина, и двое полисменов, поправляя кобуры и дубинки, деловито приближалась к крыльцу. Уильям метнулся к черному ходу. Джим стрелой полетел в спальню отца, сорвал простыни и одеяла с кровати и, превратив все это вместе с отцовской пижамой в ком, запихал в корзину для грязного белья в ванной. Профессор Лазарел занялся наведением порядка на кухне — собрал тарелку, вилку и нож Уильяма и мигом засунул все это в мусорный мешок под раковиной. С выражением насмешливого удивления на лице Эдвард открыл дверь и встретил мокрых полисменов на пороге.
— Мы приехали, чтобы произвести арест Уильяма Гастингса — вот ордер, — сказал один из стражей порядка, выставляя из-под желтого дождевика руку с бумагой.
Несмотря на то, что Эдвард знал, с чем пожаловала полиция, услышанное стало для него ударом. Не подавая вида, он печально покачал головой.
— Я уже слышал о происшествии, — ответил он, делая огорченную мину. — Доктор Фростикос звонил мне вчера днем. По его сведениям, Уильям скрывается в канализации. Вы там уже искали?
Полисмены промолчали в ответ. Один из них, обогнув Эдварда, молча прошел в гостиную. Там профессор Лазарел приветливо помахал стражу порядка рукой.
— У нас есть указание обыскать дом, — сказал наконец первый офицер, крепыш с носом, похожим на картофель. — Этот дом принадлежит предполагаемому обвиняемому?
— Мистеру Гастингсу? — переспросил Эдвард. — Да, это его дом. Я его шурин.
Эдвард отступил, чтобы дать полицейскому войти.
— Чашечку кофе не желаете?
— Нет, — ответил тот, у которого нос был как картофель.
— А что конкретно вы здесь ищете?
— Разве я не сказал? — хмуро буркнул первый полицейский, покосившись на Эдварда. — Уильяма Гастингса.
— В самом деле? — Эдвард разыграл бурное удивление. — В этом доме?
Оба полицейских наградили его долгими утомленными взглядами, в которых ясно читалось, что Эдварду лучше хорошенько подумать, прежде чем продолжать умничать.
Эдвард и бровью не повел.
— Понятия не имел, что он направился в наши края. Впервые слышу.
— Ясно, — отозвался крепыш.
— Я уже говорил доктору Фростикосу, — продолжил Эдвард, следуя за стражами порядка по коридору, — что Уильям скорее всего направился на север, в округ Гумбольдт. Он и в прошлый раз туда ездил. Он не очень хорошо себя чувствует, если вы понимаете, что я имею в виду, и считает Северную Калифорнию местом особенным, наделенным магической силой.
— Вам известно его настоящее местопребывание?
— Известно ли мне по-настоящему его настоящее местопребывание? Нет. Мне по-настоящему ничего не известно. Одни догадки. Просто каждую весну на Троицу он снимал там домик у озера. Когда он сбежал прошлый раз, его там и нашли — он прятался под одним из домиков.
— Запиши это, — буркнул крепыш своему более молодому напарнику, который немедленно выудил из кармана форменной рубашки блокнот и нацарапал в нем несколько строк.
— Могу я чем-нибудь помочь? — подал голос из гостиной профессор Лазарел.
— Нет.
— У меня большой опыт в психологии, — заметил Лазарел таким тоном, словно это обстоятельство в корне меняло ситуацию.
— У меня тоже, — ответил крепыш с носом как мячик, — есть опыт… в этой, как ее… ссыкологии.
Толкнув с маху ладонью дверь спальни Уильяма и шагнув внутрь, коп застыл на пороге как вкопанный при виде чучела летучей мыши с подвижными частями, подвешенной под потолком, и мумифицированного человеческого торса, покоящегося под стеклянным колпаком на комоде. Пол перед кроватью был сплошь завален книгами и листками бумаги.
Нос Картошкой скривился в сторону Эдварда, вероятно не до конца уверенный, имеет ли он теперь право пристрелить его на месте.
— Запиши это, — бросил он своему напарнику, обводя комнату рукой. Снова углубляясь в коридор, он вполголоса пробормотал: — Некоторые живут как свиньи.
Следующие за полицейскими по пятам Эдвард и Лазарел терялись в догадках, каким образом летучая мышь и мумия могли определять свинский образ жизни Эдварда.
Продолжение осмотра не дало каких-либо полезных результатов. Полицейские вышли из дома через черный ход и заглянули в сарай-лабиринт. Обитающие там аксолотль и осьминог из «Рыбацкого домика» только усилили их презрение. Рассмотрев аквариумы, люди в форме посветили фонариками под дом, очевидно, предупрежденные о том, что Уильям раньше там прятался. Закончив обыск, полицейские ушли, не сказав ни слова.
Только через пять минут после отъезда полиции Эдвард решился дать Уильяму отбой. Вполне возможно было, что стражи порядка решили схитрить: разок объехать вокруг квартала и вернуться. Но время шло, никто не появился. Улица под потоками неутихающегося дождя оставалась пустынной. Выйдя на задний двор и обогнув сарай-лабиринт, Эдвард три раза стукнул по крышке пятидесятигаллонового пластикового бака для скошенной травы. Крышка бака соскочила в сторону, за ней поднялась аккуратно вырезанная по диаметру бака картонка, присыпанная сверху травой. За картонкой из бака высунулась улыбающаяся голова Уильяма, с травинками в волосах.
Глава 17
Неделя проходила за неделей. По мнению Уильяма, их дело было швах, поскольку Гила до сих пор не нашли, а времени оставалось все меньше. Они, словно жуки, день за днем ползли вверх по травинке, которую венчало 21 марта — финал всего сущего, всех людских мечтаний и надежд. Уильям был уверен в этом.
Первый день весны — ничем не отличающийся от предыдущих мрачных и уныло-серых, полных дождевой мороси, которые и днями-то не назовешь, поскольку блеклый рассвет попросту медленно перетекал сквозь дождь в не менее блеклый вечер, — был отмечен явлением грузовичка мороженщика. Ни Уильям, ни Джим не успели рассмотреть грузовичок, принадлежность которого осталась неопределенной. Однако было замечено, что Пиньона в кабине машины нет. За рулем, ссутулившись, сидел азиат (не Ямото), проигрывая через укрепленный на крыше кабины динамик мелодии из перезвонов. Грузовичок скрылся в тумане, укатил по улице, явно не преследуя никакую цель. На Эдварда, который, воспылав подозрениями, бросился, размахивая долларовой бумажкой, под дождь навстречу погромыхивающему грузовичку, водитель не обратил никакого внимания. То же самое повторилось и на следующий день.
Знакомая пара полицейских наведывалась еще дважды, с одними и теми же вопросами о подозреваемом-обвиняемом, но всякий раз Уильям оказывался проворней и успевал укрыться в баке со скошенной травой, отсидеться там, пока лай гончих не стихал вдали, и спастись. Во время второго визита полицейские снова обыскали дом — очень неохотно и поверхностно, словно из-под палки. Заявившись в третий раз, они никуда дальше крыльца ходить не стали, ограничившись нудными угрозами в адрес Эдварда, по их мнению укрывающего беглого преступника. Эдвард сделал вид, что ничего не понимает.
Миссис Пембли, по счастью, всю первую неделю после возвращения Уильяма прогостила у своей сестры. Вернувшись, она, конечно же, сразу выследила Уильяма через окно, но к тому времени визиты официальных лиц прекратились, и пожилую даму теперь предстояло убедить в том, что Уильям отнюдь не беглый головорез, усиленно разыскиваемый полицией, а просто выпущенный наконец из лечебницы сосед. Эдвард поставил себе за правило неизменно быть со старушкой подобострастно вежливым, а именно: преподнес ей пакет авокадо и время от времени искренним и прочувствованным тоном заверял, что дела у его шурина наконец-то пошли на лад. С этих пор Уильям будет держать себя в руках — Эдвард мог это гарантировать. Дважды ему приходилось проводить с Уильямом серьезные разъяснительные беседы, всякий раз после таинственного и необъяснимого появления катышков собачьих фекалий под вязом. Это был вызов, вынести который было выше сил Уильяма.
Профессор Лазарел дни напролет бродил по утесам Пало-Верде, время от времени застывая на самом краю самого высокого обрыва и, подобно Моисею, ожидая, что океанские воды расступятся у его ног и явят прямой, как луч, проход к центру Земли или что Гил Пич собственной персоной поднимется к нему из пучины, вроде юного Нептуна, и подаст знак. Вплоть до второй недели после освобождения Уильяма Гастингса из «санатория» он не замечал и не слышал близ океана ничего, кроме надрывных криков чаек, грохота волн и воя ветра.
Затем Гил прислал открытку. Он бросил ее в ящик в Виндермеере неделю назад. Открытку получила Вильма Пич, которая отправилась с ней прямиком к Эдварду. Гил приехал к отцу, чтобы навестить его и «все хорошенько обдумать».
— «Все хорошенько обдумать?» — переспросил профессор Лазарел. — Неужели для того, чтобы подумать хорошенько, необходимо ехать в Англию? В марте хуже места не найти. Сплошные дожди и холодина. Что за удовольствие торчать там и думать?
— Мне кажется, он хотел повидаться с отцом, — предположил Эдвард.
Лазарел покачал головой с таким видом, словно верил в это с трудом.
— Может, и так. Надеюсь, Бэзил, узнав, что Фростикос тянет лапы к Гилу, не оставит это без последствий. Как думаешь, ему известно, что случилось с Реджинальдом?
Эдвард пожал плечами.
— Я уверен, — заявил Уильям, — что дело здесь не только во встрече отцов и детей.
— А в чем еще? — удивился Лазарел.
— Я хочу сказать, что решение навестить отца Гил принял не сам. Его туда отослали. Пиньон и Фростикос взяли от Гила все, что им было нужно, и теперь боятся, что он попадет нам в руки. Они гораздо больше боятся нас, чем мы думаем. Вот и сплавили Гила в Англию.
— Но он им нужен, — возразил Эдвард. — Чтобы привести землеройную машину в действие. Они не стали бы прятать его так далеко. Только не теперь.
Уильям покачал головой, подзуживаемый бесом спора.
— Откуда ты знаешь, что он им так уж нужен? Это только твои рассуждения. Крот готов — тому есть все признаки. Вполне вероятно, что магия, которую Гил туда заключил, и без него никуда не денется.
Лазарел все еще сомневался.
— Я так не думаю. Это устройство состоит из спринцовки для носа и мотка веревки. Оно не способно работать никак — ни плохо, ни хорошо. Для того чтобы крот сдвинулся с места, в нем должен сидеть Гил.
— Далась тебе эта спринцовка для носа, Расс! — воскликнул Уильям, нацеливая черенок трубки в профессора. — Ты выдумал себе удобную физическую Вселенную и заперся в ней, как в башне из слоновой кости. Может оказаться, что ты ни черта не смыслишь в этой спринцовке для носа, над которой все время насмехаешься — лично я готов верить в таинства, которые скрыты в мотках веревки. В конце концов — ты когда-нибудь всерьез изучал веревки, Расс?
— Нет, — вынужден был признаться Лазарел, — но…
— Никаких «но», — выкрикнул, словно подводя итог, Уильям. — Птица умеет летать, и все тут. А мы, если так и будем отсиживаться здесь в надежде на то, что двадцать первого все как-нибудь утрясется само собой, проиграем как пить дать. Кстати, кто сказал, что они начинают двадцать первого? Так было записано в дневнике Гила со слов Пиньона. Вы умиляете меня, честное слово. Все подстроено, и газетная статья тоже. Почему мы должны поверить в эту дату? Откуда мы знаем, что Пиньон и Фростикос не переиграют все и не дадут кроту старт на день раньше?
— Что конкретно ты предлагаешь? — спросил Эдвард. — Нам остается только ждать возвращения Гила.
— А почему бы нам самим не отправиться за ним, черт возьми? Это будет лучше, чем протирать штаны дома, как ты считаешь? Во сколько нам обойдется перелет — в несколько сотен долларов? К чему тебе будут эти деньги, когда мир развалится на куски, как гнилушка?
— Дело не в деньгах, — ответил Лазарел, всегда готовый истратить несколько долларов на дело науки. — Просто стоит трезво подойти к вопросу…
Перебив профессора, Уильям выхватил из кармана часы.
— Шестьдесят тысяч — вот сколько у тебя осталось для трезвых подходов. После этого ты будешь считать звезды бок о бок с пещерным человеком.
— Шестьдесят тысяч чего! — спросил Лазарел, медленно закипая.
— Минут, старина. Заметь, совсем недостаточно для трезвого подхода. Ненавижу трезвость и практичность. Если бы Пиньон смотрел на вещи трезво, не видать бы ему левиафана как своих ушей. Вспомни нас, вспомни себя. Где бы ты был сейчас, старая канализационная крыса Уильям Гастингс? А старина Лазарел, застрявший в окне и оставшийся в одном ботинке?
Лазарел что-то буркнул и нахохлился в кресле. Эдвард пожал плечами и поднял бровь. С кухни донесся голос Джима:
— На этот раз вам не удастся от меня избавиться.
— Вот это наш человек! — воскликнул Уильям. — К черту упырей! Никто не догадается искать нас в Виндермеере. Мы заскочим туда на минутку, захватим Гила, и ищи нас свищи. Бэзил на нашей стороне. Знаете, что я понял? Здесь они допустили свою самую большую ошибку, и я буду не я, если не обставлю их теперь. Либо ноги в руки и вперед, либо продолжаем сидеть и хандрить. Что скажете?
— Я скажу, что я еду обязательно, — повторил Джим. — Без меня вам Гила не уговорить. Он послушает только меня.
— Молодец, — отозвался Уильям. — Господи, да если у вас духу не хватает, то мы с Джимом и без вас справимся. Нам всего-то нужна неделя. Семейный паспорт у нас есть. Он годен на семь лет, кажется?
— У тебя ничего не выйдет, — подал голос Эдвард. — Тебя возьмут еще в аэропорту. Возможно, все это специально устроено только ради того, чтобы выманить тебя из норы. Это ловушка, Уильям.
— Ха! — воскликнул Уильям, который никогда не соглашался идти в последних рядах. — Уже две недели прошло. Неужели полиция две недели будет держать своих людей в аэропортах из-за человека, который всего-то пару раз ударил кого-то по голове фонариком? А стоит мне выбраться из страны, так я вообще в безопасности. Я стану свободным человеком. Все дело в том…
Доводы Уильяма прервал телефонный звонок. Это была Вильма Пич — крайне взволнованная. Она не понимала, что происходит. Только что она разговаривала по телефону с Гилом. Эдвард прикрыл микрофон ладонью и быстро сообщил новость друзьям. Это было событие первостепенной важности. Несколько секунд Эдвард молча прислушивался к трубке, и его лицо становилось все серьезнее. Гил звонил откуда-то неподалеку. По крайней мере так миссис Пич показалось по его голосу. Гил хотел вернуться домой. Опасность, грозящая нам всем, по его словам, была огромна. Сейчас его путешествие подходит к концу, и он ждет не дождется его завершения. Добраться до полого центра планеты, попасть в Землю Обетованную, в край своих предков, вот чего он хочет. Однако угроза велика — Земля при этом может лопнуть, как мыльный пузырь на космическом ветру. О чем, кричала Вильма Пич, говорит мой мальчик? О каких предках? Ее мать и отец, зашив все деньги в одежду, приплыли на пароходе из Эстонии; Бэзил родом с Великих Озер. Что такое Земля Обетованная?
Эдвард попытался аккуратно объяснить расстроенной женщине смысл слов Гила, делая многие понятия более благозвучными и смещая акценты, но под конец запутался и сбился. Откуда был сделан этот звонок, из Виндермеера? — сверлила голову мысль. А если нет, тогда как объяснить почтовую открытку? Почему это Гил вдруг так заторопился домой? И где он сейчас? — его насильно прячут, в этом нет сомнений. Эдвард повесил трубку, чрезвычайно озадаченный.
Некоторое время все молча дымили трубками. Первым слово взял профессор Лазарел, чьи сомнения подкрепил неожиданный поворот событий.
— Нас обманули. Теперь это ясно как день. Гила в Виндермеере нет. И никогда не было. Его почтовая открытка — подделка, для того чтобы выкурить Уильяма из норы на свет или сбить нас со следа — отправить на другой конец света в погоне за тенью. Я уверен, что в Лондоне мы довольно скоро получили бы какие-нибудь новые доказательства, которые направили бы нас совсем в другую сторону. В плане Пиньона и Фростикоса где-то случился сбой, вот что я думаю — возможно, из-за неторопливости почты. Шестьдесят тысяч минут не так уж много — тут ты прав. Не стоит этим временем разбрасываться попусту. — Лазарел победно посмотрел на Уильяма.
Уильям кивнул. Телефонный звонок выставлял все в новом свете.
— У меня есть отличная мысль, — заявил он, хлопая себя по колену. — Я позвоню Бэзилу. Что может быть проще. Либо Гил был в Виндермеере, либо нет. Может быть, он все еще там. А может быть, никогда туда не собирался. Людям вроде Пиньона и Фростикоса с их связями нет ничего проще, чем состряпать фальшивую открытку. Им это раз плюнуть.
Для того чтобы пробиться к Бэзилу Пичу и поговорить с ним, потребовался час, в течение которого Уильяму все время слышались едва отличимые от электрических тресков и шорохов на линии голоса, фоновые бестелесные призраки телефонных пространств; они порой прорывались к поверхности, потом слабели и отступали на задний план, затем снова набирали силу, да такую, что голос Бэзила в сравнении с ними казался слабым и отдаленным. Один раз, прямо посреди обсуждения более чем странных местных новостей, вкрадчивый фоновый голос неожиданно полностью исчез примерно на пять секунд, а потом материализовался снова, рявкнув «по два пенни за голову!» так громко, что Уильям чуть не выронил трубку. Никакого смысла в этих словах он не усмотрел, но самым удивительным было то, что Бэзил со своей стороны никаких голосов не слышал.
Выяснилось, что Бэзил чрезвычайно взволнован. Его не оставляло предчувствие, как он выразился, что в воздухе витает что-то недоброе. Какое-то напряжение. Отчаяние. Близость конца. На прошлой неделе в водах озера Виндермеер близ поместья начали появляться мертвые животные — их тела всплывали из глубин озера, словно выпущенные на волю воздушные шары, после чего трупы прибивало к берегу и они застревали в прибрежной траве. Бэзил вот уже несколько дней подряд только и делает, что собирает эти печальные останки. Замок и без того окружен множеством слухов и небылиц — слухов, зародившихся столетия назад, и всплывающие мертвые животные вдохнули в них новую жизнь.
— Животные? — переспросил Уильям. — В озере? Ты говоришь о рыбах?
— Нет, — ответил Бэзил. — Именно животные. Странные бесхвостые обезьяны с перепонками между пальцами на нижних и верхних конечностях, зверьки, похожие на броненосцев, но без характерных заостренных рыл. Не далее как вчера днем я обнаружил сразу несколько странных существ, вроде чешуйчатых ежей, — их прибило к берегу, и все они были мертвы, захлебнулись в воде.
Таких ежей Бэзил набрал целую корзину. И теперь ломал голову над тем, что со всем этим делать. Сжечь? Но запах распространится на многие мили и привлечет всеобщее внимание. Он решил засыпать трупы гашеной известью и хоронить. Но если через сколько-то лет эти могилы разроют, бог знает какой шум может подняться. В довершение всего в поместье заявился Ашблесс и принялся предъявлять какие-то дерзкие требования.
— Ашблесс! — воскликнул Уильям. Повернувшись к насторожившимся товарищам, он объявил: — Вот и разгадка тайны открытки! А чего вы хотели? Постой, я догадаюсь сам. Он тебе кое-что предложил. Он хочет, чтобы ты помог ему попасть в центр Земли. Он уверен, что ты можешь это сделать, хотя и не знает как. Я прав?
— Да, — отозвался Пич. — Откуда ты знаешь? Он и к вам подступался?
— Совершенно верно. В яблочко. Но он удрал с корабля, когда ему показалось, что мы начинаем тонуть. Ашблесс хитер. Он никогда не согласится играть вторую скрипку. Он не пытался тебе угрожать?
— Нет, ничего такого. Хотя и выдвигал чертовски убедительные аргументы.
Бэзил Пич замолчал, отдав телефон во власть скрипучих призрачных голосов, которые немедленно принялись обсуждать какие-то потусторонние финансовые дела и внезапно умолкли, словно сообразив, что их подслушивают.
— Он пообещал помочь Гилу освободиться «из-под опеки» — так он выразился, — ровным напряженным голосом произнес Бэзил. — Ты случайно не знаешь, что это означает?
— Знаю, — ответил Уильям.
— Значит, это правда. А я думал, он блефует. Уильям помедлил, прикидывая, как лучше описать положение вещей.
— Нет, он сказал правду. Но дела не так плохи, как ты, может быть, думаешь. Ашблесс…
— Ты не понимаешь, Уильям, у меня есть основания для тревоги. Серьезные основания.
— Вильма только сегодня разговаривала с Гилом по телефону. С ним все в порядке. Мы уже вышли на след Гила и приблизительно знаем, где его искать. Мы собираемся пустить их корабль ко дну, — продолжал врать Уильям. — И пытаемся обойтись без вмешательства властей.
— Ради Бога, — взмолился Бэзил, — не позволяйте никому постороннему впутываться в это дело. Известность убьет Гила. Если он хоть немного похож на меня и так же ненавидит себя, как ненавижу я, то единственное, чего он хочет, это найти в Земле дыру, забраться в нее и спрятаться от всех. Если он не сможет найти ни одной, то сделает такую дыру сам. Имейте это в виду. Вы даже наполовину не понимаете, как все усложнилось.
— Мир внутри Земли, — спросил Уильям, внезапно сменив тему, — он существует?
— Еще как, — таинственно ответил Бэзил. — Но я ужасно волнуюсь, повторяю! Понимаешь, мы с Гилом живем в одной тональности, если можно так выразиться. Я способен чувствовать некоторые излучения. И очень боюсь, что сейчас он желает разрушения этого внутреннего мира так же сильно, как стремится попасть в него. Вот почему появление мертвых зверей на берегу озера так обеспокоило меня. Я вдруг подумал, что животные могут чувствовать то же самое и испытывать те же страхи, что и я.
— Как свиньи и коровы предчувствуют землетрясение, — вставил Уильям. — Они пытаются спастись бегством и несутся вперед, не разбирая дороги. Я написал по этому поводу статью, так вот в ней…
— Ты все правильно понял, — прервал его Бэзил, не желающий слушать пересказ избранных мест статьи. — Как бы там ни было, старине Ашблессу я помочь не смог. Хотя и хотел бы, несмотря на все его домогательства. Дело в том, что я хочу отойти от подобных дел. Здесь у меня сложился свой уклад жизни. Кроме того, я должен заботиться об отце. Он… слабеет — лучше слова не подберешь. И я обязан последовать за ним, как луна следует за солнцем. — Бэзил замолчал, словно обдумывая сказанное.
— Ну что же, — отозвался Уильям, стараясь выдерживать жизнерадостный тон, — постараемся держать тебя в курсе. Не сегодня завтра у нас должны появиться первые результаты. Можешь на нас положиться. Скоро что-нибудь прояснится — к концу недели уж наверняка. Не вешай нос.
В ответ в трубке раздался прощальный щелчок, за которым последовал хор призрачного бормотания, настолько далекого, что разобрать его уже совершенно не представлялось возможным — совершенно как пузырьки крохотных шепотков в бесконечности. Уильям повесил трубку.
Выслушав пересказанный Уильямом разговор, профессор Лазарел страшно разволновался.
— Господи Боже! — воскликнул он, перебив Уильяма. — Мне необходимо взглянуть на этих животных. Наверняка я найду среди них подтверждение одной или двум своим теориям. На озере Виндермеер — кто бы мог подумать! Какое совпадение.
— Обрати внимание, — заметил Эдвард, — здесь опять присутствует соседство одного из Пичей — смекаешь? А теперь подумай — совпадение ли это?
— Ага, — Уильям поднял брови, — все чертовски интересно. Вы не думаете, что Ашблесс решил кинуть и старика Пиньона тоже? Он здорово работает, не держится ничьей стороны — ничего святого.
С улицы сквозь стекло и перестук дождя едва слышно донеслось отдаленное позвякивание колокольчиков: динь-динь-динь, динь-динь-динь — эдакий усталый рождественский перезвон совсем не по сезону. Колокольчики приближались. Эдвард поднялся и подошел к окну — в половине квартала от их дома тарахтел по улице таинственный грузовичок мороженщика, упрямо следующий своим неизменным маршрутом по сырым и холодным лабиринтам пригорода. Выскочив из дома на мостовую и вытащив из бумажника доллар, Эдвард остановился с протянутой рукой.
Махнув банкнотой водителю, он для пущей верности свистнул. Грузовичок, яростно названивая колокольчиками, поравнялся с Эдвардом. На мгновение тому показалось, что машина вот-вот остановится. После этого ему придется купить несколько шариков сливочного мороженого или пломбира в вафельных пачках. Ситуация вообще грозила принять оборот, напоминающий визит к Пен-Сне — ради общего дела Эдварду придется истратить целое состояние на коробку замороженного лакомства.
Но водитель, не обратив на деньги внимания, проехал мимо и, наконец выключив дурацкие колокольчики, свернул на перекрестке к востоку. Эдвард услышал, как грузовичок взревел, наддав газу, вероятно оставив попытки — если только они вообще имели место — продать хоть сколько-нибудь товара. Водителя Эдвард рассмотреть не смог. Но он был уверен, что грузовичок тот же самый, Пиньонов. Он чуял это. Стрелой метнувшись обратно к дому, он просунул голову в дверь и, проорав: «Поехали!» — бросился к обочине, к «Гудзону Осе». Упав на сиденье машины, Эдвард немедленно запустил мотор.
Случилось непредвиденное: когда Уильям, довольный тем, что может наконец выйти за пределы тюрьмы, узником которой он оставался уже несколько недель, выскочил с пальто в руках на крыльцо, из-за угла выше по улице вывернула черная с белым полицейская машина. Мгновенно изменив решение и затормозив, Уильям по инерции чуть не полетел с крыльца кубарем. Еще через секунду, затоптавшись в дверях, профессор Лазарел снова едва не вытолкнул его на лужайку перед домом. Не сбавляя скорости, но и не разгоняясь, полиция медленно подъехала к обочине. В тот миг, когда казенная машина начала тормозить, Эдвард дал газ. Уильяма на крыльце уже не было. Вместо него на ступеньках сидел Джим и с невинным видом читал книгу. Надеясь, что полиция начнет преследование и тем самым даст Уильяму время для бегства, Эдвард быстро покатил вперед.
Но черно-белая машина осталась напротив их дома, вероятно разгадав уловку. Испытывая угрызения совести оттого, что приходится бросать Уильяма в такой трудный момент, Эдвард через квартал свернул за угол, выехал на Стикли-стрит и, набирая скорость, помчался к Колорадо, вслед медленно растворяющемуся в тумане, мороси и потоке машин грузовичку, держащему курс на юг, к Глиндейлу. Чтобы не быть замеченным, в сотне ярдов от рубиновых задних огней на машине мороженщика Эдвард сбросил скорость и поехал следом. На Вердаго грузовичок неожиданно свернул на стоянку «Пауэр Табакко» и «Книжной лавки» — дверца с противоположной от водителя стороны отворилась, из кабины вылез Уильям Ашблесс и, энергично потирая руки, заторопился в «Лавку». Через пять минут он появился снова, уже с пачкой книг, и залез обратно в грузовичок. Дверца за ним захлопнулась, и невидимый водитель взревел мотором. Далее преследование продолжилось по Колорадо, а на Брэнд мороженщик свернул на Кеннет-роуд, откуда через Вестерн попал на Пэтчен, где у дома Фростикоса Ашблесс сошел. Эдвард, не скрываясь, проехал мимо молчаливого бунгало и через десяток футов затормозил. Вдалеке Ашблесс протискивался сквозь кусты можжевельника на задний двор.
— Поезжай до конца улицы и жди меня там, — бросил Эдвард профессору Лазарелу, вылезая под дождь. Через кусты он пробрался тем же путем, что и поэт. Не имея ни малейшего представления о том, для чего он это делает, Эдвард намеревался шпионить до последнего, убежденный, что настало время отплатить за надоедливую вездесущесть белого грузовичка.
Достигнув угла дома, он осторожно выглянул на задний двор, ожидая увидеть там кого угодно: самого Фростикоса, Ашблесса и Пиньона, Ямото и даже легендарного Хан Коя с его обоюдоострыми подручными. На заднем дворе не было ни души; в стене дома черным прямоугольником зияла дверь, ведущая в подвал.
Эдвард подкрался к двери и заглянул внутрь, напряженно прислушиваясь. Внутри царила тишина. По прикидкам Эдварда, другого хода из дома в подвал не должно было быть. Если Ашблесс действительно спустился в подвал, то он либо все еще был там, либо перебрался в подземелья канализации. Пригнувшись и вглядываясь в темноту, Эдвард сошел по ступенькам вниз, в любой момент готовый дать тягу. Никто не набросился на него. Еще через несколько шагов Сент-Ивс убедился, что находится в темном и тихом подвале совершенно один. В углу грудой был свален у стены ковер. Быстро шагнув к ковру, Эдвард поднял его, встав так, чтобы скудный свет, сочащийся через окна и дверь, упал на опускную дверь. Наклонившись, он толкнул и опустил дверь.
Внизу за дверью было темно как в чернильнице. Эдвард прислушался, силясь различить шаги в бетонных тоннелях, но не услышал ничего, кроме далекого кап, кап, кап воды. В подземелье тоже никого не было.
Размышляя над увиденным, Эдвард вернулся в конец Пэтчен, где в «Гудзоне» его дожидался Лазарел. Возможно, Ашблесс вообще не спускался в подвал. Ведь Эдвард этого не видел. Возможно, поэт просто вошел в дом через черный ход, чтобы пропустить стаканчик. И сейчас он, может быть, тихо дремлет там или читает за порцией скотча книгу. Но Эдвард знал, что это не так. Что-то все время неотступно терзало его память. Что-то, связанное с подземельем. Но он никак не мог вспомнить что.
Когда они вернулись домой, никто их не встретил. Джим оставил записку и ушел. В записке Джим дважды попросил дядю опустить шторы-экраны на окнах гостиной, выходящих на задний двор, что Эдварду показалось странным. Решив, что шторы — устройство на роликах с регулируемой высотой подъема, — возможно, сломались от старости, Эдвард исполнил просьбу. Едва он потянул за шнурок, ему на голову упал свернутый в трубку листок бумаги — очередная записка. С самими шторами было все в порядке. Весьма озадаченный, Эдвард стоял у окна и читал записку, когда профессор Лазарел обратил его внимание на странное мигание окон в пустом доме напротив. Свет раз за разом зажигался и погасал через неравные, но повторяющиеся интервалы.
— Это Морзе, — объяснил Лазарел.
— И что передают? — спросил Эдвард, которому так и не хватило терпения выучить язык всех радистов.
— У. Г., — ответил Лазарел.
— Выходит, он спрятался в доме старого Кунца, — заключил Эдвард.
Они вышли на задний двор и заглянули за гараж. Уильямов излюбленный бак для травы был опрокинут и сильно помят ногами. Вся трава и листья, сегодня утром собранные Эдвардом, были выброшены из бака на землю. «На этот раз полиция искала более тщательно», — подумал Эдвард. Возможно, их навела коварная миссис Пембли. Она могла видеть, что Уильям всякий раз после отъезда черно-белой машины выскакивает из бака, точно чертик из табакерки, и сделать надлежащий звонок. Но как бы там ни было, Уильям и на этот раз сумел избежать пленения.
Через час после наступления темноты в окнах дома напротив свет моргнул еще раз, а еще через минуту с той стороны забора замаячила сгорбленная фигура, ухватилась за стебли плюща и перемахнула во двор. Эдвард распахнул дверь — в ту же секунду Уильям ввалился в кухню и, мгновенно затворив за собой дверь, некоторое время внимательно рассматривал дом Пембли, удостоверяясь, что за ним никто не следит.
Глядя сквозь Эдварда, словно тот был прозрачный, Уильям без слов налил себе рюмку портвейна. Под мышкой он держал блокнот на спиральной пружине и свежий номер «Аналога».
— Твой рассказ! — воскликнул Эдвард, протягивая руку за журналом.
Уильям недоуменно моргнул.
— Что? — переспросил он. — Ах, это.
Он поднял локоть и дал журналу и блокноту возможность упасть на пол.
Внезапно Эдвард почувствовал беспокойство.
— Присядь, старина, — предложил он, отодвигая кухонный стул. — Ты, должно быть, проголодался.
Повернувшись к буфету, он нашарил на полке концентрат овощного супа с говядиной, продемонстрировал Уильяму и вопросительно поднял бровь.
— С тобой все в порядке? Джим написал, что на этот раз ты решил не рисковать и прямиком рванул через забор на заднем дворе. Ты снова оставил этих типов с носом. Мы узнали потрясающую вещь. Оказывается, Ашблесс…
— Мне кажется, я все понял.
— Что? — Эдвард наклонился, чтобы поднять с пола журнал, внезапно похолодев от предчувствия новой, только что открытой Уильямом вымышленной угрозы, нового крадущегося к дому в тумане смутного силуэта, призрака, в итоге оборачивающегося реальностью, как это каждый раз бывало раньше. — О чем ты?
— Двигатель, — ответил Уильям, уставившись в голую стену. — Двигатель, при помощи которого наша батисфера сможет передвигаться под водой. Уверен, что я смогу его сделать. Я придумал его, когда перечитывал в «Таймс» статью о левиафане. Я был неправ. Дело тут не вдавлении, которое, высвобождаясь, разнесет нас на куски, дело в антиматерии.
— Неужели? — с облегчением переспросил Эдвард. Помешивая деревянной ложкой вкастрюльке на плите похлебку, на поверхности которой плавали подозрительные оранжевые дольки, он рассматривал обложку журнала Уильяма. — «Межзвездный скиталец», — прочитал он один из заголовков, — «Уильям Гастингс». Это просто здорово, поздравляю! — Эдвард хлопнул в ладоши. — Черт! Нужно позвонить Расселу!
Уильям махнул на него рукой — мол, рассказ ерунда, не стоит беспокоить Лазарела. Глянув в кастрюльку, над которой колдовал Эдвард, он испуганно округлил глаза.
— Спасибо, я это есть не могу, — заявил он, морщась при виде маленьких квадратных оранжевых и зеленых кусочков, плавающих на поверхности. — Я должен все обдумать.
— Ты решил написать новый рассказ?
— Нет, я о двигателе. Мы сможем попасть туда, куда хотим, я уверен. Если только… — внезапно подхватившись, Уильям цапнул с кухонного столика свой блокнот. — Я пройдусь к Питу и перехвачу там пару гамбургеров, — бросил он, кивая в сторону супа. — Утром увидимся.
Захватив со стола недопитую рюмку с портвейном и початую бутылку, Уильям скрылся в своей комнате. Через секунду Эдвард услышал хлопок входной двери. Понюхав суп, он с сожалением вылил его в унитаз, вымыл кастрюлю и подсел к столу, чтобы просмотреть рассказ Уильяма внимательнее. Двадцать первое марта стремительно надвигалось.
Глава 18
Уильям проснулся задолго до рассвета от чувства тревоги. Выбравшись из кровати и взяв курс на ванную, он спросонок налетел на дверной косяк, потом сморщился от слепящего света, ругаясь про себя последними словами и силясь вспомнить причину тревоги. Наконец он вспомнил — виной всему был двигатель. Не что иное, как зов науки поднял его с постели в такую рань. С вечера он собирался поработать в сарае-лабиринте до первого света — не столько из-за сути работы, сколько для того, чтобы укрыться от бдительного ока миссис Пембли, которая по утрам неизменно шастала в халате среди сорной травы в своем садике по несколько часов кряду, притворяясь, что торчит там совсем не для слежки. Если бы можно было безнаказанно задушить старую ведьму или, скажем, хватить ее железной трубой по голове, Уильям с удовольствием сделал бы это, а потом занялся бы своими делами.
Миссис Пембли навряд ли могла питать хоть какой-то интерес к центру Земли, и это раздражало Уильяма больше всего. Их научные потуги были ей до лампочки. Весь внешний облик старухи служил тому очевидным подтверждением. Уильям мог понять рациональные силы, движущие, например, Джоном Пиньоном, или же — пускай родственные черной магии — кровожадные интересы Иларио Фростикоса. Но постичь, что толкнуло в объятия таких людей пожилую миссис Пембли, его разум был не в состоянии. Какую она находит здесь выгоду? Деньги? Маловероятно. Ее ненависть была слишком жгучей и явной. Если бы старуха преследовала корыстные цели, ее интерес к соседям не был бы таким оголтелым. Что означает собачье дерьмо под вязом? Вновь и вновь замечая отвратительные шарики по утрам, Уильям уже не удивлялся. «Дошел до ручки», — сказал он себе, отворачивая кран.
Подняв лицо к зеркалу, он осмотрел себя со всех сторон. Он похудел. Черты лица заострились, скулы выступили резче, во всем появился эдакий дух лихости.
Удали, бесшабашности и готовности ко всему. Нужно подзагореть, а то он становится похож на заключенного, отбывающего пожизненный срок. На узника собственного жилища. Вот такая петрушка. Уильям потряс баллончик с кремом для бритья и нажал на носик, но из сопла не вышло ничего, кроме пфффс сжатого воздуха и нескольких липких плевков жидкого мыла. Размахнувшись, чтобы швырнуть баллончик в раковину, и забыв про узость пространства ванной, Уильям сильно ударился костяшками руки о выложенный плиткой простенок.
Несколько секунд он стоял неподвижно, слушая, как кровь гудит в ушах, страстно желая кого-нибудь убить, раздавить, забить до смерти. Выбросив локоть, он саданул им по двери позади себя, воображая, что там лицо кого-то невероятно ему ненавистного — кто это мог быть, он не успел придумать. Филенка попала точно в нерв, и сокрушительная боль пронзила руку Уильяма, почти парализовав ее. Кривя рот, он в ярости развернулся, готовый ломать и крушить все на своем пути.
Почти тотчас же он взял себя в руки. И вспомнил свой судьбоносный поединок с садовым шлангом — один из тех случаев, в которых он, выиграв сражение, проиграл кампанию. Ему был дан сигнал опасности, предупреждение. Он почти верил, что неодушевленные предметы на свой особый манер разумны. Бывали дни, когда вещи, казалось, сговаривались против него — стулья незаметно выставляли ножки и цепляли его за ноги, мебель размещалась в комнате по собственному усмотрению, карандаши без конца ломались, мало-помалу доводя его до бешенства, ковер специально выгибал спину складками у него под ногами, а высота ступенек поразительно увеличивалась — настолько, что носки ботинок без конца их задевали. Взывать к справедливости в такие дни бывало бесполезно. Возможно, во всем были виноваты ионы, так сказать, изменение преломления космических лучей в атмосфере.
Но никто не знал главного — с непокорными предметами обихода нужно было уметь управляться, причем обязательно. Как и нерадивым слугам, вещам следовало указывать их место, иначе ситуация стремительно ухудшалась. Мир рушился и наступал хаос.
Если он сломает сейчас дверь, то ничего этим не добьется. Он взволнован и кипит от злости. Нужно успокоиться, двигаться осторожно и медленно. Пустив теплую воду, Уильям взбил достаточное количество мыльной пены, потом принялся бриться, очень спокойно и методично, проходя через одно обязательное действие за другим, кивая бритве, потом своему лицу в зеркале, куску мыла, чтобы продемонстрировать свое самообладание. Бритье закончилось как нельзя лучше. Однако в торце тюбика зубной пасты оказалась трещина; воспользовавшись ею, содержимое выползло наружу, скручиваясь маленькой резиновой змейкой, и испачкало Уильяму пальцы. Зато из носика тюбика вообще ничего не появилось. Уильям осторожно положил тюбик на кафельный уступ, прицелился и ударил по несносному предмету ребром ладони. Струя зубной пасты выстрелила из тюбика на плитки. Взяв в руку зубную щетку и с огромным трудом избавив ее щетинки от впутавшегося в них неизменного волоса, Уильям зачерпнул добытую пасту и тщательно, не обращая внимания на время, вычистил зуб за зубом. Промыв щетку, набрал в рот воды и открыл дверцу шкафчика-аптечки прямо себе в бровь.
Несколько секунд он просто не мог дышать. Грудь ему сдавило от ярости и неверия. Распахнутый зев аптечки передразнивал его собственный разинутый рот, силящийся произнести уже подступающие к горлу ругательства.
— Черт возьми! — заорал Уильям, забыв, что весь остальной дом спит. Захлопнув дверцу шкафчика, он набросился на тюбик и принялся терзать его, в конце концов скомкав виновника в плотный комок. Снова расправив комок, задыхаясь, рыча и пачкая руки пастой, он крутил и тянул в стороны концы тюбика до тех пор, пока тот не разорвался практически надвое. Смятые половинки тюбика, которые скреплял теперь только тонкий краевой шов, Уильям злобно швырнул в раковину.
Первым, что он заметил после этого, был серый свет, пробивающийся с улицы сквозь щель между занавесками оконца ванной. Так вот на что был направлен заговор — у него пытались отнять время. И преуспели. Вид останков тюбика в раковине приносил мало облегчения. Он не умел держать себя в руках — вот в чем штука. Психиатры были правы от начала до конца. Доставая из раковины побежденный тюбик и смывая с рук зубную пасту, Уильям взвешивал все за и против того, чтобы прикрепить его к стене кнопкой в качестве трофея в необъявленной войне. Но Эдварду это не понравится — он начнет закатывать глаза. Ничего он этим не добьется. Какие бы иррациональные силы ни вселялись в неодушевленные предметы, сейчас они ушли. Уильям явственно это чувствовал. Он торопливо оделся, набил на кухне бумажный пакет едой и выскользнул через черный ход на задний двор, по пути к сараю-лабиринту выбросив останки тюбика в заросли плюща у забора. Пройдя в отделение с аквариумами, он проверил и приоткрыл вторую дверь, которую снаружи можно было заметить, только остановившись в пяти или шести ярдах от заднего забора, а с большей части двора вообще не было видно. Сразу за этой дверью стоял старый широкий пень около двух футов высотой, расположенный с таким расчетом, чтобы, выскочив в случае опасности через вторую дверь из сарая и встав на пень, Уильям смог бы легко перебраться через забор во двор соседнего брошенного дома. Оттуда в случае продолжения погони он мог без особого труда выбраться на улицу к ближайшему канализационному люку, за которым лежала свобода.
Прокручивая в голове план бегства, он раскурил трубку и поставил на плитку кофейник. Дожидаясь, пока кофе остынет, он жевал вчерашний пончик с глазурью и курил, размышляя по поводу открытия Т. Г. Иеронимуса, а именно созданной им машины Иеронимуса, высмеянной недальновидными представителями официальной науки. Но камень, отвергнутый строителями, думал Уильям, был краеугольным. В этом утверждении заключалась глубочайшая истина. А машина была толковой и даже более того — если подходить к ней без предубеждения. Взять тех же френологов, столь долго служивших предметом издевательств для психиатров при рассуждении на темы психиатрии век назад и вдруг одним махом получивших невиданную поддержку после открытий Джонса и Буссака, которые прочно ввели в повседневный лексикон своего «человека прибрежного неловкого». Три следующих часа Уильям усиленно ломал голову, пытаясь придумать способ связи, хотя бы теоретически, между машиной Иеронимуса и приводом Дина.
Он набросал в общих чертах сечения слегка модифицированной коробки Иеронимуса с укрепленным на ее вершине металлическим диском с электросхемой внутри. Коробка, по мнению Иеронимуса, заработает даже в том случае, если схема внутри диска будет просто нарисована. Суть сводилась к проецированию, а вовсе не к электричеству. Человек должен был тереть диск по кругу и по возникающему сопротивлению судить о состоянии своего здоровья. Дальше этого Иеронимус не пошел. В своем роде он был пуристом, зашоренным сторонником точных приборов и определений, невероятно аккуратным, но лишенным зачатков воображения, чувства мистического. Дополнив машину Иеронимуса мандалой, желательно изготовленной из меди, возможно было получить устройство, отчасти напоминающее символические «вечные двигатели» типа молельных индийских колес.
Если такой аппарат можно создать и найдется способ соединить его с приводом Дина, преобразующим вращательное движение в поступательное, то их батисфера сможет плыть под водой. Энергию, необходимую для работы, машина будет получать фактически из ничего. По сути дела, не было причин сомневаться в том, что чудесное устройство сможет также вырабатывать из морской воды кислород, одновременно действуя как оксигенератор и преобразуя атомы водорода в топливо, — так сказать, вечный двигатель с двойной функцией. Мысленно Уильям уже представлял себе основные его черты. Подобный двигатель был вполне реален. Ему не хватает только одного — получить консультацию у Гила Пича! Эх, если бы Эдвард не потерял Ашблесса в канализации…
Машина Иеронимуса может стать ядром отличного рассказа, гораздо более обоснованного, чем «релятивистский», по крайней мере с научной точки зрения. Этот рассказ с руками оторвут в любом журнале. Машина Иеронимуса приведет в движение звездолет — в таком случае ее лучше будет укрепить на корпусе снаружи, с тем, чтобы полнее использовать энергию солнечных лучей. Он уже видит астронавта, седого и бородатого после многовековых странствий на световой скорости меж неизведанных галактик, и истончившийся от неустанного трения диск, от коего в пространство разлетаются волшебные искры. Устройство можно бы снабдить могучим языком, приводимым в движение храповиком, после чего оно заговорит, застонет, снова и снова взывая со своими неумолимыми вопросами к звездным далям. Уильям очень явственно представлял себе это. Иллюстрации к его рассказу впитают в себя смесь мистицизма и науки — мчащийся по небу с булавочными проколами звезд корабль с ротором, приводимым во вращение машиной Иеронимуса, чем-то схожей с вращающимися со всех сторон созвездиями. Тут же и Господь Бог — а почему бы и нет? — выглядывает из-за облаков, приложив ладони рупором ко рту и выкрикивает кристально-ясные ответы на неумолимые вопросы.
Усилием воли Уильям заставил себя вернуться к чертежам. Если Земля в ближайшую неделю не развалится на части, потом у него найдется достаточно времени для литературных услад. Сейчас не музы, а машина была первой необходимостью. Уильям поднял голову и принялся рассматривать мышей, суетящихся в клетке прямо перед ним, потом повернулся к выводку, который с самого начала соседствовал с аксолотлем. Обрывки распашонки сохранились только на одной из мышей. Но в конце концов это была не их вина, а его. Не стоило ожидать, что зачатки цивилизации привьются грызунам за один день. С ними нужно было работать.
«Насколько мала может быть такая машина?» — внезапно подумал он. Если совместить идеи антигравитации Гила с принципами устройства Иеронимуса, то, снабдив ею, скажем, мышь, вероятно, можно получить очень интересные результаты. Такова уж природа науки — одна идея цепляется за другую, и их цепочка уходит в бесконечность; эти связи обязательно будут рваться, но бестрепетные пионеры, топающие в своих жестяных башмаках к восходящему солнцу, всякий раз будут их выковывать заново.
Дверь сарая открылась, и в нее заглянул Джим.
— Почему ты не в школе? — спросил сына Уильям, бросая взгляд на часы.
— Сегодня суббота. — Уильям кивнул.
— Да, верно. А где дядя Эдвард — все еще спит?
— Нет, — отозвался Джим, — поехал в Гавиоту вместе с профессором Лазарелом — они собираются поработать с батисферой.
— Напрасная трата времени. Без Гила все равно ничего не получится. Боюсь, Джим, твой друг здесь — решающий фактор.
Джим кивнул. По всему так и выходило. После погони за грузовичком мороженщика дядя Эдвард мучился — ему не давала покоя какая-то важная мысль, которую он никак не мог ухватить за хвост. Все это время он не находил себе места.
Уильям тоже ощущал нечто подобное, ему не давало покоя нечто, связанное с исчезновением Ашблесса в канализационном подземелье, причем Эдвард каким-то боком тоже был в этом замешан. Он принялся шаг за шагом вспоминать события их последней операции, похищения Гила. Представил себе объемистый зад профессора Лазарела, выбирающегося через люк на дневной свет, и отчетливо услышал крики удивленных детишек. Уильям хорошо помнил выражение лица Эдварда, когда он откинул ковер и перед ними предстал подвал с круглым бассейном посередине, помнил их поспешное бегство обратно в подземелье от улюлюкающей за окнами толпы: уходящая в бесконечность темнота тоннеля, три железные скобы в бетонной стене под опускной дверью — три точно такие же скобы на противоположной стороне тоннеля, под другой, второй опускной дверью. Уильям потрясенно замер и несколько секунд сидел без движения, не в силах думать из страха перед тем, что возникшая у него столь внезапно уверенность может так же внезапно исчезнуть. Но все осталось на своих местах. Вот оно — то самое, что не давало покоя и Эдварду, — вторая дверь в противоположной стене тоннеля, о которой они в пылу бегства просто забыли. Эта дверь объясняла таинственное исчезновение Ашблесса. Теперь сомнений в этом не было. И если только Уильям не совсем выжил из ума, эта дверь объясняла и многое другое.
Тоннель по спирали уходил в темную и тихую глубину. Заливая стены густым желтым сиянием, лучи фонарей их шахтерских шлемов освещали дорогу. Уильям захватил с собой мощный фонарь, добытый еще в лечебнице, и в самых темных и извилистых местах включал и его, для верности. Укрепленный на каменной стене железный поручень, начавшийся сразу за второй опускной дверью, через несколько сотен футов вдруг пропал, но потом появился снова, уже совершенно заржавленный и покрытый отслаивающимися под руками коричневыми чешуйками.
На какую глубину они спустились под землю, сказать было невозможно. Из-за темноты и тишины Уильяму казалось, что они находятся здесь уже несколько часов. Неожиданно тоннель открылся в грот, такой огромный, что даже луч мощного фонаря не мог осветить его дальние стены. Дорожка сузилась, ее левая сторона обрывалась в пустоту, а еще через несколько шагов под ногами появились ступеньки, вырубленные прямо в камне утеса. Откуда-то снизу доносился несомненный плеск воды — но не шум течения подземной реки, а шелест мелких волн о каменистый берег.
Уильям начал осторожно спускаться по ступенькам. В снах ему не раз приходилось оказываться в таком положении — ступив на крутой склон, он делал несколько шагов, поскальзывался, несколько мучительных мгновений пытался восстановить равновесие, уже зная, что все пропало, после чего летел в бездну. Вспомнив об этом, он покрылся холодным потом. Единственное, что позволяло ему сейчас держать себя в руках, было присутствие Джима. В своих снах он всегда был один.
Пахло туманом и затхлостью, стоячей морской водой, гниющими водорослями подземных морей капитана Фрэнка Пен-Сне. Неожиданный всплеск в темноте внизу неподалеку заставил Уильяма прижаться спиной к стене.
— Выключи фонарь, — прошипел он Джиму. Повторять приказ не пришлось — вокруг мгновенно стало темно. Они стояли тихо, едва дыша, напрягая слух и пытаясь уловить хоть какие-то звуки.
Наконец Уильяму показалось, что он различает тихий плеск весел и приглушенное поскрипывание обмотанных кожей уключин. Но вместо того чтобы усиливаться, звуки ослабевали. Послышался стук дерева о дерево, скрип дерева о камень и приглушенная ругань. Из-за огромного скального выступа, до той поры почти неотличимого от окружающей тьмы, как по волшебству показался нос небольшой весельной лодки.
На носу лодки был укреплен тонкий изогнутый бамбуковый шест с лампой на самом конце — лампа тихо раскачивалась из стороны в сторону, отбрасывая пляшущие и мигающие тусклые блики на маслянистую поверхность спокойной воды. Гребец в лодке, человек в шляпе и пальто, был один. Его цель не вызывала сомнений.
Уильям не без удивления обнаружил, что вокруг вовсе не так уж темно, как сперва казалось. Откуда-то издалека — невозможно было сказать точно откуда — сочилось рассеянное сияние, похожее на свечение бесчисленных светлячков, вполне возможно фонариков самих обитателей подземелий. Вместе с Джимом он бесшумно спустился по оставшимся сотням ярдов лестницы к берегу — примерно тогда же лодка скрылась за следующим скальным выступом. С берега, от воды плеск весел различался отчетливо. Через миг лодка должна была появиться снова, после чего фонарь на ее носу осветит полумесяц прибрежного песка и их, застывших у самой воды.
Включив фонарик, Уильям секунд десять лихорадочно шарил лучом по возносящемуся вверх гранитному утесу и песчаному берегу и наконец с облегчением обнаружил несколько взгроможденных друг на друга уходящих чередой в воду валунов. Не успел первый предвещающий появление лодки луч света от лампы на бамбуковом шесте упасть на берег, как они уже сидели, скорчившись в три погибели, за валунами, силясь разглядеть гребца, который табанил веслами и причаливал свою скорлупку, мурлыча мотив без слов себе под нос.
Теперь лодку было видно полностью — человек в пальто вытянул ее на песчаный берег. Лампа на шесте скакала вверх-вниз, обдавая волнами света то стены крутого утеса, то фигуру и лицо гребца, то снова погружая все это во мрак. Человек из лодки повернулся и исчез в тени, потом снова на мгновение выступил на свет. Это был Уильям Ашблесс — он только что вернулся из плавания по подземному морю.
Еще не видев лица гребца, Уильям почти не сомневался в том, кто это. Первым его порывом было окликнуть старого поэта, оказаться с ним лицом к лицу, выругать за двурушничество, за его закулисную игру, но потом у Уильяма появилась мысль получше. Отсюда Ашблесс мог уйти только в одном направлении — наверх. Наружу он выберется через подвал дома Фростикоса — это тоже было понятно. Там, откуда Ашблесс только что приплыл, он был частым гостем. Они дождутся, пока поэт уйдет, и украдут его лодку. Человек на берегу потушил лампу, вытащил из кармана пальто фонарик и принялся медленно, с трудом преодолевать каменные ступеньки.
Через десять минут — достаточное время для того, чтобы свет фонаря Ашблесса исчез и вокруг воцарилась тишина, нарушаемая только плеском подземного моря, — Джим и его отец уже отчалили в позаимствованной лодке от берега. Они не решились зажечь лампу на шесте и плыли в темноте, а чтобы вовремя замечать выступающие подводные камни, Джим расположился на носу. Довольно скоро днище лодки наткнулось на первый риф, раздался пугающий глухой стук, лодка резко остановилась и накренилась, но Уильям успел вовремя столкнуть ее веслом.
Озеро перешло в просторное море с тысячами каменистых фиордов, уводящих во всех направлениях, возможно образованных устьем реки, текущей с востока на запад под Бербанком и Голливудом, под разукрашенными на все лады супермаркетами, где случайные покупатели поругивали заедающие колесики своих тележек и слишком тяжелые пучки салата-латука. Раз за разом их лодка упиралась в каменные стены и меняла курс, словно поверхность моря здесь была переплетением разнонаправленных течений или словно они шли навстречу поднимающемуся приливу в сторону чистой воды. Время от времени Уильям замечал через плечо медленно разгорающееся далекое зарево, которое однажды, когда они огибали кинжально-острый каменный мыс, появилось и погасло впереди, как будто кто-то на расстоянии броска камня от них мигнул карманным фонариком, после чего свет горел только ровно — будто где-то на острове среди темного моря разожгли костер.
Через минуту лодка углубилась в лабиринт наполовину скрытых водой скальных выступов и рифов, где ее днище застучало и заскребло по камням — в течение некоторого времени отец с сыном были уверены, что купания в чернильно-черной воде не избежать. Джим включил большой фонарь и прикрыл его раструб ладонью. К сожалению, подводные камни он замечал всегда только за мгновение до того, как лодка врезалась в них, и предупредить не успевал. Столкновения были не слишком сильными и причинить вреда лодке не могли, но Джима то и дело бросало вперед, а после одного из таких бросков, пытаясь удержаться за борт, он уронил фонарь в воду.
Фонарь начал тонуть раструбом вниз, медленно вращаясь по спирали — воздух в цилиндре снижал скорость погружения. Каким-то чудом фонарь продолжал гореть, пронизывая лучом на удивление чистую воду, и наконец достиг каменистого дна, ненадолго высветив на рифе обломанные мачты и остатки такелажа, лежащего на боку затонувшего корабля. В видном с лодки борту судна зияла дыра с рваными краями, окаймленная острыми деревянными щепками, похожими на акульи зубы. В луче проскользнула стайка спасающихся бегством от света рыбешек, после чего из темной дыры в борту вверх уставились светящиеся глаза навыкате, глаза обитающей в пещере рыбы, но живущие на человеческом лице, безволосом, таинственном, к которому присоединилась появившаяся рядом еще одна такая же жуткая физиономия, так же безотрывно уставившаяся вверх. В конце концов фонарь погас, и подводный мир погрузился в кромешную тьму.
Уильям продолжал молча грести, не спеша, но неуклонно держа курс к свету, который мог обещать хоть какое-то подобие цивилизации. Фонарей на шлемах они не зажигали, рассчитывая, что судьба смилостивится над ними и не отправит их на дно этого моря к его удивительным обитателям. Внезапно под днищем лодки замелькало дно. Почти в полной темноте обогнув очередной скальный выступ, они наконец увидели прямо перед собой на расстоянии не более двух сотен ярдов большой, плохо различимый остров, края которого исчезали в темноте.
Несколькими сильными гребками Уильям вернул лодку в тень, потом медленно и осторожно стал подаваться вперед, держась в тени гранитного возвышения и ярд за ярдом опасливо выдвигаясь из-за него. У берега острова около причала стояли три большие лодки, похожие на китайские джонки, но с четырьмя веслами по каждому борту. Джонки с большими рулями на резко поднятой вверх корме сидели в воде очень низко. На носу каждой лодки, едва различимые в тусклом сиянии подземной пещеры, виднелись нарисованные в стиле восточного орнамента изображения золотых рыбок, словно джонки состояли в чьей-то частной флотилии. Две крайние лодки стояли темные и безлюдные. Каюта третьей, средней, была освещена — в иллюминаторе была хорошо видна масляная лампа.
На острове, вознося к тьме сводов ровные конусы оранжевого огня, пылали костры. Довольно далеко, за неровным пламенем островных костров, во мраке мигали несколько дюжин крохотных огоньков, похожих на глаза ночных животных в густом лесу или на звезды на облачном небе.
Остров с первого же взгляда показался Уильяму странным, почти по-арктически пустынным, но он быстро понял, что в таком лишенном света мире ни о какой растительности речи быть не может. Около ближайшей полоски прибрежного песка, взбираясь по склону холма, буграми возвышались несколько палаток. Далее, примерно четвертью мили дальше по каменистому пляжу, начиналось странное трущобное поселение из утлых домишек, слепленных из остатков кораблей, обломков мачт, перевязанных обрывками такелажа, и тому подобного, а также из всевозможного хлама, натасканного сюда из дебрей канализационных лабиринтов. Калейдоскопический кавардак теснящихся лачуг, словно опиравшихся друг на друга, казалось, кривлялся и танцевал в мечущемся свете костра, горевшего прямо над ними на холме. Нигде не было видно ни души — ни на лодках, ни на острове, отчего Уильяму, пораженно созерцающему эту невероятную картину, подумалось, что, с точки зрения обитателей подземелий, разница между днем и ночью может носить весьма формальный характер, чисто практический. Кто бы ни жил на этом острове — пираты ли или торговцы опиумом, — сейчас они спали. И, уж конечно, не ожидали, что на лодке Ашблесса к их острову приплывут незнакомцы.
Справа от лодки не было видно ничего, кроме очередных отвесных скал, упирающихся вершинами в ничто, да пятнистых утесов, исчезающих в искусственных сумерках. Уильям медленно и по возможности бесшумно принялся грести мимо их подножий, стараясь держаться чуть в стороне от мелководья и направляясь к точке за пределами круга света костра над трущобным поселком, туда, где они смогли бы высадиться на берег незамеченными, а после, перебегая из тени в тень, заняться поисками Гила Пича. В том, что они найдут его здесь, Уильям не сомневался ни секунды. Все указывало на это: подвал Фростикоса, присутствие Уильяма Ашблесса, журнал капитана Пен-Сне, по намекам которого становилось ясно, что Бэзил Пич знал о существовании подземного моря уже давно.
Кроме того, было еще кое-что. Что-то носилось в воздухе, дух некоего необычайного таинства, волшебства, уверенность в том, что с каждым новым взмахом весел они приближаются к разгадке какой-то мрачной и невообразимой тайны. И Джим и Уильям почти ощущали вкус этой тайны в неподвижном воздухе подземелья — туманную вязь чего-то близящегося, подстерегающего.
Еще через двадцать минут лодка ткнулась носом в темный прибрежный песок. Уильям и Джим поспешно вытянули ее и укрыли за скалой. Уильям на миг пожалел, что у него нет с собой большого фонаря — не для того, чтобы освещать дорогу, а чтобы в случае нужды вышибить из кого-нибудь дух. Кроме неограниченного количества пригодных для бросания камней и пары длинных весел, у них не было никакого оружия, если не считать очень острого, но слишком короткого перочинного ножа Уильяма. Придется прятаться. Если они будут осторожны и разумны, то, возможно, одержат победу. Если Гил здесь — а Уильям был уверен в этом, — они освободят его и доставят домой живым и здоровым… по крайней мере попытаются.
Уильям с удивлением обнаружил, что возможность новой встречи с доктором Иларио Фростикосом не вселяет в него теперь привычный ужас. С мрачным удовлетворением улыбнувшись этой мысли, он через секунду похолодел, представив в когтях доктора Джима. Вздрогнув, он усилием воли отогнал от себя эту картину. Как бы там ни было, если машина Пиньона с Гилом за штурвалом отправится в свой поход, за будущее Земли он не даст и ломаного гроша.
Двигаясь от одной груды камней к другой, они медленно приблизились к свету, различая вокруг все новые и новые подробности, и остановились, наконец, на расстоянии пятидесяти футов от крайней хижины. Ни движения, ни звука в странном поселке. Густое белое облачко дыма, паря в неподвижном спертом воздухе наподобие материализующегося джинна, выплыло из незастекленного окна ближней хижины; одновременно с этим в комнате за окном несколько раз разгорелся и снова погас в чашечке трубки уголек. Намерение вламываться в поисках Гила в хижины и палатки показалось Уильяму скорее глупым, чем бессмысленным. На месте Фростикоса он держал бы Гила на борту одной из лодок, с тем чтобы немедленно отчалить при первых же признаках опасности; однако следовало иметь в виду, что здесь, вдали от обычного мира, все опасности могли казаться далекими и маловероятными.
Словно поднявшись с тех страниц книги капитана Пен-Сне, где он повествовал о торговцах опиумом, в глубине хижины в клубах дыма вяло зашевелилась темная фигура, а еще через секунду к первой фигуре присоединилась вторая — ни тот, ни другой курильщик не заметили крадущиеся по берегу тени, однако само их соседство было опасным. Маловероятно, чтобы Гил в своем нежном возрасте успел пристраститься к зелью, но тем не менее вполне можно было предположить, что с Фростикоса станется толкать его на эту дорожку. Сейчас в хижине, по всей видимости, предавались своему пороку подручные Хан Коя.
Нужно попробовать пробраться к джонкам, решил про себя Уильям. Они с Джимом по широкому кругу обогнули почти догоревший костер. Вся система пещер наверняка должна была сообщаться с океаном — выход находился скорее всего среди многочисленных, похожих на срезанные соты причалов или консервных заводиков, составляющих большую часть старой Венеции, куда, кстати, и унесли таинственный герметичный металлический сундук; об этом свидетельствовало многое, например топливо костра — серый плавник без сучьев; разбитая покосившаяся каюта старой рыбацкой лодки; остатки древней выцветшей под дождями мебели: перевернутая половинка раздвижного обеденного стола, старый мягкий стул, от которого остался один скелет-рама с торчащими в разные стороны спиралями ржавых пружин. Все это, само собой, не могло проникнуть сюда сквозь тоннели канализации и через коридор с каменными ступенями.
Причал, сколоченный кое-как, на скорую руку, из всевозможных деревянных остатков, избежавших костра, издевательски кривился над водой и на самом конце обламывался и рушился в воду, словно перепивший и валящийся с ног гуляка. Каждая третья или четвертая доска этого причала была разбита, или висела на одном гвозде, или давно уже упала в воду и уплыла в море, была утащена на дно водяными обитателями на подпорки для собственных подводных лачуг. Как и раньше, была ярко освещена только каюта средней джонки. Однако теперь Уильям видел, что в каюте первой лодки тоже теплится свет, очень тусклый и оранжевый. Достав из кармана перочинный нож, он раскрыл его, попробовал тонкое лезвие большим пальцем и, махнув рукой Джиму, осторожно выступил вперед, в любую секунду готовый спрыгнуть в привязанную к борту джонки весельную лодку, перерезать канат и грести от звуков погони в темноту. Если за ним попытаются гнаться, он будет бороться до последнего — теперь он не дрогнет. Он стал скользким как угорь — как выразился бы профессор Лазарел. Недругам за ним не угнаться, он их обставит в два счета. Нужно только добраться до лодки, а уж у ступенек каменной лестницы он окажется первым — джонке с ним не тягаться. К тому времени, как Фростикосу, или кто здесь за главного, удастся вытащить из хижин и усадить на весла обкурившихся опиума гребцов, он уже одолеет половину пути. А если действовать с умом и осмотрительно, так, может быть, до этого и не дойдет.
Первая джонка неподвижно стояла на воде, привязанная к причалу за корму и нос. При ближайшем рассмотрении лодка оказалась богато и причудливо разукрашенной — по краю вдоль всей кормы и дальше к носу шла полоса из множества одинаковых выгнутых дугой золотых рыбок; каждая держала за хвост товарку, и так без конца вдоль низкой палубы по обоим бортам. На наклонной бамбуковой мачте косо висел квадратный парус, тоже изукрашенный и тоже рыбками, но на этот раз трехцветным коем, выгнутым в середке, с невероятно пышными и развевающимися плавниками и хвостом, приподнятыми кверху, словно буйки, поднимающие рыбку к поверхности неподвижной воды отсутствующего аквариума.
Внезапно Уильяма осенило, что было бы здорово повесить этот парус на стене в гостиной. Возможно, если все сложится благополучно и если он окажется тем же ловким и быстрым Уильямом Гастингсом, который сумел выскользнуть из вражеских когтей в лабиринтах канализации, он срежет парус, обмотает вокруг рей и унесет с собой. Он появится посреди Стикли-стрит вслед за Гилом Пичем с парусом под мышкой. У Эдварда глаза на лоб полезут. Прямо перед Уильямом горел слабым желтым светом иллюминатор каюты. Еще одно окно, куда можно заглянуть. Подглядывание в окна вызывало в нем странный восторг, ощущение мгновенной, сметающей все удали, дрожь любопытства перед тем, что могло ждать с той стороны, сопровождающуюся настоятельным желанием закричать и броситься на окно, превратив находящееся по ту сторону существо в нечто жалобно лепечущее и от ужаса бессильное что-либо предпринять, теряющее рассудок от неожиданного крушения внешнего мира.
То, что Уильям увидел в иллюминаторе, заставило его забыть о всяких выходках. Огромный аквариум, возможно на тысячу галлонов, тянулся вдоль стены — был стеной — каюты, обставленной мебелью из резного палисандра. Над покрытой стеклом поверхностью воды горели лампы — их затеняли непроницаемые медные колпаки, отражающие свет вниз, в воду, в перевитые водорослями глубины аквариума, полные пляшущих пятен света и тени. С песчаного дна поднимались струйки быстрых пузырьков, создавая на поверхности рябь; они рождались из бесцветных трубок, змеящихся во все стороны от черного резинового мешка размером с небольшой матрац. Старик, невероятно тощий, с седыми шелковистыми волосами, сидел перед аквариумом и пристально рассматривал его обитателей, словно гипнотизируя их. Старик, азиат, возможно китаец, был облачен в шелковый халат. В мочке его уха болталась серьга в форме золотой рыбки; голова была повернута в профиль, и другого уха не было видно. Трубка для курения опиума, коробок толстых кухонных спичек, бронзовая пепельница и прочее были в беспорядке разбросаны на крышке металлического сундука, стоящего на полу рядом с креслом старика, — сундук был стянут двумя позеленевшими медными поясками, усыпанными изумрудными рыбками. В аквариуме, прямо перед лицом китайца, словно разыскивая на дне какую-то оброненную в пузырящуюся воду вещь — драгоценный камень, выпавший из сломанной оправы кольца, может быть, или ключ от запертого дома, — медленно плавало с полдюжины удивительных рыб.
Глаза рыб напоминали зеленое стекло. Что-то необычное было в выражении этих глаз. Смесь печали и ужаса, вовсе неуместная у созданий природы. Ощущая, как горло сжимает внутренняя спазма, Уильям заметил у одной из рыбок — нет, у всех рыбок — вместо плавников поразительные кожистые придатки, пальцы, ровно по пять на конце каждого грудного плавника, а над зубастыми ртами рыб — отчетливо различимые бугорки носов. Не дурацких горбатых носов-хоботков рыб-нюхачей и не плоских поросячьих, как у рыбы-шара, а вполне человеческих — определенно, то были рудиментарные носы и пальцы, которые превращали этих существ из рыб в легендарных, невероятных отпрысков Реджинальда Пича. Старик же перед аквариумом был сам Хан Кой.
Глава 19
Уильям снова махнул рукой Джиму, сделал несколько шагов вперед и двумя ударами ножика перерезал концы, удерживающие джонку у причала. Под напором тихого течения нос джонки принялся медленно отворачивать от острова — лодка поплыла в море. Если все пройдет благополучно, то Хан Коя вместе с его странным зверинцем прибьет к скалам на противоположном берегу пещерного моря, прежде чем он очухается и поймет, что отправился в плавание. Уильям и Джим двинулись ко второй лодке.
В каюте этой джонки находился Гил Пич. Вот так просто. Он был там один, и никто его не стерег Уильяму, который это почему-то предчувствовал, подобное не показалось странным. Увести Гила с лодки теперь не составит особого труда, но вместе с тем отсутствие охраны явно свидетельствовало о том, что он находится здесь, по крайней мере отчасти, по своей воле. Сидя в деревянном кресле, Гил читал журнал. Вокруг него по полу было разбросано множество книг. Уильям узнал бумажные обложки нескольких томиков из цикла «Пеллюсидар» Берроуза, а также «Путешествие к центру Земли», выпущенное издательством «Херитэдж Пресс». Однако затем внимание Уильяма приковала к себе обложка журнала, который держал в руках Гил — это был последний номер «Аналога», его, Уильямова, «Аналога». Приблизив журнал к лицу на расстояние двух или трех дюймов, скорее по причине крайней заинтересованности, нежели близорукости, Гил увлеченно пожирал глазами текст, то и дело что-то помечая карандашом на полях журнала и на бумажном носовом платке, верхнем в пачке, лежащей тут же, на письменном столе.
Гил не особенно изменился — ничего ужасного. Каких перемен он в нем искал, Уильям и сам не знал. Возможно, он с ужасом ожидал увидеть вместо Гила существо вроде обитателя герметичного сундука, узнать, что Гил разделил судьбу Реджинальда Пича, стараниями доктора Фростикоса и Хан Коя или без них. Но никаких бросающихся в глаза перемен во внешности Гила не было — и только какое-то неясное предчувствие, особое пронизывающее воздух электричество намекало на определенное, имеющее более переносный, чем буквальный смысл, сродство между Гилом и меланхолическими обитателями аквариума Хан Коя.
Тихонько стукнув костяшками пальцев по ободу иллюминатора, Уильям шепотом позвал Гила. Тот дернулся, как от удара током, быстро закрыл и положил на подлокотник кресла журнал и испуганно завертел головой. Его расширившиеся от страха глаза в первую очередь уставились на дверь, по-видимому в ожидании чьего-то появления — кого-то знакомого Гилу, подумал Уильям. Он стукнул еще раз. Гил снова дернулся и резко обернулся, схватил лампу, при свете которой читал, направил ее на иллюминатор, и, как только он увидел там в темноте Уильяма и Джима, испуг на его лице сменился удивлением.
Гил вскочил на ноги и снова оглянулся на дверь. В течение нескольких секунд было непонятно, что он сделает: закричит, бросится бежать или забаррикадируется. После недолгого замешательства он снова тихо опустился в свое кресло и застыл, словно под влиянием какого-то дурмана. Уильяму показалось, что в глазах Гила и в изгибе его губ появился намек на слабый проблеск надежды — он был почти уверен в этом.
— Есть еще кто-нибудь на борту? — прошептал Уильям.
Гил отрицательно помотал головой.
Несколько мгновений Уильям думал о том, стоит или нет перерезать швартовы третьей джонки, внутри которой, судя по темной каюте, никого не было. Он решил этого не делать. Теперь, когда они нашли Гила, следовало действовать без проволочек. Опасливо оглядываясь, в сторону костров из плавника на холме, они с Джимом перебрались друг за дружкой на борт джонки Гила, стараясь производить как можно меньше шума.
Джонка Хан Коя отплыла от берега на тринадцать ярдов и остановилась. Внезапно Уильям пожалел о том, что так необдуманно отправил ее в плавание. Останься джонка у причала, им, возможно, удалось бы уйти незамеченными, даже если бы старик-китаец решил размяться и прогуляться по берегу. Теперь же стоит Хан Кою высунуть нос наружу… Уильям и Джим торопливо нырнули в каюту.
Джим молча кивнул Гилу, словно не зная, с чего начать. Гил кивнул в ответ и растерянно улыбнулся, возможно, смущенный тем, что встреча происходит при таких необычных обстоятельствах.
— Давненько не виделись, — приветствовал Гила Уильям. — Как дела?
Гил пожал плечами.
— Мама беспокоится.
Гил с виноватым видом повторил жест.
— По-прежнему изобретаешь?
Гил кивнул. Уильям подошел к иллюминатору, выходящему на причал, закрыл его и опустил на нем шторку. Время уходит. Почему они медлят? Уильям заметил на полу среди прочих книг «Азбуку релятивистской механики».
— Интересуешься релятивистикой? — спросил он Гила. — И каково твое мнение по этому поводу?
— На последней встрече ньютонианцев я услышал, как мистер Сквайрс рекомендовал вам эту книгу. Я решил ее прочитать, вот и купил. Книга неплохая, но только в ней не все правильно.
— В самом деле? — удивился Уильям. — И что же в ней не так?
— Кое-что. Я построил антигравитационный двигатель — вы, наверное, знаете об этом, — который работает по принципу небесных течений. Идея пришла мне в голову, когда я читал эту книгу. Я рассчитывал приспособить его к велосипеду и подарить мистеру Сквайрсу, у которого как раз в тот вечер сломалась машина, но вышло так, что… — Гил умолк.
Уильям, который напряженно прислушивался к звукам снаружи и все время ожидал появления врага, не мог допустить заминок.
— Ты читал мой релятивистский рассказ в «Аналоге»? — Уильям кивнул в сторону журнала.
— Да, сэр, — отозвался Гил, мгновенно просияв. — Рассказ очень впечатляет. И весьма убедительно написан. По-моему, люди только-только начинают по-настоящему понимать физику. Ваш рассказ представил многие вещи совершенно в новом свете. Примерно по той же самой причине я согласился строить для мистера Пиньона землеройную машину. Я уверен, что добраться до центра Земли вполне возможно. Только представьте себе, что мы там можем найти… — Гил снова замолчал, очевидно, задумавшись о том, что же все-таки можно найти в земном ядре.
— Потому мы к тебе и пришли, — энергично подхватил Уильям, оглядываясь на Джима — тот согласно кивнул. — Мне кажется, твой способ использования антиматерии может оказаться опасным. Я понимаю, что измельченную породу и камень нужно куда-то девать, но что, скажи на милость, ты собираешься делать с полученной энергией? Ты читал П.А.М. Дирака?
— Да.
— В таком случае, ты должен знать, что тасовать материю с антиматерией легко и небрежно, как колоду карт, крайне опасно. Существует, на мой взгляд, весьма убедительная теория, которая гласит, что в конце нашей Вселенной имеется ее антипод — Антивселенная, — состоящая из античастиц, образовавшихся во время первородного взрыва. В этой Антивселенной есть зеркальное отражение и нашей Земли. И всех нас вместе взятых, снедаемых теми же бедами и недугами. Только одежду там носят наизнанку. Улавливаешь мою мысль?
— Да, — ответил Гил, — но…
— Так должно быть обязательно, — перебил его Уильям, приходя в возбуждение. — И никаких «но». Антизвезды, антипланеты, антигамбургеры, антипиньоны. — Уильям улыбнулся Гилу. — Но добавлять туда материю и размешивать все это ложкой, как масло в каше, нельзя. Да ты и сам, наверно, об этом догадывался? Твой отец, например, это знает. Мы разговаривали с ним. Он предчувствует опасность — великие катаклизмы. Животные, обитающие в Пеллюсидаре, спасаются бегством. Ты знал об этом? Из Китая коммунисты сообщают о небывалом волнении лабораторных свиней. Китайцы винят во всем ЦРУ, но мы-то с тобой понимаем, что к чему.
— Я сделал использование устройства совершенно безопасным, — отозвался Гил. — Помещать антиматерию в обычный сосуд нельзя, поскольку вещество сосуда мгновенно прореагирует. Однако существует такая вещь, как магнитная бутыль…
— Да, — отозвался Уильям, — я читал о ней.
— Я сделал такую бутыль. Я нашел целую коробку магнитов от старых машин — в той самой лавочке старьевщика, где мы были перед Рождеством, — сказал он, обернувшись к Джиму. — И создал полярно перестраиваемую бутыль. — Гил выдвинул ящик письменного стола и несколько секунд рылся в нем, потом вытащил оттуда чертеж чего-то похожего на прямоугольную амфору. Рисунок был испещрен стрелками, спиралями, уравнениями и маленькими условными графиками.
Уильям принял от Гила чертеж и рассмотрел его. Хотя часть схемы он совсем не разобрал и смысла почти всех уравнений не понял, изображенное на рисунке устройство показалось ему вполне работоспособным. Сквайрс разобрался бы лучше, подумал он. Но Сквайрса с ними не было. Он находился в полумиле над их головами, в своем доме на Рексрот-роуд. И если они немедленно же не направятся в ту же сторону, то, вполне возможно, скоро попадут в неприятную историю. Уильям был решительно настроен забрать Гила с собой. Но если обстоятельства будут препятствовать этому, если возникнет угроза того, что свободу Гилу можно отвоевать только ценой пленения Джима Фростикосом или Хан Коем, то о Гиле придется забыть. И, окажись бутыль Гила надежно действующей, он сделал бы это с легким сердцем.
Если Пиньон достигнет центра Земли раньше их, они покроют себя вечным позором, однако этот удар по их самолюбию будет ничем по сравнению с другим ударом. В первую очередь их беспокоит судьба Земли. Но если Гил сумел устранить последнюю угрозу… Однако принцип бутыли Гила почему-то вызывал у Уильяма серьезные сомнения. Со стороны все выглядело весьма наукообразно, убедительно. Придраться было не к чему. Но вместе с тем ясно читалось что-то еще. Какой-то просчет. Что это было — инстинкт? Возможно. Вот оно — теория цивилизации в действии. Со свиньями не поспоришь. Если вселенской катастрофы не избежать, они чуют это безошибочно. И его сон — гибель Гила. К чему он? Уильям не склонен был требовать от видений буквальной точности, однако во всей атмосфере его сна чувствовалось предвестие той же угрозы, страх перед которой так явственно звучал в голосе Бэзила Пича.
— Я думаю, что бутыль не сработает, — сказал Уильям, хватаясь за соломинку.
Гил промолчал. Было видно, что он тоже сомневается.
Снаружи с причала донесся звук, словно кто-то скреб чем-то острым по камню. В каюте мгновенно повисла тишина. Джим выглянул наружу сквозь щель у края шторки иллюминатора. Никакого движения на причале.
— Нужно уходить, — взволнованно объявил он Гилу. — Собирайся.
Гил продолжал сидеть неподвижно, уставившись в пустоту.
— У Пауэрса распродажа. Романы Берроуза идут по двадцать пять центов за штуку, а каждый пятый бесплатно.
— Правда? — удивился Уильям.
— Честное слово. Я видел у него в витрине рекламку.
— А книжки про марсиан? — поинтересовался Гил, заметно оживляясь.
— Навалом. Пауэрс только что прикупил где-то целую коллекцию, он сам мне сказал. И книги до сих пор в коробках, неразобранные. Там столько всего, что и не расскажешь.
Гил быстро оглянулся по сторонам.
— Вы мне подпишете журнал? — спросил он Уильяма, протягивая ему «Аналог».
— Какой разговор. — Уильям просиял. — Но у меня нет ручки, — он похлопал себя по карманам. — Ты и я, мы могли бы здорово поработать вместе.
Гил смутился и, покраснев от удовольствия, подал Уильяму ручку.
— Для того чтобы довести сейчас батисферу до ума, нам нужен оксигенератор и двигатель, причем в комбинации. По сути дела, у меня есть кое-какие соображения, как использовать для этой цели машину Иеронимуса. Слышал про такую?
— Конечно, — ответил Гил. — В одном из номеров «Горизонтов» я видел ее чертеж, там она названа «Псионической машиной Первого Типа». Я сам давно собирался построить такую.
— Ну что ж, тогда тебе и карты в руки. Кроме того, нам нужен абсолютный гироскоп. Для равновесия. У тебя есть какие-нибудь идеи по этому поводу?
— С этим никаких проблем не будет, — отозвался Гил. — Я уже делал нечто подобное для землеройной машины. Можно было бы начать прямо сегодня, но сперва нужно зайти в магазинчик Рейцев на Колорадо, пока они не закрылись. Там я покупаю большую часть деталей для своих устройств.
Гил бросил взгляд на часы.
— Но только после Пауэрса, — улыбнулся ему Уильям.
С причала донесся новый резкий звук, теперь его источник был ближе, почти под самым иллюминатором.
Уильям кивком приказал Джиму отступить в угол, а сам на цыпочках подкрался к иллюминатору и медленно поднял шторку. За грязным стеклом он не увидел ничего, кроме темноты. Он протер пыль круговыми движениями ладони, очистил небольшой овал и, прищурившись, заглянул в него, силясь разобрать во тьме хоть что-нибудь. По непонятной причине его сердце учащенно забилось, словно он точно знал, что в гипнотическом мраке что-то скрывается — нечто такое, что человеческие глаза увидеть не в состоянии.
Следующие две или три секунды пронеслись перед его глазами стаккато, в стробоскопическом темпе разворачивающихся событий старого кино. Прямо перед, носом Уильяма за стеклом материализовалось, вынырнув из непроглядной пустоты, белое ухмыляющееся лицо и, оскалив в усмешке зубы, уставилось на него. Заколыхавшаяся рядом с лицом рука пошевелила в издевательском приветствии похожими на четырех небольших мясистых червей пальцами, напомнившими Уильяму недоразвитые конечности диковинных рыб Хан Коя. Лицо принадлежало довольному доктору Иларио Фро-стикосу.
Секунду Уильям, от ужаса полностью утратив отвагу, которой он так гордился всего пятнадцать минут назад, не в силах был двинуть ни рукой, ни ногой и сипло дышал, со свистом втягивая воздух короткими глотками. Душащий его крик наконец вырвался наружу коротким и пронзительным воплем, оборвавшимся и перешедшим в бульканье, после того как он, отшатнувшись от окна в каюту, поскользнулся на книгах и, хватая руками воздух, повалился на пол прямо у ног насмерть перепуганного Гила Пича.
Джим пришедший в ужас при виде белого лица в окне, машинально подхватил с пола книгу и запустил ею в иллюминатор, заставив самодовольную, улыбающуюся физиономию доктора отпрянуть и выругаться. После ругательств снова наступила тишина. Гил продолжал сидеть неподвижно, с помертвевшим, каменным лицом, устремив взгляд в точку, находящуюся где-то далеко за пределами каюты. Уильям лежал без движения. Казалось, только Джим еще способен хоть чего-то желать. Остальных присутствующих по рукам и ногам сковал страх.
Джим навалился грудью на письменный стол и придвинул его к двери, потом высыпал книги из стоящих одна на другой полок прямо на пол и начал громоздить полки на стол. Секунды неумолимо утекали. Подхватывая с пола книги, он для пущего веса принялся запихивать их обратно в водруженные на стол полки, ощущая, как воздух вокруг него приобретает особую, необычную густоту. Краем глаза посматривая на иллюминатор и ожидая в нем нового движения, Джим с трудом втягивал ртом внезапно загустевшую смесь. Неожиданно он почувствовал, что промок с головы до ног. Не отсырел во влажном воздухе подземной пещеры, а именно промок, словно только что выкупался в море прямо в одежде… словно воздух вокруг него стал водой. На стол у двери была водружена последняя книжная полка. Джим подхватил с пола столько книг, сколько сумел, и половину выронил, с удивлением понимая, что с тех пор, как он приступил к сооружению баррикады, никто не пытался сквозь нее проломиться и что в то же время где-то совсем рядом слышится щелканье поворачиваемого в скважине ключа и скрип отворяемой двери — неприметной стенной панели из палисандра. Сквозь образовавшийся проем в каюту, пригнувшись, ступил злобно улыбающийея доктор Фростикос. В руке он держал наизготовку шприц.
Уильям ухватился за подлокотник кресла, подтянулся и сел, совершенно бессильный защититься. Гил, казалось, уснул, хотя глаза его, уставленные на что-то невидимое остальным, были широко распахнуты. Ни с того ни с сего мимо ног Джима, поразив его до глубины души, почти на уровне пола скользнула крупная рыба. Сам по себе пол, на который Джим уставился, вытаращив глаза, колыхался и распадался, принимая вид рыхлый, можно сказать зернистый, как будто состоял вовсе не из досок, а скорее из темного вулканического песка и камешков.
Прямо перед лицом Джима заколыхались заросли водорослей, в движение их приводил омывающий его тело ток тягучего и невероятно сырого воздуха, на миг ослабевший и замерший, потом с прежней силой устремившийся обратно, увлекая за собой вихри пузырьков, песчинок, частичек морской травы и изумленных или испуганных рыб.
Вслед за волнообразным движением воздуха в голове Джима всколыхнулась сумятица вопросов и совершенно противоположных ощущений. Что случилось? Джонка опрокинулась? Они идут на дно? Несколько секунд он судорожно пытался продохнуть. Перевернутый вверх тормашками доктор Фростикос теперь болтался у потолка, его потерянный и плавающий в стороне шприц проглотила раздутая рыба-шар, после этого немедленно разбухшая еще больше и превратившаяся в огромный колючий глобус; повернувшись и подгоняя себя взмахами удивительно маленьких плавников, она неспешно заскользила прочь мимо книжных полок.
Ужасные стук и вой заставили джонку лечь на левый борт. Вокруг беспрерывно ревело и грохотало. Снаружи с резкими хлопками лопнули швартовы, и судно заплясало на волнах внезапно разбушевавшегося моря. Двери распахнулись настежь; стекла иллюминаторов вдруг разлетелись на тысячи мельчайших осколков, каждый с песчинку; с каждым новым ударом волны джонка быстро и устрашающе кренилась, пассажиров швыряло от стены к середине каюты, к двери, потом снова к стене. Спокойствие сохранял один только Гил Пич, который удерживался между полом и потолком, поддерживая ровное положение тела точными и быстрыми гребками перепончатых ног и перепончатых рук. Первым в открытую дверь выбросило Фростикоса.
Доктор упал на бок и заскользил по полу, хватаясь по пути за что попало и стараясь удержаться внутри; наконец он вцепился скрюченными пальцами в дверной косяк, и в течение некоторого времени казалось, что он изо всех сил тужится, стараясь еще больше накренить и без того словно стоящую на склоне огромной вертикальной волны джонку. Книжные полки соскользнули с письменного стола и мимо доктора вылетели наружу. Прямо перед лицом Фростикоса пол раскрылся, словно пробитый неведомым подземным существом, растревоженным разыгравшимся ураганом и теперь рвущимся сквозь корку донного песка и днище джонки к свету. Из дыры в полу высунулись клешни. Пара клешней. Кроваво-красный, обитающий в водорослях краб с кулак величиной с вытаращенными глазами на стебельках, больше похожий на паука, чем на краба, выбрался из дыры и забегал по песку. За первым крабом последовал второй, потом еще и еще, без счета. Покрытые жестким панцирем существа вцепились в лицо мотающего головой доктора и принялись рвать добычу, отдирая по небольшому лоскутку кожи каждый. Рот доктора раскрылся, чтобы вместе с перламутровыми пузырями воздуха выпустить крик, и туда немедленно скользнул один из красных крабов. Фростикос дернулся, словно рыба, заглотившая вместе с крючком наживку, тут же отпустил дверь и был унесен потоком воды вместе с рыбами и водорослями в темноту…
Придя в себя, Джим обнаружил, что ничком лежит на палубе джонки. Ветер рвал и трепал раскрашенный парус у него над головой. Его отец, обводя творящееся вокруг недоверчивым взором, сидел рядом, прислонившись спиной к мачте. Над морем неистово завывала буря, плясали молнии, хлестал дождь — невероятный ураган нес лодку сквозь тьму. Вторая джонка, на борту которой должен был находиться Хан Кой, со сломанной мачтой и разбитой каютой вздымалась на гигантских волнах в отдалении, на мгновение замирала на их вершинах, потом, наращивая скорость, проваливалась в бездны между валами.
Прорезав пещеру сверху донизу и озарив ее недра желтым фосфоресцирующим светом, с потолка в джонку Хан Коя ударил толстый жгут молнии, высветив среди остатков разбитой каюты огромный восточный аквариум. На глазах у Джима по стенкам аквариума, словно по куску внесенного с мороза и брошенного в кипяток мрамора, побежали во все стороны прожилки-трещины, после чего сосуд взорвался фейерверком воды и стеклянных осколков, и его удивительные рыбообразные узники хлынули вместе с каскадом содержимого сначала на палубу джонки, а потом и в осветившееся на мгновение море. Наступила кромешная тьма. Огни на далеком острове погасли — костры либо залил дождь, либо заслонила одна из особенно больших скал, и ощущение того, что джонка летит по поверхности кипящего моря, стало полным. Почувствовав, что волосы у него на голове шевелятся, Джим увидел, как вдоль их мачты пронеслись всполохи искр, после чего, поднявшись с самого клотика, словно сорванный порывами урагана, вверх уплыл, крутясь и сверкая, будто разъяренный демон, огромный искрящийся голубым шар.
Уильям вскочил на ноги и, чтобы не вылететь за борт с неистово сотрясающейся и ходящей ходуном палубы, намертво вцепился в мачту. Его волосы вздыбились и развевались на ветру, пока он, смаргивая влагу, всматривался в бурю, в метание волн, которые то поднимались сплошной стеной, сшибаясь и превращаясь в мелкий туман брызг, то расступались, образуя провал с ровным дном, то теряли гребни, и ветер уносил длинные серебристые нити воды и пены. Казалось, море лучится собственным светом, будто пылавший недавно на острове плавник теперь догорал под волнами, освещая там подводные гроты с похожими на древние разрушенные соборы торжественно сияющими остовами затонувших кораблей внутри.
Внезапно Джим осознал, что отец что-то кричит ему, борясь с ветром. Вначале он ничего не мог разобрать, потом понял, что отец спрашивает о Гиле.
— Где Гил? — напрягаясь, вопил Уильям и махал свободной рукой.
Джим покачал головой. Гил в каюте? Скорее всего. Масляная лампа, как ни странно, все еще горела. Она широко раскачивалась на своей цепи и трещала. Джим на коленях дополз до двери каюты, толкнул ее и обнаружил, что она заперта. Разбитый иллюминатор был снова цел и невредим. Упершись ногами в желобок стока у борта и вцепившись руками в обод иллюминатора, Джим с усилием поднялся, встал на ноги и, удерживая равновесие между толчками и рывками мчащейся своим неведомым курсом джонки, заглянул в каюту. Гил снова спокойно сидел в кресле, напоминая каменное изваяние, и в колеблющемся свете раскачивающейся лампы читал книгу Эдгара Райса Берроуза.
Джонка остановилась так резко и внезапно, что Джима бросило на стену каюты. С носа лодки донесся короткий хруст и скрип уминаемой гальки и песка — они причалили к берегу не далее чем в пятидесяти футах от подножия каменной лестницы. Огни Святого Эльма мигнули на вершине мачты последний раз, зарядив воздух электричеством и запахом пороха, потом погасли. Море вдруг разом утихло, снова став маслянистым и гладким, и единственным нарушающим тишину звуком было скри-ип, скри-ип, скри-ип раскачивающейся на медной цепи лампы в каюте.
Глава 20
Лежа в темноте взаброшенном доме Кунца, задумчиво жуя чипсы «Фритос» и потягивая безвкусное пиво, Уильям дожидался сна. Всего четыре часа назад он с восторгом представлял, как выбирается из канализационного люка с жесткой улыбкой на лице — настоящий герой-победитель, парнишка Пич за спиной, под мышкой свернутый раскрашенный парус джонки, трофей решающей схватки, выигранной под улицами Глиндейла. Земле более ничего не грозит — опасность устранена Уильямом Гастингсом, человеком, познавшим всю тяжесть преследования подлинным злом и борьбы с ним. Но вкус победы оказался пресным. Его парус, по верхнему краю обожженный огнями Святого Эльма, теперь лежал бесформенной кучей в гостиной. Ощущение безвкусности выходки с парусом не давало Уильяму покоя. Все его тщеславие, вся бравада, все благие намерения в одну секунду обратились в ничто. Он не сумел спастись от полного и окончательного крушения. Будь он проклят — не попытался даже спасти родного сына, у которого хватило духу и отваги бросить книгу Фростикосу в нос.
Ему удалось уговорить Гила перейти на их сторону — это правда. Но и только. Остальное довершил сам Гил. Гил был рад найти в Уильяме родственную душу, понимающую и разделяющую его собственные воззрения на физический мир. В сущности, именно рассказ Уильяма в «Аналоге» и решил дело, спас мир, не дал Земле лопнуть, как воздушный шар. Теперь ему следует написать в журнал письмо и поздравить редакторов с такой дальновидностью. Уильям горестно покачал головой. В конце пути Гил взял руководство на себя и через каменный тоннель со ступенями вывел их на волю. Всю дорогу Уильям с ужасом ожидал появления из темноты мучнистой физиономии доктора. Он попытался вообразить, какой виделась схватка Фростикосу, как он вообще воспринял то, что с ним случилось. Каково быть съеденным заживо крабами? Уильям пожал плечами. В любом случае Фростикосу не поздоровилось. Возможно, он действительно утонул. Хотя Уильям знал, что это не так. Слишком уж удобно. В жизни так просто не бывает.
По его спине то и дело пробегали мурашки волнения: где-то в глубине души ворочалась черная пелена тревоги и вины, сомнений и страха — ощущений столь же инстинктивных и безошибочных, как те, что испытывают китайские свиньи, в страхе и беспокойстве мечущиеся по своим загончикам в поисках выхода, который, однажды найдясь, обычно не ведет ни к чему, кроме дикой лихорадочной гонки к крутому обрыву саморазрушения.
Всего на миг смежив веки, он снова увидел это лицо — массу копошащихся белесых призрачных червей, немедленно обретающую ясность и ужасающую четкость. И мгновенно распахнул глаза. Ночь была на исходе, а он почти не спал. Ему следовало сразу же после полуночи — лучше быть схваченным полицией в кругу друзей, чем ночь напролет бороться с призраками в пустом доме.
Уильям задремал и сразу же увидел, как протирает ладонью кружок на грязном стекле иллюминатора. За стеклом в ночи его давно уже поджидало нечто белое и мертвенное; оно молча улыбалось ему. Он вздрогнул и проснулся, вскочил, ругая себя за то, каким идиотом, каким бестолковым дурнем он был, когда точно так же пугал бедного Лазарела из окна подвала Фростикоса. Тогда он понятия не имел, как это может быть страшно. Но все идет по кругу, как поется в песне. Японские краснодеревщики обязательно оставляют в своих шкафчиках или комодах на видном месте трещинку, чтобы обуздывать тщеславие. Стыки же и полировка жизни Уильяма бугрятся от непреднамеренных ошибок, от разнузданного головотяпства, от того, что он и пальцем не пошевелил, чтобы смирить свою гордыню. Самомнение лезло наружу в смешочках, в кивках, подначках и выкриках, делая из него пустое место, болвана. И даже хуже — но подобрать подходящее название Уильям сейчас не мог. Джим не попрекнул его ни словом, и от этого становилось еще гаже. Чем лучше люди, тем труднее подбирать к ним мерку. Но он не хочет, чтобы его складывали, как бумажную куклу. Не поэтому у него душа болит. Всю ночь он просидел в пустом доме, спал он или нет — неважно. У него есть его книга, его трубка, полбутылки бренди… как там сказал Лоуренс Стерн? — «чтобы бояться смерти, нужно знать, что это такое». Подобный взгляд на вещи всегда восхищал Уильяма. Жаль, что эти строки уже принадлежат Стерну. Бренди и трубку побоку — кроме смерти, есть множество других вещей, способных вселить страх. Но сегодняшней ночью бренди поможет ему укрепить первую линию обороны. Недавнее происшествие — не последний шанс доказать, на что он способен, с надеждой и страхом сказал он себе. Можно начать прямо сейчас, здесь, в этом темном доме. Уильям закрыл глаза и принялся следить за тем, как переплетаются и копошатся белые червяки на экране изнанки его век.
Выступавшие через два дня по телевидению репортеры были настроены весьма скептически. Сама идея казалась им смешной до нелепости, полностью списанной из научно-фантастического романа — причем из романа без особых претензий, дешевенького триллера из газетного киоска, бульварного чтива, с лучеметами и динозаврами на Луне. На этот день был намечен старт Подземного левиафана, механического крота, полностью готового и выставленного на всеобщее обозрение на заднем дворе ранчо Пиньона. Машина была собрана на специальных козлах, ей был придан надлежащий угол наклона, и нос левиафана теперь смотрел вниз, жаждая вгрызться в землю. Аппарат самодвижущийся, объяснял Пиньон наседающим репортерам. Самыми трудными будут последние футы пути. Как только нос левиафана проникнет в полое ядро Земли, машина встанет. Пилотам остается только надеяться, что инерция вынесет крота вперед настолько, что удастся открыть люк.
Пиньон заметно нервничал и без конца приглаживал волосы. Эдвард вдруг с удивлением обнаружил, что их недруг вовсе не похож на злодея, совсем наоборот. Пиньон был одержимым. Он был фанатиком своей идеи, причем недальновидным и склонным к крайностям. Эдвард почти испытывал к нему чувство жалости. Отчего-то он был совершенно уверен, что репутации Пиньона недолго оставаться безупречной. Как поведет себя крот, если за его штурвал сядет не Гил Пич, а кто-нибудь другой, было невозможно предугадать. Возможно, машина вообще откажется двигаться с места и так и останется торчать на козлах. Спрятанный внутри левиафана двигатель на поверку мог оказаться сущей чепухой — переплетением натасканного из лавочек старьевщиков барахла и мусора, вроде того, с чем так увлеченно сейчас возились в сарае-лабиринте Гил и Уильям.
Самым же нелепым и поразительным был шум, поднятый вокруг крота. Отчасти за шумиху нес ответственность Спековски — большинство статей в газетах принадлежало его перу. Он и сейчас был здесь — сновал вокруг машины вместе с другими репортерами, пристающими к несчастному Пиньону с невозможными вопросами об антигравитации и антиматерии, о чем тот, конечно, не ведал ни сном ни духом. Пиньон растерянно отмахивался от прессы, отвечая односложно и ссылаясь на преждевременность таких вопросов. Дождитесь старта, говорил он. На карту была поставлена не только его репутация, но и жизнь, и он был готов к этому. Машина на козлах представляла собой не просто новый тип паровой лопаты. Люди, принявшие участие в ее создании, готовились предпринять путешествие на восемь сотен миль под землю. А возможно, и больше. Они шли по стопам адмирала Берда, более того — Христофора Колумба, который отправился в плавание на свой страх и риск, махнув рукой на то, что Земля похожа на тарелку.
Эдвард повернулся и направился в сарай-лабиринт, где Уильям и Гил возились с приводом Дина. Они прикрепили двигатель к аксолотлю, который все еще щеголял в насквозь мокрых штанишках. Когда Эдвард, пригнув голову, вошел в сарай, Уильям как раз выпускал амфибию в аквариум. На верхушке маленького моторчика завертелись непонятные колесики, к поверхности воды побежала веселая струйка пузырьков. Аксолотль стрелой понесся параллельно дну аквариума вперед и, не сообразив вовремя свернуть, с разгона неуклюже врезался в дальнюю стену. Выловив несчастного испытателя из воды, Уильям отцепил с его шеи маленькое приспособление. Заметив Эдварда, он многозначительно поднял бровь и указал глазами на устройство. Гил сидел за верстаком и, не поднимая головы, выгибал что-то из куска жести.
— Уже почти все готово, — торопливо сообщил Уильям. — Гил решил, что оксигенератор может взорвать нас ко всем чертям, и вместо него предложил использовать гелиево-хлорофилловый очиститель. Аппарат получился немного громоздким, но свое дело он сделает, хотя в кабине будет тесновато. Гил как раз заканчивает сборку.
Эдвард внимательно присмотрелся к стоящему на верстаке устройству. Гил закончил гнуть из жести короб и теперь сыпал в него через просторную воронку непонятный зеленый порошок. От баллона с гелием к коробу змеилась черная резиновая трубка. Бог знает зачем. Эдвард почувствовал себя ребенком. Физика и химия никогда не были его епархией. Все, что ему пришло сейчас в голову, это что воронка вполне могла сгодиться в качестве шляпы Железному Дровосеку. Эдвард всегда испытывал странную нежность к обитателям страны Оз.
— Они сейчас начинают, — сообщил он.
Уильям вернул аксолотля в аквариум и вытер руки. Известие о том, что левиафан, его детище, с минуты на минуту отправится в путь, не произвело на Гила никакого впечатления. С некоторых пор землеройная машина была предоставлена самой себе.
Вслед за шурином Эдвард вернулся в дом.
— Мне почему-то кажется, что Ашблесс в этом участвовать не будет, — заметил он, поднимаясь по ступенькам заднего крыльца.
— Еще бы! — воскликнул Уильям. — Теперь он бросил и их — это ясно. Он не дурак. Я хорошо помню выражение его лица в тот день, когда Вильма Пич сообщила нам, что Гил пропал, — Ашблесс был доволен тем, что заполучил парня. Ашблесс! От него можно ожидать чего угодно. Он плевал на науку, но в нем есть чутье, и он полагается только на него. Кстати, Гил рассказал мне, что «Аналог» ему принес именно Ашблесс. Помяни мое слово — если сегодня у Пиньона ничего не выйдет, о поэте мы еще услышим. И весьма скоро.
Уильям прибавил громкость телевизора. Глупо махая рукой телекамерам, ведущим прямую трансляцию, Джон Пиньон забирался в люк «крота». Через секунду, не обращая на репортеров и камеры никакого внимания, из ангара выскочил доктор Иларио Фростикос, широкими шагами пересек лужайку, забрался на левиафана, спустился в люк и закрыл крышку. «Крот» ожил, загудел и затрясся на козлах — репортеры и телевизионщики поспешно попятились. Вращающиеся зубья на носу машины пришли в движение, жадно перемалывая воздух, левиафан качнулся вперед и прикоснулся жвалами к земле — вверх моментально поднялось облако пыли, полетели комья грязи.
— Боже мой, они начали! — воскликнул Эдвард.
Уильям подался к телевизионному экрану, не в силах поверить своим глазам. Зубцы левиафана пропали в мягком грунте, потом корпус машины скользнул вниз и углубился на фут, на шесть футов, наконец вся машина исчезла под землей, вытолкнув наружу огромную кучу чернозема, в точности напоминающую кротовую. Репортеры, изумленные не меньше Уильяма, гомоня и размахивая камерами, бросились к дыре в земле. На экране появилась на глазах уходящая в глубину корма левиафана — вот-вот она должна была скрыться из виду.
Неожиданно из дыры донесся мощный скрежет, потом грохот: что-то ломалось, билось, обваливалось. Это случилось так внезапно, что на один ужасный миг Уильям решил, будто весь мир рушится в тартарары. Затем так же внезапно наступила тишина. Перед камерой замелькали спины репортеров и фотографов. Уильям и Эдвард придвинулись к экрану вплотную; теперь стекло и их лица разделяло, может быть, всего несколько дюймов. У них за спиной, силясь хоть что-нибудь разглядеть, маялся Джим. Парадная дверь без стука распахнулась, и в комнату ворвался профессор Лазарел, с порога закричав о том, что следил за событиями по радио — но на него замахали руками, и он замолчал.
Подземный левиафан вышел из-под контроля, сбился с курса и столкнулся с бетонной стеной канализационного тоннеля. Его нерушимые жвалы, теперь смятые и погнутые, превратились в массу перекрученного механического лома, который чудом продолжал вращаться, издавая скрежет, рычание и хруст под стать старому автомобилю-инвалиду, размешивая воздух кривошипами и визжа шестернями. Через несколько мгновений телевизионная группа, подсвечивая себе путь прожекторами, уже вела передачу из канализационного тоннеля. Было совершенно ясно, что путешествие к центру Земли закончилось полным провалом. Левиафан пробил в бетонной трубе огромную дыру и застрял в ней, свесившись внутрь на треть. Машина вздрогнула и остановилась, на ее вершине распахнулся люк, и из него, закрывая руками лицо, выбрался Джон Пиньон. Казалось, он рыдает. За Пиньоном на свет прожекторов появился Фростикос и сразу же смешался с толпой.
К Пиньону обратились двое полисменов в мотоциклетных шлемах, но он замахал на них руками и разразился бранью. В углу экрана, в тени стоял и наблюдал за происходящим Уильям Ашблесс. Неожиданно в тоннель вместе с каскадом земли хлынул солнечный свет, дыра над головами расширилась. Камера вскинулась, стало видно, как сквозь дыру в тоннель заглядывают пожарные, просовывают наконечник огромного шланга, готовые тушить пожар. Но никаких признаков огня не было. Пиньон замахал на пожарных руками, видимо испуганный тем, что они могут промочить и испортить его машину. Выскочивший рядом с Пиньоном как из-под земли репортер мгновенно подсунул ему под нос микрофон, пытаясь уловить хоть слово. Это был Спековски.
— Что? — Пиньон в ярости обернулся. — Уберите от меня эту штуковину! Убирайтесь, пока целы, — я вас предупреждаю по-хорошему!
Широко махнув рукой, он попытался ударить репортера, но тот проворно уклонился и снова выбросил вперед руку с микрофоном.
— Что произошло с машиной, мистер Пиньон? — выкрикнул он. Задав свой вопрос, Спековски обернулся к камере и печально покачал головой, словно желая показать, что разделяет горе Пиньона по поводу сокрушительного провала экспедиции.
— Ах ты… ублюдок! — пораженно заорал Пиньон и бросился на Спековски. Полисмены скрутили его и повели, рыдающего и причитающего, по канализационному тоннелю. Не пройдя и десяти шагов, Пиньон вырвался из рук полицейских, вернулся к своей искалеченной машине и принялся осматривать ее, воздевая руки и беззвучно открывая рот, словно спрашивая, почему она предала его в такой ответственный момент. Внезапно Пиньон повернулся и завертел головой, будто опомнившись и в первый раз заметив отсутствие своего второго пилота, Иларио Фростикоса. Он спросил что-то у полицейских, но те пожали плечами и указали ему вдоль тоннеля на цилиндр света, льющегося из раскрытого люка.
В борту левиафана зияла просторная дыра, сквозь которую безжалостные и любопытные глаза камер обозревали части разрушенных внутренних устройств машины, вероятно двигатель. Спековски заговорил в микрофон, время от времени кивая в сторону крота, напомнив зрителям об открытиях, которые, по словам Пиньона, были заключены в эту машину — об антиматерии, вечном двигателе.
— Ого, а это что? — вдруг спросил он, с удовольствием играя свою роль и потешаясь над Пиньоном и его машиной. — Кто бы мог подумать, что подобный двигатель способен приводить в движение машину для исследования земных недр? — спросил он, но тут же замолчал и улыбнулся, словно вспомнив о том, что до сих пор эта машина не исследовала никаких других недр, кроме канализационных. Спековски подцепил пальцем плоскую завитую спиралью пружину, несомненно в прошлом — принадлежность старого и дешевого будильника. К пружине была прицеплена целая гирлянда канцелярских скрепок, от которых куски проволоки уходили к камере от футбольного мяча. На камере болталась обычная магазинная бирка, ценник. Спековски перевернул бирку, и телекамера показала ее крупным планом. «Супруги Рейц», — было напечатано на бирке, — «цена: 29 центов».
— Как вам это? — спросил Спековски, после того как камера опять переключилась на общий план. На краю экрана снова мелькнул сгорбленный Ашблесс — длинные седые волосы свешивались на пальто за воротник, но поэт тут же был сметен рекламным роликом средства для чистки сантехники, в котором мультипликационный мужчина усиленно греб в лодке по волнующемуся в ванной морю.
— Бедняга Пиньон! — сказал Уильям, думая о том, что Пиньона предали и что к этому предательству изрядно приложил руку и он, Уильям, — по сути дела это предательство было целиком и полностью устроено им. Еще два дня назад Пиньон был для них недосягаем — без пяти минут величайший первооткрыватель со времен Брендана Морехода. И кто он теперь? Рыдающее ничтожество, общее посмешище. Репортеры, все утро хлеставшие пиво в городе, теперь плясали на его костях, хохотали во все горло, не видя в землеройной машине ничего, кроме повода для все новых шуток. Уильям живо представил себе заголовки передовиц: «Механический крот провалился в канализацию!» Пиньон бросился в пропасть на крыльях, которые услужливо подрезал Уильям. Бедняга.
Уильям улыбнулся своим мыслям. Жалко Пиньона, хоть он и слизняк. Но Фростикос — это дело другое. Почему ему позволили уйти незамеченным? Почему репортеры не набрасывались на него с просьбами объяснить принцип действия удивительной машины? И Ашблесс сразу же отступил в тень. Какой козырь, подумал Уильям, припас старый пройдоха в своем рукаве на этот раз? Они очень скоро о нем снова услышат, Уильям в этом не сомневался. Ашблесс не из тех, кто легко отступается.
Они по сравнению с ним легковесы, вот кто. Решив помериться силами с Уильямом Гастингсом, они попытались оттяпать себе кусок не по зубам. Он снова сделал ловкий ход и подставил им ножку. Теперь их дело труба. Даже если Пиньону удастся вытащить левиафана из ямы, без Гила эта машина всего-навсего груда металлолома. Подумав о Гиле, Уильям вспомнил о работе. Черт возьми, он же теряет время! Гил правильно решил не смотреть передачу и остаться в сарае. Сплошной цирк, ничего толкового. Пиньон был типичным клоуном, кривлякой и пустобрехом.
Гил работал быстро и молчаливо, как хирург, — ни заминки, ни лишнего движения. Куча механического барахла на верстаке заметно уменьшилась, в то время как большая действующая машина Иеронимуса с модифицированным приводом Дина быстро обретала форму. Спуск батисферы на воду стал делом нескольких ближайших дней.
— У них ничего не вышло, — с порога сообщил Уильям.
Гил кивнул, копаясь отверткой в недрах одного из корпусов.
— Не могу взять в толк, почему крот потерял управление. Хотя точно так же не могу понять, каким образом он вообще сдвинулся с места. Парадокс.
— Я думаю, что левиафан все еще в рабочем состоянии, — ровным голосом отозвался Гил. — Просто мистер Пиньон не знал, как правильно им управлять.
— Иначе говоря, править кротом должен был специальный пилот?
— Да, что-то вроде того. Нужно чувствовать механизм. Если вы понимаете это, все остальное просто. Здесь все дело в излучении, в особых лучах. Читали книжки про марсиан?
— Конечно, — отозвался Уильям. — Но что-то я не припоминаю там никаких лучей.
— А там ничего о лучах и не было. Мы и половины того, что об этом знают в Барсуме, представить себе не можем, хотя один раз мне попалась в руки интересная статья о русских. Их ученые здорово обскакали наших. Все эти разговоры о ядерной войне по сути ерунда — так было сказано в этой статье. Русские придумали лучи, делающие человека безумным на любом расстоянии. Теперь они могут направить эти лучи прямо сквозь Землю на Лос-Анджелес, и готово! — мы все сидим на тротуаре и пускаем слюни. — Гил внезапно умолк, словно сообразив, что сболтнул лишнее. Он жалобно взглянул на Уильяма, явно смущенный тем, что так насмешливо говорил о безумии.
Уильям улыбнулся ему в ответ. Мальчик настоящий гений, подумал он, и конечно же чудак. Но это в порядке вещей. Он повернулся к клетке с мышами и достал оттуда Алексиса и Мари, своих любимцев. Покачав перед их мордочками парой одинаковых кукольных платьиц, он понаблюдал за реакцией грызунов. Раз прикоснувшись к сокровищнице цивилизации, мыши с той поры явно проявляют к одежде интерес. Уильям помог парочке с нарядами, потом выпустил их в сухую часть лабиринта, в длинный коридор, где мыши немедленно принялись настороженно обнюхиваться. Эта парочка будет основой его эксперимента — его фундаментом. Аксолотль относился к грызунам вполне дружелюбно, определенно почувствовав в них родную кровь. Уильям от всей души надеялся, что хвостатая парочка питает к амфибии ответные чувства и со временем выработает в себе устойчивую тягу к воде.
Если бы он смог — если бы Гил смог — усовершенствовать миниатюрную модель машины Иеронимуса, то миллионы лет медленно ползущей эволюции были бы отвергнуты одним небрежным движением. Мышей можно было бы превратить в амфибий посредством техники. Если посмотреть на это под правильным углом, то можно заметить любопытную ироничность ситуации.
Перед домом на улице хлопнула дверь машины. Ракетой сорвавшись с места, Уильям вылетел из сарая, вскочил на пень и перемахнул через забор. Захлопнув за собой дверь черного хода дома Кунца, он заперся. На улице никого не было. Канализационный люк в укромном месте отлично просматривался. О том, кто почтил их визитом, можно было только догадываться. Если это полицейские, то они опоздали примерно на полчаса — его можно было взять тепленьким в гостиной, когда он смотрел по телевизору Пиньона. Он не услышал даже колымагу Лазарела, от тарахтения которой закладывало уши. Это судьба, и до сих пор она была к нему благосклонна. Уильям прижался носом к стеклу и принялся смотреть на заднюю дверь своего дома. Внезапно та распахнулась, во двор вылетели двое полисменов и сразу же направились к баку со скошенной травой. Глупцы. Наверняка им уже до смерти надоело гоняться за призраком. А в полицию позвонил, конечно же, Фростикос. Мстит за поражение на джонке.
Полицейские начали что-то орать Эдварду. Носатый офицер возбужденно махал руками. В ответ Эдвард только недоуменно пожимал плечами. Лазарел что-то возбужденно доказывал, подкрепляя свою точку зрения ударами кулака по ладони. Полицейские скрылись в сарае-лабиринте. Уильям мог только воображать себе их потрясенные и исполненные ненависти физиономии. Любопытно, как им понравились бегающие в своем загончике Мари и Алексис? Какое невероятное объяснение придумает Эдвард для оправдания мышиных нарядов? Ссылки на теорию цивилизации здесь не пройдут. Подобные люди, не будучи сами продуктом цивилизации, глухи к ее теориям.
Младший из полицейских вышел быстрым шагом наружу. Грозя Эдварду пальцем, его старший товарищ появился следом. Уильям слышал их крики даже через закрытое окно.
— …уклоняетесь! — неразборчиво донеслось со двора, хотя это могло быть так же и «…склонны!», что было бы даже лучше, поскольку могло подразумевать сексуальные извращения. Уильям захихикал. Вдруг на глаза ему попалась миссис Пембли, напряженно следящая за происходящим через живую изгородь. Так вот кто натравливал на него полицию. С его стороны было очень легкомысленно появляться во дворе при свете дня — старуха заметила его, когда он шел из сарая смотреть репортаж о Пиньоне. Уильям сжал кулаки и ухватился за ручку двери, но тут же осадил себя. Через два дня батисфера должна быть спущена на воду. Эдвард и профессор Лазарел завтра отправляются в Гавиоту договариваться насчет аренды. Сейчас он дома, или почти дома, и свободен. Нужно выждать. Проявить терпение. Но, Бог свидетель, придет время, и он рассчитается с коварной соседкой за все. Сейчас же ему необходимо попасть на борт батисферы. Он мечтал об этой экспедиции годами, задолго до того как первые ее моменты начали воплощаться в жизнь. Поэтому он дождется своего часа и не станет делать поспешных шагов. Таким будет его план. Потом, подобно молодцу Каю, он нанесет «удар проворный, мощный, сильный».
В доме все стихло. Но миссис Пембли следила со своего двора, да и полиция наверняка рыскала где-то неподалеку. Нужно затаиться и отсидеться, выражаясь языком Эдварда, а к вечеру он выскользнет из своей норы и сбегает в «Высший класс» Питера, где перехватит пару гамбургеров.
Не успело солнце скрыться за горизонтом, как в его дверь постучали условным стуком. Уильям отомкнул замок, и в его убежище проскользнул переполненный отчаянием Эдвард, принеся с собой тревожные новости. Ситуация осложняется. Полиция, он уверен, на этот раз взялась за них серьезно. Сведения о том, что Уильям время от времени бывает возле своего дома, поступают в полицию слишком часто, чтобы пытаться навести ее на ложный след. То, что они еще не появились на Стикли-стрит и не догадались проверить дом Кунца, можно считать необыкновенной удачей. Завтра они могут поумнеть и сделать это.
Завтра спозаранок он и Лазарел собираются в Гавиоту. Джим отправится в школу. Гил решил забрать свое устройство домой, чтобы там довести его до ума. Эдварду очень не хотелось его отпускать, но парень настоял на своем. Пиньон, по мнению Эдварда, еще не выбыл из игры. Можно было только догадываться, на какие отчаянные выходки он теперь способен. Кроме того, оставался еще Фростикос — несмотря на провал «крота», доктор наверняка продолжает питать к Гилу интерес. Вильма Пич решила эти дни побыть дома. Стойкая женщина, сказал Эдвард. Если бы дело обстояло несколько иначе — будь Вильма с Бэзилом разведены… хм…
Уильям посочувствовал шурину и пригласил его с собой перекусить гамбургерами. Сейчас не время для гамбургеров, отрезал Эдвард. Что, если Уильяма снова заметят и ему придется уходить через канализацию? Через два дня батисфера должна быть спущена на воду обязательно. То, как и почему они собираются доработать аппарат, в океанариуме не понимают и смотрят на них косо. Чем быстрее они начнут, тем лучше. По словам Гила, его устройство уже почти готово. Он полон решимости. Стоит им поколебаться, и они наверняка потеряют Гила. Он готов отправиться в плавание хоть в цветочном горшке. И добьется своего, а они присоединятся к Пиньону в его клубе неудачников.
Уильям со всем согласился. Со всем без исключения. Чем раньше они выступят, тем лучше — это верно. Если ему придется скрываться, они узнают об этом. Он просто исчезнет. После этого от них потребуется только четко придерживаться плана. Если ему будет необходимо отсидеться в канализации, он найдет их в Сан-Педро. А если не там, то в Пало-Верде. Если же он не объявится и в Пало-Верде, это будет означать, что он в когтях каких-нибудь недругов — полиции или Иларио Фростикоса; в таком случае он все равно не сможет принять участие в экспедиции. Но подобный исход маловероятен, сказал Уильям. У него есть книга Пен-Сне. На карте он нашел небольшой сток-проход, соединяющий лабиринт с бухтой. В три часа пополудни отлив самый низкий, так что может быть легче?
Эдвард покачал головой. Ему все таким уж легким не казалось. Слишком многое могло пойти не так, как думалось. Но, как бы то ни было, от Уильяма требовалось одно — сидеть тихо. Притаиться. После восхода солнца он не должен высовывать носа наружу.
Уильям не возражал. Превращусь в летучую мышь, сказал он. В вампира, для которого убийственны солнечные лучи. Однако сейчас он собирается пройтись к Питеру в «Высший класс», съесть там двойной чизбургер, жареную картошечку и запить все черничным молочным коктейлем.
Эдвард с сомнением покачал головой — на душе у него было тяжело. Он не знал, что его пугает сильнее — тучи, сгустившиеся над Уильямом, или его оживление, которое, как всегда, проявилось не в самое подходящее время.
Ночью поднялся ветер и зашумел ветвями пальм, высаженных вдоль Стикли. Под неровными порывами широкие и сухие пальмовые ветви шелестели то громче, то тише, то и дело вырывая Уильяма из объятий неглубокого сна. Он постелил себе на полу и не то чтобы спал, а то и дело задремывал и примерно каждые полчаса просыпался и принимался ругать ветер. Просыпаясь, он клялся себе, что если через пять минут не заснет, то зажжет лампу и будет читать, наплевав на опасность, но неизменно каким-то образом опять погружался в чуткий полусон, так ни разу и не взглянув на фосфоресцирующий циферблат карманных часов.
Примерно около двух пополуночи он начал сожалеть о том, что заказал чизбургеры с луком, — вполне предсказуемый итог. У стены рядом с ложем Уильяма стояла недопитая бутылка с теплым пивом, но вместо того чтобы залить огонь в гортани, пиво, казалось, наоборот, раздуло пламя. Дома в аптечке у него стояла бутылочка «Ролэйдс» — с пятью сотнями таблеток, — и в два тридцать, не в силах вспомнить, как провел минувшие полчаса, но готовый поклясться, что не спал ни секунды, Уильям перевернулся на спину и принялся подсчитывать, сколько бы он заплатил сейчас за пару чудодейственных таблеток цвета мела.
Ветер усиливался. Где-то неподалеку все хлопала и хлопала на ветру дверь, со всех сторон из ночной тьмы в комнату проникал настойчивый шорох растревоженных деревьев. Время от времени, но всегда внезапно, Уильям ловил ухом стук-скрип ветви вяза в оконную ставню. Каждый раз он испуганно вздрагивал и просыпался, задыхаясь, с яростно колотящимся сердцем, выныривая из неглубокого сна в полной уверенности, что кто-то пытается поднять ставню, что за окном вот-вот мелькнет знакомое лицо. Это лицо можно было увидеть сейчас же, едва закрыв глаза. Он снова принялся медленно уплывать в сумеречный сон, тянущиеся из ночи невидимые пальцы стучали в ставни, а бледное холодное лицо, каким-то образом смешавшееся с ветром, теперь уже не более чем дымка, облачко в форме лица, все смотрело и смотрело на него, выжидая и примеряясь. Донесшийся со двора стук ворвался в его сон, заставив это лицо рассыпаться на части.
Уильям услышал сквозь сон резкий звук. Пальмовая ветка, сказал он себе, сломалась и упала на мостовую. Навеянные дремой видения закружились у него в голове. Уильям увидел себя — он встал и подошел к окну; во сне он собирался прогуляться в букинистическую лавочку. Но донесшийся из темноты шум разрушил его планы. Ветер не просто гулял над улицей — он был деятелен, ненормально деловит. В свете луны мимо окна пролетала всякая всячина: шляпа-котелок, неторопливо вращающееся велосипедное колесо, раскрытый зонтик, кувыркающийся шезлонг, который перемахнул через живую изгородь и, внезапно решившись, взмыл в небо прямо к луне. Вяз, все еще без листвы, гнулся, мотая на фоне сине-черного неба ветвями. Уильяму показалось, что на дереве что-то есть — какое-то стальное блестящее приспособление с веревками, лебедка. В своем дворе за живой изгородью торчала как перст на ветру миссис Пембли, полы ее халата неприлично широко распахивались и хлопали. Она смотрела прямо на Уильяма, но, казалось, не видела его.
Рядом с миссис Пембли возился с чем-то невидимым доктор Фростикос — садовник Ямото помогал ему. Широкие белые брюки Ямото тоже парусили, и впечатление было такое, что его может в любой миг сорвать с места, унести в небо вслед за котелком и шезлонгом. Надев на пса миссис Пембли кожаные помочи, Фростикос с Ямото принялись вздергивать протестующее животное к небесам. Собака была облачена в твидовую куртку и шляпу-котелок. «Да они издеваются надо мной», — пронеслось в голове Уильяма. Конечно, издеваются. Они знают, что он видит их, но в вихре ветреной ночи не посмеет помешать.
Доберман раскачивался на канате, его лапы глупо болтались. Ветер сдул с пса шляпу, Фростикос выругался, Ямото попытался поймать шляпу, но промахнулся, и головной убор унесло в темноту вместе с подхваченным с лужайки миссис Пембли очередным шезлонгом, которые один за другим попадали в восходящий смерч, кружились, взмывали вверх и исчезали. Пес продолжал раскачиваться над самой изгородью, описывая маленькие окружности. Доктор и садовник толкнули добермана за изгородь, на участок Уильяма, и опустили там на траву, посмеиваясь и шепотом подбадривая. Миссис Пембли по-прежнему стояла, скрестив на груди руки, и с непроницаемо серьезным выражением лица смотрела в темноту.
Через несколько мгновений пес снова был поднят ввоздух, а его грязная миссия выполнена. От ненависти и ужаса Уильям онемел. Черт возьми, да ведь твидовая куртка на псине — его! Сомнений быть не могло. Негодяи украли ее — прокрались в дом под покровом ветра и стащили, как последние домушники. Они могли с легкостью перерезать ему горло, могли избить его, спящего, отравить. Они играли с ним как хотели. Уильям пришел в ярость. Они заплатят за все. Ни один не избежит расплаты.
Доберман скрылся за живой изгородью. Ямото влез на дерево и принялся возиться там с блоком, отцепляя его. Вот так они провели Эдварда. Утром ни следа не останется от ночных проделок, и кошмар под вязом объяснить будет нечем.
Улыбающийся Ямото спрыгнул с дерева. Пригнувшись, садовник несколько секунд смотрел на Уильяма, который, не в силах от ужаса пошевелить ни рукой ни ногой, стоял, словно врос в землю. Внезапно Ямото сорвался с места и побежал по лужайке вдоль изгороди к дому Кунца, к тайному убежищу Уильяма, так что в свете луны мелькали его развевающиеся белые брюки. По сравнению с тем, каким Уильям запомнил его, Ямото сильно сдал. Совсем недавно Уильям имел отличную возможность рассмотреть садовника и хорошо помнил его лицо. Теперь у Ямото появилась жидкая седенькая бороденка, а кроме того, под узкими полями котелка в его ушах болтались серьги — золотые рыбки с лицами Гила Пича. Лицо Ямото было лишено всякого выражения, мертво. Ловкий как кот, он все бежал и бежал вдоль изгороди без остановки, с каждым мгновением приближаясь.
От небывалого ужаса у Уильяма перехватило дыхание. Он открывал рот, но воздух в легкие не попадал. Лишившись способности двигаться, он мог теперь только наблюдать, как садовник мчится к нему, рассекая ветер, — брюки Ямото трещали и хлопали, точно сорванные паруса. Неожиданно в глаза Уильяму бросился лежащий у стены дома металлический сундук, крышка которого со стуком открывалась и закрывалась, снова и снова, хлоп, хлоп, хлоп, и так до тех пор, пока сундук вдруг не оторвался от земли и, покачавшись мгновение в нерешительности, не уплыл, как и все прочее до него, в небо, лишь раз блеснув боками в отдалении. Целеустремленно бегущего вперед Ямото ветер так же внезапно поднял в воздух и, закрутив колесом, вместе с сорванным котелком унес прочь, словно бумажный змей, и брюки садовника еще долго белели в свете одобрительно улыбающейся луны. Вяз на границе участков затрясся, согнулся и был вырван с корнем и сметен во тьму. По небу помчались редкие быстрые тучи, в их разрывах Уильям замечал снующие звезды, настоящий поток звезд, несущийся из пространства и омывающий Землю. Подобно чудо-гелю, ветер вычистил заржавленные покровы небес, заставив звезды, планеты, шляпы-котелки и шезлонги засиять над крышами города во всей красе.
Глава 21
Проникая в комнату сквозь забывшие о шторах окна, солнечный свет ровно и мощно бил Уильяму в глаза. Было восемь утра. Ночь прошла непередаваемо скверно. Ветер еще не утих, но при свете дня скрежет жестких как жесть пальмовых ветвей уже не казался таким всепроникающим. Уильям вспомнил, что ночью ему снились кошмары. Однако разобраться, что ему приснилось, а что он в действительности увидел через выходящее на задний двор окно, было невозможно. Все, что он помнил, представлялось ему до странности реальным.
Он совершенно не был настроен провести целый день в заброшенном доме. С визитами домой должно быть покончено до рассвета, но будь он проклят, если откажет себе в чашечке кофе. Он был полон отваги и желания рискнуть головой. Эдвард, если узнает об этом, будет ругать его на чем свет стоит, но с'estlavie, как говорят французы. Он запрется и не станет отвечать на телефонные звонки. В случае появления опасности он всегда сможет снова перебраться через забор и спрятаться у Кунца.
Прежде чем выйти наружу, Уильям провел несколько секунд перед дверью черного хода, рассматривая дом Пембли. Во дворе и в окнах никого. Приотворив дверь, он пулей вылетел наружу, пригнулся и побежал к забору. У забора Уильям выпрямился, заглянул к себе во двор и, убедившись, что все спокойно, забрался на кучу кирпичей, спрыгнул по ту сторону и сразу же нырнул в дверь сарая-лабиринта. Не стоило испытывать судьбу. Выглянув наружу, он наконец направился к черному ходу дома, но по пути остановился, чтобы заглянуть под вяз. На траве под вязом уже созывала к себе первых утренних мух кучка собачьих фекалий.
Сердце в груди Уильяма дало сбой и заколотилось в два раза быстрее, частью от ярости, частью от страха. Вверху на ветках вяза не было и намека на ночную лебедку. Конечно, этого и следовало ожидать. Они обо всем позаботились, все продумали до мелочей. Лебедка наверняка сейчас невинно ржавеет в траве по ту сторону живой изгороди. Внезапно опомнившись, Уильям повернулся и заторопился в дом.
Утро тянулось невыносимо. Он пытался читать, но не мог. Тогда он попробовал писать, но и это оказалось напрасной тратой времени. На бумаге не оставалось ничего, кроме невразумительной ерунды, смятые листки с перечеркнутыми первыми абзацами, содержащие только невнятные намеки и смутные обещания, один за другим летели в корзину для бумаг. Уильям бродил по дому, заглядывал в шкафы, включал лампы и тут же выключал их снова. Большую часть времени он провел у окна, раздумывая о возможных выходках своей соседки. Чтобы его не заметили снаружи, Уильям по-особому занавесил окна. Гибискус не особенно разросся, и двор миссис Пембли был виден превосходно, однако смотреть там было не на что. Миссис Пембли, забыв про обычный утренний обход лужайки, не баловала соседа своими появлениями. Лишь раз она на минутку показалась на крыльце, бросив своему псу монументальную кость — с виду ни дать ни взять вареная голова ее муженька, со смехом подумал затаившийся за шторой Уильям. Развернувшись, старуха снова скрылась в недрах своего жилища. Уильяму это совсем не понравилось. Это было неестественно. Что-то определенно затевалось.
Около полудня Уильям устроился в своем зеленом кресле и задремал. Неожиданно вздрогнув, он проснулся, совершенно не помня о том, что именно его потревожило какой-то звук или смутная угроза. Сосредоточив внимание на шумах, доносящихся с улицы, он прислушался. Его ухо различило скрежет и лязг опускаемого борта кузова. Уильям поднялся из кресла, подошел к окну и — хлоп! — Ямото был тут как тут, снова суетился с секатором для бамбука и корзиной для скошенной травы, трудолюбиво приседал на корточки перед невысокой посадкой бегоний, отделяющей на небольшом промежутке двор Уильяма от двора Пембли.
Уильям ощутил, как ярость закипает в нем с новой силой. Остаток кошмарного сна, образ мчащегося по ветру Ямото в развевающихся брюках возник перед ним необычайно ясно. Он содрогнулся и принялся мерить шагами гостиную. Маленький Эдвард Сент-Ивс, пристроившись на его плече, давал ему ценные наставления, взывая к здравому смыслу и лучшим чувствам. Уильям махнул рукой и сбил кроху на пол.
— Я знаю, они что-то затевают, — отчетливо произнес он.
Потом снова остановился перед окном. Мощной треугольной тяпкой Ямото рыхлил грядку с цветами на стороне Пембли, все время находясь в опасной близости к бегониям Уильяма. Пусть только посмеет срубить хоть один оранжевый бутон…
Терпению любого человека есть предел, подумал Уильям.
— Главная часть отваги — выдержка, — пропищал ему на ухо тонкий, изводящий голосок.
— Выдержка! Слышать больше не хочу о выдержке. Кроме того, я ненавижу клише. Ты только посмотри на это — он подрубает цветам корни. Бегонии не вынесут такого варварского обращения. Грубый азиат!
Уильям в ярости заметался по комнате. Маленький Эдвард куда-то сгинул. Ну и пусть себе проваливает. Здесь вопрос чести. Перчатка давно брошена, настало время Уильяму подобрать ее и как следует отходить ею Ямото по физиономии. Кстати, и старуху тоже. Прошлой ночью их дерзость достигла невиданных высот.
Однако теперь Уильям был осмотрителен. Он хорошо помнил урок, преподанный ему тюбиком зубной пасты. Неторопливость и осторожность — вот что теперь станет его девизом. Ямото наверняка проведет в саду еще не менее часа. Есть время подготовиться. Разыскав в кладовой старый рюкзак, Уильям отнес его на кухню и первым делом положил в него половину палки салями. Следом за колбасой в рюкзак отправились банка консервированных персиков и открывалка. Отыскав в кухонном шкафу пачку соленых галет «Орео» вместе с несколькими картонными упаковками изюма и яблоком он прибавил это к припасам.
Достав квартовую флягу, Уильям наполнил ее водой, нашел фонарик — конечно, не такую булаву, к которой он привык, но все-таки достаточно тяжелый, чтобы с его помощью внушить толику уважения разнообразным врагам — и, наконец, один из знаменитых шахтерских шлемов с фонариком из магазинчика военно-морских излишков. Это был шлем Лазарела, но профессор его поймет. Все равно на борту батисферы шлем Лазарелу не понадобится. Уильям отнес потяжелевший рюкзак, флягу с водой и шлем к двери черного хода. Подумав немного, он принес и уложил в рюкзак книгу Пен-Сне, компас и один из маленьких карманных фонариков-карандашей Филлипа Мэйса. Закинув рюкзак за плечо, он вышел из дома, свернул за сарай и, перебравшись через забор, отнес рюкзак во двор пустующего дома Кунца. Исход дела мог быть самым неожиданным, и, возможно, придется уносить ноги без оглядки.
Занявшись упаковкой рюкзака, он почувствовал, как жизнь вновь обретает внутренний стержень. Теперь он готов ко всему, ко встрече с любыми врагами. Сейчас он покажет этому Ямото. С лужайки Пембли отчетливо доносился треск косилки. Просто выскочить из дома и предстать перед хитрым садовником — не самое лучшее решение. Именно эту ошибку он допустил во время их последней схватки, когда был побежден обычным садовым шлангом. Сейчас ему необходимо отстоять свои права не только в собственных глазах, но и в глазах закона. Но и это легко достижимо. Он обязательно что-нибудь придумает. А как только точный удар будет нанесен и связь между Фростикосом и Ямото выявлена, он, Уильям, будет оправдан, а необходимость побега из лечебницы доказана. При наличии объективных доказательств уже никто не решится вешать на него ярлык «параноик». Эдвард наверняка согласился бы с таким решением.
Выскользнув на парадное крыльцо, Уильям распластался по стене дома, стараясь стать невидимым. Осторожно повернув и высунув голову, он проверил, чем занимается садовник. Ямото беззаботно гнал свою косилку через лужайку. Резко развернувшись у границы участка Пембли, азиат двинулся в обратном направлении. Уильям пригнулся, быстро перебежал к кустам и затаился. Как только Ямото завершил очередной заход и снова повернулся спиной, Уильям бросился вперед и оказался около грузовичка садовника. Когда азиат вместе со своей косилкой в очередной раз повернулся к нему лицом, Уильям уже был надежно укрыт от его раскосых глаз кузовом машины, а еще через минуту, стараясь действовать тихо, он забрался в кабину грузовичка, где ничком растянулся на сиденье.
Часто и взволнованно дыша, скорее от волнения, чем от беготни, Уильям пошарил рукой под сиденьем. Там он не обнаружил ничего, кроме весьма уместных пружин. А что он рассчитывал там отыскать? Переносную рацию? Пистолет? Чемоданчик врача? Неожиданно рука Уильяма наткнулась на книгу. Он быстро вытащил ее наружу. Книга была написана иероглифами. Уильям не мог даже разобрать, где у страниц верх, а где низ. Начиная раздражаться, он швырнул книгу на пол кабины, в пыль.
— Так вот почему он не может говорить как мужчина, — пробормотал он, играя Гекльберри Финна, и открыл бардачок. Оттуда на пол хлынул каскад всевозможных мелочей. Поворошив высыпавшиеся предметы рукой, Уильям рассмотрел их: пачка сигарет, карамелька, карта города, пачка бумажных носовых платков, пара маленьких тюбиков с горчицей и кетчупом, шариковая ручка, еще одна книга, орехи и болты. И ничего, что могло бы стать уликой. Ничего предосудительного, как выразился бы адвокат. Ничего, кроме маленькой деревянной резной коробочки, вероятно палисандровой, с золотой рыбкой в самой середине крышки — рыбкой, изогнутой, как одна из половинок инь и ян. Уильям открыл коробочку. Внутри были таблетки, аспирин «Байер» на первый взгляд. Уильям положил один из белых кружков на язык. Вкус у таблетки был горький.
Вполне возможно, что таблетки только с виду напоминали аспирин. Организации, подобной мафии Хан Коя, с ее возможностями не составляло труда изготовить из морфина или героина фальшивый аспирин. Все дело было в золотой рыбке — это был знак. Для человека случайного такая рыбка не значила бы ничего. Но для Уильяма и для любого знакомого с закулисными секретами, с интригами и тайными уловками Хан Коя… Уильям засунул коробочку в карман. Приподнявшись на локте, он взглянул на лужайку перед домом Пембли.
К его огромному облегчению, Ямото все еще был занят стрижкой газона. Уильям усмехнулся. «Черт возьми!» — подумал он. Жалко, что он не захватил из дома картофелину, чтобы затолкать ее в выхлопную трубу грузовичка. Сам бы он спрятался в кустах и следил оттуда. Вот Ямото начинает заводить машину, а мотор все время глохнет. Садовник вылезает из кабины на тротуар, чешет в затылке и открывает капот. На вид двигатель совершенно исправен. Машина издевается над своим хозяином. Крайне озадаченный Ямото бродит вокруг грузовичка, заглядывает под кузов, дергает всякие ручки, что-то тихо приговаривая. На своем крыльце появляется миссис Пембли, спускается к грузовичку, складывает на груди руки и принимается вслух сочувствовать. И у садовника, и у старухи наконец возникают подозрения, они пугаются. Жалобно озираются по сторонам. Неужели здесь побывал Уильям Гастингс? Неужели он, невидимый, как ночной призрак, подходил к дому Пембли? Неужели это именно он расстроил их коварные планы проникновения к центру Земли?
Миссис Пембли трясет головой. Ямото заламывает руки и падает позади грузовичка на колени, в ужасе уставившись на торчащую из выхлопной трубы картофелину, перекрывшую отток отработанных газов, полностью парализовав работу двигателя. Садовник начинает выковыривать картофелину из трубы. Миссис Пембли изумлена и сбита с толку, она спрашивает садовника, откуда в его выхлопной трубе взялось это инородное тело. Неожиданно старуха и садовник замирают, парализованные ужасом. Позади них в кустах раздается шорох. На тротуаре появляется Уильям Гастингс в костюме и при галстуке, с улыбкой на устах. Он кланяется злополучной парочке, осведомляется о здоровье добермана. В нескольких словах предлагает коренное усовершенствование помочей и лебедки, приспосабливаемой к вязу. Садовник и старуха ошарашены его появлением — Ямото стоит с глупым видом с картофелиной в руке, миссис Пембли при виде пришельца разворачивается и в панике спасается бегством в свой дом. Уильям достает и показывает Ямото улику — резную коробочку. «Аспирин?» — спрашивает он азиата. Ямото бледнеет.
Живо представив себе эту картину, Уильям хихикнул. Если он сейчас поторопится, то вполне еще может успеть разыграть мизансцену от начала до конца. Он поднял голову и посмотрел на потолочную обивку кабины. В дешевом кожзаменителе темнело не меньше миллиона мельчайших дырочек, они ровными рядами шли от края до края. Вполне возможно, что это были вовсе не дырочки, а маленькие точечки.
— Аспирин? — грозно вопросил Уильям, качая головой и пуча глаза.
Ужасный крик, раздавшийся за дверцей, заставил его вжаться в сиденье — то был короткий, полный смертельного ужаса вопль человека, увидевшего нечто сверхъестественно кошмарное. Вскочив, Уильям врезался головой в потолок кабины. Через открытое окно на него смотрел Ямото, побелевшие губы садовника беззвучно шевелились, он весь дрожал. Казалось, азиат видит перед собой не живого человека в кабине собственной машины, а истерзанный труп в кустах.
— Ха! — выкрикнул Уильям, уже оправившись от первоначального шока. Взмахнув коробочкой с золотой рыбкой, он ткнул ею в нос Ямото.
— Так вот чем ты занимаешься? Что это — героин, морфий? Отвечай! Что ты знаешь о Хан Кое?
Ямото, размахивая перед собой руками, словно исполняя какой-то ритуальный танец, отпрянул от машины. Уильям уперся рукой в приборную панель, подхватил книгу Ямото и с силой швырнул ее в окно вслед хозяину. Ничего другого в голову ему не пришло. То же самое он проделал и с барахлом на полу. Нагреб полную пригоршню и в ярости метнул все это на лужайку. Он им покажет, как делать из него дурака. Распахнув дверцу кабины, он ногой выпихнул остатки имущества Ямото в сточную канавку. Миссис Пембли уже маячила на своем крыльце. Если она еще в своем уме, там она и останется.
Ямото бросился к своим инструментам. Он был разоблачен. Таблетки в коробочке сыграли свою роль — Уильям сразил ими садовника наповал. Впрочем, разговор сейчас шел не о ставках по десять центов на бейсбольном матче. Ямото был в отчаянии и готов на все. Уильям выскочил из кабины грузовичка и вскарабкался в кузов. Наступив на стволики, срезанные секатором для бамбука, он пошатнулся и чуть было не вывалился через борт наружу. Ублюдки! Ругаясь последними словами, он принялся топтать и ломать тонкие, с мизинец, суставчатые стебли. Подхватив одну из бамбуковых палок, он метнул ее словно копье в кусты. Неподалеку воинственно размахивал тяпкой Ямото. Уильям громогласно расхохотался, подхватил из кузова полный скошенной травы мешок, перевернул и вытряс его на мостовую, потом приподнял и перевалил через низкий задний борт машинку для стрижки живой изгороди, обрушив ее вниз, — желто-красное устройство с грохотом рухнуло на асфальт и осталось там лежать, с виду лом ломом. Уильям испустил победный клич. Повернувшись, он проорал что-то невразумительное Ямото, который, как заметил Уильям, близко подходить не решался. Ухватившись за борт грузовичка, Уильям лихо спрыгнул вниз, оступился и упал, но прежде чем Ямото успел налететь на него со своей тяпкой, снова очутился на ногах.
Расправив плечи, он сделал несколько шагов к крыльцу Пембли. Полностью уничтоженный Ямото в страхе выронил свое оружие в траву. Миссис Пембли что-то пыталась бормотать и определенно напрашивалась на неприятности.
— Вы что же, — заорал на нее Уильям, — думаете, я не знаю, чем вы там занимаетесь со своей псиной?
Развернувшись, миссис Пембли влетела в свой дом как ракета, с грохотом захлопнув за собой дверь. Через секунду она снова появилась в окне. Пока Уильям скакал по ее цветам, Ямото бессвязно причитал и даже пытался слабо протестовать. Основательно вытоптав цветник, Уильям снова повернулся к дому старухи.
— Чтобы духу вашей собаки на моей лужайке не было! — проорал он. Все стройные, веские и обидные спичи, которые он репетировал в течение минувшей недели, от злости вылетели из головы. Выдернув одну из бегоний с корнем, он разорвал ее в клочья и бросил в Ямото.
Уильям почувствовал усталость. Уничтожать грядку полностью не имело смысла — этим он ничего не достигнет. Неожиданно он совершенно растерялся. Ситуация снова вышла из-под контроля. Он опять проиграл. Эдвард был прав с начала до конца, бессмысленно отрицать это. Но у него оставалась палисандровая коробочка. Приведшая Ямото в такой ужас. Он и сейчас отчетливо видит это в глазах азиата — отчаяние. Ямото хотел вернуть коробочку. Проломившись сквозь живую изгородь, Уильям оказался на своей территории.
— Я еще вернусь! — крикнул он на прощанье, уже понимая, что общее впечатление испорчено. Никаких подобающих ситуации серьезности и достоинства. Проскользнув в сарай-лабиринт, Уильям перебрался через задний забор, подобрал рюкзак и флягу с водой, нахлобучил на голову шахтерский шлем. Когда через пять минут он спускался по стальным скобам в канализационный тоннель, никто за ним не гнался.
К тому времени как дядя Эдвард и профессор Лазарел вернулись из Гавиоты на грузовике со снятыми бортами и стоящей в кузове на бронзовых опорах загадочной батисферой, полиция успела приехать и уехать дважды. Полицейские допросили Джима. Он находился в школе и ничего не знал. Полицейские заявили: ими обнаружены доказательства того, что Уильям Гастингс взломал дверь пустующего дома напротив и жил там в течение нескольких дней. Джим ответил, что слышит об этом впервые. Все это время он считал, что его отец уехал в Северную Калифорнию, пожить там на лоне природы. Полицию это уже не интересовало. В комнатах дома Кунца они обнаружили обертки от гамбургеров, а мальчик-разносчик в закусочной Пита «Высший класс» опознал фотографию Гастингса. Они хорошие детективы и собрали достаточно доказательств, будьте уверены.
Но Уильям Гастингс снова исчез — вероятно, скрылся в канализации. «Кем этот псих себя воображает? — спрашивали они. — Болотным Лисом, Робином Гудом, сражающимся с грозящими покою планеты инопланетными пришельцами?»
Появившаяся следующим утром в «Таймс» статья, изобразив происшествие в юмористических красках, особое внимание уделила подробностям выходок Уильяма, между прочим подчеркнув его дружеские отношения с Расселом Лазарелом, пилотом батисферы, намеревающимся предпринять очередную попытку покорить земное ядро. О недавнем фиаско Джона Пиньона было сказано вскользь. Автор статьи заявлял, что в редакцию было доставлено письмо от самого Уильяма Гастингса, написанное весьма связно и не без изящества на вырванном из какой-то старой книги последнем чистом листе. По словам нашедшего письмо, это странное послание, в котором подробно излагался план исследования внутреннего мира, было свернуто в тонкую трубочку и просунуто наружу сквозь отверстие в крышке канализационного люка, находящегося прямо перед дверями редакции «Таймс». Тщательно обыскав близлежащий район канализационных сетей, полиция никаких следов беглеца не обнаружила. Гастингс снова растворился в подземельях, как бестелесный дух.
В письме, кроме того, имелось несколько непечатных обвинений в адрес известного в городе психиатра, а также упоминались некие подземные не то озера, не то моря, используемые китайскими наркоторговцами для доставки товара на джонках. Обитающих якобы в затонувших галеонах и барках на дне подземных озер водяных людей Гастингс непонятным образом увязывал с подводным скоплением человеческих костей, не так давно обнаруженным рыбаками, а также с эласмозавром, со слов профессора Лазарела, виденным им в глубинах океанической впадины близ Пало-Верде, и таинственной летающей субмариной, замеченной у оконечности острова Каталина. Редакция «Таймс» поздравляла Гастингса. Как бы ни было, он доказал, что на самом деле совершенно безопасен. Что он такого сделал — растоптал грядку с цветами на лужайке соседки? Что касается легких телесных повреждений, нанесенных им с помощью фонаря служащему лечебницы, то на это тоже имелся ответ — вместе с письмом Гастингс вложил в конверт ксерокопию заключения, где ему предписывалась лоботомия, которую должны были произвести в той самой лечебнице, откуда он через неделю сбежал. Врач Гастингса, по непонятному совпадению вовлеченный в историю с подземоходом Пиньона, разрушившим канализационный тоннель, разыскивается, чтобы быть допрошенным полицией.
Прочитав о письме Уильяма, Эдвард расстроился. Но после того как он перечитал статью еще раз, его мнение существенно изменилось. Было ясно, что Уильям каким-то образом умудрился сделаться героем местных хроник. Причем каждый его шаг был хорошо продуман. Его не принимали всерьез, но не будь письма, его судьба была бы предрешена, потому что бесконечно скрываться он не мог.
Но кто сказал, что Фростикос боится огласки? Хан Кой безусловно предпочитал держаться в тени. Возможно, Ямото действительно был как-то связан с доктором. Не изменившись в лице, Эдвард хладнокровно согласился оплатить садовнику ремонт изувеченного оборудования и восстановление цветника — миссис Пембли. Раздувать кровную вражду смысла не было. Гораздо лучше было сделать все возможное, чтобы прекратить ее. Но терпение миссис Пембли иссякло — она поместила в газету объявление о продаже дома и собиралась переезжать. Сносить выходки Уильяма она больше не желала. Эдварду было нечем крыть. Если честно, ответил он ей, он и сам не рад своему шурину.
Как бы там ни было, Эдвард не жалел, что они берут Уильяма с собой в батисферу. Его шурин неким странным образом превратился в своеобразное связующее звено между всеми ними. Кроме того, даже под страхом смертной казни Эдвард не смог бы объяснить, откуда под вязом время от времени появляются собачьи испражнения. Если в конце концов окажется, что во всем виноват Гил Пич, снабдивший соседского пса антигравитационным устройством, он ничуть этому не удивится.
Было составлено расписание, и один из экземпляров должен был сейчас лежать у Уильяма в бумажнике. Гил особенно настаивал на том, чтобы время в расписании проставили с точностью до минуты. Они стартуют с наименьшим отливом, когда вода отступит на шесть футов. Если волна будет не слишком высокой, Сквайрс сможет удержать свой буксир на месте. По всем возможным прогнозам море обещало быть спокойным и тихим. Почему так важен был критический момент отлива, Эдвард понять не мог. Гил ответил, что дело здесь в разности давлений в машине Иеронимуса и системе привода Дина. Вот если бы им нужно было двигаться в другом направлении, например лететь, тогда требовался бы высокий прилив. Всего лишь физика и законы лучевого движения. Эдвард кивнул и поверил на слово. Батисфера будет спущена на воду завтра точно в три часа дня. Если Уильям не успеет к этому времени, его ждать не будут. Условие было жестким. Кто не успел, тот опоздал.
Проснувшись среди ночи, Эдвард долго не мог понять, что его разбудило. Это мог быть и сильный гулкий удар, и выстрел, и выхлоп автомашины. Кроме того, ему казалось, что он слышал перезвон колокольчиков, внезапно стихший. Уже совершенно проснувшись, он поднялся и сел в постели, потом встал и на цыпочках вышел в коридор. Звук донесся с улицы, и потому не было никакой необходимости хвататься за старую саблю в ножнах, но, как и Уильяму фонарь, сабля давала Эдварду ощущение неуязвимости.
Перед домом у самого тротуара белым призраком стоял грузовичок мороженщика. Темное лицо водителя в кабине было повернуто к дому. Это был Джон Пиньон. Лазарел предупреждал, что Пиньон может сорваться, что в результате похода, столь позорно закончившегося в канализации, он может подвинуться рассудком. Им всем, прибавил Лазарел, нужно быть теперь особенно внимательными. Эдвард включил на крыльце свет. Грузовичок заскрипел стартером, заглох, снова попытался завестись, дернулся и покатил по улице вперед. Эдвард погасил на крыльце свет и, возвращаясь в кровать, ломал голову над тем, что занесло Пиньона в их края в такой час. Если он хотел испортить батисферу, то просчитался — аппарат был надежно заперт в гараже Ройкрофта Сквайрса. Профессор Лазарел и Гил Пич сторожили батисферу, и Эдвард был уверен: если Гил решил, что с ней ничего не случится, то так оно и будет.
Ровно в восемь утра зазвонил телефон. Эдвард уже проснулся и, лежа в постели, думал о грядущем путешествии. У него было странное чувство, словно ехать ему предстояло куда-нибудь за границу, в страну, языка которой он не знал, в страну, где говорить он ни с кем не мог, а машины ездили не по той стороне дороги или вообще вверх колесами. Неожиданно безрассудство их планов заставило его похолодеть. Они вверяли свои жизни Гилу Пичу. Его способности и возможности не вызывали сомнений, но в то же время не вызывала сомнений и его эксцентричность, его пугающе-непроницаемое внешнее спокойствие. Зря мы решили взять с собой Джима, подумал Эдвард. Если неймется, подвергайте опасности собственные жизни, но не жизнь Джима. Он сказал об этом Уильяму, тот обещал поговорить с Джимом и поговорил. В результате Джима все равно брали. Гилу плыть было обязательно — без него все теряло смысл. Он отправится в любом случае — с ними или без них. Что делать, думал Эдвард, лежа на спине, в жизни порой приходится рисковать. Первые две сотни футов они будут висеть на тросе «Герхарди». Если устройство Гила окажется работоспособным, они отцепят трос и продолжат спуск. Если ничего не получится, Сквайрс должен будет вытянуть их. «Но до этого не дойдет», — пронеслось у Эдварда в голове. По каким-то необъяснимым причинам он не мог представить себе свою жизнь после сегодняшнего дня, по крайней мере жизнь в «верхнем» мире. Эдвард явственно ощущал, как воронка путешествия засасывает его безвозвратно.
Звонил Уильям Ашблесс. Он был как-то необычно развязен — выразил свои сожаления по поводу того, что, расставшись с Эдвардом на острове Каталина, с тех пор не имел возможности повидаться. Их приключение угнетающим образом повлияло на него, сказал он. Всему виной его отвратительный артистический темперамент. Он поднялся на утес и несколько дней медитировал среди холмов, питаясь ягодами и орехами.
— Мы видели, как ты улетел на субмарине, — ровным голосом проговорил в трубку Эдвард, несколько приукрасив истину. — И говорили с Бэзилом Пичем и знаем, что ты шантажировал его Гилом и пытался склонить к сотрудничеству. Ты продал нас всех несколько раз. Возвращайся обратно в постель.
— Я никого не продавал! — завопил в трубку Ашблесс, прежде чем Эдвард успел дать отбой. — Кто, по-твоему, рискуя головой, пронес Гилу «Аналог»? Кто навел его на мысль вернуться на вашу сторону? Кто, по-твоему, узнал, что в действительности произошло с Реджинальдом Пичем? Я поэт, художник, и всегда был им. Я понимал, что Уильям видит мир гораздо яснее, чем вы все вместе взятые, и сказал об этом парнишке Пичу. Если бы Уильям не пришел за ним, я сам бы это сделал. Почему, как ты думаешь, меня не было на борту левиафана?
— Потому что, — устало отозвался Эдвард, — ты знал, что без Гила «крот» никуда не годится. Ты узнал о способностях Гила гораздо раньше всех нас. Могу поспорить на что хочешь. Ты просто выжидал, гадая, в чьем же распоряжении эти способности в конце концов окажутся. Так вот — Гил теперь с нами, но у нас нет места для пассажиров.
— Подожди! — закричал Ашблесс, но Эдвард уже повесил трубку. Ждать дольше не было времени. Чтобы собрать снаряжение и запереть дом, у него оставалось меньше часа. Один раз, около 9:30, Эдварду почудилось, что он слышит неподалеку колокольчики грузовика мороженщика, но, выглянув на улицу, он ничего не заметил. Джим был уверен, что видел чью-то голову, выглянувшую из-за заднего забора. Сначала он решил, что это был отец, но, через минуту заглянув за забор, не нашел там никого.
Ровно в одиннадцать они ехали вчетвером в грузовике с батисферой по автостраде Пасадина. Ройкрофт Сквайрс катил следом за грузовиком на своей маленькой «Остин-Хейли», которая, к огромному облегчению хозяина, так и не научилась летать или двигаться со скоростью света, вопреки доброжелательному предложению Гила усовершенствовать ее. Соблазн, конечно, был, но, немного подумав, Сквайрс пришел к выводу, что летать с такой скоростью ему, в общем-то, некуда.
Всю дорогу Эдвард искал в зеркальце заднего вида тень преследователя — белого грузовичка. Долгое время ничего похожего не замечалось. Свои подозрения он держал при себе и с Гилом ими не делился, так как не знал, как тот отреагирует на имя Пиньона. Кроме того, Эдвард не хотел, чтобы Гил превратил Пасадину в морское дно. Чем обычнее они будут держаться и чем меньше внимания окружающих привлекут к себе, тем лучше, в особенности если учесть, что до спуска батисферы еще целых четыре часа. Тем более что никаких признаков соседства Джона Пиньона не наблюдалось. Возможно, всему виной его воображение, решил Эдвард.
Но не успел он успокоить себя, как, пересекая Пасадина-авеню, заметил борт белого грузовичка с крытым кузовом: вынырнув из переулка, тот пристроился за ними через несколько машин. На мгновение машины закрыли белый грузовик. Что теперь делать — наддать, пытаясь оторваться, или, наоборот, притормозить и посмотреть, кто сидит в кабине грузовичка за рулем? — ломал голову Эдвард. Так ни на что и не решившись, он продолжал ехать вперед, пересек бульвар Лонита и свернул к Уильмингтону, время от времени поглядывая на белый призрак в зеркале заднего вида.
Заметивший его волнение Лазарел очень быстро смекнул, в чем дело и, уставившись в зеркало, принялся следить за мороженщиком, а один раз, на въезде с автострады Харбор на мост Винсент Томас к острову Терминал, профессор многозначительно взглянул на Эдварда и поднял бровь. Эдвард пожал плечами. Гил сидел с непроницаемым лицом, углубленный в свои мысли. Джим читал «Дикий Пеллюсидар», настраиваясь на путешествие. Когда они начали перегружать батисферу на буксир Сквайрса, белого грузовичка поблизости видно не было.
Глава 22
Вканализацию можно было и не торопиться — все прошло совсем не так захватывающе, как думалось. Убедившись, что никто за ним не гонится, Уильям перестал видеть себя призрачным Робином Гудом. Насколько он понял, всем было на него наплевать. Вряд ли полиция устроит в канализационных сетях обширную облаву только из-за того, что он подпортил цветник миссис Пембли. Внизу было темно и неприятно — страшно. Скупые лучи света, проникая сквозь решетки редких уличных водостоков, освещали тоннели всего на несколько футов. Выключая ручной и нашлемный фонари, Уильям оказывался в такой кромешной темноте, что ему начинало казаться, будто он окружен стенами — может быть, лежит в гробу или разделил судьбу замурованного в подвале злодея из рассказа Эдгара Аллана По. Перспектива провести в потемках целую ночь и большую часть следующего дня, прислушиваясь к шуршанию крыс и воображая себе неспешный шелест проползающих неподалеку невероятных пресмыкающихся, заставила Уильяма содрогнуться.
Следуя схеме капитана Пен-Сне, он прошел вдоль Колорадо и взял курс на улицы, еще не нанесенные на карту, — в районе новостроек. Менее чем в двух милях от дома он обнаружил люк, выходящий на поверхность на незастроенном участке — пятачке земли между новыми домами, обнесенном со всех сторон заборами и заросшем бурьяном. Выбравшись на свет божий и закрыв за собой люк, он сел на автобус до Колорадо и, прокатившись в центр Лос-Анджелеса, с пользой и удовольствием провел остаток дня на Олверта-стрит, закусывая энчиладами и обдумывая письмо в редакцию «Таймс». Для письма он вырвал из книги Пен-Сне последнюю страницу.
Но покоя ему не было. Он пугался каждого полисмена. Небрежные взгляды случайных прохожих были полны мгновенно просыпающейся подозрительности. Отказавшись от столика у окна, он уселся у пожарного выхода, припомнив советы из гангстерских фильмов, в которых хороших, но невнимательных парней расстреливали из автоматов прямо сквозь ресторанные витрины из проезжающих мимо автомашин. Прежде чем нырнуть в паб, он целых полчаса бродил по окрестностям, разыскивая канализационный люк, а когда наконец нашел один прямо перед заправочной станцией «Юнион», тот, к сожалению, оказался расположенным слишком далеко от пива и мексиканских лепешек, чтобы в случае опасности успешно им воспользоваться. Около половины пятого, никем не потревоженный и не замеченный, он снова спустился в канализацию, чтобы доставить к штаб-квартире «Таймс» свое письмо — свое оправдание — и препоручить его судьбе.
Не рискуя объявиться в редакции собственной персоной («добрый вечер, я — Уильям Гастингс»), он скатал письмо в трубочку, вытолкнул наружу через отверстие в крышке канализационного люка и поспешно бежал, а позже вечером снова поднялся на поверхность, чтобы купить батарейки к фонарику и спальный мешок, взвешивая все за и против того, чтобы провести ночь в лесу — клочок которого имелся на небольшом незастроенном треугольном участке, ограниченном автострадами Санта-Ана, Санта-Моника, Панама и Лонг-Бич.
План ночевки на поверхности был отвергнут после того, как на Спринг-стрит Уильяма несколько минут преследовала полицейская патрульная машина, в результате чего Уильям снова был загнан под землю, так и не поняв, был ли узнан или полиции просто показались подозрительными его шахтерский шлем и спальный мешок.
Полчаса спустя он уже ехал в такси на юг, к Ла-Бреа. Ему следовало подобраться к побережью как можно ближе. Денег для того, чтобы доехать до самого полуострова, у него не хватало, поэтому, пока машина ехала через Иглвуд, Леннокс, Готорн — все ближе к свободе, он не сводил со счетчика глаз.
Неожиданно он заметил, что водитель наблюдает за ним, рассматривает в зеркало. Это было тревожно, подозрительно.
— Остановите на Розенкранц — я выйду, — подвигая к себе свои пожитки, попросил Уильям.
— Мне казалось, вы собирались в Пало-Верде, — раздраженно отозвался водитель.
— Собирался, — согласился Уильям. — Но передумал. Ничего страшного.
— Да не волнуйтесь вы так, — отозвался водитель.
Что-то было не так, какая-то новая опасность подкрадывалась к нему. Водитель был чьим-то агентом — Фростикоса или полиции. Они добрались до него. Заманили в ловушку. Впереди, в пятидесяти ярдах от машины, на Розенкранц горел зеленый сигнал. Водитель прибавил газ. Светофор мигнул и переключился на желтый. Водитель проехал мимо светофора, но на следующем перекрестке был вынужден остановиться.
— Хорошо, давайте на Пало-Верде, — проговорил Уильям. — Просто я не уверен, хватит ли у меня денег. На чаевые и все такое.
— Не волнуйтесь, — снова отозвался водитель. — Лишь бы человек был хороший, а деньги — дело второе.
Уильям вытащил из кармана бумажник, заглянул в него, убрал обратно и, как только водитель включил передачу, собираясь трогаться, распахнул дверцу и бросился вон из такси.
— Эй! — крикнул водитель ему вдогонку, сразу же тормозя и сворачивая к тротуару. Раздался гудок. Водитель выскочил из машины. На перекрестке мгновенно возникла пробка. Заметив вдалеке темный переулок, Уильям, громыхая снаряжением, припустил в сторону благословенного мрака что было сил. Шиш с маслом получат, а не Уильяма Гастингса. А водитель остался-таки без чаевых — Уильям расхохотался и перешел на быстрый шаг. Надо потом послать таксомоторной фирме письмо и поблагодарить их за сотрудничество.
Пора снова спускаться под землю — это было совершенно ясно. Никому нельзя доверять. Он поспит час-другой, а остаток пути проделает пешком под землей. Но оказалось, что внизу найти место для сна невозможно. В тоннелях повсюду текла вода — от небольших ручейков до полноводных бурливых потоков. В некоторых достаточно широких трубах он мог идти по краю ручьев, но устраиваться на этих покатых берегах на ночлег не решался — заснув, он легко мог скатиться в воду. Или же поднявшаяся к ночи вода зальет его, спящего, и унесет в море. Выбрав наконец почти сухую трубу, он развернул мешок, забрался внутрь и, погасив фонарь, остался лежать в темноте. Он находился в десяти или двенадцати милях от Пало-Верде — поспав три часа, он легко пройдет этот остаток пути и поспеет вовремя.
Снова включив фонарь, он немного почитал Пен-Сне, потом еще раз посмотрел карту подземелий, выбрав самый прямой маршрут к штормовому водосливу к югу от Лунада-Бэй. Время от времени над ним по улице проносились редкие машины, но ближе к середине ночи это случалось все реже и реже. Уильям попытался представить себе, что находится в палатке, залитой мутно-желтым светом, что тьма вокруг — не более чем натянутый над головой брезент. За пределами маленького круга, образованного лучом фонаря, невозможно было ничего различить. Несколько раз он брал в руку фонарик и светил им в разные стороны, но ничего, кроме голых и серых стен трубы, не видел. Один раз ему показалось, что он слышит приглушенный топот бегущего животного, но стоило включить фонарик и поводить им по сторонам, как звук исчез, словно его и не было. Возможно, животное затаилось за пределами светового пятна и сейчас изучает его из темноты.
Всему виной частая и внезапная смена тьмы и света, сказал он себе и, чтобы пообвыкнуть в темноте, решительно погасил фонарик, настоятельно порекомендовав себе спать и не забивать голову ерундой. Поплотнее застегнув молнию спального мешка, он заставил себя закрыть глаза. Где-то внизу, совсем близко от его головы, бурлила вода. Примерно через десять минут у него зверски зачесалась нога. Он повернулся, подтянул к себе ногу и почесал ее, но распрямиться не смог — его мешок перекрутился. Казалось, ботинок приклеился к хлопковой подкладке мешка, и стоило Уильяму согнуть или разогнуть ногу, как мешок складывался или распрямлялся следом, опутывая словно коконом, сродни покровам египетских мумий, нижнюю часть его тела. Уильям перевернулся на бок и некоторое время безуспешно пытался поудобнее устроиться на жестком бетоне, хорошо ощутимом сквозь неожиданно тонкую поролоновую набивку мешка.
Нужно постараться лежать неподвижно. В этом все дело. Неожиданно он понял, что вот уже несколько часов подряд в его голове крутится без перерыва один и тот же надоедливый мотив: «Ти-ли-ли, ти-ли-ли, ведьма померла; ведя-ведя-ведьма померла; ти-ли-ли, ти-ли-ли, ведьма померла…» и так без конца. О том, как продолжить эту песенку и есть ли в ней другие куплеты, он не имел ни малейшего представления. Но идиотский мотив все крутился и крутился у него в голове, появляясь снова и снова, сводя с ума. Уильям попробовал начать считать от ста до единицы — иногда это помогало.
Примерно на пятидесяти он услышал звуки — теперь он был совершенно уверен в этом, — доносящиеся из глубины лабиринта труб. Звуки сопровождались эхом, и довольно скоро он ясно понял, что это шаги — либо человека, либо какого-то животного. И слышит он их не первый раз. Он вспомнил, что впервые звуки погони за спиной ему почудились сразу же после того, как он сбежал из такси на Розенкранц. Но тогда, едва он начинал прислушиваться, шаги сразу стихали.
Уильям поднял фонарь и, быстро включив его, осветил темноту впереди — за пределами тридцатифутового цилиндра света висел мрак, который мог скрывать в себе все что угодно. Он выключил фонарик и несколько минут лежал тихо, едва дыша и прислушиваясь. Звуки возникли снова — тихое осторожное поскрипывание, как будто кто-то в туфлях на мягких подошвах крался на цыпочках. Звуки настолько тихие, что сказать, откуда они доносились, спереди или сзади, не представлялось возможным. Уильям снова неожиданно зажег свет, надеясь застать кого-то врасплох — кого-то, кто осторожно подкрадывался к нему. Он от души надеялся, что электрический свет заставит дикого зверя держаться на расстоянии точно так же, как пламя костра. Почему звери должны бояться огня, он не понимал. Включенный фонарик выдал его, и это был единственный результат. Теперь, когда он так долго пролежал в спальном мешке не шевелясь, они выследили его и обложили. И сейчас он окружен со всех сторон.
Уильям сел и спустил спальный мешок до пояса, потом надел на голову шахтерский шлем. Чтобы заставить фонарь шлема гореть, всякий раз приходилось встряхивать головой. Он немного посидел тихо, напряженно прислушиваясь. Кто-то двигался к нему из темноты. Он уже ощущал нутром эту близость. Похоже, у него появились способности знаменитых китайских лабораторных поросят. В трубе было совершенно темно и тихо. Уильям полностью выбрался из мешка и присел на корточки. Нашарив на полу книгу Пен-Сне, он засунул ее в рюкзак и закинул рюкзак за плечо. Прищурившись и напрягая зрение, он пытался разглядеть в темноте хоть что-то. Звук снова появился — тихое и мягкое поскрипывание, потом буквально в нескольких футах от него существо остановилось. От тишины зазвенело в ушах. Оно стояло прямо перед ним. Бог знает что это было: свинья — обитательница канализации? Удав-мутант размером с фонарный столб? Покрепче перехватив фонарик в правой руке и затаив дыхание, Уильям начал поднимать левую руку к выключателю нашлемного фонаря.
Он уже различал дыхание незнакомца — неестественно тяжелое. Возможно, что сию минуту он — в футе от морды неизвестного существа… в дюйме… Уильям включил фонарь на шлеме. Свет залил трубу одновременно с громким щелчком выключателя и, разогнав темноту всего на один краткий миг, фонарик на шлеме погас. Но этого оказалось достаточно — в продолжение этого мига Уильям успел разглядеть в десятке футов перед собой бледную, длинную фигуру Иларио Фростикоса в белом халате и с черным докторским саквояжем в руке, спокойного, с непроницаемой улыбкой, которого тут же снова поглотила тьма.
После разорвавшего ночь бесполезного щелчка выключателя на шлеме Уильяма ничто более не рисковало нарушить подземную тишину. Никаких шагов — ни приближающихся к Уильяму, ни удаляющихся. Только кромешная тьма и тишина. Уильям почувствовал, что голова его гудит, как огромный пустой бак. Его грудь тоже неожиданно стала полой и просторной. Ноги исчезли. Он почувствовал, что падает вперед, и в следующий миг очутился на коленях, упираясь ладонями в бетон. Понимая, что может быть схвачен в любой момент, он сделал над собой усилие, пытаясь встать. Не пройдет и секунды, как он почувствует прикосновение к своей шее отвратительно теплых, тонких, опытных пальцев, которых он боялся больше всего на свете. Испытав непереносимое желание заползти в спальный мешок и закутаться в него с головой, спрятаться, Уильям сумел удержать себя от этого лишь невероятным усилием воли. Он не сделает этого. К счастью, он вообще утратил способность двигаться, все равно куда, поскольку в ослепляющей, давящей темноте все направления таили в себе невообразимую угрозу. Он неподвижно стоял на четвереньках и дрожал, его колени подгибались. Вокруг была тишина.
Может, ему почудилось? Может быть, он спал? Видел очередной кошмар? Что сейчас делать — вскочить на ноги, броситься на врага и сделать из него отбивную? В правой руке он все еще сжимал фонарик — легкое, смехотворное оружие. Ждать в полной темноте он больше не мог. Внезапно он понял, что вообще не вынесет больше темноту. Но если он сейчас включит свет и снова увидит то, что, как ему показалось, видел недавно… Медленно поднявшись, он занес правую руку над головой. Он представил себе цепкие руки, хватающие его за запястья из-за спины, и издевательский смех доктора. Хуже того — эти руки запросто могли вцепиться ему в горло.
Уильям щелкнул выключателем и зажег фонарь. Конус желтого света рванулся вперед, не высветив ничего. Впереди в трубе тоннеля лежала безмолвная непроглядная мгла. Где-то наверху, над головой прошуршал шинами автомобиль — дружелюбный, настоящий звук, на мгновение овеществивший бесплотную тьму пустой подземной ночи. Как далеко от него ближайший канализационный люк, который сейчас необходимо было разыскать в первую очередь, Уильям не знал. Черт с ним, с неуклюжим спальным мешком — не жалко. Он его бросит. Все равно уже почти четыре утра. Теперь у него одна дорога — прямиком на Пало-Верде.
«А что если Фростикос прячется где-то впереди?» — внезапно похолодев, подумал он. Обошел его кругом и стоит в темноте, высматривает его и улыбается своей леденящей кровь улыбкой. Сбросив с плеча рюкзак, Уильям сорвал шлем, резко повернулся и метнул его прямо вперед, в темноту, целясь в пустоту на уровне головы. Если там кто-то есть… Но никого не было. Шлем с грохотом запрыгал по бетону и, шлепнувшись в лужу, остановился за пределами круга света. Споро забросив рюкзак за плечи, Уильям уже торопился следом за шлемом. Больше он не станет оборачиваться, черта с два. Даже если Фростикос в десяти шагах за ним или перед ним, ему теперь наплевать. Его либо поймают, либо нет.
Первый канализационный люк над головой он заметил уже слишком поздно и, не сбавляя хода, пробежал под ним дальше. И возвращаться не стал. Это не последний люк на его пути. Но и следующим люком он не воспользовался и пробежал мимо, не потому что заметил его поздно, а потому что набрал к тому времени хороший ход. Страх придал ему сил и выносливости. Стоит начать карабкаться к люку — его немедленно схватят. Но даже если он сумеет выбраться на поверхность, бежать дальше придется по пустынным в четыре утра незнакомым улицам. Его задержат через десять минут. А если он будет прятаться по кустам от каждого проезжающего мимо автомобиля или сбавит темп до трусцы, прикинувшись страдающим бессонницей любителем пробежек, то никогда не доберется до Пало-Верде.
Батисфера не может ждать. Его жизнь пойдет коту под хвост. Останется только сдаться, подумал он, а это означает неизбежное возвращение в лечебницу, где судьба его будет предрешена. Но он доберется до Пало-Верде, даже если ему всю дорогу придется бежать. Господи Боже, да лучше пускай он погибнет по дороге. Представить точно свою смерть он не мог, но знал, что будет сражаться до последнего и задаст своим врагам жару. Это уж наверняка.
На бегу он порылся в рюкзаке и достал компас. Сейчас он под бульваром Готорн и продвигается прямо на юг, точно к береговому скоростному шоссе. Внезапно к топоту его собственных подошв по бетонному полу присоединился еще один звук, чужой, звук погони. Сомнений быть не могло. Необходимо было остановиться, чтобы убедиться до конца, если только бегущий за ним следом не остановится тоже. Хотя остановиться можно позже. Все равно через минуту-другую это придется сделать. Но тогда он будет на целую милю ближе к цели, чем бы это ему ни грозило. И эта остановка не будет означать, что он сдался без боя. Он нападет первым.
Он будет бежать до тех пор, пока не почувствует, что ноги отказываются нести его. Тогда, напрягая последние силы, он повернется и что есть духу ринется обратно — неприятелю навстречу, используя эффект неожиданности. Он разобьет ему голову фонарем… выбьет зубы. Выпростав правую руку из лямки, он перекинул рюкзак на левое плечо, затем, не останавливаясь, вытащил из кармана и раскрыл перочинный нож. Если у Фростикоса есть в жилах кровь, скоро он узнает, какого она цвета.
Он задыхался; каждый новый вдох давался все труднее. Через минуту-другую он свалится без сил. Батареи в фонаре садились, свет его сделался тускло-желтым и разгорался лишь ненадолго, если потрясти фонарь. В темноте, совершенно выдохшийся, он сделается легкой добычей. Пора. Уильям остановился и хотел развернуться, но пошатнулся, и поворот вышел медленным и неуклюжим, а еще через несколько шагов он понял, что его легкие вот-вот взорвутся. Он оступился и, шатаясь, долго не мог восстановить равновесие, потом остановился, вскинул фонарик и, изготовив нож, направил его тускнеющий луч в темноту, откуда пришел. Ощущая, как страх все больше завладевает им, он ждал, но из темноты ничего не появлялось.
Наконец он повернулся и, спотыкаясь, снова двинулся вперед. Как только он переведет дух, решил он, то снова побежит. Но и через десять минут он все еще медленно шел, горько сожалея о том, что, пролежав два часа в спальном мешке, не спал, а таращил глаза в темноту и ни капли не отдохнул. Фонарик совсем сдал и мог погаснуть в любой момент. Уильям встряхнул фонарик, оживив его немного, понимая, что очень скоро должен будет остановиться и заменить иссякшие батареи свежими, купленными на Спринг-стрит. Что будет означать минуту, а может быть и больше, полной темноты. А кто даст ему гарантию, что он сразу засунет батарейки в фонарик тем концом, которым нужно? Что, если он уронит батарейки или фонарик и придется Бог знает сколько ползать в темноте на коленях, чтобы найти все это снова? Но выбора у него не было. Свет уже почти погас, и очень скоро никакие встряски не вернут фонарь к жизни.
Сбросив со спины рюкзак, он нашарил в нем упаковку батареек и принялся зубами сдирать с нее целлофановую обертку, ругая себя за то, что не догадался сделать это час назад, чтобы заранее подготовиться. На секунду замерев, он прислушался, вообразив, что различает тихий скрип шагов в тоннеле за спиной. Он принялся лихорадочно ощупывать батарейки, отыскивая выступы на их концах. Пружина и лампочка вывалились из фонарика, упали и покатились по бетону, без сомнения направляясь к журчащему в шести футах в стороне по дну трубы ручью. Уильям опустился на колени и принялся шарить в темноте, содрогаясь от нарастающего ужаса и напряженного предчувствия чужой руки на спине. Отыскав принадлежности фонаря и зажав их в левой руке вместе со свежими батарейками, он широко, по дуге, взмахнул правой рукой с зажатым в ней цилиндрическим корпусом фонаря, выбросив иссякшие батарейки в тоннель. Втискивая свежую перемену батарей в фонарик, он напряженно прислушивался, силясь разобрать звуки шагов. Навинтив колпачок, щелкнул выключателем и, повернувшись, осветил тоннель. Он был один. Вокруг никого не было, всему виной было его воображение. Он закинул за плечи рюкзак и двинулся вперед, по-прежнему сжимая в руке нож, и только теперь вспомнил о фонарике-карандаше в рюкзаке. Он запаниковал. Растерялся. Нужно взять себя в руки и все хорошенько обдумать.
Примерно каждые сто футов или около того он проходил через пересечение тоннелей, стараясь держаться подальше от темных разверстых зевов справа и слева, даже если для этого ему приходилось шлепать по воде. Он методично светил фонариком в одну и в другую сторону, просто чтобы проверить, не притаился ли там кто-нибудь. И когда, подойдя к очередному перекрестку, Уильям повернулся и привычным движением направил фонарь в сторону — доктор стоял там, довольно далеко за следующим пересечением, но это несомненно был Фростикос. Определенно не плод сбитого с толку и измученного темнотой воображения. Уильяму даже не пришлось щипать себя. У него просто не было на это времени. Он сорвался с места как ужаленный и, забыв о всех планах рукопашной с Фростикосом, о том, как хотел успокоиться и взять себя в руки, бросился наутек.
Он был для них попросту игрушкой — мышью в чулане. Они устроили на него охоту для собственного развлечения. И то, что теперь он об этом знает, дела совершенно не меняло. Он бежал и бежал вперед, точно обезумев. Надежда на то, что ему позволят добраться до цели, теперь испарилась. Его хотят загнать, заставить сдаться. Каким образом Фростикос ухитрился его обойти? Проскользнул мимо в темноте, пока он возился с батарейками? Гадать было бесполезно. Но доктор стоял там, в перпендикулярном тоннеле, это точно был он.
Но бежать вечно нельзя. До спуска батисферы на воду осталось несколько часов. Сколько еще ему, гонимому то появляющимся, то исчезающим Фростикосом, будет позволено бежать через темные тоннели, как в кошмаре? Вообразить себе это было невозможно — сама идея была неестественной. Рано или поздно они должны будут столкнуться нос к носу. Фростикос хочет его уничтожить. Это было ясно как день. Но доктор алчен, и это может его подвести. Фростикос, это отвратительное, самодовольное чудовище, видит себя своеобразным художником — это его идея-фикс — и длит действо, страстно желая придать ему вид эпический, утонченный. Нужно столкнуть его лицом к лицу с зеркалом. Пускай увидит в нем морду обезьяны.
Чувствуя, что его легкие сжигает безжалостное пламя, Уильям продолжал бежать, не в силах заставить себя остановиться. Светить далеко вперед смысла не было; это ничего не даст. Фростикос мог высунуться откуда угодно. Он был вездесущ. Но ничего удивительного в этом не было. Вопрос решался просто: как только доктор узнал от водителя такси, куда Уильям держит путь, он получил свободу действий — по своему усмотрению он мог время от времени выбираться из подземелья на поверхность, мог проехать несколько миль на такси до Готорна, спуститься вниз и дождаться Уильяма, мелькнуть на его пути и снова выбраться на поверхность. Но наступит момент (возможно, это произойдет, когда в решетки стоков заглянет первый тусклый уличный свет), и доктор решит прекратить игру, нанесет молниеносный удар, и тогда никто в просыпающемся внешнем мире даже не услышит криков Уильяма Гастингса.
Он перешел на быструю ходьбу, понукая себя и заставляя переставлять ноги и двигаться вперед, держа фонарь зажженным, но освещая им только пол трубы в нескольких футах впереди. Он хрипло дышал и то и дело заходился в кашле, наконец решительно остановился, развязал рюкзак, вытащил флягу и долго пил. Пошарив в рюкзаке, он отыскал яблоко. Несколько секунд он раздумывал, что будет, если он не пойдет дальше, а устроит здесь привал, прямо сейчас — перекусит, почитает Пен-Сне, посидит и немного отдохнет. Что сделает в таком случае Фростикос? Сейчас, скорее всего, доктор уже где-нибудь впереди — может, в сотне ярдов, а может быть, и в целой миле. Возможно, Фростикос решил передохнуть у Винчелла, выпить чашечку кофе и съесть пончик, посмеиваясь про себя и вспоминая, как растерянный и испуганный Уильям зайцем мчался по канализационным тоннелям. Что будет, если Уильям решит не следовать больше предназначенной ему роли?
Сам не зная почему, он не мог представить себе, что Фростикос отступится — вернется домой и, например, ляжет в постель. И, конечно, доктор не стал бы рисковать, оставляя его внизу в полном одиночестве — Уильям мог выбраться наружу, запросто пройти несколько кварталов по пустынным улицам, а потом снова спуститься вниз. Внезапно он совершенно отчетливо понял, что все это время кто-то должен был идти за ним по пятам и следить. Выходит, эти шаги в темноте за спиной ему действительно не почудились. Но кто это? Ямото? Уильям хищно улыбнулся. Ну конечно.
С ловкостью заправского шерифа он вскинул фонарик и как револьвер направил его в глубину тоннеля. Ничего — только безмолвная темнота. Никаких белых брюк, которые он ожидал увидеть. Насколько бьет его фонарик — на сорок футов? Может, и того меньше. Запустив огрызком яблока в противоположную стену, Уильям поднялся. Он чувствовал себя ужасно разбитым и усталым, а после такого краткого отдыха — особенно.
Прошагав пятьдесят футов, он снова неожиданно повернулся и осветил фонарем трубу позади — снова никого. Впереди труба разделялась, и ответвление меньшего диаметра уходило направо. Внезапно у него появилась уверенность в том, что Фростикос ждет его именно там — залег в засаде, наверно. А может быть, это именно он, доктор, бежал за ним все эти часы, как ищейка, дико выпучив глаза, оскалив зубы, двигаясь неестественно быстро. Уильям мог представить себе это очень живо. Он чуял близость врага. Оставалось десять футов.
Он опять что-то услышал — что это, снова шаги за спиной? Фростикос — пустоглазый, улыбающийся и прищелкивающий зубами выбеленный череп на белом воротничке рубашки. Но доктору его не остановить. До развилки оставалось два шага, и Уильям прижался плечом к дальней от входа в меньшую трубу стене. Образ Фростикоса в тоннеле, которого он должен был увидеть с минуты на минуту, рвущегося к нему, брызжущего слюной и заходящегося лаем, видимого словно сквозь широкий конец подзорной трубы, дергался и мелькал на изнанке его век подобно кадрам старого, клееного-переклееного фильма. Когда доктор действительно появится, эта картинка замрет — он превратится в соляной столб, наподобие несчастной жены Лота.
Развилка. Он идет вперед зажмурившись, ожидая неожиданного шороха, предвещающего конец, внезапного прикосновения влажных рук к шее. Снова ничего. В ответвлении коридора пусто. Он сам мучает себя вымышленными страхами. Он повернулся и, желая доказать себе, что страдал понапрасну, осветил тоннель позади — и почти сразу же заметил промелькнувшее в отдалении, почти за пределами светового конуса, белое пятно, появившееся и сразу же исчезнувшее, словно кто-то, шедший за ним следом, заметив свет, резко отпрянул в темноту. Это был Ямото. А Фростикос поджидает впереди.
Уильям бросился бежать, на бегу обернулся и снова увидел мгновенно исчезнувшее белое пятно, словно тень испарившегося призрака. Если это действительно Ямото, то Уильяму он не страшен. Одно дело изводить его при свете дня косилкой, нарядившись садовником, подстригать кусты и подглядывать в окна, а другое — гнать по темным канализационным тоннелям, гнать дичь, уже учуявшую близость кровавой развязки, а потому готовую биться насмерть. Но Уильям сумеет его одолеть. Не впервой. Он вспомнил, как азиат вопил от страха, обнаружив в кабине своей машины ужасного Уильяма Гастингса. Как садовник жалобно пытался протестовать при виде вытаптываемых цветов — он боялся его как черт ладана. И сейчас Уильям покажет ему, что такое настоящий страх.
Впереди появилось очередное разветвление. Пора действовать, определенно пора. Через несколько минут одним недругом в подземелье станет меньше. Он испробует на нем свой фонарь. После этого будет освещать себе дорогу маленьким фонариком и, избавившись от Ямото, может быть, ускользнет и от Фростикоса. Выберется на поверхность и трусцой добежит до Кренчо, прямо к шоссе на побережье. Стоит доктору потерять своего агента, как его игра существенно осложнится.
Выключив фонарик, Уильям погрузил тоннель в темноту. Ощупью продвигаясь вдоль стены, он добрался до развилки и с отчаянно колотящимся сердцем бросился в ближайший коридор, не в силах даже думать о поджидающем в темноте Фростикосе. Со всех сторон безмолвие. Напрягая слух, он силился различить шорох приближающихся шагов. Увидеть его во тьме Ямото не мог — как не мог разгадать его замысел. Притаившись за поворотом, Уильям заглянул в зев большего тоннеля. И ничего там не увидел. Внезапная уверенность в том, что нечто острое — топор или тяжелый нож, может быть, — вот-вот вылетит из темноты и отделит его голову от туловища, заставила его отшатнуться. Он повернулся и зашагал дальше.
Если Ямото вооружен, то чем? Ножом мясника? Он слишком увлекался в свое время кино. Локоть Уильяма ударился обо что-то твердое. Он пригнулся и застыл, скрючившись. На ощупь предмет был жестким и угловатым, возможно деревянным — что это, плавник, принесенный с поверхности дождевой водой? Уильям ощупал препятствие, определяя его форму — оказавшуюся прямоугольной. Вокруг по-прежнему висела тишина.
Он должен постоянно двигаться, в этом единственная надежда на спасение. Внезапность — его оружие. Если Ямото потерял его из виду и теперь ищет, нужно воспользоваться этим и попытаться оторваться от слежки. Хотя азиат, который шел позади, не мог не заметить, как Уильям выключил фонарь. Нужно было упрямо прорываться вперед — ничего другого не оставалось — ощупью по стеночке, как слепец, выжидая и надеясь, что судьба улыбнется ему.
Никаких шагов за спиной он по-прежнему не слышал. Включив фонарик, покрутил головой из стороны в сторону, освещая пустые серые стены. Потом решительно повернулся, чтобы рассмотреть загораживающее меньший тоннель препятствие.
Это был раскрытый настежь сундук, поваленный набок. Не сдержавшись, Уильям вскрикнул, отпрянул и, поскользнувшись в луже на полу, упал на спину. Через секунду он уже снова был на ногах и стоял, направив фонарь на сундук. Внутри сундука покоились чьи-то перетянутые кожаными ремнями останки — полуразложившийся ужас. Труп, возможно человеческий, а может быть какого-то животного. Тело — сплошное месиво шрамов — обвисло на путах, голова с разинутым ртом, беззубым — не более чем прореха в лице, — завалилась набок, нос — черная дыра, пустые глазницы. Ушей у существа не было, а пальцы его рук, распятых на дне сундука, соединялись перепонками. Не сводя с сундука глаз, Уильям попятился к развилке. Что это, как не предупреждение ему? Никаких сомнений быть не могло. Он повернулся и побежал, сначала неторопливо и трусцой, потом во весь дух, все так же неуклонно на юг, в сторону океана, к батисфере, которая должна была доставить его в другой мир. Он забыл о том, что способен думать. Думать было бессмысленно. Искать объяснений он не мог, да и не хотел. До него снова добрались. Чьи это останки в сундуке? Что за несчастное, безобидное создание было унижено до такого состояния? Определенно не Реджинальд Пич. Об этом он не мог даже думать. Этого не могло быть. Реджинальд слишком ценен, чтобы так им бросаться. Существо в сундуке, скорее всего, было результатом неудачного эксперимента, оставленным здесь для устрашения.
Не в силах бежать дальше, Уильям снова замедлил ход, уже совершенно отчетливо различая за спиной далекие шаги. Ямото. Позади раздался чей-то голос. Из-за собственного хриплого дыхания и эха шагов разобрать сказанное Уильям не смог. Он остановился и прислушался, не имея ни малейшего представления о том, куда попал. Взглянув на карманные часы, он узнал, что уже около одиннадцати утра. Он развил хорошую скорость. Возможно, он уже пересек береговое шоссе и находится под Роллинг-Хиллс, совсем рядом со своей целью. Сзади снова донесся голос — его звали по имени. Шаги стали громче. Вот оно — последняя схватка. Уильям собрался и, прищурив глаза, уставился в темноту, ожидая, что из тьмы в дальнем конце тоннеля материализуется смутный силуэт противника, кто бы он ни был — Фростикос, Ямото, Бог-знает-кто. Наконец человек появился.
Словно Илия, он был древен, волосат и дик. Уильям вздрогнул и выпрямился, выправил свет, не веря своим глазам. Это не был Илия; это был Ашблесс собственной персоной, прихрамывающий на одну ногу. В правой руке он держал обшитую кожей дубинку. Негодяй! Так вот кто издевался над ним все это время, пугал и насмехался. Это Ашблесс с удовольствием наблюдал, как он вздрагивает от любого звука, случайного или преднамеренного. Что ж, игра еще не закончена, подумал Уильям, оглядываясь через плечо, на тот случай, если другой нападающий решит зайти ему со спины. Он смертельно устал, глаза жгло, словно их засыпало песком, но будь он проклят, если не сумеет противостоять престарелому поэту с его дубинкой.
— Ну, иди же! — выкрикнул он, размахивая фонарем в правой руке и перочинным ножом в левой.
— Тише! — прошипел вдруг Ашблесс, поднося палец к губам и качая головой. — Иди вперед, или нам обоим крышка.
Опустив нож, Уильям проследил за тем, как, пугливо оглядываясь, словно со страхом ожидая появления преследователей, Ашблесс засовывает дубинку в карман пальто и подходит ближе.
— Я оглушил азиата, — сообщил он, взяв Уильяма за рукав и подталкивая вперед.
— Кто это был — Ямото? — спросил Уильям.
— Я не знаю его имени, — ответил Ашблесс. — Я просто ударил его дубинкой по затылку. Они следят за тобой с самого вечера. Глупо с твоей стороны было пытаться добраться до Пало-Верде на такси. Ужасно глупо. Теперь все знают, где ты, — Фростикос, полиция. Я читал о тебе в утреннем номере «Таймс», а по пути к Ла-Бреа наткнулся на Фростикоса и троих его людей. Они гонятся за тобой.
— Значит, письмо напечатали! — восторженно воскликнул Уильям.
— Шшш! — шикнул Ашблесс, оглядываясь по сторонам. — Они изложили суть письма в нескольких фразах, но дух и главное содержание передали. О статье сегодня все утро говорили в новостях. Ты должен знать, что доктор решительно настроен не выпускать тебя из-под земли живым.
— И ты пришел сюда только для того, чтобы сказать мне об этом? — спросил Уильям, в котором снова пробудились подозрения.
— Не только, — ответил Ашблесс.
Уильям ожидал объяснений, приготовляясь к бегству. Он осмотрел коридор впереди. Можно было внезапно выключить свет, на первом же перекрестке свернуть направо и убежать, оставив поэта в темноте. Если Ашблесс попытается преследовать его и в ход придется пустить фонарь, то дальше можно будет бежать, пользуясь маленьким фонариком-карандашом. Кроме того, он сможет забрать фонарь Ашблесса. У него наверняка есть свой.
— Я устроил побег Реджинальду Пичу, — объявил вдруг Ашблесс.
— Что?
— Пичу. Ты представить себе не можешь, в каких условиях он существовал. Он дважды пытался бежать, но его выслеживали и ловили. Но теперь им его ни за что не найти. Он согласился провести меня к центру Земли. Может, там и встретимся.
— Ты освободил Реджинальда Пича? — ошарашенно спросил-повторил Уильям, не веря своим ушам.
— Он тоже своего рода изобретатель и наделен некоторыми способностями. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Если снова попадешь в мир наверху, окажи мне услугу. Передай Бэзилу, что я пытался освободить его сына, но повезло мне только с Реджинальдом. Боюсь, во время нашей последней встречи он неверно меня понял.
— И я тоже, — откликнулся Уильям, чувствуя, что готов поверить поэту. — Спасибо за то, что избавил меня от Ямото.
Ашблесс махнул рукой. Не стоит благодарности. Это самое меньшее, что он мог сделать для Гастингса. Откуда-то спереди донесся плеск бегущей воды, подземной реки, мчащей свои воды по глубокому каналу.
— Где мы? — спросил Уильям.
— Почти под холмами Пало-Верде. Но дальше ты пойдешь один.
Достав из пальто большой фонарь, поэт посигналил им в темноту. От тускло-серой стены отделилась неясная тень. Уильям ощутил близость и холодную свежесть воды. Впереди аркой изгибался через протоку мостик, возле которого, привязанная, покачивалась на быстрине длинная низко сидящая лодка, похожая на гондолу. Выше ватерлинии борта суденышка были разрисованы людьми-крокодилами, птицеклювыми детьми и загадочными египетскими иероглифами, вероятно появившимися на лодке, решил Уильям, при подготовке суденышка для участия в карнавале на воде.
На корме лодки находилось, наверное, самое странное из виденных Уильямом созданий: полуголый человек, покрытый прозрачной чешуей жемчужного оттенка, с перепончатыми руками, с головой внутри невероятной закрученной спиралью морской раковины с забранным стеклом смотровым окошком в передней части. Сквозь стекло удивительного шлема на Уильяма уставились выпученные глаза. Через мгновение он с удивлением понял, что огромная раковина заполнена водой — голова Реджинальда Пича была скрыта внутри шлема-аквариума. Отходящая от раковины пара трубок была переброшена за борт лодки.
Уильям остолбенел. Он не знал, что сказать, все мысли вылетели у него из головы. Он никогда не был знаком с Реджинальдом Пичем, ни близко, ни шапочно. Правда, он встречался мимоходом с несколькими его отпрысками, но упоминать об этом в данной ситуации было неловко.
— Уильям Гастингс, — объявил Ашблесс. — Реджинальд Пич.
Реджинальд поклонился, поразив Уильяма до глубины души, и удивил его еще больше, проговорив:
— Рад познакомиться, — глухим и булькающим, но достаточно разборчивым голосом, доносящимся из особого переговорного устройства на шлеме — синтезатора речи. Уильям ответил, что тоже рад встрече. И не солгал. Это был уникальный человек. О том, что он повидал на своем веку и какие истории мог рассказать, можно было только догадываться. Уильяму захотелось, чтобы Ашблесс немедленно отпустил удивительное существо на волю, дал ему возможность уйти одному.
— Собираетесь в земное ядро? — вежливо осведомился Уильям, лишь бы не молчать.
Пич, не обратив на его вопрос внимания, повернулся к Ашблессу.
— Эта лодка не годится, — смешно пробулькал он, — и у меня шланг засорился. Подождите… Вот так. Прочистил. О черт!
Неожиданно внутри шлема Пича за стеклом испуганно замелькала рыбка, вытянутая, похожая на миногу. Глаза Реджинальда метались следом за рыбешкой. Уильям попытался представить себе, каким должен казаться сухой мир изнутри аквариума. Интересно было бы спросить об этом Реджинальда — он уже видел здесь сюжет для небольшого рассказа, чувствовал знакомый восторг зарождающейся идеи. Но, как обычно, воспитание помешало.
— Ничто никогда не работает как следует, — пожаловался Пич. — Все из рук вон. И эта лодка — она ненадежная. Слишком маленькая, и сиденья страшно жесткие. И кто это так по-дурацки ее раскрасил? Я чувствую себя в ней посмешищем.
Не решаясь прервать поток жалоб странного создания, Уильям смотрел во все глаза. В конце концов, кто, как не Реджинальд Пич, имеет право поворчать?
Ашблесс не разделял мнения Реджинальда.
— Эта лодка подойдет как нельзя лучше, — заявил он. — Мне приходилось ходить и на худших по рекам не в пример более бурным. И в более странном обществе.
Поэт многозначительно взглянул на Уильяма, закатив глаза, словно желая показать, что терпению его приходит конец.
Уильям, испытывающий к бедному Реджинальду симпатию и желающий хоть как-то защитить его, подумал, что Ашблесс, конечно, привирает. Хотя кто знает, это могло быть и правдой. Ведь именно он, Ашблесс, помог и Реджинальду и ему, Уильяму, вырваться из когтей Фростикоса.
Прежде чем Уильям успел хоть что-то сказать, Реджинальд разразился новым капризным бульканьем.
— Давайте же, пора отправляться, — настойчиво повторял он. — Вы спасли своего друга. Не знаю, зачем вам это понадобилось. Теперь он в полной безопасности, и вы можете не волноваться. Хватит попусту тратить время. Прощайте, — внезапно бросил он Уильяму, завершив этим последнюю фразу почти без паузы. — Прощайте, прощайте, прощайте!
Реджинальд раздраженно завертелся, хватаясь за весла и сильно раскачивая лодку, почти опрокидывая ее, потом поднял весло, уперся им в прибрежные камни и сделал вид, что готов отчалить.
— Эй! — взволнованно крикнул Ашблесс, поспешно перебираясь в лодку и отвязывая конец. Он снова со значением поднял глаза на Уильяма. — Плыть придется долгонько. А его ничего, кроме разговоров о болезнях, не интересует — он навыдумывал себе их несколько дюжин. В течение восемнадцати лет единственной его книгой был «Справочник практикующего врача» Мэрка, изданный с водозащитным покрытием. Он выбрал себе оттуда целый букет всяческих хворей — представляешь?
— Да уберите же из моего шлема эту рыбу! — взбулькнул Пич. Ашблесс взял весло и оттолкнулся от берега.
Удивительная лодка с не менее удивительным экипажем неспешно поплыла по течению и через несколько мгновений исчезла во тьме. Как какой-нибудь древний морской бог с волосами из морской травы, Ашблесс стоял на корме своего судна и вел его по таинственной реке. Уильям попытался вообразить себе, каким будет их плавание. Куда впадает эта река? Куда угодно, но только не в канал Доминик. Однако Реджинальд Пич знает, что делает, с надеждой сказал он себе, и сумеет добраться до страны, которой все они так вожделели. Как бы ни было, Ашблесс добился своего. Они напрасно точили на него зуб. Отсалютовав двумя пальцами поглотившему лодку темному полукруглому зеву, Уильям повернулся и, перебравшись через мостик, зашагал дальше, к полуострову и свободе. Но не успел он пройти и четверти мили, как снова услышал, что его окликнули по имени, на этот раз очень мягко.
Щегольские форменная куртка и брюки мороженщика превратились в лохмотья. Пытаясь спасти с левиафана хоть что-то, Джон Пиньон перепачкался в канализации с головы до ног и порвал одежду в нескольких местах. Но эти сукины дети не позволили ему ничего забрать. Они сняли и унесли вечный двигатель — вещь прямо-таки бесценную. И магнитную бутыль, полную антигравитации, тоже — ее сразу упаковали в бумажный мешок для мусора. Это было невыносимо. Просто невыносимо. Он не знал, что ему теперь делать. Его жизнь завершилась провалом. Он ничего не хотел для себя лично, единственное, к чему он стремился, были знания. Корысть была ему неведома. Но его обманули, использовали. Друзья его предали. Его ошельмовали и превратили в извращенца, в шарлатана, в искателя дутой славы, в сумасшедшего. Но он еще жив и им покажет.
Грузовик со снятыми бортами он заметил у причала на берегу канала. Портовый кран поднял на цепях батисферу из кузова грузовика и перенес ее на борт буксира. Глупцы! Неужели они не понимают, что обречены? Его механический крот был шедевром, творением гения. Он до сих пор не может понять, почему машина вдруг перестала ему повиноваться. Добравшись до Порт-О'Колл, он бросил свой грузовичок на платной стоянке и убежал, не заплатив. Плевать он хотел на деньги и на условности. Он выше условностей. Пристроившись к группе увешанных фотоаппаратами туристов-японцев, он проник в порт. И вот он рядом с буксиром. Батисфера уже на борту. Туристы указывают в ее сторону пальцами, переговариваясь на своем птичьем языке. Господи Боже, этот глупец Лазарел паясничает и отпускает японцам шуточки. Пиньон почувствовал, что ярость затмевает его сознание. Они определенно толкают его… на что, он и сам толком пока не знал.
Но одно он знал сейчас точно — Лазарел и Сент-Ивс никуда не попадут. Его голова разламывалась от боли. Чертовы птицы! Он поднял голову и, щурясь от яркого солнца, посмотрел на кружащих в небе чаек, изводящих его своими криками. Бетонный берег вдавался в канал причалом, от которого отходили два других, одинаковых, параллельных берегу. За этими причалами можно было разглядеть точно такую же тройку, а дальше — еще и еще, без конца. Пиньон почувствовал, что от вида бесконечных причалов у него кружится голова. Но стоило ему прикрыть глаза, как под веками волной поднялась и запульсировала боль, словно что-то, обитающее позади глазных яблок, наконец созрело и силилось теперь вырваться на свободу. Пиньону показалось, что его череп вот-вот взорвется.
Один из японцев махнул Лазарелу камерой и, щебеча, жестом попросил профессора позировать рядом с батисферой. Турист попятился, выбирая ракурс, оступился и навзничь упал у самого края причала — Лазарел, Сент-Ивс и мальчик — как зовут их мальчика? — бросились к борту буксира посмотреть, все ли в порядке. В несколько шагов одолев расстояние, отделяющее его от судна с батисферой, двигаясь в своих мягких туфлях почти бесшумно, Пиньон перекинул ноги через леер и оказался на борту. Когда насквозь промокший фотоаппарат был наконец выловлен багром из воды и передан огорченному туристу, Пиньон уже надежно укрылся под грудой брезентовых чехлов и канатов. Он лежал там в темноте, прислушиваясь к заглушаемым брезентом звукам внешнего мира. В его ушах ревело и грохотало, словно кто-то приставил к ним пару огромных витых морских раковин — это был пустой ветряной гул тысячемильных океанских просторов. Подавив в груди стон, он сжал ладонями голову. Он ощущал все до одного свои суставы — они горели и разрывались от внутренней боли, невыносимо зудели. Наверно, артрит — разыгрался от морской свежести. Возможно, всему виной этот проклятый брезент. Но отбросить брезент и освободиться от боли он не мог.
Двигатель буксира закашлялся и ожил, судно начало разворот, а еще через несколько минут оно уже качалось на широких пологих волнах, держа курс к воротам Энджел. Лазарел был оживлен как никогда и постоянно шутил. Пиньон ненавидел его все сильнее. Свернувшись под брезентом в калачик, он воображал себя зародышем, стискивая руками живот, который, казалось, готов был разорваться на куски. Все его кости трещали, будто на дыбе.
Он был болен, чертовски болен, но даже это не могло его остановить.
Неожиданно, словно продолжение болезни, в его голову ворвался монотонный шум, а глаза невольно открылись. То, что он увидел, могло быть только лихорадочным бредом. Ему показалось, что брезент, сделавшись прозрачно-зеленым, как морская вода, исчез, и теперь он смотрит на окружающее словно из глубины, с морского дна. Новая волна боли судорогой пронзила его руки, и одновременно он ощутил, как по лицу и ладоням скользит ровный ток прохладной жидкости — замедляясь, вперед, потом назад и снова вперед. Ломота в руках отступила. Брезент над ним вернулся на место. Желая откинуть брезент, он поднял руку, но его ладонь прошла сквозь плотную промасленную ткань как сквозь воду. Поверхность брезента пошла рябью, на несколько секунд предметы в поле зрения Пиньона исказились и преломились, будто смотреть приходилось сквозь толщу воды; только что четкий силуэт каюты на фоне голубого неба сместился и изогнулся. Пиньон замер, не смея поверить. Краем глаза он заметил занятого какой-то механической работой Лазарела с отверткой в руке. Сент-Ивса нигде не было видно. Сквайрса тоже — вероятно, он стоял за штурвалом на мостике. И только одна пара глаз смотрела на Пиньона неотрывно, на него и только на него — неподвижные глаза Гила Пича, словно погруженного в транс, с лицом, растянутым и искривленным за толстым стеклом батисферы. Волна леденящего ужаса окатила Пиньона. Пич знает, что он здесь, под брезентом. Он смотрит ему прямо в глаза. И давно следит за ним. А с ним происходит что-то странное. Ужасно странное.
От невероятной боли Пиньон согнулся вдвое, а выпрямившись, испустил крик, который был не в силах сдержать. Забившись, он принялся хватать ртом воздух, внезапно ставший пустотой. Теперь они заметят его. Заметят как пить дать. Неожиданно ему захотелось, чтобы это произошло. Иначе — смерть. Его кожа подернулась рябью, как мгновением раньше — брезент перед глазами.
Все тело отчаянно, дико зачесалось. Он впился ногтями в кисть и с удивлением увидел несколько отскочивших серебристых чешуек. Пальцы, между которыми он с содроганием отметил появление бледно-восковых перепонок, сделались странно неловкими. Пиньон захрипел и впился руками в горло, силясь протолкнуть воздух в легкие. Под пальцами плоть на его шее расступилась, открыв короткие косые щели.
Он дергался и задыхался, разевая рот в криках, но его вопли на воздухе были не слышны. Через мгновение он уже перестал кричать — но тут прозвучал испуганный возглас Сент-Ивса: тот наконец обратил внимание на шевелящийся брезент, откинул его и обнаружил бьющуюся на палубе среди разорванной в клочья формы мороженщика огромную рыбину с мясистыми, оканчивающимися пальцами грудными плавниками, беззвучно разевающую рот.
— Боже мой! — воскликнул профессор Лазарел так громко, что от испуга Эдвард чуть не рухнул на быстро завершающего свои метаморфозы Джона Пиньона. Однако Лазарел смотрел совсем не на Пиньона — дергая Эдварда за рукав рубашки, он указывал рукой на берег.
Глава 23
Кто это — снова Ашблесс? — пронеслось в голове услышавшего окрик Уильяма. Но что-то подсказывало ему, что поэт ни при чем. Этот голос слишком походил на шепот. И тот, кто звал его, никуда не спешил — по коридорам разносился тихий, но вездесущий глас призрака, чье местонахождение определить не представлялось возможным — существо могло быть как впереди, так и позади него. Уильям замедлил шаг, прислушиваясь. Голос раздался снова.
— Уильям. Уильям Гастингс.
Потом жуткий звук — что это? — кто-то перепиливает лезвием ремни или скрипят кожаные подошвы, мягко ступая по бетону?
Сколько еще до берега? Наверняка не больше полумили. Уильям сорвался с места и побежал. Его фонарь снова разрядился — свет померк, превратившись в тускло-желтое сияние. Из пасти тоннеля, мимо которого пробегал Уильям, внезапно донесся пронзительный крик, вой, перешедший в визгливый смех. Раздался дробный топот — кто-то бежал за ним следом. Погоня продлилась всего несколько секунд, после чего преследователь сдался и отстал, и вокруг снова наступила тишина, но уже не благословенная, а очевидная предвестница какого-то нового ужаса, подстерегающего его неизвестно где впереди, но несомненного, который вдруг обрушился на него кошмарным колокольным перезвоном, глухим диким эхом заметался под сводами узких труб канализационного подземелья, такой же неуместный, как праздник в сумасшедшем доме.
Прекратившись так же внезапно, как и начался, колокольный звон умер вдали, и на смену ему снова пришел тот же шепот, мягкий и вкрадчивый:
— Уильям. Уильям Гастингс.
Голос был мягким, но сверхъестественно громким, словно исходил из мощных, но невидимых подземных динамиков. Голос звал, и Уильям знал, что теперь ему не скрыться.
Иларио Фростикос появился перед ним неожиданно, совершенно невероятным образом, внезапно выступив из тени со своим неизменным докторским саквояжем в руке, холодно улыбаясь.
Уильям чуть не налетел на доктора. Рванувшись в сторону, он врезался плечом в бетонный наждак скругленной стены, его развернуло и, падая, он выставил вперед руки, защищая голову. Фонарь выскользнул из его пальцев и, шваркнувшись о пол, загорелся ярко, как никогда. Но недолго ему гореть. Не пройдет и минуты, как он снова погаснет — Уильям был в этом уверен.
Он обшарил глазами лицо доктора, отыскивая хоть малейший признак сочувствия, человеческой эмоции. Лицо Фростикоса было пустым и спокойным — лицом каменного изваяния. Даже цвет кожи доктора ничуть не походил на человеческий — сквозь слои пудры явственно проступал синевато-желтый оттенок. Щеки были нарумянены. Волосы зачесаны ровными узкими прядями, похожими на ряды плодовых деревьев в саду. Фростикос был ужасен — нежить, упырь.
Глаза — они были хуже всего. Бездонные провалы. Пустые, бесконечные и белесые, словно прикрытые полупрозрачной пленкой. «Как выглядит доктор без грима?» — пронеслось в голове Уильяма. Сколько лет было Фростикосу, когда в начале века Пен-Сне позволил ему ступить на борт своего судна? И кого, Бога ради, он ему напоминает? Отчего он так уверен, что доктор не может в действительности быть тем, на кого так похож?
Фростикос кашлянул, одновременно чуть заметно вздрогнув. Но Уильям заметил это. Он увидел, как худые пальцы доктора еще крепче стиснули кожаную ручку черного саквояжа. Фростикос улыбнулся, но его улыбку стер новый судорожный приступ удушливого кашля. Уильям чуть сдвинулся с места, словно собираясь броситься бежать, но, сделав шаг вперед, Фростикос загородил ему дорогу, насмешливо помахав своим саквояжем. Что за ужасные инструменты он в нем принес? Какие дьявольские принадлежности?
Из левого глаза Фростикоса скатилась слеза, прорыв себе в пудре дорожку. Кожа под пудрой была неестественно голубой — почти лучилась голубизной, как это бывает у рыб. Зрелище подлинных покровов доктора привело Уильяма в еще больший ужас. Он замер. Его мысли спутались. Одна мысль в его голове перескакивала и обгоняла другую, врезалась в третью, и все это превращалось в совершенно неразборчивый клубок. Он не мог отвести глаз от лица доктора. Что-то неправильное виделось ему в этом лице. Ужасно и смертельно неправильное. Короткими глотками заталкивая в себя воздух, словно отходя от внезапной спазмы, Гастингс непроизвольно схватился за сердце.
— Куда делся поэт? — проскрипел Фростикос, не переставая замороженно улыбаться.
— Ушел, — ровным голосом ответил Уильям.
— Вместе с Пичем?
— Вместе с Пичем, — эхом отозвался Уильям, желая верить, что Ашблесс со своим спутником успели спуститься вниз по подземной реке уже на много миль, выбравшись за пределы владений Иларио Фростикоса, где тот правил своей властью лжи и подлости. И Фростикос тоже это знал. Реджинальд Пич был для него потерян навсегда. Неожиданно его лицо исказил приступ убийственной ярости, смешанной с еще более убийственной болью.
— Тебе понравится твой новый дом… — заговорил Фростикос, но согнулся пополам от раздирающего кашля. Когда он снова поднял лицо, то выглядел так, словно разом постарел под слоем своей пудры телесного цвета лет на пятьдесят. Уильям был свободен. Чары Фростикоса разрушились. Он чувствовал это. Он мог ударить Фростикоса по голове, сделать из него отбивную. Но он не двинулся с места. Нечто загадочно-необычное, небывалое сквозило во всем облике Фростикоса. Теперь доктору было не просто плохо — ему было чертовски плохо, плохо до смерти. Это было видно по его глазам, по затравленному взгляду — это был взгляд человека, который наконец понял, что совершил роковую ошибку. Ждать оставалось недолго — отчего-то Уильям был уверен в этом. Он поднял с пола фонарь и крепко сжал его в руке, устраивая поудобней, готовясь прыгнуть вперед. Но сначала следовало дождаться подходящего момента.
Трясущимися руками Фростикос принялся нашаривать застежки черного саквояжа. Решив, что худшие страхи позади, Уильям приободрился. Стиснув в руке фонарь, он поднял его, словно собираясь впечатать доктору в лоб. Фростикос попятился и взмахнул свободной рукой, его безумные глаза метались между саквояжем и фонарем Уильяма, лицо заливали неожиданные потоки пота, смешанного с пудрой и румянами.
В саквояже находилось что-то жизненно важное для доктора, и это что-то не имело никакого отношения к Уильяму. Что это — героин, морфий? Ну конечно же. Фальшивый аспирин. Фростикос просчитался. Гоняясь за Уильямом по канализации, он пропустил время очередного приема. Наркотическая ломка подступила внезапно и застала доктора в самый неподходящий момент. «Он крепко сидит на своей дряни», — подумал Уильям, посматривая на саквояж.
Фростикос откинул замки и запустил руку внутрь саквояжа. В ту же секунду Уильям выбил саквояж у доктора и пинком отбросил в глубь тоннеля, в лужу темной густой воды. Из кувыркающейся черной сумки полетели на бетон разнокалиберные пузырьки и бутылочки, со звоном разбиваясь, от ударов откупориваясь и рассыпая таблетки и порошки.
Фростикос дико и мучительно завыл, как смертельно раненый зверь. Скрючив пальцы, он обернулся к Уильяму. Оскаленные зубы доктора блестели от слюны, глаза горели жаждой убийства.
— Ну, подходи! — размахивая фонарем, закричал Уильям, чувствуя необычайный прилив отваги и сил.
Фростикос отвернулся и бросился к своим таблеткам, задыхаясь, клокоча горлом, выхватывая из затхлой жижи в первую очередь скользкую раскрывшуюся бутылочку с зеленым, наполовину разлившимся содержимым. Но Уильям уже настиг его. Фростикос выгнулся дугой. Фонарь Уильяма с отчетливым сухим стуком опустился на макушку доктора, бросив его лицом в грязь. Ноги Фростикоса задергались. Уильям схватил его за воротник пальто и потащил прочь от рассыпанных таблеток, от зеленого снадобья. Фростикос бился и пронзительно вскрикивал. Уильям отпустил его через несколько шагов и отскочил в сторону. Бросившись к пузырькам, он расшвырял их в стороны ногами. Бутылочку с зеленой микстурой он наподдал словно футбольный мяч — та улетела в темноту, расплескивая остатки содержимого. Фростикос издал полубезумный крик, потом скороговоркой понес полную околесицу. Растоптав все пузырьки до единого, Уильям подбежал к доктору и еще раз, сильно, ударил его по голове фонарем.
Раструб соскочил, преследуемый очередью батареек. Фростикоса поглотила темнота. Расставив ноги поудобнее, Уильям занес фонарь для нового удара. Доктор все еще что-то булькал — видно, безумие придало ему сил, он мог быть опасен. Но бежать Уильяму было поздно. Он и так слишком долго бежал.
Тяжело дыша, Фростикос замолчал. Его дыхание было частым, прерывистым. Что-то трижды резко стукнуло в темноте по бетону, словно Фростикос, сотрясаемый следующими один за другим приступами падучей, бился головой о пол, складываясь и распрямляясь как карманный нож. Отпрянув, Гастингс принялся нашаривать свой рюкзак, а нащупав, рвать все карманы подряд в поисках маленького фонарика. Нащупав трясущимися руками фонарик-карандаш, он включил его и направил луч Фростикосу в лицо.
Задохнувшись от неожиданности, он отступил, так и не отпустив рюкзак и волоча его за собой. Лицо Фростикоса превратилось в маску из тысяч копошащихся червей. Кожа взбухала мелкими желваками, менялась. Доктор подергивался и втягивал воздух с ужасным, неправдоподобным жестяным хрипом, словно древний старик, умирающий от полностью выевшей его болезни. Дернувшись последний раз, он равнодушно стукнулся затылком о бетон и затих. Его лицо, тихо дрожа, медленно осело, растекаясь в стороны. Из черных набухших точечек волосяных луковиц, змеясь, проросли волосы. Седые брови почернели. Взгляд доктора сфокусировался на Уильяме, сначала озадаченно, потом заледенев от внезапной ненависти. Но этот взгляд больше не принадлежал Иларио Фростикосу. Мертвое и неподвижное лицо лежащего на дне канализационной трубы существа, превратившееся в маску ярости и изумления, было лицом Игнасио Нарбондо, вивисектора, знаменитого специалиста по физиологии земноводных. Уильям затаил дыхание, не веря своим глазам.
Лицо снова начало изменяться — усыхать. Кожа разъехалась в стороны и исчезла. Волосы длинными спутанными клубками, отпав, рассыпались по полу. В воздухе резко запахло смертью и сухостью тлена — повеяло духом саркофага, смешанным с рыбной вонью протухшего аквариума. В самый последний, отделяющий плоть от праха миг Уильям мог поклясться, что лицо Фростикоса напомнило ему голову древнего огромного карпа. Но голова превратилась в обычный череп, соскользнувший по склону бетонной стенки к грудной клетке. В слабом свете фонарика Уильям увидел перед собой человеческие останки, пролежавшие здесь, может быть, несколько сотен лет.
Уильям смотрел, приоткрыв от удивления рот. Нечего и говорить — такое он меньше всего ожидал увидеть. Но как ни странно, это укладывалось — укладывалось в общий узор, как последний фрагмент мозаики. «Карп не умер», — сказал Эдварду Пен-Сне. Бред сумасшедшего, по мнению Эдварда. Но теперь все стало на свои места. Во всем был свой скрытый смысл, просто они не умели его понять.
Подняв с пола рюкзак и держа конус света на запутавшейся в одежде куче костей, Гастингс шаг за шагом начал отступать. Если бы сейчас, как в сказках о Синдбаде-Мореходе, скелет вскочил, словно марионетка, на ноги и бросился на него, он ничуть бы не удивился. Один за другим зубы выпадали из застывших челюстей и с сухим стуком падали на пол, подскакивали и переворачивались, как неторопливо рассыпающиеся бусы. Решившись, Уильям сорвался с места и, точно выпущенный из пращи, метнулся в сторону невидимого пока солнечного света. Это вам не «Тысяча и одна ночь». Это чистейшая, законченная реальность. Фростикос умер. В три часа дня батисфера будет спущена на воду. Уильям слишком много испытал на своем изобилующем поразительными приключениями пути, чтобы теперь не принять участие в путешествии.
Через некоторое время он обнаружил, что у него разбита коленка, но когда это случилось — не помнил. Спина мозжила и болела, словно кто-то прошелся по ней молотком. На бегу он выхватил из кармана часы и посмотрел на них: часы остановились, стрелки застыли на половине третьего. Ручей посередине трубы расширился, и бежать теперь приходилось по щиколотку в воде. Не прошло и пяти минут, как Уильям снова почувствовал, что задыхается. Он опоздал, наверняка опоздал. Все бессмысленно. Батисфера уже ушла. Его схватят на пустынном пляже и обвинят в убийстве. После того как в канализационной трубе будет обнаружен скелет, к букету его обвинений прибавится еще и осквернение останков.
Он бежал и бежал, стиснув лямки рюкзака онемевшей рукой. Внезапно впереди мелькнул и загорелся лунным серпиком на беззвездном небе солнечный свет. Серпик вырос и превратился в полумесяц, потом в полную луну, и наконец Уильям увидел море, а еще через минуту увязал ботинками в прибрежном песке и кучах подсыхающих водорослей.
Прямо перед ним на якоре качался «Герхарди». На палубе буксира на солнце блестела батисфера. Рядом с батисферой стоял Лазарел. Эдвард что-то мудрил с брезентом, перетряхивал его. Заметив Уильяма, Лазарел толкнул Эдварда под локоть, что-то неразборчиво прокричал, указывая сначала на берег, а потом куда-то вверх на утес. Эдвард выпрямился и обернулся. Джим уже бежал к шлюпке, спускать ее на воду. Кто-то выкрикнул сверху его имя. Забрасывая рюкзак на спину и устало махая руками Лазарелу, Уильям бросился к воде, на ходу обернувшись.
По тропинке с утеса к нему бегом спускались двое полицейских. Они громко звали его, называя «мистер Гастингс». В следующий раз, когда во время весенних дождей скелет Фростикоса вынесет на берег, они будут называть его по-другому.
Раздраженно махнув полицейским рукой, Уильям зашлепал по воде, а потом, разгребая волны слабыми руками, побрел по грудь в воде в ту сторону, где то появлялся, то исчезал между волнами «Герхарди». Он был уверен, что полицейские не станут преследовать его в море — он стал слишком широко известен публике, уже не просто как разбиватель голов, вырыватель цветов и сорви-голова. Они воспользуются своими глупыми передатчиками, прокричат в них дурацкие кодовые слова, и из Сан-Педро отправится на перехват катер морского патруля. Но если они еще не успели вызвать себе на подмогу очередного члена семейства Пичей, о преследовании не стоило говорить. Волны уже захлестывали ему лицо, и приходилось задерживать дыхание. Джим греб к нему в лодке, до него оставалось десять ярдов, потом пять. Ухватившись за борт руками, Уильям попытался подтянуться и перевалиться внутрь, но не смог. Его силы были на исходе. Джим развернул лодку и принялся грести обратно к «Герхарди», буксируя Уильяма за собой. Книга Пен-Сне, чудом пережившая подземелье, от воды превратится теперь в кашу. Но свою службу она сослужила. Хотя Эдвард, конечно, будет вне себя, когда узнает, что его шестидесятидолларовый раритет испорчен морской водой.
Еще через несколько минут Уильям уже лез на палубу, подталкиваемый снизу Джимом. Он упал на палубу ничком, потом перевернулся и прищурил глаза от солнца.
— Пускай отдышится, — бросил Эдвард и отвернулся — поступив, по мнению Уильяма, не слишком-то вежливо. Повернув голову, он увидел, что все заняты чем-то на корме, возятся над сваленным кучей брезентом. Уильям моргнул. На палубе там лежала огромная рыба. На мгновение ему показалось, что это Реджинальд Пич, но потом он понял, что ошибается. С трудом поднявшись на четвереньки, он подполз ближе. Это был Джон Пиньон.
Подхватив с двух сторон брезент, профессор Лазарел и Эдвард подтащили рыбу к борту и, осторожно наклонив, спустили ее в воду. Уильям увидел, как Пиньон медленно, по спирали, начал погружаться в глубину, унося с собой обрывки своего дурацкого костюма. Внезапно ожив, Пиньон содрогнулся и несколько раз резко выгнулся и распрямился, словно желая избавиться от остатков одежды. Его неожиданно гибкое тело изогнулось еще раз, он сильно махнул сросшимися и превратившимися в хвост ногами и ушел в зеленый сумрак подводного леса.
— Пора, — сказал Гил, безразличный к судьбе Пиньона, взглянув на раскрытый люк батисферы. На борту их будет пятеро — тесновато, но терпимо, поскольку аппарат рассчитан на шестерых. По-очереди они пожали Сквайрсу руку, помогли Уильяму, напоследок наказавшему Сквайрсу следить за мышами и аксолотлем, забраться в люк, потом спустились туда сами и задраили крышку. Через секунду после того, как рукоятка люка прекратила свое круговое движение, батисфера была поднята с палубы и опущена в воду. Гил производил последнюю проверку приборов и настройку гудящей машины Иеронимуса. Повсюду россыпями рубинов, аметистов и изумрудов подмигивали, вспыхивали и гасли огоньки.
Уильям снял свой рюкзак, развязал и порылся внутри. Осталось последнее, что следовало узнать сейчас же. Он достал из рюкзака палисандровую резную коробочку и протянул ее Гилу.
— Я нашел это у Ямото, — сказал он, кивая на коробочку. — И уверен, что в ней не аспирин. Какой-то сорт опиата, так мне кажется — может быть, героин, — и изготовил его Хан Кой, но доказать это я не могу.
Гил мельком взглянул на пилюли, словно те не представляли для него никакого интереса, более того, раздражали.
— Это героин, — ответил он после краткой паузы, — вы совершенно правы.
В этот самый миг батисфера коснулась воды, и в иллюминаторах забурлили потоки несущихся вверх переливчатых пузырей. Привод Дина внезапно ожил и загудел, и первые крупицы соли, выделенной из расщепленной морской воды, с шелестом упали на дно оцинкованного ведра.
Уильям улыбнулся, неожиданно вспомнив свой бумажный кораблик. Гил слабо кивнул Джиму. Эдвард и профессор Лазарел пожали друг другу руки. Через пять минут, прошедших в абсолютной тишине, Гил уверенной рукой отвел назад два рычага, освобождающие батисферу от подвесного троса, от пуповины, связывающей их с «Герхарди», с пылью, смрадом и суетой внешнего мира. Освободившись, они начали погружаться в пучину, преследуемые темной тенью Пиньона, наращивая скорость, вскоре выправились и, рассекая воду, устремились прямиком к таинственной центральной полости Земли.


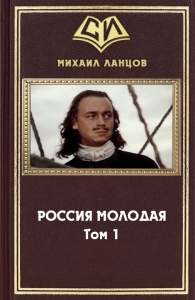

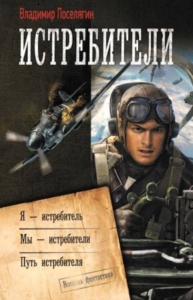
Комментарии к книге «Подземный левиафан», Джеймс Блэйлок
Всего 0 комментариев