Елена Хаецкая. Голодный грек, или Странствия Феодула
Голодный грек и на небо пойдет.
Хазарская поговоркаРаймона де Сен-Жан-д’Акра в действительности звали Феодулом. Начинал он жизнь подлинно как ни то ни се, и только годам к тридцати словно бы случилось с ним что-то. Подтолкнул ли кто Феодула в лихой час под руку; шилом ли ему пониже спины попали? Да и то спросить: во-первых, кто именно попал? И во-вторых, истинно ли то было шило или же, если поискать, открылась бы некая иная причина?
Собою Феодул был, прямо сказать, невиден. Росту совсем нехорошего, низкого; лицом как бы взрыхлен, или, иначе выразиться, вспахан; весь в прыщах, оспинах, вмятинах, рытвинах и пятнах. Точно вороны его по щекам когтями драли. Только волосом и был Феодул хорош; богатые волосы, такого цвета, каким бывает золотой безант с изрядной примесью меди, если между пальцами его потереть. По обыкновению миноритов, подбородок он брил, отчего прыщи только умножались, а на темечке носил гуменце, дабы Духу Святому нашлось куда опуститься.
Одежды на Феодуле были черны, грязны и совершенно оборваны, а заплатаны лишь на некоторых местах. Ходил он бос, по правилу своего ордена; на поясе носил вервие вида весьма грубого и взлохмаченного; к вервию крепил жидкие четки с явной нехваткой зерен и какое-то особенное, вырезанное из желтоватой кости, изображение Божьей Матери с треснувшей, впрочем, головой, которое помогало ему в трудные минуты подходящим наставлением и помаванием десницы с зажатым в пальцах крохотным крестиком.
Сам себя Феодул именовал братом Раймоном и некоторое время исправно монашествовал в среде миноритов Акры. Однако ж, когда дознались о греческом его происхождении и имени, то все же так и не выпытали, истинно ли в католическую веру он окрещен и как исповедует касательно Духа Святого: в константинопольском ли заблуждении пребывая или сердечно веруя истине латинского догмата?
Впрочем, и в этом дознании усердия явлено было совсем немного, ибо Феодул представлялся человеком совершенно скучным и малозначительным.
Так вот и плелась жизнь Феодула, нога за ногу, точно хромец по горной дороге, в явном прозябании и даже ничтожестве, покуда не случилось одному минориту по имени брат Андрей из Лонжюмо отправиться в Восточные пределы, в земли монголов, имея поручение к их владыке от короля франков Людовика, во всем христианском мире прозываемого Святым Королем.
Брат Андрей представил королю подробный отчет о своем путешествии – а длилось оно без малого два года – и потратил на составление пергаментов три седмицы упорного труда.
Все то время, пока брат Андрей писал, Феодул бродил вокруг да около, заглядывал к брату Андрею в оконце, становясь для того на цыпочки, а потом часами сам с собою рассуждал о чем-то, беззвучно шевеля толстыми губами и уставясь в одну точку. Несколько раз за этим занятием Феодул пропускал обязательные чтения, так что в конце концов костяная Божья Матерь, что висела у него на поясе, утратила всякое терпение и сердито ткнула его маленьким крестиком в бедро, чем пребольно его и уязвила.
Однако и после этого Феодул не оставил своих помыслов и продолжал усердно кружить возле брата Андрея, выискивая минутку, дабы подловить его и учинить нападение.
И уж конечно, выдалась в числе Божьих минут и такая минуточка. Обо всем подробнейше расспросил Феодул брата Андрея, причем любопытствовал совершенно об ином, нежели король Людовик.
Король, конечно же, в первую очередь тревожился о непомерно возросшей военной мощи монголов. Ибо вдруг сделалась эта мощь такова, что и степи для нее оказалось мало. Перекипела через горы и выплеснулась в земли христианские, и претерпели через то немалый урон многие славные города, и в их числе – Киев и Пешт.
Вот и помышлял, глядя на это разорение, король Людовик о том, возможно ли с монгольской лавиной как-нибудь договориться и поладить. Не худо бы к тому же разведать, в силах ли монголы проникнуть, скажем, до Парижа.
Однако смиренный минорит брат Андрей в подобных делах смыслил, как видно, немного, ибо писал королю со всей откровенностью, что видал в степи монголов без числа и всяк при добром оружии; жены же их плодовиты, и чада взрастают воинственны; могут ли они при таком условии проникнуть до самого Парижа – брат Андрей судить не берется, ссылаясь на собственное скудоумие.
И другое спрашивал повелитель франков, Святой Король: нельзя ли устроить так, чтобы окрестить всех монголов или хотя бы только их вождей в католическую веру и тем самым подчинить духовному руководству Римского Престола? Это было бы весьма кстати и желательно, поскольку послужило бы, в числе прочих выгод, к пользе в борьбе с сарацинами в Святой Иерусалимской Земле.
Но и здесь брат Андрей не мог сообщить ничего определенного, ибо таков этот лукавый народ монголы, что и не дознаешься: признают они Христа своим Господом или же не признают. Иной раз создается такая видимость, что да, признают; другой же раз, как явятся к монгольским вождям служители идольские, тотчас начинают усердно кадить истуканам.
Словом, ничего путного король Людовик от брата Андрея не дождался, невзирая на все усердие последнего.
Не так обстояли дела у Феодула. Любопытство свое Феодул простер не далее самых обыденных житейских вопросов. К примеру, что у монголов почитается за съедобное, а что – за скверное; или же: в чем они усматривают вежества и каков должен быть внешний вид человека, которому они оказали бы гостеприимство, – и так далее. И потому, расспрашивая брата Андрея, весьма преуспел Феодул.
Брату Андрею все эти разговоры Феодула казались суетными, но в смирении своем не стал он строго судить любопытствующего брата и все тому поведал, о чем тот спрашивал.
После совершенно охладел Феодул к брату Андрею и занялся иным; а по прошествии месяца, при попутном ветре, сел на некий корабль и таким образом из Акры исчез. Одни полагали, что Феодул отправился в Марсель по какой-то своей таинственной надобности; другие же уверяли, будто собственными ушами слышали, как Феодул называет целью своего путешествия Магриб.
На самом деле Феодул спешил в Константинополь, куда и приплыл вполне благополучно, если не считать незначительных тягот, обыкновенных для морского плавания.
О Константинополе и святынях, там обретаемых
Царственный Константинополь вот уже полвека как значился латинским, то есть был подчинен владычеству франков, а в духовном отношении окормлялся Римским Престолом, что время от времени принимало вид различных гонений на служителей схизматической Церкви, называемой самими греками «ортодоксальной».
Подобное положение вещей сложилось следующим образом. Обуреваемое благочестием латинское рыцарство в четвертый раз вознамерилось спасти Палестину от власти Магометова полумесяца, для чего и собрало неисчислимое воинство. Но затем франки непостижимо свернули с прямого пути и сами не вполне поняли, как вместо Святой Земли оказались вдруг под стенами Константинова града. И вот уже летят пылающие снаряды и визжат катапульты, вервия с крюками на концах впиваются в каменную кладку стен, а сверху на беловолосые головы франков льются масло и кипящая смола, и летят стрелы, и валятся камни, и повсюду царит величайшее смятение.
Трижды фряги, являя зверонравие поистине сатанинское, подпущали огонь на улицы Города.
В первый раз выгорели все дома от Влахернского дворца до монастыря Эвергета – один только пепел остался, да и тот был вскоре развеян ветром; что до головешек, то их растащили жадные фряги для своих походных костров.
Во второй раз латинники, бесчинствуя уже в самом Городе, взялись грабить мусульманский квартал – а греки в Столице терпели мусульман за очевидную полезность последних – и подпалили мечеть, желая воспользоваться суматохой и набить кошели и скрыни, всегда голодные, с алчно распахнутой пастью. Огонь кинулся на дома и лавки торгового и мастерового люда и пожрал все дочиста. Сотни людей и неисчислимые ценности сгинули – как их и не бывало; у самых стен Большого дворца два дня бушевало пламя.
В третий же раз некий германский граф, а именно Карл-Радульф-Бертольд фон Катценельнбоген, вознамерившись победить греков возможно более дешевой ценой, подкинул горящие угли в корзине и запалил тот квартал Города, что не был еще занят ни той, ни другой из противоборствующих сторон. Таким образом, греки были стиснуты с одного бока пожаром, а с другого – битвой. Так выгорела часть домов вдоль Золотого Рога – от храма Христа Спасителя до Друнгариона.
А ворота Великого Города и ту цепь, что перегораживала Золотой Рог, воспрещая вражеским судам вход в константинопольскую гавань, фряги сняли и послали в Палестину, гордясь победой над собратьями христианами. И вместо того чтобы оплакать падение Царственного Града, ликовали фряги в Палестине, а ворота и цепь отдали на сохранение рыцарям Иоаннитского ордена.
Папа же Римский поначалу хотел отлучить от Церкви грабителей за святотатственные деяния их; однако затем, смягченный множеством даров и показным раскаянием, постановил иначе и приписал разрушение Города людским порокам: возгордившись много, пал Царственный, и в том надлежит усматривать волю Провидения. Что до законности грабежей – сие будет зависеть от усмотрения святого Петра; однако прежде всего необходимо, чтобы греки повиновались фрягам и уплачивали им дань; светские сановники же да подчинятся духовенству, а духовенство – Папе; и на том с разбирательством касательно разорения Города было в Риме покончено.
Итак, заняв и основательно разграбив Константинополь, латинники ощипали те из сокровищ, что по какому-то счастливому недоразумению оставались еще нетронутыми. Многие жители после того бежали и осели в соседней Никее, где впоследствии вызрела новая греческая империя, и уже во времена Феодула крепко сидел там лукавый и злой Дука Ватацес.
Что до Константинополя, то позолота латинства, нанесенная на опоры ветхие, изрядно источенные червями, на диво быстро истончилась, облезла и придала всему Латинскому королевству в Греции чрезвычайно неприглядный и даже обтерханный вид.
Изрядно усугублял плачевность державы и облик ее нынешнего государя Балдуина Второго, наследника воинов Креста. От юности призван был он скитаться по дворам своих царственных собратьев, вымогая у тех деньги на содержание Латинской Империи в Греции. Однако много успеха он не имел, хоть и выставлял напоказ свою трогательную беззащитность, молодость и полное отсутствие стыда. Сие блюдо, сдобренное приятно щекочущим внутренности соусом благочестия, преподносилось монархам лет десять и поначалу даже кое-где имело успех. Однако по прошествии этих лет многие государи сочли его чересчур пикантным; да и стоило оно недешево. В конце концов оплачивать всю эту изжогу взялся Людовик Французский, Святой Король.
Однако заметим, что Феодул, прибыв в Царственный Город, менее всего тревожился о власти здешних латинников или о заботах ортодоксального исповедания под пятою Рима.
Да и сам Константинополь, казалось, мало был этим занят. Как обычно, Город судачил и сплетничал, покупал и продавал, таскал на потной спине заморские грузы, сваливая на причалы тяжелые мешки и поднимая при том тучи пыли, набивая трюмы бочками и кувшинами, тюками и сундуками; Город смолил бочки и вялил рыбу, бранился, соизмерял ткани (ибо в иных случаях вдруг выяснялось, что локти у константинопольских торговцев куда длиннее, чем у магрибинских; в других же случаях, напротив, локти греков вдруг непостижимым образом укорачивались, и это вносило смятение в степенные умы магометан). Город тряс по притонам игральными костями, задыхался в любовных объятиях на скользких шелковых покрывалах, пропитанных ядреным потом; глотал молодое вино, приготовленное с участием горьковатой, как бы опечаленной морской воды; чрезмерно поглощал рыбу, замаринованную в уксусе и политую чесночным соусом, – яство, способное испепелить любой латинский желудок, но милое желудку греческого исповедания; распевал непристойности, привычно поносил фрягов, утаивал налоги, играл на скачках – правда, теперь довольно убого, ибо после нашествия решительно вся роскошь погибла… Ну и конечно, побирался, превратив нищенское ремесло в искусство – а где только есть искусство, там нет и не может быть никакого стыда.
Потратив совсем немного времени на то, чтобы уяснить для себя вышеперечисленное, Феодул нашел все это весьма здравым и охотно разделил мнение Города касательно меры и соотношения Добра и Зла в человеческой жизни – точнее, касательно расплывчатости границ между этими понятиями.
Это было хорошо.
Феодул обошел множество прекрасных домов с садами, отстроенных наново после пожаров и разорения. Любоваться роскошными зданиями Города всяк имел полную свободу, стоя посреди улицы перед глухим белым забором, до середины забрызганным высохшей грязью – воспоминанием давних дождей, что потоками стекали вниз по улице, унося нечистоты и размывая песок и глину. Любопытствуя, Феодул изо всех сил вытягивал короткую толстую шею, багровел от натуги, но разглядел немногое: плоские крыши, глухо закрытые оконца да качающиеся ветки фруктовых деревьев. Однако и того оказалось довольно, чтобы составить представление о царящем здесь изобилии.
К сожалению, созерцание относилось к области бесплодного и потому было Феодулом в конце концов оставлено за полной ненадобностью. Утолив голод черствой булкой, оставшейся из изначальных запасов, сделанных к путешествию еще в Акре, отправился Феодул искать, где ему преклонить голову, ибо справедливо рассудил, что утро вечера мудренее.
Быв в Акре братом Раймоном, не владел Феодул никаким имуществом, за исключением духовного; теперь же явственно настала для него такая пора, когда необходимо было обзавестись хоть чем-нибудь из презренных мирских благ.
Поразмыслив над всем увиденным и унюханным в соленом константинопольском воздухе, пришел Феодул к выводу, что единственным путем обогащения остается ему здесь нищенство – бесстыдное, возведенное в ранг искусства и в то же время не гнушающееся простого воровства.
В то же время, рассуждая сам с собою насчет здешних нищих, Феодул не без оснований пришел к выводу, что они воспротивятся попыткам пришлеца утвердиться в их почтенном ремесле, и потому для начала положил для себя Феодул приступить к поиску сотоварищей.
Но тут новая препона: таковых, чтобы прониклись к нему, Феодулу, доверием и в то же время тянулись бы самому Феодулу, никак не обнаруживалось. У всех имелся какой-нибудь существенный изъян; по большей же части они попросту гнали Феодула вон.
Это было нехорошо и совсем некстати.
Миновав кварталы Венецианский, Пизанский и Генуэзский, выбрался Феодул к проливу и неколикое время созерцал неспокойную воду и играющие на ней солнечные блики; затем, повернувшись к водам спиною, обрел наконец искомое: малый и весьма бедный храм округлой формы с крытым входом над пятью ступенями. По всему было заметно, что храм этот – веры греческой. Обшарпанные колонны, кое-где изрисованные осколком кирпича, обвалившиеся ступени, сквозь которые проросла трава, и множество иных примет без слов говорили о том, что приход отнюдь не процветает – не то по произволу нынешних властей, не то по скудости благочестия обитавших поблизости греков.
На самом крыльце навалена была груда пестрого рваного тряпья, из-под которого в беспорядке торчали клочья соломы, чьи-то чрезвычайно грязные босые ноги, беспокойно подергивающиеся во сне, одна растрепанная борода – черная, курчавая, с обильнейшей проседью, и два пушистых песьих хвоста.
Недолго раздумывая, Феодул улегся рядом на крыльцо и потихоньку подполз под одеяло, двигаясь бочком, наподобие короткого толстого червя. Один из псов высунул было морду и настороженно обнюхал чужака, но Феодул сунул ему кукиш – верное средство от кусачей собаки. Пес коснулся кукиша теплым шершавым носом, недоуменно посопел и снова пал головой на солому. Феодул к тому времени уже притек под одеяло и устроился там совершенно как свой.
Утром нищих согнал с крыльца ворчливый старенький поп. Привычно благословив их со всех четырех сторон света четырьмя отменными пинками, схизматик-грек исторг из-под тряпья стоны, проклятия и глухое песье ворчание, после чего направился к двери – отпирать и долго, нарочито шумно гремел ключом и засовами.
Между тем из-под лоскутьев показались мятые, заспанные лица. Трое греков были бородаты, всклокочены, загорелы, словно бы изваляны в корабельной смоле, и изрядно засорены соломенной трухой. Псы, крупные, тощие, с выразительными, очень голодными глазами, уселись неподалеку. Один тотчас принялся усиленно чесаться, стуча когтем по каменной кладке крыльца; второй же зевал, как можно шире разевая пасть и завивая язык колечком.
Феодула обнаружили в соломе, когда тот поднялся, кряхтя и держась за бок.
– Жестко тут у вас почивать, любезные мои христарадники, – как ни в чем не бывало проговорил Феодул и поднялся на ноги.
– Да кто ты таков? – осведомился один из нищих и засверкал на Феодула черными глазами. – Откуда взялся? Как посмел ночевать с нами, под нашим одеялом, на нашей соломе?
– Да много ли ущерба я вам нанес, поделившись с вами теплом тела моего и любовью души моей! – возмутился Феодул. – Зная, что, ложась спать, не сотворили вы никакой молитвы и не озаботились вручить сонный дух свой в руки Господа, а пустили его бродить без пригляда, там, где ему, неразумному, вздумается, сотворил я молитву на сон грядущий за всех вас, потрудившись вчетверо против обыкновенного.
И вскорости уже так вышло, что эти трое бродяг оказались кругом Феодулу обязаны; сам же он представлялся чуть ли не их наипервейшим благодетелем.
– Вижу я, – сказал наконец один из хмурых греков, – что ты – великий мастер морочить голову и дурить бедных людей почем зря, а потому, сдается, в нашем ремесле человек отнюдь не лишний. Скажи-ка, как тебя звать и для каких целей притек ты под наше одеяло.
– Звать меня Феодулом, – охотно поведал Феодул, – а жил я в Акре, братья мои, и одежда на мне – ордена миноритов веры латинской; однако ж роду я греческого и испытываю неодолимое влечение к городу Константинополю, почитая его за святейший из всех городов христианского мира.
Укрепившись в первоначальном мнении касательно Феодула – а именно, что подобного проходимца и жулика свет еще не видывал, – константинопольские нищие коротко сообщили о себе, что звать их Фома, Фока и Феофилакт.
Иные утверждают, что брат Раймон именно тогда и принял мгновенное решение назваться Феодулом – ради созвучия, – а прежде ни о чем таком и не помышлял. Однако это вовсе не так. Ибо Феодулом был сей неусердный и плутоватый брат минорит по самой сути своей; в миру же Господнем возможны и не такие причудливые рифмы, как встреча Фомы, Фоки, Феофилакта и Феодула.
Не долго все четверо наслаждались этой рифмой в праздности. Занимался день, а бездельника обыкновенно ждет куда больше трудов, нежели простого рабочего человека. Да и поп уже пару раз выглядывал из своей облезлой церковки и буравил нищих маленькими злющими глазками.
И потому, собрав пожитки, кликнули нищие псов и двинулись в Город – не подобно сеятелям, но подобно жнецам, без устали собирающим обильную жатву с человечьей доброты, доверчивости и глупости.
Мысли Феодула касательно всего того, что вызнал он у брата Андрея о монголах, были пока что самые неопределенные; одно знал точно – корень осуществлению всех его надежд здесь, в Великом Городе.
Будучи истинными детьми Города, Фока, Фома и Феофилакт немало гордились латинским разорением и не уставали поносить латинников с таким жаром, словно им-то и довелось больше всех пострадать от бесчинства захватчиков. Особливо огорчала их утрата сокровищ, которыми никогда не владели ни Фока, ни Фома, ни Феофилакт, ни предки их, ни пращуры.
Известно, что две трети земной роскоши сберегалось некогда в Царственном Граде, а одна треть была рассеяна по остальному христианскому миру. Со времени же Великого Разорения все смешалось и расточилось, так что теперь и не сыщешь – что и где сохраняется. Худыми и бесчестными путями ушли из Города многие богатства, в чем явили фряги немалое паскудство. Сгинули короны, венчавшие давно склоненные главы былых владык, и утварь золотая из царских покоев, и златотканые пурпуровые одеяния с вот такими жемчугами по подолу и вдоль всех швов, и камней драгоценных без счету. Взяли даже серебряные тазы, коими знатные византийки пользовались в банях.
Все это составляло предмет особой печали новых сотоварищей Феодула, и они, похваляясь перед чужаком из Акры, наперебой перечисляли понесенные Городом великие потери.
«И что хуже всего, – говорили они, – в руки латинников перешли величайшие святыни нашего мира, а это – огромная потеря».
Вот наиглавнейшие из них.
1. Два куска Истинного Креста, на котором был распят Господь наш Иисус Христос; а размерами эти куски таковы: толщиною каждый с человеческую ногу, а длиною – около трех стоп, или, иначе, с половину туазы. И неведомо еще, как поступили с этими кусками, ибо одно время Город сотрясали упорные слухи о том, что фряги предали сии святыни расчленению, и раздробили священное древо на множество щеп, и раздали сии щепы знатнейшим из латинников-фрягов, дабы Истинный Крест хранил их от превратностей и бед ратной судьбы. Слухи эти не улеглись и по сю пору, ибо ожидали греки от фрягов одного только злого надругательства.
2. Еще хранились в Константинополе два гвоздя железных, коими были прибиты к Истинному Кресту рука и нога Христовы. Тоже франки забрали.
3. В сосуде хрустальном изрядная часть пролитой Иисусом крови. Об исчезновении этой реликвии в Городе скорбели особо, ибо ее, по слухам, прибрали к рукам рыцари духовного фряжского ордена, а носили сии рыцари белые плащи с красными крестами на груди и спине и по плечам; имели они кольчуги крепкие и оружие многое; лицом же надменны и норовом склочны, так что даже сами фряги их весьма не любили.
Тут Феодул поморщился и сказал: «То, должно быть, тамплиеры, рыцари Храма Соломонова. Верно, верно. И сами эти храмовники злющие, и руки у них загребущие. Ну, продолжайте; в чем еще претерпел ущерб Великий Город?»
4. Часть одеяния Пресвятой Девы – присвоили фряги.
5. Голову монсеньера св. Иоанна Крестителя – забрали в собственность они же.
6. Картину с образом св. Димитрия, написанную на доске и называемую «иконою», то есть «окном» в мир горний, – взяли себе латинники с их неправедным священством.
Сие особливо обидно, ибо икона сия – мироточива. Истекает из нее денно и нощно священное масло. Поскольку в состав мира входит тридцать одно ароматическое вещество, то приуготовление его весьма непросто; но по божественному вмешательству истекает оно из доски иконы само собою, без всяких трудов со стороны человеков. Так что утрата этой святыни огорчительна вдвойне – и как потеря священного источника, и как надругательство вообще.
Знающие люди говорили также, что миро иконы св. Димитрия совершенно особенное, и вот почему. Как-то раз одному алхимику, родом иудею, однако выкресту, удалось, добыв несколько капель, разложить их обратно на составляющие вещества, и – о чудо! – выделилась не тридцать одна, а тридцать две исходные капли! И постичь природу тридцать второй капли не удалось ни выкресту-алхимику, ни попу, которому тот доверился, так что сообща было ими установлено, что природа этой тридцать второй капли – не человеческая, но божественная. Таким образом небесная природа через тридцать вторую каплю сообщается и всему миру, истекающему из доски.
Последствия же мироточения таковы, что многие страждущие тотчас обретали утешение. Несколько сарацин, пробовавших исцелить застарелые недуги, кои не поддавались ни ножам дамасских лекарей, ни снадобьям магрибинских знахарей, пробрались в Святой Град переодетыми и тайно приложились к иконе. И вдруг ощутили они неслыханное просветление и тотчас же, прямо возле иконы, во всеуслышание признали Иисуса Христа своим Господом, а от Магомета отреклись. Один из них после этого мгновенно скончался, быв восхищен на небо в чистоте первого дня крещения; двое же других, полностью избавленные от многолетней немощи, приняли сан и удалились в один из монастырей.
Эту святую и чудесную икону привез из Фессалоник император Мануил Комнин, государь весьма развратный и, по слухам, даже многоженец; в плотской любви необузданный и не всегда разумный; лицом приятный и бородой окладистый; в писаниях своих (ибо баловался также литераторским художеством) совершенно убогий. Однако ж этот государь никогда не отклонялся от ортодоксальной веры и потому поминался во всех церквах Града как христианнейший владыка. Умер же он, исповедавшись и приобщившись, сто лет назад и был погребен с миром в той роскошной гробнице, которую, тщеславясь, сам для себя загодя выстроил из роскошнейшего самоцветного камня.
Помещена же была эта икона Комнином в храме Христа Вседержителя, откуда и взяли ее зверонравные франки.
7. Еще перешел в руки франков Благословенный Венец, которым был коронован Господь перед тем, как предали Его на распятие. И колючки этого Венца – из морского тростника, острые, как железное шило, – наподобие тех орудий, коими пользуются сапожники и все шьющие из выделанной кожи животных.
Судьба Благословенного Венца особенно прискорбна – и вот почему. Как уже говорилось, нынешний константинопольский государь латинской веры, видя, что дела его совсем плохи и финансы полностью расстроены, ездит с этим Венцом по дворам различных франкских владык и везде предлагает купить у него святыню. Просит, конечно, втридорога. Говорят, что худородные, но жирные венецианцы уже наполняют деньгами лари, вознамерившись приобрести святой Благословенный Венец в свою нераздельную собственность.
8. Железный наконечник от Копья, которым прободен был бок Господа нашего, как о том сказано в Писании: «Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода».
– Как же это так вышло, что Копье ни с того ни с сего оказалось в Константинополе? – осведомился Феодул, вдруг сильно покраснев.
Фома, Фока и Феофилакт, доселе встречавшие со стороны Феодула одно лишь одобрение – а говорили они, хоть и взахлеб, то и дело перебивая друг друга, но вполне связно и согласно, – так и замерли ошеломленные, с широко раскрытыми в бородах ртами.
– То есть… как это? – осторожно начал Фока, старший из всех, молясь про себя, чтобы не вспылить. Ибо негоже в самом деле ссориться, рассуждая о предметах столь священных, и еще менее почтенно будет вцепиться друг другу в лицо и, разрывая грязными ногтями щеки противника, с хрипом покатиться по земле. А к тому, судя по утяжелившемуся дыханию собеседников, и начала постепенно уклоняться благочестивая беседа.
– Сын мой, да будет тебе известно, что после захвата Иерусалима персами, а случилось сие более четырех сотен Господних лет назад, Копье было спасено от плачевной участи, постигшей Храм, – так начал рассказ Фока, желая просветить Феодула.
Храм Гроба в те годы представлял собою некое круглое сооружение внутри большого собора. Оно было вырублено из камня, и там могли одновременно молиться, стоя в полный рост, девять человек. Снаружи шатер был покрыт отборным мрамором, а сверху имелся немалый золотой крест. Внутри же и находился самый Гроб. Длина Гроба была семь пядей, а представлял он собою углубленное ложе, как бы раздвоенное на месте ног, и мог поместить на себя одного лежащего на спине человека. В Храме постоянно светили двенадцать драгоценных лампад – по числу апостолов. Что до цвета камня Гробницы, то он был не один, но казалось, будто перемешаны два цвета, красный и белый, вследствие чего этот камень представлялся двухцветным.
Говоря коротко, сарацинское завоевание привело к полной гибели и разрушению Храма.
И вот один верный человек, добрый христианин, зачернив себе лицо сажею и закутавшись с головы до ног в белое покрывало, проник в поруганный Храм – тайно, уподобившись татю.
Ужасающая картина открылась там ему. Повсюду в самых неестественных позах лежали мертвые тела; везде были лужи крови и сломанное оружие, негодные доспехи, а то и отрубленные от туловища конечности и головы. Повергнуты были и алтарь, и балдахин, и колонны балдахина; Гробница разворочена и осквернена; лампады, чаши, драгоценности – все расхищено или разломано.
Однако под скорбными руинами вскоре разглядел этот человек слабое мерцание и наклонился, желая рассмотреть его поближе. Тогда один из сарацин, бессильно лежавших посреди разбитого камня, вдруг пошевелился и молвил слабым голосом:
– Заклинаю тебя, брат, не прикасайся к этому злому предмету! Ибо жжет он жестоко и прогрыз мне руку до самой кости, нанеся непоправимое увечье, от которого я теперь умираю. Сдается мне, что это – то самое Святое Копье, которым был заколот Пророк Иса. (Так магометанцы поименовывают Господа нашего Иисуса Христа.)
Верный христианин сразу понял, что умирающий принял его за одного из поклоняющихся Магомету, и ответил так:
– Признай Христа своим Господом и прими Крещение во Имя Его – и тогда я берусь исцелить твое тело, подобно тому, как Истинное Крещение исцелит твой страждущий дух.
При виде столь глубокой веры согласился сарацин признать Иисуса Христа своим Господом, а верный христианин с радостным восклицанием наложил руку на Святое Копье и одним прикосновением священного железа исцелил умирающего. Но воскресить тем же способом мертвых, которых множество оставалось в Храме, не удалось.
Тогда эти двое, ставшие друг другу истинными братьями во Христе, тайно вывезли Святое Копье из Иерусалима и возложили его, после долгих скитаний, в храме Святой Софии в Константинополе. Впоследствии оно было перенесено в Маячную Богородичную церковь, где сберегается и доныне. Но поскольку Город и все, что в нем имеется, принадлежат теперь латинникам, то и Копье, следовательно…
– Нет, этого совершенно не может быть! – возразил Феодул. – Мне доподлинно известна история обретения Истинного Копья. Ваш же рассказ хоть и любопытен, но никоим образом не сообразуется с тем, что считается неоспоримо верным на Востоке. А неоспоримое в Святой земле безоговорочно должно быть принято на веру во всем христианском мире, ибо самая почва Палестины не оставляет места суетному и греховному и как бы очищает душу и тело от лжи и прочих пороков.
– Ну, – хмуро молвили тогда Фока, Фома и Феофилакт, – и какую же в таком случае историю мы должны принять, как ты говоришь, на веру?
Феодул приосанился, насколько это ему удалось при такой коротенькой, совсем не внушительной фигуре, и приступил к своей благочестивой повести.
В те стародавние времена, когда граф Боэмунд и граф Раймон Тулузский осаждали ради Иисуса Христа Антиохию на Оронте и множество вооруженных паломников, одушевляемых жаждою обретения святынь, бились под началом этих двух славных графов, у стен означенного города случилось вот что.
Тяготы осады все возрастали; в лагере паломников свирепствовал голод, и рука об руку с ним шло малодушие. Многие уже покидали войско и, презрев крестовые обеты, бежали в сытную Сирию. Славные рыцари бродили бледными тенями, уподобившись нищим или мертвецам.
Однажды к графу Раймону явился один человек из Марселя, подданный графа, именем Пейре Бертоломе, простой пехотинец (другие говорят: священник, но самого низкого звания), и поведал о том, как третью ночь подряд является ему апостол Андрей. Граф Раймон, набожный и даже мистический государь, тотчас приободрился и осведомился, о чем говорил апостол или что он делал. Пейре Бертоломе отвечал: так, мол, и так, апостол показывал Копье, которым было прободено тело Христово на кресте. Владея этим Священным Копьем, можно избавить христианское войско от всех его нынешних бед.
– И где же апостол указал тебе Копье? – вопросил граф, охваченный священным трепетом и нетерпением.
– Святой Андрей назвал местопребыванием Копья почву: святыня зарыта в церкви Святого Петра в Антиохии, – ответил Пейре Бертоломе. И добавил: – В том же случае, если, пренебрегая троекратным знамением Небес, воины Христовы не приступят к немедленным поискам, все войско ждет жестокая кара.
Тотчас были отряжены двадцать храбрецов с орудиями, которые и отправились в эту церковь, где принялись повсюду копать. И занимались они своим делом целый день. Вход в церковь был загорожен десятком надежных копейщиков. А сам граф Раймон со своим капелланом и еще десятью наиболее знатными тулузскими рыцарями наблюдал за происходящим, находясь в самой церкви.
И вот настал вечер и стемнело, а они все еще не откопали Копья…
– И не могли они откопать никакого Копья! – сказал тут Фока. – Потому что его там никогда не было.
– Нет, было! – отрезал Феодул. – И вот как они его в конце концов нашли.
…Когда стемнело, внесли в церковь масляные светильники и при их свете продолжали искать. Многие зрители, утомленные тщетой чужих трудов, разошлись, недовольно ворча. Удалился и граф Раймон.
– Представьте же себе, о братья, как все это происходило! – говорил Феодул, воодушевленно размахивая короткопалыми красноватыми руками. – Стены старого антиохийского храма, закопченные, в пятнах света от ламп. То здесь, то там мелькают остатки древней росписи: широко раскрытые глаза, изогнутые губы, виток кудрей, чаша в тонких пальцах либо же благословляющие ладони. Эти картины, теряющиеся во мраке, таинственно и сильно волнуют сердце, исторгая внезапные слезы и то особенное сладостное удушье, что является предвестником восторга. Среди ропщущей толпы проходит Пейре Бертоломе – босой, в одной только рубахе из грубой эсклавины, с веревкою на шее, с крестом на поясе. Он тихо шествует к глубокой яме, выкопанной у алтаря, а кругом голодные, горящие глаза, изможденные фигуры в лохмотьях. Все ждут… Пейре нисходит в яму, словно в могилу, и восстает из нее со священным железом в руке! Сталь вспыхивает в тусклом свете ламп, как молния!
Феодул замолчал и с трудом перевел дыхание. Однако на слушателей рассказ не произвел желаемого впечатления.
– Ну так и что? – еще раз сказал Фока. – Этому Пейре Бертоломе ничего не стоило в полумраке подсунуть в яму наконечник копья, принадлежавшего какому-нибудь бедолаге сарацину. Да уж, и плут он, должно быть, был, этот Пейре Бертоломе! Одурачил целое латинское войско во главе с двумя графами! И как же латинники поступили с бедной железкой?
– Святое Копье завернули в расшитое золотом шелковое покрывало, – обиженно молвил Феодул, надувая толстые губы и сердито поглядывая на Фоку. – Его выставили для поклонения на алтаре, и все крестовое воинство охватил неистовый восторг. Усталости и голода как не бывало, и победа была одержана тотчас же.
– М-да, – проговорил Фока, задумчиво запуская загорелую пятерню в черную лохматую бороду. – Занятная историйка. Но как же это все-таки согласуется с тем, что Копье находится в Константинополе?
Таким образом они спорили еще некоторое время, стремясь превзойти друг друга в осведомленности касательно всех этих священных предметов, но потом ощутили столь лютый голод, что разом обрели взаимное согласие и направились в одну грязноватую харчевню, где и утолили страсти горячей кашей с бараньим жиром и чесноком, заплатив за все тремя су и одной побасенкой.
Поступив таким образом, все четверо двинулись в порт и там, разложив плошки для сбора милостыни, весь день голосили, завывали, клянчили, умоляли, зазывали, плакали, смешили, давали советы, благословляли, показывали дорогу, насмехались, проклинали, хватали за полы одежд, объясняли, на каких путях обретаются спасение и жизнь вечная, – и в целом неплохо заработали.
Псы все это время бродили по свалкам, насыщая себя в меру собственного разумения, поскольку их хозяева не отягощали себя излишней заботой о пропитании животных.
Пересчитывая выручку, оказавшуюся, несмотря на видимость полного успеха, скудной, Феодул хмурил брови. Затем он увязал монеты в малый плат, схоронил узелок под одеждой и погрузился в раздумья, что выразилось в безмолвном шевелении губ и полной неподвижности взора.
Это не могло не повергнуть новых товарищей Феодула в недоумение: они сами почитали прожитый день за весьма успешный, а выручку – удовлетворительной и даже обильной. Однако они не догадались принять во внимание одно немаловажное обстоятельство, которое коренным образом рознило их с Феодулом: если Фока, Фома и Феофилакт предполагали провести остаток дней в Константинополе, довольствуясь имеющимся у них достатком и ежедневно подкрепляя силы с помощью тех средств, что удавалось добыть попрошайничеством и малозначительными кражами, то Феодул мыслил куда шире и из Константинополя, запасшись необходимым, рвался дальше на Восток – по пути брата Андрея; с тем, однако, чтобы избежать ошибок последнего. А для такой цели земных благ, пожинаемых с помощью нищенства, оказалось явно недостаточно.
Вот почему Феодул бессловесно двигал губами и выказывал иные явные признаки усиленного мыслительного процесса.
Наконец он облек свои раздумья в одежду внятных слов и молвил своим сотоварищам так:
– Не верю я, чтобы во всем великом и полном лукавства граде не сыскалось того, что мне надобно!
– Чего же тебе, Феодул, надобно? – начали спрашивать его прочие трое нищих, но Феодул не смог ничего объяснить более толково и сказал лишь, что когда увидит потребное ему, то сразу опознает его как таковое и на том свои поиски прекратит.
Два следующих дня Феодул бездельно шатался по Городу, прилепляясь вниманием то к одному, то к другому, но нигде пока не находил он ответов своим вопросам. Оно и немудрено: ведь даже и вопросов он задать со всей определенностью не мог, так что мысли бродили в его голове под монашеским гуменцем, уже заросшим светлым щетинистым волосом, в виде каких-то смутных, туманных фигур, ни облика не имеющих, ни очертаний.
Посетил Феодул между делом многие знаменитые места и монастыри Города, молясь при том Господу, чтобы наставил неразумного раба и по возможности умалил природную глупость его.
Видел он, к примеру, две искусно отлитые из меди статуи, одну в виде женщины в накидке, переброшенной на руку, другую же в виде юноши воинственного обличья. Были они сделаны столь натурально и прекрасно, что Феодул готов был счесть их за Господне чудо, сотворенное посредством греков и их руками. И каждая из статуй имела высоту не менее трех туазов, или восемнадцати стоп. Одна, как охотно пояснили Феодулу, указывала рукою на Запад и говорила: «Оттуда придут рати, и склонится пред ними град Константина»; вторая же показывала на городскую свалку и утверждала: «А туда их выкинут в свой час». И час этот, по мнению многих греков, неуклонно близился.
Находились обе фигуры недалеко от меняльных лавок, в чем Феодул некоторое время также пытался усмотреть какое-нибудь особенное пророчество и усердно пучил глаза, тужась вызвать в себе видение; но ничего не вышло.
Разглядывал он гигантского быкольва, обращенного разинутыми зевами к заливу, а задами – к стене, за которой находился государев дворец. Лев, вскочивши на быка, терзал его клыками и когтями. Морские стены, источенные ветром, солеными брызгами и временем, отгораживали звериную битву от царских покоев.
Гавань перед быкольвом шумела, не ведая покоя, и грузили там различные торговые грузы, вкатывая на высокие борта кораблей по наклонно положенным доскам бочки и специальные круглые сосуды для вина и масла, а еще – тюки богатых материй, драгоценные меха, купленные у торговцев, прибывающих с севера, и призванные изумить магрибинских и левантийских купцов, дабы те оплатили редкость вдвое выше прежней ее цены; и множество иного, чего Феодул не сумел ни разглядеть, ни украсть, так как эти товары были скрыты от взора пеленами и обертками, а от вороватых рук – надежной охраной.
Сподобился Феодул и благодати посетить храм Святой Софии, где не на шутку был испуган громадной мозаичной картиной, изображающей Пресвятую Деву с поднятыми руками и грозно вытаращенными глазами. Почудилось Феодулу, что хочет сия божественная Бабища прибить его, негодника, и пал на колени, вполне сознавая свою греховность и ничтожество, и так, скуля от ужаса, метя полы власами и мелко перебирая коленями, прополз по храму, скрылся за колонной и только после того отважился подняться на ноги.
Тотчас же на него тихо выступил из полумрака тощий чернец греческой веры с голодными глазами и большим прожорливым ртом; заговорил вполголоса, монотонно, будто выпевая сквозь зубы, и увлек за собою Феодула – показывать ему бывшее местонахождение великой святыни – Плащаницы, которой было обвито тело Господа по снятии Его с креста.
Этот драгоценнейший саван приоткрывали каждую пятницу, так что всяк христианин мог преотличнейше видеть лик Господа, на нем отпечатанный. И так продолжалось долгое время, пока пятьдесят лет назад зверонравные франки не взяли Город коварством и штурмом. И после того, как во Граде утвердились латинники, ни один человек – греческого ли, фряжского ли рода – не мог сказать, куда сокрылась святыня.
И пали Феодул с тем чернецом на лицо и горько плакали, сожалея о великой пропаже и орошая мозаичные полы горючей слезой.
Однако и это не внесло просветления в смутные Феодуловы мысли и не сделало их течение более упорядоченным. Напротив, в голове Феодула словно бы усилились некие водовороты и завихрения.
Феодул выбрался из храма, ощущая себя как бы оглушенным, ибо явно перестарался, пытаясь вложить столь огромный груз познаний в свой не слишком вместительный разум.
Паломничая, попрошайничая и чревоугодничая, провел Феодул в Великом Городе целых две седмицы, а дело между тем так и оставалось еще в исходной точке.
Но вот наконец улыбнулась судьба и Феодулу – правда, едва заметно, уголочком рта, и как-то, прямо скажем, кривовато, даже с некоторой вроде бы издевкой. Но Феодул – малый необидчивый; он и кривой ухмылкой Фортуны счастлив. Тотчас поспешил вцепиться в полу ее разноцветных одежд.
Шагая широким шагом, заметила все же госпожа Фортуна ничтожную мошку, прилепившуюся к подолу. Взяв Феодула двумя перстами, поднесла, точно жука, к своему длинному носу. Глаз на Феодула прищурила, шевельнула тонкими, как бумага или фарфор, ноздрями и вопросила рокочуще – красивым женским голосом, однако от чрезмерности ужасным:
– КТО ТАКОВ?
– Я Феодул, – пропищал, корчась, Феодул.
– А… – молвила Фортуна разочарованно и разжала пальцы.
Феодул выпал из огромной ее руки, а упав, пребольно ударился: зубы клацнули, кости бряцнули, из глаз искры так и брызнули.
Но и тому возрадовался Феодул, что Судьба перстами его мяла и носом обонять изволила. Потер намятые бока и захромал, приободренный, в сторону порта.
Там грузился корабль, с виду небольшой, однако поместительный и ходкий. Приплыли на нем в Царственный люди сyxoгo языка. Были они веры греческой, а прибыли из Руси (как дознался Феодул) и привезли лен, мед, пеньку.
И терся Феодул поблизости от корабля, и вертелся, и так и эдак корабельщикам в лицо засматривал. Даже помочь вызвался, но не слишком преуспел: два мешка на берег снести кое-как сумел, под третьим свалился. Русы только посмеялись и горемыку, распластанного под мешком, от ноши освободили.
Сел Феодул, отдуваясь, пот с лица отер, водицу, что русы ему с усмешечками поднесли, выпил с жадностью. А там, глядишь, сам собою и разговор затеялся.
Один из корабельщиков немного разумел по-гречески, а Феодул уж расстарался, чтобы его поняли. За целый балаган один работал, лицом что было мочи двигал, руками показывал, на земле пальцем чертил. Хотел, чтобы одной диковиной его одарили, которую он, Феодул, еще раньше на русском корабле приметил.
Сперва русы, разумеется, никак не брали в толк, чего добивается этот человек с волосами, как грязная солома, чего он клянчит, сморщивая в гримасы красноватое рыхлое лицо.
Наконец один корабельщик – тот, что сердцем помягче, а нравом посмешливее – попросту взял Феодула за руку и повел за собой. Тот охотно побежал, поспевая за рослым русом, – спешил, спешил, пока не передумали. Прочие, пересмеиваясь, ступали следом.
Петляя меж бочек, мешков, пачек вяленой рыбы, не убранной еще в короба, наступив на парус, разложенный для починки, нырнул Феодул в один закуток между двух пузатых бочонков и там указал: вот.
Русы, завидев желаемое Феодулом, засмеялись. Феодул тоже из вежливости усмехнулся, однако сохранил на лице выражение настойчивой просьбы.
Вещица хоть и грошовая, а презанимательная: с ладонь размером, изображает она медведя, стоящего на задних лапах против мужика; а между медведем и мужиком – большущая репа. Все это вырезано из светлого дерева и ярко раскрашено в разные цвета. Главное же диво заключалось в том что при наклонении дощечки в разные стороны мужик и медведь начинали трясти головами и водить руками и передними лапами.
Вот на эту-то диковину и посягал Феодул – посягал со всем жаром сердца, ибо при виде нее сразу почуял: эта вещица из тех, что ему, Феодулу, для его целей позарез надобна.
Тут выступил вперед один корабельщик и, держа безделку в руке, дал Феодулу понять, что осчастливит, так и быть, лукавого грека, буде тот окажет ему некую услугу.
Феодул тотчас же, не раздумывая, объявил, что знает в Царственном Городе вся и всех и готов оказать любую услугу, в какой только благодетель может испытывать нужду.
На это корабельщик гримасами и телодвижениями показал, что мучим он жестокой болью в пояснице.
– А это не иначе как почки тебя донимают, – сочувственно молвил Феодул и с разньми ужимками продолжал: – Сие весьма болезненно, а главное – опасно, ибо от произвола этих самых почек зависит цвет и качество мочи; моча же есть, после крови, наиглавнейшая влага человека. – И простер свою ученость еще далее, рассуждая о почках и их свойствах, а также о методах и способах их излечения, так что многие русские корабельщики, сойдясь вокруг Феодула, заслушались многоречивого грека, как если бы он решил усладить их слух пением.
А Феодул то вещал, полузакрыв глаза и вертя во все стороны головой; то вскакивал и принимался корчиться, ухватив себя за поясницу и страшно искривив лицо, словно терзаемый болью; то вдруг успокаивался и с блаженным видом улыбался, из чего зрители делали правильный вывод о полном исцелении от болезни.
Наконец, порядком утомившись, Феодул отер лицо ладонью и протянул к хворому корабельщику руку, каковую тот и взял, смущаясь, все еще страдая от боли, но уже вполне надеясь на избавление. И под негромкие смешки русов отправились Феодул с тем корабельщиком прямехонько в храм Святой Софии – сперва по предпортовым улочкам, одинаковым во всех городах мира, пыльным, пропахшим рыбой, с внезапными стайками чумазых ребятишек и хмурыми стариками, изредка попадающимися на пути; затем по более богатым кварталам, которые хоть и против воли, а все же заставили руса разинуть изумленно рот: хоть и велик город Киев, а с Константинополем не сравнится. Да и по правде сказать – какой город сопоставим с Царственным? Разве что, быть может, Дамаск – но в Дамаске ни русский купец, ни Феодул покамест побывать не сподобились.
Помимо разных икон и бывшего поместилища святой Плащаницы, имелись в этом соборе и иные чудные дива. Феодул знал о них потому, что все это рассказал ему тот мрачный греческий чернец в один из начальных дней бытности Феодула в Константинополе.
Имелись в храме, к примеру, колонны самоцветного камня, и ни одна колонна не повторяла цветом и подбором камней другую. Означенные колонны, или, лучше выразиться, столпы, предназначались всяк для исцеления особливой болезни: один, положим, избавлял от хворостей печени, другой – от колотья в боку, третий облегчал сердечный недуг. И ежели с надлежащею молитвою и глубокой, искренней верою потереться о соответствующую колонну той частью тела или тем его местом, где гнездится хворь, то непременно наступает облегчение, а иногда и полное исцеление.
Вот к этим-то колоннам и привел Феодул страждущего корабельщика.
Однако ж сразу возникли затруднения.
Во-первых, Феодул перезабыл, какие колонны для чего предназначены. Однако, осознав это, унывал недолго и решил попросту сподвигнуть больного обтереть поясницей все двадцать два столпа, не пропуская ни одного.
Вторая трудность едва не погубила все дело. Корабельщик по-гречески не понимал и глубокой веры в свое исцеление обрести никак не мог, ибо не вникал в побудительное феодулово лопотание.
Уразумев это, Феодул развернул корабельщика к себе лицом и молвил с силою:
– Христос!
И осенил себя крестным знамением, усердно при том кивая.
Корабельщик, выказывая полное свое согласие, взревел в подражание Феодулу:
– Христос!!!
И тоже знамением себя осенил.
Феодул положил ладонь на грудь и расплылся в улыбке блаженства.
– Христос… – повторил он.
Таким образом корабельщик был наставлен в необходимости иметь веру сердечную.
Не зная исцелительных молитв, они ходили от колонны к колонне, везде терлись поясницей, на все лады выкрикивая или проборматывая имя Христово, покуда на них не выскочил из полумрака тот самый несытый чернец, который кормился при храме от щедрот иноземцев, показывая им здешние чудеса и красочно о них повествуя. Этот черчнец, именем Сергий, был чрезвычайно раздосадован, обнаружив Феодула с корабельщиком, коего коварный этот Феодул пытался излечить.
Без лишнего слова брат Сергий вцепился Феодулу в волосы и, зверски ощерясь, принялся стукать Феодуловой головой о колонну. Феодул мычал и лягал брата Сергия ногой, норовя попасть по колену. Однако чернец, хоть и выглядел голодным, явил недюжинную мощь и, терзая Феодула за волосы, выволок его из храма.
Следом вышел и недоумевающий корабельщик. Феодул, в слезах, сидел на земле и приглаживал кудри. Завидев руса, он проворно вскочил, выхватил у него из руки завернутую в плат забаву – медведя с мужиком – и со всех ног бросился бежать, петляя, как только позволяли улицы, – из опасения, что рус побежит следом, отнимет забавку да еще и прибьет, пожалуй, за надувательство. Забавка же нужна была Феодулу для серьезного дела.
Таким вот образом положил Феодул начало своим сборам и постепенно накопил немалое богатство. Имелись у него и медный перстень-печатка с изображением прыгающего леопарда и латинским девизом «сила храбрых, храбрость сильных», и накладные волосы рыжего цвета, убранные в замысловатую женскую прическу, и еще одна механическая игрушка – клюющие птицы, тоже деревянные и раскрашенные, и небольшая бронзовая статуэтка поганой голой Венеры, вся в зеленых пятнах.
Все это Феодул укладывал в небольшой короб и хранил в потайном месте. Своим собратьям по ремеслу Феодул ничего о коробе не рассказывал во избежание соблазна. Говорил лишь о том, что чувствует необоримое стремление пойти в церковные служки. И не к кому-нибудь, а к тому самому ворчливому попу, чьим заботам была вверена убогонькая церковка, где и повстречались впервые Фома, Фока, Феофилакт и Феодул.
– Дивлюсь тебе, Феодул, – молвил, услышав про то, Фома. – Не лучше ли тебе оставаться нищим и, побирушествуя, благоденствовать в Городе? Для чего тебе понадобилось служить Господу, утруждая руки, да еще под началом этого всеми недовольного попа, когда есть куда более простой и приятный способ восславлять Спасителя? Разве не сказал Он ученикам, чтобы ходили босы, не имея даже сменной рубахи и не зная, где добудут себе пропитание? И разве мы не по этому завету живем?
– Так-то оно так, – согласился Феодул. – Но вы живете подобным образом не ради Иисуса Христа, но лишь по природной своей лености.
Быв в Акре миноритом, хорошо знал Феодул цену этим словам; Фома же с Фокою и Феофилактом этой цены не ведали и потому смертельно обиделись.
Как-то утром, привычно согнав с крыльца нищих с их блохастыми псами и отперев храм, вошел поп Алипий внутрь – и замер: кто-то копошился на полу, переползая от стены к стене, и бормотал себе под нос маловразумительное – не то напевал, не то хныкал.
Старенький поп так и осел у порога, ибо сразу заподозрил в незваном госте дьявола. Кто бы еще сумел проникнуть сквозь запертую дверь? Страх обуял попа, но вместе с тем и гордость. Стало быть, крепко насолил он нечистому, если тот самолично пакостить явился!
Почерпнув в последней мысли немалую силу, вскричал Алипий:
– Изыди, диаволе!
– Ой! – проговорил пришлец, поднимаясь на ноги и обращая к Алипию красное с натуги, но вполне человеческое и даже простецкое лицо.
Алипий сразу же признал в нем одного из тех нищих, что взяли скверную привычку вить гнезда у него на крыльце, и от разочарования освирепел.
– Да как ты посмел!.. – рявкнул было поп, однако на этом силы разом оставили его, и горько заплакал Алипий. – Пробрался… глумотворец… – выговорил он, махнул рукой и, кряхтя, встал.
Тут только и заметил Алипий, чем нищий занимался. Он преусерднейшим образом протирал полы, в чем, по правде сказать, давно уже приспела надобность, ибо прихожане здесь плохо умыты, храм пришел в ветхость, Алипий же со всеми делами по немощи возраста не управлялся. Нищий возил по полу губкой, макая ее в таз с разведенным в нем благовонным уксусом.
– Ты кто таков? – спросил Алипий. – Как сюда проник? Зачем моешь полы в моем храме? И где ты, побирушник, добыл этот благовонный уксус?
Непрошеный поломойка отвечал с возможной откровенностью:
– Я странник, именем Феодул; проник сюда по слову Божию, ибо ощутил в сердце своем веление идти и служить. Храм сей – не твой, но Божий; полы же я мыл по нечистоте их, убоявшись греха.
Что до благовонного уксуса, то Феодул не захотел признаваться в том, что украл его в одной еврейской лавке. По счастью, Алипию было не до того.
– Добро, – молвил поп, сменяя гнев на милость. – «Феодул» – имя греческое, слуху приятное. Однако скажи мне, Феодул, истинно ли греческой вере ты следуешь или же во тьме латинства прозябаешь?
Тут Феодул ужасно разрыдался и молвил, что души своей не ведает, а странничает в миру, несомый всяким ветром.
Вот так и размягчился поп Алипий и допустил Феодула к себе в душу, нашедши там одно неочерствевшее местечко, хоть и малое, но для Феодула вполне пригодное.
А открыв Феодулу душу, открыл ему Алипий и сокровище, бывшее в храме: большой серебряный крест с крупным красным, как бы кровоточащим камнем посередине. Находился этот крест в скрытом месте за алтарем, ибо для многих представлял он собою не спасение, а соблазн и погибель.
* * *
Итак, время шло, неуклонно продвигаясь от своего начала к неизбежному концу, где ему предстояло вновь слиться с Вечностью, а Феодул все пребывал в Константинополе, оставаясь в добровольном услужении у Алипия и терпя насмешки сотоварищей своих по нищенскому ремеслу. Он выжидал. Чего? Бог ведает; но только чуял Феодул, что надлежащий час еще не надвинулся.
Но вот и попутные ветры задули, наполняя паруса и смущая сердце. Вобрал их себе в грудь Феодул – и забеспокоился. А в гавани уже стоит корабль с крестами на серых парусах, готовый к отплытию. Как завидел Феодул этот корабль, так сразу ощутил к нему некое внутреннее влечение, словно сказал ему кто-то: так, мол, и так, отроче Феодуле, ступай же на корабль сей и направляйся посредством его в земли монгольские!
Не смея прекословить запредельному зову, ступил Феодул на корабль и принялся выкликать комита. Зовет, зовет, а сам преобильнейше плачет.
Вот выходит к нему комит, родом северянин: ростом велик, лицом ужас как груб, бородою же и волосами ангельски светел. Спрашивает:
– Ты, что ли, меня звал, оборванец?
– Я, – говорит Феодул сквозь слезы.
– Вот он я, – важно произносит комит. – Для какой надобности я тебе нужен? Вижу я, человек ты малопочтенный, и потому тратить на тебя много времени было бы сущим расточительством; однако одну-две минутки, так и быть, сыщу – любопытства ради…
И подбоченился.
– Ах, господин, знал бы ты, какая беда приключилась со мною в этом городе! Вот послушай. Звать меня брат Раймон. Я смиренный слуга Господа, минорит из Акры. Прослышал я раз от заезжего человека, взыскателя Истины, о сокровищах веры Христовой, что сберегаются в Царственном, и загорелось во мне сердце рвением. Горело день, горело два, проело плоть мою огнем ненасытимым, прогрызло кости ребер. Но все-таки не дозволял мне настоятель отлучиться из монастыря в Акре. На третий день лежал я, простершись ниц, и алкал душою. И пламя, что зажглось во мне, проникло сквозь одежду и оставило глубокую черную яму в каменном полу на том месте, где я лежал. Завидев эту черную яму, постиг настоятель всю ярость рвения моего и отпустил меня в Царственный. Пришед в Константинополь, узнал я, однако, что главнейшая святыня, по которой неустанно скорбит душа моя – Плащаница с запечатленным на ней Ликом Христовым, – исчезла. Долго рыдал я по утрате; после же явился ко мне юноша дивный, как бы одетый сиянием, отер мои слезы и молвил: «Восстань, брат Раймон, смиренный инок из Акры, взыскующий святой Плащаницы, и ступай в монгольские земли. Блажен, кто поможет тебе исполнить сие обетование, ибо ему будет ниспослана от Небес удача во всех делах его, если только дела эти – не святотатство; и достигнет он всего, чего только ни пожелает».
В этом месте Феодулова рассказа комит едва заметно повел бровью, и на его обветренном лице усмешка вдруг сменилась легким сомнением. Уловив благоприятные признаки, Феодул продолжал с еще большим жаром:
– Дабы сообщить мне уверенность, наделил меня светозарный отрок большим серебряным крестом с крупным красным, как бы кровоточащим камнем посередине. После этого я провел сорок дней в пустынной местности, легко обходясь без пищи, ибо всякий день насыщался благодаря этому кресту. – Тут Феодул спохватился и добавил: – Однако таким удивительным свойством крест обладает лишь в пустыне, при условии, что человек живет полным отшельником и не допускает к себе свидетелей.
– Стало быть, принародно чудесного насыщения не происходит? – усмехнулся комит.
– Увы! Однако сам крест – чистого серебра и цены немалой, – как бы невзначай уронил Феодул.
И снова озаботился комит некоей думой. Феодул не мешал ему: мысль, подобно воде, не вдруг размывает препоны; размыв же, разом устремляется вперед бурливым потоком.
Вот и комит внезапно расхохотался, как бы приняв решение, Феодула по плечам охлопал и молвил:
– Завтра, как погрузим масло, тотчас же и отплываем, ибо дорог мне всякий день, пока дуют попутные ветры. Кто знает, не приведет ли некая случайность на наш корабль и брата Раймона из Акры? И не доставит ли означенный брат Раймон свой чудотворный крест из чистого серебра на наш корабль? Возможно, в таком случае и произойдет еще одно, доселе не изведанное чудо… И коли уж окажется брат Раймон в землях монгольских – как знать? – не исполнит ли Господь в отношении меня все те милости, что были обещаны?
Феодул заверил комита в том, что Господь непременно выполнит свою часть уговора – ибо случалось ли такое, чтобы Господь нарушил обещание? А Он обещал, и притом твердо. В этом комит может не сомневаться.
Здесь комит примолвил не вполне благочестиво, что на корабле едет пассажиром один златокузнец, который мгновенно определит, истинно ли серебро перед ним или же фальшивый сплав. И если вдруг окажется, что сплав, то брат Раймон немедленно отправится кормить рыб на дно морское.
Феодул ухмыльнулся и без лишнего слова пошел прочь. А комит все глядел ему в спину да посмеивался, то супя брови, то вздергивая их вверх: больно уж разнообразные мысли сталкивались за его лбом после разговора с бывшим миноритом из Акры.
Плавание из Константинополя. О бесовской природе песьяков
Из всех корабельщиков свел Феодул знакомство с одним лишь Харитоном, прозванием Два Бельма, греком из Венеции.
В молодости этот Харитон промышлял ограблением могил и немало преуспевал, покуда не привелось ему раскопать одного богатея, которого, по слухам, похоронили в несметных перстнях. Только-только потянул Харитон за первый перстень, как богатей открыл вдруг глаза и рявкнул что было мочи: «А ну, не тронь!» С тех пор Харитон слегка подвинулся рассудком и вообще сделался совершенно иным человеком.
Несколько дней кружил Харитон возле Феодула, примериваясь к нему и так и эдак, и наконец уселся рядом на палубе, вынул из-за пазухи платок, развернул и обнаружил луковицу, каковую перекусил пополам и одну половину предложил Феодулу – ради знакомства. Феодул с охотой взял.
Собою был Харитон таков: ростом мал и весь как-то странно угловат. Всякая кость в его теле жила отдельной жизнью и двигалась сама по себе. Но всего удивительнее казалось в Харитоне даже не это, а взгляд – пристальный и вместе с тем блуждающий, как у младенца. Примечательно также, что у Харитона то один, то другой глаз все время гноился, краснел и набухал самым печальным образом, и не случалось такого, чтобы не хворал Харитон правым либо левым глазом.
Сжевав свою половину луковицы, уставился Харитон на Феодула – не то прямо ему в лицо, не то куда-то чуть выше его уха – и молвил:
– Гляжу вот я, брат… – Тут Харитон моргнул и поджал левый глаз, надвинув на нижнее веко щеку, которая была у него тоже какой-то костлявой. – Да, гляжу и вижу: опухает у тебя глаз-то.
– Что верно, то верно, – согласился Феодул (а у него действительно зарождался крупный ячмень, грозивший поглотить все веко и еще полвиска). – Видать, просквозило меня на корабле.
– Бесовство! – отрезал Харитон и добавил: – Иные ветры носят лишь брызги соленой влаги, другие же подчас приносят с собою мириады бесенят.
– Бесенята не могут летать, – тотчас возразил Феодул, ибо всю жизнь живо интересовался сими мелкими, но множественными врагами человека и многое успел о них разведать.
– Бесенята, – сплюнув, сказал Харитон, – весьма даже приспособлены для передвижения по воздуху, и вот почему. Происходя изначально от ангелов, все бесы обладают крыльями – короткими, мясистыми и кожистыми; иные – покрытые шерстью или чешуей, иные же – отвратительно голые. Распустив эти крылья, держатся они в воздухе и не падают, а ветер переносит их на какие угодно большие расстояния.
Феодул поковырял сперва в зубах, затем в ухе. Пожевал губами. Спросил Харитона:
– А тебе-то откуда об этом известно?
– Да уж всяк не из мудреных книг, – ответствовал Харитон. – Недаром меня именуют Два Бельма. Было время, когда мир для меня помрачился, и начал я видеть то, что человеку видеть непозволительно; наоборот, желаемое и вполне пригодное для человеческого зрения как бы покрылось для меня пеленою и сделалось почти недоступным.
Однажды утром, протирая со сна глаза, ощутил я легкое жжение на левом веке. Жжение было даже приятным, больше похожим на щекотание, как от комариного укуса. И потому я попросту почесал это место, а после позволил дневной суете поглотить меня с головою. Однако в течение дня глаз мой чесался все сильнее, а к ночи распух. Вскоре отек перекинулся и на второй мой глаз, и таким образом сделался я из просто Харитона Харитоном Два Бельма.
Как только ни стремился я избавиться поскорее от злого недуга! Поначалу посещал ученых врачей и платил им немалые деньги за советы и снадобья. Затем – поскольку ученые врачи ничуть не преуспели – настал черед зубодеров, костоправов и коновалов. Но и они явили полное бессилие. Наконец посетил я одну старуху, о которой достоверно выведал, что она ведьма. Ведьма оказалась еще глупее ученых врачей, и я оставил ее с негодованием.
Какие только средства я не перепробовал! Вот, если хочешь узнать, некоторые из них:
1. Жженая медь с медом и молоком женщины, смешанные в равных долях. Хорошо смазывать веки.
2. Желчь зайца, смешанная с медом, – удивительное средство при помрачении глаз.
3. Сильно очищает гноящиеся глаза помет горлицы, растертый с медом.
4. Или же: желчь куропатки, ворона или барабульки надлежит класть в больной глаз вместе с…
– А кто такая барабулька? – полюбопытствовал Феодул, прерывая Харитона.
Харитон с неудовольствием ответил:
– Лобан, иначе же – кефаль. – И, видя, что для собеседника все эти названия остаются, как говорят школяры, lectio crudo, то есть плохо переваренным объяснением, источником умственной изжоги, присовокупил, не скрыв раздражения: – Рыба такая.
5. Хорошо также желчью коршуна, смешанной с соком лука-порея, протирать глаза – это прекращает в них всякую боль и удаляет от них слабость зрения.
6. При опухании глаз верное средство – измельченная кора ильма, смешанная с мочою ребенка и сваренная до загустения каши – не такой, какой потчует нас этот скудоумный скаред, приставленный к корабельным котлам, но настоящей, плотной, какая из миски не льется, но перетекает тягуче и плавно, как бы шествуя. Клади сию кашу на глаза – и вылечишься.
7. Еще недурно при первых признаках ячменя поймать муху и, отделив у ней голову, намазать вокруг глаза остальным телом.
8. А то еще имеется такое испытанное средство: сжегши левое копыто осла и растерев его хорошенько с ослиным же молоком, влить в глаз – замечательно действует.
И пока Феодул размышлял надо всем этим (а зуд в больном веке все разрастался, и преотвратительный песьяк набухал с каждым мгновением все ощутимее), добавил Харитон:
– Вот еще способ. Мне рассказал о нем один кривой из Никеи – большой знаток немочей, проистекающих от слабости глаз.
9. Найди гнездо ласточки. Если есть в нем птенцы – такие, что готовы уже через несколько дней улететь, – возьми двух и проткни им глаза, чтобы истекла вся влага. Приметь этих птенцов и через четыре дня забери их из гнезда. Вынув ослепленных, возьми нож, возможно более остро заточенный, отруби им головы, сожги и размельчи в сосуде из рога, чтобы порошок был наподобие дорожной пыли. Затем просей пепел через тонкую ткань, дабы отделить комки и крупные частицы. Возьми две меры ласточкиных голов и одну меру корицы, растертой и просеянной подобным же образом, смешай их и клади в глаз три раза или больше.
Феодул внимательно слушал Харитона и чрезвычайно дивился великой его учености. Харитон же, видя, что его слушают, без устали рассказывал про чудодейственные свойства таких испытанных лекарств, как кровь мыши, молоко собаки, кельтский нард, куркум, кадмий (обожженный и погашенный вином), порошковая сурьма, персидская смола, вымоченная в ослином молоке, моча бычка и сольца Гиппократа, которой пользуются каллиграфы.
– Да будет тебе также известно, коль скоро ты об этом спрашиваешь, – добавил Харитон (хотя Феодул ни о чем спрашивать не дерзал, а лишь время от времени с тревогой щупал свой разрастающийся ячмень), – что глаз строением весьма сложен и обладает четырьмя оболочками: роговидной, соскоподобной, элементарной и округлой, которая, впрочем, совершенно незаметна ввиду ее чрезвычайной тонкости. Эти оболочки составляют квадривиум. Влага же в глазу – трех видов: стекловидная, кристалловидная и водоподобная; и эти три влаги составляют тривиум.
– Ox! – вскричал тут Феодул, держась ладонью за больной глаз. – Боюсь, что и тривиум, и квадривиум моего ока не скоро теперь увидят белый свет, ибо пока ты обогащал мой разум ученостью, гной под веком умножился.
– Но разве я не научил тебя всему, что надлежит делать в подобных случаях? – удивился Харитон.
– Так-то оно так, но где я посреди моря отыщу ласточкино гнездо, ослиное копыто или, на худой конец, порошковую сурьму?
– А, – молвил тут Харитон, – велико же твое неверие, друг Феодул. Во всей моей повести лишь рассказ о лекарствах да мазях тебя занимает; между тем к сути я еще и не подступался, а заключается она в том, что, утеряв обычное зрение, начал я зреть бесов.
Иной раз видел я, как десятками роятся они вокруг человека – то под руку подпихнут, то за язык дернут. А человек послушно выполняет их волю – точно кукла на веревочках. И всякий раз бесы принимаются хохотать, высунув отвратительные лиловые языки; от языков же поднимается зловонный пар.
Сделалось мне вконец невыносимо видеть, как враг безнаказанно торжествует над человеком, и решил я при первом же случае вмешаться и козни бесов разрушить.
Вот вижу – идет одна женщина, собою чрезвычайно пригожая: платьем нарядная, лицом приглядная. А бесы возле нее так и вьются, так и вертятся, то под подол к ней нырнуть норовят, то вдруг на ухо нашептывать принимаются. А та головою так и крутит! То направо взглянет, то налево. И видит она у входа в одну лавку весьма привлекательного юношу, а уж тот обвешан бесами, как яблоня яблоками. Мне-то все это хорошо было видно; люди же ничего не замечали.
Едва лишь поравнялась молодая женщина с лавкой, как бесы перемигнулись между собою и взялись за свои жертвы с сугубым рвением и принялись щекотать и щипать их за те места, упоминать кои срамно, – и все ради единовременного возбуждения в обоих неукротимой похоти. Женщина была замужем, так что это бесовское похотение могло обернуться для нее большой бедой.
Не в силах более терпеть вражеское ругательство над человеческим естеством, я бросился между женщиной и юношей, пал на колени и громко воззвал: «Остановитесь, неразумные! Знаю, что у вас на уме: согрешить! Отриньте злые помыслы, ибо доподлинно вижу, как искушает вас враг и множественные бесы проникли к вам, тревожа вашу плоть!»
Тут и соседка, от скуки наблюдавшая из окна, принялась кричать во все горло, уличая женщину в супружеской неверности. Однако вопила эта соседка больше от зависти к богатству греховодницы и ее миловидности, нежели из любви к Богу. Все это я отчетливо видел сквозь песьяки, густо покрывшие оба моих глаза.
Покраснев, пригожая дама торопливо удалилась, волоча на подоле юбки прицепившихся к ней бесенят, – те что есть силы упирались копытцами в мостовую, а один быстро-быстро карабкался по одежде к уху жертвы и кричал писклявым голосом: «Стой! Стой! Куда же ты?»
Юноша, сильно раздосадованный тем, что из-за моего вмешательства он лишился греховного наслаждения с той женщиной, выскочил из лавки, напал на меня и изрядно намял мне бока.
И вот тогда-то я и разглядел наконец еще одного беса – невыразимо гадкого, раскормленного, но вместе с тем исключительно проворного. Своим длинным тонким хвостом он крепко захлестнул мой язык и то и дело тянул за него, о чем я до поры и не подозревал.
Поняв, что обнаружен, враг лишь захохотал и сильнее потянул хвостом. И я, совершенно против воли, так сказал бьющему меня юноше: «Вычистись от бесов, сын мой, и особливое внимание при сем удели чреслам своим, ибо там гнездятся в великом множестве мелкие злокозненные бесенята, язвящие тебя сладостно-злобно».
От этих слов юноша пришел в неописуемую ярость, так что вскоре на мне и места живого не осталось.
Тогда-то я и надумал поведать обо всем одному премудрому дьякону (я жил тогда в Венеции), который знал об искушениях все, ибо и сам неоднократно подвергался всем видам искушений.
Выслушав меня внимательно, так определил обо мне премудрый дьякон: «Худо человеку видеть и знать излишнее». С этими словами он взял в горсть святой воды и с ужасным ругательством запустил мне в глаза. И взор мой мгновенно очистился…
Помолчав немного, Харитон вдруг скосил глаза к носу и плюнул Феодулу в лицо. Плевок угодил прямехонько на песьяк, и пока Феодул подносил к лицу руку, чтобы утереться, успели исчезнуть и отек, и неприятный зуд, и даже покраснение кожи – все это бесследно пропало, подтверждая тем самым несомненную связь песьяков с бесами.
О завершении плавания
Вскоре после избавления от песьяка случилось Феодулу погрузиться в необыкновенно крепкий сон – настолько прочный и лишенный зыбкости, что впору принять его за действительность.
И увидел Феодул себя среди густого тумана, а в тумане горел далекий оранжевый огонь. На этот огонь и пошел Феодул, даже не помыслив о том, что не раскладывают костров на палубе корабля, ибо от такой небрежности корабль легко может воспламениться и оставить плывущих на нем без всякой надежды.
Однако вскоре Феодул понял, что находится не на корабле, а на пустынном морском берегу. Он различал теперь тускло блескучую воду, волнообразно намытую на берег зеленую морскую грязь, чей-то заплывший след на песке, одинокий белый камень впереди…
Огонек между тем сам собою приблизился, и как-то так вышло, что оказался Феодул стоящим возле костра, где уже сидели трое и смотрели, как над огоньком безнадежно коптится тощая рыбка, насаженная на прут ивы.
Скуластые, загорелые, одетые в выбеленную холстину, на вид казались они не слабого десятка, так что Феодул даже оробел.
– Мир вам, добрые люди, – молвил он учтиво и полусклонил голову в ожидании ответа.
Один из сидевших глянул искоса, мгновенно поразив Феодула ярким светом желтовато-зеленых глаз, но ничего не сказал; двое других и вовсе не шелохнулись.
Тогда Феодул, не зная зачем, уселся рядом. Пальцем по песку чертил, а сам все разглядывал незнакомцев – исподтишка да украдкой. Сперва показались они ему похожими на Фому, Фоку и Феофилакта, но чем дольше оставался с ними Феодул, тем более разнились незнакомцы с константинопольскими нищими.
– А что, – проговорил вдруг желтоглазый, обращаясь к своим товарищам, – ведь это тот самый Феодул, который до сих пор бродит в потемках, не в силах уйти от тьмы и не умея прибиться к свету?
Тут Феодул поежился, всеми жилками ощутив приближение большой опасности. Что опасность надвигается серьезная – в этом он, поднаторевший различать ловушки судьбы, не сомневался; не ведал лишь, с какой стороны ждать подвоха.
Второй незнакомец снял с прутика закопченную рыбку и с сожалением поколупал ее пальцем.
– Ни холоден, ни горяч, – заметил он, и Феодул с ужасом осознал, что говорится это о нем, Феодуле.
– Однако вместе с тем и не вполне потерян, – добавил третий мягко, извиняющимся тоном.
– Глуп! – отрезал первый.
– Прост, – поправил второй, а третий возразил:
– Иной раз и прозорлив.
– Бывает добр.
– Но чаще – незлобив по одной лишь лености натуры.
– Ой, ой! – возопил Феодул, закрывая лицо руками. А трое у костра продолжали, словно никакого Феодула рядом с ними и не сидело:
– Не тощ, не тучен.
– Хитростям обучен, а вот к труду не приучен.
– Не сыт, не голоден.
– Не раб, не свободен.
– Духом суетлив, умом болен.
– Мыслями блудлив, душою беспокоен.
– Нет! – воскликнул неожиданно один из собеседников и бросил рыбку в огонь. – Она совершенно несъедобна!
Феодул слегка приподнялся и на четвереньках осторожно начал пятиться назад. Но сколько бы он ни пятился, костер и трое в белой, крепко пахнущей морем холстине не отдалялись от него ни на шаг.
И встали те трое, с громом развернув за спиною сверкающие крылья, и все вокруг вспыхнуло белоснежным светом. Тогда Феодул пал лицом вниз и зарыдал.
Тут один из ангелов чрезвычайно ловко задрал на спине Феодула рубаху и заголил тому те части тела, что обыкновенно и страдают при порке; второй принялся охаживать Феодула прутьями; третий же при каждом новом ударе приговаривал:
– А не лги!
– А не воруй!
– А оставь любодейные помыслы!
Феодул знай ворочался, извивался и бил о песок головой и ногами.
– Не буду я больше лгать! – клялся он слезно, и белый прибрежный песок скрипел у него на зубах. – Не стану впредь воровать! Помыслов же любодейных от века не имел!
– Имел, имел, – сказал тот ангел, что с розгами. А третий продолжал назидание:
– В Бога веруй без лукавства и умничанья! Чти Церковь!
– Какую мне Церковь чтить, – тут же спросил Феодул, – греческую или латинскую?
Ибо желал в этом вопросе наставления, так сказать, неоспоримого, из самых первых рук.
– Хитрее Сил Небесных мнишь себя? – прикрикнул на Феодула ангел. – Какая тебе от Бога положена – ту и чти!
И снова огрели Феодула по спине, да так, что бедняга лишь язык прикусил и более препираться не дерзнул.
Увидев, что Феодул больше себя не выгораживает, поблажек не выторговывает, а просто тихо плачет, отбросил ангел розги и сел рядом.
– Ну, ну, – молвил он негромко, – будет тебе, чадо. Вразумился?
– Вразу… – пролепетал Феодул.
– Отрезвел, умник? – строго вопросил другой ангел.
– Ox… – всхлипнул Феодул. Ангелы переглянулись.
– Врет небось, – вздохнул третий. Другой же, наклонившись, тихо поцеловал Феодула в щеку и шепнул:
– Это ничего. Пусть врет.
Розовато-золотистый свет окутал Феодула, неземное блаженство разлилось по его многострадальному телу, и он заплакал опять – какими-то новыми слезами. Когда же слезы иссякли, увидел Феодул, что лежит на сырой палубе один-одинешенек, основательно выпоротый розгами.
Он сел и со вздохом потер себе поясницу. Ломило везде, особенно же донимало Феодула бедро, словно бы наколотое шилом. Что за странность!
Сплюнул Феодул на палубу – кроваво от цинги; глянул и увидел впереди, в бескрайней водной пустыне, нечто вроде темного сгустка. Присмотревшись, Феодул понял, что это берег, и едва не ополоумел от радости. Вскочил, нелепо взмахнув руками, и прокричал что-то невразумительно. И тут его снова кольнуло в левое бедро, да так сильно, что Феодул визгнул.
– Беги, беги, Феодуле! – расслышал он тихий голос. – Беги, отроче!
Наклонившись, Феодул взял в пальцы заветную персону Божьей Матери, которую он с превеликим благоговением всегда носил у себя на поясе. Желая быть услышанной, она колола Феодула в бедро тонким крестиком, и делала это весьма терпеливо, рукою твердой и умелой.
– За что язвишь меня, Всеблагая? – спросил Феодул, со стоном потирая бедро.
– Беги, неразумный!
– Почему? Зачем мне бежать?
– Лицемерный глупец! Разве не обокрал ты церковь, не лишил попа Алипия последней отрады, когда тайно вынес большой серебряный крест?
– Да… – прошептал Феодул, – Да, обокрал…
– Разве не сулил ты комиту этот большой серебряный крест в уплату за перевозку?
– Сулил…
– Разве не замыслил ты обмануть комита и оставить крест себе?
– Замыслил…
– Так ведь и комит замыслил перерезать тебе горло и сбросить твое тело в волны, а серебряный крест забрать себе!
– Ах, злодей! – возмутился Феодул. Костяная Богоматерь погрозила ему пальцем:
– Сам грешник – другого грешника не осуждай.
– Прости, Всеблагая, – повинился Феодул. – Лишь праведный никого не осудит; грешный же оступается на каждом шагу, точно калека.
– Что попа Алипия ты обокрал – то с тебя не сегодня спросится, – утешила Феодула Богоматерь. – Поспеши, ибо времени у тебя не осталось! Бери крест и спасай свою жизнь, Феодул!
– Не доплыть мне до берега, – усомнился Феодул. И пригорюнился.
Однако тотчас же принялся глазом измерять расстояние от корабля до желанной тверди – не хотелось расставаться с надеждой.
– Маловер! – сказала Богоматерь с укоризной. – Сумел же ты на корабль пробраться – так сумей и с корабля выбраться!
– Ой, ой! Не доплыть мне, не доплыть. Да еще с такой ношей! Потянет меня серебро ко дну, сгину я в волнах.
– Не рассуждай больше, Феодул! Бросай в воду крест и прыгай следом; в сердце же сохраняй веру в безграничную Мою милость.
Тут Феодул засуетился, забегал по палубе. Корабельщики, видя, как он шмыгает то туда, то сюда, только посмеивались да усмехались: знали, как оно бывает, когда впервые пускаешься в такое долгое плавание. Немудрено, что этот Феодул чуть умом не тронулся, после двух недель завидев землю.
Феодул побежал к тому месту, где обыкновенно спал и где проводил большую часть времени, сидя на досках и бездумно грезя – как бы плавая мыслями в пустоте. Побыстрее увязал свое имущество в тощее одеяло. Из-под мотков лохматой колючей корабельной веревки вытащил серебряный крест. С несвязной молитвою бросил все это в бурливые морские воды, а после и сам, жмурясь от ужаса, спрыгнул следом.
Феодул погрузился в холодную прозрачную пучину, кусающую глаза и губы горькой солью, но не успел даже испугаться близкой гибели, как услышал тихий голос:
– Отринь страх, маловер! Я с тобою.
И тотчас невидимая рука подхватила Феодула и вынесла его на поверхность. Отплевываясь и часто моргая, Феодул отчаянно забил руками по воде.
Затем он увидел ныряющий между волн свой узелок с безделушками и сухарями. Рядом тихо покачивался серебряный крест. Вскрикивая и то и дело глотая воду, Феодул поплыл к нему, схватился за него руками и таким образом обрел опору в смертоносной морской стихии. Подгребая одной рукой, Феодул добрался до узелка и поскорее сунул его за пазуху.
Только после этого Феодул осторожно обернулся и поискал глазами корабль. Слегка кренясь, пузатый, с высокими бортами и толстой мачтой, с вздутым парусом, корабль неожиданно предстал Феодулу странным творением неумелых рук, отданным на волю Провидения.
Холодная волна накрыла Феодула с головой, и, очнувшись от раздумий, он устремился к берегу. Вскоре Феодул уже вполне сносно передвигался в воде, а серебряный крест не давал ему утонуть и даже как будто немного согревал его. Впереди все выше, все круче вздымалась громада берега. Глядя на нее, Феодул и плакал, и смеялся, и выплевывал изо рта горькую морскую воду.
В краю псоглавцев
И вот Феодул лежит на берегу, обнимая серебряный крест обеими руками, словно не в силах от него отлепиться, и незыблемая суша, чудится ему, тихонько покачивается из стороны в сторону, точно гигантская колыбель.
Заливаясь слезами радости, бессчетное количество раз лобызает Феодул твердь земную и возносит горячую благодарственную молитву Пресвятой Деве, которая избавила его, недостойного, от великой опасности.
Возблагодарив Божью Матерь, задумался Феодул о своем пропитании и развернул узелочек, где между прочими вещами хранился скромный запасец сухарей. Как ни удивительно, морская вода совершенно не повредила им: все имущество Феодула оказалось совершенно сухим, хотя одеяло, в которое были завернуты вещи, промокло насквозь.
Перекусив и обретя уверенность в ногах, поднялся он, прицепил сверток с пожитками к серебряному кресту, крест взвалил на плечо и зашагал – размашисто, враскачку, при каждом шаге оставляя в песке глубокие следы.
Так проделал он довольно долгий путь по берегу, борясь с усталостью и жаждой, и наконец впереди увидел большое нагромождение камней, в котором признал селение.
Селение представляло собою десятка два каменных глыб, между которыми, в глубоких ямах, располагались закопченные очаги. Ни укрытий от дождя и ветра, ни постелей с теплыми сухими одеялами – ничего из мнившегося Феодулу не было здесь и в помине. Не встретил он пока и здешних жителей. Селение стояло пустым, словно вымерло за час до появления в этих краях Феодула.
Феодул в растерянности огляделся по сторонам и несколько раз позвал людей – по-гречески, по-латыни, на том языке, который обыкновенно употреблялся между франками в Акре; прибавил даже несколько слов сарацинских.
Внезапно послышались рев и странный шум, словно от шлепанья множества ладоней по гладким камням, и со всех сторон из-за бурых скал выступили удивительные существа.
Величиною они превосходили человека вдвое, а иные – и втрое. Соразмерно росту была и ширина их тела, везде покрытого толстым слоем жира, так что на боках образовывались плотные складки. Вместо ног у этих существ были большие мускулистые плавники, на которых те и передвигались, сильно отталкиваясь от земли и подпрыгивая. При этом они помогали себе руками, имевшими вполне человеческую форму.
Но всего удивительнее показались Феодулу их лица, сочетавшие черты и людские, и собачьи. Уши и рот были у них как у людей; нос и строение черепа – песьи; что до глаз, то известно, как сходны бывают глаза умной собаки с глазами человека, особенно голодного или погруженного в печаль. Поэтому Феодул не брался определить, к какому роду принадлежали их темные выразительные глаза. Форма их была скорее круглой, нежели миндалевидной.
Окружив Феодула большой шумной толпой, они заговорили все разом. Он немало перепугался, видя вокруг себя бесконечное колыханье гладких сильных массивных тел.
Существа не имели одежды и были совершенно наги, невзирая на очевидную свою разумность. Однако наготу их можно было уподобить той, коей наслаждались до грехопадения Адам и Ева. И потому Феодул положил себе впредь не смущаться их наготой.
Наконец всеобщий крик, или, вернее сказать, рев, смолк, и вперед выдвинулся огромный человекозверь с умным бородатым лицом. Он заговорил отрывисто и громко, обращаясь к Феодулу. Непостижимым образом речь его, как и тело, состояла из элементов человеческих и звериных. На каждые два человеческих слова у него приходился один короткий лай. Разумные слова и собачий лай чередовались между собою, порождая самое странное сочетание звуков, какое только доводилось слышать Феодулу. Впрочем, поприслушавшись, он пришел к выводу, что разобрать, о чем говорит удивительный бородач, вполне возможно, поскольку человечья составляющая его речи звучала как искаженная латынь; песьей же составляющей можно было пренебречь.
– Каковата причинность ар-р! Приходиша землята ар-р-гав! Чужото ибо гав-гав! Убоина, но гостевата р-р! – произнес человекозверь, любезно скалясь и выговаривая каждую фразу нарочито медленно.
Феодул приободрился и вежливо отвечал, пытаясь во всем подражать бородачу:
– Причината невзгодность р-р-р! Злобната судьбинность гав-гав! Правдивость гониша гав! Странничаю во имя Божье!
К последнему слову Феодул из благочестивых соображений решил не прибавлять песьего лая, поскольку надеялся, что его поймут и так.
И действительно. Человекозвери проявили куда больше учтивости, чем можно было ожидать, видя их страхолюдность. Шлепая ладонями рук и ластами ног, они загомонили, утешая Феодула и приглашая погостить у них, сколько он захочет.
Женщины, которых можно было распознать по грудям, четырем большим и еще паре маленьких на животе, а также по длинным косам, тотчас развели в одной из ям огонь и принялись готовить в горшке какое-то варево, имеющее острый запах моря. Феодул с подозрением понюхал горшок, но звероженщины усмехались ему так ласково, кивали так ободряюще, что он наконец решился попробовать.
Похлебка, приготовленная из рыбы, моллюсков и водорослей, оказалась, к его удивлению, даже вкусной, не говоря уж о ее целебном свойстве питательности, так что вскоре Феодул уже вылизывал дно горшка, а звероженщины, толпясь рядом, весело лопотали и со смешливым намеком подталкивали друг друга в бок кулаками.
– Вкусновато, – сказал Феодул, возвращая им пустой горшок и обтирая лицо ладонью.
Они засмеялись, а одна даже забила в ладоши, в то время как пожилая звероматрона погрозила хохотушке пальцем.
Феодул испросил дозволения переночевать в одной из ям. Зверочеловеков удивила и озадачила такая просьба, однако дозволение было дано, и остаток дня Феодул, сопровождаемый десятком любопытствующих, обустраивал себе временное пристанище: таскал тростник и траву, укладывал поверх ямы ветки. Псоглавцам, привыкшим спать на голых скалах, все эти приготовления были в диковину.
Завершив работу, Феодул вежливо попрощался с гостеприимными хозяевами, нырнул в яму, улегся на тростниковое ложе, положив мешок с добром себе под голову, а серебряный крест – рядом, на руку, чтобы и во сне обнимать его тем самым уберегая от внезапностей.
Еще долго он слышал наверху разговоры и тяжкое шлепанье массивных тел; не раз он чувствовал на себе взгляд. Псоглавцы потихоньку наблюдали за ним, заглядывая в прорехи между ветвей. Впрочем, любопытство их было вполне доброжелательное.
Решив, что вреда от этих заглядываний не будет, Феодул мирно заснул.
* * *
Человек обладает бессмертной душой, а животное таковой не обладает. Это очевидно и не нуждается в доказательствах.
Но в таком случае насколько причастны бессмертию псоглавцы?
После долгих размышлений Феодул пришел к выводу: настолько, насколько являются людьми. Что псоглавцы отчасти обладали человеческой природой, для Феодула не подлежало сомнению: живя среди них, он имел возможность в этом убедиться.
Так, некоторые элементы, составляющие их наружный облик, принадлежат людям: руки с пятью пальцами, ушные раковины, бороды у мужчин и косы у женщин. Что до женских грудей, то их количество следовало бы отнести к природе животной; однако определить натуру их формы Феодул, блюдя целомудрие, не решался.
Иные нравы псоглавцев были звериные, иные же – совершенно человечьи. Встречались и таковые, что в обычаях как у людей, так и у животных. К числу последних Феодул отнес соперничество двух и более зверомужчин ради благосклонности одной и той же миловидной псоглавицы – миловидной, разумеется, с их точки зрения. Или, к примеру сказать, привязанность к своему потомству, которой отличаются также большинство людей и все животные, кроме зайцев.
Эти общие для человеков и зверей черты некоторое время были предметом напряженных раздумий Феодула, но в конце концов он посчитал, что лучше определять их как адские. Таким образом, доля человечности в структуре псоглавьей природы существенно возрастала.
Все эти размышления естественным образом привели Феодула к выводу, что псоглавцев можно на две трети считать людьми. Об этом же свидетельствовала и их речь, в которой два слова из трех были вполне человеческими.
Следовательно, и бессмертной душой эти существа обладали на две трети, что, по мнению Феодула, не так уж мало. И когда Феодул преподаст псоглавцам Слово Божье и внесет в их темный звериный разум Благую Весть, то они станут не просто на две трети людьми – они сделаются на две трети христианами. Если святой Франциск и святой Антоний не гнушались проповедовать птицам и рыбам, то тем более не следует пренебрегать теми, кто на целых две трети обладает человеческой природой.
И потому без ропота и излишних рассуждений начал Феодул свое апостольское служение там, куда поставил его Господь.
Поначалу он решил забраться на такое место, откуда его всякому будет видно и слышно, и, привязав крест за спину вскарабкался на самую высокую из окрестных скал. Ветер злобясь на проповедническое рвение Феодула, дул там с такой яростной силой, что несколько раз едва не сшиб его ног. Одно то, что Феодулу удалось распрямить спину и занять более или менее устойчивое положение на вершине скалы, можно было бы счесть за величайшее чудо.
Феодул снял крест со спины и установил его рядом собою, поместив древко в расщелину. Холодное приморское солнце взыграло на серебре. Воистину, созданы они друг для друга – и крест, и лучи одинаково светлы и студены.
Обретя опору, закричал Феодул во всю глотку слова о Боге. Начал с Давидовых псалмов и проголосил их, надсаживаясь, двадцать восемь – сколько знал на память. Ради слушателей Феодул перекладывал чистую латынь на искаженную псоглавью, не забывая при том исправно рычать и лаять – для большей понятности.
Псоглавцы, привлеченные этим криком и размахиваньем рук, собрались вокруг Феодула, расположившись на скалах пониже. По своему обыкновению, они страшно ревели, гомонили и шлепали ластами по мокрым камням. Много только что поохотились в волнах и теперь благодушно отрыгивали рыбу. Звероотроки пересмеивались между собой. Это выходило у них похоже на собачье поскуливанье, когда собака спит и видит во сне охоту.
Вскоре все скалы были заполнены псоглавцами, и отовсюду на Феодула смотрели их странные полусобачьи лица.
Видя всеобщий интерес, Феодул уже не стихами псалмопевца, но от себя и в меру своего разумения поведал им о спасении души, о жертве Искупителя, о чаемом воскресении из мертвых. Псоглавцы слушали и сильно дивились. Они видели также, что Феодул желает им добра, и потому были чрезвычайно внимательны. И вдруг, словно кто-то подал им некий сигнал, – зашлепали по камням, зашевелились, перекатывая валы лоснящихся бурых и серых тел, точно потревожилось живое море, – и все разом надвинулись на Феодула.
Феодул хоть и побледнел, что было весьма заметно при его красноватой коже, однако с места не двинулся. Только сильнее вцепился в крест, будто испрашивая у него защиты.
Псоглавцы же, от возбуждения то и дело запрокидывая головы и подвывая тонкими голосами, принялись задавать Феодулу вопросы. Их любознательность, во много раз превышающая человеческую, превосходила также довольно скромные познания Феодула в том предмете, который он столь храбро взялся проповедовать. А между тем слушатели желали знать: где живет Бог, сколько рыбы Он может сотворить завтра в Большом Псоглавьем заливе, понимает ли Он язык псоглавцев, зачем Он сотворил сорные водоросли, которые губят рыбу и залепляют при нырянии глаза, где Он был, когда Белобрюшка разбилась во время шторма о камни, какую пищу Он предпочитает, и так далее.
Хотели они знать и другое. Если Бог Феодула сотворил человека по образу и подобию Своему, то, следовательно, псоглавцы полным подобием Бога не являются. В каких же отношениях находятся они с Богом-Творцом?
Тут уж Феодул показал себя во всем блеске, ибо именно этот вопрос особенно занимал его на протяжении всех последних дней. И сказал Феодул псоглавцам, что и сам немало размышлял об этом и пришел к такому выводу: псоглавцы представляют собою подобие Бога-Творца на две трети.
Следовательно, если у каждого человека, принявшего святое крещение, наличествует свой ангел-хранитель, то у псоглавцев, которые являются людьми на две трети, на каждых трех зверолюдей будет приходиться по два ангела. А два ангела на троих – это значительно больше, нежели у поганых сарацин, ибо хоть те внешне и представляют собою полное подобие Божье, но ангелов не имеют вовсе – вследствие ложной веры и общей приверженности греху.
Последняя мысль псоглавцам понравилась особенно, и они заревели во всю мощь, смеясь и прославляя мудрость Феодула.
Проповедника с торжеством сняли со скалы и весь день потом катали на спинах. Каждому хотелось приласкать такого славного Феодула, рассмешить его, угостить свежей рыбой и вообще сделать для него что-нибудь приятное. Серебряный крест, о котором Феодул научил их, что это – орудие веры, псоглавцы украсили водорослями и тоже катали на спинах, восхищаясь его блеском и благородной тяжестью.
Псоглавцы выказали себя созданиями добрыми, пытливыми и веселыми, наделенными памятью сверх всякой меры. Все те стихи, что кричал Феодул со скалы, затвердили они с первого же раза и часто ныряли в волнах, с громким смехом выкликая:
– Корабельствующие на морята ар-рх! На большинность водата гх-х! Ведающие чудесата гав-гав! Пучината до небесность р-р! Волната до бездонность гав!
И громовые псалмы Давидовы торжествующе разносились по всему Морю-Океану, проникая до самых глубин и тревожа там немые звериные души подводных тварей.
Видя это, утверждался Феодул в изначально принятом решении сподобить зверочеловеческий народ благодати крещения.
Взойдя на скалу, увенчанную большим серебряным крестом, громко закричал Феодул и благословил Море-Океан, превратив воды Большого Псоглавьего залива в воды Вечной Жизни.
И, наученные Феодулом, с оглушительным ревом устремились в эти воды многочисленные псоглавцы, и залив словно бы вскипел, исполнившись могучих гладких тел, бьющих ластами и руками, то и дело выскакивающих из воды, чтобы тут же, подняв фонтаны сверкающих брызг, рухнуть обратно. Псоглавцы смеялись, и пели, и выкликали имена Иисуса Христа и Девы Марии, и шум их всеохватного веселья уходил в небеса, как дым от всесожжения. А над этим бурливым ликованием высился на скале Феодул – простирающий руки, как будто обнимающий весь народ псоглавий и благословляющий его.
Но вот сочли псоглавцы, что достаточно наплавались, и, обновленные, выбрались на берег, весело пыхтя, фыркая и толкаясь. И тогда закричал им Феодул с вершины скалы:
– Отрицаетесь ли сатаны?
– Сатаната отрицата р-р-р! – взревели псоглавцы единым могучим хором.
– Хорошо! – возгласил Феодул и начал читать никейский символ веры, а псоглавцы вторили ему на своем полузверином наречии:
– Веровата во единенна ар-рх! Сотвориша небесность р-р! Сотвориша земность р-р! Сотвориша всё ар-р!
И за спиной Феодула ослепительным ледяным огнем горел серебряный крест, вбитый в расселину скалы и сросшийся с нею навечно. А над крестом и над Феодулом, в высоком синем небе кричали и ссорились чайки.
Слезы обильно текли по лицу Феодула. А псоглавцы смеялись, и ревели, и били ластами по камням в избытке радости.
Вот так было заложено основание Автокефальной псоглавческой Церкви.
Феодул покинул псоглавцев тайно, боясь, как бы те не уговорили его остаться. Препоручил просвещенный им народ Господу, заплакал и тронулся в путь, укрываемый безмолвием ночным мраком.
Он решил уйти подальше от побережья, ибо еще раньше от брата Андрея слышал, будто монголы живут в глубине суши, где пасут свои многочисленные стада.
Поначалу дорога так и прыгала, так и скакала с холма на холм. Будучи по натуре отчасти созерцателем, Феодул наслаждался видом бесконечных взгорий и стройных деревьев, растущих по склонам. Он пил из ручьев, наклонялся к цветам. Живя среди псоглавцев, Феодул запасся сушеной рыбой – зверолюди охотно наловили для него целую гору всякой съедобной морской живности, а потом, шумно фыркая и сопя, с любопытством наблюдали, как человек коптит и вялит все это, используя свойства огня, ветра и солнечных лучей.
К концу второго дня пути ручей, берегом которого шагал Феодул, сделался настоящей речкой, а долина раздалась вширь, отогнав горы к самому горизонту. Переночевав под корнями дуба и подкрепив наутро силы куском сухаря и глотком воды, Феодул отправился в дорогу. Спустя час или два он внезапно вышел к большому городу.
Феодул спросил, как называется этот город, но местные жители не понимали ни одного из тех языков, которыми обыкновенно пользовался Феодул.
Унылые странствия по кривым улицам, сплошь застроенным невысокими домами без окон, также поначалу ни к чему не привели, но затем Феодулу посчастливилось наткнуться на постоялый двор, представлявший собою вытянутое строение с крошечными оконцами под самой крышей. Вход в харчевню преграждало низкое широкое сооружение, в которое был вделан большой котел, где варилась густая ячменная похлебка с мясом и луком.
Зов этого варева властно перебил все другие, и Феодул, не в силах ему противиться, закричал по-гречески, чуть не плача:
– Дайте мне скорее поесть! Дайте мне поесть!
На его отчаянный крик из-за заграждения высунулся сонный дюжий детина с рыжими волосами. Его маленькие светлые глазки недоумевающе уставились на алчущего Феодула. Затем детина исчез, нырнув под заграждение.
Феодул подождал немного – не произойдет ли чего-нибудь еще. Однако все оставалось по-прежнему.
Тогда Феодул набрал побольше воздуха в грудь и заорал громче прежнего:
– Еды! Я голоден! Хочу еды!
Рыжий опять показался из-за заграждения. Несколько мгновений он в упор рассматривал Феодула; затем обернулся и проговорил несколько непонятных слов, обращаясь к кому-то в глубине дома.
Феодула озадачила речь харчевника, напоминающая отчасти немецкую. Похожим языком разговаривали в Акре и Иерусалиме тевтонцы. Однако сам Феодул говорить, как тевтонцы, не умел.
Из недрищ дома харчевнику что-то крикнули в ответ, после чего тот неожиданно впустил Феодула и, ворча, зачерпнул большой ковш похлебки. Феодул поскорее схватил ковш и поторопился сесть к столу. В спешке он чувствительно обжегся.
Заступниками Феодула оказались купцы из Константинополя. Они благополучно добрались до этих мест и в ожидании хорошего проводника отдыхали – потому благодушествовали. Проводник обещался быть назавтра.
Феодул скорехонько опустошил свой ковш, облизал пальцы и возблагодарил Господа, пославшего ему такую встречу.
До вечера он оставался с купцами на постоялом дворе; а когда пришло время сна, то там же и устроился на ночлег.
Купцы направлялись к монголам и везли полотно и другие ткани, выделанный мех, украшения из речного жемчуга и перламутра, глиняные и медные сосуды. Все это, как они слышали, у монголов считается великой редкостью и потому ценится чрезвычайно высоко.
В Константинополе ходило немало слухов о беззаконности монголов, и оттого многие в Городе отговаривали ехать торговать в степи, однако встретившиеся Феодулу четверо греков только посмеивались. Местные жители укрепляли их уверенность в успехе, рассказывая, что в некоторых случаях монголы простодушны, как дети, и для опытного торговца не составит труда хорошо нажиться на сделках с ними.
Пятый их спутник, именем Трифон, путешествовал с караваном Христа ради. Был он чрезвычайно высок и худ, с водянистыми голубыми глазами навыкате; одевался в сильно поношенное, некогда богатое платье с чужого плеча. По-гречески говорил трудно, путал слова и заменял одни звуки другими, но иного языка, по-видимому, не знал вовсе.
Подобрали его в Константинополе, и произошло это вот каким удивительным образом.
История Трифона
Этот Трифон, как он сам рассказывал, приехал в Царственный, имея при себе некоторую толику денег и желая осмотреться в Городе, дабы, в соответствии с увиденным, избрать там занятие по душе. Он снял комнату у почтенной женщины, вдовы, владевшей в Царственном еще двумя домами помимо того, в котором жила сама.
Ежедневно Трифон покидал свое обиталище и отправлялся бродить по улицам. Он смутно ожидал встретить какого-нибудь мастера, настолько искусного, что тотчас захочется поступить к нему в обучение. Или же, возможно, Господь соблаговолит подать знак – направит ангела, воздвигнет огненный столп или сотворит еще какое-нибудь явственное чудо.
И вот однажды, странствуя по Царственному, забрел Трифон в трущобы, так и кишевшие разной сволочью. А уж грязи и луж было там выше колена. Случись проехать по этим улицам на телеге – непременно увязла бы телега.
Проклиная собственную глупость, долго плутал Трифон, выбираясь из одной узенькой вонючей улочки лишь для того, чтобы немедленно оказаться на другой, еще более тесной и зловонной. Он совсем уж отчаялся увидеть когда-либо небо, не замутненное миазмами, как вдруг дома перед ним расступились, и юноша оказался на площади.
Кое-где еще сохранились следы мостовой, облагораживавшей эту почву в незапамятные времена, но в целом площадь представляла собою огромную и чрезвычайно грязную лужу – словно все нечистоты близлежащих улиц назначили здесь друг другу свидание.
Единственной живой душой здесь был, кроме Трифона, один старик со всклокоченной седой бородой, нечесаными, ничем не прикрытыми волосами, облаченный в длинные просторные одежды, очень засаленные и испещренные многочисленными прорехами. Он расхаживал взад и вперед по площади, волоча за собою на веревке большой, туго набитый мешок.
В обращении неряшливого старика с мешком проскальзывало какое-то странненькое злорадство, словно речь шла не о бессловесной клади, но о предмете вполне воодушевленном. Старикашка то принимался горланить непристойные песни, то вдруг прерывал пение и со смешком спрашивал у мешка, по нраву ли ему подобная участь, а один или два раза даже пнул мешок ногою, послав ему проклятие.
Трифон, пораженный этим необъяснимым поведением, подошел ближе и, учтиво поздоровавшись, осведомился у старика, кто находится в мешке и за что осужден терпеть подобное надругательство.
Некоторое время старик молча жевал бороду, разглядывая Трифона в упор маленькими слезящимися глазками. Затем сощурился, скособочив лицо в кислую гримасу, и осведомился:
– А для чего тебе знать, а?
– Даже солома, будь она в твоем мешке, не заслуживает такой участи! – искренне ответил Трифон. – Но судя по тому, какие речи ты обращаешь к своему мешку, там находится некое одушевленное существо. Вот я и хочу знать, в чем оно провинилось перед тобою и нельзя ли как-нибудь искупить его вину.
Тут старик, видя, что повстречался ему юноша добросердечный, наивный и вместе с тем явно не без достатка, оживился.
– Угости меня, – проворчал он, – и тогда, может быть, расскажу.
И, получив от Трифона полное согласие, ухватил того за локоть цепко, точно крабьей клешней.
Трифон последовал за стариком, который ни на миг не пожелал расстаться с таинственным мешком. Некоторое время они блуждали в вечных сумерках трущоб, пробираясь по ущельям переулков с почти смыкающимися на уровне второго этажа домами, то и дело задевая лицом мокрое белье, протянутое над улицей на веревке, а затем оказались в маленькой, весьма нечистой харчевенке с низким, густо закопченным потолком.
Старик усадил свою поклажу на скамью рядом с Трифоном и с глумливым смехом произнес, обращаясь к мешку:
– Видишь, болван, где ты теперь оказался? В смрадном месте, среди нечистот и отбросов! Здесь каждую полночь сходятся убийцы и шлюхи, дабы поносить Господа и подкреплять силы для новых непотребств!
– Зачем ты солгал? – удивился Трифон. – Здесь никого, кроме нас, нет! Да и место это не более смрадно, чем та площадь, где мы с тобой повстречались.
– Ему из мешка не видно, – ответил старик, злорадно ухмыляясь. – Принеси мне выпивку, да поскорее!
Трифон, не желая раздражать злого оборванца, живо повиновался.
– Знай же, – начал старик торжественным тоном, когда жажда его была утолена, – что в этом мешке находится труп одного бесчестного человека! Полгода назад он взял у меня в долг под хорошие проценты некоторую сумму. Проклятие! Почему я только не отрезал себе пальцы прежде, чем они отсчитали ему сотню золотых иперпиронов! Надо было взять нож, наточить его поострее и – один за другим, один за другим! – отсечь себе эти глупые, эти беспечные пальцы! – Говоря это, старик несколько раз с силой ударил кистями рук о край стола – должно быть, пребольно, потому что сморщился и принялся дуть на них.
– Если ты промышляешь ростовщичеством, то нет ничего удивительного в том, что ты дал кому-то деньги под проценты, – осторожно заметил Трифон.
– Да! – вскричал старик плаксиво. – Ничего удивительного! Но когда настало время платить, этот негодяй взял да и помер!
Тут он погрозил мешку кулаком. Мешок, словно в ответ, вдруг мягко завалился набок. Старик одарил его свирепым взглядом и ловко плеснул в него остатками дрянного кислого пойла из своей кружки.
– Вот тебе! – досадливо бросил процентщик. – Подавись!
Мешок помедлил еще миг и рухнул со скамьи на пол.
– Однако когда он умер, – сказал Трифон, – то вполне разумно было бы обратиться к его наследникам.
– Его чертовы наследники – сущие голодранцы, – рявкнул старик раздраженно. – Я пришел к ним накануне похорон и потребовал своего, однако меня прогнали, не заплатив ни медного грошика! А ведь брали не медью – чистым золотом! Тогда я выкрал у них труп и положил его вот в этот мешок, а им объявил, что буду подвергать тело их родственника всевозможным поношениям, покуда мне не вернут долга.
– И как давно ты ходишь с трупом? – спросил, содрогнувшись, Трифон.
– Пятый день, – ответил старик и плюнул.
– Почему же они не отберут его силой?
– Силой? – Старик засмеялся. – Да потому, что нет у них никакой силы! Они только плачут, стонут и жалуются на нищету, а бабы визжат и трясут кулаками. Больше они ни на что не способны.
Ужасные мысли вихрем пронеслись в голове Трифона. Покраснев до корней волос, вскричал он горестно:
– Так ты ругаешься над телом христианина, не позволяя ему обрести вечное успокоение! Это великий грех! Неужто и Бога ты, старик, не боишься?
– Вся человеческая жизнь – один непрерывный грех, – равнодушно отозвался ростовщик.
– Укажи мне в таком случае дом, где живут родственники этого несчастного, – попросил Трифон. – Быть может, я сумею уговорить их отдать тебе хотя бы часть долга.
Старик непонятно ухмыльнулся и подтолкнул ногой зашитое в мешок мертвое тело:
– Слыхал? Он их уговорит! Кхе-кхе!..
Однако добросердечный Трифон твердо стоял на своем: непременно, мол, желает он повидаться с родней покойного. И ростовщик, взвалив на плечо тяжелую ношу, повел Трифона к их дому.
Всю дорогу юноша молчал, кусая губы; ростовщик же непрестанно болтал, обращаясь к безмолвному трупу:
– Видал дурака? Он думает, будто у них осталась хоть капля совести! Нет, брат, верно тебе говорю: нет у них никакой совести! Совесть денег стоит, а они… Голодранцы!
Неожиданно старик прервал бесконечный монолог и остановился.
– Вот их дом, – показал он.
Трифон ничего еще не успел понять, как на него откуда-то наскочили две жилистые простоволосые бабы и принялись визжать:
– Опять ты!.. Кровопийца! Со свету, окаянный, сжить нас хочешь! Да подавись ты этим трупом! Да поперхнись ты нашей кровушкой!
Они наступали на Трифона все ближе, размахивая костлявыми кулаками прямо у него перед носом. Отовсюду из окон повысовывались, скучно глядя, соседи.
– Видал?! – пронзительно завопил ростовщик, хватая Трифона за рукав. – Видал?!
Не говоря ни слова, Трифон повернулся спиной к беснующимся бабам и пошел прочь, а ростовщик, волоча мешок, побежал за ним с криком:
– Видал?! Нет, ты видал?!
Так прошли они две или три улицы. Трифон шагал широко, даже как-то яростно, и все время кусал губы, терзаемый мучительной думой. Ростовщик же неустанно проклинал его и поливал самой отчаянной бранью.
Вдруг Трифон повернулся к ростовщику и молвил, страдая:
– Хорошо же! Слушай, бессердечный: я сам выкуплю у тебя тело этого человека! Сколько ты за него хочешь?
– Я желаю вернуть свое! – завопил ростовщик, как одержимый. – Свое! Свое!
– Сколько?! – потеряв всякое терпение, закричал и Трифон.
– Свое! Свое! – не унимался старик.
– Сколько? – повторил Трифон уже тише. Ростовщик замолчал. Прикрыл глаза красными воспаленными веками.
– Что? – переспросил он. – О чем ты только что спрашивал?
– Я желаю купить у тебя мертвое тело, – сказал Трифон. – Назови цену.
– Скажем… шестьдесят иперпиронов, – быстро проговорил ростовщик.
Кровь бросилась Трифону в лицо.
– Побойся Бога, старик! Это же целое состояние!
Ростовщик пожал плечами:
– Всякий товар имеет свою цену. Не хочешь – не плати.
– Сбавь хоть немного, – взмолился Трифон. У него не набралось бы шестидесяти иперпиронов.
– Да ты погляди, каков товар-то! – принялся уговаривать ростовщик и несколько раз встряхнул мешок. – Ведь не жида тебе какого-нибудь продаю, не сарацина черного, не евнуха стыдного! Настоящий крещеный христианин, хоть и грешник – да кто на этом свете не грешен? Подумай-ка хорошенько!
– Тут и думать нечего, – опечаленно молвил Трифон. – Отдал бы я тебе все, чем владею, лишь бы спасти душу этого человека. Но такую цену я заплатить не в состоянии.
– Хорошо, – смягчился ростовщик, видя, что Трифон говорит от чистого сердца. – Сколько же ты согласен за него выложить?
Сказать бы сейчас Трифону – мол, половину того, что спрошено, – глядишь, и ростовщика бы уломал, потому что тот уже понял: не видать ему за покойника даже ломаного гроша. Хоть какие-то деньги сберег бы для себя Трифон. Так нет же! По горячности все, что имел, кровопийце отдал! Сам же, завладев мертвым телом, предал его достойному погребению, после чего остался в Константинополе совершенно нищим.
Пытался поначалу просить милостыню. Останавливал прохожих тихой речью и рассказывал, что лишился всех средств к существованию, купив у ростовщика мертвое тело, зашитое в мешок. Но Трифона даже не до конца выслушивали – сразу принимались бить за такую скучную ложь.
Стал Трифон угрюм, неразговорчив. Страшно отощал.
Начать бы ему воровать пораньше, пока еще ловкость в руках оставалась, пока еще ноги быстро бегали. А он, по глупости, выждал до крайнего часа, когда в глазах все замутилось от голода, и только тогда забрался одному купцу в кошель.
Купец тотчас его сцапал и отдал своим слугам. Трифон, однако, сообразил – закричал, отыскав в себе последние силы:
– Спаси меня, господин! Не оставь милостью! Господи – Ты один знаешь, за что терплю!
Купец так изумился этим крикам, что остановил своих слуг и обратился к Трифону:
– Почему ты взываешь к Господу, вор? Что такого должен знать Господь, чего я не вижу? Любой поймет, за что ты сейчас терпишь: за кражу!
– Ах, господин, выслушай меня! – взмолился Трифон. – Не своей волей стал я вором. Прежде было у меня немало денег, ибо я рожден от благородных и состоятельных родителей…
Купец выслушал Трифона и сделался серьезен. Дивное дело: поверил! Сделал знак слугам, и те выпустили Трифона (а прежде крепко держали того за руки).
– Ну и чего же ты хочешь от меня, Трифон?
– Помоги мне добраться до дома, господин!
Купец призадумался.
– Видать, и вправду Господь тебя ко мне направил, хоть и весьма диковинным образом, – молвил он наконец. – Через несколько дней я ухожу из Города с тремя сотоварищами. Оставайся пока что при мне. Вижу, совсем ты прост, Трифон. Право слово, так ведь нельзя!
Проводник явился к полудню следующего дня. Знал он чуть по-гречески, малость по-монгольски, слегка по-латыни, сущую ерунду по-сарацински, чепуху по-армянски и чушь на диком команском диалекте; а местное наречие было ему, как он утверждал, и вовсе родным.
В путь тронулись тремя телегами – с кисами да скрынями, со скарбом да с товаром. Купцы путешествовали конными, по-господски; Трифон и Феодул – пешими, а проводник неспешно ехал впереди на низкорослой лошадке. Двигались медленно, под шаг быков, влекших телеги.
Ночевали в лесу: купцы на толстых тюфяках, которые они также везли с собою в телегах, а приблудные Трифон с Феодулом – прямо на голой земле. Тепло было. Еще и орехов с вечера набрали.
Дорога оказалась тягучей, почти бесконечной. Хоть и знал Феодул о тяготах предстоящего пути – еще брат Андрей предостерегал, – но, как теперь оказалось, так и не сумел этому поверить. И каждый новый день встречал неустанным удивлением: насколько велика, насколько обширна, оказывается, сотворенная Господом земля! Шаг за шагом наступали путники на бегучий горизонт – и шаг за шагом откатывался он все дальше и дальше.
То и дело на пути попадались груды камней, доставленных видимо, издалека – Феодул не замечал, чтобы в этой местности имелись каменоломни. Иной раз эти камни были сложены в подобие жилищ, однако те неизменно оказывались необитаемыми. Случалось, правда, и так, что камни были разбросаны на большие расстояния.
Любопытствуя касательно этих камней, Феодул задал вопрос проводнику. Тот же, нахмурясь и несколько раз плюнув себе под ноги, чтобы отвадить нечистого, объяснил, что это – команские могилы. Тогда Феодул, желая завоевать расположение проводника, тоже плюнул.
В отличие от Феодула Трифон мало интересовался увиденным. Шагал себе, словно во сне, и беспрестанно грезил о чем-то.
Ни одного селения не встретили путники в этой чужой земле. Один день был неотличимо похож на другой, и, долгое время не видя ничего, кроме неба и земли, позабыл Феодул и прошлую свою жизнь, и большие города, где бывал прежде, и все, чего чаял достичь среди монголов. Однако о своем узелке с добром, который погрузил на одну из телег, все-таки пекся.
Ангел Константина Протокарава
Зная, что вступили уже в пределы монгольские, передвигались с чрезвычайной и даже сугубой сторожкостью, навострив уши и широко раздув ноздри – для наилучшего уловления запахов. И потому, почуяв поблизости чужака, в один голос вскричали четверо греческих купцов, Феодул и простоватый Трифон:
– Эй, ты! Не таись за камнем а лучше выходи и поговори с нами открыто!
Сперва из-за камня не доносилось ни звука. Кто бы ни скрывался там, поначалу он не хотел подавать низких признаков жизни, но затем, наверно подумал и выпрямился во весь рост.
И какой это, доложу оказался рост, не рост – Ростище! Даже и помыслить страшно как эдакая громадина умудрилась съежиться до столь малого объема! Не иначе невиданное бедствие этого великана постигло, ибо ничем иным его способность умаляться вчетверо и более того истолковать было невозможно.
– Кто ты таков? – сурово спросили его купцы, а сами невольно завозили руками по поясам, где у них привешены были кинжалы.
Рослый незнакомец поглядел на греческих купцов выпученными светлыми глазами, а после вдруг мелко затряс рыжей бородой, пустил из глаза слезу и задергался, точно в припадке. Видя это, Трифон по слабости души перепугался, а как поборол первоначальный страх, так начал, в согласии с незнакомцем, всхлипывать.
Тут один купец, подогадливее остальных, предложил чужестранцу кус хлеба, присовокупив:
– Сдается мне, исповедуешь ты ту же веру, что и мы, и оттого поступаем мы с тобою по заветам милосердия.
– Я не куман, – хрипло подтвердил верзила, устремляя жадный взор в сторону хлеба.
– Если ты попал в беду – продолжал купец вполне приветливо, – то расскажи нам о ней.
Незнакомец сперва утихомирил лютый голод. Судя по тому, как рвал он крепкими зубами лепешку и как заглатывал, не жуя, большие ее куски, вкушать человеческую пищу не доводилось весьма долгое время. Затем, утратив изрядную долю дикости, заговорил и рассказывал о себе так:
– Мое имя – Константин Протокарав. Хоть и ношу я греческое прозвание, однако ж от рождения принадлежал к Святой Матери Римской Церкви и пять лет числил себя в братстве тамплиеров.
Феодулу такое вступление очень не понравилось. Ведь свою жизнь – по крайней мере латинскую ее половину – провел он в Акре, а в этом городе, где сиял добродетелями один лишь орден иоаннитов, рыцарей Храма отнюдь не жаловали.
Между тем Константин продолжал, беспокойно водя пятерней по бороде:
– Я водил корабли и служил рулевым на многих из них, соперничая с греческими и даже венецианскими мореходами; оттого и прозывали меня «Протокарав» – по-гречески это то же самое, что «Мариньер»…
Видя, что этот Константин человек обстоятельный и рассказ предстоит долгий, купцы охотно расположились на отдых; быков, однако, из телег выпрягать не стали.
– Случилось мне везти из Франции в Святую Землю достояние Ордена, – говорил тем временем Константин, то и дело с охотою угощаясь из бутыли, распечатанной по его слезной просьбе. – Заключалось оно в некотором количестве золота, серебряной и медной посуды, а также в десятке свертков вавилонских тканей, среди которых первейшей назову балдаккин с красивым узором золотых и шелковых нитей; за ним по праву следует тяжелый шелковый аксамит с серебряным переплетением; третьей же по достоинству любой оценил бы тонкое алое сукно, именуемое у сарацин «кермез»…
Купцы при этом перечислении жевали губами, кивали и шевелили пальцами, как бы мысленно ощупывая упоминаемые Константином товары. А тот, казалось, совершенно оправился от пережитого и повествовал уже вполне складно и в той развязной манере, какая в обычае между торговыми людьми.
– Имелись и другие ценности: дорогие чаши, золотые и серебряные кольца с жуковинами, старые вина в бутылях, а также и деньги – около пяти сотен марок. Все это я должен был доставить из марсельской прецептории Ордена в Тир.
Вот так обстояли дела, когда на наш корабль погрузилось еще с десяток паломников и в числе их – две знатные и весьма прекрасные дамы, а именно: Матильда де Шато-Вийяр и Матильда де Сен-Марсиаль. С ними было несколько слуг, духовник из ордена братьев проповедников и две девушки простого звания.
Говоря коротко, мы покинули Эг-Морт и вышли в открытое море, а спустя десять дней на нас напали магрибинские пираты. Поскольку единственным человеком, способным с ними объясниться, был я, то меня как раз и отрядили для переговоров…
– Ты только что сказал, что магрибинцы напали на вас! – перебил рассказчика Феодул, вообще не склонный доверял храмовнику по той причине, о которой мы уже упоминали. – Как же тебя отрядили для каких-то там переговоров с ними. Я, Раймон де Сен-Жан-д’Акр, усматриваю в твоих словах противоречие!
– Если ты и вправду родом из Акры, как утверждаешь то должен бы знать, насколько ленивы и медлительны магрибинцы, – живо возразил Константин Протокарав. – Этот народ любому делу предпочитает безделье и если уж видит способ избежать схватки, то никогда не упустит этим воспользоваться.
Феодул нехотя признал, что это правда, и Константа продолжал:
– Итак, я вышел для переговоров и очень скоро сумел убедить сарацин в том, что самым ценным грузом на корабле являются две дамы Матильды. Ни о тканях, ни о кольцах и прочем добре Ордена я и не заикнулся, но вместо того хорошо и во всех подробностях описал бывшие с дамами короба, где те везли золотые браслеты и деньги в мешочках. Вполне поверив моему рассказу, магрибинцы возжелали завладеть этими сокровищами, обещая в таком случае отпустить наш корабль целым и невредимым, не тронув на нем более ни одной вещи. А это было именно то, чего я добивался. Словом – не пускаясь в излишние подробности, – я передал обеих знатных дам со всем их имуществом и служанками в руки магрибинцев и тем самым спас орденский груз от разграбления, а корабль и всю команду – от верной гибели, ибо магрибинцы превосходили нас числом по меньшей мере втрое.
– Как! – воскликнул Трифон, охваченный волнением. – Ты выдал пиратам беззащитных девиц, которые вверились твоей чести?
– Увы! – Долговязый тамплиер широко развел руками. – Именно такова истинная правда без прикрас. Впрочем, в мои намерения вовсе и не входит что-либо приукрашивать. Однако слушайте, что случилось дальше.
Спустя некоторое время мы благополучно бросили якорь в Тирской гавани. Нас встретили с превеликой радостью, поскольку все порученные нам ценности были доставлены в неприкосновенной сохранности. История прежалостной гибели обеих Матильд так и осталась бы тайной, если бы одной из них не удалось впоследствии спастись. Она оказалась в числе тех пленных христиан, которых выкупил у сарацин благочестивый король Людовик. Это была Матильда де Шато-Вийяр; что до Матильды де Сен-Марсиаль, то она умерла от злокачественной лихорадки.
Ужасной судьбе было угодно, чтобы эта дама де Шато-Вийяр, едва освободившись от оков, оказалась в Тире и там Дринесла слезные жалобы нашему комтуру Райнальду де Вишьеру на тамплиера Константина по прозванию Протокарав за то, что он беззастенчиво продал ее в рабство. Комтур, догадавшись из рассказа этой дамы о том, как все случилось на самом деле, сперва попытался оправдать меня в ее глазах.
Но, к несчастью, слух о моем поступке быстро распространился по Тиру, Акре, Сидону и другим портовым городам Святой Земли и дошел до ушей архиепископа Тирского Петра и крикливого доминиканца Гильема из Триполи, который бродил везде босым и во все горло поносил тех, кого считал приверженным пороку.
В этом месте Константин прервал свое повествование, бывшее до сих пор довольно гладким, и надолго припал к бутыли, воздавая безмолвную хвалу ее содержимому. Видя, что Константин весьма огорчен всеми этими воспоминаниями, греческие купцы не стали ему препятствовать. Наконец Константин обтер губы и заключил просто:
– Меня отлучили от Церкви.
И вот тут-то и сгустилось мрачное молчание. Стало быть, находясь в неведении, купцы и их спутники поневоле разделили трапезу с отверженцем. А это могло оказаться для дела спасения их душ куда опаснее, нежели по роковой ошибке вкусить идоложертвенного или преломить хлеб с язычниками.
– Что же нам теперь делать? – обратился к своим товарищам самый старший из купцов-греков, именем Афиноген. – Следует ли нам убить этого человека, как дозволяется законом? Или же мы должны изгнать его из нашего общества и никогда более о нем не вспоминать?
Заслышав такие речи, Константин Протокарав резво вскочил на ноги и вытащил из-под своих лохмотьев длинный нож.
– Давайте все же выслушаем его до конца, – предложил Трифон. – Сдается мне, отлучением от Церкви история этого человека не заканчивается. Иначе как бы он вдруг перенесся из Тира сюда, в пределы монгольские? Не иначе, на то была воля Провидения!
– Он прав, – хмуро молвил Константин. Видя, что никто из угрожавших ему и не думает двигаться с места, он убрал кинжал. – История моя есть величайшая хвала Провидению, и я желаю донести ее до вас во всех продробностях, ибо долг свой вижу в том, чтобы восславить милосердие Господа и святых его ангелов. В противном случае я ни за что не стал бы вам рассказывать о себе всей правды, а ограничился бы какой-нибудь полуправдоподобной ложью.
– Но начал ты как раз со лжи! – сказал Афиноген. – Знай мы с самого начала, что архиепископ Тирский изверг тебя из лона любящих Христа, мы не стали бы подвергать себя скверне совместной трапезы с тобою.
– Не обременяй меня напрасными попреками! – возразил Константин с жаром. – Ведь я был очень голоден, и уже одно это служит мне оправданием. Итак, в Тире меня предали анафеме. Отняв у меня всю мою добротную одежду и прочее достояние, оставили мне лишь это рубище да позорное вервие, коим обвили мою шею. И в таком прежалком виде я был выставлен на всеобщее обозрение. Архиепископ же Тирский самолично начал говорить и, проклиная меня во веки вечные, говорил так: «Властию всемогущего Бога Отца, Сына и Духа Святого, святых Мартина, Жермена, Жилля, Бертрана, Иакова, Матвея, Жерома, Жерара, Этьена, Северина, Станислава, Гуго, Гонтрана, Викторьена, Бенедикта, Обена, Романа, Лазаря, архангелов Михаила и Гавриила, и всех херувимов и серафимов, престолов и могуществ, во имя патриархов, пророков, евангелистов, святых преподобных, мучеников, исповедников и иных спасенных Господом, мы отлучаем сего злодея Константина и изгоняем его за порог святой Церкви всемогущего Бога! Да проклянет его Бог Отец, сотворивший человека! Да проклянет его Сын Божий, пострадавший за нас! Да проклянет его Дух Снятый, ниспосланный нам в святом крещении! Да проклянет его святой Мартин, разделивший с нагим единственный плащ свой! Да проклянет его святой Жермен, кротким пастырским словом остановивший полчища кровожадных варваров! Да проклянет его святой Этьен, побитый за веру Христову от язычников камнями! Да проклянет его святой Бенедикт, отец всех монашествующих! Да проклянет его святой Роман, который…»
– Ну, хватит! – перебил Константина Афиноген. – Нам совершенно незачем слушать все те проклятия, которые не без причины обрушил на тебя Тирский архиепископ!
– Так в этом-то и заключается все самое главное! – вскричал Константин, прижимая руки к груди. Затем он продолжал как ни в чем не бывало: – «Да ниспошлет Господь ему и глад, и жажду, и гнев злых ангелов, покуда не падет он во глубины ада, где вечный мрак, где огнь неистощимый, где серный смрад, печаль без утоленья, где день за днем произрастает зло! Да нищенствует он и в содроганье влачится по земле, навек лишенный крова! Да будет труп его оставлен на пожранье псам голодным, грязным! Сыны его и дщери да будут сиротами, жена его – вдовою!..»
Константин Протокарав перевел дыхание и снова приложился к бутыли.
Теперь уже никто не пытался остановить поток его зловещего красноречия. Видно было, что слишком долго гремели слова проклятия в страдающей голове Константина, отдаваясь под сводами черепа гулким эхом, подобно стонам раскаявшегося и глубоко страждущего вурдалака.
– «Да будет проклят он, где бы ни находился! В доме, на поле, на большой дороге, на глухой тропинке, в лесу, в роще, на пороге храма! Да будет он проклят в волосах, в темени, в висках, во лбу, в ушах, в бровях, глазах, щеках, челюстях, ноздрях, горле, руках, локтях, пальцах, ногах своих! Да будет проклят он голодный, жаждущий, постящийся, едящий, засыпающий, бодрствующий, ходящий…»
Константин вдруг заговорил хриплым шепотом:
– Но знаете ли вы, что я приметил, пока архиепископ возглашал мне анафему? – Он сощурил глаза и показал слушателям ноготь указательного пальца. – Вот такую маленькую мушку! Она летала, летала, летала – взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед – перед самым носом Тирского архиепископа. Архиепископ же гремел неустанно: «Да будет проклят он – я то есть – за едой и питьем, стоящий, лежащий, сидящий, работающий, отдыхающий, кровоточащий и даже в минуту смерти своей…» – А сам нет-нет да стрельнет глазами вслед за назойливой мушкой. Наконец закончилось чтение, и запели погребально, как если бы я умер, после чего загасили все горевшие доселе свечи. И возгласил диакон: «Как огнь угашается водою, так да угаснет свет его, поименованного Константина, во веки вечные!» И изгнали меня из храма, стегая попутно плетками.
И вышел я за порог, весь в слезах и дрожа от ужаса. Толпа, поджидавшая снаружи, встретила меня яростными воплями и потрясанием кулаков, а дама Матильда де Шато-Вийяр, бывшая там же, кричала громче всех и под конец запустила в меня камнем. Она пребольно уязвила меня в плечо; по счастью, второй камень, припасенный ею, пролетел мимо.
Товарищи же мои, тамплиеры, не смея приблизиться и дать мне хотя бы малое утешение, лишь молча сопровождали меня от порога храма до гавани, где приготовлено было место на корабле, ибо решено было еще загодя, что после отлучения от Церкви должен я покинуть Святую Землю и отправиться в Константинополь, а оттуда – в Никею и там искать убежища, ибо никейский император Дука Ватацес не подчиняется Папе Римскому.
Как задумали, так и поступили. Сел я на корабль и уже на рассвете следующего дня видел вокруг одно только волнующееся море. О плавании нашем до Константинополя скажу лишь, что тянулось оно вдвое дольше обыкновенного, ибо вышли мы в море на две седмицы позднее, чем всегда в это время года, и попутный ветер был нечастым нашим гостем. Противные же ветра, наоборот, задували с неистовой силой и увлекали наш корабль то в сторону Магриба, то к берегам Сицилии – и то, и другое было весьма для нас небезопасно. Наконец коснулся я стопою земли – на что, по правде сказать, уже и не рассчитывал – и впервые за полтора месяца справил малую нужду, не опасаясь вывалиться за борт и быть поглощенным морскою пучиною.
И вот, изливая на твердь земную излишние воды тела моего, я услышал тихий радостный голос: «Константин! Константин! Взгляни же на меня!» Невольно бросил я взгляд в ту сторону, откуда доносился голос, но, к полному своему разочарованию, ничего не увидел. Только краем глаза успел приметить какое-то золотистое сияние, которое, впрочем, мгновенно расточилось в воздухе.
Разумеется, после этого мне ничего другого не оставалось, как только считать тихий голос чем-то вроде сна, пригрезившегося в миг облегчения.
Однако спустя некоторое время благой сон повторился – и опять в минуту, подобную той, о которой я только что рассказывал. Тут уж я вполне уверился в истинности происходящего и только не знал, ко злу мне сие или ко благу.
В третий раз я был уже готов встретиться с обладателем голоса лицом к лицу и, едва распустив завязки штанов, вскричал: «Приветствую тебя, мой незримый друг!» И не успели первые капли впитаться рыхлой греческой почвой, как увидел я перед собою в туманном облаке света прекраснейшего юношу с трепещущими за спиною крыльями наподобие ласточкиных. Только были они не иссиня-черными, как у этой птицы, а ослепительно белыми.
«Кто ты?» – спросил я. «Я – твой ангел, Константин…» – ответил он, улыбаясь.
Но тут струя естественным образом иссякла, и юноша исчез, а вместо него почудились мне повсюду злобные ухмыляющиеся рожи.
Я уже догадался, что по какой-то странной причине ангел может являться ко мне лишь в известные мгновения моей жизни. Любопытствуя разузнать об этом побольше, я запасся большим кувшином воды и пил из него до тех пор, пока меня не вспучило. Принятые меры оказали должное воздействие на некоторые способности моего тела, и вскоре я обрел возможность поговорить с чудесным собеседником не столь обрывисто, как в первые три раза.
«Если ты – мой ангел-хранитель, – поспешно заговорил я, не тратя драгоценного времени на приветствия, – то почему избрал для появления столь странное время?»
«Помнишь ли ты, как архиепископ Тирский Петр возглашал над тобою проклятие? – спросил ангел и, видя, что я усердно киваю, добавил: – Его постоянно отвлекала некая назойливая мушка…»
«Так это был ты, мой друг? – воскликнул я, внезапно осененный догадкой. – Ты пытался спасти меня, мой ангел? О, благодарю, благодарю!..»
«Читая анафему, Петр сбился и пропустил несколько слов. Прокляв тебя голодного, жаждущего, спящего, ходящего, кровоточащего, он забыл проклясть тебя мочащегося. Увы, это единственное, что он забыл…»
На этом месте животворный родник иссяк, и ангел растаял у меня перед глазами…
Тут Феодул, ощутив, как вскипает в нем жгучая ревность, спросил Константина не без яда в голосе:
– И что – часто ли с тех пор являлся тебе твой ангел, Протокарав?
– Я удостоился зреть его еще несколько раз, – отвечал Константин, приободрясь: он понял уже, что греческие купцы вполне ему поверили и ждать от них беды больше не приходится. – Но теперь я подхожу в своем рассказе к самому главному.
– Тебя послушать, храмовник, – так все в твоем рассказе «самое главное», – заметил Феодул.
Константин поглядел на него, щурясь, однако ничего не сказал, а вместо того продолжил свое повествование таким образом:
– На некоторый срок я задержался в Царственном, и мне уже начало казаться, будто главнейшие испытания мои позади. Я устроился на одно греческое судно, которое ходило по торговым делам до Генуи, сказав, что имею призвание к кораблевождению. Греческий комит – его имя было Косма Логофет – испытал мои способности и умения и был вполне удовлетворен увиденным. Мы вышли в море, и тут начались наши беды. Сперва мы попали в жесточайший шторм, так что гигантской плотоядною волною смыло за борт двух наших товарищей. Воздух наполнился горькой водой – как низвергавшейся из низко повисшей над нами грозовой тучи, так и поднятой ветром из пучины моря. И когда я облизал забрызганные водою губы, то ощутил на языке жгучий привкус серы.
Затем, словно не насытившись двумя загубленными жизнями, море вконец рассвирепело, и завывающий ветер с треском перегрыз большую мачту, которую левантийские мореходы называют на сарацинский лад «аль-ардамун». Она рухнула в море вместе с прикрепленными к ней парусами. И когда я, держаясь за снасти, попытался разглядеть сквозь ливень, какая же судьба постигла наш парус, то вместо мачты, паруса и волн вдруг увидел, как отовсюду тянутся ко мне когтистые волосатые лапы и ухмыляются чертячьи пасти.
Гибель и ад окружали нас со всех сторон. И тогда невольно пришли мне на ум слова тяготевшего надо мною проклятия: «Да ниспошлет Господь ему и глад, и жажду, и гнев злых ангелов, покуда не падет он во глубины ада, где вечный мрак…» – ну и так далее, вы понимаете? Одним только присутствием своим на корабле я невольно навлек на него такое несчастье. Справедливо рассудив про себя, что товарищи мои непременно спасутся, если избавятся от того, кто проклят и обречен демонам ада, то есть от меня, я совсем уж собрался было прыгнуть за борт, как вдруг молнией пронеслась в уме другая, лучшая мысль. Я стремительно скинул штаны, ибо поддерживать их и одновременно цепляться за снасти было невозможно, и понудил себя, невзирая на бешеную качку, к некоему действию, которое представлялось мне спасительным.
Видимо, тот, к кому я намеревался воззвать в этот роковой час, давно уже ждал удобного случая и находился неподалеку, ибо стоило мне уронить в кипящее лоно бури первый янтарь, как сильные теплые руки ухватили меня за подмышки, и благая сила повлекла меня ввысь, оторвав от палубы. Со стороны все выглядело так, словно я гибну, оказавшись в объятиях ураганного ветра, ибо, улетая, я явственно слышал крик одного из корабельщиков: «Протокарава смыло!» – и крепкую ответную ругань Космы Логофета.
«Не прекращай того, что делаешь, – шепнул мне ангел, задыхаясь от стремительного полета, – и расходуй влагу бережно, ибо, когда она иссякнет, я вынужден буду покинуть тебя, и ты останешься один на один с ужасной бурей».
Вняв совету, я напряг все силы и сочил из себя то, в чем заключалось мое спасение, по капельке, осмотрительно. Ангел же мчался, обгоняя ураганный ветер, и его крылья с пронзительным свистом рассекали воздух.
И вот, когда я почувствовал, что выдавливаю из себя последнее, впереди показался берег. Он был пологий, песчаный, и шумные волны, набрасываясь на него, как бы хватались длинными пенными пальцами за траву, а затем слабели и, изнемогающие, оползали обратно в море. Подобно этим волнам, выбрался на песок и я и пал головою в траву. Я был обессилен и в буквальном смысле выжат досуха, словно, лимон…
– Воистину, вот – рассказ о чуде! – произнес Трифон. Константин улыбнулся, а купец Афиноген сказал:
– После всего, что ты рассказал о себе, не хотел бы я иметь тебя спутником, Протокарав. Так что лучшее, что мы можем сделать друг для друга, – это расстаться.
Шагающий город
Монголы налетели вдруг, словно из-под земли выросли. Обличьем и повадкой показались они Феодулу звероподобны, ибо одевались в меха и шкуры. Визжа неосмысленно и злобно, трясли длинными тонкими косицами из-под лохматых треухов и скалили зубы, точно примериваясь укусить. Перед изумленным взором повсюду мелькали раскоряченные ноги, оттянувшие короткие стремена. И были эти стремена у иных с кистями да бубенцами, у иных же голые.
Никогда прежде не видывал Феодул такого народа и немало оробел с непривычки; Трифон же закрыл лицо руками и громко воззвал к Богородице, ибо, как объяснял впоследствии, вполне уверился в том, что оказался ввергнут в преисподнюю.
И впрямь, кому на ум не вскочат ад и все демоны его – при виде эдаких-то рож, плоских, что блюда, темных, с вычерненными зубами, с опухшими веками и словно бы вовсе без глаз! Сами собою колени размякнут, и ладони покроются гадким липучим потом.
Тут-то и показал себя взятый в городе толмач. Дерзко выступил вперед и явил во всей красе косноязычие свое. Монголы лошадьми пугать его принялись: надвигались, будто бы желая задавить, а после отскакивали со смехом. Однако толмач упорно твердил свое.
Тогда один из монголов стал строго выспрашивать у толмача про то и это; сердился, хмурил брови; сложенную пополам плетку показывал. Толмач же кивал в сторону купцов, махал рукою на телеги, загибал пальцы, лыбился и столь усердным образом кланялся, что грозный монгол в конце концов усмехнулся.
Прочие монголы скакать и кружить на лошадях оставили и вместо прежних безобразий пустились в новые. Возле телег с добром везде виднелись теперь их любопытные рожи и весьма загребущие пальцы. И всего-то им хотелось, и все-то их привлекало. Увидят чашу для вина – подавай им чашу! Сперва на простой погляд, а затем и в вечную собственность. Увидят, например, одеяло – подавай им и одеяло! Так вот Трифона и оставили без одеяла, а Феодул своего не отдал: знаками, жалобными гримасами показал, что неизбежно умрет без этой вещи и оттого никак не может ее лишиться. Однако злые монголы и после отказа не отступились и продолжали все щупать и всего хотеть.
Один показал пальцем на нож, который Феодул носил на поясе. Широко, как бы приветливо, улыбнулся и прищелкнул языком. Феодул так понял, что монгол непременно желает взглянуть на этот нож и, не решаясь быть совсем уж нелюбезным, отцепил нож и подал назойливому монголу. Тот схватил, вынул из ножен, повертел в руках, подышал на лезвие, пустил солнечного зайчика, а после передал своему товарищу и – гляди ты – уже потянулся к теплым и прочным перчаткам, которые приметил у безответного Трифона.
Феодул Трифона собою загородил, чтобы тот не вздумал и перчатками жадного монгола наградить, и начал требовать свой нож обратно. Монгол в ответ пожимал плечами, смеялся и предлагал Феодулу угоститься кислым молоком из кожаной баклаги. Феодул сперва взял баклагу, но как учуял несшееся оттуда зловоние, так поскорее возвратил ее монголу.
Пробовал было с другого бока зайти, чтобы снова собственным ножом завладеть. Обратил просьбы к тому монголу, что забрал его нож у первого. Но этот второй монгол, явив полное бесстыдство, изобразил недоумение. Мол, он-то получил нож от своего товарища и поэтому решительно не понимает Феодуловых посягательств. Тут Феодул окончательно убедился в том, что с монголами нужно держать ухо востро.
Между тем константинопольские купцы с грехом пополам договорились о чем-то с монгольским старшиной. Тот получил от них в дар корзину с хлебом и яблоками и горсть монет. Взяв одну, он потер ее пальцами и тщательно обнюхал со всех сторон, водя головой, как собака. Проверял, не пахнет ли медью. Но монета была истинно золотая.
Казалось, между монголами все было решено заранее: получив дары, монгольский старшина не стал ничего больше говорить ни купцам, ни своим товарищам, а сразу развернул лошадь и, ужасно вскрикнув, умчался. Прочие монголы последовали за ним, кроме двоих; эти остались при караване. Толмач объяснил, что им наказано проводить караван к монгольскому начальнику над этой землей.
Пустились снова в путь и ехали до окончания дня, часть ночи и целое утро. Монголам тягучий шаг быков, тащивших телеги, казался докучен. То и дело всадники уносились вперед, далеко обгоняя караван, но потом возвращались и чему-то громко смеялись между собою.
Несходство монголов с франками или греками или любым другим известным народом было столь очевидным, что даже как-то больно в груди делалось. Ученый муж, Матвей Парижский, так сообщает о многообразии сотворенных Господом народов: «Существует только семь краев на свете, а именно те, где живут индусы, ефиопы (или мавры), египтяне, иерусалимцы, греки, римляне и французы».
Себя Феодул считал иерусалимцем. Трифона вкупе с хозяевами каравана почитал за греков. Толмач, человек с многими языками, но вовсе без ума и с душою столь малой, что там, кроме трусости, даже жадность едва помещалась, мог сойти хоть за ефиопа. Но кем назвать монголов? Ибо ни на индусов, ни на мавров, ни на египтян они не походили. И потому Феодул всерьез начал полагать их народом, который и вовсе не был сотворен Господом, а оказался среди прочей твари попущением Божьим и по чистому недоразумению. Однако отсюда начиналась скользкая и извилистая дорожка к катарской ереси, и потому Феодул остерегался подолгу размышлять на подобные темы.
– Вот они! – воскликнул Трифон, доселе почти всю дорогу молчавший. Лишившись одеяла, он сильно продрог за ночь и теперь томился кашлем.
И точно: впереди показались «они». Большой город, пребывая в непрестанном движении, шумно и неспешно, величаво купаясь в клубах пыли, шествовал навстречу путникам. Огромные дома, ослепляя белизною, накатывали на телегах, с каждой минутой вырастая все больше. Море овец стекало по обе стороны повозок, и черные коровы с очень длинными рогами неспешно и как бы строптиво следовали за ними. С криками погоняли это огромное стадо хмурые быстрые пастухи в засаленной одежде с черными пятнами на спине. Шум, казалось, достигал самого неба.
Феодул так и застыл, разинув рот и сдуру не заботясь о том, что остановился посреди дороги и что прямо на него надвигаются два десятка быков, сонно тянущих телегу с большим круглым домом на ней. Шириною этот дом, на пригляд Феодула, был никак не менее четырех туазов, или двадцати четырех стоп; высотою же превосходил ширину, хотя и не намного. Материалом для его стен послужило отнюдь не дерево и не кирпич, но очень плотная и толстая ткань, пропитанная известкой и костным порошком для пущей белизны и обмазанная жиром, дабы отторгать влагу.
И так замер Феодул, точно громом пораженный, и таращился на это монгольское диво, а какой-то монгол в лохматой шапке, надвинутой на самые брови, стоял на телеге, в дверях движущегося дома, и держал широкие поводья, управляя быками.
В последний миг Трифон успел схватить Феодула в охапку и оттащить его в сторону, оберегая от верной погибели. И медленно миновали его быки, которых он зачем-то сосчитал (получилось двадцать два).
Феодул потом сознавался, что и сам не понимает, такое на него накатило. Не иначе как постигла его при виде монголов какая-то умственная странность.
Но вот это вселенское движение прекратилось. Дома, влекомые скотами, и скот, бредущий вослед домам, и дикого обличья люди – все это замедлило ход, а затем и вовсе стало.
Монгольский город расположился у какой-то незначительной воды, и почти тотчас после остановки закипела в нем суетливая и деятельная жизнь. Феодул приметил, что между собою монголы и держатся, и разговаривают иначе, нежели с чужаками: и быстрее, и проще, и как-то более хмуро, без улыбок.
Здешний начальник, властвующий над тьмою народа, прозывался «темник». Прибывшие с караваном монголы что-то кратко сказали греческим купцам и умчались. Толмач объяснил, что они отправились к темнику сообщить о приезде чужестранцев и что надобно теперь стоять и ждать, пока их призовут. Так путники и поступили, поскольку иного им и не оставалось. Толмач еще сказал, кося по сторонам глазами, что непременно нужно собрать добрый дар для темника, иначе он с пришлецами и разговаривать не станет.
Афиноген счел совет вполне разумным и положил в корзину кувшин вина, два белых хлеба и четыре локтя греческой шелковой материи, которую называют «влаттий» и которую правители одних стран преподносят в дар правителям других в знак дружеских намерений. Эта материя ценится весьма высоко, поскольку обладает свойством отпугивать насекомых, чья злокозненная природа понуждает их избирать для обитания человеческое тело и его же употреблять в пищу. Другое чудесное свойство такой ткани заключается в следующем. Будучи тонкой, прочной и гибкой во всех направлениях, материя эта при попадании стрелы не рвется, а вместе с наконечником втягивается в рану, что значительно облегчает впоследствии работу лекаря.
Спустя некоторое время явился какой-то новый монгол, резкий и спесивый, оглядел вновь прибывших, точно выискивая в них какой-нибудь скрытый изъян, переворошил дары в корзине, выхватив оттуда один хлеб и чрезвычайно сноровисто спрятав его где-то у себя в одежде, бросил что-то отрывисто и направился к жилищу темника.
Греческие купцы и Феодул заспешили следом. Поневоле пошел и толмач, хотя по всему было видать: этот малый только о том и помышляет, как бы дать стрекача. Он вообще был очень недоволен и говорил, что дело свое сделал и до монголов караван проводил исправно; на иное же он не подряжался и говорить слова греческих торговцев перед монгольским темником не хочет, ибо это стоит совершенно других денег, нежели те, о которых сговаривались.
Войдя в дом темника, Феодул увидел там множество такого, что следовало бы назвать срамным и позорным. Именно: над головами господина и госпожи, которые восседали на своих постелях лицом ко входу, висели две куклы, кое-как, весьма неискусно вырезанные из толстой материи. Этих кукол было велено именовать «братом господина» и «братом госпожи», как заранее объяснил сопровождавший купцов монгол.
Чуть дальше помещалось еще два идолища: одно в виде человечка, или, вернее сказать, маленького беса с коровьим выменем, второе – в виде другого беса, сходного с первым, но имеющего вымя кобылье. Толмач сказал, что один идол – для женщин, которые доят коров, другой же – для мужчин, которые доят кобылиц.
И Феодул весьма дивился, видя все это, и ему стоило немалых усилий скрыть свое отвращение, ибо обе его половины – и греческая, и латинская – при виде открытого почитания кумиров вдруг вошли в полное взаимное согласие и равно возмутились.
Купцы поклонились темнику и его жене, которая оказалась самой безобразной женщиной в мире. Она была тучна, точно оплывшая сальная свеча, а лицо ее с щелями глаз, утонувших в мясистой плоти век, казалось, некогда побывало в руках палача, ибо на том месте, где у любой другой женщины помещается нос, зияли две пустые дыры, ничем не обрамленные. Сверх того, переносье у ней было вымазано жирной черной мазью. И оттого содрогнулся Феодул, слыша, как эдакое страшилище именуют «госпожою».
Толмач передал темнику корзину с дарами, забрав ее из рук Афиногена. Темник небрежно осмотрел дары и отдал их своей жене.
Афиноген дождался дозволения говорить и тогда сказал, что явился с караваном и что везет различные товары к великому хану и хочет просить у того ярлык на торговлю в некоторых землях, где укажет ему хан. Для того и явился он, Афиноген, с товарищами в монгольские пределы. И потому он просит дозволения продолжать путь.
Тогда темник спросил, какие именно дары везет Афиноген великому хану. Ибо может так статься, что эти дары окажутся неугодны великому хану. И лучше было бы, показав их знающему человеку, определить заранее: будут они угодны повелителю вселенной или же нет.
На это Афиноген с похвальной осмотрительностью отвечал, что во всем полагается на милость Божью; что же касается даров, то великий хан их увидит сам, когда для того настанет подходящее время.
Темник был явно огорчен подобным ответом, однако больше о дарах для великого хана речи не вел, а вместо того спросил, будут ли греки пить кобылье молоко, ибо настал час для угощения. Афиноген сказал:
– Негоже, попав в дом к гостеприимному хозяину, пренебрегать его обычаем или угощением, если только они не понуждают отказаться от веры Христовой.
Толмач, по невежеству и умственной убогости, передал эту достохвально учтивую речь кое-как. Он вообще говорил перед темником плохо, нехотя, словно выцеживая слова сквозь щели между зубами. Однако темник Афиногена понял и добавил, в пояснение своего вопроса, что встречал уже людей, которые говорят о себе, будто они христиане и веруют в Распятого Бога. Многие из них ни за что не соглашаются даже омочить губы в кобыльем молоке, считая, что это – идоложертвенное. И оттого среди монголов их считают как бы хворыми.
Афиноген отвечал в том смысле, что не слыхивал о подобном запрете – употреблять в пищу кобылье молоко. Но существует запрет есть мясо животных, которые пали от старости или болезни. Таким ответом Афиноген сумел отчасти возвысить себя в глазах темника, и тот, смеясь тем скорым злым смехом, что припасен у каждого монгола для чужеземцев, велел подать молока.
Он называл это молоко на своем языке, и в ушах Феодула это наименование звучало как «космос». Феодул, человек отчасти образованный, знал, что латиняне этим словом поименовывают Вселенную, и оттого был весьма удивлен. Однако, памятуя о пьяницах, что для них вся Вселенная как бы заключается в нескольких глотках хмельного напитка, Феодул быстро смирился с подобным же заблуждением монголов. Кроме того, он так до конца и не уверился в том, что монголов можно вполне считать за людей, и даже увлекся было подсчетом человеческих и нечеловеческих элементов в их обличье, речи и укладе – подобно тому, как некогда сделал для псоглавцев, – но почти сразу сбился со счета и оставил свою затею как бессмысленную.
Когда приспела очередь Феодула пить молоко, он нашел его чрезвычайно кислым и вонючим и вследствие этого малопригодным для того, чтобы заменить кому-либо весь «космос». Но у монголов, по-видимому, с этим все обстояло иначе.
Наконец темник сказал Афиногену через толмача, что между монголами весьма уважают тех, кто привозит в их землю товары и драгоценные одежды из шелка, парчи или собольего меха, который именуется «королем над всеми мехами». Ибо это позволяет многим одеть перед, зад и плечи своих жен и дочерей в роскошные ткани и сделать их еще привлекательнее в своих глазах и перед богами, в том числе и перед Богом христиан. Вследствие этого монголы чрезвычайно заботятся о торговле и предают смертной казни только таких купцов, которые разоряются в третий раз, обманув тем самым своих доверителей. Но если они разорились и потеряли только тот товар, который был их собственностью, то их не казнят. И они могут, имея ярлык от великого хана, ездить до самого Китая и возить товары, и везде их будут принимать с почетом.
Высказав такое наставление, темник добавил, что даст греческим купцам охрану и своего толмача, чтобы им беспрепятственно продолжать путь. Купцы весьма обрадовались и благодарили темника.
* * *
Несколько дней, проведенных в городе темника, показались Феодулу и долгими, и темными. Ночь провели в телеге под навесом – отчасти из страха за свою жизнь, отчасти же из опасения за товар, ибо не хотелось по беспечности лишиться ни того, ни другого. Когда настала ночь, Трифон заплакал от страха и слабости, и Афиноген, желая его утешить, дал ему несколько сладких сухарей с вином. Толмач, прибывший с караваном, на рассвете спешно уехал, не сказавши ни «здрасьте», ни «до свиданья».
К середине дня, когда купцы уже терялись, идти ли им дальше, не дожидаясь обещанной охраны, или же терпеливо медлить, надеясь на то, что темник сдержит слово, явился к ним новый толмач – низкорослый, хмурый и немногословный. Зубы у него были настолько мелкие, что даже отсутствие одного из передних не сразу бросалось в глаза.
Он молча обошел телеги, заглянул вниз, пощупал зачем-то одно колесо. Посмотрел зубы верховой лошади одного из купцов – Агрефения Вестиопрата. Тот, в скособоченной шапке на русых, уже редеющих кудрях, так и выскочил – на щеках красные пятна:
– Ты что, нехристь, чужого коня лапаешь?
А толмач отступил на шаг, поглядел на Агрефения пристально, разогнав гаденькую усмешку по углам рта, помолчал-помолчал, а затем вызывающе расхохотался.
– Я толмач, – сказал он, – прислан к вам от темника. Бывали вы когда-нибудь раньше среди великого народа?
(Так монголы обычно именуют себя.)
Агрефений Вестиопрат почесал левое ухо – оно в отличие от правого было у него багрово-синим, точно кипятком обваренным – и ответил, что нет, не бывал. И никто из его путников – тоже.
– А что в телегах? – спросил толмач и бесцеремонно сунулся в первую из них.
– Товар в телегах, – сказал Агрефений. И пригрозил: – Попробуй только укради!
– А, здесь не воруют, – отмахнулся этот новый толмач, который оказался куда хуже прежнего. – Здесь если украдут, то смертная казнь.
Он ухватил себя ладонями за горло, выпучил глаза и высунул язык, проделав все это с устрашающей стремительностью и чрезвычайно искусно, что наводило на ряд далеко идущих выводов.
Затем этот новый толмач усмехнулся и потребовал, чтобы его накормили. Агрефений заглянул к себе в мешок, вынул лепешку, испеченную так, чтобы долго не черствела.
Толмач сунул ее к себе за пазуху и потребовал, чтобы ему также дали красивых одежд – дабы он мог предстать перед владыкой владык без стыда за свою бедность.
Однако в этой просьбе Агрефений толмачу отказал.
Тот же, не смутясь и не обидевшись, сказал:
– Без охраны и без меня не уходите, потому что в трех днях пути отсюда начинаются опасные места, где бродят разбойники.
На это Агрефений ответил:
– С тобою нам нечего бояться, ибо ты, как я погляжу, и сам изрядный разбойник.
Толмач оскалил рот и отошел в сторону. Там он сел на землю, вынул полученную от Агрефения лепешку и начал кусать ее, держа обеими руками.
Караван очень занимал тех монголов, которые не были поглощены работой, а это – почти все мужчины, большинство детей и десяток старух, таких страхолюдных с виду, что Трифон нешуточно их пугался. Все они подходили, трогали телеги, щупали навес, шумно переговариваясь между собой. Они выпрашивали себе любую мелочь, попадавшуюся им на глаза, – гребешки, ремешки, кошельки, ножи, бляхи с одежды; во все тыкали пальцем, на всякий предмет цокали языком и закатывали глаза. Иногда сразу трое или четверо одновременно тянули Феодула за рукав, дергали за ворот, толкали в бок, всяк желая обратить внимание на себя.
Однако толмач, сидевший неподвижно чуть поодаль, время от времени вдруг резко поворачивался в сторону посетителей и коротко, зло кричал на них. Тогда они на время отступались.
К вечеру первого дня явился Константин Протокарав, которого никто из греков не желал иметь своим спутником. Константин сказал, что побывал уже у темника и что тот отрядил его ехать дальше с караваном, поскольку здесь люди одного с ним языка и одной веры. Феодул спросил, как вышло, что Константин успел догнать караван и заручиться поддержкой темника. Константин ответил:
– По наущению и с помощью ангела.
Наутро Константин сказал:
– Мало ли что обещал вам этот язычник, поклоняющийся войлочной кукле! Чтобы не умереть от голода, надо заранее запасти мясо в дорогу.
И взялся привести человека, который продаст хорошего мяса по справедливой цене.
Он ушел и отсутствовал долго. Греки уже начали надеяться на то, что он и вовсе сгинул. Но после второй трапезы дня, называемой в Константинополе «дипнон», а во всех прочих городах «обедом», бывший рыцарь Храма возвратился и привел с собою одного конного монгола. За конным увязалось с полдесятка пеших и еще два верхом. Все они разговаривали о чем-то и громко смеялись.
Призвали также и толмача, который за целый день безделья успел изрядно употребить разного питья и теперь годился только для многозначительных ухмылок, отрыжки и самого простого, незатейливого разговора.
Монгол поначалу все время качал головой и что-то говорил, говорил. Другие монголы, перебивая его встревали в разговор и выкрикивали каждый свое. Толмач время от времени вступал с ними в оживленную перебранку. Наконец толмач сказал, что этот монгол может уступить одну овцу, однако хочет, чтобы греки назначили за нее верную цену.
– Какую цену он счел бы верной? – осведомился Афиноген.
Владелец овцы, болезненно хмурясь, выслушал толмача и опять пустился в долгие рассуждения. Наконец Константин прервал его самым бесцеремонным образом, хлопнув по спине, и обратился к толмачу:
– Пусть для начала приведет сюда овцу.
Толмач сказал это монголу. Тот сперва молчал, как бы не понимая, к чему все это, а затем кивнул и уехал. Прочие монголы остались его дожидаться и, болтая между собой, принялись бродить среди телег и заглядывать внутрь. Наконец монгол вернулся и привез большой мешок с сушеным мясом, нарезанным длинными узкими полосами. То и дело встряхивая мешком, начал длинно разглагольствовать.
Толмач сказал:
– Он хочет за это превосходное мясо двадцать безантов.
Афиноген ответил не дрогнув:
– Скажи ему, что это грабеж.
Некоторое время грек с монголом вели торг через толмача. Другие монголы, наседая на Афиногена, трясли у него перед носом пальцами и задавали целую кучу вопросов, на которые, впрочем, не могли получить ответа. Сошлись на цене в три безанта. Афиноген забрал мешок с сушеным мясом и вручил монголу деньги. Тот сперва долго глядел на монеты в своей ладони, а затем, вдруг непонятно рассвирепев, швырнул их на землю и вцепился опять в мешок.
– Говорит, не хочет денег, – пояснил толмач. – Дай ему лучше материю.
– Гнать его в шею! – вскрикнул Афиноген, весь красный от гнева.
Монгол заплясал на лошади, ударил ее сапогами и погнал прочь. Несколько человек из тех, что явились с ним, укоризненно качали головами и делали грекам разные намекающие жесты, то хватая себя ладонями за шею, то втыкая пальцы себе в живот и издавая при этом ужасный булькающий звук. Наконец и они оставили караван в покое.
Константин плюнул.
– Сорный народ эти монголы, – сказал он в сердцах. – Тьфу!
Только на третий день получили купцы от темника обещанную охрану из десяти монголов, состоявших под началом низкорослого тощего кривоногого человечка с морщинистым, почти черным лицом и тонким визгливым голосом. Кроме того, темник снабдил греков одной козой, данной путешественникам в пищу, тремя бурдюками с вонючим молоком и одним маленьким бурдючком «космоса». Константин все же сторговал у своего монгола мешок сушеного мяса.
Для всех греков и Феодула показалось немалым облегчением покинуть наконец этот шумный подвижный войлочный город, обнесенный вместо стен морями стад.
Быки влекли телеги на север. По пути не встречалось никакого человеческого жилья, и единственным развлечением стали трапезы, вечерние и утренние молитвы, досужие разговоры – да вот еще Константину полюбилось примечать у монголов-охранников и толмача разные обновы, которые прежде принадлежали грекам, а затем без их ведома меняли, выражаясь скотоводчески, свои пастбища и тайно перекочевывали к «народу властителей». Однако с последним обстоятельством ничего нельзя было поделать.
У земляных укреплений, оставшихся в этих краях от прежних, давно сгинувших народов, начинались старые солеварни. Мир выглядел здесь седым и оскудевшим, словно прямо отсюда и начинался конец света. Местные люди жили так, точно одной ногой цеплялись за край бездны и навеки над нею повисли. Посадили их в этой безотрадной земле монголы, дабы было кому блюсти солеварни и брать дань со всех приходящих за солью.
Афиноген показал им полученную от темника дощечку с тигриной мордой и россыпью странных букв. Те признали в ней нечто, чему обязаны повиноваться. Однако повиновались они с великой неохотой и все время разными способами пытались выудить у купцов что-нибудь из их товаров. Когда же они не преуспели в этом, то просто дали еще одну козу и пять бурдюков коровьего молока. Правда, Феодул видел, как монгол с морщинистым лицом, начальник над десятком, уводил из поселка солеваров трех баранов. Но бывший причетник из Акры сильно сомневался в том, чтобы кто-нибудь из греков отведал впоследствии этого мяса.
Так и оказалось. Последующие десять дней купцы жевали то, что удавалось отгрызть с крепких мослов злополучной козы, которая была столь угловата, что при одном только взгляде на нее начинали ныть челюсти.
Коровье молоко худо утоляло жажду, вино сберегалось купцами для иных целей, нежели ублаготворение собственной глотки или, предположим, глотки какого-нибудь Феодула. Воды по пути почти не встречалось, а когда удавалось ее обнаружить на дне какого-нибудь пересохшего русла, то приходилось долго отцеживать грязь.
По правую руку мертво блестело море; по левую простиралась степь. Феодул избегал смотреть по сторонам, ибо при виде моря у него начинали нестерпимо болеть глаза, при виде же степи пересыхало под языком.
Желтые и белые бабочки с большими крыльями, чуть разлохмаченными по краям, сидели на голой растрескавшейся земле, запустив хоботки вглубь, где еще оставалась влага. Спугнутые всадниками, они поднимались в воздух, наполняя его тихим суетливым шорохом.
Теперь путь каравана лежал на восток. Круглое красное солнце каждое утро поднималось прямо перед мордами быков.
Феодул то брел рядом с телегой, то заскакивал в нее на ходу. Пытался спать, но чаще ему лишь смутно грезилось что-то.
И прочие путники тоже то и дело переставали отличать явь от видений. Дабы крепче держаться за сущее и не дать воображаемому завлечь себя в темный сад и пучину беззвездную, они много разговаривали. Говорили о себе, о том, что довелось пережить или увидеть. Пересказывали некогда услышанное от других.
На восьмой день пути приелось слушать, как похваляется доблестью тамплиеров Константин и как бранит он зверонравие магрибинцев. Утомили и воздыханья Феодула о белых башнях Монмюсара и об Акре, где воздух столь влажен и горяч, что загустевает и с трудом входит в горло. История же о том, как Трифон потратил все свои средства на покупку трупа и через это впал в нищету и ничтожество, была заучена всеми его спутниками так крепко, что теперь каждый мог рассказывать ее как свою собственную.
И тогда спросил Феодул у купца Агрефения Вестиопрата:
– Как это вышло, Агрефений, что лицом и телом ты белокож, а левое ухо у тебя темное, точно обваренное?
На это Агрефений ответил:
– В левом ухе помещаются все мои грехи.
О чудесном свойстве ушей Вестиопратов
Почернение левого уха является знаком особенного Божьего благоволения ко всему роду Вестиопратов, поскольку служит залогом спасения их души. А именно: почуяв приближение смертного часа, всякий Вестиопрат немедленно посылает за священником и каким-нибудь верным слугою, ловким в обращении с оружием. После исповеди и отпущения грехов священник благословляет слугу и острый нож в руке его, а слуга с молитвою отсекает умирающему левое уха и таким образом телесно освобождает его от тягости накопленных за жизнь прегрешений.
С отсеченным греховным ухом поступают различно.
Так, черное ухо Льва Вестиопрата, отца Агрефения, бросили в огонь. Агрефений присутствовал при сожжении и видел, как оно горело, сперва только корчась на дровах, а за тем вдруг с воем и свистом вылетев из очага. Охваченной пламенем, оно металось во все стороны, точно обезумевшая птица, источая зловоние и повергая всех бывших при этом в тягостное удушье.
Ухо Фомы Вестиопрата, деда Агрефения, было погребено отдельно от тела, однако в пределах церковной ограды. Священник воспротивился было такому распоряжению (оно исходило от самого Фомы). Однако Фома, и в смертный час не утративший неукротимого нрава и сильной воли, отвечал так: «Неправота твоя очевидна, отче. Когда вострубит архангел и восстанут мертвые на Суд – что с того, что я предстану тогда перед Судией без левого уха? Лучше оказаться в этот час без уха и без грехов, нежели с ухом, но обремененным тягостию содеянного.» Когда Фома Вестиопрат закрыл глаза и голова его затихла на окровавленных покрывалах, священник не решился перечить и выполнил волю умирающего. Могилку, где было закопано ухо, поливал он каждый год на Пасху святой водою. На десятую Пасху по кончине Фомы Вестиопрата на могилке выросли цветы, и священник понял, что находившееся под землей черное ухо расточилось и Фома прощен Господом.
Иначе случилось с прадедом Агрефения, Михаилом. Этот Вестиопрат, младший сын Аркадия Вестиопрата, не унаследовал отцовских денег и потому служил в армии. Он участвовал во всех походах Мануила Комнина и так лютовал над побежденными, что чернота покрыла его ухо уже к двадцати пяти годам. И поскольку Михаил не оставлял ни военного ремесла, ни обыкновения кровавой расправы, то постепенно черные пятна начали проступать у него на левом виске. Затем они перекинулись на левую щеку, так что постепенно Михаил Вестиопрат обрел позорное сходство с прокаженным. Однако соратники не отступались от него и в этом случае, ибо он сумел убедить их в том, что болезнь его – не телесного, а духовного свойства. Духовных же болезней эти нечестивцы не страшились.
Михаил Вестиопрат был убит в возрасте сорока пяти лет 17 сентября 1176 года в кровопролитнейшем сражении неподалеку от развалин замка Мириокефал. Застигнутый врасплох турками на узкой горной дороге, василевс Мануил Комнин бился, как простой кавалларий, а преданная ему гвардия погибала воин за воином: родичи, соратники, друзья… Тут и там мелькало яростное, совершенно черное лицо Михаила Вестиопрата, и страшно сверкали на нем зубы и белки бешеных глаз.
Когда закончилось сражение и кровь потекла в ручьях вместо воды, тела Вестиопрата так и не нашли. Одни говорили, что Вестиопрат бежал. Однако в узком горном проходе это было невозможно. Другие думали, будто турки изрубили отважного комита на куски.
Но правда заключалась в ином. В тот самый миг, когда турецкая стрела впилась в черный, покрытый едким ратным потом лоб, вспыхнула в черствой душе Михаила горячая жалость к себе и ко всем тем, кого он лишил жизни и чье счастье он загубил; представились ему женщины, ставшие вдовами, и нерожденные их дети. Только одно успел шепнуть Михаил: «Боже…» – даже и прибавить ничего не смог. И пал на землю соратник Комнина уже очищенным от скверной черноты, с лицом белым как полотно. Вот почему не признал его никто из тех, кто предавал земле погибших у замка Мириокефал.
Надобно теперь рассказать, как вышло, что Вестиопраты оказались среди прочих греков в своем роде избранным народом.
Пятьсот лет назад управлял Империей нечестивый царь, которого в народе и среди монашествующих вспоминают как Дерьмоименного. Когда его младенцем крестили, он осквернил купель. Подобная выходка не зачлась бы младенцу ради неразумия его; однако впоследствии сделалось ясно, что это было грозным предзнаменованием.
Сей царь-Навозник стал проводить дни свои в душегубительных занятиях, о чем нет ни времени, ни охоты рассказывать – разве что вкратце упомянуть о том, что был он мужеложец и на пиры всегда призывал одного развратного монаха-расстригу прозванием Веселый Батька.
Измыслив завладеть имуществом монастырей, поднял он великое гонение на чернецов, именуя их «мраконосителями» и требуя, чтобы они оставляли обеты и обители свои и совокуплялись браком монах с монахинею. Отказавшихся же совершить такое погребал заживо или лишал языка и зрения.
Затем, сарацински мудрствующе, объявил он, что любое изображение Господа нашего Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и святых есть низкое идолопоклонство. Конечно, сделал он это не из благочестия, а из желания сотворить побольше пакости. Тотчас нашлись и услужливые попы, которые измыслили по сему предмету целое учение.
Коротко говоря, народу было объявлено, что диавол научил людей служить твари вместо Творца и посредством иконопочитания исподволь ввел христиан в грех идолослужения. И оттого было строжайше запрещено устроять иконы, а уже имевшиеся предписано было повсеместно уничтожать.
Жил тогда в Царственном некий Агафангел Вестиопрат, торговец дорогими одеждами, которые подчиненные ему люди возили в разные города и даже к язычникам, а те расплачивались золотом и мехами редких зверей.
Агафангел не всегда был так богат. Заработать состояние помог ему один случай. А именно: отправляясь в земли язычников (это было еще в молодые его годы), просил Агафангел в долг немалую сумму у одного состоятельного грека, ибо был уверен в успехе своего предприятия. Тот поначалу не хотел давать, ибо Агафангел не мог назвать никого из богачей тогдашнего Константинополя, кто согласился бы выступить его поручителем.
Тогда сказал Агафангел:
– На одного лишь Господа уповаю. Пусть Он и будет поручителем моим.
– Но как же мне взыскать с Него долг, если ты разоришься или сгинешь? – спросил богатый грек.
– В Царстве Небесном воздастся тебе, – ответил Агафангел. – Подумай! Ведь если я разорюсь или погибну. Господь воздаст тебе за доброту сторицей. Если же я возвращусь с немалым барышом, то сумею вернуть тебе деньги. Господь же и в этом случае хорошо вознаградит тебя за доброту.
Поразмыслив, богатей счел сделку выгодной, а поручителя – вполне надежным. Он ссудил Агафангелу деньги и тем самым помог и ему, и себе немало увеличить состояние.
У этого Агафангела прозванием Вестиопрат было двое сыновей, Стефан и Никифор. Человек кроткий и богобоязненный, Агафангел весьма чтил и любил иконы, полагая их окнами в горний мир, и всегда принимал причастие, не иначе как предварительно возложив его на руки Иисуса Христа, изображенного на одной особо дорогой его сердцу иконе. И Тогда казалось Агафангелу, что он получает тело Христово как бы из рук Самого Господа, раздающего хлеб евхаристии на последней трапезе с учениками.
А в крестные отцы обоим своим сыновьям Агафангел избрал икону св. Димитрия – ту самую, что источала миро.
И потому указ царя-Навозника был нестерпим для Вестиопрата. Опечалился и старший из сыновей торговца – Стефан. Никифор же, младший, счел доводы иконокластов вполне справедливыми и открыто перешел на сторону гонителей.
Истинно говорится: «Вера вере недруг есть». Поднялась вражда и в доме Вестиопратов. Никифор силою принудил отца и брата выдать царским служителям все имевшиеся у них иконы. Хоть и велико было их горе, однако они вынуждены были подчиниться. В противном случае и лавке их, и всему достоянию, и самой жизни грозила немалая опасность.
Но там, где мужчины покорно склоняют перед обстоятельствами выю, бесстрашие, словно отнятое у недостойного наследство, переходит к женщинам. Спустя месяц или два оказалось, что один маленький образ Богородицы спрятала в своих покоях мать Стефана и Никифора.
Узнав об этом, Никифор рассвирепел.
– Неразумная женщина! – вскричал он, обращаясь к той, которая родила его на свет. – Неужто ты хочешь, чтобы из-за твоего упрямства все мы потеряли зрение, а то и самое жизнь?
С этими словами он выхватил икону из рук рыдающей матери и бросился на задний двор. Стефан побежал за ним следом, надеясь умилостивить жестокосердого брата и выпросить у него пощады хотя бы для этой последней иконки.
Но Никифор уже положил образ Богоматери на плаху как бы для казни и замахнулся на нее топором.
– Остановись, брат! – только и успел крикнуть Стефан, когда топор с маху обрушился на доску.
Стефан пал на колени и стал умолять Никифора отдать хотя бы часть иконы. Но Никифор был непреклонен. Наконец от иконы остались одни только щепочки. Никифор собрал их в кучу и поджег. Только тогда он повернулся к старшему брату и усмехнулся. Затем взял из костра одну малую щепочку, где сохранилось изображение изящного ушка Пречистой Девы, и бросил ее брату. Тот подхватил щепочку с благоговением, поднес к губам и, облобызав, поблагодарил Никифора, называя его своим благодетелем.
Тем же вечером над Царственным разразилась ужасная гроза. Молнии одна за другою вонзались в черные, тревожные воды залива Золотой Рог, и большая цепь, протянутая поперек залива, то и дело с грохотом содрогалась в водной пучине.
Никто не мог спать. Беспокойство снедало семью Вестиопрата. Наконец Никифор сказал:
– Не случилось бы нынче ночью пожара. Пойду распорядиться, чтобы слуги хорошенько облили водой наши склады.
С этим он и вышел из дому, обещав вскоре вернуться.
Но вот уж и полночь миновала, а Никифора ни следа. Решили искать. Разбудили слуг, живших тут же, в доме, запалили факелы. Гроза пошла на убыль. Гром, мешавший говорить и слушать, рокотал уже глухо и отдаленно, но дождь, напротив, только усилился. Взяли плащи с капюшонами; обувь же сняли, поскольку было тепло.
Сперва искали Никифора возле большого дома, затем на улице и, наконец, у склада. Нашли только под утро, когда рассвело и дождь перестал и первые нищие, протирая глаза, начали выползать из своих ночных нор.
Никифор лежал ничком на земле, под дальней складской стеной, в нескольких шагах от торгового порта. Когда Агафангел перевернул младшего сына на спину, он увидел, что тот, убитый молнией, совершенно почернел – и только одно левое ухо осталось у него белым.
Переправа через Танаис. Братья Глеба Твердынича
Медленно, со скрипом тележным, под назойливое гудение насекомых взобрался караван на самую макушку лета.
Впереди, пересекая певучую от сухости землю, лежала широкая река и сверкала нестерпимо, как ртуть. Издалека казалась она живым, бегучим ядом.
Это был Танаис, великая река, с древних времен рассекающая землю на две неравные части: Европу, бедную размерами, но густо заселенную и роскошно украшенную, – и Азию, богатую просторами, но нищую на людей.
Монголы, бывшие с караваном, при виде реки точно обезумели: вдруг разом принялись кричать и визжать и, выпрямив кривые ноги, вдетые в короткие стремена, почти стоя над седлами, полетели навстречу реке.
Не одни только монголы – Феодул тоже ощутил внезапный восторг, увидев широкие, почти неподвижные воды, раскаляемые солнцем. Едва сдержавшись, чтобы не побежать очертя голову к воде, шел Феодул рядом с быком и только дивился бесчувствию скотины, которая и шагу прибавить не вздумала.
Монголы же понеслись по берегу, то почти исчезая вдали, то возвращаясь с разбойничьими кликами.
И вот уже шаг за шагом вырастает перед купцами небольшой поселок, оседлавший оба берега. Жили в поселке люди греческой веры, однако языка не греческого. Поначалу Феодул никак не мог определить, кто они родом, ибо крестьяне повсюду выглядят одинаково. Но потом Трифон открыл ему глаза, сказав в сильном волнении, что люди эти – одного с ним, Трифоном, корня и происходят из Русии.
Пока велись разговоры о лодках и барках, о гребцах и плате за проезд, монголы беспечно галдели между собой.
Какая-то женщина, проходя мимо, чуть замедлила шаг, и немедленно один из монголов выкрикнул на ее языке слово или два. Женщина вдруг пустилась бежать, закрывая рукавом вспыхнувшее лицо. Монголы громко смеялись ей вслед. Потом, когда веселье поутихло, другой монгол нарочито рыгнул, и снова грянул общий хохот.
Между тем Афиноген с помощью Трифона уламывал и улещивал местного старшину, именем Глеб Твердынич. Был этот Глеб невысок, кряжист, с аккуратной загорелой лысиной посреди сероватых жестких волос, остриженных горшком. Глаза он щурил так, что и самого впору принять за монгола, а слова из себя давил – нарочно мучил собеседника.
Поселок устроен по приказанию Батыя, объяснил Трифон купцам, послушав старшину, и служит для весенней переправы через Танаис. Осенью монголы откочевывают к югу, и ниже по течению Танаиса (а он течет с севера на юг) есть второй такой же поселок – для переправы осенней.
– Стало быть, они обязаны нас переправить на левый берег? – спросил Афиноген, теряя терпение.
(Простоватый Трифон изъяснялся так же медленно, как хитрющий рус.)
Твердынич нехотя признал правоту грека. Но тут же потребовал платы, особенно упирая на то обстоятельство, что путники – не нехристи поганые, но чтут слово Христово.
– Заплачу, – сдался Афиноген, видя, что в противном случае сидеть ему с товарищами на правом берегу Танаиса до скончанья веков. – Спроси этого кровопийцу, сколько он хочет.
Настал самый деликатный момент всего разговора. Глеб Твердынич и бороду свою в кулаке тискал, и жевал ее, и уходить пытался, и шапкой бросался, а под конец заявил, что за деньги сам пальцем не шевельнет и другим никому не позволит. Не удостоили бы господа купцы вместо денег сорока локтями шелковой материи?
Афиноген сухо отвечал, что намерен вернуться в монгольское становище и там принести жалобу на урон, понесенный на переправе. Ярлык кстати показал – с тигриной мордой и непонятными закорючками. Твердынич морду враз признал, пощелкал по ней ногтем и сбавил цену до четырех локтей. Как раз одну рубаху, значит, пошить. Исподнюю.
На том соглашение было достигнуто, и как по волшебству откуда-то появилось множество молчаливых сноровистых молодцов. Ловко управляясь с предлинной веревкой, связали две барки между собою. Затем выпрягли быков, а телеги занесли на барки и там укрепили: два колеса на одной, два – на другой. Сели на весла. Один, стоявший на корме, с силой налег на шест, отталкиваясь от берега. Связанные барки медленно развернулись бортом, но тут опустились в воду весла…
Афиноген хмуро смотрел, как удаляется первая повозка с поклажей, и думал о том, что крепко не по душе ему такое, чтобы товар был на одном берегу Танаиса, а он, Афиноген, – на другом.
Не скоро вернулись барки – уже пустые, чтобы взять вторую телегу, а затем и третью.
Монголы из охраны каравана развлекались по-своему.
То заговаривали с русами, по видимости приветливо, но только ради того, чтобы после, когда рус пойдет себе беспечно восвояси, запустить ему в спину камнем. То кричали все разом что-то, от чего принимались хохотать, валясь лицом в конскую гриву. То вдруг начинали скакать по берегу с диким визгом, пугая женщин, полоскавших поблизости одежду. У самих монголов было запрещено стирать одежду и мыть тело, но этот закон родился в безводной пустыне; русы его нарушали без боязни, ибо жили на берегу полноводной реки.
Когда все телеги оказались на левом берегу, гребцы подошли к Глебу Твердыничу и сказали ему что-то неприветливое. Твердынич насупил брови и подступился к Афиногену.
– Говорит, устали людишки, томность их забирает, – сказал Трифон.
– Еще чего! – вспылил тут Афиноген и снова за пазуху полез – тигриную морду вытаскивать.
Глеб уловил его намерение прежде, чем оно осуществилось, и ухватил Афиногена за руку. Прижал эту руку к своей жесткой груди. Убедительно закивал. Мол, понял, в чем грекова боль и душевная его тревога.
Людишки, видать, тоже это сообразили, ибо развязали барки и жестами показали путникам, чтобы те садились.
Монголы спешились, бросив коней. Толмач сказал:
– Быки и кони не пропадут, а на левом берегу лучше возьмем новых.
Афиноген пожал плечами, но решил довериться толмачу.
Мир, если глядеть на него с воды, так разительно не похож на самого себя, увиденного с суши, что Феодул даже рот разинул. Так с разинутым ртом и на берег выбрался.
Афиноген пошел договариваться с русами насчет новых лошадей и быков. Оказалось, что с верховыми и тягловыми животными для путешественников все обстояло хорошо только на правом берегу. Едва лишь купцы оказались на левом, как сразу выяснилось, что переправщики в Батыевых льготах как сыр в масле катаются и никому ничего давать не обязаны. И на то существуют распоряжение и грамотка от самого Батыя.
Задержались в поселке на день. Афиноген с товарищами договаривался насчет животных и пропитания на будущую дорогу. Константин просто так бродил – повсюду любопытствовал.
Трифон вдруг нешутейно затосковал по родному дому и начал поговаривать о том, что хорошо бы ему найти попутчиков и каким-нибудь образом добраться до Киева. Даже толмача о дороге расспрашивать вздумал. Толмач улыбался загадочно, что почему-то усиливало сходство его лица с дыней, цокал языком, усмехался себе в ладонь, но прямо ничего не говорил. Не то дороги не знал, не то хотел Трифону отсоветовать.
Феодулу нравилось, как ведет дела Афиноген. Торговался грек везде и со всеми, однако не свирепо, в меру, не теряя ни в чести, ни в выгоде; действовал таким образом, чтобы угрозы чередовались с дарами и посулами, в полном согласии с законом гармонического равновесия.
Наконец за умеренную плату сторговал связку сушеного мяса, несколько крупных свежих рыбин, выловленных в Танаисе, десяток кругов ржаного хлеба и двух коз, которых предполагалось зарезать уже в пути, обеспечивая себя свежим мясом.
Взяли и лошадей, верховых и заводных, и быков. Все нашлось!
Монголы, завидев рыбу, немало дивились, ибо никто из них рыбу и вовсе за пищу не считал.
Прощаясь с Феодулом и Трифоном – а простоватый отрок глянулся чем-то старшине, – так сказал им Глеб Твердынич:
– Угодить пришлым людям, не навлечь на поселок лишних бед, да еще и себя в обиду не дать – такому не вдруг обучишься. Должно быть, с малолетства я для этого предназначался. Отец мой, хоть и именовался Твердынею, был на самом деле весьма слаб на выпивку. Другая же его слабость заключалась в том, что он чрезвычайно боялся позора. Хоть и была моя мать женщиной тихой, молчаливой и на людях показывалась неохотно, а все же глодала Твердыню жгучая ревность. Как-то раз возвращался он из кружала, изрядно нагрузившись хмельным. Жена, на беду, вышла его встречать, да не одна, а с обоими сыновьями – мною и братом моим Игорем. Отцу же с пьяных глаз помстилось, будто не двое мальчиков рядом с женой, но четверо. Известно ведь, что от хмельного взор двоится. Остановился мой отец, дрожа от страшной мысли: опозорила его жена! Он определенно помнил, что зачал с нею всего двух деток. Откуда же еще двое взялись? Только один ответ приходил в его горящую голову; те двое – нагулянные на стороне, незаконные. Поняв это, закричал мой отец, как олень перед битвой, и бросился с ножом на жениных ублюдышей…
– Убил? – вскрикнул впечатлительный Трифон. Глеб Твердынич кивнул, комкая бороду:
– Определенно. Двух лишних ножом зарезал…
– Как же ты спасся, Твердынич?
Старшина хмыкнул.
– Вот так и спасся. Отец-то пырнул ножом второго – которым я перед его взором двоился… С той поры, видать, и обучился я жить так, чтобы и нашим и вашим…
Феодулу и сам Глеб, и его история очень понравились. Сам Феодул, когда ему это требовалось для дела, умел раздваиваться, становясь то Раймоном, то Феодулом попеременно. Но на самом деле и Феодула, и Раймона он постоянно носил в себе.
Глебова же двойника много лет назад зарезал пьяный отец. Однако и ловок, должно быть, этот Глеб! Феодулу без Раймона пришлось бы куда как туго.
Ересиарх Несторий и погонщик ослов (начало)
Еще десять или двенадцать дней минуло – ничего не менялось в жизни Феодула. Только бык, рядом с которым он шагал, в первые два дня казался новым, а на третий день как попривык Феодул к этому новому быку, то и бык сделался старым – или, точнее сказать, прежним и ничем в этом смысле больше не отличался ни от телег, ни от Афиногена с товарищами, ни от степи, по которой пролегала дорога.
И потому говорить обо всем этом – значит жевать вчерашнюю кашу. Иной раз – в горах, к примеру, или во время какого-нибудь стихийного бедствия – случается, чтобы неживое окружение было интереснее путника. Чаще же, напротив, путник интереснее природы. А в истории Феодула не в первый раз выпадает такой день, когда ни путники, ни природа никому уже не любопытны. И тогда настает самое время вспомнить о том, что на Феодуле, затерянном в степях между Танаисом и Итилью в лето благости Божьей 1252-е, свет клином не сошелся и что, если поискать, сыщется кто-нибудь поважнее этого Феодула.
Случается, торговая надобность заведет человека в чужие края; бывает, что пустится некто в странствия как бы в погоне за собственной душой. Нестория же загнали в пустыню египетскую недобрые люди и злая судьба. Итог вроде бы тот же самый, но путь, пройденный неволею, еще и годы спустя скрипел на зубах песком и отдавал под языком горечью.
Привезли его в Хибу два усталых преторианца в пыльных сапогах – привезли и бросили, оставив ссыльному немного денег, узелок с пожитками и письмо для местного губернатора. С этим письмом и предстал Несторий перед римскими властями.
Был он уже немолод. Мягкие волосы даже и теперь, когда их присыпало сединой, сохраняли отблеск былой рыжины. Большие, светлые, точно отцветшие глаза как-то нелепо выглядели на маленьком, собранном в морщинистый кулачок лице.
Губернатор только махнул рукою:
– Поселяйся, где хочешь; народ не мути – вот и будешь цел. Мне же до тебя дела нет, старик.
И вот поселился Несторий в кособокой хижине, где до него обитал какой-то другой горемыка. Взял оставшиеся от прежнего хозяина вещи – посуду, одеяло из верблюжьей шерсти, корзину с крышкой, что была подвешена к потолку и где обнаружился крохотный окаменевший хлебец; присовокупил к найденному имуществу свое – и зажил.
Оазис худо-бедно кормил нищего. Питья и еды старику требовалось немного, одежды вообще не требовалось – донашивал старое. Чем он целыми днями там занимался, в своей хижине, – один Бог ведал. Мудрецом отнюдь не слыл, невзирая на почтенный возраст, так что ни за житейским советом, ни за наставлением к нему не ходили.
Так и сменялись дни, и вот однажды в сиротском доме старика появился второй человек. Звали его Мафа.
Был Мафа погонщиком ослов, и вот один хозяйский осел издох самым неожиданным образом. Зная за собою некоторые прегрешения против господского имущества вообще и против этого издохшего осла в частности, Мафа не стал дожидаться суда над собою и бежал. Ибо суд, в особенности справедливый, означал бы для него одну только расправу. Оправдать Мафу мог только неправедный суд. А на неправедность такого рода бедный Мафа рассчитывать никак не мог.
Бросив все, он убежал в пустыню, и поскольку был варваром, то и не погиб под палящим солнцем и в безводье выжил и через некоторое время вышел к Великому Оазису Каргех, выбрал там хижину, на вид необитаемую, забрался туда и заснул мертвым сном. А Нестория, лежавшего возле стены, он принял за груду изношенного тряпья.
Впоследствии оба дивились ошибке Мафы и немало над нею потешались. Несторий разгонял к вискам морщины и еще больше светлел глазами; Мафа скалил людоедские зубы и сверкал белками вытаращенных глаз, а после запрокидывал лохматую голову и с тонким подвывом смеялся.
Лицом и телом черен был Мафа, как сажа; душою же пуст и бел. Вместо волос под мышками у него росли маленькие крылья; однако летать он не умел. Мафа был ленив и многого смертельно боялся: темноты, пауков, полнолуния, римских властей, соседку по имени Сира – обладательницу трех костлявых коз и огромных, как дыни, грудей; грозы, сборщика податей, внезапной смерти, дурного глаза и вещих снов, которых он видел самое малое по два в неделю.
Но больше всего страшился он хозяина павшего осла. И сколько ни твердил ему Несторий, что не станет человек пускаться в опасный путь через пустыню на поиски какого-то погонщика ради пустого удовольствия переломать ему кости, – все было тщетно: Мафа день и ночь трясся от страха.
Как-то раз проснулся Мафа среди ночи и начал биться головою о стену хижины со стенаниями.
– О-о-о! О-о-о! – выкликал он протяжно.
И крылья у него под мышками совершенно взмокли от пота.
От этих стонов Несторий тоже пробудился, сел, выпил глоток воды и сказал:
– Следует хорошенько запомнить, Мафа, что образы сновидений входят в душу от шести различных причин. Иногда сны рождаются от полноты желудка, иногда – от пустоты его; иногда от наваждения диавольского, иногда от размышления; случается, что от откровения, а иной раз от размышления и откровения совокупно. Не о таких ли, как ты, Мафа, сказано у Проповедующего: «Приходит соние во множестве попечения?» Берегись, Мафа, дабы через духа-обольстителя не впасть тебе в пустые мечтания!
– Уй! – вымолвил Мафа. Он перестал плакать и теперь глазел на Нестория, вывесив широкий розовый язык. Видно было, что старик и восхитил его своей речью, и успокоил. Видно было также, что Мафа ничего из этой речи не понял.
С той поры они, случалось, подолгу беседовали.
Мафа вспоминал своих ослов и разные смешные случаи. Говорил он взахлеб, на смеси десятка языков, из которых Несторию были знакомы лишь латинский, искажаемый Мафой почти до неузнаваемости, и отчасти бедуинский, которым в оазисе Каргех говорили многие. Мафа сильно размахивал руками и часто останавливался посреди рассказа, чтобы захохотать.
Потом наступал черед Нестория. Мафа оповещал его об этом, внезапно умолкая и уставляясь на своего собеседника вытаращенными глазами. Тогда Несторий рассказывал о том, как некогда был архиепископом великого города Константинополя.
– Я гнал еретиков-ариан, – говорил Мафе Несторий, сидя на глинобитном полу своей хижины и обхватив руками колени. – Их много еще оставалось в столице, исповедующих неправо об Иисусе Христе. «Государь! – сказал я императору, когда предстал перед ним впервые. – Дай мне чистую землю, без еретиков, и я введу тебя прямо на небо!» Я закрыл арианскую церковь, полагая, что незачем рассаднику лжи находиться в столице. Она была еще недостроена… Еретики подожгли ее. Выгорел целый квартал, и вот уже простоволосые бабы кричат мне на улицах Города: «Поджигатель! Поджигатель!» В Сардах и Милете еретики подняли бунт, и пролилась кровь. Ах, как я скорблю об этом, брат мой Мафа! Но и посейчас в том своей вины не знаю… В Геллеспонте был убит мой верный соратник, епископ Антоний. Молись за него! Я хотел чистоты и любви. Но, Мафа, узнай вот что: такова глухота человеков, что и громко выкрикнутого слова могут не расслышать. Как же яростно бушует в крови приверженность к суетному! Шум этой крови заглушает для людей и зов любви, и разумное слово…
Тут Мафа решал, что пора поддержать разговор, и, быстро кивая, принимался верещать о своем. Несторий же умолкал и погружался в невеселые мысли.
Духовной отчизной его была Антиохия, где слыл Несторий человеком ученым и благочестивым, как бы вторым Златоустом. Когда призвали его в Константинополь и поставили там на епископской кафедре, решил он сам для себя: настало время! И начал учить.
– Знаешь ли ты, Мафа, – говорил он задумчиво, обращаясь более к своим худым коленям, нежели к чернолицему и дикому собеседнику своему, – что Господь наш Иисус Христос есть в одно и то же время и Бог, и человек? О! Меня обвиняли, будто я учил о двух Христах! Какая ложь, какая клевета! Не я ли говорил и повторю сейчас перед тобою, что Христос есть и младенец, и Господь младенца! Другое следовало понять: как совмещались в одном личном уме осознание себя и младенцем, и Господом этого же самого младенца?
Нередко посреди разговора в хижину заглядывала толстая Сира. Иногда она приносила старику молока, иногда вступала в яростную перебранку с Мафой, которого неизменно обвиняла в какой-нибудь мелкой краже. Мафа охотно пускался в объяснения, находя тысячи причин для исчезновения пшеничной лепешки, оставленной без присмотра. Случалось часто, что Сира, не дослушав, принималась бить Мафу, а тот, закрывая голову ладонями, сучил ногами и жалобно кричал. Но Сира не унималась, пока из носа у Мафы не начинала течь кровь. Только тогда отступалась, обтирая кулаки об одежду.
Однако едва лишь Сира исчезала за ветхой циновкой, закрывающей вход в хижину, как Мафа подбегал к порогу и, высунувшись наружу, начинал выкрикивать ей в спину обидное. Потом поворачивался к Несторию и со смущенной усмешкой пожимал плечами.
Несторий, дождавшись тишины, продолжал:
– Итак, Мафа, мы установили, что слово «Бог» означает божеское естество; «человек» или «младенец» – человеческое; в слове же «Христос» оба естества едины. Смотри. «Иосиф взял Младенца и Матерь Его и пошел в Египет». Вот точная формулировка. Но можно также сказать: «Иосиф взял Христа и Матерь Его…» Это будет верно. Однако невозможно сказать: «Иосиф взял Бога и Матерь Его…»
Мафа что-то лопотал в ответ и, чтобы сделать Несторию приятное, смеялся.
– Однажды в Константинополе явилась ко мне толпа разъяренных монахов, – повествовал Несторий, следя глазами за Мафой, который – руки врастопырку, чтобы не прели крылья – ходил взад-вперед по хижине. – Они были недовольны мною – мною, епископом! – о чем принесли гневное письмо, которым размахивали перед самым моим носом. Я взял это письмо и порвал его, а монахов велел высечь… Но вместо того чтобы извлечь для себя из этого пользу, они ужасно завопили и сделались злейшими моими врагами… Недолго собирал я недругов. Четырех лет не прошло, как низложили меня и лишили сана, а это – человекоубийство, ибо никто не бывает рукоположен дважды.
О чем следует рассказывать, а о чем предпочтительнее умолчать? Иной раз мы и сами удерживаем себя за руку со словами: умолкни, жена, ибо не было тебя при том, как шли враги Нестория с радостными криками, с горящими во тьме факелами, танцуя от общей радости и крича: – Проклят! Проклят! Проклят!
– Возвеселися со мною, пустыня, подруга моя, прибежище и утешение мое! – нараспев говорил старик, невидяще глядя перед собою отцветшими голубыми глазами.
И, слушая его, подпевал Мафа без слов, одними губами, и выстукивал тихий ритм пальцами на своем черном надутом животе…
Город Сартака на Итили
Итиль – река широкая, величавая, изобилием вод соперничающая с морем. Сколько же влаги собралось далеко на севере, откуда истекла столь могучая река! О том даже задумываться страшно.
Удивительно также, что две столь великие реки, как Итиль и Танаис, отстоят друг от друга всего на две седмицы пути, да и то если передвигаться быками. Это свидетельствует о расточительном изобилии земли, которую захватили монголы.
На берегу Итили в ту пору стоял лагерь, или, вернее сказать, – город Сартака, владыки над здешним краем.
Монголы из охраны каравана, видя впереди белые сверкающие Сартаковы шатры, завопили вдруг все разом и понеслись вперед, ударяя в бока лошадей ногами, вдетыми в короткие лохматые стремена. Толмач проводил их взглядом, однако остался при греках.
Первым делом, оставив телеги поодаль от Сартакова двора под присмотром младшего из купцов, отправились Афиноген и прочие к одному монгольскому чиновнику, именуемому «ям». Этот чиновный монгол, пояснил толмач, принимает каждого, кто прибывает к владыке Сартаку: послов, торговых людей, проповедников, попрошаек, русских князей, сельджукских султанов и других вассалов великого хана, которые приходят к сюзерену за какой-либо надобностью. Ям выспрашивает вновь прибывших, какое дело привело их сюда, какими дарами желают они поддержать свои слова, какими грамотами и письмами от земных владык располагают и каковы их намерения в дальнейшем. Затем он наставляет их в пристойном поведении, ибо монголы чрезвычайно ревнивы во всем, что касается соблюдения их обычаев.
Так, запрещается сечь ножом огонь, дабы не отсечь ему ненароком голову; нельзя стирать платье, но надлежит носить его, покуда оно не износится; возбраняется опускать руки в проточную воду; мочиться на пепел и убивать молодых птиц; запрещено касаться стрелой связки стрел и еще – ступать ногой на порог чьего-либо дома, но надлежит этот порог перешагнуть с осторожностью; кто за едой поперхнется, тот должен быть убит, как и тот, кто подсматривает за поведением другого или лжет.
И еще множество других обычаев и запретов существует у монголов.
Город Сартака был в несколько раз больше первого монгольского города, увиденного Феодулом. На несколько миль вытянулся лагерь вдоль полноводной Итили, однако не на самом берегу, а в некотором отдалении от нее, словно монголы, не слишком доверяя воде, не желали останавливаться чересчур к ней близко.
Афиноген, взяв с собой толмача, отправился через весь бурливый монгольский град к этому яму, который ведает приезжими, – представиться, показать дощечку с тигром и просить, чтобы Сартак их принял. Толмач с утра был уже не вполне трезв, а к середине дня его и вовсе развезло, вследствие чего греки были немало опечалены.
Конные и пешие монголы, шумно галдя, передвигались повсюду. Ходили безобразные с виду женщины в головных уборах, похожих на сплетенные из прутьев птичьи клетки, носились чумазые вертлявые дети с бубенчиками, привязанными к запястьям и щиколоткам. Эти постоянно вертелись возле купцов, издавая непрерывные пронзительные вопли и дико хохоча. Их цепкие ручонки то и дело впивались в чужестранцев – норовили оборвать с одежды пуговицы, пряжки, нитки, пояса.
Феодулу так и не довелось поглазеть на яма – сдуру проспал. Плюясь на собственную неудачливость, пожаловался Константину Протокараву, но тот только хмыкнул:
– Воистину, ты – глуп, Феодул, если из-за такой малости впадаешь в огорчение! Сдался же он тебе, этот ям! Обыкновенный монгол с плоской рожей. Вот послушай лучше, с кем бы тебе хорошо здесь повидаться: у Сартака гостит сейчас один русский князь!
– Откуда ты только все знаешь! – сказал Феодул. – Никто из нас еще и по сторонам оглянуться не успел, а ты уже и про яма разведал, и про какого-то князя разнюхал!
– Невелика премудрость, – отвечал Константин. – Пока вы, греки, раздумываете да созерцаете, мы, люди латинской веры, осматриваемся да смекаем.
Феодул счел объяснение вполне разумным и мысленно попенял себе за то, что сам не воспользовался этим латинским уменьем. Однако тратить время на сокрушенные раздумья не стал, оставив это своей греческой половине, а вместо того деловито осведомился о русском князе – кто он и какая от него возможна польза.
– Ни тебе, ни мне от него пользы не будет, – сказал Константин. – Разве что любопытство удовлетворим да синяков от него, быть может, огребем. А вот нашему Трифону, возможно, выпала удача. Если попадется князю на глаза и при том ему глянется, может быть, заберет его князь с собой в Русию. Только вот как ему глянешься? По слухам, человек он лютости необозримой.
Говорят, что никому, если только он сам не монгол, не дано заглянуть в душу другого монгола. Надежно скрывается эта душа под тяжелыми веками либо за выбритым по-китайски лбом, а то и в груди под грязным шелковым халатом. А если монгола убить и как следует поискать, то зачастую оказывается, что у него никакой души и вовсе не было. Или обнаружится в виде безобразного старичка, сидящего на корточках под левым локтем трупа. Посидит-посидит да и расточится, только лужица после него останется. Редко случается, чтобы душа мертвого монгола являлась в виде прекрасной и страшной девы. Да и то впоследствии непременно отыщется у нее на ноге копытце или козий хвостик.
Это еще что! Константин знавал одного греческого кормщика, именем Косма, а этот Косма целовал крест, что некий тамплиер именем Уинифрид, быв среди монголов и изрядно с ними знаясь, видал однажды в степи сорок одного колченогого карлика, ковылявших один за другим, причем последний из них был кривым на левый глаз.
Из всего вышесказанного явствует, что душа любого монгола – сущие потемки для христианина. Иное дело – душа собрата по вере, будь он даже и князем, да еще такого нрава, как этот русский. Протокарав, которому помогал ангел, разглядел ее сразу, а Феодул – спустя несколько часов и вынужденно щурясь.
Звали князя Александром – имя простое и понятное, как для греков, так и для латинцев. Впрочем, латинцев этот Александр сугубо не любил.
Душа так и заявила. И еще грубость присовокупила к уже сказанному.
Феодул с Константином только плечами пожали.
Тогда душа Александра немного смягчилась и снизошла: угостилась вином, которое купцы везли из Царственного и от которого Феодул немного похитил для благого дела.
– Доброе вино, – молвила душа князя и, прежде чем выпить, перекрестилась. – Ихнее-то монгольское пойло тухлятиной отдает и псиной…
– Здоров будь, княже, – кивали Феодул с Константином, – пей, пей на здоровьице…
И подливали душе, подливали…
Обличьем была душа точь-в-точь сам князь Александр: огромного росту, с русой бородой и стриженными кружком, под шлем, густыми светлыми волосами. Был этот князь плечами широк неимоверно, но костляв как смерть и слегка сутулился.
Принимала княжья душа виноградную кровь легко, однако не весело; только глаза все светлее становились, а так – даже румянца на бледном лице не проступило.
И постепенно Феодул с Константином все больше узнавали о князе, чье тело эту душу в себе носит, и все холоднее им становилось.
К монголам князь Александр прибыл из полночной страны, где полгода светит солнце, а другие полгода царит луна. Такой день, который длится целый год, в полдневных странах называют «Днем Бога». А еще говорят, что там – родина ангелов, только сейчас их там нет.
В год Благости Господней 1240-й благочестивые братья Ливонского Ордена пытались сесть в устье Невы, именно там, где сотни лет назад стояла уже латинская твердыня названием Ландскруна. Если разрыть на том месте землю, то можно выкопать те зубы, что потеряли здесь шведские рыцари в страшную цинготную зиму.
Иной князь так бы и поступил; однако Александр явился в устье Невы с ратью и засеял старую почву новыми костями.
Монголы же, пройдя в тот год степями и разорив Рязань и Киев, вышли за пределы русских земель и вторглись в гордую Польшу и колбасную Силезию. Они подвергли поруганию Люблин и Краков, кровавым гребнем прочесали Моравию, продвигаясь все дальше на запад.
Тут уж ливонцы вынужденно оставили владения князя Александра и спешно двинулись вослед монголам. В начале весны 1241 года по Воплощении цвет Ордена пал в Силезии. Монголы отрезали у каждого из убитых врагов по одному уху и сложили эти уши в большие мешки; всего же таких мешков собралось девять.
Спустя несколько дней после этого Батый разбил воинственных венгров, напоив их кровью реки Тису и Солону.
Богемский король Вацлав храбро бросился на монголов, но те словно бы и не заметили его. Времени на осаду городов монгольские всадники не тратили: шли как нож сквозь масло прямо на Пешт.
Пешт пал, и все лето 1241 года монголы разоряли Венгрию, как им хотелось. Венгерский король Бела бежал в Хорватию и оттуда разослал отчаянные письма всем владыкам франков, чьи имена только смог припомнить.
Император Священной Римской Империи Германской Нации Фридрих – самый могущественный из светских владык Европы – был злейшим врагом господина Папы Римского Григория, величайшего из владык духовных. Оба они, получив послания Белы, одновременно воззвали к латинскому рыцарству, заклиная спасти Польшу, Богемию и Венгрию от монгольской саранчи.
Фридрих писал так:
«Святейшим нашим долгом почитаю ныне поднять меч в защиту братьев наших, тяжко страждущих под пятою безжалостного завоевателя – безбожного и страшного Батыя. Но вместе с тем не посмею умолчать и о другом, что знаю: ненасытная жадность Папы непременно побудит его воспользоваться бедствиями собратьев по вере, дабы простереть не только духовную, но и светскую власть своего престола на все страны, заселенные христианами».
Папа же Григорий писал иначе:
«Новый враг появился у христианской веры – монголы! Нет выше благодати, нежели счастье отдать жизнь за ближних своих. Изнывает ныне Богемия, истекает кровью Польша, взывает о помощи Венгрия! Однако остерегайтесь не только явного врага, но и волка в овечьей шкуре. Не по наущению ли императора Фридриха произошло это ужасное нападение? Не вздумал ли теперь злой христопродавец притворным благочестием прикрыть свое гнусное преступление? Ибо известно, что ради своей цели он способен на все; цель же его очевидна – полное и окончательное крушение христианской веры».
Тем временем настала зима. В декабре 1241 года монголы по льду перешли Дунай и вторглись в Хорватию. Бела бежал в Далмацию, а оттуда – на один из островов в Адриатическом море.
Сбитое с толку взаимоисключающими письмами Папы и императора, латинское оружие безмолвствовало всю зиму и лишь в начале апреля 1242 года вышло из ножен. Однако направлено оно было не против монголов, которые казались владыкам Запада слишком сильным противником, а против русских на Севере, ибо те упорно держались греческой веры и оттого считались схизматиками, достойными истребления.
Князь Александр пришел на эту встречу с новой ратью, еще крепче прежней, и вступил в бой с таким расчетом, чтобы завлечь тяжелую рыцарскую конницу на слабый уже лед Чудского озера.
Тут оно все и случилось. Весенний лед ненадежен. Сперва потрескивал, а затем со страшным громом разломился и зубастой пастью сжевал тевтонских латников.
А князь стоял на берегу и смотрел. И шлем с золотых волос снял – жарко ему от увиденного стало…
Слух об этой битве достиг и Батыя – Александр был его вассалом. Призвал к себе – захотел посмотреть на такого лютого князя.
Александр явился к Батыю, едва позвали, и сразу пришелся ко двору. И дивен, и люб он монголам оказался. Хоть ростом и костью сильно разнился он с сеньором, однако холодным, расчетливым умом был ему неожиданно близок, точно по ошибке вышли они с Батыем не родичами.
В знак большого расположения поил Батый Александра безмерно кислым молоком и молочной водкой, отчего русский князь подолгу маялся животом. И всякий раз заставлял его Батый рассказывать о Ледовом побоище. Здесь уж монгольский хан, как ребенок, заранее смеялся от радости, хлопал в ладоши и нетерпеливо кусал тонкий ус в ожидании слов: «Весенний лед ненадежен. Сперва потрескивал, а затем со страшным громом разломился…» – эти слова были у Батыя в Александровом рассказе любимыми.
Спустя четыре года вот что случилось. Умер великий хан, и всех монгольских вождей позвали в глубь степи, в Каракорум – избирать нового. Батый не поехал, сказался больным и в письме преобильно жаловался на ревматизм. Знал, что в Каракоруме поджидает его слишком много врагов. Вместо себя Батый отправил своих старших вассалов: великого русского князя Ярослава, сельджукского султана Арслана, грузинского царя Давида и еще царя Малой Армении.
Не зря Батый ехать не хотел: не смогли избавиться от сеньора, так отравили славнейшего из его вассалов, Ярослава. Умер великий русский князь на обратном пути из Орды.
И остались после него многочисленные сыновья, из которых старшим был Александр, а вторым – Андрей.
Андрей успел раньше: беличьим мехом, ловчей птицей, перстнями, оружием варяжским прельстил Батыя и склонил его передать великое княжение ему, Андрею. Александр же остался у себя, в стране, которую некогда покинули ангелы.
В лето 1252-е пришел князь Александр Ярославич в Орду к хану Сартаку, Батыеву сыну, и хан принял его с великой честью. И жаловался Александр на брата своего, великого князя Андрея. Прельстил дарами Батыя и взял великое княжение – а ведь он, Александр, старший! А между тем дурным вассалом Андрей оказался. Налоги и дань монголам платит неисправно, многое утаивает, а то и вовсе к себе в карман кладет.
Услыхав такое, хан Сартак разгневался на Андрея и отправил к нему во Владимир войско.
Андрей, вместо того чтобы повиниться перед ханом, бежал, И взяли монголы недоплаченное, разграбив Владимир и Суздаль.
Тем временем Александр оставался при Сартаке и ждал, пока монголы сами предложат ему великое княжение как достойнейшему.
Холодом окатывало Феодула от всего этого; Константин же дрожал, как в горячке, едва зубами не перестукивая, и зрачки его глаз то расширялись, то сужались.
И когда душа князя ушла, твердо ступая и сутуля плечи, сказал Феодул Константину:
– Завтра нужно будет разыскать этого Александра, броситься ему в ноги и просить, чтобы он забрал с собой во Владимир нашего Трифона. У такого человека и собаки сыты, и последний раб судьбой доволен.
Однако выполнить задуманное оказалось не так уж и просто. Князь Александр безвылазно сидел у Сартака в шатре, ел там и пил и бил себя ладонями по коленям, когда монголы принимались орать свои странные песни. Говорили, что Сартак из любезности хотел дать русскому князю наложницу из монгольских девушек, чтобы не жить гостю в Орде без утехи, однако князь Александр отказался, сославшись на обычай своего народа жену блюсти, женища же не имать.
К ночи подстерегли Константин, Феодул и дрожащий от неизвестности Трифон русского князя, когда тот выходил из шатра. От выпитого был Александр так бледен, что лицо его светилось в темноте. Вокруг рыхлыми тенями бродили и бормотали князевы спутники – русские и монголы.
Тут и метнулся вперед Константин, заранее крича во все горло:
– Смилуйся, княже! Смилуйся, княже!
Кричал он по-русски: его этим словам обучил Трифон, который сам подходить к князю боялся.
Александр остановился. Свита его угрожающе роилась во мраке.
– Кто здесь? – спросил князь, не возвышая голоса.
Тут Феодул схватил Трифона в охапку и потащил его вперед, но наткнулся на чью-то твердую грудь и ощутил, как клещами впились в него руки.
– Стой! Куда налез?
И тотчас со всех сторон потянулись липкие от кумыса пальцы, стали драть Феодула за волосы.
– Иди, Трифон! – сказал Феодул, покоряясь поймавшим его.
Трифон закричал что было сил, срываясь и взвизгивая:
– Княже, княже! Смилуйся, возьми меня на Русь!..
– Да отпустите же их, – сказал князь.
И добавил то же самое по-монгольски.
Костер у князя в лагере уже погас. Развели пожарче. Монголы, быстро соскучившись, разбрелись. Трифон, не отлепляясь от князя ни на шаг, все плакал и просил забрать его на Русь.
Александр сказал:
– Сперва мне должно узнать, кто ты таков. Если из пленников ты, которых Батый увел из Киева, то придется выкупать тебя у монголов, а я нынче не за выкупами приехал, мехами, тканями и медом не запасся. Выкрасть же тебя я не смогу.
– Нет, нет! – горячо молвил Трифон. – Я свободный человек, купеческий сын, а в ничтожество впал в Константинополе, где все свои деньги отдал на покупку одного трупа…
Слушал Александр, посматривая то в огонь, то на Трифона, а из светлых глаз князя выглядывала ледяная его душа и словно бы спрашивала у Феодула: «Что, Феодуле? Думаешь, задачу ты мне задал?»
И Феодулу думалось: если подольше смотреть в эти глаза, то в конце концов увидишь, как крошится лед Чудского озера под ногами обезумевших коней.
Вот так и случилось, что жизнь Трифона круто повернулась еще раз и пути его отошли от путей его спутников.
Кто солгал, вспоминая Владимирское разорение? Спустя месяц никто уж не мог докопаться до правды: погребена под пеплом, истаяла в горьком воздухе.
Кто видал великого князя Андрея Ярославича, который загодя знал, для чего старший брат поехал в Орду к Сартаку? Если кто и видал, то давно уже помер; а рассказывали, будто вскричал великий князь:
– Господи Сущий! Доколе браниться нам между собою? Доколе будем травить друг друга монголами, точно голодными псами? Лучше не быть мне великим князем во Владимире, чем пить из одной чаши с погаными!
И бросил шапку об пол.
Княгиня – в слезы и за детей. Растопырила над ними руки, точно курица, по лицу крупный жемчуг пустила. Что ты такое говоришь, Андрей Ярославич!
Однако Андрей знал, что говорил, и ведал, как поступать надо. Бежать надо!
Монголы настигли его у самого Переяславля и разбили наголову. После победы, по монгольскому обыкновению, разделились на малые отряды и принялись рыскать по переяславской земле, многое ругание там творя. Князь же Андрей с княгиней и детьми прошел сквозь эту частую сеть мелкой рыбицей и ускользнул от злой погибели.
Монголы вошли в город Переяславль, где сидел младший брат Андрея и Александра – Ярослав Ярославич. Самого князя там не нашли, но жену его, княгиню, убили; детей же Ярославлевых забрали в плен.
Андрей, все бросив, поселился в Риге изгнанником.
Вот тогда-то Александр и вернулся на Русь с ярлыком на великое княжение Владимирское. Встречали его во Владимире колокольным громом. Сам митрополит вышел навстречу, неся крест и выпевая славу. Люди, не помня себя, плакали и тянули к Александру руки. Он же медленно ехал на своем коне драгоценных «небесных» кровей и сам был огромен, светел и хмур.
Трифон, сидя на лошади позади одного дружинника, озирался по сторонам с видом глупым и диковатым. Кое-кто в толпе показывал на него пальцем и говорил:
– Этот – из русских полончан, которых князь Александр вызволил из монгольской неволи. Смотрите, смотрите, что злые нехристи с человеком сделали!
А у Трифона все так и мельтешило перед глазами, и было тесно ему от множества людей, коней, зданий, крестов и хоругвей, ибо в степи он от всего этого отвык.
И еще дивны показались ему княжеские палаты, стоящие на высоком берегу реки Клязьмы. Далеко видать из узорного окна. В самих палатах малолюдно; частью белые они, как лебедь, а частью черные от дыма, как ворона. И многое было там разграблено.
Пришел босой мальчик и сказал Трифону:
– Тебе князь велит в баню идти, а после чистое надеть, что дадут. Говорит, тебя при себе оставит.
Александр и вправду оставил Трифона при себе – за глупость, поскольку Трифон от нехватки ума всегда говорил правду и о людях судил беспощадно и искренне. Только князя своего никогда не осуждал, ибо любил его – крепко и с каким-то необъяснимым страхом.
Феодул, следуя вместе с купеческим караваном, снова ехал навстречу солнцу, поскольку Сартак повелел грекам предстать перед отцом его, ханом Батыем. Батый и был главнейшим владыкой этих земель. Толмач при караване остался прежний, а охрану дали другую.
Под утро, перед тем как каравану отправиться в путь, явился один чиновный монгол и с весьма озабоченным видом подступил к телегам греков. Афиноген тотчас приветствовал его как можно вежливее и спросил, каких благ тот домогается. Монгол через толмача сказал, что намерен одну из телег с товаром оставить для Сартака – дабы тот лучше ознакомился с намерениями купцов. Афиноген сказал:
– Мы поднесли уже надлежащие дары твоему господину, и он остался ими доволен, а нам дал грамоту, где разрешение и вместе с тем повеление ехать к отцу его, хану Батыю.
– А! – молвил монгол, нимало не смутясь. – Если ты хочешь оставаться в нашей стране долго, то учись терпению! Ты привез эти товары к Сартаку, а теперь вдруг вознамерился везти их к Батыю!
– Ступай откуда пришел, – отозвался Афиноген и достал табличку, полученную от Сартака. – Я знаю, что у монголов есть правосудие!
Монгол проворчал что-то и действительно ушел, а Афиноген стал торопить товарищей, желая как можно скорее покинуть двор Сартака. Толмач все это время тянул из мешка, смердящего козлом, кислое молоко – и откровенно ухмылялся. Его насмешила стычка Афиногена с посрамленным чиновным монголом.
Ересиарх Несторий и погонщик ослов (окончание)
Варвары с верховьев Нила – чернее дьявола, в одеждах белых, со сверкающими глазами – таким предстало Великому Оазису Каргех однажды утром разорение. Вот когда понял Несторий, что и от дьявола иной раз не отвести порабощенного взора! По-обезьяньи ловкие черные руки стремительно обшаривали дома и хижины, цепко хватая любую мало-мальски ценную вещь и пряча ее в бездонные недра, таящиеся под складками просторной одежды; а длинные копья со связками пестрых перьев под наконечником сгоняли людей на площадь у колодца – бежали, спотыкаясь, под белозубый смех и крики и так, прямо на бегу, из граждан превращались в пленников – плачевнейшая участь! В толпе Несторий сразу потерял из виду верного своего Мафу. Бедный погонщик ослов, должно быть, совсем обезумел от страха, вообразив, что это злой хозяин выследил его и настиг и ныне явился покарать за утерянную некогда скотину.
В плотно сбитой толпе Несторий оказался среди незнакомых людей. Ни на одном из лиц не отдохнуть глазу. Вокруг, вздымая пыль, топчутся длинные ноги верблюдов. Всадники, скорчившиеся на горбу, что-то кричат тонкими, злыми голосами. Поначалу Нестория только мотало среди шатающихся людей, но потом вдруг дернуло и повлекло куда-то, и он побежал, то и дело оступаясь и норовя ухватить соседа за одежду, чтобы не упасть.
Оазис почти сразу скрылся из виду, и наступила пустыня, где рассвет как апокалипсис, а раннего солнца и поздней луны можно коснуться рукой. Тени под ногами становились все короче, и Несторий догадывался, что варвары гонят пленных на юг. Днем полон молчал, по ночам же, когда наступало облегчение, принимался причитать и плакать.
– На Господа, дети, мое упование, – говорил им Несторий, – ибо вверг нас в пустыню по грехам нашим, но освободит по бесконечному милосердию Своему…
И хотя чудаковатого старика никто толком не понимал, ибо римская речь, даже и с примесью сирской, здесь звучала как малоосмысленный лепет, все же прислушивались к Несторию и согласно кивали его словам. Он единственный из всех не боялся и, казалось, знал, как поступать. И кое-кто подходил к нему с вопросами, настойчиво дергал за одежду, что-то показывал, махая то в одну сторону, то в другую, и повторял по нескольку раз одну и ту же фразу с вопросительной, даже какой-то визгливой интонацией. Не понимая, чего хотят от него все эти перепуганные люди, Несторий возлагал скрещенные ладони им на курчавые головы и призывал Духа Святого пролить свет на окутавшую их тьму. И полоняне уходили от него, преисполненные благодарности.
Настал третий рассвет неволи, и он оказался иным, нежели первые два. Ровный горизонт был взрыт тучами пыли, и, глядя на это, забегали, загалдели черные варвары, похватались за свои нарядные копья, принялись дергать за бахромчатую узду, проклинать и бить верблюдов, и без того злых и кусачих. А в быстро катящемся облаке пыли уже различимы кони и пики – грабители нападали на грабителей! Кому добра от такой перемены ждать не приходилось, так это полону.
Тесня Нестория желтым верблюжьим боком в клочьях свисающей шерсти, кричал ему что-то чернолицый всадник и взмахами показывал на запад. Полон разбегался – кто торопился уйти в пески, чтобы там и сгинуть, уподобясь пролитой воде; кто бестолково жался к верблюдам, ища защиты у своих похитителей; иные же, завидев Нестория, вдруг останавливались, словно окликнул их кто, и подходили к нему. Таких собралось человек сорок, и Несторий увел их на запад – подальше от надвигающейся битвы.
Несторий толком не знал, куда уводит доверившихся ему, ибо и сам доверился разбойному дикарю, взмахом черной руки указавшему направление. Однако же при том полагал, что всякий путь, освещаемый верой Христовой, рано или поздно приводит к спасению. И в этом смысле старик был, конечно, спокоен.
После захода солнца он остановил людей и знаками показал им, что нужно опуститься на колени; сам же начал говорить и петь из Писания. И многие тотчас же принялись вторить ему, подпевая. При этом они нещадно коверкали слова языка, которого не понимали.
Наутро, не успели освобожденные пройти и тысячу шагов, из-за горизонта показался и начал расти белый город, чьи стены словно стремились выесть глаза своим ослепительным блеском. Это был Ахмин, который греки именовали Панополисом.
Тут уж все оставили Нестория и пустились бежать навстречу спасительным стенам в надежде обрести там воду, тень и пищу, так что старик приблизился к воротам самым последним. Прочие уже бестолково топтались там, потрясая худыми черными руками и выкрикивая что-то на непонятном Несторию местном наречии. Несколько стражников, смуглых, как все местные уроженцы, но в римских шлемах с высоким гребнем, едва заметные за зубцами, сонно поглядывали на толпу возбужденных оборванцев. Те же сердились и плакали. Завидев Нестория, какая-то губастая женщина в пестром платке, с двухрядной ниткой стеклянных бус, почти потерявшихся в складке на шее, вдруг набросилась на него, прибила и вытолкнула вперед. Несторий остановился перед воротами, задрав голову, а женщина принялась выкрикивать что-то из-за его спины.
Несторий закричал – сперва на латыни, затем по-гречески, – что ему нужно видеть офицера. Офицер тут же нашелся. Он даже чуть наклонился вперед, желая рассмотреть человека, заговорившего с ним языком римлян. Несторий назвал свое имя – оно ничего не сказало младшему центуриону, командовавшему сотней ленивых плоскостопых сирийцев здесь, в пыльном, раскаленном, как ад, Панополисе – крошечной точке, которую не видать из Вечного Города. Но Несторий настаивал, и центурион, вполне поверив рассказу о грабителях с верховьев Нила, велел впустить галдящих пленников в город, дабы те могли обрести желаемое. Нестория же, по его просьбе, отвели к губернатору.
Толку из их разговора вышло немного. Губернатор Панополиса в церковные споры вникал туго, распоряжений насчет Нестория никаких не имел и потому решительно не понимал, как ему надлежит поступать с этим тихим светлоглазым стариком. В конце концов он Нестория выпроводил, присоветовав тому обратиться к здешней монашеской общине, возглавляемой ревностным поборником веры по имени Шнуди. Все это звучало крайне неопределенно.
Несторий вышел от губернатора совершенно растерявшимся. Товарищи его по несчастью, изгнанные нашествием с насиженного места, уже разбрелись по городу, кто куда, так что на площади перед губернаторской резиденцией никого не оказалось. Несторий постоял немного, щурясь на солнце. Резиденция – полукруглое здание, выстроенное, как и весь прочий город, из глиняных кирпичей, изрядно уже облезло после последней побелки и кое-где обнаруживало торчащий из кирпичей сухой тростник.
– Шнуди, – пробормотал Несторий, чувствуя, как все расплывается перед глазами, – что за Шнуди такой? Где мне искать его? Чудны дела Твои, Господи!
И в который раз пожалел о том, что судьба разлучила его с верным Мафой.
Нужно было передохнуть да как следует поразмыслить надо всем услышанным. Несторий сел прямо в горячую пыль, кое-как съежившись в малой тени, которую отбрасывала стена губернаторской резиденции, натянул на голову край одежды и тайно, без слез, заплакал. Плакал со стыдом, ибо жалел сейчас самого себя, заранее зная, что делать этого не следует.
Разыскивать таинственного Шнуди не потребовалось. Явился сам – пал на город саранчой вместе с толпой своих монахов и девственниц. Все сплошь в язвах и расчесах, в струпьях и коросте, в одежде такой рваной и бесформенной, что иной мог сойти не за одного человека, а сразу за двоих. Среди толпы оказался и Шнуди – малорослый, с подбитой ногой, резко подскакивающий при каждом шаге, как раненая птица. У Шнуди была грязно-серая кожа и копна нечесаных седых волос. Под истлевшей одеждой Несторий разглядел осклизлые вериги.
Если губернатор Панополиса знать не знал о том, кто такой Несторий, почему он был сослан и как надлежит поступать с ним, то Шнуди, напротив, оказался превосходно осведомлен обо всем этом.
Не говоря худого слова, он подскочил к Несторию и огрел его палкой. Несторий вскрикнул и хотел бежать, но повсюду обступили его монахи, страшные как грех, и сколько ни метался испуганный взор, везде встречал лишь ненавистные жуткие хари. Несторий тихо закричал, закрывая голову руками. Теплая кровь текла по его лицу, струясь между пальцами. Шнуди что-то орал, и монахи орали в лад, и продолжалось это так долго, что Несторий в конце концов начал их понимать, хотя прежде не знал на местном наречии ни слова. Это был тот самый клич, с которым истребляли несториан по всей Империи: «Кто верит в двух Христов – того руби напополам!»
– Я не в двух Христов!.. – зачем-то прошептал Несторий. Но тут словно бы с небес грянули копыта и свистнула плеть, и копошащаяся в пыли груда лохмотьев, вериг и немытых волос распалась – точно муравейник палкой разбросали. Сразу стало возможным дышать. Сквозь окровавленные ресницы Несторий видел дрожащее над самым его лицом фиолетовое небо. Шнуди куда-то делся, бросив возле Нестория свою суковатую палку.
– Ну-ка, отец, – молвил кто-то на доброй латыни. Несторий чуть шевельнул головой. Его приподняли, царапнув щеку жестким кожаным доспехом, дали напиться.
– Благослови тебя Бог, сын мой, – выговорил Несторий.
Один солдат сказал:
– Кажется, разбежались.
И ушел куда-то, уводя с собой лошадей. Второй остался. Подал Несторию палку. Несторий оттолкнул ее рукой, и палка упала обратно.
– Не моя, – сказал Несторий.
– Зачем ты дразнил Шнуди, отец? – спросил солдат.
– Я вовсе не дразнил его… Он знал, кто я.
– А кто ты?
– Несторий.
Солдат пожал плечами. Он впервые слышал это имя.
– Лучше тебе спрятаться от них, – посоветовал он старику. – Мы тебе здесь не защита. Шнуди – страшная гадина, но, понимаешь ли, какая неприятность, он – святой.
Несторий выплюнул в пыль сгусток крови.
– Святой? – переспросил он.
– Ну да. Губернатор хотел было повесить его за бесчинства, но из Александрии прислали письмо… Епископ запретил его трогать. Шнуди – святой.
Несторий слабо кивнул и, едва попрощавшись с солдатом, потащился прочь с этой площади, которая вдруг сделалась для него невыносимой.
Чудно в мыслях делается, как задумаешься иной раз, к примеру, над Священным Писанием. Вот читаешь ты, скажем, книгу Неемии. Это про то, как иудеи заново отстраивали разрушенный Иерусалим. А вавилоняне над ними насмехались.
И вот – только представить себе! – какой-то Товия Аммонитянин отпустил на счет иудеев остроту – тупую, как сапог римского легионера. Мол, лисица пройдет и разрушит их каменную стену. И – все! Ничем больше этот Товия не прославился. А вот смотри ты, какие ему почести! Его имя записано в Библии. И ежели какой-нибудь театрик играет спектакль о восстановлении Иерусалима, так непременно кто-нибудь из актеров исполняет там роль Товии Аммонитянина. Еще и думает о нем, грубияне худоумном: как, интересно он одевался, в какой цвет красил свою завитую бороду и в какие сальные косицы заплетал на висках седеющие жесткие волосы?
Обидно.
Так ведь и Шнуди завяз в человеческой памяти – точно мясное волоконце между зубами. Поди выковыряй! И все-то подвигу, что набросился на беззащитного старика, натравив на него свою свору.
– Вот ты, Афиноген, держишься греческой веры, – неспешно говорил Феодул. Телега под ними тряслась, и собеседники поневоле лязгали зубами, словно от холода или от страха. – Скажи мне, истинно ли святым был этот Шнуди, ревнитель православия?
– Сам ведь знаешь, – отвечал Афиноген, сонно поглядывая в вечереющую степь. – Шнуди – он любви не имел, а без любви человек – ничто.
– А Несторий?
– Снова бесполезное спрашиваешь, Феодул. Несторий – еретик. И умер он позорно.
– Говорят, все здешние христиане – несториане, – произнес Феодул задумчиво. Афиноген покосился на него.
– Сам-то ты кто – давно хочу спросить, – латинник или все-таки православный?
Феодул вздохнул:
– Я и сам того, Афиноген, не ведаю…
О смерти Нестория рассказывают всяко. Афиноген, к примеру, еще в детстве от одного попа слыхал, будто выслали упрямого старца из Панополиса в Элефантину, а Несторий-то по дороге возьми да и свались с лошади! И тут же сломал себе шею и выронил изо рта язык, коим учил неправо, а чрево умершего тотчас, к великому ужасу конвоя, наполнилось червями.
А один несторианин, брат Сергий (о нем еще речь впереди), положительно знал, что к Несторию в ссылку приехал давний друг его, некий Дорофей, который привез приказ от нового императора с полным оправданием Нестория и дозволением вернуться в Константинополь. Старик тотчас оседлал доброго коня, купленного у бедуинов, и помчался что было сил прочь из мест своего изгнания. Но по дороге конь запнулся о кочку и упал, а Несторий насмерть убился. На самом же деле вышла совсем другая история.
На некоторое время римские власти потеряли Нестория из виду. Знали только, что его увели в рабство черные кочевники. Старик в полном смысле слова зарылся в землю, лишь бы только не отыскал его Шнуди. Но затем такая жизнь показалась Несторию хуже смерти, и он написал губернатору Фиваиды письмо. Все отписал, как было: и про набег, и про освобождение, и про то, почему вынужден скрываться, а под конец просил у властей покровительства и защиты.
За Несторием немедленно прислали угрюмого чиновника и трех солдат, которые вывезли его в Элефантину. Спустя год, впрочем, старика вернули в Панополис. Шнуди к тому времени разбил кровавый понос, и десяток девственниц спасались, вынося из-под ревнителя горшки. Пользуясь этим, губернатор высек нескольких наиболее усердных монахов, а остальные с воем разбежались по пустыне, уподобившись онаграм.
Несторий добыл пергамента и чернил и начал писать. «Если Господу так угодно, чтобы люди примирились с Ним, проклиная меня, – да будет! – писал он сквозь слезы. – Пусть останется имя мое анафемой, лишь бы Имя Господне сияло незамутненно…»
Вот тогда-то и возвратился к Несторию Мафа. Скаля зубы, всунул черную лоснящуюся физиономию в Несториеву хижину. Вышло это так неожиданно, что Несторий не сразу и постиг происходящее. Признав Мафу, тотчас же бросил перо и, хватаясь за отбитый бок, радостно поспешил Мафе навстречу.
Мафа деловито уселся на пороге и, топорща, по обыкновению, локти, чтобы не слишком потели под мышками крылья, принялся жарко о чем-то лопотать. Несторий только улыбался и слегка покачивал головой, не вполне понимая, о чем идет речь. Наконец Мафа вскочил, впился в локоть Нестория и повлек его из хижины. Упираясь и ворча, Несторий все же повиновался.
У порога стоял ослик с грустными ушами. Не теряя кроткого вида, животное норовило длинной губой дотянуться до висевшего над дверью плетеного капюшона. Мафа страшным голосом гаркнул на ослика и треснул его по носу кистью руки. Ослик даже не пошевелился, только недоуменно глянул на хозяина. Мафа же, приплясывая от нетерпения, схватил капюшон и нахлобучил его Несторию на голову. Затем подпихнул старика к ослику и помог ему сесть в нелепое седло, разукрашенное пестрыми перьями, связками ломаных ракушек и пучками увядшей травы; сам же взял узду и, непрестанно браня упрямое животное, потащил ослика прочь.
Больше ни Мафы, ни Нестория в Панополисе не видели. Да и вообще нигде. Дабы не смущать народ, губернатор распорядился установить недалеко от въезда в город небольшой камень с надписью на сирском и латинском языках:
Телом легкий, невесомый, как сушеная трава, Но душою иссеченной, кровоточащей от ран, Здесь лежит святой Несторий – он обрел конец пути.Батый. Феодул обретает грехи
Достигнув стана Батыя, греки поневоле смутились душою, ибо почудилось им, будто вступили они на страницы Ветхого Завета и очутились посреди неумирающего Слова, живописавшего им еще с детских лет подобные картины: и белые шатры, и шумливую, пеструю толпу, и бесчисленный скот на сочных пастбищах… Но многое в этом первом впечатлении противоречило здравому смыслу, и прежде всего – то, что народ Батыя отнюдь не был народом избранным (что бы он сам ни мнил о себе), и Господь вовсе не вступал в общение с его патриархами и, уж конечно, не заключал с ними никакого завета; что до побед, одержанных Батыем в Русии, Польше, Силезии и Далмации, – то подобное зло, несомненно, было совершено с помощью дьявола и при Божьем попустительстве, по грехам нашим.
Все это стало более чем очевидно, когда купцы оказались посреди самого Батыева стана, ибо тотчас увидели царящие повсюду грязь и непристойность.
Спать устроились голодными, прямо на телегах, ибо все чиновники, ведавшие здесь приезжими – их удобствами, нуждами и целями, равно как и сопроводительными грамотами, – уже отправились к тому времени на покой и были по такому случаю сильно пьяны. Без чиновников же никакой торговли со здешними монголами и быть не могло, ибо за неправедное принято у монголов сразу убивать до смерти. И это отчасти служило к установлению доброго порядка.
Наутро к телегам явился некий чрезвычайно засаленный монгол, очень широкий, но какой-то плоский, если смотреть на него сбоку, и, оглядев купцов и их телеги, громко облаял на своем языке. Толмач, усмешливо щурясь, пояснил Афиногену, что прибыл чиновник от Батыева двора и что надобно не мешкая показать табличку с тигром.
Заполучив табличку, монгол бегло глянул на нее и сунул себе в рукав. Афиноген всполошился, полез было отнимать, но монгол резко оттолкнул его, бросил еще несколько слов и ушел. По дороге он взмахнул рукавом, и табличка выпала. Монгол даже не обратил на это внимания. Афиноген коршуном пал на драгоценную табличку и, только завладев ею, отчасти успокоился.
Толмач сказал:
– Батый хочет видеть вас вечером. Вам надлежит все время молчать, пока Батый не спросит. Когда спросит – надо отвечать быстро. Другие обычаи вы знаете.
И, сочтя свой долг по отношению к грекам выполненным, преспокойно удалился, желая выпить без помех.
Феодул, оставшись без Трифона, который один только и был глупее него самого, вдруг заскучал. Так заскучал, что полез в телегу и там долго сидел в одиночестве, перебирая и рассматривая свое имущество. Выбрав из всех сокровищ удивительнейшее – деревянного медведя, того самого, что поочередно с деревянным же мужиком лупил по наковальне, погрузился Феодул в неопределенные грезы. То в одну сторону забавку наклонит, то в другую. И все думается, думается ему о чем-то смутном, а о чем – самому не разобрать.
И вдруг видит Феодул – идет между монгольскими шатрами сатана. Был он диковинно одет – в долгополую, ниже пяток, рубаху из грубого полотна наподобие эсклавины, в какую обычно рядятся монахи и люди подлого сословия. Тут и там пестрели на рубахе большие прорехи, а в этих прорехах, точно в гнездах, висели различные по форме и размерам закупоренные сосуды.
Высунувшись из телеги, Феодул закричал:
– Привет тебе, сатана!
Сатана остановился, прищурил глаза и, рассмотрев Феодула, улыбнулся.
– И тебе, Феодул, поздорову, – отозвался он.
– Садись, – предложил Феодул, потеснившись.
Сатана уселся рядом на телеге, вынул из-за пазухи комок жевательных листьев, от употребления которых слюна делается коричневой, а взгляд мутным, и показал Феодулу:
– Не хочешь?
Феодул помотал головой:
– Я и без этого полный дурак, будто не знаешь…
Сатана пожал плечами и сунул листья в рот. Помолчали.
– Давно ли ты из Святой Земли? – спросил Феодул наконец.
Сатана передвинул языком комок с левой щеки на правую.
– Почем ты знаешь, что я недавно из Святой Земли?
– Листья-то – оттуда… А кроме того, святые отцы учат, будто бы там – твой исконный дом, – охотно пояснил Феодул, радуясь случаю блеснуть ученостью.
– Святые отцы, надо же, – проворчал сатана. – Много они понимают, твои святые отцы… Уж я-то хорошо их знаю.
–Ты?
– Нет, царь Навуходоносор, – огрызнулся сатана. – Я, конечно. У меня с ними дела.
– Какие?
– Я приношу им грехи.
– Приносишь? – удивился Феодул.
– А ты что, думаешь, сами они за грехами ходят? – Сатана раздраженно фыркнул и добавил в виде пояснения: – Зато и грехов у каждого святого куда больше, чем у обыкновенного человека.
– Как так? – поражался Феодул все больше и больше.
– А вот так! – торжествующе сказал сатана. – То, что для какого-нибудь самозваного Раймона, причетника из Акры, – мелочь, не стоящая внимания, то для святого – большой грех…
– А! – молвил Феодул. И вернулся к прежней теме: – расскажи мне лучше о Святой Земле, сатана. Каково там ныне? Вести до нас, конечно, доходят, но с большим опозданием…
Сатана перестал жевать и задумался. Потом спросил:
– А какой нынче год?
– 1252-е лето Благости, – ответил Феодул. Сатана поморщился.
– Стоит, стоит еще твоя Акра, – молвил он и опустил коричневатые, морщинистые, как у ящерицы, веки.
И тотчас перед глазами Феодула, как живая, встала душная, покрытая вечной испариной Акра с ее круглыми дозорными башнями – барбаканами, точно выбежавшими из города навстречу недругу, и сами собою забормотали в памяти их имена: Паломник, Сорок Девственниц, Графиня Триполитанская, Дурная Кровь… Высокие двойные стены, углом вдающиеся в море, укрепленные столь частыми башнями, что находящийся на одной из них стражник без труда может оплевать находящегося на соседней… Торговый корабль разгружается в гавани, где одуряюще шибает в нос вечный запах соли и смолы, а рядом, ожидая разрешения взойти на борт, с потерянным видом жмутся друг к другу четыре сарацина с зелеными тряпками вокруг головы, и их бороды прыгают при разговоре. А еще дальше, к северу, в знойном дрожащем дурмане, угадываются высокие белые башни Монмюсара…
Феодул едва не разрыдался, так захотелось ему вдруг оказаться в Акре и вобрать в грудь ее густой, тяжелый воздух.
– Стоит твоя Акра, – повторил сатана, – кажется, еще не рухнула…
И Феодул вдруг увидел иное – точно пригрезилось ему в мгновенно промелькнувшем сновидении: какой-то наспех заделанный пролом в стене. И внезапно будто бы прозрел: узнал и Акру, и даже ворота – Святого Антония, те, что обращены на восток, туда, где расстилается долина и где дальше, за водной гладью реки, поднимаются темные виноградные горы. Над Акрой сгустилась гроза, и стало темно, почти как ночью, и только зарево горящих в восточной части города складов упрямо озаряло здания и стены. Таким образом, искаженное лицо Акры было с одной щеки черным, а с другой – багровым. В потревоженных водах акронской гавани суетливо болтался только что отваливший от пристани пузатый корабль под вздутым парусом. Волны наотмашь хлестали его борта, и он неловко переваливался с боку на бок. Даже издалека было заметно, что корабль сильно перегружен.
Скрытые грозовой тьмой, летели с виноградных склонов всадники. Широкую долину перед воротами взрыли копыта. Повсюду роились сарацины, и кое-кто из них уже проникал в город. Феодул различал и смуглолицых чертей, лезущих отовсюду, и даже султана на белом жеребце, и каких-то зверски усталых, оборванных рыцарей с грязными повязками на ранах. Феодул видел и белые кресты на черных плащах, и красные кресты на белых плащах и понимал, ничему почему-то не удивляясь, что госпитальеры бьются в умирающей Акре бок о бок с тамплиерами. И тут же почудилось Феодулу, будто он различает среди них знакомцев – хотя этого, конечно, быть не могло.
Сатана длинно и ловко сплюнул. Феодул очнулся.
– Так что и возвращаться тебе туда, пожалуй, бессмысленно, – сказал сатана.
Из этих слов Феодул заключил, что падение Акры близко, и огорчился. Сатана же подтолкнул его локтем в бок и присоветовал не кручиниться попусту.
Феодул так и поступил. Принялся разглядывать диковинные сосуды, которыми сатана с головы до ног был обвешан. Одни казались тонкой работы, другие – попроще, третьи и вовсе были вылеплены кое-как; иные – глиняные, круглые, иные же – синего сирийского стекла, узкие, с витым горлышком.
– Нравится? – спросил сатана. – Вот здесь я и ношу грехи… Погоди-ка, я тебе попробовать дам.
Он захлопотал у себя на груди, точно вознамерился осенить себя крестным знамением, и вытащил в конце концов маленькую золотую флягу, заткнутую почему-то клоком нечистой овечьей шерсти. Феодул вытянул шею, изо всех сил любопытствуя.
Сатана откупорил флягу, поднес к носу и, казалось, весь поднявшийся оттуда дивный аромат одним вздохом запустил себе в ноздри, а затем выдохнул его обратно во флягу. Феодул, трепеща, принял сосудик из ледяных пальцев сатаны, осторожно приник к горлышку – сперва правым глазом, затем левой ноздрей. С опаской подышал. Отставил сосудик и, зажмурившись, подождал; что будет?
Ничего не случилось. Тогда Феодул открыл глаза и спросил:
– А это что за грех был?
– А ты что… ничего?.. – осведомился сатана.
Феодул мотнул головой:
– Вроде как ничего… В носу щекотно.
– Тогда и знать тебе об этом незачем, – раздосадованно сказал сатана и отобрал у Феодула фляжку.
Предложил другую – стеклянную. Феодул с охотой хлебнул тягучей жидкости. На вкус оказалась как оливковое масло. Одолела тут Феодула смешливость, и принялся он сатану и так и эдак оглядывать да ощупывать; то в одном сосуде пальцем ковырнет, то из другого глоточек сделает. А сатана знай жует, вдаль бессмысленно пялится и Феодулу, кажется, в полную власть себя отдал. Глаза у сатаны сделались совершенно сарацинские – словно бы чужие на лице и в то же время злобные.
– Ну, хватит! – молвил вдруг сатана, отталкивая Феодула. – Эдак ты все мои припасы разоришь.
Феодул нехотя убрал руки. Сатана встряхнул плечами, так что во всех прорехах на его рубахе забренчало, и выплюнул жвачку.
– А кому ты нес грехи? – полюбопытствовал Феодул.
– Да всем, кто ни захочет, – ответил сатана нехотя, сквозь зубы. Теперь он стал сонный, скучный. – Ну тебя совсем, Феодул! – выкрикнул он обиженно. – Ни потолковать с тобою, ни посмеяться. Жаден ты больно, отроче. – Тут он вдруг обхватил Феодула за плечи костлявой, очень сильной рукой, больно придавил к твердой груди. Какая-то склянка немедленно впилась Феодулу в ребро.
– И молодец, что жаден! – пламенно сказал сатана. И полез целоваться.
– Иди ты к черту! – забарахтался Феодул. – Нажевался – вот и ведешь себя сущей обезьяной.
– Да кто ты такой? – презрительным тоном протянул сатана.
– У меня теперь грехов больше, чем у святого, – сказал Феодул. – Вот кто я такой. А сам-то ты откуда взялся? Что-то я тебя не припомню.
От такого заявления сатана плюнул себе под ноги, попал в подол рубахи, слез с телеги, не оборачиваясь, погрозил Феодулу кулаком и медленно побрел дальше.
Некоторое время Феодул провожал его взглядом, а потом снова забрался поглубже в телегу и вернулся к своим сокровищам.
О ангел мой! Ангел мой, ангел! И до сей поры тлеет, разливая нежное тепло, твой поцелуй на моем лбу! До сих пор ищу тебя взглядом в розоватом тумане уходящего сна. То и дело чудится мне край твоих лучезарных одежд – ухватиться бы за них и взмыть за тобою следом к Престолу… Устал я от бесплодных скитаний! Знать бы мне имя твое – я бы тебя окликнул. Неужто и впрямь тебя зовут Феодулом, как и меня, грешного? Или носишь ты имя Раймон? Не оставляй меня здесь одиноким! Дай хоть еще раз, пусть незримо, услышать, как разворачиваются гремящие крылья за твоей спиной…
Феодул безмолвно плакал, сидя в чужом, неудобном седле. Ноги сводило из-за коротких монгольских стремян – приходилось по целым дням сидеть, сильно сгибая колени. Проклятие, проклятие! Ангел мой, ангел!..
Далеко позади остались и греки, и страшный Батый, и лукавый Протокарав. Только монголы вокруг, только их ужасные плоские рожи, лоснящиеся от бараньего сала. В вечную ночь увлекают они за собой Феодула, на край земли, до самой их монгольской столицы Каракорума, откуда, по слухам, вообще не бывает возврата…
По грехам моим, несочтенным и неназванным! Дурень я глупый, неразумный – отчего не спросил у сатаны, из каких сосудов пробую? Теперь вот грешник, пострашнее любого святого, а имени своей беды не ведаю. Кто только потянул меня за язык, кто совратил заговорить перед Батыем?
Батый сидел на длинной скамье, раскинув по щедрой, жирной позолоте шелковые халаты, семь штук, один поверх другого, и все разноцветные, а самый верхний – зеленый, стеганый. Темно-медные волосы, выбритые на лбу, у висков увязаны кренделями и обильно смазаны салом, а жадное лицо со слегка раздутыми ноздрями сплошь покрыто красными пятнами, как от гнева.
Афиноген, стоя на коленях, говорил и говорил что-то долгое о торговле, о ярлыках, о взаимной выгоде. Хан внимательно слушал бормотание полупьяного толмача, не сводя с Афиногена глаз. И вдруг возьми да и спроси, указав на Феодула: кто, мол, этот человек? Хотел было Афиноген ответить уклончиво: так, дурачок, приставший к каравану по дороге, как Феодул внезапно выскочил вперед, бухнулся на оба колена, прижал к груди стиснутые кулаки и вымолвил страстно:
– Я – посланник великого Папы Римского.
Ибо решил он по какой-то причине, что самое время выйти наружу тому, что монголы должны счесть за правду.
Тут Батый свел брови дугой и давай Феодула расспрашивать: что за посланник такой и где же послание. Немеющим языком плел Феодул небылицы, не всегда и сам понимая, о чем врет. Однако Батый слушал его с любопытством И даже задал несколько вопросов о короле франков, желая проверить, насколько хорошо осведомлен посланник Папы.
Феодул же вознамерился польстить Батыю и потому сказал так:
– Государь наш Людовик, господин мой и всех франков, – человек набожный и кроткий. Превыше жизни своей чтит он заповеди Господа нашего, а превыше всех людей на земле ставит свою мудрую мать. Рассказывают о нем еще такое. Когда ты, господин мой, как саранча или, к примеру еще сказать, моровая язва пал на земли христианские, и опустошил Венгрию, и разорил Далмацию, и поработил Русию, и подошел уже к самым пределам короля франков, явилась тогда королева-мать к государю, сыну своему, и сказала ему об этом. Ибо видела в тебе великую опасность для всего королевства. А король отвечал ей: «Матушка, на все воля Божья. Или этот Батый уничтожит и самую память о нас, или рука Господня остановит его на наших границах…»
Батый внимательно выслушал толмача и захохотал, тряся косицами. После же молвил грекам и Феодулу:
– Ступайте покамест. Волю мою передам через яма.
И передал: Афиногену с товарищами дозволение вести торговлю в пределах Батыева царства (а оно немалое!); Феодулу же – ввиду важности его дел – ехать в дальний Каракорум, к великому хану Мункэ. И толмача ему дал другого – хмурого, бледного и тощего, как подросток, далматинца, взятого в рабство еще двенадцать лет назад, во время того самого похода, о котором напомнил Феодул.
Запричитал тут Феодул, проклиная свою глупость, и подступился было к яму с мольбами: мол, нельзя ли как-нибудь переиначить? Почему бы, скажем, не оставить его, Феодула, при греках-купцах? Много ли худого оттого приключится, если не поедет Феодул в Каракорум? Да и какая радость великому хану в созерцании какого-то Феодула?
Однако ям только поглядел на Феодула холодно и велел показать, каким тот располагает имуществом. Феодул вынес заветный узелок, заранее проклиная яма и мысленно прощаясь с сокровищами. Но ям даже и глядеть на узелок не стал. Повернулся и ушел.
До позднего вечера соображал Феодул, что бы это могло означать. Протокарав сидел какой-то скучный и с Феодулом разговаривать не желал. Афиноген же припечатал Феодула дураком и от дальнейшей беседы с ним воздержался. Так толком и не простились.
Вечером явился толстый, важный монгол и, призвав робеющего Феодула с новым толмачом, бросил перед ними на землю две козьи дохи с длинным ворсом, две пары меховых штанов, войлочные сапоги без твердой подошвы и две лохматые шапки. Добавил что-то, фыркнув плоским, будто раздавленным носом.
Толмач, которого звали Андрей, мрачно сказал:
– Он говорит, путь до великого хана неблизкий. Говорит, четыре месяца. Холод там стоит такой, что раскалываются камни и деревья.
Феодул заметно побледнел, однако набрался сил и молвил:
– Скажи ему: коли не лопаются от этого мороза монголы, то и смиренный раб Божий Феодул как-нибудь сдюжит.
Андрей перевел. Важный монгол выпятил живот и вдруг захохотал. Проговорил что-то, шумно сопя.
– Говорит, будто он – сын темника. Отца его, говорит, великий хан хорошо знает. И того, мол, довольно, что принудили его сопровождать низкого, ничтожного человека, который ни лошади, ни порядочной шубы не имеет, – одно это для него (так он говорит) уже оскорбление. Но если ты, Феодул, не выдержишь пути, он тебя бросит по дороге, ибо возиться с тобою лишнее не намерен.
Феодул надул щеки, чтобы ответить как подобает посланцу великого Папы, но монгол уже ушел.
И вот вышел из Батыева стана отряд – десяток монголов во главе с толстым сыном темника – и помчался навстречу закату, увлекая с собой Феодула и толмача-далматинца. Неслись так, словно бесы их за пятки кусали. При себе везли золотую дощечку с тигром и повелениями касательно Феодула, начертанными непонятными квадратными буквами.
Иной раз попадались на пути огромные стада, ползущие по бескрайней равнине, и несколько человек при стаде – почти черных от солнца и ветра, белозубых и смешливых. Говорить они словно ленились – нехотя ворочая языком, вывалят слово-другое, а остальное довершат невнятным смешком. Андрей почти не понимал их речи. У этих пастухов, когда доводилось их встретить, меняли лошадей, оставляя им уставших. Ни Феодул, ни Андрей в лошадях не понимали, и оттого вечно доставались им то норовистые, то едышливые, на смех монголам.
Ели один раз в день, вечером, и Феодул ждал этого часа не всегда и веря в то, что он настанет. Ни сам Феодул, ни толмач своей воли в этом отряде не имели, а делали то, что приказывал сын темника – по целым дням мчались, не переводя духу и не останавливаясь даже для того, чтобы помочиться, а вечером усердно собирали конский или коровий навоз, какой только могли отыскать, чтобы разложить костер. Ибо деревьев в этих краях почти не встречалось, и кормить огонь приходилось навозом, а если навоза почему-либо оказывалось недостаточно, то и вынуждены были довольствоваться недоваренным мясом и горьким сырым пшеном, которое ели, вычерпывая из жирного котелка прямо горстями.
Все это весьма удручало Феодула, так что в конце концов бывший причетник из Акры впал в сонное оцепенение – так обыкновенно действовали на него невзгоды. Что до Андрея, то он, напротив, чрезвычайно озлобился и разговаривал с Феодулом постоянно огрызаясь, ибо в нем видел причину своих нынешних бедствий.
Монголы, по своему обыкновению, совершенно не заботились о чужаках, ибо сами они никакого неудобства во время этого путешествия не испытывали. Часто, сидя сбоку у скудного костра и ежась от холода, с завистью поглядывал Феодул, как двое или трое подпихивают в огонь коровьи лепешки – ловко, словно воровски, как будто не кладут в костер, а, напротив, норовят из костра украсть. Над котелком, где булькал мясной бульон, мелькали плоские рожи, а толстый сын темника сидел чуть поодаль, скрестив ноги и слегка откинув назад широкую спину – словно прислоняясь к спинке несуществующего кресла, – и милостиво усмехался.
Осень была уже на исходе, когда впереди выросли и начали приближаться горы. Андрей, кутаясь в овчину и яростно стуча зубами, бросал угрюмые взгляды то на Феодула, то на монголов, а вечером и вовсе отказался с Феодулом разговаривать и на все вопросы только шипел и плевался. И навоз собирать не пошел.
А Феодул поплелся, хотя ноги у него цепляли одна другую, точно ища друг у друга поддержки, и в глазах темнело при каждом шаге. Но очень уж не хотелось Феодулу полусырого мяса в остывшем бульоне. И потому прилагал немалые старания для того, чтобы топлива хватило.
Набрал навоза в корзинку, которую возил нарочно для этой цели у седла – монголы ему присоветовали, – и поскорее возвратился к обдуваемому всеми ветрами лагерю. Огонек, разложенный монголами, хоть и мал, а далеко виден. Феодул поспешно поставил свою корзинку рядом с другими и притиснулся поближе к теплу.
Тотчас один из монголов протянул руку именно к Феодуловой корзине и взял оттуда катышек. Едва лишь катышек оказался у монгола в руке, как тот испустил громкий крик и отбросил взятое, словно ожегшись. Сын темника степенно осведомился у кричавшего о причине столь несдержанного поведения. Монгол вскочил и торопливо залопотал, то и дело показывая взмахами рук в сторону гор.
Эти объяснения, оставшиеся для Феодула совершенней темными, произвели поистине магическое действие на прочих. Монголы загалдели все одновременно, словно в один миг перессорились между собой. Андрей, побледнев более обыкновенного, в жгучей досаде плюнул и едва не попал в костер, чего монголы даже не заметили – а заметили бы, не сносить далматинцу головы. Тут уж Феодулу и вовсе невыносимо сделалось, и он, пренебрегая гнусным нравом толмача, принялся теребить того и выспрашивать: что же такое заметили монголы в корзинке с навозом?
Андрей даже ответить Феодулу не успел. Земля вокруг загремела, и ночная тьма исполнилась движущихся тел. Но от того, что толком не разглядеть их было, делалось в животе по-нехорошему прохладно. Только и чуялось, что там, во мраке, бегут лавиной какие-то неведомые крупные животные, да еще бил в ноздри тревожный запах их пота. Затем почудилось Феодулу, будто угадывает он, кто это. И он, дернув Андрея за подол рубахи, спросил:
– Дикие ослы?
Однако то были вовсе не дикие ослы – хотя в этой пустыне и в горах водилось их великое множество, и монголы не раз уже прерывали путь ради охоты на них. Спустя миг разглядел Феодул над гладким, крупным ослиным туловищем кряжистый торс человека, обильно заросшего диким черным волосом. Тут уж и Феодула прошиб холодный пот, ибо он вспомнил рассказы об онокентаврах, которые находил в книгах о деяниях великих подвижников былого времени. Раньше онокентавры заселяли отдаленные места пустынь Египта и Сирии, и встреча с ними не была такой уж редкостью; ныне эти создания стали людям в диковину.
Монголы похватались за луки и колчаны и принялись поспешно разбирать стрелы. Но вступать в бой с онокентаврами было бы неосмотрительно, ибо их число значительно превышало численность путников, и в любом случае такого большого стада будет достаточно, чтобы растоптать острыми копытами дюжину человек.
Тут Феодул воззвал громко к Господу и к ангелу своему, а потом закричал, не надеясь на Андрея, но уповая, что в миг смертельной опасности даст ему Бог силу говорить для монголов внятно, вещая как бы духом:
– Давайте теперь растреплем волосы наши, исказим лица и с ужасным воплем, надеясь на Господа, побежим на них! А там уж – либо они нас растопчут, либо мы их прогоним. Ибо именно так поступали святые отшельники и старцы в пустынях Египта и Сирии.
С этими словами воздел Феодул руки к голове, одним взмахом растрепал свои чудные пшеничные кудри, скорчил рожу и возопил не своим голосом:
– А-а-а-а!
Монголы и Андрей – чудом ли Божьим, человечьим ли разумением – тотчас угадали, какая мысль на уме Феодула, и в подражание ему также взлохматили волосы и принялись орать, визжать и выть на разные голоса. И так, исторгая ужасные вопли, бесстрашно бросились они навстречу онокентаврам.
Те из стада, что были к путникам ближе остальных, от испуга присели и взбрыкнули в воздухе копытами. Человечья же их половина отозвалась на неожиданность криком. Дикие глаза онокентавров засверкали, мясистые ноздри вздулись, кулачищи застучали по широкой груди. Но в страшных волосатых лицах была растерянность, и миг спустя они отбросили колебания и обратились в бегство, задрав голые хвосты и подбрасывая на бегу высоко вверх гладкие крупы,
Двое из монголов, вскочив на коней, помчались следом, а прочие засмеялись от облегчения и снова расселись у костра. Один только Феодул все еще дрожал, чувствуя, как бродит в крови вдохновение. Но и оно вскоре улеглось, ибо Феодул был очень голоден. Он жадно схватил кусок бараньего мяса, когда ему предложили.
Спустя час вернулись и те два монгола, что погнались за онокентаврами. Они ехали неспешно, вдвоем на одной лошади, и пересмеивались между собой. Через седло второй было переброшено темное тело. Монголы спешились и захлопотали возле вьючной лошади. Прочие, не выпуская из рук недоеденных кусков, окружили вернувшихся и принялись шумно галдеть, хохотать, тыкать в поклажу пальцами и хлопать по шее моргающую на людей изумленную лошадь.
Подошли и Феодул с Андреем. Монголы уже сняли добычу, и Феодул увидел, что это онокентавр, убитый двумя стрелами – одна попала в человечье сердце, другая – в звериное. Теперь Феодул мог рассмотреть его без помех: и неестественно широкую грудь, и короткие волосатые ручищи, и клочковатую бороду. Человеческая половина онокентавра занимала Феодула куда больше, чем ослиная. Ослиная была обыкновенным онагром, необузданным и похотливым; человечья же представляла собой дикаря. Тот невеликий рассудок, который заключал в себе прочный череп с низким лбом целиком был поставлен на службу ослиным похотениям в чем не могло быть никаких сомнений. Таким образом, звериная природа в онокентавре, бесспорно, торжествовала над человеческой.
Монголы, не вдаваясь во все эти тонкости, быстро рассудили по-своему и поступили сообразно: отделив человечью половину, похоронили ее, завернув в войлочную кошму; звериное же тело освободили от шкуры и разделали, заготовив мясо для будущей трапезы. Невыдубленную шкуру положили рядом с могилой – в знак благодарности умершему за то, что дал отряду пропитание на несколько ближайших дней.
В степи уже стояли морозы. По ночам на землю ложилось ломкое белое покрывало, и утром жухлая трава хрустела под ногами. Впереди все явственнее вырастали горы. А свойство всяких гор таково, что сперва они только едва заметны вдали, а после не успеешь оглянуться, как уж надвинулись на тебя темной громадой и изжевали острыми зубцами весь горизонт.
Однако здесь Феодула ожидала приятность, поскольку отряд прибыл в широкую, хорошо возделанную долину, всю перерезанную небольшими каналами, отводящими воду из реки. И это позволяло орошать здесь землю, как требуется для нужд хозяйства, и выращивать фруктовые деревья, хлеб и виноград. Впрочем, в такое время года вода уже была скована льдом и вследствие этой природной ее особенности ничего орошать не могла.
Решили передохнуть в поселке. Феодул издали увидел его – неряшливое склопление домов, выстроенных по преимуществу из глины. И хотя Феодул не одобрял кочевого образа жизни, которому привержены монголы, он не мог не признать, что по сравнению с нарядными белыми юртами домишки выглядят куда как убого. Феодул сказал об этом Андрею. Толмач только поглядел на него странно и ничего не ответил.
Поселок был очень мал, но тем не менее считался городом и в качестве такового был записан в одной важной монгольской харатье. Последнее показалось Феодулу особенно странным, поскольку монголов труднее всего заподозрить в том, чтобы они каким-либо образом были привержены грамоте. Однако впоследствии Феодул узнал о пристрастии монголов все записывать и даже полагать, будто незаписанного как бы и не существует. Этому монголы научились у китайцев.
Поселок окружала невысокая глиняная стена. На стене на корточках сидело несколько человек в толстых черных халатах. Их лица были черны, словно от копоти, и сморщены в складки, а глаза ничего не выражали.
Навстречу монгольскому десятку, приближавшемуся без спешки, с немалой долей торжественности, столь же важно выехал высокий худой старик в сером ватном халате и с ним два служителя, один из которых нес при себе большие чаши, а другой – мешок, дурно пахнущий козлом, где булькало пойло.
Перед самым проломом в стене, обозначавшим ворота, обе процессии замерли. Старик высоко поднялся в стременах и прокричал несколько слов, после чего так же внезапно замолчал и уставился на сына темника, сильно вытянув жилистую шею. Сын темника выдержал порядочную паузу, после чего рявкнул что-то в ответ. В воздухе мелькнула чудодейственная дощечка с тигром, но столь же быстро и исчезла. Старик суетливо закивал, после чего служители проворно наполнили чашу питьем и подали ее сыну темника.
Тот выпил, не спеша отер губы, гулко рыгнул и, повернувшись, показал служителям на Феодула. Феодул поспешно надул щеки. Служитель тотчас подал и ему наполненную чашу. Феодул принял, а оба служителя немедля принялись, тужась и краснея, утробными голосами исполнять какую-то варварскую песнь, которой надлежало, по их замыслу, усладить слух гостя. Старик при этом как бы нехотя хлопал в ладоши. Феодул понюхал пойло, и его замутило. Дабы не оскандалиться, он задержал дыхание и начал мысленно твердить на память «Верую» – почему-то не по-латыни, а по-псоглавчески – и таким образом проглотил угощение. Проглотив же, рыгнул. Служители засмеялись, а толмач Андрей с кислым видом поморщился.
Везде на землях Батыя, а впоследствии и на землях великого хана Мункэ посольство великого Папы Римского в лице Феодула встречало самый радушный прием. Этому способствовали, во-первых, золотой тигр, а во-вторых – и в немалой, следует признаться, мере – сын темника, такой он был важный, толстый и гордый.
Вот и старик, правитель города, внесенного в монгольские харатьи и благодаря этому, бесспорно, существующего, пригласил посольство к себе, усадил на вытертые ковры, которых настелил на пол пять штук, один поверх другого, устроил праздник. В доме принимали только сына темника, Феодула и толмача, а прочих монголов снабдили живым бараном и сухим навозом для огня и предоставили им веселиться в меру их разумения во дворе.
Как и многие в этой долине, старик поклонялся поганому Магомету и потому избегал осквернять пищу прикосновением каких-либо орудий и левой руки и чрезвычайно ловко орудовал одной правой.
Разговор шел степенный, поучительный. Толмач нехотя переводил с набитым ртом:
– Спрашивает, видел ли ты великого Римского Папу.
– Скажи: а то как же! – жуя, отвечал Феодул. Впрочем, толмач и сам знал ответы и запросто мог вести беседу вместо Феодула, но вежливость требовала, чтобы говорил сам посланник. С тех пор как бывший причетник из Акры сделался послом великого Папы, ему не раз уже доводилось удовлетворять любопытство местных правителей, и Феодул старался делать это по мере сил добросовестно.
– Спрашивает, очень ли стар Папа.
– У этих басурман как считается? – уточнил на всякий случай Феодул у толмача. – Чем старше, тем лучше, или как?
Толмач кивнул.
Старик поднял вверх палец, перепачканный жиром, и что-то торжественное изрек. Феодул вопросительно поглядел на Андрея. Тот наспех проглотил кусок и сказал:
– Он слыхал, будто великому Папе уже триста лет.
– Скажи ему: не триста, а пятьсот. Пусть высечет палками по пяткам тех, кто говорил ему «триста».
– Зачем ты все время врешь, Феодул? – спросил толмач.
– А ты вот почем знаешь, что я вру? – огрызнулся Феодул. – Переводи!
Андрей, хмурясь, перевел. Старик, видимо, остался доволен ответом. Он покрутил головой, сказал «ц-ц-ц» и взял еще кусок баранины. Глядя, как ловко длинные темные пальцы заворачивают мясо в плоский хлеб, Феодул невольно позавидовал: несмотря на однорукость, которую лжеименное учение Магометово навязало старику на время трапезы, тот не чувствовал никакого неудобства.
Сын темника мало любопытного находил в беседе. Все это он уже не раз слыхал и потому безмолвно вливал в себя кислое пойло, с каждым глотком становясь все красней и спесивей.
Усвоив услышанное, старик возобновил расспросы. Поинтересовался морем. Какое оно?
– Скажи: как степь, но только везде вода.
Андрею, как и сыну темника, эти беседы тоже прискучили. А Феодулу – нет. Тот был готов без конца повторять одно и то же. Феодулу нравилось поучать, когда его слушали.
Старик оказался вдумчивым собеседником. Пошлепав в молчании губами, он с неожиданным приливом интереса задал следующий вопрос. Переводя, Андрей ехидно улыбался.
– Хочет знать: море – оно безбрежно или беспредельно?
Феодул и бровью не повел.
– Безбрежно, разумеется. Предел морю положен там, где за Геркулесовыми столпами виден панцирь черепахи, на которой покоится обитаемый мир.
И добавил, желая поразить своей ученостью не только легковерного старика, но и желчного Андрея:
– В начальные времена были святые отшельники, из любви к Богу жившие в пустыне. Они добирались до черепахи и смотрели вниз, но, по милости Божьей, ничего, кроме кишащих чудовищ, не видели.
– Аллах велик! – охотно изумился старик. И без всякой логической связи с предыдущей темой осведомился насчет короля франков – много ли у него добра.
– Скажи: дворец у короля франков построен из чистого золота, а постель вся сапфировая. И тысяча человек непрестанно стережет его покои.
Андрей вдруг плюнул и сказал:
– Ври ему сам, коли приспела такая охота, а мне недосуг. Я есть хочу.
Феодул бессильно пригрозил толмачу гневом Батыя, плеткой и карами со стороны Папы Римского. Но угрозы пропали втуне. Сын темника сильно раздулся от выпитого и теперь благодушествовал, поводя вправо-влево сонными заплывшими глазками. Старик впал в задумчивость, жевал губами и время от времени сам с собою говорил «ц-ц-ц». Его очень удивили рассказы Феодула. Со двора доносились дикие выкрики монголов – там жарили барана.
Как и другие правители, старик одарил посольство великого Папы, преподнеся Феодулу медное блюдо, трех баранов и корзину розовых мороженых яблок. Конечно, Феодул вынужден был большую часть даров отдавать спесивому сыну темника; однако кое-что все же оставалось в собственности самого Феодула и тем самым невольно наводило на мысль о том, что считаться посланцем великого Папы в землях монголов куда более прибыльно, нежели оставаться просто Феодулом.
Только такие беседы, приятно сдобренные подарками, и разнообразили путь. Усталость и голод донимали Феодула, но пуще всего страдал он от холода. Шуба, поднесенная ему в стане Батыя, словно чуяла, что не хозяйские плечи укутывает, и грела скверно. И думал Феодул, что с ним это происходит от нехорошего разлада, который случился между ним, Феодулом, и остальным миром. Однако утешал себя мыслью о том, что рано или поздно все неприятности должны будут завершиться, к вящему для всех удовлетворению, поскольку в конечном счете Феодул страдает здесь за христианскую веру.
Они поднимались по горным тропам и спускались в долины и везде видели разрушенные монголами города и замки, поскольку пастбища в этих краях хороши, а в городах и, замках монголы не находили большого проку. И оттого по развалинам бродили бесчисленные стада.
В одном месте Феодул видел нескольких окаменевших людей и был весьма устрашен их видом. Сын темника сказал, что эти люди окаменели больше тысячи лет назад и что о них тоже написано в той харатье, где сочтены все богатства монгольских земель. Говоря так, он презирал Феодула за неосведомленность.
Тем же вечером Феодул сказал Андрею: дни, когда уже ни ты сам, ни дорога твоя, ни все встреченное тобою по пути не имеет ни смысла, ни интереса, и тогда поневоле обращаешься мыслями к иным людям и иным путям. Вид этих окаменевших людей навел меня на мысль о василиске. И вот что я скажу тебе, Андрей: нам, слабым и грешным, нам, трусам и маловерам, надлежит остерегаться встречи с подобным гадом. Но там, где я провел долгие годы, то есть в Святой Земле, – там жили святые отшельники, которые умели обходиться и с гадами. Узнай же, к примеру, что жил там некогда один святой старец, и пошел он однажды за какой-то надобностью в пустыню, где и встретился ему василиск. И тогда, видя, что нет ему спасения, воззвал старец к Богу и сказал: «Господи! Или ему жить, или мне». И василиск тотчас расторгся. У нас же нет такой веры, и оттого-то страшен нам василиск.
Андрей, выслушав, проворчал:
– Пора спать.
А сам полночи не спал и наутро нехотя признался, что все это время помышлял о василиске.
То обстоятельство, что толмача Феодулу дали далматинца, было чрезвычайно некстати, ибо далматинцы исстари славились сволочным характером и тяжелыми нравами. Вот что писал об отечестве своем урожденный далматинец Евсевий Иероним, пресвитер, которого латинники чтут за святого, а константинопольские греки признают лишь блаженным, но отнюдь не совершенно святым:
«Отечество мое, – говорил отец Иероним, – есть средоточие невежества и грубости, где чрево служит богом, живется со дня на день, без думы о будущем, и святее тот, кто богаче. Для нежных губ выращивается салат, осел же довольствуется тернием. Так и в Далмации: по сосуду и крышка – и священство наше ничуть не лучше мирян. Слабый кормчий управляет там кораблем с течью, а слепой ведет слепых в яму – отсюда все беды, у нас проистекающие».
Сомневающихся в нашей правдивости отсылаем к переписке Евсевия Иеронима Стридонского, письмо к Хромацию, Иовиниану и Евсевию от 374 года. Там еще много разного сообщается о Далмации, однако все эти занимательные подробности никак не являются предметом нашего нынешнего повествования.
Немало чудес встретил Феодул на пути в Каракорум. И понимал он, что входит в пределы полночные, откуда до края земли и панциря черепахи рукой подать. Однако и здесь, не доходя еще до черепахи, хватало различных страшных див.
И вот однажды задул сильный ветер, так что даже монголы начали говорить «фу» и отворачивать лица. Сын темника сказал, что впереди вот-вот откроется большое море. И действительно, вскоре земля расступилась и показалось огромное море, безбрежное, но не беспредельное. Ледяные волны высоко вздымались под ветром и набрасывались на берег, источая пену, точно бешеные псы. А вдали, почти у самого горизонта, был виден посреди этого моря скалистый остров.
Феодул с Андреем подошли к берегу, желая узнать, пригодна ли здешняя вода для питья, ибо кислое молоко, которым обыкновенно утоляли жажду монголы, казалось им непереносимой дрянью, едва ли приличной для употребления христианами.
Держась друг за друга из опасения, как бы ветер не унес их в море, они подобрались как можно ближе к воде, и Феодул бросил в волны полотенце. Волны почти тотчас вернули ему полотенце намоченным. Феодул пососал уголок и нашел, что здешняя вода хоть и солоновата, но вполне сносна и ее можно пить. После этого он приказал Андрею набрать этой воды в бурдюки, хорошенько прополоскав их предварительно.
Андрей посмотрел на волны, на темное небо и молча направился назад, к своей лошади. Феодул пошел за ним следом. Тогда Андрей вдруг остановился, повернулся к Феодулу и сказал:
– Я не слуга тебе, а толмач.
Хотел было Феодул наговорить Андрею и того, и этого, но вдруг увидел он на берегу, в высушенной и выстуженной осоке, нечто такое, от чего сразу позабыл и о воде для бурдюков, и о досаде на строптивого далматинца. Дернул того за рукав и шепнул от волнения сипло:
– Гляди-ка, Андрей, что это там такое на берегу?
И оба побежали смотреть. У Феодула отчего-то немели руки, словно ему предстояло увидеть сейчас нечто страшное.
Но если оно и было когда-то страшным, то те времена уже миновали, ибо теперь оно было мертво. Лежало себе тихонечко в сухой траве, свернувшись клубком, будто спало. Но одна рука была откинута в сторону, и видны были посиневшие неживые пальцы.
– Не трогай его, – попросил Андрей, вздрагивая.
Феодул, не отвечая, присел на корточки и перевернул существо на спину. В Акре Феодул был Раймоном, а Раймон де Сен-Жан-д’Акр был монахом – вот почему Феодул иногда совершенно не боялся ни смерти, ни мертвецов, ни даже чудищ.
Открылось спрятанное в густой шерсти страдальчески сморщенное голое личико. Оно было узкоглазым, похожим на монгольское, с широкими ноздрями, но лишенным какого бы то ни было рта.
– Чудны дела Твои, Господи, – прошептал Феодул.
А Андрей сказал:
– Должно быть, он из тех, кто обитает на том острове. Я слышал о таких, которые не имеют рта, а питаются запахом и для того весьма искусно составляют благовония, потому что у них пахучие вещества считаются тем же, чем у нас всякие яства. Многие земные владыки отдали бы огромные богатства ради того, чтобы заполучить к своему двору такое существо – ведь благовония дорого ценятся во всем мире.
Феодул задумчиво глядел на мертвеца, прикидывая, не предпринять ли в самом деле охоту.
– А есть ли средство поймать одного такого, ничем ему не повредив? – спросил Феодул.
– Их ловят на запах, – ответил Андрей. – Так я слышал от одного старика, жившего при дворе Батыя. Старик еще говорил, что поймать их проще простого. Нужно только пробраться на этот остров, а там я научу, как поступать.
Он еще раз посмотрел на неживое существо и поежился, а Феодул подтолкнул Андрея в бок:
– Идем, идем. Скажи монголам, что надо добыть лодку. Это – для великого хана.
– А с мертвецом что делать?
После короткого раздумья Феодул ответил:
– Доставим его на остров. Пусть сородичи его и хоронят по своим обычаям. Не нам же мерзлую землю для него долбить.
Сын темника слушал толмача невнимательно – как вообще монголы слушают всякого незначительного человека. Несколько раз посреди разговора вдруг принимался что-то обсуждать и обсмеивать с другими монголами, а о Феодуле с толмачом словно бы и забывал. Но Феодул упорно стоял на своем, и в конце концов сын темника принялся кричать на Феодула. Прочие при этом шумно переговаривались, оглаживая лошадей и словно бы занятые спором: которая из этих некрасивых лошадок с короткими монхатыми ногами лучше. Когда сын темника выдохся и, отдуваясь, замолчал, вместо Феодула ответил ему Андрей. Потемневшее одутловатое лицо монгола вдруг расплылось в глуповатой улыбке. Он задал Феодулу несколько быстрых вопросов, один за другим, и на все получил от толмача утвердительный ответ. Тут сын темника рассмеялся, хлопнул Феодула по плечу и обратился к прочим монголам. Те, не дождавшись даже окончания его речи, разом загомонили, и Феодулу показалось, что они как будто ссорятся, но затем трое из десятка куда-то умчались и вернулись спустя довольно короткое время с известием о находящемся поблизости поселке, где имеется лодка.
Поселок еще издали поразил Феодула тем, что на самом видном его месте стояла маленькая церковь – как положено, с крестиком на крыше. Это несказанно обрадовало Феодула.
Сын темника неторопливо двинулся осматривать поселок. Его лошадь то и дело останавливалась, обводя равнодушными глазами неинтересные картины, открывающиеся перед ней: растянутые на берегу сети, разбросанные как попало домишки, между которыми на веревках под камышовыми навесами сушилась бесконечная рыба.
Чувствуя непонятное волнение, Феодул зашел в храм. Снаружи церковь выглядела убого, внутри же казалась мрачной, как могила. Голые каменные стены пахли погребом. Не столько даже погребом, сколько плохо отмытым бочонком из-под сметаны. Всего убранства там и было, что несколько серых от пыли полотенец, висящих на стене, простой деревянный крест посреди помещения и железка, привешенная к потолку напротив окна, – здесь пользовались, по старинному греческому обычаю, билом вместо колокола.
Феодул осмотрелся и принялся вздыхать: хоть и похож на склеп, а все же храм Божий; скучал Феодул без службы и святого причастия. И вот решился он сам себе доставить великую радость и для того призвать сюда священника: путешествующему не должно быть отказа, тем более в подобном деле.
С этим-то намерением схватил Феодул било и ну лупить по железке, подняв ужаснейший трезвон. Спустя некоторое время в храме показался какой-то человек в лохматой шубе, по виду сильно пьяный, и спросил Феодула о чем-то хриплым голосом. Феодул бросил било, высунулся в окно и закричал во всю мочь:
– Андрей!!!
Далматинец обнаружился под самой стеной, где искал укрытия от ветра. Поначалу он наотрез отказывался покидать свое убежище, но, видя отчаяние Феодула, нехотя зашел в храм и вступил в пререкательства с пьяным в шубе. Феодул нетерпеливо ждал и наконец не выдержал, вмешался:
– Что он говорит-то?
– Говорит, что он священник. Готов помочь тебе. Предлагает пузырек освященного масла за три марки серебром и готов принять исповедь за пять.
– Пять – чего? – не понял Феодул
– Марок серебром.
Феодул так и разинул рот. Андрей глядел на него насмешливо. Наконец Феодул сказал:
– Пусть позовет лучше здешнего священника. Я ведь вижу, что он мирянин. Меня не обманешь.
Теперь Андрей от души забавлялся и даже не помышлял скрывать этого.
– Он говорит, что безразлично, кого звать. В этом селении все мужчины – священники.
Феодул перевел взгляд на пьяного, и тот, словно понимая, о чем идет речь, радостно осклабился и закивал.
– Иной раз – по ошибке, должно быть – забредает к ним какой-нибудь епископ, – продолжал Андрей (а сам, схизматик клятый, так и ухмыляется в рыжеватую тощую бороду)
– Они его сразу – хвать! – и поят рисовой водкой, а напоив, заставляют поставлять в священники всех мужчин, и мальчиков, и даже младенцев мужского пола. Вот почему всякий тут – сызмальства священник.
– Для чего же они это делают? – усомнился Феодул.
– Говорят: чтоб наверняка. Среди них бродит такой слух, что скоро вроде бы конец света, а они твердо веруют, что священники-то непременно спасутся.
Феодул призадумался. Следует ли принимать причастие из подобных рук? Не осквернилось ли оно таким образом? Конечно, Феодул ничем, кроме пяти марок серебром, не рискует. Не отравится же он в самом деле, если причастие окажется ложным… С другой стороны, это как посмотреть. Пять марок – деньги немалые. Константинопольский нищий и в седмицу столько не заработает.
Тот, в шубе, подошел поближе и, лыбясь, выжидательно топтался на месте.
– Если они все священники, – сказал наконец Феодул, – то как же они род людской продолжают?
Андрей расхохотался:
– При помощи женщин, Феодуле. Как везде. У этого, к примеру, три жены и шесть малюток – так он мне сказал.
Феодул, пораженный, повернулся к священнику и показал тому три пальца.
– Три? – переспросил он.
Тот закивал, сделал жалостное лицо. Андрей фыркнул:
– Не веришь?
– Не верю! – рассердился Феодул. – Ты нарочно меня морочишь, чтобы я от святого причастия отказался.
– Ну-ну.
– Три пальца – это он в Святую Троицу верует.
Тут местный житель приблизился к Феодулу вплотную и обдавая того крепким винным духом, принялся что-то жарко втолковывать. Он гримасничал, показывал то три пальца, то пять, умильно заглядывал в глаза и в конце концов так похоже изобразил детский плач, что сомнению места уже не оставалось. Андрей торжествовал.
– Кстати, – добавил толмач, – только из расположения к тебе говорю: нынче ты здесь ни одного тверезого не сыщешь.
– Почему? – спросил Феодул, убитый горем.
– Пятница, – пояснил Андрей. – По пятницам они тут едят мясо и вообще учиняют знатные попойки.
– По пятницам?
– Этому их научили сарацины.
Феодул бессильно оглянулся на местного, поймал его выжидающий взгляд, вдохнул вонь овчины и перегара, снова обнаружил у себя перед носом три грязных трясущихся пальца – и заплакал от огорчения. Даже бессердечного Андрея проняло: жаль Феодула! Обнял толмач посланника Папы и как гаркнет на лжесвященника:
– А ну вон!
Местный возмущенно замычал и полез было в драку, но тут в храм вошел сын темника и с ним еще трое – низкорослые, плотные, на коротких кривых ногах, страшные и грозные. Принялись щупать стены, смеяться; потом завидели Феодула и замахали ему, чтобы скорее шел. Лодку взяли, ехать пора – добывать подарок великому хану.
В такую-то пору на море и глядеть холодно, не то что по морю плыть. С сомнением бродил Феодул вокруг карбаса, вытащенного на берег. Черный, тяжелый, он, казалось, сразу пойдет ко дну, едва только спустят его на воду. Хозяин карбаса – рулевой да четверо гребцов слонялись неподалеку в хмуром ожидании, а надзиравшие за ними монголы, не покидая седел, болтали между собой.
В карбас взяли, кроме гребцов и рулевого, Андрея с Феодулом и двух монголов. Найденное в осоке тело завернули в рогожку и поместили на носу. Поплыли. Феодул, бледный, вцепился в борт, губами зашлепал: «Богородице, радуйся…» – хотя какая уж тут радость, кругом одна только свинцовая вода, такая ледяная да лютая, что при одном только взгляде на нее руки-ноги начинает судорогой выворачивать.
И вот начал расти впереди скалистый остров. С каждым гребком все круче отвесы скал, все ближе они, и видны уже какие-то серые клочковатые кусты на их вершине. Но рыбаки хоть и пьяны по случаю пятницы, а дело свое знали: обошли остров, выгребая против ветра, и вскорости нашли маленькую бухту, где вполне удобно подобраться к самому берегу.
Монголы сидели в лодке как истуканы: неподвижные, с немигающим взором. Они зашевелились только после того, как гребцы вытащили карбас на берег. Рулевой остался при лодке, а прочие направились в глубь острова.
Он казался пустынным – всюду лишь камни, песок да выстуженные на ветру кусты. Посреди острова высилась черная гора, и оттуда постоянно доносилось глухое ворчание.
– Это ветер, – растолковал Андрей, переговорив с гребцами. – Он зарождается там, в глубине пещеры, и иногда вылетает наружу – тогда случаются бури. Но сейчас бояться не следует – он просто ворчит. Он всегда так ворчит, когда спокоен.
Монголы выбрали хорошее место для засады и приготовили сеть, взятую с карбаса, а Андрей нашел выбоину в скале наподобие чашки и осторожно налил туда вина, которым запасся в поселке. После этого оставалось только устроиться поудобнее в укрытии и ждать.
Феодул продрог до костей.
– И как только тебе, Андрей, не холодно, – шептал он толмачу, едва удерживая слезы.
Толмач – с виду настоящий заморыш, на деле жилистый и выносливый – только ухмылялся.
– Лучше не шуми зря, – прошептал он в ответ. – Не то спугнешь.
Феодул досадливо махнул на толмача рукой:
– Злой вы народ, далматинцы. Ни мороз, ни монголы вас не берут.
Отобрал у Андрея остаток приманки, выпил, но даже от этого не согрелся. Он бы, наверное, так и умер среди диких скал под пронизывающим ветром – ведь чужая шуба упорно не желала согревать Феодула, – но тут появились наконец существа, обитавшие на острове. Местные рыбаки называли их «хин-хин», а почему – никак не объясняли.
Живые хин-хины еще больше были похожи на обезьян, чем их мертвый сородич. Они передвигались на задних ногах, подобно людям, однако при этом сильно сутулились и охотно опускались на четвереньки. Густой мех позволял им обитать на родине полночного ветра и не испытывать никаких неудобств.
Сперва они собрались у красноватой винной лужицы. Ужасно захлопотали, начали принюхиваться, вытягивая шеи, широко раздувая ноздри и тараща глаза, забегали вокруг, принялись толкаться и наконец уселись кружком, положив друг другу на плечи длинные лохматые руки. Некоторое время они так сидели, гримасничая и покачиваясь, а потом один за другим стали засыпать.
– Вот и все, – сказал Андрей. – Спят они крепко, берите любого.
И поглядел на хин-хинов с отвращением и жалостью. Монголы приблизились к спящим, держа наготове сеть. Феодул стоял рядом, разглядывая пушистые тела и синеватые голые личики и не зная, на что решиться. Один из монголов дернул Феодула за рукав, показывая на самого крупного хин-хина. Для убедительности кивнул несколько раз: мол, что тут сомневаться – этого! Но Феодул покачал головой и сделал свой выбор – самый чахлый, тот, что заснул первым. Монгол хотел было спорить, однако Феодул сказал Андрею:
– Переведи: разве не доводилось ему видеть, как в полоне от тоски и пустяковых ран гибнут один за другим крепкие воины, а тощие да хворые, в чем душа только держится, – те живут себе и живут, на удивление пленившим?
Андрей вспыхнул и ответил, злясь:
– Сам и переводи.
Но ничего переводить не понадобилось. Монгол, явно считая всю эту Феодулову затею полной глупостью, наклонился над хин-хинами и осторожно поднял на руки указанного Феодулом.
– Сразу сетью его, – предупредил Андрей. – Они прыткие. Проснется – не поймаешь.
С легкой ношей на руках спустились к берегу, а там, одинокий и злой, ждал их хозяин карбаса. Монголы, не говоря худого слова, полезли в лодку и уселись опять как истуканы. Феодул сел вслед за ними. Андрей передал ему опутанного сетью хин-хина.
– Эй, – сказал хозяин карбаса и показал на тело мертвого существа, все еще лежавшее на носу, – а эту-то падаль куда девать? Не с собой же его везти обратно!
– Вынеси на берег, – велел Феодул Андрею.
Андрей молча повиновался.
Наконец все осталось позади – и остров, где рождается полночный ветер, и ледяное море, – лодка ткнулась в берег.
Поглядеть на живого хин-хина сошелся весь поселок. Существо беспробудно спало, шумно сопя широкими, будто вывороченными ноздрями, и во сне морщило личико, а жители поселка радовались тому, что хин-хин, хоть и не знает об обычае праздновать пятницу попойкой и иным веселием. Тоже пьян – совсем как взаправдашний человек.
* * *
Хин-хина поместили на лошадь позади Феодула. Предлагать эдакое соседство монголам ни Андрей, ни Феодул даже в мыслях не решались; что до толмача, то попыткам внедрить безрогого пленника к нему в седло он решительно воспротивился. Так и вышло, что повез Феодул хин-хина сам.
А тот, гляди ты, как отрезвел, так почти сразу и освоился. Глазами по сторонам водил, ноздри на новые запахи различно растопыривал: то раздует их, то сдует, то вовсе торчком поставит. Любопытно ему, лохматому. Костлявые обезьяньи пальцы вцепились Феодулу в плечи, а длинные ноги обхватили за талию. От шерсти хин-хина ощутимо пованивало рыбой.
Тронулись в путь.
И тотчас со всех сторон налетели ветры. Принялись трепать Феодула с товарищами. Был тут и западный ветер, зеленый, как трава; был и восточный – цвета желудя, обвивающий путника точно пеленами; и полуночный ветер – важный, золотой и тяжкий; но самым лютым показался Феодулу ветер полуденный, белый, ибо нес с собою влагу и обманчивое обещание весны.
Синеватое личико хин-хина страдальчески морщилось, глаза беспокойно шевелились под лысыми веками.
Надлежало пройти некоторое расстояние по берегу моря, а затем повернуть на северо-восток. Далее дорога пролегала по очень узкой долине. Справа и слева от этой долины, или, лучше сказать, расселины, высились голые черные скалы. Ветры, сходясь здесь все вместе, задували сразу со всех четырех сторон и с такой ужасающей силой, что никакой снег не удерживался на поверхности этих скал, никакая песчинка не могла найти себе здесь успокоения.
Нехорошо было это место еще и потому, что водились в долине какие-то особенно злокозненные монгольские демоны. Едет иной раз человек по долине, не ведая горя, а тут налетит демон и человека унесет. И ни одна живая душа потом не скажет, что с этим человеком приключилось. Сгинул – как не бывало. А иной раз и хуже случается: украдет демон не всего человека, а только его внутренности. Одну пустую оболочку в седле оставит. Со стороны кажется, будто ничего не случилось, а на деле – не человек едет, а голая видимость. И такое случалось.
Услыхав про демонские козни, Феодул призадумался, однако затем исполнился храбрости и сказал Андрею так:
– Может, и гнездятся в этих скалах какие-то демоны, а может быть, и нет, – нам-то с тобой что за печаль, Андрей? Демоны сии суть порожденье монгольское и нарочно для монголов предназначенное. Нам же, в истинного Бога верующим, такой напасти опасаться нечего.
И первым вошел в долину, а прочие опасливо потянулись следом.
Тут уж нахлебался Феодул страху. Едва лишь сомкнулись вокруг черные скалы, как поднялся громкий крик – и справа, и слева, но пуще всего откуда-то сверху. То звериная тоска в этом крике отзывалась, то слышались вдруг человечьи голоса, лопотавшие на неведомых наречиях; а потом раздался словно бы безутешный плач, и разобрал Феодул чьи-то жалобы, и язык этих жалоб был латынью. «Ax, ax, – плакал голос, – больно, больно… холодно, холодно… ах, ах… лед, лед…» И еще звенело что-то, пронзительно и тонко, словно крушили стекло…
От всего этого ужаса Феодул поначалу сомлел, но затем ощутил, как что-то колет его в бедро. Поначалу решил, что это хин-хин озорует, вздумал когти запускать, но пригляделся и понял: костяная Богоматерь, которую носил он, не снимая, на поясе, высвободилась из густых складок Феодуловой одежды и грозит ему тоненьким пальцем.
– Ave, Maria, – сказал Феодул.
Богоматерь улыбнулась, и в ущелье запахло розами. Голоса продолжали кричать, но теперь Феодул ясно слышал, что это лишь завывание ветра.
– Где ты была все это время, Всеблагая? – спросил Феодул костяную фигурку.
– Я – неотлучно с тобою, – отвечала она. – А вот ты где бродил, неосмысленный?
Ночевали в долине. Боялись. Поочередно сменялись у костра. Монголы добыли из своих вьюков маленький, обвешанный кистями барабанчик и всю ночь стучали в него, отпугивая злых духов, так что к рассвету барабанчик весь покрылся мозолями и не мог больше издать ни звука.
Хин-хин в первую же ночевку в обществе людей обнаружил порочные наклонности, а именно: тайно выбравшись из палатки Феодула, прокрался к монголам и там принялся обнюхивать их ноги, жмурясь от удовольствия.
Постепенно долина становилась шире. По мере продвижения отряда горы расступались все дальше, пока наконец на пятый день пути не скрылись за горизонтом. Вокруг вновь расстилалась безбрежная равнина, но теперь в плоской ее глади не было больше покоя; напротив – здесь угадывались какие-то незримые смерчи, и всяк ступивший на эту землю подхватывался неумолимым вихрем, который завлекал добычу все глубже и глубже, в таинственную утробу – туда, где зарождаются все неукротимые ветры, побуждающие монголов совершать походы и в страны рассвета – Китай и Яву, и в страны закатные, где ждал их со склоненной заранее выей богобоязненный король франков Людовик.
Вот уже показались стада, вот заметны сделались высокие телеги и белые юрты; вот уж и люди с черными, покрытыми толстым слоем сала лицами усмешливо скалятся навстречу… И тогда сын темника сказал Феодулу, что шатры эти – великого хана Мункэ, властителя Вселенной.
При этих словах у Феодула пресеклось дыхание, он схватился за грудь и вдруг разрыдался.
Встречали посольство великого Папы без всякого почета и почти без любопытства. Сын темника по прибытии страшно заважничал и оставил Феодула с Андреем, даже не дав себе труда проститься с ними. Андрей хмуро плюнул ему вслед и сказал:
– Все они таковы, монголы. Всяк, кто не монгол, для них существо низшее, ибо себя возомнили они владыками мира, прочих же – рабами своими и слугами.
Час или два спустя приблизился к путникам незнакомый монгол в очень грязном рыжем треухе, сдвинутом на бровь. Оглядел Феодула с Андреем, щелкнул языком и засмеялся, показав вычерненные зубы с большой щербиной спереди.
Феодул насупился. Монгол сказал что-то, махнув рукой.
– Говорит: великий хан велел ему устроить нас в отдельной юрте, – перевел Андрей.
Монгол сощурился, прислушиваясь к голосу Андрея. Когда толмач замолчал, монгол опять засмеялся и передразнил:
– Бл-бл-бл-бл!
Феодулу все это очень не понравилось.
– Почему они прислали нам этого худородного насмешника? – спросил он Андрея. – Мы ведь посланцы самого великого Папы!
– Говорю же тебе, они всех так встречают! – вспылил Андрей. – Эка невидаль – посланцы!
– От ПАПЫ РИМСКОГО! – разъярился и Феодул. – От самого Папы!
– Да хоть от Господа Бога! – рявкнул Андрей. – К ним сюда весь мир на поклон приходит…
Монгол в рыжем треухе, не дожидаясь конца разговора, развернул свою лошадь и поехал между шатрами. Феодулу с Андреем ничего не оставалось, как прекратить спор и следовать за ним.
Юрта оказалась убогой и тесной, но там уже хлопотала две монголки. Маленький очаг горел посреди юрты, плохо прожаренное мясо поджидало послов на плоских камнях, в мисках плескалась мутная белая жижа – разведенный водою сушеный творог. Всем этим женщины и принялись потчевать папских посланцев.
Феодул пристроил мешок с добром у войлочной стены. Хин-хин тотчас забрался на мешок, обхватил длинными лохматыми руками колени и начал жадно принюхиваться.
Андрей как ни в чем не бывало развалился у очага и согнутым пальцем подозвал к себе одну из женщин. Та подтолкнула локтем подругу, тоненько захихикала и мелкими шажками приблизилась. Далматинец запустил руку ей за шиворот, пошарил немного, но тут женщина вся затряслась от смеха и завизжала – видать, от щекотки. Андрей ее отпустил.
– Да ну тебя, – проворчал он и взялся за мясо.
Опасливо поглядывая на вторую монголку, Феодул присоединился к толмачу. Женщины без всякого стеснения громко переговаривались между собой, то и дело разражаясь смехом. Феодул сказал с набитым ртом:
– Объясни мне вот что, Андрей. Великий Римский Папа прислал меня к ихнему хану, дабы чрез мое посредство заключить с монголами мир.
Андрей, осовевший от тепла и сытости, сонно смотрел куда-то мимо Феодулова уха.
– Положим… – нехотя выговорил он.
– Отчего же нас принимают так, словно мы – бродяги безродные? Эдак ведь можно и мира никакого не заключить…
Андрей растянулся на полу, устроившись головой в коленях у монголки.
– Больно нужен великому хану этот твой мир, – сказал далматинец, лениво копаясь пальцами в одежде своей подруги. – Да сам рассуди, Феодул. Кто из ваших владык поедет в эти степи воевать с монголами? Никто не поедет… А вот монголы, коли стукнет им в голову такая прихоть, без всякого труда опять выйдут отсюда и разграбят франкские королевства…
Феодул сердито замолчал. Далматинец почти сразу захрапел. Хин-хин таращился на него, часто-часто дыша и напрягая вывороченные ноздри.
Спустя недолгое время в юрту всунулся прежний монгол с черными зубами. Он принес гостинец – длинный кувшин с очень узким запечатанным горлышком. Теперь Феодул ясно видел, что монгол этот изрядно пьян. Вручая посланцу Папы кувшин, монгол кивал, ухмылялся, неприятно булькал горлом и хохотал – как показалось Феодулу, нарочито. Затем похлопал Феодула по спине и ушел так же внезапно, как и появился.
Феодул сковырнул с кувшинчика печать и перво-наперво поднес к носу хин-хина. Однако получеловек отнесся к монгольскому дару с полным безразличием: содержавшийся в сосуде бесцветный мутноватый напиток запаха не имел.
Вторая монголка – «суженая» Феодула – торопливо залопотала по-своему, показывая, что содержащееся в кувшине надлежит выпить. Она гладила себя по животу и усердно кивала.
Феодул растолкал Андрея.
– Что это, по-твоему, такое? – спросил он, сунув кувшинчик под нос толмачу.
Тот бессмысленно замычал. Феодул слегка наклонил кувшин, так чтобы несколько капель смочило толмачу губы. Андрей облизнулся во сне и вдруг совершенно ясным голосом произнес:
– Рисовая водка.
И снова захрапел.
Оставшись, таким образом, без всякой поддержки, Феодул освирепел.
– Водка так водка! – сказал он. – Всяк тут меня дурачить да поучать будет!
И одним махом влил в себя содержимое кувшинчика, не имевшее, как ему показалось, не только запаха, но и какого-либо вкуса.
Поначалу ничего с Феодулом не происходило, так что он уж уверился было в изначальной своей догадке касательно всегдашнего монгольского обыкновения насмешничать, но спустя недолгое время… Ой-ой! Будто мокрым кожаным поясом сдавило лоб Феодула – да так, что в глазах потемнело. Застыл тут Феодул, рот приоткрыл, задышал из последних сил. А петля на бедной его голове стискивалась все крепче и крепче, хоть и мягко, но настойчиво, и тьма вокруг Феодула все разрасталась и разрасталась.
Феодул не мог бы определить, долго ли тянулось это мучение, заключавшее в себе вместе с тем нечто сладостное, или же было оно мимолетно. Как вдруг все прекратилось, в глазах разом просветлело, по телу разлилось могущественное тепло, а в голове возникла приятнейшая легкость. Феодул тихонько рассмеялся и улегся у огня, а монголка с птичьей корзинкой на голове вместо чепца обиженно надула губы и полночи сердилась, покуда сон не сморил ее.
Наутро ждали какого-то важного монгольского чиновника, однако тот не явился, и потому Феодул, соскучившись сидеть в тесной, пропахшей прогорклым салом юрте, закутался в свою холодную шубу с монгольского плеча и отправился странничать по городу великого хана Мункэ. Хин-хин забрался Феодулу на спину и замер, точно прилип, отчего сделался Феодул как бы горбатым.
Посольский ям помещался вдали от юрт самого великого хана, но даже и здесь царила толчея, словно в большом городе. Повсюду сновали люди самого разного обличья, так что на Феодула с хин-хином на спине мало кто засматривался. И все чудилось Феодулу, что где-то там, впереди, теперь уже совсем неподалеку, находится страшное чудище, сходное с муравьиным львом, засевшим на дне коварной воронки; и всяк червие и мравие, едва лишь окажется поблизости, подхватывается неведомою силою и вовлекается в эту самую воронку, муравьиному льву в пищу и на потеху.
Так рассуждал Феодул сам с собою, как вдруг заметил одну юрту, помеченную знаком креста. При виде сего так возрадовался он, что сердце едва не выскочило у него из горла. Феодул бросился к этой юрте и, не мешкая ни мгновения, вошел.
Там сразу увидел он самый настоящий алтарь, покрытый роскошным покрывалом с золотой вышивкой в виде агнца с крестом на голове. На алтаре стоял большой серебряный крест, сходный с тем, что некогда был украден Феодулом у попа Алипия. Под крестом лежали хлебцы и горстка сушеных яблок.
В юрте находился только один человек, зато какой! Это был хмурый жилистый мужчина лет тридцати, одетый в очень жесткую черную власяницу. При одном взгляде на эту одежду в теле сам собою поднимался нестерпимый зуд. Поверх власяницы этот человек носил черный плащ, подбитый мехом. Был он бос, и хотя в юрте было довольно тепло, Феодул счел это подвигом.
И лицо хозяина юрты было лицом аскета: черные брови взбивали морщины над хрящеватым носом, глаза тонули в тени, тонкие сухие губы плотно сжаты.
– Ave, Regina, – молвил Феодул, кланяясь. Хин-хин шевельнулся у него на спине и покрепче вцепился Феодулу в шею.
– Gratia plena, – отозвался человек и изобразил в знамении двуперстый крест. При этом движении что-то тихо звякнуло, и Феодул увидел, что человек носит также железный пояс со свисающими цепями.
– Благословен Господь, пославший мне эту встречу! – воскликнул Феодул. – Дозволь мне вкусить радость твоей беседы, ибо я уж не чаял повидаться с единоверцем. Я – брат Раймон из Акры, здесь же нахожусь с поручением от господина нашего Папы Римского.
Тут Феодул не совладал с собою и дольше, чем следовало бы, задержал взгляд на хлебцах и яблоках, лежавших на алтаре. Хозяин тотчас предложил гостю хлебец и назвал себя братом Сергием.
Угас «Лампион добродетели»
Всякое время в изобилии рождает и плутов, и подвижников. А иной плут, заигравшись, и воистину делается подвижником, чему немало примеров и в житиях благочестивых отцов, и в насмешливых рассказах язычника Лукиана, и в одной книге под названием «Лампион добродетели», которая сгорела в 1291 году после того, как Килавун, султан египетский, взял штурмом Акру – последнюю крепость франков на Святой Земле. Помимо прочих поучительных историй, помещался там рассказ о брате Сергии, который подвизался при дворе великого хана Мункэ и совершил там множество подвигов. Поскольку рассказ этот имеет, хотя бы косвенное, отношение к истории Феодула, дерзнем поместить его здесь.
Какой-нибудь маловер, возможно, спросит, каким это образом возможно помещать в книге рассказ, безвозвратно сгоревший в 1291 году? Да устыдится он своего невежества, вспомнив о том, что история наша относится к 1252 году, когда «Лампион добродетели» цел-целехонек лежит себе в Акре, в том самом миноритском монастыре, что вскормил и выпестовал Феодула.
Жил некогда в Армении один священник, человек весьма благочестивый, знаток книг и изустных премудростей. Он исповедовал веру Христову не по-римски, но согласно старинным заветам Нестория.
Здесь следует сказать, что учение Нестория, чрезмерно мудреное и потому допускающее произвольные и далеко идущие толкования, было осуждено в Риме, но совершенно не погибло. Напротив. Нашлись люди, которые сберегли книги, написанные Несторием в изгнании, и положили их в основание своей общины. А поскольку обитали несториане как бы на обочине христианского мира – в Армении и отчасти в Сирии, – то и осуждение со стороны Рима их не достигало.
Этих людей легко было узнать среди прочих, ибо они никогда не изображали Христа пригвожденным к кресту, говоря, что это стыдно, и даже отказывались смотреть, если им показывали распятие. Однако самый знак креста чтили и иногда выжигали его себе на лбу раскаленным железом. Армянский священник, о котором идет речь в «Лампионе», этого, однако, не одобрял и среди своей паствы не приветствовал, а вместо того всем крещающимся выжигал небольшой крестик на правой ладони, используя для этого старинное тавро. Такой ладонью, учил он, можно очистить от скверны любую пищу и еду, а в очень редких случаях – и человека.
Усердие и благочестие этого священника были таковы, что обратили на себя внимание Господа, и, желая вознаградить того за усердие, призвал Господь для беседы его душу, покуда сам священник мирно почивал у себя дома.
– Хочу одарить тебя. Проси! – сказал Господь Бог.
Священникова душа отвечала:
– По худоумию моему и отсутствию должного учителя не могу я, Господи, постичь некоторых премудрых книг, ибо написаны они по-гречески. А этого языка я не разумею.
– Будь по просьбе твоей, – сказал Господь, – дарю тебе знание греческого языка! Восстань с ложа своего, возьми книгу и читай.
Таков был этот человек, а звали его Саркис.
Новшества в церковной жизни считал за нечистое и всячески избегал их, а обычаев держался самых древних. Вместо мира употреблял он чистое оливковое масло; колоколов не признавал и сзывал на молитву, стуча билом по куску железа, подвешенному к кровле храма. Единственное, чего не захотел он унаследовать из принятого в ранних общинах, было единоперстие. Саркис учил осенять себя двуперстым крестным знамением – в память о соединении в Христе двух природ, человеческой и божественной, в чем и заключалась причина нашего спасения. Так же учил и Несторий.
Храм, где служил Саркис, стоял высоко в горах, отчасти вырубленный в скале, отчасти пристроенный к ней сбоку. С восточной стороны к храму теснились обтесанные плоские камни с вырезанными на них виноградными лозами и крестами.
Кругом храма высились горы, иссушенные солнцем, так что тонкая серая пыль день и ночь скрипела на зубах. Далеко внизу белой лентой пенилась и прыгала безымянная речка.
В холодном полумраке храма, воткнутые в ящики с песком, горели лучины, наполняя темный воздух золотистым светом.
Но всего удивительнее были в храме стены – лишенные всяких украшений, вытесанные из розовато-серого камня. Любое слово, сказанное в самом храме, тотчас звонко разносилось по всему помещению, поскольку при строительстве в стены было вмуровано восемь пустых кувшинов. Благодаря этим кувшинам воздух в храме распределялся особенным образом, и всякий звук делался громким и ясным. И только в одном месте, при входе, голос становился глухим и как будто плоским. Это происходило потому, что в девятом сосуде, замурованном в стену слева над порогом, находилась отрубленная голова одного лютого идолопоклонника, который некогда приходил сюда во главе несметного войска, пытался захватить Армению и разрушить ее храмы, но милостью Божьей был разбит и предан справедливой казни.
Много чудес таил в себе храм; однако не обо всех сумели сохранить воспоминание люди, но только о некоторых.
И вот постигла Армению новая беда. Явились в горы отряды сарацин и учинили настоящий разбой. Многих жителей они убили или угнали в плен; разрушили дома, забрав оттуда все добро; добрались и до храма и священника пронзили копьем прямо у алтаря. А затем, охваченные дьявольской злобой, принялись крушить стены, поджигая все вокруг. Один за другим лопались певучие сосуды – все восемь; когда же дошла очередь до девятого, то оттуда выкатилась отрубленная голова с оскаленными в черной бороде зубами.
Все это видел сын священника, который скрывался в горах неподалеку. Когда настала ночь, он пробрался в разоренный храм и добыл из-под развалин крест – сарацины не тронули его, питая суеверный ужас перед знаком истинной веры. С этим крестом молодой армянин направился в Святую Землю и спустя много месяцев достиг своей цели, претерпев по дороге множество бед и лишений. В Иерусалиме он принял имя брата Сергия и ушел в пустыню, ибо ничего не жаждал столь сильно, как только спасения своей души.
Он превозмогал голод и нехватку воды, страдал от праздных мыслей и похотения, и часто так случалось, что, кроме Диавола, не было у него собеседников. Подбежит, к примеру, ящерка и давай насмехаться:
– Брат Сергий, а брат Сергий!
– Что тебе? – спросит брат Сергий. А она:
– Скажи мне, брат Сергий, правда ли, что несторианим монахам дозволено жениться?
– Ничуть не бывало, – отвечал брат Сергий. – С чего это ты взяла?
– А почему отец твой, священник, не остерегся зачать тебя? – не унималась ящерица. – Грех это!
– Отец мой, священник, не был монахом, – сердился брат Сергий, вынужденный растолковывать очевидное. – Священникам же святой Несторий дозволяет брать жен и рождать с ними детей.
– Не пойму я, в кого ты веруешь, – пищала ящерка, бегая по песку взад-вперед. – В Христа или в святого Нестория?
– Ах ты!.. – пуще прежнего сердился брат Сергий. – Так ведь и Христос не воспрещал жениться!
Только пустое это дело – спорить с диаволом. Глядь – вместо ящерки лежит на песке голая женщина. Лежит и пальчики на смуглых ногах поджимает – словно бы от нетерпения. Что тут скажешь? Как-то раз не сумел удержаться брат Сергий, пал рядом с нею. Только-только руку протянул, а женщина ушла в песок. Водой просочилась, точно ее и не было. В сердцах плюнул брат Сергий на то место, где она лежала. Слюна вскипела, поднялась желтой пеной. Тут уж брат Сергий нешуточно испугался и ушел в другое место, а прежнюю хижину бросил.
Так и боролся он с искушениями, покуда не явился к нему ангел в одежде пыльной и рваной и не велел покинуть земли Иерусалимские, а ступать вместо этого к владыке всех монголов, великому хану Мункэ, дабы просить о помощи в восстановлении отцовского храма. Ибо всяк должен заботиться о своем наследии; наследие же брата Сергия – храм, где служил Саркис.
– Как же я пойду к великому хану? – возразил ангелу брат Сергий. – Кто я такой, чтобы он стал меня слушать?
Тут гневный пурпур проступил сквозь пыль на одеянии ангела, легким пламенем вспыхнуло все его тело, и могучая сила сбила брата Сергия с ног, повергла его ниц и набила рот и глаза его жгучим песком.
– Берегись, брат Сергий! – сказал ангел грозно. – Я передал тебе волю Господа Бога твоего. Или любезнее тебе оставаться здесь на попечение диавола? Впрочем, ты волен выбирать.
Сказав так, ангел ушел. Следы босых его ног пылали до позднего вечера и даже наутро были еще горячими.
Так вот и случилось, что оставил брат Сергий земли Иерусалимские и направился к великому хану Мункэ.
Поскольку немалое знал он от своего отца и старался подражать его благочестивой повадке, то вскоре прослыл среди монголов за предсказателя и отчасти даже чудотворца, а это именно тот род людей, которые пользовались при дворе великого хана особенным почетом. Другие христиане, находившиеся там, также были все несторианами и не признавали над собою власти Рима, хотя в тонкости Несториева учения не входили – по невежеству и полной неспособности. Многие из них были также подвержены общему среди монголов пагубному пристрастию к хмельным напиткам, например, некий законоучитель Давид и один русский дьякон именем Болдыка, который, злоупотребив молочной водкой, тотчас принимался вещать и прорицать окружающим, причем подчас против их воли.
Брат Сергий привез с собой из Святой Земли разные чудесные вещи, например, один чрезвычайно горький корень, обладавший неслыханной целебной силой, и крошку хлеба со стола Тайной Вечери. Эту крошку, заключенную в малый хрустальный ковчежец, он носил на груди и никогда с нею не расставался. Разумеется, Давид и Болдыка, а также некоторые иные завидовали достоянию брата Сергия и его славе.
И вот случилось так, что одна из жен великого хана тяжко захворала, а звали ее Хутухтай-хатун. Здесь надобно сказать, что, хотя у великого хана, бывшего полным язычником, имелось великое множество жен, этой своей женой дорожил он особо, и она считалась среди прочих за госпожу.
Сперва призвала она к себе служителей идольских, но те никак не сумели помочь ей, что и неудивительно при лжеименном знании их.
Тогда великий хан послал за братом Сергием и двумя его сотоварищами, Давидом с Болдыкою, и спросил их, действительно ли так велика их волшебная сила, как о том рассказывают. На это Давид отвечал, что более могущественных заклинателей свет не видывал; брат Сергий добавил, что по особенной молитве умеет призывать к себе ангела и тот является беспрекословно и исполняет любые добрые дела, какие только укажет ему брат Сергий; дьякон же Болдыка присовокупил, что будущее и прошлое совершенно прозрачны для его пророческого взора. И тогда великий хан велел им исцелить его жену, Хутухтай-хатун, ибо она дорога его сердцу.
– Государь! – легкомысленно объявил Болдыка. – Для нас это легче легкого, ибо мы в отличие от идолопоклонников и сарацин служим истинному Богу. А коли госпожа, несмотря на все наши старания, умрет – что ж, будет только справедливо, если ты отрубишь нам голову.
Сказав такое, он тотчас ужаснулся, но было уже поздно.
Тогда все трое не мешкая отправились к жене великого хана и нашли ее в маленьком шатре, стоящем отдельно от прочих, где жили ее служанки и малолетние дети. Брат Сергий заметил, что это весьма разумно устроено, ибо всякая болезнь есть странник и любит переселяться из одного тела в другое. Однако, обладая природой отчасти диавольской, болезнь умеет также переселиться в новое тело с таким расчетом, чтобы и прежнее оставалось в полной ее власти. И в этом, как считал брат Сергий, заключена одна из самых страшных тайн сатаны.
Товарищи молодого армянина, выслушав это ученое рассуждение, преисполнились почтением к его мудрости и предоставили ему первенствующую роль в исцелении ханской жены.
Все в шатре указывало на то, что недавно здесь побывали жрецы идольские и прилагали немалые старания к исцелению больной. Ложе госпожи Хутухтай было окружено мечами, наполовину вынутыми из ножен: по обеим сторонам, в изголовье и изножье. Было очевидно, что это – часть какого-то заклинания. А на низеньком столике, где обыкновенно ставят угощение, Болдыка ничего не обнаружил, кроме одной чаши, доверху наполненной пеплом. Над пеплом был привешен черный камень, и это тоже было идольским служением и колдовством.
Сама же ханская жена неподвижно лежала на своем ложе и только водила глазами во все стороны.
Болдыка тотчас уселся возле этой чаши с пеплом и напрягся, силясь увидеть будущее, однако без привычной подмоги в виде рисовой или молочной водки мало преуспел. Законоучитель Давид взялся читать молитвы, но поскольку он, как и многие другие несториане, обитавшие на окраине христианского мира, все службы вел на сирском языке, которого решительно не понимал, то и выходила у него вместо молитвы сплошная абракадабра. Толку от нее не было никакого, напротив – выходило одно кощунство, и потому брат Сергий запретил ему это делать.
Сам же брат Сергий взял нож и чашу с водой, измельчил в порошок часть бывшего при нем чудотворного корня из Святой Земли и высыпал порошок в воду, отчего она сделалась горькою, подобно водам Апокалипсиса. Эту воду он благословил крестом, выжженным у него посреди ладони, после чего дал выпить больной, сказав: «Прими Духа Святого». Она охотно выпила, и от столь горького питья все внутренности ее подверглись великому волнению, которое она сочла за чудо. Затем он возложил ей на грудь хрустальный ковчежец с крошкой Тайной Вечери и велел держать не снимая до следующего дня.
Сотворив все это, трое несториан оставили шатер больной госпожи и направились к обиталищу брата Сергия, чтобы провести ночь у алтаря в молитвах за больную. Но столь сильно терзал их ужас при мысли о том, что она может умереть, что вынуждены они были прибегнуть к обычному в таких случаях средству и утешались до рассвета.
Наутро мучимый головной болью Болдыка – из троих самый опытный в хитростях монгольской жизни – приготовил все необходимое для возвращения сотоварищей к жизни.
[Вставка, сделанная на полях «Лампиона добродетели» переписчиком: Вот чудодейственный рецепт, исцеляющий от последствий употребления хмельных напитков. Возьми муку, из которой приготовляется хлеб, и брось на раскаленную сковороду, пока она не сделается коричневой. Затем разведи горячим китайским чаем, чтобы получилась кашица, заправь бараньим жиром. Не пей, но соси ее, протягивая сквозь зубы, и исцелишься.]
Обретя таким образом некоторую бодрость, целители вновь явились к больной, и она встретила их словами радости, ибо чувствовала себя значительно лучше. Они возблагодарили Господа и объяснили ханской жене, что боги идольские суть медь и войлок и оттого оказались бессильны помочь ей; Бог же христиан есть хлеб и вино, и оттого Он всесилен.
Тогда госпожа призвала служанку и велела принести три куска золота. Деньги у монголов бывают разных видов, например, из шелка с разными письменами. А бывают и в виде золотых слитков, которые называются «топорами», и цена каждого «топора» в пересчете на марки – десять марок. Эти-то три топора она вручила брату Сергию со словами, что он должен разделить их между своими собратьями по собственному разумению. Ибо госпожа Хутухтай считала брата Сергея старшим из троих.
А спустя несколько дней прислала ему в дар шапку из павлиньих перьев, и он стал носить ее, украсив сверху крестом.
Из-за этих золотых топоров случился между несторианами раздор, ибо брат Сергий увидел, что один топор фальшивый и сделан из меди, и потому счел за справедливое оставить себе два топора, а третий отдать Давиду, поскольку тот был законоучителем. Болдыка же, не получив ничего, смертельно обиделся и не захотел слушать никаких объяснений насчет фальшивого топора. И сделался он врагом брата Сергия, повсюду распуская о нем гнусные сплетни.
Когда ханская жена совершенно поправилась, великий хан призвал к себе брата Сергия и спросил, чего тот пожелает. Брат Сергий показал великому хану серебряный крест и объяснил, что этот крест – единственное, что уцелело от храма, который по праву должен был принадлежать ему, брату Сергию, и единственное желание брата Сергия состоит в том, чтобы восстановить храм и вернуть отцовское достояние.
Хан счел желание брата Сергия вполне достойным и спросил, много ли средств понадобится для такого дела. Брат Сергий отвечал не моргнув глазом: «Двести золотых топоров». Для монголов, как он успел узнать, такая большая сумма не представляла никаких затруднений. Ибо, считая себя владыками Вселенной, монголы не чрезмерно заблуждались.
Великий хан тотчас повелел своим писцам составить особую харатью чиновнику, ведающему сбором налогов в Великой Армении, с повелением выдать означенному брату Сергию, сыну Саркиса-священника, двести золотых топоров и проследить, дабы он употребил эти средства на восстановление храма, где подвизался его отец. Ибо великий хан и сам видит, что от Бога христиан есть ощутимая польза и потому надлежит почтить и обрадовать этого Бога.
Таким образом, невзирая на происки завистливого Болдыки, брат Сергий получил все желаемое и отбыл обратно в Армению. А там, каковы бы ни были его изначальные намерения, монголы принудили его потратить двести золотых топоров на полное восстановление храма и домов, разрушенных сарацинами. И до конца дней своих служил брат Сергий в этом храме, сделавшись человеком большого благочестия и сотворив немало добрых дел.
Иные говорят, будто этот брат Сергий вовсе не был сыном армянского священника и вообще не был армянином, а серебряный крест где-то украл по случаю. Утверждают, что на самом деле был он фускарием из Константинополя по имени Василий и на левой ноге имел шесть пальцев. Нашлись даже люди, которые бывали в его харчевне и пробовали там горячие бобы с мясом и фуску.
[Примечание переписчика на полях «Лампиона добродетели»: А если ты не пил фуски в горячий день, когда терзает жажда, то возьми воды с уксусом, вбей туда сырое яйцо, все хорошенько перемешай и пей!]
Однако, кем бы ни был тот человек, Сергием или Василием, имеет значение не начало жизни, а ее исход; скончался же он в глубокой старости и был оплакан родными и прихожанами как воистину святой подвижник.
Конец рассказа из «Лампиона добродетели».
Грамота Золотые Буквы
Таким вот образом и жил Феодул в праздности и размышлениях, время проводил в благочестивых беседах с братом Сергием-армянином, законоучителем Давидом и русским дьяконом Болдыкою, а с Андреем старался видеться пореже, ибо далматинец впал в полное угрюмство и от разговоров с ним возникали одни только неприятности.
Постепенно Феодул свыкся с таким житьем-бытьем, и ничто больше не огорчало его: ни страховидная монголка, ласкавшая его по ночам маленькими жесткими ладошками, ни хин-хин, каждое утро взбиравшийся ему на загривок и так наподобие горба сидящий у Феодула за спиной весь день, покуда не наступало время сна. Запахов в монгольском городе имелось видимо-невидимо, и все, видать, сытные, ибо раздобрел некогда тощий хин-хин свыше всякой меры, так что Феодула все тяжелее гнуло к земле от такой ноши. И вот всему этому внезапно был положен предел. Как-то утром – а Феодул уж и помнить забыл о том, что он посланник великого Папы Римского – вбежал в юрту какой-то верткий, суетливый монгол и принялся кричать, размахивая тяжелыми шелковыми рукавами. Феодул быстро закрыл рот, который только-только распахнул ради сладкой зевоты, избавился от своей монголки и растолкал Андрея. Далматинец сел, потер лицо. От кислой его физиономии засосало у Феодула в животе, словно от голода, но деваться некуда – пропадет без толмача Феодул. – Что ему нужно? – спросил Феодул. – Переводи, да живее!
Андрей стряхнул дремоту, прислушался.
– Говорит, что посольству Папы Римского надлежит немедленно бежать ко двору великого хана. Готов принять нас повелитель Вселенной.
Феодул так и сел. Хин-хин зашевелился, разбуженный голосами. Монгол сердито кричал и хлопал плеткой себя по сапогу.
– Давай одеваться, что ли, – вымолвил Феодул.
Он облачился во все дареное монгольское, взял мешок с добром, огладил напоследок каждую из игрушек, добытых в Константинополе. Вот и настала пора расставаться! Даже жаль стало. Хин-хину, дабы облагообразить, повязали на шею ленту.
И вышли из юрты на холод.
Монгол, семеня в длинных одеждах, побежал вперед, показывая дорогу, а Феодул с Андреем поспешили следом. Дары нес Андрей; Феодул же, как обычно, был обременен хин-хином.
Вдруг монгол остановился и велел посланцам ждать.
– Чего ждать? – рассердился Феодул и подтолкнул бок Андрея. – Спроси его, чего ждать-то?
Но монгол уже убежал.
Послы поневоле остались стоять. И тотчас вокруг образовалась толпа скалозубцев. Иные щупали у Феодула волосы, насмехаясь над их пшеничным цветом, другие щипали хин-хина и покатывались со смеху, когда тот вздрагивал и елозил по спине Феодула.
Наконец явился один сановный монгол, бывший, как узнал Феодул, начальником канцелярии великого хана. Здесь нужно сказать, что монголы, хотя и были по большей части неграмотны, чрезвычайно чтили написанное и по всякому случаю составляли документы. Этому они научились у китайцев. И начальник канцелярии был у них поэтому очень важным человеком.
Сановник холодно уставился на Феодула, и тотчас в узких черных глазах Феодул увидел свое отражение во всей его неприглядности: обмороженное лицо в красных пятнах, толстые губы, лохматые светлые волосы. А уж как пристально разглядывал папского посланца этот сановный монгол! Того и гляди в рот полезет – зубы смотреть.
Однако ничего такого, по счастью, не произошло, а вместо этого важный монгол спросил что-то у Феодула надменным голосом.
– Желает знать, не опозоришься ли ты перед великим ханом, явив невежество или неучтивость, – не без злорадства перевел Андрей. – Надлежит тебе объявить заранее, каким образом ты намерен почтить великого хана и какие приготовлены у тебя речи.
– Ну так скажи ему, – глядя не на Андрея, а на монгола, произнес Феодул, – что обычай монгольский мне знаком; великого же хана намерен я почтить дарами, для чего привез из дальних стран различные механические чудеса и этого весьма полезного и удивительного хин-хина, которого держу на спине.
Андрей перевел все это, и тогда начальник канцелярии обошел Феодула кругом, желая получше рассмотреть хин-хина. При этом он говорил следующее:
– В таком случае ты должен рассказать заранее, ручной ли это зверь, и если да, то для какой пользы его содержат, ибо поначалу я подумал, что он – один из посланников великого Папы или же посланник какого-либо иного владыки, о котором монголы еще не слышали.
– Как он мог принять хин-хина за посланца! – вскипел Феодул, когда услышал от Андрея перевод.
На это начальник канцелярии великого хана пожал плечами и равнодушно ответил:
– Мы, монголы, завоевали почти всю Вселенную и видели многие народы. Иные совершенно не походили на монголов, так что даже затруднительно было определить, являются ли эти народы человеческими или же их следует причислить к миру животному.
Заслышав, до каких пределов простерлось высокомерие монгольское, Феодул только зубами скрипнул и велел Андрею перевести следующее:
– Среди ученых богословов христианского мира я – известнейший из тех, кто исследовал природу полулюдей. Мною изучены и просвещены псоглавцы и онокентавры. Этот хин-хин также принадлежит к числу существ, чья природа двойственна и является наполовину человеческой, наполовину звериной. Существо это весьма искусно в составлении благовоний, ибо ничем, кроме запахов, не питается, и от этого зависит его жизнь.
Больше ни о чем монгол не спрашивал, коротко кивнул и пошел вперед широким шагом, а Феодул, пригибаясь под тяжестью хин-хина, и Андрей побежали за ним.
Монгол подвел их к большой белой юрте, перед которой на высоком шесте висели какие-то лохматые тряпки, и сказал, что это ханская хоругвь, а в юрте находится сам повелитель Вселенной. При этих словах Феодул ощутил странный трепет, ибо понял вдруг, что пуп Земли непостижимым образом переместился из блаженного жаркого Иерусалима в выстуженный степной Каракорум и именно здесь, в этой юрте, берет начало смерч, одинаково страшный и для Европы, и для Азии.
Сановный монгол велел посланникам оставаться за порогом, а сам крикнул что-то, обращаясь к юрте. Тотчас невидимые слуги подняли войлочный занавес, служивший вместо двери, и перед Феодулом показался восседающий на низкой скамье великий хан Мункэ.
Невысокий, обрюзгший, на первый взгляд какой-то неопасный, особенно в сравнении с Батыем, великий хан Мункэ взирал на Феодула с пьяной строгостью и не шевелился, точно был неживой. Феодул вдруг устрашился, ибо великий хан предстал ему воистину чудовищем, муравьиным львом, обманчиво сходным с человеком. Как некий божок, сидел он здесь, в самом центре Земли, и дерзновенно затыкал собою ее пуп, а несметные полчища монголов, и бесчисленные их стада, и войлочные города, и бескрайние ледяные просторы – все это невидимыми нитями привязано к маленьким красным рукам великого хана, сложенным на зеленом атласном брюхе.
Тут Андрей толкнул Феодула в бок. Тогда Феодул встрепенулся и громко проговорил:
– Да пребудет с вашим величеством Господь Бог, Истинный Свет и Творец всего сущего!
Великий хан важно кивнул в ответ, и слуги опустили Занавес.
Словно очнувшись от оцепенения, Феодул растерянно заморгал белыми ресницами. Тем временем двое слуг опустились на колени возле Феодула и толмача и принялись ощупывать их сапоги, пояса, рукава, ворот одежды. Феодул тупо позволял им себя обшаривать и только ежился. Андрей же, сморщив нос, поскорей отстегнул от пояса нож, с которым обычно не расставался.
Наконец слуги отступили, крича, что посланцы безоружны и могут быть допущены к великому хану. Снова подняли войлок. Высоко поднимая ноги, Феодул переступил порог и предстал перед Мункэ.
Только теперь Феодул заметил, что в большой юрте полным-полно народу. По одну руку от великого хана сидели монгольские господа, по другую – дамы, и все они непрестанно шевелились, копошились на месте, переговаривались, хохотали и чавкали, являя собою зрелище как бы живого моря.
Феодул преклонил колени и поднял на выстянутых руках мешок с дарами, а один из слуг, наученных начальником канцелярии, снял с Феодуловой спины хин-хина и также подвел его к великому хану. Плоское лицо Мункэ с обвисшими щеками повернулось к забавному полузверю. Великий хан показал на него пальцем и проговорил что-то высоким, резким голосом. Стоя на коленях, Феодул повернулся в поисках Андрея и увидел, как тот топчется у самого входа, где на низенькой скамеечке, украшенной узором в виде голых гадов, стояли всевозможные чаши и сосуды с напитками. Перекрестив рот одним пальцем, далматинец лихо опрокинул в горло чарку, а двое монголов-слуг, смеясь, принялись бить его по плечам. Андрей обтер губы и быстро, громко произнес:
– Великий хан желает знать, Феодуле, какое питье в эту пору года тебе милее: рисовая либо молочная водка? Здесь есть и то, и другое.
Памятуя прошлое, Феодул выбрал молочную. Андрей крикнул слугам, и те тотчас подбежали к Феодулу с чаркой, приплясывая и напевая. Феодул протянул было к чарке руку, но слуга ловко отскочил в сторону. Все бывшие в юрте расхохотались. Усмехнулся и Феодул и покачал головой. А слуга снова приблизился, настырно тыча чаркой едва ли не в самые губы Феодула. Это вызвало новый взрыв веселья у окружающих. Феодул опустил руку. Поглядел на слугу исподлобья. А клятый монгол знай себе лыбится и подмигивает обоими глазами попеременно.
Выждав немного, Феодул внезапно выхватил у слуги чарку и молодецки расправился с ее содержимым. Тут уж великий хан засмеялся и показал Феодулу на низенькую скамью, стоявшую у белой войлочной стены. Феодул с трудом втиснулся между какими-то важными монгольскими господами, которые мало обрадовались тому, что их растолкали. Один из них тотчас впился Феодулу локтем в бок.
Тем временем Андрей, оставаясь у входа вместе со слугами, быстро накачивался молочной водкой. Это ужасно смешило монголов.
Тут внимание хана отвлеклось на охотничьих птиц, которых зачем-то принесли специальные птичьи слуги. Слуги эти были трезвы, мрачны и глядели сущими разбойниками; птицы же были великолепны. Феодул знал, например, нескольких сеньоров из Акры, которые отдали бы за любую из них половину всего, чем владеют.
Великий хан брал на руку то одну, то другую птицу и своим скрежещущим голосом говорил им что-то ласковое. Потом вдруг насторожился и вскинул голову – точно вспомнил о чем-то или что-то услышал.
Повернулся направо – туда, где сидели монгольские господа и среди них папский посланник – и встретился взглядом с Феодулом. И хоть пьяны были узенькие, заплывшие глазки великого хана, а таилась на самом их дне ледяная сила, нечеловеческая, жадная, готовая поглотить и прекрасных охотничьих птиц, и Феодула, рыхлого и испуганного, и богатую, переполненную людьми, угощениями и сокровищами юрту, и землю вокруг юрты со стадами и пастухами, и земли более отдаленные с городами и замками – волю дай, и луну бы с неба сожрал великий хан Мункэ, и потому понял Феодул, содрогаясь, что природа великого хана – не человечья и даже не звериная, но сродни природе наводнения или смерча.
И пролепетал Феодул еле слышно, зовя на помощь толмача:
– Андрей… А… Андрей…
Мункэ подбоченился (слуга тотчас почтительно и строго забрал у него птицу) и вопросил Феодула о чем-то. Тотчас откуда-то из-за спины Феодула возник Андрей.
– Великий хан желает знать, в чем смысл привезенных тобою даров.
Тут уж повел себя Феодул сущим коробейником. Все-все сокровища перед великим ханом разложил, принялся расхваливать да растолковывать. Нет смысла привозить сюда ткани и золото – у великого хана столько тканей и золота, что весь мир одеть и озолотить можно! А вот подобных диковин, возможно, и не сыскать при ханском дворе. Извольте видеть: фигурка деревянная, резная, медведь с мужиком, творение искусных механикусов. Ежели вот так дощечку наклонить, то медведь мужика одолевает, а ежели эдак – мужик медведя. А эта баба голая, в пятнах зелени, есть наилучшая и совершеннейшая любовница по старинным ромейским верованиям, а сделана из чистой меди.
Все эти рассказы веселили монголов. Женщины ерзали на своих скамьях, тянули шеи и шумно переговаривались, однако с места не вставали.
Натешившись дарами, велел хан их убрать, а хин-хина отвести в юрту к одной из своих жен, дабы этот полузверь доказал делом несомненную полезность и составил бы какое-нибудь благовоние. Так расстался Феодул с хин-хином, который впоследствии вошел в милость у этой ханской жены, получил отдельную прислугу и придворный чин и даже успешно интриговал против некоторых своих завистников.
Однако вернемся к Феодулу, ибо не следует надолго оставлять его без присмотра, пока он переживает самые ужасные и самые великие минуты своей жизни.
Начал великий хан Мункэ выспрашивать Феодула о том, ради чего прибыл он в монгольские земли и что за важное дело привело его пред лице владыки Вселенной.
Феодул отвечал великому хану – пьяный пьяному, через толмача нетрезвого – весьма разумно и связно:
– Был я в Святой Земле при одном благочестивом и набожном короле, властителе франков, и вот случилось так, что Господь Бог явил ему истинное чудо, а именно: когда этот король стоял на молитве, над ним разверзлись небеса, и прямо перед королем упала грамота, вся исписанная золотыми буквами. Эти буквы были золотыми в силу великой важности сказанного в грамоте. А иные толковали так, что буквы золотые в силу их происхождения, ибо происхождение их небесное, а Бог обычно изъясняется либо золотыми буквами, либо огненными. Хотя есть у Бога буквы и каменные.
Великий хан слушал, надвинув на глаза тяжелые веки, и тихо покачивал головой из стороны в сторону. Феодул подумал о том, что Мункэ, как и двоюродный брат его Батый, любит слушать длинные повествования.
И продолжал:
– Говорилось же в грамоте следующее. Господь Бог наш писал, что великий хан – повелитель всех монголов, и китайцев, и русских, и далматинцев, и самаркандских тюрок, и армян, и многих народов – скоро сделается воистину владыкой всей обитаемой земли, без изъятия, и всяк народ станет платить ему дань и ездить к нему на поклон и за ярлыками на правление. Такова воля Бога, и великий хан непременно должен узнать ее. А королю франков Бог оставил отдельную приписку в той грамоте. Именно: Господь Бог поручал сему королю позаботиться об этой грамоте и донести ее до великого хана. Кроме того, королю франков Бог велел уговаривать других королей заключать с монголами мир и склоняться под их руку.
Все это Феодул вдохновенно плел перед Мункэ, чувствуя вместе с тем, что летит в бездонную пропасть. Мункэ же тянул какое-то бесконечное пойло, слушал нетвердое бормотание толмача, а сам глядел на Феодула и делался все строже и строже.
Наконец и Феодул, и Андрей замолчали. Подождав немного – не воспоследует ли еще каких-нибудь подробностей, – Мункэ медленно произнес:
– Воистину, великий и желанный гость в моих землях тот человек, который доставил мне эту грамоту, написанную самим Богом золотыми буквами. Где же она?
Феодул принял глубокомысленный вид и отвечал следующим образом:
– Грамота эта была доставлена мною в земли, подвластные вашему величеству, и пребывает в них и до сего дня; однако самое местонахождение грамоты от меня, увы, сокрыто. Выслушай, государь, какая беда со мной приключилась. Была при мне, как я уже поведал великому хану, небесная грамота; сверх же того – собственноручное послание благочестивого короля франков с изъявлениями глубочайшего почтения к великому хану; а сверх того – послание самого Папы Римского, который лично благословил меня доставить все эти важные бумаги в Каракорум. Все это было навьючено на одного дикого, неукротимого жеребца. И вот случилось такое, что во время пути слабая человеческая природа неумолимо взяла надо мною верх и вынудила сделать остановку. Воспользовавшись тем, что я сильно занят, коварный скакун вырвался и убежал в леса и горы, так что все пропало!
Андрей вдруг громко икнул.
– Переводи! – прошипел Феодул.
Заплетающимся языком толмач переложил историю одула на монгольское наречие.
Великий хан покачал головой и заметил со знанием дела:
– Подобные вещи происходят часто, хотя, конечно, далеко не всегда имеют столь печальные последствия. Это должно было научить тебя тщательно держать свою лошадь, когда слезаешь с нее по нужде. – И изволил поинтересоваться малозначительной персоной самого Феодула: – А к какому королевству принадлежишь ты сам?
С глубоким поклоном отвечал Феодул:
– Я пребываю под властью короля франков Людовика. Того самого, которому Господь поручил переправить к тебе грамоту.
– Скажи мне, – продолжал расспросы Мункэ, – много ли стран и народов находятся между моими владениями и землями этого короля? Ибо если он желает склониться под мою руку и выплачивать мне дань, то нас не должно разделять ничто враждебное.
– Увы! – закричал Феодул, охваченный сильным волнением. – Между франками и монголами находятся сарацины, лютые враги наши, и они-то преграждают путь! Будь дорога открыта, франки давно заключили бы с монголами мир и признали себя их данниками. Если бы только великий хан одолел сарацин и, с Божьей помощью изгнав их из Святой Земли, устранил как досадное препятствие между франками и монголами, то наши народы слились бы в один народ, а великий хан сделался бы господином над всеми языками, как и было предречено в грамоте Золотые Буквы.
Произнося перед великим ханом эти смелые речи, Феодул так и трепетал. Ибо захоти Мункэ – и сарацины были бы навсегда изгнаны из Святой Земли; а ежегодная дань монголам – небольшая цена за вечное владычество креста в Палестине.
Закончив говорить, Феодул вдруг почувствовал смертельную усталость. Он сделал знак слуге, и тот поднес ему еще чарку молочной водки. Вслушиваясь в монотонный голос толмача, который звучал немного ниже, когда Андрей переходил с лингва-франка на монгольский, Феодул тщетно пытался постичь, многое ли из его превосходной речи вместилось в убогий рассудок пьяного переводчика и сумеет ли Андрей донести до великого хана хоть малую толику растраченного Феодулом красноречия.
Долго гадать ему не пришлось. Мункэ вдруг раскрыл глаза пошире. Оказались они ясными и пугающе трезвыми. И опять холод прошелся по всей утробе Феодула.
– Желаешь ли ты провести моих людей к этому королю? – спросил великий хан. Феодул отвечал:
– Я могу привести их и к его величесту королю, и даже к великому Римскому Папе.
После этого холодный разум в глазах великого хана угас, расспросы прекратились и началась ужасная попойка, о которой Феодул не мог впоследствии вспомнить решительно ничего, кроме того, что очнулся у себя в юрте, в объятиях плоской и жесткой монголки. Прошло еще некоторое время, и Феодул с Андреем вновь были призваны к великому хану. На сей раз разговор был недолгим; угощения же не было вовсе. Из дам присутствовали только две жены великого хана, а из господ – начальник канцелярии и еще один монгол, сухощавый, горбоносый, со злыми, ясными глазами. Мункэ восседал неподвижно и как будто спал; говорил начальник канцелярии.
По его приказанию слуги поднесли на красной подушке с кистями тугой лук и две стрелы. Лук был очень красив и даже с виду страшен. Что до стрел, то они показались Феодулу весьма диковинными, ибо наконечники их сделаны из чистого серебра, во многих местах прободенного отверстиями.
Начальник канцелярии любезно предложил Феодулу согнуть этот лук. Глупо улыбаясь, Феодул взял с подушки оружие и натужился. Но сколько он ни пытался, лук оставался неподатливым и ни за что не желал подчиниться. Монголы рассмеялись, а горбоносый что-то сказал.
Андрей перевел:
– Этот лук с трудом сгибают двое. Ничего удивительного, что у тебя одного ничего не получилось.
Феодул покраснел и положил лук обратно на подушку.
– Спроси их о стрелах. Это тоже какая-то монгольская шутка?
Андрей переговорил с начальником канцелярии, который почему-то засмеялся, а потом хмуро объяснил неразумному минориту из Акры:
– Что монголам шутка, то всем прочим язва в бок. Эти гремучие наконечники для того полны отверстий, что в полете свистят, точно флейта. Хан Мункэ посылает лук и две стрелы его величеству королю франков с такими словами: «Если ты желаешь заключить со мною мир, склониться под мою руку и выплачивать мне дань, то я покорю земли сарацин, разделяющие твои и мои владения. Если же ты откажешься – помни: из таких луков монголы стреляют далеко и метко».
Начальник канцелярии кивнул другому слуге, и Феодулу вручили золотую дощечку шириною в ладонь и длиною в пол-локтя, испещренную причудливыми загогулинами, о которых Феодул уже знал, что это – монгольские буквы. И эта дощечка была очень важной, поскольку содержала приказ великого хана всем монгольским начальникам доставлять Феодулу продовольствие, лошадей и все необходимое, ибо означенный Феодул – посланец самого великого хана к королю франков и к Папе Римскому.
Феодул восхищенно взял золотую дощечку и прижал ее к груди.
Пока Феодул радовался, начальник канцелярии заговорил с горбоносым монголом, который слушал чрезвычайно внимательно и только время от времени коротко кивал. Затем начальник канцелярии обратился к Феодулу и сказал:
– Вот твой спутник, которого ты приведешь к своему королю. Ибо великий хан желает, чтобы посольство, которое будет говорить от его имени перед владыками Запада, было двойным: франкским, с одной стороны, и монгольским – с другой, и в этом великий хан видит верный залог грядущего единства.
Горбоносый монгол добавил еще что-то.
– Он хочет выступить в путь уже завтра, – сказал Андрей.
– Передай его величеству, что я всегда полон готовности служить ему, – велел Феодул толмачу. – И завтра же отправлюсь в дорогу, если его величеству так угодно.
– А, вот и хорошо, – молвил начальник канцелярии, выслушав перевод.
Великий хан за все это время ни разу не пошевелился и не произнес ни слова, сидел как неживой.
Оставшись наедине с Феодулом, Андрей вдруг напустился на него:
– Дрянной ты человек, Феодул, как я погляжу! До того застят тебе глаза глупость и жадность, что готов предать и короля своего, и весь свой народ! Заплачут еще ромейские земли горькими слезами, изойдут кровавым потом – и это будет твоих рук дело, грязная ты собака!
Такие гневные, необузданные речи немало огорчили Феодула. Он даже перестал баюкать на груди драгоценную дощечку. Воззрился на Андрея с горестным удивлением:
– Не возьму в толк, отчего ты взъярился на меня, Андрей?
Но далматинца было уже не унять.
– Не было тебя ни в Хорватии, ни в Далмации, ни в Киеве, когда монгольская чума носилась над этими землями! – вне себя кричал Андрей. – Кому пособляешь, Иуда? В чьи руки хочешь предать сродников своих? Зверям лютым на растерзание! Гляди, они ведь и тебя не пощадят!
Феодул взирал на толмача ошеломленно. Обычно хмурый и молчаливый, Андрей раскраснелся, в глазах пляшут злые слезы.
– Погоди, Андрей, остановись! – взмолился Феодул. – А сам-то ты разве не монголам служишь?
– С меня спросу нет – я раб ихний! – закричал Андрей пуще прежнего. – Они меня арканом ловили, стрелами истыкали, как не подох – сам не ведаю! А ты ради чего им под ноги стелешься?
Феодул растерянно пожал плечами.
– Не стелюсь я под ноги, – пробормотал он. – За что ты так обижаешь меня?
– Знаешь ли, о чем говорил начальник канцелярии тому, с горбатым носом, которого ты взялся отвести к своему королю? «Пойдешь, – говорит, – с тем алчным глупцом на Запад. Разведай хорошенько дорогу и страну, города и замки, людей и оружие…» Зачем ты ведешь с собой этого монгола, Феодул? Он едет в земли франков разведывать да разнюхивать, а все переговоры о мире и дружбе – для отвода глаз!
Феодул легкомысленно махнул рукой:
– Мы отправимся туда морем. Монголы и знать не будут, откуда прибыли и куда им вернуться.
На это Андрей сказал угрюмо:
– Не так-то легко обмануть монголов, как тебе мнится, Феодул.
Здесь рассказ о пребывании Феодула в землях монгольских обрывается, и о том, как совершалось его обратное путешествие в земли христианские, нам ничего не известно, а нить повествования подхватывается уже во владениях греческих, однако не в Константинополе, где правят латинники, но в Никее, где засел лукавый и злой греческий император Дука Ватацес.
Мы уже неоднократно наслышаны о том, как под натиском корыстолюбивых латинников пал Великий Город Константинополь и вместе с ним погибла и вся Греческая Империя. Подобно грузовому судну, подхваченному злыми ветрами, раскололась она на множество мелких частей. И вот ушел за Босфор и горные хребты деспот Феодор Ласкарис и осел в городе Никее, основав там новое греческое царство. С тех самых пор и загорелась у латинников под ногами греческая почва. Поначалу только тлела, а затем, как окреп Ласкарис, занялась настоящим пожаром.
Будучи человеком осмотрительным, Феодор Ласкарис оставил свои земли, корону и ненависть не малолетнему сыну, но мужу зрелому и испытанному – зятю. Этим-то зятем и был Иоанн Дука Ватацес.
Ни единого дня своей жизни не провел Ватацес в праздности. Воевал хитро: не штурмом брал, но измором. Поражения страшился более, нежели убытков, и однажды сжег весь свой флот, дабы не достался противнику. Из латинских владык дружбу свел с одним только германским императором Фридрихом ради общей их вражды с Папой Римским; латинян же и в особенности Папу именовал «гангреною».
В иных делах отличался Ватацес человеколюбием и врагов, буде те попадали к нему в руки, всегда приговаривал к наказанию путем различного рода членовредительства, но всегда оставляя им жизнь.
Своим подданным запрещал покупать иноземные предметы роскоши и за ослушание лишал гражданских прав. Говорят, что однажды собственноручно отхлестал по щекам родного сына, заметив на том иноземные шелковые одежды. Благодаря такой заботе греки поневоле довольствовались плодами рук сограждан и неслыханно разбогатели, ибо кормили друг друга и ни одного обола не отдавали на сторону.
Одни говорят, будто Ватацес выплачивал монголам какую-то дань; другие же положительно утверждают, что никакой дани он не выплачивал, а просто принимал в своих владениях тюрок, бежавших от монгольского нашествия.
Перед этим-то дальновидным и хитрым владыкой и предстал в один прекрасный день Феодул-Раймон из Акры.
Не заметить такого роскошного Феодула мудрено: прибыл со многими богатствами, при тюках да сундуках, сам расфуфыренный. Немало пользы принесла ему золотая дощечка от великого хана. Как покажутся город либо село, подвластные монголам, так сразу Феодул отыскивал там старейшин или магистрат, доставал из-за пазухи заветную дощечку и требовал себе даров. Поневоле старались от него откупиться, от такого алчного да страшного. И хоть большую часть добычи забирал себе горбоносый монгол, но и Феодулу кое-что перепадало.
Вот этот-то караван, с монгольской свитой, злющим-презлющим толмачом, с телегами, лошадьми, походной юртой и прочим привели греки к своему царю на поглядение. Дука Ватацес перво-наперво наложил на Феодулово добро тяжелую руку. Монгольскую свиту принял приветливо и велел разместить среди солдат – пусть пьют. Феодула же с главным монголом и толмача доставили пред царские очи.
Феодул в пути раздобрел, заблагодушествовал. Забыл уж, каковы хитроумные греки, вздумал врать им по-старому, словно монголам.
Возжелал Ватацес узнать, кто таков этот Феодул, зачем странствует вместе с монголами, какие цели преследует и куда направляется через греческие земли.
Феодул давай рассказывать.
Обо всем поведал.
Как призвал его к себе сам Папа Римский и молвил: «Кругом, – говорит, – сплошь предатели, только и ждущие, чтоб слова мои исказить и волю нарушить. Одному тебе, благочестивый отрок Феодул, верю. Знаю: ты, как и я, хочешь всеобщего мира и благоденствия. И оттого без страха посылаю тебя к монголам, точно голубя с оливковою ветвью…»
Как отправился он, Феодул, в далекий, опасный путь, как шел, превозмогая беды.
Как побывал он в стране, где у жителей нет лба, поскольку родители от самого младенчества непрестанно гладят ребенка по головке, дабы отогнать лоб назад и вовсе свести на нет. И они полагают, что это красиво.
Как оказался он потом еще в другой стране и тамошние жители вовсе не употребляют в разговоре слово «дождь», поскольку благодаря жаркому климату капли дождя испаряются, не успев коснуться земли.
Как обратил он в истинную веру псоглавцев, а затем один на один бился с бесчисленными стадами онокентавров и остался жив.
Как достиг наконец города, где все дома построены из войлока и находятся в непрестанном движении, и там имел богословский диспут со жрецами идольскими и всех их одолел своей ученостью. Как было при Феодуле пасхальное яйцо, освященное самим Папой Римским, и вот покуда один из жрецов выхвалял своих деревянных и медных богов, это яйцо не снесло такой лжи и взорвалось, чем убедило верующих неправо признать истинность слов Феодула.
И многое другое поведал Феодул Дуке Ватацесу.
Тот выслушал внимательно, а затем осведомился:
– Кто этот знатный монгол и для чего он путешествует с тобою?
Тут уж встрял Андрей, которого, кстати, ни о чем не спрашивали. Не дал, окаянный, Феодулу и слова молвить. Красными пятнами пошел от гнева:
– Этот монгол здесь выведывает и разнюхивает, как бы прочим монголам ловчее проникнуть в эти земли и разграбить их до основания. Вот для чего он здесь, государь!
Дука Ватацес высоко поднял брови, удивленный:
– Что скажешь, Феодул?
– Скажу, что отчасти он прав, – не дал себя смутить Феодул, – но лишь отчасти, ибо обратной дороги эти монголы все равно не найдут.
– Кого обманываешь? – вскипел Андрей. – Государя или себя? Тебе-то не хуже моего известно, что эти бродяги выберутся даже из преисподней и отыщут дорогу к своим проклятущим юртам!
Дука Ватацес спросил Андрея:
– А ты-то кто таков, что своего же товарища передо мною обличаешь?
– Я, благодарение Богу, монголам в таком деле не пособник! – огрызнулся Андрей. – Я человек подневольный, своего голоса не имею. А приставлен к этому лживому Феодулу толмачом, ибо понимаю и монгольскую речь, и язык франков.
Император поразмыслил немного, а затем сказал Феодулу:
– Папа Римский не друг мне, но и ссориться с латинниками лишний раз мне тоже не с руки. Если ты – воистину посланник от Папы к монголам и от монголов – к Папе, то покажи мне грамоты, где все это было бы написано.
– Эти грамоты существовали, – неторопливо начал Феодул. – Они были навьючены на одного дикого, неукротимого жеребца…
И был Феодул, как ни кричал, ни отбивался, всего имущества лишен и заключен Иоанном Дукой Ватацесом в темницу как предатель и соглядатай.
Андрея-толмача Ватацес оставил при себе и дал ему писарскую должность. Глянулся никейскому владыке сердитый далматинец. Спустя год с небольшим Андрей женился на гречанке с хорошим приданым и, таким образом, окончил свои дни человеком хоть и ворчливым, но весьма упитанным и обремененным многочисленными потомками обоего пола.
Простых монголов, бывших с лжепосольством Феодула, Дука Ватацес приписал к своей армии, и те впоследствии охотно лютовали против латинников. Оттого иные бароны всерьез начинали верить, что никейский император и впрямь заключил союз с монголами, и от таких мыслей мужество латинников шло на убыль.
Горбоносый монгол был принят при никейском дворе с большим почетом, однако через несколько дней с ним приключился недуг, от которого он и скончался.
«Вопросоответник о неизреченном» Георгия Згуропула
Вот миновал месяц или даже два после плачевной кончины сановного монгола, а Феодул по-прежнему томился в никейских подвалах. Одежда на нем уже истлела, и в тоске ожидал Феодул, когда вслед за одеждой начнет истлевать и бренная плоть его.
Таким образом, пребывал он в полном унынии, покуда случай не послал ему нечаянную радость: в сырой мрак подземелья бросили к Феодулу еще одного узника. Поначалу, правда, Феодул совершенно ему не обрадовался, поскольку этот узник попал сюда из какого-то другого подземелья, где, видимо, провел немало времени, ибо был почти наг, весь покрыт струпьями, дурно пах и вообще являл собою мало привлекательного. Кроме того, он непрестанно жаловался и сквернословил.
Звали его, как он сообщил между непристойностями, Георгий Згуропул, причем, произнося свое имя, новый товарищ Феодула плюнул столь истово, что исторг испуганный писк у дремавшей под соломой крысы.
– На что ты негодуешь? – удивился Феодул. – Згуропул – имя звучное и вполне приятное слуху, как, впрочем, и мое – Феодул Апокрисиарий.
(Ибо, поневоле оставшись среди греков, решил он взять себе прозвание совершенно греческое, означавшее «Посланец»)
– Как тебя кликать – твое дело! – отрезал Георгий. – Мне насмешка обидна, вот что!
Тут Феодул сообразил, что имя «Згуропул» по-латински будет звучать как «Кудрявый», а собеседник его совершенно лыс.
Феодул, как мог, утешил его, угостил тюремной тухлятиной из своей миски и рассказал про людей без лба, и про псоглавцев, и еще про людей, у которых не сгибаются колени, отчего те передвигаются, подпрыгивая на прямых ногах; и про хитрого князя Александра, который заманил латинников на лед Ладожского озера; и про одного подвижника из пустыни Египетской, который обладал такой силой святости, что когда повстречался ему василиск, то не человек окаменел от взгляда чудовища, но чудовище при виде святого тотчас обратилось в камень…
Георгий ел, слушал и заметно отогревался душою. Покончив со скудной трапезой, он обтер руки о нечистую солому, служившую Феодулу ложем, и молвил:
– Складно…
– Истинная правда всегда складна, – обиделся Феодул. – Ибо в ней нет несообразностей, нарушающих гармонию.
– Много ты понимаешь о гармонии, невежда, – сказал Георгий пренебрежительно.
Тут уж взбунтовалось что-то в груди Феодула, сдавило душу со всех сторон, подобралось к горлу горьким комом.
– Вот ты, оказывается, каков, Георгий! – вскричал он. – А я-то принял тебя как брата!
Георгий поглядел на него весело, покачал лысой головой, даже посмеялся.
– Не спеши огорчаться, Феодул, – сказал он как ни в чем не бывало. – Я всегда таков и со всеми груб и непочтителен, ибо по самой природе своей зол, насмешлив и решительно дурен, с какого боку ни зайди. За это и терплю от людей, а ты уж потерпи от меня.
От таких примирительных слов мягкосердечный Феодул, конечно, сразу же растаял и Георгия простил. И вот уселись оба на солому друг против друга, и заговорил Георгий, пересыпая речь бранными выражениями, от которых, несомненно, ликовали все бесы, какие только могли их слышать.
– Знаешь ли ты, Феодул Апокрисиарий, с кем свела тебя судьба? – так начал Георгий.
Феодул покачал головой, ибо ничего о своем бедствующем сотоварище не ведал, кроме имени. Георгий Згуропул поведал ему следующее:
– Был я некогда воистину кудряв и ангелоподобен – и обличьем, и нравом, и особенно голосом. И оттого взяли меня певчим в храм Святой Софии. Там выучился я пению и многим премудростям о музыке, а также рукоприкладству и сквернословию, ибо обучавший меня протопсалт, блаженной памяти Косма Влатир, слова не говорил без присловья, а еще страшнейшим был пьяницей, и я, бывало, проносил для него под одеждой сосуды с утешительными напитками. Он-то и выдрал мне кудри, покуда внушал мне искусство пения, поскольку я оказался ленив и невнимателен, он же – крепко невоздержан на руку. Остатки волос я потерял позднее, когда после смерти Влатира сам сделался протопсалтом и принялся, в свою очередь, сквернословить, пьянствовать и бить певчих.
– Как же тебя с таким нравом терпели при храме? – поразился Феодул.
Георгий расхохотался:
– А кто тебе сказал, что меня терпели? Совсем ты глуп, Феодул! Вот уже пятый год, как мыкаюсь по монастырям и тюрьмам, и никто не может со мною ужиться, ибо с каждым годом мои пороки только усовершенствуются.
Тогда Феодул спросил:
– Что такое протопсалт?
Георгий Згуропул презрительно сощурил глаза:
– Уж не вздумал ли ты смеяться надо мною?
– Куда уж мне смеяться! – ответил Феодул искренне. – Нет! Над моим невежеством впору заплакать. Ибо если ты учен и зол, то я глуп и простодушен.
Такое объяснение вполне удовлетворило Георгия, и он охотно растолковал:
– Протопсалт среди певчих есть первое лицо. Он наблюдает за певцами и мелодиями, следит за ритмом и высотой звуков, дабы они следовали друг за другом в установленном порядке. Кроме того, он обучает певчих музыке и сам исполняет то, что поется не хором, но одиночным голосом.
– Что такое ритм? – спросил Феодул.
– Система, состоящая из времен, созданных по какому-то определенному порядку.
– Что это за порядок?
– Ритм состоит из мельчайших неделимых времен, которые называются «хронос протос», то есть «начальное время».
– Объясни иначе.
– Геометры называют то, что для них неделимо, «точкой». «Хронос протос» подобен точке.
– Всегда ли он один и тот же?
– Нет, он всегда различен. В речи хронос протос рассматривается относительно слога, в музыке – относительно отдельного звука, при движении тела – относительно одной танцевальной фигуры. Ибо ритм сам по себе действует в танце, вместе со звучанием – в пении, а только со словом – в стихах.
– Удивительно то, что ты говоришь о ритме! – восхитился Феодул. – Я и прежде догадывался, что в стихах, пении и танце заключена какая-то тайна, которая отличает их от обычной речи, завывания или верчения на месте, бега и подпрыгивания; но после твоего объяснения покров с этой тайны сорван и истина предстала мне обнаженной.
– Не спеши радоваться, – оборвал его Георгий, – ибо тебе стала доступна лишь малая и не самая значительная часть тайны.
– В таком случае не откроешь ли ты мне и другую ее часть?
– Это несложно сделать. Узнай, что столь восхитивший тебя ритм есть лишь нечто второстепенное, когда речь идет о гармонии. Музыка есть прежде всего искусство разновысотных звуков, а уже потом – искусство ритма. Для каждой высоты звука существует особое обозначение, а при хирономии – особое движение руки.
– Что такое хирономия?
– Сказано тебе – движение руки, глупец! Движение руки, которым протопсалт показывает певчим, какой звук надлежит взять, высокий или низкий, и насколько он должен быть высоким или низким.
– Воистину, – сказал Феодул, – если ты овладел всеми этими искусствами, то знания твои необъятны, и нет ничего удивительного в том, что этот Косма Влатир вырвал у тебя все волосы!
На следующий день, желая отвлечься от невзгод тюремного заключения, Феодул с Георгием возобновили поучительную беседу.
Георгий сказал:
– Учитель мой был уже стар и предавался всего двум порокам: сквернословию и пьянству и оттого спокойно дожил до самой смерти, оставаясь в должности протопсалта Святой Софии. Сменив его, я, по необузданной молодости, присовокупил к уже имевшимся порокам блуд и оттого претерпеваю сейчас различные муки. А между тем музыка, подобно человеку, может быть и греховной, и благочестивой.
– Объясни подробнее, – попросил Феодул.
– Изволь. В стародавние времена, когда люди в темноте и невежестве чтили ложных богов и поклонялись твари вместо Творца, существовала и ложная музыка, которая представляла собою негармоничные созвучия, издававшиеся с криком и насилием. Это неблагообразие было строжайше воспрещено божественными установлениями, ибо оно порочило самое основание музыки, которая есть земное, доступное человеку выражение истины и света.
– Каким же образом звук может служить воплощением света? Это непонятно мне.
– Звук, по-гречески называемый «фони», родствен свету, который по-гречески именуется «фос». Удивляюсь я тому, что ты до сих пор этого не понял! Таким образом, не погрешая против логики, можно сказать, что свет есть мысль, ибо то, что дает мысль, выводит к свету.
– Теперь, когда ты это растолковал, мне все стало понятно, – сказал Феодул.
Георгий Згуропул помолчал немного, а потом разразился ужаснейшей бранью, называя Феодула самоуверенным глупцом и прочими нелестными прозвищами. Однако Феодул знал уже, что привычка ругаться у Георгия Згуропула нечто вроде болезни, неприятной для окружающих, но при надлежащем отношении неопасной. И потому опустил голову и стал безмолвно за него молиться.
Истощив поток проклятий, Георгий вознегодовал на молчаливого Феодула;
– Почему же ты не задаешь мне больше вопросов? Или ты решил умереть невеждой, каким родился?
– Прости, – кротко отозвался Феодул. – Я и в самом деле глуп и с трудом постигаю учение.
Георгий Згуропул схватил его за горло и бешено прошипел:
– Издеваться вздумал?
– Ничуть, – выдавил Феодул, с трудом отбиваясь. – Я как раз хотел спросить тебя…
Георгий выпустил Феодула и проворчал:
– Ну так спрашивай…
– Какие разновидности музыки существуют?
– Их три: один вид создается голыми устами, другой – устами и руками, третий – только руками. Блаженной памяти Косма Влатир учил также, что эти три рода музыки соответствуют трем видам ласк, которые можно получить от продажной женщины, не теряя при этом целомудрия…
– Мне не вполне понятно, каким образом музыка может быть сопоставима с плотской любовью.
Тут Георгий неожиданно отвесил Феодулу увесистую затрещину.
– Ай! – вскрикнул Феодул, хватаясь за голову, чтобы хоть немного унять звон в ушах. – За что ты ударил меня, Георгий? Ведь сейчас я, кажется, не являл ни невежества, ни самоуверенности, но вполне смиренно задавал вопросы, как ты и желал.
– Я ударил тебя потому, что в этом месте «Вопросоответника о неизреченном» всегда надлежит бить вопрошающего, – спокойно объяснил Георгий Згуропул. – И Косма Влатир так поступал, и тот, кто учил всоему Влатира, – тоже.
– А… – молвил Феодул и с этого мгновения стал держаться с Георгием настороженно.
Георгий как ни в чем не бывало продолжал:
– Музыка может быть сопоставима с любовью земной и любовью небесной, смотря по тому, о какой музыке мы ведем речь. В стародавние времена пелось много непристойных песен. Певцы подбирали их на перекрестках дорог и в притонах и крикливо исполняли, нередко сопровождая пение бессмысленными криками и сатанинскими плясками. Или того хуже – воющие песни женщин, сопровождаемые всяким жеманством, которое изображает в пении разврат черни. Все это, конечно, связано с низменной, плотской любовью и потому греховно.
– Совершенно с тобой согласен, – боязливо поддакнул Феодул.
– Есть и иное доказательство несомненной связи между музыкой и взаимным влечением мужской и женской плоти, – продолжал Георгий увлеченно. – В трактате Аристида Квинтиллиана «О музыке» и отчасти в трудах Жерома Моравского из латинского ордена Псов Господних я сам читал о различении музыкальных инструментов по мужским и женским признакам.
– Хотел бы я хотя бы издали прикоснуться к этим ученым трактатам, – сказал Феодул, все еще осторожничая.
– Это сделать нетрудно, ибо наиболее важное ты сейчас услышишь от меня. Узнай, что одни инструменты звучат низко, другие же – высоко. Низкий звук является мужским и означает нечто важное и героическое; высокий звук, напротив, является женским и означает нечто нежное и расслабляющее. Среди духовых инструментов мужским объявлен олифант, как обладающий громким и резким звуком, а женским – скорбный фригийский авлос, называемый иначе «плагионом». Затем в струнных инструментах обнаруживается, что лира из-за низкого регистра и суровости звучания соответствует мужскому началу, а самбюке, который у франков называется «ситаром», – женскому, поскольку он невзрачен из-за незначительного размера струн, приспособленных для высокого регистра, и приводит к расслабленности. Из смычковых струнных инструментов мужским смело назову рюбер, а женским – жигль, на котором любят пиликать латинские менестрели. Чтобы ты мог представить себе воочию, каким образом осуществляется соитие мужских и женских звуков, расскажу о союзе рюбера и жигля. Жигль сходен с виолой, однако по богатству звучания несоизмеримо беднее. Любой пиликала прикладывает жигль к плечу и водит смычком по струнам, извлекая тонкие звуки. Рюбер же был перенят франками у сарацин, которые называют этот инструмент ребабом. Струн у него только две, но они длинные и толстые, и смычок извлекает из них низкие звуки, Эти инструменты всегда используются в паре, причем жигль ведет верхнюю партию, а рюбер – нижнюю и задает басовый тон. Вот что я называю плотским соитием инструментов в музыке.
– После твоих объяснений даже последний глупец и невежда сочтет себя просвещенным, – заметил Феодул. – Насколько я успел тебя понять, музыка, уподобляемая плотской любви, может оказывать на слушателей развращающее действие?
– Да, и это доказывается тем, что именно к такой музыке нередко прибегали еретики и учащие неправо, – сказал Георгий. – Известно, как иные из них перекладывали свое лжеучение стихами как бы народной песни и после распевали его на разные греховные мелодии.
Феодул воздел руки к низкому сырому потолку темницы.
– Что это с тобой? – с подозрением осведомился Георгий Згуропул.
– Возношу благодарность Господу за то, что попустил клеветникам бросить меня в эту темницу и послал встречу с тобой! – ответил Феодул.
– Музыка есть величайший дар Творца, – так начал свое поучение на следующий день Георгий Згуропул после того, как съел свою порцию похлебки и порцию Феодула тоже. – Гармония звуков сложилась по благоволению Господа… Дай мне тот кусок хлеба, который ты прячешь в кулаке. Думаешь, не вижу?
– Прости, – смиренно молвил Феодул, разжимая кулак. – Решил, что ты не заметишь.
– Еще чего! – проворчал Георгий, забирая мокрый липкий комочек хлеба и засовывая его себе в рот. – Узнай, что слаженность мелосов музыка имеет свыше, а именно благодаря Святой Троице. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что прежде разные гимны – такие, как Трисвятое, или «Всякое дыхание», или «Свыше пророки», ну и другие… «Блажен муж», к примеру… Словом, раньше эти гимны пелись только на небесах, ангелами, но Господь и Сам соблаговолил сойти на землю и сию небесную музыку также вынудил низойти к нам. И в такой музыке нашла воплощение любовь небесная, ибо такая музыка есть средство наилучшего познания Божественной мудрости…
Георгий замолчал и вдруг тихо, горестно вздохнул.
– Что с тобой? – спросил Феодул. – Может быть, ты горюешь о другом куске хлеба, который я утаил от тебя вчера?
Георгий покачал головой.
– Веришь ли, Феодул, – сказал он, – всегда оставался я ругателем, похотливцем и пьяницей, но ведь и мне была доступна небесная музыка, невыразимые ее созвучия… Ведь Дух Святой знал, сколь трудно приобщить людей к добродетели, и потому к догмату веры примешивал наслаждение, подобно врачу, который обмазывает лекарство медом. Ибо чтение утомительно и часто неприятно и приводит к головным болям, а пение псалмов и гимнов всегда прекрасно и расширяет душу, а душа, расширяясь, пропитывает все тело и дает ему отдых и расслабление… Поклянись, Феодул, что не умрешь от голода, если я съем тот хлеб, о котором ты говорил только что!
– Я изрядно растолстел, – сказал Феодул, – и запасов сытости хватит мне еще надолго.
С этими словами он подал Георгию еще один комочек хлеба, который хоронил за пазухой. Георгий проглотил его.
– Позволь спросить, – подступился Феодул, – каким образом музыка делается мудрой?
– Музыка мудра изначально, ибо такой сотворил ее Господь. Боговдохновенные мужи умеют слышать ее, не искажая, и наполняют светлое звучание мелодии текстом Священного Писания. Подумай только, Феодул, мы с тобою гнием в этой смрадной тюрьме, а там, наверху, под благотворными лучами солнца ходят великие мелурги, дышащие прекрасной музыкой: и Михаил Пацад, и Фока Филадельф, и Герман-монах, и Карвунариот, и Симеон Псирицкий…
И Згуропул пропел несколько строк тонким, дрожащим голосом. Феодулу же вдруг показалось, что ничего прекраснее он в жизни не слыхивал. Не совладав с собою, он всхлипнул от восторга и бросился целовать Георгию руки. Георгий помолчал немного, а потом молвил не без самодовольства:
– Вот так-то, отроче.
Феодул отер слезы и спросил:
– Всегда ли неизменна небесная музыка?
– Нет, ибо Бог христиан есть Бог живой; также и сотворенная Им музыка есть музыка живая. Поначалу каждому слогу текста должен был непременно соответствовать только один звук, и таким образом музыка помогала лучше уяснить смысл текста. Но с годами люди уяснили текст достаточно, и тогда появились дерзновенные мужи, которые начали распевать один слог на двух или трех звуках; иные же – на четырех и даже пяти. Многие бывали за это биты кнутом и лишены ноздрей, ибо нашлись иерархи, которые сочли и распевы кощунством. Однако мелурги стойко держались спевов, и вот уже и самые глухие услыхали, как сквозь спевные, вставные ноты звучат ангельские голоса, подобно тому как в прорехи дырявого покрывала, вывешенного после стирки в погожий день, пробивается солнечный свет… впоследствии даже нашлись такие, которые говорят, будто отчетливо слышат, как эти вставные слоги складываются в тайные словеса апостола Павла, символизирующие невыразимость Бога.
Феодул так и затрепетал.
– Правильно ли я тебя понял, брат мой Георгий? Подобна ли небесная музыка ткани, а распевные слоги в ней – прорехам, сквозь которые проступает небо?
– Правильно, – хмуро кивнул Георгий. – Да только какой нам с тобой в этом прок? Клянусь кровью Господней и кишками всех святых, мы обречены заживо сгнить в этой чертовой яме, и пусть меня вспучит, если…
Феодул положил ладонь ему на губы. Георгий так растерялся, что замер моргая. Потом глухо спросил, обдавая ладонь Феодула неприятным теплом:
– Ты что?
Феодул отнял руку.
– Пой! – сказал он.
Пришедший наутро тюремщик обнаружил, что подземный мешок пуст. Ни Феодула, ни Георгия там не оказалось. Подняли тревогу, обшарили все вокруг, однако следов подкопа, подкупа или взлома не нашли. Выждав время, доложили Дуке Ватацесу о смерти обоих узников, на что никейский император только махнул рукою: не до Феодула с Георгием ему было. Померли и померли.
Но Феодул и Георгий, конечно, не умерли. Еще чего не хватало. Утекли водой, просочились тонким песком и растворились, уйдя из узилища сквозь небесные прорехи в ангельском пении, а там уж следы их окончательно затерялись, и проследить дальнейшую их судьбу для нас не представляется возможным.
Июль 1998, Левашова – февраль 2000, Петербург


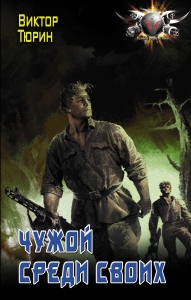



Комментарии к книге «Голодный грек, или Странствия Феодула», Елена Владимировна Хаецкая
Всего 0 комментариев