Елена Владимировна Хаецкая Царство небесное
Моим друзьям по вылазке в Акру
От дней Иоанна Крестителя и доныне Царство Небесное силой берется.
Мф., 11, 12От автора
Повесть была написана фактически на спор. В издательстве «Амфора» летом 2005 года Вадим Назаров (Главный редактор) спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь произведения о падении Иерусалима в 1185 году. А то издательство купило право на издание книжки с картинкой из грядущего кинобоевика «Царство Небесное» (с бывшим Леголасом в роли последнего Иерусалимского короля), но вот незадача — книжки пока нет. Я сказала, что книги такой не знаю, но за умеренную плату могу в течение месяца написать таковую. Назаров спросил, за какую плату. Я сказала: «Ну, за тыщу долларов, только сразу, а не в рассрочку». Он сказал, что не слишком-то верит в подобную авантюру, однако, зная мои сверхъестественные способности, рискнет. Сережа Бережной, который только-только вернулся в книжный бизнес и уже успел забыть, что я такое, хлопал глазами и страдал. Я демонически хохотала.
Потом я за месяц написала нижеследующий текст.
Гениальный отдел маркетинга налепил дурацкую картинку с рекламы фильма, так что многие читатели не приобщились к моему гениальному тексту, полагая, что это новеллизация фильма. Вот так глупо вышло.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 1180 ГОД
Глава первая МЛАДШИЙ БРАТ
Тысячелетняя Яффа кричала на приближающиеся корабли, брызгая огромными валами пены. Высокий лоб ее, иссеченный старыми, серыми, в плевках соли, строениями, нависал над гаванью. Густая, влажная жара обвивала здесь человека тугими пеленами, не давала вдохнуть полной грудью — словно и любить, и ненавидеть в полной мере Яффа не дозволяет.
Набежавшие сарацины на берегу орали весело и алчно, размахивая белыми рукавами и худыми черными руками, и «пилот», их соотечественник, важно ухмылялся, вводя первый из кораблей в порт.
Ги де Лузиньян, пятый сын у отца плодовитого, могучего, мелкопоместного, младший брат свирепых, хитроумных, язвительных братьев, потомков змееногой Мелюзины, чья кровь умеет превращаться в сладкий яд. Ему — неполных двадцать лет. Еще не огрубели руки, еще ни один шрам не пятнает лицо, надежно скрытое от загара смешной крестьянской шляпой.
Для чего вызвал его в Святую Землю старший брат — умный, как Одиссей, Эмерик, коннетабль королевства Иерусалимского? Письмо ничего не объясняло — просто содержало приказ. Приученный доверять и подчиняться, младший не прекословя явился на зов старшего.
И вот — сквозь водяную взвесь смотрит то на берег, кренящийся перед взором, то на собственные руки, вцепившиеся в твердые от соли ванты.
Там, впереди корабля, Святая Земля вставала на дыбы, раскрывая готовое поглотить его чрево.
«Для чего ты позвал меня, брат? — мысленно спрашивал Ги де Лузиньян еще далекого коннетабля. — Неужели тебе понадобилась моя помощь? Но кто я такой, чтобы помогать тебе — тебе, который всегда смеялся над моим ничтожеством?»
Но, уж конечно, Эмерик хорошо знал, что он делает. Может быть, младший братец Ги и ничтожество, зато — единственный из всего лузиньяновского выводка — не медной масти, но золотой.
* * *
Яффа кишела домами. Выстроенные из обожженного кирпича, они иссохли и выглядели так, словно простояли на этом месте несколько тысячелетий. И точно так же выглядели встречаемые на узких улочках люди, несмотря на всю их суетливость и суетность. Все здесь бегало и не двигалось с места, было хрупким и не ломалось, преходящим — и бесконечным. Само время тянулось на этом берегу дольше, чем крохотная чашка кофе, пропущенная сквозь черные зубы ленивого сарацина, хозяина лавки, уплатившего все подобающие налоги.
Молодой человек в сопровождении нескольких спутников бродил по городу, рассматривая его с торопливой жадностью. Змеиная кровь оживала в спящих доселе жилах; ноздри вздрагивали, вбирая непривычные запахи — без разбору, охапками — и раздражаясь от их пряной новизны.
И все оказалось в Яффе не так, как мнилось и обсуждалось за морем. Рослые бароны из Пуату выглядели здесь почти нелепо, если не сказать смехотворно: не так ходили по узким улицам, не так стояли на плоском берегу, лицом к лицу с волнами, которые упрямо отказывались лизать их сапоги, но бросались отвесно и кусали белыми, рассыпающимися в воздухе зубами… Что ни шаг, то цеплялись широкие плечи за стены, что ни вдох, то испарина выступала на лбу, и пот пощипывал уставшие глаза. Несмотря на влажность, мгновенно охватывала жажда, и глазные яблоки начинали болеть, точно их сдавливало невидимыми пальцами.
Один только Ги, змееныш, шагал по этой земле легко и привычно, словно загодя подготовился к ее исконному коварству, словно для того и был он взрощен, чтобы на двадцатом году жизни войти в Святую Землю и стать частицей ее вечно голодной, зовущей плоти. Каждый камень, оказавшись под его ногой, нарочно поворачивался таким образом, чтобы Ги де Лузиньяну удобнее было ступать.
Яффа принадлежала Сибилле, сестре короля. Все здесь делалось ее именем: отбирались пошлины, взимались налоги, велась торговля: ревень, мускус, перец, корица, мускатный орех, гвоздика, камфора, слоновая кость, ладан и финики, пурпур, шелк, стекло неустанно переходили из смуглых рук в загорелые, и мягко падали в наполненные ларцы монеты — сарацинские безанты из Акры, и тирские дирхемы, и иерусалимские денье. Распоряжения Сибиллы выкрикивали на площади, растягивая слова и завывая. Даже солнце, казалось, пылало далеко в глубинах мутноватого неба по приказанию Сибиллы Анжуйской.
Здесь, в Яффе, эта женщина представлялась просто словом, изящно выписанным рукою арабского писца. Могущественным словом, которого никто не видел, но которое распоряжается всем.
И оказавшись во власти этого слова, Ги де Лузиньян вдруг ощутил, как сладко повиноваться женщине.
* * *
Она стояла на краю шахматной доски — маленькая фигурка, загроможденная другими фигурами, «рыцарями» и «слонами», — и все же слишком хорошо заметная, откуда ни посмотри.
О ней много говорили. И на родине Лузиньяна, в Пуату, и на севере, в Иль-де-Франсе и Нормандии, и даже в Англии. Ее тень — после таинственного полета над морем и европейским берегом разорванная, утратившая ясность очертаний и даже малейшую возможность сходства с той, которая эту тень отбросила, — была знакома всем франкским баронам: тень принцессы Сибиллы Анжуйской, сестры правящего Иерусалимского короля Болдуина.
Для пятнадцатилетней принцессы призван был из-за моря знатный супруг: Гильом Длинный Меч, маркиз Монферратский. Гордый воин, в Святой Земле он успел лишь зачать с молодой женой сына и умереть от лихорадки. В шестнадцать лет Сибилла — вдова и мать наследника.
В семнадцать — снова невеста.
Вокруг Сибиллы — немолодые лица, обветренные, хмурые, алчные. Лица, знакомые Святой Земле, ею иссеченные, помеченные ее клеймом.
Король снова изыскивает для Сибиллы мужа.
Для нее запретны даже помыслы и о молодости своей, и о красоте. Сибилла молчит, Сибилла повинуется, Сибилла как будто не живет.
Только имя. Только затейливый росчерк внизу пергамента. Только призрак Иерусалимской короны.
* * *
Узкие улицы Яффы — как истощенные цепкие руки здешнего нищего — схватили Ги за бока и завертели из стороны в сторону, так что, дважды свернув за угол, он уже перестал понимать, куда попал и как отсюда выбраться. Там, где он очутился, было безлюдно, и стены бежали вдоль улицы совершенно голые, однако никуда не исчезал стойкий, ошеломляющий запах пота, такой острый и резкий, как будто здешние дома пожирали перец и источали его из своих каменных пор.
Здесь было, несмотря на безлюдье, шумно, но сколько Ги ни прислушивался, так и не мог понять, откуда исходит звук и что этот звук означает: говор ли человеческих голосов или, может быть, шум воды, крик осла, птичьи ссоры? Или это море настигало его, потерявшегося в глубине портового города?
Он пробежал несколько улиц и запнулся о ступени, ведущие в каменную нишу — крохотное углубление в стене одного из домов. А ниша неожиданно зашевелилась и ожила, и оттуда выскочило странное существо, замотанное в нечистые розовые шелковые тряпки: очень юная девушка, почти ребенок. Она выбежала на середину тесной улицы, расставляя тонкие пальцы, унизанные огромными кольцами, и воззрилась на франка огромными глазищами с влажными расширенными зрачками. Несколько мгновений Ги ничего, кроме этих глазищ, не видел. Все в них казалось чрезмерным: и пушистые ресницы, такие густые, что они, казалось, росли на краю век в три слоя, и выпуклый белок цвета слоновой кости, и темная радужка цвета перезрелой вишни, и этот гигантский зрачок, глядевший слепо и вместе с тем проникавший в сокровенную глубину естества.
В тонких покрывалах путались серьги, цепочки, черные жесткие косицы, и все вместе это придавало девушке вид нечеловеческого существа.
Но она улыбалась так приветливо и тянулась к молодому человеку так доверчиво и ласково, что он поневоле отозвался: сделал шаг ей навстречу, потом другой — и вдруг схватил ее за плоскую талию. Она заверещала от восторга и принялась шарить по его телу ладошками, а затем потащила за собой куда-то глубже в клубок улиц, и Ги почти бежал следом за верткой спутницей, лишь мимолетом замечая выкрашенные красным ступни и густой запах корицы, исходящий от ее одежды.
Неожиданно они ворвались в маленький двор, где были навалены ковры и сидели какие-то люди. Ги совершенно не понимал происходящего и полностью отдавался его власти. Пестрота здешних красок ослепляла его, в ушах гулко повторялся каждый звук, и сознание не успевало задержать ни одного впечатления — все они проносились вихрем, изнуряя не привычное к ним тело.
При виде франка и его спутницы все эти люди закричали и начали хохотать, одобрительно размахивая руками. Девушка закрутилась на месте; косицы и цепочки взлетали и опадали, шелк размотался с головы, полностью открыв узкое лисье лицо. Перед взглядом Ги мелькали ее сверкающие в улыбке зубы, вспыхивающий и снова угасающий под ресницами алчный взгляд, огромные кольца — когда она подносила руку к глазам.
Ги любовался ею и глупо улыбался в ответ. Чьи-то черные пальцы толкали ему в рот приторные сладости. К нему прикасались, ощупывали его плечи, хватали за шею, запускали пальцы в волосы на затылке, и непрерывно галдели, смеялись, бормотали. Затем Ги снова увидел девушку — очень близко от себя. Она схватила его за руки и потянулась к нему накрашенными губами.
На мгновение запах корицы стал нестерпимым, и Ги чихнул. Это вызвало общий громовой хохот, но девушка обернулась к остальным и зло выкрикнула несколько слов. Прочие демонстративно раскаялись — принялись стонать и закрывать лица рукавами, а один даже несколько раз ударил себя ладонью по губам. Потом все опять засмеялись.
Смеялся и Ги. Она прижалась к его рту губами, кося по сторонам все еще сердито. Ги осторожно провел ладонью по ее телу и вдруг замер: у девчонки не было груди.
Спустя миг она оттолкнула его и принялась хохотать, как одержимая. Она приседала на корточки и била кулаками по земле, а все остальные бывшие на площади переглядывались и добродушно пересмеивались.
Потом все смолкли, и один из присутствующих обратился к франку с вопросом. Говоривший так солидно гладил свою бороду, рокотал столь важно и серьезно, что Ги неожиданно понял, о чем идет речь. Он затряс головой и захотел было бежать. Парень, переодетый девушкой, преградил ему дорогу. Он больше не улыбался. Быстро, мелко ударяя Ги твердыми пальцами в грудь и в живот, он чего-то требовал.
Франк захотел было дать ему денег, чтобы тот отвязался, но кошелька не обнаружил. Несколько человек, сидевших на коврах, сдержанно хохотнули. Паренек в женской одежде резко повернулся к ним, что-то опять крикнул. Они замолчали, а затем он вновь обратился к Ги и начал на него наступать.
Ги отпрянул, но вдруг споткнулся — он сам не понял, обо что, — а затем лицо парня оказалось совсем близко. Оно вспыхнуло ослепительно, заняв собой все небо, какое только уместилось в разверстом колодце дворика, и погасло, сменившись темнотой.
И эта темнота оставалась с Ги до тех пор, пока на ней не зажглись задумчивые звезды, и вместе со звездами не возникла в небесах хмурая физиономия сержанта, который тряс его и повторял:
— Вставайте же, сеньор, пока никто больше не увидел, в каком вы виде!
Ги сел и схватился за больную голову.
— В каком я виде?
— Как будто вас собаки обкусали, — честно признался сержант.
— Так оно и было, — сказал Ги и вдруг, к превеликому изумлению сержанта, засмеялся.
* * *
Дорога из Яффы в Иерусалим — старый паломнический тракт через Рамлу — сразу приносит облегчение. Влажность отступает, впереди полными легкими дышит пустыня. Серо-рыжие, выжженные солнцем пологие холмы Рамлы начинаются в нескольких милях за Яффой. В Рамле и первая ночевка.
Громадный собор из местного серовато-желтого камня как будто накрывает весь город куполом, и с наступлением яркой звездной ночи кажется, что этот храм способен вместить в себя весь мир.
Ги безмятежно спит — дитя, из волосатых рыжих лап отца переданное в крепкие руки старшего брата. Золотистые волосы светятся в темноте, губы чуть приоткрыты, и ни одной тени не ложится на округлые щеки.
Рамла принадлежит сеньору, который носит то же имя, что и нынешний король, — Болдуин. Сам сеньор находится сейчас в Константинополе. Какое ему дело до юноши, который вместе с другими вооруженными паломниками заночевал сегодня в его владениях?
Сеньор Болдуин из Рамлы — будущий муж Сибиллы. Король уже договорился с ним об условиях, на которых возможен этот брак.
Властителю Рамлы более пятидесяти лет. Старшая ветвь доброго корня. Вместо того чтобы спать, послушал бы Ги здешнего сенешаля — тот многое рассказал бы о семье своего господина.
Ночью легко откатывается назад тяжело груженая телега, на которой люди возят свои истории. На десять, на двадцать, на пятьдесят лет уходят рассказчики — с такой же простотой, с какой днем заглядывают они в соседнее помещение, чтобы потребовать холодной воды или райских плодов в золотистой кожуре, похожих на толстопалую кисть руки в желтой перчатке.
Из сонной тьмы соткались бы актеры и охотно разыграли бы перед гостями старую пьесу полувековой давности. Звездное небо из наилучшего сукна с темным ворсом свернулось бы в конусы, образуя королевские мантии: былой король Фульк, былая королева Мелизанда Иерусалимская, его жена. Ворох листьев, срубленных наискось небрежным взмахом меча, взметнулся — и не опал, соткал из небытия прежнего графа Яффского, Гуго. Облако пыли, сдутое губами пронзительно-жаркого ветра, — пасынок графа, молодой Готье. И, наконец, застывшая в воздухе фонтанная струя представит тогдашнего коннетабля Яффы — Бальяна, ничем не прославленного, только тем и обремененного, что графскими отрядами, где необходим железный порядок. По обычаю, в сражении коннетабль заменяет своего сеньора; но не таков Гуго, граф Яффы, чтобы нуждаться в подмене.
Хлопок сухих ладоней рассказчика, и фигуры оживают в воздухе, начинают двигаться и говорить. Старинная пьеса о возвышении рода Яффского коннетабля началась.
Король Фульк ревнует свою жену к графу: подозрительно тесна их дружба. Для чего Мелизанде столько времени проводить в Яффе?
Недоволен и Готье, пасынок графа Яффского. Облако пыли кружится по сухой палестинской земле, чтобы предстать перед звездным конусом и при королевской особе обвинить отчима в предательских замыслах против короны. Намерен Гуго, сеньор Яффы, захватить и престол, и королеву!
Вселенная, представленная этой воображаемой сценой, дрожит от взаимных упреков и отрицаний, и в конце концов тяжелая перчатка летит перед глазами королевской четы — от отчима к пасынку: поединок!
Но пока Готье готовится выступить в защиту своей истины с оружием в руках, Гуго бежит — бежит в Аскалон, где стояли тогда египтяне, и просит помощи у врагов Христовой веры.
Коннетабль Бальян, не колеблясь, передает Яффу в руки короля. С этого часа начинается возвышение Бальянова рода.
Спустя девять лет после памятного бунта Бальян получил от короля недавно построенный замок Ибелин, а еще через пять, когда пресекся род прежних сеньоров Рамлы, — и это владение.
Медленно разматываются и уходят в небеса королевские мантии — нет больше в Святой Земле короля Фулька и королевы Мелизанды. Улегся и пыльный вихрь — Готье, разоблачитель заговора. Опали мятежные листья, засохли и рассыпались, объединившись с прахом земным, — спит беспокойным сном в ожидании Страшного Суда граф Яффы Гуго.
Густая кровь коннетабля Бальяна щедрой, широкой волной разлилась по замкам и городам Палестины: двое могущественных сыновей и властительная дочь. Самого старого Бальяна уже нет на этой земле, поблизости от потомства.
Рожденные в Палестине, сызмальства вдыхавшие ее воздух, дети Бальяна-коннетабля были вылеплены Королевством, из здешнего праха и брения, и не похожи на тех, какими уродились бы они в Иль-де-Франсе или Пуату: с первого взгляда Королевство узнавало своих и изменяло их по собственному усмотрению.
Дочь бывшего коннетабля — Эскива, госпожа Тивериады, мать четверых взрослых сыновей, жена одного из самых важных сеньоров Святой Земли, Раймона, графа Триполитанского. Младший из сыновей, Бальян, владелец родового замка Ибелин, королевского дара его отцу, женат на вдовствующей королеве-матери, Марии Комниной. Старший, Болдуин, сеньор Рамлы, ищет руки королевской дочери — Сибиллы. Лучшая кровь, что течет в жилах Королевства, собралась здесь, в семье Ибелинов.
Изысканная византийская порочность Комнинов и армянская пылкость Мелизанды, франкская устойчивость Бальяна-коннетабля, густо замешанная на бедуинской пыли, что летает над дорогами Рамлы, — весь этот ком, охотно приникая к сминающим его пальцам, постепенно вылепился в некую форму. Как потерпеть им чужака, проникшего в их гнездо? В назначенный час покатится этот ком прямо на юношу Ги, и подомнет его под себя, и вышвырнет из Святой Земли — в море: вот тебе Королевство! Вот тебе прекрасная принцесса! Вот тебе рыцарская сказка, должно быть, приснившаяся тебе жарким полднем в Пуату, под деревом, пока ты спал, перепив веселого вина и переутомив слух мычаньем струн, по которым вволю наползался ленивый, бессовестно лгущий смычок!
* * *
Дорога все выше, и не влага уже, а сушь кусает горло и легкие. Всадники закутаны в просторные покрывала. Бурдюк с водой хлопает у седла — потому что постоянно отвязывают его нетерпеливые руки. Кругом незаметно выросли горы, и спиралями обвивают их тени. Солнце стоит неподвижно, остановленное здесь некогда Иисусом Навином. Можно подумать, понравилось это солнцу — застыть и не склоняться к горизонту, но отвесными лучами жалить ничтожную горстку людей. Солнцу эти люди кажутся крохами; людям же с того места Вселенной, где они находятся, крошечным видится солнце.
Несколько раз попадаются бедуинские шатры, полосатые неряшливые пятна, разбросанные по безводной пустыне, и между шатрами, по раскаленным пескам, бродят босые дети с непокрытой головой и задумчивые ослики.
Неожиданно на край дороги вылетает всадник — смуглый мальчик в развевающейся рванине; без седла, без стремян, высоко поджав ноги, сидит на коне, и оба дико косят огромными, темными глазами. Ги проводит ладонями по поясу, но кинжала не снимает. Видение проносится мимо, затем вдруг останавливается; конь приседает на задние ноги, мальчишка вскрикивает ужасным голосом, и все пропадает в облаке пыли.
* * *
В Иерусалиме привыкли к Лузиньянам, всегда многочисленным, всегда под рукой у королей, если некого назначить на должность. Эта семья присылала младших сыновей в Святую Землю на протяжении нескольких поколений.
Эмерик де Лузиньян, второй по счету из последнего лузиньяновского выводка, поступил в королевское войско и при первой же стычке с сарацинами угодил в плен. Его отвезли в Дамаск, откуда он — «бедный рыцарь и благородный юноша» — был вызволен милостью короля Амори.
Этот рыжий Эмерик глянулся его величеству. Неудачи научили его думать, а невзгоды плена — подробно исследовать жизнь. С детства сообразительный и ловкий, Эмерик нашел наконец применение своим талантам. На лету подхватывая плохо оформленную мысль косноязычного, туго соображающего Амори, молодой человек излагал ее легко и красиво. Он хорошо читал и писал и быстро научился разбираться в законах — еще одно умение, пленившее сердце тогдашнего Иерусалимского короля.
Эмерик прожил при Иерусалимском дворе немало лет. Поначалу он занимал должность камерария: следил за тем, как существуют в окружении короля различные предметы.
Чисты ли чаши? Красивы ли одежды? Приготовлено ли питье, умывание, лекарства? Отложены ли деньги для тех или этих нужд? Хорошо ли хранятся припасы? На месте ли украшения? Не нуждается ли что-нибудь в починке?
Эмерик любил вещный мир и умел с ним ладить. И вещи отвечали ему благодарной любовью — содержались в неизменном порядке и всегда отыскивались на нужном месте.
Став коннетаблем, хозяйственный Эмерик столкнулся с неизбежными трудностями, ибо люди оказались куда менее послушными, чем неживые предметы. Однако Эмерик постепенно совладал и с ними и установил в королевской армии тот же образцовый порядок, что царил у него в кладовых.
Не следует полагать, будто Эмерик не видел разницы между одушевленным и неодушевленным. Напротив. Наделенный даром чувствовать материальный мир, он обостренно воспринимал живое биение души в каждой телесной оболочке, даже в такой полумертвой, какими представлялись юный король и его сестра.
Сибилла — подобна существу, чьим именем ее назвали: почти бесплотна, готова слиться с миром теней, и оттуда, из потустороннего царства воспоминаний и голосов, дарить своему разумному, благонадежному мужу нежизнеспособных наследников, зачатых без любви, без Божьего благословения. Все, чем она обладает, — это королевское чрево.
Ее брату было восемь лет, когда впервые заметили, что он поражен проказой. Это стало ясно в тот день, когда сын короля дрался с друзьями-детьми и вдруг оказалось, что он не чувствует боли, как бы сильно ни щипали его за руки. Поначалу воспитатели восхищались его отвагой и выдержкой, однако чуть позже это встревожило их…
Руки короля постепенно слабели, но щека еще ощущала прикосновение свежей зелени, влажного горячего лошадиного бока, жесткой гривы, твердого шлема. У него в достатке имелись врачи, и франкские, и даже выписанные королем Амори, его отцом, из Египта, и перчатки, и целебные растворы, и рыцарский меч, и рыцарский конь.
Ему исполнилось тринадцать, когда он стал королем, и с тех пор к прежнему перечню сокровищ добавилась еще корона Иерусалима. И несколько лет в запасе — для того, чтобы найти способ распорядиться ею во благо Королевства.
Прокаженный король не мог иметь детей. Однако он обладал бесценным достоянием — сестрами. Единоутробная, Сибилла, и Изабелла, единокровная сестра, рожденная королем-отцом от другой супруги, от Марии Комниной. Сибилла — старше брата на год, Изабелла — младше на двенадцать лет. Две девочки. Прекрасные сосуды королевской крови.
По рукам мальчика Болдуина ползли бесформенные светло-лиловые пятна, и голос звучал все более хрипло. И этот хриплый голос приказывал и требовал, он срывался на крик во время сражений и свистел шепотом во время разговоров.
Что с того, если Господь быстро освободил Сибиллу от нелюбимого мужа? Она знала: скоро для нее отыщут другого.
И пока Прокаженный король вел переговоры с бароном, в котором видел будущего хранителя своего престола, его новый коннетабль Эмерик, змеиное отродье, отсылал письма младшему братцу.
И Ги де Лузиньян прибыл — послушный, золотоволосый, с лицом наивным и прекрасным.
И все, о чем было слышано во время плавания и по дороге, облеклось наконец плотью. Иерусалим, светящийся в солнечных лучах, в чаше гор — точно расплавленное розоватое золото.
Подъехав ближе, путник ступил на улицы, поначалу грязные, затем — мощеные и крытые, чтобы тень спасала от всепроникающего солнца; но шумное, веселое торжище сопровождало его повсюду, покуда лучи света не скользнули в последний раз, искоса задевая землю, и не скрылись за горизонтом, так стремительно, словно кто-то смахнул их рукавом.
— Наконец-то! — закричал Эмерик, хватая брата за обе руки и целуя его в губы и плечи. — Бог ты мой, я думал, вы уж никогда не приедете!
Ги улыбался широко, сияя. Смазливый, восторженный дурачок. Как раз то, что требуется.
Глава вторая ЛЕС БАНИАСА
Королевство подменяло возможности, оно отбирало у своих подданных одно лицо и взамен наделяло их другим, как будто здешние зеркала были наделены волшебной силой преображать действительность. Изначально лживое или случайное здесь полностью исключалось, взамен проступало настоящее, исконное.
Родись Болдуин в Анжу, в землях своих предков, его лицо было бы иным, — но истинным ли?
Король Болдуин знал, что изначальный грех исказил природу человека, и каждое новое поколение все добавляет и добавляет в общую копилку, пока наконец не рождается некто, призванный уменьшить количество уродства и ужаса. Некто, самим своим отвратительным видом являющий истинный облик своего рода.
Лицо мальчика с неряшливым пятном на щеке постепенно видоизменялось, погребая под завалами болезни изначальные черты. Каким был бы этот раздутый на пол-лица нос? Длинным, с тонкими ноздрями, по-звериному вздрагивающими в частых приступах гнева? Какими стали бы мутные глаза? Темными, зоркими, как глаза всех его предков, привыкшие обозревать поле битвы на несколько лиг? Как звучал бы голос, не сорванный болезнью? Был бы он низким, как у отца, или высоким и резким, как у дяди и регента, графа Раймона Триполитанского?
Ничего этого не говорит зеркало. Заляпанная лиловыми, мясистыми пятнами образина без ресниц и бровей взирает из глубин металла, задерживаясь на полированной поверхности: истинное лицо Анжуйского рода.
Болдуину было пятнадцать, когда они с дядей разбили великого Саладина на пыльных дорогах между Дамаском и Алеппо, захватили Бейтджин и разрушили его; и шестнадцать — когда через год после того выгнали Саладина из Баальбека и заставили его снять осаду с Алеппо.
К юному королю постоянно приходили с просьбами. Распорядиться рукой и приданым чьей-нибудь дочери. Дать денег на выкуп из плена чьего-нибудь брата. Болдуин отдавал распоряжения, изыскивал деньги. Он был любезным и милосердным.
Четыре года болезнь бродила по его телу беззвучно, как лазутчик, карабкаясь по костям, точно по приставным лестницам, расползаясь по крови, втягиваясь в печень, в селезенку, высаживая небольшие отряды то здесь, то там.
И точно так же бесшумно крался вдоль границ Королевства умный, опасный враг — египетский султан, хитроумный курд Саладин. Пока еще отдаленный, но постоянно ощущаемый, потому что был не из тех врагов, что отступаются навсегда.
На пятом году правления Болдуина, поздней осенью, в канун праздника Святой Екатерины, началось вторжение сарацин.
Раймон, граф Триполитанский, регент, находился далеко — в Антиохии; Болдуин — рядом, в Аскалоне. Туда, в Аскалон, под защиту стен, и примчался конник, оторванный от малого отряда:
— Сарацины!
А сарацины были уже близко. У Саладина повсюду глаза и уши: как только многоопытный дядя разлучился с юным племянником, как только из Королевства ушли фламандцы, большое войско, которое сочло, что достаточно потрудилось для земли Господа своего, как только мальчишка-король остался в Аскалоне один, египетский султан метнулся в его владения.
С небольшой армией Болдуин засел в Аскалоне. Закутанный в тонкое полотняное покрывало до самых глаз, рослый, как его предки-северяне, король — повсюду. Темные брови над покрывалом хмурятся — еще целы, еще могут сходиться над переносицей, и складка на лбу еще не так тяжела, чтобы не позволять им сближаться в мрачные минуты.
По побережью, заливая Газу, окружая Аскалон, движутся полчища. Саладин не стал тратить времени на правильную осаду Аскалона, лишь запер там короля и рванулся на север, — к Лидде и Рамле. К Иерусалиму.
К окруженному Аскалону с боями пробивались небольшие отряды франков — выручать короля; но сарацины уничтожали их. Король догадывался об этом, томился, грыз губы и плакал от жалости. Каждое мгновение готовый выступить — непрестанно ждал, дрожа, как пес при виде далекого лакомого куска в господской руке, занесенной высоко над головой, и когда юноша уходил отдыхать, во сне он вскрикивал и метался, пугая слуг.
А с севера никто не приходил. И день, и другой.
Тем временем Саладин все ближе к Святому Гробу. Саладин — в Королевстве, которое самим Господом поручено Болдуину.
На утро третьего дня на аскалонских стенах нежданно взвыли голоса, все разом, и затопали в спешке сапоги, и загремело оружие, — но громче всего был нарастающий стук копыт. Всадники неслись к окруженному Аскалону, флажки громко трещали на ветру, белые плащи с красными крестами рассыпались по полю, как будто некто испестрил карту пометками, то обвисало, то разворачивалось перед глазами черно-белое «пегое» знамя ордена Храма. Тамплиеров — чуть меньше сотни, весь гарнизон Газы. Следом за ними летели бедуины, низко склоняясь к лошадиной гриве и пустив развеваться полосатые просторные покрывала, — стелились, как пыль над пустыней, взбитая ветром.
Вместе со всеми выбежав на стены, кричал, срывая хриплый голос, юноша-король, ибо рыцари эти, равно как и эти бедуины принадлежали ему. Дикие кочевники платили иерусалимскому королю подать за право держать свои стада на аскалонских пастбищах, а король защищал их от алчности латинских сеньоров. Сорванные с места, подхваченные возле своих шатров дыханием близкой войны, они последовали за тамплиерами к Аскалону, вызволять своего короля.
Ворота города раскрылись, оттуда хлынули всадники. Отряды смешались, подминая и топча осаждающих: расправа с ними была недолгой.
Смеясь, король сказал великому магистру, брату Одону:
— Жаль, ни одного гонца с севера! Далеко ли Саладин? Чем он сейчас занят?
Брат Одон, с пыльной бородой, в испачканном белом плаще, прищурил маленький, пронзительный глаз, делая вид, будто вглядывается вдаль.
— Саладин, мой сеньор? Саладин застрял под Рамлой, потому что его люди заняты грабежами!
Это было правдой. Вырвавшийся из серых объятий «Сирийской Невесты», как называли Аскалон, король Болдуин вскоре увидел льнущие к земле дымы: пожары бежали по Королевству, торопясь настигнуть разбойных сарацин, а те уходили все дальше, рассыпались по малым селениям все шире — и повсюду они грабили и жгли, набивая свои походные сумы добычей.
Рыцарская армия Болдуина в окружении кочевников неслась, не останавливаясь, — торопилась обойти Лидду по широкой дуге и наброситься на Саладина там, где он этого не ожидает.
Сожженные, разбитые лошадиными копытами посевы еще раз были втоптаны в грязь. Домашняя скотина, мокрая, в пятнах сырой копоти, разом утратившая и ухоженность, и величавость, при виде новой армии разбегалась, и следом за нею разбегались и крестьяне, сирийские и франкские, кто уцелел.
Во главе лютой армии, исчерканной тамплиерскими крестами, король вырос перед Саладином, точно выскочил из-под земли. Отчасти так оно и было, поскольку Болдуин был порождением Королевства, его алхимической квинтэссенцией, вобравшей в себя его доблесть, его греховность, его святость и его гордыню. Казалось, эта земля в любой миг могла поглотить его, чтобы, пронеся собственными недрами, исторгнуть на поверхность там, где ему пожелается.
И прославленный Саладин снова бежал перед прокаженным мальчишкой, бежал, из последних сил погоняя верблюда с обвисшими, болтающимися горбами, и бедуины, незнавшие в своей жизни ничего, кроме кривой сабли да козьего вымени, преследовали египетского султана по пятам, через иссушающие пустыни, насыпанные Господом вокруг Иерусалима, сквозь ветра, которые в одно мгновение высасывают из человека всю отпущенную ему влагу, они гнались за Саладином по каменистым долинам, где лошади разбивают копыта, а босые ступни рвутся, точно сделаны из китайской бумаги. И только Божья длань разлучила Саладина с его преследователями.
Болдуин вернулся в Иерусалим.
* * *
— Я избавил ваше приданое от опасности, сестра, — сказал король Сибилле, когда вновь увидел свою старшую сестру. — А себя я избавил от опеки и надзора!
Разбив Саладина, иерусалимский король понял: отныне Королевство не нуждается в регенте. Мальчику на троне больше не требовался опекун. Для чего ему военный советник, который в решающий момент сидит в Антиохии? Король в состоянии сам спасти свое Королевство.
Раймон Триполитанский лицом к лицу со своим племянником. Не стыдясь уродства — напротив, обнажая его, — король хрипит громким, неприятным голосом:
— Уйдите же, дядя! Я больше не верю вам.
При этом разговоре присутствуют другие люди. Они неизбежно присутствуют — всегда. Придворные, приближенные. Вечно рядом, наготове. Король научился не видеть их — пока в них не возникало нужды.
— Вы слишком долго прожили у сарацин, — говорит король. — Вы научились играть в их игры. Для чего это Иерусалимскому Королевству? Играйте в эти игры у себя в Тивериаде, во владениях вашей жены!
— Вы безжалостны, — говорит граф Раймон. — Я ведь был в плену. Вы же знаете, что я был в плену. Восемь лет в темницах Алеппо.
— В темницах! — Болдуин морщит лицо. — Должно быть, крепко вас там измучили!
Раймон тоже родился здесь, в Королевстве. Будь он твердолобым франком, из тех, что приезжают сюда повоевать год-другой, — Болдуин поверил бы ему. Но, погруженный в непрестанный шум собственной отравленной крови, Болдуин слишком отчетливо распознает действие того же яда и в дяде. Ни одна складка на одежде графа не лежит ровно, все — извилисты; голова постоянно чуть повернута набок, словно прислушивается: что нашепчет правое плечо, о чем шепнет левое.
— Я не верю вам, — повторяет король, — вы должны уйти.
И граф Раймон уходит.
В семнадцать лет король остается один на один с Королевством — клочком земли вокруг Гроба, в котором нет мертвеца.
Смерть была его добрым собеседником. Король не говорил о ней с посторонними, потому что часами разговаривал с нею самой. Она приходила, как старый друг, садилась рядом. Она не боялась касаться его волос, его лица, она единственная не боялась целовать его.
— Мое тело не голодает без женской ласки, — удивленно говорил он ей, — но я все еще жив.
Она выслушивала его и давала добрые советы.
— Я должен найти другого короля, — сипел он. — Я должен выдать замуж моих сестер.
Смерть была королю верной защитой, и он не страшился ни Саладина, ни дворцовых заговорщиков.
* * *
Теперь военным советником короля вместо графа Раймона сделался брат Одон, магистр ордена Храма.
Разумеется, и прежде, находясь под крылом дяди-опекуна, Болдуин одерживал победы над сарацинами. Он никогда не забывал о том, как вместе с Раймоном видел спины бегущих от него воинов Саладина.
Однако у Лидды Болдуин разгромил противника сам. Брат Одон лишь выполнял его приказания и только изредка решался дать осторожный совет. Болдуин почувствовал, что вырос из дружбы с дядей, точно из детского платья, и все дурное, что прежде нашептывали ему и что дремало до поры в глубинах памяти, разом ожило и подняло голос. Полководцы бывают более ревнивы, чем импотенты, а военное счастье, объект их ревности, — куда более капризен, чем неудовлетворенная мужскими объятиями женщина.
Раймон поспешно уехал из Иерусалима и засел в Тивериадском замке.
А брат Одон пришел к королю и сказал ему попросту:
— Мой сеньор, если бы вы решились восстановить крепость у переправы через Иордан в верховьях, у Генисаретского озера, то сарацины перестали бы проникать в Галилею и хозяйничать там, как им вздумается.
— Я не могу, — ответил король. — По договору с сарацинами я не имею права возводить новые крепости на границах, пока у нас перемирие.
— Вздор! — возразил магистр. — Конечно, можете! Впрочем, если вы на такое не решитесь, то Орден возьмет всю работу на себя. Лично я не заключал никаких договоров с сарацинами.
Неожиданно глаза короля засветились, в них запрыгали желтоватые точки, будто заплясали вокруг зрачка. Глаза у короля темные, если в них не светит солнце, и зеленоватые, если он подставляет их дневному светилу.
— И в самом деле! — проговорил король. — Чем я обязан им, кроме вражды?
И, говоря так, тайно посмотрел он за свое левое плечо, но смерть, товарищ давний и верный, отступила в сторону, ничуть не ревнуя: пока с Болдуином его новый друг, прежний может и подождать.
С братом Одоном король становится тем, кем был бы, родись он на земле своих предков, в Анжу: рыцарственным юношей, большим приятелем всех породистых лошадей, и охотничьих птиц, и драчливых, раздражительных воинов. Только женщин в его жизни нет по-прежнему. Нет и не будет. Кроме сестер, которым он заменяет отца.
Тем и хороша дружба брата Одона, что отсутствие женщин делает она незаметной. Брат Одон — тамплиер, в Ордене нет сестер.
О брате Одона говорят всякое, и по большей части — дурное, неприятное. И все это — правда.
В гневе брат Одон швырнул камнем в одного глупого спорщика и едва не убил его — это правда.
Брат Одон приказал своим людям перебить до единого человека посольство к королю Амори от ассасинов — это правда. Король Амори, отец нынешнего Болдуина, потребовал от брата Одона выдать убийц, а брат Одон отказался — правда. Брат Одон никогда не признавал перемирия с сарацинами — правда, правда, правда…
Лютый, с нечесаной бородой, клином упирающейся в выпуклую грудь, случается — в пролежнях от доспехов, не снимаемых по суткам и более, бешено хохочущий при виде врагов, алчный и нищий, брат Одон переполнен жизнью и щедро делится ею, плескающей через край, со своим больным королем.
Ему ли, живущему посреди сражений и интриг, в вечной ссоре со всем, что не есть Орден, устрашаться проказы?
Рядом с братом Одоном король перестает быть разумным, слабым, обреченным. Рядом с братом Одоном король начинает жить.
На удивление всем его знавшим молодой король, доселе весьма осмотрительный, всегда подолгу рассуждающий сам с собою, прыгает в седло и, окруженный сотней преданных вассалов и наемников, отправляется с тамплиерами на север, к озеру Генисарет, к развалинам Капернаума, селения косноязыких, до неба вознесшихся и ниже почвы павших. Здесь, у Брода Иакова, в самом опасном месте для паломников, желающих принять благодать омовения в водах священной реки Иордан, начинается строительство нового замка.
Замок так и назвали без затей Новым — Шатонеф. Весело пробегает зима в заботах созидания. Под дождями таскают камни, и струи небесной влаги омывают от пыли строительный материал. Вместе со своими людьми король живет в палатке, ходит с оружием в руках, охраняет строительство.
Какие-то простые люди, местные жители, ловят для него рыбу в Генисаретском озере и приносят ее к королевскому столу. Рыба источает пряный запах, заполняя походные кухни ароматом ломаной зелени, обещанием скорой весны. Тело, нежеланно и непрошено, наполняется тайной истомой.
По ночам король бродит по берегу и смотрит на звезды, зажигаемые в вышине ради его величества. В руке — наполовину опорожненный кувшин, и молодой человек то и дело смачивает губы вином. Ночь скрадывает его уродство. По водной глади скачут белые загогулины лунного света, похожие на след змеи в песках или арабские росчерки на безантах.
— Кто здесь?
Неожиданно король остановился. Легкая тень, чуть темнее ночного воздуха, скользнула по траве и затаилась. Затем не удержалась — послышался смех. То существо, прижавшееся к траве, фыркало и прыскало, как будто ему было очень забавно.
Король подошел ближе.
— Чему ты смеешься?
Встретившись с лунным светом, сверкнули белки глаз.
— Садись рядом, — предложила девушка. — Ты кто?
— Тамплиер.
— О, благочестивый брат… — Она смеялась и смеялась, встряхивая волосами. А потом сказала: — Поцелуй меня.
— Не могу, — сказал король.
— Очень глупо, — заявила девушка и потянулась рукой, чтобы схватить благочестивого брата за талию. — У тебя сиплый голос. Должно быть, ты пропойца. Все тамплиеры — пропойцы. Так говорит моя мать.
Король чуть отстранился.
— Не трогай меня, — повторил он. — Кого ты ждала?
— Мужчину, — сказала девушка. — И вот он пришел. Сейчас ночь, Бог спит, а весна скоро наступит. Хочешь — я буду приходить в ваш новый замок?
Король не ответил. Он дрожал всем телом и боялся, что сладкий кошмар сейчас закончится. Луна ушла в тучи. Было так тихо, что закладывало уши. Потом король склонился головой к коленям, а девушка, не видя его, положила руку ему на волосы.
— Ну, — со вздохом проговорила она, — ты только не плачь. Сдается мне, ты слишком большой пропойца!
Она попыталась разжать его пальцы и забрать кувшин, но Болдуин держал его из последних сил. А сил у него было не слишком много, пальцы часто не слушались, поэтому перед сражением двое оруженосцев крепко привязывали рукоять меча к его ладони. Кувшин же никто привязать не потрудился, и потому девушка в конце концов отобрала его.
— Не надо, — просипел Болдуин. — Не пей.
— Почему? — Кувшин замер на полпути к губам девушки.
Вместо ответа быстрым ударом он вышиб кувшин из ее руки. Звякнуло в темноте пару раз о камень — и опять все стихло.
— Зачем? — спросила она, прижимаясь к нему. — Я и так буду тебя любить.
Она погладила его по щеке, стирая слезы. Тогда он сложил ладони чашками и опустил их на плечи девушки, а она обхватила молодого человека за талию руками и прижалась скулой и щекой к его груди. И так они просидели на берегу всю ночь, долго-долго, слушая случайный плеск тихой волны, или вдруг начинающийся дождик, или крадущийся в траве ветер, — пока вдруг, в одно-единственное мгновение слабый свет не поменял свой спектр и не вернул им зрение. Луны давно уже не было, серый рассвет проливался на озеро, и сделались хорошо видны новые стены, воздвигнутые у переправы, и птица, которая по-прежнему воображала, будто хорошо спряталась в зарослях.
Король высвободился из объятий девушки и встал, разглядывая ее.
Она не оказалась ни красивой, ни даже просто хорошенькой. Обыкновенная местная девушка лет пятнадцати, — черные волосы, черные глаза, круглые щеки, маленький подбородок. Король не обратил бы на нее внимания, если бы впервые увидел ее глазами.
Девушка осталась сидеть, только подняла лицо. Она смотрела на своего ночного собеседника, глуповато шевеля губами, как будто прикидывая что-то в невеликом уме. Странное выражение появилось в ее глазах. Короля снова охватила дрожь.
Девушка вытянула руки и уставилась на свои пальцы. Затем покачала головой.
— Прости меня, — сказал король. У него постукивали зубы. — Пожалуйста, прости меня.
* * *
Здесь, на самой границе с мусульманским миром, стоит город Баниас, много раз переходивший из рук в руки. Сейчас он принадлежит коннетаблю Королевства, Онфруа Торонскому. Коннетабль стар, но крепок, несгибаем. Надежный и преданный человек, думает король. Это он думает всякий раз, когда вспоминает о коннетабле.
У коннетабля есть, впрочем, и слабость: он очень чувствителен. Он жалеет женщин — у них трудная доля; он жалеет детей — каково-то придется им в жизни; он жалеет даже своих сарацинских рабов и всеми силами старается дать им свободу вместе с христианской верой. И стоит ему услышать об истинно добром деле или, напротив, о чьем-либо бесчестии, как прозрачные слезы с готовностью проступают на его ясных глазах.
Онфруа пытается объяснять свою чувствительность обыкновенной стариковской слабостью, но все его объяснения — сплошная ложь и пустые отговорки: он был таким всегда, даже в ранней молодости.
В далекие времена, теперь уже незапамятные, отец коннетабля продал все, что имел, чтобы отправиться в Святую Землю — в поисках иной доли. Тогда он носил свое старое имя — Хэмфри. И почти сразу брат святого Хранителя Гроба заметил этого отважного рыцаря и подарил ему недавно построенный замок Торон. С тех пор Хэмфри и его потомки, называемые на иной лад, «Онфруа», владеют Тороном и Баниасом и, преданные рыцари Иерусалимских королей, сторожат для них границу.
С нынешним Онфруа в Тороне живет его внук, тоже Онфруа — четвертый этого имени. Еще не воин, еще не рыцарь. Жаль, если станет монахом — ибо имеет к тому склонность, — потому что других наследников мужского пола в Тороне нет.
От Баниаса тянутся богатые, хорошо возделанные пашни, а к югу плоскогорье рассекается узкой долиной, над которой высится крепость, замок Торон, родовое гнездо — колыбель рода, который насчитывает лишь четвертое поколение. Здесь начинается лес Баниаса — лавровые рощи и плодородные пастбища, королевские бедуины платят хороший налог за право не уходить отсюда со своим скотом. Года не проходит без того, чтобы кто-нибудь не явился упрашивать короля отдать ему эту землю под посевы, но король неизменно отказывает.
Это благословенные места. Точно ласковая женщина, они благодарно льнут к человеческой руке, и малейшая забота о ней расцветает изобильнейшими плодами.
Шатонеф, возведенный очень быстро, в течение одной зимы, твердо врос в почву толстыми серыми стенами. Все пошло в ход: и валуны от древних построек, и камни от того замка, что стоял здесь некогда и был разрушен. По углам стен — короткие квадратные башни. Внутри — голо, но надежно. Пустые стены сразу обросли гарнизоном. Шестьдесят орденских братьев и полторы тысячи тех, кто получает жалованье от короля.
Стены просторной трапезной увешаны шлемами, разрисованными щитами, золочеными кольчугами — всем, что победоносные рыцари сорвали со своих поверженных врагов. Словно разъятые на части сарацины, взирают они на своих победителей. Тщетно тянутся пустые рукава к изогнутым мечам. Слепо таращатся прорези шлемов, и иной раз глядеть на них бывает жутко, словно там до сих пор обитает потаенная злоба.
Король живет в замке вместе с остальными, у него маленькая келья в стене, возле часовни, и там едва помещается соломенный тюфяк на узеньком ложе. Брат Одон лично стучит в его дверь каждую ночь, поднимая для участия в богослужении. Король не поет, только слушает. Первые солнечные лучи вторгаются в тесное пространство часовни, раздвигая его, сливая с бесконечностью.
За братской трапезой король сидит рядом с магистром, чуть в стороне. Тростник на полу — вчерашний или позавчерашний, истоптанный, источает сладковатый запах, от которого во рту течет слюна.
— Это правда, что мой отец хотел распустить Орден? — спросил как-то Болдуин у брата Одона.
Брат Одон помнит покойного короля Амори лучше, чем его сын, мальчик, почти всецело предоставленный учителям — архиепископу Гийому Тирскому, который учил его грамоте и всему, что должен знать знатный человек, трем бравым сержантам, которые открывали для него чудесные премудрости мечей, доспехов и длинного копья, и врачам, мучившим его страхами и мокрыми, вонючими повязками.
Каким он был, покойный король Амори, младший, нелюбимый сын королевы Мелизанды (той самой, в воображаемой мантии из звезд)?
Некрасивый. Из тех, кого называют «неудачным ребенком»: короткая шея, грубое лицо. Особенно он проигрывал рядом со старшим братом Болдуином, чье имя носит нынешний король, его крестник.
Но король Болдуин рано умер, и править стал его младший брат, неловкий, молчаливый Амори.
Говорили, что он брал деньги со всех, кто обращался к нему за помощью. «К-короли должны быть щедрыми, а этого б-без денег не с-сделаешь, — объяснял Амори. — Мне нужны с-средства, чтобы одаривать моих людей. Б-богатый король — добрая защита для всего г-государства. А г-где мне взять для этого с-средства?»
Брат Одон передразнивает заикание покойного государя не зло — скорее, артистично, чтобы тот, хотя бы в воспоминании, предстал перед своим сыном как живой.
— Сражался он хорошо, — задумчиво припоминает брат Одон, — хоть и хуже, чем вы, мой сеньор. И еще, думается мне, он был легковерен, а этого быть не должно.
— Легковерен? Мой отец?
— Помните, как сарацины присылали к нему посольство?
Болдуин не может этого «помнить» — в полной мере; но и об этом ему рассказывали. Далеко в горах — никто не знает, где, — обитает Старец, глава страшного ордена убийц-ассасинов. Сами сарацины боятся их, а ассасины не боятся ничего, потому что Старец показал им райское блаженство, и цель всей их жизни — вернуться в те сады, что приготовлены для всякого принадлежащего к их братству.
Короля Амори восхищали и устрашали эти люди, а в один прекрасный день до него донесли слух о том, что в своей вере они далеко отступили от ислама и намерены принять христианство.
«Т-ты уверен?» — переспрашивал посланника король, а когда тот кивал, и раз, и другой, Амори поднимал к заплывшим, мутным небесам глаза и безмолвно двигал толстыми губами: молился. Вот это была бы радость!
— Почему же мой отец поверил ассасинам?
Брат Одон поглядывал на юного короля, чуть щурясь, с любовью.
— Ваш отец, мой сеньор, очень хотел этому верить. Я же сказал, обмануть его было просто. Он только воображал, будто хитер, потому что по-настоящему ловко управлялся с налогами, законами, судьями и обвиняемыми. Но стоило королю Амори оказаться в области, ему неизвестной, как он превращался в сущего младенца.
— Но разве не все мы таковы? — спросил Болдуин тихо.
Брат Одон покачал головой.
— Только не вы и не я, мой сеньор. Когда имеешь дело с сарацинами, нужно постоянно держать в уме одно: никакой франк никогда не будет понимать их до конца. Нам не суждено узнать их, потому что у нас разные прародители. Эти люди были рождены от Агари. Чего же от них ожидать?
Король чуть пожал плечами.
— Не знаю.
— И я не знаю! — подхватил брат Одон. — И потому всегда ожидаю дурного. Но ваш отец — другое дело. Он всегда был любопытен. В нем было что-то от ребенка. Это потому, что он был воин. Любой воин немного дитя, иначе он не сможет хорошо убивать и будет бояться смерти.
— Но разве вы — плохой воин, брат Одон? — удивился Болдуин.
Брат Одон засмеялся. Он часто смеялся, хотя три зуба спереди были у него выбиты, и улыбка получалась некрасивая.
— Оставим это, — сказал наконец великий магистр. — Слушайте! Ваш отец грезил о том, как направит к истинной вере целое племя этих ассасинов. Как народ убийц перейдет на службу ко Господу и обратит свое оружие на сарацин. В таком деянии он усматривал подвиг, достойный властителя Королевства. Вы понимаете меня? Король Амори понимал, что означает эта корона. Не только деньги, которых ему всегда не хватало и которые он присваивал, где только видел. Не только Храм и Гроб. Не только армия.
— Да, — сказал Болдуин, — я понимаю.
— Король Амори отправил в Ливанские горы людей с письмами и дарами… — Брат Одон придвинулся ближе и уставил на короля внимательные, блестящие глаза. — У меня не было времени спорить с вашим отцом, поэтому я попросту приказал одному отряду перехватить посланников в пути.
Король шевельнул рукой, прося брата Одона остановиться, и тот немедленно замолчал, повинуясь жесту.
— Говорили, будто у вас имелись совершенно другие мотивы для этого убийства, — сказал Болдуин.
Брат Одон опять улыбнулся.
— Спрашивайте, мой сеньор, я отвечу вам от сердца, как и положено между друзьями.
— Тамплиеры собирали подати на территориях исмаилитов, разве это не так? Должно быть, вам не хотелось терять эти доходы! А вы потеряли бы их, если бы ассасины приняли христианство, и исмаилиты Ливанских гор сделались бы верноподданными короля Амори.
Собеседник юного короля чуть склонил голову набок, пожевал губами, пошевелил бородой.
— Однако король, ваш отец, обещал возместить нам неизбежные убытки, которые мы понесли бы вследствие такого союза, — напомнил он.
— Разве вы не сомневались в том, что мой отец явит свою всегдашнюю скупость? — возразил Болдуин.
Брат Одон лукаво двинул бровями.
— Дело не в этом, мой государь, дело в том, что никогда нельзя разговаривать с врагом. Сарацины могут быть любезны, они могут научиться нашей обходительности и исполнять все ее внешние требования. Они отпускают пленников без выкупа, дарят своим врагам богатые подарки, если сочтут, что те явили себя превосходными противниками и тем самым возвысили честь их оружия… Но они — враги. Мы не должны им верить. Мы не должны смотреть им в глаза, разговаривать с ними, мы не должны видеть в них людей, подобных нам самим. Любопытство и легковерие едва не погубило вашего отца.
Болдуин долго молчал.
Потом поднял голову. Брат Одон глядел на короля печально и ласково, как женщина смотрит на своего ребенка.
— Вы убили всех, — сказал Болдуин.
Брат Одон даже не моргнул.
— Да, — признал он. — Король Амори снарядил почетное посольство к шейху, а несколько тамплиеров подстерегли их в пути и перебили всех.
…Нет, конечно, не всех. Остались свидетели. Остались люди, которые видели красные кресты на белых одеждах. Убийцам следовало быть более внимательными.
Первыми погибли рыцари-христиане, тщетно пытавшиеся спасти посланника-ассасина, человека, присланного от ливанского Старца; голова в тюрбане покатилась по камням, и рядом с нею остались рассыпанными посольские дары: одежда, кинжалы, красивые чаши.
— Тогда Старец направил к королю другого своего человека. Очень дурно одетый, чумазый, с черными зубами, — задумчиво говорил брат Одон. — И лошадь под ним была тощая. Скалилась, точно затравленный волк, и рычала, как будто просила сырого мяса. Этот человек закричал — он хорошо знал речь франков, только коверкал его так, словно ему неприятно держать во рту слова нашего языка, — что Старец, его пославший, требует выдать виновных.
А король Амори, ваш отец, и сам был очень прогневан. Он повелел выдать этому человеку самые лучшие одежды и масло для умывания, и угощал его из собственных рук, прося извинений. Затем король Амори вызвал меня и показал мне того человека, и сарацин втайне от короля улыбался мне наглой улыбкой. Знаете, что я вам скажу, мой государь? Тот человек был совершенно счастлив. У него глаза сияли. И вовсе не потому, что король сидел с ним в одном зале и разделял с ним хлеб.
Король Амори потребовал, чтобы я отдал ему виновного в этом злодейском убийстве. Но я не мог выдать орденского брата, который повиновался моим приказам. Я только проклял его в мыслях своих за то, что он убил не всех.
А вслух я сказал королю: «Мой государь, это злодейское нападение совершил один брат именем Готье, он — рыцарь тупой и одноглазый. Не королю судить его. Он — тамплиер и предстанет перед судом орденского капитула». Вот что я ему сказал.
Я наложил на брата Готье епитимью за убийство — какую счел достаточной. Ибо брат Готье — духовное лицо, и окончательный приговор может вынести ему только Папа Римский. И письма для Рима уже приготовлены и ждут отправки. «Вы не смеете касаться ни орденских братьев, ни их имущества, — сказал я королю, — я запрещаю вам и вашим баронам притрагиваться к ним!»
Но покойный король Амори был великий сутяга и потому продолжал настаивать на своем. Разве я мог, государь, отдать своего человека, пусть даже тупого и одноглазого, на расправу, чтобы король казнил его, как пожелает, в угоду сарацинам?
Брат Одон усмехнулся, и шрам на щеке, вдруг ставший заметным даже под бородой, пришел в беспокойное движение.
Магистр сказал:
— Король, ваш отец, был в такой ярости, что собрал войска и двинулся на Сайду, то самое командорство, где обретался брат Готье.
Брат Одон опустил голову. Болдуин знал, что случилось дальше: король Амори, его отец, ворвался в Сайду, захватил брата Готье — и сделал это на глазах у брата Одона — и заключил в темницу в Тире. Вскоре пошел слух о том, что король Амори намерен распустить орден тамплиеров.
— А брат Готье, — спросил молодой король, — он действительно был таким, как вы рассказали?
— Одноглазым — точно, — кивнул брат Одон. — Ну и достаточно тупым, чтобы выполнять мои приказания, не спрашивая о последствиях. А вообще он был добрый рыцарь. Он умер в темнице, в Тире… Хорошо бы вам, вместе с нами, молиться о нем.
Болдуин вдруг понял, что прямо здесь, в замке Шатонеф, есть еще один или несколько человек, принимавших участие в том памятном убийстве. Великий магистр отдал королю только одно имя — брата Готье, чтобы он своей кровью надежно скрыл от королевского гнева всех остальных.
* * *
Пора было уже оставлять новый замок и уезжать в столицу Королевства, но весна — лучшее время года в благословенной Галилее, когда вся земля здесь покрывается цветами, что не ткут и не шьют, но одеты краше царей во дни их славы.
Вместе с друзьями король, смеясь весело и хрипло, как простуженный ребенок, вылетает из ворот замка: лошади истосковались по свежей траве, а по лесу Баниаса широко разливаются зеленые моря. Без шлема, ласкаясь лицом к шелковистой траве, король устраивается лежать по земле. Кони поглядывают на него искоса, с пониманием, и осторожно переступают копытами, чтобы не задеть человека. От близости лошадей пышет жаром, и королю чудится, что жизненная мощь этих животных целительна.
Каждая весна для короля драгоценна. Он не может позволить себе расточать их, как это делают другие.
В соседней лавровой роще шумели деревья. Они гнулись и переговаривались о какой-то тайне, которую хоронили между стволами. Ни брат Одон, ни король, ни прочие — а их было около сотни — не давали себе труда прислушаться и разгадать эту тайну. И так продолжалось до тех пор, пока тайна не явила себя сама: с визгом, широко разбросав руки с мечами, выскочили из рощи сарацины. Растопыренные ноги в стременах, оскаленные лица, прижатые к лошадиной гриве между острыми ушами животных.
День был смят, исковеркан. Кони бесились, люди хватались за гривы, вскакивали в седла, тянулись за оружием. Брат Одон с десятком сержантов — полностью вооруженный, всегда начеку, — поскакал навстречу всадникам и мгновенно завязал с ними битву. Тяжеловесный, в толстом доспехе, он удивительно ловко орудовал мечом. Сарацины плясали вокруг него на конях, точно невесомые, в развевающихся одеждах, от которых рябило в глазах, и тонкие мечи налетали на брата Одона отовсюду сразу. Однако магистр успевал отбиваться, ворочаясь на своем коне, а тот могучей грудью и мощным крупом сталкивался с сарацинскими тонконогими конями и заставлял их отшатываться и отступать.
— Спасайте короля! — хрипел брат Одон.
Бессильный, безоружный, король сидел в седле. Лошадь переступала на месте, ее бока шевелились под коленями Болдуина. Животное как будто спрашивало в нерешительности: куда теперь?
Двое сержантов тянули короля прочь с места сражения. Однако когда они повернулись, сделалось ясно, что отступать некуда: из другой рощи, отрезая малому отряду путь к Шатонефу, вылетел новый рой сарацин.
Свежая трава смята, и даже сквозь жаркую вонь битвы слышен ее резкий, молодой запах.
Моргая веками без ресниц, король смотрит, как за него умирают молодые, здоровые люди. Сарацины все ближе, ему кажется, что он ощущает их дыхание.
Какой-то незнакомый сержант, осаждаемый сразу с двух сторон, покачнулся, и мгновенно кровь широким мазком испятнала его белые одежды. Король двинул вперед коня, напирая на одного из нападающих. Несмотря на то, что седло у короля высокое, сидит он не слишком уверенно. Королевская лошадь, хорошо обученная, двигается плавно. При виде нового противника сарацин отступает, широко взмахнув плащом и раскидывая руки с мечами. Сержант цепляется окровавленными пальцами за луку своего седла, чтобы не упасть.
Король протягивает к нему руку в перчатке и слабо хватает его за локоть. Этой поддержки оказывается довольно: сержант наконец выпрямляется в седле, губы его двигаются, он что-то говорит — что именно, король не слышит.
Сарацины кружат все ближе, сжимая кольцо, их чужие голоса заполняют пронзительным тонким воплем всю поляну.
И тут новый звук сотрясает лес Баниаса: гром копыт и лязг оружия. Из замка Торон мчится со своими людьми старый коннетабль Онфруа. Он как будто вырастает из земли. Только что не было здесь никого — и вдруг внушительная, закованная в железо фигура, и сарацины пчелами летят к нему, заранее готовя жала.
Образуется проход, в который наконец уводят лошадь короля. Болдуин то и дело оборачивается в седле, успевая ухватить взором то одну картину, то другую. Трава испорчена, забросана комьями взрытой земли, густо залита кровью. Пролетающее по воздуху копье, широкая дуга ожившего меча, отчаянный, изумленный всплеск на том месте, где только что был живой человек.
Сарацины отступают. Король не сразу понимает это; сержанты подталкивают его к безопасной тропе, к укрытию, окружают, держа наготове оружие. Затем вдруг приходит облегчение. Можно двинуть лошадь вперед и посмотреть — что же происходит на поляне.
И первое, что видит король, — коннетабль Онфруа. Огромная груда металла посреди полного разгрома: будь здесь камерарий иерусалимского двора Эмерик, он бы только руками всплеснул.
Король спешивается — кулем сваливается с седла. Цепляясь за стремя терпеливой лошади, встает на ноги.
— Что это? — тихо произносит король.
Высоко в небе, над его головой, фыркает лошадь.
— Коннетабль Онфруа убит, ваше величество, — докладывает незнакомый голос. — Нужно доставить его тело в замок.
* * *
Святые на витражах в часовне Торона похожи на нынешних владетелей этого замка: рослые, тонкие в кости, светловолосые. Торон переходит от деда к внуку. Старый коннетабль лежит в часовне, под надежным присмотром своих стеклянных, прозрачных предков, коленопреклоненно молящихся за родича у ног Богоматери в синем стеклянном покрывале. Свет, изливающийся сквозь них, расцвечивает воздух и делает его смуглым.
Пятнадцатилетний наследник старого Онфруа похож на ангела. Наверное, где-нибудь на севере бывают такие ангелы: длинноносые, с небольшими, близко посаженными серыми глазами, со светлыми, почти белыми прямыми волосами, которые, как ни стриги, все падают на брови и торчат над ушами.
Король смотрел, как этот новый Онфруа молится, и неустанно слушал сильное, резкое биение своего сердца. «Не этот ли? — вопрошало сердце, и каждый новый удар его в груди ощущался все больнее. — Не он ли сможет заменить вас на троне, мой государь, когда наступит ваше время?»
Болдуин обернулся. За левым плечом опять стояла смерть.
— Здравствуй, — сказала она, и он улыбнулся этому странному пожеланию.
— Здравствуй.
Завтра королю предстояло сделать мальчика Онфруа рыцарем и принять у него присягу: замок Торон и город Баниас новый Онфруа Торонский будет держать от короля.
Завтра королю нужно принять решение.
— На этот раз они спасли меня, — сказал король своей смерти. — Они вырвали меня из рук сарацин. Скажи, почему они не пожалели себя? Почему вот он, — король кивнул в сторону мертвого коннетабля, — обменял свою жизнь на мою?
— По-твоему, смерть нужна только для того, чтобы забирать чужие жизни? — охотно отозвалась она, давний друг короля. Она как будто стосковалась по беседам с ним, ведь они так давно не виделись! — Я в точности выполняю волю пославшего меня. Я слежу за тем, чтобы каждый умирал в свой срок и надлежащим образом. Вот почему я ненавижу самоубийц.
— Ты не ответила на мой вопрос, — настаивал король.
— Они сделали это ради присяги, — сказала смерть.
Она посмотрела на Болдуина сбоку и, выступив из тьмы больше обыкновенного, добавила:
— Они сделали это из любви к тебе.
* * *
Парадный зал Торона достаточно велик, чтобы там собралось почти пятьсот человек: лучшие из подданных Торонского барона, все орденские братья и наемники, каких отпустил командир гарнизона, именитые граждане Баниаса. Новый сеньор присягает Прокаженному королю.
Двое мальчиков в окружении хмурых воинов, которые недавно вышли из битвы и готовы ворваться в новую.
Брата Одона нет с ними; брат Одон гоняется за сарацинами по всему командорству Сайды. Может быть, сейчас, когда коленопреклоненный Онфруа поднимает залитое светом лицо и произносит: «Мой сеньор, я — ваш человек», — может быть, именно в эти самые мгновения брат Одон, неостановимо разогнав тяжелого коня, настигает Саладина? И где сейчас сам Саладин — под Сарептой, под Аскалоном? Где он сейчас, смерть?
Еле слышно смерть отвечает:
— Он под Баниасом.
Промчавшись по сеньории Сайды, истоптав первые побеги, побросав горящие факелы в окна домов, Саладин отошел опять к Баниасу, готовясь в любое мгновение скрыться на территории, подвассальной Дамаску.
Баниас как будто нарисован на картинке в Часослове: небольшой, зажиточный городок вокруг цитадели, с певучей рекой под стенами, с мельничными колесами, которые вращает быстрый поток у самых городских ворот. Уголок старого мира, оставленного ради требовательной благодати Святой Земли. Очень похож, очень — если бы только не деревья с иными очертаниями листьев…
На коротком привале, отдыхая в маленьком доме, где живет еврейское семейство, брат Одон угощается сморщенным яблоком, долежавшим до весны в кладовых.
Евреев здесь много. По погибшему господину они уже отвыли и быстро утешились; новый властитель обещает быть не хуже прежнего, если не лучше: по слухам, молодой Онфруа добр и справедлив и вряд ли увеличит подушной налог, который здесь платили по безанту в год за каждого мужчину старше шестнадцати лет.
Брат Одон очищает с яблока потемневшую шкурку и делает это с таким ожесточением, будто — только дай ему волю — всех сарацин точно так же ободрал бы, чтобы те из черных сделались если не белыми, то хотя бы бледно-зелеными…
А Саладин ждал его в горах, покусывая за тощие, обглоданные бока плохо защищенные замки Бель-Хакам и Бофор.
Точно пес, которого поманили лисицей, гнался за ним брат Одон.
Сразу за Баниасом Саладин спустил на него легкую конницу, и несколько десятков орденских братьев вместе с великим магистром оказались в плену. Брат Одон даже не понял, как это вышло: копье, прилетевшее издалека, да так, что магистр его и не видел, ударило по шлему, а проснулся брат Одон уже со связанными руками, под полосатым пологом, который медленно колыхался на ветру.
Рядом на корточках сидел чернолицый человек и смотрел на него без любопытства, тускло. Потом раздвинул губы, выставив поломанные зубы, и спросил, скверно выговаривая слова:
— Ты — Одон де Сент-Аман?
Так устроены человеческая речь и человеческий слух, что хуже всего в чужом произношении воспринимаются имена. И потому пришлось сарацину повторить свой вопрос четыре раза, пока он наконец не утратил терпение и не начал бить брата Одона.
Тогда великий магистр сказал:
— Я — Одон де Сент-Аман.
И его потащили к султану.
Султан, сорокалетний мужчина, по сарацинским меркам — красивый. Не обращая внимания на растерзанный вид пленника, султан делает широкий жест:
— Садись, друг.
Одон усаживается на ковры, наваленные один на другой, точно лепешки, выставленные для продажи. Одону неудобно так сидеть. Он привык к стульям. Давняя рана не позволяет подбирать под себя ноги. Кряхтя, брат Одон вытягивается, опираясь на локти. Он знает, что его поза в глазах сарацин выглядит верхом непристойности, и это не может не веселить его.
Султан глядит, приподняв одну бровь чуть выше другой. Доспехи с брата Одона сорваны. Стеганая куртка иссечена и запачкана кровью. Слиплись и волосы, и борода.
Саладин любезно предлагает пленнику воды. Брат Одон погружает лицо прямо в чашу, которую хватает левой рукой — правая болит. Неопрятная борода полощется в питье. Саладин не выдерживает, короткая судорога пробегает по его губам, султан морщится, султана сейчас стошнит. Ага! Брат Одон торжествует.
— Время поговорить о твоей жизни, друг мой, — все еще любезно произносит султан.
— Моя жизнь окончена, — отвечает брат Одон. Он обтирает себе лицо и бороду ладонью, ставит чашу между расставленных колен, тяжко переводит дух. — Что ты хочешь от меня, агарянин?
— Я предлагаю тебе выкупить себя.
Брат Одон размышляет, рассматривая шатер, безупречно изящного султана, его изумительное оружие, его красивые ковры, его полированную серебряную чашу, из которой только что угощали пленника.
— А как же другие? — спрашивает наконец брат Одон. — Вместе со мной ты захватил и других.
— Другие пусть выкупают себя сами.
У брата Одона, оказывается, сломано ребро: когда он пытается вздохнуть полной грудью, в боку просыпается боль и властно требует внимания к своей персоне.
— Ох! — произносит брат Одон, сдаваясь на ее милость и вдыхая воздух меленько, как птичка пьет. — Разве ты не знаешь, глупый сарацин, что у орденских братьев из личного имущества — только пояс да нож, а ничего другого они за себя не отдадут?
— Может быть, твой король… — намекает султан.
К черту боль в боку! К черту колено, которое плохо гнется! Брат Одон вскакивает — ярость вздергивает его на ноги, ярость рвется из его потемневших ноздрей.
— Я не позволю его королевскому величеству сорить из-за меня деньгами! — орет брат Одон. — Лучше я сдохну в твоем вонючем плену! Ты понимаешь речь крещеного человека?
— Я хорошо говорю на языке франков, — невозмутимо отвечает султан. — Я понял тебя. Согласно твоему желанию, ты сгниешь у меня в тюрьме.
— Превосходно! — отвечает магистр. — Только не воображай, будто ты меня испугал.
И — вот награда пленнику за испытания, теперешние и грядущие, — султан, утратив толику своей безупречности, криво пожимает плечами.
В эти самые минуты один мальчик говорит другому:
— Мой сеньор, я — ваш человек.
В старых грамотах, много лет назад составленных прежним Болдуином и прежним Онфруа, перечисляется со всеми ее приметами каждая пядь земли, принадлежащая торонскому сеньору. Эта почва вокруг Галилейского моря чрезвычайно плодородна, и на ней созревает несколько урожаев в год. Некоторые акведуки и каналы остались здесь еще с римских времен. Владетелю Торона принадлежат превосходные поля, где выращивают хлопок, и чудесные оливковые сады, и множество оливковых прессов, где солнечными струями изливается по чанам масло, и хлебные поля. И, пока брата Одона, оскаленного и разозленного, тащат в тесную, битком набитую разным людом камору, и швыряют туда, на истоптанный ногами земляной пол, в тесноту, безнадежность и густую, разъедающую тело вонь, — все богатства сеньории вкладываются в подставленные ладони юного Онфруа: пучок травы, горстка почвы, две зеленые оливки.
Чуть позже, уже не при всех, а наедине, король заводит с молодым сеньором другой разговор.
— Я хотел бы породниться с вами, — говорит Болдуин северянину-ангелу.
Тот поворачивается резко, как будто его ударили; серые глаза расширены — насколько им это удается. Кажется, Онфруа потрясен услышанным. Однако король вполне серьезен.
— Моя сестра Изабелла, — он называет имя предполагаемой невесты.
— Изабелла? Но ведь ей всего восемь лет!
— Под здешним солнцем девушки взрослеют быстро, — тихо произносит король. — Если вы согласны подождать несколько лет, то мы можем уже сейчас объявить о помолвке.
Онфруа падает к ногам короля. Он согласен.
Вместе с младшей сестрой, более драгоценной, нежели старшая, король отдает этому безупречному рыцарю свое Королевство. Онфруа похож на Галахада: не столько воин, сколько охранитель Святого Грааля. Из рыцарских добродетелей милее всего ему милосердие и благочестие; всем птицам он предпочитает голубку.
Впоследствии, когда Болдуину, самому отважному из Иерусалимских королей, говорили, что его деверь Онфруа — трус, Болдуин никогда с этим не соглашался. Онфруа был погружен в тихое, смиренное созерцание бытия, где, как мнилось стороннему наблюдателю, ему сызмальства открывались наиболее сокровенные тайны.
Изабелла, дитя с тугими черными косами, зеленоглазая, с тонким, чуть неправильным лицом. Старший Онфруа — тот, что ждет воскрешения под надежным камнем, с которого сбита невнятная, осыпавшаяся латинская надпись времен Понтия Пилата и заменена новой, отчетливой, с резким знаком креста, — непременно заплакал бы, едва о ней подумал. Он сострадал всем женщинам, но королевским дочерям — в особенности.
«Не плачь хотя бы по Изабелле, — подумал Болдуин, мысленно обращаясь к погибшему коннетаблю, — твой внук хорошо позаботится о ней… Ты ведь для этого воспитал его?»
В Иерусалиме короля ожидают новые заботы. Изабелла узнает о предстоящей помолвке. У нее сразу подскакивает настроение, ей и страшно, и радостно, и она усердно собирает слухи о своем будущем женихе.
Необходимо назначить нового коннетабля, и эту должность передают в руки предприимчивого Эмерика де Лузиньяна.
Необходимо также закончить дело с предполагаемым браком старшей сестры Сибиллы. После разгрома у Баниаса все осложняется. Будущий супруг Сибиллы, Болдуин д'Ибелин, сеньор Рамлы, — в руках сарацин. Несчастный случай бросил его, вслед за братом Одоном, в ловушку, когда Саладин окружил франков и перебил многих, а уцелевших захватил в плен. Впрочем, в отличие от брата Одона, Ибелины — не из тех, кто отказывается говорить с сарацинами. Ибелины всегда находят общий язык с теми, с кем сводит их судьба, поэтому уже через месяц сеньор Рамлы предстает перед своим королем, отпущенный под честное слово, а с началом навигации отплывает в Константинополь, просить денег для своего выкупа у венценосного свойственника, императора Византии.
* * *
Лето наступает и длится; ни капли дождя не падает на побережье, но в воздухе непрерывно висит изнуряющая влага. С севера доходят тяжелые вести. Королю докладывают о каждой стычке, что происходит между его людьми и сарацинами.
Саладин засел неподалеку от Баниаса, на своей территории, по ту сторону границы. То и дело его хищная конница налетает на города и замки, но пока не случалось ничего такого, с чем нельзя было бы смириться.
На пятый день осени в Иерусалиме появились странные люди.
На самом деле Иерусалим был полон странных людей, и никого здесь не удивить ни цветом кожи, ни одеждой, ни манерой держаться; и все-таки на этих людей все сразу обращали внимание.
Их было шестьдесят, франков из числа тех вооруженных паломников, что служили королю в течение года и одного дня за плату.
Без доспехов и оружия, даже без сапог, они шли вереницей, держась за руки по двое, а за плечами у каждого болтался грязный тряпичный узел. Город лишь на мгновение приостановил шум повседневных дел и бесконечных разговоров, — ибо Иерусалим непрестанно торговал, вооружался, молился, сутяжничал и ремесленничал, — чтобы с тревогой глянуть вслед этому шествию, а затем, привычно переложив подобные тревоги на плечи своего короля с его коннетаблем, маршалом, патриархом и всем двором, вернулся к прежним занятиям.
Процессия оборванцев миновала Храмовую улицу, не обратив ни малейшего внимания на торговцев, предлагавших пальмовые ветки и ракушки, добралась до Храма и остановилась в просторном мощеном дворе, длиной в полет стрелы и шириной в бросок камнем.
К королю был послан один из шестидесяти, а прочие устроились на камнях и свесили головы на грудь. Полоски жидкого пота, сползшего на скулы из-под волос, процарапывали толстый слой пыли на их лицах.
В блистании дорогих одежд и медных волос, окруженный солнцем, предстал перед ними сам коннетабль Эмерик де Лузиньян. Люди, неопрятной массой сбившиеся в углу двора, зашевелились, начали подниматься на ноги. Эмерик остановился в десятке шагов от них и, напрягая голос, крикнул:
— Для чего вам, оборванцам, потребовалось видеть короля?
Из толпы выделился один, сохранивший прямоту осанки. Его рубаха была криво оборвана по подолу, а голова замотана тряпкой, источающей запах засохшей мочи.
— Нас прислал Саладин, вождь сарацинов, который называет нашего короля «хинзиром», что означает «боров».
И, сказав это, он вдруг заплакал навзрыд.
Эмерик понял, что человек этот говорит перед ним те слова, которые обещал произнести ради сохранения своей жизни. Коннетабль не стал ни прерывать говорящего, ни требовать, чтобы тот не плакал. И потому наемник продолжал:
— Он взял наш замок Шатонеф и разрушил его, а это повелел отнести в Иерусалим.
С последним словом он поднял узелок с имуществом, который принес на плече, и, осторожно, обеими руками положил к ногам Эмерика. Так же поступили и все остальные.
Коннетабль посмотрел на гору тряпья, наваленную у его ног. От нее дурно пахло. Затем Эмерик перевел взгляд на лица наемников и неожиданно понял, что они принесли королю.
Он отступил на шаг. Спросил:
— Я могу избавить от этого зрелища его величество?
Старший из наемников покачал головой:
— Мы связаны словом, нарушить которое было бы бесчестьем.
— Что именно вы обещали сарацинскому псу?
— Что доставим отрубленные головы прямо… королю. — На этот раз он проглотил слово «хинзир», и Эмерик, против воли, ощутил нечто вроде благодарности.
Коннетабль подумал немного. Затем сказал:
— Я позову монахов и попрошу их позаботиться о погибших. А вы идите со мной. Мне надлежит записать все имена.
Он отошел от груды отрубленных голов еще на шаг, глянул в последний раз — так, словно убитые могли укусить сквозь запятнанную холстину, повернулся и зашагал прочь. Отпущенные под честное слово пленники, натыкаясь друг на друга и суетясь, побежали следом.
Их умыли и переодели, прежде чем представить королю.
Король оглядел своих наемников, плачущих и коленопреклоненных, и хрипло произнес:
— Встаньте, и пусть один из вас рассказывает.
Они зашевелились, поднимаясь, — все, кроме того, кому было поручено говорить перед королем, о чем договаривались заранее. По-прежнему стоя на коленях, этот человек сказал:
— Вот как было…
Вот как было: из марева выскочили темные лица, обмотанные скрученными тряпками. Отовсюду на стены ломились сарацины. Стоило убить одного, как на его месте возникали двое других. Саладин не стал осаждать Шатонеф, он просто бросился на замок и впился зубастой пастью. За лето он набрался сил, его армия обросла людьми и осадными орудиями. Башня выше замковых стен ползла над головами штурмующих, будто корабль, и с нее непрерывно сыпались стрелы.
— Ворота выбили почти сходу, — говорил человек заученно.
Король вдруг понял, что он повторял эту речь каждый из тех дней, что провел в пути, и перебил рассказчика вопросом:
— Как долго вы добирались до Иерусалима?
— Пять дней, государь.
И продолжил.
Когда сарацины хлынули в замок, то казалось, что им не будет конца. Они были везде, в любом закоулке. На каждого, кто оборонял Шатонеф, приходилось по трое-четверо врагов. Они меньше весят, чем франки, и не так мощно вооружены, но зато их очень, очень много. Очень много, повторял рассказчик, бесстрастно водя глазами по всему королевскому залу, лишь бы не встречаться взглядом с самим королем.
— Дальше, — велел король, потому что говоривший опять замолчал.
— Он приказал своим людям представить ему всех пленников. — С этими словами наемник вытянул перед собой руки и показал багровые следы от веревок. — Из тамплиеров гарнизона живы были двадцать девять человек, прочие — убиты. Саладин спросил, сколько тамплиеров находилось в замке, и приказал отыскать тела всех орденских братьев. И вот они предстали перед ним, и живые, и убитые. Тогда он сделал знак кому-то из своих.
В голубом небе взмах черного крыла, а дальше — сплошь только красное: тамплиеров, связанных и поставленных на колени, обезглавили одного за другим, а затем отрезали головы и их погибшим товарищам. Из белых плащей с красными крестами нарвали тряпок и завернули отрубленные головы.
После этого Саладин оглядел наемников, и многие из них подумали, что никогда прежде не видели такого красивого, такого спокойного и радостного человека.
«Мне нужно шестьдесят добровольцев, которые доставят мой дар франкскому хинзиру», — сказал он на языке франков.
Наемники, стоявшие перед ним, боялись взглянуть друг на друга, потому что каждому хотелось вызваться и уйти из павшего замка, пусть даже с такой тяжелой ношей — лишь бы подальше от сарацин. Но ни один не решался сделать первый шаг — из стыда перед товарищами.
Тогда несколько сарацин отобрали тех, кто уцелел или был ранен очень легко. Они пробегали по рядам пленников, цепко хватая их за плечи и встряхивая, быстрым, умелым взором окидывали их лица — разве что не лезли обезьяньими пальцами в рот, чтобы проверить зубы, — и так был совершен выбор.
Саладин велел пленникам снять обувь — в знак покаяния. «Кажется, так, босоногими шествиями, у вас принято выражать сожаление?» — добавил он, показав, что хорошо знаком с обычаями франков. Он не позволил им взять даже платка, чтобы обвязать головы, и посоветовал рвать рубахи и мочиться на лоскуты — иначе солнце убьет идущих. Так они и поступали, пока добирались до Иерусалима.
Саладин знал, кого отправлять в этот путь: по дороге ни один не умер. Да, сарацины хорошо разбираются в людях, заключил наемник.
— Где головы? — спросил король.
— Головы, государь, омыты и надлежащим образом приготовлены к погребению. Они уложены в особый ящик и сейчас находятся в храме, — вместо наемника ответил заботливый коннетабль Эмерик.
И королю вдруг подумалось, что очень спокойно, должно быть, лежать в надлежащем особом ящике, особенно если его приготовил Эмерик, хорошо знающий толк в вещах.
— Завершено ли поручение, которое дал вам Саладин? — спросил король у своих наемников.
— Да, государь.
— Хорошо. В таком случае, вы вновь можете считать себя моими людьми, — сказал король. — Я не держу на вас ни зла, ни обиды.
И наемники покинули зал. А король подумал, что его друг, брат Одон, сейчас находится в плену и, следовательно, до сих пор жив: на мессе королю не придется видеть его отрубленную голову.
Глава третья СИБИЛЛА
— Расскажите мне еще об этом рыцаре, — просит Сибилла коннетабля, и Эмерик охотно пускается в повествование о человеке, который обезумел от любви.
Если бы кто-нибудь сказал королю, что его коннетабль долгие часы проводит в размышлениях о Сибилле, король ни за что бы не поверил слуху как пустому. Сибилла была королевской заботой. Что делать принцессе в мыслях коннетабля?
Рослая — почти как мужчина, с округлыми тяжелыми плечами и темными жесткими волосами, кареглазая, Сибилла обещала расцвести к своим двадцати годам, но случилось обратное: после смерти первого мужа, после рождения сына она вдруг начала ссыхаться и увядать. Выступили скулы, ямки в углах рта сделались глубже, грозя превратиться в морщины, а девически пышное тело прямо на глазах становилось жалким.
Раздумывая об этом и еще о многом другом, коннетабль Эмерик приводил к придворным дамам Сибиллы различных знатоков красоты, и те оставляли в цитадели бесчисленное множество средств для возвращения молодости, целые горы притираний, умываний, мазей, благовоний и масел. Разумеется, ни одно из чудодейственных средств не приносило должного результата, однако Эмерик к этому и не стремился: для начала ему требовалось прослыть искренним другом всех женщин.
Наконец цель достигнута; наступает время чудесных историй.
И Эмерик охотно повторяет Сибилле рассказ о том, что живет далеко за морем некий рыцарь, который прослышал о красоте и несчастьях иерусалимской принцессы и полюбил ее по одним только добрым слухам о ней.
— Сперва его сердце содрогнулось от жалости и сострадания, потому что он узнал, как все бароны отказывались один за другим от руки этой дамы, ибо не желали брать на себя заботы о Королевстве. И он подумал, что это — страшное унижение для дамы. А потом ему представилось, как хороша она собой, как молода и одинока, и больше всего на свете ему захотелось прижать ее к сердцу и никуда от себя не отпускать.
Сибилла вздыхала.
— Но откуда вы так хорошо знаете, что чувствовал этот знатный сеньор?
Но коннетабль упрямо отказывался отвечать и лишь месяц спустя, когда почувствовал, что время пришло, признался:
— Он сам говорил мне.
— Вы с ним друзья? — продолжала допытываться Сибилла.
Эмерик мучил ее недомолвками еще несколько дней. Он видел, что эти разговоры действуют на сестру короля лучше всяких мазей и притираний: ее глаза снова блестели, а щекам вернулась округлость.
— Разумеется, мы с ним друзья, — признался в конце концов Эмерик. — Как может быть иначе? Ибо сказано: «брат — это друг, данный тебе самой природой».
— Вы говорили о своем брате? — удивилась Сибилла.
В ее тоне скользнуло разочарование, и Эмерик тотчас подобрался.
— У меня их шестеро, — сказал он. — И каждый готов отдать свою жизнь за благоденствие Святой Земли. Все достойные рыцари, получше, чем я. И все же один из них — особенный.
И Сибилла дрогнула — опустила ресницы.
Эмерик смотрел на нее с доброжелательным вниманием, точно врач, изучающий состояние больного.
— Впрочем, в ближайшее время вы сможете увидеть его собственными глазами, моя госпожа, — добавил Эмерик. — Скоро этот мой брат прибудет в Иерусалим, чтобы отдать свою кровь защите Святого Гроба и королевской семьи.
Сибилла сказала, старательно выдерживая ровный тон и глядя в сторону:
— Когда он приедет, я сперва хотела бы повидать его так, чтобы он не подозревал о том, кто я. Если он действительно полюбил меня, то сумеет узнать в любом обличии. Устройте нам встречу, чтобы о ней никто не знал, кроме вас и меня!
Эмерик улыбнулся и склонил голову.
* * *
Ги де Лузиньян погрузился в Иерусалим, точно малая маслинка, брошенная в огромный котел, где приготовлена братская трапеза для целого гарнизона; и вот, пока двое услужающих тащат этот котел на коромысле, все внутри него колышется и булькает, и малую маслинку кидает из стороны в сторону.
Город стоит на крутом берегу иссохшей реки, желтыми стенами и башнями врезаясь в блеклое небо. Два огромных купола высятся над ним, точно две опрокинутые чаши: купол Храма Господня и ротонда церкви Гроба Господня, свод которой раскрывается прямо в небо, чтобы впускать священный невещественный огонь, и рядом — дозорная башня ордена госпитальеров. Весь горизонт, от купола до купола, причудливо изрезан колокольнями, башнями, террасами.
Все наиглавнейшее в жизни человечества происходило здесь, в тесном пространстве, внутри толстых стен: Христос, Его смерть и то, что случилось потом.
Но все это не завершилось единовременным событием — оно происходит до сих пор; Иерусалим длится постоянно, он растянут во времени — единственный город на земле, — и Ги, как и всякий человек, который пришел сюда с нашитым на одежду крестом, вдруг ощутил соприкосновение своей души с душой спящего Хранителя Гроба, великого Готфрида, и с душами былых королей, и с теми верующими во Христа, чьи имена скрыты среди людей и известны лишь Господу, — с теми, кто вырезал на память о себе крохотный крестик в скале Голгофы.
Ворота поглощают входящего, а за воротами — странным образом — не обнаруживается ничего особенного или великого: обычная городская суета. Улицы перекрыты сводами наподобие тоннелей, и там ведется торговля; приятный рассеянный свет падает через небольшие окна, прорубленные в своде.
С Ги — его старший брат Эмерик; они бродят, как простые горожане, и Ги не устает дивиться тому, что открывается взорам, а Эмерик посмеивается, ощущая себя хозяином этого города и каждого примечательного камня в нем.
На улице Трав торгуют овощами, на Суконной — кипами переливающихся даже в полумраке шелков и приятной на ощупь холстины, на улице Скверных кухонь — странной для чужака едой, что готовится прямо на углях, посреди городской суеты. Это делают специально для паломников, приезжающих поклониться Гробу и не имеющих в Иерусалиме своего жилья. Однако, рассказывает брату жующий Эмерик, в последние десятилетия у живущих в городе франков вошло в привычку перехватывать еду прямо здесь, на улице. Иные посылают слуг закупать уличную стряпню для дома.
— Это у нас в обычае, — объяснил Эмерик брату.
Ги искоса глянул на Эмерика.
— В обычае, я думаю, есть глубокий смысл.
— Какой?
Эмерик явно не ожидает от младшего брата, что тот проявит способность интересно рассуждать. Ги надлежит не мыслить, а чувствовать, не созерцать, а быть созерцаемым.
Но затыкать рот братцу Ги Эмерик не хотел. Любопытно ведь, что он понял из всего увиденного.
Ги сказал тихо:
— Все мы странники на земле, и в этом городе любой из нас, даже король, — только паломник; что же удивительного в том, чтобы вместо домашней стряпни покупать скверно прожаренное мясо, которым потчуют чужаков-пилигримов! В этом я вижу истинное смирение.
Эмерик поджал губы. Несколько секунд он молчал, подбирая ответ, а затем возразил брату:
— Если все в Иерусалиме — лишь странники и пилигримы, то почему же те, кто готовит на углях еду и сидит на каждом углу, предлагая товар, считают себя здесь хозяевами?
— Надлежит кому-то быть и гордым, — ответил Ги невозмутимо, — чтобы другие могли понять, каково же смирение на вкус.
Эмерик смеется, потому что «смирение» братьев Лузиньянов оказывается чрезвычайно вкусным: у одного из «гордецов» они покупают пироги с яйцами и мясом, виноградную кисть, «райские плоды» и горстку фиг. Тесто армянской выпечки, называемое у сарацин «ифлагун», перенасыщено пряностями — это здесь тоже в обычае, — и Эмерик охотно рассказывает, сколько всего диковинного кладут в муку здешние хлебопеки: и имбирь, и кунжут, и анис, и тмин, и даже перец, а еще — натертый сыр, и шафран, и фисташки, и мак, и какие-то местные травы, названия которых Эмерик не знает.
— Ты привыкнешь, — уверяет коннетабль младшего брата. — Сыновья нашего отца всегда любили поесть и разбираются в пище, как никто.
Они бродят и бродят, пока не начинают гудеть ноги, и Эмерик все показывает брату местные рынки и объясняет назначение новых, незнакомых плодов. На спуске улицы Давида братья осматривают три торговые улицы, выстроенные правителями-франками в византийском стиле, с округлыми арками. На крытом рынке, где торгуют птицей, шум, хлопанье крыльев и летание перьев, и торговцы орут, вытягивая жилистые шеи, перекрикивая свой живой товар. Ближе к восточной стене есть место, где торгуют франки-крестьяне, но там менее шумно и не так интересно.
И чем дольше бродят по Иерусалиму братья, тем теснее свивается вокруг них город, так что в конце концов Ги чувствует себя оплетенным некоей невидимой сетью и все тщится при том понять: надлежит ли ему прилагать усилия, дабы избавиться от этих пут, или же, напротив, следует предаться на волю Господа и погрузиться в их вязкое кружево?
А затем перед Ги вырастает Храм, и происходит это так внезапно, что младший брат перестает дышать. Оцепенение длится почти минуту.
— Это здесь? — наконец, через силу, спрашивает он.
— Да, — отвечает меньшому старший, улыбаясь.
Ничего еще в Храме не увидев, даже не войдя внутрь, Ги падает на колени и так стоит. Глядя на брата, Эмерик поражается его доверчивости.
Храм, вобравший в себя роковую скалу, внутри подобен целому городу, в то время как снаружи он, облепленный паутиной улиц, обсиженный лавками и мастерскими златокузнецов, изготавливающих реликварии для паломников, выглядит незначительно — особенно в сравнении с цитаделью.
— Идемте же, — говорит Эмерик.
Ги слепо поднимается с колен и оглядывается. По узкой улочке, совсем рядом с Храмом, пробирается ослик с двумя бочками воды на спине. Кроткая морда показного смиренника, подрагивающие уши, готовые внимать приказам; копытца трудолюбиво переступают по камням. Чуть в стороне от шагающего ослика колыхаются телеса темнокожей женщины, закутанной в покрывало до самых глаз, и светловолосый ребенок, доверенный ее заботам, беспечно мочится на стену какой-то кривобокой хибары. Из раскрытых дверей лавок глядят веселые глаза.
И Ги де Лузиньяну постепенно начинает казаться, что с ним случилось невероятное: причудливая книжная буквица, которую он разглядывал, приблизив книгу к глазам, внезапно раскрыла перед ним некий таинственный вход, и он шагнул внутрь, в таинственный мир хитросплетенных узоров, сам сделавшись элементом ее убора, — и тотчас плоский орнамент перестал быть плоским, и каждая линия в нем обрела самостоятельное бытие, наделенное собственным запахом, собственной плотью. Все было здесь и утвердительно являло себя: и звон молотков по металлу, и запах перца и корицы, от которого щиплет в ноздрях, и тьма, моргающая огоньками лампад, полная тончайшей, взвешенной в воздухе пыли, и ослик с его лживой покорностью, и прохладная вода в бочках на его спине, и ребенок, и черные, сонные глаза женщины, в которых Ги увидел свое отражение…
Храм стоял, как и прежде, вдвинутый в глубину мощеной площади, сохраняя в себе место, где умер и воскрес Спаситель, и какие-то оборванные греческие монахи затеяли склоку с армянами в одеждах черных и лиловых, ибо еретикам входить в Храм воспрещалось, и шумное раздраженное карканье заполнило двор.
Там, внутри разрисованной буквицы, где чудовища подслушивают разговоры людей, прячась в ветвях райских деревьев, Ги слышит голос своего брата коннетабля:
— Идемте же, я хочу показать вам Гефсиманский сад и тамошнюю обитель, где похоронены дочери второго Иерусалимского короля, Болдуина де Бурка…
* * *
Иссохшие склоны Иосафатовой долины еле слышно шелестят под невидимым ветром. Здесь пахнет истлевшими растениями, но чуть дальше начинаются сады, и туда, к желтоватой, выбеленной солнцем монастырской ограде, под тень деревьев, Эмерик ведет своего брата Ги, и перед ним на террасе противоположного склона долины, почти на одном уровне с городскими воротами, возникает сад.
Премудрое сплетение ветвей и стволы, похожие на связки полуколонн, а между ними — какие-то легкие кусты, усыпанные и ягодами, и цветками, и выросшая под благодатной сенью трава. Ги входит в сад и погружается в раздумье.
Эмерик наблюдает за ним не без интереса. Братья не виделись уже несколько лет. За эти годы, минувшие в разлуке, Ги сильно вырос. Когда Эмерик уезжал в Святую Землю, младший брат был еще подростком, с безвольными золотистыми кудряшками, девчоночьим ртом, тонкими руками. Сейчас природная его хрупкость сделалась обманчивой: Ги довольно силен, и это заметно по тому, как он двигается. И еще он взял в привычку подолгу разглядывать то одну вещь, то другую, словно разыскивая в каждой потаенный смысл и значение.
— Я пойду куплю нам воды, — говорит Эмерик и выходит из сада.
В тот же миг из-за дерева показывается молодая женщина.
Ее появление было здесь настолько простым и естественным, что поначалу Ги даже не обратил на нее большого внимания. Из множества увиденных сегодня чудес — еще одно. Новая прекрасная фигурка в той затейливой картинке, куда он, с Божьей помощью, вошел.
Он бесстрашно встретился с женщиной глазами — на что вряд ли решился бы, окажись он в менее чудесном месте. Все в ней было как в сновидении: яркие искры, вспыхнувшие в зеленоватых глазах, дрогнувший рот, словно разочарованный слишком долгим ожиданием поцелуя, а затем — быстрый и в то же время плавный шаг вперед, к застывшему на месте Ги, — шаг, от которого пришли в движение и разволновались все складки на ее длинном, просторном одеянии. Мысленно Ги отметил про себя, что такие платья давно уже не носят, — должно быть, это правило того странного мира, где от рыцаря ждут молчания и повиновения.
И он молчал, готовый повиноваться.
— Что же вы стоите? — тихо спросила женщина.
Не отвечая, он преклонил колено.
Она смотрела на него с непонятной улыбкой. Несколько раз она вздыхала так, словно пыталась заговорить, но не решалась, а после спросила совсем не то, что хотела:
— Как ваше имя, мой сеньор?
— Меня зовут Ги де Лузиньян, моя госпожа, — ответил он.
Она тряхнула рукавами, и на склоненную голову Ги обильным дождем посыпались бледно-лиловые, белые и розоватые лепестки. Он только моргал, пытаясь сообразить, как ему быть дальше, а женщина с серьезным видом наблюдала за ним, точно совершала нечто значительное.
Вместе с лепестками пришла музыка. Она звучала откуда-то, как показалось Ги, из-за монастырской ограды: еле слышный звук виолы, голос одинокий, плачущий, почти человеческий.
Ги встал, закрыл глаза и протянул руки. Его пальцы коснулись женской щеки, а затем схватили пустоту. Женщина чуть качнулась назад. Он торопливо открыл глаза. Нет, она не исчезла — стояла рядом, и теперь в углах ее рта показались ямочки.
Музыка в саду стала громче. К ней присоединился внезапный птичий хор, как будто где-то разом открыли несколько клеток. Ги очень удивился бы, узнав, что так оно и случилось: его брат, коварный Эмерик, заранее купил десяток и поручил своим людям в урочный миг распахнуть дверцы. Птичье ликование пронеслось по саду летучей стайкой, а затем скрылось в мертвой долине — там, где когда-нибудь свершится Страшный Суд.
Женщина сказала:
— Вам нравится мое платье, мой сеньор?
— Очень, — не задумываясь ответил Ги.
— Оно принадлежало моей бабке, — похвалилась она.
— У вас была красивая бабка, моя госпожа, — сказал Ги, уже не заботясь о том, что он говорит. Птицы подали ему наилучший пример, которому он решил последовать.
Женщина улыбнулась еще раз, ямки в углах ее рта сделались глубже и мягче.
— Идемте, — пригласила она, протягивая ему руку, — я покажу вам гробницу Девы Марии.
— Еще одна пустая гробница, — сказал он.
Она остановилась, строго посмотрела на него.
— Что вы хотите сказать, мой сеньор?
— Только то, что в гробнице Девы Марии нет мертвого тела… — Он обвел рукой деревья и улетевших птиц, как будто пытаясь догнать их повелительным жестом. — Она — везде, но не в гробу.
Маленькая рука, ничем не покрытая, скользнула в его ладонь. Прикосновение было почти невесомым. Сквозь мозоли, оставленные рукоятью меча и удилами, Ги еле ощущал шелк женской кожи. Но от нее исходило тепло — как от этого сада, от этого воздуха и нагретых солнцем камней.
Плоские каменные ступени уводили от двери храма в склеп, в глубину, внутрь скалы. На одной из колонн в свете, изливаемом связкой серебряных лампад, Ги увидел образ Богоматери — написанный так, как это делают византийцы, со скорбным ртом и вопрошающими очами.
— Здесь много святынь из Константинополя, — сказала женщина, чутко улавливавшая всякое движение своего спутника. — Это изысканно и глубоко затрагивает верующее сердце.
Он безмолвно согласился. Склеп начал давить на него. Ему захотелось вернуться в душистое тепло сада, к премудрым деревьям, которые — если прижаться к ним щекой и душой — могут нашептать о том, как они видели, но не смогли утешить Христа.
Женщина потянула его дальше. Они спустились еще на несколько ступеней, и тут она выпустила его руку и побежала вниз одна. Там, спугнув какую-то темную, сердито ворчащую тень в монашеском капюшоне, она остановилась, раскинула руки — и исчезла.
Ги постоял несколько минут один на ступенях. Тень внизу повозилась немного, затем совершенно буднично брякнула ключами и куда-то удалилась. Ги очнулся и вышел вон.
Наверху неуловимо изменился свет. Лучи больше не падали отвесно, и каждая травинка в саду начала отбрасывать крошечную тень. Эмерик ждал брата у стены, с беспечным видом болтая в руках кувшином.
— Где вы были? — спросил он как ни в чем не бывало.
Ги молча покачал головой и вырвал кувшин из рук брата. Пока он глотал разведенное водой кисловатое вино, Эмерик неслышно усмехался.
— Да вас всего трясет, брат, — сказал он наконец, отбирая у Ги кувшин. — Что с вами случилось?
— Не знаю, — проговорил Ги очень медленно и словно с отчаянием. — Клянусь вам, брат, понятия не имею!
* * *
Голубиная почта ненамного опередила всадника. Вслед за птицей явился и сам — ничем не примечательный сержант, привыкший к здешним дорогам, но не сумевший полюбить их, — как не любил он, впрочем, и земли, которая породила его на свет. Глядя на этого человека, без радости и охоты, зато верно служившего ему уже седьмой год, Раймон Триполитанский думал: «Это потому, что простолюдины не владеют таинственным искусством любви».
Сержанта звали Гуфье, а примечательно в нем по преимуществу то, что он был освобожден из сарацинского плена одновременно с графом Триполитанским — да так при Раймоне и остался.
Гуфье умел становиться невидимкой, обратив собственную ничтожность на пользу своему господину. Болдуин решил обойтись без Раймона, граф оставил в Иерусалиме нескольких верных людей. И самым надежным среди них был Гуфье.
Будучи «никем», он проходил в любые ворота. При нем велись откровенные разговоры — и устами, и взглядами, и соприкосновениями рук. Обученный Раймоном грамоте, он сообщал ему обо всем, что происходило в цитадели. Пока — ничего опасного. Болдуин подыскивает сестрам женихов — тщательно, но тщетно. Король очень болен, и болезнь с каждым днем все глубже впивается в его тело; однако дух короля по-прежнему бодр, и разум ясен.
Затем случилось нечто, заставившее Гуфье насторожиться.
Человек Раймона увидел, с каким лицом коннетабль Эмерик выходит из покоев Сибиллы.
Коннетабль был человеком жадным, но это никого не беспокоило. Коннетабль был расчетлив и хитер, однако эти качества — лишь на пользу Королевству, окруженному врагами Христовой веры. У коннетабля не было ни единого шанса получить руку принцессы, и уж тем более никто не подозревал его в намерении сделаться регентом при умирающем короле. К тому же король пока что в опеке не нуждался. О чем и объявил после Лидды столь ясно и определенно.
Так что же в облике Эмерика так насторожило Гуфье?
— Улыбка, мой господин, — объяснил сержант своему сеньору, когда тот принял его у себя в Тивериадском замке. — Я никогда прежде не видел, чтобы коннетабль так улыбался. Как будто купил породистого голубя или украл красивую лошадь.
Тивериадский замок принадлежал жене Раймона, графине Эскиве, и четверым ее сыновьям, графским пасынкам. Брак Раймона с этой женщиной был браком льва и львицы, а целый выводок драчливых львят только укреплял его. Будет кому оставить и Галилейские земли, и графство Триполи.
Земли эти были очень богаты и хороши, и так же богат и щедр к своим людям был граф Раймон. Но угощать Гуфье — неинтересно, ибо ел простолюдин, не разбирая, что подают, и пил с равнодушным видом любое, даже самое лучшее вино, а также и наихудшее.
— Я стал следить за Эмериком, — говорил Гуфье скучно, будто рассказывал не о себе и о коннетабле, а о каких-то никому не известных козьих пастухах, что спят на шкурах и питаются молоком да жестким мясом. — Я не спускал с него глаз.
Раймону хотелось поторопить его, но за годы, проведенные в плену, оба, и господин, и сержант, приучились не вываливать все новости сразу, одним комом, но выкладывать их по одной, как это делает торговец поясами и пряжками, приходя в чей-нибудь дом с товаром.
— Он вызвал к себе младшего брата, — сказал Гуфье.
— Ничего удивительного, — отозвался Раймон, втайне ожидая возражений. — Ведь вся их семья несколько поколений подряд отправляет в Святую Землю своих воинов. У Лузиньянов всегда имеется про запас человек пять младших братьев, которым нечем заняться у себя дома, в Пуату.
— Это верно, — признал Гуфье. — Но на сей раз Эмерик затеял нечто необычное, чего прежде ни один из Лузиньянов не делал. Я понял это по тому, как он улыбался.
Сержант помолчал немного и сказал:
— Как я и думал, Эмерик устроил своему брату свидание с принцессой Сибиллой. Бедный дурак увидел среди оливковых деревьев женщину, готовую к любви, и даже не понял, кто морочит ему голову!
— Так он глуп, этот младший брат нашего коннетабля? — жадно спросил Раймон.
Гуфье скривил лицо.
— Златокудрый болван, — промолвил он, почесывая щеку. — Породистый щенок, почти самый младший в сворке. Есть еще двое, что идут после него, — те совсем дети. У него рот вялый, — Гуфье провел пальцем по нижней губе. У самого сержанта рот был прямой, с темными, втянутыми внутрь губами. — Женщина будет вертеть им по своей воле.
— Какая женщина?
Гуфье сказал:
— Если мы ничего не предпримем, господин мой, то этой женщиной станет Сибилла Анжуйская, сестра правящего короля…
* * *
Эмерик представил своего младшего брата королевской семье и двору на второй день после прибытия Ги де Лузиньяна в Иерусалим. Устремленные на нового рыцаря со всех сторон взгляды мало смущали Ги: он привык к тому, что его рассматривают, потому что всегда был вторым, третьим, четвертым — после отца и старших братьев. Они знакомили его с сеньорами и их супругами, они приводили его на корабли или в замки, они подводили к нему лошадей и сажали охотничьих птиц ему на рукавицу.
Что означали любопытные взгляды для молодого человека, который всю жизнь донашивал одежду и детский доспех после четверых старших! Сколько раз он слышал: «Видел я — в этом доспехе, с этим мечом, на этом коне — Гуго, Эмерика, Жоффруа, Рауля, — они-то держались получше тебя, они-то были покрепче!» И наличие Пьера и Гийома, которые были еще младше, не было ему утешением: обычно как раз Ги доламывал то, что служило до него старшим братьям, и конь тоже околевал именно под ним, так что для Пьера приобретали уже все новое…
Хотят смотреть, каков из себя брат коннетабля? Пусть смотрят.
Хотят сравнивать его с Эмериком? Да ради Бога!
Ги был чуть выше ростом, чем Эмерик, и не всю еще юношескую хрупкость утратил; голос у него оказался неожиданно низкий, а еще молодой Лузиньян иногда совершал неловкости — такие простодушные и милые, что дамы охотно ему их прощали.
Он держался чуть настороже, но в целом хорошо — с достоинством.
Король ждал, уверенно сидя на троне, руки на коленях, туго обтянутых длинным одеянием. А рядом с королем сидела его старшая сестра Сибилла и тоже пристально смотрела на этого нового Лузиньяна.
Ги остановился перед троном, преклонил колено и дождался сиплого:
— Встаньте, сеньор.
Тогда Ги встал и вдруг содрогнулся всем телом: две пары совершенно одинаковых глаз впились в него одинаково испытующим взором. Красиво очерченные, зеленоватые, с острой точкой зрачка и рассыпанными вокруг нее золотыми и черными искрами — пестрые. Насколько страшен был король, настолько прекрасной показалась Ги его сестра. Сияние священной власти помутило зрение Ги и на время скрыло от него незнакомку, что встретилась ему в Гефсиманском саду.
Сибилла сверкала той особенной, обостренной красотой, какая бывает у юных девушек за мгновение до того, как их настигнет любовь. Даже влюбившись и получив от избранника ответ, они уже не столь прекрасны. Лишь этот краткий миг режет душу, точно обладает тончайшим краем, способным рассечь в воздухе невесомый шелк, и любое, самое бережное, самое нежное и освященное воплощение окажется слишком грубым, слишком материальным для стремительного мгновения.
Как и рассчитывал Эмерик, бледная кожа предала Ги — он залился краской, а слезы брызнули у него сами собой, и он закрыл лицо руками.
Король холодно наблюдал за ним. Сибилла чуть шевельнулась, метнула взгляд на коннетабля, затем вернулась к Ги. За это время он успел вытереть лицо и избавиться от жгучего румянца.
— Я вижу, вы будете верно служить нам, — проговорил король.
Ги сказал просто:
— Да.
Король чуть повернул голову, рассматривая сестру: его поразили перемены, с нею происходившие. Исчезла впадина под скулой, тени ушли из-под век, брови приподнялись и чуть изогнулись на гладком лбу — как будто удивляясь и радуясь новшеству. К сестре стремительно возвращалась ее юность, скомканная было неудачным замужеством и ранним вдовством.
Где-то в глубине цитадели рос рожденный Сибиллой мальчик. В жизни Сибиллы выдавались дни, когда она ни разу не вспоминала о сыне, и после, погребенная под валом раскаяния и печали, корила себя за отсутствие материнских чувств, и невыносимая жалость заставляла ее глубоко царапать ногтями свечи, пока она несла их в подземный храм, к Богородице со скорбными глазами.
— Что скажешь? — спросил король у своей смерти, которую никто из собравшихся в зале не видел.
— По-моему, твоя сестра нашла свою любовь, — ответила смерть Болдуина. — Удивляюсь, почему ты этого не видишь.
— Я вижу, — возразил король и замолчал сердито, жестом отпуская нового рыцаря, представленного ко двору.
* * *
Поздно ночью, когда просыпаются все страхи и бродят самые сокровенные мечты, Эмерик разговаривал со своим братом о короле.
Ги слушал жадно — как будто речь велась о любимой женщине, и каждая похвала в адрес Болдуина находила самый нежный, самый теплый прием в его сердце.
— А ты что скажешь? — спросил наконец Эмерик. Он уже понял, что от Ги можно ожидать самых неожиданных мыслей.
Ги подумал немного и сказал:
— Король подобен Королевству… Помнишь, мы видели — сад, Храм… Торговцы, дети, животные, мясо жарится на углях, у фонтана болтают женщины, а во дворе Храма ругаются между собой монахи… Но ведь так было и во времена Христа. Кто потребует от людей, чтобы они вечно ходили на цыпочках, с опущенными глазами?
Он помолчал.
— И та женщина в саду… Ты ведь знал, что она придет?
Эмерик неопределенно пожал плечами.
Ги добавил:
— Но и это — неважно.
— Что же важно? — удивился Эмерик. Он едва не вскрикнул от разочарования: ему требовался Ги Безоглядно Влюбленный, Ги — Рыцарь Сибиллы, Ги, перед которым Сибилла не сможет устоять…
— Предельная святость, — сказал Ги, — сплавлена здесь с самым обыденным. Это тяжело для обычного человека, а в короле это соединено плотски, в его крови. Потому что плоть смертного человека не в состоянии выносить в себе одной единство несоединимого…
— Но Сибилла, — начал Эмерик осторожно, — ведь она…
— Сибилла — женщина, — сказал Ги. — Тот, кто посмеет жениться на ней, должен будет принять на себя Королевство со всей его святостью, со всей его греховностью, с его разрушительной священной мощью.
— Тебе понравилась Сибилла? — не выдержал Эмерик.
Ги помолчал, поулыбался про себя.
Потом сказал:
— Да.
И еще спросил:
— На что ты рассчитываешь, брат?
Эмерик подсел поближе и заговорил, стараясь сделать так, чтобы голос его звучал спокойно:
— Для начала, я рассчитываю на чудо…
* * *
Чудо подготовляло свой приход неспешно, чтобы явиться сразу во всей красе — или, если угодно, обрушиться на участников и свидетелей всей возможной мощью. Чудо созревало в загадочных глубинах Королевства и души, и те из людей, кто был посвящен в тайну его близости, погрузились в нескончаемый, ничем не объясняемый праздник.
Любая встреча, любая покупка, любое впечатление, явленное взору, окрашивались в победные цвета любви. Эмерик мог не беспокоиться о судьбе своего замысла: несмотря на странные речи и попытки вместить мистическую необъятность Королевства в ограниченный смертный разум, Ги, безусловно, был влюблен. И поскольку ни один из сыновей старого Гуго Лузиньяна не пренебрегал плотским в угоду духовному, Эмерик не сильно беспокоился, слушая рассуждения младшего брата. Сибилла была вполне земным существом, и Ги уже брал ее за руку, и недалек тот день, когда она позволит поцеловать себя в щеку.
Эмерик догадывался также, что король пристально наблюдает за ними. О самом Болдуине Эмерик — так хорошо изучивший его отца, короля Амори, — знал до странного мало. Случались дни, когда коннетабль считал своего владыку человеком недалеким и слабовольным — вполне, однако, отдавая себе отчет в том, что на всякий поступок и на всякое бездействие у Болдуина имеется собственный резон.
В этом Болдуин с Ги были сходны: младший брат тоже иной раз и говорит, и действует непонятно, но в конце всегда так выходит, что какими-то неведомыми путями Ги угадал правильный ход.
Ломать голову Эмерик не хотел, а взамен вполне доверился Ги и принял только одну меру предосторожности: старался не выпускать его из виду.
И все-таки в один из дней братья вынуждены были расстаться: Эмерика задержали в цитадели письма, требующие чтения и ответа, а Ги отправился в город без сопровождающих. Что он пытался увидеть в городе во время своих долгих скитаний по одним и тем же улицам? Может быть, ожидал снова встретить Сибиллу.
Сестру короля коннетабль благоразумно не навещал все эти дни. Лучше, если она побудет со своими чувствами наедине.
Предоставленный самому себе, Ги словно бы пытался примерить Иерусалим на собственные плечи: какова эта каменная мантия, не согнется ли под ее тяжестью спина. Не то что повелевать этой землей — здесь и жить показалось ему трудно. Трудно, но вместе с тем и желанно.
Но вот в отполированном боку медного кувшина мелькнуло отраженное лицо молодого Ги, и он подумал было, что кривые поверхности искажают увиденное; однако то же самое лицо показалось и в чаше с водой, когда Ги наклонился, чтобы выпить.
— Боже! — вскричал Ги, дробя свое отражение в воде. — Да я стал святошей!
Он проглотил воду, а тем, что осталось в чаше, намочил волосы у висков. В закутке, образованном двумя крохотными переулочками, которые почему-то решили встретиться и застыть, уткнувшись друг в друга глухими стенами, помещалось небольшое заведеньице, где готовилась пища на раскаленных углях и несколько скуластых франков, болтая на странном, смешанном наречии, сыпали горстями желтые специи на жирное мясо. Франкская кровь в их жилах была испорчена сирийской. Казалось, именно это обстоятельство смешило их больше всего — во всяком случае, они скалили зубы и хохотали по поводам, смысл которых полностью ускользал от Ги.
Среди них был еще один человек, белобрысый, как будто его нарочно вымачивали в щелочных водах. Даже кожа его местами шла молочно-белыми пятнами, зато в других местах была красной от загара и слегка шелушилась.
— Эй! — завопил он, подскакивая на корточках (ибо сидел вместе со всеми и наблюдал за мясом). — Входи, франк! Входи!
Ги чуть дернул плечом и проник за низкую глинобитную загородку, из которой торчала старая, закопченная солома.
— Сейчас будет мясо! — продолжал белобрысый.
Двое полусирийцев покатились со смеху, как будто он отмочил невесть какую шутку.
— Кого вы убили, чтобы съесть? — спросил Ги.
Хозяева заведеньица переглянулись и, как по команде, уставились на белобрысого. Он быстро перевел им фразу Ги. Они взорвались хохотом, хлопая друг друга по плечам и по спине, а затем, обернувшись к Ги, начали зазывать его сильными взмахами рук, словно загребая к себе.
— Давай, давай! — сказал один из них. — Мы христиане!
— А я не прокаженный! — добавил белобрысый и показал себе на грудь. — И зеленого креста нет, видишь? Просто шкура такая. Как у леопарда.
— Пардус — нехороший зверь, — сказал Ги. — Лицемерный.
— Поверь мне, я — большой лицемер, — тотчас согласился белобрысый. — А звать меня — Гвибер. Так что ты почти угадал, франк. А тебя как зовут?
— Ги, — сказал Ги де Лузиньян.
— Превосходное имя, — похвалил Гвибер. — Ну, садись с нами.
Ги огляделся по сторонам, но стульев здесь не было, только несколько ковров, вытертых и пыльных, поэтому он остался стоять. Гвибер глянул на него снизу вверх и сморщил шелушащийся нос.
— Дело твое, франк.
Он схватил голыми руками кусок с углей, перебросил с ладони на ладонь и вдруг впился в мясо зубами. Остальные с интересом следили за ним.
— Разведи вино, — с набитым ртом сказал Гвибер.
Один из хозяев встал и пролез в крохотную дверцу в углу комнатушки. Второй не пошевелился, сразу поскучнев. Мясо обреченно шипело.
Гвибер сказал, вытирая рот:
— Если хочешь, Ги, попробуй тоже. Здесь готовят мясо, как нигде.
Он выхватил из пекла второй кусок, взял с пыльного пола лепешку и положил на нее мясо.
Ги принял лепешку и тут заметил, что Гвибер пристально за ним наблюдает. Гвибер сразу понял, о чем думает Ги, и засмеялся, не разжимая зубов:
— Если бы у меня была дочь, Ги, я бы сперва посмотрел, как ты кушаешь, а уж потом решал бы, выдать ли ее за тебя замуж.
Ги чуть заметно вздрогнул.
— Какая дочь, Гвибер? Разве у тебя есть дочь, на которой я хочу жениться?
Он помотал головой, сидя на корточках.
— Да нет же, я просто так, к примеру… А что, есть какая-то дочь, о которой твои помыслы, задумчивый франк?
— Да, — сказал Ги, сворачивая лепешку трубкой.
— Вряд ли я похож на ее отца, — сказал Гвибер. — Потому что в таком случае ей было бы лет пять. — Он почесал сальной рукой волосы. — Или семь, — добавил он, что-то припомнив.
— Возможно, ты похож на того, кто заменяет ей отца, — сказал Ги. И тотчас пожалел об этом: Гвибер глянул на него снова и выражение его пестрого лица изменилось, стало более осмысленным и менее веселым.
К счастью, вернулся первый из хозяев и принес вина и воды. Разговор свернул в другое русло.
Через несколько минут в заведении стоял страшный крик. Оба хозяина размахивали руками и орали друг на друга, выпучив глаза и брызгая слюной.
— Спорят, какое вино было бы лучше, — пояснил Гвибер, усмехаясь. — Идем. Больше тут делать нечего. Эти зануды будут надрываться до заката солнца.
Он прихватил еще несколько лепешек и два куска с углей, схватил Ги за руку жесткой, вымазанной в саже рукой и вытащил на улицу.
— Ты откуда родом, а? — спросил Гвибер, жуя на ходу.
— Из Пуату, — сказал Лузиньян.
— А! — Гвибер на секунду задумался. — А я из Иль-де-Франса. Живу здесь уже лет пятнадцать… — Он отвел глаза, как будто вспомнил о чем-то недозволенном. — В Сайде. Иногда…
Ги де Лузиньяну почему-то сразу понравился этот Гвибер. С ним Ги чувствовал себя спокойно, и даже шумные выходки белобрысого его не раздражали: он как будто шумел за обоих, избавляя Ги от неприятной необходимости проявлять бурные эмоции.
Они миновали открытый рынок, где продавали скот и где топталась маленькая партия сарацинских рабов. Гвибер сразу насупился и показал им кулак.
— Видали? Проклятые нехристи! Знаешь, что они со мной сделали?
Он задрал рубаху и показал несколько кривых рубцов на боку и спине.
— Ваша работа, ваша! — скорчив рожу, рявкнул Гвибер. — Любуйтесь! Что, не нравится?
Пленники-мусульмане хмуро глазели на кривляющегося франка, один брезгливо покривил губы и плюнул.
— Все, черномазые, вышло ваше время! — торжествующе заключил Гвибер. — Сгниете в рабстве!
Он обернулся к Ги, вскинув голову.
— Здорово я их, верно?
— Очень здорово, — сказал Ги.
— Попал я к ним в плен, как теленок, — Гвибер вдруг пригорюнился.
Они уже вышли за ворота, и перед ними открылась широкая долина с потрескавшимся дном, уходящая и влево, и вправо. Здесь сразу стало очень тихо, и спутников настигли совершенно другие звуки: резкий шелест сухих стеблей, вкрадчивое птичье пение.
— Сядем здесь, — предложил Гвибер и первым плюхнулся на выступающий из земли корень старого дерева. Оно было явно младше тех олив, что видели Иисуса Христа и хранили в глубинах складок своей коры прикосновение Божественной руки, — и все же выглядело куда более дряхлым.
— А как ты выбрался из плена? — спросил Ги.
Гвибер поднял палец, запачканный сажей и бараньим жиром.
— Ты задаешь правильные вопросы, Ги. Потому что рассказывать о том, как я там очутился, очень не хочется… Знаешь, кто я? Я — Раймоново Денье.
Он впился зубами в кус, который держал обеими руками. Он сделал это нарочно, чтобы Ги успел и запомнить странное прозвище, и задуматься о его истинном значении.
Ги, однако, ждал достаточно терпеливо, чтобы Гвибер решился продолжить объяснения без посторонних просьб.
— Вот, положим, попал ты в плен, — снова начал он, сильно двигая ртом, как будто пытаясь заглотить нечто растопыренное, — и нет у тебя знатной родни… Кто тебя выкупает?
— Кто? — спросил Ги.
Неожиданно Ги понял, что до сих пор держит лепешку в руках, не решаясь откусить. Ему казалось неправильным жевать, когда речь идет о таких предметах, как участь христианина в руках неверующих.
Гвибера, напротив, это обстоятельство ничуть не смущало, ибо он вещал из сердцевины своей истории, в то время как Ги оставался лишь сторонним наблюдателем.
— Некоторые монахи. Меня выкупал аскалонский орден Монжуа.
Ги покачал головой, давая понять, что о таком не слышал.
— Малый орден, наподобие госпитальеров, — сказал Гвибер. — Я прожил у них почти полгода. Уже потом, после плена. Наш король, — он махнул в сторону иерусалимских стен, — основал этот орден несколько лет назад. А королевская сестра Сибилла с мужем подарили ему четыре аскалонские башни. Их магистра зовут сеньор Родриго… Я хорошо знаю, потому что те полгода, что провел у них в Аскалоне, весьма усердно молился о его здравии.
— Они собирают деньги на выкупы? — спросил Ги.
Гвибер несколько раз резко кивнул, утыкаясь подбородком себе в грудь.
— Бог знает что за вино здесь подают! — сказал он. — Опять перед глазами все плывет! Должно быть, они туда какого-нибудь перца подсыпали…
Ги улыбнулся.
Гвибер потянул носом, сильно фыркнул, отобрал у Ги его кусок и сжевал.
— Они собирают деньги, чтобы выкупать тех христиан, которые никаким иным способом не освободятся. И вот однажды ехали они от Аскалона к Газе и дальше, на юг, со своей благочестивой миссией, и повстречался им граф Раймон Триполитанский.
Гвибер приосанился, чуть надул щеки — показал, каким важным и гордым был граф Раймон.
Ги еще не довелось повидать этого сеньора, поэтому он не мог оценить, насколько полным было сходство. Гвибер глянул на своего собеседника сбоку, как птица, несколько раз моргнул выпученным глазом, потом сдул щеки и продолжил:
— А граф сам совсем недавно освободился из сарацинского плена. И уж конечно помнил, каково это — все время видеть вокруг себя сарацинские рожи. И потому граф останавливается, — Гвибер уперся кулаком в бедро, — и спрашивает: «Добрые братья, для чего вы собираете деньги?»
Добрые братья, все при оружии, потому что вместе с духовными в ордене состоят и военные, окружают графа с его людьми и отвечают почтительно: «Собираем деньги на выкуп несчастных христиан, разлученных со своими собратьями по вере».
Тут граф начинает плакать от великого сострадания и обращается к своим людям: «У кого сколько есть денег — все отдайте этим орденским братьям».
Тут Гвибер показывает, как граф Триполитанский и его свита ищут у себя деньги и все ценное, охлопывая и обшаривая себя так, словно ловил по всему телу вошь.
— У самого же графа оказался лишь один денье, который он и пожертвовал, — продолжил Гвибер. — И вот приезжают братья к сарацинам. Ах, ох! И смотреть бы на все это не надо, но глаза сами собою начинают бегать по сторонам. Нехорошо! Говорят, был один брат из ордена Монжуа — он вырвал себе глаза, чтобы не пялились, куда не след, но после сам от этого умер. Прочие же поехали прямо к начальникам сарацинским и стали с ними разговаривать.
А там — лица черные, головы обмотаны тряпками, все бегают, кричат, машут руками. Начальник, правда, другой. У него и кожа светлее, и сам спокойный, только глаза как у дьявола. Один брат из ордена Монжуа видел дьявола, он говорил потом: точь-в-точь.
Стали отсчитывать деньги и отдавать в обмен пленников. Дошла очередь до меня: не хватает одного денье! Сарацины хохочут, братья кусают губы, а мне заплакать впору, только я стою и не плачу, глаза высохли. Сарацинский начальник говорит сеньору Родриго: «Забери и остальные три денье, раз тебе одного не хватает! Я торговаться не буду. Пусть этот пленник у нас остается».
А продавали они нас за четыре денье каждого — как свиней… Но, по мне, так лучше быть свиньей у христиан, чем у сарацин самым главным ихним полководцем.
И тут, на мою радость, брат находит в мешке последний денье. Тот самый, что граф дал. Граф Раймон. И был этот денье не короля Амори, а короля Болдуина Третьего, дяди нынешнего Болдуина. Серебряный, с Давидовой башней.
Сарацины оскалили все свои зубы, похватали деньги и погнали меня в шею вслед за остальными. И вот поверишь ли, Ги, сколько лет с тех пор прошло, — то есть уже почти три года минуло, — а я все помню этот старый денье с Давидовой башней. Как увижу на рынке, так вздрогну, потому что одна эта монета всю мою жизнь решила…
Он засмеялся.
— Я когда в ордене был, несколько раз видел, как пленных меняют. К примеру, знатного сарацина — в обмен на знатного франка. Приведут обоих, одежда на них, понятно, роскошная — фу-фу-фу! — но вся рваная, в крови и в чем похуже. Знаешь, как они друг на друга смотрят?
— Как? — спросил Ги, чувствуя любопытство.
Гвибер воззрился вдаль, пошевелил губами, словно произнося какое-то заклинание, могущее соткать из пряного воздуха образы знатного сарацина и знатного франка, пусть бесплотные, но весьма выразительные. Затем перевел взгляд на Ги и широко улыбнулся.
— Ревниво, вот как! Видел, как женщины друг друга оглядывают, когда решают, которая краше, которая лучше одета?
Ги кивнул.
— Ага! — обрадовался Гвибер. — Ну вот и эти точно так же. А мне себя не с кем сравнивать, только вот с монеткой этой потертой. Ее и не всякий меняла теперь берет…
День сгущался вокруг них, торопиться было некуда — разговор тянулся, то прекращаясь, то вдруг возобновляясь. Неожиданно Гвибер сказал:
— Пора мне уходить. На, возьми на память.
И вытащил из кошелька маленькую фигурку. Ги сперва подумал, что это какой-нибудь святой образ, и с благодарностью потянулся, но затем вдруг отдернул руку. Гвибер засмеялся, подбросил фигурку на ладони.
— Не бойся!
— Это ведь идол? — спросил Ги, моргая.
— Он самый! Только мертвый, так что и бояться нечего, — сообщил Гвибер с такой гордостью, словно сам и убил этого идола. — Я сам отыскал.
— Где?
— У сарацин, в ихних землях…
— Ты возвращался в земли сарацин? — удивился Ги.
Гвибер вдруг огорчился. Так огорчился, что и передать нельзя. Вскочил на ноги, расставив их пошире, подбоченился и заорал:
— Ну вот какое тебе дело? Может, и возвращался! И там, в песке, нашел эту штуковину! А она мне понравилась, вот я и взял ее себе. Она неживая, говорю тебе. Не нравится, не бери. Вообще — черт с тобой!
Он бросил фигуркой в Ги, больно угодив тому в сгиб локтя, и побежал вверх по склону, карабкаясь с ловкостью ящерицы. Ги смотрел вслед своему собеседнику — как он ловко, точно жук, бежит, роняя из-под ног иссохшие комья земли, и почему-то подумал, что Гвибер, должно быть, был какое-то время моряком.
Затем Гвибер скрылся из виду. Тогда Ги наклонился и подобрал фигурку.
Она представляла собой древнего египетского божка, из тех, что жили в той стране задолго до Рождества Христова. Ги хотелось плюнуть на идола, но неожиданно его сердце охватила непонятная жалость. Он провел пальцем по медной статуэтке. Она оказалась очень гладкой и на ощупь теплой.
Божок представлял собой человеческую фигуру — не то очень молодой женщины с неразвитыми формами, не то вообще мальчика-подростка, — но вместо человеческой головы на прямых, широко расправленных плечах красовалась львиная. Ги поразило, с каким достоинством держалось это чудовище. Оно несло львиную голову, как знак божественного достоинства. И хотя фигурка была всего-навсего маленьким демоном, давно уже мертвым, Ги захотел оставить ее себе.
Старенький кюре, который говорил в воскресные дни в церкви, в Лузиньяне, рассказывал как-то о чудищах, что приходили к святым отшельникам и подвизающимся ради Христа, например, к святому Антонию или святому Иерониму. Эти чудища умоляли святых отцов дать им благодать Крещения и просили рассказать о Господе Христе.
— Неразумные кентавры умеряли свою похотливость, и убогие псоглавцы забывали свою ярость, и люди-одноноги прискакивали на своей единственной ноге из дебрей пустынных, чтобы услышать слово Христово! — сокрушался старичок кюре. — А вы? — Он пытался метать молнии из блеклых, слезящихся глаз, и это смешило недорослей Лузиньянов не меньше, чем их могучего родителя. — Вам не нужно преодолевать свое уродство! Вам не приходится проходить долгий путь! Истину вкладывают в ваши жесткие зубы — только жуйте! — и то вы ухитряетесь ее выплевывать…
— Что бы ты сказал на это? — спросил у львиноголового божка Ги. — Искал ли некогда и ты Христовой истины?
Божок молча взирал на него пустыми глазами. Ги вздохнул и сжал над фигуркой пальцы.
— Все-таки странный человек — Гвибер! — сказал он сам себе. — Должно быть, пребывание в плену у сарацин даром для человека не проходит, хоть бы его и спас впоследствии один серебряный денье с Давидовой башней!
Он поднял голову. Давидова башня смотрела на него из-за стен, и это, уже в который раз, показалось Ги невероятным.
* * *
В соколиной охоте принял участие весь двор; устроили пышный выезд. Сибилла — рядом с братом, на кокетливой белой лошадке. Голубая шелковая попона с кистями и белое платье женщины развеваются, когда Сибилла пускает лошадку вскачь, и когда Сибилла оборачивается на скаку, то оборачивается и лошадка — обе выглядят подружками, которые только что вволю насекретничались, и теперь их смешат те, кому они перемыли кости.
Король снимает колпачок с головы птицы.
Старинный гобелен, вытканный где-нибудь в Нормандии, вдруг предстает в обрамлении совсем иного пейзажа: и деревья, и горы, и самый воздух здесь обладают совершенно чуждой фактурой. Но смысл гобелена остается прежним: рыцари и дамы, нарядно одетые, на нарядных лошадях, едут попарно, и у каждого на перчатке сидит птица.
Иные рыцари влюблены в некоторых дам; есть и дамы, влюбленные в рыцарей; а есть среди собравшихся и такие, чья любовь взаимна. Охотничьи птицы, взлетая в небо, когтят добычу, и каждое сердце ощущает, как впиваются в него безжалостные острые когти любви. Эта боль пронзительна и желанна и еще слаще от того, что ее приходится скрывать.
Только Сибилла не в силах удерживать чувство в себе: сперва нашептала о ней в удивленно подрагивающее ухо своей лошадки, а затем, метнув сияющий взор на прочих участников охоты, поведала о своей любви и всему свету.
Видит это и сообщник и искуситель Сибиллы — коннетабль. Эмерик вполне удовлетворен: все его полки расставлены, все командиры знают свою задачу, вспомогательные отряды готовы. Нет ненадежных участков в расположении его войск. Любовь разворачивает свои огромные знамена.
Ги, самый незначительный из свиты, едет позади. У него нет охотничьей птицы — пока нет, — но лишать брата удовольствия принять участие в охоте коннетабль не желает. Исход сражения решит тот полк, что скрыт до поры в засаде.
Король останавливается рядом со своей сестрой, и оба смотрят на сокола. Такая красота — и добровольно подчиняет себя человеку! Не в этом ли свидетельство Божьего благословения людям?
Сибилла, однако, не менее прекрасна, чем та хищная птица, что взвилась в небо с королевской перчатки. Такой и видит ее Болдуин: диковатое юное существо, слишком красивое, чтобы быть прирученным до конца. Еще одно дивное создание Божье, вверенное заботам Болдуина.
— Впервые вижу, чтобы вы были так счастливы, — говорит ей брат.
Она не краснеет — напротив, улыбается еще более открыто и становится Болдуину еще более чужой. В жизни единокровной сестры появился иной господин. Другой мужчина, который отныне важнее для нее, чем брат и король.
Он смотрит на нее исподлобья.
Важнее, чем брат, — пусть. Но не важнее, чем король. Тот, кто получит Сибиллу, получит и Королевство.
Но как поверить, что этот золотоволосый, задумчивый юноша, полностью погруженный в тень своего находчивого, предприимчивого, всем полезного брата-коннетабля, — и есть истинный король?
— Я люблю его, господин мой, — говорит Сибилла, так просто, как будто признается в обыкновении дышать или пить воду.
— А он вас? — спрашивает король.
— Да, — отвечает она.
В этом «да», без прикрас и добавлений, Болдуину слышится манера самого Ги де Лузиньяна. Обычно он так отвечает. Ведь у этого человека нет ничего, о чем он мог бы сказать «мое». Ничего, кроме слова. Даже он сам не себе принадлежит — семье, старшему брату, королю.
Любовь — не только грандиозный полководец и отважный воин; она и лазутчик в ночи, и у нее есть ключ к любой двери.
— Позвольте мне выйти за него замуж, брат!
Углы рта, забывшего перестать улыбаться, задрожали, в глазах созрели огромные слезы.
Сердце так сильно стукнуло в груди Болдуина, что у него заболели два ребра. Перед лицом любви бежали вдруг все прежние замыслы и расчеты: кто охранит Королевство лучше, чем это могущественное счастье? От короля требовалось лишь признать за любящей душой права, которых лишены самые знатные, самые богатые вассалы. Болдуин мысленно представил себе рядом с Сибиллой молодого Лузиньяна: двое влюбленных детей в недрах мистического Королевства, сердцевиной и сущностью которого являлся Господень Гроб.
«Ату ее! — страстно шепчет Эмерик, думая о Сибилле и своем младшем братце. — Хватай же ее, бей клювом, пронзай когтями!»
Сокол как будто понял беззвучную мольбу Эмерика буквально: сверкая оперением, схватил малую птичку и медленно опустился к своему хозяину.
— Хороший, — сказал ему Болдуин, отворачиваясь от сестры и вытаскивая для птицы кусок сырого мяса из небольшой кожаной сумки. — Дай-ка мне…
Из когтей сокола, быстро поводящего гордым желтым глазом, он вынимает теплый окровавленный комок. Голубка.
Среди множества чудес и ужасов Востока франки-паломники встретили и такое: письма, переносимые птицами из одного замка в другой. Это поразило их не меньше, чем вырастающие из песков бородатые всадники на верблюдах с упругими косматыми горбами или пойманный между Дамаском и Алеппо псоглавец, который, перед тем, как издохнуть, проклял султанов Дамаска до шестнадцатого колена.
— Чья же ты? — сказал мертвой птице Болдуин.
Он разложил ее на своей рукавице и разгладил перья, серебристые, с едва различимыми розоватыми перышками на горле. Повернулся к сестре:
— Это чей-то почтовый голубь. У вас ловкие пальцы — возьмите, прошу вас, письмо, но сразу отдайте мне.
Сибилла повиновалась. Она не испытывала жалости к погибшей птице и немного корила себя за черствость, но поделать с этим ничего не могла: любовь переполняла ее настолько, что не оставляла места ни для чего иного, даже для сострадания.
Крохотное послание скрылось в рукавице Болдуина, мертвая голубка упала в охотничью сумку. Все произошло за несколько минут.
Глава четвертая РАЙМОНОВ ДЕНЬЕ
Оставшись у себя в покоях один, король долго рассматривал записку. Буквы выдавали руку не слишком опытную в выведении тонких линий, а способ затемнять мысли представлялся чересчур примитивным. Как будто писавший не слишком уважал своих противников, полагая, что у тех не хватит ума разгадать простенькую загадку, буде голубка, по несчастливой случайности, попадет к ним.
Может быть, он надеялся на сходство всех почтовых голубей между собою — как различить, кому принадлежит та или иная птица, кому адресовано то или иное послание?
Но беда заключалась в том, что Болдуин узнал голубку. Только в одной голубятне у франков были такие птицы — с розоватыми перьями. В голубятне Раймона Триполитанского.
Неведомый человек Раймона писал своему господину:
«Змееныш — в логове и вот-вот вонзит жало в лоно львицы».
Быстро же они обо всем догадались. Ги де Лузиньяну еще даже не дозволено открыто выражать свои чувства, а в Тивериадском замке уже размышляют над тем, как помешать Сибилле отдать Иерусалимский трон своему избраннику.
Болдуин раздумывал над письмом, пытаясь просчитать в уме все возможные варианты развития событий. Его отец, король Амори, несомненно, обратился бы за советом к своему преданному камерарию, к рыжему Эмерику де Лузиньяну. Советы Эмерика действительно бывают хороши и для короля, и для Королевства — но не теперь, ибо речь идет о его кровном родственнике, а к своей родне все эти бедные, благородные рыцари бывают весьма пристрастны.
Если бы только Болдуин избрал сестре мужа из числа важнейших иерусалимских баронов, граф Раймон, возможно, и смирился бы; но Ги де Лузиньян, это ничтожество, этот смазливый ласковый мальчишка… Нет, Королевства, отданного в слабые руки Лузиньяна ради одной только любви, — этого Раймон не допустит.
И вот уже человек Раймона, невидимо и неусыпно следящий за тем, что творится при Иерусалимском дворе, пишет своему господину, неумело держа в грубых пальцах тонкое перо: «змееныш», «львица»…
«Змееныш» — разумеется, Ги. Весь род Лузиньянов, как они сами утверждают, происходит от крылатой змеи Мелюзины. И имена, которые носят Лузиньяны, — Гуго и Эмерики, Ги и Жоффруа, — все это имена мелюзининых сыновей, уродливых и свирепых, которые грызлись из-за наследства и поубивали друг друга, как и подобает истинным отродьям дьявола.
Из века в век мельчала, разбавляясь человеческой кровью, змеиная порода. Но в любой толпе, при любом дворе всегда найдется человек с обостренным чутьем на чуждое; и единой капли змеиной крови в жилах чужака им достаточно, чтобы насторожиться.
Болдуин не сомневался в том, что Раймон уже знает о великой любви и замышляемом браке. Перехваченная голубка — не единственная. Научившись у сарацин голубиной почте, Раймон не забывал и старого доброго правила: никогда не отправлять только одного гонца. Наверняка тот человек, что служил глазами Раймона в цитадели, уже получил приказ: убить Ги де Лузиньяна.
Предупреждать о готовящемся нападении на жениха Сибиллы король не стал — ни самого Ги, ни его умного брата коннетабля. Если Ги погибнет под ножом убийцы, это будет означать лишь одно: молодой Лузиньян — не избранный Богом защитник Святого Гроба. Предоставляя Ги тайным убийцам, король Болдуин тем самым предоставлял своего возможного преемника Божьему суду.
* * *
После освобождения из плена целых полгода прожил Гвибер в башне Девственниц, в Аскалоне, среди орденских братьев Монжуа.
Орден был новым и небольшим. И почти не увеличивался. Те младшие сыновья, что искали за морем счастливой жизни, отдавали себя вместе со своим имуществом более старым, более могущественным орденам.
Сеньор Родриго по этому поводу говорил: «Мы приехали в Святую Землю не богатеть и не собирать могущество, но умереть за Христа». С этими словами он поднимал руку над головой и стискивал пальцами воздух, как будто хватал небо за голубой лоскут и дергал его на себя.
Гвибер понимал это так: он хотел силой захватить Небесное Царство.
Но самому Гвиберу это представлялось почти невозможным делом, поскольку поначалу он был очень слаб и тратил много усилий на то, чтобы открывать и закрывать глаза. Постепенно, впрочем, все уладилось, и Гвибер вместе с прочими громко, пританцовывая на месте от удовольствия, распевал в орденской церкви. Латинских гимнов он толком не знал, поэтому повторял на все лады некоторые слова, например: «ave, ave» или «veni, veni». Этого казалось ему довольно, и душа его плясала в теле от восторга.
В башне Девственниц Гвиберу снились сны. Прежде ему никогда ничего не снилось: обычно он валился на землю или на солому, где заставала его ночь, либо приказ — всем отдыхать; и забытье хватало его сразу со всех сторон множеством крепких, неласковых рук. Здесь же все происходило по-другому. В сновидениях Гвиберу являлись красивые вещи, похожие на те, что он видел в орденской церкви, только в тысячу раз прекраснее.
Он видел цветы, перемежаемые на ветках золотыми чашами и огоньками, горящими внутри хрустальных чаш. Он видел женщин с кольцами на тонких пальцах и жемчужными нитями, перевивающими их волосы. Грустные чудовища лизали их босые ноги, а дьявол с пестрыми и плоскими, как у бабочки, крыльями, жадно подглядывал за этим из кустов.
Иногда Гвибера подхватывало какое-нибудь приключение, и он бродил по дорогам и замкам, но проснувшись ничего толком не помнил и только весь день потом глупо улыбался.
В те дни граф Раймон был регентом Королевства. Мальчик-король постоянно находился при нем, слушая и запоминая все, что говорил его дядя.
А Раймон говорил о том, что нельзя допускать Саладина в Мосул и Алеппо. Раймон был готов помогать владыкам Мосула и Алеппо и проливать христианскую кровь ради неверующих во Христа — лишь бы Саладин не захватил эти города. Алеппо на севере и Дамаск на юге — и Триполи как раз посередине.
Краем глаза Гвибер видел одного орденского брата, которого сеньор Родриго представил королю и графу Раймону, чтобы этот человек служил им: он был смуглый, как мавр, и складывал губы иначе, чем франки. Гвибер уже знал, что сарацина можно отличить по манере дышать, смотреть и сжимать рот. Этот орденский брат умел быть сарацином. Только вот Раймонов Денье не слишком понимал, для чего такое нужно христианину.
Поздно вечером Гвибера призвал к себе сеньор Родриго. В покоях сеньора находились и Раймон, и молодой король. Завидев графа Триполитанского, Гвибер позабыл обо всем на свете — бросился к нему, а не к Болдуину, и упал ему в ноги, и стал целовать его одежду.
Раймон чуть отодвинулся, приподнял брови, готовый засмеяться.
— Не ошибся ли ты, мой друг? — спросил он ласково Гвибера. — Вот король. Я — всего лишь королевский опекун.
Чуткое ухо уловило бы нотку горечи в его голосе; но вместе с тем было очевидно, что Раймон относится к племяннику с любовью, особенно глубокой от мысли о скорой смерти Болдуина.
Но Гвибер не обладал чутким слухом. Он видел перед собой того, кому был обязан всей своей новой жизнью.
Поднявшись перед королем и Раймоном, Гвибер вскричал:
— Разве вы не узнаете меня, мой господин?
Раймон покачал головой, дивясь такой пылкости. А Болдуин склонил голову — так, словно слушал новый, чрезвычайно любопытный роман.
— А! — выкрикнул Гвибер и запрыгал на одной ноге. — Я ваш денье, мой господин, ваш старый серебряный денье с Давидовой башней!
Раймон посмотрел на сеньора Родриго, словно ожидая от того объяснений. Но сеньор Родриго ничего не знал.
— Расскажи нам про этот денье, — сказал король.
Гвибер увидел короля и побледнел. Почесал щеку, на которой были белые пятна — не от болезни, но полученные еще при рождении. Смутился еще больше. Затем махнул рукой безнадежно и сказал:
— Можно, я сяду? У меня что-то голова кружится. Неровен час упаду — стыда не оберешься!
Сеньор Родриго прикусил губу, не зная, смеяться ли такой дерзости или ужаснуться и выгнать дурака вон. Но король проговорил очень спокойно:
— Дайте ему стул. Пусть он сядет.
И вот Гвибер расселся в присутствии самых важных сеньоров Королевства и начал рассказывать всю свою историю, с самого начала: и о том, как он попал в плен к неверующим во Христа, и что с ним происходило, пока он был в плену, и как явились братья из ордена Монжуа и стали выкупать пленных, и как не хватило одного денье, а после он нашелся — и оказался тем самым денье, который дал граф Раймон Триполитанский…
— С той минуты и до самой моей или вашей смерти я — ваш человек, мой господин, — заключил Гвибер, обращаясь к графу Раймону.
Он поерзал на стуле, чувствуя себя не вполне удобно.
— Что же нам делать с этой простотой? — заговорил король. Голос у него был ломкий, хрипловатый, он неприятно резал бы слух, если бы не интонация, очень спокойная и доброжелательная.
— Отправим его в Дамаск с братом Иоанном, — сказал сеньор Родриго.
Тут Гвибер понял, что сеньоры собрались для того, чтобы опять, каким-то новым образом, решить его судьбу, и забеспокоился. Его взгляд метнулся от короля к графу Раймону, но ни там, ни там не увидел Гвибер ничего хорошего.
Но затем Раймон улыбнулся ему и заговорил:
— Если ты мой человек, Гвибер, то послушай, чего я хочу от тебя, и сделай все, как я повелю.
Гвибер сказал:
— Можно, я встану? Не то я, кажется, сейчас свалюсь с этого стула.
И он вскочил так поспешно, словно маленькое круглое сиденье жгло его зад.
Стульев в замке было совсем немного, и предназначались они для очень важных персон, а Гвибер об этом вспомнил только сейчас.
— Ты отправишься в Дамаск вместе с братом Иоанном, — сказал граф Раймон.
— В Дамаск? — пробормотал он.
Король пошевелился и снова вступил в разговор:
— Вы его пугаете. Объясните же все по порядку. Объясните ему, что никто не возвращает его сарацинам. Напротив — теперь он будет следить за ними, теперь их жизни будут в его руке… Скажите же ему, дядя!
И Гвибер узнал, что орден Монжуа не только имеет, по договоренности с сарацинами, доступ на рабские рынки Алеппо и Мосула для выкупа пленных, но и занимается другими поисками, тайными. На землях, где ныне властвуют неверующие, некогда жили великие святые, и сейчас их мощи, погребенные в скалах и песках, как бы томятся в плену. Кроме того, эти великие святые, а также Апостолы, и Божья Матерь, и Сам Господь оставили в тех землях немало чудесных и достохвальных вещей, предназначенных для утешения и укрепления верующих истинно. И великий грех — оставлять все это в руках у злонравных сарацин.
Поэтому орден Монжуа занят розыском священных предметов, находящихся как бы в сарацинском пленении. И все освобожденные святыни затем будут доставлены в Иерусалим и помещены в надлежащие реликварии.
Выслушав это, Гвибер пришел в сильнейшее возбуждение. Он заметался по комнате, хватаясь руками то за голову, то за стены, то за факелы, горящие в стене, и один раз едва не обжег руку. Затем он опять вспомнил, что находится в присутствии короля, и залился слезами.
— Что я за несчастный дурак! — закричал он, падая перед королем на колени и стуча себя кулаком по макушке. — Больше одной мысли здесь не умещается! Потому что мне снился сон!
— Расскажи свой сон, — сказал король.
Гвибер приободрился и начал:
— Это была пустыня, вся серая от песка, и по ней ходили кривобокие смерчи, а потом я увидел несколько пальм и двух больных верблюдов. Они хотели пить и склоняли морды к источнику, бьющему из-под корней одной пальмы. Но всякий раз, когда их ноздри касались воды, со дна источника выступало женское лицо, полное сияния. И это лицо запрещало им пить. Несколько сарацин, не понимая, почему их верблюды боятся и отчего животные предпочитают умереть, лишь бы не осквернять источник, бегали вокруг и били верблюдов палками по бокам, с которых клочьями свисала шерсть. Но животные знали то, чего не знали некрещеные люди. Тогда я пришел к этому источнику и сел рядом с ним на корточки, чтобы лучше видеть то лицо.
Рассказывая, Гвибер сел на корточки и вытянул шею, чтобы лучше показать — как все происходило.
— Почему же сарацины тебя не видели? — спросил король.
— Они думали, что я — один из них, — объяснил Гвибер. — Но я об этом не думал вовсе. Я хотел увидеть лицо. Оно было очень молодое. Лицо девственницы. Я спросил: «Кто ты? Почему ты запрещаешь верблюдам пить?» Она сказала: «Я — Марина, и здесь была моя келья. Я не хочу, чтобы на мою могилу мочились верблюды». Но я сказал ей: «Добрая Марина, пожалей этих неразумных животных, ведь у них нет бессмертной души — пусть их краткое земное существование продлится и не будет мучительным». Марина же сказала: «Ты разжалобил меня, глупый Гвибер, которому вся цена — один серебряный денье!» Тут я сказал ей зачем-то: «Не один, а четыре!» — потому что это чистая правда, мой господин, я стоил четыре денье! И Марина пропала, а верблюды начали пить воду…
— Давно ты видел этот сон? — спросил граф Раймон.
Гвибер вскочил на ноги, всем своим видом излучая бодрость и здоровье.
— Несколько дней назад, мой господин!
— Ты уверен в имени? Марина?
— Да, мой господин. Это была красивая девственница, и ее звали Марина. Она была похожа на те образы, что рисуют в наших церквах греки, поэтому я думаю, что она жила здесь в стародавние времена. Ведь греки умеют видеть былое, в отличие от нас, франков, которые хорошо видят происходящее сегодня.
— Но кто же видит грядущее? — спросил король Болдуин.
Гвибер резко повернулся к королю и глянул — но не прямо на него, а чуть левее, как будто заглядывал ему за плечо:
— Грядущее видит только наша смерть, мой господин, — сказал он.
На самом деле никакой смерти он не видел: над плечом короля вилась малая мушка, и она-то и привлекла блуждающий взгляд Гвибера. Но этого мгновения было довольно, чтобы судьба Гвибера решилась: он был отправлен в Дамаск, отданный в подчинение брату Иоанну, который столь похож был на сарацина, с поручением отыскать мощи святой Марины. Заодно Гвиберу было велено во всем слушаться брата Иоанна и делать все, что бы тот ни приказал.
* * *
Какими путями брат Иоанн проник к дамасскому двору — того Гвибер никогда не узнал. По приказу брата Иоанна Гвибер поселился в маленьком доме на окраине Дамаска. У него было много денег, полученных от короля, но Гвибер благоразумно скрывал это обстоятельство и существовал впроголодь, а дни проводил на базарах.
Там были всяческие диковины, несколько раз попадались франкские вещи. Например, одна чаша, где у Христа, изображенного на выпуклом ее боку, было сбито лицо. При виде этой чаши Гвибер вдруг залился слезами и, громко рыдая, побежал прочь: он не смел выкупить ее, чтобы не выдать своего происхождения, а смотреть оказалось выше его сил.
Он искал святую Марину. Сон больше не возвращался, однако Гвибер был уверен в его истинности. Поэтому он выпросил у брата Иоанна дозволения купить верблюда и отправился в пустыню.
Гвибер, в отличие от многих франков, не боялся пустыни. С тех пор, как он побывал в плену, а после избавился от напасти столь чудесным образом, всякая боязнь оставила его. Последний страх завалялся в мешке для сбора милостыни, в самой дальней складочке; вытащенный на белый свет, он превратился в спасительную монетку и растворился навсегда.
Верблюд, злобная хитрая тварь, бегал по пескам, размахивая седоком, подобно тому, как непотребная девка трясет платком, стремясь привлечь к себе внимание.
Несколько раз Гвибера рвало от этой качки, но затем он сказал себе: «В пустыне не так много влаги, чтобы отдавать последнее!» — и его тотчас перестало тошнить. Таким образом, подумалось Гвиберу, жадность может обладать спасительным действием.
Несколько раз за время этого путешествия он видел впереди пальмы, но по тому, как они росли, понимал, что там нет нужного источника. Верблюда, впрочем, нимало не занимали поиски святыни: учуяв воду, он скакал к ней во весь опор, презрительно относясь к человеку и как бы говоря ему: «Дело твое, но лично я иду вон в ту сторону». И Гвибер, приученный подчиняться тем, кто сильнее, слушался своего верблюда.
И в конце концов он заметил, что верблюд к нему переменился. Впервые за время их путешествия он не попытался укусить Гвибера, а это, если знать нрав купленного Гвибером животного, свидетельствовало об очень большой симпатии. Впрочем, во всем остальном верблюд оставался таким же неприятным товарищем, как и прежде.
Случалось Гвиберу находить в песке странные вещи, которые он справедливо считал языческими, но усердно складывал в свой мешок, потому что многие из них были золотыми или красивой работы.
На пятый день пути Гвибер увидел новые пальмы. Он тотчас сопоставил их с тем видением, что хранилось в его памяти рядом с самыми дорогими картинами — вроде образа старого клена с узорными листьями, на котором однажды повесили детоубийцу и который с тех пор стал покровителем всех влюбленных, так что под ним всегда кто-нибудь целовался и загадывал вслух желание; или той истоптанной стадом лужайки, где он нашел однажды сломанный коровий рог и большой кусок серой соли.
Когда пальмы из видения предстали Гвиберу, он заорал и запрыгал на спине у верблюда, и начал от ликования рвать у себя на виске волосы, пока не опомнился от резкой боли. Затем он погнал верблюда к оазису.
Никаких сарацин и больных животных там не оказалось. Только пальмы и источник. Гвибер свалился с седла и бросился к источнику, но какая-то странная сила оттолкнула его от прозрачной глади. Несколько раз пытался он приблизиться к воде, но тугая воздушная подушка вставала между ним и тем, что могло утолить его жажду.
— Где ты, Марина? — прошептал Гвибер. — За что ты сердишься на меня? Я искал тебя, прекрасная! Ты являлась мне во сне. Неужели я украл чужой сон, и не мне суждено найти твои святые мощи?
Неожиданно воздушная подушка исчезла, и Гвибер, потеряв равновесие, упал лицом в источник. Он едва не захлебнулся и с трудом выбрался на берег. С его лица стекали прозрачные, сверкающие потоки, и верблюд, хитрая бестия, подкрался и едва не содрал ему кожу со щеки, проведя языком. Затем верблюд лег рядом и преспокойно начал пить.
Гвибер улегся рядом на животе и запустил в воду обе руки. Он долго шарил по дну, пока вдруг не нащупал доску. Подумав, что это, вероятно, крышка гроба, он потащил доску на себя.
Доска шла с усилием, как будто водная толща ее не пускала, но затем приблизилась к поверхности. Сверкающие струи стекали с нее, покрывая поверхность тонким хрустальным слоем, в котором отражалось слишком яркое солнце. На самой доске, немного выгнутой, была нарисована дева — с удлиненным лицом, с маленьким круглым подбородком и целым выводком тугих кудряшек на лбу, под платком.
Гвибер ахнул во весь рот и с размаху, обливаясь водой, прижал деву к своему лицу и к груди, так что стукнулся о доску лбом и носом, а край ее больно впился ему под ложечку. Но ничего этого Гвибер в своем восторге не заметил, как не заметил и того, что из носа у него потекла кровь. Поэтому когда он отодвинул от себя святую Марину, дабы полюбоваться ее несказанной красотой, он подумал, что она заплакала кровью, и не на шутку перепугался. Он осторожно плеснул на нее водой, смывая кровь. Больше никаких следов на доске не проступило, и Гвибер вздохнул с облегчением.
Сняв плащ, он закутал Марину, пренебрегая собственными удобствами, а затем уселся на верблюда и впервые за время их знакомства огрел его палкой — точь-в-точь как это делали сарацины в его сне.
* * *
После возвращения с иконой из Дамаска Гвибер стал называть себя рыцарем Марины, хотя никаким рыцарем он не был, а святой образ у него забрали и, благоговейно поместив в великолепную раму, отправили в богатое и благочестивое аббатство неподалеку от Триполи. Гвибер некоторое время жил в Триполи, где мог навещать свою Даму, а также выполнять незначительные поручения графа Раймона, а потом перебрался в маленький домик в Сайде, который купил на деньги своего господина.
Наконец случилось так, что Гвибера отыскал в Сайде один очень неприятный человек по имени Гуфье. По тому, как держался этот Гуфье и как он разговаривал, Гвибер сразу понял, что посетитель тоже побывал в плену у сарацин — и пробыл там, кстати сказать, гораздо дольше, чем сам Гвибер. И это не понравилось рыцарю Марины еще больше.
Гуфье знал, какое впечатление производит на людей, подобных Гвиберу, поэтому даже не пытался понравиться ему. Он едва поздоровался. Просто вошел и показал кольцо графа Раймона.
Гвибер тотчас сник.
— Слушай меня, Раймонов Денье — ведь так тебя называют? — заговорил Гуфье. — Ты должен немедленно ехать в Иерусалим. У меня для тебя есть хорошая лошадь и припасы уже собраны. Там нужно убить человека, которого зовут Ги де Лузиньян. Ты меня понял?
— Да, — сказал Гвибер. — Каким оружием я должен убить его?
Гуфье подал ему кривой нож.
— Он не отравлен, но очень острый, — предупредил Гуфье. — Наш господин хочет, чтобы этого Ги де Лузиньяна не было в Иерусалиме.
— Может быть, попросить его уехать? — спросил Гвибер, растерянно блуждая взором вокруг себя.
Гуфье ткнул графским кольцом его в губы.
— Тебе велено убить Ги де Лузиньяна, — повторил он. — Подружись с ним. Убей его так, чтобы в этом заподозрили сарацин. Вставай и иди. У тебя нет времени. Наш господин хочет, чтобы ты сделал это как можно скорее.
С этими словами Гуфье пошел прочь, но на пороге обернулся и бросил на пол денье.
— Это тебе за будущие труды, — сказал он.
Гвибер наклонился и поднял монету. Денье был новым, выпущенным при короле Амори — не с башней Давида, а с ротондой Воскресения. Это была не та монета, и Гвибер с пренебрежением отбросил ее в сторону.
— Дурак, — сказал он в спину Гуфье.
Но коня и припасы взял и в тот же день отправился в Иерусалим.
Глава пятая ВЕЛИКАЯ ЛЮБОВЬ
Наступал Великий Пост 1180 года от Воплощения; пришло известие о том, что в плену у Саладина умер брат Одон. Но и печаль по погибшему другу оказалась для Болдуина смазанной, растворенной заботами о сестре и Королевстве. Положив себе оплакать брата Одона в тот день, когда будут оплакивать Христа, король словно бы собрал все воспоминания о нем, сложил их в некий таинственный сосуд и поставил этот сосуд на алтарь в Храме — ждать надлежащего часа.
Ги жил в доме своего брата коннетабля в Иерусалиме. Дом был тесный, плотно заселенный детьми и вещами. Здесь царствовала дама Эскива, дочь Бальяна д'Ибелина и родная племянница того самого сеньора Рамлы, который имел благое намерение — после того, как рассчитается с Саладином за свое освобождение, вернув ему долг до последнего денье, — жениться на Сибилле.
Эмерик де Лузиньян был из тех, кто хорошо знает цену и своей неудачливости, и своему происхождению. Он помнил, что не относится к числу любимчиков судьбы: замок Лузиньян принадлежал старшему брату, Гуго; военное счастье досталось третьему, Жоффруа; красивая наружность — пятому, Ги. Эмерик же получил в дар от доброго гения семьи, феи-змеи Мелюзины, свое неслыханное трезвомыслие — и на большее рассчитывать не мог.
Поэтому Эмерик не искал военной славы на поле боя, хотя от сражений, если они выдавались, не уклонялся. Он много читал и потратил на книги некоторую толику пожалованных ему денег.
Следующим его разумным шагом стала женитьба.
Святая Земля не только поставила франков лицом к лицу с их греховностью; она же вынудила их вернуться к древнему, некогда осужденному обычаю — передавать наследство вместе с именем и обязательствами рода не через сыновей, но через дочерей. Ибо изменения в человеческой природе, проистекающие от первородного греха и усугубленные грехами более близких предков, оказались в некоторых франках таковы, что те не смогли произвести на свет сыновей, сколько ни старались.
У Иерусалимских королей рождались большей частью дочери. И замки иерусалимских баронов переходили не от отца к сыну, а от одного мужа владетельной дамы к другому.
Хорошенько поразмыслив над этим, Эмерик решился просить руки Эскивы д'Ибелин не потому даже, что она принадлежала к старинной для Святой Земли семье и не потому, что была особенно хороша собой — а она, видит Бог, была очень недурна! — но исходя из простого расчета: в семействе Ибелинов имелось много сыновей, и, стало быть, род их в меньшей степени заражен убийственными грехами.
Желая угодить королю Амори, Бальян дал согласие на брак своей дочери с королевским камерарием. И Эмерик де Лузиньян поскорее ухватил Эскиву за белые, боящиеся здешнего солнца руки и утащил в свое жилище, дарованное ему королем в Иерусалиме.
Первой родилась дочь, названная в честь плодовитой матери нынешних Лузиньянов — Бургонь. А затем, словно Божье обетование продлить род Эмерика на Святой Земле, пошли сыновья: Гуго, Жан.
Эскива принесла в дом много красивых предметов. Она, как и ее супруг, любила вещи, и Эмерик неизменно радовал жену, заботясь о ее приданом. Каждую чашу, если она гнулась или теряла тонкую ручку, тотчас чинили и приводили в порядок. Каждое платье, если портилась меховая оторочка или протиралась ткань, немедленно зашивали. Эмерик многое умел делать сам, собственными руками, но занимался такими работами, только когда был уверен, что никто не увидит его с иглой или молоточком и не прознает об этом.
Эскива, с плотными пшеничными косами толщиною в руку, имела обманчиво-сонный вид. Поначалу она показалась Ги женщиной скучной, погруженной в неинтересный мир домашних забот и вялых придворных интриг. Но так было только до первого их большого разговора наедине.
— Госпожа прислала сказать, чтобы вы явились к ней и развлекли ее интересной беседой, покуда не вернется сеньор Эмерик, — сообщила служанка вечером того дня, когда все возвратились с соколиной охоты.
Служанка была такая же, как госпожа: с кожей цвета свежей пшеничной корочки, с волосами более светлыми, чем лоб и щеки, с аккуратными ямочками под каждым пальцем.
Ги спросил:
— Неужто госпоже невозможно развлечься без разговоров?
Ему не хотелось идти к Эскиве и пересказывать для нее какой-нибудь роман, из тех, что читали когда-то в Лузиньяне. Эти романы смешались у него в памяти и превратились в единую, несуразную и странную историю, где из одного чудовища произрастало другое, а один рыцарь, не успев как следует проявить себя, обращался в полную свою противоположность, а то и вовсе делался заколдованным деревом или становился дамой.
Ги казалось, что, представляя слушательнице подобную сказку, он обнажает перед ней всю свою беззащитность, и дама сразу начинает понимать, что с памятью у Ги обстоит не слишком хорошо, а фантазия хоть и имеется в избытке, но такого свойства, что сама владеет рассказчиком, а не он — ею.
Но спорить с женщинами Ги не решился и послушно отправился к даме Эскиве.
Та ждала его за своим станком, на котором готова была вырасти картина: цветы и кони, а среди них — несколько дам и пленный, опутанный гирляндами рыцарь.
— Садитесь, — повелела своему новому родственнику Эскива. — Каково вам нравится в Иерусалиме?
Ги устроился на скамейке у ног дамы — место, обычно предназначаемое какой-нибудь юной служанке, — и покорно ответил:
— Многое из того, что я вижу в Иерусалиме, представляется мне весьма странным.
— Мой супруг рассказывал мне о том, что в Гефсиманском саду вы встретили некую даму, — подсказала Эскива.
Ги понял, что она желает услышать историю о любви, и ответил:
— Да.
— Какова она была?
— Она была похожа на одну из тех красавиц, которых вы вышиваете на своем ковре, сестра, — вежливо сказал Ги.
— О чем она говорила?
Ги признался:
— Я не помню.
— Вы любите ее? — допытывалась Эскива.
Ги задумался.
Она хлопнула его по руке.
— Никогда не задумывайтесь, когда вам задают такие вопросы, брат! С ума вы сошли, что ли? Следует отвечать так, словно вы бросаетесь в атаку на полчища сарацин — один, без всякой надежды уйти живым.
— Похоже, вы знаете об этом больше, чем я, — сказал Ги.
Эскива наклонилась, взяла его лицо в ладони, точно он и впрямь был ребенком.
— Никогда не следует испытывать страха, братец, — сказала она и поцеловала его в лоб. — Иначе дама достанется кому-нибудь другому, а мой муж этого не переживет.
Она отпустила его и выпрямилась.
— Ваш муж? — Ги почувствовал себя растерянным. — Но при чем тут Эмерик?
— Он вызвал вас сюда для того, чтобы вы женились на Сибилле Анжуйской и стали королем Иерусалима, — просто сказала Эскива. — Вы должны слушаться его.
Ги ощутил, что у него немеют руки и несколько минут только о том и думал, что о холоде в кончиках пальцев.
— Ну же, — сказала Эскива, — расскажите мне какую-нибудь историю! Вы знаете песни? Впрочем, вижу, сегодня от вас будет мало толку, — так я сама расскажу вам одну историю. Это — о том, как вместе с вашим отцом в Святую Землю приехал один трубадур, родственник Ангулемского графа, а звали его Жоффруа Рюдель де Блая. О нем говорили, будто он еще у себя дома, в Блая, слышал о красоте и несчастьях сестры нынешнего Триполитанского графа, полюбил ее издалека…
— А это было так? — спросил Ги.
— Никто не знает, — ответила Эскива. — Но он привез на эти берега не только свою доблесть, но и несколько песен, красивых и печальных, однако таких непонятных, что истолковать их можно было совершенно по-разному. В те годы изысканное было непонятным.
— Изысканное всегда непонятно, сестра, — возразил Ги. — Если бы все на свете было понятно, люди ходили бы в звериных шкурах или обматывали бедра грубой холстиной, музыку заменяли бы крики, а место разговоров заняли бы тычки и взмахи рук. Господь сотворил человека таким образом, что излишнее оказывается для него более нужным, нежели необходимое.
Эскива неспешно воткнула иглу в рукоделье и хлопнула в ладоши.
— Стало быть, вы — приверженец «темного стиля»! А правду говорят, будто поэты и сами иной раз не понимают, что именно они написали?
— Те звуки, которые изливаются из их сердца, предназначены не для рассудка, а для такого же помраченного любовью сердца, — сказал Ги.
— И ваше сердце способно их понимать? — настаивала Эскива.
А когда Ги кивнул, потребовала:
— В таком случае, изъясните мне какое-нибудь стихотворение!
— Не значит ли это, сестра, что вы совершенно не любите своего супруга? — спросил Ги. — Неужели ваше сердце глухо?
— И я, и мой супруг — мы оба живем рассудком, — ответила Эскива. — Мне, как и ему, знакомо тепло супружеского ложа, и мы умеем дорожить своим достоянием, поверьте. Но там, где рыцарь и дама решаются на риск и подвергают себя Великой Любви, — там испепеляющее солнце и пронзительные ледяные пики, там провалы, у которых нет дна, и только синева над головой.
— И вы еще говорили, будто не понимаете поэзии «темного стиля»! — укоризненно молвил Ги.
— Я пользуюсь тем объяснением, которое дал мне сеньор Эмерик, — отозвалась дама Эскива и вздохнула. — Мне дано любоваться красотой поэзии издалека, владея ключами к разгадке тайны, но никогда не пуская их в ход. А вам предстоит войти внутрь такого стихотворения — и упаси вас Боже сделать неправильный шаг или открыть не ту дверь!
— Для того, кто оказался внутри, госпожа моя сестра, — ответил Ги, — нет опасности ошибиться, ибо там, в прохладном и сумрачном саду, такого рыцаря ожидает только одна дама, и любое слово, сказанное ею, будет услышано сердцем и, следовательно, прозвучит в своем подлинном значении.
Эскива снова взялась за работу. Некоторое время она молчала, а затем проговорила как бы в воздух:
— Не напрасно король Болдуин назначил моего супруга коннетаблем. Не было еще случая, чтобы сеньор Эмерик неправильно распределил войска!
* * *
Дама Эскива почти не ошибалась, когда говорила, что ее супруг, сеньор Эмерик де Лузиньян, живет исключительно рассудком. Почти — потому что на самом деле у Эмерика была своя, тайная дама сердца.
Этой даме было девять лет, и звали ее Изабелла.
Младшая дочка короля Амори, дитя Марии Комниной — вдовствующей королевы-матери, нынешней супруги Бальяна д'Ибелина. Эмерика, женатого на бальяновой дочери, Изабелла называет «дядя».
Наперсником и советчиком Изабелла избрала себе Эмерика. Ведь коннетабль всегда знает, как помочь даме. Он обязан разбираться в людях. Он обязан знать, для чего служит тот или иной предмет. В конце концов, коннетабль отвечает за жизнь и личную безопасность королевской семьи!
Поэтому Изабелла Анжуйская со всем женским коварством своих неполных девяти лет подступила к коннетаблю.
— Сеньор Эмерик, это верно — что говорят о моей помолвке с молодым Онфруа Торонским?
— Абсолютно верно, моя госпожа, — ответил Эмерик.
К этой королевской дочке он всегда проявляет больше почтения, нежели к другой. До глубины души Эмерика умиляет ее царственная важность. Девочка Изабелла с ранних лет знает о том, что рождена наследницей самого важного на земле, самого мистического престола. Поэтому она внимательно следит за собой, за своим телом, за своими одеждами. Ради Королевства Изабелла должна быть красивой. Ради Королевства Изабелла должна быть послушной брату-королю.
Эмерику нравится, когда она называет его «дядей». В такие минуты он и впрямь считает себя ее родственником.
— Дядя, — начинает ластиться Изабелла, — расскажите мне об Онфруа.
— Некоторые считают его трусоватым, — сказал Эмерик и сразу почувствовал, как его собеседница напряглась.
— А мой брат король? — быстро спросила она. — Он тоже так считает?
— Нет, — ответил Эмерик. — Ваш брат держится совсем другого мнения. Онфруа добр и глубоко религиозен. Хорошо бы вам встретиться с ним во время поста.
— Почему?
— Потому что постом он, должно быть, особенно хорош. Есть люди для праздников, моя госпожа, и есть люди для печали.
— Но следует ли мне отдавать свою руку человеку, пригодному для печали? — Изабелла свела на переносице тонкие брови. Темно-каштановые, светлее волос. Должно быть, выгорели на солнце, в то время как волосы, надежно упрятанные под покрывала и чепцы, уцелели и сохранили густой, почти черный цвет.
— Для Королевства наступают печальные времена, — сказал Эмерик. — В такие времена тяжело жить с человеком радости, ибо у людей, предназначенных для радости, имеется важный недостаток: они ненадежны.
— Но ведь Онфруа — не таков? — допытывается Изабелла.
— О нет, сокровище, Онфруа совсем не таков. Он серьезен и предан королю…
И сказав так, Эмерик тяжело вздохнул. У него тоже была дочка, Бургонь, настоящее франкское яблочко. Она тоже когда-нибудь подрастет, и сеньор Эмерик столкнется с необходимостью выдать ее замуж. За человека верного и доброго. За человека, способного породить с нею десяток крепких сыновей.
Но даже Бургонь не была ему так дорога и близка, как это королевское дитя, что смотрело на него исподлобья темными, испытующими глазами.
— Ваш брат хорошо позаботился о вас, — сказал Эмерик. — Он нашел вам очень хорошего мужа.
— Но ведь я должна понравиться ему! — забеспокоилась Изабелла еще пуще.
— Вы непременно ему понравитесь.
Она надула губы.
— Не потому, что я — сестра короля, дядя. Я не хочу нравиться только по этой причине.
— Вы не можете не нравиться, — сказал Эмерик. — По любой причине. Впрочем, я могу подобрать для вас несколько новых уборов.
— Да уж, — сказала Изабелла, — давно пора бы уже позаботиться о том, чтобы я выглядела прилично! Если бы вы по-прежнему были камерарием, я бы на вас, пожалуй, разгневалась!
— Боже! — воскликнул Эмерик, падая на колени. — Неужели вы не смилостивитесь?
— Пожалуй, — снизошла Изабелла. — Но это в последний раз, дядя.
Она протянула ему обе руки для поцелуя. Стоя на коленях, Эмерик де Лузиньян взял маленькие, крепкие детские ладошки и поднес их к лицу. Вдохнул их чистый запах, посмотрел на ноготочки, кругленькие, с беленькими пятнышками на мизинце.
— Ну, что вы там возитесь? — сказала Изабелла. — Целуйте, присягайте мне на верность — и ступайте в кладовые. Я хочу быть красивой.
* * *
Принцесса Сибилла занималась рукоделием в обществе дам. Все вместе они растянули на раме красивый ковер, изображающий битву рыцарей с сарацинами и чудовищами. Все рыцари мчались, склонившись к гривам коней, выставив копья и щиты с крестами, львами и орлами. Их враги надвигались беспорядочной стеной, размахивая топорами и кистенями, а с их щитов прямо на зрителя рычали пятнистые, лживые пардусы и скакали кривые полумесяцы.
Каждая дама трудилась над своим участком битвы: одна создавала прекрасные щиты, другая вострила копья, третья подковывала коней, четвертая облачала в доспехи всадников…
Сибилла трудилась над фигурами сарацинов, потому что никто не хотел вышивать отвратительную образину, оскаленную из-под шлема.
— Помилуйте, госпожа, я ведь спать не буду, если прикоснусь к нему иглой! — сказала одна из дам, а другая прибавила:
— А я — в тягости; какое дитя родится у меня, если я проведу день над эдаким чудовищем?
— Что ж, — сказала Сибилла, — выходит, все враги достанутся мне одной. Хорошо же, дамы, я покажу вам, как следует обращаться с врагами! Их надобно изучить, разглядеть, впустить в свое сердце, и тогда пропадет всякий страх. Потому что невозможно бояться урода, которого ты сам же и создал.
— Нет, госпожа моя, такое возможно, — возразила первая дама, которая отличалась большой мудростью.
Сибилла махнула рукой.
— Мне все равно, — сказала она. — Вы увидите, какой должна быть королева Иерусалимская!
И она усердно принялась работать, держа голову чуть набок, словно втайне еще и прислушивалась к чему-то. Дамы переглядывались, чего Сибилла не замечала, и у одной даже закралась странная мысль: уж не беременна ли королевская сестра? Чему такому таинственному там, внутри себя, она внимает, если не ребенку? Что зреет в ее чреве?
И тут в зале показался рыцарь. Он вбежал, словно за ним кто-то гнался, но увидел вышивающих женщин, споткнулся и попытался выйти прочь.
— Прошу извинить меня, любезные дамы!
— Нет уж! — закричали дамы, словно сговорившись. — Теперь вы наш пленник!
Они вскочили из-за рамы, на которой остались бездоспешными и плохо вооруженными вышитые рыцари, и бросились к этому сеньору. Они схватили его за руки и повлекли за собой.
— Смотрите, сеньор, какую картину мы вышиваем!
Он глянул краем глаза, а затем — внимательнее. Потому что заметил наконец ту единственную, которая не вскочила и не метнулась к нему навстречу, чтобы пленить.
— Как вы здесь оказались, сеньор де Лузиньян? — осведомилась Сибилла.
— Слава Богу, вы здесь! — сказал Ги простодушно. — Мне показывали ваши покои, но я испугался, что не застану вас… Впрочем, нет, что я такое говорю… Дело в том, что я заблудился.
— Он новичок! Он недавно в цитадели! Это брат коннетабля! — заговорили дамы.
А та дама, что была в тягости, произнесла строгим тоном:
— Я ему не верю. По-моему, он весьма коварен.
— Он коварен! — подхватили красавицы, смеясь. — Но мы будем его пытать! Мы выведаем у него все его замыслы!
— Отличная мысль, — произнесла Сибилла без улыбки. — Как вы ее находите, господин?
— Устрашающей, — сказал Ги.
— Вот и хорошо, — заявила Сибилла. — Идите ко мне. Я заставлю вас во всем сознаться. Кладите руку сюда, на раму.
Ги осторожно протянул руку, так, чтобы не коснуться лица сидящей принцессы, и положил ее прямо на вышивку, так что середина его ладони скрыла оскаленную морду чудища, оседлавшего другое чудище, а каждый палец словно бы увенчался растопыренными лезвиями огромных, причудливо изрезанных секир.
— Для начала я намерена измучить ваш большой палец, ибо он глядит в сторону с таким видом, словно в нем вы прячете самые важные секреты.
Сказав это, Сибилла быстро взмахнула иглой и, наложив два стежка, точно узы, создала первые кандалы — для большого пальца.
— Сознавайтесь!
— В чем? — спросил Ги. — Мне нечего таить!
— Это самый упрямый и самый опасный враг из всех, кого мне доводилось пытать! — промолвила Сибилла.
Дамы дружно рассмеялись и начали предлагать каждая свое:
— Измажем его липким сиропом!
— Накрошим сладких булочек ему под одежду!
— Возьмем с него клятву в том, что он отрастит бороду!
— Да, да, пусть поклянется! — сурово поддержала подруг беременная дама.
— Нет уж, — возмутилась Сибилла. — Это мой пленник, и я желаю мучить его по-своему. Если большой палец отказывается говорить, я возьмусь за следующий. Посмотрите, какое у него дерзкое выражение! Как будто он намерен указать мне на что-то, чего я не замечаю!
— Смерть указательному пальцу сеньора Ги! — закричали дамы.
Ги стоял над рамой и натянутым на ней ковром, чуть согнувшись, в неудобной позе, а Сибилла, посмеиваясь, заточала в шелковую тюрьму указательный палец. Ги посмотрел на свой палец, перетянутый нитками, и всерьез задумался над тем, готов ли расстаться с ним. Ему было жаль пальца. Сколько раз этот палец ковырял в ухе или в носу, да и на рукояти меча сжимался исправно. И шрамик на нем остался — еще с ранних детских лет, когда Ги укусила собака. С этой собакой Ги потом подружился, потому что ее хотели зарубить, а мальчик не позволил. Его удивило, что пес все понял: и свою вину, и то, что за него вступились.
Да, жаль пальца, но придется отдавать его Сибилле.
— Ах, дама, — сказал Ги, — кажется, вы готовы откусить у меня всю руку!
— Если вы будете упорствовать, откушу! — сохраняя суровый вид, ответила Сибилла. — Ну так что же? Будете вы говорить?
— Нет, госпожа, я предпочитаю терпеть неслыханные муки!
— Отлично! — воскликнула принцесса. — В таком случае я лишаю вас среднего пальца. Теперь он принадлежит мне и этому гобелену. Ну как? В достаточной ли мере вы устрашены?
— У меня трясутся колени и прогибается спина, — признал Ги, — однако я по-прежнему тверд в своем намерении не произносить ни слова.
— О, — проговорила маленькая, вертлявая дама, — мне кажется, пора переходить к более жестоким мерам.
Она украдкой показала Ги сладкую булочку и сделала непристойный жест. Ги чуть покраснел и прикусил губу, чтобы не рассмеяться.
Сибилла метнула в искусительницу клубком ниток.
— Говорят вам, он — мой! Я отобрала у него три пальца, а теперь намерена очень жестоко поступить с четвертым. Его называют безымянным. Должно быть, это главный шпион сеньора Ги. Не так ли? — Она посмотрела Ги прямо в глаза, и он увидел в них лютую злость и даже отчаяние.
— Мне казалось, это шутка, госпожа, — пробормотал он.
— Нет, — сказала Сибилла, — я не склонна шутить. — Вы ведь поняли это, не так ли?
— Да, — сказал Ги.
— Ну так что же, — продолжала Сибилла, водя острой иглой над ладонью Ги, — отдадите вы мне своего шпиона? Учтите, мы теперь знаем, как он выглядит, так что ему не удастся больше следить за нами незамеченным.
— Забирайте и его, — молвил Ги. — Сдается мне, дама, скоро вы отберете у меня всего меня, вместе с потрохами.
Он вскрикнул, потому что Сибилла больно кольнула его иглой.
— Следующий палец я прошью насквозь, — предупредила она. — Вы уже посмели испортить мою работу! Вы капнули на нее кровью! За это я велю подвесить вас вниз головой… Или нет. Я прибью вас к воротам цитадели. Или нет… Я распоряжусь, чтобы вас обмазали медом и выставили на жару…
— Боже, — сказал Ги, — помоги мне!
Сибилла закусила губу, словно усердный портняжка, работающий над сложным заказом.
— Мизинец. Сберегите хотя бы последний палец, сеньор. Говорят, вы пятый сын своего отца, так что мизинец должен быть вам особенно дорог.
— Это верно, моя госпожа, я — малый мизинец и бессилен перед вами, — сказал Ги.
— Я не шучу, — предупредила Сибилла. — Я проведу иглу сквозь вашу плоть.
— Попробуйте, — прошептал Ги.
Он закрыл глаза, потому что с детства боялся заранее обещанной боли.
И Сибилла, не дрогнув, вонзила иглу в палец и проткнула его насквозь. За иглой потянулась нитка.
— Все, — сказала она, наклоняясь и откусывая нитку. — Теперь вы — мой. Я пришила вас к своему гобелену.
— Ну уж нет, — отозвался Ги и сильно дернул палец. Кожа лопнула, высвобождаясь, хлынула кровь, марая пятнами и вышивку, и одежду Сибиллы.
Принцесса вскочила. Ее лицо пылало.
— Ах вы!.. Вы! Кто вы такой, чтобы так держаться со мной?
— Ну, — сказал Ги немного растерянно. Он зажимал палец и оглядывался на дам, словно ожидая, что одна из них даст ему платок. — Меня зовут Ги де Лузиньян. Я пятый сын сеньора де Лузиньяна и младший брат вашего коннетабля.
Сибилла задохнулась, стиснула кулаки, держа иголку между пальцами, и мелко затрясла ими, словно собираясь ударить Ги по лицу и удерживаясь от этого из последних сил.
Неожиданно вокруг них образовалась пустота. Та самая, о которой предупреждала дама Эскива: только синее небо и пропасть под ногами. Ги посмотрел на иголку в руке Сибиллы, и эта малая острая вещица показалась ему подобной жалящим пикам, что распарывают небеса.
— Я люблю вас, — сказал Ги. — Вот моя тайна. Я прошу вашей руки, моя госпожа. Я не желаю вашего Королевства или вашей короны. Я буду служить — Святому Гробу, вашему брату, покуда он жив, и вам — покуда живы мы оба.
Сразу разжались кулаки, иголка выпала и невидимо пропала на полу, а Сибилла, покачнувшись, прильнула щекой к груди Лузиньяна.
Беременную даму, которая видела в тот миг лицо принцессы, поразило его выражение: Сибилла словно бы завершила тяжкий труд и теперь готовилась принять — как следствие этого труда — великие скорби.
* * *
Прежде чем отправляться в Иерусалим и сводить там знакомство с Ги де Лузиньяном, коего надлежало убить, Гвибер позволил себе заехать в Триполи, где оставалось у него одно неотложное дело — проститься со святой Мариной. По счастью, ему не нужно было для этого заезжать в сам город, где его могли увидеть и узнать, а после донести графу; он свернул в Бельмонте, где находилось большое цистерцианское аббатство.
Издалека оно напоминало город, со стенами и башнями, одного цвета с камнями, песком и высохшей травой; но вблизи видны были многочисленные кресты и узоры, выложенные цветным кирпичом, блеклые и оттого еще более изящные, как бы не для всякого глаза предназначенные: кресты и цветки.
Церковь находилась сразу за привратницкой. Требовалось только войти в аббатство и пробежать, спрыгнув с коня, десятка три торопливых шагов — и вот уже прохлада, источаемая каменными стенами, обнимает тебя, и можно опуститься на пол, прижаться щекой к его теплой шероховатой поверхности и ждать, пока покой здешних мест утишит взбудораженный, усталый дух какого-нибудь бедного Гвибера.
Гвибер назвал свое имя и показал оттиск графского кольца у себя на губе — точно в воск вошла в его плоть печатка да так и осталась, как будто предназначенная для предъявления у входа в обитель. А затем, бросив коня удивленно стоять возле ворот, Гвибер что есть сил побежал к церкви и влетел в нее, как будто за ним гнались.
И там, под чередой тонких изогнутых арок, где лучшим украшением стен был свет, падавший сквозь небольшие окна, он увидел свою Марину.
Образ в достойной раме был помещен между двумя последними окнами, ближе к алтарю. Пальмовые ветки, лежавшие на полу под иконой, слегка подвяли, но Гвибер не решился ступить на них и замер в некотором отдалении.
— Марина, — тихо сказал он, — я должен убить одного человека. Тот, кто спас мою земную жизнь, теперь желает, чтобы я пожертвовал спасением души моей в обмен на его благодеяние. Как мне быть? Я так хочу спасти мою душу!
Говоря это, он не решался поднять голову и посмотреть прямо в лицо святой Марине, поскольку догадывался, что она задуманного Раймоном не одобрит.
— О Марина! Я бы хотел умереть так, чтобы когда-нибудь встретиться с тобой. Я говорил со знающими людьми. Как чудно они рассказывали о райских обителях!
И тут неожиданно в голову Гвиберу полезли совершенно посторонние вещи. Он начал думать о рулетиках из баранины, рулетиках, фаршированных кашей, фисташками, изюмом и рубленым розмарином. И еще об огромных пирогах с жареным мясом и пряными травами. И о баклажанах с лоснящейся фиолетовой шкурой, обжаренных в масле и обсыпанных чесноком. И о райском плоде — банане, который, по слухам, приплыл в эту землю по реке, вытекающей прямо из рая.
Эта райская река то выходит на поверхность и выносит семена дивных деревьев, дающих чудесные плоды, то опять исчезает в земных расселинах. Гвибер твердо верил в ее существование, ибо не раз вкушал бананы и всегда находил их достойными умерших праведников.
— Марина, как замечательно мы проводили бы время! Ты научила бы меня всему, что я должен знать, чтобы угождать тебе, — захлебываясь, шептал Гвибер. Он знал, что Марина где-то рядом и внимательно слушает его. — Моя земная жизнь была оценена в один грош старой чеканки, а душа, должно быть, стоит и того дешевле, но ведь я люблю тебя! Вступись за меня, моя госпожа!
Он наконец робко поднял голову и взглянул на стену, где находился образ. Он увидел чудесные рисунки на широкой раме и искусно сделанные украшения из гипса, которые имитировали более дорогое металлическое покрытие. По золотому полукружью, изображенному вокруг головы девы Марины, были рассыпаны крохотные жемчужинки неправильной формы, такие милые и гладенькие. Они выглядели влажными, как слезинки.
Но вместо лица и рук на иконе были теперь белые пятна. Марина исчезла.
— Святотатство! — прошептал Гвибер еле слышно, а потом завопил пронзительно, как будто его ткнули ножом: — Кощунство! Кто посмел? Кто решился? Спасите ее! Держите убийц!
На крики паломника прибежали двое — привратник и монах, работавший в кладовой, расположенной неподалеку.
— Что случилось? — спросил кладовщик, сердито глядя на Гвибера.
Но вид перепуганного паломника заставил его смягчиться. Гвибер был ужасен: с прыгающими губами и выпученными глазами, обливаясь потом, он трясся и глядел то в потолок, то на свои руки.
— Марина! — вымолвил Гвибер. — Она исчезла!
— Как это может быть? — тихо спросил кладовщик, делая знак привратнику, чтобы тот возвращался к воротам. — Расскажи мне, что здесь случилось.
— Она исчезла! — повторил Гвибер, рыдая.
— Святая Марина? Ты говоришь об образе святой Марины, чудесно обретенном в пустыне?
— Об образе… о Марине! — Гвибер оглянулся и вздрогнул. — Ее нет.
— Украли образ?
— Стерто… лицо, руки… Только одежда и сияние.
— А украшения? — спросил кладовщик. — Их тоже сняли?
Гвибер помотал головой.
— Такого не может быть! — решительно заявил кладовщик. — Если здесь побывал вор, он забрал бы украшения. Если сюда проник кощунник, то…
Он прикусил губу. Ему доводилось видеть лики святых, уничтоженные сарацинами. Но он готов был поклясться, что в аббатстве Бельмонта никаких сарацин не появлялось. Может быть, злой поступок совершил сам этот странный паломник в припадке безумия или одержимости, а теперь, очнувшись, он ужасается содеянному?
— Что ты помнишь? — спросил монах.
— Я пришел поговорить с Мариной, — сказал Гвибер. — Сказать ей, как я люблю ее. У меня так тяжело на сердце, так тяжело!.. А она скрылась.
— Идем.
Монах крепко взял Гвибера за руку и подвел обратно к иконе. Гвибер ковылял за ним послушно, как ребенок, и тихо всхлипывал, глядя себе под ноги.
Икона оказалась на месте. Нетронутая, украшенная, благоговейно почитаемая. Ничья рука не прикасалась ни к лику девы, ни к украшениям, обрамляющим его.
— Посмотри же, — обратился к Гвиберу монах, успокаиваясь. — Вот же она!
Гвибер поднял голову, слепо пошарил вокруг взглядом.
— Нет, — ответил он, — разве ты не видишь? Ее здесь нет!
— Ты болен, брат, — сказал кладовщик. — Позволь, я отведу тебя к другим братьям, чтобы они позаботились об тебе.
— Нет! — крикнул Гвибер, выдергивая руку и отшатываясь. — Нет! Не трогай меня! Не прикасайся!
Он схватился за голову и бросился бежать так быстро и с такой нечеловеческой решимостью, как будто не сам он спешил, но живущий в нем дьявол мчал его прочь.
Весь обратный путь, на юг, к Иерусалиму, он проделал, не останавливаясь для отдыха. Когда впереди показалась последняя полоска песка, Гвибер наконец остановил коня. Он захотел остаться наедине с пустыней.
Здесь воистину никого не было, кроме одинокой гвиберовой души и Бога. Разве что очень далеко по пескам скакали бедуины, двое или трое. Они носились беспорядочно и лихо, поспешая по каким-то своим бесполезным делам.
— Господи, помоги мне! — закричал Гвибер что есть мочи и, задрав голову, уставился на небо.
Места здесь были таинственные, обладающие способностью расширяться и сужаться в зависимости от того, какие нравственные уроки надлежало извлечь человеку из своего пребывания на земле.
Гвибер сник, сдался. Тронул коня и направился к Иерусалиму. Краем сознания он понимал, что тот монах был, конечно, прав, и чистый образ святой девы никуда не исчезал из красивой рамы на стене Бельмонтского аббатства, но от этого делалось только горше: Марина отвернулась от него, оставила Гвибера, по его собственному выбору, наедине с грехом.
«Боже мой, — подумал Гвибер с отчаянием, — теперь, когда рай для меня навсегда заказан, никогда в жизни я не смогу с чистой совестью есть бананы!»
* * *
— Как я вижу, брат, — сказал коннетабль, — вы полюбили гулять по Иерусалиму и вполне освоили наше обыкновение есть на улицах то, что готовят для пилигримов.
— Это верно, — согласился Ги.
— В городе много забавных людей, — продолжал Эмерик. — И благочестивых, и прожорливых, и красивых, и лукавых, и преданных королю, и таких, с которыми бывает поучительно разговаривать.
— Вы правы, — опять согласился Ги.
— Должно быть, вы часто сводите знакомство с такими людьми, — сказал Эмерик.
— С какими?
Эмерик пожал плечами.
— С такими, что ведут поучительные беседы.
— Случается, — признал Ги и улыбнулся, вспомнив Гвибера. — Не далее как сегодня я встретил забавного незнакомца. Жаль, что вы не видели его, брат. По словам вашей супруги, вы любите смешные представления и не пропускаете ни одного выступления уличных фигляров.
— Это клевета! — объявил Эмерик, поглядывая на даму Эскиву.
Та покачала головой, улыбаясь.
— Вовсе нет, муж, и вы это знаете. Я не стала бы клеветать на вас перед человеком, который знает ваш нрав куда лучше, чем я.
— Ошибаетесь! — хором возразили оба брата и засмеялись.
Ги сказал:
— Старший брат не раскрывает перед младшим всех особенностей своего характера. Особенно когда старшему уже шестнадцать лет, а младшему — еще десять.
Эскива махнула рукой, показывая, что не желает продолжать спор.
Эмерик спросил у брата:
— И каков же был тот странный человек, который напоминал фигляра?
Ги задумчиво потянул себя за мочку уха.
— Его звали Гвибер… Порой мне казалось, что кто-то дергает его за веревочки, точно куклу, которая должна пронзить картонным копьем тряпичного дракона… Он подарил мне удивительную вещицу.
С этими словами он положил на стол маленького идола. Эскива отшатнулась, точно ей показали мерзкое, полураздавленное насекомое, которое еще может ужалить, а Эмерик взял фигурку в руки и задумался.
— Что он сказал, когда дарил вам это?
— Сказал, что отыскал это в песках. Что это — старый языческий идол, но само древнее божество, обитавшее в нем, давным-давно умерло, так что теперь это просто изящная статуэтка, — ответил Ги. — По крайней мере, так я понял.
Эмерик поднес статуэтку к глазам, приложил к уху, даже лизнул. Божок никак не отзывался. Должно быть, и вправду умер.
— А вы как полагаете — дружеский это дар или коварный? — спросил Ги.
Эмерик сразу насторожился.
— У вас есть основания подозревать, что это — коварный дар?
— Нет, — ответил Ги. — Тот человек понравился мне. Он был в смятении, но старался держать себя в руках… Мне даже подумалось, что мы могли стать друзьями, однако он убежал.
— А, — сказал Эмерик и перевел разговор на другую тему: — Мне не слишком по душе, брат, то, как вы одеваетесь.
Ги осмотрел себя, выискивая изъяны в своем простом платье, но таковых не обнаружил и удивленно уставился на коннетабля.
— Поверьте мне, — продолжал тот, — ведь я много лет провел в должности камерария и хорошо знаю толк в вещах. Вы должны одеваться иначе. Теперь, когда дама Сибилла позволила вам ухаживать за ней открыто… Думаю, это платье вам больше не подходит. Позвольте мне позаботиться о вас!
— Лучше не спорьте, брат, — громко прошептала Эскива. — Иначе он перережет вам горло. Во всем, что касается одежды, мой муж подобен царю Соломону во дни его славы.
— В таком случае, — возразил Ги, — возлюбленному Сибиллы надлежит уподобиться полевой лилии, не так ли?
— Впервые в жизни вижу мужчину, который намерен обрести сходство с луговым цветочком, — фыркнул Эмерик. — Впрочем, после того, что вы устроили в покоях принцессы Сибиллы, от вас можно ожидать чего угодно.
Ги склонил голову набок.
— А какую одежду вы посоветовали бы мне носить, брат?
* * *
Эмерик не мог бы определенно сказать, что именно заставило его насторожиться. Простой расчет, давний опыт царедворца подсказывал: брак выскочки, маленького приезжего дворянчика Ги де Лузиньяна с наследницей Иерусалимского трона мало кому придется по душе. Коннетабль не ломал себе голову над тем, кто из баронов Королевства будет стоять за попыткой устранить его брата. Для него куда важнее было простое осознание того, что такие попытки непременно будут предприняты.
Помимо обычных рассуждений, Эмерик полагался на предчувствия. Вчерашний разговор с братом — и особенно почему-то медный идол, извлеченный из песков каким-то Гвибером, — насторожил его. В фигурке древнего божка таилось предупреждение. Намек. Как будто тот человек пытался своим подарком сказать то, о чем не осмеливался заговорить иначе.
Во всяком случае, Эмерик заставил брата разодеться в свою приметную гербовую котту и яркий плащ с дорогой меховой оторочкой, а сам облачился в одежду Ги и в таком виде отправился бродить по городу.
Он обходил паломнические церкви и подолгу гостил в лавках, где выбирал реликварий, ибо, по его словам, купил у монахов нитку из плаща святого Абакука; нигде его не называли «сеньором Ги», и Эмерик понял, что его брат проводил время вовсе не здесь.
Тогда он начал кружить по тавернам и уличным кофейням. Здесь ему повезло больше: несколько раз ему подавали, не спрашивая, разные лакомства. Это не слишком удивило Эмерика: Ги с самого детства был сладкоежкой, за что ему частенько попадало и от родителей, и от старших братьев, а больше всего — от стряпухи.
«Странно, — подумал Эмерик, — человек любит сладкое, а его хотят убить… Несовместимо».
И сам удивился тому, что такая мысль пришла ему в голову.
Когда Эмерик говорил Эскиве, что братья не могут быть близки, когда одному — шестнадцать, а другому — десять, он не лгал. Во всяком случае, не лгал касательно себя и Ги. В прошлом между ними было мало общего. Эмерик выбрал этого брата из всей отцовской своры ради красоты; прочие свойства Ги оставались коннетаблю до сих пор неизвестны.
Одевшись в его платье, он как бы сам теперь превратился в сеньора Ги, чтобы увидеть город и мир такими, какими представали они возлюбленному Сибиллы. Ги искал своего Бога в маленьких лавочках и в расплавленных от жары закусочных, он встречал Его среди лиц толпы и угадывал размах архангельских крыльев в разбегающейся вдаль широкой долине за городской стеной; благодать истекала из старых стволов и сияла в прорези листьев, она была в каждой фиге, купленной у торговца мимоходом, в каждой бутыли свежей воды, в каждом приветливом взгляде.
«Все равно, — сказал Эмерик, ибо не мог позволить себе размякнуть от всех этих благостных мыслей, — никогда не слыхал, чтобы мужчина, рыцарь, пусть даже захудалый, желал сделаться полевой лилией!»
Шаг за шагом проходя путями своего брата, Эмерик высматривал — где, будь он сам наемным убийцей — удобнее всего было бы устроить нападение. Таких мест оказалось несколько, и Эмерик обошел их все не по одному разу.
Но за ним даже не следили. Кольчужная рубашка под коттой начала тяготить Эмерика, и два кинжала за поясом стали уже казаться ему излишеством, когда в одной из крытых улиц к нему подошел нищий и молча протянул плошку для сбора подаяния.
Эмерик остановился, ласково заговорив с несчастным. Он по-прежнему ничего не слышал и мысленно похвалил тех, кто подкрался к нему сзади так бесшумно.
Затем молниеносным движением Эмерик развернулся, взмахнув при этом плащом и сбив нищего с ног. Он оказался лицом к лицу с двумя мужчинами. Они набросились на него, не раздумывая, и Эмерик, выдернув оба кинжала, метнулся к стене.
В тесной улочке никого не было. Только птица свистела в клетке, что висела напротив маленькой лавочки, утопленной в стене. Крытый свод подхватывал звуки, делал их резкими и присваивал…
Один из нападавших оказался к Эмерику спиной, и этого мгновения было довольно, чтобы коннетабль ударил его кинжалом. Нож вонзился между лопаток, чуть левее хребта. Нищий тем временем пришел в себя, распрямился и ворвался в схватку. Ему потребовалось время, чтобы подняться на ноги после падения, избавиться от рваного плаща и вытащить нож.
Эмерик кружил по крохотному пятачку, стиснутому золотисто-серыми стенами. Два тонких солнечных луча проникали из окошек под самой кровлей, один спереди, другой сзади. Эти две светлые полоски как будто нарочно ограничили для Эмерика пространство, на котором ему предстояло действовать.
Здесь, в полутемном мирке, он знал теперь каждую пядь. Люди, явившиеся сюда, чтобы убить сеньора Ги, были гостями коннетабля. Он знал, в каком ритме звучат здесь все шаги, и насколько густ здешний воздух, пропарываемый лезвием. А эти двое двигались вслепую.
Заранее зная, что пропустит удар или два, коннетабль был готов к сильному, болезненному толчку в бок. Кольчуга выдержала удар, и Эмерик получил желанные несколько мгновений, чтобы полоснуть по горлу нападавшего.
Затем он развернулся к третьему, но тот бежал. Звук его шагов гнался за ним по пятам. Эмерик остался стоять, словно не желая пересекать границу, обозначенную лучом.
Птица умолкла, видимо, раздосадованная тем, что ее песенке помешали. Хозяин лавочки не то затаился, покуда длилась схватка, не то вовсе ушел куда-то.
Эмерик подошел к первому из убитых, вытащил свой нож из его спины и перевернул. Обыкновенное, ничего не говорящее коннетаблю лицо — какой-то простолюдин, которому заплатили за то, чтобы он убил некоего сеньора. У него не имелось при себе ничего, что указывало бы на его имя или хотя бы на того, кто ему заплатил. Он был еще жив, на его губах пузырями вздувалась кровь, а в груди звучно хрипело и булькало.
Эмерик спросил его:
— Кто ты?
— Жан, — сказал человек и умер.
Второй, облитый кровью, валялся в неловкой позе, как будто пытался плыть, лежа на боку.
Эмерик забрал оружие, свое и чужое, завернул его в лоскут, отрезанный от плаща одного из убийц, и зашел в лавочку.
Хозяин оказался на месте — хмурый франк, родившийся на Святой Земле. Возможно, кто-нибудь из его родни здесь и воевал, но сам он выглядел обычным торговцем.
— Что ты продаешь? — спросил Эмерик, смахивая с широкой скамьи товар, преимущественно пряности в мешочках и сушеные фиги в глиняных плошках, и усаживаясь. Скамья была довольно высокой, и Эмерик принялся болтать ногами.
Франк смотрел на него ничего не выражающим взором.
Эмерик положил рядом с собой четыре ножа. Взяв один, метнул в своего молчаливого собеседника. Нож с пчелиным звоном вонзился в стену рядом с ухом лавочника.
— Так какой у тебя товар?
— Пряности, господин.
— Сюда входил человек, одетый так, как я?
— Какой человек, господин?
Второй нож полетел вслед за первым и пришил к стене рукав торговца.
— Молодой сеньор в этой одежде. Он входил в твою лавку?
— Да, господин. Его называли «сеньором Ги».
— Это был хороший сеньор?
Торговец сказал:
— У него было мало денег, но сам он всегда разговаривал любезно. Впрочем, мы не всегда понимали его. Порой он выражался странно.
— Тебе нравился этот сеньор?
— Мой господин, — взмолился лавочник, — кто я такой, чтобы судить о сеньоре — нравится он мне или нет? Это был любезный, добрый сеньор, хотя он мало покупал.
— О нем спрашивали те люди, которые сейчас лежат убитые возле твоей лавки?
Торговец пряностями дернул углом рта.
— Как вы сами думаете, господин, спрашивали они меня о том сеньоре или нет?
— Что же ты им сказал?
— То же, что и вам, мой господин. Что он входил ко мне, покупал фиги и всегда был добр и приветлив.
— Там был нищий с плошкой… Это ведь плошка из твоей лавки, не так ли?
— Наверное, господин. Они купили у меня фиги вместе с плошкой.
— Ты помнишь их имена?
Лавочник медленно покачал головой.
Третий нож свистнул в воздухе, но неудачно — угодил в полку, на которой стояли фаянсовые бутыли, и разбил одну из них.
Лавочник прикусил губу, чтобы не вскрикнуть.
— Я — коннетабль Королевства, — сказал Эмерик. — Если понадобится, я прикажу пытать тебя. Лучше поговорим как два старых приятеля, у которых нет тайн друг от друга. Почему ты не хочешь назвать мне их имена?
— Они заплатили мне, господин.
— Они мертвы, — заметил Эмерик.
— Только двое, — прошептал лавочник. — Третий непременно вернется.
— Боже правый, что мне делать! — Эмерик спрыгнул со скамьи и приблизился к хозяину, наступив по пути на несколько рассыпанных мешочков. В одном из них хрустнуло. Резко запахло корицей.
Коннетабль выдернул из стены два ножа и освободил лавочника.
— Они не упоминали при тебе имен знатных сеньоров? — спросил Эмерик, глядя лавочнику прямо в глаза.
Тот моргал, ежился, но молчал. Потом прошептал:
— Клянусь вам спасением моей души, господин, никаких имен они не называли. Только раз один другого назвал «Жан».
— Жан, — повторил Эмерик. — Да, его так звали. Будь здоров. Хоронить их будешь ты. За свой счет, понял?
Лавочник втянул голову в плечи.
Эмерик заглянул на полку, пошарил среди фаянсовых обломков, забрал третий нож. Затем глянул на торговца пряностями — почти весело:
— Если сюда заглянет сеньор Ги, не рассказывай ему ни о чем, ладно? И не вздумай просить у него денег!
* * *
Изабелла объявила старшей сестре:
— Мой жених знатнее вашего, сестрица!
Сибилла взяла девочку за обе руки, притянула к себе.
— Вы счастливы? — допытывалась Изабелла, отбиваясь от ласки. — Расскажите! Каково это — любить мужчину? Что делал с вами ваш первый муж?
Сибилла положила палец на губы сестры.
— Молчите… Как вы можете спрашивать о таком, Изабелла?
— А кого мне спросить? Матушку? Она далеко, у нее теперь собственный муж.
Сибилла отвела глаза. Она не любила свою мачеху, Марию Комнину. К счастью, та редко бывала в цитадели и жила со своим теперешним мужем, Бальяном, в Ибелине.
Изабелла надула губы и посмотрела на сестру с победоносным видом.
— Давайте, выкладывайте. Как это бывает? — настойчиво повторила она.
— Скоро сюда прибудет господин Онфруа, — мягко произнесла Сибилла, — почему бы вам не спросить у него?
— Что я спрошу? — удивилась Изабелла. — Прямо вот так подойду и спрошу: «Что вы намерены делать со мной, господин Онфруа?»
— Интересно, что он ответит, — пробормотала Сибилла. Она представила себе этого юношу, молитвенника и постника, тихого, послушного, скромного. Рыцарь и святой плохо соединяются в единой личности, подумала Сибилла.
— Хорошо, — с угрозой вымолвила Изабелла. — Я спрошу у моего будущего мужа.
Сибилла попробовала поднять ее, как делала совсем недавно, когда Изабелле было шесть лет. Сейчас сестра ощутимо выросла, Сибилле не удалось оторвать ее от земли.
— Пустите! — фыркнула Изабелла. — Я теперь такая же замужняя дама, как и вы!
— Помолвленная, — поправила Сибилла, чуть краснея.
— Вы влюблены, — сказала Изабелла с удивлением и легкой завистью. Она вздохнула. — Об этом все говорят. Влюблены. Принцесса, наследница Иерусалима, влюблена в какого-то Лузиньяна… В пятого сына… В дурачка, который только и умеет, что хлопать ресницами и глупо улыбаться… Что в нем такого?
— Он — мой, — сказала Сибилла и сжала губы. — Ясно вам?
— Не совсем… Не сердитесь, сестра, я не со зла… Я от зависти, — призналась она. Малиновый румянец вспыхнул на ее крепких щеках, и одновременно с тем загорелись зеленью глаза.
Изабелла вырастет красавицей, подумала Сибилла. Насколько нехороша ее мать, Мария, с ее резкими, слишком греческими чертами лица, настолько прелестна Изабелла. Хорошо бы от нее рождались только дочери. Мальчики, мужчины не должны быть такими красавчиками.
— Вы напрасно не верите, что вас полюбят так же крепко и нежно, как меня, — сказала Сибилла.
— Вы заносчивая и злая женщина, — отрезала Изабелла. — Вот что я думаю о вас!
Она вырвалась из объятий сестры и убежала.
Сибилла посмотрела ей вслед. Изабелла завидовала. Изабелла хотела бы влюбиться. Иногда младшей сестре нравилось, что за нею шутливо ухаживает коннетабль Эмерик, объявивший ее своей Дамой. Разумеется, Эмерик не сочиняет стихов, но знает на память с десяток чужих и умеет вовремя прочитать несколько строчек. Эмерик женат, Эмерик намного старше Изабеллы, Эмерик не слишком красив, рыжеволосый и грубоватый.
Случалось, Изабеллу страшно сердила эта игра. Сибилле тоже порой казалось, что коннетабль перегибает палку в любезничании с девочкой. А порой старшая принцесса задумывалась над тем, что заставляет Эмерика так поступать. И пару раз ей приходило на ум, что, рассуждая о своей возвышенной любви к прекрасной Изабелле, коннетабль вовсе не шутит.
А вот и Эмерик — легок на помине. Коннетабль был в обычном платье своего брата, но Сибилла этого поначалу не заметила. Она никогда не перепутала бы своего сеньора Ги с его старшим братом, потому что видела Ги не глазами, а любящим сердцем.
— Превосходно, дама, — сказал ей Эмерик, не утруждая себя приветствием, — сперва ваша сестра шарахается от меня и обзывает разными нелестными именами, а теперь вы смотрите на меня, словно я обокрал собственного родича и, забравшись в его шкуру, вознамерился утащить и его невесту!
— Это была шутка? — холодно осведомилась Сибилла.
— Я понимаю, что вы не рады видеть меня, — продолжал Эмерик уже серьезнее, — но мне нужна помощь. Я не хочу, чтобы моя супруга или брат видели это.
— Что?
— Одежда порвана, на теле, должно быть, здоровенный синяк… — начал перечислять Эмерик.
— Кстати, почему на вас это платье? — спохватилась Сибилла.
— Потому что… — Эмерик посмотрел ей в глаза без улыбки и тихо вздохнул. — Вашего жениха хотят убить, госпожа.
— Вы заняли его место? — спросила она, хватая коннетабля за руку. — Но ведь и вас могли убить!
— Меня убить, положим, не могли, потому что я знал об их намерениях…
— Откуда?
— Да ниоткуда… Когда король объявил о своем согласии на этот брак, у моего бедного брата сразу появилось целое море врагов. Причем среди людей, которые еще несколько месяцев назад даже не подозревали о его существовании. Предупреждать Ги — пустая трата времени, поскольку он все равно бы мне не поверил. Точнее, поверил бы, конечно, он очень послушный и внимательный младший брат, но принимать надлежащие меры все равно бы не стал. Вы меня слушаете, моя госпожа?
— Что я должна сделать? — быстро спросила Сибилла.
— Никому не говорить о случившемся — это во-первых. Во-вторых, зашейте прорехи на одежде. В-третьих, дайте какую-нибудь мазь. Меня ткнули ножом в бок. Кольчуга отличная, так что я намерен отправить хороший подарок моему оружейнику… То есть я хотел сказать — королевскому.
Сибилла погрозила ему пальцем.
— Прекратите это. И, кстати, хватит морочить голову Изабелле. Ей следует думать совсем о другом мужчине.
— С господином Онфруа я соперничать никак не могу, — согласился Эмерик. — Ну так идемте же скорее в ваши покои! Надеюсь, о нас не станут распускать слухи… Впрочем, я могу переодеться в женское платье. Будем обсуждать ваш будущий свадебный наряд. Согласны?
— Боже, Боже, помоги мне! — улыбнулась Сибилла бледной, невеселой улыбкой. — Вы страшный человек.
— Вещи любят меня. Если я попрошу какую-нибудь юбку вертеться вокруг моих колен надлежащим образом, то, будьте уверены, моя госпожа, глядя на мою походку, никто даже не заподозрит во мне мужчину.
— Вы просто змий, — сказала Сибилла, хватая его за руку и утаскивая за собой.
Эмерик, вздыхая и корча страдальческие гримасы, следовал за ней. Наконец она отбросила его руку и остановилась.
— Вам действительно так больно? — спросила она.
— Почти. Впрочем, я пытаюсь вас развеселить.
— Вам это удается, — фыркнула Сибилла.
Однако она действительно приободрилась.
Несколько звеньев кольчуги погнулись, кровоподтек на боку оказался устрашающим. Сибилла вынула из красивой коробки мазь. Лекарству этому научил ее Абу Сулейман Давуд, которого отец, король Амори, привез из одного из своих египетских походов. Тогда еще оставалась слабая надежда вылечить Болдуина.
Если врачи-франки превосходно умели справляться с колотыми и резаными ранами, могли отнять загноившуюся руку или ногу и даже наложить металлическую заплату на пробитую голову, то сарацинские лекари, напротив, пользовались различными травами, припарками, мазями и прочими средствами, не прибегая к рассечению плоти.
Взятый в Египте врач честно прикладывал свои умения к королевскому сыну. Мальчик послушно выполнял все предписания, не сердился, если повязки дурно пахли, а мази пощипывали и без того раздраженную кожу; но толку от этого лечения не было.
Старшая сестра любила смотреть, как работает Давуд. Бормоча себе под нос, он любовно брал то одну, то другую банку, подносил к носу и втягивал запах большими, сильно вырезанными ноздрями, так что торчащие оттуда густые волоски начинали шевелиться. Руки у Давуда были крупные, смуглые, с морщинами и вздутыми жилами, как будто большую часть жизни он работал каменотесом или землекопом, кончики пальцев — желтоватые, съеденные различными эликсирами и растворами.
Он почти не говорил на языке франков, но Сибилла научилась понимать его. Они с братом знали сколько-то сарацинских слов, а позднее оба общались с сарацинами довольно бойко. Их отец, король Амори, поощрял эти занятия старших детей. Тогда Амори еще не был королем и жил с их матерью.
— Давуд говорил, что это средство быстро снимает отек, — сказала Сибилла, показывая Эмерику зеленоватую массу в коробочке.
— Вот и проверим, — отозвался он и сморщился.
— Боитесь боли? Очень хорошо! Я обожаю мучить мужчин. Смотреть, как они плачут, корчатся и молят о пощаде, — сказала Сибилла. — И чем храбрее мужчина, тем приятнее его мучить. Так что готовьтесь, отважный коннетабль! Готовьтесь!
Со странным чувством она прикоснулась к обнаженному боку будущего родственника. Как будто тронула своего Ги — и в то же время Сибилла все время помнила, что это не сам Ги, а его брат, даже внешне на него не слишком похожий. Но все же частица той великой любви, которую Сибилла испытывала к своему нареченному, перешла и на его брата, и он, странно, тайно, безнадежно влюбленный в младшую сестру, вздрогнул от счастья, едва ощутил пальцы старшей на своей коже.
— Благодарю вас, моя госпожа, — сказал Эмерик, когда она затянула повязку. — Могу я, уже уходя отсюда в зашитой вами одежде, попросить еще об одной милости?
Сибилла изогнула брови, как бы сомневаясь в том, что снизойдет до благодеяния.
— Говорите, — позволила она наконец.
— Попросите Изабеллу… только не говорите, что это моя просьба, не то она прогневается… Попросите это невинное дитя подать милостыню в Сен-Абакук и… еще куда-нибудь, по ее выбору… и попросить молиться за упокой души Жана.
— Жана? — Сибилла выглядела озадаченно. — Какого Жана?
— Просто Жана. Поверьте, я знаю о нем не больше вашего.
— Я ничего не стану передавать сестре, пока вы не расскажете мне подробнее. Кто такой Жан?
— Человек, которого я убил.
— За что вы его убили?
— За то, что он пытался убить моего брата.
— Ну вот еще! — рассердилась Сибилла. — Пусть горит в аду за свое преступление!
— Мне нужно, чтобы мой брат дожил до свадьбы с вами, госпожа моя, — сказал Эмерик, натягивая котту и машинально проводя пальцами по свежему шву, как делал всегда, когда проверял работу служанок. — Я хочу, чтобы его любили не только вы или я, но и ангелы на небесах. Без этого он не доживет до нынешней Пасхи.
Глава шестая СВЕТ И ТЕНИ
Бальян д'Ибелин, отец дамы Эскивы, считал своего зятя наглецом и выскочкой. Святая Земля изменила даже самое представление о знатности: сеньор, у которого найдется влиятельная родня в Аквитании или Нормандии, здесь, в Заморских краях, будет считаться никем, коль скоро прибыл недавно. «Новый человек» — будут неизменно добавлять к его имени.
Сыновья отцов безвестных и бедных, расставшихся в прежнем отечестве с единственной лошадью и половиной дурного жилья ради покупки места на корабле, рождались за морем — и тотчас уверялись в собственной родовитости, как будто здешняя пыль, подмешанная в их кровь, прибавляла им знатности.
Самый первый Бальян не оставил дома ничего, кроме бескрайних, поросших вереском болот; даже имя свое он забрал с собой, и здесь, в Святой Земле, получил второе — Ибелин, по названию замка, который был подарен ему королем.
Когда второй Бальян впервые открыл глаза для внешнего мира — лежа на руке повитухи, черной, как сапог, беззубой и развеселой, — он увидел солнце Святой Земли, разительно не похожее на то, что бродило над прародительскими пустошами, отражаясь в темных водах, проступивших на поверхность, или багрово вспыхивая на мелких, густых цветках и золотя жесткие листья крохотных кустов. То солнце царапало брюхом о землю, а нынешнее — властно стучало жарким лучом прямо в темечко, застыв на недосягаемой высоте.
Сватая у Бальяна Эскиву, за Эмерика просил сам король, который считал нужным привязать своего камерария к Королевству достойным браком. И Бальян отдал дочь Эмерику де Лузиньяну.
Увидеть тестя у себя в доме было для Эмерика полной неожиданностью. Иногда Бальян представлялся Эмерику совершенно обычным бароном: рослый, тяжелый, скуластый, с седыми волосами, выгоревшими и пыльными. Но сквозь этот облик временами проступал другой: дикарь с плоских болот, которых нынешний Бальян никогда в жизни даже не видел. И тогда глаза Ибелина сужались и делались чуть раскосыми, скулы твердели, превращаясь в два маленьких жестких яблока, рот растягивался в щель. И впечатлительный Эмерик вспоминал, что предки его тестя сражались не мечом, а маленьким топором с лезвием из остро отточенного камня.
Дикость дремала и в Эскиве — но Эмерик видел ее лишь раз, когда жена рожала Бургонь. Что до детей, то если они и являли себя дикарями, их отца это не пугало, поскольку дети и должны быть маленькими зверенышами.
Бальян ворвался к Эмерику через несколько дней после того, как было объявлено о предстоящем браке Сибиллы.
— Где одна змея, там и другая! — громыхнул он.
Эмерик уселся в кресло перед тестем. Бальян сесть отказался — метался по комнате, задевая предметы: хоть помещение и было достаточно просторным, Бальяну было здесь тесно.
— Я всегда знал, что из лузиньяновского клубка выползет не одна, а несколько гадюк! — выкрикивал он.
— Прошу вас, отец, — проговорил Эмерик — будто бы умоляюще и вместе с тем небрежно.
Бальян остановился и впился в него взором.
— Не называй меня отцом! — рявкнул он.
Эмерик пожал плечами.
— Как вам угодно. Что вас так прогневало?
— Ты нарочно подсунул Сибилле своего брата! Ты знал, что она раскиснет и влюбится!
— Что значит — «раскиснет»? — осведомился Эмерик, подбираясь. Он уже понял, что тестя вежливыми речами и мнимой покорностью не угомонить.
— То и значит, что она женщина, и рассудок у нее слабее, чем у животного! То и значит, что она послушалась своей глупой плоти, как течная самка слушается воплей похотливого самца.
— Вы говорите об особе королевской крови, — напомнил Эмерик.
Бальян махнул рукой.
— Я говорю это тебе, несчастный дурак, а не знатным баронам Королевства!
Эмерик тихо напомнил:
— Король сделал меня коннетаблем, мой господин, стало быть, счел достаточно знатным.
— Ты воспользовался тем, что мой брат сейчас в отлучке. Это он должен был жениться на Сибилле…
— Мой господин, принцесса Сибилла избрала себе мужа по собственному усмотрению. Она и без того вынесла немало оскорблений от знатных баронов, которые один за другим отказывались от ее руки, не так ли?
— Мой брат не отказывался!
— Ваш брат слишком долго медлил.
— Тебе хорошо известно, что у него имелись на то причины.
— Мой господин, когда речь идет о любви, следует быть осмотрительным и быстрым, поскольку любовь подобна битве и не прощает ошибок.
Бальян вдруг устало опустился в кресло и хмуро посмотрел на зятя.
— Вели, чтобы мне принесли вина. И пусть разбавят холодной водой. — Он провел ладонями по лицу, вздохнул, окатив свои пальцы горячим дыханием. — Боже, какой дурак! — проговорил он с сердцем, почти сожалея. — Теперь в Королевстве начнется раздор. Знатные сеньоры не прощают королевским особам неравных браков, а мужчины не прощают своему собрату истинной любви.
— Ги согласен рискнуть, — сказал Эмерик.
Вошла девушка, подала вина и кувшин воды. Эмерик отослал ее и сам разбавил питье для тестя. Тот следил за ним подозрительно — будто проверял, не сделает ли коннетабль попытки подсыпать в чашу яд.
— Я не хочу ничего слышать о Ги, — выговорил наконец Бальян, кривя губы. — Мне не нравится этот смазливый юнец.
— Не вам ведь выходить за него замуж, мой господин, — не выдержал Эмерик.
Бальян поднял тяжелый взгляд.
— Наконец-то я слышу твой истинный голос. Змеиное шипение.
— Вы долго добивались этого, — сказал Эмерик. — Видит Бог, я всей душой почитаю в вас отца моей жены, но прошу и к моей родне относиться с подобающим…
— Нет! — заревел Бальян, вскакивая.
— Вижу, мое вино пошло вам на пользу, и вы набрались свежих сил, — сказал Эмерик. — Рад видеть вас в добром здравии, отец.
— Запомни, — сказал Бальян, кося глазами и пугая Эмерика их диким блеском, — в один распрекрасный день твой братец, если даже он и станет королем, сломает себе шею. Его попросту бросят на растерзание сарацинам. Это случится, коннетабль! И ты ничем не сможешь ему помочь.
Он повернулся и быстро вышел вон. Эмерик так и остался сидеть, задумчиво глядя ему вслед.
— Мой брат станет королем, — сказал он. — Он женится по великой любви на прекрасной принцессе и станет королем. Глупый валлиец! Откуда тебе знать, каково это — собственными руками сотворить отрывок из романа? Такое может понять только женщина, да и то не всякая, а искусная вышивальщица, создающая своей иглой волшебные картины!
* * *
Бальян был другом Раймона Триполитанского. Не просто союзником или родственником, а настоящим другом.
Они были совершенно не похожи друг на друга, ни внешне, ни характером, ни судьбой. Раймон — южанин с изощренным, тренированным умом, знаток поэзии, искусства, языков. Бальян — северянин по крови, землевладелец и воин.
Раймон был опасно близок к трону. Покойный король Амори боялся его влияния: по складу характера, равно как и по происхождению, Раймон был не столько вассалом, сколько государем. Его место — в тени престола, его роль — вечного претендента. Поэтому когда Раймон попал в плен, король Амори не спешил с выкупом.
Восемь лет в Алеппо. За эти годы Раймон стал бегло говорить на языке сарацин и научился читать их книги. И поняв, как Юсуф ухитрился вместить весь Божий мир в единую каплю чернил, Раймон научился понимать и своих пленителей.
Сарацины оставались для франков непостижимыми потому, что связывали понятия иначе, нежели франки. Понятия были те же самые — смерть, любовь, рождение сыновей, сражение, правда, ложь, — но строительный раствор, который скреплял между собой эти кирпичи при возведении всего здания в целом, разительно отличался. В этом и заключалась тайна. Не в словах, а в промежутках между ними. Не в говоре, а в молчании. В том, что происходит в душе человека, пока он переводит дыхание, переходя от одного слова к следующему.
Раймон также хорошо понимал политику сарацин. Он знал, что Саладин никогда не отступит: этот враг будет грызть Королевство, пока не раскрошит ему хребет. Знал он и другое: общаясь с франками, Саладин научился имитировать их обычаи, их куртуазность, их способ проявлять милосердие и жестокость; однако все это оставалось внешним.
Среди баронов Королевства, особенно среди «новичков», находились глупцы, которые поддавались этой любезности и даже распускали слухи о том, что саладинова мать — тайная христианка, обучившая сына истинной вере, — мол, оттого и рыцарственные качества султана.
Раймон не раз видел Саладина вблизи. И, поскольку граф Триполитанский умел читать сарацинские глаза, он легко рассмотрел в прекрасных очах султана все то, что не особенно и пряталось под напускной любезностью: холодную, расчетливую, очень умную ненависть к любому христианину — «идолопоклоннику».
Покойный брат Одон называл сарацин «детьми Агари», люди иного корня, нежели франки. И хоть Раймон Триполитанский не любил брата Одона, в этом он был с ним согласен.
Другое дело, что сарацинский яд слишком глубоко проник в самого Раймона. Иной раз граф, если бывал возбужден или разозлен, начинал произносить слова с резким акцентом.
Так было и сейчас, когда он стоял у холмов Иерусалима во главе крупного отряда своих вассалов. Солнце опускалось за горы. Город сиял розоватым золотом — величайшая драгоценность человечества, вожделенная и сокровенная.
Раймон намеревался войти в Иерусалим до заката и поговорить с королем о предстоящем браке его сестры. Триполитанский граф считал такой брак безумием. Он боялся Лузиньянов: где один, там еще десяток, и все алчные и хитрые, как на подбор. Боже, помоги всем нам, если король, ради прихоти глупой женщины, решил отдать Королевство худородному юнцу!
Граф Раймон привстал в стременах — от Иерусалима к нему мчался гонец.
— От моего племянника! — сказал Раймон. Его темные глаза вспыхнули, на лице появилась выжидающая улыбка — нежная, как у женщины, которая слышит о приближении мужа.
Гонец остановил коня.
— Что? — крикнул Раймон еще издали.
— Государь не желает видеть вас, сеньор! — сказал гонец, задыхаясь. Он упал щекой на гриву коня и посмотрел на Раймона снизу вверх виноватым, чуть косящим глазом.
— Этого не может быть, — прошептал Раймон, но так, что никто не услышал.
— Король весьма недоволен. Ему не нравится, что вы, мой господин, пришли сюда со своими людьми.
— Я желал, чтобы меня увидели и услышали! — крикнул Раймон. — Для того и…
Но гонец перебил его:
— Мой сеньор, король прогневан. Он убежден в том, что вы, мой сеньор, явились сюда, желая отобрать у него корону. Он велел передать вам, что король Болдуин еще жив и владеет Иерусалимским венцом!
— Что еще? — спросил Раймон тише, потемнев лицом.
— Мой сеньор, государь велел передать, что вам запрещено пересекать границы королевского домена… Это его слова, мой сеньор…
— Дай письмо! — крикнул Раймон. — Он вручил тебе письмо? Не может быть, чтобы он запретил мне входить в Иерусалим! Должно быть, все это клевета, — это Лузиньяны желают рассорить меня с племянником…
— Вот письмо от государя, — сказал гонец, опасливо протягивая Раймону послание.
Раймон схватил, глянул на печать. Читать не стал, сунул в тесный рукав. Печать больно царапнула кожу.
— Не может быть, чтобы государь сам, собственной волей принял такое решение! — сказал Раймон. — Должно быть, ему нашептали… Меня оклеветали перед государем!
Он оглядел своих вассалов, сержантов с флажками, простых конников, и на мгновение безумная мысль штурмовать Иерусалим проникла в его голову и зажгла глаза дьявольским огнем.
Бальян д'Ибелин сразу приметил это и приблизился к Раймону.
— Что? — Граф резко обернулся. — Что вам угодно, сеньор?
— Мы не можем сейчас штурмовать Иерусалим, — сказал Бальян. — Вернемся лучше в Тивериаду, к моей сестре. Я разговаривал с коннетаблем. Лузиньяны не отступятся, и король с Сибиллой сейчас на их стороне.
— Но почему? — прошептал Раймон на ухо своему другу.
— Я думаю, только лишь потому, — так же шепотом отозвался Бальян, — что все они ровесники. Король, его сестра, коннетабль, моя дочь, сопляк Ги. Это — наши дети, мой сеньор, и сейчас они объединились против нас.
* * *
Раймон отошел от Иерусалима, но далеко уходить не стал: он еще не прочитал королевского указа, и печать на документе, который повелевал Триполитанскому графу покинуть пределы королевского домена, была еще цела.
Лагерь раймоновых вассалов раскинулся прямо среди бедуинских палаток — в это время года кочевники приходили на здешние земли и оставались тут на несколько месяцев. Черные и полосатые шатры разливались по золотисто-серым склонам, стягиваясь к источникам вод, и издалека казалось, что горы покрыты крупными колючими лишайниками.
Рыцарские лошади бродили вместе с бедуинскими, злобные мулы покусывали за ноги чужаков, а те в ответ ржали и били копытами.
Бальян хорошо знал бедуинов. В его владениях жило несколько бедуинских семейств, которые платили ему небольшой налог. Они кочевали, как привыкли, и время от времени встречали на этих путях нового сеньора земли, которую на протяжении десятков поколений считали своей. Тогда они кричали ему приветственные слова и размахивали руками. Бальян не считал их сарацинами: они не знали сарацинской веры, а их женщины — в отличие от их мужчин — не прятали лиц под покрывалами.
Каждый день Раймонов лагерь увеличивался. Известие о том, что король намерен отдать наследницу Иерусалима мелкому барончику из Пуату, взбесило почти все Королевство. Король упорствовал, и среди баронов начали говорить, что болезнь повредила его рассудок.
День проходил за днем, и каждый час был похож на предыдущий: люди мучились от безделья и потому непрестанно сплетничали. Известно ведь, что воины — мастера на гнилую сплетню, не хуже любой кухарки или повитухи.
— Проказа съела нашего короля, — шептали в войске (потому что теперь это было уже настоящее войско). — У него в глазах копошатся черви. Отдать принцессу за этого Лузиньяна! Неужели мы должны будем повиноваться двадцатилетнему мальчику, который только вчера прибыл в Святую Землю? На что он годен, кроме любезничанья с молодыми вдовами?
Раймон запрещал дурно отзываться о короле.
— Он оскорбил меня, — говорил граф, — но он — мой король. Я никогда не сделаю ничего ему во вред…
Одного из распространителей слухов о «червях», которые копошатся в глазницах безумного короля, Раймон велел публично повесить. После этого разговоры утихли.
Но от Иерусалима Раймон не уходил. Ждал, пока Болдуин образумится и отменит свадьбу.
— Друг мой, — сказал Бальян д'Ибелин Раймону однажды утром, когда число их сторонников пополнилось еще одним отрядом, — сейчас нужно либо идти на штурм, либо признавать свое поражение и распускать войско.
— Неужели мой племянник так и не придет в себя? — горько спросил Раймон. — Неужели будет упорствовать до конца?
— Вам виднее, — сказал Бальян. — Вы были с ним неразлучны несколько лет. Вы видели, как он взрослеет. На кого он больше похож: на своего отца, короля Амори, или на дядю, короля Болдуина?
— Знаете, мой друг, — медленно проговорил Раймон, — говорят, будто покойный король Болдуин Третий был красавец, умница и храбрец, а его младший брат король Амори — сутяга, жадина и заика; но на самом деле они друг другу не уступали. И наш нынешний государь похож на них обоих. Из всех иерусалимских королей этот — самый отважный и самый разумный…
— А Сибилла? — напомнил Бальян. — То, как он решил распорядиться ее рукой, — это, по-вашему, разумно?
— Не знаю, — проговорил Раймон медленно. — Я до сих пор вижу в нем мальчика, которого был поставлен оберегать и учить уму-разуму. Должно быть, у короля имеются свои резоны отдать Сибиллу дураку Лузиньяну. Но у меня не хватает сил довериться моему государю в этом выборе. — Раймон наклонился к самому уху Бальяна и прошептал: — А вдруг правы сплетники, и болезнь действительно повредила его рассудок?
* * *
— Ну вот, братец Гион, мы с вами и добились своего, — сказал коннетабль, — нас не просто ненавидят, на нас готовы идти войной.
— А вы полагаете, это война?
Ги с Эмериком сидели в доме коннетабля в Иерусалиме у очага, в котором густо лежал остывший пепел. Великий Пост подошел к середине, в доме было тихо, только в узких комнатах наверху возились дети.
— У графа Раймона много сторонников, — задумчиво проговорил коннетабль. — Мне приходится прислушиваться к разговорам, чтобы всегда понимать, кто и на что способен. Знаете ли, без этого не возьмешь в толк, как лучше расставить людей в сражении. Если будет сражение.
— А разве нет? — спросил Ги.
— Саладин может плясать возле наших границ еще лет пять, прежде чем решится напасть всеми силами. Некоторые считают обыкновение сарацин наскочить и после тотчас обратиться в бегство проявлением трусости. Разумеется, есть высшая доблесть в том, чтобы рыцарски двинуться в атаку сомкнутым строем и пасть под стрелами. Но нам этого пока не нужно.
— Мне показалось, брат, — осторожно заметил Ги, — что сейчас речь идет не о сражениях с сарацинами.
— Граф Триполитанский, — сказал коннетабль, — несколько лет был регентом Королевства. У него есть основания желать нового регентства — после смерти короля.
Ги встал.
— Не нужно говорить о смерти короля!
— Почему? — удивился коннетабль.
Ги смутился.
— Потому что этого еще не случилось.
— Король хорошо знает о своей смерти, — возразил Эмерик. — Это его главная забота — кому оставить Королевство.
— Если король выбрал Сибиллу… — начал Ги.
— Раймон считает, что король выбрал вас, — перебил Эмерик. — И многие влиятельные бароны придерживаются того же мнения. Например, мой тесть.
— Я хотел сказать: решения короля священны.
— Поздравляю, брат, вы, кажется, метите в святые.
Ги встал, прошелся перед очагом.
— Отчего вы смеетесь надо мной?
— Разве? — Эмерик поднял голову, глянул на брата удивленно. — Почему вы так решили?
— Я хочу узнать, что там происходит, — проговорил Ги. — О чем говорят люди Раймона. К чему они готовы.
Эмерик всполошился. Иногда старший брат бывал удивительно похож на матушку, которую Ги помнил всегда немолодой и вечно чем-то встревоженной.
— Вы намерены присоединиться к людям Раймона? Я скажу вам, что они сделают. Они притворятся, будто не узнали вас, и убьют, а потом выразят глубочайшие сожаления.
— Но они на самом деле меня не узнают, — сказал Ги.
— Я слушаю вас, — молвил Эмерик, всем своим видом выражая недоверие к талантам брата.
— Почти никто из них не видел меня в лицо, — пояснил Ги. — Они только и знают, что у меня светлые волосы.
— Золотые, — поправил Эмерик. — Будем называть вещи своими именами. Гион у нас златокудрый, как Изольда Прекрасная. Это всем известно.
— Я хочу послушать, что говорят, — продолжал Ги невозмутимо. Он взял плащ, наклонился к очагу, зачерпнул в горсть золу и высыпал себе на голову. — Они вообразили, будто я ничтожество, которое обольстило короля и позарилось на корону. Они до сих пор думают, будто ничтожество способно любить женщину и вызвать ее ответную любовь!
— Такое случалось, — сказал Эмерик.
Ги резко обернулся к брату: волосы серые от золы, глаза горят.
— Нет! — резко возразил он. — Любовь — такой же рыцарский подвиг, как завоевание царства. Никчемному человеку не под силу совершить его.
— Впервые слышу, — пробормотал Эмерик.
— Просто поверьте, — сказал Ги. — Просто поверьте мне на слово.
Он тихо вышел из дома.
Иерусалим, казалось, ждал его появления: так весь мир замирает перед рождением нового младенца, чтобы в следующий миг распахнуться перед ним всеми своими чудесами — и в первую очередь солнечным светом.
Ги прошел несколько улиц, подбираясь ближе к воротам, и вдруг из скрытой среди вывешенных на стены ковров ниши выскочил человек. Он страшно спешил и суетился, от волнения расчесывая белое пятно на щеке.
Ги остановился.
— Гвибер! — обрадованно проговорил он. — Я скучал по тебе.
— Правда? — Гвибер остановился так, словно налетел на невидимую преграду. — О! Я тоже скучал… Ты сохранил мой подарок?
Ги кивнул.
Гвибер приблизился и, чуть забегая вперед, пошел сбоку.
— Ты куда?
— Хочу выбраться за стены, на склон горы.
Гвибер глянул на небо, на его лице поспешно сменили одна другую несколько гримас. Тем временем они добрались до тамплиерских конюшен, где коннетабль держал своих лошадей. Обменявшись парой фраз со знакомым конюшим, служителем из числа орденских братьев, Ги зашел внутрь. Гвибер скользнул за ним.
— Я с тобой, — шепнул он, предупреждая вопрос Ги.
— Возьми белую, — сказал Ги. И, уже садясь в седло, спросил у своего спутника: — Как ты узнал меня? Я ведь изменил цвет волос.
— Я слышу запах твоей крови, — ответил Гвибер. — Один раз этот запах уже обманул меня, но сегодня это действительно ты.
Ги не стал переспрашивать и выяснять — что имел в виду его новый товарищ; просто развернул коня и выбрался из высоких, просторных каменных конюшен.
— Сколько раз я видел эту дорогу среди гор и этот город, столько раз я плакал, — сказал Гвибер, когда они выбрались за стены.
— Почему?
Гвибер уставил на Ги свое пестрое лицо. Оно действительно было залито слезами.
— Потому что все это больше, чем может вынести человек, сеньор Ги. Такова главная причина, хотя всегда находились и другие.
Войска Раймона не были видны отсюда — они располагались дальше, за той долиной, над которой однажды замерло солнце. Триполитанский граф не решался подойти к Иерусалиму вплотную, потому что до сих пор не знал, хочет ли он штурмовать столицу Королевства.
— В пустыне иногда слышны голоса, — сказал Гвибер, озираясь по сторонам, — но никто не знает, кому они принадлежат. Бедуины говорят, что это падшие духи хотят что-то рассказать живущим людям. — Он втянул ноздрями воздух и добавил: — Здесь нужно прикрывать лицо, потому что воздух полон порочных ангелов, которые только и ждут случая совокупиться с дочерьми человеческими.
— Думаю, нам с тобой это не грозит! — улыбнулся Ги.
Гвибер замотал головой.
— Никогда так не говори! Один человек, которого я знаю, проглотил злого духа просто при дыхании, а после, целуя жену, выпустил его на волю, и она понесла от дьявола.
— И чем же все закончилось? — спросил Ги.
— Она умерла, — сердито сказал Гвибер. — Вот и все!
Небо над ними мутнело, и неожиданно Ги ощутил страх. Его тело мгновенно покрылось липкой испариной, но ядовитый солнечный жар почти тотчас высосал ее и обжег кожу прямо под одеждой. Затем сделалось темно, и в тот же миг Гвибер пропал.
Напрасно Ги озирался по сторонам и звал своего спутника, перекрикивая ветер: рядом никого не было. Он остался один в пустыне, где воздух был полон падших ангелов и жалящего песка. Лошадь бесилась, потеряв всякую надежду на всадника; наконец она сбросила его и умчалась: лежащему на песке Ги почудилось, будто пустыня сожрала ее.
И, поскольку здесь и пространство, и время обладали способностью растягиваться до бесконечности и вмещать в себя человеческую жизнь целиком, без остатка, то Ги почти сразу же расстался с надеждой выбраться отсюда. Он не знал, куда подевался Гвибер: Ги позабыл о своем странном товарище, едва только тот скрылся.
Завернув лицо в плащ, Ги поднялся на колени. Тьма вокруг него кружила и плакала, и из этой тьмы то и дело выскакивали различные чудища: и люди с песьими головами, которые лаяли на Ги сердито и жалобно; и люди, которые пытались укрыться от колючего песка, поднимая над головой ногу с огромной ступней; и летучие люди с огромным количеством глаз, перьев, ртов и ушей, они шипели и кружились, пока их не уносило вихрем; и птицы с женскими грудями; и плачущие фавны со сморщенным младенческим личиком и рыжей, вьющейся бородой.
Но затем все они скрылись, и из темноты вышла Сибилла. На ней были лохмотья, растрепанные ветром, и Ги вдруг понял, что так одеваются женщины у бедуинов. Она шла босая по раскаленному песку, и Ги подумалось, что если поцеловать ее ступни, они окажутся под губами прохладными.
Он сделал несколько шагов и почти тотчас угодил в чьи-то жесткие руки. Сибиллы больше не было; исчезли и чудовища, которые мучили его, когда он был одинок.
Несколько голосов закричали разом, в воздухе замелькали ладони: эти люди как будто разгоняли летящий песок, сердясь на то, что он им мешает.
Потом Ги увидел их лица, обмотанные скрученными в жгут тряпками, с веселыми глазами воров и невинными ресницами диких животных. Эти люди смеялись и тащили его куда-то, и там, под прикрытием черной колючей палатки, где не было ни ветра, ни песка, совали ему в пальцы прыгающий бурдюк. Ги выпил воды и закрыл глаза.
Его тормошили, тыкали в него, непрерывно галдели и смеялись; кто-то поцеловал его в губы, но исчез прежде, чем Ги успел открыть глаза. Он понял, что смешит этих людей, и стал смеяться сам.
Здесь время не стояло и не тянулось — оно бежало так, словно самая смена часов доставляла ему удовольствие, которым следовало насладиться. И Ги позволял времени бежать сквозь него, испытывая радость от каждой прожитой минуты.
Эти люди даже нашли его лошадь и посмеялись и над ней. К вечеру пустыня затихла, стала холодной и высокомерной. В небе показались звезды и лежащая на боку огромная луна. Ги уселся в седло и выехал из лагеря. Бедуины посмеивались и хозяйски похлопывали его лошадь по крупу.
Ги выехал из лагеря и повернул в ту сторону, куда дружно указывали десятки приветливо взмахивающих смуглых рук. К Иерусалиму. В нескольких сотнях метров его нагнал всадник, до самых глаз закутанный в полосатый плащ. Ги не видел, чтобы в лунном свете блеснул длинный клинок, но все же припал к шее лошади и погнал ее быстрее.
Всадник не отставал. Он не размахивал оружием, не кричал, просто настигал Ги — решительно и даже деловито, и это больше, чем что-либо другое, обнажало его намерение убить молодого Лузиньяна. Некоторое время они мчались почти бок о бок, затем Ги обошел своего преследователя и нырнул в долину. Тот на миг утратил равновесие. Лунный луч поймал наконец блестящее лезвие — короткий нож, зажатый в левой руке всадника.
Нож тотчас исчез, но теперь Ги понял, с какой стороны ждать удара. Пустыня, залитая светом луны, выглядела так, словно принадлежала другому миру и другому времени, и Ги не знал, как долго ему предстоит ехать, чтобы добраться до города и брата.
Тем временем всадник опять приблизился и начал наступать, чтобы сбить лошадь Ги с толку, заставить ее потерять шаг. Несколько раз Ги обходил его и тогда гнал изо всех сил, но затем всадник настигал его и вновь теснил. Он поднимал своего коня на дыбы, заставлял толкать лошадь Ги плечом, обгонял ее и резко останавливался. Бедуинский конь, по природе злой и коварный, охотно кривлялся вместе со своим всадником. Ги уж казалось, что его преследует одно из тех чудовищ, которые виделись ему во время бури.
И тут, внезапно, без всяких предвестий, перед обоими выросли стены Иерусалима. Ги мог бы поклясться, что мгновение назад их здесь не было — и вот уже они властвуют над горами, и одна из башен отсекает у месяца в небе сверкающий рог.
Ги помчался к воротам, крича на скаку, но когда он обернулся, то увидел, что преследователь исчез.
* * *
Это была странная свадьба — поспешная, немноголюдная, не торжественная. Великий Пост еще не закончился, Королевство ожидало начала мятежа.
Король призвал к себе Сибиллу и Ги, чтобы благословить их на вступление в брак.
— Пока у моего дяди остается надежда на то, что я отменю эту свадьбу, — сказал им король, — он будет ждать с войсками. Ваша любовь, дети, становится опасной для Королевства.
Сибилла смотрела на брата, на его испорченное лицо, и вдруг ее охватила такая жаркая жажда счастья, что она задрожала.
Было тихо, только голос Болдуина звучал и звучал — сипло, срываясь:
— Я уже просил патриарха. Господь мне свидетель, я почитаю и пост, и Пасху, но Королевство погибнет, если мы будем медлить. Раймон не начнет войну только в том случае, если потеряет надежду.
Глаза Сибиллы делались все больше и больше, в них плясали слезы, не решаясь вырваться на волю. Наконец король замолчал. Ги шагнул было вперед, чтобы заговорить, но Сибилла опередила его — она метнулась к брату и упала перед ним на колени.
— Мы будем прокляты, если вступим в брак, пока не закончится пост! — крикнула она. — Вы не можете так поступить с нами!
— А как я должен с вами поступить, сестра? — захрипел Болдуин. — Выдать вашего возлюбленного моим баронам, чтобы они разрезали его на кусочки? Запретить этот брак? Начать войну в Королевстве? Я пожертвовал ради вашей любви дядиной дружбой и добрым отношением многих баронов — теперь ваш черед.
Ги прикусил губу, потому что знал: сейчас Болдуин лукавит — его прежняя детская дружба с Раймоном завершилась раньше помолвки Сибиллы; она истекла вместе с отрочеством юного короля. Но Ги промолчал.
— Наше потомство будет проклято, — причитала Сибилла, — зачатые в Великий Пост погибают до срока.
— Я не могу позволить вам даже этого, — сказал король. — Вы должны завершить свадьбу брачными отношениями, иначе этот брак не будет признан. У Сибиллы уже есть сын, наследник, так что она может позволить себе роскошь потерять второго ребенка.
Он холодно посмотрел на Ги.
— Когда-то Королевство было завоевано ради великой любви и из жалости к Святому Гробу, — сказал король. — Если теперь оно будет потеряно, то из-за любви мужчины и женщины.
— Истинная любовь не может ничего не погубить, — заговорил наконец Ги.
И они вступили в брак Великим Постом. Их отвели в супружескую спальню, и поскольку Сибилла не была девственницей и не могла поутру вывесить на дверь покрывала с пятнами крови, то в комнате остались свидетели.
Сибилла была в красном, как истинная невеста. Она сорвала с себя платье, гневаясь на каждую его складку, на каждый шов и всякую пряжку; скомкав, бросила себе под ноги и нырнула в постель. Она закрыла глаза и стала думать обо всем, что случилось и еще случится. На мгновение в мысли закрался образ ее ребенка, наследника, которого у нее отобрали. Она почти не виделась с мальчиком. Никому не нужный, забытый. Как всякий ребенок, он еще не имел ни собственной жизни, ни даже собственной личности; но в глубине души Сибилла знала, что это не так. Какое у него сердце? Какие маленькие, важные думы приходят в его голову? О чем он плачет и чему смеется? Если прикоснуться к нему, под ладонью окажется родная плоть, и душа наполнится теплом.
Она не заметила, когда это прикосновение из печального воспоминания сделалось явью: кто-то водил ладонью по ее лицу. Кто-то, кто был роднее, чем даже маленький сын.
Тогда она открыла глаза и неожиданно для себя увидела почти незнакомое лицо. Она поскорее опустила веки, лицо исчезло — осталось только прикосновение, знакомое и успокаивающее.
Очень осторожно она вновь приоткрыла глаза и стала смотреть сквозь ресницы. Ответный взгляд окатил ее нежностью. Сибилла то закрывала глаза, то открывала — но когда бы она ни посмотрела на того, кто находился с ней в одной постели, она видела только одно: нежность. И она наконец вздохнула всей грудью, как будто освобождаясь, обхватила его руками и засмеялась.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 1183 год
Глава седьмая ВЛАСТЬ
— Клянусь Господом, ни разу не согрешившим! — выговорил Раймон Триполитанский. — Я ведь узнаю этого человека!
Человек, которого узнал граф, имел самый жалкий вид. Он был бос и одет в одни только рваные штаны; кожа на его плечах обгорела и висела клочьями, а на шее болтался кусок грязной веревки.
— Сколько ты хочешь за эту развалину, друг? — обратился граф ко второму человеку, сидевшему на коне.
Этот второй был одет немногим лучше своего пленника, однако обладал превосходным, выхоленным оружием, и лошадь под ним была так хороша, что сердце схватывало сладострастной судорогой.
— А! — сказал всадник. — Сколько дашь?
— Я даю безант, — засмеялся Раймон.
Оба говорили на арабском языке, причем Раймон — даже лучше, чем его собеседник, более изящно.
И безант, сверкнув в полуденном воздухе, решил судьбу Гвибера во второй раз.
Всадник давно уже уехал, а Гвибер все трясся, все лязгал зубами и ахал, пока наконец граф Раймон не заговорил с ним:
— Я видел тебя три года назад, Гвибер.
— Как и я вас, ваша милость, — сказал Гвибер и сунул в рот конец веревки, что болталась у него на шее.
— Что же ты не убил Ги Лузиньяна, Гвибер? — продолжал Раймон. — Неужели тебе помешали люди или обстоятельства?
Гвибер задумался.
— У меня ведь был домик в Сайде, — вспомнил он. — Но потом пришел человек, похожий на тысячу других таких же, и бросил в меня монеткой — только это был неправильный денье, ваша милость! — и велел отправляться в Иерусалим и там убивать Ги де Лузиньяна.
— Почему ты не убил его? — снова спросил Раймон.
— Я хочу есть, — сказал Гвибер. — Вы ведь накормите меня, ваша милость?
— Ты обошелся мне в целый безант, — сказал Раймон. — Как ты будешь отдавать мне долг?
— Если ваша милость оставит меня при себе — то никак, — ответил Гвибер. — А если ваша милость отпустит меня на свободу, то уеду в другие края и будут там распахивать землю собственными зубами.
— Пожалуй, мне стоит забыть о безанте, — сказал Раймон. — И купить тебе какой-нибудь еды.
Они находились недалеко от города и замка Крак, в княжестве Крака и Монреаля, которое принадлежало семье Онфруа Торонского, к северу от Иерусалима. Три года назад король запретил Раймону Триполитанскому пересекать границу королевского домена, однако вскоре запрет был отменен — или, если говорить точнее, было дозволено смотреть на его нарушение сквозь пальцы. Но ссора между дядей и племянником так до конца и не изгладилась.
Раймон кружил по окраинам Королевства, надолго покидая Триполи и Тивериадский замок, где жила его семья. Он слушал и смотрел. Он ждал, пока его враг, Ги де Лузиньян, допустит ошибку. А ошибка будет непременно — ситуация в Королевстве такова, что не ошибиться невозможно.
Встретить здесь нахального смешливого сарацина с пленником-христианином Раймон никак не ожидал. И уж тем более не ожидал, что этот пленник окажется давним знакомцем. Раймон обрадовался случившемуся. На языке Саладина такая встреча означала предупреждение: султан знает о слабости Королевства и готов напасть.
Саладин не посылал почтовых голубей с объявлением войны. Не прибывали от него и всадники с письмами. Но он обычно не нападал совсем уж внезапно: для тех, кто умел читать следы на песке, послания бывали вполне явственными.
Гвибер наконец оставил веревку в покое и сорвал ее с шеи.
— Второй раз попадаюсь к ним в руки! — с досадой вскрикнул он. — Как мне быть, ваша милость? У меня не достает сил, чтобы ненавидеть их, — ведь тот человек давал мне еду и питье, в чем вы мне пока что отказываете.
— Молчи, — приказал Раймон.
В предместьях Крака дома лепились друг к другу, как и в Яффе; здесь жило много евреев, но, поскольку они, в отличие от своих заморских собратьев, не носили особой одежды, часто их невозможно было отличить от франков. Город был зажиточный, но какой-то очень беспорядочный.
Триполитанский граф въехал в замок, где гостил у молодого Онфруа. Новый владетель Торона, Баниаса и Крака не принял сторону Ги де Лузиньяна, как это сделали некоторые другие бароны — и, в частности, его отчим, драчливый старик Рено де Шатийон. Онфруа по большей части уходил от ответа, когда разговор становился слишком откровенным или чересчур резким.
За те три года, что прошли со времени помолвки его с Изабеллой, Онфруа не вырос и не возмужал: он оставался все тем же задумчивым юношей, серьезным и добросердечным. Поэтому при виде Гвибера, которого Раймон представил как давнего боевого друга, вырванного милостью Божьей из сарацинских лап, Онфруа сказал, что закажет благодарственную службу любому святому — какого укажет Гвибер; а затем распорядился, чтобы ему выдали хорошую одежду и десять безантов.
Раймон только усмехался. Онфруа разволновался. Чужая удача глубоко задела его сердце: Бог не посылает человеку везение просто так, без умысла; а приблизиться к Божьему умыслу и стать его орудием — удивительно и почетно.
Потому Гвибер был надлежащим образом умыт, одет, накормлен и расспрошен.
Гвибер говорил много, но сплошь невнятно, и больше всего рассказывал о том, как оказался один в пустыне и искал там Святую Марину.
Сперва, как вышло по его словам, он нашел некоего злодея в лагере у бедуинов; он выждал, покуда злодей покинет лагерь, и погнался за ним, украв для этого у бедуинов лошадь, полосатый плащ и кривой нож. Он пытался убить того человека, но все время что-то не позволяло ему дотянуться ножом до жертвы — хотя, видит Бог, противник Гвибера был совершенно безоружен. Бедуины отобрали у него все оружие!
— Почему же ты, несчастный, не убил его? — спросил Раймон.
— Я потерял его из виду, — пробормотал Гвибер. — Он добрался до города прежде, чем я сумел настичь его. А потом уже было поздно — он женился, и все пропало.
— О ком вы говорите? — спросил Онфруа.
Все это время он внимательно слушал рассказ. Его не слишком поразило, что Гвибер повествует о непонятном намерении совершить убийство — это-то как раз можно было объяснить безумием освобожденного пленника. Странным выглядело иное: граф Раймон, казалось, хорошо понимал, о ком идет речь и что это могло быть за убийство.
— Кто он — тот человек, которого пытался убить Гвибер? — настойчиво повторил Онфруа.
Оба собеседника уставились на него с одинаковым выражением совершенно разных лиц: они как будто досадовали на то, что хозяин замка помешал им.
— Один человек, которого я знаю, — сказал Раймон. — Я просил Гвибера совершить убийство…
— Бог не дал мне, — сказал Гвибер. — Святая Марина мне не позволила. Я искал ее в песках.
— Она в Триполи, — отозвался Раймон. — В аббатстве, разве ты забыл?
— О, я не забыл, я ведь прощался с нею… — пробормотал Гвибер. — Но она — везде. Я слышал ее голос — там, в пустыне… Я видел ее лицо. — Он очертил в воздухе овал, и перед взором Онфруа вдруг возникло красивое женское лицо, с прямым носом, большими, чуть скошенными к вискам глазами, с изогнутым ртом, очень темным, почти черным.
— Кто она? — спросил Онфруа.
— Марина, — упрямо повторил Гвибер. — Святая Марина Триполитанская… Та, что в аббатстве. Я хочу быть с нею.
— Потом, — обещал Раймон и коснулся его руки. — После смерти. Уже скоро.
Гвибер вздохнул.
— У меня рот болит от разговоров с сарацинами на их языке! — пожаловался он. — И губы ноют, и зубы, и язык изнемогает от странных фигур, которые ему приходилось выделывать!
Онфруа улыбнулся и протянул ему кувшин.
— Пей, — сказал он. — Так как звали того злодея, которого ты должен был убить?
— Гион, — выдохнул между глотками Гвибер. — Золотоволосый Гион. Я научился распознавать запах его крови, можете мне поверить, ваша милость, — он поклонился Онфруа и возвратил ему кувшин. — Да хранит Господь вашу душу! Вы добрее, чем мой господин, который второй раз уже отдает свои деньги за мою шкуру!
Но Онфруа больше не слушал болтовни наемника. Он повернулся к Триполитанскому графу:
— Вы подсылали этого человека, чтобы он убил Ги де Лузиньяна?
Граф, однако, не отвел взгляда.
— Ну и что с того? — возразил он. — Ваш отчим совершает вещи и похуже! Лузиньяны погубят Королевство. У них нет ни гроша за душой там, на их родине, поэтому они явились сюда и сразу же начали жиреть.
Онфруа протянул руку, словно намереваясь закрыть графу рот.
— Больше не произносите ни слова, мой сеньор! — попросил он. — Должно быть, я ослышался, и этот несчастный, который утратил рассудок от всех обрушившихся на него бед, попросту перепутал день с ночью.
А Гвибер уже спал — сидя в кресле и откинув голову на узкую спинку…
* * *
Лузиньян не «жирел» — это было неправильное определение. Он «врастал» в свою новую землю, и все меньше нитей связывало его с прежней родиной. Когда родилась первая дочь, Мария, оборвалась последняя из них — глядя на крохотную малышку с красным, обиженным личиком, подслеповатыми мутными глазами и лягушачьими растопыренными ручками, Ги вдруг понял, что никогда не переплывет море в обратном направлении, никогда не вернется в Лузиньян.
Он наклонился и поцеловал девочку, а Сибилла, державшая ребенка на коленях, склонила лицо к золотому затылку Ги и прижалась к нему.
— Мы зачали это дитя во время Великого Поста, — прошептала она.
— Богу известно, почему мы это сделали, — шепнул он в ответ.
Мария, дитя греха и человеческого расчета, была болезненной и крикливой, но умирать не спешила. Перед тем, как ее окрестить, Сибилла решила познакомить с новой сестрой старшего сына, наследника.
Четырехлетнего мальчика, по приказу матери, отвлекли от деревянных мечей, глиняных тележек и красивых тряпичных кукол, умыли ему лицо и отвели в женские покои. Мать не видела его несколько месяцев и снова не узнала: маленький незнакомец глядел на нее отчужденно и хмуро, требуя объяснений — чего ради его сюда притащили.
Сибилла протянула ему руку. Как его и учили, мальчик поцеловал руку матери. Затем она показала ему ребенка:
— Это ваша сестра.
Он посмотрел на Марию, затем перевел взгляд обратно на мать.
— Вы теперь — ее мать? Вы больше не моя?
Она едва не вскрикнула.
— Как вы можете такое говорить! Я останусь вашей матерью, сколько бы еще детей мне ни довелось произвести на свет!
— Я у вас первый? — уточнил он, подумав. — Так все говорят. А епископ говорит: если мать забудет сына, то Бог его не забудет. Если вы меня и оставите, у меня всегда будет Бог.
У нее тряслись губы. А мальчик смотрел на женщину холодно и отчужденно, издалека. Потом спросил негромко:
— Я могу уйти?
Сибилла не ответила — спрятав лицо среди складок детского одеяльца, она плакала и не видела, как ушел ее сын.
* * *
Король терял зрение. С каждым днем солнце, поднимавшееся над Иерусалимом, светило для него все более тускло, и начинающийся день окрашивался в серые, мутные тона. Тамплиеры прислали королю специального брата, который поддерживал его под руку и прислуживал ему, вкладывая в немощные пальцы столовый нож или чашу для питья. Этот брат носил на одежде зеленый крест, и именно зеленый крест, вырезанный из хорошего, дорогого сукна и нашитый на белую котту, был последним, что видел Болдуин перед тем, как свет перед его глазами погас.
Теперь он не мог рассмотреть даже собственную смерть, хотя знал, что она по-прежнему преданно стоит за его плечами.
Ему было трудно дышать. Кашляя, он туже кутался в свои покрывала, и каждый раз, когда приступ кашля оказывался слишком тяжелым, начинал тихо плакать.
Однажды он спросил у орденского брата, видит ли тот в комнате еще кого-нибудь, кроме Прокаженного короля. Брат, немного озадаченный, ответил: нет, никого. Тогда Болдуин прогнал его и потребовал, чтобы тамплиеры прислали ему другого.
Этот другой тоже никого не видел. И третий, и четвертый. Тогда Болдуин смирился и перестал просить о замене. Ему стало все равно.
Он собрал баронов, чтобы объявить о своей болезни и о том, что намерен назначить регента Королевства.
Он не мог их видеть. Больше не мог. Но он слышал их и всем своим существом ощущал их присутствие. От них пахло пропотевшими кожаными куртками, нагретыми на солнце кольчугами, пылью иерусалимских дорог, чесноком и пряностями, которыми были приправлены булки, съеденные ими по пути во дворец на иерусалимских улицах. Король называл их имена, и они отвечали ему: «я здесь, я здесь, государь, я здесь, ваше величество, мой король, я здесь, здесь…»
Он различал голоса, к которым привык в детстве, и для каждого хотел бы найти особенную, только ему предназначенную улыбку: для слишком умного, затаившего обиду Раймона Триполитанского — настороженную, для религиозного Онфруа Торонского — благословляющую, для неистового Бальяна д'Ибелина — просительную, для расчетливого коннетабля Эмерика де Лузиньяна — дружескую, для нежного красавца Гиона, мужа сестры, — повелительную…
Но он не мог им улыбаться, потому что лицо плохо слушалось его. А если бы и мог, они все равно ничего бы не поняли, потому что теперь он прятал лицо.
Он слушал, как они откликаются, и ему хотелось крикнуть — насколько еще позволял ему отмирающий голос: «Я тоже — здесь, я все еще здесь, бароны! Я — здесь…»
— Я хочу, — просипел король и махнул услужающему брату из числа тамплиеров, носящих зеленый крест.
Тот выступил вперед и начал читать.
— Король говорит: «Я хочу, чтобы регентом Королевства стал муж наследницы Иерусалима Сибиллы, Ги де Лузиньян. Я хочу, чтобы все бароны Королевства в моем присутствии принесли ему присягу. Они должны поддерживать регента во всем, что касается управления Королевством и защиты его границ. Я хочу, чтобы регент Ги де Лузиньян поклялся в присутствии всех баронов Королевства в том, что не будет искать моей короны, покуда я жив».
Стало тихо, а потом сразу несколько человек закричали, что требуют, чтобы их немедленно зарубили, разрезали на части и прибили к воротам Иерусалима, и совершили над ними все это в присутствии короля, потому что они никогда не присягнут на верность Ги де Лузиньяну.
Но оба великих магистра, и тамплиеров, и иоаннитов, твердо взяли сторону Ги. Кривая трещина раскола побежала по семьям латинских баронов. Оба старших пасынка Раймона Триполитанского, двоюродные братья Эскивы — жены коннетабля Эмерика, неожиданно для графа поддержали Лузиньянов.
Ги держался так, словно все происходящее касается только его лично и короля. Он не озирался по сторонам, не запоминал, кто негодует, а кто радуется. Его как будто не интересовало происходящее. Собранный и сосредоточенный, он прислушивался к тому, что делалось внутри его собственной души. А там царил полный покой. Лузиньян оставался в мире с самим собой и потому мог принести королю любую присягу, какую бы тот ни потребовал.
Он приблизился к королю, опустился перед ним на оба колена и торжественно поклялся:
— Бог и все эти благородные сеньоры пусть будут свидетелями истинности моих слов: я никогда не посягну на вашу корону, мой господин, покуда вы живы.
Король чуть подался вперед и очень тихо просипел:
— Если Королевство падет, виновен в этом будешь только ты, Гион. Это — плата за обладание Сибиллой. Ты понял меня? Если ваша любовь не спасет Иерусалим, значит, его не спасет ничто, и нет Божьей воли на то, чтобы мои потомки владели Святым Гробом.
Ги опустил голову еще ниже, а затем прикоснулся губами к перчатке умирающего короля.
Это прикосновение было легким, почти невесомым, но даже сквозь перчатку оно прожгло руку Болдуина, и король содрогнулся всем телом.
— Никогда больше этого не делай, — зашептал он еще тише.
А затем снова махнул орденскому брату, и тот прочитал остаток написанного:
— Король говорит: себе он оставляет доход в десять тысяч безантов и город Иерусалим.
Ги встал, и бароны начали подходить к нему и, кося глазами на короля, давать клятву верности новому регенту. Король сидел неподвижно, как истукан, с закрытым лицом, но его присутствие, казалось, заполняло весь огромный зал.
* * *
Саладин наползал на Королевство, как большая черная туча. Болдуин больше не мог видеть, но тем обостреннее он ощущал присутствие этой угрозы — постоянное, как шум прибоя в Яффе. В прошлом году, когда Болдуин еще различал очертания предметов, он не прекращал воевать с этим страшным врагом, пытаясь отогнать его от Мосула. В нынешнем Саладин будет заботой Ги де Лузиньяна.
— Что вам угодно, сестра?
Тихий хриплый голос прозвучал так неожиданно, что Сибилла вздрогнула и обернулась. Темная тень сидела в углу, так спокойно и тихо, словно ее здесь не было.
— Как вы меня узнали?
— По запаху, — сказала тень. — Наш дядя Раймон говорит, что родную кровь всегда можно узнать по запаху.
— А, это дядя Раймон так говорит… — Сибилла осторожно приблизилась к брату.
Он безошибочно поднял голову ей навстречу.
— Чем занят ваш муж?
— Он на севере, в Самарии.
— Рассказывайте! — приказал король.
— Государь, вы знаете все лучше меня.
— Рассказывайте! Разве муж не присылает вам писем с голубями?
Болдуин неожиданно вспомнил то, перехваченное, письмо, которое несла голубка из голубятни Раймона Триполитанского. «Змееныш». Змееныш, готовый ужалить в самое сердце Королевства.
«Вздор! — прошептал король. — Он потомок Карла Великого, а змеиная кровь делает его мудрым и неуязвимым».
И решительно отбросил негодную мысль, точно тряпку.
— Я снова в тягости, — объявила Сибилла.
— Снова девочка?
— Ах, брат, когда я носила своего первенца, все было иначе! — сказала она с вызовом и вдруг заплакала.
Болдуин слушал ее плач удивленно.
— Разве вы не счастливы?
Она затаила дыхание. По тому, с каким напряжением брат ждал ее ответа, она вдруг поняла, что вопрос вызван чем-то гораздо более важным, нежели добрые чувства.
— Да, — сказала она.
— Ну так что там, на севере? — повторил король.
— Там — мой муж и возлюбленный, — сказала Сибилла. — Я больше ничего не знаю.
— Там все плохо, — захрипел король. — Я сижу здесь, как душа, привязанная к мертвому телу кровавой пуповиной, и не могу быть там, чтобы исправить все его ошибки…
— Государь, уверены ли вы в том, что он совершает ошибки?
Болдуин несколько раз прохрипел, как будто выталкивая из горла тяжелые комки воздуха, а потом вдруг засмеялся. Он смеялся тихо и сипло, сотрясаясь всем телом.
Сибилла отошла чуть подальше. Теперь, когда ее глаза привыкли к темноте, она ясно различала эту закутанную в полотна фигуру, спеленутую с такой бережностью и любовью, словно это был младенец. Там, под своими покрывалами, он содрогался и хрипел.
— Знаете ли, дорогая сестра, — прозвучал голос, как показалось Сибилле, чуть издевательски, — все умирающие считают, будто без них жизнь остановится. До самой смерти они продолжают указывать родным — что им делать, чего им не делать, — боясь последствий своего ухода. Но как отвратить эти последствия? Я не капризен, как думают некоторые из моих приближенных, — я уверен, что после моей смерти Королевство погибнет. И я обречен сидеть здесь и ждать, пока оно приблизится к самому краю… Так чем занят ваш муж там, на севере?
— Я не знаю, мой господин, — в третий раз сказала Сибилла. И взмолилась: — Отпустите меня!
— Ступайте, — тотчас разрешил он.
Она выбежала. Он слушал ее быстрые, легкие шаги и искал в своей душе силы, чтобы благословить ее.
Эта кампания против Саладина была первой, в которой он не участвовал. Болдуин знал, как заставить хитрого курда отступать. Он рассказывал об этом своему деверю, своему регенту — Ги, когда тот отправлялся в Самарию.
— Доблесть будет не в том, чтобы попасть в их ловушку и погибнуть, — шептал король. — Заставь их уйти.
Болдуин называл замки, где лучше брать продовольствие; он перечислял все ручьи, которые могут встретиться в Самарии, и все источники; он рассказывал о каждом камне, за которым хорошо укрываться от вражеских стрел, о каждом поле, каковое надлежит, по возможности, не вытоптать. Он вспоминал всякую тропку и всякий пучок травы, и все говорил и говорил, вещая из глубин своей слепоты и своих одеяний, точно из склепа, и все еще продолжал говорить, хотя Ги давно ушел. Картины, одна ярче другой, вставали, сменяясь, перед его мысленным взором. В своих воспоминаниях он видел все эти долины со смыкающимися над головой отвесными скалами, и крохотные сверкающие ручейки, и таинственные источники вод, кудрявые в своей глубине, и каждый завиток коры, свисающий со ствола знакомого дерева, был виден ему так, словно он снова широко распахнул зоркие очи навстречу великолепному миру, где предстоит воевать и любоваться спинами удирающих врагов.
Когда орденский брат, отлучившийся на время разговора короля с его регентом, наконец вернулся, король метался по комнате и шарил в воздухе руками.
— Господин мой! — закричал орденский брат.
Король замер, растопырив пальцы возле своей головы.
— Что тебе? — спросил он грубо.
— Что вы делаете, господин мой?
— Ищу оружие!
— Нет! — сказал орденский брат, решительно подходя к больному.
— Пустите! — шепнул король. — Не то я перережу себе горло.
— Простите меня, мой господин, но я не верю, что вы сделаете это.
— Где мои вещи? — сипел король. — Где мой меч? Где кольчуга? Вы ведь не отдали их?
— Мой господин, их давно нет.
— Глупости! — хрипло каркнул Болдуин и начал кашлять, но не перестал говорить: — Меня должны похоронить с мечом, так что его не могли выбросить! Я хочу…
Он не закончил фразы. Галилея раскинулась вдруг перед ним — невыразимо прекрасная, желанная, в уборе из цветов, и та незнакомая девушка, которая просидела с ним всю ночь, еще не видя его лица и не зная, кто он, — все они снова пришли к нему, словно он не ослеп и мог в любое мгновение их увидеть.
— Государь, вы не можете участвовать в этом сражении. Доверьтесь тому, кому доверили свою сестру и свое Королевство.
— Как ваше имя, брат? — спросил Болдуин. Он задавал этот вопрос каждый день.
Орденский брат ответил королю — как отвечал каждый день:
— Брат Ренье.
— Я ненавижу вас, брат Ренье. Будьте вы прокляты.
Брат Ренье заплакал, но король не узнал об этом, потому что голос, который сказал ему: «Мне придется привязать вас, мой господин», — звучал совсем ровно.
— Очень хорошо! — сказал король. — Привязывайте! Привязывайте, как это сделали в прошлом году, когда тащили меня на носилках до самой Босры! Я хочу вспомнить, как это было. Я хочу снова это почувствовать. Мы дошли тогда почти до Дамаска! Помните? Или вас не было с нами? А, конечно, не было! Вы сидели в Иерусалиме, нянчились с умирающими, вроде меня, да? А я тогда не был умирающим! Я видел, как горит Бейтджин! Саладин ушел от Мосула, потому что я заставил его уйти! А теперь какой-то брат Ренье велит мне сидеть дома и грозится связать… Очень хорошо, брат Ренье, делайте свое дело…
Брат Ренье взял его за руку и увел во двор. Там пели птицы и чудесно пахли белые и розовые цветы.
* * *
Саладин, конечно, вернулся — ровно через год после того, как позволил Болдуину в последний раз насладиться видом его убегающей армии. Он навалился на север Самарии, заняв там три замка и город Бейсан.
Ги с большой армией шел ему навстречу, и земля, которую так подробно, с такой жадной любовью описывал ему умирающий король, встречала его как давнего знакомца. Лузиньяну казалось, что он бывал здесь уже много раз, он узнавал все те ручьи и камни, удобные для устройства засад, все те тропинки, ведущие к потаенному звериному водопою, все те курчавые источники и даже сочные пучки травы, о которых рассказывал Болдуин. И при каждой новой встрече Ги мысленно благословлял короля.
Они выбрали подходящее место, возле источников, и насыпали там вал. Сарацины тотчас появились перед франками и начали выплясывать у них на виду на своих легких конях, то приближаясь к валу, то улетая прочь с громкими криками. Ги не решался преследовать их. Просто присутствовал и ждал.
Так прошел день, и второй, и третий. Затем иссякло продовольствие, и франки начали ворчать, поначалу тихо. Несколько человек отправились под покровом ночи грабить окрестные деревни и действительно доставили в лагерь некоторое количество убиенных овец; однако затем из Торона доставили обоз с припасами. Внук погибшего коннетабля, Онфруа, позаботился об этом, понимая присягу, которую он дал регенту, вполне серьезно и совершенно буквально. Телеги обоза были истыканы стрелами, возницы — злые, почерневшие на солнце, со свалявшимися светлыми волосами — бранили сарацин и утверждали, будто тех целое море. Говоря так, они плевались.
Армия, засевшая у него в тылу, раздражала Саладина. Он пытался наскакивать на Назарет, но лопатками все время чувствовал на себе пристальный взгляд Ги, и потому поворачивал обратно. Несколько раз он пытался выманить регента на равнину и там истребить, но Ги упорно сидел за земляными валами.
Когда созрел урожай, Саладин решил уйти и по дороге в Дамаск сжег плодородные поля Самарии.
Только тогда Ги с баронами выбрались из своего укрытия. Сквозь дым они погнались за уходящими сарацинами и перебили их малочисленный арьергард, на том дело и закончилось.
Ги возвращался в Иерусалим. Несколько раз ему казалось, будто он видит рядом смутно знакомое лицо. Это был простой сержант, и вряд ли они когда-либо встречались прежде, однако при виде его Ги испытывал странную тревогу: он силился что-то вспомнить — и не мог, мысль ускользала, едва начав оформляться, и тот человек скрывался за спинами прочих.
Горящие поля сменились почерневшими; затем начались нетронутые области. Уходящее войско франков встречали молчанием. Ги невозмутимо посылал своих людей в деревни за продовольствием и не обращал внимания на то, что иногда они возвращались побитыми и ни разу не спросил, чья кровь у них на одежде.
В те дни о Ги начали говорить, что он трус. Сперва об этом шептались у него за спиной, после бросали прямо ему в лицо.
Регент мог делать вид, будто не слышит перешептываний; но вот однажды, когда они проезжали через селение, разоренное сарацинами во время последнего их набега, навстречу королевской армии вышел человек в старом доспехе и остановился посреди дороги.
Ги выехал вперед и спросил у этого человека:
— Кто ты такой и почему стоишь здесь?
Человек поднял голову. Он оказался молод и глядел на регента бесстрашно и зло, суженными светлыми глазами.
— Меня зовут Фома Эрар, и это моя земля, а вот ты кто такой?
— Я Ги де Лузиньян, — сказал муж Сибиллы, — регент Королевства. Я прошу твоего разрешения проехать по этой дороге, Фома Эрар.
— За право владеть моей землей я посылаю в твою армию двух всадников, Ги де Лузиньян. Где мои люди?
С громким топотом из рядов франкской армии выехали двое молодцев, и один из них весело закричал:
— Мы здесь, сеньор Эрар!
— Молчать! — крикнул им Эрар, рассердившись. — Почему вы живы, если все наши посевы погибли?
Молодцы переглянулись, и кони их смущенно переступили с ноги на ногу. А Эрар сказал, задрав лицо к Ги де Лузиньяну:
— Я объявляю вам, монсеньор регент, что вы — трус, из-за которого сгорел наш урожай! Попробуйте мне ответить!
— Я не трус, — сказал Ги.
— Объяснитесь! — проговорил Фома Эрар и встал прямо перед лошадью Ги, широко расставив ноги — так, словно собирался простоять здесь весь день и, если понадобится, всю ночь.
— Ладно. — Ги наклонился к нему с седла. — Армия, которая стоит за моей спиной, — последняя наша армия. Если Саладин ее уничтожит, у нас больше не будет сил отгонять его от границ. Клянусь тебе, Фома Эрар, я не трус. Я знаю, что я сделал и для чего. Мне нужно было отогнать Саладина от сердца Королевства. Ты меня понимаешь?
Фома Эрар сказал:
— А мои посевы погибли и погибнут снова. Я считаю вас трусом, монсеньор.
— В таком случае, — сказал Ги, — мне придется вызвать тебя на поединок.
Но Эрар и здесь не дрогнул.
— Как же вы будете со мной сражаться, мой господин, если вы верхом, а я без коня?
— Я буду биться с тобой пешим, — сказал Ги.
— Я ведь дерусь оружием простолюдинов, — добавил Эрар, показывая на небольшой топор на длинной рукояти.
— Что ж, я буду сражаться против оружия простолюдинов, — сказал Ги.
С этими словами он спешился, двигаясь очень осторожно, чтобы не зацепиться и не упасть. Он знал, что среди тех, кто стоит сейчас у него за спиной, многим доставит удовольствие посмеяться над выскочкой. Ги был без доспеха, но в кольчуге, как и его противник.
Фома Эрар поднял топор и улыбнулся.
— А если я убью вас, монсеньор?
— Тогда тебя, должно быть, повесят, Фома Эрар, — сказал Ги.
Фома засмеялся и набросился на Ги.
Лузиньян знал, как будет драться его противник. Эрар был ниже ростом и шире в плечах. Кроме того, ему нечасто приходилось участвовать в сражениях. Кольчуга на нем — не его собственная. Должно быть, некогда она принадлежала Эрару-старшему, который спит в этой земле и одновременно с тем хмурит брови с небес, наблюдая за своим отпрыском.
Ги легко ушел от первого удара. Он не спешил атаковать. Сперва ему хотелось, чтобы Фома устал и начал сердиться. Второй удар прилетел сбоку, и Ги отбил его мечом. Третий опять обрушился сверху. Ги отскочил, и топор попал в пустоту. Эрар неловко развернулся вслед за своим оружием, и налетел прямо на Ги. Лузиньян ударил плашмя по кисти, сжимающей рукоять топора. Второй удар выбил топор на землю.
Ги сказал:
— Прошу тебя, Фома Эрар, позволь нашей армии пройти по этой дороге, иначе мне придется тебя убить.
Фома Эрар посмотрел на свой топор, лежащий на земле, и ничего не ответил.
— И я не трус, — добавил Ги совсем тихо, так что его слышал один только Фома.
Тогда Фома встретился с ним глазами.
— Вы слишком красивы для войны, монсеньор, — сказал он. — В этом все дело. Почему вы не побоялись сражаться пешим против топора?
— Я ведь победил, — напомнил Ги.
— Почему? — повторил Фома Эрар.
— Потому что я — младший сын, — сказал Ги. — Потому что мой род небогат. Потому что я рос среди таких, как ты, пока мои братья готовились стать важными сеньорами. Тебе довольно ответов или ты хочешь узнать еще что-нибудь? Я не трус, Фома Эрар! Пусти меня!
С этими словами он повернулся к побежденному спиной и начал карабкаться на коня. Кто-то помог ему, подставив руки. Когда Ги метнул взгляд в сторону этого услужающего, он снова встретился со знакомыми глазами. Глаза моргнули, потом глупо округлились, и человек бросился бежать. Он вильнул среди прочих и исчез за их спинами прежде, чем Ги успел его окликнуть.
Армия медленно двинулась дальше.
Ги ехал, подставляя лицо солнцу. Был октябрь, дышалось приятно. Когда Ги было семь лет, старший брат Жоффруа привел его на высокий холм, обрывающийся к реке, и сказал: «Если ты не трус, то сейчас же прыгнешь в реку». Ги смотрел на воду, которая пенилась далеко внизу, и часто дышал. Он до сих пор помнил это ощущение — неизбывного ужаса. За спиной — старший брат, насмешливый и безжалостный, а впереди — пропасть и река.
«Ну что? — спросил Жоффруа и засмеялся. — Ты прыгнешь? Или ты трус?»
Ги вдруг понял, что Жоффруа хочет его смерти. Он видел, как на красивом скуластом лице брата появилось жадное выражение: Жоффруа хотел почувствовать, как это бывает — когда рядом умирает человек. Должно быть, это он убил собаку. Теперь ему охота посмотреть, как погибнет брат.
Ги оттолкнул Жоффруа и бросился бежать. Старший братец громко хохотал ему в спину и кричал: «Трус! Ги — трус! Трус!».
«Я не трус, — шептал Ги на бегу. — Вовсе нет, я не трус.»
Спустя десять лет Ги все еще помнил этот случай и однажды спросил Жоффруа — уже восемнадцатилетнего: «Скажи, почему ты хотел меня убить — тогда, на обрыве?» Жоффруа не помнил. Он не помнил, как водил братца к реке, как пугал его и дразнил. Но Ги смотрел так ясно, с такой готовностью простить — что бы ни сказал ему брат, — что Жоффруа не решился открыть правду. Поэтому он проворчал: «Вовсе я не хотел убивать тебя. Просто такое испытание. Ты ведь прыгнул, и ничего с тобой не случилось, верно?» Тогда Ги понял, что Жоффруа действительно ничего не помнит.
«Нет, — подумал регент Королевства, — я не трус. Но сейчас странное время, когда любое решение, какое бы я ни принял, окажется ошибочным. И будь на моем месте кто-нибудь другой, он оказался бы в такой же точно ситуации. Боже, помоги нам! Господи, дай мне добрый совет!»
* * *
— Я хочу участвовать в кампании! — в перерывах между приступами кашля кричал король.
Двое врачей — орденский брат и старик Давуд, привезенный некогда из Египта, — в два голоса уговаривали его величество успокоиться.
— Я еще могу поправиться! — говорил он, кашляя и плача. — Я хочу встать на ноги! Давуд, скажи мне: ведь зрение вернется ко мне, если проказа меня оставит?
— Потеря зрения является следствием болезни, которая в своем развитии… — пробормотал Давуд.
Из глубины своей боли, как из гробовой пещеры, король кричал:
— Я хочу снова сесть на коня! Мне нужно увидеть, как они бегут, сарацины, как они отступают передо мной! Назови средство — любое средство, чтобы исцелиться, Давуд! Ты должен это знать. Если понадобится содрать с моего лица всю кожу — сорви ее, слышишь?
— Мой господин, возможно, лучше тебе изменить климат, — сказал Давуд. — Здесь слишком жарко. На побережье, на севере… например, в Тире… Там гораздо лучше. Ты страдаешь, потому что у тебя затруднено дыхание, однако это страдание можно облегчить…
— Тир? — сказал король резко. — Отлично!
И велел призвать к себе регента, Ги де Лузиньяна.
Ги находился в Иерусалиме — он только вчера возвратился из Самарии. Сибилла ждала его с тревогой. Она слышала разговоры о том, что регент не вступил в сражение и постарался избежать прямого столкновения с войсками Саладина, потому что регент — трус. Сибилла боялась встречи с опозоренным человеком. Вдруг она перестанет любить его?
Но он появился перед ней совсем не так, как она ожидала. Загорелый, горячий, уставший, с прямым и ясным взглядом, способным смутить даже Фому Эрара, он протянул к ней руки и прикоснулся к ее губам теплыми, гладкими губами.
— Боже! — сказала Сибилла, обхватив его обеими руками. — От вас пахнет солнцем!
А про себя подумала: «Все, что говорили о моем муже, — клевета».
Ги обвел пальцем нежный овал ее лица.
— Вы снова в тягости, жена, — сказал он.
— Как вы догадались?
Он засмеялся. Сибилла чуть прикусила губу:
— Что, лицо изменилось?
— Немного.
— Скажите сразу — расплылось.
— Вот именно, — сказал Ги.
Сибилла выпустила когти.
— Говорят, вы одолели какого-то мужлана с топором.
— Обо мне многое говорят, любимая.
— Но это правда?
— Не знаю, — сказал Ги. — Когда я вижу вас, я знаю только одно: что люблю вас. Ничего больше.
— По-вашему, — медленно проговорила Сибилла, — этого довольно, чтобы спасти Королевство?
— А что говорит ваш брат?
Она помрачнела, вывернулась из его объятий.
— Мой брат умирает. Ему больно.
— Он желает меня видеть?
— Господи! — воскликнула Сибилла. — Он желал бы видеть что угодно, лишь бы видеть.
Ги покраснел.
— Вы поняли, о чем я спрашивал.
— Да, — сказала она. — Да, он хотел, чтобы вы немедленно явились к нему. Расскажите ему о кампании. О Саладине. О ваших решениях. Расскажите во всех деталях, чтобы он мог представлять себе, как происходили события. Ничего не упускайте, для него это важно.
— Вы любите его? — спросил Ги.
— Он наш господин, — ответила Сибилла. — У нас никогда не было времени любить друг друга. Он был младшим братом, понимаете? У него были какие-то товарищи, дети баронов и сержантов, мальчики — маленькие звереныши, с которыми он возился и дрался целыми днями. А потом, когда узнали, что он болен, у него не стало никаких товарищей. В те годы я с ним почти не встречалась.
— А после?
— После… После смерти короля Амори, вы это хотели узнать?
— Да.
— Младший брат заменил нам с сестрой отца. Вы можете себе представить дружбу с отцом?
— Нет, — сказал Ги.
— Вот и я не могу… Ступайте же, он вас зовет.
Она поцеловала его в лоб — Сибилла ведь была старше своего мужа на целый год! — и отправила к королю.
Король закричал сразу, едва лишь Ги вошел:
— Регент! Рассказывайте, как вы упустили Саладина! Рассказывайте, как из-за вашей трусости он сжег весь урожай в Самарии и удрал!
— Нам удалось сохранить армию Королевства и… Саладин ушел в Дамаск.
— Ничего подобного! — захрипел король. — Дамаск? Дамаск? — Он кашлял и выкрикивал это слово, как проклятье. — Он в Дамаске? Нет, дурак, он не в Дамаске! Он — в Краке! Он осаждает… он осадил Крак! Вернулся и осадил Крак!
Ги молча смотрел, как король сражается с кашлем и яростью.
Затем Болдуин сказал:
— Я хочу Тир.
— Простите, государь, я не вполне понял ваше желание, — сказал Ги удивленный.
— Тир! — повторил король. — Я должен жить там. Так лучше для моего здоровья. Отдайте мне Тир. Заберите Иерусалим, охраняйте его, а мне отдайте Тир.
— Государь, — сказал Ги, — сейчас это невозможно… Придется перевозить двор, менять гарнизон. Госпитальеры…
— Вы не слышали? — перебил король. Он сорвал с лица покрывало и слепо уставился чуть в сторону от регента обезображенным, страшным лицом. — В Тире свежий воздух, полезный для моего здоровья. Вы меня понимаете? Вы видите меня?
— Да, — тихо сказал Ги. — Но отдать сейчас Тир я не могу, потому что…
— Вон, — сказал король. — Убирайтесь отсюда вон.
Ги попятился. Король водил из стороны в сторону невидящим лицом и хрипел:
— Трус! Предатель! Убирайтесь вон! Слышите меня? Я лишаю вас власти!
Ги повернулся и быстро вышел.
* * *
Раймон Триполитанский примчался к племяннику мгновенно — едва лишь до него донеслась первая весть о том, что тот намерен отобрать регентство у Ги де Лузиньяна.
— Он здесь! — сказал королю брат Ренье, и граф Раймон, сметя тамплиера в сторону, ворвался в королевские покои.
— Дядя! — закричал Болдуин, бросаясь к Раймону и останавливаясь в нескольких шагах от него. — Дядя! Он оскорбил меня! Мне нужен Тир — понимаете? — для поправки здоровья, потому что здесь я совсем не могу дышать, а он мне отказал!
Не колеблясь ни мгновения, Раймон протянул руки и коснулся трясущихся плеч молодого человека.
— Не плачьте, — сказал он, стараясь говорить спокойно. — Вы получите все, что вам нужно!
— Дядя, — всхлипывал Болдуин, — заберите меня из Иерусалима… Я хочу, чтобы Сибилла разошлась с этим человеком, который лжет…
Раймон слушал тихий, задыхающийся голос и слышал совсем другое. «Дядя, заберите меня обратно, в детские годы, когда болезнь еще не слишком досаждала мне. Сделайте так, чтобы я не умер».
Регентство Раймона — регентство детских лет, когда еще все можно было решить, исправить, повернуть в правильное русло. Сейчас Болдуин хотел укрыться в тех годах, словно в безопасном убежище.
«Для вас больше нет безопасного убежища, мой государь», — подумал Раймон, глядя на короля и в кровь кусая себе губы. А вслух сказал:
— Разумеется, вы тотчас получите Тир. Изменника и труса Лузиньяна, который посмел вести себя так, словно он уже сделался королем, надлежит лишить регентства и жены, а для Сибиллы подыскать надлежащего мужа.
— И она никогда… никогда не станет королевой! — добавил Болдуин. — Проклятая дура, она обманула меня своей похотливостью, а я принял обычное вожделение за великую любовь.
— Да, — сказал Раймон, — да.
— Я не побоюсь, — твердил Болдуин, — не побоюсь. Они еще все заплачут от горя!
— Да, — повторил Раймон.
— Позовите секретарей… Кто там? — вскинулся король, ощутив чужое присутствие.
— Здесь брат Ренье, — сказал Раймон.
— А, — король махнул рукой и тотчас успокоился. — Ну так пусть он позовет… Вы меня слышите, брат Ренье?
Болдуин вдруг перестал жаловаться и дрожать и заметался по комнате. Он распоряжался, требовал, звал секретарей, топал ногами, когда те запаздывали, и диктовал быстрым, бешеным шепотом. Не смея переспрашивать, они записывали — кто сколько успел, чтобы потом сличить записи и вывести королевский указ.
Все это время Раймон безмолвно сидел в углу. Брат Ренье украдкой наблюдал за королевским дядей. Граф Триполитанский не мешал тамплиеру, с усталым величием представляя тому на обозрение свою фигуру.
Пятьдесят лет, и каждый прожитый год из этих пятидесяти — как на ладони: сражения, плен, регентство, женитьба… а поговаривают еще о пиратах и шпионах, что едят из рук Раймона. Раймон слухам не препятствовал. Пусть говорят, что хотят. Раймон, граф Триполитанский — такой же прямой потомок короля Болдуина де Бурка, как и Амори, отец нынешнего Болдуина.
Брат Ренье неслышно приблизился к Раймону. Граф поднял голову, глянул на тамплиера равнодушно.
— Что вам нужно? — спросил он, поскольку брат Ренье не спешил начинать разговор.
— Вы любите его? — спросил брат Ренье.
— Какое вам дело?
Брат Ренье проговорил:
— Сдается мне, вы, сеньор, сильно озабочены тем, как бы вам прибрать к рукам Королевство.
— Я отдал бы Королевство кому-нибудь помоложе себя, — промолвил Раймон, — да только не вижу никого, кто сумел бы удержать его. Видит Бог, мне от такой заботы не слишком много радости.
Но глаза выдали его — блеснули.
Брат Ренье грустно ответил:
— У нас, сеньор, теперь другая важная забота: наш господин должен умереть прекрасно, как король. Может, ради этого Бог и помилует всех нас и Королевство.
Раймон вздрогнул всем телом, как будто его ударили: в таких выражениях и таким печальным тоном сарацины говорят о покушении на жизнь какого-нибудь владыки. Ах, как печально, что такой человек должен покинуть наш мир, однако иного способа нет.
Но брат Ренье имел в виду нечто совсем иное. Он не отвел взгляда, когда Раймон уставился на него расширенными глазами, и прошептал еле слышно:
— Пусть капризничает.
* * *
Эмерик заставил Ги пересказать весь разговор с королем, до последнего слова. Затем, не тратя времени на объяснения и разговоры, схватил брата за руку и потащил к Сибилле.
— Где Мария? — спросил он у невестки, даже не поздоровавшись. — Где ее няньки? Забирайте девочку, прихватите деньги и какие-нибудь тряпки и бегите из города.
Сибилла покачала головой.
— Ах вы, рыжая лисица, брат! — сказала она коннетаблю. — Что у вас на уме?
— Я лисица, — не стал спорить Эмерик, — а вот ваш брат король, дорогая сестра, — истинный лев. И этот лев проснулся и ревет, ощутив на своей шкуре смертельную рану. Он отберет у Лузиньяна регентство, но на этом не остановится: его лапы с когтями бьют по всем направлениям и слепо рвут все, с чем ни соприкоснутся.
— Но чем я так прогневал его? — спросил Ги. — Сейчас нельзя отправлять короля в Тир, это опасно, и, кроме того, со стратегической точки зрения…
— Боже, помоги мне, мой брат — дурак! — закричал Эмерик. — Почему молчит ваше сердце? Сдается мне, ни к чему, кроме собственной любви, вы не чутки, а это опасно! Почему вы утратили слух? Вы должны слышать, как в глубине Вселенной оползает малая песчинка, и все ваше естество должно тотчас изменяться, чтобы дышать в такт этому тихому движению… Слышите вы меня? Король просит Тир! Вы обязаны были дать ему Тир! Вы должны были упасть перед ним на колени и умолять взять себе Тир! Как вы посмели возражать Болдуину?
— У короля всегда был очень ясный рассудок, — сказал Ги. — Он должен был понять.
— Он ничего не должен! — сказал Эмерик. — Он имеет право желать Тир и получить Тир в любое мгновение, когда только захочет.
— Но ведь он сам, когда назначал меня регентом…
— Болдуин — умирающий юноша. Болдуин — король, он ваш господин. Вы не должны были говорить ему «нет».
Ги закрыл глаза. Он никогда не думал о короле как о своем ровеснике. Как о мальчике, который уже десять лет смотрит, как делается все более уродливым и немощным его тело. Ги знал, что король умирает, но не представлял себе, насколько скоро это должно произойти. Король, как всякий отец, представлялся ему вечным и могущественным властелином, сколько бы ни твердили о его юности и смертельной болезни.
— Вы должны немедленно покинуть Иерусалим, братец мой змееныш, — сказал Эмерик. — Больше вам ничего не остается. Забирайте жену и девочку и уезжайте, убегайте как можно дальше — в Газу, в Аскалон… Болдуин призвал Раймона… — Эмерик помолчал немного, а затем вздохнул и добавил: — Впрочем, брат, не так уж много вашей вины в том, что случилось. Король все равно рано или поздно позвал бы Раймона, потому что Раймон — это его детство…
Давным-давно, очутившись в плену после той неудачной стычки с сарацинами, Эмерик де Лузиньян, почти мальчик, узнал одну очень важную вещь.
Эмерик всегда обладал замечательной особенностью: он умел слушать. В его памяти хранилось множество признаний, историй, коротких, метких замечаний. Он сопоставлял чужие слова с собственными наблюдениями — и так научился понимать людей и делать правильные выводы из их поступков.
С Эмериком был сержант, немолодой человек, который поначалу все поучал юного барона и шутил над его неопытностью. В плену, однако, этот сержант расхворался и последние свои дни ничего не ел и не говорил, а только лежал. Эмерик сидел рядом, хотя знал, что совершенно не нужен умирающему. Но Эмерик хотел видеть, как умрет этот сильный, многоопытный человек. Может быть, ему все-таки понадобится чье-то присутствие.
Неожиданно, за несколько часов до самой смерти, на лице сержанта показалась улыбка. Выглядела она страшной, жалкой, так что Эмерик поначалу не поверил и спросил, наклонившись к самому уху умирающего:
— Ты улыбаешься?
— Я заново проживаю свое детство, — ответил он.
Потом он умер.
Эмерик не стал рассказывать о нем своему брату. Ги и без того поверил коннетаблю. Повинуясь распоряжению Эмерика, слуги уже приготовили телеги с припасами, водой, подняли отряд из десяти всадников — те гремели во дворе, готовясь выступить.
— Пора! — сказал Эмерик, быстро поцеловав Ги и Сибиллу. — До Аскалона путь неблизкий. Бегите — ради вашей любви, которая, на беду, сделала вас таким слепым!
Глава восьмая СЕСТРЫ
Саладин действительно отошел перед войсками Лузиньяна лишь для того, чтобы вскоре опять появиться в Королевстве. На сей раз он осадил Крак — владение Онфруа Торонского.
Изабелла стала жить в доме жениха сразу после помолвки. Она привыкала к земле и строениям на ней, знакомилась со слугами и домочадцами, слушала их разговоры, заводила себе друзей. Ей предстояло стать здесь хозяйкой, госпожой, а для этого она должна была разбираться в самых тонких мелочах.
С будущим мужем Изабелла виделась только во время трапезы. Она выходила из своих покоев, всегда строго одетая, в девичьем уборе, сияя изысканной греческой красотой, в которую Онфруа влюблялся все больше. Эта девушка королевской крови представлялась ему истинной наградой рыцаря: чашей Грааля, сосудом чистоты, божественной любви, неземного счастья. При мысли о том, что настанет время, когда ему будет дозволено прикоснуться к ней, у него захватывало дыхание, и он бледнел, точно перед лицом смертельной опасности.
Каждый раз, когда Изабелла протягивала руку и брала бокал или отрывала от виноградной грозди ягоду, он смотрел на ее пальцы. Ему казалось невероятным само представление о том, что когда-нибудь эти пальцы притронутся к его губам, скользнут по его волосам.
— Что это вы созерцаете меня, точно святое изображение? — сказала ему однажды Изабелла, когда они прогуливались по маленькому дворику с фонтаном.
Девушка подошла к воде, встала на самый край фонтана, изогнулась и всунула лицо прямо в бьющие струи. Онфруа невольно взял ее за локоть, чтобы она не упала.
— Жарко! — фыркая, сказала Изабелла. — Вам кто-нибудь говорил, монсеньор, что вы — сушеная рыба?
— Не знаю, — растерянно ответил Онфруа, чем насмешил ее еще больше.
— Ну так я вам говорю! Моя сестра ни за что не хочет мне рассказать, что с ней делали мужчины. И коннетабль, мой верный рыцарь, тоже молчит.
— Коннетабль? — Онфруа терялся все больше и больше.
Изабелла повернула к нему мокрое лицо. По ее щекам стекали веселые полоски воды, темные глаза изумрудно искрились. Большая капля воды скатилась на губы девушки и остановилась. При виде этого Онфруа едва не потерял сознание.
— Ну да, — важно объявила Изабелла. — Коннетабль объявил себя моим верным рыцарем. Я похожа на его дочку Бургонь, должно быть, потому что он меня ужасно опекал. Советовал насчет одежды. Он, впрочем, всем советует. Женщины от него без ума. У меня никогда не было лучшей подруги, чем коннетабль Королевства!
— Боже, что вы болтаете… — пробормотал Онфруа.
Он разжал пальцы, выпуская локоть Изабеллы. Она опять наклонилась к фонтану.
— Ну вот, — добавила она, — я часто об этом думаю. А вы разве нет? Ведь у вас были разные подруги? Здесь, в Краке, говорят, будто вы девственник. Собирались стать монахом и все такое. Вы действительно собирались стать монахом, мой господин? Это было бы очень прискорбно.
— Боже, о чем вы говорите! — снова сказал Онфруа.
— Ну, я ведь буду вашей женой, я должна любить вас, а вы — меня, иначе у нас не будет детей.
Онфруа молчал, глядя, как Изабелла, высунув язык, слизывает капли.
— Вы, наверное, сейчас думаете, что я — дитя, — сказала она, не глядя на него и следя за тем, как солнце играет в воде фонтана. — Что я так невинна, что не понимаю, о чем говорю и что с вами делаю. — Тут она повернулась и обожгла его своим византийским пламенным взором. — Ну так вот, я — не дитя и очень хорошо знаю, что говорю! Я нарочно вас мучаю, ясно вам? Я хочу, чтобы вы мучились! Потому что вы — сушеная рыба!
Она резко вскинула голову, чтобы получше окатить презрением своего растерявшегося жениха, но не удержала равновесия и — взмахнув в воздухе длинными волосами, длинными рукавами, распущенными концами золотого пояса — обвалилась в фонтан. Сверкающие струи воды взметнулись над ней и торжествующе обрушились на упавшую девушку.
Мгновение спустя Онфруа бросился к бассейну. Изабелла сидела в воде, отлепляя от лица мокрые пряди.
— Ну, где вы? — спросила она как ни в чем не бывало.
Глаза ее были крепко зажмурены.
Онфруа осторожно схватил ее за талию и вытащил. Тело девушки было гибким и очень горячим, как будто у нее случился жар. Затем он провел ладонями по ее лицу, стирая воду, и она тотчас распахнула глаза.
— Мой герой! — шепнула Изабелла, сияя. — Все-таки вам удалось спасти меня!
Он еще раз погладил ее по лицу и по мокрым волосам. Глаза его сузились, узкий рот шевельнулся.
— Чему это вы улыбаетесь? — спросила девушка, тотчас делаясь подозрительной.
— У вас волосы на ощупь точь-в-точь как у моей собаки.
— Вы желаете оскорбить меня, мой господин? — Изабелла надулась.
Онфруа наконец засмеялся. Она дернулась, но он удержал ее.
— Куда это вы собрались, моя госпожа?
— Я хочу переменить платье, мой господин.
— Здесь нет коннетабля, вашей лучшей подруги, моя госпожа, так что придется вам ходить в мокром.
— Вы — тиран и очень жестокий человек, — объявила Изабелла.
Они уселись рядком в тени, обнялись, чтобы удобнее было обмениваться колкостями, и провели так остаток дня и половину вечера, покуда их не позвали к ужину.
* * *
— Сибилла должна оставить своего мужа, — сказал король.
Призвали духовенство, патриарха, великих магистров обоих главных орденов.
Король настаивал на признании брака Сибиллы недействительным. Однако близкого кровного родства или прелюбодеяния доказать не удалось; самой же Сибиллы в Иерусалиме уже не было: королю доложили, что муж увез ее в Аскалон.
— Коня! — приказал король.
Приближенные ошеломленно молчали. В пустыне своей слепоты король не слышал ни одного голоса. Они даже дышать, как ему показалось, перестали.
— Вы здесь, господа? — спросил король, не двигаясь с места. — Вы слышали меня?
Брат Ренье взял его за руку.
— Мы здесь, — сказал он.
— Коня, — повторил король.
— Мой господин, вы не сможете сесть на коня, — тихо сказал брат Ренье.
— А, я забыл, — нетерпеливо оборвал король. — Ну так подайте мне телегу, как Ланселоту. Подайте прокаженному телегу, слышите вы? Я хочу ехать в Аскалон!
Никто не посмел возражать. Король ждал, пока запрягут лошадей, пока вооружат две сотни конников, пока соберут в дорогу припасы. Он отказывался разговаривать на другие темы: его интересовал только поход на Аскалон.
Раймон постоянно находился рядом и благоразумно помалкивал.
Наконец король изволил вспомнить о нем и спросил:
— Вы считаете, дядя, что я безумен?
— Нет, мой господин, — тотчас ответил Раймон. Он готовился к этому разговору и заранее обдумал возможный ответ. — Вовсе нет. Ги де Лузиньян — мятежник, которого следует покарать. Вы, мой сеньор, все еще король Иерусалима и имеете право требовать наказания мятежника.
— Моя сестра должна оставить его! — сказал Болдуин чуть тверже.
— Это было бы благоразумно с ее стороны, — согласился Раймон. — Но она женщина и слушает похотения своего тела. Сказано: к мужу будет влечение твое… Женщину влечет к мужчине, как дьявола влечет к Церкви Божией; и та, и другой желают осквернить чистое.
— Она красива, моя сестра? — спросил Болдуин.
— Вы сами это знаете, мой господин.
— Теперь, когда она родила второго ребенка и носит третьего — она все еще красива? Я давно не видел ее.
Помолчав, Раймон сказал:
— Она счастлива и потому красива.
— А Изабелла?
— Удивительная красавица.
— А я? — спросил вдруг король, шевельнувшись.
Раймон долго молчал, в слепой надежде на то, что король избавит его от необходимости отвечать. Но король больше не двигался и только громко сопел. Тогда Раймон сказал:
— Да, государь.
Король вскочил, хрипло засмеявшись:
— Ну так я поеду на телеге! Пусть все кости отскочат от моей жалкой плоти, но я доберусь до Аскалона и разорву этого жалкого мятежника!
Телегу доставили, и короля устроили там со всеми возможными удобствами: с подушками, покрывалами, мягкими тюками, набитыми свежей соломой. Брат Ренье уселся рядом, готовый подавать питье и поправлять подушки. Кругом невидимо топотали всадники.
Под колесами побежали дороги. Болдуин не мог их больше видеть, но он ощущал их всем телом, всей своей плотью, какая еще сохранила чувствительность. Он подставлял лицо ветру. Иногда налетал дождь, тогда над телегой поднимали навес.
Болдуин не спрашивал, скоро ли Аскалон или по какой местности они сейчас едут: он знал это без всяких вопросов. Однажды он изумил брата Ренье, во всех подробностях описав ему пейзаж: король ошибся лишь на несколько верст, и вскоре перед взором брата Ренье действительно показалось все то, о чем говорил Болдуин: серый храм на холме, словно завершение его скалистой вершины, маленькое селение, стекающее по склону, длинная дорога и колодец с правой ее стороны, обычно заваленный камнями; а дальше, еще правее, — десяток бедуинских палаток, где жили охранители этого колодца.
Все это было на месте и как будто нарочно ожидало приезда короля. Из колодца взяли воду, бедуинам заплатили за верную службу, и дальше покатилась телега и обоз, и протопали конные стражи.
Аскалон, «Сирийская Невеста», серые стены, многократно разрушенные и вновь возведенные из одних и тех же камней, — гордое творение человеческих рук, наедине с равниной и морем, наедине с ветром и сарацинами.
Ворота крепости были закрыты.
Король беспокойно вертелся в своей телеге. Ему не хотелось представать перед Лузиньяном больной развалиной. Пусть оскорбитель видит, что король все еще в силах уничтожить его.
— Лошадь, — велел Болдуин услужающему брату Ренье.
На этот раз Ренье не стал возражать. Привели старую, смирную, приученную сострадать людям лошадь, водрузили на нее высокое седло и на руках вынесли из телеги короля. Брат Ренье усадил его и начал привязывать. Он умел это делать так, чтобы ремни оставались почти незаметны.
— Плащ, — сказал король сквозь зубы.
Принесли и плащ, окутали короля.
Ведя королевскую лошадь в поводу, несколько знатных рыцарей и граф Раймон приблизились к Аскалону.
Ворота оставались закрыты.
Граф Раймон сделал знак, и вперед выехал трубач. Мокрый воздух заполнил гнусавый голос трубы — голос, разрывающий в сердце жилы, которые удерживают в человеке душу и не позволяют ей сбежать, сделав из воина расслабленного труса.
Тогда на стены привели Ги де Лузиньяна, и рядом с ним стояла высокая женщина с длинными черными волосами.
— Здесь король, ваш господин! — прокричал глашатай. — Его величество король требует, чтобы вы, Ги де Лузиньян, открыли перед ним ворота! Он намерен войти в этот город и отобрать его у вас! Он намерен также забрать отсюда свою сестру Сибиллу, на которой вы женились благодаря обману и ловкой лести!
Ги де Лузиньян молчал. Ветер шевелил волосы Сибиллы. Она протянула руку и сжала пальцы своего мужа.
— Здесь ваш господин, его величество король! — снова завопил глашатай.
— Я не смею возражать королю! — крикнул Ги. — Но есть силы более могущественные, чем королевская власть! Господь Бог соединил меня и эту женщину, сестру короля, и никто, даже мой господин, не в силах отобрать ее!
— Король требует, чтобы вы вернулись в Иерусалим и предстали там перед судом курии всех баронов Иерусалимского Королевства! — провозгласил человек короля.
Болдуин неподвижно сидел на коне. Ги де Лузиньян узнал эту фигуру. Король пугал его. Пусть Болдуин молчал и скрывал лицо, от него исходила звериная, неукротимая ярость. Он все еще был силен и опасен.
— Я не могу прийти! — громко ответил Ги, морщась от боли — так сильно стискивала его пальцы Сибилла. — Я болен!
Это прозвучало почти как оскорбление, но король даже не вздрогнул.
— Боже, что я делаю!.. — тихо сказал Ги, обращаясь к Сибилле.
— Любимый, мой брат обезумел. Не отдавай меня, слышишь? — отозвалась она. — Никогда не отказывайся от нашей любви!
— Король спрашивает, здесь ли его сестра, Сибилла? — донеслось снизу.
— Я здесь! — неожиданно закричала Сибилла. — Я здесь, брат! Опомнитесь, мой господин! Вы отдали меня этому человеку! Он поклялся не посягать на вашу корону, и он никогда не сделает этого, покуда вы живы!
После короткого молчания глашатай выкрикнул:
— Король, наш господин, ВСЕ ЕЩЕ ЖИВ!
Голос у него сорвался, и он отчаянно закашлялся. Болдуин по-прежнему неподвижно сидел на лошади. Раймон посматривал то на него, то на тех двоих, что жались друг к другу на аскалонской стене — точно воробьи на крыше, подумалось Раймону, и он криво усмехнулся. Все эти дети были слабы. Самый сильный из них скоро сойдет в могилу.
— Брат! — снова закричала Сибилла. — Мы любим вас! Верьте нам!
— Король велит открыть ворота.
— Нет! — сказал Ги.
И, забрав Сибиллу, ушел со стены.
Более получаса стояла тревожная тишина. Лузиньян хмуро сидел в стороне, с трудом выдерживая на себе взгляды воинов аскалонского гарнизона и собственной стражи: никто из них не решился бы сражаться против людей короля. Поднять руку на помазанника Божьего, на Иерусалимского короля, на полководца, перед которым всегда отступали сарацины — как бы сильно ни был он болен, — на такое не решился бы ни один.
И сам Ги никогда не посмел бы отдать такой приказ. Сейчас он полностью предавался на добрую волю короля. Если Болдуин ударит в ворота тараном, Аскалон падет, не выпустив ни единой стрелы. И тогда король повесит Ги, с мечом на бедре и шпорами на пятках, как поступают с предателями знатного рода.
Наконец страшные минуты истекли, под стенами послышался шум, лошадиное ржание. Сибилла, не дожидаясь, пока муж соберется с силами, выбежала на стену. Ветер обрадованно подхватил ее волосы и одежду и рванул.
— Он уходит! — воскликнула женщина. — Боже, благодарю тебя, они уходят!
Король медленно ехал впереди своего небольшого отряда. Телега, как верная собачка, тянулась за ним следом, и на ее краю сидел, свесив ноги, брат Ренье.
Граф Раймон отходил от Аскалона последним. Несколько раз он останавливался и оборачивался, но затем скрылся за горизонтом и он.
* * *
В начале ноября 1183 года Саладин набросился на Крак и захватил предместье. Почти одновременно с Саладином на Крак навалился приказ Болдуина: немедленно обвенчать Изабеллу с Онфруа Торонским! Браку сему следует послужить препятствием для Сибиллы — которая не должна, не должна, никогда не должна посягать на Иерусалимский трон!
Онфруа вернулся из сражения и едва успел с помощью оруженосцев избавиться от шлема и латных перчаток, когда ему доставили королевский приказ.
Чумазый, исхлестанный дождем, страдающий от едкого пота, Онфруа едва понимал, о чем говорит ему гонец.
— Я прорвался сюда, рискуя получить стрелу в спину, — сообщил он с равнодушным видом.
Гонец почему-то сразу не понравился молодому барону. Серые глаза Онфруа упорно уходили от тусклого взгляда посланника.
— Кто тебя отправил?
— Меня зовут Гуфье, — продолжал тот, словно не слыша вопроса. — Мой господин — граф Раймон Триполитанский, который верой и правдой служит нашему королю. Государь Болдуин велит вам немедленно обвенчаться с принцессой Изабеллой.
Онфруа сел. С его ног стянули сапоги. Молодой человек несколько раз согнул и разогнул пальцы, затем показал на кувшин, и ему тотчас подали разбавленного вина.
— Я устал, — сказал Онфруа. — Где письмо?
— На столе.
— Тебя накормили? — спросил Онфруа. — У нас не слишком хорошо сейчас с продовольствием, поскольку опять война… урожай сожгли.
— Да, я знаю, — дерзко ответил посланник.
— Как тебе удалось пробраться? — вдруг поинтересовался Онфруа.
— Они принимали меня за своего, — ответил Гуфье.
— Я понял, — сказал Онфруа. — Теперь уйди. Отдыхай, как тебе вздумается. Завтра можешь остаться и сражаться рядом с нами, а можешь уехать к своему господину.
— Я вернусь к моему господину, — сказал Гуфье.
Онфруа не ответил. Ему подали письмо, и он увидел оттиск королевской печати на свинцовом кругляше. Читать не стал. Уронил послание на колени, задумался, свесив голову на грудь. Не так хотелось ему объявить Изабеллу своей супругой. Не между боями. Не поспешно, словно они двое украли что-то лакомое и спешат проглотить, пока их не обнаружили и не отобрали похищенного.
Однако Изабелла восприняла случившееся совершенно иначе.
Одиннадцатилетняя невеста напустила на себя ужасно строгий, печальный вид и явилась перед нареченным женихом в темных одеждах.
— Я все знаю, — сообщила она. — Мне надлежит пожертвовать собой, дабы исполнилась воля нашего господина короля.
Онфруа, который так и не приучился относиться к подобным высказываниям как к обычным детским выходкам, искренне огорчился.
— Я не знал, что этот брак настолько вам противен.
— Очень противен! — объявила Изабелла безжалостно.
— Если вы пожелаете, он останется незавершенным, — сказал Онфруа.
— Возможно, этого вы желаете! — ответила Изабелла.
Он растерялся. Изабелла уселась за стол, придвинула к себе блюдо, на котором лежал запеченный свиной бок, и принялась отрезать себе кусочек.
— Госпожа, — взмолился наконец Онфруа, — я сделаю все по вашему желанию.
— Кого волнуют мои желания! — сказала Изабелла, жуя. — Ни моего брата короля, ни вас. Все заняты одним: как спасти Королевство. И мы, женщины королевской крови, должны отдавать свою кровь так же, как это делают мужчины на поле боя.
Онфруа резко встал и вышел из-за стола. Ему вдруг сделалось дурно.
* * *
Прямо под стенами Крака шел бой, предместье горело в нескольких местах, и до верхних окон замка дотягивался кислый запах пожара. Дождь поливал сражающихся и силился загасить огонь.
Изабелла в красном платье стояла посреди покоя, а Онфруа смотрел, как она раздевается. Она не спешила и как будто совершенно не волновалась. Впервые он увидел ее руки обнаженными выше локтя. Круглые, гладкие девчоночьи руки. Ни одного изъяна на смуглой коже. В низком вырезе рубашки виднелась нахальная подростковая грудь. Молодой сеньор Торона никогда прежде об этом не думал, но сейчас, когда он рассматривал свою жену, он вдруг понял, что та выглядит очень вызывающе. Не соблазнительно, как подобало бы зрелой красавице, а дерзко — как подобает юному воину, выходящему на первый поединок.
— Мне страшно, — сказал вдруг Онфруа, плохо понимая, что он произносит и зачем.
Изабелла обернулась, высокомерно подняв брови.
— Чего вы боитесь?
Он пожал плечами.
— Идите ко мне, — приказала Изабелла. — И ничего не бойтесь.
Она перевела дыхание и закрыла глаза. А когда открыла их, Онфруа уже стоял рядом и смотрел на нее.
— Ну, давайте, — распорядилась девушка.
— Что?
— Меня предупреждали о том, что вы глупы! — заплакала Изабелла. — Но оказалось, что вы еще глупее… Боже мой, как мне не повезло! У Сибиллы муж хитрый, он знает, как обращаться с женщинами, а вы… вы просто…
— Сушеная рыба, — подсказал Онфруа.
— Может быть!
Он осторожно поцеловал ее. Она тотчас раскрыла глаза и осторожно улыбнулась.
— Ну, смотрите же! — угрожающе произнесла она и погрозила ему кулачком. — Не вздумайте оплошать!
* * *
Аскалон и Яффа принадлежали принцессе Сибилле Анжуйской — они были ее приданым.
— Он не решился бы отобрать у меня Аскалон, — сказала Сибилла мужу, когда Болдуин уже ушел и все страхи, связанные с его появлением, стали казаться напрасными. — Мы здесь дома. И ордена вас поддерживают.
— Кроме ордена Монжуа, — добавил Ги. — Того самого, которому вы с вашим первым мужем подарили в Аскалоне четыре башни.
Сибилла вздохнула.
— Расскажите о вашем первом муже, — вдруг попросил Ги.
Сибилла посмотрела на Лузиньяна искоса и устроилась у его ног, положив голову ему на колени.
— Это был здоровенный мужчина. Похожий на одну из аскалонских башен. Огромный. Когда я впервые увидела его, — задумчиво проговорила она, — мне было пятнадцать лет, и я подумала: «Сколько превосходно зажаренных поросят и отлично пропеченных гусей с яблоками, должно быть, пошло на то, чтобы построить эдакую человеческую громадину!» Я была очень хозяйственная девочка, мой сеньор, и чрезвычайно гордилась тем, что у меня есть два города. Старый коннетабль Онфруа, дед нынешнего Онфруа, — он всегда рассказывал мне о доходах, которые я должна получить от таких-то и таких-то земель, так что я отлично разбиралась в этих вещах.
— Он понравился вам? — спросил Ги.
Сибилла повернула голову и посмотрела на мужа искоса.
— Какой ответ пришелся бы вам по вкусу?
— Не знаю…
— В таком случае — да, пожалуй, понравился. Уверенный в себе, в людях, в окружающем мире. Боже мой, как он растерялся, когда у него началась лихорадка! Сперва он просто не поверил в то, что мог столь бесславно захворать. О, какое предательство! Удар в спину! Целыми днями лежал и плакал.
— Вам было жаль его? — продолжал расспрашивать Ги.
Сибилла шевельнулась у него на коленях.
— Конечно! Ведь это был мой мужчина. Но если уж говорить совсем честно, то я была занята своей беременностью. А мой бедный супруг все жаловался и боялся. Знаете, у него был такой жар, что его слезы обжигали мне ладони и вскипали прямо на его скулах…
— Не может быть, — сказал Ги.
Сибилла двинула красивой длинной бровью.
— Поверьте мне… Я росла рядом с братом, который болел куда страшнее, чем этот мой огромный, хорошо кормленый муж. А мой брат, насколько я знала, никогда не жаловался. Поэтому меня очень удивило малодушие моего первого мужа. Нет, я почти не жалела его. Он сам превосходно справлялся с этой задачей и скорбел о своем здоровье с утра до вечера. А потом однажды меня разбудили сразу после рассвета и сказали, что мой муж умер. Он был очень обижен. До самой своей смерти он считал, что с ним поступили несправедливо…
Ги наклонился и поцеловал ее волосы.
— Вы другой, — продолжала Сибилла. — Гилельм не умел встречать неудачи. А вы — умеете. Поэтому ни одна из них не сломит вас.
— Пока вы со мной — да, — шепнул он прямо ей в ухо.
Темный, армянский глаз, выглядывающий из-под пряди, загорелся дьявольским огнем, быстрые сильные пальцы Сибиллы пробежали по телу ее мужа и остановились на его плечах.
— Вот что у вас на уме, жена! — сказал Ги, ухватив ее за бока, точно простушку на сеновале. — Я всегда знал, что нельзя доверять принцессе из Анжуйского дома!
— Да? — смеялась Сибилла. — Откуда вы это знали? Кто вам нашептал?
— Не скажу! — ответил Ги.
Они устроились прямо на полу, на свежем тростнике, который срезали несколько дней назад. Девочка Мария, любопытная, как зверек, выбралась на голоса родителей и остановилась возле головы матери. Сибилла заметила ее только после того, как цепкие пальцы ребенка больно дернули ее за волосы.
— Ай! — вскрикнула Сибилла.
А Ги схватил малышку и притянул к себе. Девочка тотчас принялась деловито лазать между отцом и матерью, исследуя их одежду, носы, пальцы и время от времени изрекая какие-то удивительные истины. Ги наблюдал за нею с нескрываемым восторгом, Сибилла — ревниво.
— Вы совсем не похожи на моего первого мужа, — сказала она, нарочно желая задеть Ги.
— Это потому, что я заранее знал, что покоряться женщине сладко.
Сибилла вдруг высвободилась, села на полу, пригладила волосы.
— Король сильно разгневан на вас и меня, — сказала она.
— Что он может сделать? — возразил Ги. — Он уже лишил меня регентства, но отобрать у меня жену не в силах даже король. Все прочее — несущественно.
* * *
Сеньор Родриго, магистр ордена Монжуа, встретился с Лузиньяном вечером того же дня. Родриго совершенно не походил на значительного, могущественного господина, о котором некогда рассказывал Гвибер своему другу Ги. Сеньор Родриго оказался невысокого роста, с виду даже как будто незначительный. Несмотря на то, что держался Родриго очень сдержанно, Ги угадывал в нем человека нервного, всегда готового встретить неприятность. Казалось, самый воздух вокруг магистра закипал от беспокойства.
Они обсуждали те самые четыре аскалонские башни, которые принадлежали ордену. Ги подтвердил дарение, сделанное его предшественником. Сеньор Родриго пытался было заговорить о том, что случилось бы, вздумай орден перейти на сторону Болдуина, но вовремя осекся и прикусил губу.
Ги де Лузиньян сказал:
— Ни я, ни вы никогда не посмеем сделать что-либо во вред королю. Мы обязаны чтить его священный сан. Вторая наша с вами забота — принцесса Сибилла, которую мы должны охранять и для которой обязаны сберечь Иерусалимский престол. А третья — наши с вами души, сеньор Родриго, и ради этого мы будем собирать земные деньги и выкупать на волю пленных, дабы они упрашивали Бога помиловать нас, поскольку спастись собственными силами ни вы, ни я не в состоянии…
Сеньор Родриго молча смотрел на молодого мужа Сибиллы, как будто оценивал его. Неожиданно магистр улыбнулся и сразу стал старым. По всему его строгому усталому лицу побежали морщинки, рот растянулся и обнаружил свою бескровность.
— Вы, конечно, правы, — произнес Родриго медленно, как будто тщательно пережевывая каждое слово. — Наш орден вряд ли когда-нибудь станет достаточно большим, потому что все, кто хочет соединить в себе рыцаря и святого, отправляются к тамплиерам и госпитальерам. Но мы и нашими слабыми силами будем защищать башни Аскалона от сарацин, а любые деньги, какие попадут к нам в руки, отдадим нашим врагам в обмен на пленных.
Он перестал улыбаться и посмотрел на Ги так пристально, что тот поневоле заподозрил магистра в каких-то тайных мыслях.
На самом деле магистр думал: «Удача и неудача имеют собственных избранников, и если иметь верный глаз, то можно заранее определить, к чему у человека наибольшая склонность. Монсеньор Гилельм предназначался для победы и потому умер от пустяковой болезни. Монсеньор Ги рожден для поражений — кто знает, не спасет ли этот человек наше бедное Королевство…»
* * *
Через несколько дней новый гонец доставил Сибилле послание от ее брата. С развернутым письмом в руках, оставив на щеках гонца два пылающих пятна от пощечин, Сибилла вбежала к мужу.
— Он отобрал у меня Яффу! Он вошел в Яффу с войсками! Он разместил там свои гарнизоны! Господь милосердный, Боже справедливый, когда же ты приберешь его к себе?
— Не надо так говорить, — сказал Ги, отбирая у нее письмо.
— Брат лишил меня приданого! — продолжала она. — Он посягнул на мое достояние! Он посмел наложить руку на Яффу! О, сеньор Ги, как мне теперь быть? Почему вы молчите? Соберите же войска, ступайте на Яффу, укоротите моего брата — ведь очевидно, что болезнь и страх смерти лишили его рассудка!
Ги смотрел, как она злится. В ярости Сибилла становилась страшной: глаза распахивались на пол-лица и начинали гореть, рот проваливался, нежный овал искажался и делался мятым.
— Вы похожи на своего брата, — сказал наконец Ги.
— Разумеется! — фыркнула она. — Ведь я — единоутробная сестра, а не единокровная, как Изабелла. И хорошо бы ему помнить об этом!
— Хорошо также и то, что вы не мужчина, моя госпожа, иначе вы непременно собрали бы войско и двинулись прямо на Иерусалим.
— А вы — не мужчина, коль скоро не собираетесь делать этого! — отрезала Сибилла.
Ги встал, осторожно взял ее за запястья. Она рванулась прочь, но, к большому удивлению принцессы, муж держал ее крепко.
— Пустите! — приказала Сибилла.
Ги не отвечал, просто смотрел ей в лицо и ждал, пока она успокоится. Но она продолжала шипеть и норовила ударить его коленом.
— За что вы сердитесь? — спросил наконец Ги.
— Я не сержусь! — сказала она, выдернула руки и убежала.
Ги задумчиво посмотрел ей в спину. Король занял Яффу. Что он предпримет дальше?
А в Яффе король собрал всех своих важнейших вассалов и объявил свою сестру Сибиллу и самого себя — бастардами, ублюдками, плодами незаконной связи короля Амори с его четвероюродной сестрой Агнессой, связи, которую осудила и разорвала Церковь.
— Сибилла не может наследовать трон! — сипел король, зная, что его очень внимательно слушают — так внимательно, что не требовалось видеть лиц. — Сибилла, как и я сам, — незаконное дитя! Господь поразил меня проказой для того, чтобы зримым знаком отметить позор нашего с ней рождения. Прежде, пока еще глаза служили мне, я видел иногда в зеркале мое лицо. Вы все видели это лицо. Безобразное лицо ублюдка, замыкающего собой целую вереницу греховодников — прелюбодеев, стяжателей, предателей. И если я унаследовал Королевство, то вовсе не от отца, а от дяди, от крестного, чье имя я ношу!
Сколько раз рассказывали мальчику Болдуину о том торжественном дне, когда его отец Амори — еще не король, еще только граф Аскалона и Яффы — пришел к своему господину и старшему брату и попросил того стать восприемником новорожденного племянника. Болдуин слышал об этом так часто, что постепенно ему начало казаться, будто он на самом деле помнит все увиденное и услышанное в тот день. В тот день, когда все те немолодые, сердитые сеньоры, которые нынче окружали короля, были еще невероятно молоды.
Дядя, высокий, с темными вьющимися волосами, с лучистым взором — каким он предстает на статуе в своей гробнице, — залитый светом в просторном, серовато-золотистом Храме, при Гробе, держит на руках ребенка. Почему король, такой красивый, отважный и любезный, не имел детей? Почему довольствовался детьми своего некрасивого брата?
Тонкое полотно крестильной рубахи расшито кружевом. Ребенок, по обыкновению всех детей, громко орет над купелью, его могучий рев заполняет все пространство под куполом, по освященной воде бегает рябь и скачут редкие золотые искры от свечей, факелов и пробравшихся сюда полос пыльного света. Крестины — веселое дело. Повелительный крик ребенка звучит оглушающе.
Король дает ему свое имя и прибавляет:
— Такому прекрасному крестнику я подарю мое Королевство!
Спустя несколько лет церковные власти сумели настоять на разводе Амори с графиней Эдесской, матерью Сибиллы и Болдуина, поскольку между мужем и женой существовала недопустимо близкая степень родства. И Амори, ради укрепления столь нужного Королевству союза с Византией, взял себе другую супругу, привезенную из-за моря Марию Комнину, константинопольскую царевну…
— Никогда Сибилла не будет наследовать мой престол, — сказал король почти радостно. — Об этом позаботится другая наследница — Изабелла, законная дочь короля Амори. Я дал ей доброго мужа, благородного человека, рожденного в Святой Земле. Он сумеет защитить Изабеллу и Иерусалим.
Из Яффы король направился прямо к осажденному Краку. К тому времени, когда осада с Крака будет снята, Изабелла должна быть уже замужем.
По дороге к королевскому отряду присоединялись воины: в каждом фьефе король забирал столько, сколько причиталось за это земельное держание, так что на север явилась уже значительная армия.
Саладин несколько раз сердито огрызнулся и отошел. Он знал, что ему предстоит ждать, и готов был потратить на это ожидание еще несколько лет. Ждать, пока жив этот мальчишка, наделенный от Бога таинственной силой, подобно святому, перед которым отступает любой неприятель, обладающий телесностью или воздушный. Саладин был благоразумен и не спорил со святым. Он лишь злил его иногда, а заодно и присматривался к тем, кто займет место Прокаженного после его смерти. И ему очень нравилось то, что он видел.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ КОРОНА
Глава девятая КЛЮЧИ ОТ КОРОЛЕВСТВА
Незнакомый мальчик лежал в гробу, строго взирая на свою мать пустыми желтыми веками. Сибилла не решалась прикоснуться к нему: при жизни это дитя не дозволяло ей ласкать себя, и после смерти сына она не находила в себе смелости нарушить его запрет.
Кроме того, умерший мальчик был королем.
За тот год, что Сибилла не видела старшего сына, он изменился. Когда они расставались, он походил на своего отца, Гилельма, того самого, который был похож на башню: крепкий, с толстыми щеками, с большим подбородком, которому суждено при взрослении сделаться квадратным.
Не от того ли, что этот суровый маленький мальчик тосковал по своей нелюбимой матери, он начал изменяться, все больше и больше делаясь похожим на нее? Сибилла не могла бы ответить на этот вопрос. Она даже не решалась задать этот вопрос. Просто смотрела на лицо, которого прежде никогда не видела.
Точнее — нет, она видела его… Много лет назад, в детстве, когда ее младшему брату Болдуину было шесть. Тот же острый нос и те же тени на щеках, под выпирающими скулами. Сибилла думала, что давным-давно забыла, как выглядит ее брат. Но король как будто вернулся и снова предстал перед сестрой — на сей раз в облике ее сына.
Эти двое, дядя и племянник, ее брат и ее сын, сошли в могилу один за другим. В большой семье случаются времена, когда смерть разом забирает несколько человек, а оставшиеся какое-то время барахтаются в новых условиях, совершенно растерянные. Должно быть, есть некто, кого это забавляет.
Последним деянием умирающего короля Болдуина была коронация племянника — сына Сибиллы. Этого самого, который сейчас будет погребен у подножия Голгофы. Ребенка вызвали к дяде, и он явился в сопровождении маленькой суетливой свиты.
Бесформенная, обмотанная тряпками, пахнущая незнакомыми благовониями туша ворочалась на троне и что-то сипела и хрипела, но маленького мальчика это не испугало и не смутило. Он стоял посреди большого зала и смотрел, почти не моргая, на то странное существо, которое распоряжалось сейчас его жизнью.
Под взглядом этого ребенка многие смущались. Он мало говорил, однако некоторым взрослым начинало казаться, будто ему открыты о них какие-то тайны. Должно быть, так оно и было на самом деле, потому что такое случается с детьми, которые рано умрут. Но сам мальчик имел о своей смерти весьма смутное представление, а взрослые о ней не догадывались.
Когда король замолчал, ребенок повелительно посмотрел на стоявшего рядом с троном орденского брата.
Брат Ренье сказал:
— Его величество король желает короновать тебя в Храме Гроба.
— Я согласен, — сказал мальчик.
И тогда вернулось и воплотилось то воспоминание, которое присвоил себе король Болдуин, слушая чудесную историю от старших: храм, дитя и обещание короля подарить ребенку Королевство.
Среди нарядного духовенства, окруженные друзьями — магистрами орденов, преданными вассалами, — стояли дядя и племянник, и в широких солнечных лучах, прорезавших воздушное пространство Храма, медленно шевелился дымок благовоний. Корона как будто плыла над головами, поддерживаемая двумя рослыми священнослужителями: облаченные в золотистые одежды, они как будто растворялись в воздухе, становились почти невидимыми.
Красивое, серьезное дитя смотрело на драгоценную вещь, которая воплощала в себе власть над самым священным местом на земле.
Громко звучал хор. Король сидел в особом высоком кресле, и крепкие руки брата Ренье, который скрывался за спинкой, держали его, не позволяя сползать набок. Это были надежные руки, им вполне можно было довериться.
Все потребные по сему случаю слова возглашал патриарх. Король только слушал — молчал и не шевелился.
А перед его слепыми глазами стояла картина, которой он никогда въяве не видел: красавец король Болдуин, третий этого имени, и льющийся отовсюду густой золотой свет, и шумная вода в купели, и младенец в бесконечно длинной шитой рубахе, гневно кричащий в руках патриарха… Звучный голос короля наполняет пространство Храма: «Такому прекрасному крестнику я подарю Королевство!»
— Я подарю тебе Королевство, — еле слышно шепчет король Болдуин, четвертый этого имени. — Такому прекрасному крестнику я подарю Королевство…
Ребенок как будто слышит его слова. Он поворачивает голову и долго смотрит на дядю. И тот, слепой, ощущает на себе этот взгляд, и мертвые губы на мертвом лице пытаются растянуться в улыбку.
* * *
Прокаженный король умер в марте 1185 года от Воплощения.
Первым о его смерти узнал брат Ренье: по тому, что в комнате затихло сиплое дыхание, и рука, обмотанная шелком, перестала вздрагивать под покрывалом.
Почти сразу же после этого к Болдуину явился граф Раймон Триполитанский. При виде его брат Ренье встал и, опустив голову, направился к выходу.
— Вы куда? — спросил его граф Раймон.
— Мое служение окончено, — ответил брат Ренье.
Он ушел, и о нем тут же забыли.
Раймон бросился к своему племяннику. Ему показалось, что тот еще дышит, но это был просто сквозняк. Граф сдернул покрывало с лицо умершего. Страшная маска глянула на него и вдруг прямо на глазах у Раймона начала изменяться. Безобразные толстые складки расправлялись — они никуда не исчезали, но переставали страдальчески морщиться и ложились достойно, правильными волнами набегая на лоб и голые веки.
Глядя в это лицо, трудно было представить себе, что оно принадлежало молодому человеку. Ничего от молодости не сохранилось в нем. Оно изменялось и изменялось и как будто отходило в вечность, в невозможные, отдаленнейшие века, туда, где солнце останавливалось над Иерихоном, и еще дальше — туда, где праведный Енох, носящий имя каинова отродья, плакал и обличал грехи всего мира.
И Раймону вдруг показалось, что Болдуин добровольно взял на себя эту проказу — подобно тому, как древний пророк принял на себя оскверненное грехами имя, — чтобы остановить нечто страшное, наползающее на потомков короля Болдуина де Бурка.
Третьим, кто узнал о смерти короля, был Ги де Лузиньян.
Он проснулся в цитадели Аскалона, где они с Сибиллой скрывались от тех, кто пытался их разлучить. Их покои были полны тишины. Тишина исходила от спящей Сибиллы, в распущенных черных волосах которой таились все запахи, все шорохи цветущих садов, а если прислушаться, зарывшись в эту густую, пушистую копну, — то и влюбленный шепот.
Ги открыл глаза, потому что ему приснилась смерть короля.
Это был странный сон. Король лежал на своей постели, подобный не человеческому существу, но чему-то гораздо более странному и древнему, опасному и в то же время печальному. Слева от него сидел и плакал брат Ренье. Слезы у него были добрые, тяжелые; такими слезами возможно было бы смыть с лица умершего все лиловые пятна, испятнавшие его щеки, только ни Бог, ни брат Ренье, ни сам король этого не желали.
А справа стояла смерть. Ги в своем сне сразу узнал ее. И еще он понял, что она всегда находилась рядом с королем, и король хорошо знал о ее присутствии. Более того — о постоянной близости королевской смерти догадывался и сам Ги, хотя раньше он не понимал, что именно он чувствует в Иерусалиме.
Смерть наклонилась над Болдуином и поцеловала его в губы, а затем тихонько вышла, и на ее смутно очерченном, тающем в дымке сновидения лице играла таинственная улыбка — как у женщины, которая только что сменила возлюбленного.
Ги встал, пробрался в детские комнаты, где спали его дочери — Мария и Алиса. Два могучих младенца, разметавшись во сне, обнимались на широкой кровати. Одеяла, скомканные, побежденные в неравной битве, валялись у их ног. Мария обхватила Алису крепкой рукой — у этой девочки широкая ладонь, совсем не девичья, унаследованная от деда Гуго Лузиньяна. Алиса пристроила голову на плечо сестры. Алиса совсем крошка по сравнению с ней и все равно выглядит крепкой. И разговаривает басом, чем огорчает мать и очень смешит отца.
Две сказочные принцессы, две богатырши, любая из которых с мечом в руке сумеет отстоять Королевство.
Ги опустился на колени возле их кровати, сложил руки и стал молиться. Он хотел просить Пресвятую Деву спасти и оградить его детей от несчастливой участи и от греха, но не смог вымолвить ни слова. Ни одна мысль не шла ему на ум; одно только чувство горячей благодарности переполняло его, и он до самой глубины души ощущал себя счастливым.
Потом он встал и начал собирать одежду.
Сибилла проснулась от его отсутствия и босиком вышла к мужу.
— Чем это вы заняты? — спросила она шепотом. — Решили сбежать от меня?
— Ваш брат умер, — сказал Ги так уверенно, словно ему только что доложили об этом.
— Откуда вы знаете?
— Мне это приснилось.
Сибилла внимательно всмотрелась в лицо мужа, едва различимое в полумраке.
— Что вы хотите делать, мой господин?
— Я хочу поехать в Иерусалим, — сказал Ги. И добавил: — Простите меня.
— Граф Раймон — регент при новом короле, — прошептала Сибилла. — При моем мальчике.
— Вы теперь королева-мать, — сказал Ги, целуя ее в щеку.
Она высвободилась, тряхнула волосами.
— Для чего вы хотите ехать в Иерусалим? — спросила она. — Нового короля уже короновали, и сделали это без нас. Граф Раймон ненавидит вас. Он пытался вас убить и попытается сделать это снова.
— Я должен проводить вашего брата, — сказал Ги. — Видит Бог, я любил его. Для чего он приснился мне мертвым? Не приглашает ли он меня на свое погребение? Не желает ли помириться со мной после смерти?
— Мой брат и без примирения с нами был великим королем, — сердито сказала Сибилла. — Для чего вам ехать? Останьтесь!
Ги поцеловал жену в нос.
— Никому даже в голову не придет искать меня в Иерусалиме, госпожа моя. Не стоит печалиться и опасаться. Лучше помогите мне надеть кольчугу.
В простом платье, с грязными волосами, со старым мечом за спиной, Ги де Лузиньян приехал в Иерусалим в день погребения короля Болдуина. Шел дождь, улицы были полны народу. Бойко шла торговля съестным, и Ги купил и сжевал на ходу приторный пирог — просто для того, чтобы ощутить себя как можно более живым.
Ги сразу понял, что в самый Храм на погребение ему не пробиться: весь двор был полон знатных сеньоров, и для того, чтобы пройти сквозь их толпу, сеньору Ги потребовалось бы назвать свое имя. А этого делать не следовало.
И потому он кружил по улочкам вокруг Храма и все выискивал для себя лазейку. Следовало найти тамплиеров, которые всегда поддерживали его; они могли бы дать ему белый плащ с красным крестом и провести внутрь.
Но тут кто-то крепко схватил его за руку, и жаркий голос прошептал прямо в ухо Лузиньяну:
— Сеньор Ги! Ах, пресвятая Чаша, ну вот я вас и нашел!
Ги дернул руку и чуть отстранился. Перед ним стоял, приплясывая на месте, Гвибер — постаревший, серый и истасканный, но все с той же напряженной улыбкой и тревожными глазами.
— Я рад тебя видеть, Гвибер, — сказал Ги.
— Вы помните мое имя, сеньор Ги? — удивился Гвибер. — Ну, вот так радость для дурака! Вы закапывались в песок, сеньор Ги? Вам доводилось закапываться в песок?
— Нет, — сказал Ги вполне серьезно. — Скажи, Гвибер, ты можешь провести меня в Храм?
— В Храм? Для чего же вам это понадобилось? — Гвибер задумался. Брови задергались на его лбу, белое пигментное пятно на щеке вдруг покраснело, и Гвибер поскреб его ногтями. — Вы ведь помните, что это не проказа, мой господин? Просто пятно. Оно у меня с рождения. А вот проказа была у короля. Она его и убила… А! — Он вдруг перестал кривляться и посмотрел на Ги вполне осмысленно. — Вы хотели проститься с королем?
— Да, — сказал Ги просто.
— Я бы тоже этого хотел… Но я знаю способ.
— Я и не сомневался в том, что ты знаешь способ, — сказал Ги.
— Идем.
Гвибер снова схватил его за руку и потащил за собой. По дороге он несколько раз подбегал к разным людям и что-то шептал им на ухо; те морщились, отворачивались, но в конце концов кивали и провожали Гвибера и его спутника.
Внутри Храма они остановились. Там было очень душно. Горели тысячи свечей. Где-то очень далеко, впереди, находился гроб с телом короля. А все пространство между гробом и входом было занято людьми — прекрасными сеньорами в прекрасных одеждах. Возле самого гроба, недосягаемо далеко, находился мальчик-король, сын Сибиллы, но Ги не мог видеть его с того места, где находился.
Исключительно ловко ввинчиваясь в толпу, Гвибер пробирался все ближе к телу покойного короля, и Ги — вместе со своим спутником. Чтобы их не разлучили, Ги обхватил Гвибера за талию обеими руками. Лишь прикоснувшись к Гвиберу, Ги вдруг понял, что тот уже не молод. Определить возраст Гвибера по его лицу было невозможно, и руки у него оставались крепкими. Прожитые годы таились у Гвибера в утробе — в утробе, которая долго голодала, сносила жестокие побои и много раз сжималась от смертного страха.
Неожиданно Ги увидел своего брата Эмерика. Коннетабль стоял возле маленького короля — по-прежнему закрытого спинами придворных. Присутствовала и супруга коннетабля, но Эмерик смотрел не на нее, а на младшую сестру умершего, на Изабеллу.
Изабелла прибыла с мужем. Онфруа, и без того белесый, в белой одежде сделался совершенно бесплотным, точно облупленная фреска. Изабелла, девочка в уборе взрослой женщины, большеглазая, большеротая, простодушно плакала. Эти муж и жена, двое обвенчанных подростков, в окружении сеньоров — немолодых, крепких, уверенных в себе и в земле, на которой они стоят, — выглядели совершенно беззащитными. Как будто любой из присутствующих здесь мог по собственному желанию переломить их и раскрошить между пальцами.
Эмерик почти не скрывал своей тайны. В его печальном взгляде, устремленном на маленькую Изабеллу, было столько любви, что Ги понял: ради этой любви Эмерик будет защищать Онфруа от любого, даже от самого страшного врага.
— Смотрите! — шепнул ему Гвибер. — Скорее смотрите, пока те двое сеньоров отошли.
Действительно, перед приятелями открылся просвет, и Ги наконец увидел умершего короля.
Как и в том сне, король не был похож на человека. Окруженный цветами и лентами, среди белых покрывал, в гробу лежал стройный юноша со львиной головой. В его облике не было ничего неестественного — он казался таким же гармоничным и изящным, как тот маленький божок, что был найден Гвибером в песках и подарен сеньору Ги в один из первых дней, проведенных им в Иерусалиме.
Затем стоявшие впереди сеньоры снова сомкнули плечи.
Гвибер осторожно повлек Ги к выходу. Это оказалось значительно легче, чем пробиться вперед.
— Здесь граф Раймон, — сказал Гвибер, когда они наконец выбрались во двор. — Он ненавидит вас, сеньор. И потому послушайте совета: уходите из города!
Ги задумчиво посмотрел на Гвибера, обтер ладонью лицо, мокрое от дождя.
— Откуда ты так много знаешь обо мне, о графе Раймоне? Кто ты такой, Гвибер?
Гвибер быстро затряс головой, схватился ладонями за уши и бросился бежать, толкая людей в толпе и получая от них ответные тычки. Ги проводил его глазами и плотнее завернулся в плащ. Поначалу он собирался зайти в дом своего брата, но затем почему-то передумал. Если Эмерик не прислал ему приглашения, значит, младшего Лузиньяна не должны сейчас видеть в Иерусалиме.
Наступала пора нового короля Болдуина, пятого этого имени. Ги прислонился к стене, холодной и влажной, как будто впитавшей в себя минувшую зиму. Странным показалось ему, что то ощущение, которое всегда охватывало его в присутствии ныне покойного короля, — ощущение близости смерти — не изменилось. Смерть по-прежнему находилась рядом. Как будто еще не все свои дела она здесь завершила.
* * *
Умерший Прокаженный король еще долго не позволит забыть о себе. Больше года минуло с тех пор, как не стало его на земле, а все еще сохраняется в мире тепло его дыхания.
Напоминания о покойном брате были рассыпаны в цитадели повсюду, и Сибилла то сердилась на него, как на живого, то плакала — жалея. Как же боялся Болдуин, чтобы Королевство не отобрали у его маленького племянника, как заботился об этом! И все оказалось напрасным. Спустя год после дяди ребенок тоже ушел.
Вся предусмотрительность Болдуина оказалась тщетной, и все оставленные им после себя ловушки старели и выходили из строя одна за другой.
Раймон Триполитанский, хранитель его детства, которому умирающий король поручил мальчика, своего наследника, не помнил себя от горя, когда ребенок скончался. Это произошло внезапно: еще вчера царственное дитя играло в своих покоях, а ночью малыша охватил страшный жар, и к утру — пожелтевший, с пергаментной кожей — он неподвижно лежал в своей постели и едва мог вздохнуть.
За все те неполные шесть лет, что он прожил на земле, у мальчика-короля никогда не было близкого человека. Мать всегда жила вдали от него — у нее была собственная судьба. Ни отчим, ни сестры не появлялись в его жизни, и даже регент Раймон не столько любил короля, сколько пекся о своем регентстве.
Вне себя от ужаса и досады Раймон сказал Сибилле — прямо над гробом ее первенца:
— Это вы отравили его, чтобы освободить трон для вашего любовника!
Триполитанский граф был настолько поглощен своей бедой, что не сразу увидел женщину, которой только что бросил обвинение. А когда наконец удосужился поднять глаза и всмотреться в белое лицо, словно повисшее в полумраке над бесформенным клубком темных одежд, обрамленное копной длинных, черных, растрепанных волос, — только тогда Раймон содрогнулся, ибо понял, с кем теперь имеет дело.
В первые годы замужества Сибилла немного подурнела. Такое часто случается с женщинами, когда они только-только начинают осваиваться со своей осуществленной любовью. Счастье неизбежно оказывается куда более тесным пространством, нежели им мечталось, и должно пройти несколько лет, прежде чем они поймут всю важность ограничений для рая.
Для Сибиллы это понимание наступило разом, вместе со смертью первенца — ребенка, которого она никогда не знала, никогда по-настоящему не любила, которого помнила только ее утроба, но не сердце, сколько бы сожалений ни мучило ее.
Раймон увидел ее лицо, мгновенно похудевшее, обретшее твердость очертаний — прежде таких нежных и расплывчатых, — с провалами темных глаз, с большим ртом, одинаково хорошо умеющим и целовать, и пить вино, и произносить проклятия.
Но с ним она даже не заговорила. Просто посмотрела. И даже не посмотрела — явила себя, показала: вот какова я теперь — попытайся же что-нибудь сделать со мною, граф Раймон!
И Раймон, белея и до боли в челюстях стискивая зубы, вышел из Храма. Теперь ему следовало бежать из Иерусалима. Если бы Сибилла сказала хоть слово, если бы попыталась возражать, гневаться, плакать и звать на помощь, тогда для Раймона еще оставалась бы надежда. Но она просто посмотрела на него, ослепительная, непобедимая в своей красоте.
Граф Раймон спешно отправился в Наблус — к своему лучшему другу, тестю коннетабля — Бальяну д'Ибелину.
А Сибилла поцеловала жесткую руку умершего сына и оставила его. Ей следовало заняться одной из ловушек, которая до сих пор напоминала о Прокаженном короле, как будто он все еще присутствовал в Королевстве.
Этой ловушкой были ключи от короны.
Люди, страшась его болезни, отворачивали лица, когда он входил, и никто не касался его; но у замков и ключей не было выбора, так что король брал их в руки, когда находил нужным, и раздавал тем, кого считал достойными.
Первый замок мог открыть только патриарх Иерусалимский, а им в те годы был Ираклий, при одном только воспоминании о котором начинает ломить зубы, точно от кислых плодов и дешевого вина: этот прелат душой был воин и не из храбрых и не из добродетельных, но человек трусоватый, любящий женщин и хорошую еду, а также покровитель любви — если только такое покровительство не заставляло его совершать чрезмерные подвиги. Словом, среди святых и юродивых, среди храбрецов и героев он был самым обычным и оттого выглядел довольно жалким.
Таков был патриарх, и он хранил у себя ключ от короны, и он любил Ги и Сибиллу, потому что некогда сам благословил их брак от лица всей Церкви.
Второй ключ находился у великого магистра госпитальеров, которым был Роже де Мулен, а он всегда оставался человеком здравомыслящим и очень осторожным и недолюбливал все то, что не было надежно освящено долгими годами употребления и не доказало вполне свою надежность.
А третий ключ Болдуин Прокаженный отдал великому магистру ордена тамплиеров.
Здесь-то ловушка и проржавела, так что капкан поневоле раздвинул зубастые челюсти: ибо тот спокойный и преданный королю человек, которого тамплиеры избрали на должность великого магистра после смерти брата Одона, успел умереть, и его заменил Жерар де Ридфор.
Этот голландец, жесткий, точно высохший кусок скверного сыра, выскакивает из пустоты, из ниоткуда перед самой гибелью Королевства, и неожиданно оказывается на ярком свету. Так перед финалом представления паяцев вдруг вываливается из-за ширмы какой-нибудь предельно усатый стражник и утаскивает под арест всех распоясавшихся кукол, что отплясывают неистовые танцы вокруг бедняжки Принцессы, такой растерянной и бедной.
Ридфор, как и патриарх, был грешником и оттого искал себе пристанища возле Сибиллы. Как все по-настоящему счастливые люди, Ги и Сибилла были милосердны и не требовали от людей великих добродетелей.
Ридфор явился к королевской чете вечером, после погребения мальчика Болдуина Пятого.
Прежде у Ги не было случая познакомиться с великим магистром, поэтому он с интересом стал рассматривать этого человека.
Рослый и грубоватый, как все северяне, тот вошел быстро и уверенно, и Ги подумал, что он, должно быть, всякую пядь земли, что попадала ему под сапог, полагал отныне своей. Ридфор остановился в пяти шагах от мужа Сибиллы и преклонил колено, а после опустил голову, но только на мгновение.
— Встаньте, мессир, — сказал Ги, и Ридфор тотчас вскочил на ноги, как будто никогда и не склонялся в поклоне.
Сибилла вышла к мужчинам и села рядом с мужем, а третьим, тенью, выскользнул и коннетабль Эмерик.
Ги повернулся к старшему брату и проговорил:
— Познакомьте нас с великим магистром, коннетабль.
Эмерик встал и обошел вокруг сидящего Ридфора, как будто тот был выставлен напоказ.
— Вот перед вами, брат, мессир де Ридфор, родом из Голландии.
Ридфор молчал.
— Вот перед вами человек, который сразу же полюбился графу Раймону Триполитанскому… Потому что, обладая ясным умом, мессир де Ридфор сразу же нашел самого сильного из всех королевских вассалов и прилепился к нему.
Ридфор чуть пошевелился на стуле и двинул глазами в сторону Ги, но младший из братьев Лузиньянов посмотрел на него в ответ так спокойно и даже доверчиво, что Ридфор моргнул от удивления.
— Граф Раймон, как и многие наши могущественные сеньоры, распоряжается приданым сирот своих вассалов, и вот граф обещал нашему голландцу руку одной из своих подопечных. Скажите, мессир де Ридфор, вы полюбили ее?
— Кого? — спросил Ридфор охрипшим голосом.
— Вы должны помнить ее имя, — безжалостно сказал коннетабль.
— Не знаю, — сказал Ридфор. — Сейчас это не имеет значения. Должно быть, она была хороша. Довольно толстая.
Сибилла чуть покраснела.
— Почему вы так отзываетесь о женщине? Точно о корове!
Ридфор вдруг подался вперед и яростно зашипел:
— Вы должны были слышать эту историю, моя госпожа! Если кто-то и отнесся к этой девушке, как к корове, то это — наш граф Раймон, вечный регент при увечных и малолетних королях!
— Хотите вина, мессир? — спросил Эмерик и, не дожидаясь ответа, подал Ридфору огромный бокал.
Ридфор начал пить с таким видом, словно глотал отвратительную микстуру, хотя вино было отменного качества и охлаждено льдом, который привозили с ледников, накрывая по пути соломой, чтобы не таял.
— Ее обещали мне, — сказал Ридфор. — Эту девушку. Она была толстенькой, но славной. И ее замок.
— Тоже толстенький и славный? — уточнил Эмерик.
Ридфор кивнул.
— Я вырос в бедной семье, мессир, — сказал он. — Должно быть, вы понимаете, что это значит. У нас не было даже хорошей лошади. А я хотел быть богатым! Так нельзя говорить, этого нельзя желать, нужно быть добрым христианином и стремиться лишь к спасению собственной души! Но я хотел быть богатым. Я знал, чего хочу. Знал, как этого добиться. Видит Бог, я не жалел ни своей крови, ни сил, ни даже совести для того, чтобы стать богатым. Потом, на склоне лет, я мог бы заняться и душой. Поступить в монастырь — перед смертью. Святая Чаша! Все соблазны мира лежали передо мной, точно сверкающие озера на опасном болоте, и я смотрел на них издалека и не мог добраться, чтобы утолить мою жажду.
Ги опустил взгляд. Да, и он, и его старший брат — оба они знали, что такое расти в небогатой семье. Но ни сам Ги, ни Эмерик никогда не желали обычного земного богатства. Эмерик первым определил цель их стремлений: сказочная принцесса и сказочное Королевство в придачу. Рыжий лис Эмерик добыл все это для своего младшего золотоволосого брата. И когда Ги подумал об этом — в присутствии Ридфора — то неожиданно понял: Эмерик стремится к тому же самому. Королевство и принцесса. Только другая принцесса. Не Сибилла.
«Она ведь замужем! — подумал Ги, встретившись с братом глазами и убедившись в собственной правое, потому что Эмерик в это мгновение думал о том же самом. — Она замужем за благородным, добрым юношей из старинной семьи!»
«Я не посягну на ее брак, — мысленно ответил Эмерик. — Но видит Бог, я буду ждать, и когда-нибудь Изабелла Анжуйская будет моей!»
«Но Королевство — мое!» — Ги стиснул зубы.
А Эмерик чуть улыбнулся: «Когда-нибудь, брат. Королевство, как всякая мечта, очень непрочно…»
— Знаете, что сделал Раймон? — спросил Ридфор, разбивая их безмолвный разговор.
Оба брата разом повернулись к нему. Эмерик — знал, Ги — нет. И Ридфор сказал:
— К нему приехал один итальянец, богатый и глупый. Он обещал графу кучу денег за этот замок и руку моей Люси. — Он дернул углами рта. — Да, ее звали Люси. Разумеется, я помню ее имя, госпожа. Люси. Они принесли весы, на которых взвешивают товар, поступающий на таможню, и усадили девушку на одну чашу, а на другую высыпали целый воз золотых монет. Раймон продал ее итальянцу, точно скотину!
— Не верю, — не выдержал Ги. — Граф Раймон — своеобразный человек, но даже он не мог так поступить с женщиной.
— Да, — поддержал его Эмерик, — вы пересказываете слухи.
— А я в это верю, — упрямо возразил Ридфор.
Он сгорбился и закрыл лицо ладонями.
— Он опозорил меня и ее, когда поступил так, — глухо промолвил великий магистр, — и я чуть не умер… Я чуть не умер из-за любви! — Он задергал губами, как будто только что сказал нечто непристойное и теперь запоздало сожалеет об этом. И, отчасти для того, чтобы смазать впечатление от сказанного, добавил: — Обо мне говорят, будто я бесчувственный чурбан, жадина и убийца.
— Кто говорит? — спросил Эмерик. — Во всяком случае, не я.
— Я чуть не умер, — повторил Ридфор, чуть успокоившись. — Когда мне все рассказали и попросили больше не тревожить Люси своим присутствием… Граф Раймон обещал найти мне другую невесту. Как будто это возможно. Просто взять и найти другую. Тоже милую и богатую. — Он отнял ладони от лица, и Сибилла с удивлением увидела, что магистр втайне плакал. — Для меня нет другой! — сказал он. — Я уехал из Триполи и по дороге упал с коня. Меня нашли тамплиеры. Потом, когда я выздоровел, я вступил в орден. Вот и все.
— Скажите, мессир де Ридфор, — осторожно спросил Эмерик, — для чего вы пришли?
Ридфор вынул из-за пазухи ключ и показал его Эмерику, а затем Ги и Сибилле.
— Как в детской песенке, — сказал он. — Это ключ от Королевства. Ваш брат, моя госпожа, вручил его моему предшественнику. Теперь он у меня. Второй, как вам известно, — у патриарха. Мы оба на вашей стороне.
— А госпитальеры? — быстро спросил Эмерик.
— Роже де Мулена я возьму на себя, — ответил Ридфор, нехорошо улыбаясь. — Я буду ваш, сеньор Ги, весь, со всеми моими потрохами, если вам это угодно, и пролью за вас всю мою кровь, до последней капли, если вместе мы сумеем уничтожить Раймона.
Ги смотрел на голландца задумчиво и не отвечал.
— Что вы молчите, брат? — не выдержал наконец Эмерик.
— Меня немного страшит этот сеньор, — ответил Ги так просто и откровенно, как будто они с братом находились в комнате наедине.
Ридфор неловко ссутулил плечи. Ги смущал его — слишком красивый, слишком ловкий, чересчур благополучный. От его кожи пахло здоровьем, и глядел он прямо, как человек, которому повезло с женщиной.
— Я буду вам предан, — сказал Ридфор. — Вам и королеве Сибилле.
— Все это — ради ненависти к Раймону, — шепнул Ги. — Опасно.
— Мне говорили, что вы — трус, — сказал Ридфор.
— Ну так это неправда, — невозмутимо отозвался Ги и протянул Ридфору руку.
Голландец поцеловал ее так, словно Ги уже стал королем, а затем поднялся и, тяжело ступая, вышел.
Патриарх Ираклий рядом с Ридфором казался мешковатым и одновременно с тем чересчур суетливым. Вместе они представляли странную пару, когда ворвались в покои к великому магистру госпитальеров — Мулену.
Мулен вышел к незваным гостям, сердясь.
— Ключ, — сказал Ридфор вместо приветствия.
Мулен, который был старше Ридфора лет на десять, если не более, посмотрел на великого магистра тамплиеров хмуро и ничего не ответил.
— Имеет смысл поспешить, — вставил патриарх.
— Поспешить куда? — осведомился Мулен.
— Кровь Господня! — взревел Ридфор. — Все готово к коронации ее величества Сибиллы…
— Ее величество Сибилла — незаконнорожденная дочь, — проговорил Мулен, глядя в сторону. — Ее покойный брат, один из самых предусмотрительных и мудрых людей, каких только знала Святая Земля…
Он остановился.
— Ну? — ядовито проговорил Ридфор. — Что же вы замолчали? Продолжайте!
— Покойный король Болдуин ясно дал понять, что не желает ее коронации… Он признал ее и самого себя плодами незаконной связи короля Амори…
— И вы тоже это признаете? — наступал Ридфор.
— Это не мое дело, мессир де Ридфор. Мне было велено охранять ключ от сокровищницы, и я сделаю то, что завещал покойный король.
— Вы предпочитаете, чтобы на престоле оказался Раймон Триполитанский? — поинтересовался Ридфор.
— Почему именно граф Раймон? Ее величество Изабелла…
— Да хватит! — развязным тоном оборвал Ридфор. — Вы знаете не хуже моего, что речь идет не об Изабелле и не о ее муже, потому что оба они еще дети, а об этом волке, о Раймоне! Что вас останавливает?
— У меня есть обязательства перед памятью покойного короля, — упрямо стоял на своем Мулен.
Тут Ридфор вытащил из ножен маленький треугольный кинжал и показал его Мулену.
— Ты, старый осел! — тихо, очень тихо прошептал он. — Эту штучку найдут в твоем подбородке, и все будут знать, что тебя убили ассасины. Ты меня понял, недотепа?
— Никогда этому не бывать… — так же тихо ответил Мулен.
Ридфор осторожно вдавил кончик кинжала в горло госпитальера.
— Я не шучу, — сказал он спокойным, ровным тоном. — Я умею впадать в бешенство и валять дурака, так что даже эти чертовы собаки сарацины принимают меня за бесноватого, но можешь не обольщаться: соображаю я лучше, чем ты.
— Будь ты проклят! — сказал Мулен. Он оттолкнул от себя Ридфора, вынул из сундука ключ и бросил его на пол посреди комнаты. — Забирай! Сажай себе на шею недоумка Ги и расхлебывай последствия!
— Спасибо, — сказал патриарх, наклоняясь и подбирая ключ.
* * *
— А ведь вы совершили большую ошибку, мой друг, — заметил Бальян, когда Раймон Триполитанский рассказал ему о погребении маленького Болдуина и о том, что, не удержавшись, обвинил в смерти ребенка его мать.
— Знаю, — сказал Раймон. И пожаловался: — Я устал! Если бы вы знали, сеньор, как я устал… Все эти годы — ничего, кроме войн и неблагодарности королей. — Он тряхнул головой, но печальные мысли отказывались разлетаться.
Дом Ибелина в Наблусе был так хорош и красив, что там отдыхало не только избитое усталостью тело, но и сама душа, натруженная и измученная обидами и неудачами. Каменные резные листья выглядели так, словно были живыми. Прямо посреди комнаты бил маленький фонтан, и вода представлялась глазу нарядной, точно девушка на весеннем празднике.
Бальян встал, начал ходить по комнате. Он любил Раймона и считал его самым выдающимся полководцем и политиком в Королевстве.
— Что вы намерены делать? — спросил наконец Бальян.
Раймон вздохнул.
— Бороться… Нужно подождать, пока эта женщина проглотит обиду и станет способна к разговорам со мной… Да, я не должен был оскорблять ее.
— Может, она и вправду виновна, — угрюмо проговорил Бальян.
— Нет, — вздохнул Раймон. — Вы бы видели ее лицо!.. Сибилла больше не дитя. Она взрослая женщина, она знает, что это такое — ее хваленая великая любовь. Мы еще хлебнем с нею горя!
— Мы вообще скоро хлебнем горя, — сказал Бальян угрюмо. — После смерти Прокаженного короля все изменилось. Сейчас никто не умеет бить Саладина. Покойный Болдуин хорошо знал, как следует поступать с сарацинами. Он никогда не позволял им перевести дыхание. Если они совались к нам, то встречали палку. И даже если Болдуин на время отступал, он всегда возвращался. Саладин только тогда и хорош, когда его побили. Тогда он даже не нарушает мирных соглашений.
— Мне проще с Саладином, чем с Ги, — признал Раймон.
— Оставим это, — махнул рукой Бальян.
Он выглядел старым, обрюзгшим. Смерть Прокаженного короля как будто сдвинула некие древние пласты, и Королевство обваливалось на глазах, как сказочный замок во сне. И Бальян чувствовал, как время утекает из-под ног его поколения. И он сам, и Раймон, и старый разбойник Рено де Шатийон — скоро все они уйдут в небытие, и Королевство останется в руках новых людей, вроде этого Ги или его хитроумного братца Эмерика, красавчиков, которые сумели превратить любовь в золотые слитки, а трубадурские песенки — в тяжелые мечи, с которыми они даже ходят в бой. Ну надо же! Стоит задержаться на земле, чтобы посмотреть, что у них получится.
Одолевая усталость и страшно зевая, Раймон принялся излагать Бальяну свою идею. Идея была недурной и вполне здравой, и Бальян дал на нее согласие, хотя в самой глубине его души жила твердая уверенность в проигрыше. Более чуткий, чем Раймон, он ощущал перемены в самом воздухе Святой Земли. Раймон Триполитанский слишком тесно связал себя с собственными замыслами и оттого утратил остроту нюха.
И пока Рамон писал письма баронам, созывая их в Наблус на заседание Великой курии Королевства — собрание, которому надлежало избрать на Иерусалимский трон законную наследницу Болдуина, королеву Изабеллу, — Бальян молча стоял у окна и смотрел на горы и пустыню. Эта земля как будто отзывалась на его безмолвные мысли. Тщетные старания, шелестел ветер, напрасные потуги, все уйдет в песок, все исчезнет и будет иссушено безжалостным солнцем…
Вскоре по дороге, вид на которую открывался из окна наблусского замка, начали ездить взад-вперед гонцы.
Не успели уехать люди, разосланные баронам Королевства, как прискакал тамплиер — не рыцарь, а сержант — и, валясь от усталости с коня, передал сенешалю замка письмо.
Оно было написано Ридфором, но по поручению принцессы Сибиллы.
Ее высочество приглашала Бальяна Ибелина и графа Раймона на великое празднество своей коронации.
Раймон стиснул письмо в кулаке и едва удержался от того, чтобы не отдать приказ немедленно повесить гонца за шею на веревке.
Бальян осторожно взял своего друга за руку.
— Этого следовало ожидать, не так ли?
— Да, — сказал Раймон. — Но… Ридфор! Этот наглец осмелился писать мне!
Бальян покачал головой.
— На коронации соберется не много народу. Все бароны скоро будут здесь.
И бароны действительно явились. Их было меньше, чем ожидалось. Например, не приехал Рено де Шатийон, зато явились Онфруа Торонский и Изабелла, и их, точно самые лакомые кусочки на блюде, разместили отдельно от прочих, отдав им наилучшие покои.
Изабелла стала старше и приобрела таинственный вид, который поначалу заставил Раймона подозревать ее в том, что она беременна. У Раймона не было собственных детей, и он не слишком хорошо разбирался в женщинах и их поведении. На самом деле тайна Изабеллы была иной. И, поскольку эта тайна постоянно находилась у всех на виду, никто даже не подозревал о ее существовании. А заключалась она в том, что принцесса любила своего мужа.
Изабелла любила его страстно, всей душой и всем телом; Онфруа же обожал ее благоговейно и больше в духе, нежели плотски; оттого между молодыми супругами постоянно натягивалась невидимая, но вполне ощутимая, сильно и звонко вибрирующая нить. Когда Онфруа целовал Изабелле руки, она мечтала о том, чтобы он покрывал поцелуями все ее тело. Когда же она забиралась в их постель и обхватывала его руками и ногами, он прикасался к ней так осторожно, точно она могла переломиться от любого неосторожного движения.
В тот же день Раймон продиктовал письмо, адресованное не Сибилле, но Ридфору и патриарху Ираклию. «Во имя любви Господа и святых Апостолов Его, — писал Раймон, — умоляю вас отказаться от коронации принцессы Сибиллы до тех пор, покуда она остается женой этого Ги де Лузиньяна, ибо означенный Лузиньян никак не может быть королем, он недостоин престола и короны, о чем предупреждал и покойный государь Болдуин. Итак, если вы до сих пор испытываете жалость к земле Господа нашего, уговорите Сибиллу Анжуйскую оставить своего мужа и избрать себе иного супруга, на которого она и возложит корону!»
— Опасно, — сказал Бальян, когда Раймон закончил диктовать.
Граф повернулся к нему.
— Почему?
— Вы напрасно считаете их бесхарактерными, мой сеньор, — сказал Бальян. — Они не похожи на нас с вами, но характер у них есть. Сибилла любит своего мужа.
— Никто не говорит о любви, — огрызнулся Раймон. — Я вообще не понимаю этого. Речь идет о Королевстве, о долге.
— Покойный король придавал этой любви большое значение, — напомнил Бальян.
— Такое большое, что отобрал у Сибиллы Яффу и признал ее ублюдком!
— Король был оскорблен и принял опрометчивое решение… Я не защищаю их! — поспешно добавил Бальян, увидев, что глаза Раймона загорелись. И неожиданно дикарь, дремавший в Бальяне, ожил. Сеньор Ибелин расставил ноги пошире, как бы желая еще прочнее утвердиться на земле, и заревел в глаза своему другу: — Опомнитесь! Эта самка будет драться за отца своих детенышей! Думаете, они слабенькие детки, которых можно припугнуть? Это — юные звереныши, полные сил, с клыками, уже окровавленными! Сибилла просто убьет ваших гонцов. Пожалейте хоть их.
— Я отправлю послание с цистерцианскими монахами, — сказал Раймон.
Бальян захохотал.
— А, стало быть, и вы, сеньор, понимаете, с кем имеете дело!
— Эти Лузиньяны — потомки змеи, — Раймон сильно задышал носом и неожиданно заговорил с акцентом, как говорил бы сарацин, много лет проживший среди франков. — От них нужно избавиться. Лукавый попутал вас, мой господин, когда вы отдавали за Эмерика свою дочь!
— Коннетабль не так опасен, как этот смазливый красавчик Ги, этот проклятый трус и тихоня, — проворчал Бальян. — Когда я отдавал за Эмерика меньшую Эскиву, Лузиньян был в Королевстве один. И кроме того, этого брака желал король Амори.
Он произнес имя короля, в царствование которого оба они были еще молоды, и на мгновение печаль охватила их, такая глубокая, что в ней можно было утонуть. Но потом Раймон дважды стукнул тыльной стороной ладони по письмам, оттискивая на печатях свое кольцо, и велел позвать цистерцианцев.
Один из двоих точно был монахом, другой же, которого звали Гуфье, только выглядел, как монах. Ему Раймон и вручил оба послания — одно патриарху, другое — самой Сибилле.
О письмах стало известно почти сразу после того, как они были отосланы, и несколько баронов отправились вслед за монахами — умолять Сибиллу проявить благоразумие и расстаться с Лузиньяном.
* * *
Ридфор, веселый и помолодевший, расставлял у всех семи ворот Иерусалима новые посты, заменяя стражу тамплиерами. Это делалось без всяких объяснений. С Ридфором никто спорить не решался. Только один сержант попытался выяснить, в чем дело и почему ворота закрывают и устанавливают возле них охрану. Ридфор разбил ему в кровь лицо и затем снисходительно велел отправляться в госпиталь, где братия, несомненно, о нем позаботится.
Город перешел на осадное положение. С того момента, как в Иерусалим вошли двое цистерцианских монахов, никто не появлялся за стенами без ведома и дозволения великого магистра тамплиеров. Роже де Мулен предусмотрительно молчал.
— Я должна оставить мужа и избрать себе нового? — переспросила Сибилла, когда письма были прочитаны и прибывшие вслед за письмами бароны подтвердили эту просьбу. — Но какого же мужа я должна себе избрать?
Коннетабль Эмерик, бывший при этом разговоре, проговорил уверенно и громко:
— Разумеется, такого, какого вы сочтете нужным, госпожа.
— Хорошо, — сказала Сибилла, — я сделаю это, и пусть все благочестивые и знатные люди Королевства поддержат мой выбор!
По очереди она подошла к каждому из баронов и каждого взяла за руки. И вместе с их ладонями она принимала от них клятвы в верности и в том, что они будут уважать ее волю, в чем бы эта воля ни состояла.
Гуфье грыз губы, пока струйка крови не побежала по его подбородку, но ни сказать, ни сделать он ничего не мог: Сибилла только сейчас явила себя истинной сестрой своего предусмотрительного брата, Прокаженного короля. «Боже, смилуйся над моим господином Раймоном! — думал Гуфье, удерживая слезы, так что в конце концов непролившаяся соль начала разъедать его глаза. — Ты создал его умным и хитрым, ты сотворил его на этой земле могущественным, но есть нечто, о чем я не знаю, нечто тайное, не открытое никому, и оно причинило его душе такой ущерб, что никогда он не сможет одолеть этих влюбленных детей, что бы он ни предпринимал, на какие бы хитрости ни пускался! У него не достанет даже армии, чтобы разгромить их. Боже, пожалей его! Пощади его, Боже, и меня вместе с ним».
Стоял июль, царственный месяц, и город плавился в его лучах. Ги де Лузиньян, потомок крылатой змеи, начинал обретать черты своего племени: светлые волосы, отросшие за время военного бездействия, когда не требовалось обрезать их под шлем, начали виться, и издалека казалось, что Ги, красиво одетый в блестящие, расшитые одежды, тщательно причесанный, с поблескивающим от пота загорелым лицом, готов превратиться в дракона — с драгоценными камнями на золотой чешуе, с той особенной, легкой сутулостью, какая свойственна любому крылатому существу, если оно не летит, а идет, спрятав крылья.
Никогда еще Сибилла не любила его так глубоко, так сердечно, с такой жалостью и с таким восхищением, как в тот день, когда он стоял среди баронов, встречавших торжественную коронационную процессию у самых ворот церкви Гроба Господня. Ги был одет как диакон, и кое-кому это бросилось в глаза. Однако по своему обыкновению Ги держался так, что его замечали далеко не сразу: он умел быть на удивление тихим, и эта глубокая внутренняя тишина делала порой его почти невидимым.
Из Храма вышел патриарх, и был он в этот день не человеком, слабым и очень грешным, как обычно, но истинным клириком, потому что Гроб и солнце Святой Земли изливали на него неодолимое могущество. Патриарх, окруженный сверкающим священством, остановился в дверях.
Остановилась перед ним и Сибилла — в белом и золотом, с убранными под тяжелый плат волосами и тонким золотым ободом на голове. Она шла босиком по горячим камням, как будто готовилась принять на себя покаянный труд за все Королевство. Эта походка, легкая, чуть боязливая — ибо каждое прикосновение ступни к камню мостовой могло оказаться болезненным, — обращала на себя куда большее внимание, чем сияние золота на ослепительной белизне ее одежд.
Патриарх громко воскликнул:
— Во имя Отца, и Сына, и Духа Святого!
И таков был его звенящий голос, и такова была святость этого места, что стоявшие рядом вдруг ощутили близость Бога-Троицы.
Сибилла остановилась перед ним, отделившись от свиты, от духовенства и от своих подданных: одинокая женская фигура перед разверстой пропастью Храма Гроба, избиваемая прямыми, толстыми солнечными лучами, точно копьями. Небо Святой Земли изливало на королеву свой неистовый свет. И не было в этом свете ничего от земного благополучия, но все — от беспощадной любви Царствия Небесного.
— Клянешься ли ты защищать Святую Землю, и патриарха Иерусалимского, и паству его, и святой город Иерусалим, и всю Церковь истинных христиан? — вопросил патриарх.
И женщина, подняв голову, ответила громко и отчетливо:
— Клянусь! Клянусь защищать патриарха, и паству его, и Землю Господа моего, и священный град Иерусалим, и всю Церковь истинных христиан!
Патриарх шагнул к Сибилле, взял ее за подбородок и нежно, благоговейно поцеловал в губы. А после, сияя — точно вся душа его наполнилась этим поцелуем, преображенным в свет, — повернулся к баронам и закричал (он кричал так, словно посылал войска в последнюю атаку перед победой):
— Провозгласите же и вы эту достойную королеву Сибиллу, дочь, сестру и мать королей, истинной своей королевой и подлинным своим сюзереном!
Бароны закричали — так, словно бросались очертя голову в сражение, а затем их крик обернулся пением. Патриарх умел управлять большими толпами людей, пусть даже и знатных. Они и сами не успели заметить, когда прекратили выкрикивать здравицы и начали петь.
Te Deum laudamus! Te Dominum confitemur! Tu devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna coelorum…«Царствие Небесное, — бессвязно думал Ги, выпевая вслед за остальными и чувствуя на языке сладость от этих слов, как будто раскусил виноградную ягоду, — regna coelorum… Силой берется Небесное Царство. И мое Царство — любовь, прохладные руки Христа — там, в пустыне… Боже, благослови нас!»
В Храме, куда хлынула вслед за патриархом и Сибиллой толпа, было полутемно и прохладно, и все окунулись в неземные запахи этого огромного, как целый город, строения — базилики, вместившей в себя весь мир и всю историю человечества, его самое страшное отчаяние и самую великую надежду.
Ги улыбнулся, отыскав на стене памятный крестик, вырезанный давным-давно их дедом: Эмерик показал брату этот крошечный значок, оставшийся от их предка, побывавшего на Святой Земле, и оба брата по очереди поцеловали его. Ги и сейчас мимолетно приложился к стене, ощутив под губами неровности резьбы и втянув запах старой, сладковатой пыли.
Высоко на хорах Сибилла принимала от патриарха корону и от одного из баронов — золотое яблоко, то самое, что символизировало землю Королевства. Рядом с королевой находился коннетабль Эмерик с королевским знаменем.
Ги не успел уловить мгновения, когда Сибилла получила святое помазание, и корона была осторожно возложена на ее голову, сменив тонкий золотой обруч. Когда он снова поднял глаза к своей возлюбленной жене, она уже стояла, осененная королевской диадемой, по-византийски пышной и изысканной. Крест, начертанный елеем на ее лбу, от жары расплавился и потек, освящая и скулы, и любимые ямочки на щеках, и пышные губы.
— …Слабая женщина, немощной сосуд… — донесся с хоров голос патриарха. — Способна ли ты в одиночку нести тяжкий труд управления государством, особенно сейчас, в пору смут и волнений, когда враги теснят Королевство со всех сторон?
— Нет, — пронеслось над головами баронов, скорее угадалось, чем было услышано.
— Так избери себе супруга, достойного сеньора, который управлял бы Святой Землей вместе с тобой, в добром союзе и любви! — проговорил патриарх и чуть отступил назад, открывая королеве дорогу.
Она сошла к «народу» — знатным людям Королевства и монахам. Теперь уже все видели, что королева идет босая, и обнаженность ее ног была такой же царственной и нарядной, как и ее роскошное платье, и украшения на нем, и сверкающие короны: одна — на голове, другая — в правой руке. В левой Сибилла держала меч Королевства.
Тот самый, который носил (а затем туго привязывал к перчатке) ее брат, а до брата — ее отец, а еще прежде — дядя.
— Мои господа, сеньоры! — сказала Сибилла, останавливаясь перед баронами. — Все вы давали мне клятву оберегать меня и моего будущего избранного супруга, того, кто станет править Королевством рядом со мной, в добром поспешении!
Они молчали. Они смотрели, как она нисходит к ним с мечом и короной, истинное дитя Святой Земли, сотканное темным благовонным воздухом Святого Гроба, правнучка короля Болдуина де Бурка, принцесса Анжуйского дома. Некоторое время она еще оставалась далекой, вознесенной высоко над головами, и каждый ее шаг не приближал ее к собравшимся, но как бы удерживал на том же расстоянии; но вот в какой-то неуловимый миг, после нового, никем не сосчитанного шага она вдруг оказалась прямо перед ними, и они смотрели на нее прямо, а не снизу вверх.
Высокая, почти вровень с мужчинами, она обратила к баронам свое прекрасное лицо, обтянутое накрахмаленным тонким белым полотном, точно уложенное в каменные складки надгробия.
Стало очень тихо, и откуда-то из невероятной дали, из иной жизни, сейчас недостижимой, донесся жалкий голос уличного водоноса, предлагающего купить холодной воды.
Сибилла повернулась к своему мужу.
Он вышел вперед и преклонил перед ней колени, а Сибилла высоко подняла над головой второй венец, и солнечный луч тускло сверкнул на золотом ободке. Благоговейно она возложила корону на опущенную голову мужа, а затем промолвила тихо:
— Встаньте, мессир Ги де Лузиньян.
И когда он подчинился, опоясала его мечом.
Коннетабль оказался рядом. Отчужденный, почти незнакомый — таким показался он младшему брату, когда отдавал ему знамя Королевства.
— Благословите это знамя, государь! — отчетливо произнес Эмерик.
И Ги, поцеловав и перекрестив знамя, вернул его коннетаблю, подтверждая новое назначение Эмерика на прежний пост.
Началась месса.
— А, вы тоже здесь! — зашептал кто-то в ухо Гуфье. Одетый цистерцианцем, соглядатай Раймона Триполитанского не мог оторвать глаз от королевской четы.
Гуфье резко повернулся на шепот. При звуке этого голоса, при виде этого человека он содрогнулся всем телом. Гуфье и сам не смог бы объяснить, почему так вышло и с какого момента началось, но всякий раз, встречая Гвибера, он испытывал ужас.
Он знал, что после неудачных попыток исполнить поручение графа Раймона и убить Ги де Лузиньяна Гвибер возвращался в Тивериаду и встречался с графом. По слухам, граф пришел в страшную ярость, и следы этой ярости остались на теле Гвибера. Сам же Гвибер попросту исчез из Тивериадского замка, так что его больше никто там не видел.
— Я здесь, потому что этого хотел наш сеньор, — сказал Гуфье. — А ты?
— О, — протянул Гвибер, — я должен быть рядом, когда это случится.
— Что случится? — прошептал Гуфье. — Что должно случиться?
Но Гвибер не ответил.
Он изменился и был узнаваем только благодаря белому пятну на щеке. За минувшие годы, проведенные в скитаниях и одиночестве, он не постарел, как это следовало бы согласно естественному ходу событий, но как бы еще плотнее врос в собственное тело. Сейчас на нем была одежда цистерцианца, и даже искушенный глаз не определил бы в Гвибере переодетого солдата: любое платье было ему впору. Подобно тому, как душа Гвибера полностью приспособилась к его телу, тело его с невероятной легкостью приспосабливалось к любым покровам.
Ги и Сибилла были теперь удалены от обоих собеседников на огромное расстояние, и там, вдали, что-то происходило между этими двумя людьми, между королевой и ее возлюбленным.
— Она босая, — влюбленно прошептал Гвибер.
Гуфье бросил на него досадливый взгляд.
— Уверен, это ей коннетабль присоветовал.
— Нет, она сделала это потому, что хочет раскаяться во всех своих грехах и принять помазание чистой…
— Да нет же, говорю тебе, это все коннетабль, — повторил Гуфье. — Этот пройдоха знает толк в женщинах и в том, как им лучше обольщать мужчин. А принцессе Сибилле требовалось обольстить не одного только своего мужа, и без того ею плененного; она затеяла посеять любовь к себе в сердцах всех мужчин Королевства!
Гуфье был прав: именно Эмерик дал Сибилле дельный совет — снять обувь. «Это изменит вашу походку, дорогая сестра, так что вы будете парить над камнями, точно беззащитный ангел. Завидев вас, они испытают сильнейшее волнение и очень не скоро поймут его причину…»
И Сибилла доверилась коннетаблю — так же, как доверялись ему и Изабелла, и Ги.
— Вас я избираю своим господином и владыкой земли Иерусалима, — услышали оба шепчущихся собеседника громкий голос королевы и увидели, как она — в невероятной дали — возлагает на своего мужа королевские регалии, делая его королем и одновременно с тем особым служителем Господа (недаром на нем было облачение диакона). — Да не разъединят человеки того, кого соединил Господь!
— Вот и все, — сказал Гвибер, странно улыбаясь. В просвет между сухими, треснувшими губами глянули зубы, желтые и кривые, как раненые воины, что выходят из битвы опираясь друг на друга, так что улыбка Гвибера производила болезненное и даже катастрофическое впечатление.
— Ты не смог убить его, — проговорил Гуфье, — и теперь Королевство погибнет.
— На эту смерть не было Божьего соизволения, — возразил Гвибер.
— А ты ведь много знаешь о Божьем соизволении? — поинтересовался Гуфье, впервые давая волю своим чувствам.
— Может быть, — отозвался Гвибер.
— Нет, этого не может быть! — зашептал Гуфье. — И еще не все потеряно!
— Увидишь, — сказал Гвибер.
И вдруг уставился на Гуфье так, словно заметил его только что и недоумевает: что делает рядом с ним этот непонятный цистерцианец, которого он, Гвибер, видит впервые в жизни?
— Кто ты такой, а? — спросил он, кривляясь. — Ты откуда? Из Тивериады? Там, на одной колонне, есть резная капитель, а на той капители сидит черт и ест грешника… Не твоя ли образина торчит из его пасти?
Это было неправдой. Невыразительное лицо Гуфье никогда не могло бы послужить источником вдохновения для художника, и несчастный пожираемый грешник всегда устрашал Гвибера сходством с ним самим.
Гуфье тоже вспомнил эту колонну. Она находилась ближе всех к выходу из храма — как раз в том месте, где обычно и стоял Гуфье, поскольку он не любил находиться в церкви и всегда был готов выйти из нее. Оскаленное лицо Гвибера обрело пугающее сходство с тем, на колонне, и Гуфье, отшатнувшись, торопливо стал пробираться через толпу монахов — прочь от безумца.
Гвибер перестал смеяться, погладил себя по лицу ладонью и обрел некоторое благообразие. Затем тряхнул головой, чтобы вернуться из мира своих грез в мир чужих сновидений, и увидел, что король и королева, прекрасные, как на картинке в Часослове, которую когда-то, очень давно, он подглядел в покоях у графа Раймона, шествуют среди баронов и духовенства. Праздничный свет плясал над их головами, и в скрещении лучей угадывался голубь в треугольнике. И еще в этих лучах, невесомые и едва заметные, плясали частички песка пустыни, и потоки расплавленной жары, неопасной для тех, кто находится внутри опрокинутой чаши Храма.
И вместе со всеми Гвибер закричал, не жалея глотки:
— Vivat Rex in bona prosperitate!
* * *
— Любимая…
Изабелла открыла глаза в темноте, слушая этот шепот.
— Любимая, проснитесь…
Тепло разлилось по ее рукам. Еще несколько мгновений она не двигалась, а затем медленно потянулась и обхватила своего мужа за твердую шею и притянула к себе.
Он оказался полностью одетым.
— Что случилось? — тихо спросила она.
— Нужно бежать…
Изабелла села в постели, быстро переплела волосы и потянулась за платьем. Онфруа опустился на колени рядом с нею, чтобы помочь.
В темноте их руки, спеша, сталкивались. Один раз она обхватила его ладонь и пальцем провела по серединке, заставив мужа смешливо поежиться.
— Перестаньте, — сказал он, высвобождаясь. — Что вы делаете?
— Куда мы бежим? — спросила она.
— В Иерусалим.
Она отодвинулась от него. Даже не видя ее лица, Онфруа понимал, что Изабелла нахмурилась, надула губы — обиделась.
— Зачем же нам бежать в Иерусалим? Там моя сестра. Не очень-то она будет рада меня увидеть!
И тотчас подумала о коннетабле — вот кто обрадуется! А Изабелла очень любила тех, кто любил ее.
Муж взял ее за талию обеими ладонями — широкими и крепкими. Он был костляв и оттого казался немного нескладным, но силен, и от его прикосновений Изабелла теряла голову.
Бароны во главе с графом Раймоном пригласили Онфруа и его супругу на заседание Великой курии. Онфруа не мог не приехать — он был одним из важнейших сеньоров Королевства. И женат на сестре покойного короля. Он молча слушал, пока они выступали один за другим, и весь этот словесный поток не имел для него большого смысла, потому что с самого начала он понимал, о чем они говорят и для чего все это говорится.
Ги де Лузиньян — трус и ничтожество, выскочка, едва только приехавший в Святую Землю и обманом завладевший сердцем Сибиллы.
Сибилла Анжуйская — незаконнорожденная дочь…
Не внуку ли коннетабля-героя Онфруа Второго — Онфруа Четвертому, мужу Изабеллы, следует отдать корону? Не в том ли состоит воля всех баронов Королевства? Кроме, конечно, трусов и предателей…
Все выходило гладко и складно, но — как и Бальян — Онфруа слышал чутким сердцем дребезжание в серьезных, важных речах.
И это дребезжание все яснее складывалось в одно-единственное имя: Раймон.
Граф Раймон не желает видеть на престоле Ги де Лузиньяна. Граф Раймон не желает видеть рядом с будущим королем своего личного врага — великого магистра тамплиеров, бешеного голландца Ридфора. Граф Раймон желает усадить на трон мальчика Онфруа и девочку Изабеллу и встать за их спинами — опытный кукловод, только тогда и любящий королей, когда они малы или умирают. Человек, который знает, что потребно Королевству. Рослая серая тень, всегда слитая с полумраком дворцовых залов.
Онфруа знал, что говорят о нем, когда думают, будто он не слышит. Его считают бесхарактерным, слабым, маленьким — выросшим, точно девчонка, у ног сильного, решительного деда. Вечный сиделец на детской скамеечке, вечный богомолец, убежавший от пирующих гостей в тишину пустой часовни. «Где же ваш внук, Онфруа?» — «Наверняка опять в часовне — сладу нет с этим мальчишкой, — но, впрочем, не трогайте его: у него слезы близко!»
Знакомая с детских лет тоскливая скука охватила Онфруа, когда бароны один за другим поднимались со своих мест и провозглашали королевой — Изабеллу Анжуйскую, а королем — ее супруга, знатного рыцаря Онфруа из Торона. Так же невыносимо делалось ему на пирах, где требовалось являть доблесть, поглощая в больших количествах мясо, заедая его квашениной и запивая почти не разбавленным вином.
Все это было совершенно бессмысленно, хотя имело вполне возвышенный вид.
И точно так же не обладало никакой земной опорой то, что сейчас излетало из уст всех этих прекрасных и доблестных сеньоров. Все их благие пожелания падали в пустоту и растворялись в небытии. И если правда то, что за всякое пустое слово с человека спросится, то сколько же таких долгов сейчас было наделано!
Онфруа не стал возражать. Сидел с неподвижным лицом, молчаливый, блеклый. Ни разу его серые глаза не блеснули, только длинный нос клонился к подбородку все более уныло.
И поглядывая на молодого Торонского сеньора, Бальян д'Ибелин покусывал палец перчатки. А его друг Раймон ничего не замечал. Каждое новое баронское выступление еще глубже повергало его в пучины восторга.
Молчание Онфруа должно было насторожить Бальяна. Но Ибелин был слишком занят Раймоном, его безумием, его ловкой — слишком ловкой — интригой.
И одним ударом Онфруа разрубил все хитросплетения — политики, умелого манипулирования законами Королевства, глубочайшего знания людей… Потому что Раймон знал людей своего круга и своего поколения. Дети, которыми он хотел управлять, оставались для него незнакомцами.
Ночью Онфруа оделся, вооружился и разбудил свою жену.
— Мы уезжаем в Иерусалим.
— Королевство! — заплакала Изабелла. — Я хочу мое наследие!
— Может быть, вы хотите графа Раймона? — спросил Онфруа тусклым голосом и, даже не видя жены, понял, что она смутилась.
— При чем тут граф Раймон? Зачем вы говорите мне о нем?
— Потому что мы не сможем совладать с ним, если Ги и ваша сестра будут нашими врагами. Опомнитесь, Изабелла! Вы — младшая, вы — почти дитя. Они не позволят вам управлять…
— Но ведь я бы справилась!
— Они в это не верят. Вы — женщина и дитя… радость моя, в стране начнется война между баронами. Вы желаете этого?
— Нет…
Онфруа взял ее за руку и потащил за собой. Всхлипывая от обиды, они шла за ним, и вместе они выбрались из покоев.
Лошади были для них оседланы. Двое солдат из Торона приготовили их для своего господина. Они прибыли в Баниас вместе с Онфруа и сейчас намеревались сопровождать его в Иерусалим.
— Хорошо, — сказал им Онфруа, проводя ладонью по седлу. В лунном свете видно было, как широко улыбнулся солдат.
Осторожные руки подхватили Изабеллу и помогли ей сесть в седло. Четверо покинули Баниас, и никто не посмел остановить их.
Всю ночь и весь день они добирались до Иерусалима. Им пришлось остановиться и переждать жару. Изабелла не была беременна, но Онфруа опасался — как бы не повредить ее здоровью.
В пути они почти не разговаривали. Изабелла размышляла над тем, что сказал ей муж. Война между баронами. Но неужели граф Раймон настолько слеп, что согласен подвергнуть Королевство опасности взаимной распри? Это казалось невозможным.
— Люди с годами теряют чутье, — спокойно ответил ей Онфруа, когда она наконец решилась спросить об этом. — Раймон уже стар.
Спустя короткое время она задала ему еще один вопрос.
— Откуда вы так уверены в том, что Ги де Лузиньян хорошо примет нас? Ведь я — соперница моей сестры-королевы! Вдруг он захочет нас уничтожить? А вы так безрассудно предаетесь на его власть!
— Ги де Лузиньян был помазан в Храме, он получил корону из рук государыни, которую признали законной прелаты Королевства. Мне безразлично, что он сделает с нами. Мы не можем идти против королевской власти, потому что она священна, потому что она — от Бога, а мы все живем на этой земле ради Бога. Поймите же, любимая: самим рождением в Святой Земле мы посвящены Господу.
— И даже если Лузиньян решит отрубить вам голову, чтобы избавить Королевство от соперника… — начала Изабелла.
Некоторое время ее муж молчал, и она вдруг поняла: он с предельной ясностью высказал ей все, что лежало у него на сердце. Он на самом деле так считает.
И как будто новыми глазами посмотрела на него Изабелла: мягкий, но выразительный профиль, глубоко посаженные глаза, полоска губ, совсем тонких, бескровных. Теплый свет и взвешенная в воздухе пыль окутывали его, он казался отделенным от мира людей и надежно защищенным.
— Вы любите меня? — спросила Изабелла.
Он повернулся к ней и тихо улыбнулся.
— Очень, — сказал он. — Даже не сомневайтесь.
Впереди был Иерусалим. Великий город, в котором никогда не будет короля Онфруа.
* * *
— Здесь сеньор Онфруа с супругой, — объявил слуга, когда король и королева, окруженные преданными вассалами, находились в большом пиршественном зале, где, согласно старой традиции, тамплиеры устраивали грандиозный пир по случаю коронации.
Пиршество длилось третий день. Ги и Сибилла уже почти ничего не ели и не пили: они сидели рука об руку во главе огромного стола, неподвижные и красивые, как надгробные изваяния. У них не хватало сил даже на то, чтобы обменяться взглядами.
Гуфье отбыл, никем не замеченный, намереваясь сообщить своему господину во всех подробностях историю о коронации Лузиньяна. Тамплиеры пропустили «цистерцианца», который изъявил намерение покинуть Иерусалим, но остановили у ворот четырех всадников: двоих солдат, рыцаря и женщину.
Рыцарь сказал так просто, словно не происходило ничего особенного:
— Пропустите нас в город, добрые братья. Я — Онфруа Торонский, а это — моя жена, госпожа Изабелла.
Тамплиеры переглянулись. Самый опасный из противников Ги явился лично, да еще с женой и без отряда вооруженных воинов! Как это следовало понимать?
— Граф Раймон — самый хитрый лис, какого только видывало солнце, — сказал орденский брат, старший в отряде. — Я должен сообщить обо всем магистру.
Онфруа и Изабелла, не сходя с лошадей, въехали на двор и остановились прямо за воротами, где их окружили тамплиеры. Двое солдат, бывших с ними, спешились и спокойно предались в руки стражи.
Онфруа ждал, расслабленно сидя в седле. Его маленькая жена, напротив, вся извертелась: она устала и хотела, чтобы история поскорее закончилась. Кроме того, ее раздражали проволочки.
Наконец явился Ридфор — прискакал, взмыленный, очень пьяный, красномордый, возбужденный, с дьявольски горящими глазами и мокрым полуоткрытым ртом.
— Кровь Господня! — закричал он, завидев Онфруа. — Не сеньор ли Онфруа перед нами? Какого черта вы тут делаете, мой господин?
— Я хотел принести клятву верности королю и королеве, — сказал Онфруа невозмутимо. — И супруга моя желала бы припасть к ногам сестры в знак возобновления их кровной дружбы.
Ридфор поперхнулся. Несколько секунд он смотрел на Онфруа, потом мешком свалился с коня, едва не упал, но удержался, схватившись за узду.
— Эй ты, — обратился он к одному из орденских братьев, — а ну-ка облей меня водой… И угости хорошим питьем господина. И госпожу.
Он знал, что Изабелле будет неприятно, если такой пьяный и распаренный вояка заговорит о ней с солдатами. И не ошибся: Изабелла отвернулась и чуть склонила голову, не желая встречаться с Ридфором глазами.
Голландец хмыкнул.
— Прошу пожаловать на пир, — сказал он.
Тамплиер, подбежав, окатил магистра водой с головы до ног. Тот заорал от наслаждения, встряхнулся, точно зверь, и сразу подобрался, посвежел, даже глядеть стал яснее.
— Я слышал, что вы, мой господин, — рыцарь из рыцарей, — произнес он, обращаясь к Онфруа. — Но даже не подозревал, до какой степени может простираться ваше благородство.
— Да бросьте вы кривляться, — сказал Онфруа неожиданно развязным тоном. — Сами знаете, у Раймона нет сейчас никаких шансов, а междоусобная война не нужна ни мне, ни братцу Ги. Она нужна только Саладину.
Ридфор поцеловал ему руку, оставив на перчатке Онфруа мокрое пятно, после чего взгромоздился на коня, и все трое понеслись к Храму Господню, где размещалась братия и где сейчас гремел коронационный пир.
При виде Онфруа Лузиньян встал. Чуть помедлив, поднялась и Сибилла.
Среди уставших от пьянства баронов, среди громоздившихся яств, обглоданных костей, ползающих под столами нищих, собак и утомленных сеньоров, среди закопченной роскоши пиршественного зала вдруг явились эти чистые, влюбленные дети: Онфруа, похожий на некрасивого северного ангела, и Изабелла с византийским солнцем в очах. Это было подобно падению чистого плода в мутную воду, которая на миг расступается, обнажая свою изначальную хрустальную прозрачность.
У Ги заныло в груди. В присутствии Онфруа и Изабеллы, высушенных и очищенных пустынным солнцем за время их путешествия из Наблуса, Лузиньян обостренно ощущал свою нежеланную сейчас телесность: потные волосы, тяжесть в животе. Даже влажная рука Сибиллы, которую он держал в руке, показалась ему сейчас слишком плотной, слишком земной.
— Я прошу, государь, принять от нас присягу в верности, — громко, совершенно спокойно произнес Онфруа, опускаясь перед королевской четой на колени. — Мы просим также прощения за то, что не смогли успеть на торжество вашей коронации. Клянемся служить вам — так, как вы пожелаете, и на том месте, куда вы нас поставите.
Ги шагнул ему навстречу и потянул за собой Сибиллу. Требовалось произнести в ответ ритуальные формулы и по всей законности принять клятву верности от Онфруа Торонского, но Ги просто не мог сейчас говорить. Он наклонился над невесткой и ее мужем, обхватил их руками, прижался лицом к их склоненным головам и беспорядочно, жарко поцеловал обоих в макушку.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ САД И ОДИНОЧЕСТВО
Глава десятая ПАСХАЛЬНАЯ СЕДМИЦА 1187 ГОДА
Король Ги, «маленький Гион», разбитый во всех сражениях, осмеянный и опозоренный, был изгнан из Королевства — изгнан храбрыми, сильными баронами. Не чета им Гион, младший сын, которому надлежало бы сделаться клириком или наемным капитаном, но уж никак не королем Иерусалима! Они слетелись на поражение, заранее разевая смердящие клювы, и вырвали Королевство у короля, а самому Ги, словно мальчику, удаляемому из пиршественной залы обратно в детскую, — чтоб не плакал, — вручили игрушку: маленький, недавно завоеванный английским Ричардом Кипр.
Царствуй!
Но есть особенное величие в том, чтобы быть последним. Сколько бы сеньоров впоследствии ни провозглашали себя королями Иерусалима — настоящим, коронованным у Гроба, был Ги де Лузиньян, Ги Последний. А те, кто сместил его, теснясь возле несуществующего трона, бесстыдно сменяли друг друга. И даже не потому были они самозванцами, что не в присутствии базилики Воскресения получали призрачную власть над призрачным Иерусалимом. Причина их неправды открывалась в ином: все они видели в Святой Земле кусок хорошей почвы, которая недурно кормит тех, кто умеет ее орошать, но истинный смысл обладания ею от них ускользал.
Маленький Кипр в руках Гиона сделался не столько латинским государством, сколько таинственным и грустным напоминанием о том Королевстве, что было потеряно, не только вещественно, но и в духе. Ибо Царство Небесное нельзя купить за деньги и выгодные торговые соглашения; Царство Небесное можно только завоевать…
Ги де Лузиньян, в одиночестве своих кипрских садов, бесконечно молчал. Пока те, могущественные, понимающие что к чему, вполне взрослые бароны вели свои взрослые игры, маленький король Гион управлял своим игрушечным государством — и ни во что иное больше не вмешивался. Он знал, что они потерпят поражение; знал он и причину грядущего поражения, окончательного, невосполнимого. Все это было теперь от него бесконечно далеко. Даже брат, Эмерик.
* * *
Поначалу для Ги еще оставалась надежда. После коронации, после того, как Онфруа и Изабелла признали власть Лузиньяна и его жены, бароны один за другим стали покидать Наблус и приносить присягу новой королевской чете, так что Раймон остался в одиночестве.
Граф Раймон так и не присягнул. Вместо этого он заперся у себя в Тивериадском замке и обратил взоры в сторону Дамаска — к человеку, которого понимал гораздо лучше, чем короля Гиона.
К Саладину.
Между Саладином и франками был заключен мир на несколько лет. Султан ощущал на своих губах вкус халвы, когда размышлял о том, что происходит в Королевстве. Прокаженный мертв, а его старый советник Раймон — слеп; что до короля Гиона, то тот достаточно прям и прост, его легко обмануть. Плод наливался спелостью, и тонкая кожица уже лопалась на его боках — султану оставалось лишь протянуть изящную, сильную руку и принять Королевство на ладонь, точно женскую грудь.
Раймон в точности знал, что делает, когда бросил вызов королю. Граф не обольщался: это называлось мятежом, и потому Раймон обратился к своему союзнику за Иорданом и попросил его о помощи — на случай, если король Ги вздумает напасть на него и привести к покорности силой. Саладин тотчас и весьма охотно отозвался и прислал в Тивериадский замок гарнизон. На стенах с зубцами стояли теперь сарацинские лучники. Пасынки графа, особенно старший, смотрели на это исподлобья, однако помалкивали. Время тянулось, точно ремень катапульты, — чтобы сильнее метнуть камень, когда настанет срок и прозвучит команда стрелять. Обиды, упреки, различные доводы жевались и пережевывались, и до Раймона то и дело доходили различные слухи о том, что король Ги уже выступает на Тивериаду с большим войском, однако никакого войска под стенами замка не появлялось, и вообще ничего пока не происходило.
* * *
Тесть Эмерика, Бальян д'Ибелин, попросил о встрече с королем незадолго до Пасхи 1187 года. Почти не слушая всполошенных слуг, вошел, поклонился почтительно, но бегло, и тотчас выпрямился.
Король Гион ждал его на том самом месте, где в былые годы Бальян видел Прокаженного короля. Сеньор Ибелин даже вздрогнул: было какое-то пугающее сходство в осанке этих двух королей, во всем остальном совершенно различных. Ги как будто возложил на себя не только корону, но и все тяготы своего предшественника, и они заставили его с усилием разворачивать назад плечи и высоко поднимать голову, чуть вытягивая шею.
У Болдуина были темные волосы, но на солнце они быстро выгорали и начинали отдавать рыжиной, вспомнил Бальян. Это было еще прежде, чем волосы начали выпадать, а лицо мальчика утратило прежние черты.
На какой-то миг образ Болдуина наложился на фигуру неподвижно сидящего короля; затем все смазалось и исчезло. Ги заговорил:
— Я рад видеть вас, сеньор.
— Король, — сказал Бальян быстро, — прошу вас выслушать все, что я сейчас скажу, не перебивая.
Ги сделал короткий жест рукой, и Бальян нахмурился: в этом движении ему почудилась слабость, беспомощность. Болдуин бы сейчас стиснул пальцы в кулак, а если бы эти проклятые пальцы не захотели его слушаться, укусил бы их с досады.
— Нужно примириться с графом Раймоном, — без обиняков произнес Бальян.
— Дело только за графом, — тотчас отозвался Ги.
Бальян смотрел на него изучающе, как будто прикидывал, на что способен и на что не способен этот король. Потом уселся, не дожидаясь приглашения, запустил пальцы себе в волосы и задумался.
— Вы оскорбили его, — выговорил наконец Бальян.
Ги двинул бровями.
Бальян поднял тяжелую голову.
— Вы потребовали от него отчитаться за все те траты, что были произведены в годы его регентства!
— Конечно, — тотчас откликнулся Ги. — Ведь граф Раймон потратил чертовски много денег. И я подозреваю, что не все его траты были оправданы. В чем же здесь оскорбление? Говорят, король Амори, отец моей супруги, был еще более расчетлив…
— Но ваш брат Эмерик заткнет за пояс даже покойного короля Амори, — сказал Бальян. — Боже, что мне делать с Лузиньянами? — Он задрал взгляд к потолку, но деревянные перекрытия и тяжелые каменные блоки безмолвствовали, вполне равнодушные к призывам этого барона.
— А почему вы должны что-то делать с Лузиньянами, мессир? — осведомился Ги.
Бальян вспыхнул.
— Потому что вы… ни на что не способны! Что это за история с Рено де Шатийоном? О ней все говорят! Все пересказывают его дерзости, которые он вам наговорил!
И, позабыв, что перед ним — его подданный, его вассал, а не просто грозный тесть его брата, Ги де Лузиньян заговорил, подавшись вперед и схватив Бальяна за руки, точно надеясь, что эти старые, исчерканные венами лапищи вытащат его из пропасти:
— Рено не слушает ни меня, ни вас, ни Раймона, ни своего пасынка Онфруа… Этот старик сидит, как коршун, в своем гнезде, на самой границе Королевства. Говорят, он не может удержаться при виде сарацин, кем бы они ни были. Я писал ему и умолял прекратить грабительские набеги, потому что мы заключили с Саладином мир на пять лет, но Рено, как мне передавали, просто посмеялся посланцу в лицо. Господь свидетель, так же он вел себя и при покойном государе!
— Покойный государь умел держать в узде Саладина. Против покойного государя никогда не осмелился бы выступить граф Раймон, — сурово сказал Бальян. Он чуть передвинулся, чтобы удобнее было сидеть, и перехватил руку короля за локоть. — Вы слабее его, мой сеньор! В конце концов, вы — всего лишь муж королевы, и не все, кто принес вам присягу, любят вас на самом деле.
— А вы? — спросил Ги.
— Что? — Бальян чуть отпрянул. Он не ожидал такой прямоты. — Что — я?
— Вы любите меня?
— Вы, мой господин, спрашиваете прямо, как Иисус… Да, я люблю вас! — сердито сказал Бальян. — Иначе не давал бы вам все эти советы.
— А в чем совет? — опять спросил Ги. — До сих пор вы лишь бранили меня, мой господин, как будто я женат не на королеве, а всего лишь на вашей дочери и дурно с нею обращаюсь.
Бальян чуть прикусил губу. Он выпустил руку короля, встал и начал расхаживать по комнатам. Ги следил за ним чуть настороженно, но без особой тревоги: Бальян — союзник, Бальян — слишком трезвомыслящий человек, чтобы затевать предательство.
Наконец сеньор Ибелин сдался.
— Хорошо! Я дам совет и помогу исполнить его. Расскажите, чем закончились ваши разговоры с Рено де Шатийоном.
— Вы ведь и без моих рассказов знаете, — сказал Ги. — Об этом судачат на каждом углу. Как ловко старик Рено посадил короля Гиона в лужу! Что, не так?
— Рассказывайте! — зарычал Бальян. — Я хочу услышать это от вас.
— Ладно. — Ги улыбнулся совсем по-детски. — Старый разбойник захватил огромный торговый караван в Аравийской Петре. Саладин прислал мне письмо на безукоризненном латинском языке и попросил вернуть награбленное, поскольку у нас с ним мир. Мне пришлось отправлять человека к Рено. Старик наплевал тому в глаза, разорвал мое послание, растоптал клочки ногами, а затем заковал посланника в кандалы, усадил на лошадь задом наперед… Спасибо, дал ему сопровождающего, иначе бедняга бы помер дорогой… «Я, — сказал мне Рено, — такой же господин на своей земле, как вы — на своей». Теперь вы довольны, мессир? Я рассказал вам все!
— Не все, — сказал Бальян.
Ги дернул углом рта.
— Что еще вы хотели слышать? Назвать вам имя посланца? Вызвать его сюда, чтобы он рассказал о своем чудесном свидании с бесноватым стариком? — Ги вздохнул. — Не попросить ли мессира де Ридфора, чтобы он подослал к Шатийону убийц?
Бальян ничуть не смутился.
— Для Королевства было бы значительно спокойнее, если бы мессир Рено умер, — согласился он. — Но он непревзойденный воин и в своем роде всегда прав. В его упрямой голове сидит единственная мысль: сарацин нужно бить, всегда и везде, и наносить им ущерб, елико возможно больший. Других мыслей в этой голове не водится.
— И мне пришлось отвечать Саладину, — закончил рассказ Ги, — что я не в силах осуществить правосудие, столь желанное для него и для меня. Правда, мне удалось изложить эту прискорбную мысль на изысканнейшем персидском языке, для чего во дворце изыскали сарацинского грамотея. Не знаю, достаточно ли утешило султана такое проявление куртуазности с моей стороны.
— Полагаю, Саладин в восторге от случившегося, — сказал Бальян. — Вы вполне могли не утруждать себя и сарацинского грамотея и отвечать ему на добром наречии Пуату: «Пошел к черту, проклятый турок!» Полагаю, смысл вашего ответа был именно таков.
— Нет, — сказал Ги. — Я действительно сожалею о нарушенном перемирии.
— Ну да, — сказал Бальян, — ну да.
Он помолчал немного, а затем резко повернулся к Ги:
— Требуется мир и согласие с Раймоном. Любой ценой. Отдайте ему Бейрут или другой город, какой он попросит, подкупите его — он жаден, — посулите ему какой-нибудь титул…
— Вы ведь хорошо знаете своего друга? — спросил король Ги.
— Поймите, государь, — Бальян назвал так Ги впервые, и короля даже окатило жаром от этого слова, — поймите: восемь лет он провел среди сарацин. Он не такой, как мы. Они изумили его, они научили его думать по-другому. Их мир, их язык, их обычаи обладают странной особенностью: они более заразительны для нас, чем проказа.
При последнем слове они встретились глазами, и на миг между этими столь различными людьми установилось полное взаимопонимание: как будто Прокаженный король соединил их, взяв обоих за руки.
Затем Бальян сердито тряхнул головой, отгоняя призрак.
— Я хорошо знаю моего друга, — повторил он. — И вам, мой господин, надлежит помириться с ним. И, что еще важнее, надлежит примирить с ним мессира де Ридфора, коль скоро этот отвратительный голландец теперь великий магистр…
— Почему вы считаете его отвратительным? — удивился Ги.
Бальян вздохнул.
— Просто… я не люблю его. Это сейчас неважно.
— А граф Раймон действительно приказал взвесить девушку, чтобы обменять ее на равное количество золота? — спросил Ги.
— Кто передал вам эти бредни? — поморщился Бальян. — Если мы действительно желаем помирить Ридфора с графом, нам следует забыть о Люси.
— Хорошо, — согласился Ги. — Забудем о Люси.
* * *
Покидали Иерусалим в рассветный час — оба великих магистра и сеньор Бальян, и сладкое утреннее солнце играло пасхальной радостью: только что отпели мессу, только что вновь не нашли умершего Христа там, где он был погребен, и от того, что не удалась эта находка, в груди расширялось сердце. Не может граф Раймон не желать разделенной с собратьями радости, не может навеки затаить на них злобу и затвориться в Тивериаде со своим мусульманским гарнизоном, недовольными пасынками, старший из которых обожает короля Ги, с властной женой — истинным отпрыском Ибелинова рода, — наедине с обидами и с надвигающейся старостью.
Бальян помнил Раймона молодым. Старик Онфруа Торонский, дед Онфруа нынешнего, до слез жалел детей, дарил им сладости, одежду, украшения, и сейчас Бальян, сам на пороге старости, как никогда прежде понимал, почему. Так стремительно исчезает детская чистота, ясная прежде душа покрывается пятнами врожденного греха, до поры сокрытого в естестве, — ведь и детеныш пардуса рождается гладким, но с возрастом черные и темно-рыжие кляксы расползаются по его шкуре, знаменуя собой явленный порок.
Было время, когда Раймон, разобиженный на византийских Комнинов, снарядил галеры и наказал грабить греков на всех морях, где только удастся их настигнуть. И сам ходил на одной из них. Лютое было время и счастливое. Сколько золотых ожерелий пропустили сквозь пальцы, сколько колец горстями вывалили в песок, ведь не добыча дорога была, но досада, причиненная грекам. Тогда это казалось весело, потому что был Раймон молод, и пятна на шкуре пардуса были гладкими и блестящими.
Теперь шкура облезла, пятна потускнели. О чем думает сейчас Раймон в своем замке, по которому бродят сарацины — внешне ужасно почтительные с господином, с шербетовым подобострастием в наглых глазах, — не тоска ли снедает его в это пасхальное утро?
Бальян прикусил губу, удерживая внезапные слезы.
Но и слезы в это раннее утро не обжигали глаз, а ласкали их нежной влагой и были приятными.
* * *
Король Ги в это утро был пьяным и усталым, и Гефсиманский сад, где он — давным-давно — повстречал таинственную даму, смотрел на него издалека, недостижимый, словно рай, и Ги сейчас казалось странным, что он входил в этот сад и прикасался к его деревьям. Ему вдруг подумалось: чтобы бестрепетно войти в их сень, нужно умереть и перестать быть «сеньором Ги», «королем Гионом», «мужем Сибиллы» — следует прекратить нынешнее существование и обрести иное.
Забрав свое диаконское облачение, которое он носил как служитель Гроба, самый малый и смиренный из его служителей, Ги оделся и вышел из цитадели.
Солнце медленно, торжественно разливалось по пасхальному Иерусалиму. Город утверждался на утренней земле, как псалом, точно великие слова соткали из небытия его несокрушимые стены и возвысили над этими стенами квадратные башни, и поставили ворота над обрывом.
Король вышел из ворот и зашагал к саду.
* * *
С посольством от короля Гиона к графу Раймону Триполитанскому, в Тивериадский замок, ехали десять рыцарей-госпитальеров, и оруженосцы, и сержанты, и это были славные, нарядные, спокойные люди, хорошо вооруженные, с флажками и копьями.
Великий магистр ордена госпитальеров, Роже де Мулен, выслушал от Ридфора слова, которыми тот просил прощения за историю с ключами.
— Вы теперь видите, мессир, что наилучшим для Святой Земли было немедленно короновать ее величество Сибиллу с супругом и объявить их королями Иерусалимскими!
Мулен, всегда рассудительный и осторожный, взял Ридфора за руку и поразился тому, какая эта рука холодная, несмотря на жаркий день.
— Мне думается, мессир, — сказал он Ридфору, — что вам хотелось досадить графу Раймону. Вы получили то, чего хотели, — будьте теперь снисходительны и умоляйте его о примирении, не напоминая о том, кто в вашем споре стал победителем!
— Я буду чертовски снисходителен, — сказал Ридфор. — Чертовски.
Он выдернул свою руку из пальцев Мулена и засмеялся, запустив пятерню в гриву своей лошади. Мулен посмотрел на него едва ли не с завистью: тамплиер представлялся ему в это утро матерым животным, не боящимся ран, которые он может получить в драке с другим хищником. Земля звенела под копытами — она пела от желания принадлежать Ридфору; голландец втягивал ноздрями воздух, точно присваивал его; и повсюду вокруг находились замки, принадлежащие его братии, и везде можно было видеть красный крест на белом плаще, и все эти люди не боялись смерти и не дорожили собой, и все они были послушны Жерару де Ридфору.
По большей части путники помалкивали. День тянулся вместе с дорогой; часы превращались в мили; вдали иногда празднично поблескивала вода, цветы выбегали на луга — словно бы специально ради того, чтобы приветствовать проезжающих сеньоров.
К вечеру впереди показался Наблус, принадлежащий Бальяну д'Ибелину. Здесь решили заночевать.
* * *
Человек, которого Ги де Лузиньян встретил тем пасхальным днем в Гефсиманском саду, был архиепископ города Тир — Гийом. Ги слышал — как и все в Иерусалиме, — что именно он должен был стать патриархом Иерусалимским; но его обошел Ираклий — благодаря своей дружбе с высокими лицами Королевства. Ираклий поддерживал Ги и Сибиллу; поэтому Лузиньян не вполне понимал, как относится к нему Гийом. Как к человеку, с которым близок его соперник? Как к нелюбимому королю?
При виде Ги архиепископ встал. Смутившись, король приблизился к нему, чуть нагибая голову и поглядывая исподлобья, по-детски, как будто в ожидании нагоняя. Гийом взял его за руку и поцеловал в губы ради пасхальной радости этого утра.
Ги смутился еще больше — от него крепко пахло вином. Но архиепископ ничего на это не сказал.
И неожиданно он — худенький, невысокий, сухонький — показался королю Ги самым близким из всех людей. Должно быть, оттого, что они вдвоем оказались в саду, не иначе.
Тихо голосили отдаленные колокола, заполняя долину.
Ги сказал:
— Я отправил Ибелина и с ним обоих магистров просить Раймона примириться со мной.
Гийом помолчал немного. Он выглядел спокойным, отрешенным.
— Умно, — проговорил наконец архиепископ.
— Он должен согласиться, — сказал Ги. — Глупо идти против всего Королевства! Даже мессир Онфруа признал мое право на трон.
— Мессир Онфруа — рыцарь без страха и упрека, — сказал Гийом. — Сэр Персеваль, который так и не решится задать вопрос о ране Увечного короля.
— А я? — спросил Ги.
— Вы? — старый архиепископ посмотрел ему прямо в глаза, и тут случилось невероятное: сухой хворост, которым мнился Гийом собеседнику, разом вспыхнул. С внезапной силой, страстно, Гийом сказал: — О, вы-то спросили об увечье! И Увечный король полюбил вас за это всей душой и сразу дал ответ… Да только вы — не Персеваль.
— О, если бы мессира Онфруа да соединить со мной, — сказал Ги, — да так, чтобы получился единый рыцарь… А мадам Сибиллу слить с госпожой Изабеллой… Как в той забавной песне мессира Бертрана де Борна о Составной Даме: глаза от госпожи такой-то, а нос — от такой-то, а сердце — от доброй дурнушки. Как бы он, дескать, любил сию Составную красавицу… Не слышали?
— Он выбрал вас, — сказал Гийом.
Ги не сразу понял:
— Кто?
— Увечный король… — Темные глаза архиепископа сверкнули. — Мой король! Вот кто. Онфруа понимает смысл случившегося, поэтому и поддержал вас.
— Вы были дружны с графом Раймоном, — задумчиво молвил Ги. — Расскажите о нем. Согласится ли он пойти на мир со мной? Он, великолепный потомок Раймона Тулузского, он, самый могущественный из моих вассалов, знатный, богатый, родовитый… Сто тысяч корней, пущенных им в Святой Земле! Согласится?
— Вы сами объяснили, почему ваша власть над ним — оскорбление, — произнес архиепископ со вздохом. — Он хранил детство моего короля, учил его владеть оружием, разговаривать с сарацинами… А я обучал короля священной истории, мы читали книги и изучали законы Королевства. И я, и Раймон — мы оба любили его. Как же нам с Раймоном было не любить друг друга?
— Граф Раймон очень горд, — сказал Ги.
— А вы?
— Я?
Ги сел на скамью, прижался спиной к старому дереву. Архиепископ рассматривал этого молодого человека в диаконском облачении, с легкими кругами под глазами — от бессонницы, с выгоревшими золотистыми волосами, с крепкими руками (вот и шрам через правую ладонь, а вот еще один, поменьше, у запястья). Новый король. Выскочка, вчера приехавший в Святую Землю из-за моря. Возлюбленный королевы. Плохая замена Прокаженному королю — но другой нет. Говорят, Ги добросердечен. Этого мало.
Гийом спросил:
— Вы любите эти деревья?
Ги спокойно протянул руку, провел пальцами по стволу.
— Очень, — ответил он, словно ожидал такого вопроса.
— Почему?
— Потому что деревья никогда не были изгнаны из рая, — проговорил Ги. — Они находятся одновременно и здесь, и там. Они видят Бога так, как никогда не видим Его на земле мы.
Гийом сел рядом с ним, сложил руки на коленях — словно собирался просидеть так в неподвижности целый день.
— Сад и одиночество, — проговорил он наконец. — Даже если все остальное будет у вас отнято. — Он резко повернулся, и снова Ги обожгло темным взглядом.
Ги склонил голову к его рукам, и архиепископ осторожно накрыл золотистые волосы короля своей маленькой старческой ладонью.
* * *
В Наблусе послы расстались: Бальян решил задержаться на день у себя дома, Мулен отправился дальше, к Назарету, а Ридфор повернул коня к замку Фев, который принадлежал тамплиерам.
Магистры разошлись без особенной печали. С Муленом отправились его госпитальеры; что до Ридфора, то он гнал коня и кричал на скаку от радости, потому что торопился оказаться среди собратьев.
Замок Фев, тамплиерская твердыня, с его квадратными башнями и высокими, толстыми стенами, и с ходами между внешней и внутренней стеной, и с великолепными бойницами, которыми истыкана внешняя стена наверху, и с подъемным мостом, — вся эта краса вырастала из местных скал и сливалась с ними. Дерева здесь почти не использовали, только для мебели, да и то не везде — в трапезной стояли огромные каменные столы, и их мыли, выливая бочку воды по всей огромной их поверхности. И скамьи там были каменными, но на них клали мягкие одеяла, ибо приглашались к трапезе не только суровые братья, но и нищие, и паломники, и странники, и больные — как полагалось по уставу, — и за всеми обездоленными и нуждающимися ухаживали нежнее, чем это делала бы родная мать.
Ридфор с сержантами и оруженосцами влетел в Фев ближе к закату, когда уже начиналась последняя трапеза, а в часовне готовились петь повечерие. Еще в седле магистр проглотил поднесенный ему кубок разбавленного вина, а затем спрыгнул на землю и широкими шагами побежал к трапезе, где занял скромное место ближе к концу стола, так что ему досталось меньше всего мяса в густой похлебке. Сидящий рядом брат готов поделиться, но Ридфор отказывается:
— Завтра меня будет угощать сам Раймон Триполитанский!
Трапеза идет своим чередом. Сегодня едят обильно и пьют весело — в честь Светлой Седмицы.
Первая перемена блюд миновала, ждали, ковыряя в зубах, вторую, когда в замок, прямо к братии, вбежал человек. Он мог бы ничего и не говорить — одного взгляда на него довольно: сержантский плащ разорван, глаза ввалились, рот втянулся; пот ядовитыми ручьями бежит по лицу и по телу.
— Сарацины!
Большой отряд сарацин перешел на рассвете Иордан, у Брода Иакова — там, где некогда стоял замок Шатонеф, выстроенный за несколько месяцев братом Одоном и Прокаженным королем, а после разрушенный сарацинами. Там — большой отряд. Там — турки. Там — мамлюки. Они идут по земле Тивериады.
Миска с похлебкой летит через весь стол, обглоданные кости яростно подпрыгивают, как будто всюду ищут оторванную от них плоть, желая вновь прилепить ее к себе и восстать, как прежде, в образе бычка.
— Сарацины!
Перемирие нарушено! Мамлюки в Тивериаде! Кровь Господня! Святая Чаша!
— Посланца — в ближайший конвент! — кричит Ридфор. — Живо! Сколько там рыцарей?
Ему отвечают, что девяносто.
— Маршал ордена там? Маршала — сюда! Как только получит приказ, немедленно сниматься с места — всем девяноста — и вместе с маршалом сюда! — Ридфор лупит кулаком по каменному столу и даже не морщится от боли. Губы мгновенно искусаны в кровь, красны и распухли, борода торчит клочьями, в глазах бешенство.
Сержанта, который принес ужасное известие, уводят — поить, кормить, жалеть. Ридфор его не запомнил, Ридфор его почти не видел. Отныне он ничего не видит, кроме большого отряда сарацин, что переходят Иордан на рассвете, у развалин Шатонефа…
* * *
Ночь была для них короткой; за полчаса до рассвета девяносто тамплиеров вместе с орденским маршалом из ближайшего конвента уже гремят под воротами замка Фев; Ридфор и все его люди, и все люди из замка Фев вооружаются и выступают к Назарету.
Земля гудит тревожно, тяжелым колоколом, как будто готовясь раскачаться как следует и оглушить людей мощным, неостановимым гулом. Пьянее вина счастье видеть повсюду, куда ни повернешь голову, красный крест на белом и строгое лицо. Кто смотрит сейчас этот сон: мессир де Ридфор, погруженный в свои воинственные, дикие грезы, или давно отошедший к Богу святой Бернар? Кто вызвал этот сон на землю и пустил его мчаться навстречу неизбежному сражению? Но как сладостно быть частью этого сна! В груди перехватывает, точно от поцелуя прекрасной женщины, которая обещает блаженство — и, может быть, даже не солжет в своем обещании.
Роже де Мулен воспринял известие серьезно, без исступленного восторга. Ридфор смотрел на великого магистра госпитальеров, и на языке у голландца делалось кисло. Мулен собирал своих рыцарей, а также светских рыцарей из Назарета так скучно, словно перебирал тряпки в сундуке, выискивая, что можно продать подороже, а с чем лучше не позориться.
Рыча от нетерпения, Ридфор расхаживал по двору, и рыцарские кони тянулись к нему мордами.
Наконец — слава Богу! — выступили.
* * *
А Бальян и с ним небольшой отряд все двигался к Назарету и все не мог добраться до условленного места встречи. Из Наблуса выехал к ночи, но перед самым рассветом того самого дня, когда Ридфор оставил Мулена и направился к замку Фев, Бальян опять остановился.
Глядя, как розовеет небо, сеньор Ибелин в душе вознес хвалу к Спасителю и начал думать о всех благах, которыми Бог неизменно осыпает человека, — и вдруг на ум ему пришло, что нынче день святых апостолов Иакова и Филиппа и что недурно бы сейчас послушать мессу, а после продолжить путь с освеженной душой.
Сказано — сделано; впереди находился город Севастия, и Бальян направился прямиком туда.
Стук копыт, грохот дверного молотка у ворот епископского дома:
— Утро! День начался! Вставайте! Утро!
Ах, эти странствующие рыцари, чума на них и их благочестивые души! В доме — суета и шум, и беготня, и недовольное ворчание. Епископ, кое-как одевшись, направляется к воротам, а сеньор Ибелин уже улыбается ему, и целует его подрагивающую руку, и просит о духовном наставлении и утешении — для самого сеньора и всех его сержантов, оруженосцев и нескольких тамплиеров, что сопровождают его от Наблуса.
Всех провожают в трапезную и скудно угощают — что осталось от вчерашнего. Епископ устал: пасхальные мессы долгие, а человеческое сердце — сосуд немощной и не может вместить радости больше, чем в нем помещается.
— Что Иерусалим? — спрашивает епископ. — Что король Гион? Образумился?
— Король Гион — добр и любит Святую Землю, — отвечает Бальян, сам дивясь на себя, что произносит такие слова. — И уж коль скоро был он коронован, нам следует признать его, потому что любые ссоры между нами — лишь на руку проклятым сарацинам.
— Ну, слава Богу, слава Богу, — ворчит епископ, которому совершенно не нравится король Гион.
Они беседуют еще немного, пока не слышится крик дозорного: «День! День!» — и вправду, солнце выскакивает из-за горизонта, и пора идти и петь мессу.
* * *
Гора Фавор приняла на свои бока тамплиерскую конницу, и пехотинцев из Назарета, и десяток госпитальеров, и укрыла их. Тихо продвигались они в сторону Иордана, чтобы своими глазами увидеть — что же творится в Тивериаде.
Мулен поглядывал на Ридфора сбоку, украдкой, а тот даже не замечал этих взглядов: шевелил нижней губой, водил из стороны в сторону бешеными глазами, точно пытался прожечь взглядом скалы.
— Здесь неподалеку есть источник, — проговорил Мулен. — Обычно пастухи поят там овец…
Они проехали еще немного, и источник открылся им внизу горы Фавор.
Там действительно поили животных.
Несколько тысяч мамлюков привели к этому водопою своих лошадей, и все кругом было заполонено пестрыми тряпками, заплетенными конскими хвостами, бахромой, кистями, колокольцами на лентах, — все пространство вокруг источника как будто вскипало сарацинской роскошью, и оружие блестело ярче, чем драгоценная вода.
Ридфор шевельнул ноздрями, как будто почуял кровь.
— Перебить их! — шепотом прокричал он. — До единого!
— Остановитесь, мессир! — сказал Мулен, не веря собственным глазам. — Там целая армия! Нас перебьют, мессир… Нужно послать весть в Иерусалим и дождаться короля Ги с подкреплением… Нужно просить о помощи Раймона…
— Раймона? — Ридфор повернулся к госпитальеру, и Мулен с ужасом увидел, что бешеный голландец обезумел. — Раймона? Графа Раймона? И кого он приведет нам на помощь — свой сарацинский гарнизон?
— Следует подождать, — повторил Мулен в слабой надежде.
— Я не стану ждать, — сказал Ридфор просто и понесся со склона на сарацин.
— Боже, помоги мне! — проговорил Мулен. — Он всех нас погубит…
* * *
Замок Фев предстал перед Бальяном д'Ибелином — такой грозный, несокрушимый, что даже мысли дурной не закралось в голову сеньора. Он подъехал ближе и увидел несколько десятков тамплиерских палаток, разбитых под стенами. Это означало, что сюда прибыл, помимо гарнизона, еще один тамплиерский отряд, в чем сеньор Бальян не усмотрел ничего удивительного. Он сошел с коня и приблизился к первой же палатке.
Откинув полог, он увидел, что все немногочисленные пожитки рыцарей на месте, однако и следа живой души не обнаружил.
Пустой оказалась и следующая палатка, и еще одна. Сеньор Бальян остановился посреди покинутого лагеря и зычным голосом позвал любого, кто слышит его, но ему никто не откликнулся.
И праздничный день померк в душе Бальяна, место радости заступила смутная, неприятная тревога, и в груди засосало так, словно Бальян не ел несколько дней кряду. Он поднял руку, и к нему тотчас подошел оруженосец.
— Ступай в замок, осмотри там все, — приказал сеньор, сердито хмуря брови. — Доложишь.
Оруженосец ушел, а Бальян уселся на землю и принялся ждать, внешне неподвижный, но с закипающим сердцем.
Молодой человек, отправленный в замок Фев, вошел туда беспрепятственно — ворота были открыты, мосты опущены. Он нашел несколько лошадей в конюшнях — те спокойно жевали и бросили на потревожившего их человека недоуменные взгляды, после чего вернулись к прежнему занятию. Донжон был пуст, лишь в одном помещении обнаружился какой-то хворый странничек, но тот решительно ничего не знал — только двигал беззубыми челюстями и невнятно благодарил за доброту. Юноша принес ему воды и сушеных фруктов, для чего сходил в трапезную, а затем опрометью выскочил вон.
Бальян чуть повернулся в его сторону.
— Что? — крикнул сеньор.
— Никого, — сказал молодой человек. Он выглядел испуганным.
Бальян встал, желая садиться на коня и ехать дальше, в Назарет, но тут прямо перед ним выскочил всадник. Как будто земля выплюнула его, не в силах дольше терпеть эдакое чудище в собственном чреве.
Всадник и являл собой чудище. Он едва держался в седле. Кровь заливала его с головы до ног, грязными потеками бежала по доспеху, превратила в чумазый войлок волосы и бороду (мятый шлем болтался привязанный у седла). Плащ висел на нем клочьями, изорванный и покрытый коричневыми пятнами. Сквозь маску сверкал хорошо знакомый Бальяну яростный взгляд.
— Ридфор! — вскрикнул сеньор Ибелин.
— Беда! Беда! — орал Ридфор сорванным голосом, не похожим на человеческий. — Беда!
Он вертелся на коне, как будто его безумие передалось и животному, и конь бил о землю копытами, брыкался, тряс гривой. С узды капала розовая пена.
— Беда, — хрипел Ридфор.
— Вы ранены, мессир, — сказал Бальян холодно и взял коня под уздцы. Конь гневно посмотрел на Бальяна, но противиться не посмел.
Ридфор вдруг закачался и упал на руки Ибелину. Из горла магистра вырвалось хрипение, точно он из последних сил пытался зарычать, и кровь потекла из угла его рта. Бальян быстро махнул оруженосцу, и Ридфора вынули из седла и уложили на землю. Расторопные сержанты принесли из палаток полотно и воду, захлопотали над раненым. Тот, не теряя сознания ни на миг, ворочал белыми глазами и шипел:
— Несколько тысяч сарацин! Мулен, мой маршал, мои рыцари, воины из Назарета — все, все… Окружили и стреляли, пока не перебили…
— В Тивериаде сарацины? — переспросил Бальян, не веря услышанному.
Ридфор дернулся в руках сержантов, поднял голову, чтобы убедительнее кивнуть, и ударился затылком о твердую землю. На миг он закрыл глаза и перекосил рот от боли, затем этот рот ожил и выдавил:
— Да, будь я проклят!
— Сколько? — Бальян наклонился над ним. — Сколько их?
— Несколько… тысяч! Несколько тысяч! — Веки Ридфора поднялись, и Бальяна опалил ненавидящий взгляд. — Несколько тысяч! Они поили лошадей, и мы набросились на них… Клянусь Святой Кровью, мы перебили несколько десятков, но потом…
— Они опомнились, — сказал Бальян. — Да.
Он выпрямился.
— Что теперь?
— К Назарету! — сказал Ридфор и забился на земле, как пойманная рыба. — К Назарету! К черту ваши снадобья!
Он схватил одного из оруженосцев за руку и стиснул так сильно, что молодой человек поморщился от боли.
— Помоги же! — велел Ридфор. Он встал и тотчас повалился лицом в гриву своего коня. Массивного голландца с трудом усадили обратно в седло. Одна повязка держалась хорошо, вторая, на боку, начала сползать и болталась. Она выглядела слишком белой на грязном теле магистра, а кровь, проступившая на ней, казалась нарядной, и зрение невольно, преступно, радовалось этой яркой краске.
* * *
И вот что увидел граф Раймон во вторник Светлой Седмицы, когда стоял на стене своего Тивериадского замка: неисчислимые отряды сарацин с воплями, улюлюканьем, под беспорядочный рев труб и оглушающий грохот свихнувшихся барабанов, тянулись к Броду Иакова, и на их копьях, под жесткими от крови лентами, качались отрубленные головы.
Заключенные в узкие, изогнутые рамы окон, эти картины были везде, словно граф Раймон лишился рассудка и вознамерился украсить свои покои изображениями преисподней. Черные, как бесы, и шумные, как ад, текли мамлюки, но картины в окнах оставались прежними: храпящий конь, всадник в мягких сапогах, развевающемся плаще, и две оскаленные бородатые головы, одна под другой, — смуглолицая, смеющаяся, с живыми, бегающими глазами, и бледная, мертвая, на копье.
«Тамплиеры!» — прошептал Раймон. Он отвернулся, не в силах больше смотреть. Но и сквозь опущенные веки видел красивого, любезного Саладина, своего союзника и друга. Куртуазный, как аквитанский лорд, знаток поэзии, всегда готовый к переговорам, никогда не действующий неразумно. О, Саладин, образец рыцарских добродетелей!
Раймон впился ногтями себе в щеки, медленно провел кровавые бороздки, шумно дыша, так что воздух выходил из его горла сквозь стиснутые зубы.
Саладин предложил ему дружескую поддержку — на тот случай, если неразумный король Ги вздумает атаковать Тивериаду. В самом деле! Какое взаимопонимание может быть у графа Раймона Триполитанского, такого знатного, такого могущественного, такого многоопытного воина, — с этим выскочкой, с этим юнцом, «мужем Сибиллы»? Смешно подумать! В Святой Земле не зазорно получить фьеф, женившись на наследнице. Но чтобы стать королем благодаря смазливой внешности?
О, Саладин все понимал. Он не вмешивался в личные дела графа Раймона. Просто они друзья. Поэтому лучшие в мире лучники будут охранять Тивериадский замок.
И ведь не сунулся сюда король Ги! Выжидал чего-то. Совещался с баронами, но графа Раймона до поры до времени не трогал. Только письма к нему изредка присылал: помиримся!
Какое может быть примирение, если от Раймона потребовали отчитаться за свое регентство! В воровстве его, что ли, заподозрили? Подобное требование граф счел оскорбительным. Впрочем, идея запросить у бывшего регента полного отчета в финансовых тратах наверняка принадлежала не самому Гиону, а его умному брату Эмерику.
А затем, однажды, султан прислал своему другу Раймону горестное послание, где жаловался на грабежи, учиненные сумасшедшим Рено де Шатийоном. И, поскольку ничтожный король Гион не в состоянии осуществить правосудие на собственной земле, то султан вынужден действовать самостоятельно. И просит своего союзника о малом содействии.
Есть у султана намерение поискать то, что было награблено Шатийоном в Аравийской Петре. И для того он смиренно просит у друга дозволения пройти через его землю.
Раймон едва сдержал себя: незачем посланцу Саладина, который глядел на него чрезвычайно вежливо, без малейшего намека на ухмылку под ухоженными усами, видеть, что граф Триполитанский — в ярости.
— Разумеется, — сказал Раймон своему другу и союзнику Саладину, — вы можете пройти через мои земли и попытаться взять то, что отобрал у вас Шатийон в Аравийской Петре. Только я попрошу вас не трогать на моей земле ни замков, ни городов, а также настаиваю на том, чтобы вы вошли в княжество Тивериадское на рассвете и покинули его на закате, задержавшись здесь лишь на один день.
— Одного дня вполне достаточно, — сказал посланец и уехал.
Были разосланы предупреждения всем населявшим Тивериадскую землю: здесь пройдут сарацины, но бояться их не следует, ибо они идут наказывать Рено де Шатийона, а Тивериаду не тронут. Следует лишь на всякий случай укрыться за стенами замков.
Согласился Раймон на условия Саладина, но на душе у него было очень тревожно. И вроде бы все выглядело весьма благопристойно…
Граф не находил себе места. Время еще было выбрано такое — сразу после Пасхи. Сколько раз такое случалось, что враг рода человеческого изыскивал средство опоганить светлый праздник. Не произойдет ли нечто подобное и нынче, на Светлую Седмицу 1187 года?
Раймон открыл глаза. Окна его замка опустели, пугающие картины пропали. Теперь только яркое небо моргало перед взором. Ослепительное, как одиночество, оно ломилось в зрачки, давило на них, точно пыталось разорвать. Вместе с болью пришла ясность.
Разумеется, Саладин с самого начала знал, что тамплиеры не смогут не напасть на его воинов. Потому и отправил целую тучу своих мамлюков. С полного согласия своего друга и союзника — Триполитанского графа.
«Злополучный глупец! — сказал себе Раймон и почувствовал, как прожитые годы навалились на него тяжким, почти невыносимым бременем. — Тебя заманили в ловушку из твоей собственной хитрости и гордыни!»
Пути назад для него не оставалось. Он уже предугадывал, как отправится к султану — с дружескими упреками, дабы выслушать дружеские же сожаления. Что поделаешь. Мамлюкам пришлось обороняться. Они были в своем праве. Им ведь позволили находиться на этой земле и поить в этом источнике своих лошадей, а тамплиеры набросились на них, яко дикие звери. Да, конечно, тамплиеру не дозволено отходить при виде врага, даже если враги численно превосходят орденских братьев в десятки и даже сотни раз. Будем рассматривать случившееся как недоразумение…
А затем Раймон встанет перед необходимостью пойти под руку Саладина и в дальнейшем выступать против Иерусалимского короля. Потому что Гион никогда не простит ему предательства.
Разве не сказано было, что Королевством будут править святой, женщина, прокаженный, трус и предатель?
Это предсказание появилось во времена Прокаженного короля. Роль труса отводилась Гиону, а роль предателя…
Старший пасынок графа, наследник Тивериады Гуго, стоял в комнате и смотрел на отчима ледяными глазами. Когда он успел войти? Что из случившегося он уже знает? Раймону было известно, что король Гион нравится юноше. Гион нравился почти всем молодым баронам Королевства. Только старикам он — как кость в горле. Таким старикам, как сам граф Раймон.
— Что вы будете делать? — спросил Гуго.
Раймон молчал.
— Вы видели?
— Да, — сказал граф.
— Это вы впустили сюда мамлюков? — продолжал Гуго. — Это ведь вы позволили им ступить на землю моего княжества?
— Да, — снова сказал граф, едва ворочая сухим языком.
— Вы будете прокляты! — тихо проговорил Гуго, подходя к отчиму совсем близко. — Боже мой! Что вы намерены делать теперь, когда мы все опозорены?
— Я знаю, что мне делать, — отозвался Раймон и посмотрел на молодого человека так странно, что тот отпрянул. Несколько мгновений лицо старого графа дергалось, будто он пытался согнать невидимую муху, а затем Раймон неожиданно рассмеялся. — Он думал, что отныне я у него в руках! Он вообразил, будто навсегда отрезал мне путь назад, в Иерусалим! — Раймон сделал непристойный жест и направил его в пустоту, туда, где, по его мнению, должен был находиться Саладин. — Лучше я умру.
Гуго смотрел на него неподвижно. Ему было неприятно видеть, как гримасничает и корчится этот взрослый человек. Человек, которого он привык уважать — как знатного барона, как мужа своей матери, как одного из лучших воинов Королевства. В своей боли Раймон был непристойно обнажен, и юноше хотелось уйти.
Граф улыбался все шире.
— Он думает, будто знает все о латинских баронах, о нашей чести, о том, что мы считаем своей гордостью! Он, глупый курд, вообразил, что изучил нас вдоль и поперек! Что мы — пустые куклы в его черных руках! Что рыцари-христиане так же трусливы, жадны и подлы, как его египтяне!
Гуго резко повернулся и вышел.
— Сделайте мне любезность, дорогой сын, — в спину ему крикнул граф Раймон, — распустите, будьте настолько добры, сарацинский гарнизон! В шею их отсюда! К чертовой матери! Можете кого-нибудь из них повесить за наглость, если вам так захочется. Слышите? Прошу вас!
Раймон не стал даже менять одежд — остался в тех, что на нем были; лишь вооружился и велел двум сержантам сопровождать его.
Он направлялся в Иерусалим.
Ему было безразлично, что сделает с ним король Гион. Он ехал сдаваться ему на милость без всяких условий.
* * *
Ридфор тащился с Бальяном по цветущей дороге в Назарет. Между магистром и сеньором Ибелином состоялся лишь один краткий диалог. Бальян спросил:
— Сколько человек спаслось?
Ридфор ответил:
— Трое.
И потом они молчали.
Недалеко от города Ридфор начал клониться в седле, сереть и закатывать глаза. Заметив это, Бальян велел своим людям остановиться.
— Я дальше не поеду, — сказал магистр. — Оставьте меня здесь, на обочине.
— Вы умрете, — возразил Бальян.
Ридфор в последний раз обжег его яростным взором, после чего обмяк и пал лицом на гриву коня.
— Снимите его с седла и уложите на землю, — велел Бальян одному из своих оруженосцев. — Один из вас будет с ним. Я не хочу, чтобы он умер.
Молодые люди переглянулись. Ридфор не нравился никому из них, и оставаться с голландцем, из-за которого христиане потеряли столько прекрасных воинов, им не хотелось. Бальян знал об этом и потому указал пальцем на одного:
— Ты.
Юноша спешился, взял за узду обоих коней и привязал их. Затем начал снимать вьюки.
Бальян оставил ему воду, и вино, и немного хлеба из тех припасов, что у него еще были, после чего дал приказ двигаться дальше к Назарету.
* * *
Король Ги получил известие о разгроме и тотчас выступил в сторону Тивериадского замка. С ним были остатки ордена тамплиеров и госпитальеры, а также те иерусалимские бароны со своими людьми, которые смогли к нему присоединиться. Архиепископ Тирский, который, несмотря на сан и возраст, превосходно сидел в седле, приблизился к королю и посмотрел на него сбоку. После той встречи в Гефсиманском саду Гийом немного изменил мнение о преемнике Прокаженного короля.
— Что вы намерены делать? — спросил архиепископ.
Лицо Ги за эти дни осунулось и вместе с тем повзрослело, стало тверже. В своем роде он сделался еще красивее — мужественнее.
Он обернулся к Гийому — неподвижная маска, воплощенное королевское величие.
— А что я должен, по-вашему, сделать, мой господин? — проговорил он тихо.
Архиепископ не стал отвечать, просто отъехал в сторону. Ги поднял руку, и отряд тронулся с места.
Святая Земля раскинулась по обе стороны дороги. И, как думалось Ги, вобрала в себя все, что может встретиться в жизни человеку: бесплодную сушь и благодать влаги, наезженные тропы и глухомань, горы и плоские равнины. Хорошо было ездить здесь простым паломником, странствующим рыцарем, младшим братом коннетабля — и ни о чем не скорбеть, кроме собственной души. Сейчас же Ги казалось, что он может бродить по этому клочку земли сорок лет, подобно Моисею, и погибнуть в скорбях по Королевству, и никогда не увидеть зелени последнего, райского сада.
Граф Раймон Триполитанский — предатель. Он впустил на свою землю врагов. И это закончилось для ордена Храма катастрофой, а скоро случится вторая, сокрушительная. О, Увечный король, что же делать мне — мне, который даже не Персеваль, но жалкая пародия на него?
День тянулся бесконечно, и не заканчивалась эта дорога, и болезненные думы, измучившие короля и старившие его с каждой минутой на несколько лет, уже сделались привычными и больше не жалили, но лишь вызывали неприятный зуд. И Ги думал, что, когда закончится этот день — если такое, по милосердию Господа, вообще случится, — то он ляжет спать дряхлым стариком и больше никогда не проснется.
— Скоро Наблус, — проговорил над его ухом глуховатый голос.
Ги был так поражен, услышав этот голос, что вздрогнул всем телом. Вот уже несколько часов он не слышал ничего, кроме собственных мыслей. Внешний звук показался ему таким свежим, таким громким, что короля будто пронзило насквозь.
Говоривший был архиепископ Тирский. Он внимательно смотрел на короля — так, словно понимал, что творится в его душе.
— Хорошо, — прошептал Ги.
— Междоусобица начнется, — сказал Гийом.
Он глядел не моргая.
— У меня был брат, — все так же шепотом ответил Ги. — Жерар. Старший. Он всегда был лучше меня. Я привык к сравнениям.
Тут Гийом моргнул.
— Что вы хотите сказать?
— Это вы хотели сказать, а не я. Что Прокаженный король не допустил бы усобицы.
— Это правда, — проговорил Гийом. — Правда.
— Что поделаешь, ведь я глуп, — молвил Ги очень спокойно, без горечи.
Архиепископ коснулся его руки сухонькой ладонью.
— Может быть, только глупость нас и спасет, — произнес он так тихо, что Ги едва расслышал его.
Они проехали еще немного, когда высланный вперед всадник вернулся и, не задерживаясь, проскакал прямо к королю.
— Там сеньор Раймон!
Ги остановил коня.
— Сколько с ним людей? — спросил король.
— Двое, — сказал всадник и заплакал.
Ги выехал перед отрядом и помчался галопом в ту сторону, откуда только что вернулся всадник.
Он увидел графа Раймона возле Колодца Иакова. Граф сидел в седле и неподвижно смотрел на дорогу. Густые лучи закатного солнца пробирались в каждую морщину на его лице, так что он выглядел невероятно древним, как будто его высекли из камня в незапамятные времена да так и оставили здесь в одиночестве.
Заметив короля, Раймон чуть шевельнулся, поднял голову. Углы его рта двинулись, словно граф хотел улыбнуться. Потом он медленно спешился и пошел навстречу Ги.
Ги подъехал к нему вплотную и посмотрел на него сверху вниз. Один из сержантов, нагнавший короля, помог ему сойти с седла.
Теперь Ги стоял перед Раймоном так, что мог, протянув руку, коснуться его плеча.
Раймон, все так же молча, преклонил колени и опустил голову. Не раздумывая ни мгновения, Ги бросился к нему и схватил в объятия.
— Встаньте, — шепнул он графу на ухо.
— Предаю себя в ваши руки, — сказал Раймон громко, так что Ги поморщился от резкого звука. Он понял, что граф, как и он сам, все это время молчал и теперь не в силах правильно рассчитать силу голоса.
— Хорошо, — сказал Ги. — Но встаньте же! Сейчас здесь будут бароны и архиепископ. Я хочу, чтобы вы присягнули мне достойно. А потом объединимся и будем решать — как нам разбить сарацин.
Глава одиннадцатая ЧАША ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Сад, приют израненных сердец. Почти все сеньоры, которые решили оставить Святую Землю, где они потеряли свои прежние владения, и последовать за опозоренным королем Гионом на Кипр, в его игрушечное королевство, были молоды. Старые волки остались — огрызаться и нападать на сарацин, целясь клыками в клокочущее от смеха горло под масляной бородой. Молодые оказались слабее — сдались и покинули священный берег.
Тишина этого сада до сих пор казалась Ги непостижимой. Несколько лет не могли смолкнуть в его ушах отзвуки последнего боя, а затем — отвратительные голоса сарацинских тюремщиков, их беспричинный хохот, и после — снова грохот сражений, и бесконечные переговоры, переговоры, и шум моря, и скрип корабля, который увозил изгнанников на Кипр. А затем наступила благословенная тишина. Иногда разговаривали и здесь, но негромко и достойно. И здесь не клацало оружие. Все осталось позади.
* * *
В тот день у Колодца Иакова, ощутив под ладонями вздрагивающие плечи графа Раймона — последнего из вассалов, что отказывался признать над собой власть короля Ги, — Лузиньян поверил было в возможность победы над Саладином. Несколько месяцев лихорадочных сборов. Он не мог вспомнить, что произошло потом. Остались только какие-то разрозненные обрывки — не столько картины, сколько ощущения: так животное помнит плеть, его наказавшую. И самым страшным ощущением все эти годы, минувшие после того дня, оставалась жажда.
Сарацины оттеснили христианское воинство от источников воды и зажгли сухой хворост. Был день святого Мартина Кипящего, 4 июля. Ги плохо понимал, что происходит. Он утратил ясность рассудка. Он знал только, что хочет пить. Он резал себе запястье, но кровь плохо утоляла жажду. Адские полчища накатывали на изнемогающих рыцарей. Ридфор, с плохо зажившими ранами, орал и дрался где-то поблизости от короля Ги — тот иногда слышал его хриплый голос. И Эмерик тоже был рядом. И Онфруа — что бы там ни говорили о его слабости.
В клочьях дыма, в клубах пыли носились дьяволы со сверкающими клинками, от которых болели и без того напряженные глаза, и стрелы вылетали из пустоты, так что не оставалось больше места для страха: страдание сделалось таким долгим, что перестало причинять резкую боль.
Королю Ги о чем-то докладывали. Он делал вид, что слышит, и кивал головой. Гром отдавался у него в ушах при каждом движении.
Какой-то рыцарь, падая со стрелой в плече, ухватил Ги за руку и заговорил с ним, захлебываясь и спеша. Ги наклонился над ним. Он не понимал ничего и испытывал искреннюю радость, когда ему удавалось разобрать одно или два слова, но затем юный рыцарь произносил третье, и смысл сказанного опять ускользал от короля, ввергая его в растерянность.
— Мне страшно! — сказал вдруг этот рыцарь вполне отчетливо.
Ги отпустил его руку и отвернулся.
Сарацины не спешили сходиться со своими врагами лицом к лицу, предпочитая обстреливать их из луков и арбалетов. Но некоторые все же не выдерживали и, выбежав из черной завесы, принимались весело вертеть саблями. У многих по бороде стекала вода, пятная одежду на груди, и Ги вдруг поймал себя на том, что не отводит взора от этих влажных пятен. Если бы прижаться к ним лицом…
Он гнал коня на врага, желая схватиться с ним в поединке и отобрать у него воду, а затем вырваться из адского кольца и наконец добраться до источника. Рядом скакали и кричали еще какие-то всадники. Ги их не видел. Он выбрал себе цель и несся прямо на нее: стройный молодой воин, легковооруженный, в блестящей кольчуге, которая облегала его тело, точно чешуя.
Клинки загремели в небе, как будто предвещали грозу; каждый удар отзывался в страдающем теле короля. Он направил коня так, чтобы тот толкал закованной в броню грудью легкую лошадь противника. Но конь страдал от жажды еще больше, чем всадник, и плохо слушался. На мгновение Ги отчаялся, но затем его соперник допустил единственную ошибку — слишком широко развел руки, готовясь задрать саблю над головой и обрушить ее на бедную голову глупого франка. В тот же миг Ги полоснул его острием меча по горлу, а затем меч вывалился из ослабевших рук короля.
Сарацин начал падать — бесшумно, как показалось Ги в грохоте сражения и треске пожара, — и на миг его лицо еще раз мелькнуло перед глазами Лузиньяна. И вдруг — как будто безумие волшебным образом прояснило разум и зрение Ги — он узнал этого человека. Тот смешной парень, переодетый девочкой, что обокрал его в первый же день в Яффском порту. Ги был уверен, что не ошибся. Это был он. С перерезанным горлом, медленно валящийся с седла на изрытую копытами пыльную землю — словно для того, чтобы своей кровью поставить точку на всей истории короля Гиона.
Точку, из которой — как из той единственной точки, которая составила все письмо Юсуфа к его отцу, — медленно начала расти совершенно иная жизнь, не похожая ни на что из случившегося прежде.
Из черноты на рыцарей налетели неодолимые сонмища, смяли их, повергли, начали топтать и вязать им руки, а затем погнали куда-то, и веревки, на которых тащили пленников, казались тем милосердной поддержкой, потому что ноги больше не держали и отказывались им служить.
Последним, что помнил Ги, был громовой хохот Ридфора: великий магистр тамплиеров внезапно обнаружил, что его связали одной веревкой с итальянским рыцарем, мужем Люси.
Короля, едва живого, воскресил Саладин. В безупречно белом, недосягаемо прекрасный, султан осведомился, где в толпе пленных находится его собрат, несущий, как и он, тяжкое бремя власти, — Иерусалимский король. Чьи-то руки начали хватать Ги, вертеть его из стороны в сторону, подталкивать куда-то, гнать тычками, осыпать бранью. Ги подчинялся всему происходящему, как дитя, которое влекут к отцу: наказывать или угощать, об этом ничего пока не известно.
После мелькания разных ненужных лиц перед Ги внезапно предстало лицо победителя, и никакого другого ему видеть больше не захотелось. Мужчина в самом расцвете сил и красоты, он глядел так, словно все его сарацинские замыслы были очевидны для него на много миль, на много лет вперед, и он только что прошел часть пути в полном соответствии с задуманным.
Протянув руку, султан плавным движением взял чашу с водой и поднес ее к губам Ги. И Ги засуетился, вытянул губы, а затем схватил чашу руками и принялся хлебать. Второй глоток внезапно прояснил его мысли, и Ги спохватился. Отведя чашу ото рта, протянул ее тому пленнику из франков, что находился поблизости, а сам тряхнул головой, выпрямился, неловким движением причинив себе резкую боль.
Второй франк жадно пил и фыркал, точно конь, а затем проговорил грубым тоном несколько слов на языке сарацин.
Не меняя выражения лица, с которого так и не сошла улыбка, Саладин стремительно отмахнул саблей, и голова дерзкого франка покатилась по земле. Другой рукой султан успел оттолкнуть в сторону Ги, так что фонтан крови не забрызгал его. Ги встретился глазами с Саладином и понял, что сейчас нет никого дороже, никого ближе и любимей. Только этот сарацин, такой красивый и могущественный.
Ги знал, что это чувство ложное и ведет в трясину, и потому скорее отвел взгляд и посмотрел на обезглавленного. Король узнал не лицо, но одежду: Рено де Шатийон.
Саладин, внимательно следивший за иерусалимским королем, кивнул:
— Этот пес посмел разграбить мои караваны и оскорбить наше перемирие! Он вынудил меня поссориться с тобой, а теперь еще и насмехался!
— Что он сказал? — спросил Ги.
— Сказал, что выпил моей воды и теперь считается моим гостем, так что я не могу казнить его, как бы мне ни хотелось.
— А ты что сказал ему? — снова спросил Ги.
Саладин охотно объяснил:
— Что он плохо знает наши обычаи. Эту чашу я дал тебе; что до Шатийона, то он получил ее из твоих рук и, следовательно, никак не может считаться моим гостем…
Спустя год, когда Сибилла отдала Саладину в обмен на своего возлюбленного мужа город Аскалон, Ги был отпущен под честное слово: не носить на себе оружия, которое он мог бы поднять на султана. Ги поклялся — и с той поры возил меч и копье только притороченными к седлу. В сражениях сарацины плевались и, выезжая из строя, кричали ему обвинения в вероломстве, но Ги, выучивший за время плена несколько фраз, всегда находил теперь нужное словцо.
* * *
Здесь, на Кипре, король редко вспоминал эти годы. Он называл их про себя «темными» — потому что они проскользнули сквозь его жизнь, не задевая памяти, заполненные событиями до краев — и в то же время до крайности пустые, никчемные. После той битвы Саладин занял Иерусалим. Спустя три года умерли Сибилла и девочки, одна за другой. Архиепископ Гийом, который утешал короля Ги в те дни, сказал — от дизентерии. От дизентерии в том году умерли многие.
Ги устроился на поваленном дереве у себя в саду — так, чтобы издали видеть маленький фонтан и смешного дельфинчика из серого мрамора рядом. Дельфинчик был старый, еще времен языческой Эллады — его откопали в углу сада, когда высаживали розовые кусты. Кто-то из слуг появился рядом с королем, протянул бокал. Не глядя, Ги взял, глотнул и удивленно повернулся к человеку, который принес ему питье: на Кипре он пил хорошее вино, разбавленное наполовину или на две трети; но сейчас ему подали просто воду.
Может быть, из-за вкуса обычной, даже не охлажденной воды вернулись воспоминания. Ги медленно повернул кубок дном кверху и опорожнил его себе под ноги. Слуга засмеялся.
— Кто ты? — спросил король.
Человек вышел на свет и встал перед королем.
Теперь поднялся и Ги.
Перед ним находился Гвибер. Сильно одряхлевший, хотя прошло не так много времени. Белые волосы стали седыми, но не посерели, как следовало бы ожидать, а сделались желтоватыми от старой пыли.
— Давно ты здесь? — спросил его король, улыбаясь.
— Всегда, — ответил Гвибер. — С самого начала. Я приплыл на Кипр вместе с тобой.
— Как же вышло, что до сих пор я не видел тебя?
— Я этого не хотел.
— Боже мой, — сказал король, протягивая ему руки, — как я рад тебя видеть, старый друг!
Гвибер чуть попятился.
— Я всегда был рядом с тобой, Гион, — прошептал он, тряся головой. — А ты был слишком погружен в собственную жизнь. Ты хотел жить в сказочном королевстве, не так ли? Персеваль! — Он засмеялся, увидев, что Ги смущен. — Я подслушивал твои тайные мысли, я подсматривал все твои сны! Я знаю, о чем ты думал, когда тебе сказали о смерти твоей жены! Я знаю, о чем ты думал, поверь, потому что я подумал тогда то же самое.
— О чем же я думал? — проговорил Ги немеющими губами.
— О том, что теперь все кончено. Теперь, когда умерла твоя женщина! Не после потери Иерусалима — нет, тогда еще оставалась надежда, потому что оставалась любовь. Но когда она умерла, да еще от такой неприятной болезни…
— Молчи, — приказал Ги.
— Но ведь я пришел тебя утешить, — торопливо произнес Гвибер.
— Что тебе нужно?
— Я всегда был рядом, — сказал Гвибер. — Каждое пятнышко ржавчины на твоем мече — это я. Я ненавидел тебя с первого мгновения, как только увидел — тогда, на Иерусалимской улице. Помнишь? Я подарил тебе языческого божка… который похож был на нашего покойного короля, не правда ли? Ты тоже заметил это сходство? Меня оно насмешило! А тебя нет?
— Нет, — сказал Ги.
— Я не так глуп и далеко не так безумен, как все считают… Ты убил моего Раймона… Он вырвался из сражения, которое ты проиграл. Он еще сумел вырваться. Он вернулся домой, лег в свою постель и там умер. Просто не проснулся. И в этой смерти виновен ты, Ги де Лузиньян! Ты уничтожил человека, который спас меня от рабства… Ты ведь был у них, ты знаешь — каково это, жить среди них, нюхать их черные тела, жрать ту гадость, которой они кормят своих пленных… Но ты — знатный господин, ты все равно никогда бы не понял, что такое быть их рабом. Саладин кормил тебя сладостями из собственных рук, правда? Ты брал у него из рук губами липкие конфеты, как это делают женщины?
— Нет, — сказал Ги.
— Нет? — Гвибер улыбнулся так, словно думал о чем-то непристойном. — А я думаю — да.
— Пожалуйста, — попросил король, — уйди.
— Мой граф, мой добрый господин, он вырвался из окружения, в котором все прочие бесславно сгинули… Он вернулся к себе в Тивериаду и там просто умер! Так все говорят — «просто умер»… Его убило горе. Его убила ваша глупость! Или — может быть — кто-то подослал к нему убийц? Кто-то, кто ел из рук Саладина?
— Замолчи.
— И тогда я стал искать способа причинить ему боль. Этому человеку, выскочке, которого я должен был убить еще в тот день, когда он вскружил голову принцессе. Должен был, но не проявил достаточно усердия, потому что тоже поддался его чарам! Святая Марина, милая моя святая Марина, которую я больше никогда не увижу! Я должен был убить тебя, Ги де Лузиньян, чтобы ты не совершил тех преступлений, ошибок и подлостей, что погубили Королевство! Мой граф — он понимал это… Я — нет. Я был глуп.
— Ты хотел убить меня?
Гвибер закивал с таким счастливым видом, что Ги попятился и нащупал на поясе кинжал.
— Да, маленький Гион. Я должен был убить тебя, чтобы ты не женился на Сибилле Анжуйской, не стал Иерусалимским королем, не погубил Королевство и моего графа… Вот что я должен был сделать! Но я подобрался к тебе иначе. Я уничтожил твою жену! Я отравил ее… Вот что я хотел сказать тебе с самого начала нашего дружеского разговора. Я отравил твою жену и твоих девочек. Они вовсе не умерли от неприятной болезни. Скажи, ты рад этому?
Ги медленно покачал головой.
— Ты лжешь, — сказал он.
— Нет! — выкрикнул Гвибер. — Зачем мне лгать? Я украл у тебя счастье, Гион!
Ги продолжал неподвижно смотреть на него. Гвибер бессмысленно лыбился. Пот проползал по его изрытому морщинами лицу, чуть задерживаясь там, где шелушилась кожа. На мгновение перед взором Ги снова мелькнула пронизанная солнцем струя фонтана — в просвете между деревьями. И таким ненужным предстал Гиону этот Гвибер с его откровениями и гримасами, таким лишним в тенистом саду, где таились только чистые воспоминания, что Ги ощутил резкую боль в груди.
— Я ведь знаю, что ты лжешь, — тихо повторил он. — Не наговаривай на себя, глупый человек. Моя жена и дочери умерли от болезни. Архиепископ Тирский никогда не говорил неправды.
Одним прыжком Гвибер подскочил к нему. Ги увидел у самых своих глаз оскаленный слюнявый рот, в котором уже не оставалось зубов, и кривой нож мелькнул у самого горла Кипрского короля.
— Перестань, — прошептал Ги.
Гвибер не отвечал, только тянулся ножом к шее Ги и мелко трясся от смеха. Ги попытался оттолкнуть его от себя, но безумец прильнул к нему, точно назойливая любовница.
Внезапно Ги охватила усталость. Он понял, что его до смерти утомили сложные, запутанные душевные переживания Гвибера — и не только Гвибера, но и всех прочих: Эмерика, графа Раймона, Бальяна, Марии Комниной, Гуго Тивериадского, даже Онфруа…
Холодное лезвие коснулось его подбородка, и это прикосновение заставило Ги очнуться от задумчивости. Не колеблясь более, он выдернул из-за пояса кинжал и вонзил его в грудь Гвибера, а затем вырвался наконец из его объятий и отскочил.
Не переставая тянуть губы в натужной усмешке, Гвибер сел на поваленный ствол, где незадолго перед тем отдыхал Кипрский король. Он протянул руку и схватил Ги за рукав.
— Побудь со мной, — тихо попросил он. Кровь булькала у него во рту.
Ги продолжал стоять.
— Останься, пока я не умру, — повторил Гвибер.
Ги крикнул:
— Эй, кто-нибудь! Уберите это из моего сада!
И быстро зашагал прочь.
А Гвибер, все глубже заваливаясь на правый бок, смотрел ему вслед угасающим взором.
* * *
Теперь Ги знал, чего ему следует ожидать. Того, последнего, свидания в саду, которое навсегда соединит его с Прекрасной Дамой. И когда настала пора уходить, он просто сделал легкий шаг навстречу милой тени, заранее раскрывая объятия, чтобы всей истосковавшейся грудью ощутить прикосновение, без которого он голодал все эти годы.
Дорогой Читатель!
Книжка, которую Вы, быть может, только что дочитали, представляет собой роман о любви.
Ключевых слов ровно три: «роман» и «о любви». Это не политический трактат, не любимая мною история войн и вообще не краткий пересказ в художественной форме того, что можно обрести в великолепных книгах Ришара («Латино-Иерусалимское королевство») и Мельвиль («История ордена тамплиеров») и куда менее великолепных — Куглера, Мишо или, не дай Бог, Успенского (все они называются «История крестовых походов»). Хотя я их добросовестно прочитала (равно как и очень хорошую статью Галины Росси «Ги де Лузиньян — последний король Иерусалима», найденную в Интернете, — за эту статью большое спасибо ее автору).
На ролевой игре по Второму крестовому походу «Завоевание рая» у меня была роль королевы-матери Мелизанды. Уж не знаю, почему, но все королевы-матери традиционно коварны. Это было увлекательно, по-своему остро и вызывает сильные ощущения.
Играть в любовь гораздо страшнее, поскольку любовь — в отличие от политики — игры не предполагает вообще. Изображать хитроумную королеву — можно. Изображать прекрасную влюбленную принцессу — нереально. Ею надо быть.
Между тем Крестовых походов без Великой Любви к Прекрасной Принцессе попросту не существует. Вся авантюра «заморских странствий» пронизана духом любви. Вся Святая Земля — это царство наследниц, графинь, принцесс, княгинь, баронесс, одиноких в своих замках, погруженных в ожидание любви.
И я написала роман о любви.
В свое время один из моих персонажей (в романе «Варшава и женщина») высказал мысль о том, что истинная любовь встречается реже, чем великие воинские подвиги, и потому имена великих любовников известны наперечет…
К числу таких великих любовников принадлежат Ги де Лузиньян и его жена, иерусалимская королева Сибилла. Мы не можем знать с достоверностью, какими были эти люди; мы можем судить о них только по их поступкам… да еще по нашей потребности прикасаться к подобным историям хотя бы издали, хотя бы краем фантазии.
Ради этого прикосновения и была написана книжка.
Вот несколько примечаний.
КОРОЛЬ АМОРИ. Младший брат короля Болдуина III. По всем описаниям — некрасивый, не обаятельный, заика, сутяга и жадина. Вместе с тем, кстати, очень недурной политик и хороший воин.
Амори был женат дважды. Первая его супруга, Агнесса де Куртенэ, родила ему двоих детей, Сибиллу и, спустя год или два, Болдуина.
Затем, в силу политической необходимости, потребовалось срочно связать иерусалимского наследника узами брака с византийскими императорами Комнинами. Придравшись к тому, что между Агнессой и ее мужем существует «недопустимо близкая степень родства» (четвероюродные брат и сестра), прелаты развели Амори с его женой Агнессой де Куртенэ и женили его на Марии Комниной.
От Марии у короля Амори была младшая дочь, Изабелла.
Любопытно, что обе королевы-матери, и Агнесса, и Мария, были весьма активны в политике. И обе, если и уступали напористостью и коварством Екатерине Медичи, любимой многими по романам Дюма, то совсем немного (никого, вроде бы, не отравили).
Ни одна из «королевских тещ» в моем романе не фигурирует. Несмотря на то, что я знаю об их большой роли в тогдашней политике. Но эта роль во многом касалась распределения материальных богатств, земель, доходов и должностей — а в романе о любви все эти подробности совершенно не важны. Кроме того, все-таки в истории падения Иерусалимского королевства роль королевских тещ во многом преувеличена.
КОРОЛЬ БОЛДУИН IV, единственный сын короля Амори. О Прокаженном короле традиционно говорят: «живая развалина, давнишнее достояние могилы», исходя лишь из того, что он был неизлечимо болен. Меня всегда поражала эта полная нечуткость историков, особенно старых, вроде Мишо, Куглера или Успенского: они выносят приговоры, исходя из какого-либо одного признака, часто формального, а то и вовсе руководствуются характеристикой, которую дал данному историческому персонажу какой-либо иной исторический персонаж (зачастую — его личный враг).
Если Болдуин был болен, значит, он — «жалкий калека». Однако имеет смысл посмотреть не на диагноз этого человека, но на его поступки. Например, на его удачные кампании против Саладина: «непобедимый» султан неизменно бывал им бит и вообще до смерти Болдуина не решался действовать против Королевства чересчур активно. Кроме того, Болдуин довольно умело манипулировал «партиями», которые действовали при дворе.
Мне близка характеристика этого короля, которую приводит в своей книге «Латино-Иерусалимское королевство» Жан Ришар: «Воспитаннику Гильома Тирского, необычайно образованному, Балдуину исполнилось всего тринадцать лет, когда умер его отец. Сообразительный и живой, несчастный ребенок очень рано заболел проказой, которая терзала его на протяжении всего царствования. Но он перенес ее верхом на коне, лицом к врагу, полностью осознавая свое королевское достоинство, долг христианина и ответственность за корону в те трагические часы, когда драма короля разыгрывалась вместе с драмой королевства. Когда болезнь усилится, и Прокаженный больше не сможет сесть в седло, он прикажет нести себя на поле боя на носилках, и появление этого умирающего заставит отступать Саладина». Ришар утверждает, что «этот подросток сумел соединить святость с энергией» — проблема для католического мира отнюдь не праздная, поскольку «нельзя быть одновременно святым и рыцарем, ибо существует глубокое противоречие между законами чести и законами святости». Определенным образом благодаря своей болезни король Болдуин воплощал в себе образ святого рыцаря. Впрочем, настаивать на этом мнении я не решаюсь.
Король Болдуин IV родился в 1160 году; был коронован в 1174 и умер 16 марта 1185 года.
СИБИЛЛА АНЖУЙСКАЯ — старшая сестра Болдуина IV, дочь короля Амори от его первой жены Агнессы де Куртенэ. Родилась в 1159 году. В 1176 году была выдана замуж за Гильома Монферратского, представителя знаменитой семьи. Гильом Длинный Меч, муж Сибиллы, был одним из четырех братьев. Все они очень активно — но как-то крайне несимпатично — действовали на политической сцене, разбросав свои сети по южной Европе и Заморской Земле. Несмотря на свою «крутость», Гильом почти сразу в Святой Земле умер (в июне 1179 года) от лихорадки, оставив жену беременной.
Спустя два месяца после его смерти Сибилла родила сына — будущего короля Болдуина V.
И тотчас брат-король начал переговоры о новом браке Сибиллы. Это было тем более важно, что сам Болдуин IV не мог иметь детей и постоянно искал для своей сестры такого мужа, которому можно будет оставить корону. Несколько баронов, к которым Болдуин обратился с предложением руки Сибиллы, отказались, поскольку вместе с лестным браком они получали обременительную обязанность защищать Святую Землю. Наконец был найден хороший вариант — иерусалимский барон Болдуин, сеньор Рамлы, старший брат Бальяна д'Ибелина. Но этот сеньор (не то вдовый, не то разведенный — выяснить не удалось), мало того, что был старше невесты лет на тридцать, так еще и попал в плен к Саладину. Султан выпустил его под честное слово, и сеньор Рамлы отправился в Константинополь — просить денег у византийской родни, дабы заплатить за себя выкуп.
В этот самый момент коннетабль Королевства Эмерик де Лузиньян «подсунул» Сибилле своего младшего братца Ги, и принцесса полюбила его от всего сердца.
Эта любовь оказалась сильнее любых преград. Сибилла вышла замуж, получив согласие на брак от брата-короля (многих удивляло это согласие, но я полагаю, что Болдуин попросту надеялся на благословение любви); свадьба состоялась незадолго до Пасхи 1180 года. Это венчание, происходившее Великим Постом, вызвало много пересудов. По всей видимости, пришлось поторопиться со свадьбой, поскольку имелось много недовольных и желающих разлучить Сибиллу и Ги.
В этом браке Сибилла родила двух дочерей, Алису и Марию. В 1190 году королева Сибилла вместе с обеими дочками умерла от дизентерии.
БОЛДУИН V — последний иерусалимский король, погребенный у подножия Голгофы. Сын от первого брака Сибиллы Анжуйской и Гильома Монферратского. Этот мальчик родился в 1179 году и умер в 1186. О причине его смерти ничего не сообщается. Удивительно печальная, одинокая фигурка, почти бесследно исчезающая в череде таких могучих монстров, как Ибелины или Ричард Львиное Сердце.
ЭМЕРИК ДЕ ЛУЗИНЬЯН — коннетабль Королевства, старший брат Ги де Лузиньяна. Я специально назвала его «Эмерик», а не традиционно «Амори», поскольку читатель любовного романа не обязан разбираться в персонажах, которых зовут одинаково. Довольно и четырех Болдуинов (сеньор Рамлы и три короля — Третий, Четвертый и Пятый). К тому же, Ришар утверждает, что в средневековых хрониках он именуется «Эймери», т. е. Aimericus, а не «Амори» — Amalricus.
Эмерик де Лузиньян был вторым сыном Гуго де Лузиньяна и Бургони де Ранкон (а всего этих сыновей было семь). Несколько голословно его именуют «ловким и беспринципным авантюристом» (видимо, по тому же принципу, по которому короля Болдуина называют «живой развалиной»). Молодой человек быстро добился расположения короля Амори I, затем занял пост камерария, после — коннетабля (этот пост он занимал с 1181 по 1192 гг.).
Эмерик был женат на Эскиве д'Ибелин; я предположила, что это была дочь Бальяна, но с тем же успехом она могла быть дочерью любого из троих братьев Ибелинов (Бальяна, Болдуина или Гуго, который рано умер). Кроме того, у Ибелинов была сестра, которую также звали Эскива, но вряд ли молодой Эмерик женился на особе, бывшей его старше самое малое на двадцать лет.
От Эскивы д'Ибелин Эмерик имел дочь Бургонь и сыновей Гуго и Жана. Что именно прекратило этот брак, выяснить не удалось; возможно, Эскива умерла — вряд ли Эмерик стал бы разводиться с матерью своих сыновей, да еще дамой, принадлежащей к очень знатному в Святой Земле роду (более знатному, чем его собственный).
Эмерик был очень образован и умен; он являлся исключительным знатоком законов своего времени; великолепно умел управлять людьми и замечательно ловко подавил выступления против него недовольных, когда это потребовалось сделать.
После Третьего крестового похода Эмерик получил графство Яффа, а позднее унаследовал от своего брата Ги королевство Кипр, где завершил создание франкского государства. В 1197 году он добился руки принцессы Изабеллы, став ее четвертым мужем.
От этого брака родилась дочь — Мелизанда (впоследствии княгиня Антиохийская).
Эмерик и Изабелла умерли в один день, 1 апреля 1205 года. О причине их смерти нигде ничего не сообщается; возможно, мне просто не повезло с источниками.
Все, что удалось узнать об Эмерике де Лузиньяне, рисует этого человека как крайне неординарную, сильную и очень интересную личность. Галина Росси в своей статье указывает годы жизни Эмерика де Лузиньяна: 1155–1205.
ГИ ДЕ ЛУЗИНЬЯН («король Гион», «Гвидо», «Гвидон»), пятый сын Гуго де Лузиньяна, младший брат Эмерика де Лузиньяна. По описаниям современников — очень красивый, изящный, любезный молодой человек. «Неудачник» — называет его Ришар; другая расхожая характеристика — «трус», «слабохарактерный человек, он соглашался с мнением каждого». Насчет неудачника — можно согласиться: в ряде случаев ему просто не повезло; однако что касается слабости характера — здесь можно и поспорить. То, как решительно Ги осуществил свою коронацию, да и последующие его действия говорят вовсе не о слабости характера и не склонности «соглашаться с мнением каждого». У него было достаточно сторонников; его поведение в бою не позволяет предполагать, будто Лузиньян был обыкновенным трусом. Вероятно, ему не хватало «харизмы», которая, несомненно, была у Прокаженного короля.
После поражения при Хаттине в 1187 году Иерусалимское королевство пало. Саладин отпустил Ги из плена только через год, когда Сибилла отдала в обмен на свободу своего мужа город Аскалон, стратегически очень важный пункт. После Третьего крестового похода Ги де Лузиньян получил от Ричарда Львиное Сердце в управление остров Кипр (в мае 1192 года).
Далее цитирую статью Галины Росси, поскольку полнее и лаконичнее не скажешь:
«Вступив в правление Кипром, Ги де Лузиньян провел важнейшие социальные реформы, на фундаменте которых в недалеком будущем выросло могущественное Кипрское королевство династии Лузиньянов. Ги послал в Сирию, Армению и Палестину гонцов, объявлявших, что правитель Кипра наделяет землей и недвижимостью всех желающих поселиться на острове, отдавая предпочтение рыцарям, лишившимся своих владений на Востоке в результате завоеваний мусульман, а также вдовам и детям рыцарей, погибших в Третьем крестовом походе. Для рыцарей, переселившихся на Кипр, обязательным условием была военная служба правителю, что и превратило остров в организованное средневековое королевство».
Ги родился в 1160 году и умер в 1194, 18 июля, «внезапно» (причина неизвестна). После его смерти Кипрское королевство унаследовал его старший брат Эмерик.
ОНФРУА ТОРОНСКИЙ. Родился в 1164 году, внук коннетабля Онфруа II. Его мать, многократно терявшая мужей, в конце концов вышла замуж за Рено де Шатийона, одного из самых одиозных баронов Святой Земли. Об Онфруа говорят, что он был «труслив», «нерешителен»; другая характеристика, принадлежащая архиепископу Тирскому Гийому (который знал этого человека лично) — «рыцарь из рыцарей». Можно предположить — и из поступков Онфруа, и из этих несколько противоречивых описаний его нрава, — что он был настоящим «Персевалем», благочестивым и печальным. Когда бароны «в силу политической необходимости» вздумали развести его с Изабеллой, он не стал спорить и устраивать смуту. В дальнейшем он почти не заметен; только много позднее на Кипре, в игрушечном королевстве Ги де Лузиньяна мелькает его одинокая фигура.
ИЗАБЕЛЛА АНЖУЙСКАЯ родилась в 1172 году. Дочь от второго брака короля Амори и Марии Комниной. Эта принцесса была замужем четыре раза. Брат-король выдал ее за Онфруа Торонского (1183); затем бароны аннулировали этот брак (каким образом они это сделали, неясно), чтобы одарить Изабеллу сомнительным счастьем стать женой одного из маркизов Монферратских (1190). Сей маркиз был уже женат на византийской принцессе. В Святой Земле его очень быстро убили ассасины (1192). Третий муж Изабеллы — граф Шампанский (1192). В одной из книг я прочитала, что он умер, выпав из окна (1197). И наконец эту несчастную молодую женщину взял в жены Эмерик де Лузиньян, который унаследовал от младшего брата Кипрское королевство. От каждого из трех последних браков у Изабеллы были дочери: Мария-Иоланта, наследница Иерусалима, Алиса Шампанская, наследница Кипра, Мелизанда де Лузиньян, будущая княгиня Антиохийская.
РАЙМОН ТРИПОЛИТАНСКИЙ, один из самых могущественных вассалов Иерусалимских королей и их ближайший родственник. У короля Болдуина де Бурка (Болдуина Второго) было четыре дочери, из которых младшая Иветта стала монахиней, старшая Мелизанда — королевой Иерусалима, Годиерна — графиней Триполитанской, и Алиса (или Элиза) — княгиней Антиохийской. Король Амори, отец Болдуина Четвертого, был сыном Мелизанды; граф Раймон — сыном Годиерны.
У Раймона не было своих детей. В 1164 году он попал в плен к сарацинам и восемь лет провел там «в темницах Алеппо», как сообщает Куглер. Он был выкуплен из плена очень не скоро — полагают, потому, что король Амори боялся его влияния. Оказавшись на свободе, он женился на Эскиве Тивериадской, владелице Тивериадского замка и обширных земель в Галилее. От первого брака Эскива имела четверых сыновей и дочь. Личность этой дамы устанавливается с трудом. Я полагаю, что она происходит из рода Ибелинов, по двум причинам: во-первых, в одной книге говорится, что сестра Бальяна «Эрменгаруа» владела Галилеей, и во-вторых, имя «Эскива» (не слишком распространенное!) неоднократно встречается в семье Ибелинов. Возможно, имеются другие версии.
Поведение графа Раймона, особенно в последний год его жизни, весьма сложно и очень многих наводит на мысли о предательстве. Любопытно, что российский писатель, паломник, автор многих книг на духовные темы («Русская Фиваида на севере», «Путешествие ко Святым Местам в 1830 году») Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) посвятил падению Иерусалима и графу Раймону целую драму в стихах. Она называлась «Падение крестоносцев в Палестине» и была поставлена в Александрийском театре в Петербурге в 1832 году. Графа Раймона играл знаменитый русский актер Каратыгин. Пьеса большого успеха не имела, хотя кое-кто ее похвалил. Представление почти сразу сняли со сцены, поскольку было найдено «неприличным выводить на сцену Святые Места».
Муравьев вкладывает в уста Раймона, обвиненного в предательстве, такие слова:
И если мало Иорданских вод, Чтобы с меня смыть чуждое пятно Народной клеветы — еще довольно Есть крови сарацинской, в коей может, Как в зеркале багровом, отразиться Моя невинность!..РЫЦАРСКИЕ ОРДЕНА. Тамплиеров я описываю так, как они поданы в книге Марион Мельвиль, без особенных затей. О госпитальерах в Иерусалиме мне рассказывали забавную историю. Один израильский ролевик, служивший в те годы в армии, оказался в Иерусалиме и проголодался. Зная, что госпитальеры, и по сей день функционирующие в Святом Граде, обязаны кормить и привечать всех, кто с оружием в руках воюет против сарацин, этот молодой человек, с автоматом, явился к ним в орденский дом и потребовал исполнения обета. Отказать парню не могли: он действительно с оружием в руках готов воевать против сарацин! Вот что значит — хорошее знание истории…
Что касается ордена Монжуа, то таковой действительно существовал в годы правления Болдуина Четвертого. Он был одним из нескольких малых военно-духовных орденов, которые впоследствии либо влились в более могущественные, либо окончили свое существование за недостатком членов. Орден был основал Болдуином и владел четырьмя башнями в Аскалоне. После падения Иерусалима в 1187 году нашел прибежище в Испании, дальнейшая его судьба мне неизвестна.
Сведений о том, чем занимался этот орден, найти не удалось, так что пришлось придумывать. Если кто-нибудь из читателей знает — буду рада получить информацию.
Ваша
Елена Хаецкая



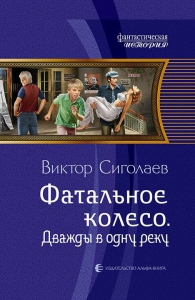



Комментарии к книге «Царство небесное», Елена Владимировна Хаецкая
Всего 0 комментариев