Лесли Пирс Секреты
Посвящается моему отцу, Джеффри Артуру Сардженту, который умер в 1980 году, — слишком рано, чтобы увидеть, что я стала публикующимся писателем.
Я выбрала Рай местом действия романа, потому что это был его родной город и он любил его.
Также посвящается моему дяде, Берту Сардженту, который оставался жить в Рае до самой своей смерти в 2002 году. Некоторые из моих лучших детских воспоминаний — это каникулы, которые я проводила там с ним, с моей тетей Дороти и двоюродными братьями и сестрами.
Во время исследований я прочла слишком много книг, чтобы привести их все, но самыми примечательными из них были: «Летчики-истребители» Фрэнка Бишопа; «Блиц в Лондоне: рассказ пожарного» Сирила Демарн, кавалера ордена Британской Империи IV степени; и «Лондон во время войны» Филипа Циглера. И особенная благодарность Джеффри Веллуму, кавалеру ордена «За безупречную службу», за его вдохновляющую книгу «Первый свет», в которой он рассказывает о том времени, когда он, будучи военным летчиком, участвовал в Битве за Англию. Большое спасибо Уильяму Третьему за то, что раскопал информацию о Гастингсе и Винчелси. Ты всегда был дорогим другом, а теперь я считаю тебя также исследователем.
Часть первая
Глава первая
Январь 1931
У Адель кололо в боку от бега, когда она добралась до Юстон-роуд. Она опаздывала, а ей нужно было забрать Памелу, свою восьмилетнюю сестру, с урока игры на фортепиано из дома по ту сторону оживленной главной улицы. Не говоря уж о темноте и о привычном для этого времени — было шесть часов вечера — напряженном дорожном движении, переходить дорогу было еще более опасно из-за кусков почерневшего льда в выбоинах, оставшихся после прошедшего несколько дней назад снегопада.
Адель Талбот было двенадцать лет. Маленькая, худая, с бледным лицом, в поношенном твидовом пальто, которое было велико ей на несколько размеров, в шерстяных носках, съехавших до лодыжек, и вязаной островерхой шапке, надвинутой на растрепанные темные волосы, она была похожа на беспризорного ребенка. В ее огромных каре-зеленых глазах застыло взрослое выражение беспокойства. Она перепрыгивала с ноги на ногу, с нетерпением ожидая, когда можно будет перебежать дорогу. Отец должен был забрать Памелу по дороге с работы домой, но он забыл, и Адель боялась, что ее маленькая сестричка устанет ждать и отправится домой одна.
Застыв на секунду на тротуаре, тяжело дыша от бега, она вдруг заметила Памелу на той стороне за машинами. Она не могла ошибиться — уличные фонари бросали свет на длинные светлые волосы и ярко-красное пальто ее сестры. К ужасу Адель, она не просто стояла и ждала, а переминалась с ноги на ногу на тротуаре, будто намеревалась сама перейти улицу.
— Стой там! — закричала Адель, отчаянно размахивая руками. — Подожди меня!
Один за другим по дороге прошло несколько автобусов, заслонивших от нее сестру, и вдруг раздался зловещий скрежет тормозов.
В смятении Адель ринулась между автобусом и грузовиком. Добежав до середины дороги, она увидела, что случилось худшее: смятое тело ее младшей сестры лежало на земле между машиной и такси.
Адель закричала. Все движение резко остановилось, и от красивых машин пошел пар, больше похожий на дым. Пешеходы застыли: все смотрели на маленький холмик на дороге.
— Памела! — Адель, охваченная ужасом, подбежала к сестре, отказываясь верить в случившееся.
Водитель такси, крупный мужчина с большим животом, вышел из машины и смотрел вниз, на землю, где между передними колесами лежал ребенок.
— Она неожиданно выскочила! — оправдывался он, озираясь вокруг, будто искал помощи. — Я ничего не мог поделать.
Вокруг уже собирались люди, и Адель с трудом пробралась через толпу.
— Не трогай ее, малышка, — сказал кто-то предупредительно, когда она опустилась на корточки рядом с погибшей.
— Это моя младшая сестра, — всхлипнула Адель, и по ее обветренным щекам побежали слезы. — Она должна была ждать, чтобы ее забрали. С ней все будет в порядке?
Но когда Адель задала этот вопрос, она уже знала, что сестра мертва. Голубые глаза Памелы были широко открыты, на лице застыл испуг, но не было ни движения, ни звука, ни гримасы боли.
Адель услышала, как кто-то сказал, что вызвали «скорую помощь», и какой-то мужчина подошел ближе, пощупал у Памелы пульс и снял с нее пальто, чтобы укрыть им. Но при этом он покачал головой. Этот жест и испуганные лица собравшихся вокруг подтвердили ее страхи.
Девочке хотелось закричать, наброситься с кулаками на водителя такси, который был виноват. И при этом она не могла поверить, что жизнь Памелы оборвалась. Ее все любили, она была такой сообразительной, забавной и слишком маленькой, чтобы умереть.
Наклонившись над сестрой, Адель убрала волосы с лица Памелы и зарыдала от шока и горя.
Какая-то женщина в меховой шапке обняла ее за талию и отвела в сторону.
— Где ты живешь, дорогая? — спросила она, обняв ее и крепко прижав к себе, пытаясь успокоить. — Твои мама и папа дома?
Адель не помнила, что ответила, в тот момент все, что она ощутила, — это трение пальто женщины о ее щеку, и девочке показалось, что ее сейчас стошнит.
Но она, вероятно, ответила на вопросы, прежде чем вырваться из рук женщины, и ее действительно стошнило на тротуар, потому что позже, когда приехала полиция и «скорая помощь», она услышала, как та же самая женщина сообщила им, что сестру сбитой девочки зовут Адель Талбот и она живет в доме номер 47 по Чарлтон-стрит.
Пока не приехала полиция и «скорая помощь», Адель не видела лиц столпившихся людей, не слышала, что они ей говорили, и не обращала внимания на колючий холодный ветер. Она чувствовала только собственную боль, видела только золотистый отблеск от уличных фонарей на волосах Памелы, развевавшихся от ветра по черной, мокрой дороге, и слышала только нетерпеливые гудки машин.
Юстон принадлежал ей и Памеле. Возможно, для других он был грязным и опасным местом Лондона, по которому люди были вынуждены проходить или проезжать, чтобы попасть в более спокойные и более привлекательные районы города, но Адель всегда чувствовала себя здесь в безопасности, как в городском парке, Чарлтон-стрит находилась как раз между Юстоном и Сен-Панкрасом, и вокзалы в представлении Адель были ее личными театрами, а пассажиры — участниками представления. Она всегда водила сюда Памелу, особенно когда было холодно или мокро, и, чтобы развлечь сестру, выдумывала истории о людях, которых они здесь видели. Женщину в шубе, семенившую за носильщиком, несшим ее огромные чемоданы, она превращала в графиню. Молодая пара, страстно целовавшаяся, в ее рассказах была несчастными влюбленными, сбежавшими из дома. Иногда они видели детей, путешествовавших без родителей, на их пальто были нацеплены ярлыки, и Адель обычно выдумывала фантастические истории с приключениями, в которых фигурировали злые мачехи, замки в Шотландии и сундуки, полные денег.
Дома атмосфера всегда была гнетущей. Мать часами сидела и мрачно молчала, почти не обращая внимания на присутствие детей и мужа. Она всегда была такой, поэтому Адель уже смирилась с этим; она научилась распознавать признаки опасности, которые предшествовали взрывам дикой ярости, и как можно быстрее уходила, забирая с собой Памелу. Ярость матери могла быть ужасной, она обычно швырялась всем, что попадало под руку, выкрикивала ругательства и часто поколачивала Адель.
Адель пыталась убедить себя, что мать всегда обрушивала свой гнев именно на нее, а не на Памелу, потому что она была старшей. Но в глубине души она знала, что это было потому, что мать по какой-то причине ненавидела ее.
Памела тоже ощущала это и всегда пыталась сгладить ситуацию. Если она получала от матери какие-то деньги, то обязательно делилась с Адель. Когда ей подарили новое красивое пальто на Рождество, она была смущена, потому что Адель не подарили пальто. Там, где могла, она делала все, чтобы поправить положение. Благодаря солнечной улыбке Памелы, ее щедрости и чувству юмора жизнь Адель была более терпимой.
И теперь, стоя и беспомощно плача, Адель хотела, чтобы кто-нибудь из взрослых обнял ее и успокоил, сказав, что Памела просто потеряла сознание, а не умерла, и при этом осознавала, что если с ее сестрой действительно все было кончено, то она и сама могла умереть.
Крепкий молодой полицейский взял Адель за руку, когда Памелу поднимали в машину «скорой помощи». Ребенка положили на носилки и полностью накрыли одеялом — негласное подтверждение того, что она действительно мертва.
— Мне очень жаль, — мягко сказал полицейский и наклонился к ней так, что его лицо очутилось вровень с ее лицом. — Я капитан Митчелл, — продолжал он. — Мы с сержантом сейчас отвезем тебя домой, нам нужно сообщить твоим маме и папе о несчастном случае, и ты должна нам точно рассказать, что произошло.
И только теперь Адель испугалась за себя. С той минуты, когда она услышала скрежет тормозов машин, ее мысли были полностью сконцентрированы на Памеле. Все ее мысли и эмоции были направлены на одно: маленькое тело сестры на земле и то, чем они были друг для друга. Но при упоминании о родителях Адель вдруг пришла в ужас.
— Я н-н-н-е могу идти домой! — выпалила она, в страхе схватившись за руку полицейского. — Они скажут, что это я виновата.
— Разумеется, они такого не скажут, — недоверчиво сказал капитан Митчелл. — Такой несчастный случай мог произойти с каждым, ты ведь сама еще ребенок.
— Если бы я чуть быстрее бежала, — всхлипывала она. Его большое, доброе лицо, на котором было написано сочувствие, было лишь напоминанием того, как мало беспокоились о ней родители. — Я бежала не останавливаясь, но она была уже у дороги, когда я добралась сюда.
— Мама с папой поймут, — сказал он и потрепал ее по плечу.
Тут «скорая помощь» отъехала, и толпа начала расходиться. Только водитель такси остался разговаривать с двумя полицейскими. Все снова вернулось в прежнее русло, и машины ехали по тому месту, где лишь несколько минут назад лежала Памела, зеваки расходились по пабам, садились в автобус, покупали вечерние газеты. Для них это был всего лишь несчастный случай, пусть печальный, но они забудут о нем еще до того, как доберутся до дома.
Даже когда Адель была совсем маленькой, она понимала, что Юстон — район огромных контрастов. Вокзалы, эти огромные и величественные здания, высились над соседними домами как соборы, и в них работали сотни людей. Люди, достаточно богатые, чтобы путешествовать, использовали труд бедных, делавших их поездки комфортабельными и приятными.
Железнодорожные рабочие жили на жалких, грязных улицах вокруг вокзала. Носильщик знал время прибытия каждого поезда, каждую остановку и станцию от Лондона до Эдинборо и каждый день напрягал спину и руки, нося тяжелый багаж. Но при этом он никогда не был ни в одном из этих мест, названия которых так легко слетали с его языка. Если ему удавалось повезти жену и детей на день к морю, он считал себя счастливым человеком. И точно так же у горничной, менявшей постели в дорогих гостиницах, где останавливались путешественники, зачастую не было собственных простыней на постели, не говоря уж о туалете в доме или о настоящей ванной.
Адель часто наблюдала здесь, как богатые сталкиваются с бедными. Элегантная леди в лисьей шубе, покупавшая цветы у оборванного одноногого старого солдата. Джентльмен в блестящей машине, нетерпеливо сигналивший карлику, продававшему газеты, чтобы тот принес ему одну. Адель знала, что карлик живет в туннеле под вокзалом. Она видела, как старый солдат машет шляпой и улыбается своим покупателям, несмотря на то что он до костей промерз от холода и ковылял на костылях. Когда бизнесмены покидали свои бюро и возвращались домой в зеленый пригород, на улицу выходили бедные и убирали за ними.
И все же Адель всегда клялась Памеле, что их ждет что-то лучшее. Она придумывала истории о том, как они обе будут жить в шикарном районе Лондона и однажды смогут посетить все эти места, названия которых видели на вокзальном табло. Но сейчас, когда она должна была вернуться домой одна, без сестры, с этими мечтами и стремлениями было покончено навсегда.
Водитель такси сел в свой кэб и на мгновение посмотрел на Адель, будто хотел ей что-то сказать. Но, возможно, он сам был слишком потрясен, чтобы говорить, и отъехал, как только двое полицейских вернулись к ней.
— Пора идти, — сказал капитан Митчелл. Потом он крепко взял ее за руку и повел к полицейской машине.
Адель никогда раньше не садилась в машину, но это было лишь еще одним мучительным напоминанием о Памеле. Ее любимой игрой было составлять два стула друг за другом и представлять, что это машина, в которой она всегда была за рулем, а Адель была пассажиром и решала, куда ехать.
У Талботов были три маленькие комнаты на верхнем этаже дома с террасой на Чарлтон-стрит. Под ними жили Мэннинги с четырьмя детьми, а на первом этаже — Паттерсоны с тремя детьми.
Как и в большинстве домов в этом районе, входная дверь открывалась сразу на мостовую, но в отличие от остальных в доме проживали только три семьи, и у них была такая роскошь, как общая ванная комната и туалет в доме.
Входная дверь была заперта, и Адель просунула руку в ящик для писем и достала ключ. Прежде чем воспользоваться ключом, она обернулась на полицейских. Тот, который был моложе, представившийся капитаном Митчеллом и сказавший, что отвезет ее домой, дул на пальцы, чтобы согреть их. Старший, которого Митчелл назвал сержантом, стоял чуть вдали от дома и смотрел наверх. Им явно было не по себе, и от этого Адель была еще больше напугана.
Когда они поднимались по ступенькам на верхний этаж, Адель посмотрела на здание глазами полицейских, и ей стало стыдно. Оно было таким грязным и вонючим, лестницы были из необработанного дерева, а штукатурка на стенах — такой старой, что вся краска уже выцвела. Как всегда, стоял сильный шум, ребенок Мэннингов орал во все горло, а остальные дети пытались его перекричать.
Дверь в квартиру на верхнем этаже распахнулась еще до того, как они дошли до нее, вероятно, потому что ее родители услышали шум мужских шагов на лестнице. Мать Адель, Роуз, посмотрела на них сверху, и, когда она увидела мужчин в форме рядом с Адель, ее лицо перекосилось.
— Где Пэмми? — выкрикнула она. — Не говори мне, что с ней что-то случилось.
Адель всегда считала мать красивой, даже когда та была несчастной и злобной. И все-таки в этот момент, когда свет лампы в гостиной освещал ее со спины, она увидела ее такой, какой та была на самом деле — не золотоволосой красавицей с осиной талией, а уставшей, измученной тридцатилетней женщиной с обвисшей кожей, грязным цветом лица и растрепанными волосами. Передник поверх ее юбки и свитер были в пятнах и порваны, а через дырки в тапочках в коричневую клетку выглядывали пальцы.
— Мы можем зайти, миссис Талбот? — спросил ее сержант. — Видите ли, произошел несчастный случай.
Роуз издала ужасный вопль, захвативший Адель врасплох. У нее просто раскрылся рот, и оттуда раздался крик, словно шум убегающего поезда.
Тотчас в дверном проеме появился отец и спросил, что случилось. Адель и полицейские все это время стояли на лестнице, а на нижних этажах люди открывали двери, чтобы посмотреть, что происходит.
— Она умерла, правда? — закричала мать, и ее глаза сузились до маленьких щелочек. — Кто это сделал? Как это случилось?
Полицейские чуть ли не силой вошли в квартиру, и капитан Митчелл подталкивал перед собой Адель. Комната служила одновременно кухней и гостиной. В ней стоял запах жареного и белья, сушившегося вокруг огня, а стол был накрыт к чаю. Сержант усадил Роуз в кресло и мягко начал объяснять ей, что произошло.
— Но где была Адель? Она должна была забрать ее, — прервала Роуз, меча молнии на старшую дочь. — Почему она позволила Пэмми перебежать дорогу?
Адель знала, что ее будут обвинять, — она всегда была крайней, что бы ни случалось. И все же где-то в глубине души она надеялась, что сейчас, когда произошло нечто ужасное, мать будет вести себя не по стандартной схеме.
— Я бежала всю дорогу, но она уже пыталась перейти Юстон-роуд, когда я добралась до места, — сказала Адель отчаянно, и по ее щекам побежали слезы. — Я крикнула Памеле, чтобы она остановилась, но думаю, она меня не увидела и не услышала.
— И ее сбила машина? — спросила Роуз, обращаясь к сержанту и умоляя взглядом, чтобы он сказал ей, что это не так. — И ее убили? Моя красавица Пэмми мертва?
Сержант кивнул, глядя на Джима Талбота и ища у него помощи. Но тот тяжело опустился в кресло, закрыв лицо руками.
— Мистер Талбот, — сержант тронул его за плечо, — мы очень сожалеем. «Скорая помощь» приехала через несколько минут, но было уже слишком поздно.
Адель смотрела, как отец отнял руки от лица. Он смотрел на нее, и на какое-то мгновение ей показалось, что он подзовет ее к себе и утешит. Но вместо этого его лицо исказилось в злую гримасу.
— Слишком поздно, — прорычал он и ткнул в нее пальцем. — Ты опоздала забрать Пэмми, и она мертва, потому что ты слишком медленно перебирала ногами, черт тебя побери!
— Перестаньте! — сказал сержант с упреком. — Адель не виновата, она не могла знать, что Памела попытается перейти дорогу одна. Это был несчастный случай. Не вините ее, Адель сама еще ребенок, и она в шоке.
Адель осталась стоять у двери, слишком пораженная и ошеломленная, чтобы пройти в комнату и сесть. Она чувствовала, что ей здесь нет места, словно соседка, которая пришла занять немного сахару и не хотела уходить.
Это ощущение усиливалось по мере того, как полицейские старались утешить ее родителей, называя их Роуз и Джим, будто они были давно знакомы. Капитан Митчелл заварил чаю и разлил его по чашкам; сержант взял фотографию Памелы с каминной полки и заметил, что она была красивой девочкой. Отец прижал мать к себе, и оба полицейских сочувственно поддакивали, когда им рассказывали, какой умной девочкой была Памела.
Но никто не повернулся к Адель даже после того, как сержант дал ей чашку чая. Она как будто стала для всех невидимой.
Она, вероятно, стояла там пять или десять минут, но это казалось вечностью. Адель словно смотрела спектакль и была спрятана от актеров за рампой. Она могла видеть, слышать и чувствовать их шок и горе, но они совершенно не обращали внимания на ее боль.
Ей так сильно хотелось, чтобы кто-нибудь обнял ее, сказал, что это не ее вина и что Памеле десятки раз говорили, что она не должна сама переходить Юстон-роуд.
Через какое-то время Адель села на маленький табурет у двери и положила голову на колени. Все взрослые находились к ней спиной, и хотя она понимала, что это было просто потому, что так стояли стулья, у нее было ощущение, что они сделали это нарочно. Адель всем сердцем соглашалась со всем, что говорили о ее сестре: как ее все любили, что она была лучшей в классе, какой она была жизнерадостной маленькой девочкой с особенным характером, — все же ей казалось, что родители указывали на то, что старшая сестра была полной противоположностью и было несправедливо, что в живых осталась она.
А разговоры и слезы не прекращались. Роуз впадала в истерику, потом успокаивалась и приводила очередной пример того, какой особенной была Памела, потом вмешивался Джим и высказывал свое мнение. Среди голосов ее родителей был слышен спокойный, размеренный тон полицейских. Хотя Адель была ребенком, она понимала, что они умело справлялись с чужим горем, проявляя достаточный интерес, заботу и сочувствие, при этом постепенно стараясь подвести отца и мать к факту, что их дочь мертва.
Адель была тронута их состраданием, но все же ей хотелось осмелиться рассказать, что любимым обращением Джима Талбота к обеим дочерям было: «Может, ты заткнешься?» Что именно он должен был забрать Памелу, но забыл об этом. Ей также было интересно, проявляли бы оба полицейских ту же симпатию к Роуз, если бы знали, что она была в основном в слишком мрачном настроении, чтобы подниматься с постели по утрам. Именно Адель всегда кормила Памелу завтраком и отводила в школу.
— Хотите, мы отвезем вас посмотреть на Памелу? — спросил сержант через некоторое время. Роуз все еще беспомощно плакала, но не так истерично, как раньше. — Ее нужно официально опознать, и это может помочь вам понять, что она умерла мгновенно и не мучилась.
Адель все это время молча сидела на табурете, уйдя в свое горе, но когда она услышала этот вопрос, то тут же пришла в себя.
— Можно мне тоже поехать? — спросила она порывисто.
Четверо взрослых повернулись к ней. Оба полицейских были просто удивлены, они явно забыли, что она все еще находится в комнате. Но родители выглядели глубоко оскорбленными просьбой Адель.
— Почему ты, маленькая мерзавка? — взорвалась мать, поднимаясь, будто собираясь ее ударить. — Это тебе не цирковое зрелище. Наша девочка умерла из-за тебя.
— Тихо, тихо, Роуз, — сказал сержант, вставая между матерью и дочерью. — Адель совсем так не считает. Она тоже расстроена.
Сержант Майк Коттон предпочел бы быть в любом другом месте, только не на Чарлтон-стрит, 47. За двадцать с лишним лет службы в полиции его вызывали сотни раз, направляя сообщить о смерти близкого человека родственникам, и это всегда была мучительная обязанность. Но сообщение о смерти ребенка превращалось в кошмарную задачу, потому что не существовало слов, которые способны были облегчить боль, ничего, что могло бы оправдать, почему здорового ребенка вдруг унесла смерть. Но это был один из худших случаев на его памяти, потому что в тот момент, когда Роуз Талбот открыла дверь и Адель не бросилась в ее объятия, он понял, что в этой семье что-то категорически не так.
Все время, пока он объяснял, как произошел несчастный случай, он ни на секунду не упускал из виду, что Адель все еще стоит у двери. Ему так хотелось подозвать ее, посадить к себе на колени и утешить, но это должен был сделать отец. И именно отец должен был забрать свою маленькую дочь темным холодным январским вечером. Юстон-роуд — не то место, куда можно отпускать маленькую девочку одну. Там было полно отбросов всех сортов — нищие, проститутки и их сутенеры, мужчины в поисках женщин, воры, поджидающие свою жертву.
Майку пришлось признать, что Талботы были на голову выше большинства их соседей на этой улице. Он знал семьи из восьми или десяти человек, теснящихся в одной комнате, выживание которых зависело от того, была ли мать достаточно хитрой и сильной, чтобы вырвать хоть какие-то деньги из рук мужа, прежде чем он пропьет свою зарплату в баре. Он знал семьи, которые жили в грязи, как животные, и такие, где мать по ночам выставляла детей на улицу, зарабатывая в постели деньги, чтобы накормить их.
Возможно, квартира Талботов была обшарпанной, но она была чистой и теплой, и ужин был готов. Джим Талбот все еще работал, несмотря на финансовую депрессию, которая медленно душила страну.
Майк подумал, что Роуз Талбот наверняка принадлежала к среднему слою: она разговаривала на правильном английском языке, хотя он и был приправлен лондонским сленгом, и обладала довольно изысканными манерами. Он заметил, что, несмотря на шокирующую новость, она быстро сняла передник и пробежала пальцами по неопрятным волосам, будто устыдилась, что ее застали врасплох нежданные гости. Ее юбка и джемпер были явно куплены на базарном лотке, и все же приглушенный голубой оттенок подчеркивал ее прелестные глаза и придавал ей удивительно элегантный вид.
Джим, в отличие от нее, происходил из низших слоев общества. Хотя он был высоким и стройным, его выдавали сутулость и неуклюжесть, которые, вероятно, всегда являлись признаком детей лондонских трущоб. Лондонский акцент Талбота был окрашен гнусавостью, и, если принять во внимание его плохие зубы, редеющие соломенные волосы и выцветшие голубые глаза, становилось ясно, что на нем уже начал сказываться возраст, несмотря на то что ему было всего тридцать два года. Он к тому же не блистал умом, потому что когда Майк спросил его, насколько надежным было его место работы, он, похоже, не понял вопроса. Почему такая привлекательная и воспитанная женщина, как Роуз, вышла замуж за такого мужчину, как Джим?
И если родители были просто плохой парой, еще бОльшее неравенство проявлялось в отношении их обоих к детям. На буфете стояло несколько фотографий Памелы, и один из ее рисунков был прикреплен к стене, но об Адель не было ничего. Майк заметил, что на Памеле было хорошее теплое пальто, на руках были варежки, и она была довольно упитанной. Адель, напротив, была очень худой, с бледным лицом, а пальто она явно донашивала за кем-то из взрослых. И сейчас, глядя на Адель при хорошем освещении, он увидел, что она недоедает. Ее спутанные тусклые волосы не блестели, а темно-синие школьные спортивные шорты, как и пальто, были на нее очень велики.
Ее внешность никого бы не удивила в районе, где были сотни девочек ее возраста в еще более потрепанной одежде и тоже недоедающих. И все же Майк точно знал, что все их матери, даже те, которые были пьяницами и потаскушками, не проигнорировали бы ребенка, которому так явно нужно было немного утешения и нежности.
Девочка только что была свидетельницей того, над чем пролил бы слезы даже многое видавший полицейский, и как бы ни была травмирована Роуз, она должна была хоть ненадолго сдержать свои эмоции и прижать к себе старшую дочь.
Адель почувствовала облегчение, когда ее родители наконец ушли с полицейским, велев ей идти спать. Но в тот момент, когда она вошла в промозглую спальню и увидела кровать, на которой всегда спала с Памелой, снова расплакалась. Она уже никогда больше не почувствует теплое тельце сестры, крепко прижавшееся к ней, больше не будет вечерних разговоров шепотом, хихиканья и всех их маленьких секретов. Она потеряла единственного человека, на любовь которого всегда могла рассчитывать.
Фактически Адель не помнила ничего из периода до рождения Памелы. Самые ранние ее воспоминания были о коляске, слишком большой для нее, которую она толкала, и колыбельке с ребенком, о котором она думала, что это лучше, чем кукла. Тогда они жили в другом месте, в квартире в подвальном помещении, но она помнила, как они переехали сюда, потому что Памела только начала ходить и Адель должна была смотреть, чтобы та не пыталась спуститься с лестницы.
Она лежала, свернувшись в клубок, дрожа и плача, и на нее нахлынуло множество воспоминаний: как она раскачивала Памелу на качелях, рисовала ей картинки, рассказывала истории и учила ее перебегать дорогу.
Она всегда знала, что мама с папой любили Памелу больше, чем ее. Они смеялись, когда она коверкала слова, пускали ее в свою постель, она получала щедрые порции еды. Памеле редко доставалась поношенная одежда и обувь, а у Адель никогда не было ничего нового.
Единственным, чему Адель завидовала, были уроки музыки, на которые ходила Памела. Она смирилась со всеми остальными проявлениями несправедливости, потому что Памела была младшей в семье, и она тоже ее любила. Но пианино было чем-то другим — Памела никогда не выказывала ни малейшего интереса к игре на каких-либо инструментах. Она говорила, что хочет танцевать, ездить верхом и плавать, но к музыке была безразличной. Адель же любила музыку и хотя никогда не осмеливалась прямо попросить об уроках для себя, она сотни раз намекала об этом.
Адель слишком хорошо знала, что Англия находилась в тисках так называемого Спада. Каждую неделю очереди людей, искавших работу, становились все длиннее. Адель видела, как на Кингз-кросс открыли кухню, бесплатно разливавшую суп, видела на улице людей, которых выставляли из квартир, потому что они не могли платить аренду. Пусть ее отец еще работал, но она знала, что он тоже может в любой момент потерять работу, поэтому она, безусловно, не могла ожидать от него такой роскоши, как уроки игры на пианино.
Но вдруг как гром среди ясного неба прозвучало мамино заявление, что Памела будет ходить к миссис Беллинг в Картрайт-Гарденс на уроки по вечерам каждый четверг.
Адель поняла, что это было сделано ей назло, потому что другой причины она не видела, ведь Памела не хотела туда ходить. Только несколько недель назад она сказала Адель, что вообще ненавидит эти уроки и что миссис Беллинг сказала ей, что бессмысленно учить ее, если дома нет фортепиано и ей не на чем практиковаться. А сейчас она из-за этого была мертва.
Адель услышала, как родители вернулись домой. Она слышала их голоса, хотя и не разбирала, о чем они говорят, слышала, как мать то громко всхлипывает, то горестно воет. Отец не переставал сердито что-то бормотать, время от времени подкрепляя свои слова ударом кулака по столу.
Адель догадалась, что они пьют, и это обеспокоило ее еще больше, потому что от этого они обычно ссорились. Она хотела встать и пойти в туалет, но не осмеливалась, потому что для этого ей пришлось бы пройти через гостиную.
Она не знала, нужно ли ей будет утром идти в школу. Большинство знакомых ей детей оставляли дома, если в семье кто-нибудь умирал, но ее мать была не такой, как матери остальных девочек.
Иногда Адель гордилась матерью, поскольку во многих отношениях Роуз Талбот была выше других. Она следила за своей внешностью, не кричала и не ругалась на улице, как большинство их соседей. Она поддерживала в квартире чистоту и порядок и каждый вечер готовила горячий ужин, а не хлеб с подливкой, как получали многие другие дети.
Но Адель предпочла бы беспорядок, если бы это сделало мать счастливой и ласковой, какими были другие матери. Роуз редко смеялась, она даже никогда не болтала, у нее не было желания куда-нибудь сходить, даже в Риджент-парке летом не хотела погулять. Ей как будто нравилось быть несчастной, потому что это был хороший способ испортить жизнь остальным.
В конце концов Адель решила, что ей нужно пойти в туалет, иначе она намочит постель. Она очень тихо открыла дверь, надеясь, что ей удастся прокрасться вниз по лестнице незамеченной.
— Чего тебе надо? — рявкнула на нее Роуз.
Адель объяснила и вышла прямо через входную дверь, не дожидаясь, когда кто-то что-либо скажет.
Она была в одной ночной рубашке и босиком, а на лестнице был адский холод. В туалете снова дурно пахло, и у нее начался приступ тошноты. Мама всегда жаловалась, что миссис Мэннинг, когда была ее очередь, никогда не мыла туалет, и вообще думала, что та должна делать это в два раза чаще, потому что у нее было в два раза больше детей. В их последней ссоре по этому поводу миссис Мэннинг грозилась снести ей башку. Она обозвала ее чванливой коровой и сказала:
— Думаешь, твое дерьмо не воняет?
Когда Адель снова вернулась в квартиру, она заколебалась. Родители сидели по обе стороны камина со стаканами в руках и выглядели такими несчастными, что она почувствовала, что должна что-то сказать.
— Мне очень жаль, что я не могла добраться туда быстрее, — выпалила она. — Я правда бежала всю дорогу.
Отец оглянулся первым.
— Уже ничему не поможешь, — сказал он грустно.
На одну долю секунды Адель подумала, что они оба придут в себя, но это было огромной ошибкой. Без предупреждения в нее полетела пустая пивная бутылка, ударила ее в лоб, упала на пол и рассыпалась на тысячу кусочков на линолеуме.
— Убирайся с моих глаз, маленькая скотина! — завопила ее мать. — Я никогда не хотела тебя, а теперь ты убила мою девочку.
Глава вторая
— Я не хочу, чтобы она была на похоронах! — рявкнула Роуз Талбот мужу.
Встревоженный, Джим поднял глаза от ботинок, которые чистил. Он предполагал, что Роуз, возможно, начнет орать на него за то, что он чистит их на столе, поэтому подложил газету. Но он совершенно не ожидал, что менее чем за два часа до похорон она найдет очередной повод для ссоры.
— Почему? — нервно спросил Джим. — Потому, что она слишком мала?
Роуз нервировала его с самого момента смерти Памелы. Он понимал ее горе, он сам чуть ли не каждый день хотел умереть и избавиться от этой ужасной боли внутри него. Еще хуже было то, что пришлось ждать две недели отчета коронера, прежде чем организовать похороны, что еще более усугубило их страдания, но он не понимал, почему она так жестока с Адель.
— Если ты хочешь всем сказать, что это потому, что она еще слишком мала, можешь это сделать, — отрезала Роуз, бросившись вон из гостиной. — Но это не причина. Я просто не хочу, чтобы она там была.
— Ну послушай, — начал Джим, подумав, что он должен быть сильным и положить этому конец, пока все не вышло из-под его контроля. — Пэмми была ее сестрой, ей необходимо быть там, Люди будут говорить…
Роуз повернулась и смерила его долгим холодным взглядом.
— Пусть. Мне все равно, — сказала она вызывающе.
Джим сделал то, что всегда делал, когда Роуз портила ему жизнь: прекратил ссориться и продолжил начищать ботинки, пока они не засияли, как зеркало. Возможно, ему следовало быть жестче, но он хорошо понимал, что Роуз не любила его так, как он любил ее, и боялся идти против нее.
— Ну, если ты этого хочешь, — нерешительно проговорил он, подумав пару секунд.
Роуз ринулась в их спальню, боясь, что, если она останется рядом с Джимом еще на минуту, она выпалит, что чувствует и по отношению к нему. Она сердито вытянула бигуди из волос и направилась к зеркалу, но то, что она увидела, рассердило ее еще больше.
В ней все было обвисшим — и лицо, и тело. Роуз предполагала, что большинство людей все еще считают ее привлекательной, но в ее собственных глазах она была распустившейся розой с лепестками, которые вот-вот начнут опадать.
Прижав руки к щекам, она натянула кожу на лице. В одно мгновение подбородок стал крепче, морщины вокруг рта исчезли, и Роуз вспомнила, как выглядела когда-то. Она кружила всем головы своей великолепной фигурой, пухлыми губками, прекрасными светлыми волосами и фарфоровой кожей, и, если бы она удачно вышла замуж за богатого человека, возможно, все еще выглядела бы как раньше.
Но судьба всю жизнь обращалась с ней жестоко. Когда ей было только тринадцать, все подходящие молодые люди ушли на фронт, а из тех, которые вернулись, многих уже ждали, а многие были искалечены, как и ее отец.
Ей было всего тридцать лет, но она уже не могла изменить свою жизнь, так же как и остановить увядание красоты.
Роуз вышла замуж за Джима в отчаянии, потому что была беременна Адель. Она рассматривала его как временное убежище, полагая, что после того, как родится ребенок, в ее жизни появится что-то лучшее. Но вместо этого она попала в ловушку.
По иронии судьбы появление Памелы четыре года спустя на некоторое время изменило ее взгляды на брак. Последнее, чего она хотела, — это обременять себя еще одним ребенком. И все же Роуз полюбила девочку с того момента, как взяла ее в руки.
Судя по сентиментальным романам, которые она когда-то, будучи ребенком, читала с такой жадностью, она должна была по-настоящему полюбить Джима, но этого не произошло. Она просто смирилась с тем, что была обречена на его общество в этой жизни. И все-таки, пока она смотрела на Памелу, так похожую на нее, у нее еще оставалось немного оптимизма и веры в то, что за следующим углом ее будет ждать что-то хорошее.
Но без Памелы не будет ничего. Она снова вернулась к тому, с чего начинала с Адель — настоящей причиной краха ее жизни, и, конечно, к Джиму, мужчине, которого она никогда не сможет любить и даже уважать.
Адель сидела на кровати и пыталась заштопать свои единственные более-менее приличные носки, когда Роуз зашла в комнату.
Ей тут же захотелось сказать, какая мама красивая. Но она прикусила губу, боясь, что неуместно говорить комплимент человеку, который оделся для похорон. Но черное так шло ее матери, и ее светлые волосы так вились вокруг маленькой черной шляпки с вуалью, что это сделало ее очень красивой.
— Уже пора идти? — спросила вместо этого Адель. — Я как раз заканчиваю штопать носок. Осталось только надеть его.
— Можешь не беспокоиться, ты не идешь, — резко ответила мать. — Похороны — не место для детей.
Адель почувствовала облегчение. В эти две недели после смерти Памелы она думала о похоронах с совершенным ужасом. Памела всегда боялась кладбищ, и Адель знала, что она испугалась бы, глядя, как ее гроб опускают в землю.
— Что ты хочешь, чтобы я сделала, пока вас с папой не будет? — спросила она. Она знала, что никакого чая потом не будет, поскольку ни у матери, ни у отца не было родственников, которые могли бы прийти. Но Адель думала, что они, возможно, приведут кого-нибудь из соседей.
Пощечина больше удивила ее, чем причинила боль.
— Что я такого сказала? — спросила она в недоумении.
— О черт, тебе что, совсем безразлично? — заорала Роуз. — Ты маленькая сучка!
— Мне не безразлично. Я любила ее так же, как и ты, — возмущенно ответила Адель и начала плакать.
— Никто не любил ее, как я. — Мать приблизила свое лицо к лицу Адель, и ее глаза были такими же холодными, как январский день. — Никто! Господи, почему умерла не ты?! Ты у меня сидишь как колючка в боку с того дня, как родилась.
Единственное, что пришло в голову Адель, — что мама, вероятно, сошла с ума, раз говорит такие чудовищные вещи. И все-таки, как бы она ни была напугана, она не могла так это оставить.
— Так почему же ты меня родила? — в отчаянии выкрикнула она.
— Господь знает, как я пыталась избавиться от тебя! — рявкнула мать и скривила губу, став похожей на собаку, которая собирается укусить. — Я должна была оставить тебя у кого-нибудь под дверью.
Дверь распахнулась, и вошел Джим.
— Что происходит? — спросил он.
— Просто семейные разговоры, — сказала Роуз, выбегая из комнаты. Джим последовал за ней.
Адель какое-то время сидела на кровати в совершеннейшем шоке. Ей хотелось верить, что мать просто страдает от какой-то болезни из-за потери Памелы и что она на самом деле не имела в виду того, что сказала. И все же люди не говорят такие вещи, даже если им больно, если это не правда.
Адель все еще сидела как статуя, когда услышала, что родители уходят на похороны. Они не попрощались, просто ушли, не сказав ни слова, будто ее не существовало. Комната Адель была в задней части квартиры, поэтому ей не было видно улицу. Она подождала, пока родители спустятся со ступенек, потом зашла в их спальню и через щелочку в шторах увидела катафалк, который ждал внизу.
Ни у кого на Чарлтон-стрит не было машины, поэтому, когда здесь останавливался транспорт, это было событием и все мальчишки кидались посмотреть. Взрослые обсуждали, кому может принадлежать машина и какова цель визита.
Катафалки, однако, вызывали другую реакцию, и сегодняшняя реакция была типичной. Соседи, которые шли на похороны, собрались в маленькую группку, и их было почти невозможно различить, так как все были одеты в черное.
Внизу на улице женщины наблюдали с порога. Проходящие мужчины снимали шляпы. Детей, которые были не в школе, забрали внутрь, а оставшимся на улице велели стоять тихо, выказывая уважение.
Хотя Адель и утешила мысль о том, что ее сестре оказывали такое же почтение, как взрослому человеку, было нестерпимо думать, что Памела лежит внутри этого блестящего гроба. Она всегда была в центре внимания, болтала и веселилась. На улице не было дома, где она не побывала бы в гостях, — она была любопытной, забавной и такой милой, что ею очаровывались даже самые черствые старики.
И все же цветов было немного. Соседи купили маленький венок, потому что ни у кого не было денег, и поскольку в январе цветы были редкостью, это были в основном еловые ветки. Венок от учителей из школы, где училась Памела, был больше, и еще был очень красивый букет от миссис Беллинг, учительницы музыки.
Венок мамы с папой тоже был маленький, но на нем хотя бы были розовые розы. Он был очень красивый, и Адель подумала, что Памеле он бы понравился.
Далее Адель увидела, как родители стали за катафалком, и мистер и миссис Паттерсон с нижнего этажа подозвали знаком остальных соседей следовать за ними.
Потом катафалк медленно двинулся в путь, ползя вверх по улице к церкви, и все пошли за ним, опустив головы.
Когда похоронная процессия скрылась из виду, Адель вспомнила те мерзости, которые говорила ей мать, и снова начала плакать. Неужели мать действительно хотела бросить ее на чьем-то пороге? Разве не все матери любят своих детей?
Спустя два месяца, в марте, Адель устало брела домой из школы. Каждый божий день с тех пор, как умерла Памела, был несчастным, но сегодня, когда они играли в нетбол, мисс Свифт, учительница, спросила ее перед всем классом, откуда у нее синяки сзади на ногах.
Адель ответила, что не знает, — это было первое, что пришло ей в голову. Мисс Свифт сказала, что это смешно, но ее проницательный взгляд ясно показывал, что она очень хорошо знала, откуда эти синяки.
А правда была в том, что Роуз ударила ее кочергой утром в предыдущую субботу. Адель сидела на корточках, разжигая огонь, и нечаянно просыпала пепел на ковер. Тогда-то Роуз и ударила ее. В тот день Адель еле могла ходить. Но к утру понедельника боль стала терпимой, и, к счастью, ее спортивные шорты были достаточно длинными, чтобы скрыть рубцы. Но она не подумала, что, когда будет играть в нетбол, ей придется раздеться до спортивных трусов.
Возможно, если бы мисс Свифт спросила ее о синяках, когда Адель была одна, она могла бы рассказать правду, но при всех девочках, которые могли услышать, она не смогла этого сделать. К тому же многие из них тоже жили на Чарлтон-стрит, и Адель не хотела, чтобы все они побежали домой и рассказали своим матерям, что Роуз Талбот сошла с ума.
Адель знала, что это не преувеличение, потому что отец за последнее время уже сто раз сказал об этом. Роуз била не только ее, она била и Джима, когда пила. А пила она сейчас все время, и все разваливалось по частям. Она не готовила еду, не покупала продукты, не убирала в квартире, не стирала. Ее никогда не было дома, когда Адель приходила на обед, а когда она возвращалась из школы во второй половине дня, та обычно спала пьяная.
Адель пришлось заниматься уборкой, и отец, когда возвращался с работы, посылал ее обычно за рыбой и картошкой. Если он жаловался, что нет обеда, мать начинала либо плакать, либо ссориться и часто убегала в паб, Джиму же приходилось идти за ней и возвращать ее домой.
Все это было так ужасно. Адель с младенчества сопровождало плохое настроение и мрачное молчание матери — это было такой же частью ее жизни, как ходить в школу или относить белье в прачечную при городских душевых. Но теперь Роуз больше не молчала, она вопила, орала и ругалась, часто швыряла что под руку попадется, и Джим тоже приходил в такое же состояние.
Раньше он всегда был тихим человеком, и любимым ругательством матери в его адрес было слово «слабак». Но сейчас Роуз подначивала его, говоря, что он глупый и заурядный, и постепенно он стал таким же злобным, как и она. А пару вечеров назад он даже запустил в нее утюгом.
Адель хорошо знала, что отец был слегка медлительным, он мог читать только простые слова, и ему нужно было очень тщательно все объяснять, прежде чем он начинал понимать. Но он неплохо считал и по-настоящему сердился, когда Роуз тратила много денег на выпивку. Адель слышала, как он говорил матери, что ему урезали жалованье, потому что его начальство получало недостаточно заказов на строительство. Еще Джим постоянно повторял, что его могут совсем вышвырнуть с работы, но даже эта угроза ни к чему не приводила.
Когда Адель вошла в подъезд, миссис Паттерсон открыла дверь своей квартиры, и по выражению ее лица и по тому, как она уперлась руками в бока, было ясно, что она сердита.
— Твоя мамочка опять за свое взялась! — выпалила она. — Я больше не собираюсь это терпеть, как бы мне ни было жаль твою сестру.
Миссис Паттерсон была хорошей женщиной. У нее было трое детей, но она всегда возилась с Адель и Памелой и часто приглашала их на чай, если матери нужно было куда-нибудь уходить. Она была небольшого роста, крепкого телосложения, с черными как смоль волосами, заплетенными в косу вокруг головы. Адель и Памела часто думали, какой длины у нее были бы волосы, если бы она их распустила. Памела была уверена, что они достали бы ей до самых лодыжек.
— За что взялась? — спросила Адель.
— Орет вниз с лестницы на Иду Мэннинг, — миссис Паттерсон глазами показала на квартиру на втором этаже. — Обвиняет ее, что та якобы украла у нее пакет с овощами из бакалеи, который она оставила в холле. Твоя мать и близко с бакалейной лавкой не проходила, единственный магазин, куда она ходит, — это тот, который без лицензии.
— Извините, — сказала Адель тихо. Она понимала, что у миссис Паттерсон кончилось терпение, раз уж она ей пожаловалась. Обычно она была очень доброй. Но Адель не остановилась поговорить с ней, потому что знала — мать сдерет с нее шкуру живьем, если застанет ее разговаривающей с соседями.
— Извинениями тут уже не обойдешься. Я и от твоего отца только это и слышу, — сказала миссис Паттерсон, грозя пальцем Адель. — В этом доме полно детей. Нам здесь не нужны пьяницы и скандалистки. Мы все пытались помочь ей после того, как она потеряла Памелу, и что мы получаем в ответ?
— Я ничего не могу сделать, — сказала Адель и начала плакать. Она чувствовала, что больше уже не выдерживает. С каждым днем ей все страшнее было идти домой.
— Ну ладно, не плачь, — сказала миссис Паттерсон, и ее прежде жесткий голос смягчился. Она подошла к Адель и потрепала ее по плечу. — Ты хорошая девочка, ты этого не заслуживаешь. Но ты должна поговорить с папой. Если он наконец не положит этому конец, вас всех вышвырнут на улицу.
В тот вечер Адель была одна в гостиной, когда отец вернулся домой позже обычного.
— Где она? — спросил он.
— Вышла, примерно полчаса назад, — сказала Адель и снова начала плакать. Мать лежала в спальне, когда она пришла из школы, поэтому Адель на какое-то время была оставлена в покое. Позже она принесла ей чашку чая, и мать ударила ее по лицу, когда она спросила, есть ли что-нибудь к чаю. — Еды в доме нет, но может быть, она пошла что-нибудь купить, — добавила она.
Отец глубоко вздохнул и тяжело опустился на стул, не снимая пальто.
— Я уже не знаю, что делать, — сказал он беспомощно. — Ты тоже не помогаешь, только расстраиваешь ее.
— Я ничего ей не делаю и ничего не говорю, — возмущенно ответила Адель. — Это все она.
Она была так голодна, что ее тошнило, а в буфете не было ни корки хлеба. Она уже привыкла, что отец во всем обвинял ее, но на этот раз Адель не собиралась терпеть.
Она сердито принялась рассказывать ему, что говорила миссис Паттерсон.
— Разве ты не можешь ничего сделать, папа? — умоляла она.
Она ожидала оплеухи, но, к ее ужасу, Джим просто горестно посмотрел на нее.
— Она не обращает внимания на все мои слова, — сказал он, медленно покачав головой. — Как будто я причина всех ее бед.
Адель была поражена глубиной боли и грусти, которые услышала в его голосе. Он никогда не был таким отцом, как в книжках, он не был главой семьи и в основном прокрадывался по дому как квартирант. Он мало разговаривал, редко проявлял свои чувства, и Адель очень немного знала о нем, потому что большую часть времени он просто игнорировал ее. И все же, учитывая то, что она знала о других отцах, Джим Талбот был неплохим. Пусть он был грубым и тугодумом, но он не пил чрезмерно, не играл и каждый день ходил на работу.
Смерть Памелы и образовавшаяся огромная пустота в семье помогли Адель чуть лучше узнать отца. Она не хотела соглашаться с некоторыми из тех гадостей, которые говорила о нем мать, даже если большинство из этого было правдой. В конце концов, это была не его вина, что он не мог справляться даже с самыми простыми проблемами. По сути, это был большой, сильный ребенок, и она сопереживала ему, потому что знала, каково это, когда тебя постоянно высмеивают.
— Как ты можешь быть причиной всех ее бед? — спросила она.
— Не знаю, — пожал он плечами. — Я всегда делал то, что она хотела. Но она глубже, чем Темза. Я не знаю, что происходит у нее в голове.
Когда Роуз наконец вернулась домой около девяти вечера, Адель была в постели. Они с отцом поужинали одним пакетиком жареной картошки на двоих к чаю, и у Джима не было больше денег. Адель все еще была очень голодна, и она знала, что отец тоже очень голоден. Сон был способом забыть о голоде и избежать ссоры по возвращении матери.
Ожидаемый скандал начался в тот момент, когда Роуз переступила порог. Джим что-то сказал насчет того, что пакет жареной картошки — недостаточная еда для мужчины, который отработал десять часов. И в ту же секунду они сцепились, меча гром и молнии.
Какое-то время Адель пропускала все это мимо ушей; в основном все сказанное она уже слышала десятки раз. Роуз говорила, что она была предназначена для чего-то большего, чем жизнь в Юстоне, а Джим парировал, что он делает для нее все что может.
Потом вдруг Адель услышала, что Джим сказал нечто такое, что заставило ее навострить уши.
— Если бы не я, ты бы кончила в чертовой богадельне.
Адель села на кровати в совершенном шоке.
— А почему бы еще я вышла за тебя? — заорала ему в ответ Роуз. — Думаешь, я подпустила бы к себе кого-нибудь такого, как ты, если бы не была в отчаянном положении?
Адель охнула от жестокости матери.
— Но я любил тебя, — ответил Джим, и его голос сорвался от обиды.
— Как ты можешь любить кого-то, кого не знаешь? — возразила Роуз. — Ты никогда не давал мне рассказать, что я чувствовала, просто хотел, чтобы я была твоей собственностью.
— Я сделал для тебя то, что должен был сделать, — возмущенно сказал Джим, и в его голосе появились слезы. — Тебе нужен был мужчина рядом с тобой, потому что ты была беременна.
— Ты называешь себя мужчиной? — насмешливо фыркнула Роуз. — Я бы не посмотрела на тебя и двух раз, если бы не была беременна, и ты всегда это знал. Не выдумывай, что ты заботился о ребенке, все, чего ты хотел, — это уложить меня в постель.
Послышался резкий звук, и Адель поняла, что он ударил Роуз.
— Ты, чертова сука! — заорал он на нее. — Если бы не я, Адель была бы внебрачным ребенком и сейчас находилась бы в каком-нибудь приюте.
Адель была в таком ужасе, что натянула подушку на уши, чтобы больше ничего не слышать.
Она знала, что дети вырастают у женщин в животах и что туда их определяют мужья этих женщин. Но если Адель определил туда не Джим, из этого явно следовало, что ее мать была проституткой!
Адель было знакомо слово «проститутка», потому что их было множество в районе Кингз-кросс и Юстон-роуд. Но лишь в возрасте около десяти лет она точно поняла, чем они занимаются. Старшая девочка в школе объяснила, что они получают деньги за то, что позволяют мужчинам делать то, после чего появляются дети. Она сказала, что мужчины обожают делать детей, но поскольку их жены не хотят, чтобы детей было много, мужчинам приходится ходить к проституткам.
Адель была обеспокоена тем, где содержатся все эти дети, потому что не видела ни одну из этих женщин с коляской. Теперь, судя по тому, что сказал отец, ей подумалось, что они попадают в приют. Но он женился на маме, чтобы Адель тоже туда не попала.
Адель не была уверена в том, счастлива ли она, что избежала этой судьбы. Поскольку мать заявляла, что она испортила ей жизнь, возможно, ей нравилось быть проституткой?
Похоже, родители ушли в спальню, потому что, несмотря на то что они все еще кричали, Адель не могла разобрать, что они говорят. Но она слышала, что Мэннинги снизу стучат по потолку ручкой от метлы, потому что родители сильно шумели.
Потом вдруг из кухни раздался страшный треск. Звук был такой, будто один из них смахнул разом все кастрюли с полки. Мама при этом орала во все горло.
Адель инстинктивно выпрыгнула из постели и побежала в гостиную. Но вместо того чтобы увидеть, как Джим бьет Роуз, как она ожидала, она увидела Джима, съежившегося в дверном проеме спальни, по его лицу текла кровь. Кастрюли явно были делом рук Роуз — все они были на полу вместе с некоторым количеством тарелок, а в руке у нее был нож.
Адель мгновенно поняла, что это было совсем другое, нежели обычный скандал. Она видела страх Джима и чувствовала реальную угрозу в воздухе. Роуз все еще вопила, как сумасшедшая, дрожа от ярости, и нацеливалась снова пырнуть Джима ножом.
— Остановись! — крикнула Адель.
Роуз обернулась на звук ее голоса, ее лицо наводило совершеннейший ужас. Глаза чуть ли не выскакивали из орбит, рот отвис, как у тяжело дышащей собаки, и она была странного пунцового цвета.
— Остановиться? — крикнула она в ответ, подняв нож высоко в руке, будто собиралась ударить любого, кто приблизится к ней. — Я еще даже не начала.
— Кто-нибудь может вызвать полицию, — умоляла в страхе Адель. — Нас вышвырнут отсюда. — Она подумывала броситься к двери и убежать.
— Ты думаешь, меня это беспокоит? — рявкнула ей Роуз, обнажив зубы и раздув ноздри. — Я ненавижу это место, я ненавижу Лондон, и я ненавижу вас обоих.
Адель сотни раз видела мать злой, и обычно это кончалось тем, что она вдруг падала на стул в рыданиях. Но в этот раз все было по-другому — она выглядела свирепой, словно одержимой каким-то злым духом. Адель была в ужасе, и ее инстинкт подсказывал ей, что та действительно опасна.
— Ты убила мою Пэмми! — заорала Роуз, скривив рот и брызгая слюной от ярости. Она сделала рывок вперед, к Адель, странным движением, как большая обезьяна, наклонив одно плечо и замахнувшись ножом. — Она была единственной, кого я любила, и ты убила ее.
Адель застыла на месте. Рассудок подсказывал ей, что она должна бежать если не вниз, то хотя бы к себе в спальню, но все, что она могла видеть, это блеск ножа и оскаленные зубы матери, и она описалась от ужаса.
— Ты — грязная маленькая сучка! — завопила Роуз и, схватив Адель за волосы одной рукой, подняла нож, готовясь всадить его в нее.
— Нет, Роуз! — крикнул Джим и схватил ее за запястье со спины.
— Уйди! — орала Роуз, но Джим так яростно тряс ее запястье, что нож шатался в ее руке меньше чем в дюйме от щеки Адель, а Роуз все еще крепко держала девочку за волосы.
Адель подумала, что в любую минуту может умереть. Она не могла вырваться, дыхание матери было горячим и несвежим, а ее глаза дико блестели и вращались. Она кричала и одновременно пыталась оттолкнуть Роуз. Она почувствовала, как нож коснулся ее щеки, затем со стуком упал на пол.
Джим боролся с Роуз, отчаянно пытаясь оттащить ее от Адель, и когда он тащил ее, у Адель вырвало клок волос с корнями.
— Да убирайся же ты отсюда, черт тебя побери! — орал Джим девочке, заводя руки Роуз за спину.
Адель попыталась сдвинуться с места, но она была прижата к стене, и вдруг яростный удар коленом матери пришелся ей в живот. Когда Джиму удалось наконец обуздать Роуз, Адель упала на пол, скорчившись от боли.
— Ты испортила мою жизнь! — крик матери донесся до нее откуда-то издалека. — Если бы не ты, я могла бы иметь хорошую жизнь. Твой отец был лживым подонком, и твое уродливое лицо двенадцать лет изо дня в день напоминает мне о нем.
Джим все еще пытался оттащить Роуз от Адель, когда входная дверь распахнулась и вошли Стэн Мэннинг и Альф Паттерсон, их соседи.
— Она сошла с ума! — кричал, ругаясь, Джим, пытаясь удержать Роуз, которая лягалась, плевалась и изрыгала проклятия. — Она собиралась убить ребенка. Помогите мне, и потом кто-нибудь из вас вызовите врача.
Глава третья
Альф, Джим и Стэн силой усадили Роуз на стул, связали ей запястья платком сзади за спиной и привязали ее к стулу кожаным ремнем. Затем Альф побежал по улице за врачом.
Альф Паттерсон в свои тридцать три года был приземистым, с пивным животом и уже редеющими волосами, но он был счастливым человеком. Он любил свою работу на железной дороге, имел приличный дом и самую лучшую жену и детей, о которых только может мечтать мужчина.
Он и Энни переселились в сорок седьмой дом, только что поженившись, лет восемь назад, а вскоре после этого въехали в квартиру на верхнем этаже и Талботы. Эти две пары нельзя было назвать друзьями, с точки зрения Альфа. Мужчины угощали друг друга пивом, если встречались в баре, а Роуз иногда выпивала чашечку чая с Энни, и на этом их общение заканчивалось. Единственное, что было у них общего, — это наличие детей. Старший сын Альфа, Томми, был на год младше Памелы, и Адель часто отводила обоих в школу.
Энни всегда находила Роуз странной. В один день она могла быть высокомерной или неприятной, в другой — сладкой как мед, особенно если чего-то хотела. Если бы не Адель, к которой Энни всегда питала слабость, Роуз вообще бы ее не беспокоила. Но когда погибла Памела, все попытки Энни утешить и помочь отвергались. Она беспокоилась по поводу того, что Роуз пьет, подозревала, что с Адель дурно обращаются, и просила Альфа поговорить с Джимом. Альф думал, что его жена преувеличивает и что все уладится. Но в свете того, что он только что увидел, он понял, что Энни была права, когда волновалась. Роуз Талбот была сумасшедшей и опасной.
Дойдя до утла улицы, где жил доктор Биггс, Альф громко заколотил по двери. Через несколько секунд ему открыл сам доктор Биггс, готовившийся лечь в постель, в пижаме и красном халате.
Это был невысокий лысеющий мужчина, известный как своим веселым нравом, так и профессионализмом.
— Извините, что побеспокоил вас, доктор, — сказал Альф, тяжело дыша. — Я из-за Роуз Талбот, которая живет этажом выше надо мной. Она сошла с ума. Она напала на Джима, а потом кинулась на своего ребенка с ножом. Нам с Джимом пришлось связать ее, она была невменяема.
Доктор Биггс в одну секунду понял, о ком идет речь. Он вспомнил, что Талботы были родителями девочки, которую недавно сбила машина.
— Постойте, я немедленно отправляюсь с вами, — сказал он. — Я только переоденусь и возьму сумку.
— Вы не представляете, что могло спровоцировать миссис Талбот? — спросил доктор через несколько минут, когда они быстрым шагом шли по лестнице. Он хорошо знал Альфа и Энни Паттерсон, потому что помогал при родах всех троих их детей, а до того, как на свет появились двое младших, Энни убирала у него в приемной.
— Без понятия, — сказал Альф. — Конечно, она была в жутком состоянии с тех пор, как малышку переехали. Мы слышали, что они постоянно скандалят. Но об остальном Джим ничего не говорил.
Доктор Биггс почти не знал Талботов, но он заходил к Роуз сразу после похорон посмотреть, как она справляется с трагедией. Роуз не пустила его дальше двери и сказала, что все отлично. Отлично она не выглядела, напротив, у нее был совершенно изможденный вид и черные круги под глазами. Он тоже долго не разговаривал и предложил ей зайти к нему на прием, но она так и не пришла. Он не хотел навязываться и заходить снова без приглашения.
Снаружи под домом 47 собралась немалая толпа, и все люди смотрели на свет в окне верхнего этажа и слушали доносящиеся из комнаты вопли.
— Идите все по домам, — твердо сказал доктор Биггс. — Здесь не на что смотреть.
— Мы беспокоимся по поводу того, что слышали, док, — возразил один из мужчин. — Похоже, ей пора в психушку.
Доктор Биггс не ответил и пошел по направлению к входной двери, кратко кивнув Энни Паттерсон, которая стояла с обеспокоенным видом на нижнем пролете лестницы вместе с еще одной женщиной. Шум из верхней квартиры был намного громче, чем внутри дома, и вместе с криками слышался звук, будто что-то тащили или царапали чем-то по полу.
— Оставайтесь здесь с женой, — сказал Биггс Альфу. — Я позову вас, если мне понадобится помощь.
Сцена, которая предстала перед глазами доктора Биггса, когда он вошел в комнату, была очень тревожной. Роуз была привязана кожаным ремнем к стулу, и ее глаза чуть ли не выскакивали из орбит. Она качалась и царапала стулом об пол, выкрикивая проклятия в адрес мужа и отчаянно пытаясь высвободиться. Джим Талбот безуспешно старался успокоить ее, и у него по лицу текла кровь.
Другой мужчина, с которым доктор не был знаком, по-видимому сосед, стоял на коленях перед девочкой и вытирал ей кровь с лица. На девочке была ночная рубашка, мокрая от мочи и забрызганная кровью. Весь пол в гостиной был усеян кастрюлями, горшками и осколками от тарелок.
Доктор Биггс моментально понял, что это не простая домашняя драка. Роуз нельзя было успокоить чашкой чая и разговором. Стало ясно, что и муж, и дочь будут подвергаться риску, если она останется здесь. Поэтому он принял единственно правильное решение — дать женщине успокоительное и отправить ее в психиатрическую клинику для душевнобольных.
— Ну, по поводу чего все это, миссис Талбот? — спросил он успокаивающе, приближаясь к ней.
— Пошел ты! — заорала она на него, оскаливая зубы, как дикая собака, и еще яростнее раскачивая стул, несмотря на попытки мужа удержать ее. — Убирайтесь отсюда вы все!
За этим последовала длинная фраза из ругательств, и ее голос был таким резким и безумным, что доктора передернуло.
— Что с ней происходит? — спросил с сожалением Джим. — Я никогда ничего плохого ей не делал.
— Похоже, смерть дочери вызвала у нее нервный коллапс, — сказал быстро доктор Биггс, открывая саквояж и доставая оттуда скляночку с успокоительным и гиподермический шприц. — Она вела себя странно до сегодняшнего вечера? — спросил он, готовя шприц.
Джим кивнул.
— Она уже несколько недель ведет себя странно. Ей ничего нельзя сказать. Она пьет и не останавливается.
Возможно, Джим намеревался что-то добавить к этому, но Роуз его прервала.
— Чертов ублюдок, мерзкий червяк! — орала она во все горло. — Я не была бы такой, все из-за тебя.
— Ну-ну, миссис Талбот, — сказал спокойно доктор Талбот с готовым шприцем в руке. — Вы просто перенервничали, и я вам дам что-то, что вас успокоит. — Он взглянул на соседа, занимавшегося девочкой, который как раз встал с колен и стоял в совершенном шоке. — Пожалуйста, помогите Джиму крепко подержать ее.
Роуз лягалась и извивалась на стуле с силой, как у полдюжины мужчин, но Джим и Стэн смогли удержать ее достаточно долго, чтобы можно было сделать укол.
— Буквально через пару минут лекарство подействует, — сказал доктор, вытаскивая иглу из ее руки. — Мне нужно на минуту выйти и позвонить в больницу, но сначала я осмотрю ребенка.
— Ублюдок! — плюнула в него Роуз. — В дурдом нужно не меня отправлять! Это она меня довела!
Меньше чем через минуту Роуз перестала бушевать и ее вопли утихли до приглушенных хрипов, а доктор отошел и стал на колени перед девочкой, чтобы осмотреть ее. Адель была в сознании, но от пережитого шока не могла разговаривать, на лице был порез, вероятно, от того же ножа, от которого пострадал и Джим. Но это был неглубокий порез, чуть больше, чем сильная царапина. Когда доктор спросил, не болит ли где-то еще, она положила руку на живот.
— Помогите мне перенести ее в спальню, — попросил он Джима, который напряженно наблюдал за женой, голова которой начала медленно опускаться на грудь.
— В этом нет никакого смысла, — возразил он. — Она не может оставаться здесь, если мать заберут в больницу.
— Мне нужно осмотреть ее, — сказал доктор Биггс резко. Он предположил, что Джим подумал, что ребенок ее возраста не может оставаться один в квартире, пока он поедет в больницу с женой. — И вам не нужно будет сопровождать жену. Если повреждения вашей дочери не требуют лечения, она может остаться здесь с вами.
— Она не моя дочь, — сказал Джим, и тон его был так холоден, будто он говорил о бродячей собаке. — Повреждения там или нет, я хочу, чтобы сегодня же ночью ее здесь не было.
Доктор Биггс всегда гордился тем, что его ничем нельзя было шокировать, но это замечание его удивило.
— Мы поговорим об этом позже, — сказал он сердито. — А пока что я не намереваюсь осматривать ребенка на холодном жестком полу. Поэтому я буду благодарен, если вы поможете мне перенести ее. После осмотра я позвоню и вызову «скорую помощь» для вашей жены.
Как только он отнес девочку в спальню, она сказала ему, как ее зовут, и рассказала, что мать гонялась за ней с ножом и ударила ее в живот. Доктор поднял ночную рубашку и увидел красное пятно, оставшееся от удара, а также заметил несколько старых синяков на теле и ногах, свидетельствующих о том, что ее избивали. К счастью, у нее не были сломаны кости, и царапину на лице не нужно было зашивать, поэтому не было необходимости везти ее в больницу.
— Мне нужно пойти позвонить насчет твоей мамы, — объяснил он, помогая ей снять мокрую ночную рубашку, и укрыл ее одеялом. — Но ты должна оставаться здесь, и я очень быстро вернусь к тебе.
Роуз Талбот дали такую сильную порцию успокоительного, что она совсем не сопротивлялась, когда двое санитаров снесли ее на носилках в машину «скорой помощи». К моменту их появления доктор Биггс только что вернулся в сорок седьмой дом после того, как ходил звонить, так что у него не было времени, чтобы обработать рану на лице Джима и поговорить снова с ним или с Адель, Как только «скорая помощь» отъехала, он вернулся в дом и увидел Энни Паттерсон, стоявшую с озабоченным видом в холле.
— С ней будет все в порядке? — спросила она. — Я могу что-нибудь сделать для Джима или Адель?
— Миссис Талбот, вероятно, будет оставаться в больнице некоторое время, — осторожно сказал доктор. Он знал, что Энни Паттерсон была хорошей женщиной, она не распространяла сплетни, но даже в этом случае он не мог заставить себя сказать, что Роуз Талбот направят в психиатрическую клинику. — Однако в этой семье есть еще одна проблема, и, вероятно, Адель не сможет оставаться там. Готовы ли вы к тому, что, возможно, придется приютить ее на ночь?
— Конечно, — сказала Энни без всякого колебания. — Бедная малышка, такой маленькой девочке нельзя видеть и слышать подобные вещи. Приводите ее, если нужно, я, к сожалению, могу положить ее только на кушетке, и будет лучше, если она принесет с собой одеяла. Но я окажу ей самый теплый прием.
— Вы хорошая женщина, — сказал доктор Биггс с улыбкой. — Ей нужно будет немного женской ласки, я подозреваю, что она в своей жизни мало ее видела.
* * *
В квартире на верхнем этаже Джим был сейчас один, он сидел за кухонным столом и смотрел в стену, явно забыв о горшках и осколках на полу. Он даже не поднял голову, когда вошел доктор Биггс.
— Ну хорошо, дайте мне взглянуть на ваши раны, Джим, — сказал доктор, стараясь придать своему голосу веселость. Он налил немного горячей воды из чайника в таз и, взяв несколько ватных тампонов из саквояжа, промыл ему щеку, наложил сверху повязку и закрепил ее на месте пластырем. — Это только порез, я рад, что здесь не требуется накладывать швы, — объявил он через несколько минут. Затем доктор сел за стол и строго посмотрел на Джима. — А теперь, я предполагаю, вы объясните мне, в чем дело.
— Нечего особо рассказывать, — сказал Джим мрачным тоном. — Роуз не в себе с тех пор, как убило нашу Пэмми. Становилось все хуже, она пила и все такое. Вы же видели, что с ней было, она совсем с катушек съехала.
— Смерти ребенка достаточно, чтобы любая мать тронулась, — сказал доктор Биггс с упреком. — Вы должны были позвать меня задолго до того, как зашло так далеко.
— Я не могу позволить себе врачей, — сказал Джим. — Мне урезали зарплату. Потом, Роуз вас и близко не подпустила бы.
— Почему она винила Адель? — спросил доктор.
— Ну, потому что именно она это сделала. Если бы она пошевелилась и быстро забрала нашу Пэмми, ребенка не переехала бы машина.
— Вы же не можете обвинять другого ребенка в несчастном случае на дороге! — в ужасе воскликнул доктор Биггс. — Адель и так, вероятно, ощущает, что это была ее вина, несчастные случаи очень влияют на людей, но мать и отец не должны винить ребенка.
— Я вам говорил, она не мой ребенок, — раздраженно сказал Джим. — Мой ребенок теперь умер из-за нее, а ее мамочка сошла с ума. И вы бы послушали, в чем она меня обвиняла! Я уже больше не выдерживаю. Я все эти годы делал все что мог для Роуз и ребенка, и вот мне вся благодарность за то, что я делал. Так что я не хочу больше иметь с ними ничего общего. Вы можете забирать девочку прямо сейчас.
Биггс был в ужасе от черствости мужчины по отношению к Адель, но в то же время он догадался, что Роуз издевалась над Джимом. Мужчина был в шоке, но завтра он, вероятно, будет смотреть на вещи по-другому, и поскольку Адель находилась в соседней комнате и, возможно, слышала все это, самым лучшим решением было принять предложение миссис Паттерсон забрать Адель к себе на эту ночь.
— Я пока заберу Адель, — сказал доктор Биггс. — Не из-за ваших чувств, мистер Талбот, но потому, что она страдает от шока и ей нужен ласковый уход. Я вернусь поговорить с вами завтра. Я надеюсь, что к этому времени вы успокоитесь и вспомните, что, женившись на Роуз, вы взяли на себя юридическую и моральную ответственность за ее ребенка.
— Завтра мне нужно идти на работу, — устало произнес Джим.
— Тогда я приду в семь вечера, — сказал резко доктор Биггс. — А до этого предлагаю вам потратить некоторое время на то, чтобы подумать о потребностях ребенка, прежде чем думать о своих собственных.
Энни Паттерсон тепло встретила девочку, когда доктор привел ее к ней.
— Бедняжка, — сказала она, обнимая Адель. — Мне жаль, что у нас нет лишней приличной постели, но такой малышке, как ты, будет достаточно места на кушетке.
Единственная чистая ночная рубашка, которую смог найти доктор Биггс, явно принадлежала ее умершей сестре. Она едва доходила Адель до колен, на плечи ей доктор накинул одеяло, на щеке была повязка, и весь ее вид вызывал сочувствие.
— Вы очень добры, Энни, — сказал доктор, кладя одеяло и подушку. — Это только временная мера. Я поговорю с мистером Талботом завтра вечером, когда он успокоится.
Адель не сказала ни слова, не спросила ни о матери, ни о себе, Биггс надеялся, что она ничего не спрашивала, потому что не вполне осознала, что произошло в их квартире.
Но когда он собирался уходить, Адель вдруг разволновалась.
— Я не могу быть с папой, не могу туда возвращаться! — выпалила она. — Он меня не любит. И мама не любит.
— Это чепуха, — живо отозвалась Энни Паттерсон. — Твоя мама больна, а папа не знает, на каком он свете.
Адель беспомощно перевела взгляд с соседки на врача. У нее не умещалось в голове, что мать действительно хотела убить ее и что она действительно говорила все эти ужасные вещи.
И все же какой бы маленькой она ни была, Адель понимала, что ей придется поверить в чувства матери к ней, которые та проявила этой ночью. Это было похоже на разлитую бутылку молока: его можно вымакать тряпкой, но нельзя налить обратно в бутылку.
Теперь она была совершенно уверена, что множество пощечин, дурное обращение и жестокие слова в прошлом были симптомами таившейся в матери ненависти к ней. В сегодняшнюю ночь они просто вылились наружу.
Адель не понимала, как могла испортить матери жизнь одним фактом своего рождения, но сомневалась, что сможет что-то сказать или сделать, что заставит мать изменить свои чувства к ней. Она также понимала, что ни доктор, ни миссис Паттерсон были не в настроении продолжать этой ночью обсуждения. Если она сейчас что-то скажет или сделает, то и их настроит против себя.
— Извините, что со мной столько хлопот, — сказала она слабым голосом, переведя взгляд с одного на другую. — Я буду делать все, что вы скажете.
— Ну вот и хорошая девочка, — миссис Паттерсон улыбнулась и нежно погладила ее по щеке. — Завтра утром все будет выглядеть по-другому, ты увидишь. И ты сможешь поваляться в постели, потому что завтра суббота.
Прошел час, а Адель все еще лежала и не спала, несмотря на то что миссис Паттерсон сделала ей какао и положила грелку на больной живот. Через окно у раковины струился лунный свет и поблескивал на спинках стульев, стоявших у стола. Кушетка, на которой она спала, была больше похожа на скамью, обитую коричневым потрескавшимся кожзаменителем, и была очень жесткая. Она стояла за столом и использовалась как дополнительное сиденье.
Квартира Паттерсонов была самой большой в доме, но немного темной. Между кухней и передней спальней, где спали мистер и миссис Паттерсон и их годовалая дочка Лили, были большие двустворчатые двери. Из кухни коридор вел к комнате, в которой находились четырехлетний Майкл и семилетний Томми, и еще одна дверь вела на задний двор.
Что будет с ней сейчас? Она слышала, что ее отец сказал врачу, и была абсолютно уверена, что он имел в виду именно то, что сказал. Насколько Адель знала, приюты были для маленьких детей и младенцев, и она никогда не слышала о ребенке двенадцати лет, которого поместили бы в приют. Но пока ей не исполнится четырнадцать, она не может получить работу и содержать себя.
Наверное, она в конце концов уснула, потому что проснулась, вздрогнув, когда услышала, как миссис Паттерсон ставит чайник.
— Извини, я тебя разбудила, радость моя, — сказала она весело. — Ты хорошо спала? — Она подошла к кушетке и убрала Адель волосы со лба.
Черные волосы женщины были распущены, и они были такими длинными, что доходили ей до талии. На ней был халат, такой оборванный, что казалось, он вот-вот распадется.
— Да, спасибо, — ответила Адель. Ее живот все еще немного болел, но кроме этого все было в порядке.
— Мой Альф сейчас уходит на работу, — сказала миссис Паттерсон. — Ты можешь еще поваляться, а я накормлю Лили молоком, а потом сделаю тебе чаю. И мы немного поболтаем.
Адель еще очень долго оставалась на кушетке, притворяясь спящей, и следила при этом за Паттерсонами и слушала их. Она увидела, как миссис Паттерсон поцеловала мужа на прощанье и дала ему с собой бутерброды. Как она накормила Лили, а потом искупала ее в кухонной раковине. От мокрой пеленки Лили воняло, но было приятно слышать, как она лопочет и плещется в воде. Потом встали Майкл и Томми, и мать сделала им по тосту и чашке чая.
В их обыденной семейной жизни был такой уют, которого Адель никогда не ощущала. Миссис Паттерсон нежно похлопывала детей по головам и по попкам, даже целовала их в щеку безо всякой причины и тихо, спокойно отвечала на вопросы мальчиков. Адель привыкла, что мать всегда рычала на нее.
— Как насчет чашки чая сейчас? — спросила миссис Паттерсон, когда мальчики ушли в свою комнату одеваться. Она посадила малышку Лили на пол играть с деревянными кубиками, и та прыгала вокруг кубиков на попе.
Адель осторожно встала, отдавая себе отчет, что рубашка Памелы слишком коротка ей и что она не принесла с собой никакой одежды.
Миссис Паттерсон, вероятно, прочитала ее мысли.
— Мы позже пойдем наверх и возьмем тебе кое-какие вещи. Я слышала, твой папа рано ушел на работу. Это хороший знак, по крайней мере он не ушел в свои мысли.
— Я не думаю, что он изменит свое мнение на мой счет, — сказала Адель, предполагая, что миссис Паттерсон имеет в виду, что отец размышляет о ней. — Видите ли, он не мой папа, так сказала мама вчера вечером.
Миссис Паттерсон уперла руки в бока и сделала строгое лицо.
— В любом случае она наговорила множество безумств, но она ничего не могла с собой поделать, моя радость. Твоя мама была не в себе.
— Но это должно быть правдой, папа тоже сказал это доктору, — произнесла тихим голосом Адель, опустив голову от стыда. — Мама в последнее время говорила много таких гадких вещей. Она сказала, что пыталась избавиться от меня и что только из-за этого она вышла замуж за папу. Вчера вечером она даже хотела меня убить.
Миссис Паттерсон замолчала, и Адель поняла, что та не знает, что сказать.
— Я думаю, меня определят в приют, это так? — сказала Адель, наблюдая несколько минут, как женщина старается занять себя приготовлением чая. — Мне больше некуда идти.
И вдруг она очутилась в ее крепких объятиях.
— Ты моя бедняжка! — воскликнула миссис Паттерсон, прижимая ее к своей полной груди, пахнувшей ребенком и тостом. — Это ужасно, но, может быть, когда твоя мама отдохнет в больнице, все поправится.
Адель понравилось, как ее обняли, от этого она почувствовала себя в безопасности, чего никогда не чувствовала раньше. Но несмотря на это, она подумала, что должна предупредить эту добрую женщину о том, как Роуз Талбот относится к своей старшей дочери.
— Я не думаю, что буду нужна ей, даже когда она выздоровеет, — начала она. Ей пришлось потратить время на то, чтобы объяснить, как плохо все складывалось после смерти Памелы и что даже до этого мать была безучастна к ней. — Так что вы видите, — завершила она свой рассказ, — мне нет смысла надеяться, что, когда она выздоровеет, все будет в порядке.
День показался Адель бесконечным. Миссис Паттерсон решила, что незачем возвращаться в квартиру за одеждой, поэтому она дала Адель какой-то свой комбинезон. Он был в красно-белую клетку и почти такой же широкий, как и длинный, но после того, как его подвязали поясом, он стал выглядеть примерно как халат, Адель, помогая по дому, попыталась прогнать мысли о том, что с ней будет, но боль в животе была постоянным напоминанием. Когда она случайно увидела себя в зеркале в спальне миссис Паттерсон, она снова расплакалась, потому что вокруг глаза образовался черный синяк, а шрам на щеке выглядел ужасно.
Наконец настало семь вечера и пришел доктор Биггс, но Джима все еще не было.
— Он мог пойти в паб, — предположила Адель.
Доктор Биггс вздохнул и посмотрел на миссис Паттерсон, которая всем своим видом говорила: «Я так и предполагала».
Она поманила доктора знаком за собой в переднюю спальню, подчеркнуто закрывая за ними дверь.
— Наш папа тоже ходит в паб, — сказал Томми, поднимая голову от пририсовывания усов мужчинам на фотографиях в старом журнале.
Адель знала мальчиков Паттерсонов с рождения и очень их любила, хотя они были смешными, белолицыми, с липкими черными волосами и стертыми коленями. Поскольку она всегда отводила Томми в школу вместе с Памелой, она знала его лучше всех — он был нахальный, шумный и иногда немного скандальный, но при этом милый мальчик. Он сегодня вовсю старался, чтобы развеселить ее: даже его замечание о том, что его папа тоже ходит в паб, было сделано, чтобы ей было легче. Но Адель не могла ответить, она напрягла слух, чтобы послушать, о чем разговаривают миссис Паттерсон и доктор.
А в это время взрослые старались говорить как можно тише.
— Мне придется дать отчет властям, — грустно сказал доктор. — Я подозреваю, Джим не собирается заботиться об Адель, и мы не можем это так оставить. Есть ли у нее родственники? Дедушки, бабушки, дяди, тети?
— У Джима есть сестра где-то на севере, — ответила Энни. — Но он с ней не поддерживает отношений. Если у Роуз и есть родственники, они никогда здесь не были.
— Никаких родственников? — спросил доктор.
— Да, — ответила миссис Паттерсон. — Она выросла в Сассексе, у моря, и это все, что я знаю.
— Я спрошу у Джима, когда доберусь до него, — сказал доктор. — Если ее родители еще живы, возможно, они выручат.
— Я надеюсь. Мне больно думать, что эта милая девочка попадет в приют, — сказала Энни Паттерсон, и ее голос сорвался, будто она плакала.
— Я напишу записку Джиму, Адель сможет оставить ее наверху, когда пойдет за одеждой.
— Сомневаюсь, что он вообще умеет читать, — сказала Энни презрительно. — Знаете, он не вполне развитый.
— Я знаю, — согласился доктор Биггс. Его жена сообщила ему об этом вчера вечером. Она слышала все сплетни, ходившие среди соседей. Судя по тому, что ей рассказывали, семья Джима Талбота была печально известной семьей в Сомерс-таун еще в начале 1900-х годов, все мальчики были негодяями и головорезами, все девочки — уличными девками, а родители еще хуже. Джим был младшим из восьми детей, и все считали его умственно отсталым. Он вступил в армию в 1917 году, когда ему было восемнадцать, и предполагалось, что он был убит во Франции, как и трое его братьев, поскольку он не вернулся. Его родители и две младшие сестры, которые еще жили в родительском доме, умерли от эпидемии ангины в 1919 году.
Все были ошеломлены, когда Джим Талбот вдруг снова появился в Сомерс-таун четыре года спустя. Не только потому, что он выжил в войне, но и потому, что вернулся с хорошенькой, хорошо воспитанной женой и четырехлетней дочерью. Они были еще более ошеломлены, когда ему удалось не потерять работу на лесопильне и когда они обнаружили, что его жена не потаскушка, какими были его мать и сестры.
С учетом того, что доктор Биггс слышал прошлой ночью, казалось вероятным, что Роуз Талбот вышла замуж за Джима от безысходности, потому что носила ребенка от другого мужчины. Он думал, что годы жизни с нелюбимым мужчиной в значительно более стесненных условиях, чем те, в которых она воспитывалась, стали причиной огромной, постоянно растущей обиды в отношении Адель.
Доктор Биггс не сильно сочувствовал Роуз, которая не имела права обвинять ребенка за свои ошибки или неудачи. Отношение же его к Джиму было неоднозначным: с одной стороны, Джим вызывал жалость, поскольку он страдал с рождения, с другой — был достоин презрения. Без сомнения, он посоветовался сегодня с мужчинами, с которыми вместе работал, и все они поддержали его в решении бросить Адель. Возможно, Джим также рассматривал это как способ показать Роуз, что он устал быть ее кошельком и дверным ковриком.
— Я в любом случае напишу записку, — сказал он. — Но утром я снова зайду и попробую застать Джима.
Адель очень неохотно поднималась вверх по лестнице, держа в руках записку от доктора Биггса. Она боялась зайти в квартиру — это наводило ее на мысль о матери с ножом. Поскольку отец не вернулся, чтобы поговорить с доктором Биггсом, было ясно, что ему безразлична ее дальнейшая судьба. Она хотела умереть вместо Памелы.
Когда Адель открыла дверь квартиры и включила свет, она почувствовала тошноту. На полу все еще были кастрюли и разбитые тарелки, а на скатерти алело кровавое пятно, и нож все еще лежал там. Запах тоже был отвратительный: пахло алкоголем, сигаретами, пОтом отца и грязными носками. Ей хотелось выбежать и больше никогда не возвращаться, но она заставила себя зайти в спальню и забрать свои вещи.
Ей не пришлось много забирать — только лучшую выходную юбку и свитер, чистую куртку, школьную блузу, бриджи и пару носков, туфли и спортивные шорты. Она собиралась положить вещи в школьный рюкзак, когда вдруг вспомнила, что в комнате родителей на шкафу был маленький чемоданчик.
В их спальне вонь была еще сильнее, чем в гостиной, и постель была разобрана. На подушках оставались пятна крови, вероятно, с пореза на щеке отца. Стоя у трюмо, она на секунду взглянула на себя в зеркало.
Она подумала, что выглядит ужасно. Даже до того, как она заполучила синяк под глазом и шрам на щеке, она не была хорошенькой. Тусклые, растрепанные волосы песочного цвета, желтоватая кожа, даже глаза были не ярко выраженного цвета, как, например, карие или голубые, они были с зеленоватым оттенком, и мама однажды сказала о них: «как вода в канале».
Неудивительно, что мама была зла, когда погибла ее красивая дочка вместо некрасивой.
Пододвинув стул, стоявший в спальне, Адель вскарабкалась на него, чтобы достать чемодан, и когда подняла его, то увидела, что он покрыт толстым слоем пыли. Она положила его на кровать и стерла пыль краем покрывала.
Внутри не было ничего, кроме нескольких писем, все они оказались от одного человека и были адресованы ее отцу. Она открыла одно и увидела, что оно от его сестры из Манчестера. Разочарованная, она связала письма вместе, но тут несколько из них выпало из пачки, и среди них она заметила одно, написанное совсем другим почерком. Оно было адресовано мисс Роуз Харрис — это была девичья фамилия матери.
Держа в руках пожелтевший от времени конверт, она вдруг вспомнила слова миссис Паттерсон, услышанные раньше: «Я думаю, она выросла в Сассексе, у моря».
Письмо было адресовано в Керлью-коттедж, Винчелси-Бич, Рай, Сассекс.
Поскольку ее мать никогда не упоминала о своих родителях, Адель думала, что они, вероятно, умерли, но ей было любопытно, от кого это письмо, и она достала его из конверта. Оно было от кого-то из Танбридж-Уэлса в Кенте и датировано восьмым июля 1915 года. Развернув письмо, она начала читать:
Дорогая Роуз!
Я была в таком восторге, что получила вести от тебя через столько времени. Я ужасно по тебе скучала после того, как ты уехала, и все девочки спрашивают, есть ли от тебя какие-то новости. Я думаю, жить в деревне немного скучно, но с другой стороны, сейчас везде скучно, единственное, о чем все разговаривают, — это война. Многие девочки в школе потеряли своих отцов и братьев, я рада, что моему отцу не нужно идти на войну и что у меня нет братьев призывного возраста. Я надеюсь, с твоим отцом все в порядке.
Твоя мама заставляет тебя вязать носки и шарфы? Моя заставляет. Меня уже тошнит от серой шерсти. Сегодня днем мы играли в теннис, и Мьюриэл Степфорд сказала, что собирается стать медсестрой. Она сказала, что хочет этого, потому что ей так жаль всех этих раненых солдат, но мы все думаем, что она боится остаться лежать на полке, поскольку здесь осталось очень мало мужчин ее возраста.
Пиши быстрее и расскажи мне, чем ты занимаешься целый день. Ты действительно разводишь цыплят и выращиваешь овощи или это была шутка? Я не представляю тебя, пачкающую руки.
С наилучшими пожеланиями,
Алиса
Заинтригованная, Адель прочла письмо трижды, потому что это был крошечный кусочек из прошлого матери, о котором она ничего не знала. Была ли эта девушка Алиса хорошей подругой? Возможно, ее мать с родителями переехала из Танбридж-Уэлса из-за войны? Может быть, ее дедушка и бабушка еще живут в Керлью-коттедж?
Письмо было написано шестнадцать лет назад, за четыре года до ее рождения, но так как она точно не знала, сколько лет было матери во время войны, то даже не могла себе представить, какого возраста могут быть бабушка с дедушкой.
Но Адель слышала, как доктор сказал, что собирается спросить Джима о семье, поэтому положила конверт вместе с другими письмами обратно и упаковала чемоданчик своими вещами. Потом она вышла из квартиры, закрыв за собой дверь.
На следующее утро, когда церковные колокола звонили к воскресной утренней службе, вернулся доктор Биггс. Он ненадолго зашел к Паттерсонам, спросил у Адель, как она себя чувствует, и сказал, что связался с больницей, в которую забрали ее мать, и что она сейчас значительно спокойнее.
— Как вы думаете, как долго ее будут там держать? — спросила миссис Паттерсон.
— Пока что трудно сказать, — осторожно ответил доктор Биггс. — А сейчас я поднимусь и зайду к мистеру Талботу.
Доктор провел с ее отцом некоторое время, а когда он спустился вниз, то раскраснелся и выглядел раздраженным.
— Беги во двор к мальчикам, — сказала миссис Паттерсон, легонько подтолкнув Адель сзади по направлению к двери.
Адель ушла, но не во двор. Она просто закрыла дверь в гостиную и ждала снаружи. Она хотела узнать, что же такое сказал отец, что рассердило врача.
Ей не пришлось долго ждать. Доктор был готов взорваться.
— Этот человек такой тупой, у меня ощущение, что я разговаривал с кирпичной стеной, — возмущался он. — Он твердо стоит на том, что Адель не его ребенок. Он сказал, что встретился с ее матерью, когда та уже была беременна, и может доказать это, потому что до того момента он находился во Франции.
— Но ведь когда он женился на Роуз, он взял на себя ответственность за Адель, кем бы ни был ее отец? — взволнованно проговорила миссис Паттерсон.
— Фактически да. Но вы знаете выражение: «Можно подвести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить», — ответил доктор. — Как я могу уйти прочь и оставить такую юную девочку в руках того, кто полон гнева и злобы? Может случиться все что угодно.
— Что же нам тогда делать? — спросила миссис Паттерсон.
— Мне нужно получить постановление об опеке. Другого выхода нет, Энни. Роуз душевнобольная, я даже не могу сказать, выздоровеет ли она. Кроме того — по большому счету, может, так и лучше, — я подозреваю, что с девочкой много лет дурно обращались. Если я заберу ее отсюда, ей будет лучше.
— Вы спрашивали Джима, есть ли бабушки или дедушки?
— Да, но он ничего о них не знает. Он сказал, что Роуз поссорилась со своей матерью задолго до того, как он встретил ее, и с тех пор у них не было контактов.
В этот момент громко завыла Лили, заглушая все сказанное далее взрослыми. Адель нервно ждала, когда Лили прекратит плакать, но та все продолжала, и в ее плаче утопали все слова.
Немного позже Адель вернулась в гостиную. Доктор Биггс улыбнулся ей.
— Я как раз говорил миссис Паттерсон, что, вероятно, будет лучше, если ты пару дней не будешь ходить в школу, пока у тебя не сойдет синяк, — сказал он. — Я уверен, что ты не хочешь, чтобы тебе задавали об этом вопросы, правда?
Адель перевела взгляд с него на миссис Паттерсон, догадываясь, что они что-то вместе придумали. Она удивлялась, почему взрослые отчитывают детей за ложь, когда сами все время лгут.
Глава четвертая
На следующее утро, когда Адель ела кашу, миссис Паттерсон завязывала Томми галстук.
— Давно пора такому большому мальчику, как ты, научиться делать это самому, — сказала она, легонько похлопав его по щеке.
— Мне нравится, когда ты это делаешь, — парировал Томми и протянул руку, чтобы пощекотать маму под подбородком, отчего она рассмеялась.
От этого обмена нежностями у Адель ком подступил к горлу. За последние два дня она видела много таких маленьких знаков любви между членами семьи, и каждый был грустным напоминанием, что она никогда не получала такой любви ни от одного из родителей. Она пришла к заключению, что, вероятно, сама была в этом виновата, ведь, в конце концов, им удавалось проявлять любовь к Памеле.
— Адель отведет меня в школу? — спросил Томми, когда его галстук был завязан.
— Конечно нет, — сказала миссис Паттерсон, взглянув на Адель, которая еще сидела за столом. Адель перестала водить его после гибели Памелы. — Зачем ей это делать? Ты уже большой мальчик.
Томми умоляюще посмотрел на Адель.
— Пожалуйста!
— Адель еще не совсем поправилась, — сказала живо его мать. — Ей нужно отдохнуть.
— Мне не нужно, — сказала Адель, поднимаясь. Она была тронута желанием Томми пойти с ней. — Мне бы хотелось отвести его.
Миссис Паттерсон заколебалась.
— Пожалуйста! Я хотела бы выйти на улицу, — умоляла Адель.
— Ну хорошо, — согласилась миссис Паттерсон. — Но сразу возвращайся, доктор сказал, что тебе нужен отдых.
Адель не учла, что, когда будет отводить Томми в школу, это вызовет такие живые воспоминания о Памеле. Томми вел себя как обычно — то бежал, ставя при этом одну ногу в канаву, другую на мостовую, то тут же планировал к ней обратно, раскинув широко руки и изображая из себя самолет. Памела всегда держала Адель за руку и жаловалась, что Томми обращает на них внимание окружающих. Адель скучала по этой маленькой ручке в своей руке, по презрительному выражению на лице сестры и по ее хихиканью, когда Томми корчил ей рожи.
Начальная школа была большим, старым, покрытым копотью трехэтажным зданием, дошкольники на одной стороне, младшие школьники — на другой, с отдельными входами и площадками для игр.
— Увидимся за обедом, — сказал Томми, прежде чем вбежать в ворота.
Адель секунду стояла и смотрела через прутья, как его поглотила толпа ребятишек. Младшие девочки собирались на дальней стороне площадки для игр, и на миг она обнаружила, что автоматически ищет среди них Памелу.
Именно из-за этого страха воспоминаний о сестре она перестала водить Томми в школу после смерти Памелы. И все же, хотя у нее было странное чувство оттого, что она снова была здесь, слышала этот оглушающий шум двухсот или более детей, которые кричали одновременно, это странным образом успокаивало. Увидев в шутку дерущихся мальчиков и девочек, прыгающих через скакалку, держась за руки, она ощутила, что жизнь продолжается, несмотря на смерть Памелы.
Она вспомнила первый день, когда сестра должна была пойти в младшую школу. Она была по-настоящему испугана, спрашивала Адель по дороге, правда ли, что старшие дети засовывали новичков лицом в унитазы. Адель поклялась ей, что это просто глупая выдумка, чтобы напутать новеньких, и что в любом случае она будет здесь, в старшем классе, и позаботится, чтобы с Памелой ничего не случилось.
Адель гордилась, что у нее была такая хорошенькая сестра. Даже когда Памела потеряла два передних зуба, она была симпатичнее и милее всех остальных девочек в классе. Сейчас она мысленно представила, как Памела прыгает через скакалку, а ее аккуратные светлые косички прыгают вверх-вниз вместе с ней. Некоторые девочки в ее классе совершенно не общались со своими младшими братьями и сестрами, но не Адель — она делала все возможное, чтобы похвастаться Памелой.
В сентябре прошлого года, когда Адель перешла в среднюю школу, настал черед Памелы спросить сестру, не боится ли она.
— Я пойду с тобой, если хочешь, — предложила она добровольно свою помощь, когда они вместе шли вниз по дороге. — Я скажу всем большим девочкам, что им нужно хорошо обращаться с тобой, как ты делала это для меня.
Адель засмеялась: было забавно представлять, как восьмилетний ребенок командует старшими девочками. И все же благодаря заботе Памелы о ней она меньше боялась начинать учебу в средней школе.
Какое-то время она стояла и наблюдала за играющими детьми, думая, придет ли кто-нибудь забрать ее сегодня. Хотя она и хотела, чтобы ее забрали, потому что это означало бы конец беспокойствам, начало новой жизни, все же будущее ее страшило. Она могла сравнить это лишь с тем, как начинала учиться в средней школе, но там, по крайней мере, она знала других детей из младшей школы. Многие из них жили совсем по соседству. Там, куда собирались ее отвезти, все будут чужими.
— За мной сегодня придут? — выпалила вдруг Адель, когда помогала миссис Паттерсон прикреплять прищепками белье на веревке в заднем дворе. Они выпили по чашке чая, когда она вернулась, проводив Томми в школу, и по тому, какой Энни была напряженной, как она поминутно вскакивала со стула, поправляла то там, то здесь, девочка чувствовала, что что-то было не так.
Она увидела выражение, промелькнувшее на лице женщины, и поняла, что та собирается солгать ей.
— Я знаю, что кто-то придет, — сказала Адель, глядя ей в глаза. — Я просто хочу знать, будет ли это сегодня.
Энни Паттерсон всегда любила Адель, с первого дня, когда Талботы въехали на верхний этаж. В тот день лил сильный дождь, Джим и Роуз надрывались, таща багаж наверх, а Памела, тогда только родившаяся, кричала во все горло. Энни вызвалась взять к себе детей, пока пара обустраивалась наверху. Она сама только обнаружила, что беременна Томми, поэтому интересовалась детьми.
Даже в четыре года Адель была забавной малышкой, подозрительно хорошо себя вела, и у нее были на редкость взрослые манеры.
— Мама сильно устает, — сказала она вскоре после того, как Энни взяла ребенка из коляски, чтобы успокоить. — Я много качаю коляску, но маленькая Пэмми не очень это любит, она хочет, чтобы мама ее обнимала.
Энни вспомнила, как она спрашивала Адель, что та думает о своей маленькой сестричке.
— Она милая, когда не плачет, — сказала Адель задумчиво. — Когда она научится ходить, я все время буду с ней гулять, а мама сможет немного отдохнуть.
Именно так все и было потом. К тому времени когда Адель исполнилось шесть лет, она катала свою маленькую сестру по дороге в летней коляске. Энни помнила, как наблюдала за ней из окна спальни и удивлялась, как мать может доверять такой маленькой еще девочке малышку, едва начавшую ходить. Хотя, по правде говоря, большинство семей на их улице использовали старших детей как нянь для младших, Роуз казалась слишком хорошо воспитанной, чтобы быть такой беспечной.
Но вскоре Энни обнаружила, что в Адель было нечто такое, что внушало доверие. Когда Энни была беременна Майклом, она позволяла Адель брать Томми вместе с Памелой в парк, чтобы иметь возможность полежать. Она всегда была рада, когда девочка заходила к нему, потому что она обычно читала ему, играла и вообще развлекала его. Она была настоящей маленькой мамой, очень способной при этом.
Много раз за эти годы Энни видела Адель с синяками, но ей никогда не приходило в голову, что девочка, которая была таким хорошим ребенком, получала их от матери. И только в последние два или три года Энни стала что-то подозревать. Она заметила, насколько одежда Памелы была лучше, чем у Адель, и выглядела Памела пухленькой и здоровой, а Адель была тощей, как грабли, с почти не проходящим насморком. Она часто видела, как Роуз держала Памелу за руку, когда они шли вниз по дороге, и ей пришло в голову, что Роуз вообще никогда не выходит из дому с Адель. Ни разу за восемь лет она не видела, как Роуз целует свою старшую дочь, ласкает ее либо просто нежно гладит по голове. При этом она видела, как Роуз делает все это с Памелой.
Теперь Энни было стыдно перед самой собой. Она посмотрела в странные глаза девочки и поняла, что не может солгать ей.
— Да, моя радость, — сказала она со вздохом. — Кто-то сегодня придет.
— Меня забирают в приют? — спросила Адель.
— Нет, если доктор Биггс поможет, — честно ответила Энни. — Он считает, что ты была бы более счастлива в частном доме. Может быть, с добрыми людьми, у которых есть свои дети, с которыми ты сможешь помочь. Это неплохое решение, правда?
Адель было достаточно ясно, что миссис Паттерсон не была уверена в том, что это хорошее решение, иначе она сказала бы о нем раньше. Но Адель кивнула и попыталась улыбнуться, будто она была довольна. Она знала, что в любом случае у нее не будет выбора, и не хотела огорчать добрую миссис Паттерсон.
* * *
Женщина в коричневой шляпке и твидовом костюме, похожая на учительницу, пришла чуть раньше двенадцати часов.
— Я мисс Сатч, — сказала она, пожав руку миссис Паттерсон и улыбнувшись Адель. — Мы поедем на поезде в деревню, Адель, Мы нашли для тебя одно чудесное место, в котором ты побудешь, пока твоя мама не поправится.
Она взяла на руки малышку Лили и сказала, какой это чудный ребенок, спросила Майкла, сколько ему лет и когда он начнет ходить в школу. Потом она села за стол, будто была старой подругой.
Пока все пили чай, Адель изучала женщину. Она догадалась, что той было около сорока лет, она не была еще старой, но возраст уже чувствовался. Она была высокой и тощей, все ее лицо было в веснушках, а когда она сняла шляпку, оказалось, что у нее довольно красивые волосы золотисто-медного цвета, короткие и вьющиеся. Миссис Паттерсон восхитилась ими, и мисс Сатч провела по ним пальцами.
— Вы бы не захотели такие волосы, — рассмеялась она. — Если я их отпущу, я ничего не смогу с ними сделать. Когда я была маленькой и моя няня пыталась расчесать мои спутанные кудри, я плакала и думала, что вьющиеся волосы — это проклятие.
Адель подумала, что мисс Сатч была приятной женщиной, потому что не была ни строгой, ни снисходительной. Адель нравился ее веселый смех и нравилось, что она не оглядывалась вокруг себя, как будто в комнате дурно пахнет. Она даже покачала Лили и вытерла малышке нос своим платком, будто бы была родственницей. Но прежде всего она казалась искренне озабоченной трудным положением Адель и хотела сделать так, как ей будет лучше.
— Мы нашли тебе место в «Пихтах», — сказала она, глядя Адель прямо в глаза. — Это дом одной семьи в Кенте. Мистер и миссис Мэйкпис берут детей уже несколько лет, в основном тех, кому ненадолго нужен временный дом, и ты будешь самой старшей. — Она приостановилась и ободряюще улыбнулась. — Тебе действительно повезло, что как раз сейчас у них освободилась комната. Там есть качели во дворе, масса книг и игр. Миссис Мэйкпис часто берет детей на пикники и даже к морю летом. Тебе там очень понравится.
— А куда я буду ходить в школу? — нервно спросила Адель.
— Мистер Мэйкпис — учитель, поэтому он будет давать тебе уроки, по крайней мере пока, — сказала мисс Сатч. — Ну, как тебе такое предложение?
— Хорошо, — правдиво ответила Адель.
— Ладно, тогда будем собираться, — сказала мисс Сатч. — Твои вещи готовы?
— У нее немного вещей, — сообщила миссис Паттерсон, вставая и вытаскивая чемоданчик Адель из-под кушетки. — Ей нужны будут новые туфли, в ее туфлях дырки.
— Миссис Мэйкпис позаботится об этом, — бодро сказала мисс Сатч. — Давай прощаться с миссис Паттерсон и пойдем.
Миссис Паттерсон тепло обняла Адель.
— Будь умницей, — сказала она, целуя ее в лоб. — И напиши мне, расскажешь, как ты устроилась. Все будет отлично, увидишь.
— А мама с папой будут знать, где я? — прошептала Адель, вдруг снова занервничав.
— Конечно, будут, — сказала миссис Паттерсон. — Это все организовал доктор Биггс, моя радость, поэтому он будет в курсе всех твоих дел, и их тоже.
Адель поцеловала малышку Лили и потрепала Майкла по голове, потому что он никогда не разрешал себя целовать.
— Спасибо, что вы позаботились обо мне, — поблагодарила она миссис Паттерсон. — И попрощайтесь за меня с Томми.
Она чувствовала себя немного странно, когда шла с мисс Сатч вниз по улице по направлению к станции метро. Адель жила здесь столько, сколько помнила себя, и, кроме однодневной поездки в Саусэнд с воскресной школой, она никогда не выезжала из Лондона. Оставшись дома, она бы страдала, но все хорошие воспоминания о Памеле были в этом доме, и она не была уверена, хочется ли ей оставить их позади.
— Знаешь, ты всегда сможешь вернуться, — сказала вдруг мисс Сатч, будто прочитала мысли Адель. — Я иногда возвращаюсь в деревню, в которой жила ребенком. Я хожу, на все смотрю, вспоминаю добрых людей и тех, кто дурно обходился со мной, и вдруг понимаю, что рада, что больше не живу там. Видишь ли, человек живет и меняется с жизнью. То, что удовлетворяло тебя раньше, не будет удовлетворять тебя всегда.
К удивлению Адель, поезд доставил их в Танбридж-Уэлс — в то самое место, откуда пришло старое письмо ее матери. Она рассказала бы мисс Сатч об этом, но женщина вдруг разволновалась по их прибытии, все время смотрела на часы и сказала, что им придется взять такси до «Пихт», потому что к половине седьмого ей нужно быть в Лондоне.
По тому, что Адель смогла увидеть из окна поезда, город выглядел интересным. Дома были старыми, но не такими захудалыми, как дома возле вокзалов в Лондоне. Когда они пошли искать такси, мисс Сатч сказала, что в девятнадцатом веке люди приезжали в Танбридж-Уэлс на воды. Адель предположила, что в городе есть колодец с лечебной водой. Ей хотелось бы узнать больше, но мисс Сатч договаривалась с водителем такси подождать ее, чтобы отвезти обратно на вокзал.
После того как они выехали из Лондона, поезд все время ехал по открытой сельской местности, и Адель была очарована видом молодых ягнят, резвившихся в траве, примул, растущих на железнодорожной насыпи, и симпатичных коттеджей, выглядевших как в книжке с картинками. Но как только такси выехало из Танбридж-Уэлса и повернуло в узкие, петляющие улочки с густой изгородью по обе стороны, где не было больше домов, она почувствовала легкое беспокойство.
В это время начался сильный дождь, небо так потемнело, что голые ветки деревьев вдруг приобрели угрожающий вид.
— Это довольно далеко от магазинов, — осмелилась заметить она.
— Ну зачем тебе магазины? — резко сказала мисс Сатч. — Мистер и миссис Мэйкпис позаботятся, чтобы у тебя было все необходимое.
Адель не смогла сказать, что ей страшно, потому что она не знает точно, где находится. Это показалось бы подозрительным и неблагодарным. Но она сидела прямо и пыталась замечать дорогу, чтобы меньше чувствовать, что заблудилась.
Такси свернуло с улочки на грязную ухабистую проселочную дорогу, и Адель с мисс Сатч бросало из стороны в сторону на скользком сиденье, в то время как шофер тихо ругался.
— Если этот дождь не прекратится, по дороге скоро нельзя будет проехать, — сказал он, повернув голову и бросив на мисс Сатч упреждающий взгляд. — Так что не заставляйте меня ждать долго!
— Я просто заведу ее внутрь и сразу же выйду, — уверила его мисс Сатч, потом потрепала Адель по колену. — Извини, дорогая.
Я хотела остаться на чашку чая и устроить тебя, но видишь, какая ситуация. Но с тобой все будет отлично. Миссис Мэйкпис очень радушная женщина.
И вдруг прямо перед собой Адель увидела место, куда они направлялись. Это был простой дом из красного кирпича с высокими трубами, частью покрытый плющом и окруженный высокими еловыми деревьями, давшими месту название. Отсюда было очень далеко даже до ближайших соседей.
— Такое чудесное место, — сказала мисс Сатч, удовлетворенно вздохнув. — Конечно, обидно, что ты первый раз увидела его не тогда, когда светит солнце, но для этого у тебя впереди все лето. А теперь, водитель, подождите меня, я быстро.
Мисс Сатч действительно быстро справилась, по сути, она лишь довела Адель до входной двери и позвонила в звонок. Дверь тут же открыла полная женщина с седыми волосами, в цветастом платье, и мисс Сатч сразу рассыпалась в извинениях.
— Это Адель Талбот, я полагаю, вы ее ждете. Я вынуждена сразу с вами попрощаться, меня ждет такси, а водитель все время ворчит, потому что боится застрять в грязи.
— Я миссис Мэйкпис, моя дорогая, — сказала женщина с улыбкой, взяв чемоданчик Адель из рук мисс Сатч. — Заходи и познакомься с остальными, сейчас будем пить чай.
Адель расстроило, что мисс Сатч торопится уходить, это навело ее на мысль, что интерес, который она проявила к ней, когда забирала с Чарлтон-стрит, в конце концов, мог быть притворным, Но миссис Мэйкпис выглядела довольно мило, и даже если это место находилось в таком отдалении, она будет находиться в обществе других детей.
— До свидания, — сказала она, повернувшись к мисс Сатч. — Спасибо, что привезли меня сюда.
— Какая воспитанная девочка! — глуповато прощебетала мисс Сатч, уже пятясь по направлению к такси. — Вы не будете имей с ней неприятностей, миссис Мэйкпис. Ну, я побежала.
— Ей самой неплохо было бы поучиться манерам, — сказала миссис Мэйкпис, отводя Адель в холл и закрывая входную дверь. — Она всегда такая, бегает как мартовский заяц. Я часто думаю, знает ли ее босс, какая она небрежная на самом деле. С другой стороны, она не имеет представления о том, что это такое — быть без дома или без семьи, — эта дамочка росла в роскоши! Ну, давай пойдем в кухню и со всеми познакомимся. Мы здесь одна большая семья, так что тебе здесь нечего бояться.
Большой холл был совсем пустым, только блестящий деревянный пол и старый шкаф, но на нем стояла большая ваза с нарциссами, и в холле пахло средством для полировки с лавандой.
Первым впечатлением Адель от кухни и ее «новой семьи» было удивление по поводу того, что и та и другая были такими большими. Когда миссис Мэйкпис открыла дверь, Адель увидела огромный стол, за которым сидело около дюжины детей, и все уставились на нее.
— Это ваш новый друг, Адель, — сказала миссис Мэйкпис, заводя ее внутрь и ставя чемоданчик у кухонного шкафа. — Я начну с младших. Мери, Сьюзен, Джон, Уилли, Фрэнк, — сказала она, указывая на каждого ребенка за столом. — Лиззи, Берти, Колин, Дженис, Фрида, Джек и Берил. Ну, что мы говорим новым друзьям, дети?
— Добро пожаловать, — ответили они дружным хором.
— Правильно, добро пожаловать. — Миссис Мэйкпис широко улыбнулась Адель. — Тебя ждет свободное место рядом с Берил. Я сейчас заварю чай, и будем начинать.
Адель была уверена, что никогда не сможет запомнить всех имен. У нее осталась в памяти только Мери, совсем еще малышка, которой не могло быть больше полутора лет, она сидела на высоком детском стульчике и жевала корку хлеба; и Берил, старше всех, лет одиннадцати. Остальным было от трех до десяти, и все они были ничем не примечательны, одеты так же простенько, как и она, и так же худы.
— А сейчас молитва, пожалуйста, — сказала миссис Мэйкпис, поставив на стол эмалированный чайник гигантских размеров.
Все, кроме малышки Мери, вскочили на ноги и встали за спинки своих стульев, склонив головы на сложенные руки.
— Спасибо Господу, который дал нам эту пищу, — сказала миссис Мэйкпис. — Пусть мы будем помнить, что, если бы не Его любящая доброта, мы могли бы быть голодными и забытыми. Аминь.
Все хором произнесли «аминь», одновременно скрипнув снова пододвигаемыми стульями.
— Передай хлеб, Берил, — распорядилась миссис Мэйкпис.
Гора хлеба, тонко намазанного маргарином, исчезла с быстротой молнии. Адель поняла, что первые два куска едят ни с чем, а с третьим куском подается варенье. На третьем куске все и кончилось. Чай был водянистый, без сахара, к нему подали по маленькому кусочку пирога, слегка похожего на хлебный пудинг, но без ярко выраженного вкуса и почти без изюминок.
Для Адель этого было достаточно, потому что в поезде мисс Сатч дала ей яблоко и шоколадное печенье. Но она подумала, что остальные дети наверняка еще голодны, поскольку они прикончили свой пирог прежде, чем она приступила к своему, и смотрели на ее кусок, будто надеялись, что она оставит его на тарелке.
Все они сидели очень тихо. То и дело миссис Мэйкпис задавала вопрос и получала на него ответ, но кроме этого не велось никаких разговоров.
Несмотря на размер кухни, которая топилась плитой, она была уютной. Одну стену занимал огромный буфет, набитый фарфоровой посудой, украшениями и жестяными банками. К потолку была подвешена деревянная полка с гирляндой одежды, которая сушилась или проветривалась. Светло-зеленые стены украшали вырезки из журналов с изображениями королевской семьи, животными и цветами, на подоконнике стояли домашние цветы, а на легком стуле у плиты спал полосатый кот огромных размеров.
После чая снова была произнесена молитва, потом Фриде, Джеку и Берил, старшим детям, велели остаться и убрать со стола, а Дженис велели отвести Адель и остальных в комнату для игр.
— Ты приступишь к своим обязанностям завтра, — сказала миссис Мэйкпис Адель. — Берил объяснит тебе все позже, когда покажет твою кровать. Так что беги сейчас и познакомься с малышами.
Дженис, позже сообщившая Адель, что ей восемь лет, вытерла лицо и руки Мери тряпкой для посуды, потом, взгромоздив ее на свое бедро, понесла в комнату для игр, и все остальные пошли за ней гуськом. Маленькая ручка потянулась к руке Адель, и когда она взглянула вниз, то увидела, что это была Сьюзен, самая маленькая после Мери, которой было около трех лет. У нее были неаккуратно подстриженные и растрепанные тонкие светлые волосы, а ее маленькая ручка была очень грубой на ощупь; когда Адель посмотрела на нее потом, то увидела, что кожа шелушилась и была воспаленной.
В комнате для игр тоже было тепло. За большой каминной решеткой находился камин, топящийся углем, и, как у кухни, у комнаты был сильно обветшалый вид. У огня стояла широкая облезлая кушетка, еще в комнате было несколько таких же потрепанных кресел, большой стол с наполовину сложенной на нем головоломкой и несколько коробок с комиксами, книжками и игрушками.
Это было лучше, чем Адель ожидала, и через большие балконные двери виднелся сад, в котором стояли качели. Из-за дождя у сада был мрачный вид, но для Адель, у которой никогда не было сада, в который можно было бы выйти, он выглядел очаровательно. Еще она была довольна, что большинство детей были маленькими. Сьюзен все еще цеплялась за ее руку, и от этого она по-настоящему почувствовала, что ей здесь рады.
— Откуда ты приехала? — спросила Дженис, садясь у огня с Мери на коленях.
— Из Лондона, — ответила Адель, садясь рядом с ней и придвигая ближе Сьюзен. — Здесь хорошо?
— Фрэнк! Не трогай эту головоломку, или Джек тебя убьет, — заорала Дженис одному из малышей. Она посмотрела на Адель и усмехнулась. — Джек обожает головоломки и терпеть не может, если кто-то ломает их, пока он не закончил. Да, здесь все хорошо. Но мне бы хотелось вернуться домой, к маме.
Дженис немного напомнила Адель Памелу. Она не была такой же красивой — ее волосы были мышино-коричневого цвета и зубы портились, но она была того же возраста, и у нее был тот же уверенный в себе вид.
— Так у тебя есть мама? — спросила Адель.
Дженис кивнула.
— У большинства из нас есть мамы. Моя больна, а тетя могла взять только грудного, так что Уилли и я попали сюда. Вот тот — мой брат Уилли, — указала она на маленького рыжеволосого мальчика. — Ему сейчас четыре года. Но если мама скоро не поправится, я так думаю, нас отправят куда-нибудь еще.
— Почему? — спросила Адель.
Дженис пожала плечами.
— Они берут к себе детей лишь на короткое время. Мистер Мэйкпис, по его словам, нас только оценивает.
— А где он? — Адель до этого момента не помнила, что существует еще и мистер Мэйкпис.
— Не знаю, его часто нет дома, — сказала Дженис. — Иногда мы не видим его целыми днями.
Это замечание вызвало у Адель вопрос об уроках, и Дженис сказала, что уроков немного. Она сказала, что таким, как она, которые уже читают и пишут, велят прочитать главу из книги, а потом написать собственными словами, о чем она.
— Раз в неделю мистер Мэйкпис пишет на доске в классной комнате много уравнений, — продолжала Дженис. — Мы должны сидеть, пока все правильно не решим. Но это легко, он никогда не задает нам по-настоящему сложных задач. Потом миссис Мэйкпис дает нам тест на правописание. Когда мы ошибаемся в каких-то словах, мы должны много раз переписывать их, пока не запомним.
Адель было интересно, задавал ли мистер Мэйкпис другие задания старшим детям. У нее были хорошие успехи в арифметике и правописании, но она хотела учиться дальше.
— А что вы делаете все остальное время? — спросила она.
— Нам дают работу, — ответила Дженис, странно взглянув на Адель, будто была удивлена, что та этого не знает. — Потом мы играем в саду, если погода хорошая. Здесь совсем несложно. Тебя не наказывают, если только не натворишь чего-то совсем плохого, Но я все равно хотела бы домой.
На улице уже стемнело к тому времени, когда Берил вернулась из кухни и повела Адель наверх показать ей спальню. Эта стройная темноволосая девочка, которая сильно беспокоилась по любому поводу, была всего на год младше Адель.
Адель предстояло делить комнату с ней и десятилетней Фридой. В комнате было прохладно, из мебели находились только железные кровати, шкафчик с замком у каждой и умывальник. Рядом была детская, где спали малышка Мери и двое трехлеток, Сьюзен и Джон. Похоже было, что старшие девочки должны были заботиться о малышах ночью.
— Миссис Мэйкпис сильно сердится, когда они ее будят, — сказала Берил, и ее темные глаза шарили по спальне, будто она была убеждена, что кто-то подслушивает ее. — Фрида никогда не просыпается, так что мне всегда приходится укладывать их по ночам. Ты мне будешь помогать, правда?
Адель уверила ее, что будет помогать, и потом Берил показала ей остальные комнаты. У Лиззи и Дженис была своя комната, и в ней пустовали еще две кровати. В другой комнате были остальные пятеро мальчиков, включая четырехлетнего брата Дженис, и отвечал за всех десятилетний Джек.
— Берти и Колин — это сплошной кошмар, — сказала Берил со вздохом. — Они всегда что-то замышляют, пробираются вниз, чтобы раздобыть еще еды, или дерутся подушками. Джек не в состоянии их удерживать, понимаешь, он слегка отсталый, так что если да услышим, что они шумят, нам нужно будет остановить их.
К тому времени как Адель наконец добралась до кровати, до нее дошло, почему Берил все время так беспокоится. Похоже, миссис Мэйкпис перепоручила все дела детям, и поскольку Берил была самой старшей до появления Адель, ее ругали, если что-то было не в порядке. Берил не развивалась, но ей это было не нужно. Адель видела уныние в ее глазах, слышала равнодушное смирение в ее голосе и поняла, что ситуация у нее дома была похожа на ее собственную.
— Здесь не так плохо, как там, где я была раньше, — ответила Берил на прямой вопрос Адель, обращаются ли с ней или с другими детьми плохо. — Нас там все время били и почти ничего не давали есть. Просто следи за миссис М. и делай то, что она тебе говорит, иначе она тебе всыплет.
Мистера Мэйкписа не было дома всю первую неделю пребывания Адель в «Пихтах», и в первые два дня она подумала, что, вероятно, неправильно поняла Берил, потому что миссис Мэйкпис казалась такой добросердечной, заботливой и веселой. Она рассмеялась, когда Адель спросила об уроках.
— Не суши свою маленькую головку этим, — сказала она, потом порылась в шкафу, где висела одежда, и нашла для Адель голубую юбку в клетку и светло-голубой джемпер. — У тебя был такой шок, я собираюсь тебя прихорошить, и ты почувствуешь себя лучше.
Она вымыла Адель голову, расчесала волосы, собрав их в два хвоста, и надела на каждый светло-голубую ленточку.
— Вот так лучше, — сказала она, нежно потрепав Адель по щеке. — Как только этот мерзкий шрам сойдет и твои щечки порозовеют, ты будешь выглядеть совсем другой девочкой.
Было приятно, что о ней заботились, что можно было довериться и рассказать этой женщине о тех ужасных вещах, которые говорила ей мать. Адель увидела, что миссис Мэйкпис действительно заставляла детей делать много работы по дому, но она не возражала, в конце концов, она привыкла к домашней работе, и миссис Мэйкпис, по крайней мере, ценила это.
Но на третье утро Адель обнаружила, что у миссис Мэйкпис в характере есть такие черты, как жестокость и мстительность.
Колина, светловолосого восьмилетнего мальчика, послали забрать яйца из-под кур. Еще лил сильный дождь, и он побежал обратно с яйцами, но поскользнулся на мокрой траве и разбил два из них.
Он плакал, когда вошел, потому что ударился коленом, но от слов миссис Мэйкпис расплакался еще сильнее.
— Ты ничтожество! — яростно кричала она на него. — Вас и так тяжело прокормить, а ты еще портишь еду. Берти и Лиззи придется остаться без яйца на завтрак, потому что ты такой дурак. Я надеюсь, они с тобой за это поквитаются.
Адель была сильно удивлена, когда миссис Мэйкпис заставила Колина съесть яйцо перед двумя детьми, которые остались без яиц. По его искаженному лицу она видела, что он предпочел бы два завтрака или даже больше обходиться без яиц, чем вызвать неприязнь своих друзей. А миссис Мэйкпис распаляла гнев Берти и Лиззи против Колина. Она все время спрашивала, вкусно ли им есть хлеб с маргарином без вареного яйца. Она велела им не обращать внимания на Колина целый день.
Это была такая же зловещая, расчетливая жестокость, какую проявляла ее мать. Она помнила, как Памеле давали добавочную порцию пудинга, тогда как ей не давали его вообще. Или когда Памелу заставляли щеголять в новой юбке или кофте, в то время как Адель ходила в рванье. Единственная причина, по которой она не злилась на Памелу, была в том, что она всегда понимала, зачем мать это делает.
К несчастью, Берти и Лиззи отреагировали именно так, как хотела миссис Мэйкпис. Они дурно обращались с Колином весь день. К вечеру он совсем ушел в себя, и Адель знала, что он чувствовал себя совсем ничтожным, потому что именно так она привыкла чувствовать себя сама.
С этого момента Адель невольно начала пристально наблюдать за миссис Мэйкпис: как она скупо одаривала детей цветистыми комплиментами, гладила по попкам, целовала в щечки и головы и называла их своими милыми малышами. Получатели ласк светились от восторга и, чтобы заслужить ее одобрение, наступали друг на друга как могли, в основном лишний раз делая домашнюю работу. Но скоро стало ясно, что их раболепие было не только от восхищения, но и от страха. При малейшем проступке миссис Мэйкпис поднимала на смех ребенка, так жаждущего любви. Она была мастером унижений и использовала их слабости и страхи.
Адель поняла, что все дети старше пяти лет были подобраны специально, потому что все они явно принадлежали к одному типу. Среди них не было ни одного независимого, бунтовского уличного сорванца — все они в чем-то нуждались. У всех были младшие братья и сестры, с которыми они были разлучены и по которым скучали, поэтому они становились идеальными няньками для младших. В каждом из них Адель могла узнать себя и свою историю.
Дни шли, и она слышала, как миссис Мэйкпис постоянно напоминает детям в сладких выражениях, что всю одежду, которую они носят, еду, которую едят, и игрушки, которыми играют, покупает она и ее муж. Это тоже было неправдой, потому что Адель обнаружила, что «Пихты» был благотворительным приютом и семья Мэйкпис просто управляла им.
Она обнаружила это, когда вытирала пыль в кабинете мистера Мэйкписа. На столе лежала брошюра с фотографией «Пихт», и она не могла удержаться, чтобы не заглянуть в нее. Она прочитала, что это благотворительный приют для «потерпевших детей» — безопасное место, где они могут оставаться, пока ситуация в их семьях не улучшится или пока для них не будет найдена долгосрочная опека. Требовались пожертвования, поскольку мистеру и миссис Мэйкпис, администраторам, нужно было платить жалованье и нужно было содержать дом. Кроме того, выражалась надежда, что при достаточном сборе денег можно будет обеспечить лучший быт и лучшие возможности для игры и учебы.
Но что бы ни думала Адель о миссис Мэйкпис, ей вполне нравилось в «Пихтах». Она три раза в день ела и находилась в обществе других детей и была очень рада просыпаться каждое утро, зная, что ее не ударят и не обругают просто за то, что она посмотрит на мать.
Потом домой вернулся мистер Мэйкпис и последние маленькие беспокойства Адель улетучились. Уже одно то, как все дети бросились к нему, ожидая, что он покружит их или подбросит на руках, говорило о том, что он действительно любил детей, находящихся под его опекой.
Он был высоким, около шести футов, с густыми черными волосами, усами и самыми прекрасными мягкими карими глазами, которые Адель когда-либо видела. Она подумала, что у него, вероятно, вставные зубы, потому что они были такие белые и ровные, но когда он смеялся или улыбался, — а он, похоже, делал это очень охотно, — ничто не выдавало, что у него вставная челюсть. Он был немного полноват, но это было почти незаметно, поскольку одевался он красиво и носил под пиджаком жилет.
— Адель — очень красивое имя, — сказал он, когда миссис Мэйкпис представила их друг другу. — Но ты и сама симпатичная девочка. Как ты устроилась?
— Прекрасно, спасибо, сэр, — ответила она, потупив глаза, потому что была смущена оттого, что кто-то назвал ее симпатичной, так как сама себя она такой не считала.
— Миссис Мэйкпис говорит мне, что ты умная девочка, не только симпатичная, — сказал он, взяв ее за подбородок и подняв ее лицо вверх. — Хорошо читаешь, мягко обращаешься с остальными, первоклассно чистишь картошку. Столько талантов! Ноше кажется, ты не веришь в то, что ты симпатичная.
— Нет, сэр, — прошептала она.
— Ну, ты не права, — сказал он, глядя ей прямо в глаза. — Красота идет изнутри, и я чувствую, что в тебе это есть. Еще пару лет, и ты немного приобретешь формы и будешь великолепной.
Его голос был таким ровным и густым, что она не могла не улыбнуться ему.
— Ну вот и хорошо, — фыркнул он. — Такая улыбка растопит сердце любого. Ну, зайди ко мне в кабинет на минуту, и мы поговорим о твоих уроках.
Он сел за письменный стол и усадил Адель рядом с собой. Затем взял книгу с полки и попросил ее прочитать отрывок. Это была «Мельница на ручье», которую Адель читала незадолго до смерти Памелы. Ей нравилась эта книга, и, вероятно, именно поэтому она перестала нервничать и читала хорошо.
— Отлично, — сказал он. — У нас здесь немного таких способных детей, как ты. А теперь расскажи мне, что ты учила в школе до того, как попала сюда.
С ним было так легко разговаривать, и она невольно начала рассказывать больше, чем он просил. О том, как она любит читать, что она лучше всех в классе справлялась с арифметикой, но история была для нее скучной, а география лично ей казалась бесполезным предметом.
— Но возможно, однажды ты будешь путешествовать, — сказал он с улыбкой. — Как же ты сможешь решить, в какую страну хочешь поехать, если не изучишь все страны?
— Это замечательно, — сказала она робко. — Но я боюсь, что отстану от школьной программы.
— Миссис Мэйкпис — не учительница, — сказал он с легким упреком. — И, к несчастью, многие дети здесь не способны учиться так быстро, как ты, Адель, и многие из них не остаются здесь надолго. Мы всегда придерживались основ знаний: чтение, письмо, арифметика и правописание, поскольку именно это — самое нужное для всех. И все же, когда к нам попадает ребенок, который может выучить больше, я с удовольствием помогаю.
В последующие дни после приезда мистера Мэйкписа Адель буквально летала. Она потеряла интерес к наблюдению за его женой и перестала слушать постоянное нытье Берил о том, как ее дурачат. Впервые в своей жизни она чувствовала себя особенной и была благодарна за это мистеру Мэйкпису.
На второй день его пребывания дома он позвал Адель из сада, где она помогала пропалывать сорняки, и дал ей тест по арифметике. Когда она закончила, он проверил и похвалил ее за то, что она правильно решила все задачи, потом дал ей «Историю о двух городах» Чарльза Диккенса, чтобы она прочитала за выходные, и сказал, что они обсудят книгу в следующий понедельник.
Когда Адель углубилась в книгу, она начала представлять, что Чарльз Дарни — это мистер Мэйкпис, и книга стала для нее еще более важной и значительной. К довершению ее счастья в выходные миссис Мэйкпис освободила ее почти от всех домашних да, и пока остальные дети работали, а малыши играли в саду, она свернулась на кушетке в комнате для игр, углубившись в драму о Французской революции.
Она закончила читать книгу в воскресенье поздно вечером, и когда пошла ложиться спать, то увидела, что Берил не спит, она была напряжена и демонстрировала свое неодобрение.
— Ты не первая девочка, с которой он возится, — сказала Берил язвительно. — Он это делает, а потом, когда ему надоедает, отсылает их.
Адель была не в настроении разговаривать с Берил. Та всегда на что-то жаловалась, и она подумала, что девочку мучает зависть.
— Он не отошлет меня, — возразила она уверенным тоном. — Я ему нравлюсь.
Глава пятая
Мистер Мэйкпис вынул изо рта трубку, которую зажигал.
— Сколько времени ты уже у нас, Адель? — спросил он.
Он давал ей урок географии в классной комнате. Комната мало походила на классы, к которым привыкла Адель, она была очень маленькой, там стоял только один старый длинный стол, несколько стульев и на подоконнике лежала стопка книг с растрепанными обложками. Единственным указанием на назначение комнаты была доска, к которой в настоящий момент была приколота карта мира. Мистер Мэйкпис показывал на ней разные страны, а Адель должна была писать их названия и столицы.
Любой, заглянув в комнату, подумал бы, что она наказана, потому что это было солнечное весеннее утро и все остальные дети играли в саду. Но хотя звуки их голосов долетали через открытое окно, у Адель не было желания быть с ними. Она была более чем рада получить еще один урок от своего учителя.
— Уже больше месяца, сэр, — ответила она.
— Ты счастлива здесь?
Ее слегка поразил этот вопрос. У взрослых не было привычки спрашивать ее о таких вещах.
— Да, сэр, — сказала она радостно.
Мистер Мэйкпис облокотился о подоконник, и аромат табака из его трубки заглушил запах свежескошенной травы, который только что доносился через окно. На нем сегодня была белая рубашка с открытым воротом и серые фланелевые брюки, и хотя он не выглядел таким внушительным, каким казался в темном костюме, зато казался более доступным.
— Только «да»! Ты не объяснишь, отчего ты здесь счастлива, или есть какие-то «но»? — спросил он с насмешкой.
Адель нахмурилась в недоумении, и от этого он рассмеялся.
— Ну, ты могла сказать: «Да, я здесь счастлива, но я все еще ненавижу географию», — сказал он, махнув на нее своей трубкой.
— Но я уже ее не ненавижу, — сказала она быстро. — С тех пор, как вы начали учить меня.
— Означает ли это, что ты счастлива здесь из-за меня?
Адель знала, что это так, она обожала его и жила ради этих уроков, которые он давал специально для нее. Но ей не хотелось признаваться в этом: с раннего детства она усвоила, что более безопасно не проявлять свои подлинные чувства.
— Из-за всего, — уклончиво сказала она. — Мне нравится дом, другие дети, сад.
— А я? — прервал он.
— Да, — сказала она робко. — И вы.
— Это хорошо, — произнес мистер Мэйкпис, вставая со стула и подходя к ней. — Потому что ты с каждым днем становишься для меня все более особенной, — сказал он и поцеловал ее в макушку.
Адель захлестнула волна чистой радости. Она обожала его почти с первого момента их встречи, ловила каждое его слово и была грустной в те дни, когда он уезжал из дому. Но она никогда не ожидала, что он будет чувствовать нечто подобное к ней. Она была некрасивой и скучной девочкой, обреченной на то, чтобы стоять в стороне.
— Тебе приятно, что ты для меня особенная? — спросил он, опускаясь на колени перед ее стулом и обнимая ее.
Его голос был низким и нежным. Запах его лавандового масла для волос, табака из его трубки и пальцы, нежно ласкавшие ее бок, чуть не свели ее с ума.
— Да, — прошептала она. — Потому что вы тоже для меня особенный.
Мистер Мэйкпис смотрел на нее так внимательно, что она не выдержала и опустила глаза.
— Поцелуй меня, Адель, — сказал он мягко.
Слегка смущенная, она быстро клюнула его в щеку. Но он коснулся рукой ее щек и притянул ее ближе к себе.
— В губы, — прошептал он. — Именно так делают люди, которые любят друг друга.
Адель была настолько взволнована его словами, что обвила руками его шею и охотно поцеловала, но его усы пощекотали ей губы, отчего она рассмеялась и вырвалась.
— Ты считаешь меня смешным? — спросил он.
Его темные глаза просверлили ее, и лицо стало строгим.
— Нет, просто ваши усы колючие, — сказала она поспешно.
Он встал с колен, и Адель испугалась, что обидела его, но, к ее удивлению, он поставил ее на ноги, затем снова сел и притянул ее к себе на колени.
— Значит, если я сбрею их, ты попробуешь снова? — спросил он.
Ее чуть укололо беспокойство. Она хотела, чтобы ее приласкали, но мистер Мэйкпис делал это неправильно. Он очень крепко прижимал ее к себе одной рукой, а другая его рука лежала на ее бедре.
— Сейчас я должна идти, пора помогать готовить чай, — сказала она, пытаясь вывернуться.
— Нет, еще не пора, — сказал он, снова притягивая ее к себе. — Миссис Мэйкпис поехала в город, как всегда в пятницу после обеда. Знаешь, мы не начнем пить чай, пока она не вернется. У нас еще есть масса времени. Разве ты не хочешь быть моей особенной девочкой и немного приласкаться?
Он выглядел обиженным, и его большие карие глаза стали такими печальными, что Адель была вынуждена обнять его руками за шею и крепко прижаться к нему.
— Вот так лучше, — пробормотал он ей в шею. — Я думаю о тебе как о моей маленькой особенной девочке. Мне нужно обнимать тебя.
Позже, в тот же день, Адель сидела на табурете в ванной и вытирала малышку Мери, пока Берил мыла Сьюзен и Джона в воде, оставшейся после купания Мери. Эту часть дня Адель любила больше всего. Мери была упитанным и спокойным ребенком и с радостью реагировала на щекотание и игры. Сьюзен и Джон тоже были веселыми детьми, они были счастливы, что просто сидят в ванне, смеются и брызгают друг на друга. Берил всегда была здесь менее колючей и менее напряженной, и Адель предположила, что это потому, что миссис Мэйкпис никогда не приходила посмотреть, что они делают с младшими детьми.
Адель хотела по-настоящему подружиться с Берил. Это было естественно, у них была разница в возрасте всего лишь в год, и они много времени проводили вместе. Но Берил никогда не начинала разговор, она вообще почти никогда не смеялась и, казалось, ушла в свой собственный мир.
Не помогало и то, что миссис Мэйкпис всегда находила, за что ее ругать. Адель часто видела Берил ошеломленной и потерянной, она оживлялась, только когда возилась с малышами.
— У тебя шея сзади немного обгорела, — сказала Адель, замета раздраженное красное пятно, когда девочка наклонилась над ванной. — Там болит?
— Да, очень, — сделала гримасу Берил, дотронувшись до обожженного места рукой. — Я сказала миссис Мэйкпис, но она велела мне перестать жаловаться.
— Она не проявит интереса, пока у тебя не начнут отпадать ноги, — сочувственно сказала Адель. — Но в буфете есть немного лосьона из каламина, я вчера видела. Он облегчит боль. Я вотру его тебе, когда мы уложим этих троих.
Худое лицо Берил расплылось в широкой улыбке благодарности.
— Спасибо. Вот чего здесь мне больше всего не хватает. Моя мама всегда замечала такие вещи, как солнечный ожог или счесанные колени. А твоя?
Адель покачала головой.
— Нет? — воскликнула Берил в шоке. — А папа?
— Он не заметил бы, даже если бы я загорелась, — сказала Адель. — Он даже не взглянул на меня с того момента, как маму отвезли в больницу.
Месяц назад эту информацию нельзя было бы вырвать у нее даже под пыткой, но Адель была больше заинтересована в том, чтобы поддержать разговор, чем сохранить свою преданность человеку, который не хотел ее видеть.
— А какой твой папа?
— Ничего, когда не пьет, — сказала с тоской Берил. — Поэтому нас забрали, когда мама заболела. Он ушел в запой.
— А что это? — спросила Адель.
Берил пожала плечами.
— Пил все время, не приходил домой и все такое.
Адель хотела задать конкретный вопрос об отце Берил, но не знала, как подойти.
— А твой отец… — она на мгновение заколебалась. — Ну, он ласковый с тобой?
Берил сморщила лоб.
— То есть? Значит, обнимает ли меня и все такое?
Адель кивнула.
— Да, все время. Даже еще больше, когда выпьет.
Разговор внезапно прервался, когда Сьюзен попало в глаза мыло и она расплакалась. К тому времени как старшие девочки вымыли мыло из глаз, вытерли девочку и надели на нее ночную рубашку, Адель не придумала, как снова возобновить разговор.
Она хотела узнать на самом деле, целовал ли папа Берил когда-нибудь ее в губы. Мистер Мэйкпис снова сделал это с ней, после того как долгое время ласкал ее. У нее по коже пробежали мурашки, и это смутило ее. Она почувствовала почти облегчение, когда время урока подошло к концу, но при этом она боялась, что он перестанет любить ее, если она не захочет снова поцеловать его.
Адель подумала, что если бы знала, как на самом деле настоящие отцы ведут себя по отношению к дочерям, у нее не было бы этого странного чувства по отношению к мистеру Мэйкпису. О Джиме Талботе думать было нечего, она не помнила, чтобы он целовал или обнимал ее, даже когда она была маленькой, хотя помнила, как он подбрасывал Памелу в воздух, чтобы она смеялась.
У кого она могла узнать, как ведут себя обычные отцы? В этом месте не было никого, кто жил бы в семье, которую можно было бы назвать нормальной, во всяком случае, в такой семье, о которых она читала в книгах. Даже в книгах было не совсем ясно. Дочери всегда подбегали к отцам, они обнимались и целовались, и она всегда предполагала, что это было так, как она видела, когда мистер Паттерсон здоровался с детьми. Но в любом случае было бессмысленно сравнивать мистера Паттерсона с мистером Мэйкписом. Мистер Паттерсон работал на железной дороге; он был грубым, жестким человеком, совсем не таким, какими бывают учителя.
Через две недели, во время чаепития, в «Пихты» поступила еще одна девочка, по имени Руби Джонстон. Ей было десять лет, столько же, сколько Фриде. Она выглядела больной, была очень худой и бледной, ее одежда была на несколько размеров больше, чем нужно, и кто-то отрезал ее каштановые волосы так, что осталось не больше дюйма длины. Она выглядела сильно испуганной, когда миссис Мэйкпис завела ее в кухню и она увидела всех детей, сидевших вокруг стола. Адель было очень жаль ее, потому что она вспомнила, как чувствовала себя в первый день.
— Адель, тебе придется переехать в комнату на чердаке, чтобы уступить место Руби, — сказала миссис Мэйкпис, после того как представила всех детей.
Адель взглянула на Берил и увидела, что той было неприятно слышать эти слова. Адель догадалась, что она думает, будто теперь вся ответственность за Мери ляжет на нее, когда малышка будет просыпаться по ночам. Адель тоже была не рада перемене. Она не хотела быть одна в комнате наверху.
Это была неопрятная крошечная комната, которая оставалась нежилой в течение многих лет. Сюда часто залетали птицы из-за щелей в карнизе дома. Стены были покрыты пятнами, на полу лежали сырые голые доски, и, кроме того, в этой верхней комнате не было электричества.
Адель, безусловно, не считала, что Берил и Фрида были хорошей компанией, они были скучными и глуповатыми и боялись даже собственной тени, но она уже привыкла к их обществу. Если она просыпалась ночью, их присутствие успокаивало ее. Но если не считать этого, Адель боялась, что пребывание в собственной комнате еще больше отличит ее от остальных детей.
Она и так отличалась, потому что была самой старшей и, кроме этого, были еще частные уроки. Никто никогда ничего о них не говорил, но, вероятно, лишь потому, что они рассматривали это как какое-то наказание, а не как привилегию. И все же время, проведенное отдельно от других детей, заставляло ее чувствовать свою изоляцию.
Мистер Мэйкпис сейчас на каждом уроке хотел целовать и ласкать ее, и иногда он вообще ничему ее не учил.
Раньше Адель думала о его объятиях как о райском счастье. Но теперь, когда ее мечта сбылась, она уже не хотела этого.
Жуткое чувство, которое возникло у нее в первый раз, теперь не покидало ее никогда. Когда он гладил ее по рукам и ногам, проводил пальцами по волосам и крепко сжимал в объятиях у себя на коленях, единственное, о чем она думала, — что все это неправильно. Но она не знала почему и не знала, как положить этому конец.
Он говорил, что ему нужно было ее трогать, потому что он любит ее и потому что она особенная девочка. Он говорил, что никогда не чувствовал ничего подобного к другим детям, которые поступали в «Пихты». Поэтому, если бы она сказала, что ей не нравится это, наверняка это было бы то же самое, как сказать, что она не любит его.
— Адель!
Адель вздрогнула от звука голоса миссис Мэйкпис. Она была так поглощена своими переживаниями, что не заметила, как остальные закончили пить чай и что к ней обращаются.
— Извините, вы что-то сказали? — спросила она виновато.
— Да, несколько раз, — отрезала женщина. — Ты можешь отвести Руби наверх, показать ей, где она будет спать, и налить ей ванну, — сказала она. — Найди ей чистую рубашку и какую-нибудь одежду, которая ей подойдет. А потом отправляйся стелить постель на чердаке. Сегодня Фрида может помочь Берил уложить малышей.
Адель ощущала, что Руби была еще более перепуганной, когда они вышли из кухни, и ей стало стыдно, что она не приняла ее теплее.
— Откуда ты приехала? — спросила она, пытаясь сгладить ситуацию. — Из Лондона, как и я?
— Из Дептфорда, — ответила Руби тихим голосом.
Адель кивнула. Она знала, что это место было в Южном Лондоне, но не знала, на что оно похоже.
— Твоя мама больна?
— Она умерла, — отрубила девочка.
Адель не нашлась что сказать, она знала, что взрослые всегда говорят, что сожалеют об этом, но что-то в тоне Руби подсказало ей, что это было бы неуместно.
— Ну, здесь тебе будет хорошо, — произнесла она, решив сказать что-то похожее на то, что говорила ей Берил в первый вечер. — Миссис Мэйкпис не бьет нас вообще, и другие дети хорошие.
Она наполнила ванну и, пока наливалась вода, попросила девочку снять одежду и положить в корзину для белья. Руби сделала, что ей велели, причем слишком быстро, будто боялась, что ее накажут. Когда Адель увидела на ее теле множество синяков и следов от ударов, и новых и старых, ее захлестнула огромная волна сочувствия.
— После ванны можешь помочь мне выбрать тебе новую одежду, если хочешь, — сказала она, боясь говорить что-либо про синяки. — Там в шкафу масса красивых вещей.
У Руби чуть шевельнулись губы, будто она хотела улыбнуться, но забыла, как это делается. Хотя она была очень худой и бледной, у нее были красивые серые глаза и очень длинные ресницы. Когда ее волосы отрастут, она, вероятно, будет очень красивой.
— Ты здесь самая старшая? — спросила она.
— Да, но я старше только на год, — ответила Адель, очень довольная, что Руби, кажется, уже не так боится. — Но ты увидишь, что Берил считает, что самая главная она, потому что она была старшей очень долго, пока я не приехала.
— Она на меня странно посмотрела, — сказала Руби и нахмурилась. — Она будет со мной плохо обращаться?
— Кто, Берил? — Адель хихикнула. — Она ни с кем не в состоянии плохо обращаться, она слишком похожа на пугливую кошку. Здесь никто не будет с тобой плохо обращаться, Руби. А если будут, скажешь мне.
Руби осторожно залезла в ванну, причем в ее глазах снова вспыхнул огонек страха, и Адель догадалась, что она не привыкла к настоящей ванне. Голая, она была такой худой, что Адель могла видеть все ее косточки, и ей было интересно, будет ли миссис Мэйкпис давать ей дополнительную еду, чтобы откормить ее.
Адель болтала о всякой чепухе, пока девочка купалась. Она рассказала ей понемногу о каждом из детей и кое-что об их домашних обязанностях. Потом, когда она почувствовала, что Руби стало более комфортно с ней, спросила, кто так коротко постриг ее волосы.
— Тетя Энн, — сказала Руби с глубоким вздохом. — Она на самом деле не тетя, просто женщина, с которой папа трахался. Она сказала, что это единственный способ избавиться от вшей, которые у меня были. Но это не настоящая причина, она просто ненавидела меня.
Адель резко села на стул, шокированная, что десятилетний ребенок так запросто произносит слово «трахался». Адель изредка слышала, как большие девочки иногда использовали это выражение, и примерно знала, что оно означает. Это было то, зачем мужчины ходили к проституткам. Но она не собиралась говорить об этом Руби, тем более после того, как эта женщина так плохо с ней обошлась.
— Они скоро отрастут, дорогая, — ласково сказала она. — И эти синяки тоже сойдут. Я почувствовала себя лучше, когда попала сюда, и ты тоже будешь так чувствовать через день-два.
— Ты думала, что до тебя никому на свете нет дела? — спросила Руби, и ее серые глаза были полны боли.
Адель кивнула. У нее сжалось горло, потому что ей было очень жаль девочку.
— Но здесь мы заботимся друг о друге, — сказала она. — Здесь безопасно, никто не причинит нам боли.
Позже, вечером, Адель лежала в кровати на чердаке и думала о Руби. В свете того, что новенькая девочка рассказала ей потом, она уже не думала, что у нее есть какие-то причины возражать против того, что она одна в комнате. Старая железная кровать немного скрипела, а матрац был комковатым, но она лежала в чистой постели, с лестничного пролета внизу шел свет, она не была голодной, и у нее ничего не болело.
Руби рассказала ей, что отец оставил ее с тетей Энн и ее четырьмя детьми в их комнате в подвальном помещении и ушел искать работу. Руби сказала ей, что не знает, почему тетя Энн вдруг стала так плохо обращаться с ней, но она думала, это потому, что папа не посылал ей денег. Какова бы ни была причина, она заперла Руби в подвале с углем, который находился снаружи за входной дверью и спускался под мостовую на улице. Она сказала, что там был адский холод и темнота, и по ночам она лежала на нескольких мешках, которые там были, и укрывалась старым пальто. Каждое утро тетя Энн вытаскивала ее оттуда, чтобы она ждала почтальона. Когда от отца ничего не было, она била Руби, потом снова закрывала ее в подвал, дав ей лишь несколько кусков хлеба и чашку воды.
Руби не знала точно, сколько времени она там провела, но сказала, что отец ушел в первых числах февраля и тетя Энн начала закрывать ее в подвале недели через три после этого. Похоже, школьная учительница и соседи думали, не видя ее, что отец вернулся и забрал ее. Девочку нашли и освободили только потому, что в подвал зашел газовщик, чтобы обнулить счетчик, и услышал, как она плачет. Он вызвал полицию.
Адель тошнило, когда Руби рассказывала ей об этом. Некоторые следы на ее теле были ожогами от сигарет. Она сказала, что тетя Энн силой усаживала ее на стул и, в уверенности, что Руби знает, где ее отец, жгла ее, пытаясь добиться от нее признания.
— Но я не знала и думала, что умру в этом подвале, — рассказывала Руби, и у нее по щекам текли слезы. — Я молилась, чтобы папа вернулся за мной, но тетя Энн однажды сказала, что мужчины и гроша не дают за своих детей, все, что они хотели, это вставить одно место в женщину, а как только женщина оказывалась в интересном положении, они смывались. Я предполагаю, что она была права.
Адель пыталась скрыть свой шок от грубых слов, которые употребляла Руби, и удивление, что десятилетняя девочка, похоже, знала намного больше о том, что происходило между мужчинами и женщинами, чем она. Адель знала, что грубое слово «трахать» было частью семейной жизни и делания детей, но выразительные слова Руби заставили звучать это так некрасиво.
И все-таки после ужасного рассказа Руби Адель почувствовала себя счастливой. С тех пор как мать увезли, она не провела ни одной ночи в холоде и голоде. Доктор достаточно позаботился о том, чтобы ее взяли в приличный дом, и у нее был мистер Мэйкпис, который любил ее. Она чувствовала, что должна быть по-настоящему счастлива: ведь она могла кончить где-то с кем-то таким, как тетя Энн.
Через несколько дней после приезда Руби мистер Мэйкпис снова уехал по делам. Поскольку он всегда ел в гостиной и часто уезжал на своей черной машине по утрам, Адель даже не вспомнила о нем до второй половины дня, когда пришло время урока.
— Сэр вернется вовремя на урок? — спросила она у миссис Мэйкпис.
— Нет, не вернется, — отрезала женщина. — Он уехал на некоторое время. Но ты можешь помочь младшим детям с чтением и письмом.
— Сегодня? — спросила Адель.
— Сегодня и каждый день, пока я не распоряжусь иначе, — последовал резкий ответ. — Поэтому не стой без дела и не глазей на меня. Если ты такая умная, как утверждает мой муж, ты должна будешь отлично справиться. Сначала возьми группу средних, а старшие дети будут делать для меня кое-какие дела.
Группой «средних» были шести-, восьмилетние Фрэнк, Лиззи, Берти, Колин и Дженис. Хотя все они любили, когда им читали истории, никто из них сам хорошо не читал. По сути, шестилетний Фрэнк даже плохо знал буквы алфавита, а когда Адель несколько раз пыталась учить его, когда была возможность, он отказывался даже попробовать.
Адель собиралась обратить внимание женщины на то, что ей будет трудно, если Фрэнк будет в классе с остальными, но она ощутила, что миссис Мэйкпис так и ждет какого-то протеста. У нее было слегка насмешливое выражение на лице, как всегда, когда она что-то замышляла. Когда она была в таком настроении, одно неверно сказанное слово означало скандал. Поэтому Адель ничего не сказала и вышла в сад, чтобы собрать пятерых детей.
Урок прошел намного лучше, чем она ожидала, но лишь потому, что она подкупила детей, сказав, что если каждый по очереди прочитает абзац из книги, а потом очень старательно перепишет из нее шесть строчек, пока она будет помогать Фрэнку, то она всем им почитает историю.
Миссис Мэйкпис зашла в класс, когда они как раз занимались письмом. Она несколько секунд стояла и наблюдала, а Адель помогала Фрэнку писать простые слова из трех букв. Вероятно, она впечатлилась тем, что все дети работают, потому что вскоре повернулась на каблуках и ушла, не сказав ни слова.
Со старшей группой вообще не было проблем: им надоедало долго оставаться в саду и они были рады чем-то заняться. Даже Джек, который был слегка отставшим и читал не лучше среднего семилетнего ребенка, хотел попытаться. Для урока письма Адель мелом написала на доске предложения, пропустив прилагательные, и велела им вставить собственные.
Ей пришлось подавить смешок, когда она прочитала одну из попыток Джека. Это был большой, неуклюжий мальчик с влажным ртом и торчащими ушами, такой бестолковый, что обычно не доставлял никаких хлопот. Но это ее по-настоящему рассмешило.
Она дала детям предложение: «Был… день, поэтому миссис Мэйкпис вывесила белье в саду».
Остальные вставили «чудесный», «хороший» или «ветреный», но Джек вставил «чертов».
— Почему чертов, Джек? — спросила Адель, изо всех сил стараясь сделать серьезное лицо.
— Мама всегда говорила: чертов день стирки — каждый понедельник, — ответил он.
Потом она прочитала им первую главу «Острова сокровищ», а когда прозвенел звонок к чаю, она была очень довольна собой, потому что оба урока прошли так хорошо.
Этот первый день был единственным, когда Адель удалось привлечь внимание класса. По мере того как дни шли, их поведение становилось все хуже. К концу недели все они шумно резвились во время урока, и Адель получила взбучку от миссис Мэйкпис за то, что они так шумят.
И вдруг Адель оказалась без друзей, потому что все дети посчитали ее шпионкой миссис Мэйкпис и исключили из своих игр и разговоров. Даже младшие дети держались на расстоянии. Ложась в постель на чердаке, она слышала, как девочки болтают и смеются вместе, и чувствовала, что они смеются над ней. В довершение ко всему миссис Мэйкпис относилась к ней сейчас с сарказмом и на любые вопросы отвечала: «Ты же у нас умная, сама разберись». Медленно прошло целых четыре недели, и Адель чувствовала себя все более несчастной и одинокой. Иногда она боялась, что мистер Мэйкпис уехал навсегда, потому что его жена оказалась такой злой, и Адель чувствовала, что она просто умрет, если он не возвратится.
Однажды утром, когда она чистила картошку на обед, во дворе раздался звук его подъезжающей машины. Конечно, она не осмелилась выбежать к нему, но ее сердце застучало, и она бросилась к окну посмотреть на него.
Адель подумала, что он выглядит красивым, как кинозвезда, в своем темно-сером костюме и фетровой шляпе; его лицо загорело от солнца. Он увидел ее в окне и улыбнулся, при этом его зубы сверкнули ослепительной белизной.
Миссис Мэйкпис подала детям обед, предупредив их, чтобы они хорошо вели себя в ее отсутствие, и забрала свою тарелку и тарелку мужа в гостиную. Она снова появилась через час, как раз когда Адель заканчивала мыть посуду. Остальные дети убежали играть во дворе, а Берил катала Мери в коляске, пытаясь укачать.
— После того как закончишь, иди в классную комнату, мой муж хочет поговорить с тобой, — сказала резко миссис Мэйкпис, с шумом ставя поднос, нагруженный грязной посудой и стаканами.
Адель лишь кивнула. Мрачного выражения на лице женщины было достаточно, чтобы понять, что что-то расстроило ее.
Когда Адель в конце концов пришла в классную комнату, мистер Мэйкпис сидел на подоконнике и курил трубку. Она кинулась к нему и обняла его.
— Вас не было так долго, и без вас так ужасно! — выпалила она.
Он мягко рассмеялся.
— Мне нужно уезжать почаще, если меня так встречают, когда я возвращаюсь, — сказал он.
— Я так скучала по вам, — сказала Адель, расплакавшись, и начала рассказывать, что она ничему не смогла научить малышей и что у нее во всем доме нет ни одного друга.
Он пересел на стул и притянул ее к себе на колено.
— Я уверен, что это не было так уж плохо, — сказал он, вытирая ей глаза платочком.
— Было, было, — настаивала она. — Это было невыносимо.
Он прижал ее к себе и раскачивал в своих объятиях.
— Я тоже скучал по тебе, — сказал он. — Но мне иногда нужно уезжать, этого требуют мои дела.
Когда он начал целовать и гладить ее, Адель была так счастлива, что он снова с ней, что уже не возражала, как раньше. Он сказал, что ему хотелось бы взять ее с собой, и, может быть, когда она будет немного старше, он сможет это сделать.
Берил поджидала в коридоре, когда Адель через час вышла из классной комнаты.
— Учительская собачка, — злобно прошипела на нее Берил.
— Тебе просто завидно, — возразила Адель. — Что я могу поделать, если он меня любит, потому что я единственная из всех, кто хочет чему-то научиться.
— Он тебя не за это любит, — отрезала в ответ Берил, и ее маленькое личико было полно злобы. — Он любит всех, кто позволяет ему засунуть руку себе в трусы.
Адель остановилась как вкопанная, в шоке от того, что сказала младшая девочка.
— Так гадко говорить, — охнула она.
— Он сам гадкий, — пожала плечами Берил. — Он подъезжает ко всем старшим девочкам, Джулия из-за этого сбежала.
Адель прошла мимо нее, задрав нос. Она не поверила Берил и не собиралась доставить ей удовольствие, показав, что расстроена.
Но пока она помогала миссис Мэйкпис готовить чай, намазывая маргарин на хлеб и расставляя на столе чашки и тарелки, она все еще размышляла над словами Берил.
Адель вспомнила, что вскоре после того, как она приехала в «Пихты», миссис Мэйкпис отчитывала нескольких детей, потому что они сказали, что девочка по имени Джулия убежала. Миссис Мэйкпис сказала, что они говорят чепуху и что Джулия вовсе не убежала, а уехала, потому что ей было четырнадцать лет и она была достаточно взрослой, чтобы получить работу.
Адель была совершенно уверена, что Берил состряпала свою версию о Джулии с помощью Руби. У новой девочки были грязные мысли, она всегда говорила мерзости, и Берил смотрела ей в рот.
— Что, Господи помилуй, с тобой происходит?
Адель подпрыгнула от сердитого голоса миссис Мэйкпис.
— Что вы имеете в виду? — спросила она.
— Ты только посмотри, какой слой маргарина ты намазала на этот кусок хлеба, — сказала она, угрожающе замахав на Адель столовой ложкой.
Адель взглянула и увидела, что намазала столько маргарина, что было бы достаточно на несколько кусков.
— Извините, — сказала она. — Я задумалась.
— Тогда перестань думать, — рявкнула женщина. — Для девочек в твоем положении думать вредно. Тебе нужно научиться работать и делать это быстро, вот и все.
В ту ночь Адель, вздрогнув, проснулась, услышав скрип на лестнице, ведущей на чердак. Она села на кровати и посмотрела на дверь, но ничего не увидела, потому что свет на лестничном пролете внизу был выключен.
Лестница снова скрипнула, и вдруг она увидела в дверном проеме большую темную фигуру. Она собиралась закричать, но вдруг почувствовала знакомый запах лавандового масла.
— Это вы, сэр? — прошептала она.
— Да, моя радость, — прошептал он в ответ. — Тише, пожалуйста, мы же не хотим всех разбудить.
— Что-то случилось? — спросила Адель, когда он вошел в комнату и закрыл за собой дверь.
— Нет, я просто хотел побыть с тобой, — ответил он.
Когда ее глаза привыкли к темноте, она разглядела, что он в пижаме; он сел на кровать рядом с ней, и кровать скрипнула.
— Ты украла мое сердце, Адель, — сказал он, взяв ее руку и потирая в своих. — Я могу думать только о тебе.
Адель не знала, что сказать. Он тоже украл ее сердце, но ей казалось неправильным, что он пробрался в темноте, чтобы говорить о таких вещах.
— Можно мне лечь рядом с тобой? — спросил он. — Я просто хочу обнять тебя.
Адель подвинулась, но кровать была очень узкой, и места для него было мало.
— Вы не должны быть здесь, — осмелилась сказать она, занервничав, потому что вдруг снова подумала о том, что сказала Берил.
— Почему, моя дорогая? — сказал он, обхватывая ее руками. — Разве ты никогда не забиралась к папе в постель, чтобы приласкаться?
— Нет, — сказала она. — Мне не разрешали.
— Но тебе ведь хотелось?
Адель вспомнила, что Памела часто забиралась в постель к родителям, особенно когда плохо себя чувствовала. Адель всегда завидовала ей. Она сама пыталась сделать это несколько раз, когда ей было пять или шесть лет, но мать всегда велела ей возвращаться к себе в постель.
— Да, мне хотелось, — призналась она. — Но с вами — это другое.
— Но почему? — сказал он, целуя ее в лоб. — Я люблю тебя, как любил бы свою родную дочь.
Все было правильно, и она расслабилась на его груди, а пока он держал ее близко, от тепла и спокойствия его рук у нее начали слипаться глаза.
Когда Адель проснулась, то обнаружила, что одна в постели и первые лучи солнца как раз пробиваются через окно. На мгновение она подумала, что он ей просто приснился, но, повернув лицо к подушке, она почувствовала запах лавандового масла и поняла, что это был не сон.
Позже в тот же день на уроке вместе с другими старшими детьми он улыбнулся ей какой-то заговорщической улыбкой, а когда урок был окончен, попросил ее остаться в классе на минутку.
Когда остальные ушли, он подошел к ней и нежно погладил по голове.
— Ты уснула, прежде чем я смог объяснить, зачем пришел, — сказал он. — Видишь ли, я не могу продолжать наши частные уроки.
— Почему? — спросила она.
Он пожал плечами.
— Мне нужно проводить больше времени с другими детьми.
По спине Адель пробежал холодок. Ей хотелось спросить, означает ли это, что она уже не особенная для него, но она не осмелилась.
— Не смотри так, — сказал он. — Что я могу сделать? Другим нужна моя помощь больше, чем тебе.
Ее глаза наполнились слезами, он протянул руку и вытер слезинку большим пальцем.
— Это не означает, что ты стала мне безразлична. Нам просто нужно найти другой способ, как иногда проводить время вместе.
У нее подпрыгнуло сердце, она провела рукавом по влажным глазам и улыбнулась.
— Вот так-то лучше, — он мягко рассмеялся. — Это будет нашим маленьким секретом. Но ты не должна никому рассказывать! Обещаешь мне?
Адель кивнула. Она снова была счастлива.
— Умница, — сказал он. — Теперь иди, мы увидимся позже.
В последующие дни у Адель стало еще больше поводов для беспокойства, потому что в «Пихтах» все перевернулось. До того как мистер Мэйкпис уезжал, в доме не было принято расписание или строгий порядок, миссис Мэйкпис всегда говорила детям за завтраком, какие дела она поручает им на день. Это был гибкий порядок, менявшийся в зависимости от погоды, ее настроения и от того, был ли кто-то в этот день наказан. Она обычно оставалась за столом после завтрака и читала газету, Мери сидела рядом с ней на своем высоком стульчике, а старшие дети уходили выполнять назначенную работу — стирку, мытье ванны или подметание и натирание полов в спальнях.
Теперь в кухне появилось расписание, приколотое к стене, и каждый ребенок старше пяти лет должен был каждый день ходить на уроки. Миссис Мэйкпис злобно сказала, что все они лентяи, никуда не годные, и что давно пора им понять, что они здесь не на каникулах. Она сказала, что любое плохое поведение во время уроков или невыполнение своей работы надлежащим образом будет означать, что детей не будут выпускать в сад поиграть в течение дня.
Средняя группа должна была отправляться на уроки немедленно после завтрака, а в это время старшим, среди которых была и Адель, следовало заниматься уборкой и стиркой. Миссис Мэйкпис уже не сидела у стола со своей газетой, а металась вокруг, как сердитый шмель, кидаясь на каждого, кто, по ее мнению, не старался изо всех сил.
Если малышка Мери или трехлетки Сьюзен или Джон попадались ей под ноги, что-то разбрасывали или шумели, она вспыхивала в гневе, часто орала на них и приводила их этим в ужас.
Обед подавался в двенадцать часов, секунда в секунду, и разговаривать во время еды категорически запрещалось. Во второй половине дня проходили уроки у старшей группы, и мистер Мэйкпис был таким же раздражительным, как и его жена. Адель с трудом верила своим глазам, видя, как жестоко он обращался с Джеком и Фридой, называя их дураками и часто награждая затрещинами просто за то, что они неправильно решали задачи. Он унижал Берил и Руби, когда они читали вслух и спотыкались о трудные слова.
Вторая половина дня казалась Адель бесконечной, потому что уроки планировались в расчете на самых отстающих в группе, все эти вещи она делала несколько лет назад. Иногда мистер Мэйкпис давал ей почитать книгу или предлагал какие-нибудь задачи по математике, но в основном он даже не обращал внимания на ее присутствие в классе.
А она все смотрела в окно, наблюдая, как ветерок шевелит листья на деревьях, и думала, что она сделала не так. Ей казалось, что она сама была в чем-то виновата, хотя и не понимала в чем.
После чая остальным позволяли выйти в сад до самого сна, но миссис Мэйкпис заставляла Адель штопать одежду. Куча носков, нуждавшихся в штопке, и масса рубашек и блуз с оторванными пуговицами, похоже, не кончалась никогда. Адель пришло в голову, что миссис Мэйкпис выкапывает из шкафа старую одежду — просто для того, чтобы заставить ее работать.
Все это очень напоминало ситуацию в ее семье. Миссис Мэйкпис никогда не говорила с ней прямо, просто вываливала перед ней вещи или рявкала, отдавая приказ. Поэтому Адель делала точно то же, что делала дома, никогда не возражая, и сдерживала слезы, пока не оставалась одна в комнате.
Однажды поздно вечером, когда она все еще плакала, мистер Мэйкпис снова пробрался к ней в комнату. Она не увидела, что он зашел, и вздрогнула, когда он очутился рядом с ней.
— В чем дело, моя дорогая? — спросил он.
— Все это так ужасно, — плакала она. — Я больше не могу это выносить.
Он снова забрался к ней в кровать и раскачивал ее в своих объятиях.
— Это все я виноват, — сказал он. — Моя жена ревнует, потому что она догадалась, как сильно я тебя люблю. Мне нужно притворяться, что я отношусь к тебе так же, как и к другим. Прости меня.
Убаюканная его объятиями, она уснула, а когда проснулась утром, его не было. Но в тот день она чувствовала себя лучше, потому что он сказал, что однажды заберет ее из «Пихт» и будет воспитывать как собственную дочь.
На той же неделе, утром в субботу, приехала большая черная машина, чтобы отвезти среднюю группу детей на день к морю. Было прекрасное утро, еще стояла легкая дымка, день обещал быть очень жарким, и Адель, наблюдая, как дети возбужденно залезали на заднее сиденье машины, готова была отдать все за то, чтобы быть вместе с ними.
— Везучие маленькие твари, — злобно процедила Руби, стоя рядом с ней. — А кто эта женщина, которая их увозит?
— Кто-то из церкви, — сказала Адель, глядя на полную женщину в розовом платье, которая наклонялась к заднему сиденью и организовывала детей. — Я надеюсь, что никого не укачает, иначе она больше никого не будет брать.
— В любом случае никому не нужны такие большие девочки, как мы, — мрачно сказала Руби. — Мы застрянем здесь, пока нам не исполнится четырнадцать, а потом они прогонят нас и заставят работать на заводе.
Адель почти весь день думала про мистера Мэйкписа, к тому же было слишком жарко, чтобы спать, поэтому она была в восторге, услышав, как он поднимается к ней по лестнице. Но почти тотчас же, как он лег рядом с ней, она почувствовала что-то неладное в его поведении. От него больше пахло выпивкой, чем привычным маслом для волос, а когда она сказала что-то о вылазке младших детей к морю, он закрыл ей рот рукой, чтобы она замолчала.
И похоже, он вообще не хотел говорить с ней и продолжал целовать ее в губы своими влажными губами. Потом он вдруг задрал ее ночную рубашку и попытался потрогать ее интимные места.
— Не нужно, — попросила она, отталкивая его руки. — Это не хорошо.
— Это хорошо, моя дорогая, — сказал он и снова потянулся туда руками. — Так делают люди, которые любят друг друга.
Адель продолжала отталкивать его, но он настаивал, и она по-настоящему испугалась. Слова Берил и рассказы Руби вдруг приобрели новое значение, и она начала плакать.
— Не будь глупышкой, — сказал он и схватил ее за руку, притягивая ее вниз.
Она напряглась, когда он положил ее руку на что-то теплое и твердое, толстое, как ее запястье, и лишь через несколько секунд она поняла, что это. Она видела это только у маленьких мальчиков — мягкие, болтающиеся штуки размером не больше, чем ее большой палец.
— Нет! — крикнула она в отвращении и попыталась вырваться от него.
Но вырваться она не могла, так как была зажата между ним и стеной, и он пытался обхватить ее пальцами эту большую, ужасную вещь.
— Держи его как следует, — сказал он, и его голос был грубым и настойчивым. — Посмотри, какой он твердый и большой. Ему нравится, когда его держат.
Он сжал ее руку в своей и заставил держать его и тереть вверх-вниз.
— Ш-ш-ш, — сказал он, прикрыв свободной рукой ей рот, когда она попыталась закричать. — Миссис Мэйкпис очень рассердится, если ты разбудишь ее, и это наш особенный секрет.
Адель попыталась бороться и оттолкнуть его, но он прижал ее всем телом. Его дыхание становилось все более учащенным и шумным по мере того, как он заставлял ее тереть быстрее, и, что еще хуже, он пытался лечь на нее сверху и раздвинуть ей ноги. Инстинкт подсказал ей, что он собирается сделать, и она начала вырываться еще сильнее.
— Я не сделаю тебе больно, дорогая, — сказал он хрипло. — Я только хочу заняться с тобой любовью. Пожалуйста, разреши мне это сделать.
Адель не помнила себя от ужаса. Ее тошнило от запаха спиртного в его дыхании, он был мокрым от пота, и каждый раз, набрасываясь на нее, он прижимал ее позвоночник к жесткому матрацу. Она хотела закричать, но поняла, что, если миссис Мэйкпис придет, вся вина будет взвалена на нее, поэтому все, что она могла делать, — это извиваться и извиваться, чтобы он не попал своей большой штукой туда, куда хотел.
И как раз тогда, когда ее силы были уже на исходе и она не могла больше сопротивляться, он произнес горлом какой-то звук вроде глубокого стона, и тут же она почувствовала что-то ужасно теплое и липкое на своей руке и животе.
— Слезьте с меня, — удалось ей вымолвить, когда он убрал свою руку с ее рта. — Меня сейчас стошнит.
Он быстро отодвинулся, когда у нее начался приступ тошноты, и выпрыгнул из кровати в одну секунду.
— Быстро в ванную, — сказал он. — Если кто-то придет, я скажу, что услышал, как ты звала.
Адель помчалась вниз по лестнице в ванную, добежав до унитаза как раз вовремя, потому что ее снова затошнило, и на этот раз она выдала все, что съела за день.
Она не знала, сколько времени простояла на коленях перед унитазом, цепляясь за его края, но ей казалось, что прошли часы. Она слышала, как он шептал что-то за дверью, но она сказала, чтобы он уходил. Она все еще ощущала на себе его запах и липкое, как клей, вещество, высыхавшее на ее руках и животе, и от этого ее тошнило снова и снова.
Потом Адель села на пол и прислонилась к холодному кафелю, чувствуя себя слишком опустошенной, чтобы плакать. Ее глаза уже привыкли к темноте, и внутри нее была такая же темнота.
С лестничного пролета не доносилось никаких звуков, и она догадалась, что он вернулся в свою спальню. Она представила, как он ложится рядом с женой, и так сильно его возненавидела, что чувствовала, что могла бы убить его голыми руками.
Потом она полностью вымылась и вернулась к себе в комнату. Но в ту минуту, как она вошла туда, поняла, что не сможет лечь в свою постель. В комнате стоял его запах, и она сомневалась, выветрится ли он когда-нибудь. Он был внизу, и Адель знала, что он снова сделает это, когда подвернется удобный момент. Ей нужно было бежать из этого дома, пока у нее еще была такая возможность.
Она оделась и какое-то время стояла, глядя в окно, боясь выходить в темноту, но еще больше она боялась остаться. У нее не было денег, ей некуда было идти, и она даже не была уверена, что найдет дорогу до Танбридж-Уэлса. Но одной в поле было безопаснее, чем здесь.
Глава шестая
Адель задрожала и доверху застегнула кофту, выбегая по дороге к воротам. На кухонных часах было двадцать минут третьего, когда она складывала в бумажный пакет остатки батона, кусок сыра и два яблока. Задняя дверь скрипнула, когда она открыла ее, выходя, и она испугалась, что могла кого-то разбудить, но, оглянувшись на «Пихты», успокоилась: окна были все еще темными, кроме неясного мерцания ночника на лестничном пролете.
Холодно не было, по сути, ночной воздух был мягким, как в любой летний день, но она догадалась, что дрожит от шока и страха, и, быстро шагая вниз по темной дороге, снова начала плакать.
Как мог сделать с ней такое человек, который говорил, что любит ее? Она не знала, сможет ли когда-нибудь почувствовать себя чистой и вообще кому-нибудь доверять. Но еще хуже было то, что она чувствовала себя виноватой. Ведь она явно должна была насторожиться в тот первый раз, когда он попытался поцеловать ее.
У Адель начался очередной приступ тошноты, и ей пришлось на минуту остановиться и глубоко подышать. В свете того, что только что случилось, она увидела, к чему вела вся эта лесть, все нежности и поцелуи. Если бы ей так отчаянно не хотелось быть для кого-то не безразличной, она, возможно, задалась бы вопросом, почему такой мужчина, как он, выделил такую некрасивую девочку, как она, сделав ее объектом своего внимания и давая ей частные уроки.
Как бы ей ни было жутко идти по узким дорогам, над которыми нависали деревья, она достаточно хорошо видела перед собой, как только ее глаза привыкли к темноте. Большие стволы деревьев казались отвратительными рожами, и она постоянно слышала странные шуршащие звуки в изгороди кустарников. Услышав долгий воющий звук, Адель припустила как ветер, и только потом поняла, что это была корова. И все же ее отвращение, гнев на мистера Мэйкписа и страх находиться одной на темных проселочных дорогах помогли ей сконцентрировать свои мысли. Возвращение в Лондон она не рассматривала как вариант: если она побежит к миссис Паттерсон, то снова окажется в каком-нибудь приюте, и возможно, еще худшем, чем «Пихты». Единственным местом, куда она могла пойти, был Рай, где можно было найти бабушку с дедушкой.
Их адрес, Керлью-коттедж, Винчелси-Бич, рядом с Раем, запечатлелся в ее памяти с тех пор, как она прочла то старое письмо, адресованное матери. Вскоре после того как Адель приехала в «Пихты», она посмотрела на карту в классе, чтобы определить, где находится это место, и увидела, что, если провести черту между Лондоном и Раем, Танбридж-Уэлс как раз посередине. Она даже помнила названия двух городов, находившихся по дороге туда: Ламберхерст и Хоукхерст. Если бы она могла найти дорогу до первого города, то была бы на правильном пути.
Адель, разумеется, знала: нельзя быть уверенной, что они еще живут там и вообще что они еще живы. И если бы они были там, они не обязательно захотели бы ей помочь. Но попытаться стоило. Если же и здесь не повезет, ей придется обратиться в полицию.
Вскоре после восхода солнца Адель дошла до дорожного столба с указателем и когда прочла, что до Ламберхерста осталось только шесть миль, она снова чуть не расплакалась от облегчения.
Незадолго до этого она дошла до перекрестка, и указатель совершенно ее смутил, потому что на нем было написано, что Ламберхерст находится справа, а Танбридж-Уэлс — слева. Она посчитала, что сначала ей придется пройти через Танбридж-Уэлс, и какое-то время стояла у этого столба и думала, куда будет правильнее пойти. В конце концов она рискнула свернуть направо, надеясь на лучшее. Это была одинокая петляющая дорога, вдоль которой почти не было домов, и Адель была убеждена, что до этого ходила кругами.
Пока что ее не обогнала ни одна машина, но она предположила: это потому, что было воскресенье. Она намеревалась спрятаться, если услышит шум приближающейся машины, потому что боялась, что любой взрослый, который увидит ее в темноте, остановит ее и спросит, куда она идет. Она уже не могла доверять взрослым. Любой может оказаться таким же плохим, как мистер Мэйкпис, а если даже нет, то каждый может вернуть ее обратно в «Пихты».
Наступление дня и уверенность, что она идет по правильной дороге, значительно взбодрили Адель, хотя она и начала уставать. Продолжая идти, она решила, что не остановится до полудня, а потом найдет какое-нибудь подходящее место в поле и отдохнет. Она была уверена, что сможет дойти до Рая к вечеру.
Зазвонившие церковные колокола возвестили, что сейчас одиннадцать часов, но Адель уже так устала и у нее так болели ноги, что она едва волочила их. При этом было очень жарко, в небе не виднелось ни облачка, и загородная местность казалась ей слишком большой, дикой и безлюдной.
Она ожидала, что местность будет выглядеть как Хэмпстед-Хис, где она дважды была на пикнике с воскресной школой, — спокойная атмосфера, запах цветов, но достаточное количество людей вокруг, дающее чувство безопасности. А здесь каждое дерево было как лес, внизу все так густо заросло кустарником, что у нее возникло ощущение, что там в засаде лежат злые люди, которые ждут, когда смогут выпрыгнуть и накинуться на нее. Поля выглядели прелестно с большого расстояния, но на самом деле они были полны коровьих лепешек, грязи, мух и жалящих оводов.
Раньше Адель видела дорожку через поля к Ламберхерсту и по утоптанной земле поняла, что это кратчайший путь. Но она порезала ногу о колючую проволоку у изгороди, а на следующем поле, которое она должна была перейти, было полно коров. Увидев ее, они тут же угрожающе двинулись к ней; она побежала что есть духу и нечаянно угодила в скользкую коровью лепешку, и теперь от нее воняло навозом.
С рассвета Адель видела не больше шести человек, и всех на большом расстоянии. Домов тоже почти не было, и хотя идея отдохнуть в пышно-зеленом поле раньше казалась ей привлекательной, она уже не верила, что найдет поле, где было бы безопасно и чисто.
Пару часов назад бумажный пакет разорвался в ее потных руках, поэтому пришлось съесть хлеб, сыр и одно яблоко, хотя она еще не чувствовала голода. Но не успела она поесть, как ее снова стошнило, у нее крутило в животе и болела голова.
Ей хотелось сесть у дороги и выплакать все свое горе, и только отчаянная решимость удержала ее от этого. Адель знала, что впереди еще долгий путь, и начала считать шаги, сказав себе, что когда досчитает до пяти тысяч, то остановится.
Досчитав до трех тысяч, она поняла, что не в состоянии идти дальше, поэтому, увидев проход в поле, где трава выглядела мягкой и не было коровьих лепешек, она зашла в него. Она села и сняла туфли, увидела штопку в пятке носка, от которой вскочил волдырь, и этого было достаточно, чтобы она снова расплакалась. Она свернула кофту, сделав из нее подушку, и легла.
Проснувшись от холода, Адель, к своему ужасу, увидела, что солнце уже начало садиться, и поняла, что, должно быть, проспала много часов. Она попыталась встать, но ее ноги и ступни были обожжены солнцем, руки и лицо тоже, и она так закоченела, что почти не могла двигаться. Она не могла оставаться в поле, потому что было слишком холодно, к тому же хотелось пить, поэтому она снова надела носки и туфли и, преодолевая боль, заковыляла к выходу с поля на дорогу.
Адель попыталась собраться с духом, постучать в дверь любого коттеджа, мимо которого проходила, и попросить стакан воды, но побоялась вопросов, которые ей могли задать. Наконец она увидела поильник для лошадей с краном на одном конце и попила воды. Как раз перед тем, как солнце закатилось за холм, она увидела коровник с широко открытой дверью и проскользнула туда, зная, что не может дальше идти в темноте.
Ночь казалась бесконечной. Внутри коровника была солома, на которой можно было лежать, но она колола ее обожженную кожу, а шуршание мышей и, может быть, крыс пугало ее. Она могла укрыться только своей кофтой и дрожала, при этом обожженное лицо, руки и ноги пылали. Для нее было облегчением увидеть наконец первые лучи рассвета, поэтому она снова надела туфли и заковыляла к дороге.
Уже был понедельник, и на дороге стало больше машин и грузовиков, но хотя она с надеждой смотрела на каждую проезжающую машину, никто не остановился и не предложил подвезти ее. Временами Адель сомневалась, что идет в нужном направлении, но в конце концов она увидела дорожный указатель, на котором было написано: «Хоукхерст 4 мили». Вскоре она была уже не одна на дороге. Она увидела мужчин в рабочей одежде на велосипедах и несколько женщин с корзинами, спешивших по своим делам. Потом увидела детей, которые перекрикивались и смеялись по дороге в школу, и, когда она начала приближаться к Хоукхерсту, мимо нее проехал автобус, в котором не было свободных мест.
Магазины в маленьком городке только начали открываться, и вид и запах свежевыпеченного хлеба в булочной вызвали у нее голодные боли. Она стояла несколько минут у открытой двери, борясь с соблазном кинуться внутрь, схватить что-нибудь съестное и убежать. Но Адель знала, что ей некуда бежать, у нее болели ноги, и мужчина в магазине наблюдал за ней, будто знал, что у нее на уме. Поэтому она захромала дальше, мимо пары бродяг, сидевших на невысокой стене, и подумала, что они выглядят такими же голодными и подавленными, как она.
Ей пришло в голову, что, если бы она не была уставшей, голодной и бездомной, вероятно, ей было бы интересно исследовать Хоукхерст. Это был очень старый и красивый городок, в садах коттеджей пестрели цветы, а во многих магазинах были такие же эркеры, какие она видела на календарях и коробках шоколадных конфет.
С тех пор как Адель приехала в «Пихты», она ни разу не была за их пределами и скучала по суете и толкотне Юстона и Кингз-кросса, по магазинам, кинотеатрам и сотням людей. В Хоукхерсте не было сутолоки, но вокруг было достаточно людей, чтобы она почувствовала себя менее напуганной и одинокой. Адель на минутку остановилась посмотреть на витрину магазина игрушек, восхищаясь фарфоровыми куклами, миниатюрными чайными сервизами, игрушечными поездами и оловянными солдатиками. Она с грустью вспомнила, как Памела никогда не уставала разглядывать такие вещи и как ей нравилось притворяться, что у них есть большой мешок с деньгами и они могут купить все, что захотят. Если бы у Адель сейчас был мешок с деньгами, она бы пошла в кафе на той стороне улицы и заказала бы яичницу с беконом, горячие тосты с маслом и чашку чая. Потом она спросила бы кого-нибудь, ходит ли автобус до Рая. Подумав об этом, она больше не могла сдержать слез, думая, что уже почти пришла.
У обочины дороги бежал ручеек. Адель села на берег, сняла туфли и носки и погрузила ноги в прохладную воду, размышляя над тем, что ей делать. Ее ноги выглядели так же ужасно, как и ужасно болели, они были такими распухшими, что она не была уверена, сможет ли снова надеть туфли, на каждом пальце, на пятках и на косточках обеих лодыжек были волдыри. Ее лицо тоже очень болело от солнечных ожогов, и сейчас, когда солнце снова начало палить, она поняла, что скоро боль станет невыносимой.
— Ты зашла слишком далеко, нужно продолжать идти, — сказала себе Адель. — Если ты сейчас пойдешь в полицию, они просто вернут тебя обратно.
Одной мысли о мистере Мэйкписе было достаточно, чтобы отбросить сомнения. Ее ноги уже окоченели от холодной воды, поэтому она намочила носки и натянула их на ноги, потом надела туфли. Когда она встала, боль была уже не такой сильной.
Адель удалось пройти еще три мили, когда ей стало по-настоящему плохо. У нее стучало в голове, зрение затуманилось, и все тело болело. Дорожный знак указывал, что оставалось еще пятнадцать миль, и она облокотилась об него, потому что была уверена, что если не обопрется обо что-нибудь, то просто упадет.
Впереди был крутой холм, дорога мерцала в дымке от жары, и Адель поняла, что у нее нет сил идти вверх под палящим солнцем. Ей так и хотелось упасть под ближайшим деревом, но у нее было такое чувство, что если она это сделает, то никогда не сможет снова подняться на ноги.
Услышав звук мотора, она оглянулась. К ней приближался старый грузовик, и, поняв, что у нее больше просто нет выбора, она слабо помахала рукой.
Грузовик с грохотом остановился рядом с ней, и она увидела за рулем старика в засаленной кепке.
— Подвезти? — крикнул он.
— Да, пожалуйста, — сказала она, заставила себя оторваться от указателя и, шатаясь, пошла к грузовику. — Вы едете в Рай?
— Туда, — сказал он. — Залезай.
Адель было слишком плохо, чтобы размышлять, был ли это наконец подарок судьбы. Она подготовилась к вопросам старика, но он ничего не спрашивал, хотя, скорее, просто потому, что за шумом грузовика ничего не было слышно.
Она предположила, что, вероятно, задремала, потому что только что вокруг них на многие мили ничего не было видно, и вот они уже въезжали в маленький городок, который выглядел древнее, чем все места, в которых она когда-нибудь была. По солнцу она догадалась, что сейчас около пяти или шести часов.
— Куда тебе нужно? — крикнул ей старик.
— Винчелси-Бич, — удалось ей вымолвить, причем она сама себе удивилась, что еще помнит адрес.
— Ну, тогда тебе лучше сойти здесь, — сказал он и остановил грузовик на стыке двух дорог. Он указал грязным пальцем прямо вперед. — Это несколько миль в ту сторону.
Адель поблагодарила его и вышла, подождав, пока он скрылся за углом, прежде чем устало перейти дорогу.
Все выглядело таким маленьким — крошечные домики с террасами, ютящиеся рядом друг с другом, входные двери, открывающиеся на улицу. От главной улицы тянулись очень узенькие переулочки с еще более старыми домами и, петляя, вели к церкви на верху холма.
Все это имело не очень привлекательный вид. Терраса, мимо которой прошла Адель, была не менее обветшалой, чем самые худшие районы вокруг Кингз-кросс. На террасах несколько очень пожилых леди в черном сидели на табуретах у входных дверей и с любопытством посмотрели на нее, когда она, хромая, прошла мимо.
Дорога, на которой, похоже, находилось столько же пабов, сколько домов, заворачивала на набережную. Здесь Адель приостановилась — как бы ей ни было плохо и тяжело, этот вид приободрил ее. На якоре стояло множество лодок. В основном это были маленькие рыбацкие лодки со свернутыми парусами, но было и несколько больших кораблей, загружавшихся и разгружавшихся. Самого моря она не увидела, но знала, что оно не может быть далеко, так как она слышала его запах и ощущала вкус соли на губах. Около дюжины рыбаков сидели на деревянных ящиках и чинили сети, другие мужчины в шитых кепках стояли вокруг и курили. Она догадалась, что это безработные, потому что у них была такая же сгорбленная осанка, к виду которой она привыкла в последний год, когда жила в Лондоне.
Дальше дорога вела по мосту через реку, по правую сторону которой стояла ветряная мельница. Адель перешла мост и вскоре увидела дорожный указатель, на котором было написано «Винчелси» со стрелкой вперед и «гавань Рай» со стрелкой влево. После этого места дальше уже не было домов, только ровная болотистая местность и еще одна река, протекавшая неподалеку от дороги.
Обернувшись назад, чтобы посмотреть на Рай, Адель подумала, что здесь очень красиво. Городок был построен на единственном холме, окруженном на много миль вокруг ровной болотистой местностью. Дома были скучены вместе, все они были абсолютно разного вида, цвета и размера, и церковь наверху возвышалась над ними как старинный замок.
Когда она, повернувшись, продолжила путь, далеко впереди она заметила еще один маленький городочек, похожий на Рай и тоже взгромоздившийся на холм. И между ними, кроме разрушенного замка слева от нее, не было больше ничего — только трава с пасущимися на ней овцами и несколько деревьев, погнутых ветром.
С каждым шагом Адель чувствовала себя все хуже. У нее раскалывалась голова, ее бросало то в жар, то в холод, а ноги болели так, что она опасалась в любую минуту потерять сознание. Она изо всех сил пыталась не думать о том, что с ней будет, если ее бабушки с дедушкой там не окажется, и вместо этого сконцентрировалась на том, чтобы идти вперед.
После расстояния, показавшегося ей милями, дорога круто повернула направо и вверх на маленький городок на холме, который она так долго видела перед собой. И еще перед ней была протоптанная дорога, которая уходила влево к морю, и она подумала, что это вполне может быть дорога к Винчелси-Бич.
Несколько минут она колебалась, боясь выбрать из двух дорог неверную, а потом заметила на некотором расстоянии от себя мужчину на велосипеде, спускавшегося с холма.
Он был старый, на нем были странные бриджи в клетку и поношенная шляпа, завязанная под подбородком. Когда он подъехал ближе, Адель помахала ему, чтобы он замедлил ход.
— Вам что-то нужно, мисс? — спросил он, останавливаясь, затормозив при этом ногой, вместо того чтобы нажать на тормоза.
— Вы знаете Керлью-коттедж в Винчелси-Бич? — спросила она.
— А почему вы его ищете? — поинтересовался он, и его живые голубые глаза просверлили ее.
Адель этот вопрос показался странным.
— Потому что я хочу увидеть мистера и миссис Харрис, которые живут там, — ответила она.
— Вы не увидите мистера Харриса, он умер лет десять назад или больше, — ответил мужчина с ухмылкой. У него была очень странная манера разговора, совсем не похожая на то, как люди разговаривали в Лондоне.
— А миссис Харрис? — спросила она.
— Она еще там живет. Но она не любит гостей.
Адель упала духом.
— Но я проделала такой путь от Лондона, — сказала она.
Он разразился странным кудахтаньем, и Адель даже не поняла, был ли это смех.
— Тогда вам лучше сразу вернуться назад, — посоветовал он. — Здешние дети думают, что она ведьма.
Адель еще больше упала духом и покачнулась на ногах от крайней усталости и разочарования.
— Просто скажите мне, куда идти, — сказала она голосом, который был чуть громче шепота. — Я не могу вернуться, пока не увижу ее.
— Вверх по той дороге, — сказал он, перекинул ногу через раму велосипеда и поехал дальше.
Адель вдруг пришла в совершеннейший ужас. Местность была бесплодной, на мили вокруг лишь низкорослая трава и овцы. Рай был далеко на горизонте, даже другая деревня на холме, казалось, была не менее чем в полумиле отсюда. Дул резкий ветер, он продувал через платье, спутывал волосы и жег глаза. Она знала, что впереди море, и все же не видела его еще, как не видела и зловеще кричавших птиц.
Здесь не было той нежной деревенской красоты, которую она заметила сегодня раньше. Даже овцы, которые паслись здесь, выглядели странно — они были худыми и маленькими, с черными мордами. Это был суровый пейзаж, плоская, как блин, местность, и ей она показалась сухой, как пустыня. Любой, кто выбрал это место для жилья, должен был быть таким же; и с упавшим сердцем она поняла, что не встретит здесь бабушку из книг со сказками, которая примет ее с распростертыми объятиями.
Но она уже не могла вернуться назад, поэтому, спотыкаясь, прошла мимо двух полуразвалившихся коттеджей, которые были ненамного лучше хибар. Потом она увидела Керлью-коттедж.
Он был одноэтажным, покрытым черным просмоленным гонтом, как домики, которые она заметила внизу на набережной в Рае. Окна были маленькими, у двери было решетчатое крыльцо, а земля вокруг была усыпана камешками. И хотя домик был довольно аккуратным, из трубы шел дым, — а это означало, что кто-то был дома, — он совсем не выглядел приветливым.
Ей стало понятно, почему дети думали, что здесь живет ведьма. Коттедж имел вызывающий вид: он словно бросал вызов ветру, чтобы тот разнес его, или наводнению, чтобы оно смело его. Явно ни один нормальный человек не захочет жить в таком унылом, отдаленном месте. Воспоминания о сошедшей с ума матери, привязанной к стулу, были еще очень свежи в ее памяти, и ей казалось вероятным, что в любой момент эта дверь откроется и на пороге появится безобразная карга.
Ни забора, ни ворот не было, и дорога к двери была сложена просто из старых кусков дерева. Какое-то время она стояла и думала, достаточно ли у нее храбрости, чтобы пройти по ним.
Но у нее не оставалось выбора. Поэтому, собравшись с духом, она подошла к двери и постучала.
— Кто там?
Резкий и раздраженный голос за дверью заставил Адель отступить на шаг.
— Я ваша внучка, — крикнула она в ответ.
Адель ожидала, что дверь со скрежетом откроется, в нее просунется длинный острый нос и тощая как у скелета рука высунется и схватит ее. Но ничего похожего не произошло.
Дверь широко открылась, и на пороге показалась женщина, странно одетая в серые мужские брюки, растянутую блузу и тяжелые ботинки. Ее лицо напомнило Адель конский каштан, который слишком долго держали в теплом месте, из-за чего он обветрился, став темно-коричневого цвета, и покрылся морщинами, Ее седые с голубоватым отливом волосы были гладко зачесаны назад, но глаза были ясные, красивого голубого цвета, точно как у матери Адель.
— Как ты сказала, кто ты такая? — спросила она, и ее тонкие бледные губы вытянулись в настороженную прямую линию.
— Я Адель Талбот, ваша внучка, — повторила она. — Роуз, моя мама, больна, и я пришла, чтобы найти вас.
Адель показалось, что она стояла там вечно перед этой женщиной, которая уставилась на нее так, будто у нее было три головы. Но она уже не могла сконцентрировать взгляд, в ушах зашумело, и вдруг все вокруг нее закружилось.
Адель пришла в себя после того, как ей в лицо брызнули водой, открыла глаза и обнаружила, что лежит на спине, а женщина наклонилась над ней и держит в руках чашку.
— Пей! — велела она.
Адель подняла голову и слабо потянулась рукой к чашке, но рука слишком дрожала, чтобы взять чашку, и женщине пришлось поднести ее к губам девочки.
— Ты потеряла сознание, — сказала она резко. — Так как ты говоришь, кто ты такая?
Адель повторила свое имя.
— Мою маму зовут Роуз, — добавила она. — Роуз Талбот сейчас, но она была Роуз Харрис.
У женщины дрожали губы, но было ли это от эмоций или просто от старости, Адель не могла понять.
— После того как ее забрали в больницу, я нашла письмо в ее вещах, на котором был этот адрес. Вы моя бабушка?
— Сколько тебе лет? — спросила женщина, придвигая свое орехово-коричневое лицо ближе к лицу Адель.
— Двенадцать, — сказала Адель. — Мне будет тринадцать в июле.
Женщина положила себе руку на лоб, вонзив ногти в кожу, жестом, который Адель сотни раз видела у мамы. Иногда это означало: «Я не могу сейчас с этим справиться», а иногда: «Убирайся с глаз моих сама знаешь куда». Это не было хорошим знаком, но Адель понимала, что в ее положении отступать нельзя.
— Они поместили меня в приют, — выпалила она. — Но там случились плохие вещи, поэтому я убежала. Я не знаю, куда мне идти, мне просто некуда идти.
Женщина все еще не сводила глаз с Адель, и ее густые брови сошлись вместе, будто от удивления.
— Какие плохие вещи? И где твой отец?
Ее тон был холодным и подозрительным, и вдруг Адель не выдержала напряжения, которого ей стоило притворяться и вести себя как взрослая, и начала плакать.
— Я не нужна ему, он сказал, что я не его ребенок, — сказала она сквозь всхлипывания. — А мистер Мэйкпис пытался делать со мной грязные вещи.
— Ради всего святого, перестань реветь, — сказала резко женщина. — Я не могу этого выносить. Вставай и заходи в дом.
Адель лишь на мгновение секунды увидела Керлью-коттедж, прежде чем снова потеряла сознание. Она будто зашла в магазин со всяким хламом на вокзале в Кингз-кросс — затхлый запах старых книг и мебели, мрачная комната, напиханная вещами-сувенирами из прошлого.
Хонор Харрис уставилась на лежащую на полу девочку и пришла в такой ужас, что не знала, как поступить. Ее сердце опасно билось, и давно похороненные чувства угрожали подняться в ней и выплеснуться наружу. Она на мгновение взглянула на дверь, думал, не побежать ли за помощью, но обращаться за помощью было не в ее характере, поэтому она встряхнулась, подняла девочку и положила ее на кушетку.
Это простое движение, когда она подняла девочку, вернуло к Хонор ее природный инстинкт защитить любое раненое животное. Кожа девочки была сильно опалена солнцем, она была грязной, волосы спутаны, и когда Хонор сняла с нее носки и туфли, то невольно охнула. Ноги выглядели как куски сырого кровоточащего мяса, и было ясно, что она прошла очень долгий путь, чтобы добраться сюда.
И все же после беглого осмотра Хонор поняла, что обморок был вызван скорее не болезнью, а истощением и голодом. В какой-то мере она почувствовала облегчение, потому что не могла позволить себе пригласить врача, да и не хотела этого.
Чайник уже стоял на плите, и вода была достаточно горячей, чтобы помыться, поэтому она взяла таз, фланелевую тряпку и полотенце. Стянув с девочки грязное платье и оставив ее в майке и трусах, она приступила к мытью.
Хонор было пятьдесят два года, и годы трудностей одинокой жизни на болотах научили ее иметь дело только с настоящим. Хотя она и знала, что если то, что девочка заявляла, было правдой, этот ребенок должен будет заставить ее оглянуться на ту часть ее жизни, которую она хотела забыть, но в данный момент это было неважно.
Вымыв девочку так тщательно, как могла, Хонор зашла в спальню и нашла баночку с мазью, хорошим средством для успокоения и лечения ожогов. Она щедро намазала ею руки, ноги, лицо и затылок девочки, но воздержалась трогать потрескавшуюся кожу на ногах.
— Сейчас просто поспи, — сказала она, укрывая ее со всех сторон теплым стеганым одеялом. — Когда проснешься, я приготовлю тебе поесть.
Присутствие ребенка в гостиной глубоко взволновало Хонор. В ее голове начали возникать вопросы, и ее постоянно тянуло подойти и посмотреть на девочку. Хотя ей стало легче, когда она обнаружила, что девочка мирно спит, у Хонор все еще не прошло нервное возбуждение, и ее собственный ужин, состоявший из сыра и хлеба, остался нетронутым на столе, потому что у нее не было аппетита.
Много лет в Керлью-коттедж не было ни одного гостя, и Хонор не могла поверить, что один маленький человечек заставит ее понять, какой тесной стала ее гостиная за это время.
Она оглянулась вокруг себя, посмотрев на запасной матрац, прислоненный к книжным полкам, кипы книг на полу, коробки с фарфоровой посудой, украшения, льняное белье и памятные вещи из прошлого, и ей стало еще более не по себе. Когда Фрэнк был жив, это была уютная комната, всегда содержавшаяся в порядке. Но после того как он умер, Хонор перестала заботиться о том, какой вид имеет гостиная. Она занесла сюда все, что было в старой комнате Роуз, когда кровля над ней начала протекать, но даже после того, как она починила кровлю, у нее не было никакого желания поставить вещи на свои места. Она должна была избавиться от всех них.
Но большинство вещей хранило дорогие воспоминания о тех счастливых днях, когда она только что вышла замуж, и она не смогла этого сделать. Почему они не распродали все это после того, как переехали сюда на постоянное жительство, она не знала. Бог знает что они могли сделать с деньгами. Но Фрэнк всегда настаивал, что их корабль снова придет и однажды все это понадобится.
Было странно, что переполненная комната вдруг начала раздражать ее в тот момент, когда девочка переступила через ее порог. Но с другой стороны, воспоминания о Роуз всегда плохо действовали на нее.
Хонор снова поднялась со стула, на этот раз — чтобы сварить суп на бульоне, кипевшем на плите на медленном огне. Она достала небольшой кусок курицы из холодного чулана, разрезала на крошечные куски и добавила в бульон вместе с нарезанной кубиками морковкой и маленькой луковицей. Потом, вдруг осознав, что становится темно, зажгла масляную лампу, стоявшую по ту сторону кушетки.
Чуть позже она посмотрела на Адель, и ее поразило, насколько девочка похожа на Роуз в том же возрасте. Она предположила, что, когда мыла ее, в комнате было слишком мрачно, поэтому она не могла разглядеть ее как следует.
К шестнадцати годам Роуз была сногсшибательно красивой. Хонор помнила изгибы ее тела, красивое лицо с широко распахнутыми голубыми глазами, полные губки и шелковистые светлые волосы, и удивлялась этому перевоплощению. Еще в двенадцать лет Роуз была такой же тощей и непримечательной, как ее дочь сейчас. Фрэнк обычно говорил со смехом, что она выглядела как богомол с огромными глазами.
Она не заметила, были ли у девочки голубые глаза, ей показалось, что нет, и ее волосы были невыразительного светло-каштанового цвета, но у нее был такой же вызывающий острый подбородок, как у Роуз, тот же тонкий нос и пухлые губы.
Хонор надеялась, что она не унаследовала от матери ее жестокость.
В двенадцать часов ночи Хонор дремала, сидя в кресле. Она хотела лечь в кровать, но боялась, что девочка может проснуться посреди ночи и не понять, где находится.
Она вздрогнула, разбуженная шелестом, открыла глаза и увидела, что девочка сидит на кушетке с испуганным видом.
— Наконец ты проснулась, — резко сказала Хонор. — Ты знаешь, где находишься?
Девочка оглянулась вокруг, потом посмотрела на себя и увидела, что на ней нет платья. Она дотронулась до щеки, словно хотела проверить, болит ли еще лицо.
— Да, вы миссис Харрис, — произнесла она. — Извините, если я доставила вам беспокойство.
Хонор фыркнула. По сути, она была тронута, что девочка в первую очередь подумала не о себе. Но говорить об этом было не в ее характере, как и произносить приветственные слова. Она также почувствовала облегчение, что ребенок не называет ее бабушкой. Она была не готова признать факт, что вдруг стала бабушкой.
— Я думаю, тебе нужно в туалет. Но на дворе уже темно, поэтому я поставила тебе горшок в судомойне, — сказала она порывисто и указала направление пальцем.
Она увидела, что девочка поморщилась, ставя ногу на пол, но не пожаловалась и заковыляла наружу.
Когда она вернулась, Хонор велела ей сесть за стол и молча поставила перед ней миску с супом и стакан с водой.
Увидев, как девочка опрокинула в себя весь стакан одним залпом, она подумала, сколько же времени та ничего не пила и не ела. Она подождала, пока половина супа будет съедена, и принесла еще один стакан воды.
— При солнечных ожогах хорошо пить воду, — сказала она, поставив стакан на стол. — Ну а сейчас ты не хочешь рассказать мне, как очутилась перед моей дверью?
Адель была смущена. Она ясно помнила, как постучала в дверь и как женщина открыла ей. Она также смутно припоминала, что рассказала ей, кто она такая, но все было словно во сне, и она уже не была уверена, что именно успела ей рассказать.
— Начинай сначала, — резко сказала женщина. — Твое полное имя, как ты нашла мой адрес и откуда пришла.
Это смутило Адель, потому что прозвучало так, будто эта женщина не была ее бабушкой. Она была грубоватой и своеобразной, Если бы Адель не поняла, пока сидела на горшке, что ее вымыли и чем-то намазали ожоги, она подумала бы, что женщина готова выставить ее за дверь, если она не расскажет все как надо.
Адель устало начала объяснять, кто она такая, как переехало машиной ее сестру и некоторое время спустя мать сошла с ума и пришлось положить ее в больницу. Она объяснила, что Джим Талбот отказался от нее, рассказала об увиденном письме с этим адресом и как потом ее отвезли в «Пихты».
— В Танбридж-Уэлс? — воскликнула миссис Харрис. — Где именно?
Адель сказала, что вообще-то не знает точного адреса, но это ближе к Ламберхерсту, чем ей казалось.
— Почему ты оттуда убежала?
— Из-за мистера Мэйкписа, — прошептала Адель и, снова застыдившись того, что она сделала, начала плакать.
— Не начинай снова реветь, — нетерпеливо сказала миссис Харрис. — Об этом можешь рассказать позже. Ну, чем занимается Джим Талбот, где работает?
Адель посчитала этот вопрос очень странным, самой незначительной частью во всей ее истории.
— Он работает в доке, — сказала она, решив, что будет лучше, если она правдиво расскажет ей все, что ее интересует. — Я всегда думала, что он мой настоящий папа, до той ночи, когда мама сошла с ума и напала на нас обоих. Она обвиняла меня в смерти Памелы и говорила еще множество мерзких вещей, но я слышала, как папа говорил врачу, что я не его ребенок и что он больше не хочет иметь ничего общего ни со мной, ни с мамой.
Адель встревожилась, когда женщина встала и начала ходить по комнате, перебирая вещи, будто нервничала, но ничего не говорила. Даже миссис Мэйкпис проявила достаточное сочувствие, когда Адель объясняла ей все это, а она не была родственницей. Адель ломала себе голову, не зная, что же сказать еще, чтобы заставить эту женщину осознать, что она не одна в комнате, но ничего не могла придумать.
— Роуз исчезла, когда ей было семнадцать, — вдруг выпалила миссис Харрис, поворачиваясь к Адель и стукнув кулаком по столу. — Ни слова мне не сказала, ни одного слова, бессердечная тварь. Отец только вернулся с войны больной, и она исчезла как раз в тот момент, когда мне нужна была ее помощь. Поэтому расскажи мне, почему я должна заботиться о ее ребенке, если она даже не потрудилась сказать мне, когда он родился!
Тогда Адель испугалась. У женщины были такие же глаза, как у ее матери, и возможно, она тоже была сумасшедшей.
— Извините, — прошептала она. — Обо мне она тоже не заботилась.
— Все эти годы я не знала даже, жива она или мертва, — продолжала женщина, и ее голос почти перешел в крик. — Отец очень часто спрашивал о ней, когда умирал, а иногда он даже обвинял меня в том, что это я выставила ее за дверь. Он никогда не верил, что она стала такой дерзкой девчонкой после того, как он ушел на войну. Она была его маленькой девочкой. Он называл ее своим сокровищем. Он умер, считая меня виноватой в том, что она не вернулась домой повидаться с ним. Ты знаешь, что я чувствовала?
Адель снова разразилась слезами. Она знала, как это, когда тебя во всем обвиняют. А сейчас ей казалось, что ее будут обвинять и за поведение матери.
— Ой, перестань рыдать! — крикнула на нее бабушка. — Это ты объявилась без приглашения, сказала мне, что моя дочь сумасшедшая, и хочешь, чтобы я взяла тебя к себе. Это я должна плакать.
Где-то глубоко в Адель поднялся гнев. Перед ней в одну секунду промелькнуло все, что несправедливо взваливали на нее, — вина за смерть Памелы, жестокость матери, высылка в приют и предательство человека, которому она доверяла. А сейчас эта взрослая женщина тоже несправедлива к ней. Ну хорошо, она больше ничего подобного не позволит. Она все скажет.
— Тогда вызывайте полицию, и пусть меня уводят! — крикнула она в ответ. — Я вам ничего не сделала, только надеялась, что вам не безразлична ваша внучка. Я теперь вижу, откуда у мамы эта злобность. От вас!
Она ожидала, что ее ударят, и быстро прикрыла голову руками, обороняясь, когда женщина подошла к ней. Но к ее удивлению, вместо удара она ощутила руку женщины на своем плече.
— Давай-ка ты лучше ложись обратно на кушетку и поспи, — сказала она грубовато. — Ты слишком долго была на солнце, и мы обе переутомлены.
Глава седьмая
— Господи, ну что же мне с этим делать? — проворчала Хонор себе под нос, ложась в постель.
От идущего через окно ветерка мерцал огонек свечи, тени от изголовья кровати двигались, производя жуткое впечатление, и она содрогнулась.
Для нее было огромным шоком открыть дверь и обнаружить эту бездомную девочку. За последний десяток лет она сделала все, чтобы вычеркнуть Роуз из своей памяти. Она была вынуждена это сделать, потому что обида и гнев на дочь чуть не уничтожили ее. И все же в те редкие моменты, когда Роуз невольно вспоминалась ей, она всегда представляла, что та живет в роскоши балованной женой богатого человека. Ей никогда не приходило в голову, что у Роуз могут быть дети.
Если бы новости о настоящем тяжелом положении Роуз пришли из какого-либо другого источника, Хонор, несомненно, почувствовала бы какое-то злорадное удовлетворение. Но когда она услышала эту историю из уст ребенка, у нее пошел мороз по коже.
Хонор взяла в руки фотографию Фрэнка в рамке, стоявшую на ночном столике. Она была сделана как раз перед тем, как его послали во Францию весной 1915 года. Он выглядел таким счастливым, лихим и красивым в своей военной форме, а спустя всего лишь два года его привезли обратно в Англию инвалидом — физически и морально.
Хонор знала, что миллионы молодых людей испытывали те же ужасы в окопах, что и Фрэнк. Большинство из них так и не вернулись к своим близким. Она прекрасно представляла, какой ужас должны были испытывать мужчины, видя, как умирают их товарищи, и думая, когда же придет их черед. Она сочувствовала каждому из них, они жили в грязи, и крысы и вши были их неразлучными товарищами. Но рассказ Фрэнка был еще более страшным, потому что он упал в лисью нору после того, как ему прострелили ногу, и был заживо похоронен под падавшими на него смертельно раненными товарищами.
Оказалось, Фрэнк провел в этой ловушке три дня, прежде чем его нашли. Неудивительно, что он потерял рассудок, потому что вымок в крови своих товарищей, слышал их предсмертные хрипы и знал, что тоже наверняка умрет.
— Что мне делать, Фрэнк? — прошептала она, глядя на его фотографию. — Я не хочу, чтобы она была здесь после того, что ее мать сделала нам.
Хонор знала Фрэнка Харриса всю свою жизнь. Ее отец, Эрнст Колдуэлл, был директором местной школы в Танбридж-Уэлсе, а отец Фрэнка, Седрик, был владельцем самой престижной бакалейной лавки в городе «У Харриса».
Лавка «У Харриса» была шикарная, отделанная лакированным ореховым деревом и белым мрамором, от пола до потолка заставленная всякими вкусностями. Хонор помнила, что, когда была маленьким ребенком, ее безудержно притягивали фантастические композиции с мертвыми фазанами, кроликами и зайцами, возлежавшими на горах овощей. Матери приходилось крепко ее держать, чтобы она не пыталась их погладить.
Фрэнк и его младший брат Чарльз учились в местной школе, где часто играли с Хонор, пока им не исполнилось восемь лет, и тогда их послали в пансион. Но они остались с Хонор друзьями и всегда приезжали навестить ее на каникулах. Повзрослев, оба мальчика помогали отцу в бакалее, и Фрэнк часто развозил овощи на велосипеде с привинченной впереди большой корзиной. Каждый раз, проезжая мимо здания школы, он останавливался поболтать с Хонор и часто возил ее на своем велосипеде.
К тому времени, когда в семнадцать лет он окончил школу и вернулся домой работать со своим отцом, у Хонор был в голове только этот высокий, стройный молодой человек с ясными, блестящими голубыми глазами и копной непослушных светлых волос. Фрэнка нельзя было назвать очень красивым, но он обладал веселым нравом, был добрым и забавным и интересовался природой, музыкой, искусством и книгами. С таким другом, как он, Хонор не нужен был никто другой.
Ей было семнадцать, когда она начала официально встречаться с Фрэнком, и обе семьи были в восторге. Колдуэллы, возможно, небыли так богаты, как Харрисы, но они были уважаемыми людьми. Фрэнк в шутку часто говорил Хонор, что его отец умолял его жениться на ней, потому что у нее были мозги и это улучшило бы семейный бизнес.
Они поженились в 1899 году, когда Хонор было двадцать, а Фрэнку двадцать два. Они переехали в квартиру над лавкой, которая пустовала несколько лет, с тех пор как Харрисы купили дом на окраине Танбридж-Уэлса. Хонор помнила, что была на верху блаженства от того, что у нее такой прекрасный дом. Харрисы были очень щедры, они осыпали их подарками — мебелью, постельным бельем и посудой, и они могли позволить себе даже прислугу для грязной работы. А поскольку Фрэнк был помощником управляющего в лавке, он весь день хор туда-сюда, и она никогда не чувствовала себя одинокой, как некоторые ее подруги, которые вышли замуж и ушли из своих семей. Хонор всегда понимала, что не в бакалее видел свое призвание Фрэнк. Он был чувствительным, артистичным мужчиной и предпочел бы стать садовником или даже егерем, нежели развешивать сахар и нарезать мясо и сыр. Но отец мечтал о том, чтобы старший сын в конце концов унаследовал его бизнес, и Фрэнк чувствовал, что обязан ему. В моменты раздражения он утешал себя, говоря, что лавкой не нужно управлять, она работает сама по себе, поскольку отец очень хорошо обучил всех продавцов. В спокойные периоды он находил время для рисования эскизов и для загородных прогулок и часто говорил Хонор, что считает себя самым счастливым человеком на земле.
Через два года, в 1901 году, родилась Роуз, полненькая, очаровательная девочка со светлыми, почти белыми волосами, и сделала своих родителей абсолютно счастливыми. Но спустя всего лишь несколько недель после ее рождения у Седрика Харриса случился тяжелый приступ. Прикованный к постели, зная, что уже не встанет, он полностью передал лавку Фрэнку.
Пока вся ответственность полностью не легла на него, Фрэнк не понимал, как много было работы с лавкой. Вдруг оказалось, что нужно было вести книги, проверять заказы, и совершенно не оставалось времени для эскизов, загородных прогулок и даже для игр с новорожденной дочерью.
Хонор знала, что жалобами на то, что ей скучно находиться целый день одной с Роуз, она не помогала Фрэнку справиться с возникшей дополнительной нагрузкой. Но она была молодой и легкомысленной и скучала по тому беззаботному времени, которое было у них раньше.
В следующем году Фрэнк попытался исправить ситуацию, устроив для них троих отпуск в Гастингсе, в той же гостинице, где они останавливались в их медовый месяц. Но, к несчастью для них, все номера были заняты. Им совершенно не хотелось останавливаться в незнакомой гостинице, тем более с маленьким ребенком, поэтому когда один из их постоянных покупателей предложил им воспользоваться его маленьким коттеджем в Рае, заявив, что это более приятное место, чем Гастингс, они с восторгом приняли его предложение.
Почти с того самого момента, когда сошли с поезда, они влюбились в Рай. Они были очарованы чудными старыми домами, узкими мощеными улицами и древней и увлекательной историей городка, который когда-то был важным портом. Фрэнку хотелось зарисовать все, что он видел, — от старых рыбаков, сидевших со своими трубками около навесов для парусов, до старинных зданий и дикой растительности болот. Хонор любила просыпаться по утрам, ощущая запах моря вместо запаха сыра и бекона. Было чудесно быть в центре внимания Фрэнка, и она впервые в жизни почувствовала себя свободной.
В Рае не было той светской утонченности, как в Танбридж-Уэлсе, и опьяняющей прелести Гастингса с его дамбой и концертами. Большинство его жителей никогда не отъезжали от дома больше чем на десять миль, они работали на земле, ловили рыбу или строили лодки. Это были дружелюбные, простые люди, которым приходилось слишком тяжело работать, чтобы обеспечивать своих многочисленных детей, и они не были озабочены модой, новостями в мире и даже политикой.
Хонор обнаружила, что в Рае не было никаких социальных предрассудков, которые в нее вбивали с детства. Если она хотела, она могла гулять по улице с Роуз в коляске, совершенно не заботясь о том, чтобы надевать шляпу и перчатки. Люди, селившиеся здесь, были такими же, как она и Фрэнк, их привлекала красота и спокойствие города и окружающих болот. Многие из них были писателями, музыкантами и художниками. Фрэнк обращал внимание на художников, сидевших за своими мольбертами и рисовавших и писавших красками на пленэре, и им овладела идея иметь здесь коттедж для отдыха.
Они услышали о Керлью-коттедж лишь за два дня до возвращения домой, и Фрэнк захотел его даже еще до того, как увидел. Хонор пыталась его отговорить, аргументируя тем, что от коттеджа далеко идти до Рая, вода поступала из насоса снаружи и коттедж почти разваливался. Но Фрэнк и слушать не хотел: аренда была недорогой, ему очень понравился дом и он был полон решимости получить его.
«Нам нужно иметь свой собственный маленький мир, — сказал он, и его голубые глаза засверкали от возбуждения. — В Танбридж-Уэлсе все принадлежит отцу. Это его лавка, его квартира, его клиенты. Мы донашиваем его жизнь, как старую одежду. Но я мог бы справиться с этим, если бы нам было где время от времени укрыться».
С такой формулировкой Хонор не могла не согласиться. Она подумала, что будет здорово проводить отпуск в этом диком месте — они могут взять велосипеды и исследовать местность, купаться в море, топать по болотам, уходя на много миль. Это будет чудесно для Роуз, когда она подрастет, потому что возле лавки не было сада, где она могла бы играть. Хонор также была в восторге от идеи превратить полуразвалившийся коттедж в настоящий маленький домик.
* * *
Хонор улыбнулась, вспомнив первый отпуск, который они провели в коттедже. Они были словно пара детей, играющих в домик, когда Фрэнк белил стены, а она вешала дешевые полосатые бумажные занавески на окна. После полудня они каждый день водили Роуз гулять и наполняли мешки сухими ветками, чтобы топить печь по ночам. У них тогда почти не было мебели — только дешевая кровать, купленная в Рае, стол и два стула, и они вешали свою одежду на гвозди. Они обычно ложились спать с широко раскрытыми окнами, слушая пение болотных птиц, во множестве водившихся в здешних местах. Они слышали, как море плещется о гальку и ветер шелестит в кустах можжевельника.
Это было самое счастливое время — столько было радости и смеха! Они научились готовить на открытом огне, чинить обшивку на стенах коттеджа и попытались посадить сад на земле, которая была бесплодной и каменистой. В жаркие дни они снимали с Роуз одежду и позволяли ей играть в ванночке с водой, пока Фрэнк рисовал маслом, а Хонор сидела на солнце и читала.
Следующим летом они купили два велосипеда, и Фрэнк прикрепил на раму маленькое седло для Роуз. Они обычно ездили вниз через Рай до Кэмбер-Сандз, иногда доезжая до самого Лида, где покупали мороженое, прежде чем возвращаться домой.
Потом, после краха бизнеса, Хонор часто упрекала себя. Если бы она вмешалась и помогала Фрэнку в лавке, вместо того чтобы поощрять их поездки в Рай каждый раз, когда он выглядел смертельно уставшим, возможно, этого не случилось бы. И все же Фрэнк настаивал, что виноват в этом он сам.
Он заявлял, что лавка процветала в руках отца, потому что Седрик Харрис любил свое дело. У него была деловая жилка, а умение льстить и угождать мелким аристократам, живущим вокруг Танбридж-Уэлса, помогало сохранить их своими клиентами. Фрэнк был не из того теста, он не мог льстить людям просто для того, чтобы они дали ему недельный заказ. Он не гордился тем, что у него было двадцать разных разновидностей печенья или десять сортов чая. Его раздражало, что клиенты считали его своей собственностью.
Фрэнк признался незадолго до смерти, что он намеренно запускал лавку, потому что ужасно боялся, что они кончат, как их родители — трезво, но узко мыслящие люди, которые ходили в церковь каждое воскресенье и соблюдали этикет своего класса. Он сказал, что хочет страсти, опасности, чтобы знать, что он действительно живет.
Хонор улыбалась по поводу страсти — ее не остановили даже трудности. Фрэнк также испытал на войне, что такое опасность, и она считала, что они в полной мере ощутили, что такое жизнь, когда им было так холодно, что приходилось находиться в коттедже в пальто, и когда они почти голодали. Но если бы она знала, как все обернется, она не следовала бы за Фрэнком во всем с такой готовностью.
Седрик Харрис скончался внезапно в 1904 году, и, к великому неприятному удивлению его вдовы и двоих сыновей, он не сколотил большого состояния, как они предполагали. После выплаты долгов осталось лишь несколько сотен фунтов и семейный дом. Он завещал их Чарльзу, младшему сыну, предполагая, что тот будет заботиться о матери, лавку же он еще раньше оставил Фрэнку.
Вражда между двумя братьями прорвалась наружу почти сразу. Чарльз беспокоился, что Фрэнк, похоже, пустил отцовское дело на авось. Фрэнк просто решал все неприятные вопросы — он избегал их. Ему не нравилась критика младшего брата, поэтому он все чаще увозил Хонор и Роуз в коттедж. В этот период пожилой владелец коттеджа предложил им приобрести его по номинальной стоимости, поэтому Фрэнк купил коттедж и с еще большим энтузиазмом и все чаще ездил туда.
Чем дольше он отсутствовал, тем хуже шли дела. Один за другим самые богатые люди в городе перестали приходить к нему, и без быстрого оборота скоропортящихся товаров приходилось много выбрасывать. Но Фрэнк и Хонор на самом деле не осознавали этого, пока не стало слишком поздно. Они были полностью поглощены своей беспечной жизнью на болотах.
Роуз было одиннадцать, когда лавка в конце концов прогорела. Однажды утром Фрэнк пришел и столкнулся с ожидавшими его несколькими сердитыми поставщиками. Им не платили много месяцев, и они немедленно хотели получить деньги. Фрэнк уплатил им, но не смог убедить их давать ему дальше товары в кредит.
Несмотря на халатность Фрэнка, лавка выживала в течение восьми лет, но как только пошла молва, что у него проблемы, потребовалось всего несколько недель, чтобы полностью обанкротиться.
Даже сейчас, спустя девятнадцать лет, Хонор все еще помнила, какой у Фрэнка был вид, когда он поднялся к ней наверх, после того как закрыл дверь лавки навсегда. Ему тогда было тридцать пять лет, но он был по-прежнему стройным мальчишкой, как в тот день, когда они поженились. «Не имеет значения, — сказал он, и его лицо расплылось в широкой улыбке. — Мы продадим здание и уедем жить в Керлью-коттедж навсегда».
Он заставил ее поверить в то, что это будет раем и что они смогут жить на проценты с капитала, вырученного от продажи здания. Он намеревался продавать свои картины, и они разводили бы кур и выращивали овощи. Все должно быть отлично.
Хонор глубоко вздохнула. В те времена она была такой же наивной, как Фрэнк. Она не задумывалась о том, как они будут жить зимой на болоте и что Роуз придется уйти из старой школы и потерять друзей. Ей не пришло в голову, что ее собственные родители будут рассматривать внезапный отъезд единственной дочери из Танбридж-Уэлса как факт, что она их бросила. Она также не знала, что значит быть по-настоящему бедными, пока их капитал не истощился.
И она не знала, что всего через два года Англия будет воевать с Германией и Фрэнк вступит в армию. Если бы в тот день, когда они окончательно закрыли лавку, кто-то сказал ей, что через шесть лет она будет желать смерти, не выдерживая ежедневной борьбы за выживание, она бы над ним посмеялась.
Пока Хонор ворошила прошлое, свеча догорела. Ей было больно воскрешать воспоминания, думать, как бы они хорошо жили, если бы не гонялись за своими мечтами. Если бы Фрэнк следил за делами в лавке, он мог бы избежать армии, и тогда, вероятно, был бы все еще жив. Если бы они оставались в Танбридж-Уэлсе, возможно, Роуз тоже стала бы другой.
Но прошлое есть прошлое, и сожалениями о том, что все могло быть по-другому, ничего нельзя изменить. Сейчас для Хонор важно настоящее, и до этого вечера ее жизнь, хотя часто и трудная, была спокойной и терпимой. Она зарабатывала продажей яиц, консервов и кроликов, этого было достаточно, чтобы прожить, и она любила болота и свой маленький домик. Она не хотела перемен, сердечной боли и дополнительной ответственности.
И особенно — заботиться о ребенке. Девочка постоянно напоминала бы ей о Роуз и всей той боли, которую Роуз причинила. Она не могла и не хотела оставлять ее у себя.
Адель внезапно проснулась от петушиного крика и сначала подумала, что она все еще в «Пихтах» и долгая дорога в Рай ей просто приснилась.
Но тут же она почувствовала пульсирующую боль в ногах, лицо пылало словно в огне, а когда она попыталась встать, ей помешала резкая боль в спине, и она быстро поняла, что это не сон.
Было очень рано, потому что свет, проходивший через тонкие бумажные занавески, был еще серым и пение птиц перекрывал храп бабушки из соседней комнаты.
Ей стало легче оттого, что это была не игра ее воображения, а реальность и что гостиная бабушки была захламленной и странной, соответствующей ее первому впечатлению.
Кушетка, на которой она лежала, стояла перед старинной печью, внутри которой разжигался огонь. Сейчас он потух, и она предположила, что бабушке приходится разводить огонь каждое утро. С кушетки она видела прямо перед собой входную дверь, судомойню за нею и спальню бабушки справа от нее, рядом с печкой. Слева от нее, за спинкой кушетки, стояли стол и стулья и весь хлам. Он даже загораживал окно, мешая проникать свету.
Она никогда не видела ничего подобного: кипы картонных коробок, комод, взгроможденный на старый буфет. Там еще было чучело красновато-коричневой птицы с длинным хвостом под стеклянным колпаком, огромный медведь, вырезанный из дерева, похожий на вешалку для одежды и шляп, и матрац, прислоненный к стене. Она попыталась представить, что может быть в этих коробках. Может быть, бабушка готовилась переезжать в какое-то новое место?
Птица, медведь, стол и стулья выглядели так, как будто они попали сюда из богатого дома; даже кушетка, на которой она лежала, была обита темно-красным вельветом. Это не вязалось у нее с женщиной, которая носила мужскую одежду и у которой в доме не было электричества.
Адель хотела пойти в туалет, но когда попыталась встать, то поняла, что все еще не может этого сделать. При этом она ужасно себя чувствовала и была очень испугана, вспомнив, как отвратительно вела себя бабушка прошлой ночью. Она не осмеливалась позвать ее, поэтому закрыла глаза и попыталась снова уснуть.
Вероятно, она задремала и пришла в себя, вздрогнув, когда дверь заскрипела. Сейчас через окно ярко светило солнце, и она услышала, как бабушка выходит из своей спальни. Она была во фланелевой ночной рубашке, на ее плечи была накинута шаль.
— Мне нужно в туалет, — неуверенно произнесла Адель. — Я попыталась встать, но не смогла.
— Почему не смогла? — спросила бабушка, подозрительно меряя ее взглядом.
— У меня все болит, — сказала Адель.
— Я думаю, у тебя просто ноги онемели. Я тебе помогу.
Вся ее помощь заключалась в том, что она ухватила Адель за руки и подняла ее рывком. Адель закусила губу, чтобы не закричать от боли, и покачнулась на больных ногах.
Бабушка позволила ей опереться на свою руку, и Адель добралась до судомойни, морщась при каждом шаге.
— Надень это, — велела Хонор, подтолкнув ногой к Адель пару старых тапочек. — До туалета недалеко.
Когда задняя дверь открылась, перед Адель за забором огромного сада предстал такой прекрасный и неожиданный вид, что она в одно мгновение забыла про свою боль.
Волнистая трава, усыпанная цветами, простиралась до самого Рая. Справа от нее были руины замка, который она видела по дороге сюда, и речка, как гладкая серебряная лента, петлявшая по буйной траве.
Похожий на гогот шум заставил ее поднять голову. Над ними пролетала стая больших птиц с длинными шеями, и она проследила взглядом, как они устремились вниз к реке и грациозно приземлились, не всколыхнув воды.
— Это дикие гуси, — сказала бабушка. — У нас их здесь около десятка разных видов.
Адель вдруг снова ощутила, как сильно у нее все болит, и заковыляла в туалет, на который ей указала бабушка, почти спрятанный под кустом, усеянным большими ярко-красными цветами. Выйдя через несколько минут, она увидела, как бабушка открывает клетку с кроликами, чтобы выпустить их побегать.
— Я люблю кроликов, — сказала Адель, когда два очень больших белых с коричневым кролика выбежали и выжидательно понюхали воздух.
— Это не домашние животные, — холодно сказала бабушка. — Я развожу их из-за мяса и шкурок.
Ко второй половине дня Адель была в отчаянии, убежденная, что ее бабушка действительно ведьма, потому что она, видимо, была самым отвратительным человеком, которого девочка когда-либо встречала. Все, чего Адель хотела, — это лечь, закрыть глаза и заснуть, но бабушка сказала, что она должна сидеть на стуле.
Вымыв Адель, она заставила ее надеть свое старое платье и продолжала забрасывать вопросами, но девочка почти все время слишком плохо себя чувствовала, чтобы отвечать на них. Ей было то холодно, то так жарко, что она вспотела, но бабушка, похоже, этого не замечала, потому что все время выходила из дома, занимаясь домашней работой.
Она рассердилась, когда Адель за обедом съела лишь несколько ложек супа, а потом швырнула на поднос головоломку и велела ей сложить ее, вместо того чтобы смотреть в стенку.
Адель всегда любила головоломки, но у нее закружилась голова, когда она посмотрела на кусочки. Ей хотелось заплакать и сказать, как плохо она себя чувствует, но она была уверена, что если бы сделала это, то еще больше разозлила бы женщину.
Сейчас она пожалела, что пришла сюда. Лучше бы она попытала судьбу и поехала к миссис Паттерсон.
— Выпей это!
Адель нервно вздрогнула, услышав голос бабушки рядом с собой. Та держала в одной руке чашку чая, а в другой — тарелку с куском фруктового пирога.
— Давай садись и не обращай внимания на пятна сливок в чае, ничего плохого они тебе не сделают. А я лучше пойду и куплю еще молока, в такую жаркую погоду оно быстро скисает.
Фруктовый пирог был любимым пирогом Адель, и дома она нечасто угощалась им.
— Вы сами его сделали? — спросила она.
— Нет, его испек мой повар, — отрезала бабушка. И даже сквозь замутненное сознание Адель услышала в ответе сарказм. — Веди себя хорошо, пока меня не будет. Нигде не лазь.
Адель лишь глупо уставилась на женщину, не понимая, что она имеет в виду.
Хонор поехала на велосипеде в магазин в Винчелси, довольная, что на какое-то время оставляет коттедж и девочку. Адель казалась такой туго соображающей и была почти не в состоянии ответить даже на простейшие вопросы. На полдороге вверх по холму в Винчелси ей пришлось сойти с велосипеда и идти пешком, потому что холм был очень крутой, и к тому времени, когда она добралась до вершины, она вся вспотела из-за палящего солнца.
И только тогда ей пришло в голову, что девочка, вероятно, получила солнечный удар. Она вспомнила, что с ней однажды было такое после дня, проведенного на пляже в Кэмбер-Сандз с Фрэнком и Роуз. По сути, ей не один день потом было плохо.
И вдруг ей стало стыдно, что она не подумала об этом раньше — в конце концов, девочка целых два дня шла по солнцу. Если дело было в этом, неудивительно, что она не смогла съесть суп на ланч!
Хонор решила спросить у аптекаря, чем лечить ожоги от солнца, но когда она заглянула в аптеку и увидела несколько женщин, стоявших в очереди, то не захотела, чтобы они услышали их разговор. Поэтому она купила пинту молока, положила его в корзину, висевшую на руле, и быстро отправилась домой.
Она оставила входную дверь открытой и подперла ее, чтобы заходил ветерок, и первое, что бросилось ей в глаза, были девочкины ноги, торчавшие из-за кушетки.
Вбежав в комнату, Хонор увидела ее лежащей лицом в луже рвоты. Она подняла ее, повернула на бок и убедилась, что дыхательные пути не закупорились. Девочка была без сознания, пульс еле прощупывался, и когда Хонор дотронулась до ее лба, то почувствовала, что она пылает.
Оглядевшись вокруг, Хонор увидела пустую чашку от чая, наполовину съеденный кусок пирога на маленьком столике рядом со стулом и догадалась, что девочку тошнило и она пыталась пойти в туалет.
Впервые за много лет Хонор испугалась. Девочка первым делом с утра сказала, что у нее все болит, но она не обратила на ее слова никакого внимания. Она даже не уложила ее в постель. Сейчас было ясно, что она серьезно больна. Нужен доктор, но как же ей пойти искать доктора и оставить ее одну?
В гостиной было ужасно жарко, поэтому она взяла девочку на руки и отнесла в свою спальню.
— Адель! — позвала она, резко похлопав девочку по щеке. — Ты меня слышишь?
Ответа не последовало. Адель была вялой, словно тряпичная кукла, она вся горела, и Хонор стало плохо от ужаса, что девочка может умереть. Как она сможет это объяснить? Люди и так уже говорили о ней всякое, она знала, что они подозрительно восприняли исчезновение Роуз. А что, если они подумают, что она убила этого ребенка или просто оставила ее умирать?
— Прохладной воды! — сказала она вслух, стараясь успокоиться. — Нужно ее охладить и напоить.
Когда Хонор раздела девочку догола и обложила ее полотенцами, то увидела явные синяки от пальцев на ее тощих бедрах. И расплакалась от стыда за то, что была полностью поглощена расспрашиванием Адель о ее матери и проигнорировала жалобное объяснение, почему она сбежала из приюта.
«Он делал со мной грязные вещи». Она должна была обратить внимание на эту фразу. Но фраза не запомнилась, потому что она думала только о себе и о том, как защитить свою мирную, уединенную жизнь.
У Адель задрожали веки, когда Хонор промокнула ее лицо холодной водой. Затем Хонор приподняла ей голову и заставила сделать несколько глотков воды.
— Ты должна пить, — умоляла она. — Хоть несколько глотков пока.
Хонор всегда гордилась тем, что умела все делать. Она выходила Роуз от скарлатины, лечила Фрэнка от его душевной травмы и от воспаления легких, которое его в конце концов и убило. Ош могла вылечить птице сломанное крыло, свернуть курице шею и освежевать кролика. Если с крыши отваливалась черепица, она залезала на крышу и чинила ее. Но сейчас, когда она смачивала Адель водой, поила ее и держала перед ней миску, пока ее рвало, она почувствовала себя слабой и беспомощной.
Так продолжалось долго. Она охлаждала девочку, пока та не начинала дрожать, потом укрывала ее, но через несколько минут у Адель снова поднималась температура и все начиналось сначала.
Становилось темно, и она зажгла лампу. Она слушала и успокаивала Адель, когда у той начался бред и она звала свою младшую сестру и какую-то миссис Паттерсон. Ее лихорадило и рвало, пока в желудке не осталось ничего, кроме желчи. И все время Хонор не сводила глаз с багровых синяков от пальцев на ее бедрах и была в ярости оттого, что мужчина мог сделать это с ребенком.
Наступила полночь, время шло, и Хонор уже дважды сменила простыни, потому что они были мокрыми от пота. Ей хотелось открыть окно и впустить свежий воздух, но в тот момент, когда она его открыла, влетели ночные бабочки и забились о лампу, и этот звук раздражал ее. В конце концов она легла рядом с ребенком, но, несмотря на сильную усталость, боялась закрыть глаза даже на минуту. Каждый раз, когда она смотрела девочке в лицо, распухшее и красное от солнечных ожогов, она чувствовала гнев, оттого что Роуз и этот Мэйкпис так плохо обращались с ней.
Было четыре часа утра, когда Адель попросила пить. Хонор, вздрогнув, проснулась, и ей стало стыдно, что она на какое-то время уснула.
Она в одно мгновение выскочила из постели, подняла девочке голову и дала ей воды. В этот раз Адель выпила полстакана, прежде чем ее голова снова упала на подушку. Хонор сидела у кровати с миской, ожидая, что Адель снова вырвет, но минута шла за минутой, и на этот раз все обошлось. Хонор тронула ее лоб. Он по-прежнему пылал, и она приложила влажную тряпку, чтобы охладить его. И все же она инстинктивно поняла, что опасность миновала.
Комнату уже осветили первые утренние лучи, и Хонор задула лампу. Потом она открыла окно и впустила свежий воздух. Небо было розовато-серого цвета, предвещавшего дождь, и она была этим довольна — не только потому, что дождь был нужен для овощей, но и потому, что он охладит воздух и поможет девочке поправиться.
— Ее зовут Адель, — проворчала она себе под нос.
Хонор облокотилась локтями о подоконник, глядя в болота, и думала, почему Роуз дала дочери такое имя. Мог ли ее отец быть французом?
— А имеет ли это значение? — спросила она себя. — В конце концов, ты выставишь ее, как только она поправится.
Глава восьмая
— Ты испортишь себе глаза, если будешь читать при таком свете, — сказала резко Хонор. Был ранний вечер, но шел сильный дождь, и от этого в комнате было темно.
Адель неохотно отложила «Маленьких женщин», она хотела, но не осмеливалась спросить, можно ли зажечь масляную лампу. Она знала, что бабушка никогда не зажигала ее, пока не наступали сумерки, а до этого времени оставалось еще несколько часов.
Чуть раньше днем бабушка сказала, что завтра будет две недели с тех пор, как Адель появилась здесь. Адель не показалось, что прошло много времени, она была слишком больна, чтобы замечать, как текут дни.
Ей было очень странно проснуться и обнаружить себя в бабушкиной постели, с бабушкой рядом, и узнать, что она целых три дня не приходила в себя. Последнее, что она хорошо помнила, — это что бабушка дала ей кусок пирога и чашку чая и ушла. У чая был какой-то странный вкус, а пирог был сухим и отвратительным, а потом вдруг она почувствовала себя совсем плохо и попыталась выйти в туалет. Что случилось дальше, она совершенно не помнила.
Она поняла, что ей, вероятно, было очень плохо, по тому, как обращалась с ней бабушка. Хонор пришлось отнести ее на руках на горшок, она вымыла ее, причесала волосы и накормила с ложки, как маленького ребенка.
Как только Адель перестала все время хотеть спать, бабушка обложила ее подушками и позволила ей читать. Это по-настоящему удивило ее, потому что мать вела себя совершенно отвратительно, когда она болела и не могла ходить в школу. Она выхватывала у нее любую игрушку или книгу, заявляя, что если она достаточно хорошо себя чувствует, чтобы читать или играть, то могла бы встать и сделать что-нибудь полезное. Кроме того, мать никогда не готовила особенной еды, которую было бы легко есть. Бабушка приготовила ей нечто, что она назвала сладким пирогом. Это было похоже на скользкое бланманже, довольно вкусное, как только она привыкла ко вкусу. Потом еще были яйца в мешочек, рисовый пудинг и много куриного супа.
Но больше всего Адель оценила книжки. Она забыла о том, что ей очень плохо, читая «Ребекку с фермы «Солнечный ручей» и «Что сделала Кэти». Она даже не вспоминала о матери, об умершей Памеле и о том, что происходило в «Пихтах». На самом деле она даже не хотела поправляться, было так чудесно просто погрузиться в чью-то жизнь и приключения. Она не хотела думать, что с ней будет, когда она выздоровеет.
А сейчас она шла на поправку, ей разрешили сидеть на стуле, и Адель смогла понять, как живет бабушка. Куры и кролики в саду, которых она смутно помнила, были ее доходом. Она продавала куриные яйца и кроличьи мясо и шкурки. Кроме этого, она консервировала все, что могла, и выращивала фрукты и овощи.
Ей приходилось тяжело работать с раннего утра до самых сумерек, и Адель чувствовала, что бабушка будет очень рада отдать ее кому-нибудь, потому что у нее хватало дел и без непрошеных гостей.
Адель не думала о том, хотела ли она остаться здесь навсегда. В этом не было смысла, так как она знала, что взрослые не принимают во внимание желания детей. Но она видела, что ее бабушка была самым необычным и непостижимым человеком, которого она когда-либо встречала.
То, что она ухаживала за Адель, когда та сильно болела, было доказательством ее доброты и мягкости. Но теперь она все время была резкой, и ее высокопарная манера выражаться не вязалась с ее мужской одеждой и вообще всем образом жизни.
Она была не очень разговорчивой, а когда разговаривала, выпаливала вопросы. В основном ответы на них ее злили. Адель хотелось бы сказать что-нибудь такое, что заставило бы бабушку рассмеяться или хотя бы улыбнуться.
И еще, когда бабушка делала что-то по-настоящему доброе и хорошее, она делала вид, что ничего особенного не сделала.
И история со второй спальней — тому подтверждение. Адель даже не знала, что была еще одна комната, пока бабушка не сказала, что перенесла туда матрац и в будущем Адель будет спать там.
Все время, пока она находилась на бабушкиной кровати, перед глазами Адель стояла гостиная, какой она впервые увидела ее. Она так хорошо помнила ее захламленной, что для нее было огромным удивлением, когда однажды бабушка помогла ей в первый раз встать и пойти туда, потому что теперь там все было совершенно по-другому.
Там уже не было никаких коробок, это была обычная комната. Хотя слово «обычная» не вполне подходило к ней, поскольку Адель никогда не видела таких необычных вещей, которые были у ее бабушки, но, по крайней мере, они располагались в комнате в порядке. Птица под стеклянным колпаком сидела на буфете. Медведь-вешалка стоял у входной двери, а стол и стулья — посреди комнаты, которую они заняли почти целиком, и на столе стояла ваза с полевыми цветами. На стенах висели картины в ярких красках, полки с книгами и безделушками, а на полу лежал чудесный ковер — такие ковры бывают у богатых людей в их домах.
Дверь во вторую спальню, вероятно, была раньше скрыта за матрацем. Адель почти в полной уверенности ожидала, что комната будет пустой и обшарпанной, какой была ее комната в «Пихтах», иначе зачем было загораживать дверь в нее? Но, к ее абсолютному удивлению, комната оказалась по-настоящему милой, с красивыми бело-зелеными обоями, занавесками, деревянной кроватью с резным изголовьем и даже с трюмо и книжным шкафом, полным книг.
Все это совершенно сбило ее с толку. Неужели память обманывала ее?
Она не могла спросить. Бабушка не любила вопросов, несмотря на то что сама разговаривала одними вопросами. Поэтому она просто сказала, что комната очень милая, и больше ничего.
Тайна не раскрылась, пока Адель не услышала, как бабушка разговаривает с почтальоном. Он спросил ее, удачно ли она наклеила обои и не нужно ли ей помочь что-нибудь передвинуть. И тут Адель поняла: эта комната много лет не использовалась, возможно, с тех самых пор, как ее мать уехала отсюда. Всю мебель из комнаты передвинули по какой-то причине в гостиную. Но бабушка привела ее в порядок и вернула мебель на места, пока Адель болела.
Почему она так ничего и не сказала об этом? Это была еще одна неразгаданная тайна.
А сейчас Хонор шила для Адель ночную рубашку. Она откопала какой-то кусок фланелета и шила на своей швейной машине. Даже когда она признавалась в том, что делала, она не говорила этого мягко. Она просто рявкнула: «В любой из моих рубашек ты просто утонешь, они слишком велики».
И комната, и ночная рубашка натолкнули Адель на мысль, что бабушка, возможно, намеревалась оставить ее у себя, но девочка предположила, что вряд ли бабушка сможет отослать ее в другой приют без единой ночной рубашки. Ей хотелось собраться с духом и спросить, когда это произойдет. Но она не осмелилась, как не осмелилась тогда спросить, можно ли зажечь лампу раньше.
Еще одной странностью было то, как бабушка реагировала на все, что Адель рассказывала о Роуз. Иногда она вдруг вставала и выходила в сад, прежде чем Адель успевала рассказать до конца. Единственный раз она дослушала до конца — когда Адель рассказала ей о том, как умерла Памела и как она скучала по ней. Бабушка, как всегда, фыркнула и сказала, что так всегда бывает.
Адель ерзала на стуле. Она скучала, сидя просто так, без дела. Ей было жаль, что у бабушки не было приемника, тогда ей не было бы так одиноко. В последние два дня ей разрешили пару часов после обеда сидеть в саду. Это было просто замечательно, но ее так и тянуло пойти посмотреть на старый разрушенный замок, реки и птиц. И еще она умирала от желания увидеть море.
— Может быть, мне сделать нам по чашке чая? Или мне пора идти спать? — выпалила Адель. По крайней мере она сможет увидеть из окна спальни, как заходит солнце.
Хонор взглянула на девочку и подумала, что сейчас она выглядит намного лучше. Все то время, пока Адель тяжело болела, она выглядела ужасно: кожа на ее лице сходила большими чешуйками, придавая ей какой-то пестрый вид, волосы были как грязная солома, а странные зеленоватые глаза казались просто огромными для такого худого лица. Но хорошая еда, отдых, пара дней на свежем воздухе в саду и тщательное мытье головы сделали чудеса. Ее волосы сейчас отливали золотом, на щеках появился легкий румянец, и глаза при более близком рассмотрении были довольно красивыми. Хонор поняла, что девочке скучно, и это было еще одним признаком того, что она идет на поправку.
— Я скоро сделаю нам немного какао, — сказала она, вынув несколько булавок из рукава ночной рубашки.
В последние несколько дней она расспрашивала Адель о ее жизни в Лондоне и удивлялась тому, какой точной и хорошей рассказчицей была девочка. Без видимых усилий она так ясно рисовала картины своего дома, семьи и соседей, что Хонор казалось, будто она побывала там. Дело не в том, что она хотела себе это представить. Ей было мучительно больно видеть Роуз пьяной ведьмой, замужем за грубым, необразованным человеком, живущей в настоящей дыре. Хонор не понимала, почему Адель, будучи девочкой явно очень умной, не сердилась и не обижалась на мать, которая обращалась с ней с таким презрением.
Но, возможно, ребенок, воспитанный без настоящей любви, не имел представления о том, что это такое?
Сложив вместе все кусочки информации о Роуз, Хонор подумала, что отец Адель, вполне вероятно, был женатым мужчиной и что Роуз встретилась с ним, работая в «Джордже» в Рае.
Роуз было жаль покидать Танбридж-Уэлс и всех друзей, которые у нее там были. Она была мрачной и трудно управляемой первое время, но казалось, что она понемногу адаптировалась. И только спустя четыре года, когда Роуз исполнилось пятнадцать лет и она получила работу в гостинице, она стала проявлять первые признаки стыда за то, где и как ей приходилось жить.
Отель «Джордж» был для богатых людей, и единственной темой разговоров Роуз вдруг стало, что носят гости отеля, что они едят и как они выглядят. Когда Фрэнка привезли домой из Франции, Роуз часто оставалась на ночь в отеле, когда там проходил особенный ужин или вечеринка. Хонор не упрекала ее за это и даже не спрашивала, платили ли ей дополнительно за сверхурочные, потому что она бОльшую часть времени была слишком занята выхаживанием Фрэнка, чтобы думать о чем-либо еще. И все же она вспомнила сейчас, как время от времени думала, не влюблена ли в кого-нибудь Роуз, потому что она казалась рассеянной, пугливой и была слишком озабочена своей внешностью.
Если бы этот кто-то был неженатым, ординарным мужчиной, она наверняка рассказала бы о нем или даже попросила бы разрешения привести его домой.
Хонор сомневалась, узнает ли когда-нибудь правду о том, что случилось с Роуз после того, как она сбежала. Возможно, ей было лучше не знать, почему она кончила в трущобах с мужчиной, с которым не имела ничего общего. Но какова бы ни была причина, Хонор не могла понять, почему эта причина мешала ей любить собственного ребенка. Женщины везде и всюду выходили замуж за мужчин, которых не любили, из-за денег, положения и по многим другим причинам, и все же они слепо любили своих детей. И Роуз, по всему было ясно, любила Памелу, дочь Джима.
Слушая, как Адель с несчастным видом пересказывает события, которые довели мать до больницы, Хонор вдруг поняла, что уже не имеет значения, как Роуз поступила с ней и с Фрэнком. Это стало таким несущественным после того, как она поступила с Адель. Она не только не смогла любить, заботиться и защищать свою дочь, она взвалила тяжелое бремя вины за смерть Памелы на ее детские плечи.
Хонор поняла, что она должна снять этот груз с Адель, но как это сделать? Хонор никогда не умела разговаривать; она могла упорядочить все мысли в своей голове, знала, что нужно сказать, но слова всегда вырывались у нее как-то неправильно. Даже когда она была молодой, ее часто обвиняли в резкости, бездушности и даже черствости. Она себя такой не считала, просто она не умела выражать свои собственные чувства. Чем старше она становилась и чем больше времени проводила одна, тем хуже она становилась. Но ей очень хотелось, чтобы это было не так.
Фрэнк был единственным человеком, который знал, что она прячет свою мягкость под жесткой ракушкой, чтобы защититься. Но они были настолько близки, что могли почти читать мысли друг друга, и им часто хватало одного слова там, где другим потребовалась бы дюжина. Если бы Фрэнк был здесь сейчас, он бы точно знал, как помочь Адель. У него хватало терпения ждать нужного момента, он читал чужие мысли и обладал особым талантом заставлять людей быть с ним откровенными.
Но Фрэнка с ней не было, и Хонор знала, что ей придется справляться с этим самой. Хотя ей и хотелось поступить с этим так, как она поступала со всем, что беспокоило ее или мешало ей, — упаковать в коробку, как лишнее постельное белье или посуду, но в этот раз она не могла так поступить.
В первую очередь нужно было выяснить, что произошло с Адель в «Пихтах». Если мужчина, которому передавали детей под опеку, приставал к ним, его нужно было остановить.
— Я сама могла бы сделать какао, — сказала вдруг Адель, прерывая размышления Хонор. — Вы весь день на ногах и, должно быть, устали.
У Хонор стал комок в горле, потому что чувствительность девочки была еще одним доказательством того, что она провела свое детство, пытаясь угодить людям. Когда Хонор было двенадцать, ей даже не пришло бы в голову, что взрослая женщина может быть уставшей.
— Не сейчас, мы сделаем это потом. Я хочу, чтобы ты мне рассказала, почему сбежала из «Пихт», — сказала она прямо.
— Мне там не нравилось, — сказала Адель, вдруг уходя от темы.
— Нет, была еще одна причина, и ты это знаешь, — настаивала Хонор. — Давай ты просто мне расскажешь, и мы с этим покончим.
— Я не могу.
Хонор увидела, как у девочки опустилась голова.
— Я знаю, тяжело говорить о вещах, которые тебя смущают, — сказала Хонор. — Но я должна знать правду. Видишь ли, меня сейчас в любой день могут вызвать в полицию.
Адель встревоженно подняла голову.
— Почему? Я не сделала ничего плохого.
— Я уверена, что ты ничего не сделала. Но когда ты сбежала, мистер Мэйкпис должен был уведомить полицию о твоем исчезновении. Вероятно, они тебя ищут, и если я не скажу им, что ты здесь, у меня могут быть большие неприятности. Мне также придется рассказать им, по какой причине ты сбежала, позаботиться о том, чтобы тебя не отослали обратно.
— Меня не могут отослать обратно! — воскликнула Адель.
— Могут, — твердо сказала Хонор. — Пусть я твоя бабушка, но ты была передана под опеку Мэйкписам, а не мне.
— Я не могу остаться здесь с вами? — проговорила Адель чуть не плача. В ее широко открытых глазах застыл страх. — Пожалуйста, бабуля!
Хонор знала, что слово «бабуля» просто слетело у девочки с языка, но оно тронуло что-то в глубине ее. Девочка все это время продолжала называть ее «миссис Харрис», и Хонор не предложила ничего менее формального, потому что не хотела эмоций.
— Я сомневаюсь, что они позволят тебе здесь остаться, — сказала она резко. — Они посмотрят на это место, где нет ни электричества, ни ванной, и подумают, что для тебя будет лучше быть в том большом доме вместе с другими детьми.
— Но здесь я в безопасности, — возразила Адель.
Две недели назад этот довод ничего не значил бы для Хонор. Но страх, что девочка может умереть, и то, что она выхаживала ее, и то, то девочка была такой милой и ни на что не жаловалась, изменили ее точку зрения. Хотя у Хонор все еще было множество сомнений насчет того, сможет ли она стать подходящим опекуном ребенка и сможет ли найти деньги на ее содержание, Адель как-то незаметно прокралась под ее жесткую ракушку. И если только не объявится никто более подходящий с приличным домом для ее внучки, она не собирается отдавать ее без борьбы.
— Чувствовать себя в безопасности означает доверять кому-то, — сказала она. — Ты мне доверяешь?
Адель кивнула.
— Если ты мне доверяешь, то можешь рассказать, что случилось, — настаивала Хонор.
Она ждала. Девочка хмурилась, будто не зная, с чего начать. Время от времени она бросала быстрый взгляд на Хонор, открывала рот, собираясь заговорить, и закрывала его снова.
Хонор хотелось прикрикнуть на нее и заставить рассказать все разом до конца, но она взяла себя в руки и подумала, что бы сделал и сказал на ее месте Фрэнк.
— Начни с того, что тебе не понравилось, — предложила она. — Как только ты это скажешь, остальное будет рассказать уже нетрудно.
— Он забрался ко мне в постель, — быстро проговорила Адель. — Он… — она замолчала и расплакалась.
Хонор хотелось облегчить ей задачу, подсказав слово «изнасиловал». Но она сама в двенадцать лет не знала, что означает это слово, и чувствовала, что Адель была такой же невинной. Когда Фрэнк начал поправляться, он сказал ей, что, когда рассказал ей все те ужасные вещи, которые видел на войне, это помогло ему немного забыть их. Возможно, если Адель наберется храбрости и расскажет об этом кошмаре, это поможет ей тоже.
— Иди сядь со мной рядом, — сказала Хонор, похлопав по сиденью рядом с собой.
Адель быстрее молнии прыгнула со своего стула к ней на кушетку, и ее желание, чтобы кто-то обнял ее, было таким очевидным, что у Хонор стал ком в горле. Она не помнила, как обвила девочку руками, успокаивая ее.
— Рассказывай, — прошептала она. — Я слушаю.
— Он полез мне руками под ночную рубашку и трогал меня, — рыдала Адель, уткнувшись головой Хонор в грудь. — Он сказал, что так показывает мне, что любит меня. Он лег на меня и пытался всунуть эту штуку в меня.
— Он всунул ее в тебя? — спросила Хонор, и ее чуть не стошнило от этого жестокого вопроса.
— Я не думаю, она была такая большая, и я все время уворачивалась. Но он заставил меня держать ее, — добавила она.
— Ну и?..
— Я сказала, что меня сейчас стошнит, когда из нее что-то вылилось. Он велел мне бежать в ванную, и я побежала. Меня много раз рвало. Он просто оставил меня там. Я думаю, он вернулся к себе в постель.
Хонор закрыла глаза и издала про себя вздох облегчения, что он не изнасиловал ребенка.
— И как скоро после этого ты убежала из «Пихт»? — спросила она.
— В ту самую ночь, — сказала Адель. — Я не могла остаться там, правда? Поэтому я просто вымылась, оделась и ушла.
Хонор почувствовала, что снова может дышать.
— Да, ты правильно сделала, что убежала, — сказала она, гладя девочку по голове. — Он был очень злым человеком, если так поступил с тобой, а ты была очень храброй. Ну а сейчас мы с тобой попьем какао и ты мне расскажешь, как вел себя мистер Мэйкпис с тех пор, как ты приехала в «Пихты».
Хонор дрожала, ставя молоко на плиту, зажигая масляную лампу и задвигая занавески. Адель свернулась клубочком на кушетке, уже не плача, а просто изредка всхлипывая, но она выглядела такой несчастной. Хонор спрашивала себя, правильно ли она поступила. Она не простила бы себе, если бы бедная девочка снова заболела или если бы от этого у нее начались кошмары.
Пока они пили какао, Адель рассказала ей все о мистере Мэйкписе, и когда она рассказывала о частных уроках и о том, каким важным он стал для нее, Хонор ясно увидела всю картину.
Это была жуткая история, поскольку, будучи взрослой, она понимала, как тщательно мужчина все спланировал наперед. Он разжалобил Адель, рассказывая ей, какой она была умной и особенной, и не привыкшая к вниманию девочка не понимала, что его ласки были неприличны. Ее отделили от других детей, и она стала еще больше зависеть от него, и к той ночи он, вероятно, уже думал, что девочка находится в его полной власти.
Хонор не сомневалась, что, если бы Адель той ночью не сбежала, сейчас он пользовался бы ею когда хотел.
— Я была виновата сама? — спросила Адель чуть позже.
— Конечно нет, — ответила Хонор чуть резковато, потому что была уставшей и опустошенной. — Это он был плохим человеком. Но ты сейчас в безопасности. Все кончено.
— Но что, если полиция скажет, что я должна возвращаться обратно в «Пихты»? — тихо спросила Адель.
— Если они это скажут, им придется посчитаться со мной, — сказала свирепо Хонор. — С этого момента все решения на твой счет буду принимать я.
— Это значит, что вы позволите мне остаться с вами, миссис Харрис?
Хонор посмотрела на Адель и подумала, что она выглядит как испуганный кролик под прожектором. Огромные глаза, все еще полные слез, дрожащие губы. Она почувствовала, что сделает что-то по-настоящему стоящее, если пострижет ей волосы, расчешет их, пока они не заблестят, откормит ее, пока эти ручки и ножки, тонкие как палки, не приобретут форму, и заполнит ее голову красотой природы, пока в ней не останется места для мерзких воспоминаний, которые одолевали ее сейчас.
— Я думаю, лучше, если ты будешь называть меня бабушкой, — сказала она с улыбкой. — И для них же будет лучше, если они позволят тебе остаться здесь, после всей моей мороки, чтобы поставить тебя на ноги.
Часть вторая
Глава девятая
1933
Адель глубоко погрузилась в свои мысли, пока рвала цветы можжевельника на болотах. Бабушка использовала их, делая из них вино, которое продавала в Рае вместе с консервами, яйцами и другими продуктами. Огромная соломенная корзина была уже почти полна, и все руки Адель покрылись крошечными царапинами от колючих кустов. Она почти не замечала их, как не замечала и холодного весеннего ветра. За почти два года жизни с бабушкой она научилась не обращать внимания на такие вещи.
Адель знала, что она сильно изменилась с тех пор, как, смертельно уставшая и больная, дошла до Керлью-коттедж. Она выросла на несколько дюймов — до пяти футов и трех дюймов, и хотя все еще была худой, на руках и ногах стали очерчиваться мускулы. Она была в восторге от того, что у нее отросли волосы, такие густые и блестящие, и цвет лица стал ясным и светлым, но она еще не примирилась со своей намечающейся грудью. Это больше смущало ее, вместо того чтобы радовать.
Если бы кто-то спросил ее, что она считает самой существенной переменой в себе, она, вероятно, заявила бы, что рост. Но в глубине души она знала, что теперь она счастлива.
Хотя ее жизнь с бабушкой была временами трудной, особенно зимой, и не имела ничего общего с представлением об идеальном доме, которое было у нее с детства, она в результате полюбила ее. Бабушка была резкой и странной, но она была постоянной. Адель не приходилось все время быть готовой к неожиданным вспышкам ярости, ее никогда не унижали и никогда не высмеивали то, что она делала.
Возможно, ей не хватало кое-каких объяснений, например, что именно произошло между ее матерью и бабушкой, где находилась в данный момент мама и было ли ей лучше. Ей было бы легче, если бы она знала, попыталась ли мама узнать, под хорошей ли опекой находится Адель, и был ли наказан мистер Мэйкпис за то, что сделал с ней.
Но ждать от бабушки объяснений было напрасно, особенно если тема была щепетильной. Тем не менее Адель все же поняла, что бабушка мудрая и честная женщина и что она все расскажет ей, когда посчитает нужным, потому что за ее черствым видом скрывалась очень нежная душа.
Зимой Адель никогда не уходила в школу, не съев большой тарелки каши, а еще бабушка у печки подогревала ее пальто. В жаркие летние дни, когда она возвращалась домой, бабушка часто устраивала пикник на пляже. Когда ночью была буря, она всегда вставала и приходила в комнату к Адель проверить, не испугалась ли она. Она интересовалась тем, что Адель изучала в школе, и часто объясняла лучше, чем ее учительница.
В течение первого лета здесь Адель поставила под сомнение почти все, что раньше считала важным. В Лондоне всем правили деньги. Скандалы между родителями в основном начинались из-за них, без них нельзя было платить аренду, покупать еду, ходить в паб или в кино. Адель всегда думала, что именно деньги делают людей счастливыми.
Но бабушка мало значения придавала деньгам. Она была экономна с теми небольшими деньгами, которые у нее были, но они предназначались только для покупки основного: масла для ламп, муки, чая и сахара; почти все остальное она делала, разводила, выращивала или собирала.
Она топила печь хворостом, который собирала, выращивала овощи, сама пекла хлеб. Транспортом были или ее ноги, или старый велосипед. Она консервировала любые сезонные фрукты и овощи: можжевельник, бузину и чернику можно было собирать бесплатно. Она ничего не выбрасывала — старое платье можно было перешить, сделав юбку или блузу, а очистки от овощей и помет кур и кроликов использовался как компост для сада.
Но бабушка не считала это трудностями, ей нравилась жизнь в деревне, и Адель тоже научилась любить эту жизнь.
Вначале Адель полагала, что ей всегда будет не хватать Лондона с его магазинами, кинотеатрами и толпами людей. Находясь в «Пихтах», она тосковала по рыбе с жареной картошкой, по трамваям, и ее раздражала деревенская тишина. И все же в первое лето здесь, как только она достаточно окрепла, чтобы выходить из дома, она благодаря бабушке познакомилась с красотой бабушкиных любимых болот и обнаружила мир более прекрасный и волнующий, чем все то, о чем она когда-либо мечтала.
Это не было унылым и бесплодным местом, как она сначала подумала. Это был дом для всевозможных растений, птиц и другой дикой природы. Когда они гуляли, одновременно собирая хворост, бабушка указывала ей на разных птиц и говорила, как они называются. Она могла различить каждую из них по крику, знала каждое растение и травинку. Адель медленно охватывало это волшебство, и она полюбила гулять одна, наслаждаясь покоем и красотой, Она вспоминала, что в Лондоне летом листья на деревьях были вялыми и грязными от пыли и сажи. Она обычно вспоминала неприятный запах канализации и гниющей еды, жаркие липкие ночи, когда она не могла спать, постоянный шум машин, крики и скандалы людей. Теперь же все звуки, которые доносились через окно ее спальни, были тихими: блеяние овец, уханье совы, плеск волн на галечном пляже.
Бабушка разрешила ей не ходить в школу до самого начала осеннего семестра в сентябре, но, к своему удивлению, Адель не чувствовала себя одинокой без других детей. В доме было множество книг, она могла рисовать карандашами и красками, шить и вязать. А еще бабушка научила ее плавать и ездить на велосипеде.
Адель улыбнулась сама себе, вспомнив, как она в самый первый раз увидела бабушку в купальном костюме. Это был очень старомодный трикотажный костюм темно-синего цвета с красной полоской вдоль груди, почти как комбинезончик младенца, прикрывавший ее до самых колен и локтей. И все-таки у нее была хорошая фигура для пятидесятилетней женщины, все еще стройной, с крепкими мышцами и с ногами красивой формы. И она умела плавать как рыба, ныряя в волны с ликованием ребенка. Она сказала, что отец научил ее, когда ей было всего пять лет, несмотря на то что в то время это считалось неприличным для девочки. У отца была сестра, которая утонула в реке, и поэтому он считал, что все дети должны уметь плавать, потому что вода привлекает их.
Хонор была хорошим учителем, удивительно терпеливой и очень подбадривавшей. Показывала ли она Адель, как варить варенье и печь хлеб, рассказывала ли, как отличить сорняки от полезных растений, учила ли ее ездить на велосипеде — у нее был талант объяснять все так, что Адель немедленно понимала суть, а потом она отходила и давала девочке попробовать самой.
Адель сейчас делала такие вещи, которые даже не могла себе представить в Лондоне. Она могла освежевать кролика почти так же хорошо, как бабушка, она умела готовить и могла развести огонь всего от одной спички и потом поддерживать его, научилась ощипывать кур и рубить дрова.
Собирая цветы можжевельника, Адель думала о будущем, а не обо всем том, чему уже научилась. Через три месяца, в июле, ей будет четырнадцать лет и она сможет оставить школу и пойти работать.
Спад, или Депрессия, как его называли некоторые, продолжался, и ситуация становилась все хуже, потому что многие предприятия закрывались. Хотя в руки Адель редко попадали газеты, она видела реальное влияние безработицы в Рае, когда ходила в школу. Мужчины стояли вдоль набережной группками, и на их лицах была написана озабоченность и почти наверняка голод. Она видела, как их жены с вытянутыми лицами заглядывали с тоской в витрины. И многие дети на самых бедных улицах Рая были такими бледными, худыми и сонными как мухи, что Адель часто чувствовала себя виноватой, потому что у нее было вполне достаточно еды.
Ее бабушка имела очень категоричные взгляды по поводу тяжелого положения бедных, хотя она не относила себя к ним. Она сердилась на так называемый Тест средств, потому что он означал, что некоторым семьям пришлось продать свою мебель и другие пожитки, чтобы иметь право на пособие по безработице. Она считала аморальным, что богатые продолжали покупать автомобили и дорогую одежду и ездили отдыхать во Францию или в Италию, и при этом платили своей прислуге деньги, которых едва хватало на еду. Когда она услышала, как двоих мужчин арестовали за то, что они украли овцу на болоте, потому что их семьи голодали, она пошла в Рай и высказала полиции все, что думает. Она указала на то, что семьи этих несчастных будут страдать еще больше, если их посадят в тюрьму. И что такое одна овца, если фермер даже не знал точно, сколько у него овец?
Адель имела лишь приблизительное представление о том, что происходит в других частях Англии и в остальных странах, периодически посещая кинотеатр в Рае. В «Пэйс-Ньюс» она видела простаивающие доки, оборванных мужчин, размахивавших флагами и выпрашивавших работу, огромные очереди у супных кухонь в Америке, гангстеров, убивающих друг друга в таких городах, как Чикаго, и какой-то зловещий приход к власти в Германии человека по имени Адольф Гитлер.
Она иногда чувствовала себя немного виноватой, что меньше переживала реальные события в мире, чем историю в одном голливудском фильме, который однажды они с бабушкой видели. Но было так хорошо смотреть, как шикарные кинозвезды танцуют и поют в ослепительной одежде, одним глазом взглянуть на мир, в котором дома были, как дворцы, и у всех были большие машины, шубы и бассейны.
Бабушка очень любила замечать, что «Голливуд — это наркотик для серой массы», и она, вероятно, была права, но даже несмотря на это, Адель не могла не думать, что если она получит хорошее место работы, возможно, она сможет покупать красивую одежду и сделать так, чтобы бабушка не работала так много и гордилась ею.
* * *
— Извини!
Адель вздрогнула от неожиданного звука мужского голоса и, повернувшись, увидела мальчика с велосипедом.
— Извини. Я не хотел тебя напугать, — сказал он извиняющимся тоном.
Красивый голос и шикарная одежда выделяли его среди местных мальчиков, которых она знала в лицо. Ему могло быть около шестнадцати лет, у него был свежий цвет лица, блестящие черные волосы, и он был высоким и стройным.
— Я не слышала, как ты подъехал, — сказала она, сильно краснея, потому что знала, что покажется бродяжкой любому, кто одет в серые фланелевые брюки с заглаженными складками и твидовую куртку, как с витрины портного.
В школе Адель выглядела так же, как и ее одноклассники, и часто была одета лучше их, потому что бабушка отлично шила, и у нее было платье с передником и блуза не хуже, чем из магазина. Но когда она была не в школе, ей нужно было носить практичную одежду, и Хонор сшила брюки, которые Адель носила, заткнув их в высокие сапоги, с много раз штопанным джемпером темно-синего цвета. Одна девочка в школе с сарказмом сказала, что она — точная копия ее бабушки.
— Этот ветер так воет и заглушает все звуки, — добавила она нервно.
— Я должен был позвонить в звонок, — сказал с улыбкой мальчик. — Но это показалось бы ужасно грубо. Я только хотел узнать, проеду ли я так в гавань Рай.
У него была милая улыбка и прекрасные темно-синие глаза, и ей понравились его хорошие манеры. Большинство мальчиков, которых она знала, были очень неотесанными.
— Тебе будет тяжело проехать туда на велосипеде, — сказала она. — Там на некоторых участках болотисто и масса гальки. В тех местах замечательно гулять, но если ты хочешь доехать туда на велосипеде, лучше поехать по дороге.
— На самом деле я просто разведываю все вокруг, — сказал он и с любопытством посмотрел на ее корзину с цветами можжевельника. — А зачем ты их собираешь?
— Чтобы делать вино, — сказала она. — Моя бабушка его делает.
У него был удивленный вид.
— А на что оно похоже?
— Она не разрешает мне его пить, — сказала Адель с усмешкой. — Но я один раз попробовала. Оно сладковатое и пахнет цветами. Говорят, что с одного стакана можно напиться, а с двух упасть пьяным замертво.
Он рассмеялся.
— Так твоя бабушка все время пьяная?
— Нет, она только продает его, — сказала Адель с упреком. За два года она уже привыкла, что люди высмеивают ее бабушку, и отлично научилась защищать ее.
— Я просто пошутил, — сказал он. — Я никогда не встречал людей, которые делают вино, мои родители покупают его у торговца винами. А я мог бы купить для них бутылку вина попробовать?
Адель не знала, как ответить на этот вопрос. Бабушка всегда продавала все свое вино одному человеку в Рае. Он давал ей бутылки и затем продавал его своим клиентам вместе с вином из бузины, одуванчиков и другими винами, которые она делала.
— Мне нужно будет спросить у нее, — пояснила она. — А ты здесь на каникулах?
— Не совсем, — сказал он. — Моя бабушка только что умерла, поэтому я приехал с родителями, чтобы помочь дедушке организовать похороны. Он живет в Винчелси.
— А твоя бабушка случайно не миссис Уайтхауз? Моя бабушка только вчера упомянула, что она умерла. Если это так, мне очень жаль.
— Да, это она, — кивнул он. — Ей было за семьдесят, и она была хрупкого здоровья, так что этого следовало ожидать. Я не очень хорошо ее знал. Мама привозила нас сюда, когда я был совсем маленьким, но я думаю, что бабушке было слишком тяжело справляться с шумными мальчишками. Мы будем здесь, пока мне не придется возвращаться в школу после пасхальных каникул.
— В школу? — воскликнула Адель, не подумав. Все, кого она знала, оканчивали школу в четырнадцать лет, а он был наверняка старше.
— Ну да, — сказал он, явно ошеломленный ее замечанием. — А ты что, уже окончила?
— Нет, но я окончу этим летом, — сказала она. — Я как раз думала о том, чтобы найти работу, когда ты подъехал.
Он посмотрел на нее долгим, холодным взглядом, и Адель почувствовала, что он оценивает ее поношенную одежду и думает, что, может, ему не следует болтать с кем-то таким, как она.
— Я думаю, здесь это будет нелегко, — сказал он в конце концов, но у него был сочувствующий, не покровительственный тон. — Мы ездили в Рай вчера во второй половине дня, и мои родители оба заметили, что люди, вероятно, очень страдают от депрессии. А на какую работу ты рассчитываешь?
— На любую, за которую будут платить, — выпалила она, и даже самой себе показалась такой же резкой, как и ее бабушка.
Адель ожидала, что он попрощается и уедет, но, к ее удивлению, он опустил велосипед на землю и начал рвать цветы с куста можжевельника.
— Меня зовут Майкл Бэйли, и если я тебе помогу, ты быстрее закончишь, — сказал он с улыбкой. — И потом, может быть, ты покажешь мне, как пройти в гавань Рай? Конечно, в том случае, если у тебя нет более интересного занятия.
Его улыбка была такой широкой и такой приветливой, что Адель не могла не улыбнуться в ответ.
— Меня зовут Адель Талбот, — сказала она. — Но я должна отнести эти цветы домой, пока они не высохли.
— Это вежливый способ сказать, что ты не можешь или не хочешь пойти со мной?
Адель очень мало контактировала с мальчиками, поэтому она, безусловно, еще не научилась давать уклончивых ответов. Она имела в виду только то, что сказала: что ей нужно занести цветы домой, хотя, вероятно, она должна была сказать «сначала», чтобы было более ясно. Но теперь, когда он дал ей время подумать над этим, она не была уверена, правильно ли будет пойти гулять с человеком, которого она совершенно не знала.
— Почему такой человек, как ты, захотел пойти со мной погулять? — спросила Адель, обороняясь.
Он склонил голову набок и оценивающе посмотрел на нее.
— Такой человек, как я?
— Ну посмотри на себя! — сказала она, снова покраснев. — Настоящий джентльмен. Если твои родители увидят тебя со мной, у них будет сердечный приступ.
Он нахмурился и произнес:
— Не понимаю почему, — причем сказал это таким тоном, как будто на самом деле не понимал. — Почему нам нельзя погулять и поговорить и даже подружиться? Ты здесь сама с собой не чувствуешь себя одиноко?
Адель покачала головой. Вероятно, она была странной, и некоторые девочки в школе так говорили, но она никогда не чувствовала себя одиноко на болотах, она любила это место.
— Здесь так много всего, на что можно смотреть, чтобы не чувствовать себя одинокой, — она пожала плечами. — Я смотрю на диких гусей, проверяю, когда появятся первые ягнята, ищу дикие цветы. Мне намного более одиноко, когда я в городе в окружении людей.
Адель ожидала, что он привычно для нее фыркнет и назовет ее странной, но когда она подняла глаза, чтобы с вызовом посмотреть на него, то вместо этого увидела понимание и одобрение. Ее снова поразили его глаза, не только из-за их темно-синего цвета, но и из-за глубокого взгляда.
— Я тоже часто чувствую себя одиноким среди людей, — признался он. — Я даже в собственной семье себя так чувствую. А дома у бабушки с дедушкой все так мрачно, единственная тема разговоров — это приготовления к похоронам. Поэтому я и уехал с утра. Но я не знаю болот, и я не знаю, на что здесь смотреть. Пойдем, покажешь мне!
Как только корзина была полна, Адель отнесла ее домой и сразу же помчалась на встречу с Майклом. Она удивилась сама себе, потому что обычно, завидя кого-нибудь на болотах, она поворачивала в противоположном направлении. Когда она только появилась здесь, бабушка сказала, что у горожан есть шутливое выражение «болотные люди» и что они считают живущих здесь людей в лучшем случае эксцентричными, в худшем — ненормальными. Адель много раз убеждалась в распространенности этого выражения — даже девочки из ее класса могли демонстрировать свое превосходство. Но поскольку Майкл был не совсем здешний, он, возможно, не слышал этого выражения.
* * *
Майкл бросил свой велосипед, и Адель повела его по дороге, по которой она всегда ходила в гавань Рай. Это была тропка, где приходилось перепрыгивать через пару канав, заполненных грязью, переходить через ручей по дощечке и снимать несколько навесов из ивовых прутьев, которые делали пастухи, чтобы укрывать овец и новорожденных ягнят от плохой погоды.
Буквально через несколько минут Адель перестала нервничать, потому что ей стало ясно, что Майклу по-настоящему интересно посмотреть болота, и его энтузиазм напомнил ей о том, какой была она сама, когда впервые увидела это.
Они увидели дюжины ягнят, некоторые из них явно родились лишь несколько часов назад и еще с трудом стояли, шатаясь на своих маленьких ножках. Она была уверена, судя по тому, как широко улыбался Майкл, что он впервые видит таких крошечных животных.
— Что же такое с этим произошло? — спросил он, указывая на одного ягненка, который выглядел очень странно и был весь в крови.
— С ним ничего, — сказала Адель. — Пастух просто обвязал его шкурой одного умершего ягненка.
— Зачем? — спросил он.
— У него умерла мать. Некоторые овцы умирают во время родов, а иногда некоторые ягнята. Поэтому пастух снимает шкуру с мертвого ягненка и заворачивает в нее того, у которого умерла мать, поэтому та овца, которая потеряла своего ягненка, думает из-за запаха, что это он, и кормит его.
Майкл был поражен.
— А я всегда думал, что пастухи выкармливают ягнят без матери из бутылочки!
— Может быть, так и делают на обычной ферме, где всего несколько овец, — продолжала объяснять Адель. — Но здесь их сотни, можешь себе представить пастуха, который спускается сюда четыре или пять раз в день с несколькими десятками бутылочек молока! Кроме того, для ягнят лучше, если их воспитает стадо, чем если они будут домашними питомцами, потому что, когда они совсем вырастут, они могут стать просто несносными.
— А тебе никогда не хотелось какого-нибудь вырастить? — спросил Майкл, глядя на одного ягненка, который жалобно блеял, зовя мать.
Адель улыбнулась.
— О да, они такие милые. Прошлой весной я приходила сюда каждый день и смотрела на них. Я все надеялась, что найду одного брошенного, которого смогу забрать домой. Я не думаю, что бабушка выставила бы его, она любит животных. Но, похоже, пастух всегда добирался сюда раньше меня. Взрослые овцы не такие милые.
Она рассказала ему про Дымку, кролика, которого бабушка подарила ей в качестве питомца.
— Это девочка, просто красавица, светло-серого цвета, как небо на рассвете. Она такая ручная, что забегает в дом и ложится у печки. Она самое лучшее, что у меня когда-либо было!
— Так у твоей бабушки много кроликов? — спросил он.
Адель кивнула с сожалением.
— Она разводит их, а потом забивает из-за их мяса и шкурок. Когда я только поселилась здесь, я сначала думала, что она очень жестокая. Она не только забивала таких милых кроликов, она еще сворачивала шеи курам. Но сейчас я по-другому на это смотрю, Это просто способ зарабатывать на жизнь.
Потом Майкл спросил ее, почему она живет с бабушкой, и Адель рассказала ему о своих родителях то же самое, что рассказывала остальным: что мама заболела, а папа решил, что ей лучше будет жить здесь.
Но Майкл был не удовлетворен этим объяснением и по дороге в Кэмбер-Кастл продолжал задавать вопросы. Чем больна ее мама? Как часто навещает ее отец, и почему, если ее мама больна, она тоже не переедет сюда жить?
Адель понравилось, что такой приятный мальчик, как Майкл, по-настоящему заинтересовался ею, но она не хотела рассказывать историю своей семьи, поэтому делала все, что могла, чтобы сменить тему разговора. Но Майкл упорствовал и продолжал спрашивать ее о том же самом, просто по-другому формулируя вопросы.
— Почему ты не скажешь мне правду? — сказал он в конце концов, когда они добрались до развалин замка. И посмотрел на нее строго: — Это так плохо?
* * *
Адель подумала, что, если она расскажет ему всю правду, он будет считать, что это очень плохо. Но она не по этой причине не хотела раскрывать правду. Причиной была преданность бабушке. Она взяла ее к себе, когда всем остальным не было до нее дела, и ей не хотелось, чтобы кто-то знал, что ее дочь сумасшедшая и плохая мать. Бабушка часто употребляла слово «приличия», и для Адель это означало, что семейные тайны остаются тайнами и нужно сохранять чувство собственного достоинства, даже если твое платье потрепанное, а твоя бабушка явно странная.
Адель в конце концов стала восхищаться всем тем, что делало бабушку странной. Хонор Харрис обращалась со всеми одинаково — с мужчиной, которому она продавала вино и консервы, с полицейскими, со знакомым в Рае, с бродягами, которые подходили к дому летом попросить стакан воды. Она была гордой, холодной, и ее не трогали ни дешевые насмешки, ни лесть, ни какой-либо шантаж. Адель замечала, что всего лишь после короткой встречи с ней большинство людей становились довольно подобострастными.
Бабушка ходила в Рай продавать продукты с полной уверенностью, что у нее они были лучшего качества, чем у других. Она не ждала униженно, пока ее увидит владелец лавки. Если он не бросал все свои дела в тот момент, когда она заходила, она направлялась в другое место. Менеджер магазина «Дом и колониальный стиль» однажды сказал Адель про нее, что она «настоящая личность». Он был прав, она была совершенно особенная. Жесткая, способная, чопорная, с острым языком, она была также справедливой, честной и неожиданно щедрой. Она всегда откладывала пенни или два для нищих, особенно искалеченных бывших солдат. Если она узнавала, что какая-то семья находится в тяжелом положении, она собирала корзину с овощами, яйцами и курицей или кроликом, чтобы выручить их.
Бабушка жила по принципу «поступки говорят громче, чем слова», и Адель имела явные доказательства этого. С того момента, когда Хонор узнала, что сделал с Адель мистер Мэйкпис, она принялась за дело. Она никогда не рассказывала, что произошло, когда она пошла в полицию сообщить, что ее внучка у нее, но через несколько месяцев объявила, что теперь юридически является опекуном Адель. Это подтверждалось документом, и, что было особенно важно для Адель, бабушка никогда ни намеком не показала, что она пожалела об этом.
— Как хорошо ты знаешь Рай? — спросила Адель Майкла, когда они зашли в развалины Кэмбер-Кастл.
— Не заблужусь, — ответил он с широкой улыбкой. — Это очень странно, не правда ли, но я подозреваю, что ты хочешь спросить, знаю ли я его историю.
— В общем так, — улыбнулась она. — Моя бабушка отлично в этом разбирается, она могла бы поводить тебя вокруг и порассказывать истории про судостроение, контрабанду и ее связь с королевским двором. Она питает к этому почти такую же страсть, как к болотам.
— Дедушка рассказывал мне, что Рай и Винчелси были когда-то островами, но море отступило и образовалась болотистая местность, но это все, что я знаю, — ответил Майкл.
— Еще более важно знать, что Рай был одним из Пяти Портов и что этот замок построил Генри VIII, — сказала с упреком Адель. — Некоторые люди утверждают, что он построил его, чтобы запереть там Анну Болейн, но я этому не верю, он построил его в оборонных целях на случай нашествия. Это мое любимое место.
Для других замок, возможно, был простыми развалинами, но для Адель было что-то таинственное и чудесное в том, как проникла сюда природа, как на толстых каменных стенах распускались кусты, как плющ взбирался наверх, карабкаясь по каменным ступенькам, как внутри росла пышная трава и дикие цветы. Даже зимой она часто гуляла здесь, потому что внешние стены защищали ее от сырых ветров с моря и она могла сидеть и мечтать. Примулы и первоцвет расцветали здесь раньше, чем в остальных местах на болотах, здесь гнездились птицы и часто, если она сидела очень тихо, из своих нор вылезали кролики и прыгали вокруг нее.
Она представляла, как сюда верхом приезжал Генри VIII в баритом плаще, отделанном шкурками горностая, с процессией вельмож и слуг, спешивших угодить ему. Временами ей казалось, что она видела это на самом деле.
Замок был тем самым местом, где она всегда думала, и местом, куда она бежала от любой несправедливости. Несколько часов здесь — и все снова становилось на свои места.
— Это восхитительное старое место, — сказал Майкл, задумчиво глядя вокруг себя. — Но я хочу послушать о тебе, — добавил он, положив одну руку ей на плечо.
— Когда ты проведешь здесь еще немного времени, ты услышишь выражение «болотные люди», — сказала она, хихикнув. — Говорят, что у нас ветер в голове. И некоторые дети думают, что моя бабушка ведьма.
— Не думаю, что можно одновременно быть ведьмой и бабушкой. — Он рассмеялся. — Ведьмы не выходят замуж. А у твоей бабушки есть черный кот?
— Кота у нее нет, она их не любит, потому что они убивают птиц. Но полагаю, если ей придется, она сможет кое-что наколдовать, — улыбнулась Адель.
— Ну, тогда пусть она постарается для моих родителей, — сказал он, садясь на траву и облокачиваясь о стену замка. — Должно произойти настоящее чудо, чтобы они стали счастливы.
Адель удивленно посмотрела на него. Хотя она встретила его лишь несколько часов назад, он показался ей одним из тех людей, которые купаются в лучах золотого света и в мире которых все прекрасно.
Увидев ее удивление, он глухо рассмеялся.
— О, я знаю, о чем ты думаешь: привилегированный мальчик из закрытой школы! Но у моей мамы постоянно бывают приступы ярости, а потом она целыми днями лежит в постели. Папа на нее злится, и от этого все еще хуже. Если бы он просто больше времени проводил дома, был добр к ней, она могла бы измениться. Но он такой же жестокий, какая она спятившая. Я в основном бываю доволен, когда заканчиваются каникулы и нужно возвращаться в школу.
И тут вдруг Адель поняла, почему он хотел прогуляться с ней. Вероятно, у него не было намерения вываливать то, что у него на душе, но он просто хотел на какое-то время окунуться в другую жизнь. Примерно так, как они с Памелой обычно ходили в Юстон на вокзал наблюдать за людьми. Способ уйти от реальности.
И все-таки по какому-то странному повороту судьбы Майкл из всех людей, с которыми он мог поговорить, выбрал именно ее. Кто же еще по-настоящему сможет проявить сочувствие?
— Твой отец тоже жестоко обращается с тобой? — спросила она осторожно, и ее сердце сжалось от сопереживания.
— Иногда, но в основном мама. Она вообще очень требовательная, подозрительная, и с ней невероятно трудно. — Он приостановился, улыбнувшись Адель немного смущенно. — Она испортила свадьбу моей сестре, закатив истерику, — продолжал он. — Жена брата отказывается приходить к нам в дом из-за некоторых вещей, которые она говорила. Отец всегда заявляет, что это ее нервы, и покупает ей лекарства. Но я думаю, это ее еще больше сбивает с толку и пугает. — Он снова остановился и на этот раз не улыбнулся, а лишь уныло, грустно взглянул на нее подозрительно влажными глазами. — Временами я думаю, что на самом деле ей нужно просто с кем-то поговорить, — добавил он со вздохом.
Адель заметила, что он одновременно и нападает на мать, и защищает ее, и это говорило о том, что он разрывался на части. Она тоже помнила, как ее мать часто говорила, что ее никто никогда не слушает.
— Моя мама часто жаловалась, что мой папа ее не слушает, — отважилась Адель, которой так захотелось сейчас хоть раз снять покров с семейных тайн.
— Я не думаю, что есть много семей, где люди общаются, — сказал он грустно, подтянув колени к подбородку и опершись о них подбородком. — Я наблюдаю за родителями своих друзей, они во многом похожи на моих. На людях они такие вежливые, изображают из себя крепкую и преданную пару, как актеры в спектакле. Но дома, когда вокруг никого нет, кроме детей и слуг, все совершенно по-другому. Они или просто игнорируют друг друга, или пикируются с сарказмом и издевательством.
— Правда? — воскликнула Адель. Она всегда представляла себе, что у богатых людей есть все, что они хотят, включая счастье. Майкл кивнул.
— Мой старший брат Ральф и сестра Диана тоже становятся такими. Похоже, все, о чем они заботятся, — это их светская жизнь, вечеринки в собственном доме, скачки, концерты и театры. Иногда я думаю, что они боятся оставаться наедине со своим мужем или женой. Когда у Ральфа родился первый ребенок, Ральф уехал по делам. Ему не нужно было уезжать, он мог отложить — что могло быть более важным, чем быть в такой момент рядом с женой?
Адель никогда не встречала никого, кроме, разве что, Руби в «Пихтах», кто так много рассказывал бы ей о своей семье при первой встрече. Она подумала, что должна остерегаться Майкла в связи с этим. И все же инстинктивно чувствовала, что обычно он не бывает таким открытым. Адель подумала, что он, вероятно, был потрясен смертью бабушки или почувствовал в ней что-то такое, из-за чего понял, что может ей довериться.
— Там, где я жила, была традиция: мужчина идет в паб, когда проходят роды. По большому счету, это то же самое, правда?
— Нет, они празднуют рождение ребенка! — сказал он возмущенно.
Адель улыбнулась.
— Возможно, это они просто так говорят, что празднуют, — сказала она. — Но судя по тому, что я видела, большинство людей, которые принадлежат к рабочему классу, пьют, чтобы забыть о реальности. Они не хотят думать о том, что теперь в семье появился еще один едок, и точно так же не хотят помнить, что им надо платить аренду и что им повезет, если на следующей неделе у них все еще будет работа.
— Похоже, мы смотрим на это с противоположных концов, — улыбнулся Майкл. — Ты знаешь каких-нибудь людей, которые поженились по любви и потом любили друг друга?
— Моя бабушка, — порывисто сказала Адель. — Дедушка умер через несколько лет после того, как кончилась война. Она время от времени рассказывает мне о нем, и у нее делается такое мягкое лицо. У нее в коттедже есть некоторые картины, которые он нарисовал, и она всегда смотрит на них так, будто видит его самого.
— Так он был художником? — Майкл выглядел совершенно пораженным.
— Да, и очень хорошим, но его ранило на войне и он потом никогда не рисовал. Когда они только поженились, они жили в Танбридж-Уэлсе, и там, я думаю, у них была совершенно другая жизнь. Я полагаю, больше похожая на твою.
Майкл по-настоящему этим заинтересовался.
— Так они не были настоящими «болотными людьми»? — спросил он с улыбкой. — Твой дедушка приехал сюда рисовать? Это довольно романтично.
Адель сама подумала, что это ужасно романтично, когда бабушка объяснила ей все, что произошло. Она любила слушать, как они привезли всю свою шикарную мебель из Танбридж-Уэлса в повозке, запряженной лошадью. Она представляла наваленные на повозке кучей медведя-вешалку, чучело птицы и фарфоровую шкатулку, а дедушку и бабушку — сидевшими сзади, и Роуз между ними.
— Бабушка на самом деле не любит ворошить прошлое и рассказывать, почему и как все получилось, — пожала плечами Адель. — Но есть в ней такое, что ясно говорит само за себя. Она очень образованна, ее отец был директором школы, и некоторая ее мебель действительно шикарная. И дедушка был офицером в армии, а не рекрутом.
— Интригующе, — задумчиво сказал Майкл. — И ты тоже меня интригуешь, Адель. У тебя лицо юной девочки, а ум и манеры совсем не на твой возраст. Как ты думаешь, почему это?
— Ветер с болот, я полагаю, — пошутила она, боясь, что он подталкивает к ситуации, в которой она могла бы наговорить лишнего. — Пойдем, — сказала она, поднимаясь. — С такой скоростью мы никогда не доберемся до гавани в Рае.
* * *
Было шесть, когда Адель добралась до дома, расставшись с Майклом на том месте, где он раньше оставил свой велосипед. Ей было очень холодно, и она пошла прямо к печке погреть руки. Бабушка сидела и чинила носки. Она поставила тесто на опару у печки, и еще на огне медленно кипел один из ее овощных супов.
— М-м-м, — сказала Адель, понюхав воздух. — Я так проголодалась.
— Разве твой молодой человек не угостил тебя чаем с пирожным? — сказала язвительно бабушка.
Адель, удивленная, круто развернулась.
— Откуда ты знаешь, что я была с молодым человеком?
— У меня есть глаза, — отрезала она. — Болота ровные, и все видно на многие мили вокруг. Если ты пыталась его спрятать, то у тебя не получилось.
Подобное замечание было типичным для бабушки. Она называла вещи своими именами, прямо, без вопросов-подвохов и уловок.
— Разумеется, я не пыталась спрятать его. Он просто заговорил со мной, и я показала ему дорогу в гавань.
Адель почувствовала себя глупо, потому что должна была догадаться, что бабушка заметит их вместе.
— И как его зовут?
— Майкл Бэйли, — сказала Адель. — Ему грустно, потому что умерла его бабушка, миссис Уайтхауз. Ты на днях о ней говорила.
Бабушка кивнула.
— Так он, должно быть, ребенок Эмили. У Уайтхаузов было еще два сына, но они потеряли их на войне.
— Значит, ты знаешь его мать? — спросила Адель.
Бабушка сморщила нос.
— Да, знаю, высокомерная маленькая мадам, хотя она, возможно, это уже переросла. Я не видела ее бог знает сколько лет.
Адель хотелось бы узнать, на чем основывалось бабушкино мнение, но она подумала, что это может привести к тому, что она начнет пересказывать то, что говорил Майкл. Вместо этого она сказала:
— Майкл очень симпатичный. И ему по-настоящему понравились болота, по-моему, он никогда вблизи не видел новорожденного ягненка.
— Такие они, городские жители, — сказала бабушка с кривой улыбкой. — Я вспоминаю, Эмили вышла замуж за самоуверенного типа. Слишком себялюбивый, на мой вкус. Я рада, что их сын не такой.
Адель была удивлена, что бабушка не спросила ее больше о Майкле. Девочки, которых она знала по школе, говорили, что их родители всегда подозрительно относятся к противоположному полу. Но поскольку бабушка знала их семью, у нее, вероятно, не было необходимости задавать больше вопросов.
Когда Адель спросила, можно ли ей будет проехаться на велосипеде в понедельник, она была еще более удивлена, когда бабушка охотно согласилась. Она только заметила, чтобы Адель не уезжала слишком далеко, потому что погода в апреле бывает непредсказуемой.
Бабушка была права. Адель и Майкл только добрались до замка Кэмбер, как начался ливень. На какое-то время они укрылись под деревом, но им пришлось направиться домой, когда стало понятно, что дождь не прекратится еще долго.
Они промокли, но это не испортило им день. Майкл был такой хорошей компанией, с ним можно было разговаривать абсолютно обо всем. Он рассказывал ей о своих школьных друзьях, о своем доме в Гемпшире и о том, что он хочет летать на самолетах.
— Отец фыркает каждый раз, когда я это говорю, — рассмеялся он. — Видишь ли, он барристер[1], поэтому считает, что я тоже должен быть барристером. Я однажды сказал ему, что он уже запихнул Ральфа в юридический и пусть не думает, что я побегу за ним как овечка. Но, по-моему, он воображает, что, когда я поступлю в Оксфорд, я передумаю.
Адель уже поняла, что мистер Бэйли ни за что ей не понравится. Майкл рассказал, как отец жалуется, что застрял в Винчелси с трясущимся стариком, и если бы он поступал, как хотел, то уехал бы сразу же после похорон тещи. Неудивительно, подумала Адель, что нервы миссис Бэйли сдают, если у нее такой бездушный муж.
— Может быть, он думает, что ты не сможешь зарабатывать на жизнь, летая на самолетах, — сказала она.
— Ну, в этом он, вероятно, прав, — хмыкнул Майкл. — Но мне наплевать на деньги. В первый раз, когда я близко подошел к биплану, у меня что-то внутри перевернулось. Он принадлежал другу моего отца, и тот взял меня с собой прокатить. Тут я и понял, что это моя судьба.
— Я думаю, это замечательно, если у тебя есть настоящие амбиции, — сказала решительно Адель. — Но ты действительно можешь изменить мнение в Оксфорде.
Она уже знала, что Майклу почти шестнадцать лет и до Оксфорда ему осталось еще два года школы. Она думала, что он, вероятно, очень умный, раз пойдет туда, но Майкл утверждал, что он самый заурядный. Он говорил, что не думает, что у него были бы шансы попасть в Оксфорд, если бы это зависело только от оценок, а не от того, какую школу он сначала окончил.
— Я не передумаю, — сказал он решительно. — Я просто согласился попытаться поступить в Оксфорд, потому что у них есть эскадрилья. И я это сделаю, будь что будет.
Похороны миссис Уайтхауз состоялись через два дня, и остальные члены семьи Майкла приехали лишь утром перед похоронами, Адель намеревалась дойти пешком до Винчелси и просто оказаться рядом с церковью во время похорон, но бабушка пришла в ужас, когда поняла, что у Адель на уме.
— Ты не сделаешь ничего подобного, — сказала она. — Уважай себя, девочка! Неужели ты думаешь, что они оценят, как ты будешь глазеть на них в такой момент?
— Мне просто интересно на них посмотреть, — произнесла, запинаясь, Адель. — Майкл мне много о них рассказывал.
— Любопытство до добра не доведет, — сказала резко бабушка. — Думаю, мальчик вернется с тобой повидаться, как только все закончится. И лучше будет, если ты пригласишь его, чтобы я его хорошенько разглядела.
Адель подумала, что это прозвучало зловеще, но она не знала, что Майкл умеет производить впечатление на людей. Он объявился только через два дня после похорон, и в руках у него была охапка хвороста для огня, который он собрал у реки по дороге из Винчелси.
— Я надеюсь, вы не сочтете меня нахальным, миссис Харрис, — сказал он, когда Хонор открыла ему дверь. — Но я увидел разбросанные ветки и подумал, что они могли бы вам пригодиться.
— Это очень мило с твоей стороны, — сказала она. — Хотя не знаю, одобрили бы твои родители, что ты бродишь здесь. Ну заходи в дом, сегодня такой сырой день.
Адель робела и чувствовала себя неловко от присутствия Майкла в их доме. На болотах они были равны, но она ожидала, что он посчитает бабушкин дом без электричества и с туалетом во дворе трущобой по сравнению с большим домом родителей его матери.
Но Хонор спросила его про похороны, спросила, как пережил это дедушка, даже упомянула, что она знает, как отлично он играет в шахматы, и Майклу было уютно сидеть с ней, пить чай и разговаривать.
Хонор намеревалась в тот день сделать и разлить по бутылкам свое имбирное пиво. Смесь дрожжей, имбиря и сахара бродила в большом горшке у печки всю прошлую неделю.
— Я могу помочь? — спросил Майкл, когда она упомянула об этом.
Бутылки, которые Хонор планировала использовать, стояли еще во дворе немытыми. Никогда не отказываясь от предложенной помощи, она усадила Майкла за работу в судомойне: дала ему ершик для бутылок, горячую мыльную воду и сказала, что он должен вымыть бутылки и снять все этикетки.
Адель испугалась, что ему надоест и он захочет уйти, но он не ушел. Он за короткое время вымыл все бутылки до блеска и принес их в гостиную, как раз когда Адель с бабушкой закончили процеживать дрожжевую смесь, добавили лимона и воды и были готовы наполнять бутылки.
— И когда оно будет готово, чтобы его можно было пить? — спросил он, забирая у них тяжелое ведро мутного имбирного пива, чтобы налить его через воронку, которую Хонор держала в бутылке.
— Ему нужно осесть, и это займет по меньшей мере пару недель, — ответила Хонор. — Оно удивительно вкусное. Адель сейчас даст тебе попить немного готового. Оно безалкогольное в отличие от моего вина, и говорят, что имбирь хорош для кровообращения. Я сама живой пример. У меня редко бывают холодные руки или ноги.
— Тогда лучше будет, если я начну его пить, — сказал Майкл, подмигнув Адель. — Один из недостатков пилотов — это холодные руки и ноги.
Адель была удивлена, увидев, как быстро он завоевал бабушку. Она не только сказала, что он может заходить в любое время, если у него не будет других дел, но и сердечно поблагодарила его за помощь и за хворост.
После этого он приходил каждый день, и не было дня, чтобы он не спросил, что он может сделать для Хонор, прежде чем предложить Адель погулять или покататься на велосипеде. Он залез на крышу, чтобы закрепить расшатавшуюся черепицу, собирал хворост, помогал пропалывать огород и укрепил вьющуюся розу вокруг решетки для растений у крыльца входной двери. Однажды он побледнел, когда Хонор убила несколько кроликов, и все же остался помочь освежевать их.
И все-таки Хонор он нравился не столько из-за того, что он говорил или делал, а сколько из-за того, каким он был сам по себе. В нем не было ни капли снобизма: он искренне интересовался тем, как она зарабатывала на жизнь, и открыто восхищался ее изобретательностью и находчивостью. Хонор сказала, что ей нравятся его умные вопросы, его сила и то, что он не привередливый.
— Он хороший мальчик, — сказала она однажды поздно вечером, когда они с Адель пили на ночь какао. — Я бы никогда не поверила, что у Эмили Уайтхауз хоть кто-то из детей не будет никчемным снобом.
— Я думаю, судя по тому, что Майкл рассказал мне, его мать немного нервная, — доверила ей Адель, надеясь, что она не обманула его доверие.
— И ее мать такой была, — сказала бабушка со злой улыбкой. — Я однажды ей сказала: «Ты должна уметь постоять за себя, женщина, не позволяй Сесилу себя использовать как дверной коврик». Она захныкала и пробормотала что-то насчет того, что муж должен быть главой семьи.
Адель была изумлена.
— Я не подозревала, что ты так хорошо ее знала! — воскликнула она.
— Мы были друзьями. — Хонор поджала губы, как она всегда делала, когда не хотела распространяться на какую-то тему. — Разумеется, она была намного старше меня, но несмотря на это, мы все равно были друзьями. Хотя ситуация вроде как изменилась, когда я начала убирать у нее в доме. Тогда началась война, и мне приходилось это делать, мне были нужны деньги. Еще я пару раз ее выручала, когда Эмили, будучи еще молодой, сбежала с детьми, потому что этот ее муж плохо с ней обращался.
— Почему ты не рассказала Майклу все это? — спросила Адель.
Какое-то время бабушка не отвечала. Но в конце концов она взглянула на Адель и на ее лице промелькнула улыбка.
— Я не люблю признаваться, что убирала у кого-то в доме, в особенности у подруги, — сказала она. — Но в первую очередь я не считаю нужным рассказывать ему, что я как-то была связана с его бабушкой или матерью.
— Почему? Он был бы в восторге!
— Да, был бы, он как раз такой мальчик. А еще он открытый человек, он побежал бы домой весь возбужденный и рассказал бы своим родителям. Я этого не хочу. Насколько я помню, они оба были ужасными снобами. И я подозреваю, они будут сердиться на Майкла за его дружбу с тобой.
Адель уже и сама пришла к такому выводу. Она знала, что люди, живущие на болотах, не общались с людьми, живущими в больших домах в Винчелси.
— Но ты ведь из-за этого не сердишься, правда? — спросила она.
— Конечно нет, — горячо сказала бабушка. — Мое происхождение ни капли не хуже их, и я довольна, что у тебя такой приятный друг. Но, моя дорогая, ты должна помнить, что он вернется в Гемпшир, и вряд ли его родители слишком часто будут приезжать навестить бедного старика Сесила. Возможно, ты больше никогда не увидишь его.
Ночью, когда Адель лежала в кровати и слушала, как ветер воет на болоте, она думала о том, что сказала бабушка, и ей было грустно, потому что она понимала, что это правда. С Майклом было так здорово, они смеялись над одними и теми же вещами, они могли разговаривать обо всем, и ей бы хотелось, чтобы он остался здесь навсегда.
Но она знала, что нужно быть реалистичной. Вероятно, он не подружился бы с ней, если бы в округе был Кто-то другой, с кем можно было бы дружить. Как только он вернется в школу, он быстро забудет о ней. Она будет скучать по нему, но она не собирается глупо влюбляться, как сентиментальные глупые девушки в любовных романах.
В последнюю неделю каникул Майкла погода стояла на удивление теплой, и они прекрасно проводили вместе много времени. Они плескались в море, визжа и смеясь от холодной воды. Они построили мост из веток через одну из речушек по дороге в гавань Рай и устроили соревнование, кто дольше сможет сосать свой леденец. Адель никогда не пробовала этих огромных сладостей раньше, потому что у них редко были деньги на такие вещи, но Майкл кущ их и объяснил, почему они меняют цвет, когда сосешь их. Адель было смешно, когда он все время просил ее открыть рот, чтобы посмотреть, какого цвета стал ее леденец.
Они устроили соревнования на скорость на верхушках галечных насыпей. Адель научила его съезжать по крутым откосам, как на лыжах. Она показала ему массу только что родившихся угрей в одной из речушек, а он научил ее считать по-французски. Не важно было, что они делали, просто все было так замечательно, пока они были вместе. Они просто могли посмотреть друг на друга и начать смеяться безо всякой причины.
Утром в тот день, когда Майклу нужно было уезжать домой, он зашел в Керлью-коттедж, как раз когда они заканчивали завтракать.
— Я не буду вам мешать, миссис Харрис, — сказал он очень вежливо. — Я просто хочу вас поблагодарить за то, что вы были так радушны. — Он вручил Хонор красивую жестяную коробку, полную чая.
— Как это мило с твоей стороны, Майкл, — просияла она, восхитившись коробочкой.
— У меня для тебя есть книга, — сказал он Адель, вручив ей пакет. — Я надеюсь, ты ее еще не читала.
Адель открыла пакет. Книга называлась «Лорна Дун».
— Нет, я не читала ее, — сказала она, приятно удивленная. — Спасибо, Майкл. Я прямо сегодня начну ее читать.
— Останешься с нами на чашку чая? — спросила бабушка.
Майкл покачал головой.
— Я не могу, меня ждут ехать.
— Тогда беги, проводи его до конца улицы, — сказала она, легонько подтолкнув Адель. — До свидания, Майкл. Я надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся.
На улице у Майкла стоял велосипед. Он поднял его и посмотрел на Адель.
— Я буду скучать по тебе, — произнес он угрюмо. — Ты мне будешь отвечать, если я буду писать тебе?
— Конечно буду, — с готовностью согласилась Адель. — Пожалуйста, рассказывай мне все свои новости. Но теперь тебе лучше идти. Ты же не хочешь, чтобы твои родители сердились.
Она смотрела, как он отъехал, и колеса велосипеда вихляли, когда он поехал по неровному грунту. В конце улицы он нажал на педали и поехал быстрее. Повернув на дорогу в Винчелси, он помахал, не поворачивая головы.
У Адель в руках все еще была книга, которую он ей подарил. Она открыла ее и увидела, что он написал ей записку.
Для Адель. История о мальчике, который встретил девочку на болотах и не может забыть ее. Я тоже никогда не забуду тебя.
С наилучшими пожеланиями,
Майкл Бэйли. Пасха, 1933.
Глава десятая
1935
— Я не верю, что когда-нибудь найду настоящую работу, — сказала устало Адель, тяжело опустившись на траву рядом со стулом бабушки.
Был почти конец августа, и прошло два года с тех пор, как она окончила школу, и все же она еще не нашла постоянной работы. Ей удавалось получать временную работу: то несколько недель в прачечной, когда был сезон туристов в городе, то уборка сена на ферме в Пизмарш за Раем. Она собирала клубнику и малину, копала картошку, убирала в рыбном магазине в городе по вечерам, когда он закрывался, и выполняла десятки других незначительных работ. Она также написала письма чуть ли не в каждую компанию в Гастингсе и много раз ездила туда на автобусе, но никто не хотел брать ее на постоянную работу ни в какой должности.
— Они все говорят, что им нужен кто-то с опытом, — жаловалась Адель. — Но как я могу получить опыт, если никто не хочет дать мне возможность показать, что я умею делать?
— Времена тяжелые, — сказала бабушка и легонько погладила ее по голове.
Адель очень хорошо понимала, что кроме нее были миллионы безработных и что мужчины кончали с собой, потому что не могли обеспечить свои семьи. Не проходило и недели, чтобы в дом не постучался какой-нибудь голодный, ищущий работу, и не попросил бы хоть что-нибудь из еды. Хонор всегда давала им миску супа и немного хлеба, и даже рассталась с последней старой одеждой Фрэнка. Эти люди обычно приходили из центра или с севера Англии, хотя в Рае и Гастингсе тоже была ужасная нищета.
В такой жаркий солнечный день, как сегодня, это не так бросалось в глаза, но зимой Адель видела оборванных, босых ребятишек, которые нищенствовали на Хай-стрит. Каждую неделю на набережной было все больше мужчин, которые страдальчески болтались вокруг в надежде получить работу на день или два. Некоторые семьи распродали свою мебель до последней палки, а зимой умирали старики, потому что у них не было угля, чтобы топить.
— Может быть, мне придется поехать в Лондон, — мрачно сказала Адель. — Я в городе встретила Маргарет Фостер. Она сказала, что получила письмо от Мэвис Плант, ей там удалось найти работу в офисе.
— Ты слишком молода, чтобы ехать в Лондон, — убежденно сказала бабушка. — Я не хочу, чтобы ты жила в дыре во власти беспринципных людей. И здесь что-нибудь подвернется, увидишь.
— В газетах все время говорят, что для тех, кто хочет работать, работа есть, но это чепуха, — сердито сказала Адель. Ей было жарко, она устала, и у нее болели ноги. И еще добавило досады то, что Маргарет Фостер торжествовала по поводу своей работы в «Доме и колониальном стиле». Она похвасталась новым розовым платьем из крепдешина и сказала, что вечером идет в кино с еще одной девушкой из магазина. Адель была в кино лишь два раза за прошлый год.
Но по-настоящему она разозлилась оттого, что была уверена в причине отказа. Ей отказали, потому что она с болот. Собеседования всегда проходили довольно хорошо, пока ее не начинали спрашивать, где она живет. Она была умной, довольно привлекательной, умела разговаривать, и у нее были хорошие манеры. Почему они думали, что у нее есть роковой изъян просто из-за места, в котором она живет?
— Мы прекрасно справимся, даже если ты целый год не найдешь работы, — спокойно сказала бабушка. — С твоей помощью у меня на продажу получается в два раза больше, чем было три года назад, и платят мне теперь больше.
— Я не могу смотреть, как тяжело ты работаешь, — выпалила Адель. Она еще пристальнее наблюдала за бабушкой с тех пор, как окончила школу, и заметила, что бабушка почти не присаживалась за целый день. Она никогда не останавливалась — то куры, то кролики, то варенье, то вино. — Мне уже нужно сделать так, чтобы ты меньше работала, а не наоборот.
— Если я сейчас работаю тяжелее, это потому, что я так хочу, — решительно сказала Хонор. — Я люблю то, что делаю, я не мученица. Ну а теперь иди и умойся, попей и пойди посиди в тени полчаса. Завтра будет новый день, и кто знает, что может случиться.
— Ничего не случится, — пробормотала Адель, моя руки в судомойне. Вода вдруг стала течь все меньшей струйкой, пока не перестала совсем. Это было последней каплей. Питьевую воду они получали из насоса в саду, а рядом с коттеджем была цистерна, куда они собирали дождевую воду, которая шла по трубе в кран судомойни и использовалась для мытья. Вот уже несколько недель не было дождя, и цистерна явно была пуста.
Все в этом коттедже было такой тяжелой работой. Печь нужно было разжигать и топить хворостом, который они собирали. Чтобы принять ванну, нужно было нагреть много ведер с водой и наполнить ими жестяную ванну, а потом ее нужно было вычерпывать. В туалете не было слива, и время от времени им приходилось забрасывать яму известью, и оттуда всегда шла вонь. Электричества не было, только свечи и масляные лампы. У них даже не было приемника.
С тех пор как Адель окончила школу, она начала намного лучше понимать, как живут некоторые люди. Дело было не в том, что она завидовала именно тому, что у стольких людей были газ и электричество, приемники, граммофоны, бойлеры, чтобы мыться, и даже электрические утюги, она просто думала, что это немного несправедливо, что у некоторых есть так много, а у некоторых так мало. В школе она была лучшей в классе и все же не смогла получить работу, а Маргарет Фостер, которая была первой тупицей в классе, заполучила работу в «Доме и колониальном стиле», У большинства женщин возраста ее бабушки было время посидеть в кресле с книгой. А ей приходилось восполнять скудную вдовью пенсию, освежевывая кроликов. И из этих кроличьих шкурок делали шубы для женщин, которые ничего не делали весь день.
Схватив большой эмалированный кувшин, Адель пошла к насосу и яростно качала его, пока не наполнила. Потом она наполнила еще и ведро. Неся воду обратно в дом, она думала, каким образом бабушка сможет справляться, когда совсем состарится и когда у нее уже не будет здоровья качать воду или собирать хворост.
— Я позабочусь о ней, — сказала она себе самой. Но тут же расплакалась от этой мысли. Как она может позаботиться о ком-то еще, если сама не может даже найти работу?
Вошла Хонор и застала ее плачущей.
— Чего ты ревешь? — спросила она в своей обычной черствой манере.
— Потому что все так чертовски тяжело, — выпалила Адель.
— Не смей ругаться в моем доме, — отрезала бабушка, — или я тебе рот вымою мылом. И перестань жалеть себя, миллионы людей живут хуже, чем ты.
Адель побежала к себе в комнату, хлопнув за собой дверью, бросилась на постель и зарыдала еще сильнее. Она оставалась там, хотя знала, что Хонор готовит чай, и когда ее не позвали, она заплакала еще сильнее, потому что было ясно, что бабушке все равно, если она расстроена или голодна.
Она знала, что ведет себя неразумно и упивается жалостью к себе самой, но к этому привело не отсутствие современного комфорта и даже не отсутствие работы. Она любила это место, и на самом деле ей было все равно, что у нее нет денег на кино. Она не беспокоилась по поводу того, что бабушка слишком тяжело работает, поскольку она стала делать даже больше, так как сейчас ей помогала Адель.
Может быть, она была недовольна из-за Майкла?
Она не ожидала увидеть его снова после тех пасхальных каникул два года назад, но он все-таки писал и в июле в том же году снова приехал в Винчелси к дедушке.
Три великолепные недели они провели, встречаясь каждый день. Они плавали, ездили на велосипедах и гуляли, заходя далеко. Однажды они поехали автобусом в Гастингс, и Адель поела рыбы с чипсами снова, впервые с тех пор, как уехала из Лондона. Майкл выиграл для нее пушистую собаку в тире, они ели сладкую вату, мороженое и морских улиток из ларька на дамбе. Это был самый лучший день в ее жизни, и она знала, что Майкл тоже так думает.
Но он вернулся в Гемпшир, а ей пришлось искать работу, и хотя Майкл продолжал писать, он признался, что не знает, как сможет выкрутиться, чтобы приехать в Винчелси, потому что дедушка не слишком жаловал гостей.
На рождественские каникулы он снова приехал ненадолго. Его и Ральфа, старшего брата, послали проверить, как дела у дедушки. Майкл заходил в Керлью-коттедж и принес подарок для Адель — голубой шарф и перчатки в комплекте и коробку дорогих шоколадных конфет для бабушки, но не смог остаться, потому что брат ждал его у дедушки дома.
Потом, в феврале следующего года, мистер Уайтхауз умер. Экономка обнаружила его мертвым в кресле. У него был сердечный приступ.
Адель чувствовала себя очень виноватой, потому что была почти довольна, так как это означало, что Майкл приедет. И он действительно приехал на похороны, но вся подготовка велась из Гемпшира, семья приехала вместе на службу, и они уехали в тот же день.
Он потом писал и объяснил, почему не смог зайти, но сказал, что вернется помочь вычистить дом через некоторое время. Он еще писал, что думает о ней постоянно и хотел бы, чтобы они жили ближе и он мог видеть ее чаще.
Когда у нее был день рождения и ей исполнилось пятнадцать лет, Майкл прислал ей красивое ожерелье из топаза. Он написал, что оно напоминает ему золотой блеск ее волос в то лето, и впервые Адель подумала о нем как о возлюбленном, а не просто как о друге.
Все летние каникулы Адель ждала, затаив дыхание, и не переставала надеяться, что он приедет и что они снова будут весело проводить время, как в прошлом году. В конце концов Майкл объявился в конце августа вместе с родителями, и пока они наводили порядок в доме дедушки, ему удавалось вырываться время от времени и видеться с ней.
Что-то слегка изменилось. Он не просто прибавил в росте и его голос стал глубже, было что-то еще. Они были так рады увидеть друг друга, но между ними появилась какая-то стесненность, а из-за нее длинные паузы и неловкость. Адель замечала, что Майкл слишком внимательно смотрит на нее, спрашивала почему, а он обычно краснел и уверял, что просто так. Она обнаружила, что слишком хорошо чувствует в нем мужчину, когда он сидел рядом, замечала его длинные ресницы и изгиб его губ, а потом, когда он разделся до плавок, чтобы поплавать, увидела, что его грудь и плечи потеряли мальчишескую худобу прошлых лет: сейчас у него были мускулы и его тело возмужало.
Они не проводили много времени вместе, как в прошлые годы. Майклу нужно было возвращаться в Винчелси в конкретное время. Но однажды жарким днем они устроили пикник на пляже, пошли в Кэмбер-Кастл, а в последний день прогулялись до Рая, где он повел ее в чайную возле церкви и они полакомились горячими сдобными лепешками с маслом и пирогами.
Адель любила бродить по Раю почти так же, как по болотам. Все было таким старым и красивым: узкие аллейки, крутые мощеные улицы и множество красивых старинных домов. Майкл любил сад с пушками под Башней Ипр, которая была построена в качестве тюрьмы во время войны с Наполеоном. Он сделал фотографию Адель, сидящей на одной из пушек, и пошутил, что она похожа на девочку с обложки.
По дороге домой он впервые взял ее за руку, и от одного его прикосновения у нее закружилась голова и она почувствовала себя необычайно счастливой.
Когда они дошли до развилки, одна из дорог которой вела к Керлью-коттедж, он сказал, что оставит ее здесь. И тогда Майкл поцеловал ее.
Поцелуй был не такой, как в кино, где Она таяла в Его руках под конец фильма. Он вроде как накинулся на нее, но его губы коснулись ее лишь на мгновение.
— Я бы хотел, чтобы все было по-другому, — сказал он, выглядя смущенным и обеспокоенным. — Но может быть, все получится в следующем году, когда я поступлю в Оксфорд. Ты будешь ждать меня так долго, правда?
В тот момент Адель подумала, что он просто надеялся, что она не найдет себе другого друга. Она сказала, что, разумеется, будет ждать его.
И только после того как они расстались, она вдруг поняла, что он пытался сказать намного больше, но не мог сделать этого так, чтобы не задеть ее чувств.
Адель знала, что, пока они были просто друзьями, вряд ли имеет значение тот факт, что она жила на болотах и носила потрепанную одежду. Но если он имел ее в виду в качестве возлюбленной, он не мог не видеть проблем впереди не только с родителями, но и со всеми знакомыми. Она догадалась: Майкл надеется, что к тому времени, как он пойдет в Оксфорд, она вполне может превратиться в такую девушку, которую смогут принять его семья и друзья. Возможно, он даже надеялся, что она может переехать в Оксфорд и найти там работу, так что проблема расстояния тоже решится.
Адель посмотрела на себя в зеркало долгим строгим взглядом и очень хорошо увидела то, что не одобрило бы окружение Майкла. Постоянный ветер и солнце сделали цвет ее лица почти таким, как у цыганки. Ее руки были грубыми, она грызла ногти, она носила волосы распущенными, и солнце выжгло их прядями, тогда как городские девушки носили шляпы и делали перманент в парикмахерской. Даже ее зеленовато-карие глаза говорили о том, что она дикое создание. Ее взгляд был слишком смелым, и она редко краснела и хихикала, как ее школьные подруги.
Она думала, сможет ли посещение парикмахерской и покупка новой одежды сделать из нее элегантную молодую женщину, такую, как в кино, но почему-то сомневалась в этом. Даже если бы Адель каким-то чудом смогла найти деньги, это не изменило бы ее походку, ее глаза и то, какая она внутри. Она стала такой, живя в диком месте: у нее были мышцы от тяжелой работы, от того, что она бегала по полям и рубила дрова. Ничто не смогло бы превратить ее в нежный тепличный цветок.
Майкл снова не писал месяца два, и к этому времени она решила, что он нашел себе более интересное занятие, чем мечты о такой неподходящей девушке. И это вроде бы подтвердилось, когда он снова написал и сказал, что учится водить и его отец собирается купить ему машину, если он хорошо сдаст экзамены. Письмо было написано так неестественно, будто он писал своей тетушке, а не девушке, которую поцеловал и сказал, что надеется, что она будет его ждать.
Потом писем не было, только поздравительная открытка на Рождество ей и бабушке, поэтому Адель была изумлена, когда Майкл снова появился в мае на синей спортивной машине и в великолепном темном костюме. Он сказал, что приехал в Рай забрать некоторые документы от поверенных дедушки и в тот же вечер едет обратно.
За чашкой чая он рассказывал о предстоящем поступлении в Оксфорд в октябре, сочувствовал Адель, у которой все еще не было постоянной работы, расспрашивал Хонор о ее вине и консервах, но казался очень официальным и взрослым.
Потом Майкл спросил обеих, не хотят ли они прокатиться с ним в машине в Гастингс. Хонор сказала, что у нее много дел, но убедила Адель поехать.
И только когда они очутились в Гастингсе и гуляли по набережной, она увидела в нем прежнего Майкла, и он вдруг выпалил, что в доме совсем плохая ситуация.
— Это все из-за Хэррингтон-хаус, — сказал он, имея в виду дом в Винчелси. — Отец хочет продать его, но, похоже, дедушка оставил его в наследство матери, и отец ничего не может сделать без ее позволения. Мама не соглашается, и они теперь все время скандалят. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой из школы, они меня в это втягивают. Это ужасно. Скорее всего, я уеду в Европу на летние каникулы, потому что просто не могу представить, что все лето буду с ними в самом разгаре их войны.
Потом они поехали в Фэрлайт-Глен и там погуляли, и он спросил Адель, правильно ли он поступает с ее точки зрения.
— Может быть, тебе следует отдать машину отцу и на лето найти работу где-нибудь отдельно от них? — спросила она чуть резковато. — Таким образом ты станешь независимым. Пока ты берешь у них деньги, они ожидают, что ты будешь выполнять все их команды.
Он рассмеялся и потрепал ее по голове.
— Какая мудрая маленькая девочка, — сказал он скорее с нежностью, чем с насмешкой. — Тебе еще нет шестнадцати, а ты уже мне говоришь, чтобы я не был паразитом.
— Я не это имела в виду, — сказала она запальчиво. — Вряд ли я могу так утверждать, я же живу за счет бабушки! Я просто думаю, что работа будет для тебя намного лучшим поводом отделиться от них. Поехать путешествовать — это выглядит так, будто ты хочешь сбежать.
— Да, пожалуй, так оно и выглядит, — сказал он задумчиво.
Майкл больше ничего не говорил о своих проблемах, и они снова общались легко и непринужденно, так, как в первый раз, Когда он отвез ее домой, он зашел попрощаться с бабушкой и ушел, сказав, что будет писать.
Адель потянулась к прикроватному столику, взяла письмо, которое он написал ей через несколько дней после этого визита, и начала читать.
Дорогая Адель!
Я просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты выслушала меня со всеми моими проблемами. Ты умеешь слушать лучше всех, кого я знаю, но возможно, это из-за того, что вы с бабушкой ведете такую жизнь, близко к природе и чувствуя времена года. Я завидую тебе, что ты живешь такой жизнью, я же окружен предвзятыми людьми с крикливыми голосами, которые не заботят ни о чем, кроме материального. Я тоскую по тишине и покою болот. Я всегда буду ценить золотые времена, которые мы проводили вместе, и даже если я не послушаю твоего совета и все-таки поеду путешествовать по Европе, часть меня будет с тобой.
Ты никогда не раскрывала мне своих тайн, но я знаю, что они у тебя есть, иначе ты не могла бы настолько хорошо понимать других людей. Может быть, эти тайны слишком больно раскрывать? В этом случае ты, вероятно, считаешь меня немного слабаком, потому что я все время жалуюсь на мою жизнь в семье.
Я надеюсь, что ты скоро найдешь работу; я буду думать о тебе, чем бы я ни занимался этим летом.
Мои самые наилучшие пожелания,
Майкл.
У Адель всегда немного ком стоял в горле, когда она читала это письмо, а сегодня еще больше, потому что она чувствовала себя одинокой. Она, как могла, пыталась забыть свои романтические мысли о Майкле. Она слишком хорошо знала, что дальше мыслей ничего не пойдет. Но все равно это не могло помешать ей мечтать. Он не последовал ее совету, как она и предполагала. Три открытки с короткими сообщениями пришли из Парижа, Рима и, наконец, из Ниццы. Она сомневалась, что после того, как он увидит эти места, он когда-нибудь захочет вернуться к болотам Ромни.
Хэррингтон-хаус выглядел заброшенным. Адель время от времени ездила туда на велосипеде посмотреть, происходят ли какие-нибудь изменения. Это был внушительный дом из красного кирпича с двумя фасадами, которому было более двухсот лет, но окна были пыльными, и крыльцо, выходившее прямо на мостовую, было усыпано мусором, который принесло ветром. Похоже было, что никто не был в этом доме со времени последнего приезда Майкла.
— Нет смысла о нем думать, — сказала она грустно. — Если ты даже не можешь найти работу, как ты можешь надеяться удержать его в друзьях?
На следующее утро, проснувшись, Адель увидела кровь на своей ночной рубашке. Она тут же поняла, что это такое, поэтому была рада, обнаружив, что с ней все нормально.
— Ну, это объясняет твое поведение вчера вечером, — сухо сказала бабушка, когда Адель сообщила ей. — Я в эти дни всегда хандрила, это признак того, что чувства меняются, когда становишься женщиной. Ты в прошлом получила горький урок того, какими могут быть мужчины, поэтому я уверена, что мне не нужно тебя предупреждать, чтобы ты остерегалась в будущем.
Адель от смущения стала пунцового цвета и кинулась во двор выпускать кроликов из клеток.
Конечно, она понимала, что бабушка таким образом обращает ее внимание на то, что теперь она физически способна забеременеть, но она была в шоке, что та использовала в качестве предостережения случай в «Пихтах». За все это время она ни разу не упомянула об этом, даже косвенно.
Адель очень пыталась забыть все происшедшее, но время от времени воспоминания неожиданно приходили к ней. Возможно, именно поэтому ее первая менструация так задержалась. Она все еще нервничала по поводу мужчин, особенно когда они слишком пристально смотрели на нее. Майкл был единственным исключением, с ним она никогда не чувствовала себя неуютно и не думала, что ей что-то угрожает. Но она не могла представить, что когда-нибудь захочет, чтобы ситуация зашла дальше. Она боялась, что это снова вызовет пугающие ее воспоминания о мистере Мэйкписе.
Когда она выпустила всех кроликов в их выгульный дворик и нашла несколько кучек листьев одуванчика им на завтрак, она подняла Дымку и начала гладить ее.
Хонор не позволяла пускать самцов к Дымке, потому что сказала, что это только расстроит Адель, когда ее крольчат забьют, Адель часто думала, что ей хотелось бы прожить всю свою жизнь, как Дымка, чтобы ее ласкали, хорошо кормили и защищали от мерзкой обязанности иметь потомство. Но она предположила, что это означало бы, что она кончит старой девой и у нее не будет ни детей, ни внуков.
Она все еще гладила Дымку и размышляла над тайнами любви, секса и брака, когда услышала на дороге звук подъезжающей машины. По обе стороны коттеджа было слишком много кустарников и деревьев, чтобы увидеть, кто едет, и она обошла вокруг по боковой дорожке.
К ее большому удивлению, из большой черной машины вышел Майкл.
— Какой сюрприз, — сказала она, неистово краснея, потому что он был в официальном костюме и при галстуке, а она утром даже не причесалась и на ней было старое оборванное платье, в котором она всегда занималась домашней работой. — Я думала, ты все еще путешествуешь по свету.
Он улыбнулся, но это была вымученная, обеспокоенная улыбка.
— Мне пришлось вернуться, — сказал он с гримасой. — Черт, не знаю, с чего начать.
В это время из дома вышла Хонор. Она, вероятно, услышала слова Майкла, потому что спросила, все ли в порядке с его матерью.
— Нет, не все, миссис Харрис, — сказал он. — Я могу поговорить с вами? Или вы слишком заняты?
— Не слишком занята, чтобы не поговорить с тобой, Майкл, — сказала она радушно. — Ну, заходи.
В восторге от того, что он вернулся, и все же взволнованная, потому что у него, похоже, были проблемы, Адель положила Дымку обратно в выгульный дворик и зашла внутрь, присоединившись к Майклу и бабушке.
— Мать с отцом разошлись, — выпалил он. — Мать собирается жить в Хэррингтон-хаус. Я не понимаю, в чем дело, и буду вам очень благодарен, если вы никому об этом не расскажете.
— Я уверена, что ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понять, что я и не думала никому рассказывать, — сказала решительно Хонор. — Ты привез сюда мать или просто проверяешь дом, готовя к ее приезду?
— Нет, она здесь. Я привез ее вчера, — сказал Майкл. — Мы останавливались на ночь в гостинице, потому что приехать прямо в дом было бы для нее слишком тяжело. Она очень расстроена. На мгновение у Адель прыгнуло сердце. Разумеется, это было грустно, что его родители расходились, но он все равно говорил, что они не были счастливы вместе. Она была довольна, потому что думала, что в будущем сможет чаще видеть Майкла.
— Этого и следовало ожидать, что она будет расстроена, — сказала с сочувствием бабушка. — Она столько лет была замужем. Мне очень жаль, Майкл, это наверняка тебя расстроило, особенно как раз тогда, когда ты собрался поступать в Оксфорд. Но я уверена, что твоя мать приспособится к тому моменту, когда тебе придется уезжать.
— В этом и заключается проблема, — сказал он. — Я должен уезжать сейчас, как минимум обратно в Элтон, чтобы вернуть отцу машину. Я не могу остаться с ней, и я не знаю, как она справится. Она никогда не заботилась сама о себе.
— Она безусловно сможет о себе позаботиться, она взрослая женщина, — сказала, отмахнувшись, Хонор.
— Но ей никогда не приходилось это делать, — настаивал Майкл. — У нее всегда были слуги, которые заботились о ней и о доме. В Хэррингтон-хаус нет никого — ни повара, ни горничной, никого. И у меня нет ни малейшего представления, как найти кого-нибудь для нее. Я поэтому и приехал к вам. Что мне делать, миссис Харрис? Я не могу просто уехать и оставить ее здесь одну.
— Это, вероятно, будет лучшим решением, — сказала Хонор. — Она скоро научится заботиться о себе!
— Бабушка! — сказала с упреком Адель. — Бедный Майкл уже и без того обеспокоен, а ты еще давишь.
Майкл с благодарностью взглянул на Адель.
— Да, я безумно беспокоюсь. Мы привезли с собой коробку с едой, но я ей даже не доверяю, чтобы она готовила что-то для себя. Я вам рассказывал, какой она может быть, когда расстроена, она просто ложится в постель и остается там. У нашей экономки в Элтоне был талант убеждать ее встать и одеться, но если она останется одна, она будет лежать, пока не умрет от голода.
— Чепуха! — воскликнула Хонор. — У людей сильно развито чувство самосохранения. Возможно, она может пролежать в постели несколько дней, жалея себя, но как только она почувствует голод, скоро встанет. Она не молоденькая и глупенькая девочка, она мать троих взрослых детей. Пора ей уже начать вести себя так, как ведут себя взрослые люди.
— Ты, вероятно, права, бабушка, — осторожно сказала Адель. — Но бедный Майкл не будет в этом уверен, когда уедет. А что, если я туда пойду помочь ей?
— Я ни за что не попросил бы тебя об этом, — быстро сказал Майкл. — Я не для этого сюда пришел. Я просто подумал, что миссис Харрис может знать, как нанять горничную или экономку.
— Ну что я, похожа на человека, который нанимает горничных? — Хонор криво улыбнулась. — Я уже много лет этим не занимаюсь. Ты мог бы поместить объявление в газету. Так много людей, которые крайне нуждаются в работе, что ты быстро кого-нибудь найдешь.
— Но это займет некоторое время, — в отчаянии сказал Майкл. — Я даже не знаю, сможет ли мама провести собеседование. Вы не знаете кого-нибудь в Винчелси или даже в Рае, кто мог бы приходить?
— Я не знаю, Майкл, — покачала головой Хонор. — Но может быть, ты мог бы спросить в магазине в Винчелси. Или у соседей.
Майкл скорчил гримасу.
— Я не хочу доверяться никому из местных, — сказал он. — Будет не хорошо, если разойдется слух, что она немного… — Он замолчал.
Хонор понимающе кивнула.
— Да, это будет нехорошо. Я не могу понять, Майкл, почему твой отец не привез ее сюда и не разобрался для нее с домашним хозяйством. Я знаю, что это не мое дело, но он обязан заботиться о ней. Это он ее вышвырнул или она сбежала?
Майкл повесил голову и не ответил. Адель и Хонор переглянулись.
— Ответь мне, — велела Хонор. — Это не выйдет за пределы этой комнаты.
— Я многого не понимаю, — сказал Майкл, запинаясь. — У них целый год были кошмарные скандалы по поводу Хэррингтон-хаус. Дедушка оставил его матери, и я думаю, что отец пытался заставить ее продать дом. Я был в Европе, когда они взорвались, и она мне ничего не объяснила.
— Ты думаешь, он сказал ей, что она может убираться, если не подпишет? — спросила Хонор.
— Думаю, что так, — сказал Майкл, и его глаза наполнились слезами. — Но Ральф и Диана — это мои брат и сестра, — они похоже, тоже обвиняют мать, поэтому, возможно, есть что-то еще, чего я не знаю. Я позавчера вечером вернулся домой из Франции, и отец как раз отдавал распоряжение горничной упаковать мамины чемоданы.
— Я понимаю, — задумчиво произнесла Хонор. — Похоже, кроме слуг, твоей матери понадобится еще и адвокат.
— Мой отец и есть адвокат! По дороге сюда мама говорила, что все его друзья-адвокаты станут на его сторону и ее никто не будет слушать.
— Это глупые разговоры, — отмахнулась Хонор. — Ее отец, твой дедушка, был очень уважаемым человеком в этих местах. А еще его ум был выше среднего, поэтому, если он оставил дом только твоей матери, у него на это была веская причина. Она должна пойти к его юристу в Рае. Прошли те дни, когда мужчина автоматически получает права на деньги и собственность женщины, как только женится на ней.
Адель слушала все это молча, наблюдая за Майклом и бабушкой, Она ощущала, что бабушка сопереживает этой женщине, и она очень хотела избавить Майкла от его беспокойства за мать в настоящий момент.
— Я могла бы помочь твоей маме, — сказала Адель порывисто. — Я не знаю, в чем заключается работа горничной, но я могу готовить и убирать.
— Я никак не могу просить тебя об этом, — сказал Майкл, но в глазах его блеснул лучик надежды.
— А ты и не просишь. Я сама предлагаю, — заметила Адель. Потом, взглянув на бабушку, она сказала: — Ты ведь не будешь возражать, бабушка?
— Нет, если это будет временной мерой и если ты сама этого хочешь, — осторожно ответила Хонор.
— Тогда все улажено и я туда пойду, — сказала Адель и улыбнулась Майклу. — То есть в том случае, если ты думаешь, что она меня примет.
— Тебя примет? — Бабушка повысила голос от возмущения. — Ей же будет лучше, если она будет благодарна! Ты стоишь намного больше, чем быть чьей-либо горничной.
— Это безусловно так, — сказал Майкл и тепло улыбнулся Адель. — И это только до того момента, пока я не найду кого-то на постоянную работу.
— И ей нужно будет платить. Я не позволю, чтобы она работала как служанка бесплатно, — сказала кратко Хонор.
— Бабушка! — охнула Адель.
— Миссис Харрис совершенно права, — согласился Майкл. — Я знаю, что мы платим экономке в Элтоне два фунта в неделю, но ее муж тоже работает на нас и у них есть свой собственный коттедж в саду. Если я предложу два фунта десять шиллингов в неделю, это тебя устроит?
Для Адель эта сумма была целым состоянием. Она знала, что некоторые семьи живут на меньшие деньги. Но прежде чем она смогла раскрыть рот, вмешалась бабушка.
— Ты укажешь миссис Бэйли на то, что предназначение моей Адель — не работа в услужении, она была лучшей в классе в своей школе. Если ей придется жить в доме, у нее должно быть несколько свободных часов каждый день во второй половине дня и один полный выходной в неделю. Ее нельзя бить и нельзя кричать на нее. И твоя мать должна понимать, что это только временный выход из положения.
Адель просто задохнулась от бабушкиной наглости.
— Я передам ваши пожелания, — сказал Майкл, и Адель увидела, как его губы дрогнули в улыбке. — Но ты уверена, что хочешь это делать, Адель?
— Я буду счастлива этим заняться, — сказала Адель. Она даже была взволнована. Хэррингтон-хаус был очаровательным старинным местом, и какой бы трудноуправляемой ни оказалась миссис Бэйли, Адель не думала, что она будет хуже ее учительницы в школе или даже ее бабушки. Хотя она не умела готовить много разных блюд, бабушка всегда говорила, что если ты умеешь читать поваренную книгу, то будешь готовить. И в Хэррингтон-хаус должно быть электричество, а может быть, и газ. — Мы поедем сейчас?
Майкл посмотрел на Хонор, ожидая ее разрешения. Та кивнула, соглашаясь.
— Ну, если это тебя устраивает, Адель, это будет лучше всего. Тогда я смогу представить тебя маме и показать, где что находится.
— Отлично, — сказала Адель. — Я только пойду и надену что-нибудь приличное. Я недолго.
Пока Адель расчесывала волосы сто раз, как требовала бабушка, и завязывала их в аккуратный узел на затылке, Хонор поговорила с Майклом.
— Адель — хорошая, честная и трудолюбивая девочка, и я уверена, что она будет отлично работать у твоей матери, — сказала она с серьезным и озабоченным выражением лица. — Но ты должен понимать, что я немедленно ее заберу, если почувствую, что с ней несправедливо обращаются, — добавила она, строго глядя ему в глаза. — Объясни это своей матери, Майкл.
— Я обещаю, — сказал он. — Я вернусь, как только смогу, но никто не знает, возможно, к тому времени, как я доеду до Элтона, отец может уже пожалеть, что выгнал маму.
— Ты должен постараться разузнать, как все было, — сказала Хонор. — Ты должен точно знать, что происходит. И спроси брата с сестрой, что знают они.
Майкл вздохнул.
— Они всегда находились под влиянием отца. Прав он или виноват, они будут поддерживать его.
— Ты должен постараться соблюдать нейтралитет, — сказала Хонор, и ее голос сочувственно смягчился. — В любом случае помоги матери, так и обязан поступать сын, но в то же время сделай так, чтобы она знала, что должна сама себе помочь. Ты не ее опекун.
Он вяло улыбнулся.
— Я сделаю, что смогу.
Пока Майкл ехал, Адель смотрела на дорогу впереди себя. В своем самом опрятном платье из хлопка темно-синего цвета, с белым воротничком и манжетами, которое помогла ей сшить бабушка с расчетом на будущую работу, она думала, что одета подходящим образом для того, что ее ждет. Но вдруг ее начали одолевать всякие страхи. Не только потому, что она не знала, в чем должна будет заключаться ее помощь миссис Бэйли и сможет ли она с этим справиться, но и из-за Майкла.
Этот факт изменит все, что происходит между ними, и в этом она была совершенно уверена. Думая о нем все лето, она вспоминала об их прогулках, поездках на велосипеде, пикниках и надеялась, что в будущем все это еще будет.
Но если она согласилась работать на его мать, это будет исключено. Она, возможно, и не знала, как управляет домом высший класс, но знала, что джентльмены не держат в друзьях горничных.
— А миссис Бэйли будет говорить, что мне делать, или я просто буду делать то, что посчитаю нужным? — нервно спросила она.
Он повернулся к ней с ужасно обеспокоенным видом.
— Я правда не знаю, — сказал он, глубоко вздохнув. — В Элтоне у всего персонала были конкретные обязанности, и наша экономка все контролировала. Я не знаю, давала ли ей мама какие-то распоряжения. Все, что я о ней помню, — это как она сидит за письменным столом и пишет письма или расставляет цветы в вазы, Разумеется, она делала намного больше, но я просто этого не видел.
— Но она же будет мне говорить, что она хочет есть и когда?
— Я не знаю, — честно признался он. — Черт, Адель, я думаю, что тебе придется смотреть по обстоятельствам. Вполне возможно, что ты просто будешь готовить то, что сочтешь нужным. Даже в ее лучшие моменты она немного ест.
Это начало приобретать такой вид, будто Адель посылали ухаживать за очень трудным, избалованным ребенком. Но она напомнила себе, что бабушка и ее дом совсем неподалеку и в самом худшем случае она просто сможет уйти. Они договорились, что какое-то время Адель будет уходить домой каждый вечер после ужина. Она подумала, что, наверное, сможет справиться с чем угодно, если только ее будут отпускать в семь.
Когда они подъехали к самому входу, Адель увидела, что окна все еще пыльные, а дверные ручки долгое время не чистились, Хотя это вряд ли было важно, она подумала, насколько неухоженным будет дом внутри.
И тогда она испугалась, пожалев, что так необдуманно предложила свою помощь.
— Все будет отлично, — сказал Майкл, будто прочитав ее мысли. — Моя мать трудный человек, но она при этом может быть совершенно очаровательной. Покажи ей, что ты искренне хочешь помочь, и она это оценит.
Майкл открыл дверь и вошел, знаком пригласив Адель следовать за ним.
— Мама! — крикнул он, — как только очутился в холле. — Я привел кое-кого тебе в помощь.
Холл был большим, и на второй этаж вела широкая дубовая лестница. Пол был выложен плиткой, которая тоже казалась не слишком чистой, и на стене висело несколько мрачных картин. Здесь явно было не так мило, как ожидала Адель.
Наверху лестницы появилась миссис Бэйли — маленькая стройная женщина с тонкими чертами лица, в платье бледно-зеленого цвета. У нее были красивые распущенные волосы необыкновенного цвета, среднего между рыжим и белым, волнами спадавшие на плечи. Адель знала, что миссис Бэйли на несколько лет младше бабушки, но выглядела она так, будто ей слегка за тридцать Если бы не красные круги вокруг глаз, она могла бы сойти за кинозвезду.
— Я не могу найти вешалки для одежды, — сказала она раздраженно. — Ты, конечно, хорошо сделал, что сказал мне развесить одежду. Но как я могу это сделать, если мне не на что ее вешать?
— Забудь на минуту о вешалках, — сказал Майкл, подняв на нее взгляд. — Я привел кое-кого, кто будет тебе помогать. Спустись вниз и познакомься с Адель Талбот.
Женщина не сдвинулась с места, просто уставилась на Адель, У нее были голубые глаза, совсем как у Майкла, и молочно-белая кожа, чистая и без морщин, как у ребенка. Адель подумала, что она похожа на ребенка во всем — беззастенчивый взгляд, рот, как у маленькой девочки, и вздорные манеры.
— Она горничная? — спросила женщина, начав спускаться по ступенькам. Двигалась она очень грациозно, и Адель увидела, что на ней светло-зеленые туфли на высоких каблуках совершенно того же тона, что и платье. — Где ты ее нашел? У нее есть рекомендательные письма? — добавила она, будто Адель там не было.
Адель решила вести себя так, как бабушка. Она будет прямой и все ясно объяснит, и если она не понравится миссис Бэйли, что ж, тем хуже.
— Нет, я не горничная, — сказала она. — Я просто друг Майкла, и когда он сказал мне, что вам нужна помощь, чтобы обосноваться здесь, я предложила свои услуги. Если вы хотите, чтобы я вам помогла, я останусь, если нет, я уйду.
— Но ты совсем ребенок! — воскликнула миссис Бэйли, оценивающе глядя на Адель. И посмотрела снова на Майкла. — Откуда ты знаешь эту девочку?
— Я встретил ее, когда мы приезжали сюда два года назад, — сказал он. — Адель живет в Винчелси-Бич, я заходил к ним сегодня утром, чтобы спросить, не знают ли они кого-нибудь, кто смог бы помочь тебе. Адель любезно предложила свою помощь. Она очень способная и надежная.
Миссис Бэйли ничего не сказала, просто рассеянно помахала руками. Адель почувствовала, что она принадлежит к тем людям, которые не умеют принимать никаких решений.
— Я понимаю, что вы обо мне ничего не знаете, мэм, — сказала она. — Но мою бабушку очень хорошо здесь все знают. Она предложила, чтобы я временно выручила вас. Насколько я понимаю, в данный момент у вас никто не работает?
— Нет, никто, — подтвердила миссис Бэйли. — Но Майкл, неужели ты не мог привести мне кого-нибудь более взрослого?
— Откуда? — сказал он. — Здесь нет магазина, куда можно пойти и купить персонал и ожидать от них, что они немедленно приступят к работе.
— Почему тогда не пришла бабушка? — спросила она. — Или она очень старая?
Адель рассердило, что эта женщина полагала, что стоит только ей открыть рот и обозначить, что ей нужна помощь, как любой человек классом ниже бросит все и прибежит к ней.
— Моя бабушка не работает на кого угодно, — сказала она резко. — Или я, или никто. А теперь, я не хочу показаться грубой, но если вы считаете, что я вам не подхожу, просто скажите об этом, и я пойду домой.
— Она очень прямая, — удивленно произнесла миссис Бэйли, и ее голос чуть дрогнул.
— Я доверяю ей, — сказал Майкл. — Ну ладно, мама. Ты знаешь, я скоро должен ехать, чтобы отвезти машину, и я не хочу, чтобы ты оставалась здесь совсем одна. Дай Адель шанс показать, на что она способна, тебе повезло, что она согласилась.
— Мне нужно поговорить с тобой лично, — сказала она сыну. — Зайди в гостиную.
Майкл извинился и попросил Адель подождать. Он зашел с матерью в комнату, которая находилась по правую сторону холла, и закрыл за собой дверь.
Адель были слышны их голоса: очень низкий — Майкла, высокий и возмущенный — миссис Бэйли, но она не слышала, о чем они говорят. Слева от нее была столовая, в которой стоял огромный стол и восемь стульев вокруг него. Довольно грязная комната, подумала она, и очень пыльная, но ведь здесь долгое время никто не жил. Она сделала пару шагов по направлению к столовой и увидела, что за ней находится большая кухня. Она была разочаровывающе немодной — Адель ожидала, что кто-то, живя в таком большом доме, будет иметь намного лучшую кухню. И она очень надеялась, что здесь будет настоящая ванная комната — миссис Бэйли была из тех женщин, которые полдня лежат в ванне, полной пены, и Адель не улыбалось таскать ей ведрами воду.
Минут через пятнадцать Майкл сам объявился из гостиной и выглядел очень довольным собой.
— Мама пришла в себя, — сказал он. — И она попросила меня извиниться, что обидела тебя. Она согласилась с условиями, и пока она отдыхает, я покажу тебе все вокруг.
Сначала он показал ей кухню и сказал, что совершенно не знает, как зажигать печь, но он знал, что она топилась углем и огонь поддерживался постоянно. Адель осмотрела ее и обнаружила, что она не очень отличалась от печи в их коттедже, просто была больше и новее.
— Я смогу затопить ее, — сказала она.
Похоже было, что печь еще грела воду, и Адель с большим облегчением обнаружила, что от нее наверх в спальню вели трубы. Еще там была маленькая электрическая печка, на которой можно было готовить, когда не топилась большая печь. Адель также была довольна, увидев большую холодную кладовую, так как хранение продуктов летом было самой большой проблемой в Керлью-коттедж.
Бэйли привезли с собой коробку с едой, включая кусок ветчины, который Адель быстро положила в кладовую. Она подумала, что человек, укладывавший коробку, хорошо знал, что делает, потому что в ней были все необходимые продукты и еще несколько деликатесов, таких как пирог и печенье.
— Миссис Бэйли будет ходить за продуктами? — спросила она.
— Она не привыкла это делать, — сказал Майкл. — Поэтому я предполагаю, что она доверит это тебе.
— Она будет давать мне на это деньги?
— Нет, я думаю, расходы будут на ее счету, — сказал Майкл.
— Я не знаю, можно ли здесь расплачиваться со счета, — сказала Адель. — Возможно, тебе придется уладить этот вопрос, прежде чем ты уедешь.
Это был один из десятков вопросов, которые она задала ему, пока он показывал ей дом, и на большинство вопросов он не мог дать ответа. Адель начала сильно жалеть Майкла — он выглядел таким обеспокоенным, и она не могла уверить его, что все будет в порядке, так как сама в этом сильно сомневалась. Откуда ей было знать, как часто богатые люди меняют простыни? И что они привыкли есть на завтрак? Она очень надеялась, что ее бабушка это знает.
Весь дом был покрыт пылью. И в каждой комнате было столько безделушек, что понадобился бы целый день, чтобы все их тщательно вычистить. Но по крайней мере она нашла вешалки для миссис Бэйли. Их были сотни в коробке под одной из кроватей. И это было очень хорошо, потому что миссис Бэйли всю свою огромную спальню забросала одеждой.
— Мне уже пора ехать, — сказал Майкл, когда они снова спустились в холл. — Я честно не знаю, что бы я делал, если бы ты не согласилась помочь, Адель. У меня никогда не хватило бы наглости попросить тебя, и я надеюсь, ты знаешь, что я пришел не в надежде, что ты предложишь свою помощь.
Адель улыбнулась. Она знала, что он говорит правду.
— Перестань волноваться, Майкл. Возможно, я не буду идеальной экономкой. Но твоя мать будет жить в чистом доме и я буду обеспечивать ее едой. Это все, что я могу обещать.
Он полез в карман и достал визитную карточку.
— Это мой домашний адрес и телефон на случай, если будут какие-нибудь проблемы. Если меня не будет, попроси миссис Уэллс, это наша экономка. Она обожает маму, и она тебе поможет. Но я в любом случае буду сюда звонить.
— Я никогда не пользовалась телефоном, — созналась Адель. — Как это делается?
— Когда он зазвонит, просто подними трубку и скажи: «Хэррингтон-хаус», — объяснил он. — Если тебе нужно позвонить мне, подними трубку и попроси телефониста набрать этот номер. Если ты будешь звонить по местным номерам, например врачу, просто набери номер и подожди, пока тебе ответят. Но всегда думай, что говоришь, потому что операторы имеют привычку подслушивать.
— Я надеюсь, что все это запомню, — взволнованно сказала Адель.
— Скоро всему научишься, — сказал он. — А мне уже пора прощаться, и я должен зайти к маме, прежде чем уехать. Ты была просто молодчина.
Адель пошла в комнату и закончила распаковывать коробку с продуктами, пока он прощался с матерью. В печке была вычищена зола, поэтому она смяла несколько газет, положила сверху немного щепок и зажгла спичкой огонь. Услышав, как открылась и закрылась входная дверь, она подошла к окну в столовой, чтобы выглянуть во двор. Майкл как раз садился в машину, и его лицо было таким вытянутым от беспокойства, что у нее защемило в груди. Он был слишком молод, чтобы разбираться с проблемами родителей.
«Нам всем приходится когда-то взрослеть, — подумала она, когда машина отъехала. — Посмотри на себя: вчера вечером ты себя вела, будто тебе десять лет, а сегодня утром ты превратилась в женщину, а еще через несколько часов начинаешь работать».
Она стояла на коленях, добавляя уголь к щепкам кусок за куском и дуя, чтобы разжечь угли, когда в кухню зашла миссис Бэйли.
— Одиннадцать часов, время легкого завтрака, — сказала она. — Я люблю кофе с печеньем. Я возьму их в гостиную.
Адель никогда в жизни не выпила и не приготовила чашки кофе. Ближе всего в жизни она видела кофе, когда его в фильмах пили американцы.
— Извините, мэм, — прямо сказала она. — Я не знаю, как готовить кофе. Я могу приготовить вам чай, как только затоплю печь.
У женщины распахнулись глаза от удивления.
— Ты не знаешь, как готовить кофе?
— Нет, мэм, — сказала Адель, чувствуя себя очень глупо. — А вы?
— Мне не нужно это знать, — возмущенно сказала миссис Бэйли. — Для этого есть горничные.
— Я на самом деле не горничная, — сказала Адель, подумав, что нет смысла говорить обиняками. — Я вас просто выручу, пока вы не найдете настоящей горничной. А пока дом полон пыли, печь еще не натоплена, ваша одежда разбросана по всей спальне, и ее нужно убрать, чтобы я смогла постелить вам постель. К завтрашнему дню я, возможно, разберусь, как готовить кофе.
— Ну и ну! — охнула миссис Бэйли. — Я увольняла девушек за меньшую наглость.
Адель пожала плечами.
— Я здесь только потому, что Майкл о вас беспокоился, — сказала она и, произнося это, удивилась, откуда в ней взялось столько смелости. — Я имела в виду, что должна буду помочь вам обустроиться в доме, а не делать абсолютно все сама, пока вы будете пить кофе в гостиной. Почему бы вам не пойти и не развесить одежду? Я поставила коробку с вешалками в вашу комнату.
Миссис Бэйли пулей вылетела из кухни, и за ней пронесся легкий аромат ландыша. Адель чуть улыбнулась и продолжала забрасывать уголь в печку. Почему-то она сомневалась, что сможет удержаться здесь даже неделю, она не думала, что у нее есть те качества, которые нужны настоящей горничной.
Был почти полдень, когда печка достаточно накалилась, чтобы вскипятить чайник — электрическая печь, как она обнаружила, не работала. Она заварила чайничек чая, поставила на порос вместе с сахаром, молоком и ситечком и понесла поднос наверх в спальню к миссис Бэйли.
К своему ужасу, она обнаружила в комнате еще худший беспорядок, одежда и обувь были разбросаны по полу и по кровати, а миссис Бэйли сидела на краю кровати и плакала.
Первой мыслью Адель было, что это из-за кофе.
— Простите, что не смогла приготовить вам кофе, — сказала она. — Но я принесла вам чай.
— Я не могу во всем этом разобраться, — зарыдала миссис Бэйли. — Молли, моя горничная в Элтоне, всегда следила за моей одеждой. Она развешивала ее по цветам, и вниз ставила соответствующие туфли. Я не могу этого сделать.
Для Адель, у которой было только то платье, которое было на ней, потрепанное домашнее, одна юбка, блуза и вязаная кофта, развешивание одежды никогда не представляло ни малейшей проблемы. Она не могла поверить, что у одной женщины может быть так много платьев и обуви. Но она не выносила чужих слез и предположила, что миссис Бэйли, вероятно, было тяжело уехать из своего старого дома.
— Идите сюда, садитесь и пейте свой чай, — сказала она, поставив поднос на низенький столик у окна. Кресло рядом с ним было очень потрепанным, и она подумала, что, возможно, старый мистер Уайтхауз сидел в нем целый день и смотрел в окно. — Я развешу ваши вещи. — Она взяла миссис Бэйли под руку и повела ее к креслу, потом налила ей чашку чая.
Миссис Бэйли продолжала хныкать, когда Адель приступила корде. К счастью, в гардеробе было достаточно места и внизу была полочка для обуви. Вскоре в нем висели все зеленые платья, потом все розовые и, наконец, все голубые.
— У вас красивая одежда, — сказала она с восхищением. У одного голубого платья был лиф, отделанный блестками, и рукава из шифона. Адель показалось, что она никогда не видела такого прекрасного платья.
— Большинство из них уже не в моде, — сказала миссис Бэйли и при этих словах еще сильнее заплакала. — Мы носили такие короткие платья в двадцатых годах, а сейчас мода настолько отличается. Я не представляю, что буду делать.
Адель растерялась, не зная, что на это сказать. Она подумала, что в любом случае миссис Бэйли здесь негде будет носить такие шикарные платья. Большинство женщин ее класса носили твидовое весь день.
— У вас есть здесь какие-нибудь старые друзья? — отважилась она. — Из тех времен, пока вы были еще не замужем.
— Может быть, есть несколько. — Миссис Бэйли шмыгнула косом и потерла свой крошечный носик платком с кружевной отделкой. — Но я не знаю, что им скажу. Я не могу сказать, что рассталась со своим мужем.
— Почему? — спросила Адель.
— Потому что это стыдно, разумеется! — воскликнула миссис Бэйли. — Это просто неприлично!
— Я уверена, что все они проявят сочувствие, — сказала Адель. — Сегодня так много людей разводятся.
Она не знала этого наверняка, но бабушка утверждала, что сейчас эпидемия разводов. И кстати, бабушка этого не одобряла, она считала, что брак — это на всю жизнь, даже если он окажется неудачным.
— Я никогда не разведусь с ним, — вдруг проскрипела миссис Бэйли. — Он может вытолкать меня из своего дома, настроить против меня детей, но я никогда не позволю ему, чтобы он был свободен и женился на этой шлюхе.
«Так вот в чем дело, — подумала Адель. — Другая женщина».
Незадолго до семи часов Адель уже прекрасно понимала, почему мистер Бэйли хочет избавиться от жены. Как сказал Майкл в первый день, когда они встретились, она была очень требовательной. Она ныла, плакала из-за всего и постоянно ходила следом за Адель, пока та мыла и чистила, и просила ее принести то, что легко могла пойти и взять сама.
Сначала Адель прерывала свое занятие и шла за тапочками, вязаной кофтой, книгой или любым предметом, который желала миссис Бэйли. Но когда она позвонила в колокольчик в гостиной в тот момент, когда Адель чистила ванну, чтобы попросить воды, Адель вышла из себя.
— Стакан воды? — воскликнула она. — Мне кажется, у вас есть ноги. И вы знаете, где находится кран!
От удивления глаза у миссис Бэйли стали больше, чем мельничные жернова.
— Не намекаешь ли ты, чтобы я сама налила воды?
— Я не намекаю, я говорю вам, — отрезала Адель. — Если бы этот дом был чистым, а вы были бы инвалидом, тогда, возможно, я налила бы вам воды. Но дом полон грязи, а вы так же в состоянии это сделать, как и я. Если бы у вас было хоть какое-то присутствие ума, вы бы наводили порядок в собственном доме, расставляли вещи, чтобы он выглядел красивее, а не сидели просто так без дела, как чертова королева.
— Но тебе платят за то, чтобы ты выполняла мои распоряжения, — сказала высокомерно миссис Бэйли. — И как ты смеешь ругаться при мне?
— От вас бы и святой ругался, — фыркнула Адель. — Я согласилась прийти и помочь, только пока у вас не появится квалифицированный персонал. Предполагалось, что я буду готовить еду, убирать, стелить постель и топить печь, а вы заставляли меня развешивать вашу одежду, бегать вам за кофтами и делать множество мелких банальных вещей, которые вы сами в состоянии рать, Скоро вы захотите, чтобы я вытирала вам нос.
— Со мной никто никогда так не разговаривал. — Большие голубые глаза миссис Бэйли наполнились слезами. — Убирайся немедленно из моего дома!
— Я этого не сделаю, — упрямо сказала Адель. — Я еще не закончила чистить ванную и не приготовила вам ужин. Когда закончу, я уйду, но не раньше, потому что я обещала Майклу находиться здесь до семи. И я вернусь следующим утром, и следующим, пока у вас не появится нормальный персонал, нравится вам это или нет. А знаете почему? Потому что ваш сын убежден, что, если оставить вас одну, вы не встанете с постели и умрете от голода.
С этими словами Адель круто развернулась, вышла из гостиной и пошла наверх заканчивать с ванной комнатой.
И только намного позже, когда она наконец ушла в семь часов, оставив миссис Бэйли за ужином, она поняла, какой была дерзкой.
Устало шагая домой вниз по холму, Адель поняла, что не пожалела ни об одном сказанном слове. Она знала, что хорошо потрудилась и что никто, сколько бы у него ни было денег и власти, не имел права обращаться с другим человеком как с личным рабом.
Только несколько недель назад бабушка рассказывала ей, как она росла. Хотя ее отец — директор школы — был не богат, для девочек из среднего или высшего класса было немыслимо работать. Хонор проводила дни за шитьем, чтением и игрой на пианино. Она говорила, что до того дня, как девушка выходила замуж, ей даже не разрешалось разговаривать с молодым человеком без компаньонки.
Война 1914 года изменила все. Те женщины, которые раньше находились взаперти, вдруг становились медсестрами, водили санитарные машины или заведовали вагонами-чайными для войск на вокзалах. Как только они вкусили свободы, они не захотели возвращаться к старому порядку и сидеть дома, ожидая, что представится приличный жених. И приличных женихов было не так-то много — об этом позаботилась война.
Бабушка также объяснила, что именно война освободила девушек из рабочего класса от жизни в повиновении и тяжелой работы в услужении, одном из немногих вариантов работы для них. Вдруг возникло множество других возможностей на фабриках и в конторах, и все эти варианты были более привлекательными, чем топить печь, готовить и убирать для богатых.
Возможно, подобных мест уже не было так много, но Адель знала, что ей нельзя начинать испытывать благодарность к миссис Бэйли за то, что та разрешила быть ее золушкой.
Она должна помнить, что делает этой женщине одолжение, И получает некоторое представление о том, как живут и ведут себя богатые люди. Как только возникнет возможность настоящей работы, она уйдет.
Глава одиннадцатая
1936
Адель перешла в другой конец комнаты, чтобы посмотреть на общий эффект от рождественской елки, которую она только что закончила украшать. Елка была больше семи футов высотой, и она поставила ее в нише рядом с камином и обернула бочонок, в котором стояла елка, красной жатой бумагой.
Она довольно улыбнулась. Серебряная мишура отлично задрапировала елку, стеклянные шары висели на одинаковом расстоянии друг от друга, и рядом с каждым была прикреплена маленькая свечка, чтобы ее пламя отражалось в шаре, когда свечи зажгут, точно так, как она видела в одном из журналов миссис Бэйли. Ей даже удалось ровно прикрепить фею на верхушке — это был просто подвиг, учитывая то, что она стояла на стуле и тянулась через колючие ветки.
Она с оптимизмом ожидала, что Рождество будет счастливым, не таким, как в прошлом году, когда этот день был совсем жалким. Но сейчас, через шестнадцать месяцев работы у миссис Бэйли, она почувствовала, что прошла долгий путь. Она не только знала массу всего по поводу ведения домашнего хозяйства, она еще хорошо узнала свою хозяйку и научилась распознавать опасные признаки, которые предвещали беду.
Бабушка сказала, что Адель по глупости осталась больше чем на неделю и как по проклятию продолжала работать там и дальше. Возможно, она была права, потому что миссис Бэйли, похоже, была самой трудной, эгоистичной и глупейшей женщиной на свете. Она была красивой, богатой, по представлению Адель, и довольно обаятельной, когда хотела, но это случалось не часто.
Адель потеряла счет истерикам, которые эта женщина закатывала в первые несколько месяцев. Каждый день она готовилась к тому, что ее будет ждать, когда она откроет входную дверь. В первые несколько недель миссис Бэйли часто швыряла поднос с ужином об стену в гостиной. На следующее утро Адель приходила и обнаруживала застывшую массу из остатков ужина вместе с осколками посуды и какой-нибудь разбитой статуэткой. Миссис Бэйли явно оскорблялась, что некому было отнести поднос с посудой в кухню.
Адель каждый раз убирала, пока однажды не взбунтовалась и не оставила все как было. И случилось так, что в то утро захода поверенный миссис Бэйли, и Адель нарочно завела его в гостиную и оставила там в изумлении глазеть на это, пока ходила за миссис Бэйли объявить о его приходе.
— Как ты могла позволить такому важному человеку увидеть этот разор? — завопила миссис Бэйли, когда он ушел. — Я не знала куда деваться.
— В следующий раз вы об этом подумаете, прежде чем швыряться едой и фарфором, — возразила Адель, которой было все равно, выгонят ее или нет. — Потому что я больше не собираюсь это убирать, и если оно будет лежать там, где лежит, у вас появятся крысы, которые будут это поедать.
Вспоминая об этом сейчас, она подумала, что это была одна из проблем, которые решались легче всего. Миссис Бэйли была в ужасе от мышей, не говоря уж о крысах, поэтому она больше ни разу не бросалась едой. Но она выворачивала весь свой гардероб на пол, и Адель приходилось снова развешивать все по местам. Она требовала топить во всем доме, когда она не находилась в этих комнатах. Она начинала наполнять ванну, открыв кран, и забывала о ванне, пока не начиналось наводнение. Она стояла у телефона и слушала, как он звонит, пока Адель развешивала в саду белье, а потом жаловалась, что та не ответила на звонок. Иногда по вечерам она так напивалась, что Адель обнаруживала ее выключившейся на полу, и часто в луже рвоты. Но больше всего Адель раздражало то, что она, похоже, была не в состоянии понять, что у нее никогда больше не будет целого персонала прислуги, который будет прыгать по ее первому капризу.
Джейкоб Уэйнрайт, поверенный в Рае, договорился, чтобы садовник, который работал на родителей миссис Бэйли, приходил присматривать за садом и чинил все, что необходимо. Мистер Уэйнрайт также в конце концов нашел некую миссис Томас и устроил так, чтобы она приходила дважды в неделю по утрам стирать и делать грубую работу, такую как натирание полов. Остальная работа осталась на Адель, но она согласилась с этим, когда мистер Уэйнрайт объяснил, что миссис Бэйли не может позволить себе нанять больше персонала.
Адель нравился мистер Уэйнрайт. Он был крупный и крепкий, с красным носом картошкой, выдававшим его пристрастие к портвейну. Он сопереживал Адель, хвалил ее за то, что она вернула дом в такое хорошее состояние, и восхищался жесткой линией поведения, которую она взяла по отношению к хозяйке. Он сказал, что миссис Бэйли категорически должна научиться кое-что делать сама, потому что может наступить момент, когда ей придется переехать в значительно меньший дом и справляться безо всякой помощи.
К этому времени Адель уже поняла, что у миссис Бэйли нет бездонной бочки денег, поэтому она экономила где могла. Ей повезло, что бабушка научила ее этому, потому что если она когда-либо и спрашивала миссис Бэйли, что она хочет на ужин, та всегда говорила, что хочет ягненка, бифштекс или какой-нибудь другой дорогой еды. Поэтому Адель перестала спрашивать и просто готовила, что считала нужным. И миссис Бэйли неизменно съедала это, не жалуясь.
Вот уже больше года прошло с тех пор, как Адель была вынуждена в конце концов переехать в Хэррингтон-хаус. У нее на самом деле не было выбора, потому что ее хозяйка представляла опасность сама для себя. Кроме того что она пила, она всегда забывала поставить каминную решетку перед огнем, когда выходила из комнаты или когда ложилась спать. Коврик перед камином был весь в прожженных дырках, и рано или поздно огонь мог вырваться наружу и сжечь весь дом дотла.
Если не считать возможность купаться в нормальной ванне и пользоваться туалетом в доме, Адель ненавидела жизнь в этом доме. Работа никогда не казалась ей такой плохой, когда она могла вечером возвращаться домой и рассказывать бабушке, чем она занималась. Они часто очень смеялись над некоторыми глупостями, которые выкидывала миссис Бэйли.
Теперь у Адель был выходной в один из тех дней, когда приходила миссис Томас, и она оставляла какой-нибудь холодной еды на обед для миссис Бэйли. В погожие дни они с бабушкой часто ходили гулять во второй половине дня, собирая хворост, или иногда ездили в Рай, пили чай в кафе и ходили в кино. Когда было сыро или очень холодно, они просто сидели у печки и разговаривали.
У Хонор всегда находился для нее какой-нибудь рецепт, который можно было попробовать, и они обычно обсуждали любые проблемы, с которыми Адель сталкивалась в течение дня. И благодаря этому Адель начала лучше понимать ту жизнь, которой когда-то жила бабушка. Она отлично знала, как все нужно делать, какой густоты должен быть крахмал для постельного белья, из какого бокала что пить. У нее был огромный запас идей для обеда и ужина, и она неплохо разбиралась в тонкостях этикета.
Она всегда спрашивала о Майкле и о том, навещал ли он мать. Он действительно звонил каждую неделю, и, если миссис Бэйли не было дома, они болтали с Адель по телефону. Он поступил в летный корпус университета, как и собирался, и всегда охотно рассказывал о летной практике, о своих друзьях в Оксфорде и об игре в крикет. Но он никогда не говорил о девушках, и это убедило Адель, что он намеренно избегает этой темы, боясь ранить ее чувства. Она была уверена в том, что у него есть девушка, и делала все возможное, чтобы убедить себя, что ей все равно.
Но хотя Майкл звонил матери каждую неделю, он приезжал лишь трижды: на прошлое Рождество, на Пасху и летом, и всегда оставался только на одну ночь. Остальные члены семьи не приехали ни разу.
Адель сочувствовала им, потому что миссис Бэйли так же выводила из себя людей, как когда-то ее мать. Она выливала на людей столько злости, так смущала их и причиняла столько боли, что становилось невозможно ее любить.
Когда миссис Бэйли была в своем худшем настроении, Адель часто думала о Роуз, пытаясь представить, где она сейчас находится и как живет. Но у нее не было ни малейшего желания увидеться с ней снова, и она предполагала, что дети миссис Бэйли чувствовали примерно то же самое по отношению к своей матери.
В ноябре прошлого года миссис Бэйли была совершенно невыносимой, она отказывалась вставать с постели, все время плакала и даже не беспокоилась о том, чтобы умыться или причесаться. Но она в конце концов оживилась, когда Майкл сказал, что приедет на Рождество, и потом объявила, что собирается пригласить некоторых старых школьных друзей на коктейль в канун Рождества.
Рождество для Адель всегда было разочарованием. Она вспоминала, как они с Памелой возбуждались, когда в магазинах начинали развешивать гирлянды лампочек и рождественские украшения. В школе они ставили спектакль на рождественскую тему, оркестр Армии Спасения играл рождественские гимны на площади перед Юстонским вокзалом, и их радость и надежда росли по мере того, как приближалось Рождество. Но в канун Рождества их отец неизменно приходил домой с работы позже обычного и такой пьяный, что едва держался на ногах, и это погружало мать в одно из ее самых мрачных настроений. Адель помнила, как водила Памелу гулять на Рождество, потому что на улицах было намного веселее, чем дома.
И все же некоторые грустные воспоминания забылись, когда она жила с бабушкой. У бабушки не было много денег, чтобы тратить их на пустяки, но она тщательно готовилась к Рождеству. Она покупала маленькие сладости и сюрпризы, украшала коттедж венками из остролиста и бумажными цепочками и рассказывала Адель истории о чудесных рождественских вечеринках, на которые она ходила ребенком. Когда она с ностальгией рассказывала о восьмифутовых елях, украшенных сотнями горящих свечей, огромных столах с серебряными приборами и сверкающими бокалами, о том, как они пели, собравшись у пианино, и играли в разные игры и в жмурки, у нее в глазах часто стояли слезы. Адель знала, что бабушка всегда помнила своих родителей, мужа и, возможно, Роуз, когда та была маленькой девочкой. Она призналась, что на Рождество в том году, когда умер Фрэнк, ей было так плохо, что она оставалась в постели целый день, и вообще никогда не пыталась праздновать Рождество до того самого дня, как Адель появилась у нее.
Именно из-за своей собственной разрушенной семьи Адель в прошлом году так старательно пыталась украсить Хэррингтон-хаус. Она нарвала охапки остролиста в саду и связала их красной ленточкой, отполировала лучшие бокалы и провела много часов за изысканными рождественскими пирожками, колбасными рулетами и разными маленькими праздничными бутербродиками, которые предложила сделать бабушка. И все это между покупками и приготовлением рождественского обеда.
Майкл приехал во второй половине дня ближе к вечеру в канун Рождества, но Адель почти не видела его, потому что была очень занята приготовлениями в кухне. Потом около шести он зашел за ней, рассказав, что мать закатила очередную истерику, потому что ей было нечего надеть на Рождество.
Гости должны были прийти в семь, поэтому Адель пулей помчалась наверх. Пару дней назад миссис Бэйли говорила, что наденет свое серебряное сатиновое коктейльное платье, и Адель отгладила его и повесила на дверце платяного шкафа, а вниз поставила серебряные туфли. С точки зрения Адель, это был идеальный выбор — очень модное платье, доходящее до середины икры, с косым кроем подола, с броской черной вышивкой, спускавшейся с одного плеча на грудь. Миссис Бэйли выглядела в нем прелестно.
Зрелище, которое представилось глазам Адель, когда она вошла в спальню, всполошило ее. На миссис Бэйли была только сатиновая нижняя юбка, волосы были дико растрепаны, и она вспомнила свою старую привычку вываливать на пол все содержимое гардероба. Серебряное платье было разорвано на куски, которые она швырнула на кровать.
— Ради бога, зачем вы это сделали? — спросила Адель, не веря своим глазам, зная, что ей пришлось бы работать год или два, чтобы купить такое платье. — Это красивое платье, и вы в нем были великолепны.
— От него моя кожа казалась серой! — заорала миссис Бэйли и ринулась к Адель, будто собираясь ударить ее. Адель вытянула руки вперед, чтобы остановить ее, и когда она схватила женщину за предплечья, то почувствовала запах виски в ее дыхании.
— Если вы сейчас будете устраивать спектакль, то это точно сделает вашу кожу серой, — сказала жестким тоном Адель и силой усадила ее в кресло. — Скоро здесь будут ваши друзья, вы хотите, чтобы они увидели, как вы сходите с ума?
Адель нашла темно-красное платье из крепа и заставила ее надеть его. Она причесала ей волосы, прикрепила по обе стороны два блестящих гребня, а потом напудрила ее лицо и положила на щеки немного румян. Но когда она наклонилась поднять пару черных туфель, чтобы миссис Бэйли их надела, миссис Бэйли толкнула ее сзади и она упала вперед, ударившись головой о край кровати.
Адель еле сдержалась, чтобы не ударить женщину в ответ. Ей было больно, и она не сомневалась, что на этом месте останется синяк.
— Какая же вы дрянь! — огрызнулась Адель на нее. — У меня есть хороший повод пойти домой и оставить вас справляться одну, Но Майкла вы не опозорите, я вам этого не позволю.
Каким-то образом ей удалось заставить миссис Бэйли накрасить губы, надеть кое-что из подходящих драгоценностей и спуститься вниз. Миссис Бэйли немедленно налила себе выпить, не жалея.
Майкл смотрел, как мать ходит взад-вперед по гостиной, и его лицо было бледным от страха.
— Что мне делать? — прошептал он Адель. — Может быть, мне отослать гостей? Когда они придут, она будет себя вести отвратительно, я просто знаю это.
— Ты не можешь сделать это в канун Рождества, — сказала Адель. — Я уверена, что она начнет себя вести хорошо, как только они придут.
Сначала все выглядело так, как она и предполагала. Миссис Бэйли пустила в ход все свое обаяние, чтобы тепло встретить старых друзей, как идеальная мать, представила им Майкла и даже рассказала всем, какое сокровище ее Адель, когда та подавала еду.
Всего было пять пар, две из которых Адель знала в лицо, поскольку они жили в Винчелси, и ей казалось, что все присутствующие пытались выразить свое сочувствие миссис Бэйли и готовность поддерживать ее сейчас, когда она оказалась одна. Майкл начал расслабляться, в камине пылал огонь, гостиная выглядела очень мило, и его мать тоже. У нее в руке был бокал, но она просто держала его, не напиваясь. Каждый раз, когда Адель поднимала на нее глаза, она была поглощена оживленным разговором и впервые выглядела по-настоящему счастливой.
Около девяти часов Адель как раз возвращалась из кухни с подносом горячих колбасных рулетиков, когда услышала треск из гостиной. Она ринулась туда и увидела, что миссис Бэйли лежит на полу в задранном до самого верха чулок платье. Вероятно, она упала, споткнувшись о низенький столик, потому что он был перевернут и весь пол был в осколках от бокалов, которые стояли на нем.
Гости в изумлении смотрели на нее.
Адель побежала помочь ей подняться, но Майкл подоспел первым.
— Снова эти туфли, — сказал он. — Ты же сказала, что выбросишь их, потому что каблуки очень неустойчивые.
Адель восхитилась тем, как быстро он придумал разумное объяснение. Было ясно, что миссис Бэйли все-таки пила и постоянно наполняла свой бокал. С туфлями было все в порядке.
— Это она заставила меня надеть их, — сказала миссис Бэйли, глотая слова и дрожащей рукой указывая на Адель. — Она делает все возможное, чтобы поставить меня в неловкое положение, но это понятно, потому что ей платит мой муж.
Все посмотрели на Адель, а она была в таком шоке, что поднос в ее руках накренился и, к ее ужасу, рулетики скатились на пол.
— Вам понятно, что я имею в виду? — сказала с ликованием миссис Бэйли. — Но чего же еще можно ожидать от девчонки с болот?
Адель кинулась в кухню и разрыдалась. Она так старалась, чтобы дом выглядел уютным к приходу гостей, провела много часов, готовя угощение и расставляя мебель, и ей так хотелось, чтобы этот вечер был счастливым для Майкла и чтобы он перестал беспокоиться из-за матери. Но у нее ничего не получилось и никто не оценил ее старания.
Вскоре после этого гости ушли. Адель слышала, как Майкл извинялся перед ними в холле, подавая им верхнюю одежду. Она думала, что он извиняется за нее, и от этого плакала еще сильнее.
Она слышала, как он вернулся в гостиную, и пошла за пальто, чтоб уйти отсюда навсегда. Но когда она уже в пальто выходила из кухни, из холла навстречу ей вышел Майкл, неся поднос с рулетиками.
— Прости, Адель, — сказал он, и его губы задрожали. — Это было ужасно для тебя. Она, конечно, напилась и сидит в кресле без чувств. Бог знает, что подумали ее старые друзья, завтра это разойдется по всей округе.
Он завел Адель обратно в кухню и усадил ее за стол. Его лицо было белым и напряженным, но он вытер ей глаза носовым платком и поцеловал в лоб.
— Я не должен был подвергать тебя этому, — сказал он. — Она уже вела себя так раньше?
Адель не сказала ему правду лишь потому, что у него был очень обеспокоенный вид. Он не заслуживал того, чтобы выслушивать правду о своей матери вот так, в канун Рождества.
— Бывают неприятные моменты, — только и смогла она сказать и сняла пальто, потому что поняла, что не может бросить его одного разбираться с матерью.
— Но это было в прошлом году, — пробормотала Адель себе под нос, когда подняла пустую коробку от елочных украшений, чтобы убрать ее. — В этот раз так не будет.
В этом году в мире произошло столько всего, что даже эгоцентричная миссис Бэйли была вынуждена признать, что она не единственный человек с проблемами в этом мире. В январе умер король Джордж, и вся страна погрузилась в траур. Только прошел траур, как газеты начали печатать рассказы о романе короля Эдварда с замужней американкой Уоллес Симпсон. В июле в Испании вспыхнула гражданская война, Муссолини планировал покорить весь мир, а рокот недовольства в Германии становился все громче. Две сотни людей прошагали от Джэрроу в графстве Дерхам до Лондона с петицией по поводу семидесяти пяти процентов безработных в их городе. Потом, наконец, лишь несколько недель назад король Эдвард решил отказаться от трона, чтобы жениться на Уоллес Симпсон, и вся страна находилась в переполохе и горячих дебатах.
Адель сомневалась, что миссис Бэйли по-настоящему озабочена судьбой страны или менее привилегированными людьми, чем она, но она стала значительно спокойнее. Ее истерики, скандалы и сильные запои происходили все реже. Похоже, она даже примирилась со своим положением брошенной жены, потому что велела переклеить обои в гостиной и столовой на свой вкус. Адель не понравились темно-красные обои в полоску в столовой, потому что комната выглядела слишком мрачной в дневное время, но розово-зеленая гостиная стала красивой. Миссис Бэйли также занималась кое-какой добровольной благотворительной работой вместе с несколькими другими женщинами, а весной ездила с одной своей старой подругой на неделю во Францию.
Но по-прежнему бывали времена, когда она забиралась в постель и не хотела вставать. Она все еще не ценила того, как тяжело работала Адель. Но на день рождения Адель в июле, когда ей исполнилось семнадцать лет, она подарила ей маленький серебряный медальон на цепочке. Она просто сказала: «С днем рождения» — и ничего больше, но Адель подумала, что, может быть, она, как бабушка, не умеет выражать свои чувства.
В этот раз Майклу каким-то образом удалось уговорить своего брата Ральфа, его жену и детей, а также мистера Бэйли приехать на Рождество. Они намечали приезд на завтра, канун Рождества, и Адель очень надеялась, что семья сможет уладить свои разногласия.
* * *
— Я не ждала тебя сегодня! — удивленно воскликнула Хонор, когда на следующий день после обеда Адель зашла в коттедж.
Адель сняла пальто и стряхнула с него капли дождя, прежде чем закрыть дверь.
— Мне просто нужно было увидеть тебя, — сказала она.
— В чем дело? — спросила бабушка, выбираясь из кресла.
— Ни в чем, — успокоила ее Адель. Она подняла корзинку, которую держала в руках, поставила ее на стол и вынула оттуда ярко упакованный подарок, маленький пудинг в фарфоровой формочке, пакет с мандаринами и коробку из жесткой фольги. — Я просто принесла тебе это на завтрашнее утро, — сказала она.
— Ты хочешь сказать, что завтра не придешь? — сказала бабушка, и по ее тону Адель догадалась, что инстинкт не обманул ее и бабушка чувствовала себя очень одиноко.
— Конечно приду после обеда, — сказала Адель и протянула руку, ласково дотронувшись до бабушкиной щеки. — Я бы ни за что не оставила тебя на Рождество одну, даже если бы Уоллес Симпсон зашла ко мне в гости, чтобы отдать парочку своих старых платьев.
Хонор считала, что Уоллес — это дьявол в юбке, посланный прямо из ада, чтобы свергнуть монархию. И все же несмотря на ненависть, которую питала к этой женщине, она часто отмечала, насколько великолепно та одевается.
— А что в коробке? — спросила бабушка, поднимаясь посмотреть.
— Рождественский пирог, — сказала Адель, улыбаясь. — Сделанный и покрытый глазурью моими собственными белыми ручками.
Адель наблюдала, как бабушка подняла крышку, но вместо ожидаемых вопросов или замечаний по поводу неровной глазури она увидела, как по бабушкиной щеке пробежала слеза.
— Я не брала продуктов для пирога, — сказала поспешно Адель. — Я купила их на свои деньги и подумала, что не будет ничего страшного, если я поставлю в печку сразу два пирога.
— Он такой красивый, — сказала бабушка, и ее голос был мягким и тихим. Она стерла слезу и улыбнулась. — Ты очень изменилась с тех пор, как пришла ко мне в дом маленькой оборванкой пять лет назад. В тот день я сделала лучшее в моей жизни.
У Адель по спине пробежали мурашки, когда она почувствовала любовь в бабушкином голосе.
— Еще и пудинг! — воскликнула Хонор. — Имей в виду, не наедайся там, а то у тебя не останется места для обеда со мной.
— Мне нужно уже идти обратно, — сказала Адель. — Подарок откроешь завтра утром.
Бабушка покачала головой.
— Нет, я подожду, пока ты придешь. Так что не позволяй ни себя задерживать слишком долго.
Идя под проливным дождем в Винчелси, Адель пожелала про себя, чтобы к концу Рождества миссис Бэйли сообщила ей, что возвращается к мужу в Гемпшир.
Она больше не хотела быть прислугой, сейчас она хорошо знала, что это означает. Несколько лет назад она думала, что это просто означает зарабатывать деньги у кого-то, кто богаче тебя. Это не отличалось в ее глазах от каменщика, который для кого-то строит дом, или от мясника, который продает мясо своим покупателям.
Но это было не совсем так. До нее дошла вся реальность положения прислуги сегодня, когда приехал Майкл с семьей. Отец сунул ей в руки пальто и шляпу и прошел в гостиную, а остальные последовали его примеру, даже маленькие дети. Будто она была вешалкой.
Майкл слегка пожал плечами и попытался улыбнуться ей. Он, по крайней мере, сам повесил свое пальто, но пошел за остальными и закрыл за собой дверь.
Майкл сидел и пил имбирное пиво у бабушки в кухне, он помогал освежевывать кроликов и собирал хворост, как член их семьи. И хотя Адель убирала за его матерью, когда ее тошнило, уговаривала ее есть, стирала и гладила ее одежду и спала в ее доме, чтобы удостовериться, что она не подожжет дом, она не могла разговаривать с Майклом на глазах у всей семьи. Она могла сказать: «Счастливого Рождества» или «Взять вашу шляпу, сэр?», но не могла спросить: «Как у тебя дела в Оксфорде? Расскажешь мне?»
С их точки зрения, ее место было в кухне вместе с горшками и кастрюлями. Если она работала в каком-то другом месте в доме, она должна была молчать и быть невидимой, и предполагалось, что у нее нет прав, нет личности, нет чувств. Сейчас они, вероятно, сидели в гостиной, радуясь огню в камине и украшенной елке и предвкушая завтрашнего жареного гуся и сливовый пирог. И все же она знала, что они ни на секунду не задумаются о том, как это попадет на их стол, равно как и обо всех планах по подготовке счастливого Рождества для них.
— Пора тебе двигаться дальше, — пробормотала она сама себе, приближаясь к Хэррингтон-хаус. — В конце концов, эта работа предполагалась как временная.
Когда Адель открыла входную дверь, в холл вышел мистер Бэйли. Она всегда представляла, что он будет выглядеть как Майкл — высокий, стройный и темноволосый, но, по сути, он был полной противоположностью — ростом не больше пяти футов семи дюймов, тучный, с остатками волос, которые уже были седыми.
Она знала, что ему за пятьдесят и что он любит плотно поесть и выпить, судя по его толстому животу и красному лицу. А еще ему не хватало обаяния и терпения — несколько раз, когда она подавала ланч, он отдавал ей распоряжения, как собаке.
— Ах, вот и вы, — сказал он резко, пока она вытирала мокрые ноги о дверной коврик. — Я звонил в звонок, но никто не отвечал.
— У меня во второй половине дня есть несколько свободных часов, — пояснила Адель. — Разве миссис Бэйли вам не сказала?
— Она пошла вздремнуть, — сказал он. — Но мы ожидали, что вы будете в нашем распоряжении, пока в доме гости.
На Адель нахлынуло раздражение, но она заставила себя улыбнуться.
— Я сейчас только сниму пальто, а потом приду к вам, и вы скажете, чего хотите, — сказала она.
— Мы хотим, чтобы дети выпили чая, — рявкнул он ей, побагровев. — И они могут оставаться с вами в кухне, пока им не будет пора ложиться в постель.
Адель подмывало сказать, что она не нянька и что неправильно и несправедливо ожидать от нее, что она приготовит ужин, пока под ногами будут крутиться двое возбужденных детей. Но она знала, что, если она это скажет, мистер Бэйли, вполне вероятно, выместит все на своей жене или на Майкле.
Как оказалось, Анна и Джеймс, дети Ральфа и Лауры Бэйли, не доставили хлопот. Адель предположила, что они большую часть своей юной жизни провели в обществе слуг, потому что в кухне они выглядели намного более расслабленными и спокойными, чем были раньше в гостиной. Анне было шесть, Джеймсу — четыре, и они были маленькими симпатичными копиями своей светловолосой голубоглазой матери. Ральф пошел в отца: хотя он был немного выше и у него были великолепные густые темные волосы, у него уже намечался тот же цвет лица и животик.
После чая с бутербродами, пшеничных лепешек и пирога Адель дала детям для игры большую банку с пуговицами. Она нашла их в одном из кухонных шкафов, еще только когда начинала здесь работать.
— Вы можете рассортировать их по цветам или сложить из них узор, — предложила она, вываливая пуговицы на поднос. Она выложила из пуговиц цветок в качестве примера и дала каждому поднос, чтобы пуговицы не падали на пол.
Как только дети занялись игрой, Адель накрыла стол в столовой к ужину. Миссис Бэйли потребовала суп, холодное мясо и соленья, и когда суп был готов и позже нужно было лишь подогреть его, Адель подумала, что у нее есть еще масса времени, чтобы приготовить начинку для завтрашнего гуся, потом забрать детей наверх и уложить их в постель в половине седьмого, и к семи она будет готова подать ужин.
Она посчитала странным, что Лаура Бэйли не поднялась наверх в спальню, когда она переодевала детей на ночь, но, впрочем, она уже заметила, что красивая блондинка была из того же теста, что и ее свекровь, и не делала ничего, что не касалось ее самой.
— Ты почитаешь нам, Адель? — спросила Анна, как только та уложила ее в постель вместе с братом.
— Я не могу мне нужно накрывать на стол к ужину, — ответила Адель. — А вам нужно спать, иначе Санта не придет и не положит вам ничего в чулки.
Два больших красных хлопчатобумажных чулка с вышитыми на них именами детей висели у изголовья кровати. У нее и Памелы была пара простых носков отца, и содержимое их было скудным по сравнению с тем, что должны были получить эти дети.
— Пожалуйста, почитай нам сказку, — умоляла Анна. — Мы обещаем, что потом сразу же заснем.
Она выглядела такой очаровательной, ее светлые волосы спускались до плеч, падая на розовую ночную рубашечку, и у Адель не хватило духу отказать ей.
— Ну хорошо, одну маленькую, — согласилась она.
В спальне не было часов, и Адель так захватила история про колдунью, которая потеряла свою волшебную палочку, что она не заметила, как пролетело время с детьми.
После того как она подоткнула им одеяла, поцеловала их на ночь в вернулась в кухню, она с ужасом обнаружила, что уже давно было семь часов.
— Ну и когда нам ожидать наш ужин?
Она обернулась от кастрюли с супом на саркастический вопрос мистера Бэйли. Он стоял в проходе двери, которая вела в столовую, уперев руки в бока.
— Буквально несколько минут, сэр, — сказала она и начала объяснять, почему задержалась.
— Мне не нужны ваши извинения, — резко оборвал он ее.
Если бы это сказала ей миссис Бэйли, Адель напомнила бы ей, что она работает только до семи часов, но мистер Бэйли имел устрашающий вид.
Она быстро взяла блюдо с холодным мясом и поставила его на стол, зажгла свечи, вынула печеную картошку из духовки и засунула туда булочки, чтобы подогреть их.
Как только от супа пошел пар и все остальное было на столе, она позвонила в гонг. Потом, когда вся семья пришла в гостиную и села на свои места, она налила суп в супницу, предварительно подогрев ее.
Ральф Бэйли что-то рассказывал о ночной службе в церкви, когда Адель вошла с супницей. Она была тяжелая и горячая, и Адель думала, как будет лучше — поставить ее на стол и разлить там по тарелкам или поставить на боковой столик. Но миссис Бэйли положила рядом с собой подставку, так что она, очевидно, хотела, чтобы супница стояла на столе. И вдруг Адель поскользнулась. Она попыталась удержать супницу, но не смогла, и супница упала на пол, разбившись от падения, а овощной суп вылился на нее, на ее руки и разлился по всему полу.
— Ты полная идиотка! — заорал мистер Бэйли, подпрыгивая со своего стула, стоявшего во главе стола. — Какого черта ты делаешь?
Для Адель все это было унизительно. Ее правая рука была ошпарена, и когда она взглянула на пол и увидела, какой устроила беспорядок, а также большую плоскую пуговицу, на которой поскользнулась, она начала плакать.
— Простите! — воскликнула она. — Я поскользнулась на пуговице.
И тут же стала лазить по полу на четвереньках, отчаянно пытаясь собрать осколки фарфора из супной лужи и кусочков овощей.
— Пуговица! — сказала миссис Бэйли высоким от возмущения голосом. — Что пуговица делает на полу?
Все еще стоя на четвереньках, Адель пробормотала, что дети играли с пуговицами и одна, вероятно, закатилась сюда. Лаура Бэйли сказала что-то насчет того, что она перекладывает на детей вину за собственную глупость. Мистер Бэйли обозвал ее бесполезной, а Ральф спросил, что они будут есть.
— Ну хватит вам! — перекрикнул остальных Майкл. — Адель не виновата, это был несчастный случай. У нее уже в любом случае кончился рабочий день, и в кухне масса другой еды.
Он обошел вокруг стола, поднял Адель с пола и увидел ее красные руки.
— Пойди и прополощи их холодной водой, — сказал он мягко и с сочувствием в глазах. — Я здесь уберу.
Адель в слезах кинулась вон. Но их сердитый разговор долетал до нее, даже несмотря на шум льющейся воды.
— Только ты могла нанять такую тупицу в качестве горничной, — услышала она, как сказал мистер Бэйли, очевидно, своей жене, тут присоединился Ральф с каким-то саркастическим замечанием по поводу того, что она не распаковала их с женой чемоданы. — Право же, мама, — продолжал он, — ты должна нанять квалифицированных людей.
Через несколько минут в кухню зашел Майкл с грудой кухонных салфеток, которыми он промокал суп.
— Самое худшее я вытер салфетками, которые нашел в том шкафу, — сказал он. — Я надеюсь, они не принадлежат к числу фамильных драгоценностей.
— Нет, это просто обычные салфетки, — сказала она, взяв их у него из рук. — Отстираются. Это не так отвратительно, как пьяная рвота твоей матери, которую мне много раз приходилось убирать.
Она знала, что это было жестокое замечание, но ведь и все они были жестоки к ней.
— Ты иди и ужинай, — сказала она, отворачиваясь от него, чтобы не наблюдать шок на его лице. — И смотри не поскользнись на оставшемся беспорядке. Я помою пол, как только они закончат ужинать.
Когда он ушел, Адель закрыла за ним кухонную дверь и подержала обожженную руку под проточной водой. Она думала, как люди становятся такими бессердечными, как Бэйли, и горячо надеялась, что с ними случится что-нибудь неприятное, что преподаст им урок.
Позже она услышала, как вся семья уходит из столовой, а спустя совсем немного времени из гостиной прозвенел звонок. Она проигнорировала его и вынула из раковины ведро с горячей водой, которой собиралась помыть пол. Но когда она зашла в столовую, ее лицо исказилось. Они даже не потрудились обойти остатки овощей на полу, а просто прошлись по ним и разнесли по всей комнате, возможно, даже по гостиной. Пролитый суп явно не повлиял на их хороший аппетит, потому что вся еда была съедена подчистую.
Она закончила мыть пол в столовой и как раз составляла посуду со стола на поднос, когда вошел мистер Бэйли.
— Ты что, глухая? Мы звонили, чтобы ты подала кофе, — сказал он воинственно.
— Я заканчиваю в семь часов, — сказала она, глядя прямо ему в глаза. — Я еще здесь и убираю со стола, потому что сегодня Рождество.
— Ну если у тебя такая точка зрения, можешь убираться прямо сейчас, — сказал он, погрозив ей своим пухлым пальцем.
Адель знала, как тяжело найти работу, и ей уже нравилось, что у нее есть собственные деньги. Она собиралась было извиниться, и тут ей вдруг пришло в голову, что если она сейчас отступит, то потеряет чувство собственного достоинства, а это было для нее намного важнее, чем просто деньги.
— Прекрасно, — сказала она, снимая передник и швыряя его на стол. — Я с большим удовольствием приготовлю рождественский ужин для своей бабушки, которая по-настоящему оценит мои старания.
Он был готов вспыхнуть, и на мгновение она подумала, что он собирается ее ударить.
— Как ты смеешь? — прошипел он. — Ты разлила суп по всей комнате и не отвечаешь на звонки. Что ты за прислуга?
— Я такая прислуга, которая увольняется, — сказала она с большей смелостью, чем на самом деле у нее была. — Хватит уже с меня оскорблений, я их не заслуживаю.
— Ты наглая маленькая тварь! — взорвался он. — Моя жена сказала, что ты можешь быть очень колкой, и теперь я понял правду — ты пользуешься ее добрым характером.
— Каким добрым характером? — возразила Адель, рассерженная и готовая сражаться с ним любым оружием. — Вы знаете не хуже меня, кто она такая, разве не из-за этого вы вышвырнули ее из собственного дома? Если бы не я, она умерла бы голодной смертью в грязном доме.
— Убирайся вон! — крикнул он дрожащим от ярости голосом, указывая на дверь.
— Я как раз это и делаю, — сказала она, идя к кухне, чтобы забрать свое пальто. Она на секунду задержалась в дверях, обернулась на мистера Бэйли и широко улыбнулась. — Гусь уже поддавлен на завтра, и вам просто нужно будет поставить его в печь часов в шесть утра, когда начнете растапливать ее. Начинка, овощи и пудинг в кладовой. Счастливого Рождества.
Он прыгнул к ней и ударил ее по лицу.
— Как ты смеешь? Кем ты себя считаешь?
— Я себя никем не считаю, я просто знаю, кто я есть, — сказала она, сдерживаясь, чтобы не тронуть горевшую щеку. — И я намного более приятный человек, чем вы, это уж точно.
Он схватил ее за руку, и она приготовилась к очередному удару, но он не ударил ее, просто протащил по коридору по направлению к входной двери.
— Убирайся сию же минуту! — заорал он на нее, не обращая внимания, что был сильный дождь и она все еще была без пальто.
— Тогда будет лучше, если вы, уезжая, заберете с собой жену, — парировала она, выходя на дождь. — Она не найдет здесь никого, кто возился бы с ней как нянька, как это делала я.
Дверь захлопнулась прежде, чем она успела закончить фразу.
Дождь лил еще сильнее, чем днем, и к тому времени, как Адель шага спускаться с холма, она промокла до нижнего белья, а в ее туфлях хлюпала вода. Слезы смешивались с каплями дождя на ее лице, но это были слезы гнева, а не раскаяния.
— Адель, подожди меня!
Она повернула голову на звук голоса Майкла и увидела, как он спешит по дороге к ней, но решительно продолжала тащиться вперед.
— Адель, я так сожалею, — выдохнул он, поравнявшись с ней.
— Это я должна тебя жалеть, — сказала она резко. — Твой отец отвратителен.
— Я знаю, — согласился он, переводя дух от бега. — У меня нет для него оправданий.
— Он ударил меня и вышвырнул вон, — сказала она возмущенно. — Он не имел права так поступать. Я делала все, что могла, для твоей матери. Мне теперь жаль ее, я начинаю понимать, почему ее нервы так расстроены.
— Пожалуйста, вернись, — умолял он. — Мама так побледнела, когда услышала, что ты ушла. Она знает, что без тебя не справится.
— Хорошо, — сказала вызывающе Адель. — Надеюсь, что вся твоя семья будет страдать, они этого заслуживают.
— И я тоже? — спросил он, схватив ее за руку.
— Нет, ты не заслуживаешь, — сказала она, стряхивая его руку. — Я всегда думала, что мне не повезло с матерью. Но теперь, когда увидела твоих родителей, я поняла, что ты заслуживаешь больше жалости. А теперь иди домой и оставь меня в покое.
— Если ты думаешь, что я тебе позволю одной пойти домой в темноте и в дождь, ты ошибаешься, — сказал он.
— Ты рискуешь восстановить бабушку против себя, — предупредила она его. — Не рискуй, Майкл.
— А я все-таки рискну, — сказал он. — Мне нужно перед ней извиниться.
Они не разговаривали всю дорогу, потому что ветер был таким сильным, что сбивал их с ног, а дождь был больше похож на ледяной душ.
Хонор была уже в постели, когда они добрались до коттедж, поэтому Адель пришлось постучать в окно спальни, чтобы она их впустила. Бабушка открыла дверь со свечой в руке, на ее плечи поверх ночной рубашки была наброшена шаль.
— Что случилось? — спросила она, потом, увидев, что на Адель нет пальто, быстро втащила ее внутрь, резко сказав Майклу, что надеется, что у него есть хорошее объяснение, почему он привел ее домой вымокшей до костей.
Как только Адель очутилась в доме, она тут же выложила все, что произошло.
— А ты, Майкл? Почему ты не защитил ее? — спросила бабушка, зажигая масляную лампу.
Майкл объяснил, что не присутствовал при развязке.
— Я не знал, что отец так себя поведет, — сказал он. — Он все время повторял: «Почему она не отвечает на звонок?» — и я сказал, что пойду посмотрю, но он велел мне оставаться на месте. Брат сказал, чтобы я не вмешивался, и тут я услышал крики отца. Мне так стыдно, что я не вмешался раньше.
— Это было трусостью с твоей стороны, но я прекрасно понимаю, ведь он запугивал тебя всю жизнь, — сказала бабушка решительно. Она подтолкнула Адель по направлению к ее комнате, велев ей быстро снять с себя мокрую одежду.
Майкл стоял на месте, повесив голову, и с его одежды на пол шала дождевая вода.
— Когда-нибудь тебе придется восстать против отца, — сказала резко Хонор. — Хамы процветают на слабости других. Но я считаю, ты не законченный трус, потому что ты все-таки побежал за Адель и у тебя хватило смелости объясняться со мной. Но теперь тебе лучше пойти домой и выбраться из этой мокрой одежды.
— Мне так жаль, миссис Харрис, — проговорил Майкл.
Хонор увидела, что он дрожит от холода и шока.
— Тебе не нужно извиняться за своего отца, — сказала она. — Я, безусловно, с этим разберусь, но думаю, что ради мира в твоем доме единственное, что ты должен сказать, — это то, что проводил Адель домой.
— Мне так стыдно, — прошептал Майкл. — Я не хочу быть частью семьи, где так плохо обращаются с людьми. Ральф почти такой же жестокий, как отец.
— Мы не выбираем семью, в которой родились, — сказала Хонор уже чуть мягче. — Ну, иди домой, Майкл.
Глава двенадцатая
Хонор смотрела, как Адель заснула на кушетке, и внутренне улыбалась. Девочка боролась со сном с тех пор, как они закончили рождественский ужин, но наконец проиграла эту битву.
Хонор подумала, что она выглядит такой хорошенькой, лежа на кушетке с распущенными волосами, вьющимися вокруг раскрасневшегося лица, поджав ноги, скрытые новым платьем. Это шерстяное платье темно-светло-розового тонов так шло ей, и Хонор была в восторге оттого, что оно отлично сидит, потому что это была самая экстравагантная одежда, которую она когда-либо сделала. Потому, что ей не только пришлось купить выкройку, так как все выкройки, которые были у нее, уже устарели, но и потому, что оно было косого кроя и на него ушло почти пять ярдов ткани.
Когда Адель примерила его, то пошутила, что выглядит как Уоллес Симпсон. Хонор была далека от мысли, что Адель может выглядеть как это худое путало, но американка подсказала ей идею для платья — драпированный лиф, узкие рукава в три четверти и облегающая бедра юбка клеш были почти фирменным знаком миссис Симпсон. Тем не менее Хонор думала, что Адель оно шло гораздо больше, потому что у нее была идеальная фигура и прелестной формы ноги.
Ей понадобятся к этому платью какие-нибудь туфли на каблуках и приличные пальто и шляпа, подумала Хонор, в раздумье глядя на внучку. Ей самой казалось довольно странным, что после того как она многие годы рассматривала одежду просто как способ согревания тела, никогда не обращая внимания на то, как она выглядит, вдруг для нее стало так важно, чтобы Адель была хорошо одета.
— Майкл, я предполагаю, — пробормотала она себе под нос.
С того самого момента, как Хонор встретилась с Майклом три года назад, она ощутила между ним и Адель какую-то особенную связь, хотя на тот момент они были еще не выросшими детьми. Хонор он сразу же понравился за свою бесхитростность, врожденные хорошие манеры и искренний интерес к ее образу жизни.
Она ожидала, что Адель будет нервничать из-за любого мужчины после того, что с ней случилось в «Пихтах», и что сама она будет вести себя очень оборонительно, если кто-нибудь будет приближаться к ее внучке. Но в Майкле она не заметила ничего угрожающего, в нем была какая-то чистота, открытость, и у него было доброе сердце. Она всегда надеялась, что однажды их дружба превратится в нечто романтическое.
Когда Майкл поступил в Оксфорд, а Адель стала горничной у его матери, Хонор подумала, что искорка угасла, и была очень опечалена. И все же прошлой ночью, какими бы они ни были вымокшими и расстроенными, она видела, что искорка все еще горит. Майкл был таким нежным и так защищал Адель, и она была обеспокоена, что ее действия, вероятно, сильно огорчили его.
К несчастью, то, что должна была сделать Хонор в этой ситуации, скорее погасит искорку, чем раздует огонь, но семья Бэйли должна знать, что она не позволит никому просто так отделаться, обидев или унизив ее внучку.
Она поднялась со стула и прошлась по комнате, что-то поправляя то здесь, то там несколько минут и проверяя, как крепко спит Адель. Удостоверившись, что та действительно крепко спит, она укрыла девушку одеялом, надеясь, что Адель не проснется до ее возвращения.
Хонор тихо прокралась в свою комнату и критически посмотрела на себя в зеркало туалетного столика. Возраст начал сказываться на ней — морщин стало больше и появились усики. Что же касается ее темно-седых волос, было сложно представить, что они были когда-то каштановой копной. Ее платье темно-синего цвета с кружевным воротником и манжетами было лучшим и, по сути, единственным приличным платьем, которое у нее было. Оно было очень старомодным, но это и понятно, потому что она сшила его в том году, когда умер Фрэнк, незадолго до его смерти. К счастью, до него не добралась моль и оно все еще сидело на ней. Адель как раз сегодня утром сказала ей, что платье напоминало ей счастливые дни, потому что она впервые увидела его на Хонор в тот день, когда бабушка записывала ее в школу. С тех пор оно надевалось только по воскресеньям и на Рождество.
Хонор подобрала несколько высвободившихся прядей волос обратно в узел, слегка припудрила нос и надела шляпу. Шляпа тоже была темно-синей, классической, с тонкой отделкой. Адель однажды сказала, что шляпа делает ее еще более великолепной. Именно такой эффект она хотела создать сегодня.
Вельветовый воротник на ее пальто уже почти сносился, но она прикрыла его лисьими шкурками. Фрэнк купил их ей во время медового месяца и сказал, что это необходимая вещь для леди из высшего света. Она уже не была уверена, нравится ли ей, что с ее шеи свисает пара мертвых лис, их стеклянные глаза были слишком реалистичны. Но они действительно оживили ее пальто.
И наконец, ее лучшие туфли. Она не предвкушала удовольствия от того, что поднимется в них по крутому холму в Винчелси, они были слишком узкими. Но внешность — это все, когда собираешься встретиться лицом к лицу с врагом. Ей хотелось выглядеть на равных, а не старой ведьмой, которая живет на болотах.
Колющий северный ветер чуть не надвое резал Хонор, когда она поднималась по дороге. Небо было свинцового цвета, и она подумала, что позже может пойти снег. Речка Бреде была готова выйти из берегов после вчерашнего ливня, и хорошо, что все-таки не вышла — еще дюйм, и берега бы размыло.
Только в такие дни Хонор была готова разлюбить болота. Они выглядели унылым, жестоким и отталкивающим местом, годным только для птиц и овец, и даже овцы скучились вместе, чтобы согреться.
Перед Хэррингтон-хаус она сильнее надвинула шляпу, плотнее пригладила лис и глубоко вздохнула, прежде чем позвонить в звонок.
Наверху плакал ребенок, и лишь через некоторое время она услышала шаги в коридоре. Дверь открыла молодая женщина с растрепанными светлыми волосами, у нее были красные глаза, будто она только что плакала. Это явно была жена Ральфа Бэйли.
— Я желаю видеть мистера и миссис Бэйли, — сказала Хонор, быстро перешагивая через порог, чтобы молодая женщина не могла ей отказать.
Лаура Бэйли была поражена.
— Это не совсем удобно сейчас, — сказала она слабо, потом оглянулась через плечо, потому что сверху снова донесся вой.
— Мне это удобно, поэтому я предлагаю, чтобы вы пошли наверх к вашему ребенку, пока я войду, я знаю дорогу, — решительно сказала Хонор и быстро прошагала к двери гостиной и открыла ее.
Адель так ярко описывала всю семью, что Хонор чувствовала, что уже хорошо знакома с ними. Эмили сидела на кушетке у огня, рядом с ней ее сын Ральф. И Майлс Бэйли в кресле напротив. Все трое в крайнем удивлении подняли головы при ее появлении, и, судя по повисшему в атмосфере напряжению, она догадалась, что прервала спор. К счастью, Майкла среди них не было. Она надеялась, что, где бы он ни был, он там останется.
Комната была очень неприбранной, пол усыпан кусочками оберточной бумаги и разбросанными игрушками. Хонор заметила рождественскую елку в нише и подумала, что Адель отлично постаралась, так как она была красиво украшена.
— Кто вы? — возмущенно выпалил Ральф, вскакивая с кушетки. — И как вы смели войти сюда без приглашения?
По изумлению на лице Эмили Хонор поняла, что она еще не узнала старую подругу своей матери.
Хонор смерила Ральфа взглядом, отметив, что он точная копия отца в его возрасте.
— А ты не изменился, — сказала она с сарказмом. — Ты еще мальчиком был очень грубым. Я миссис Харрис, подруга твоих покойных бабушки и дедушки, а еще я бабушка Адель.
Майлс выпрыгнул из своего кресла.
— Послушайте, — неистовствовал он, — Адель мы уволили, у нас не было другого выхода, она была крайне дерзкой, поэтому, если вы пришли просить оставить за ней место работы, вы зря теряете время.
— Не в моей натуре кого-то просить, — чуть игриво возразила Хонор. — Я пришла сюда сказать вам, что думаю о вас, и забрать ее вещи и причитающуюся ей плату.
Эмили выглядела пораженной.
— Миссис Харрис! — воскликнула она, и ее маленькие ручки затрепетали от возбуждения, когда до нее дошло, что это давнишняя подруга ее матери. — Мы так много лет не виделись. Ну почему же Адель не сказала мне, что она ваша внучка?
— Разве вы обращались бы с ней с большим уважением и добротой, если бы знали? — спросила Хонор, вопросительно подняв одну бровь. Она подумала, что годы были более милосердны к Эмили, чем к ней. Ее волосы сохранили свой богатый оттенок, и цвет ее лица был по-прежнему фарфоровым. Но замечание Адель по поводу того, что она выглядела как фарфоровая кукла, было верным — ее голубые глаза казались стеклянными и словно пустыми, и губки были надутыми, как у маленькой девочки.
Хонор подумала, что ее небесно-голубая двойка с оборочками вокруг шеи не соответствовала ее возрасту, и все же она почти не изменилась с тех времен, когда только родила в 1913 году.
— Тебе должно быть стыдно, Эмили, — продолжала Хонор. — Адель пришла и помогала тебе, когда никого другого не было, именно так, как я часто помогала твоей матери. Она нигде не обучалась этому и узнавала все только от меня, и все-таки она управляла этим домом, и управляла хорошо. Она была тактичной, преданной и доброй с тобой. И ты позволила своему мужу ударить ее и выставить в сильный дождь.
— Но послушайте, — вмешался Майлс, — вы не можете просто так сюда ворваться и побеспокоить нас на Рождество. Девочка была неслыханно груба. Бог знает, что она уже наговорила моей жене в прошлом. У меня не было выбора, и мне пришлось ее уволить.
— Вы не имели на это права, она работала на вашу жену, а не на вас. Адель просто защищалась, — бросила ему Хонор. — А вы, Майлс Бэйли, хам.
Она принялась ядовито отзываться о худших сторонах служения Адель в их доме, не забывая ничего. Каждый раз, когда Ральф или Майлс пытались заставить ее замолчать, она вываливала на них еще больше. Эмили начала плакать, и Хонор напустилась на нее.
— Ну правильно, плачь, — прошипела она. — Это все, на что ты годишься. Адель тебя кормила, убирала за тобой, готовила, шила, гладила, стирала и даже ушла из своего дома, чтобы присматривать за тобой. И она ни разу не разболтала соседям про тебя, ничего не украла, ничем не воспользовалась. Посмотри на это дерево! Она сама его украсила, без всякой твоей помощи, а еще наготовила и убрала до блеска дом к Рождеству. А что ты сделала взамен? Ничего! Ни рождественского подарка, ни слов похвалы. Ты позволила вытолкнуть ее в дождь даже без пальто зато, что она уронила супницу.
Хонор видела, какой эффект она произвела на всех троих. Эмили была бледна и дрожала, Ральф не верил своим ушам, что у кого-то хватило наглости разговаривать с его родителями в таком тоне, а Майлс весь надулся от ярости. Зная, что у них, вероятно, было несчастное Рождество, поскольку им никто не прислуживал, Хонор надеялась, что ее приход и стычка с ними сделает его худшим в их жизни. Но она еще с ними не закончила, у нее разыгралась кровь и она велела принести вещи Адель из ее комнаты и плату за две недели вместо предупреждения об увольнении.
Майлс вышагивал по комнате, будто он был в зале суда и свидетельство, которое он только что услышал, было сплошной ложью.
— Я считаю все это совершенно невероятным, — сказал он. — Скажите мне, миссис Харрис, если положение Адель в качестве горничной было таким ужасным, как вы заявляете, почему она не ушла?
— В этом мире есть некоторые люди, которые позволяют сочувствию возобладать над здравым смыслом, — резко сказала Хонор. — Адель боялась уйти в страхе, что с Эмили может что-нибудь случиться. И более того, она не хотела, чтобы Майкл беспокоился или прерывал свою учебу.
— Ах, вот в чем все дело, — мерзко хмыкнул Майлс. — Она положила глаз на моего сына, не так ли?
— Какая чушь, — фыркнула Хонор. — Они были друзьями задолго до того, как она пришла сюда работать, и, в сущности, она пришла сюда, оказав ему услугу. Но она почти не видела его с того времени, и Эмили может это подтвердить. И не смейте намекать, что моя внучка каким-либо недостойным образом повела себя с вашим сыном, иначе вы очень сильно рискуете.
Его лицо еще больше побагровело, если это вообще было возможно, он достал кошелек, вынул оттуда пару банкнот и сунул ей.
— Возьмите это и ее вещи и уходите, — сказал он.
— Сначала я хочу услышать извинения, — сказала Хонор, беря деньги, но стоя на своем. — И обещание, что миссис Бэйли даст ей хорошую рекомендацию.
— Конечно, я дам ей рекомендацию, — сказала Эмили, вдруг снова разволновавшись, и ее голубые глаза наполнились слезами. — Но мне бы хотелось, чтобы Адель вернулась работать. Я совсем не знаю, что буду делать без нее.
— Она не может вернуться, ты, глупая женщина, — выпали Майлс. — Я найду тебе кого-нибудь еще.
Хонор резко посмотрела на мужчину. У него не было такта, он был грубиян и ханжа и настолько преисполнен чувством собственной правоты, что было неудивительно, что он крепко стоял на ногах в жизни.
— А извинения? — сказала она, подняв одну бровь и уставившись на него с самым строгим видом.
— Ну хорошо, извините, я погорячился, — пробормотал он, избегая смотреть ей в глаза. — Но сейчас уходите, пожалуйста, у нас было самое худшее Рождество, мои внуки и невестка расстроены, а Майкла весь день нет.
Хонор ликовала.
— Все было бы совсем по-другому, если бы вы обошлись с Адель как с человеком, — сказала она вкрадчиво, прежде чем повернуться к двери. — Я вас не буду сейчас беспокоить по поводу одежды, только возьму ее пальто из кухни. Я уверена, что Майкл завтра сможет занести нам остальное.
— Только не Майкл, — возразил Майлс. — Я не хочу, чтобы он когда-либо снова приближался к вам. Ральф или я, кто-то к вам заедет.
Пока Хонор ковыляла домой в своих тесных туфлях с пальто Адель в руках, у нее была масса пищи для размышлений. Ей хотелось рассмеяться, когда она увидела их кухню, — это был совершенный хаос, повсюду стояли немытые тарелки, кастрюли и остатки еды. Она дотронулась до печки — печка была чуть теплой, они явно не додумались доложить в нее угля, и огонь угасал. Ни сегодня вечером, ни утром не будет горячей воды, чтобы помыться, и кто будет вынужден все это убирать?
Но ликование от мысли, что уход Адель причинил им больше страданий, чем самой Адель, смешивалось с мыслями о Майкле, Это было неправильно, что такой приятный молодой человек вынужден бродить совсем один в рождественский день и что он должен выбирать между близкими людьми.
Следующий день был еще более холодным и мрачным. Хонор с трудом удалось открыть кроличьи клетки и накормить кроликов из-за сильного ветра. Когда она попыталась повесить мешки над кроличьими клетками, чтобы хоть немного защитить их от непогоды, ей пришлось удерживать их изо всех сил.
— Моей ноги сегодня не будет за этой когда зашла внутрь и согрелась у печки. — Я, наверное, старею, — добавила она, увидев, что Адель на нее смотрит. — Раньше я никогда не замечала холода.
Ей было немного неловко, она думала, как ей рассказать Адель, что она вчера ходила в Хэррингтон-хаус. Ее внучка еще спала, когда она вернулась, а к тому времени, когда она проснулась, Хонор уже была в своем кресле и читала книгу, будто она с него и не вставала. Но ей все равно придется признаться, в конце концов, у нее были для нее деньги, и кто-то должен будет привезти остальные вещи. Но ей не хотелось этого рассказывать, так как Адель наверняка не обрадуется тому, что больше не увидится с Майклом.
— Как ты думаешь, я могла бы быть медсестрой? — спросила вдруг Адель.
— Медсестрой?! — воскликнула Хонор. — Как только эта мысль пришла тебе в голову? Мне казалось, ты уже достаточно нахлебалась работы на побегушках.
— Это не то же самое, что работа прислуги, — возразила Адель. — Это настоящая, нужная работа. Я знаю, что мне исполнится восемнадцать только летом, но, возможно, стоит навести справки.
Хонор какое-то время размышляла об этом, довольная, что ее отвлекли от мыслей о Бэйли.
— Из тебя выйдет хорошая медсестра, — сказала она наконец, Она действительно думала, что Адель стала бы первоклассной медсестрой: у нее было терпение, умение сострадать и масса здравого смысла, а еще она была сильной и способной. Но раскрывать свои самые глубокие мысли было не в характере Хонор.
Адель в любом случае казалась удовлетворенной ее ответом и продолжала рассказывать, что эта мысль пришла ей в голову вчера вечером, когда она лежала в постели, и что она сможет подать заявление в больницу в Гастингсе. Похоже, она в самом деле все хорошо продумала, включая тот факт, что, если ее примут учиться на медсестру, ей придется жить в общежитии для медсестер.
— Что это было такое? — вдруг прервала ее Хонор, услышав хруст камешков снаружи. Она поднялась и выглянула в окно — как раз вовремя, чтобы увидеть Ральфа Бэйли, исчезавшего в конце улицы. — Ну, этого и следовало ожидать, у него даже не хватило смелости постучать в дверь.
Адель подпрыгнула.
— О чем ты? — спросила она.
— Это был Ральф Бэйли. Он подполз, как вор, ночью с твоими вещами, положил их на порог и скрылся. Он, вероятно, оставил машину на том конце улицы, иначе мы бы услышали.
Адель подошла к двери и открыла ее. Маленький чемоданчик, с которым она уезжала в Хэррингтон-хаус, стоял на пороге.
— О Боже, — вздохнула она, подняв чемоданчик и внося его в дом. — Они не вернули мое пальто, я думаю, забыли о нем.
Хонор пришлось признаться ей.
— Твое пальто в моей комнате, я забрала его вчера, — сказала она.
Адель не произнесла ни слова, пока бабушка в общих чертах обрисовала ей, что произошло, пока она спала. Она сидела на стуле у печки с отсутствующим выражением на лице, в нем не было ни одобрения, ни осуждения.
— Я еще вытянула из них десять фунтов, — закончила свой рассказ Хонор. — Я только попросила плату за две недели вместо предупреждения об увольнении, но не собиралась говорить, что это слишком много.
Адель по-прежнему молчала. Она поднялась и открыла чемодан. Сверху на одежде и паре книг лежал конверт.
— Это рекомендательное письмо, — охнула она, заглянув внутрь конверта. Она быстро прочла его и улыбнулась. — Что же ты такого им наговорила, что они так переменились?
— Прочтешь мне? — спросила Хонор.
— «По месту требования», — прочла Адель.
«Адель Талбот была моей экономкой в течение полутора лет. Она была честной, старательной и очень трудолюбивой. Я с глубочайшим сожалением была вынуждена расстаться с ней в связи с моими переменившимися обстоятельствами.
Искренне,
Эмили Бэйли».
— Ну, это просто невероятно! — воскликнула Адель. — Что за поворот! Это ты ее заставила написать, бабушка?
— Заставила? Конечно нет, — сказала бабушка. — Я только указала ей, что неплохо бы дать тебе рекомендацию. Но судя по тону, она сожалеет, что потеряла тебя.
— Я надеюсь, что с ней все будет в порядке, — вздохнула Адель. — Она на самом деле не может сама о себе позаботиться.
— Ну а теперь послушай, — сказала Хонор грубовато, — ты больше не потеряешь ни одной минуты, думая об этой женщине, Мы все пожинаем, что посеяли. Я знаю, что ее муж хам, но это не мешает ей научиться стелить постель или готовить еду. О ней должна беспокоиться ее семья, а не ты.
— Не думаю, чтобы о ней кто-нибудь беспокоился, кроме Майкла, — устало сказала Адель.
— Ну, в этом тоже ее вина, — резко сказала Хонор.
— Значит, это была твоя вина в том, что Роуз не заботится о тебе? — дерзко спросила Адель.
Хонор разозлилась.
— Я отдала Роуз всю мою любовь, — возмущенно сказала она. — Она просто эгоистичная девчонка.
— Почему ты никогда не рассказывала мне, что между вами произошло? — спросила Адель.
— Это не имеет ничего общего с тобой, — сказала, обороняясь, Хонор.
— Я думаю, что это все меня касается, бабушка, — возразила Адель чуть более резким тоном. — Это повлияло на то, какой матерью стала Роуз. Поэтому, пожалуйста, расскажи мне.
Хонор вздохнула. Она давно знала, что ей нужно поговорить с Адель о Роуз, как о прошлом, так и о недавних событиях. И все же никак не подворачивался нужный момент. Но, вероятно, сейчас был именно такой момент. Адель стала почти взрослой и достаточно зрелой, чтобы понять.
— Я уже рассказывала тебе, что дедушка вернулся с войны контуженым, — осторожно сказала она. — На самом деле очень трудно хорошо объяснить, что это такое, это нужно пережить, чтобы понять. Фрэнк целыми днями сидел там, где ты сейчас сидишь, — сказала она, указывая на любимое кресло Адель у печки. — И он просто сидел и смотрел в пустоту. Время от времени испуганно дергал головой, будто слышал рядом с собой звук выстрела. И все время что-то делал пальцами, перебирал пуговицы, выбившиеся нитки из брюк, часто царапал до крови лицо. — Она на секунду приостановилась, не зная, привести ли более яркие примеры или сохранить Фрэнку какое-то достоинство.
— Это было несправедливо, — сказала она горячо. — Фрэнк всегда столько смеялся, у него были безумные идеи, он мог говорить абсолютно обо всем, но Фрэнка, которого я любила, больше не было. На его месте был ушедший в себя, нервный и часто путающий своим поведением незнакомец, который требовал от меня столько сил и терпения, что я временами чувствовала, что не справляюсь с этим.
Адель понимающе кивнула.
— Но именно в тот день, когда все это произошло с Роуз, — продолжала Хонор, — я после долгого времени увидела в нем небольшое улучшение. Это был 1918 год, война еще тлела во Франции, и был конец весны. Мы вместе вышли на короткую прогулку во второй половине дня, и он не бросился на землю, как делал это раньше. Он смог выпить чашку чая без посторонней помощи, пролив лишь несколько капель, и сказал мне, что любит меня. Это значило больше, чем что-либо другое, — видишь ли, он мало разговаривал все это время, а когда разговаривал, просто разражался монологами о тех ужасах, которые видел на войне. По большей части он даже, казалось, меня не узнавал.
— А где была Роуз?
— Работала в гостинице, — сказала Хонор. — Но она должна была вернуться домой, как только постелет кровати на ночь. Я ждала с нетерпением ее прихода, чтобы рассказать об улучшении с отцом, и решила отметить этот случай, подарив ей платье, которое сшила тайком от нее.
Хонор откинулась назад на кушетку, прикрыв глаза, и Адель поняла, что у нее снова всплывают в памяти эти события, по мере того как она рассказывает о них.
— Уже начинало смеркаться, когда она вышла из своей спальни в этом платье, — сказала она.
Хонор помнила все так ясно, будто это случилось сегодня. Стоя был накрыт для ужина, Фрэнк сидел в своем кресле у огня, а она зажигала масляную лампу, когда Роуз вышла из своей комнаты, Она повернулась, полностью уверенная, что Роуз будет рисоваться в дверном проеме, хихикать, кружиться по комнате и демонстрировать себя в новом платье.
Со светлыми волосами, красивым лицом и великолепной фигурой Роуз была хороша в любой одежде, но в тот вечер, когда Хонор оглядела ее, то увидела, что она выглядит совершенно ошеломительно, потому что голубое платье удивительно шло к ее глазам. На нее тут же нахлынула гордость и удовлетворение от того, что долгие часы, которые она провела за шитьем платья, были потрачены не напрасно.
Но Роуз не кружилась и не хихикала. Она недовольно сморщилась.
— Оно ужасное, — сказала она, взявшись за длинный пор с отвращением, будто платье было сделано из грязной мешковины. — Как ты можешь думать, что я буду его носить? Платье для школьной учительницы.
Хонор поразилась и потеряла дар речи. С тех пор как Фрэнка привезли домой, они пытались выжить на зарплату Роуз. Единственной возможностью для Хонор купить ткань на платье было продать свою жемчужную брошку. Было бы намного разумнее потратить эти деньги на еду или даже заплатить по счетам врачу, но она знала, как тяжело молодой девушке каждый день, не меняя, носить одно и то же старое поношенное платье.
Может быть, это голубое платье с закрытым горлом и маленькими защипами на лифе не было криком моды, но шла война и одежда должна была быть практичной, особенно когда живешь в деревне, и Роуз не могла этого не понимать.
— Это было лучшее, что я могла сделать, — сказала в конце концов Хонор, уже пожалевшая, что рассталась с брошкой, которую ей в день свадьбы подарили ее родители и которая была единственной вещью, которая осталась от них. — Я думаю, что ты должна ценить то, что у тебя есть, Роуз, есть масса девушек, которые отдали бы что угодно за новое платье, — добавила она резко.
Возможно, Фрэнк уловил раздор в комнате, потому что начал дергать головой, у него закапала слюна и в горле что-то ужасно забулькало.
Хонор подошла к нему, чтобы успокоить его, но Роуз просто посмотрела с отвращением и презрением.
— Для меня уже достаточно унизительно, что я нищая и должна носить такие тряпки, — сплюнула она. — И еще хуже иметь отца, который не лучше деревенского дурачка.
Адель охнула, потому что бабушкин рассказ снова напомнил ей о жестокости матери.
— И что же ты сделала? — спросила она.
— В тот момент меня так ужаснула ее черствость, что я не сделала и не сказала ничего, — грустно ответила Хонор. — Потом я пожалела, что не ударила ее, не усадила насильно в кресло, чтобы рассказать ей некоторые из ужасных историй, которые Фрэнк изливал в моменты прояснений. Возможно, тогда Роуз поняла бы те огромные жертвы, которые приносили такие мужчины, как он, когда вербовались на войну за своего короля и свою страну.
— И что произошло потом? — спросила Адель.
— Наутро она ушла, — сказала Хонор ледяным тоном. — Выскользнула, как вор, ночью с нашими деньгами и теми немногими ценностями, которые у нас остались. Она обрекла нас на голодную смерть.
Адель на мгновение лишилась дара речи. Она никогда не считала, что у ее матери было доброе сердце, чувство сострадания или другие положительные качества, но она пришла в шок, услышав, что мать была черствой даже в семнадцать лет.
— Я понимаю, — сказала она в конце концов. — И конечно, ты могла бы рассказать это много лет назад.
Хонор передернуло от ее упрека.
— Если я и скрывала от тебя эту информацию, у меня были веские причины, — сказала она, запинаясь. — Когда ты впервые пришла сюда, ты была очень больна, ты пережила ужасные вещи, и я поставила тебя на ноги, руководствуясь одним инстинктом. Твоя мать мне тоже причинила много боли, и я справилась с этим, вычеркнув ее из своей памяти. Я думаю, что не рассказывала тебе, чтобы и ты тоже смогла забыть о ней.
— Но это не так делается, — сказала Адель. — Утаивая, мы делаем только хуже. Я теперь понимаю, почему ты с такой горечью говорила о Роуз, и сочувствую, но это не объясняет, почему она была такой злой со мной. Или объясняет?
— Нет, Адель, не объясняет, — согласилась Хонор. — Я могу только высказать свои предположения на этот счет.
— И что это за предположения?
— Ну, Роуз тогда могла быть беременна тобой, хотя, не зная точной даты, трудно сказать наверняка. Так что или она уехала отсюда с мужчиной, или поехала в Лондон в поисках развлечений и приключений и там встретила твоего отца. В любом случае, этот мужчина, вероятно, бросил ее, а для любой женщины, если она не замужем, это очень трудная ситуация, когда есть маленький ребенок.
— Поэтому она решила выйти за Джима Талбота в качестве альтернативы работному дому или возвращению домой с поджатым хвостом? — спросила Адель.
Хонор состроила гримасу.
— Вряд ли она даже задумывалась о том, чтобы вернуться домой. Она не могла не понимать, чем обернулось для нас ее исчезновение, Предполагаю, она думала, что мы никогда не простим ее.
— А вы простили бы?
Хонор вздохнула.
— Я правда не знаю. Я была разгневана на нее, Фрэнк полностью зависел от меня, и у нас едва хватало денег, чтобы прокормиться. И все же, может быть, если бы она объявилась у двери с тобой на руках, я, вероятно, смягчилась бы. Честно, не могу сказать. А ты бы простила ее, если бы она появилась здесь завтра?
Адель на несколько секунд задумалась об этом.
— Сомневаюсь, — сказала она в конце концов. — Но она же не собирается возвращаться сюда, правда? Тем более зная, что нас здесь двое против нее. Я предполагаю, ей сказали, что я здесь?
— Да, когда она подписала бумагу, по которой я стала твоим законным опекуном, — сказала Хонор.
Адель на мгновение задумалась об этом, вспомнив, что бабушка в то время писала и получала много писем.
— Но это было много лет назад. Она тогда еще была в больнице?
— Да. В месте, которое называется Файерн Барнет, в Северном Лондоне, — ответила Хонор. Ей уже было достаточно вопросов на день, но она чувствовала, что Адель не остановится, пока не будет знать все.
— Она все еще там?
Хонор заколебалась.
— Ну? — подтолкнула Адель. — Или она все еще там, или ее уже там нет. Если ее там нет, значит, она уже выздоровела.
— Нет. Ее уже там нет, — наконец призналась Хонор. — Она сбежала.
Адель охнула.
— И ты держишь это в тайне, — сказала она с упреком. — Когда и как она сбежала?
— Вскоре после того, как подписала бумаги о тебе. Месяцев через девять после твоего прихода, — сказала Хонор, опустив голову. — Она, похоже, завоевала чье-то доверие, потому что время от времени ее выпускали в сад. Она, возможно, спряталась в фургоне доставки белья, никто на самом деле не знает.
— Если она смогла это сделать, это означает, что, вероятно, ей уже лучше, — задумчиво сказала Адель.
— Возможно, — сказала Хонор. — Надеюсь, что так. Я думаю, что в тот момент именно подписание бумаг относительно тебя подтолкнуло ее к побегу и к тому, чтобы появиться здесь.
— Но ведь она этого не сделала, — Адель затаила дыхание.
У Хонор стал ком в горле. Она чувствовала боль Адель и не знала, что ей сказать, чтобы сгладить эту боль.
— Нет. Но может быть, она почувствовала, что ты будешь более счастлива без нее.
Адель пожала плечами, словно отмахнувшись.
— Если я должна поверить, что она заботится о моем счастье, почему бы мне сразу не начать верить в фей? — сказала она с сарказмом. — Но раз уж мы начали раскрывать тайны, что случилось с мистером Мэйкписом?
У Хонор по спине пробежал холодок. Как ей сказать Адель, что она столкнулась с недоверием в полицейском участке, когда сообщила про этого подлеца? Будет ли Адель легче, если она узнает, что бабушка писала много писем в благотворительное общество, в ведении которого находились «Пихты», но они не только не сняли его с должности, но даже не провели расследование по ее жалобе?
Единственной победой Хонор в тот первый год было то, что Адель была с ней, что она стала законным опекуном своей внучки. Но и это оказалось небольшой победой, когда выяснилось, что она просто облегчила задачу должностным лицам, сняв с них ответственность за судьбу девочки.
— Я о нем сообщила, — сказала она правдиво. — И полиции и благотворительному обществу. Меня так и не известили о том, что с ним случилось.
К облегчению Хонор, Адель больше не задавала вопросов. Она была еще достаточно наивной и предположила, что если на него подали жалобу, это автоматически означало, что он будет наказан. Она поднялась с кресла, взяла чемодан и пошла в спальню, чтобы распаковать его. Дойдя до двери, она обернулась.
— Не думаю, что я когда-нибудь еще увижу Майкла, — сказала она грустно. — Так что мы снова с тобой одни, бабушка.
У Хонор на глаза навернулись слезы. Она посмотрела на картину Фрэнка на стене, которая всегда была ее любимой, потому что на ней был изображен замок Кэмбер с речкой на переднем плане. Он нарисовал ее в месте, где они часто устраивали пикники. Он всегда хорошо умел выражать свои чувства как словами, так и своим и картинами, и она знала, что он сказал бы: наступил идеальный момент, чтобы сказать внучке, как она любит и ценит ее.
— Я люблю тебя, Адель! — выпалила она. — Ты полностью переменила мою жизнь своим появлением здесь. Как бы я хотела сделать что-нибудь, чтобы поправить ситуацию с Майклом. И еще мне так хотелось бы рассказать тебе о твоей матери что-то хорошее. Но я не знаю, что сказать, кроме того, как много ты для меня значишь.
Адель в удивлении смотрела на нее, потом начала смеяться.
— Ох, бабушка, — сказала она, смеясь и плача одновременно. — Я не уверена, что мне нравится, когда ты сентиментальничаешь. Это совсем не похоже на тебя.
Хонор не могла сдержать улыбки.
— Знаешь, что с тобой не так, девочка? — спросила она.
Адель отрицательно покачала головой.
— Скажи мне, — попросила она.
— Ты слишком похожа на меня, и как бы это не обернулось плохо.
Глава тринадцатая
1938
— Сестра Талбот! Миссис Дрю нужно сменить повязку! — крикнула сестра Макдональд, идя через проходную комнату, где Адель как раз собиралась вылить и сполоснуть судно.
— Да, сестра, — сказала Адель и, как только медсестра скрылась из виду, скорчила рожу любящей распоряжаться женщине, которая управляла женской хирургией железной рукой.
Было первое января, и в больнице не хватало персонала из-за вспышки гриппа. Адель сама не очень хорошо себя чувствовала, не потому что у нее был грипп, а потому что она с несколькими другими студентками-медсестрами допоздна веселилась, встречая Новый год дешевым шерри. Она была уверена, что сестра Макдональд знала об этом и поэтому преследовала ее весь день.
Она начала свою практику в качестве медсестры в госпитале Буханан в Гастингсе в апреле. Платили всего десять шиллингов в неделю, и рабочий день был долгим, но она жила вместе с другой практиканткой в хорошей комнате, ей предоставлялась еда три раза в день, и она подружилась не с одним десятком девушек. Анжела Дэлтри, ее соседка по комнате, была прелестной, ветреной девушкой из Бексхилла, и поскольку они почти всегда работали в одну и ту же смену, то проводили много свободного времени вместе.
Работа медсестры оказалась для Адель совсем не тем, чего она ожидала. Поскольку она никогда не была в больнице до того момента, как начала практику, она рисовала все это в более романтичных красках, представляя себя неким ангелом милосердия, промокающим лбы платочком, измеряющим температуру и расставляющим цветы на столиках у больных. Она, разумеется, знала, что столкнется со рвотой, кровью и суднами, но не предвидела, что это будет с утра до ночи и что ей, как практикантке, будут скидывать всю самую неприятную работу. И еще она никогда не представляла, что может быть столько правил. Не садиться на кровати, убирать все волосы под свою накрахмаленную шапочку, чтобы ни один не выбился. Сестра Макдональд была крайне суетливой, и у нее были глаза на затылке. Адель в первый день работы в палате получила невероятную взбучку за то, что съела ириску. Ее угостила одна из пациенток, но если послушать крики и ругань сестры по этому поводу, можно было подумать, что она украла целую коробку и запихнула в рот сразу все конфеты.
И все же сама профессия ей нравилась. Было так приятно наблюдать, как люди постепенно выздоравливают после операций, звать, что хотя она была лишь мельчайшим винтиком в том колесе, которое называлось больницей, это была существенно важная работа. Пациенты были благодарны ей за уход, проявляли к ней такой же интерес, какой она проявляла к ним, а общение с другими медсестрами было таким веселым.
Поставив чистое судно на место на полке, Адель ухватилась за тележку с перевязочным материалом и направилась к миссис Дрю. Это была полная женщина лет сорока с небольшим, с седеющими волосами, которая чуть не умерла от перитонита, и Адель к ней очень привязалась.
— Пора менять вашу повязку, — сказала она, задвинув шторку вокруг кровати пациентки.
— Снова? Только не это! — вздохнула миссис Дрю и отложила журнал, который читала. — Я иногда думаю, что вы так и ждете, пока кто-нибудь наконец удобно устроится, а потом набрасываетесь на него.
— Конечно, так оно и есть, — рассмеялась Адель. — Нам же нужно что-то делать, чтобы оправдать нашу чудовищно большую зарплату. — Она подняла ее ночную рубашку, открывая повязку на животе, затем осторожно сняла ее. — Заживает очень хорошо, — сказала Адель. — Думаю, скоро вы сможете отправиться домой.
— Я не тороплюсь, — с улыбкой сказала миссис Дрю. — Здесь мило и тепло, и это такое удовольствие, что можно полежать. А как только я попаду домой, мои снова будут ждать от меня, чтобы я их обслуживала.
У миссис Дрю было шестеро детей от трех до шестнадцати лет. Она много месяцев не обращала внимания на боль в животе, потому что у нее не было времени для себя и она не могла платить за лечение.
— Сестра объяснит им, как обстоит дело, — с усмешкой сказала Адель. — Вы перенесли серьезную операцию, и дома вам нужно будет пощадить себя, не носить тяжелых сумок, ведер с углем и даже вашего малыша. Все это придется делать за вас вашему мужу или кому-то из старших детей.
Миссис Дрю бросила на Адель насмешливый взгляд.
— Размечталась я! — сказала она. — Когда я вернусь домой, это место будет не сильно отличаться от свинарника. Сестра, если у вас есть хоть немного здравого смысла, не выходите замуж. Как только закончится медовый месяц, начнутся одни трудности.
У Адель было много таких стоических пациенток, как миссис Дрю. Они всегда ставили мужа и детей на первое место, не обращая внимания на собственные потребности. Большинство воспитывали детей в бедности, в ужасных условиях в доме, но каким-то образом сохраняли при этом живое чувство юмора. У миссис Дрю был особенный, черный юмор — она называла своего мужа «Эрик-кабан», потому что он чаще ворчал, чем разговаривал с ней. Она заявляла, что подумывала о том, чтобы согнать всех своих детей и бросить их на пороге приюта, чтобы побыть немного в покое, И все же ее лицо расплылось в широкой улыбке, когда Эрик пришел навестить ее, и она написала отдельные записочки всем детям, потому что им не разрешили войти в палату.
— Держу пари, если бы вы могли начать все сначала, вы все равно вышли бы замуж, миссис Дрю, — сказала Адель, очищая шов, прежде чем перевязать его.
— Думаю, что да. Но я бы дала ему затрещину в самый первый раз, когда он начал бы ворчать, — хмыкнула миссис Дрю. — А вы с кем-то встречаетесь?
Адель отрицательно покачала головой.
— Но вам кто-нибудь нравится?
Адель хихикнула. Было странно, что эта женщина, которая часто говорила, что замужество и дети — это для дураков, так заботилась о том, чтобы все нашли себе пару.
— Наверное, да, — призналась она, думая о Майкле. — Но ничего не получится. Его родители никогда меня не примут.
— Я была бы на седьмом небе, если бы мой мальчик Рони нашел такую милую девушку, как вы, — сказала миссис Дрю. — Вы умная, хорошенькая, и с вами приятно разговаривать. Его родителям надо показаться врачу, у них не все в порядке с головой.
Адель опустила ночную рубашку женщине и снова укрыла ее одеялом.
— Я сама часто так думала о них, — сказала она, подмигнув. — Ну а теперь отдыхайте, миссис Дрю, и никаких хождений по палате. Катя перевязочный столик обратно, Адель думала, где сейчас Майкл и был ли он в Винчелси на Рождество, чтобы увидеться с матерью. Она работала и на Рождество, и на Boxing Day[2], так что не смогла поехать домой. Но с завтрашнего дня у нее будет два выходных, и она надеялась, что у бабушки для нее припасена масса новостей.
В январе прошлого года Майкл написал ей, снова извиняясь за поведение родителей. Это было странное письмо, она чувствовала в нем глубокую грусть и множество недосказанного. Читая между строк, она поняла, что отец устроил ему из-за нее скандал и почти наверняка настаивал, чтобы они больше никогда не виделись. Майкл, вероятно, понимал, что ему следует повиноваться отцу, но поскольку он был добрым человеком, то не написал об этом, чтобы не сыпать соль на рану.
Адель подождала пару недель и написала ему в Оксфорд ответ в бодром тоне. Она рассказала, что подала документы на курсы медсестер и что он не должен ни о чем беспокоиться, потому что все повернулось к лучшему. Она сказала, что не держит зла ни на него, ни на его мать и надеется, что миссис Бэйли нормально справляется.
Майкл ответил почти через три месяца, лишь за несколько дней до того, как она начала работать в качестве стажера. Он писал, что в восторге от того, что она станет медсестрой, потому что в его глазах это одна из самых важных профессий. Он также писал, что считает ее прирожденной медсестрой. Он спросил, встретится ли она с ним, если он приедет в Гастингс, но не мог сказать точно, когда это будет. Его надежды, что родители снова сойдутся, были разбиты.
Дальше все письмо было посвящено полетам и летному корпусу в Оксфорде. Он ликовал, потому что наконец получил квалификацию пилота, и писал, что серьезно подумывает о карьере в ВВС после получения диплома.
Во время прохождения практики у Адель совсем не было времени, чтобы думать о Майкле. Ей нужно было выучить много теоритического материала, каждую неделю были контрольные работа, и каждый свободный вечер и каждый выходной она проводила за учебой. Потом в мае прошла коронация Джорджа VI, и Адель помогала делать флаги и другие украшения для больницы. Некоторые медсестры поехали прямо в Лондон, чтобы посмотреть на празднование, но от всех практиканток ожидали, что они будут помогать с чайной вечеринкой в больничном саду, разнося чай или помогая спускаться в сад пациентам, которые были в состоянии. Для Адель это оказалось настоящей инициацией в социальную жизнь больницы, поскольку в этот день она познакомилась со множеством людей, с религиозным и обслуживающим персоналом, а также с врачами и остальными медсестрами.
Именно в тот день она начала понимать, что Англия действительно может быть втянута в новую войну. Недовольство по поводу Адольфа Гитлера и его все возрастающей власти в Германии продолжалось так долго, что она уже не обращала на это внимания. Она, безусловно, была в ужасе от того, как он обращался с евреями, но только когда подслушала, как один из докторов повторил слова из письма Майкла о том, что Гитлер настроен на завоевание мирового господства, до нее дошло, что это означает на самом деле.
Его нужно остановить, и это будут молодые мужчины вроде Майкла, которых призовут. У нее по спине пробежал холодок, когда она оглянулась вокруг себя и увидела Рэймонда и Альфа, двух молодых санитаров, которые всегда дразнили медсестер-студенток. Им тоже придется пойти воевать, как и большинству врачей, как и братьям и отцам ее подруг, и это будет то же самое, что и на первой войне: женщины будут выполнять мужскую работу и ждать и надеяться, что их сыновья, мужья и братья не окажутся в списках погибших.
И вдруг Адель поняла, почему ее с такой готовностью зачислили в студентки на курсы медсестер. Она хотела верить, что была исключительной и что ее вступительное собеседование прошло блестяще. Но на самом деле все, вероятно, было совсем не так. Если война действительно будет, Англии понадобятся еще сотни медсестер, и поэтому зачисляли каждого, кто мог и хотел учиться. Но хотя Адель немного разочаровалась, поняв, что не была такой уж особенной, она преисполнилась решимости доказать, кем является.
Майкл приехал повидаться с ней в начале свои летних каникул, даже не предупредив. Он оставался с матерью лишь несколько дней, прежде чем поехать в Шотландию, и очень надеялся, что у Адель будет выходной. И ему действительно повезло, у нее был выходной, и хотя она обычно ездила домой к бабушке, на этот раз осталась в общежитии, чтобы поучиться.
Некоторые медсестры видели, как он ждет ее в холле, и потом безжалостно дразнили ее. Оказалось, что если кто-то заезжал сюда, вместо того чтобы договориться и встретиться в городе, подразумевалось, что это серьезные отношения. И еще это означало, что в будущем старшая сестра будет зорко следить за ней.
Был сильный ливень, поэтому они поехали на машине в кафе в Батл. Это было приятное заведение с бумажными занавесками в полосочку и скатертями и множеством ярких медных горшков, подвешенных к балкам.
Адель еще находилась под впечатлением от работы медсестрой и не могла говорить ни о чем другом, пока они пили чай и ели сдобные лепешки и пирожные. У Майкла в голове тоже была одна-единственная мысль. Он собирался уезжать и остановиться у людей, которые казались невероятно важными персонами, у них был замок на озере и частный самолет, на котором он сможет летать. Они оба ни словом не обмолвились о болотах, будто пытались быть другими людьми.
Он выглядел настоящим джентльменом в серых фланелевых брюках и яркой фланелевой спортивной куртке и часто невольно переходил на студенческий сленг, который она не всегда понимала. Он также вырос и стал очень красив: его волосы были намного длиннее, лицо тоньше, и пока он просил официантку принести еще чая, на его угловатые скулы упал свет из окна, и она почувствовала, что ее захлестнула волна желания.
И все же, как бы ни было замечательно снова увидеть Майкла, у Адель осталось неприятное чувство, что он оценивал ее и пришел к выводу, что чего-то в ней не хватает. Она не могла винить его — в дешевом хлопковом платье, с голыми ногами, болтая о градусниках, суднах и тому подобном, она, вероятно, имела вид такой простушки.
Она понимала, что он знакомится со многими девушками. Она представляла, что все они ужасно хорошо воспитаны, разговаривают, как дикторы, и носят одежду из дорогих магазинов. Почему он по-прежнему проявляет интерес к кому-то, кого не одобряют его родители? Особенно когда вокруг него бесчисленное количество девушек, более красивых, умных и с меньшими проблемами, чем у нее?
Майкл должен был возвращаться к матери на ужин в семь часов, и когда он завез ее в общежитие, то поцеловал в щеку.
— В следующий раз мы договоримся заранее, чтобы у нас было больше времени, — сказал он. — Я хочу пригласить тебя на ужин или потанцевать.
Адель набрала в рот воздуха, прежде чем ответить. Она хотела Майкла на любых условиях — когда он был рядом, у нее подкашивались ноги, сердце билось чаще, и она могла смотреть в его темно-синие глаза вечно и никогда не уставать. Но она была реалисткой, и сколько бы у них не было общего пять лет назад, когда они впервые встретились, сейчас они выросли и находились на разных полюсах. Даже если бы его родители не были так настроены против нее, у них все равно ничего бы не получилось, и она не хотела, чтобы Майкл чувствовал, что он чем-то связан с ней.
— Нет, Майкл, — сказала она твердо. — Ни танцев, ни ужина, просто время от времени посылай мне открытку, чтобы я знала, чем ты занимаешься.
Она ожидала, что ему станет легче и он даже рассмеется и скажет, как он рад, что она по-прежнему такая же прямая, как была ребенком, но, к ее удивлению, он был поражен и выключил двигатель машины.
— Я тебе больше не нравлюсь? — спросил он. Он положил одну руку ей на щеку, чтобы она не могла отвернуться от него, и его глаза впились в нее.
— Конечно, ты мне нравишься, глупый, — сказала она и попыталась рассмеяться. — Ты всегда будешь моим особенным другом, но это не означает, что ты должен периодически возникать и кормить меня пирожными, чтобы возместить ужасное обращение со мной твоего отца.
— Ты думаешь, я из-за этого сегодня приехал? — спросил он.
— Ну… да, — сказала она. — Возможно, ты на самом деле не считал это причиной, но я думаю, что это так. Тебе не нужно чувствовать себя виноватым из-за этого, я сейчас медсестра, и работа с твоей матерью помогла мне открыть этот путь. Я ни на тебя, ни на нее не сержусь.
Он положил другую руку на ее щеку, обняв ладонями ее лицо.
— Ты все не так поняла, — ласково сказал он. — Я хочу пригласить тебя на ужин не потому, что чувствую себя виноватым, а потому, что хочу, чтобы ты была моей девушкой.
— Но как ты можешь этого хотеть? — спросила она, чуть не теряя сознание от прикосновения его ладоней к ее щекам. — Я никогда не смогу стать частью твоего мира.
— Посмотри на себя, — сказал он с нежной улыбкой. — Адель, ты красивая, способная и сильная, ты сможешь стать частью любого мира, если захочешь. Но я не хочу, чтобы ты становилась частью чего-то, я просто хочу тебя такой, какая ты есть и где бы ты ни была. Мне нравятся твои жизненные ценности, твое отсутствие высокомерия, твоя доброта. Ты мне нравишься, очень нравишься!
Прежде чем Адель смогла что-то сказать, он поцеловал ее. Не таким сорванным, смущенным поцелуем, каким был их первый поцелуй два года назад, но настоящим поцелуем возлюбленного, и это был первый поцелуй в жизни Адель. Его губы были намного мягче, чем она ожидала, он обнял ее и притянул к себе. Кончик его языка немного раздвинул ее губы, и вдруг она поняла, как любовники могут стоять на вокзалах и в дверях магазинов, целуясь часами. Она подумала, что сможет даже проигнорировать старшую сестру, если та будет стоять на ступеньках общежития и наблюдать за ними. Она хотела остаться в объятиях Майкла навсегда.
— Ну что, ты будешь со мной встречаться? — спросил он, когда они перестали целоваться. Он все еще крепко держал ее в свои руках и потерся носом о ее нос. Что она могла ответить, кроме «да»? Кода она наконец выбралась из машины, она была такой счастливой, что ей захотелось побежать в общежитие и закричать, объявляя всем, что Майкл Бэйли хочет, чтобы она была его девушкой.
Но она могла не трудиться объявлять это публично, потому что казалось, на них с Майклом было наслано какое-то проклятие. Он специально приехал из Шотландии пораньше, чтобы встретиться с ней, но ее поставили в ночную смену, и они провели вместе лишь несколько часов во второй половине дня, гуляя по набережной.
В сентябре, когда он снова смог вырваться, у него поломалась машина и он застрял в двадцати пяти милях от своего дома в Элтоне. Он все равно приехал, как они договаривались, но у них осталось времени только на то, чтобы поесть рыбы с жареной картошкой, а потом она пошла на ночное дежурство. Он встретил ее утром, когда она сменилась, но она была такой уставшей, что заснула в его машине, когда они поехали завтракать.
В октябре он должен был возвращаться в Оксфорд, и поскольку это был его выпускной год, ему нужно было много заниматься. Но он писал ей каждую неделю и умолял, чтобы она потерпела и не влюблялась в какого-нибудь молодого врача.
На это Адель могла лишь улыбнуться. Она работала так много, что, когда заканчивалась ее смена, единственное, чего она хотела, — это добраться до своей кровати, а еще ей нужно было готовиться к экзаменам. Кроме того, медсестрам было строго запрещено близко общаться с врачами, но даже если бы это не было запрещено, ни один из них не мог бы сравниться с Майклом.
Она очень много мечтала о нем, вспоминая его поцелуи, каждый его комплимент, каждую шутку. Но тем не менее пыталась сдерживать себя и не думать о будущем, потому что, кроме враждебности его отца по отношению к ней, существовала еще реальная угроза войны.
Каждый день в новостях появлялись очередные предвестники войны. Мистер Чемберлен, премьер-министр, выступал с утешительными речами, но кого он уже мог одурачить? Майкл все больше и больше упоминал о ВВС в своих письмах. Иногда у Адель возникала мысль, что он на самом деле надеется на войну. Он заявлял, что если будет война, то сражаться будут в небе, а не в окопах, как в Первую мировую, и говорил об этом с возбуждением и даже удовольствием.
Как она могла думать о будущем, если Майкл настроился на самую опасную профессию, которую она только знала?
Адель клонило ко сну во время поездки автобусом домой в Рай в тот вечер. Но каждый раз, когда ее голова касалась холодного окна, она просыпалась, вздрагивая. Она уже так хорошо знала дорогу, что ей не нужно было вглядываться в темноту, чтобы посмотреть, где они находятся. Она даже с закрытыми глазами знала по поворотам дороги, по крутизне холма и даже по количеству людей, которые садились в автобус или выходили, сколько он уже проехал. Она знала, когда они останавливались у развилки в Петт, по пыхтению толстой женщины, которая всегда выходила здесь.
Она открыла глаза, дернувшись, когда автобус въехал в Винчелси, и, как всегда, приготовилась, что сейчас увидит Хэррингтон-хаус. К ее удивлению, в окне она увидела рождественскую елку, пылающую электрическими огнями, и окончательно проснулась, выглядывая, не стоит ли у дома машина Майкла. Машины не было, но она на секунду увидела женщину, задвигавшую шторы в спальне миссис Бэйли на втором этаже. Она подумала, что это, вероятно, экономка, которая приехала сюда летом. Судя по всем рассказан, она была вдовой и очень набожной. Адель было интересно, как она справлялась с привычкой миссис Бэйли пить.
Когда автобус проехал через Лэндгейт и вниз по холму, Адель поднялась, позвонила в звонок и прошла к передней двери на выход.
— Иди осторожно, — сказал водитель, открывая ей дверь. — Здесь лед, и в темноте ничего не видно.
Адель поплотнее завязалась шарфом, когда автобус отъехал, оставив ее в кромешной тьме. Был мороз, и с моря дул влажный, колючий ветер. Но как бы ни было холодно, тишина здесь была удивительной. В общежитии и в больнице никогда не было тихо. Она вдруг вспомнила свою первую зиму здесь и как она боялась идти домой из школы в темноте. Она принимала ветер, стонавший в кронах деревьев, за привидения, и ей всегда чудилось, что кто-то лежит в засаде, готовый схватить ее.
Бабушка вылечила ее от этих страхов.
— Не будь смешной, — сказала она строго. — Если бы мужчина хотел лежать в засаде, ожидая проходящих девушек, он выбрал бы место, где не так холодно и где есть большая вероятность, что пройдет какая-нибудь девушка. Что же касается привидений, если бы они и существовали, зачем бы им была нужна открытая сельская местность, если в Рае есть сотни старых домов?
— Она ничего не боится, — подумала Адель, осторожно пробираясь по улице среди заледеневших луж. И еще она подумала, что ей не хотелось бы жить одной в таком уединенном месте, когда состарится.
Но когда она почувствовала запах дыма и увидела приветливый свет в окне, она забыла, что устала, проголодалась и замерзла. Было так хорошо снова оказаться дома.
— Это было совершенно восхитительно, — вздохнула Адель, подобрав последнюю крошку пудинга с патокой и сладким кремом, за которым последовала курица, жареная картошка, репа и брюссельская капуста. — Никто не готовит таких вкусных обедов, как ты, бабушка.
— Это довольно легко, когда есть свежие продукты в наличии, — возразила Хонор, но улыбнулась, потому что комплимент доставил ей удовольствие. — Я предполагаю, что овощи, которыми тебя кормят в больнице, лежат неделями.
— И перевариваются, — сказала Адель. — У всего одинаковый вкус. Ну ладно, расскажи мне все сплетни!
— Ну что я, с кем-то вижусь, откуда мне знать все сплетни? — сказала бабушка. — Когда тебя нет здесь, мне не часто нужно ездить в магазин в Винчелси, так что я ничего не могу рассказать тебе про семью Бэйли, я даже не знаю, приехал ли Майкл на Рождество.
Адель покраснела. Она не подумала, что по ее лицу все можно так легко прочитать.
— Он скоро будет возвращаться в Оксфорд, — сказала она. — Но он прислал мне это на Рождество. — Она залезла рукой под воротник джемпера и достала овальный золотой медальон.
Хонор подошла ближе и уставилась на него.
— Он из настоящего золота! — воскликнула она. — Я представляю, сколько он стоит!
— Я знаю, — хмыкнула Адель. — Все девчонки завидовали. Он еще и открывается, туда можно вложить фотографию. Жалко, что у меня нет его фотографии, я бы вложила.
— Его родители знают, что вы еще общаетесь? — спросила Хонор, подняв одну бровь.
— Я не думаю, — ответила Адель.
Хонор тяжело вздохнула, но ничего не сказала.
Следующий день был еще холоднее, и, не считая того, что пришлось выходить кормить кур и кроликов, они весь день жались к печке, Адель переписывала кое-какие наброски, которые сделала во время лекции, а Хонор вязала. И следующий день был таким же холодным, но Адель заметила, что осталось совсем немного хвороста, и поскольку вечером она собиралась обратно в больницу, то настояла, что пойдет сама и немного принесет.
На улице было хорошо, она надела свою старую одежду и ботинки и тащила за собой маленькую тележку. Она никогда не гуляла много по Гастингсу, после долгого рабочего дня в больнице она всегда слишком уставала, но она скучала по свежему воздуху и по одиночеству, которого так много было в ее жизни, прежде чем она стала медсестрой.
Она заполнила тележку за час, потому что сильный ветер за последние недели выбросил на пляж много веток с моря. Она как раз возвращалась по галечному берегу, чтобы положить в тележку последнюю охапку, когда, к своему удивлению, увидела вдалеке Майкла.
Он шел из гавани Рай, наклонив голову, укрываясь от ветра. Он не был одет для прогулки в таком диком месте, ей показалось, что он одет в длинное городское пальто поверх костюма, и был с непокрытой головой.
— Майкл! — закричала она, но ветер был слишком сильный, чтобы он мог услышать. Она добежала до тележки, свалила на нее хворост и побежала навстречу ему. И только когда она была примерно в двух сотнях ярдов от него, он поднял голову и увидел ее.
— Адель! — закричал он с ликованием и кинулся бежать. — Я не ожидал тебя увидеть. Я думал, ты будешь работать.
Майкл рассказал ей, что приехал в канун Рождества, но машина барахлила и он отвез ее механику в гавань, чтобы тот починил. Утром сюда его подвез один из соседей матери, и он ожидал, что уедет на отремонтированной машине, но требовалась еще одна деталь и еще один день на починку.
— Я должен был пойти домой по дороге, — сказал он, с сожалением глядя на свои шикарные черные туфли, покрытые грязью. — Эти туфли не предназначены для плохой дороги, но я вспомнил, как ты первый раз показывала мне дорогу в гавань, и мне захотелось снова пройтись здесь. Потом я вдруг увидел тебя прямо перед собой.
— Ты бы пришел в коттедж, если бы меня не увидел? — спросила она, чувствуя, что, возможно, было бы умнее побежать домой, переодеться в приличную одежду и ждать его визита.
— Не думаю. Я уже подумал об этом и решил, что у меня недостаточно смелости, чтобы встретиться с твоей бабушкой.
— Но почему же? Она на тебя не сердится, и она знает, что мы общаемся, — сказала Адель. — Я показала ей медальон позавчера вечером, и она не сказала ничего плохого на этот счет. И кстати, спасибо за медальон, он такой чудесный… но ты не должен был тратить на меня столько денег.
Она раздвинула воротник, чтобы показать ему, что она носит его.
— У меня тоже есть для тебя подарок, не такой шикарный, как твой, но я ждала, когда, ты вернешься в Оксфорд, чтобы послать его.
Он улыбнулся.
— Посмотри на себя! Ты такая красивая с розовыми щечками и в этой пушистой шапке.
Адель покраснела.
— По-моему, я больше похожа на пугало, — сказала она. — Почему ты всегда появляешься, когда я не готова?
— По-моему, великолепнее, чем сейчас, ты просто не можешь выглядеть, даже если бы потратила много часов на подготовку, — сказал он, глядя внимательно ей в глаза, так что ей пришлось опустить взгляд. — Ты же знаешь, что я безнадежно в тебя влюблен?
Адель услышала его слова, но подумала, что он шутит. Он не мог сказать это всерьез. Или мог?
И все же, когда она подняла глаза, было похоже, что он не шутил. Он смотрел на нее с такой нежностью, его полные губы, покрасневшие от ветра, были слегка приоткрыты, будто он, затаив дыхание, ждал ее ответа.
— Ты серьезно? — спросила она срывающимся голосом.
— Я никогда не был более серьезным, — сказал он и потянулся к ней. — Я сто раз пытался сказать себе, что я это просто придумал, но ничего не помогает.
И тогда он поцеловал ее, и их холодные губы потеплели от прикосновения, и чем крепче он прижимал ее к себе, тем становилось теплее. Адель забыла, что они на болотах, забыла о холоде, о хворосте в тележке и о том, что бабушка ждет, когда она вернется, Не имело значения ничего, кроме этого прекрасного чувства, которое охватило ее.
— Пойдем в замок, — прошептал он, взяв ее за руку и уводя по направлению к замку, прежде чем она успела ответить. — Мы укроемся там от ветра.
В замке ютились овцы, и Майкл рассмешил Адель, подбежав к ним, чтобы прогнать.
— Это нехорошо, — сказала она. — Это был их дом.
— Нет, не их, это наш дом, — сказал он, обнимая ее. — Ты привела меня сюда в первый день, когда мы встретились, и я разболтал всю эту ерунду про своих родителей. Ты помнишь?
Она кивнула. Она хорошо помнила, что чувствовала в этот день, он понравился ей, она доверяла ему, но все же боялась слишком много рассказывать о себе.
Она оглянулась вокруг себя, и ее охватило теплое чувство к этому старинному замку, где она в прошлом проводила так много времени. В его осыпающихся каменных стенах не было слышно стона ветра, и хотя небо над ним было таким же серым, как камень, в нем укрылись деревья, листочки которых зеленели. Это был рай для множества животных и птиц, а сейчас он стал раем и для нее с Майклом.
— Ты никогда не рассказывала мне своих секретов, — сказал он подчеркнуто, взяв ее за руку и отводя на поросшую травой скамью, чтобы сесть там. — Но ты наверняка можешь рассказать мне их сейчас, когда я сказал тебе, что люблю тебя?
Адель проигнорировала слова о секретах, ее больше волновала любовь.
— Ты не можешь говорить серьезно, Майкл, — сказала она, поворачиваясь к нему и обнимая его лицо ладонями. — Ты подумал, что об этом скажут твои родители?
— Да, и мне все равно, что они скажут. Этим летом мне будет двадцать один, я вступлю в ВВС и могу делать со своей жизнью то, что захочу. Я ничего им не должен.
— Нет, должен, — настаивала она. — Они твои родители, они содержали тебя, пока ты учился в школе и в Оксфорде. Если они порвут с тобой, ты не сможешь с этим примириться.
— Ты так думаешь? — поднял он брови. — Отец обо мне на самом деле не заботится — он швыряет мне деньги, но это просто его способ держать меня под контролем. Мама меня любит, но она никогда не думает о том, чего хочу я или что нужно мне, это просто «я, я, я» рядом с ней. Я должен ее поддерживать, я должен ее защищать, я должен себя демонстрировать ее умным мальчиком.
Адель почувствовала, что он очень реально воспринимает родителей, потому что не могла бы опровергнуть ни одного его слова. Но как девочка с болот сможет просто переехать в тот мир, в котором он вырос?
Он положил ее спиной на траву и целовал с такой страстью, что она забыла обо всех своих беспокойствах, ее будто кто-то унес в волшебное место, где не имело значения ничего, кроме настоящего момента.
И только когда его руки проскользнули под ее пальто и дотронулись до ее груди, она пришла в себя.
Перед ее глазами возникло лицо мистера Мэйкписа. В восторге от поцелуев она забыла, что мужчины обещают все что угодно, чтобы получить то, чего они хотят.
— Мне пора домой, — сказала она, отталкивая его руки и вставая. — Ланч будет скоро готов. Я уезжаю пятичасовым автобусом, и мне нужно провести еще какое-то время с бабушкой до отъезда.
Он приподнялся на одном локте и, ошеломленный, посмотрел на нее.
— Но я не знаю, когда теперь смогу вырваться, чтобы приехать сюда, — растерянно сказал он.
— Лишь бы ты не опоздал, — ответила она резко, поднимаясь на ноги. — Я не могу валяться на траве, когда тебе заблагорассудится, у меня есть обязанности.
— Почему ты сердишься? — спросил он, поднимаясь. — Что я сделал не так?
История с мистером Мэйкписом, которую она слишком хорошо помнила, снова встала у нее перед глазами. Она тоже ему доверяла, и потом он предал ее доверие. Как она может знать, говорит ли Майкл, что любит ее, только чтобы добиться ее, или это действительно так и его прикосновения — просто часть этого чувства?
Она отлично знала от своих подруг-медсестер, что ребята, встречавшиеся с девушками, ласкали их груди, сжимали и гладили ягодицы и залезали рукой под юбку. Медсестры часто обсуждали, как далеко они позволяют им заходить, прежде чем оттолкнуть их. Это была словно игра, где на каждом свидании девушки позволяли чуть больше вольностей. Адель не хотела играть в игры, она хотела точно знать, на каком она свете. И все же она не могла прямо сказать об этом Майклу, все это ее слишком смущало.
Он взял ее за руку, когда они шли обратно к тому месту, где она оставила тележку с хворостом. Он молчал, и Адель несколько раз взглянула на него, пытаясь понять, о чем он думает.
— Прости, — выпалила она в конце концов, потому что молчание было для нее невыносимо. — Я просто немного испугалась.
— Испугалась, что я тебя изнасилую? — отрезал он, и, когда он повернулся к ней, она увидела, что у него напряженное и гневное лицо. — Я люблю тебя, Адель. Я никогда не попытался бы заставить тебя сделать что-то, чего ты не хочешь. Я думал, ты это понимаешь. Адель чувствовала себя глупо. Она думала, что то, что сделал с ней мистер Мэйкпис, никогда не повлияет на нее снова — в конце концов, прошло почти семь лет, и четыре последних года она почти не вспоминала о нем. Она понимала, что должна объяснить Майклу, но не хотела расстраивать его, и все же большая часть ее еще возмущалась тем, что он трогал ее грудь. Она боролась со слезами, находясь в сильном замешательстве.
Они дошли до тележки, и Майкл двинулся было к ней, чтобы повезти ее, но для Адель вид Майкла в шикарной городской одежде, катящего тележку на старых колесах от коляски, был еще одним напоминанием пропасти между их происхождением.
— Не надо, — сказала она, выхватывая из его рук ручку тележки. — Я сама.
— Я даже к твоей тележке не могу прикасаться? — спросил он с сарказмом.
И тогда она расплакалась и почти бегом потащила за собой тележку по неровной земле, рассыпая часть хвороста по дороге в Керлью-коттедж.
Майкл поднял несколько веток, он был в полном недоумении от такого странного поведения Адель. Он не собирался забирать у нее тележку, уже одна скорость, с которой она шла, говорила о том, что она в состоянии треснуть его веткой.
Но он пошел за ней, собираясь сбросить хворост, который подобрал, у коттеджа и затем удалиться. Он замерз и проголодался, у него болели ноги, и он был крайне разочарован, что после восторга от неожиданной встречи с Адель все кончилось так плохо.
Но когда они приблизились к коттеджу, в дверях появилась миссис Харрис. Адель еще больше набрала скорость, и из-за шума ветра Майкл не расслышал, что она говорила бабушке. Она бросила тележку снаружи и кинулась в дом. Миссис Харрис решительно зашагала ему навстречу.
— Чем ты ее расстроил? — спросила она со строгим выражением на лице.
— Я не знал, что она расстроена, — честно сказал он, кладя хворост на землю и отряхивая пальто. — Я возвращался из гавани Рай и столкнулся с ней. Мы на какое-то время зашли в замок Кэмбер, и вдруг она сказала, что ей нужно домой. Я не знаю, что с ней, лучше спросите ее. Может быть, она расскажет вам.
Хонор гневно посмотрела на него.
— Она уходила из дома в совершенно нормальном настроении.
— Ну тогда ее явно расстроило мое объяснение в любви, — сказал он резко и пошел прочь.
— Не смей от меня уходить, Майкл Бэйли, — сказала она громовым голосом. — Иди сюда.
Майкл не посмел ослушаться ее и вернулся.
— Послушайте, миссис Харрис, — сказал он. — Я на самом деле не знаю, что на нее нашло. Скажите ей, что я позвоню ей в общежитие сегодня вечером. Моя машина сломана, поэтому я не могу отвезти ее в Гастингс.
— Значит, завтра утром ты еще будешь здесь? — спросила она.
Майкл кивнул.
— Тогда приходи ко мне, — сказала она. — По-моему, настало время нам поговорить вдвоем.
Хонор помахала, когда автобус отъехал. Адель пошла прямо к заднему сиденью, и, судя по тому, как она шлепнулась на место и слабо помахала ей рукой, Хонор поняла, что она будет плакать всю дорогу до общежития.
Хонор стояла и смотрела, как автобус поехал в сторону Винчелси и его фары осветили старый Лэндгейт. Она всегда ненавидела январь с его холодом, ранними сумерками и потому, что в этом месяце умер Фрэнк. Сегодня она чувствовала себя еще более покинутой, чем обычно в это время года. Почтальон сказал ей утром, что объявили, что всем детям в школах будут раздавать противогазы, и она догадалась, что к Адель снова вернулись ее тайные страхи и мучают ее.
Но хотя было ужасно, что правительство серьезно обеспокоено тем, что немцы могут открыть газовую атаку против гражданского населения Англии, ее первым страхом была Адель. Она, безусловно, не призналась в том, что произошло сегодня между ней и Майклом, но Хонор догадалась по своему опыту.
Майкл пришел в коттедж на следующее утро в начале десятого. Хонор пригласила его войти и предложила ему чашку чая. Он зашел с опаской, и она не сомневалась, что он думает, что она начнет его распекать.
— Ты вчера вечером поговорил с Адель по телефону? — спросила она.
— Нет, сказали, что в ее комнате никто не отвечает, — ответил он.
Хонор на мгновение задумалась. Она знала, что Адель должна была быть в своей комнате, но, очевидно, не захотела разговаривать с ним.
— Какая досада, — сказала она в конце концов. — Я надеялась, что вы все выясните.
— Я пытался, — сказал он, и в его голосе прозвучала сердитая нотка. — Но я не знаю, что такого мог сделать, что расстроило ее.
— Ты вчера сказал, что объяснился ей в любви. Ты действительно имел в виду то, что говорил? — спросила Хонор.
— Конечно, я бы не сказал этого, если бы не имел в виду, — произнес он с некоторым возмущением. — Но мне кажется, она не отвечает мне взаимностью.
— Почему ты так думаешь?
Он опустил глаза на свои руки, лежащие на коленях.
— Я не могу это объяснить.
— Возможно, Адель тоже не может объяснить то, что чувствует, — сказала Хонор. — Я и про себя знаю, что не могу это объяснять. Легко говорить о цветочках, животных и прочих подобных вещах, И намного тяжелее обсуждать мысли и чувства.
Он не ответил и продолжал смотреть на свои руки.
— Ты не должен забывать, что, когда Адель начала работать на твою мать, это поставило ее совершенно на другую ступеньку по отношению к тебе, — сказала Хонор, пытаясь быть мягкой и вызвать его доверие. — Она была служанкой, а ты был во всех отношениях ее хозяином. Она знает, что твои родители никогда не примут ее как равную тебе.
Он обиженно взглянул на нее своими синими глазами.
— Я ей сказал, что мне все равно, что они подумают. В моих глазах она равная мне. Миссис Харрис, посмотрите на себя. Пусть вы живете на болотах, но вы более чем равная моей матери, и вы об этом знаете.
— Да, но меня воспитывали в приличном доме директора школы, и я вышла замуж за человека из хорошей семьи. Такое происхождение дает девушке уверенность в собственной значимости, которая не проходит даже в связи с переменой личных обстоятельств. У Адель нет такой уверенности. Она воспитывалась в среде рабочего класса и прошла в жизни через такое, что только подорвало остатки ее уверенности в себе.
Он выглядел удивленным.
— Вы хотите рассказать мне что-то о ее прошлом?
— Не я должна тебе об этом рассказывать, — сказала Хонор, вдруг осознав, что Адель не простит ей, если она разгласит все подробности без ее позволения. — Но если ты действительно любишь Адель, тебе придется завоевать ее полное доверие, чтобы она почувствовала, что может рассказать тебе все.
Выражение лица Майкла сменилось на подозрительное.
— Это что-то, что касается ее матери, правда? — осторожно спросил он. — Когда я впервые встретил ее, она рассказала мне, что приехала сюда жить, потому что ее мать больна. Но она никогда не упоминала о ней с тех пор. Где ее мать? Почему Адель не видится с ней?
— Мы не знаем, где ее мать, — сказала Хонор. — Что касается меня, мне все равно, она сбежала из дому, когда ее отец был тяжело болен, не подумав о нас обоих. Я даже не знала, что у меня есть внучка, пока не объявилась Адель у моего порога почти семь лет назад.
У Майкла широко открылись глаза и отвисла челюсть.
— Я больше ничего тебе не расскажу, — сказала Хонор. — Тебе придется сделать так, чтобы сама Адель рассказала тебе обо всем. Все, чего я прошу, — это обращаться с ней мягко, ей в прошлом причиняли много боли и много запугивали.
Она заварила еще один чайник и, пока занималась чаем, поглядывала на Майкла. Он сидел, глубоко задумавшись, вероятно, еще в бОльшем удивлении, чем с утра, когда пришел сюда.
Вчера вечером она бы сорвалась, предупредила бы, что, если он еще раз дотронется до Адель, ему придется иметь дело с ней. Но утром до нее дошло, что такая линия поведения была бы неправильной. Она не хотела отпугнуть его, и в любом случае чутье подсказало ей, что ее внучка, вероятно, слишком сильно отреагировала на обычную попытку потрогать ее. Он был чувствительным и очень интеллигентным молодым человеком, и если кто-то и сможет добраться до сердца Адель и вылечить ее душевную рану, то это будет именно он.
— Так что это за слухи по поводу того, что ты собираешься вступить в ВВС? — спросила она весело, ставя чайник на стол.
Глава четырнадцатая
— Не делай этого, это ужасно! — воскликнула Адель, схватив Майкла за руку, в которой он держал травинку. Они лежали под весенним солнцем на Галечном мысе рядом с Истборном. Когда она на минутку задремала, Майкл провел травинкой по ее ноздре.
— Ну тогда проснись, — сказал он, широко улыбаясь. — Я хочу поговорить.
Была Пасха, прошло около трех месяцев с их размолвки в январе, Майкл отпросился на ночь через несколько дней после этого и приехал к Адель, чтобы уладить ситуацию. Она была вся в слезах и извинялась, говоря, что не знает, почему была такой странной с ним в тот день. Майкл повел ее ужинать и, как только она снова расслабилась, убедил ее рассказать о матери и о ее детстве в Лондоне.
Рассказ о том, что она пережила, был шоком для него, и конечно, он огорчился, поняв, что она не до конца ему доверяла, если утаивала такие важные события своей жизни. Но когда она излила всю боль и грусть своего прошлого, он увидел, что ей стало легче, и это объяснило многие вещи, которые приводили его в недоумение в прошлом.
Майклу не хотелось расставаться с Адель в тот вечер, потому что она очень разволновалась, и он даже не мог сказать, когда увидится с ней снова. Он написал ей, вернувшись в лагерь, рассказывая, как сильно он ее любит и как он счастлив, что между ними больше нет тайн. Когда он позвонил ей через несколько дней, она снова была такой же веселой и энергичной, как и прежде, и сказала ему, чтобы он не беспокоился из-за нее, что у нее все в порядке и что ей жаль, что она под Новый год была в таком ужасном и странном настроении. Они не смогли увидеться до этого дня, но разговаривали по телефону как ни в чем не бывало.
— Так о чем ты хочешь поговорить? — спросила она, переворачиваясь со спины на живот и опираясь на локти. — О, я знаю, о том, как тебе идет форма и какой ты в ней красивый.
Майкл рассмеялся.
— Нет, это я уже знаю, и еще я знаю, что буду лучшим пилотом в мире.
— Ну тогда больше почти не о чем разговаривать, — сказала она. — Если ты только не хочешь послушать о суднах, графиках температуры или о пациентах в моей палате.
Майкл проводил у матери все пасхальные каникулы, якобы зубря и готовясь к выпускным экзаменам, которые ждали его в Оксфорде через несколько дней. Адель удалось получить три выходных дня, чтобы провести их с ним, но завтра она собиралась начать работу в отделении гинекологии.
Им повезло с погодой, было необычно тепло и солнечно для апреля, и Майкл, которого только что приняли в ВВС, был очень возбужден и почти ни о чем больше не мог говорить.
— Я думал, ты мне расскажешь больше про «Пихты», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее в лоб. — По-моему, там случилось что-то очень ужасное, раз ты оттуда прошла пешком до самого Рая.
Больше всего Майкла расстраивало, когда они перезванивались или переписывались, ее нежелание обсуждать серьезные вещи. Они рассказывали друг другу, что происходит с ними каждый день, обсуждали работу, друзей, кое-какие сплетни. Майклу же хотелось знать больше подробностей из детства Адель, и, размышляя о том, что она уже успела ему рассказать, он понял, что она не сказала практически ничего о том месте, которое называла «Пихтами» и откуда сбежала. Это явно было ужасное место, иначе бы у нее не было необходимости сбегать оттуда в поисках совершенно незнакомого ей человека. Майкл подумал, что большинство людей пытались бы объяснить, чем это место было так ужасно. Разумеется, за исключением случая, если бы то, что произошло с ними там, было настолько отвратительно, что они были бы не в состоянии говорить об этом.
Ему на ум снова и снова приходили загадочные замечания миссис Харрис по поводу прошлого Адель в тот раз, когда она велела ему прийти поговорить. Он в полной уверенности ожидал, что получит взбучку и что ему запретят встречаться с Адель. Потому что именно так поступило бы большинство родителей или опекунов девушки, если бы они подозревали, что молодой человек к ней подбирается, имея не совсем честные намерения.
И все же миссис Харрис была спокойной и ни в чем его не обвиняла. Она только пыталась выудить у него, что Адель рассказала ему о своем прошлом.
Когда Адель в конце концов призналась, что ее мать поместили в клинику для умалишенных, Майкл подумал, что это и есть та ее тайна, из-за которой она испытывает чувство вины. И только значительно позже он начал сомневаться в этом. Почему она должна была бояться раскрыть это? У него такая же сумасшедшая мать, поэтому он вряд ли был бы от этого в ужасе. Должно было быть что-то еще, и он преисполнился решимости узнать это.
Майклу не очень хотелось проводить все пасхальные каникулы с матерью — оставаться с ней больше чем на пару дней всегда было мукой. Но он не смог договориться, что приедет только на те три дня, когда Адель была свободна, и ему пришлось, сжав зубы, водить мать по магазинам и по старым подругам в надежде, что, когда он начнет уходить из дома один, она не поднимет скандал. К счастью, она ничего не заподозрила, когда он якобы поехал в Брайтон за какой-то особенной книгой, потом обедал с другом из Оксфорда, который жил неподалеку, и когда сегодня придумал отговорку, что хочет погулять по холмам. Может быть, ей точно так же было скучно в его обществе, как и ему с ней. Он надеялся, что никто не доложит ей, что его видели с Адель, потому что в противном случае приступ ярости был бы гарантирован.
Радость от встречи с Адель и возбужденное состояние оттого, что его недавно приняли в ВВС, означали, что он еще не готов к тому, чтобы мягко расспросить ее про «Пихты». Последние два дня он мучил ее разговорами о полетах и, разумеется, о серьезной возможности войны, а также о том, что она могла означать для них. Адель могли перевести в военный госпиталь или даже в гражданский госпиталь в Лондон, а у него не было ни малейшего представления о том, где он мог бы базироваться. Но оставалось мало времени, и после сегодняшнего дня у него вряд ли получилось бы встретиться с ней до конца июня или июля.
— Ну же! Расскажи мне об этом, — подталкивал он ее.
— Ты вряд ли захочешь слушать об этом месте, — сказала она небрежным тоном. — Это неинтересно, и я была там недолго.
— Это интересно, потому что ты оттуда сбежала, — настаивал он. — Почему ты это сделала?
— Я тебе уже говорила. Я хотела узнать, есть ли у меня бабушка и дедушка. Мне просто потребовалось больше времени, чтобы добраться туда, чем я представляла себе. Ну а теперь поцелуй меня и скажи, что ты меня любишь.
Она легла на спину и протянула к нему руки. Майкл посмотрел на нее и улыбнулся, потому что она была такая красивая. Розовые от солнца щеки, развевающиеся от ветра волосы и глаза почти янтарного цвета. Сегодня большинство девушек, казалось, сходили с ума от искусственной красоты, насаждаемой Голливудом. Они завивали волосы, выщипывали брови, чтобы придать лицу постоянно удивленный вид, и часто красились так сильно, что выглядели старше своих лет. Но Адель носила волосы распущенными, когда была не на дежурстве, и они так развевались и сияли, что хотелось их потрогать. Она не пудрила нос, не пыталась изменить своих форм ношением корсетов. Она была такой же естественной и изящной, как лебедь. И он знал, что будет любить ее до самой смерти.
— Ты меня любишь? — спросил он, наклонившись и приближая к ней лицо.
— Конечно, — прощебетала она, и ее длинные ресницы затрепетали.
— Тогда скажи это.
— Я люблю тебя, Майкл, — сказала она мягко и слегка застенчиво.
— Насколько ты мне доверяешь?
Она нахмурилась.
— Клянусь жизнью. Этого достаточно?
— Тогда ты наверняка можешь мне рассказать, что случилось в «Пихтах», правда?
— Ничего не случилось, мне просто там не нравилось.
— Ты мне лжешь, — сказал он твердо. — А сейчас расскажи правду. Если не расскажешь, это будет стоять между нами всю нашу жизнь.
Он по глазам видел, что происходит у нее в голове. Взгляд, сказавший, что она хочет раскрыть тайну, но не решается. Потом глаза слегка сузились, будто она пыталась придумать что-нибудь достоверное, чтобы всучить ему вместо правды.
— Я припомнил все, что произошло в тот день в январе на болотах, — сказал он. — И пытался понять, что же такое произошло, что вдруг тебя так расстроило. И потом я вспомнил. Я дотронулся до твоей груди.
В ее глазах возник страх, и он сразу понял, что мучившие его по ночам предположения оказались правильными. Днем он мог отмахнуться от них — в конце концов, она была медсестра и могла говорить о функциях человеческого тела без смущения, она не нервничала и не смущалась. И все же она всегда останавливала его, когда поцелуи становились слишком страстными. Она не прижималась к нему всем телом, как это делали другие девушки, с которыми он встречался.
— Это заставило тебя вспомнить мужчину, который обидел тебя в «Пихтах», не так ли? — спросил он и почувствовал, как у него на глаза наворачиваются слезы, потому что мысль об этом была для него невыносима.
— Да, — выдохнула она. — Но не спрашивай меня больше об этом.
Майкл лег рядом с ней и притянул ее в свои объятия, устроив ее голову у себя на плече.
— Я не прошу тебя ни о чем больше, — сказал он мягко. — Ты просто расскажи мне, что случилось.
— Я не могу, — сказала она и затряслась в его руках от плача.
— Я хочу жениться на тебе, Адель. И хочу, чтобы мы были вместе навсегда и чтобы у нас были дети. Как же мы сможем это сделать, если между нами постоянно будет стоять призрак прошлого?
Он подождал несколько секунд, прежде чем продолжить.
— Твоя бабушка знает, правда? Ты, вероятно, рассказала ей, когда пришла? Она тогда была для тебя чужим человеком. А я тебе не чужой, мы знакомы с тобой уже пять лет. Ты не просто моя любимая, ты еще и лучший друг.
— Это был директор приюта, — вдруг выпалила она, закрывая лицо руками. — Я думала, что он замечательный, потому что он уделял мне внимание. Никто никогда до этого мной не интересовался.
И, едва начав, она быстро выложила все сразу, не отнимая рук от лица. Майкл не прервал ее ни разу, она просто рассказывала и рассказывала. Закончив, она долго рыдала у него на груди.
Майкл был в сильном шоке. Он не мог представить, как человек может сделать такое с подопечным ему ребенком. Но это объяснило многие черточки характера Адель. Когда он познакомился с ней, он с любопытством отметил, что у нее не было друзей, хотя она была милой девочкой. Он также считал ее зрелой не по годам, тем не менее она при этом не подпускала к себе близко.
Оглядываясь назад, Майкл убеждался, что полюбил ее с самого начала, потому что всегда думал о ней, но дальше дружбы отношения не зашли из-за такого ее поведения, его небольшого опыта с девушками и, конечно, обстоятельств. И все же ему сейчас было стыдно, что он поехал в Европу, потом в Оксфорд, беспечно наслаждаясь жизнью, летал на самолетах, пил с друзьями и даже встречался с другими девушками, пока она носила в себе эту тайну, Он позволил ей заниматься его матерью, что не только добавило к ее печальному опыту дурного обращения с ней, но и не позволяло ей получать удовольствие от жизни и вообще жить своей жизнью. А сейчас, ведя себя как психотерапевт-дилетант, он, вероятно, причинил ей еще больше боли.
— Я сделал только хуже? — прошептал он, чувствуя себя совершенно беспомощным от ее совсем расстроенного вида.
Она икнула между рыданиями.
— Я думала, что уже похоронила это. Я старалась не вспоминать об этом.
— И все вернулось, когда я дотронулся до тебя? — с дрожью в голосе произнес он. По его щекам тоже бежали слезы. — Мне так жаль, дорогая.
— Не нужно извиняться, — сказала она тихо. — Ты не мог этого знать. И я тоже не знала. Меня застало это врасплох, и я не знала, что с этим делать.
Она села, высморкалась и вытерла глаза. Потом повернулась к нему и попыталась улыбнуться.
— Держу пари, ты уже пожалел, что замучил меня, чтобы я рассказала.
— Да. Нет, я действительно не знаю, — сказал он грустно. — Полагаю, будет лучше, если между нами не будет тайн, но я теперь буду бояться снова до тебя дотронуться.
— Ты не должен бояться, — сказала она, взяв его руку в свою и целуя его пальцы. — Сейчас все по-другому, в тот раз это просто застало меня врасплох. Сейчас, когда я рассказала, все прошло.
Они сидели, держась за руки. День был такой ясный, что можно было рассмотреть поля на много миль вокруг. Они слышали, как под утесом прямо под ними разбивается море о скалы, слышали трепет крыльев чаек и их крики над головой. Солнце грело их головы, ветерок мягко ласкал лица, они сидели молча, и Майкл ощутил, что Адель была рада, что наконец смогла все рассказать.
— Ты чудо, Майкл, — сказала она вдруг, погладив его по щеке. — Такой терпеливый, такой понимающий. Если бы я знала, что мне будет так хорошо, когда я все выскажу, я бы сделала это давным-давно.
Майкл был очень тронут.
— Всему приходит свое время. Возможно, я не понял бы, если бы ты рассказала мне раньше. Любовь к тебе позволила мне многое лучше понять, и даже моих родителей.
Адель кивнула.
— И я теперь гораздо лучше понимаю, почему мои дедушка с бабушкой бросили все и переехали жить на болота. Я столько смотрела на красивые вещи в бабушкином доме и представляла себе, на что был похож их старый дом в Танбридж-Уэлсе. Я даже злилась, что она там больше не живет. Но сейчас я так не чувствую, я просто смотрю на нее, и что-то мне говорит, что у них с Фрэнком была такая любовь, о которой мечтал бы каждый из нас.
— В этом как раз и беда с моими родителями, — задумчиво сказал Майкл. — Не думаю, чтобы они когда-нибудь вообще любили друг друга. Мама была красивая, и ею все восхищались, а отец был богатый, амбициозный и практичный. Они поженились, потому что все остальные считали, что из них выйдет прекрасная пара. Я предполагаю, что они всю жизнь считали, что их ничто не связывает.
Вчера он рассказал Адель, что между его родителями ничего не было решено. Никто из них не хотел уступать. Когда Эмили достала доказательства того, что у Майлса есть любовница, вместо того чтобы дать ему развод, она настояла, чтобы он каждый второй выходной приезжал в Винчелси, и тогда она могла притворяться перед подругами, что у них нормальный брак.
Майлс подыгрывал ей, боясь, что Эмили устроит скандал, который поставит под угрозу его карьеру юриста. Майкл был от них в отчаянии и уже устал постоянно изображать нейтралитет.
Адель знала: когда Бэйли узнают, что они с Майклом не только видятся, но и планируют совместное будущее, они будут возмущены. Его родители, по меньшей мере, сходились на мысли, что она недостаточно хороша для их сына. Но Майкл, похоже, не беспокоился на этот счет.
— Ты серьезно говорил о том, что хочешь жениться на мне? — спросила она.
— Конечно, — сказал он, удивившись, что она еще в этом сомневается. — Но нам придется подождать, пока ты не закончишь учебу.
— И отложишь немного денег, — рассмеялась она.
— Но мы можем обручиться, — сказал он с готовностью. — Этим летом, когда тебе исполнится девятнадцать лет.
Адель поднялась на ноги и широко раскинула руки от радости. Они были лишь в двадцати или тридцати ярдах от края утеса на Галечном мысе. Ярко-голубое безоблачное небо, море, белые утесы и темно-зеленая трава были такими красивыми, что у нее перехватило дыхание.
— Хочется кричать от счастья, — сказала она.
— Не делай так, — нервно сказал Майкл, потому что заметил несколько бродяг, идущих в их направлении. — Они могут подумать, что ты собираешься спрыгнуть с утеса.
— Если бы я спрыгнула, я бы полетела, — засмеялась она и, захлопав руками, побежала с криками по траве прочь от вершины утеса.
Тогда Майкл тоже начал смеяться, ему было легко оттого, что он узнал правду, он был счастлив оттого, что его ждали последние дни в Оксфорде и что скоро он будет зарабатывать себе на жизнь, летая на самолетах. Он подождал, пока бродяги подошли совсем близко, потом поднялся, широко взмахнул руками и побежал во весь опор к Адель. Он надеялся, что бродяги подумают, что встретили пару сбежавших умалишенных.
Это случилось через два месяца, в июне. Хонор помыла и вытерла посуду после чая и включила приемник, чтобы послушать шестичасовые новости. Этот приемник на батарейках принес ей Майкл несколько недель назад. Он сказал, что один его знакомый из Оксфорда собирался его выбрасывать, хотя она этому не поверила, у него был слишком новый вид. Но откуда бы он ни появился, он ей очень понравился. Вечера пролетали быстро за радиоспектаклями и комедийными передачами.
Она села в кресло и взяла в руки вязанье. Она подумала, что Майкл, вероятно, прав, предлагая ей провести электричество. Масляные лампы и свечи — это, конечно, хорошо, но ее зрение было уже не таким острым, и света было недостаточно, чтобы читать.
Новости были, как обычно в эти дни, мрачными. Рассказывали больше о том, как немцы вступили в Австрию и всех австрийских евреев за две недели предупредили об увольнении. Только на прошлой неделе они с Адель ходили вместе в кино и видели в «Пэйс-Ньюс» Адольфа Гитлера. Хонор, конечно, знала его по фотографиям в газетах, но когда она увидела его живьем на экране, до нее дошло, насколько реальную угрозу он представляет. Его снимали на каком-то собрании, он выкрикивал слова, вращая глазами и размахивая руками, как сумасшедший. Она никак не могла понять, почему люди хотят следовать за этим маленьким отвратительным человечком, и ей казалось, что ему так нелепо все отдавали честь! Если бы она была в Германии, ей захотелось бы поприветствовать его очень грубым жестом.
Когда они пришли домой, Адель рассмешила ее: прилепив себе под нос немного черной шерсти, она вышагивала по гостиной, подражая Гитлеру. И все-таки, как бы они ни смеялись над этим человеком и как бы правительство ни уверяло, что Англия не будет втянута еще в одну войну с Германией, Хонор не была в этом уверена.
Завершающие новости были чуть веселее. В Риджент-парк открыли новый зоопарк, и сказали, что это самый большой и самый красивый зоопарк в мире. Она подумала, что ей бы хотелось поехать и посмотреть его. Может быть, они с Адель позже этим летом смогут поехать туда на поезде.
Стук во входную дверь застал ее врасплох. По вечерам к ней заходили крайне редко.
— Кто же это может быть? — пробормотала она себе под нос, раздраженная, что ее побеспокоили, когда она только устроилась поудобнее.
Хонор открыла дверь и увидела на пороге женщину. Она выглядела настоящей красоткой — в ярко-синем облегающем платье, с красной помадой на губах, со светлыми волосами, в туфлях на очень высоких каблуках, без чулок и без шляпы.
— Да? — спросила Хонор, удивляясь, как в таком наряде можно гулять по сельской местности.
Женщина самодовольно хмыкнула ей в лицо, и Хонор поняла, что в ее облике есть что-то странно знакомое.
— Я вас знаю? — спросила она.
— Предполагаю, что да, — ответила женщина. — Собственно говоря, я твоя дочь!
Хонор в ужасе отшатнулась. И все же она знала, что это правда, потому что единственным человеком на свете, у которого были такие невероятно голубые глаза, была Роуз.
— Ч-ч-что ты здесь д-д-делаешь? — пробормотала она, почувствовав некоторую слабость.
— Я пришла навестить тебя, мама, — сказала Роуз, саркастически подчеркнув последнее слово.
— Я не хочу тебя видеть, — сказала быстро Хонор, пытаясь взять себя в руки. — Ты потеряла все права на посещение моего дома в тот день, когда украла мои вещи и исчезла!
— Я подумала, что ты, возможно, смягчилась, потому что взяла к себе Адель, — сказала Роуз и вошла в дом, закрыв за собой дверь прежде, чем Хонор смогла остановить ее. — Где она?
Хонор никогда серьезно не рассчитывала, что Роуз однажды может прийти сюда, и сейчас она вдруг испугалась. Роуз, которая двадцать лет назад покинула дом, возможно, была вызывающей, бесчувственной и бессердечной, но она разговаривала мягко и была прилично воспитанной. У этой Роуз был грубый голос и грубые манеры, и первый раз в своей жизни Хонор оробела.
— Она работает, — сказала она, бросив на дочь такой взгляд, от которого та когда-то могла дрогнуть. — И я не смягчилась в отношении тебя. Я не знаю, как у тебя хватило наглости прийти сюда после стольких лет.
Роуз просто хмыкнула, открыла свою сумочку и достала пачку сигарет.
— А здесь все как было, — сказала она, закуривая сигарету и задумчиво обводя взглядом комнату. — И ты, и коттедж, и мебель. Время словно остановилось на двадцать лет. Я думала, ты будешь совсем старой и морщинистой, но ты не так уж плохо выглядишь.
Хонор была ошеломлена ее наглостью.
— Убирайся, — сказала она. — Давай, иди отсюда. Я не хочу тебя здесь видеть.
— Я пойду, когда буду готова, — сказала Роуз, томно выдыхая дым от сигареты. — У меня есть полное право прийти и спросить про мою дочь.
— У тебя нет такого права, — возразила Хонор. Она не привыкла кого-то бояться и не знала, что с этим делать. Даже когда отчаявшиеся безработные мужчины подходили к двери, выпрашивая шесть, она никогда не теряла хладнокровия. Она чувствовала, что приход Роуз может обернуться бедой, потому что если бы ее целью было просто увидеть Адель, она бы скорее пустила в ход обаяние, чем угрозы.
Она предположила, что большинство людей посчитало бы Роуз все еще привлекательной, учитывая, что ей было тридцать семь лет. Она была намного тяжелее, чем в семнадцать лет, но у нее все еще была хорошая фигура и очень красивые глаза. Но она выглядела такой грубой и бесстыдной, у ее кожи был сероватый оттенок, и даже ее светлые волосы потеряли свой шелковистый блеск.
— Ты лишилась всех прав на Адель, когда тебя положили в клинику, — твердо сказала Хонор. Она не собиралась дать себя запугать. — Если бы я только знала, что ты плохо обращалась с ней, я бы пришла и забрала ее. Так что можешь не думать, что ты просто так снова вернешься в ее жизнь и перечеркнешь все добро, которое я сделала.
— Кто сказал, что я собираюсь возвращаться в ее жизнь? Я просто хочу про нее знать, — выпалила в ответ Роуз.
— Ты сбежала из клиники. Куда ты пошла? — спросила Хонор.
Роуз оседлала подлокотник кушетки и скрестила ноги, потом попыталась смахнуть пепел с сигареты на печку, но промахнулась.
— Обратно в Лондон, куда же еще? — сказала она.
Хонор выхватила сигарету из ее пальцев и бросила ее в печку.
— Чем ты жила?
— То тем, то тем, — сказала уклончиво Роуз. — Перебивалась.
Хонор ощетинилась. Было очень похоже на то, что она продавала себя на улицах, и, глядя на нее, вполне можно было себе это представить.
— А твой муж, Джим Талбот? Где он?
Роуз пожала плечами.
— Почем мне знать? Он свалил, когда меня забрали. Ну а теперь расскажи мне про Адель. У тебя есть ее фотография?
— Фотографии у меня нет, — отрезала Хонор. — Она учится на медсестру. Она счастлива. Поэтому иди, куда шла, и не возвращайся.
— У нее кто-то есть? — спросила Роуз так спокойно, будто не слышала, что сказала Хонор.
— Да, у нее есть молодой человек, — сказала чопорно Хонор. — Это очень приятный молодой человек. И я не собираюсь говорить тебе, где она работает, так что не трудись спрашивать. Последнее, чего она бы хотела, — это твое появление здесь.
— Откуда тебе знать? — фыркнула Роуз. — Держу пари, ты давила на нее, как когда-то на меня. Знаешь, девочки ведь этого не любят.
— Я не давила на тебя, — голос у Хонор возмущенно поднялся.
— Давила. Мне приходилось есть то, что ты говорила, делать то, что ты говорила, ходить туда, куда ты говорила. У меня никогда не было права выбора. Ты вытащила меня из чудесной школы и дома в это место! — У Роуз опасно блеснули глаза. — «Мы будем жить в деревне, и это будет таким большим приключением», — сказала она, передразнивая жеманничавшую Хонор. — В деревне! Это чертово болото, где дует ветер и на мили вокруг нет ни души. Приключение! Это было адом. Что ты была за мать?
— Тебе же так нравилось, когда мы приезжали на каникулы, — обороняясь, сказала Хонор. — Может быть, не все получилось так, как мы с твоим отцом надеялись, но когда мы потеряли лавку, у нас просто не было другого выбора.
— Конечно был, ведь мы могли жить с бабушкой, — возразила Роуз и фыркнула, будто заработала пару очков. — Ты помнишь, мне тогда было одиннадцать, я уже не была младенцем. Я все слышала, все видела и понимала, что происходит. Может быть, вы с отцом были счастливы без всех ваших родственников и друзей вокруг вас, но я не была счастлива. Почему отец не ходил на работу, как все нормальные люди?
— Ты действительно считаешь, что вправе критиковать отца за его действия после того, как ты обращалась с Адель? — спросила Хонор. — Ей было двенадцать лет, когда погибла ее сестра, и ты обвиняла в этом ее. Потом ты пыталась убить ее. Когда она объявилась у моей двери, она была так больна, что я подумала, что она умирает. Я думала, что у нее останутся шрамы на всю жизнь после того, через что она прошла. Это сделала с ней ты, а ведь я с момента твоего рождения давала тебе только любовь. — Хонор прервалась, чтобы перевести дыхание. — Я знаю, во что ты играешь, Роуз. Ты пытаешься объяснить твое умышленное пренебрежение родительскими обязанностями перед Адель каким-то образом моей виной и думаешь, что я что-то тебе должна. Но у тебя ничего не выйдет. Ты была маленькой эгоистичной тварью, обокравшей своих родителей и сбежавшей с любовником. Мне пришлось слышать, как твой отец звал тебя, умирая, и я никогда не прощу тебе этого.
— Когда он умер?
— В январе 1921 года, — выпалила Хонор. — Он снова начал приходить в себя после того, как ты сбежала, и иногда я об этом жалела, потому что иначе он так бы и не понял, что тебя больше нет. Война подорвала его дух, но ты разбила ему сердце.
И только тогда Роуз потеряла свою вызывающую и нахальную манеру.
— Когда я ушла, я рассчитывала прислать вам деньги, — сказала она. — Но все получилось не так, как я планировала. Ты не знаешь, через что я прошла.
— Конечно, знаю, — сказала Хонор. — Ты сбежала с богатым человеком и думала, что он женится на тебе. Но он удрал, как только узнал, что ты ждешь ребенка. Ты вышла замуж за Джима Талбота, чтобы не оказаться в работном доме. Потом Адель все свое детство расплачивалась за твои ошибки.
По выражению лица Роуз она поняла, что права.
— Ты можешь делать со своей жизнью все, что хочешь, — сказала Хонор. — Но есть один недостаток. Приходится иметь дело с последствиями. И ты не можешь винить за это других.
— Просто скажи мне, как живет Адель, и я уйду, — мрачно сказала Роуз. — Это все, что я хочу, ничего больше. Она хорошо училась в школе?
— Да, хорошо, она умная девочка, такая, какой была и ты, — сурово сказала Хонор. — Было тяжело, когда она окончила школу, нелегко было найти работу, но она получила должность экономки, а сейчас она уже год учится на медсестру. Ей это нравится, она прирожденная медсестра.
— А как она сейчас выглядит?
— Она высокая, около пяти футов шести дюймов, у нее светло-каштановые волосы, и она прелестна, — с гордостью сказала Хонор. — Не такая красавица, какой была ты, но она нравится людям, она добрая, трудолюбивая, счастливая девушка. И если ты наконец хочешь сделать что-то для нее, оставайся в стороне.
К ее удивлению, Роуз не ответила очередной дерзостью.
— Я уже ухожу, — сказала она, поднимаясь. — Извини, если я тебя расстроила.
Хонор кивнула и открыла дверь. Она не решалась заговорить, даже не хотела спросить, как Роуз собирается вернуться в Лондон.
Роуз ушла, не сказав больше ни слова, цокая по камням своими высокими каблуками. Хонор, закрыв входную дверь, подошла к задней двери. Через кусты она увидела, как дочь спускается по дороге, Она на мгновение наклонилась, зажигая сигарету, потом пошла дальше. Только когда Роуз дошла до конца дороги и свернула на главную, Хонор снова спокойно задышала.
Она почувствовала слабость и дрожь в ногах, ее бросило в пот, и застучало сердце. Закрыв и заперев заднюю дверь на засов, она расплакалась. Она никогда не чувствовала себя такой ужасно одинокой и такой напуганной.
Глава пятнадцатая
В конце дороги у реки был припаркован черный «форд». Джонни Гэллоуэй опирался рукой на открытое окно. Роуз подошла к машине и села на сиденье рядом с водительским.
— Видела ее? — спросил Джонни.
— Я видела мою мать, — мрачно ответила она. — Но не Адель. Она на работе.
Джонни Гэллоуэй был темной личностью из Южного Лондона. Он был похож на хорька, маленький и крепкий, с прилизанными назад маслом черными волосами и слабостью к кричащим костюмам в клетку. У него, кроме того, была цепкость хорька, он держался за Роуз и угождал любому ее капризу.
Они встретились месяца три назад в «Винограднике», в пабе в Сохо рядом с рестораном, где Роуз работала официанткой. Она знала, что Джонни был негодяем, но такими были почти все мужчины, посещавшие «Виноградник». Он был к тому же неграмотный, но достаточно сообразительный, чтобы скрывать свою криминальную деятельность за личиной кое-какого легального бизнеса в Ротерхите. В первый вечер их знакомства он усердно угощал ее выпивкой до самого закрытия, рассказывая ей, какая она красивая, а потом заплатил за ее такси домой, не настаивая, что поедет с ней. В списке Роуз он стал на первое место.
Роуз всегда без угрызений совести ложилась в постель с мужчиной, если он при этом открывал свой кошелек. Но она поняла буквально после первых двух бокалов, что Джонни отличался от большинства мужчин. Он был из тех, кто щедр и внимателен во время охоты, поэтому Роуз поступила с ним не так, как с другими. Она договорилась с ним о свидании, а потом придержала его. Она страстно целовалась с ним, а потом сказала, что не зайдет дальше, пока не будет в нем уверена. Иногда на свиданиях она почти все время молчала, иногда сверкала как бриллиант.
Она знала, что интригует его: другие мужчины отмечали в ней пленительное сочетание леди и шлюхи, плюс красивый голос, хорошие манеры и чувственность. Но для Джонни она добавила еще одну черту в свой характер: хорошей женщины, с которой несправедливо обошлась жизнь.
Обмолвившись, что муж сдал ее в больницу для умалишенных, чтобы прибрать к рукам ее деньги, она вызвала симпатии Джонни. Когда Роуз со смехом рассказывала о своем последующем побеге, она изображала себя хитрой и смелой. Джонни пришел к выводу, что ее пьянство вызвано горем оттого, что одна ее дочь умерла, а другую передали под опеку ее матери, и ей было удобно, что он так считает.
Она не подозревала, однако, что у Джонни было мягкое сердце. Он вбил себе в голову, что если Роуз снова обретет Адель, то вся горечь прошлого будет забыта. Она привела все возможные доводы против, включая то, что ее мать наверняка наговорила Адель массу лжи, чтобы заставить ее ненавидеть Роуз. Но Джонни настаивал, что, если она просто вдруг появится на пороге, не предупреждая заранее, Адель сама увидит, как была не права ее бабушка.
Роуз оказалась в злополучной ситуации. Она еще боялась встречи с матерью, и ей совершенно не хотелось видеться с Адель, разве что из обыкновенного любопытства посмотреть, какой она стала. Но она знала, что если не сделает того, что предлагает Джонни, то он посчитает это странным и, вероятно, будет даже подозревать, что она лгала ему. Она не хотела его потерять, он покупая ей красивые подарки, и ей с ним было хорошо. Поэтому сегодня утром, когда он предложил ей подвезти ее до Рая, она не смогла отступить.
Как только она дойдет до коттеджа, она, разумеется, повернет и скажет Джонни, что в доме никого не было, но по какой-то причине, которой Роуз еще не понимала, она чувствовала, что обязана пройти через это. Было ли это обычным любопытством или просто слабой надеждой, что ее мать будет вне себя от радости при виде ее, она сказать не могла.
— Как тебя встретила мать? — спросил Джонни, прикуривая две сигареты и протягивая ей одну.
— Она вела себя совсем как скотина, — отрезала Роуз, глубоко затягиваясь, потому что все еще дрожала от этого испытания. — Она всегда была зла, как ведьма, что отец оставил деньги мне, а не ей. Я не думаю, чтобы она взаправду поверила, что Джим с ними скрылся после того, как сдал меня. А теперь она по злобе не пускает меня к Адель. По-моему, она забывает, что мне пришлось жить в трущобах и что я работала, как ломовая лошадь, чтобы посылать им деньги.
Джонни положил ей руку на плечо, и его худое лицо сочувственно сморщилось.
— Ну, не расстраивайся из-за этого, дорогая, — сказал он. — Ты по крайней мере попыталась. Когда твоя дочь придет домой и услышит, что ты была здесь, она будет довольна, как слон.
— А я думаю, старая карга ей даже не скажет, — уныло сказала Роуз. — Я знала, что глупо было сюда ехать. Я не должна была тебя слушать.
— Только не надо сразу сдаваться, — утешал он ее. — Ты застала ее врасплох. Моя старуха, бывало, мне все уши прожужжит, когда я возвращаюсь домой, обвиняя меня в любой чертовой ерунде, которая в их жизни шла наперекосяк, но стоило ей с этим пережить ночь, наутро она была сладкая как мед. Знаешь что, если мы останемся здесь на ночь, а потом ты вернешься утром, у нее будет время подумать обо всем. Ручаюсь, тогда все пройдет хорошо.
Роуз положила голову на плечо Джонни и выжала из себя слезы, потому что хотела, чтобы он пожалел ее за враждебный прием, который оказала ей мать. Она, безусловно, ожидала этого, и кроме всего прочего, это подтвердило ее давнишнее убеждение в том, что эта женщина совершенно не имеет сердца.
Но она не ожидала, что настолько смутится.
До того как она переступила порог, в ее памяти все уже давно умерло. Она хотела получить подтверждение того, что дом, в котором прошло ее детство, был лачугой, что девочка, которую она никогда не любила, не заслуживала любви и что ее жизнь была бы намного хуже, если бы она не сбежала из дому.
Но коттедж не был лачугой. Конечно, он был примитивным, безо всяких современных удобств, но он был чистый и сиял каким-то деревенским обаянием, на столе стояли цветы, в воздухе витал аромат полировки и мыла. От этого нахлынуло столько воспоминаний, которых она не хотела. И ее мать, вероятно, нашла в Адель что-то, за что ее можно было любить, иначе почему она ее так ревностно защищала?
— Ну-ну, — утешительно сказал Джонни. — Может, поедем в Гастингс и найдем гостиницу на ночь? Потом можно пойти на дамбу и весело провести время. Гастингс хорошее место, я туда часто ездил, когда был карманником.
Роуз не хотелось целый вечер изображать веселье в обществе Джонни, и она, безусловно, не хотела ложиться с ним в постель. Но если она будет настаивать на немедленном возвращении в Лондон, он будет разочарован и что-то заподозрит. Она посчитала, что будет лучше притвориться, что она взвешивает возможность вернуться завтра увидеть мать, хотя совершенно не собиралась этого делать.
Она шмыгнула носом и вытерла глаза платком.
— Я не знаю, хватит ли у меня смелости снова попытаться, — сказала она. — Но может быть, завтра я буду думать по-другому.
Лицо Джонни просияло.
— Вот и умница! Так что — к огням Гастингса?!
— А почему бы просто не поехать в Винчелси? — сказала она, указывая в направлении холма. — Я думаю, мы сможем найти комнату при пабе. Хотя нам придется назваться мистер и миссис Гэллоуэй!
Он просиял, и его маленькие черные глаза-пуговки почти исчезли в щелочках.
— Это будет для меня удовольствием, любимая, — сказал он.
Меньше чем через полчаса Роуз и Джонни сидели в баре маленькой гостиницы «Мост» — Джонни с пинтой пива, а Роуз с большой порцией диджестива[3] с ромом. Она на самом деле не знала, почему предложила остаться здесь на ночь, вероятно, это был легкий приступ ностальгии, потому что она часто сидела здесь на открытой площадке с отцом, когда была маленькая — он с пинтой пива, а она со стаканом лимонада. Но комната была роскошной, по ее меркам, все в розовом мебельном ситце и огромная мягкая кровать. И сейчас она отчаянно нуждалась в спиртном, тогда ей было бы легче изобразить радость оттого, что ляжет с Джонни в постель, поэтому она просто еще сильнее накрасилась, причесала волосы и направилась в бар.
— Только не разболтай в округе, что я местная, — предупредила она его шепотом, когда они сели за столик. — Я не хочу, чтобы до Адель дошли слухи, что я остановилась здесь с мужчиной.
— Хорошо, — сказал он, хотя был немного удивлен. — Но что, если кто-то тебя узнает?
— Это вряд ли, — сказала она. — Я была почти ребенком, когда уехала отсюда. Но если с нами вдруг кто-то заговорит, просто подыграй мне.
Но с ними никто не заговорил, даже толстая девушка, которая приковыляла забрать их грязные бокалы.
— Мы должны были поехать в Гастингс, — сказал Джонни после четвертой пинты. В пабе было тихо, как в церкви, старики сидели и молчали, и лишь временами раздавались то стук домино об стол, то странный кашель, то сдержанное приветствие кого-то входящего. Даже несколько собак, лежавших у ног хозяев, все это время не шелохнулись. — Мы могли там купить рыбы с жареной картошкой и пойти на дамбу. Я на это место сильно не рассчитывал.
Роуз и сама не сильно рассчитывала на этот паб, хотя он был причудливо мил, и все же, когда она была ребенком, считала Винчелси чудесным местом. Местечко состояло чуть ли не из одной улицы, паба и пары магазинов, но все старые дома и коттеджи были абсолютно разные, а сады очень красивые, и с любым встречным можно было поговорить.
Она вспомнила, как приходила сюда забрать письмо и как взволновала ее почта, заполненная товарами от пола до потолка, Здесь было очень темно, зато продавалось все — от пряжи для вязания, швабр и ведер до сладостей. Здесь можно было провести больше часа, просто разглядывая множество стеклянных банок для сладостей с их восхитительным содержимым, прежде чем решиться, на что потратить свой пенни.
Она много мечтала о том, что это ее магазин, что она взвешивает конфеты на больших медных весах и раскладывает их по маленьким бумажным кулечкам.
И еще ей всегда хотелось, чтобы они жили здесь. Чтобы можно было покачаться на садовых воротах и поболтать с приходящими людьми. Здесь у ее матери была подруга, к которой они иногда ходили в гости, и этот дом всегда напоминал ей о доме бабушки в Танбридж-Уэлсе. Роуз уже плохо его помнила, кроме того что там было большое пианино и чудесный сад. Интересно, подумала она, узнает ли она этот дом, если пройдет мимо?
Они вдвоем с Джонни слегка напились, и еще до того, как до Роуз это дошло, в пабе прозвонил колокольчик к закрытию. Когда они решили пойти наверх в свою комнату, Роуз решила притвориться, что выключилась, чтобы ей не пришлось заниматься сексом с Джонни.
К счастью, Джонни так возбудился в ту же секунду, как она забралась в постель, что кончил даже до соития. Немедленно после этого он заснул, и Роуз облегченно вздохнула.
Она была уставшей и пьяной, и хотя кровать была очень удобной, она не могла заснуть. Было слишком тихо, слышался только мягкий шелест занавесок, легко колебавшихся от ветерка, который шел через открытое окно, и все это живо напоминало ей о летних ночах, когда она была ребенком. Она вспомнила, как отец всегда на цыпочках заходил к ней в спальню, прежде чем они с матерью ложились в постель. Он плотнее укрывал ее одеялом, целовал в лоб и закрывал окно, если был ветер или дождь.
Роуз догадалась, что отец умер, когда в клинику принесли документы об опекунстве, поскольку в них значилась одна Хонор. Она тогда совсем никак не прореагировала, потому что вспоминала его только таким, каким видела в последний раз: патетичным инвалидом, который был совершенно беспомощен. Она просто была рада, что он перестал страдать.
Но сейчас, возможно, из-за воспоминаний, которые вызвало это место, и из-за сердитых слов, которые услышала от матери, она вдруг почувствовала угрызения совести. Она вспомнила, каким он был, когда они с матерью провожали его на вокзале во Францию. Он высунулся из окна вагона, улыбаясь им и посылая воздушные поцелуи. Он никогда не держал дистанцию, не был строгим, как отцы других девочек. Он всегда был таким приветливым, энергичным и любящим. Интеллигентным, добрым человеком, который хотел жить полной жизнью. «Мои две любимые девочки», — говаривал он, обнимая их. Было грустно, что он провел последние годы жизни, не зная, где она находится.
— Ну, чем будем сегодня заниматься? — сказал Джонни за завтраком на следующее утро.
Хозяйка накрыла столик в баре, через открытые окна лил солнечный свет. Джонни выглядел довольным собой — если бы у него был хвост, он бы вилял им. С утра, разумеется, было больше секса, и Роуз была слишком сонной, чтобы придумать отговорку. И все же, к ее собственному удивлению, она получила удовольствие, он отвлек ее от мыслей о прошлом, и перспектива провести с ним все выходные казалась более привлекательной, чем она ожидала.
— Не думаю, что можно что-то выиграть, вернувшись еще раз к матери, — сказала она, подбирая тостом с тарелки остатки желтка. — Я лучше попробую написать ей. Давай поедем в Гастингс, сегодня такой чудесный день, и мы должны им вовсю воспользоваться.
— Какая у меня хорошая девочка, — сказал Джонни с широкой улыбкой. — Я покажу тебе в тире, какой я ас.
— Я думаю, мне бы сначала хотелось чуть прогуляться, — задумчиво проговорила Роуз. — Знаешь, просто снова посмотреть на это место, увидеть, что изменилось.
— Ну, иди тогда сама, — сказал он. — Я останусь здесь, заплачу по счету и посижу на солнышке, подожду тебя. Или, может, ты хочешь, чтобы я пошел с тобой?
— Нет, я лучше одна, — сказала она. Ей очень нравилось в Джонни, что он всегда чувствовал, когда она хочет побыть одна. Он не настоял, что пойдет вместе с ней к ее матери, как сделали бы другие. Роуз часто думала, что если бы все мужчины понимали эту ее потребность, возможно, ее романы длились бы дольше.
Она словно перенеслась в прошлое, пройдясь по главной улице, Розы вокруг дверей коттеджей, коты, нежившиеся на солнышке на подоконниках, сочный красный цвет старой черепицы и распахнутые двери, подпертые чем-нибудь, чтобы проветрить дом, — все точно так же, как много лет назад, когда она была ребенком, Рай всегда казался оживленным местом, где полно людей, где сутолока и шум. Винчелси был его спальней, и даже сейчас, в субботнее утро, она встретила лишь несколько человек: пару женщин с корзинками, направлявшихся в магазин, и старика с палкой, дышавшего свежим воздухом. Она услышала радиоприемник из одного открытого окна и крики детей, игравших в саду, но тишина была такой, что было слышно даже пение птиц и жужжание насекомых.
Она мгновенно узнала тот дом, в который часто ходила с матерью, и выцветшее название Хэррингтон-хаус напомнило о другом, О леди, которая часто отдавала ее матери вещи своей дочери, из которых та выросла. Роуз вспомнила голубое вельветовое платье, которое она обожала. Но она жила на болотах, и у нее редко выпадала возможность надевать его.
Единственное, чем отличался сейчас этот городок, были машины. Она предположила, что здесь могло быть несколько машин, когда она была маленькой, но она не помнила их. Сейчас здесь частенько мелькали машины, и одной из них была блестящая черная машина как раз у входа в Хэррингтон-хаус.
И тогда она вспомнила, что леди звали миссис Уайтхауз. Она всегда в шутку называла ее миссис Красный Дом, во всяком случае в разговорах с матерью, из-за красного кирпича ее дома.
Перейдя улицу, она вернулась немного назад, чтобы купить еще сигарет на почте. Она была разочарована, увидев, что многое изменилось: здесь все еще было множество банок со сладостями и пряжа для вязания, но на полках было гораздо меньше товаров, чем прежде.
Она купила пачку сигарет и в память о старых временах открытку с видом Винчелси.
— Вы привезли с собой солнце, — сказала, улыбаясь, женщина за прилавком. — Говорят, еще пару дней будет так солнечно.
Женщина была примерно одного возраста с Роуз, толстая, с красным веселым лицом и черными волосами, аккуратно собранными сзади. У нее не было сассекского акцента, поэтому Роуз была абсолютно уверена, что не ходила с ней в одну школу.
— Я сюда часто приходила, когда была маленькой, — созналась Роуз. — Здесь все как и прежде.
— Здесь почти ничего не происходит, — ответила женщина с легкой гримасой, словно была обижена на этот городок. — Мы с муженьком купили этот магазин вот уже десять лет назад, и держу пари, я могла бы вспомнить все до последнего, что происходило это время. — Она весело рассмеялась. — Но вам бы это наскучило, потому что все происшествия здесь — это рождение, свадьба или смерть.
Роуз захотелось задержаться и послушать про людей, с которыми она когда-то была знакома.
— Здесь жила леди по имени миссис Уайтхауз, в Хэрригтон-хаус. Она еще жива? — спросила она.
— Нет, они с мужем умерли некоторое время назад, — ответила хозяйка магазина. — Здесь сейчас живет их дочь.
Роуз поняла, что это, должно быть, та, которой когда-то принадлежало голубое вельветовое платье, и это заинтриговало ее.
— Как она сейчас выглядит? — спросила она. — Я ее помню очень красивой и элегантной, но это было так давно.
— Она по-прежнему красивая и элегантная, — улыбнулась женщина. — Но немножко спятившая.
— В каком смысле? — не поняла Роуз.
Хозяйка магазина оперлась локтями о прилавок, явно обрадовавшись возможности поделиться сплетнями.
— Все знают, что она рассталась с мужем, но она притворяется, что у них все первоклассно. Он приезжает в их старый дом каждый второй выходной, я предполагаю, просто для приличия.
Роуз подумала, что если она поболтает с этой женщиной, то, возможно, ей удастся задать несколько вопросов про мать и про Адель.
— А зачем разведенной паре делать вид, что они все еще вместе? — спросила она.
— Ну, мистер Бэйли барристер, — пояснила женщина.
При упоминании этого имени у Роуз пробежал холодок по спине.
— Я предполагаю, он беспокоится, чтобы не было скандалов, — продолжала женщина. — Все важные люди такие, говорят.
— Как, вы сказали, его зовут? — спросила Роуз. Это наверняка не мог быть тот мистер Бэйли, которого она знала. И все же ее старый знакомый был юристом и однажды сказал, что у него есть родственники в Винчелси.
— Бэйли, Майлс Бэйли, — сказала женщина. Потом, вероятно увидев ужас на лице Роуз, она вспыхнула. — О Боже, мне мой муж всегда говорит, что я должна думать, прежде чем открыть рот. Вы его знаете?
— Нет, нет, я его не знаю, — поспешно сказала Роуз. — Я когда-то знала других Бэйли в этих местах. Но это вряд ли та же самая семья. Простите, я уже должна идти, меня ждут.
Выйдя из магазина на палящее солнце, Роуз вдруг почувствовала тошноту. Она кинулась через дорогу в паб и села снаружи на скамье в тени, открывая дрожащими руками сумочку в поисках сигареты.
Фамилия Бэйли была распространенной, но имя Майлс — нет. Это наверняка был он, хотя она знала, что он жил где-то в Гемпшире на момент, когда она встретила его. Когда он сказал, что у него есть родственники в Винчелси, она предположила, что это очень дальние родственники. А потом она предположила, что мужчина, намеревавшийся соблазнить молодую официантку, вряд ли сказал бы ей, что это его свекор со свекровью, если он даже не признался в том, что женат.
— А вот и ты! — Она подпрыгнула от звука голоса Джонни, стоявшего в дверях паба. — Хорошо прогулялась?
Она кивнула, не в состоянии говорить.
— Ты в порядке, девочка? — с тревогой спросил он, подходя ближе и вглядываясь в нее. — Ты белая как полотно!
— Меня чуть подташнивает, — сказала она. — Жареное на завтрак после всего, что я выпила вчера вечером, предполагаю. Ты не можешь принести мне стакан воды?
Глава шестнадцатая
Хонор улыбнулась сама себе, стоя у раковины в судомойне. Майкл и Адель были в саду и сидели на ковре под яблоней, и, как она догадалась по крошечной коробочке, которую он только что дал ей, в ней было обручальное кольцо.
В день девятнадцатилетия Адель снова появилось солнце, и это, казалось, было хорошим знаком. Похоже, с тех жарких дней в июне, когда здесь объявилась Роуз, дожди не прекращались. И у Хонор с того дня на душе все время было беспокойно, она в глубине души ожидала, что ее дочь появится снова.
Ей хотелось бы выяснить, зачем и как она приезжала. Наверное, машиной, потому что автобус уехал раньше, и на таких высоких каблуках вряд ли бы она шла пешком всю дорогу из Рая. Чего она на самом деле хотела? Прощения или чего-то другого?
Если прощения, то она, безусловно, не предприняла ни одной попытки получить его. Может быть, она просто проезжала со своим другом в машине и почувствовала, что должна зайти? Но какой разумный человек захочет зайти куда-нибудь, где, он точно знает, его не ждет радушный прием?
Поскольку Хонор не могла найти разумного объяснения приходу дочери, то не смогла рассказать об этом Адель. Но и забыть об этом визите она не могла, это будто язвочка во рту, которую постоянно невольно трогаешь языком.
И все-таки Роуз вряд ли серьезно намеревалась снова увидеться с дочерью, иначе она по меньшей мере послала бы ей сегодня поздравительную открытку.
И поскольку это было так, возможно, она имела право не рассказывать об этом.
Восторженный крик Адель прогнал прочь мрачные мысли Хонор, и она оглянулась на сидевшую в саду пару. Она подумала, что их вид мог бы быть сюжетом для прекрасной картины: Майкл стоял на коленях на ковре и выглядел таким мужественным в своей новой форме ВВС, а Адель была прекрасна, как майское утро, в своем ситцевом бело-розовом платье, ахавшая от восторга из-за кольца, которое он надевал ей на палец.
Хонор стерла со щек случайную слезу уголком передника. Обручальное кольцо, которое ей подарил Фрэнк, было сплетено из ромашек, потому что он знал, что должен спросить позволения у ее отца жениться на ней, прежде чем покупать настоящее. В тот день они играли в теннис и отослали компаньонку, и если бы потом выяснилось, что они лежали в высокой траве и целовались, то у них были бы серьезные неприятности.
Она с первого поцелуя страстно желала Фрэнка и только в силу обстоятельств все еще была девственницей в день их свадьбы. Хонор ощущала, что Адель и Майкл испытывают то же самое. Она словно чувствовала между ними искры, они все время соприкасались руками, и когда шли, их тела раскачивались в такт. Им сложно будет выдержать долгую помолвку, но поскольку угроза войны нарастала каждый день, было бы неразумно быстро пожениться.
— Бабушка! — позвала Адель. — Иди посмотри!
Хонор взглянула в маленькое зеркало и придала своему лицу выражение типа «Ну что там?».
— Я занята, — сказала она притворно сердито, выходя из задней двери.
— Чем бы ты ни была занята, это важнее, — восторженно щебетала Адель. — Майкл просил моей руки, и он купил мне кольцо.
Это было красивое кольцо — сапфир, окруженный крошечными бриллиантами, и Хонор поняла, что оно стоит огромных денег. Она порывалась сказать, что было бы умнее со стороны Майкла положить деньги в банк до того времени, когда они поженятся, но выражение на его лице остановило ее.
Он смотрел на ее внучку с такой нежностью и любовью, что Хонор не могла умалить его подарка.
— Оно очень красивое, — сказала она вместо того. — И я надеюсь, что вы будете вместе всегда счастливы, как сейчас.
— Так вы не возражаете? — обеспокоенно спросил Майкл. — Может быть, я сначала должен был спросить у вас, но я не знал как.
— Я просто счастлива, — сказала Хонор, и у нее чуть не закружилась голова от неожиданно захлестнувших ее эмоций. — Ты будешь отличным мужем для моей внучки. Я сама не выбрала бы никого лучше тебя.
Казалось, Майкл подумал обо всем, у него в машине была даже бутылка шампанского, упакованная в коробку со льдом, и набор настоящих бокалов для шампанского. Хонор бы догадалась, что он не одну неделю все это планировал, но не для того, чтобы блистать перед ними, а чтобы Адель по-настоящему почувствовала себя особенной.
Они выпили шампанское в саду, и у Адель слегка закружилась голова. Они праздно болтали про полеты Майкла и про работу Адель в больнице.
— Я не хочу омрачать твоего счастья, — сказала Хонор чуть позже. — Но когда ты собираешься сказать родителям, Майкл?
— Завтра, — сказал он твердо. — Отец приезжает на выходные с Ральфом и Дианой и их супругами и детьми. Лучшего момента и быть не может. Я собираюсь предложить им, чтобы в следующий раз, когда они все соберутся, мама пригласила и Адель, чтобы мы встретились официально.
Хонор кольнул страх, несмотря на то что Майкл выглядел совершенно уверенным в себе.
— Это хорошо, Майкл, — сказала она.
Но у Адель на лице промелькнуло беспокойство.
— А что, если… — начала она и замолчала.
Майкл взял ее руку в свою.
— Мне все равно, если они не одобрят, — сказал он твердо. — На этом потеряют они, а не я, если они не примут тебя в нашу семью. Тогда у меня с ними не будет ничего общего.
Хонор восхитилась его смелостью и сказала об этом.
— Но не принимай это близко к сердцу сразу, — предупредила она его. — Любым родителям сложно быстро смириться с тем, что их ребенок уже достаточно взрослый, чтобы выбирать себе мужа или жену. Возможно, будет разумнее, если ты дашь им время поразмышлять, прежде чем настаивать на том, чтобы приглашать Адель в дом твоей матери.
— Бабушка права, — согласилась Адель. — Я не выдержу этот визит, если не буду знать, что они одумались. Я была бы более рада сначала встретиться только с твоей матерью.
— С мамой все будет в порядке, — успокоил ее Майкл, потянувшись и погладив Адель по щеке. — Я ей сказал несколько недель назад, что встречаюсь с тобой.
— Ты мне не говорил! — возмущенно сказала Адель.
Майкл улыбнулся.
— А ты мне рассказываешь абсолютно все?
Адель хмыкнула.
— Я не рассказываю только самое скучное. А это совсем не скучный факт. Что она сказала?
— Немного, но в любом случае за этим не последовало обычной истерики.
— Но твой отец не так на это посмотрит, он сразу вспомнит, что я была экономкой у твоей матери и что была с ним груба.
— Возможно, но он не полностью лишен логики, — настаивал Майкл. — Викторианские времена прошли, назревает война, и он достаточно сообразителен, чтобы понять — если он воспротивится, это только придаст мне больше решимости.
Во время семейного ужина в субботу вечером Майкл чувствовал себя очень уверенным в себе. Его родители находились в мягком расположении духа, брат и сестра, казалось, были довольны, что проводят время с семьей, а миссис Сэллуэй, экономка матери, превзошла сама себя, приготовив восхитительные бифштексы и пирог с почками и подав их со свежими овощами из сада.
Они провели все время после обеда на пляже с детьми, которых потом накормили в кухне, и сейчас дети уже были в постели, Горящие на столе свечи, блеск серебра и мягкий, теплый бриз, дующий через открытые окна, создавали мирную мизансцену для объявления его новости.
Он не сильно беспокоился на тот счет, если они воспротивятся браку. Три года в Оксфорде и общение с людьми из всех социальных слоев в ВВС очень хорошо помогли ему понять, что он прекрасно справится и без своей семьи.
По сути, иногда он надеялся получить предлог, чтобы отдалиться от них всех, потому что ему до смерти надоели эти родительские игры. И он находил просто ужасающим снобизм Ральфа и Дианы.
Но ради Адель он собирался сделать все, что в его силах. Он не хотел, чтобы она чувствовала себя человеком второго сорта и стыдилась этого. Она была лучше всей его семьи, вместе взятой, и одна только мысль о том, что они могут посмотреть на нее сверху вниз как на нечто худшее, злила его.
Его взгляд скользнул по комнате. Отец во главе стола, опрокидывающий очередной бокал красного вина, будто лишняя выпивка поможет, чтобы выходные пролетели быстрее и он смог вернуться к своей любовнице. Диана рядом с ним, все еще ковырявшаяся в своей тарелке, была очень похожа на мать, если не считать возраст, — те же самые рыже-золотые волосы и голубые глаза и голубое шифоновое платье, все это делало ее элегантно красивой. К несчастью, она унаследовала напыщенность отца и его резкость манер.
Ее муж Дэвид, сидевший рядом с ней, не располагал к себе внешне, он был худой, с сутулыми плечами, слабым подбородком и редеющими волосами песочного цвета, но ему не нужно было привлекать Диану внешностью — это сделало за него богатство его семьи.
Жена Ральфа Лаура, сидевшая рядом с Майклом, недавно сильно поправилась и со своими светлыми локонами вокруг лица выглядела ангельски. Майкл любил Лауру: она была ленивой, особенно во всем, что касалось детей, но тем не менее она была хорошей женщиной, которая заслуживала несколько большего, чем хама Ральфа в качестве мужа, и сегодня выглядела очень мило в платье из бледно-зеленого шелка.
Ральф, сидевший по ту сторону от Лауры, уплетал уже вторую или третью порцию, набивая рот, словно он неделю голодал. Он тоже быстро набирал вес, что Диана отметила раньше. Впрочем, он был жадным во всех отношениях — к деньгам, еде и вниманию.
И наконец, его мать на том конце стола, как всегда безупречно выглядевшая, с волосами, аккуратно убранными в две гладкие ракушки по обе стороны головы. Несмотря на то что она выглядела как телефонистка, Майкл предположил, что это самая модная прическа, потому что она постоянно изучала журналы мод. На ней было лиловое платье, рукава которого были с буфами, как у маленькой девочки. Майкл заметил, что каждый раз к приезду отца мать надевала что-то, в чем она выглядела моложе своих лет и казалась более хрупкой. Но она, по крайней мере, отказалась от вина на сегодняшний вечер, и, вероятно, это потому, что Майлс целый день был вполне мил с ней.
Майкл не представлял, что у Адель может быть общего с ними.
В комнату вошла миссис Сэллоуэй и начала собирать пустые тарелки. Майклу нравилась новая экономка: она первоклассно готовила, была спокойной и приятной и очень хорошо справлялась с настроениями его матери.
— Бифштекс и пирог с почками были превосходны, миссис Сэллоуэй, — сказал он. Майкл всегда старался показать, как он ценит ее, потому что остальные этого не делали. — А какой у нас сегодня пудинг?
Она улыбнулась, и ее некрасивое морщинистое лицо засияло.
— Я сделала один из своих летних пудингов, — сказала она. — Надеюсь, что он вам понравится, черная смородина уже начала отходить.
— Я уверен, он будет восхитителен, — сказал он.
Когда она исчезла в кухне, Ральф посмотрел на Майкла с презрением.
— Почему ты всегда подлизываешься к прислуге? Ей платят за то, что она делает.
— Людям, кроме оплаты, нужно, чтобы их ценили, — заметил Майкл, пытаясь не показать своего раздражения бесчувственностью брата. — Если миссис Сэллоуэй уйдет, маме будет трудно найти ей замену.
— Это правда, — сказал Майлс. — Она может оказаться вынуждена нанять очередную девушку типа той ужасной, которая была с болот.
— Она не была ужасной, — возразил Майкл в отчаянии, что имя Адель всплыло раньше, чем он успел объявить свою новость.
— Да, она не была ужасной, Майлс, — поддержала его мать. — Мне ее не хватало, когда она ушла. Она была сообразительной и веселой, и у нее было доброе сердце. Возможно, миссис Сэллоуэй и лучше как экономка, но она очень унылая.
Мысли Майкла заметались. И хотя его обрадовала поддержка матери, он прекрасно понимал, что ей ничего не стоит изменить мнение, если он скажет о своем решении прямо сейчас. И все же отложить объявление о помолвке означало бы предать любовь к Адель.
Он набрал воздуха в легкие.
— Я намеревался подождать, пока мы не дойдем до бренди, чтобы сообщить вам свою новость, — сказал он, оглядев сидящих. — Но в данной ситуации я скажу вам ее сейчас. Вчера я сделал Адель Талбот предложение, и она согласилась.
— А кто такая Адель Талбот? — спросила Диана, и ее острый нос зашевелился, будто она учуяла запах крови.
— Не кто иной, как ужасная девушка с болот, — сказал Ральф, насмешливо фыркнув. — Господи, Майкл, да ты над нами издеваешься!
— Ты имеешь в виду мамину бывшую горничную? — неприятно резко сказала Диана. — Майкл, ты не можешь говорить это серьезно!
Он оглядел сидевших за столом и увидел ужас на всех лицах. Даже Лаура, на которую он всегда рассчитывал как на союзницу, выглядела невероятно шокированной. У матери на лице была написана паника.
— Я был знаком с Адель задолго до того, как она пришла в этот дом, чтобы выручить маму, — начал он, изо всех сил пытаясь придать своему голосу твердость. — Я встретил ее, когда мне было шестнадцать лет. Тогда она была просто другом. И каждый из вас должен быть ей благодарен за то, что она так заботилась о маме. После того как она ушла отсюда, она стала медсестрой. Я не терял с ней связи, и наша дружба переросла в любовь. Теперь она моя невеста, и с вашим одобрением или без него я женюсь на ней.
— Но она из простых, — возразила Диана, и ее рот исказила насмешливая гримаса.
— Я бы не назвала ее простой, — сказала мать, бросив неодобрительный взгляд на дочь. — Я бы назвала ее крайне непростой. Моя мать очень уважала ее бабушку, Хонор. Она всегда говорила, что это самое подходящее имя для этой женщины. — Потом она повернулась к Майклу. — Но ты должен простить меня, Майкл. Несмотря на то что я знаю, что Адель не простолюдинка и не ужасная, я не могу одобрить твой брак с ней. Я не имею ничего против нее лично. Но она крайне не подходит для мальчика из такой семьи и с таким образованием.
— Спасибо за твои слова, мама, — с ярко выраженным сарказмом произнес Майкл. — Но то, что вы считаете неподходящим, мало значит для меня. Для меня подходящая та женщина, которую я люблю и уважаю и у которой те же цели и устремления, что и у меня. В моих целях и устремлениях нет ничего общего ни с одним членом моей семьи. И ни у кого, сидящего за этим столом, я не вижу настоящей любви.
— Ты дурак, сын! — вдруг проревел Майлс. — Ты женишься на какой-то маленькой выскочке с болот и будешь всю жизнь жалеть об этом. У тебя впереди отличная карьера, но она будет сдерживать тебя.
— Как же она будет меня сдерживать? — спросил Майкл. — Она такая же начитанная, как и я, она говорит на классическом английском языке и умеет держать нож и вилку. Она добрая, хорошая, она прекрасна внутри. Разве я могу такое сказать о ком-либо из вас? Но я не собираюсь больше с вами спорить, я намереваюсь жениться на Адель с вашим благословением или без него. Если вы не можете принять ее как женщину, которую я люблю, тогда мне нечего больше вам сказать.
В этот момент в комнату вошла миссис Сэллоуэй, неся огромный летний пудинг. Она явно не слышала повышенных тонов, потому что на ее лице была улыбка. Майкл понял, что он ни за что не сможет снова сесть на свое место и есть пудинг, поэтому направился к двери.
— Куда ты? — крикнула мать, тоже поднимаясь со стула.
— Прочь от вас всех, — сказал он резко. — К людям, которые действительно заботятся о моем счастье.
Он побежал наверх, швырнул свои вещи в чемодан, схватил форму и когда был уже внизу у входной двери, из столовой выбежала мать.
— Не уходи, Майкл, — умоляла она со слезами на глазах. — Ты все, что у меня есть.
— Нет, — отрезал он. — У тебя есть еще двое детей с неудачным браком и четверо внуков.
— Но ты же знаешь, ты всегда был для меня особенным, — молила она его, ломая руки. — Я не вынесу, если потеряю тебя.
— Если ты хочешь удержать меня, тогда ты должна принять Адель, — сказал он. — Когда ты сможешь это сделать, дай мне знать.
Он ушел, а она все еще стояла у открытой двери.
К тому времени, когда Майкл спустился вниз через Лэндгейт к болотам, он понял, что в таком состоянии не сможет ехать обратно в Биггинг-Хилл. Перед обедом он выпил два больших джина с тоником, а потом еще вино. Он вовсе не был пьян, но был сильно расстроен и совсем не хотел попасть в аварию.
Он решил спуститься в Керлью-коттедж. Он не хотел, чтобы Адель знала, что произошло сегодня вечером, но она вернулась в общежитие в Гастингс, и он был абсолютно уверен, что миссис Харрис посочувствует и позволит ему переночевать.
Когда Майкл подъехал, в гостиной еще мерцала масляная лампа. Она, вероятно, слушала приемник, и он надеялся, что ее не испугает стук в дверь в такое позднее время.
— Это я, Майкл, — позвал он, постучав. — Извините, что побеспокоил.
Хонор открыла дверь в ночной рубашке.
— Адель уехала сегодня утром в Гастингс, — сказала она, скорее удивившись, чем обеспокоившись.
— Я знаю, — сказал Майкл и спросил разрешения войти.
Майкла поразило, насколько Хонор Харрис отличалась от членов его семьи, когда он в двух чертах объяснил свое затруднительное положение. Она оставалась совершенно спокойной, внимательно выслушала, не прерывая, не выказав обиды из-за того, что его семья посчитала ее внучку недостаточно хорошей для него.
— Я очень сожалею, — закончил Майкл. — Вам не нужно было все это выслушивать. Мне стыдно, что они мои родственники.
— С этим ничего не поделаешь, точно так же, как ничего не могла поделать Адель со своими, — решительно сказала Хонор. — Конечно, я не удивлена их реакцией, я ее ожидала. Смею сказать, если бы я осталась в Танбридж-Уэлсе и жила той жизнью, я бы точно так же по-ханжески отнеслась, если бы моя дочь захотела выйти замуж за мужчину, который не принадлежал бы к ее социальному кругу.
Она поднялась, помешала огонь в печке и поставила чайник.
— Разумеется, ты можешь остаться на ночь, Майкл. Можешь спать на кровати Адель. Я очень восхищаюсь твоей смелостью и твоей преданностью моей внучке, но я хочу, чтобы ты хорошо подумал, прежде чем отрезать себя от семьи.
— Но у нас может быть своя семья, — настаивал Майкл. — У нас уже есть вы. Мне не нужны мои родственники с их пагубными идеями и извращенными взглядами.
— Возможно, ты сейчас так считаешь, — сказала она, насыпая чай в заварочный чайник. — Но как только у тебя будут свои дети, ты, может быть, будешь думать по-другому. У меня не было ни братьев, ни сестер, но я иногда чувствовала, что лишила Роуз любви и внимания моих родителей, когда мы уехали из Танбридж-Уэлса и поселились здесь.
— Вы пытаетесь сказать, что мы с Адель не должны вступать в брак? — недоверчиво спросил Майкл. — Я не могу поверить, что такой сильный и прямой человек, как вы, может склоняться перед смешными предрассудками моей семьи.
— Самое сильное дерево — это то, которое гнется, — сказала она резко. — Я не говорю, что ты не должен жениться на Адель, я советую тебе вести себя осторожно и не сжигать мосты.
— То есть ждать? Надеяться, что они изменят мнение?
Хонор пожала плечами.
— Тебе нужно задуматься еще о многом, кроме мнения твоих родителей. Скоро будет война, это уже почти наверняка. Тебя как пилота пошлют на фронт. А что, если тебя убьют и Адель останется вдовой, возможно, даже с ребенком? Я буду помогать ей до последнего вздоха, но мне уже скоро шестьдесят. Может быть, меня просто не будет рядом.
— Так что вы предлагаете? — спросил он. — Я не смогу рассказать Адель, как отвратительно они себя вели. И совершенно не собираюсь возвращаться к ним, поджав хвост.
— Сначала мы выпьем чаю, — сказала Хонор с улыбкой и пошла в судомойню за чашками и молоком.
Налив чай и положив Майклу кусок именинного пирога Адель, она снова села и строго посмотрела на него.
— Скажи Адель только то, что ты сказал своей семье о твоих намерениях, — начала она. — Ты можешь сказать, что это известие их не обрадовало, но она и не ждала другой реакции. А пока что напиши матери с отцом. Скажи, что тебя огорчило их отношение, и попроси, чтобы они дали Адель шанс показать, какой она особенный человек. Ты также официально можешь объявить о своей помолвке в газетах и о планах жениться на Адель, когда она закончит учебу. Таким образом ты всем дашь понять, что у вас обоих серьезные отношения и обязательства друг перед другом.
— А если они и после этого не передумают? — спросил Майкл.
— Организовывай свадьбу. И тебе придется смириться с фактом, что среди гостей я буду единственным членом семьи.
Глава семнадцатая
Январь 1939
Подъехав ко входу гостиницы Клэрендон в Бэйсвотер, Майкл взглянул на Адель. Она закусила губу и с тревогой смотрела на гостиницу.
— Почему ты так боишься? Я хочу заняться с тобой любовью, а не разрезать тебя на куски, — сказал он.
Адель нервно захихикала. Она не боялась Майкла, он был добрый, забавный и, по ее мнению, самый красивый офицер ВВС в Англии. Еще она думала, что она самая счастливая девушка в мире, раз ее любит такой человек.
Она отметила, что гостиница просто великолепна. К входной двери вели мраморные ступеньки, и перед первым этажом были литые перила. Гостиница находилась лишь в пяти минутах ходьбы от Кенсингтон-Гарденс, в очень приличном районе Лондона.
— Я боюсь не тебя, — сказала она, — а того, что люди в гостинице не поверят, что мы женаты.
— Владельцы гостиниц не заботятся о таких вещах, — авторитетно заявил Майкл, наклоняясь, чтобы поцеловать ее. — Особенно в Лондоне. Здесь останавливалось столько парней из моего эскадрона, и они говорят, что владелец уже находится одной ногой в могиле.
Прошло две недели после нового, 1939 года, и они были обручены шесть месяцев, но очень мало времени провели вместе. Адель всегда оказывалась на дежурстве, когда Майкл получал увольнительную, и несколько раз, когда им удавалось освободиться одновременно, увольнительная Майкла отменялась в последнюю минуту. Иногда он приезжал из Биггинг-Хилла и слонялся вокруг, пока Адель не заканчивала дежурство, но это часто означало, что у них было лишь несколько часов до того, как ей нужно было возвращаться в общежитие.
Это стало мУкой, они оба страстно мечтали о теплом и уютном месте. Сидеть в машине Майкла, припаркованной на одинокой деревенской улице, было замечательно летом, но не так привлекательно холодным зимним вечером. Они даже не праздновали Рождество вместе, потому что Адель была на дежурстве, и в канун Рождества, когда Майкл приехал в Гастингс, чтобы просто отдать ей подарок, он предложил провести ночь в гостинице, когда у нее будет свободный выходной в январе.
Он сказал, что не пытается склонить ее к сексу с ним, он просто хочет побыть с ней подольше, вдали от людей, и Адель знала, что он говорит правду. Она также знала, что, несмотря на намерения продержаться до свадьбы, они не могли ждать. Она знала, что однажды их занесет так далеко, что это все-таки произойдет, и почти наверняка безо всяких мер предосторожности.
Поэтому разумнее было это спланировать, пойти в какое-нибудь уютное и укромное место, откуда не придется потом возвращаться домой поодиночке.
— Ну что, ты готова? — спросил Майкл, поглаживая ее по щеке замерзшей рукой.
Она взяла его за руку и поцеловала в ладонь, пощекотав кончиком языка.
— Да, я готова. Если мы посидим здесь еще немного, я превращусь в сосульку.
Майкл взял на себя разговор у окошка со сгорбленным стариком и расписался в книге для гостей, пока Адель стояла на безопасном расстоянии, пытаясь выглядеть так, будто она привыкла останавливаться в гостинице.
Гостиница показалась ей очень большой, с невероятно высоким потолком, и внушительная лестница, ведущая по обе стороны холла, напомнила ей лестницу из фильмов. Но убранство уже обветшало, картины выцвели, лак потрескался, ковры протерлись, и в воздухе стоял легкий запах плесени, смешанный с затхлым запахом кухни.
— Мы на самом верху, дорогая, — сказал Майкл важным голосом, которым он всегда разговаривал, пытаясь изобразить из себя очень взрослого и искушенного. Он поднял ее чемоданчики и пошел впереди, указывая дорогу.
К тому времени как они дошли до четвертого этажа, они запыхались, и Адель пришлось подавить хихиканье, когда горничная выключила на минуту шумный пылесос, чтобы посмотреть на них, пока Майкл пытался открыть номер 409.
Комната оказалась довольно темной, с маленьким окошком и покатым потолком. В номере находились двойная кровать с темно-синим покрывалом, комод и платяной шкаф, и все они были из темного дерева.
— Это… — воскликнула Адель, потом прервалась, не зная толком, как прокомментировать.
— Мрачно? — подсказал Майкл.
— Нет, не мрачно, — задумчиво сказала Адель. — По-моему, лучше подойдет слово «прозаично».
— Зато здесь есть электрический камин, — сказал Майкл, включая простой нагреватель, встроенный в старый камин.
Адель неловко стояла, пока Майкл грел руки у огня. С тех пор как он позвонил и сказал, что забронировал номер, все ее мысли были только об этом моменте. Она тщательно продумала свой гардероб, надев новое верблюжье пальто с меховым капюшоном, которое Майкл подарил ей на Рождество, лучшие коричневые туфли на высоких каблуках и модную шляпу с широкой лентой, которую она купила у одной из медсестер. Всю дорогу в поезде до Чаринг-кросс Адель сидела как на иголках, представляя, что все пройдет гладко, что это будет вихрь романтики и страсти с той минуты, как они войдут в номер.
Но вместо этого она чувствовала себя как-то необычно, словно Майкл был обходительным незнакомцем, а не мужчиной, которого она знала вдоль и поперек.
Еще в конце июля Майкл объявил об их помолвке в газетах. Он сказал, что его отец любит считать себя очень либеральным человеком и при встречах с друзьями и родственниками не хочет признавать, что не одобрял решения Майкла, так что в конце концов ему придется изменить мнение.
Вскоре после объявления о помолвке миссис Бэйли написала Адель и пригласила ее на чай. И хотя Адель опасалась, что миссис Бэйли попытается угрозами заставить ее порвать с Майклом, все оказалось не так. Миссис Бэйли была удивительно приятной, она убеждала Адель, что если бы только Майкл доверился ей раньше и предупредил, что собирается объявить о своем решении всей семье, она была бы готова к этому.
Но все же она не благословила ее, потому что считала, что Майкл еще слишком молод, чтобы думать о семье, особенно когда страна стоит на пороге войны. Она также обратила внимание на то, что в ВВС не одобряли, когда их пилоты женились, и что старший офицер Майкла вполне может не дать разрешения.
Тем не менее она сказала, что не возражает против долгой помолвки и согласна на все, лишь бы только Майкл был счастлив.
Адель слишком хорошо помнила, какой эгоистичной была миссис Бэйли, и догадалась, что она держится за сына скорее потому, что не может обходиться без него, а не потому, что хочет его счастья. Но она по крайней мере пошла им навстречу в отличие от мистера Бэйли, который все еще сохранял свою враждебность.
Он не написал Майклу, не приехал увидеться с ним в лагерь, даже не позвонил. Майкл сказал, что ему все равно, но Адель знала, что это было не совсем правдой. Он любил отца, хотя Адель не представляла, как можно любить такого отвратительного человека, но в то же время она была достаточно умна и понимала, что не знает этого человека настолько, чтобы судить о нем.
— Вот так лучше, — сказал Майкл, когда огонь начал обогревать комнату. — Так что будем делать?
Адель сглотнула. Жаль, что она не знала, как предположительно должна себя вести женщина в такой момент.
— Я не знаю, — сказала она тихо.
— Что-то не так? — спросил Майкл, подходя ближе.
— Не знаю, — повторила она, опустив голову. — Я просто как-то странно себя чувствую.
Он подошел еще ближе и одним пальцем поднял ее лицо вверх.
— Паника? — предположил он, и его темная бровь вопросительно поднялась. — Почему бы нам не выйти ненадолго? Погулять по парку, съесть где-нибудь ланч?
Адель кивнула.
Он крепко прижал ее к себе.
— Я тоже слегка как-то странно себя чувствую, — признался он. — Может, это все-таки была не такая хорошая идея.
— Это была хорошая идея, — поспешила возразить она. — Мы хотели побыть вдвоем, и вот мы вдвоем.
Уже сгущались сумерки, когда они вернулись в номер. Они обошли вокруг Кенсингтон-Гарденс, выпили по паре стаканчиков, съели ланч в Квинсвей и сфотографировались в студии рядом с гостиницей. Выпивка рассеяла беспокойство Адель, и на улице было так холодно, что они не могли дождаться, когда вернутся в номер.
Пока они гуляли, камин был включен, и сейчас в комнате стало по-настоящему тепло. Майкл задвигал занавески, в это время Адель быстро сняла пальто, шляпу и туфли, метнулась к кровати и прыгнула на нее. Когда кровать зловеще скрипнула, она рассмеялась и села.
— Как ты думаешь, здесь есть еще такие, как мы? — спросила она.
Майкл расстегнул китель и снял его.
— Ты имеешь в виду — такие невероятно умные, фантастически красивые и безнадежно влюбленные?
— А что, мы такие? — спросила Адель.
— Даже больше, — сказал он, опускаясь на кровать рядом с ней. — Держу пари, каждый, кто проходит мимо нас на улице, оглядывается, чтобы посмотреть нам вслед.
Адель откинулась назад и легла. На ней было темно-розовое шерстяное платье, которое бабушка связала ей на Рождество в том году, когда она ушла из Хэррингтон-хаус. Сейчас оно уже было не новым, но в платье такого покроя она была очень элегантной и оно так подчеркивало формы, что она чувствовала, что никогда не расстанется с ним.
Майкл наклонился над ней и начал вынимать шпильки из ее волос.
— Твои волосы как времена года, — сказал он, пробежав по ним пальцами. — Светлые прядки — это лето, красновато-золотые — осень, а вот еще каштановые, с легким золотистым блеском. Как только мы поженимся, я хочу, чтобы ты все время носила их распущенными.
— Они для этого слишком длинные и прямые, — смущенно сказала она. — Они мне доходят до самого пояса.
— Еще лучше, — сказал он, погружаясь лицом в ее волосы. — Одна мысль о твоих волосах, которые падают на твои обнаженные плечи, меня возбуждает.
Адель хихикнула.
— Я слышала, мужчин возбуждают грудь и ноги, но про волосы не слышала никогда.
— Я именно твои волосы помню лучше всего, какими они были в первый день нашей встречи, — сказал он. — Они все были такие дикие и спутанные ветром. Я все время о них думал, когда вернулся в школу.
— Наверное, я в тот день выглядела как нищенка, — сказала она с укором. — На мне были те ужасные брюки и старый бабушкин джемпер. Не представляю, почему ты не проехал мимо.
— Ты выглядела как одно целое с этими болотами, — рассмеялся он. — Такая же естественная, как растения и птицы. Я думаю, я влюбился в тебя в тот день, я точно знал, что ты станешь важной частью моей жизни. А для тебя это тоже так было?
— Думаю, что да, — сказала она задумчиво, вспоминая, какой счастливой была в тот вечер, после того как они расстались. Встреча с Майклом произошла в такой момент ее жизни, когда она наконец начала понимать, что чего-то стоит. — Ты был первым мальчиком, с которым я, по сути, вообще разговаривала, в тебе было что-то такое спокойное и правильное. Конечно, я не пыталась искать в этом большего, ты же был джентльменом и все такое.
— Мне бы хотелось, чтобы ты перестала думать о себе как о каком-то втором сорте, — сказал он с упреком, глядя прямо ей в глаза. — Твоя бабушка абсолютно такая же леди, как моя мать, несмотря на то что она освежевывает кроликов и носит мужскую одежду. И ты тоже такая, в тебе есть что-то почти королевское. Кем бы ни был твой отец, я знаю, что нас, вероятно, вытащили из верхнего ящика.
— Иногда у меня возникает желание увидеть мать, — задумчиво произнесла Адель. — Столько тайн, в которых я хотела бы разобраться, включая то, кто мой отец. Каждый день в палатах я вижу целые семьи, которые раскрывают свои настоящие чувства, когда кто-нибудь из них болен или даже умирает. Но люди не должны ждать, пока настанет кризис, прежде чем простить друг друга или просто сказать, что у них на уме.
— Ты готова простить мать? — спросил Майкл. — Или ты просто хочешь рассказать ей, что о ней думаешь?
— Возможно, я смогу простить, если получу какое-то разумное объяснение того, почему она так отвратительно со мной обращалась, — сказала в раздумьях Адель. — И я, безусловно, не хочу провести всю жизнь в горькой обиде на нее, как бабушка.
Майкл облокотился на кровать и посмотрел на Адель. Он знал, что она сама не представляет, насколько красива, как внешне, так и внутренне. Ее кожа была как персик, светлая, как у ребенка, глаза необычного зелено-коричневого цвета, с густыми, длинными темными ресницами. Но больше, чем ее внешность, его трогало ее умение сострадать. Она принимала близко к сердцу каждого из пациентов в своей палате, слушала их рассказы и пыталась помочь, как могла. Он знал, что и не в свое дежурство она часто навещала пациентов, к которым никто не приходил, и приносила им фрукты, сладости и журналы. На ее плече плакались и все медсестры в общежитии — все шли к ней со своими проблемами.
— Я люблю тебя, Адель, — сказал он внезапно охрипшим от волнения голосом. — Я всегда буду тебя любить.
И тогда он поцеловал ее, и когда она обвила его руками, весь мир за пределами их комнаты перестал существовать.
Адель ожидала, что будет чувствовать себя неловко, и страшилась того момента, когда придется снять с себя одежду. Но каким-то образом она, полностью одетая, вдруг оказалась голая под простынями, не осознавая ничего, кроме жара их поцелуев и восторга от его рук, ласкающих ее тело. Было чудесно чувствовать, как к ее груди прижался его голый торс, которым она так часто восхищалась на пляже. Она ахнула от изумления, когда его пальцы осторожно тронули ее изнутри.
Она чувствовала, как он нервничает, боясь испугать ее или причинить ей боль, и само собой получилось, что она пробормотала подбадривающие слова и нарочно прижалась к нему крепче, чтобы сильнее возбудить его. Она знала, что настоящим испытанием для нее будет прикосновение к его пенису, потому что если что-то и может пробудить ужас прошлого, то именно это прикосновение. Но это произошло так же незаметно, как с нее слетела одежда, и стон его от удовольствия рассеял ее последние беспокойства.
Некоторые более искушенные медсестры в общежитии и даже пациентки иногда обсуждали занятия любовью и чаще всего жаловались, что мужчины слишком быстро набрасывались на них. Но Майкл даже не предпринял этой попытки, явно сконцентрировавшись на том, чтобы доставить ей удовольствие.
Они выключили свет, и только камин отбрасывал на потолок золотой отсвет. Его кожа была как шелк под ее пальцами, и она чувствовала все те места, которые ждали прикосновения. Она ощущала его дыхание на своем лице, слышала нежные слова и чувствовала его любовь. Она наслаждалась запахом его тела — теплым, мускусным ароматом пота, мыла и сигарет, которые он курил раньше, и это было так прекрасно, что ей захотелось облизывать и покусывать его.
Именно она направила его внутрь себя. Она чувствовала, что вся горит, и она хотела его. Когда он надевал презерватив, она отвела глаза, потому что его пенис вдруг показался ей таким большим и твердым, и она приготовилась к боли.
Но боли не было. В какой-то момент она почувствовала, что он зашел слишком глубоко, но это быстро прошло, и все затмил восторг от того, что он наконец овладел ею.
— Тебе хорошо так? — прошептал он, утыкаясь губами в ее шею.
— Это чудесно, — пробормотала она, и это было правдой. — Я люблю тебя, Майкл.
— О, моя дорогая, — шептал он, и его дыхание все учащалось. — Это так хорошо, так прекрасно. Я так сильно люблю тебя.
Когда он вдруг выдохнул ее имя и перестал двигаться, Адель на мгновение почувствовала себя так, будто ее подвесили над пропастью. Но обняв его жаркое, дрожащее тело и увидев, что он плачет у нее на плече, она поняла, что случилось.
— Некоторые парни в лагере говорят, что летать лучше, чем секс, — прошептал он. — Но летая, я никогда не получал такого удовольствия.
Адель мягко рассмеялась.
— Тебе тоже было хорошо? — спросил он взволнованно, поднимая голову, чтобы посмотреть на нее.
Она смогла лишь кивнуть, ее настолько переполняли эмоция, что она не находила слов.
Позже они поднялись, оделись и вышли поискать чего-нибудь поесть и попить. Было уже девять вечера, слишком поздно, чтобы пойти в кино или на спектакль, как они планировали. Майкл повел ее в ресторан рядом с гостиницей, о котором ему рассказал один из друзей, и они с жадностью проглотили огромный кусок мяса гриль с овощами, запив это бутылкой красного вина.
— Мне хотелось бы, чтобы мы немедленно поженились, — сказал он вдруг. — Я отдал бы все что угодно за возможность возвращаться к тебе домой по вечерам.
Адель положила свою руку поверх его.
— Ты отлично знаешь, что это невозможно. Меня выгонят с работы, потому что медсестрам нельзя выходить замуж. И в ВВС не любят, когда их молодые пилоты женятся.
— Да, но это не мешает мне мечтать, — сказал он с легкой грустью. — Я даже не могу сказать, когда мы снова проведем вместе выходные.
Адель знала из рассказов Майкла, что никто из молодых пилотов в Биггинг-Хилле серьезно не воспринимал мысль о войне. Летать было их страстью, и между тренировочными полетами они играли в футбол, регби и крикет или набивались в машины и с криками ехали в ближайший паб, где, вероятно, переворачивали все вверх дном. Они разыгрывали друг друга, у них были странные правила инициации для новых рекрутов, и причина, по которой не одобрялись браки, была в том, что нужно было поощрять более крепкую связь между членами эскадрона.
Но хотя жизнь в Биггинг-Хилле большей частью была похожа на непрекращающееся веселье, мало кто читал газеты и разговоры о политике были строжайше запрещены, она знала, что Майкл очень хорошо отдает себе отчет в шаткой ситуации Англии с Германией.
Обычные гражданские люди могли верить, что Невилл Чемберлен обеспечивает «мир современникам», на Майкл наблюдал масштабное перевооружение правительства, видел кампании по вербовке и доставку в Биггинг-Хилл новых «ураганов» и «спитфайров». Он мог беспрестанно восхищаться, что эти машины разгоняются более чем на 300 миль в час, и притворно поддерживать общее мнение, что задачами пилота в военное время являются разведка и сбрасывание бомб, но он знал больше.
Их тренировали в воздушных боях, им нужно было учиться стрелять и прыгать с парашютом. Адель знала не хуже его, что авиация будет во всех горячих точках и что воевать будут не в окопах, а в воздухе.
Всем молодым пилотам надоели разговоры о возможной опасности, но Адель ощущала, что их с Майклом занятия любовью вдруг заставили Майкла понять, что их может разлучить не отсутствие родительского одобрения, а смерть.
У нее по спине пробежал холодок. Недавно вся больница переполошилась из-за дополнительной практики обработки ран и ожогов для всех студенток-медсестер. Она знала, что в большом количестве заготавливаются лекарства, перевязочный материал и другие припасы. Но пока что все это казалось похожим на учебную тревогу, необходимую на крайний, но маловероятный случай. И вдруг она почувствовала, что все были глупо беспечны.
— Тогда нам просто нужно будет максимально использовать то время, когда нам удастся быть вместе, — сказала она, заставив это прозвучать весело и спокойно. — У нас впереди вся ночь и весь завтрашний день. Давай думать об этом.
Роуз вышла на станции метро Темпль и минуту стояла, изучая карту. Была первая неделя февраля, и выпавший вчера снег еще лежал толстым белым слоем на крышах домов и деревьев. На улицах и мостовых он превратился в предательский черный лед, и было морозно.
Роуз оделась для красоты, не для тепла, и уже пожалела об этом, потому что ее ноги в туфлях на высоких каблуках превратились в две сосульки, и она рисковала поскользнуться на льду. Джонни купил ей голубое пальто с серым лисьим воротником еще осенью, и тогда оно казалось очень теплым. Но на самом деле оно годилось только для мягкой погоды, потому что сильно продувалось ветром. Если бы она не прикрепила свою маленькую шляпку к волосам парой шляпных булавок, шляпка бы просто слетела от сквозняка в метро.
Ей хотелось поймать такси, но у нее уже оставалось меньше десяти шиллингов до конца недели. И все же, если сегодня все хорошо пройдет, возможно, она до конца жизни никогда больше не будет ездить в метро.
Осторожно шагая, держась за стены и поручни, она наконец дошла до Темпля. Она не была знакома с этим районом Лондона и удивилась, обнаружив, что он похож на муравейник очень старых зданий, в каждом из которых, похоже, гнездились десятки адвокатских контор.
Она совершенно случайно увидела объявление о помолвке Адель и Майкла Бэйли. Люди оставляли газеты в ресторане «Сохо», где она все это время работала, и их складывали пачками в кладовке, чтобы раскладывать по полу в кухне после мытья.
В прошлом году, в ноябре, Роуз взяла домой газет из пачки, чтобы топить печь. Она сидела за столом, газеты лежали рядом, и она машинально взялась их перелистывать. Когда она дошла до колонки рождений, смертей и браков в старой «Таймс», вспомнила, как мать читала эти объявления — она всегда говорила, что ей хочется посмотреть, не встретит ли она знакомую фамилию.
Роуз лениво и по диагонали проглядывала колонку с именами, но когда увидела фамилию Бэйли в подразделе «Помолвки», она вчиталась. К своему шоку и крайнему изумлению, она узнала, что Майкл Бэйли, сын Майлса Бэйли, барристера из Элтона, Гемпшир, обручается с Адель Талбот из Винчелси, Сассекс.
На мгновение она подумала, что у нее сейчас случится сердечный приступ. Ее сердце забилось, как отбойный молоток, и на лбу выступил пот. Ей пришлось налить себе стакан бренди, чтобы успокоиться.
Роуз часто думала про Майлса Бэйли после своей поездки с Джонни в Винчелси летом, но как только она преодолела шок от того, что он снова по совершенной случайности замаячил в ее жизни, чаще всего она думала о нем с издевкой. Он никогда точно не знал, где она живет, она всегда отвечала очень уклончиво. Но когда его жена переехала жить в Винчелси, он должен был вспомнить, что его юная любовница жила где-то неподалеку. Может быть, он боялся, что она вернулась туда жить после того, как он ее бросил.
Ей было забавно представлять, как он боится столкнуться с ней во время визитов к жене, и она даже подумывала написать ему в Хэррингтон-хаус какое-нибудь зашифрованное послание, чтобы он знал, что она держит его в поле зрения. Но она не сделала ничего — все это было слишком давно, и ей уже не хотелось устраивать ему неприятности.
Но в лежащем перед ней написанном черным по белому объявлении не было и близко ничего забавного. Она не могла проигнорировать тот факт, что сын Майлса намеревался жениться на его дочери. Их нужно было остановить.
Они были братом и сестрой!
Роуз набросала несколько писем матери, объясняя все и прося остановить свадьбу, но все их разорвала, потому что помнила, с каким презрением смотрела на нее Хонор во время ее последнего посещения. Она ни за что бы не поверила, что Роуз движет вопрос морали: она просто будет считать это какой-то подлой попыткой испортить шанс Адель на удачный брак.
Роуз не могла ни есть, ни спать, отчаянно пытаясь разработать лучший способ решения проблемы, но как всегда, когда ее что-то беспокоило, она пила больше, и в результате оказывалась не способна ясно думать. Пролетали недели, а она не предпринимала ничего, только ходила на работу, а потом каждую ночь напивалась до забытья. Джонни продолжал мучить ее расспросами, но она упорствовала в своем желании не отвечать, и он перестал у нее появляться. Без общества Джонни и без его денежных подачек и подарков она чувствовала себя еще хуже и пила еще больше. У нее были долги по аренде, она по-настоящему рисковала местом работы и, что еще хуже, невольно входила в такую же черную полосу, в которой находилась после смерти Памелы.
Потом на Рождество до нее дошло, что она должна пойти к Майлсу. Он в состоянии с этим справиться, и если у него от этого начнутся такие кошмары, от которых страдала она, значит, он это заслужил. Она пошла в библиотеку, взяла «Кто есть кто» и нашла и его домашний адрес, и адрес его конторы в Лондоне.
Только увидев его имя в этой большой книге в кожаном переплете, она по-настоящему поняла, что он стал очень преуспевающим и важным человеком. И когда она положила это на другую чашу весов против всех страданий, выпавших на ее долю по его милости, в ее голове начали возникать фунты стерлингов, и вопрос морали резко упал.
Как только у нее созрел план, она сосредоточилась на нем. Вначале января она перестала пить и начала брать дополнительные смены в ресторане, чтобы заплатить аренду, сделать прическу и купить что-нибудь новое из одежды.
Наконец она договорилась о встрече с Майлсом на сегодня. Это было самой сложной задачей. Она назвалась миссис Фитцсиммонс и дала ложный адрес в Кенсингтон. Она сказала его секретарше, что у нее было крайне деликатное дело, касающееся наследства отца, и что мистера Бэйли ей порекомендовали друзья.
Роуз нашла нужный офис и увидела написанное золотыми буквами имя Майлса среди других наверху щита с наружной стороны входной двери. Она пришла на десять минут раньше, и хотя планировала появиться точно в назначенное для встречи время, чтобы избежать нежелательных вопросов, ей было слишком холодно, чтобы стоять на улице.
Возраст здания был еще более очевиден внутри, когда она поднималась по лестнице из голого камня. Ступеньки стали вогнутыми и гладкими от миллионов ног, которые прошлись по ним в течение многих лет, и в воздухе стоял затхлый запах старых книг и бумаг. Наверху лестницы наполовину застекленная дверь открывалась в приемную, где стояли стулья, письменный стол и, к счастью, горел огонь.
Из-за письменного стола Роуз приветливо улыбнулась женщина средних лет в очках.
— Миссис Фитцсиммонс, — представилась Роуз. — У меня назначена встреча с мистером Бэйли на четыре часа.
— Прошу вас, присаживайтесь, — сказала женщина, поднимаясь. — Я доложу мистеру Бэйли, что вы здесь.
Роуз присела, борясь с желанием скинуть туфли и согреть ноги у огня. Ее подташнивало от нервного напряжения, и она все отдала бы за стакан спиртного, но вместо этого она просто достала компактную пудру из сумочки, напудрила нос и подкрасила губы помадой.
Она подумала, что хорошо выглядит. Лисий воротник и шляпа подчеркивали ее персиковый цвет лица, а крошечная вуалька, спускавшаяся до бровей, привлекала внимание к ее глазам. Было интересно, узнает ли Майлс ее сразу.
Роуз не успела положить обратно пудреницу, как ее застала врасплох секретарша, сказав, что мистер Бэйли готов ее принять. Она поднялась, оправила пальто и проследовала за женщиной по узкому коридору мимо маленьких комнат, в которых тихо, как в библиотеке, работали люди.
Первой реакцией Роуз при виде Майлса было удивление от того, что она увидела: он не был ни высок, ни красив и ни импозантен, как рисовало ей ее воображение. Он был коротконогий, толстый, дряблый, с красным лицом, не более пяти футов шести дюймов ростом, а от его густой гривы длинных, богатых каштановых волос не осталось и следа. Он не был лысым, но у него была большая плешь, и то, что осталось, было темно-серого цвета. И все же она почувствовала, что если бы они встретились на улице, она узнала бы его по глазам. Они не изменились, она сохранила воспоминание о них, потому что у Адель были точно такие же глаза зеленовато-коричневого цвета. Она была вынуждена жить с этим постоянным напоминанием о человеке, который разрушил ее жизнь.
— Миссис Фитцсиммонс! — сказал он радушно, протягивая ей руку, но при этом фактически не глядя на нее. — Пожалуйста, проходите. Я полагаю, у вас возникли какие-то проблемы с наследством от отца?
Роуз ожидала, что он немедленно ее узнает. Она думала, что он в ужасе попятится от нее и выдохнет ее имя. Когда же он не сделал ни того ни другого, что доказало, что в его памяти не задержалось лицо молодой девушки, которой он клялся в любви, она еще более исполнилась решимости навредить ему.
Она подала ему руку и улыбнулась, потом подождала, пока секретарша уйдет и закроет за собой дверь. Комната была теплой и уютной, с пылающим огнем за каминной решеткой, кожаными креслами с пуговицами на спинках и письменным столом из красного дерева, а стены были уставлены толстыми книгами. На стене висела большая фотография троих детей, явно его, потому что старший мальчик был очень похож на того молодого Майлса, которого она помнила. Младший мальчик на переднем фоне, вероятно, был Майклом — ему было около шести лет, у него были очень темные волосы и широкая ехидная улыбка, демонстрировавшая отсутствие передних зубов.
Майлс сел после нее и откинулся на спинку кресла с улыбкой на своем толстом, раскормленном лице, возможно, в восторге оттого, что его новая клиентка была прекрасной блондинкой.
— Ну, чем я могу вам помочь? — спросил он масляным голосом.
— Вы можете попытаться вспомнить меня, — сказала Роуз.
— Мы встречались раньше? — спросил он, нахмурившись.
— О да, — сказала она. — Не говорит ли вам что-нибудь имя Роуз? Или мне напомнить вам об отеле «Джордж» в Рае?
Его улыбку словно стерло, глаза широко раскрылись, и он сел прямо.
— Роуз! — воскликнул он и еще больше побагровел. — Господи Боже мой! Какой сюрприз! Как ты?
— Достаточно хорошо, — сказала она игриво. — Намного лучше, чем двадцать лет назад, когда я напрасно ждала тебя.
— Я… я… я… — начал заикаться он. — У меня не было выхода. У меня была такая трудная ситуация. И я оставил письмо.
— Ты был лживым трусом! — рявкнула она на него. — Разве я не заслуживала чего-то лучшего, чем письмо? Если бы ты рассказал мне о том, что у тебя есть жена и дети, когда мы только встретились, у нас бы просто ничего не было.
— Ты же знаешь, почему я не рассказал, — сказал он, выглядя очень разволновавшимся, но ни капли не испуганным.
— Я была почти ребенком! — выпалила она ему в лицо.
— Ну послушай, — сказал он, поднимаясь с кресла. — Ты умоляла меня взять тебя с собой в Лондон, и, если ты помнишь, я был категорически против этой идеи. Я согласился только потому, что ты сказала, что отец агрессивно с тобой обращается, и ты намеревалась найти работу, хотя на самом деле не предприняла ни одной попытки.
— Я пришла сюда не для того, чтобы ворошить все это, — отмахнулась Роуз. — Голая правда в том, что ты бросил меня, когда я ждала от тебя ребенка.
— Это было почти двадцать лет назад, — сказал он недоверчиво. — С учетом всей той лжи, которую я слышал от тебя тогда, у меня не было оснований верить и этому. Так что же привело тебя сюда сегодня, Роуз? Если не ворошить прошлое?
— Иногда прошлое может наносить неожиданные удары, — сказала она. — Именно такой удар и заставил меня прийти. Я полагаю, что наша дочь, Адель, собирается выйти замуж за твоего сына, Майкла.
Если бы она вылила на него ведро холодной воды, он и то не мог бы больше удивиться. У него отпала челюсть, он побледнел и широко раскрыл глаза, схватившись за голову.
— Адель твоя дочь? — произнес он сдавленным голосом.
— Наша дочь, — поправила его Роуз. — Ты слишком хорошо знаешь, что я была беременна!
— Я не верю этому, — охнул он. — Это слишком невероятно.
— Почему же? Ты не веришь, что девушка, у которой бабушка живет в Винчелси-Бич, могла встретить твоего сына, у которого бабушка и дедушка тоже жили в Винчелси? Невероятно было бы, если бы они не встретились, потому что там во всей округе, наверное, и двух сотен человек не живет.
Роуз прервалась на секунду, догадавшись, что он ломает себе голову, чем бы опровергнуть ее историю.
— Так вот если бы ты мне сказал, когда мы встретились, что ты женат и что твои свекор со свекровью мистер и миссис Уайтхауз, я бы даже прогуляться с тобой не пошла. В конце концов моя мать, Хонор Харрис, была подругой твоей свекрови.
При этих словах он оперся локтями о стол и уронил голову на руки.
— Я не знаю, что сказать, — выдохнул он. — Я никогда не ассоциировал Адель с тобой. И она жила в моем доме как горничная моей жены!
Это было еще одной новостью для Роуз. Хонор говорила, что она работала экономкой, но не упомянула у кого. Ее дочь явно укатилась недалеко от матери, ухватившись за прекрасную возможность, которая ей подвернулась. Жаль было, что она, не зная того, ухватилась за собственного брата.
— Господи! Что же мне делать? — охнул Майлс.
Роуз чуть улыбнулась. Она догадалась, что Майлс Бэйли нечасто произносил подобные слова. В углу на подставке в виде головы висел его судебный парик. На двери она заметила мантию. Он привык выкручивать правду из ответчиков и свидетелей, а не расплачиваться за собственные неосторожные поступки.
— Тебе придется рассказать сыну, что Адель его сестра, — сказала Роуз. — Конечно, если ты не хочешь, чтобы он совершил инцест.
— Какие у тебя есть доказательства того, что Адель мой ребенок? — спросил он вдруг, и она увидела, как его глаза коварно сузились. — Фамилия Адель — Талбот. А если ты сейчас Роуз Фитцсиммонс, откуда возникло это имя?
— Это так, для отвода глаз, — сказала Роуз беззаботно. — Моя фамилия по мужу Талбот. Я вышла замуж за Джима Талбота незадолго до того, как родилась Адель, исключительно для того, чтобы она могла взять его имя. Но если ты решишь, что он отец, проверь даты. Ты забрал меня с собой в Рае в марте 1918 года, когда мне было семнадцать. Я была с тобой до того самого дня, когда ты бросил меня в Кингз-кросс в январе следующего года. Я тогда была уже на третьем месяце беременности. Я вышла за Талбота в мае, а Адель родилась в июле.
— Это не доказывает, что я ее отец, — возразил он.
— Любой, кто встречал меня на протяжении этих десяти месяцев, готов поклясться, что я проводила дни, ожидая, когда ты вернешься из своей «поездки по делам». Я даже врачу говорила, что видела в Кингз-кросс твое имя. И потом, разумеется, есть еще такая вещь, как анализ крови.
Майлс довольно долгое время молчал, и Роуз видела, как у него на виске бьется жилка. Он вспотел и потянул за воротник рубашки, будто тот душил его.
— Чего ты хочешь, Роуз? — сказал он наконец. — Мне почему-то не верится, что ты просто беспокоишься о том, чтобы Адель и Майкл прервали отношения.
Роуз пока что решила проигнорировать вопрос о том, чего она хочет.
— Я надеялась, ты поделишься со мной своим мнением по поводу того, как нам прервать их отношения, — сказала она, вызывающе тряхнув головой. — Это явно нужно сделать, но следует выбрать менее болезненный способ.
— Я не говорю сейчас о Майкле, — сказал он. — Если бы я пошел к нему и рассказал ему правду, он бы мне не поверил.
Роуз легко фыркнула, потому что догадалась, в чем причина.
— Значит, тебе не понравилась идея твоего сына жениться на Адель? Она недостаточно хороша для твоего золотого мальчика, правда? Девочка с болот выходит замуж за сына юриста!
У него хватило такта слегка устыдиться.
— Твоя жена разведется с тобой, если это выплывет наружу, — сказала она. — А это может выплыть наружу, и очень легко. А что скажут об этом твои остальные дети? И как это скажется на твоем общественном положении? — Она ткнула пальцем в вывеску на двери. — Инцест — отвратительное слово. И это уже вполне могло произойти. И Майкл еще к тому же офицер ВВС.
Она была очень довольна, увидев, что он серьезно испугался, Он взял сигару из коробки на столе и зажег ее дрожащими руками.
— Есть другой способ, — сказала Роуз, наблюдая, как он посасывает сигару, словно ребенок сосок матери. — Ты можешь пойти к Адель и рассказать ей правду. Попроси ее порвать с Майклом, умоляя не говорить ему, почему. Таким образом, только мы двое будем знать обо всем.
— А почему ты не можешь ей сказать? — спросил он.
— Потому что это будет означать, что я снова должна вернуться в ее жизнь, — сказала она. — Она ушла от меня жить с бабушкой, когда я была больна, много лет назад. Если я вернусь с подобным объяснением, ей от этого будет только больнее.
Майлс резко посмотрел на нее.
— Почему-то мне думается, что ты предлагаешь это не просто чтобы расстроить чьи-то планы, — сказал он. — Чего ты хочешь на самом деле?
Роуз вскипела.
— Прежде всего, ничего из этого не случилось бы, если бы ты был честен с самого начала, — зашипела она на него. — Ты бросил меня на мели с ребенком в животе. Чтобы избежать родов в работном доме, мне пришлось выйти за человека, который мне даже не нравился. Ты сломал мою жизнь, и пришло время заплатить за это.
— Ага! — воскликнул он, и его глаза сузились. — Вот теперь мы добрались до настоящей причины. Значит, ты хочешь денег, не так ли?
— Да, — сказала Роуз, пожав плечами. — Хочу. Я хочу тысячу фунтов.
— Тысячу?! — вскричал он.
— Ты можешь себе это позволить, — снова пожала она плечами. — Это всего лишь пятьдесят фунтов за каждый год жизни Адель, я уверена, что ты тратил намного больше на каждого из твоих остальных детей.
— А если я откажусь?
— Тогда я пойду в газеты и расскажу всю эту грязную историю. Тебе решать.
Роуз порылась в своей сумочке и выудила карточку с номером телефона ресторана, где работала. Она положила карточку на стол с абсолютной уверенностью в себе.
— Принесешь мне деньги наличными в следующий понедельник вечером, — сказала она. — Я уже все написала про тебя и меня, и про то, как родилась Адель, и отдала это на хранение другу, просто на тот случай, если со мной или с Адель что-нибудь случится.
— А что, если она не будет держать рот на замке насчет нас? — спросил он.
Роуз пожала плечами.
— Тебе придется проявить щедрость.
— Если я соглашусь, какие у меня гарантии, что потом ты не попросишь еще?
— Ты ведь гарантировал мне, что любишь меня, — напомнила она ему. — Я была достаточно наивной в то время, чтобы думать, что ты никогда меня не бросишь. Я могу быть кем угодно, но только не шантажисткой. Я просто прошу у тебя то, что ты мне должен за мою поломанную жизнь. И скажи спасибо, что я не намереваюсь ломать твою.
Глава восемнадцатая
Адель вместе с группой других медсестер поднялась по лестнице в общежитие в начале седьмого вечера. Было 15 февраля, и остальные девушки дразнили ее из-за валентинки, которую она вчера получила от Майкла.
Он сделал ее сам, это был рисунок «спитфайра» с его маленькой фотографией, вклеенной в кабину. На облачке впереди самолета была такая же крошечная фотография Адель, но он пририсовал ей одеяние ангела.
Стихотворение называлось «Я витаю в облаках с тех пор, как встретил тебя».
Вот вышло солнышко, и небо голубое. Ты ангел мой, и мысли мои заняты тобою. И целый день пытаюсь угадать я, Как будет на тебе прекрасно свадебное платье. Лишь о тебе, любимой навсегда, могу мечтать. Когда ты снова сможешь выйти поиграть?Адель подумала, как это мило и чудесно, но остальные медсестры дразнили ее, говоря, что надеются, что он летает лучше, чем пишет стихи.
— Вы все просто завидуете, — хихикала Адель, и когда увидела в коридоре смотрителя мистера Даблдэя, стоявшего со строгим видом, она игриво потянулась и надвинула ему кепку на глаза.
— Ну ладно, сестра Талбот, — сказал он ворчливо. — Хватит этой детской возни. Там тебя ждет джентльмен. Я проводил его в гостиную.
— Майкл? — спросила она живо.
— Если твоего летающего мальчика зовут Майкл, нет, это не он, — сухо сказал мистер Даблдэй и добавил: — У тебя шапочка перекосилась.
Заинтригованная, Адель открыла дверь в гостиную, и там, к ее крайнему удивлению, сидел Майлс Бэйли.
— Добрый вечер, — сказала она вежливо, но по ее спине пробежал холодок, потому что она поняла: он проделал такой путь не для того, чтобы нанести визит вежливости.
— Мне нужно поговорить с тобой, Адель, — сказал он. — Эта комната достаточно уединенная, или в любую минуту сюда может войти толпа медсестер?
— Эта комната только для гостей, — сказала она. — Вряд ли сюда сейчас кто-то войдет, все ушли переодеваться и ужинать.
— Тебе очень идет медицинская форма, — сказал он, оглядывая ее с головы до ног, что привело ее в крайнее замешательство. — Как продвигается твоя учеба?
Адель села напротив него. Она была ошеломлена тем, что он так мил, но надеялась, что это потому, что он изменил отношение к их с Майклом браку.
— Все в порядке, хотя тяжело готовиться к экзаменам после долгого дня или ночи в палате. Уже кончается второй год, еще остался один, пока мне не присвоят квалификацию.
Он прокашлялся, чувствуя себя неловко и нервничая.
— С Майклом ничего не случилось, правда? — встревоженно спросила она.
— Нет, насколько мне известно, у него все отлично, — ответил он. — Но я действительно пришел к тебе поговорить о нем и о тебе. — Он глубоко вздохнул, и у Адель прыгнуло сердце, он явно собирался пробормотать какие-то извинения.
— Это очень деликатный вопрос, Адель, — сказал он. — Это выяснилось очень неожиданно для меня, и мне будет трудно рассказать тебе об этом.
Адель была сбита с толку. Он не выглядел так, будто искал подходящие слова для извинения, но его голос был слишком мягкий и нерешительный, чтобы предположить, что он чем-то рассержен.
Она снова упала духом, потому что ощутила: что бы он ни собирался сказать, ей это не понравится.
— Ты не можешь выйти замуж за Майкла, — выпалил он. — Вы брат и сестра.
Адель захихикала.
— Не говорите ерунды, — сказала она.
— Я совершенно серьезен, — сказал он с укором. — Видишь ли, оказалось, что я твой отец, Адель.
Она просто уставилась на него в изумлении. Это казалось шуткой, но здравый смысл подсказал ей, что это не могло быть шуткой. Майлс Бэйли был очень серьезным человеком.
— У меня был, ну… — Он сделал паузу и кашлянул, готовый провалиться под пол. — У меня был когда-то роман с твоей матерью.
Адель просто недоверчиво уставилась на него, думая, что он сошел с ума.
— Нет, мистер Бэйли, — удалось ей выдавить из себя наконец. — Моя мать живет далеко. Вы ее не знаете.
— Знаю, Адель, по крайней мере знал двадцать дет назад. Я встретил Роуз в Рае, когда она работала в «Джордже». Она сбежала со мной в Лондон.
Адель была ошарашена. Бабушка однажды говорила ей, что думала, что Роуз сбежала с женатым мужчиной, но как это мог быть мистер Бэйли? Это мог быть коммивояжер, солдат или моряк, но не напыщенный юрист с редеющими волосами и красным лицом!
— Этого не может быть, — настаивала она, но все же какой-то слабый голос внутри нее подсказывал, что никто не признался бы в подобном, если бы это не было правдой.
Она вдруг живо вспомнила себя в постели с Майклом, и по ее спине пробежал нехороший холодок.
— Это какая-то крайняя мера, чтобы расстроить наши с Майклом планы, правда? — сказала она возмущенно. — Как вы можете!
— Нет, Адель, это не так, — сказал он. — Возможно, мы наделали ошибок с самого начала, но неужели ты действительно думаешь, что я мог бы состряпать такую историю? Ради бога, я же юрист!
— А какая разница? — прошипела она на него. — Два года назад вы ударили меня по лицу и выкинули на дождь. Смею сказать, что большинство людей думает, что юрист не сделал бы такого.
— Я теперь сожалею об этом, — сказал он, вытирая лоб платочком. — Я был под огромным стрессом тогда все время, и разумеется, я даже не представлял, кто ты.
Адель вдруг вспомнила, что бабушка ходила встретиться с ним на Рождество и вернулась с рекомендательным письмом и десятью фунтами.
— Это тогда вы узнали обо всем? — спросила она, и ее голос зазвенел от гнева. — Вы два года знали, что я была вашим незаконнорожденным ребенком, и ничего не сказали, несмотря на то, что знали, что мы с Майклом еще встречаемся? Что же вы за человек?
— Послушайте меня, юная леди, — сказал он в более обычной для себя резкой манере, — я сам это узнал несколько дней назад, когда Роуз пришла ко мне в бюро в Лондоне и рассказала все.
— Она пришла к вам после того, как игнорировала меня столько лет? — Адель еще больше повысила голос и вскочила на ноги.
— Она почувствовала, что необходимо что-то сделать, когда прочитала о вашей помолвке, — сказал он быстро. — Конечно, она была права. Мы не могли просто проигнорировать это.
У Адель голова шла кругом. Для нее это было слишком большим шоком. Она тяжело сглотнула, скрипнула зубами и набрала в рот воздуха.
— Откуда мы знаем, что она говорит правду?
— Я, гм, знал, что она беременна, когда бросил ее, — признался он нерешительно. — Я знаю, это было не очень галантно с моей стороны, но у меня были веские причины.
И вдруг, без дальнейших подробностей, Адель поняла, что он говорит правду, какой бы она ни была отвратительной. Она подошла к окну и уставилась на сад внизу. В серый зимний день он выглядел таким же холодным и опустошенным, как было у нее внутри. И тогда она вспомнила, как той ночью в Лондоне Майкл сказал, что он уверен в том, что ее отец из верхнего ящика. Что он теперь скажет, когда узнает, что у них один отец «из верхнего ящика»?
— Майкл уже знает? — спросила она, не поворачиваясь к нему лицом, потому что у нее на глаза навернулись слезы.
— Я не могу сказать ему, — ответил он.
Адель повернулась и увидела его умоляющие глаза. И только тогда она с отвращением заметила, что они были точно такими же, как у нее.
— Вы не можете ему сказать! — взорвалась она. — Черт, да чья же это вина? Ваша!
— Я знаю, — согласился он, умоляюще сложив руки. — Но если я расскажу Майклу, начнется нечто, что я не смогу остановить. Это будет позор для всей семьи. Пожалуйста, не просите меня расстроить столько людей, Адель.
Она холодно посмотрела на него. Она столько раз пыталась представить себе своего настоящего отца, но Майлс Бэйли был последним человеком на земле, которого она хотела бы видеть в этой роли. Он был грубиян и жуткий сноб, а сейчас она еще узнала, что он был волокитой, бросившим беременную женщину.
— Я поняла, — сказала она, уперев руки в бока и свирепо глядя на него. — Вы просто хотите, чтобы я исчезла из жизни Майкла, правда? Это будет для вас легким выходом, никто никогда не узнает, кроме вас, меня и моей чертовой матери.
— Если ты расскажешь Майклу правду, это навредит ему, — умолял Майлс. — Я знаю, он такой же чувствительный, как его мать, и он просто уйдет в себя. У него впереди карьера. Он это любит, и он не смог бы летать, зная, что девушка, на которой он хотел жениться и с которой хотел заниматься любовью, — его сестра.
Адель знала, что это действительно так. Ее затошнило от мысли о том, что они сделали, и она была уверена, что Майкл будет чувствовать себя еще хуже.
— Убирайтесь отсюда, — сказала она, указывая на дверь. — Я не могу находиться с вами в одной комнате. Вы с Роуз должны были остаться вместе — господи, да вы были бы идеальной парой с вашей подлостью и вашей ложью.
— Что ты собираешься делать? — спросил он встревоженно.
— Я собираюсь пойти к себе наверх, потому что меня тошнит! — крикнула она ему. — Потому что я только что узнала, что у меня самые худшие родители на земле и я не могу быть с мужчиной, которого люблю. Вы удовлетворены?
— Я умоляю всем святым, не говори Майклу, — просил он.
— Убирайтесь! — крикнула она снова. — Я сама решу, что мне делать. Вы меня не запугаете.
Ему пришлось уйти. Половина двери была застеклена, и с той стороны подошел смотритель посмотреть, что там за шум.
Майлс ускользнул как испуганный кролик, оставляя Адель, которая совсем раскраснелась и была готова лопнуть от ярости.
Было счастьем, что у Анжелы, ее подруги по комнате, выдалось несколько выходных дней и она уехала домой к семье, потому что Адель была не в состоянии ни с кем разговаривать и не хотела никому показываться на глаза. Войдя в комнату, она тут же заперла дверь и в рыданиях рухнула на постель.
Майкл был для нее всем, и если сейчас его забрали бы, у нее не осталось бы ничего. Но было еще нечто худшее — даже прекрасные воспоминания о нем были теперь грязны.
Ее снова и снова тошнило в тазик для стирки, пока в желудке не осталось ничего, кроме желчи. Она стащила с себя форму, оставив ее смятой на полу, и залезла в постель в белье. За дверью она слышала обычный смех и болтовню, медсестры занимали друг у друга одежду, чтобы пойти на свидание, еще кто-то спрашивал, свободна ли ванная, а кто-то умолял их не кричать и не мешать заниматься. Они были ее подругами, с этими девушками она могла разговаривать обо всем, но это она не могла рассказать им. Она не могла рассказать никому.
Это напомнило ей о том, как она еще ребенком пошла в школу с синяком от кочерги, которой ударила ее мать. Ей пришлось скрыть это, потому что было стыдно. А потом еще был мистер Мэйкпис, и ей тоже пришлось скрыть то, что он сделал, и что мать забрали в клинику для умалишенных. Почему она всегда должна держать в тайне чужие ошибки?
И все-таки она знала, что должна это скрыть. Не для того, чтобы спасти честь Майлса Бэйли — пусть он сгорит в аду вместе с ее матерью, ей было все равно. Она скроет это от Майкла. С подобной ситуацией он не справится. Это его уничтожит.
Но что делать? Она же не может смотреть Майклу в лицо и лгать ему, он сразу поймет, что что-то не так. Она даже не может поговорить с ним по телефону, потому что сломается просто отзвука его голоса. Но если она просто будет прятаться, он будет приходить сюда и всем надоедать. Он никогда не позволит ей уйти без очень веской причины.
На следующее утро Адель направилась в офис старшей сестры. У нее были темные круги под глазами от бессонной ночи, ее все еще тошнило, и она понимала, что не в состоянии будет работать сегодня в палате. Но она надела форму, чтобы другие девушки не начали задавать ей вопросы.
— Войдите, — послышался низкий голос старшей сестры в ответ на стук в дверь.
Адель скользнула внутрь и закрыла за собой дверь. Сестра была внушительной женщиной около пятидесяти лет, высокой и худой, с аристократичной осанкой и манерами.
— Да, сестра Талбот, — сказала она.
— Я не могу больше здесь работать, — выпалила она. — Мне нужно уйти.
Сестра посмотрела на нее внимательно.
— Вы беременны? — спросила она.
— Нет, ничего подобного, — сказала Адель. — Пожалуйста, не задавайте мне вопросов, я не могу на них ответить. Мне просто нужно уйти.
— Это имеет какое-то отношение к мужчине, который приходил к вам вчера?
Адель упала духом. Старшая сестра всегда знала, что происходит в больнице и в общежитии, но Адель надеялась, что этот визит останется незамеченным.
— Да, но я больше не могу сказать, — сказала она. — Это личное.
— Талбот, у вас есть предпосылки стать отличной медсестрой, и я знаю, что вам это очень нравится. Мне было бы неприятно, если бы вы бросили это после почти двух лет подготовки.
— Я хочу быть медсестрой и не хочу от этого отказываться, — сказала Адель. — Я просто не могу продолжать здесь. Возможно ли, чтобы меня перевели в другую больницу?
Сестра нахмурилась и уставилась на Адель поверх очков.
— Это возможно сделать, но я не могу устроить перевод, не зная реальных причин. Я вижу, что вы очень взволнованны, и я не верю, что такая девушка, как вы, может попасть в какую-нибудь криминальную историю. Поэтому доверьтесь мне, Талбот, это не выйдет за пределы этих стен.
Адель знала, что старшая сестра — женщина чести. И хотя она была строгой и жесткой с теми медсестрами, которые, по ее мнению, позорили профессию медсестры, она была справедливой и часто удивительно доброй. Адель знала, что без ее помощи у нее нет ни одного шанса закончить учебу в другой больнице. Возможно, придется рассказать ей правду.
— Мужчина, который заходил ко мне вчера, — мой отец, — сказала она. — А еще он отец Майкла — летчика, с которым я обручена.
Даже говоря это, Адель все еще не верила, что с ней могло случиться нечто подобное. Старшая сестра была поражена.
Адель объяснила самую суть вопроса и сказала, что она, конечно, должна перестать встречаться с Майклом. На этом месте она расплакалась, и сестра обошла вокруг своего стола и потрепала ее по плечу.
— Я понимаю, — сказала она. — Это ситуация исключительная. Я предполагаю, вы боитесь, что, поскольку Майкл ничего об этом не знает, он будет продолжать приходить сюда увидеться с вами?
Адель кивнула.
— Я не могу с ним встретиться, я могу не выдержать и рассказать ему, и для всех будет лучше, если я просто исчезну.
Старшая сестра снова села за свой стол. Она какое-то время молчала и, казалось, была погружена в свои мысли.
— Было бы очень жестоко бросить молодого человека безо всяких объяснений, — сказала она через несколько минут. — И я не согласна с мнением его отца, что Майклу будет хуже, если он узнает правду. А что по поводу вашей бабушки? Вы и от нее намеревались ускользнуть, не сказав, где будете находиться?
— Мне пришлось бы это сделать на какое-то время, — сказала Адель, ломая руки. — Она первый человек, к которому пойдет Майкл, как только обнаружит, что я уехала отсюда.
— Адель, все это не ваша вина, — сказала старшая сестра, назвав ее по имени, что свидетельствовало о ее искреннем сочувствии. — Я в ужасе от того, что отец Майкла заставляет страдать тебя и тех, кого ты любишь, а сам при этом остается безнаказанным.
— Но это причинит боль еще многим людям, если правда обнаружится, — настаивала Адель. — Матери Майкла, его брату и сестре. А что люди станут говорить обо мне и о моей матери? Действительно, будет лучше, если никто ни о чем не узнает. Я думала об этом всю ночь, и я знаю, что права.
— Но ваша бабушка будет беспокоиться о вас. Не заставляйте ее так страдать, — сказала старшая сестра.
— Я могу написать ей письмо, — сказала Адель в отчаянии. — Сказать, что я передумала насчет Майкла и уехала на время, пока он это переживет. Я могу продолжать посылать ей записки, чтобы она знала, что у меня все в порядке.
— А Майклу вы тоже напишете?
— Да, конечно. Я скажу, что поняла, что он мне не пара.
Сестра глубоко вздохнула и в отчаянии покачала головой.
— Все это кажется мне неправильным, — сказала она. — Но Я вижу, что вам будет неудобно оставаться в этой больнице при таких обстоятельствах. Есть у меня одна подруга, она старшая сестра в Лондонской больнице в Уайтчепел, ей тоже очень нужны хорошие медсестры. Я могла бы позвонить ей и узнать, примет ли она вас.
— О, спасибо вам, сестра, — сказала с благодарностью Адель, и у нее по щекам покатились слезы. — Но вы ведь не расскажете ей все это, правда?
— Конечно нет, мы достаточно близкие подруги, чтобы она доверяла моему мнению без объяснений. А теперь возвращайтесь в вашу комнату, я зайду к вам позже, как только поговорю с ней.
— Мне нужно уехать сегодня, — сказала Адель, глотая слезы.
Старшая сестра кивнула.
— Оставьте это мне. Я пришлю кого-нибудь принести вам в комнату завтрак. Вы должны есть, даже если не хотите.
В три часа в тот же день Адель выехала из общежития с чемоданом и направилась на вокзал. Старшая сестра уладила вопрос с Лондонской больницей и еще пообещала, что если Майкл позвонит или придет, она поговорит с ним сама и скажет, что Адель уехала по личным причинам. Остальным медсестрам скажут то же самое.
Адель написала Майклу и бабушке и бросила письма в первый же ящик, мимо которого проходила. Их было очень трудно писать — она знала, что не должна позволить им думать, что она расстроена, но не должна была и проявить бездушие к их чувствам. Майклу она могла только сказать, что ошиблась и поняла, что он ей не пара, или она ему. Что она уезжает в другой город жить и работать там и что он должен забыть о ней.
Она написала примерно то же самое бабушке про Майкла, но объяснила, что не может раскрыть, где находится, пока он не перестанет искать ее. Она умоляла ее не беспокоиться и сказала, что будет посылать письма, чтобы бабушка знала, что она в безопасности. Она написала ей, что любит ее и что ее самые лучшие воспоминания в жизни — это жизнь с ней на болотах. В конце она написала, чтобы Хонор не думала, что история повторяется, что она не Роуз и скоро свяжется с ней.
Когда поезд запыхтел и тронулся, глаза Адель снова наполнились слезами, потому что она вспомнила свою последнюю поездку в Лондон. Она тогда была такой счастливой и взволнованной, что не могла усидеть на месте. Но сегодня на Чаринг-кросс ее не встретит Майкл теплыми объятиями, и она не услышит слов любви. Ее обручальное кольцо все еще висело на цепочке на ее шее, потому что по больничным правилам нельзя было носить кольца на дежурстве. Она знала, что должна была послать его ему обратно, но оно лежало, маленькое и теплое, между ее грудей и утешало ее.
Она была рада, что едет в такое ужасное и переполненное людьми место, как Уайтчепел. Она считала, что если больше не будет соленого ветра с моря, больших открытых пространств, травы, цветов и деревьев, она сможет забыть.
Позже она увидела в небе самолет. Пилот отрабатывал акробатику. Он сделал петлю, потом устремился вниз и снова резко поднялся вверх. Она заметила под крыльями черное с белым и поняла, что это «спитфайр». Это вполне мог быть Майкл или кто-либо из его эскадрильи, и она горячо помолилась, чтобы он быстрее ее забыл, и еще за его безопасность, когда придет война.
Единственное, что она попросила для себя в молитве, — это стать хорошей медсестрой. Она не верила, что заслуживает счастья или безопасности.
Глава девятнадцатая
Сентябрь 1939
— Идите посмотрите на этих малышей, которых эвакуируют! — воскликнула старшая медсестра Уилкинс со своего места у окна в женском хирургическом отделении. — Здесь есть совсем крошечные.
Адель и Джоан Марлин подошли к окну, где стояла Уилкинс, и увидели длинную вереницу детей, трусивших по Уайтчепел-роуд по направлению к вокзалу. Каждый нес в руках маленький чемоданчик или узелок, а на груди у них болтались противогазовые маски. У каждого на одежде был большой ярлык, вероятно с их именем и возрастом, и их сопровождали шестеро женщин, скорее всего учительниц.
— Бедные малыши, они расстаются со своими мамами, — сказала Джоан прерывающимся от волнения голосом. — Наши Мики и Дженет сегодня тоже уезжают. Мама вчера вечером была в ужасном состоянии. Она не верит, что другие люди могут быть добрыми к детям, если это не их собственные.
— А может быть, в жизни некоторых из них это будет самым лучшим, — задумчиво сказала Адель, вспомнив, что было с ней, когда она сбежала к бабушке. — Они будут в безопасности от бомб и увидят новую жизнь, узнают о природе, птицах, коровах и овцах. И в экстренных случаях люди могут быть по-настоящему добры к детям.
— Не могу придумать ничего худшего, чем встретиться нос к носу с коровой, — фыркнула Джоан. Это была общительная рыжеволосая девушка с веснушками на носу. Дочь врача и старшая из семи детей, она стала ближайшей подругой Адель с тех пор, как Адель приехала в Уайтчепел. Адель знала, что без грубого чувства юмора, доброго сердца и веселого нрава Джоан она не справилась бы с тяжелой жизнью Ист-Энда.
— Совсем непохоже, что вот-вот начнется война, — сказала старшая медсестра Уилкинс, глядя вверх на безоблачное небо. — Я хочу сказать, солнце светит, все продолжают работать, садятся на автобусы и поезда, даже эти дети думают, что их ждет большое приключение. Я все надеюсь, что это ошибка и что через неделю мы увидим, как забирают эти клятые мешки с песком, срывают черные шторы и полосы с окон. Я просто не могу поверить, что наши мужчины готовы к тому, чтобы начать убивать.
Уилкинс очень любила задаваться вопросами о смысле жизни. Ей было двадцать пять, она была тощая, с редкими волосами и просто уродливая, но она была предана своему делу и глубоко религиозна. Она работала в штате и поэтому не была обязана жить в общежитии, и пару месяцев назад она пригласила Адель к себе на ужин. Поскольку старшая медсестра была такой вежливой и образованной, Адель ожидала, что у нее будет приятный дом. Для нее было почти шоком оказаться в крошечном, приходящем в упадок доме с террасой в Бетнал-Грин. В доме было тщательно прибрано, но не было никакого комфорта. На полу вместо ковров лежала только потрепанная клеенка, никаких картин, украшений, даже приемника. Стол, стулья, сервант и кровати наверху, и это все. И молитва, которую они произнесли перед скудным ужином из холодного мяса и картошки, казалось, длилась десять минут. Родители Уилкинс и две другие дочери, которые еще жили в доме, были евангелистками, и они не теряли времени, начав уговаривать Адель присоединиться к их «святым пляскам», по смешливому выражению Джоан.
Первое впечатление Адель от Ист-Энда было совершенно ужасным. Нельзя сказать, что она не видела последствий нищеты и безработицы, потому что некоторые районы Гастингса и Рая тоже были немногим лучше трущоб. Самое худшее, чего она ожидала, — это что здесь будет как в Юстоне или Кингз-кроссе.
Но после Ист-Энда Кингз-кросс казался раем. Ряды улиц с убогими маленькими домиками, и случайный взгляд, брошенный в открытую дверь или разбитое окно, обнаруживал, что у жильцов было немногим больше вещей, чем то, что было на них надето. Оборванные дети с измученными, бледными лицами апатично играли в грязных переулках. Женщины с исхудалыми лицами и впалыми глазами, часто с грудными детьми на руках, рыскали по канавам в поисках чего-то съестного после закрытия базара. Адель вира пьяниц и проституток, старых солдат без ног или рук, нищих и калек, спавших везде, где можно было хоть как-то укрыться. И все ужасно воняло смешанным запахом человеческих и животных испражнений, грязи, немытых тел и прогорклого пива.
День за днем она видела в больнице, чем кончалась жизнь в трущобах. Изголодавшиеся до болезни дети, истощенные беременностью женщины, омерзительные раны от пьяных драк, вши, туберкулез, рахит и всевозможные другие последствия скудного питания, перенаселенности и отсутствия элементарной гигиены.
И все же она вскоре убедилась, что какие бы лишения ни испытывали эти люди, они не пали духом. Они помогали друг другу, были щедры с тем малым, что имели, смеялись над превратностями судьбы и были яркими людьми, несмотря на то что жили в такой гнетущей обстановке.
Боль от потери Майкла была почти такой же острой, как тогда, когда она уехала из Гастингса, но Адель считала, что нечего жалеть себя, когда вокруг столько бедности и нужды. Было трудно не смеяться вместе с этими людьми, которые были неизменно оптимистичными и веселыми. Все знали, что Лондон будет основной целью Германии, когда она начнет бомбить, но паники не было и никто в отчаянии не бежал из города.
Когда ее угрожающе захлестывали мысли о Майкле, Адель обычно смотрела на старика, который стоял снаружи у главного входа больницы и продавал газеты. Его всего скрутило ревматизмом, и у него явно все болело, но он весело здоровался со всеми и стоял там в любую погоду, всегда с улыбкой на лице.
Она поклялась, что будет как он. Никто не любил нищеты, и она знала, что в жизни большинства людей есть проблемы. Поэтому она заставляла себя улыбаться, разговаривать с людьми, и само собой это вошло у нее в привычку. Если она плакала по ночам, то, кроме нее, об этом никто не знал.
Возможно, ей было бы не так плохо, если бы только она знала, как Майкл и бабушка прореагировали на письма, которые она им послала. Она представляла все самое ужасное, например, что Майкл намеренно не вышел из «бочки» или что бабушка утопилась в реке. Она каждую неделю посылала бабушке открыточку, всегда уходя на много миль от Уайтчепел до ящика, чтобы почтовый штемпель не мог выдать, где она находится. И все же, насколько она знала, эти открытки могли сбрасываться в кучу рядом с дверью в доме, и никто не увидит их и не прочтет.
Но на свое двадцатилетие в июле она получила открытку от бабушки. Она не поверила своим глазам, узнав знакомый почерк. Каким образом женщина, никогда не выезжавшая дальше Рая, могла узнать, где она находится?
«…Я села на автобус до Гастингса и поехала в Буханан и потребовала, чтобы старшая сестра сказала мне, где ты находишься, Я всегда чувствовала, что она в этом замешана, — написала Хонор в письме, приложенном к открытке. — Эта дама упирается больше всех! Но я в конце концов убедила ее, что не хочу знать причин отъезда, просто адрес. Разумеется, я не передам его Майклу в случае, если он объявится снова.
Бедный мальчик столько раз приходил в первые несколько недель, а еще он десятки раз летал над коттеджем и всегда махал крылом, чтобы я знала, что это он. Но я не думаю, что он зайдет еще. Возможно, он еще не пережил это и находится в таком же глубоком шоке, как и я, но у него есть огромное чувство собственного достоинства.
Сначала я посчитала тебя жестокой, но когда пришла весна и я начала вспоминать наши особенные моменты, я убедилась, что в твоей натуре нет жестокости. Может быть, однажды ты сможешь мне все рассказать. Но я не буду давить на тебя, у меня достаточно и своих тайн, которые я не хочу разглашать. В глубине души я знаю, что ты сделала это не из эгоизма и у тебя, должно быть, были веские причины.
Я очень рада, что ты не бросила учебу, потому что ты прирожденная медсестра. Пиши мне теперь, я хочу знать, что моя смелая и заботливая внучка если не счастлива, то хотя бы живет новой жизнью.
Что же касается меня, как на шестидесятилетнюю старуху, я живу хорошо. У меня сейчас есть пес, отвратительного вида животное, которого я назвала Великан. Кто-то его бросил, но он знал, к какой двери прибиться и выть. Он хороший мальчик, не пытается добраться до кур и кроликов, и он составил мне компанию. Я даже научила его кое-каким штучкам, но ты сама увидишь, когда вернешься домой.
Мы не можем уже обманывать себя мыслью, что войны удастся избежать. Я не буду просить тебя перевестись в более безопасное место, медсестра должна быть там, где она больше нужна. Просто не рискуй, девочка моя, и пиши чаще. Здесь всегда будет твой дом и безопасная гавань.
С любовью,
бабушка»
Адель восхитилась бодрым и понимающим тоном и плакала над письмом, потому что она очень скучала по бабушке и ей невыносимо было думать, через какие страдания она заставила ее пройти. И что еще более важно, письмо будто придало ей новых сил. Если шестидесятилетняя женщина, у которой на этом свете нет ни души, никого, к кому она могла бы пойти со своей болью, может не только пережить это, но и проявить свою неизменную любовь, тогда молодая и здоровая девушка должна быть в состоянии забыть то, что нужно забыть.
— Они только что нарисовали белый крест на кроваво-красной крыше, — сообщила позже утром Джоан, когда они с Адель готовили две пустые кровати для новых пациентов. — Не говори только старшей, а то она будет думать, что это место превращают в церковь, и поставит нас на колени молиться.
Адель рассмеялась. Джоан всегда шутила по поводу религиозного пыла старшей медсестры Уилкинс.
— Будем надеяться, что немецкие летчики не подумают, что это посадочная площадка, и не попытаются здесь приземлиться! — сказала она в ответ.
Но когда она произнесла эти слова, у нее в памяти всплыл Майкл. В канун прошлого Рождества, когда он пришел в общежитие в Гастингсе, на нем была летная куртка, подбитая овчиной. Он сказал, что все военные ребята их носят, они не только теплые, но еще и будут защищать лучше, если враг начнет их обстреливать. Ей тогда это мало сказало, но сейчас она думала иначе. Как только начнется война, он поднимется в небо и будет пытаться сбивать немецкие самолеты, но до него вполне могут добраться раньше.
Ее вдруг затошнило, и она побежала в туалет. Она как раз добежала вовремя.
— В чем дело? — спросила Джоан за ее спиной. — Ты только что побелела как стенка. Позвать сестру?
— Нет, не надо, — слабо сказала Адель. — Через минуту я буду в порядке. Просто возвращайся в палату и прикрой меня.
Она взяла себя в руки и вернулась к работе. Время от времени она чувствовала на себе пристальный взгляд Джоан, но с двадцатью четырьмя пациентами в палате у них не было возможности поговорить.
Однако в шесть часов, когда на дежурство заступила вечерняя смена и Адель с Джоан возвращались в общежитие, Джоан начала расспрашивать подругу.
— Что с тобой было сегодня? — спросила она.
— Ничего, — сказала Адель. — Думаю, я просто что-то съела, что плохо переварилось.
— Если бы я не знала тебя лучше, я бы решила, что ты в положении.
— Не говори ерунды, — сказала Адель.
— Я знаю, что что-то не так, — продолжала Джоан. — Ты часто ходишь тихая и вся в своих мыслях. Это из-за какого-то типа, правда?
Адель небрежно пожала плечами.
— Я не такая дура, — сказала Джоан. — Ты перевелась сюда с побережья. Никто этого не делает, если нет чертовски веской причины.
Адель слишком хорошо знала ее, чтобы понять, что она легко не сдастся.
— Ну хорошо, был один мужчина, и меня стошнило от разговоров о самолетах, потому что он военный летчик. Но пожалуйста, не задавай мне больше вопросов, я приехала сюда, чтобы забыть его.
— Справедливо, — сказала Джоан. — Но если ты когда-нибудь захочешь проболтаться, я буду готова вынуть затычки из ушей.
Когда сестры с дневной смены пошли в столовую на ужин, их встретила одна из ординарок с новостью, что утром Германия напала на Польшу. Это было в новостях в шесть часов, приемник был еще включен, и обсуждалось, какое это будет иметь значение для Англии.
Договор о взаимозащите между Англией и Польшей был составлен шесть месяцев назад, в марте, когда Германия напала на Чехословакию, а через месяц всех молодых людей от двадцати до двадцати двух призвали в действующую армию. Невилл Чемберлен сейчас попытается получить от Гитлера обязательство, чтобы тот вывел свои войска из Польши, но если этого не произойдет, Англия будет обязана объявить войну Германии.
В ту ночь Адель лежала и слушала, как другие медсестры кричат друг другу «спокойной ночи» через весь коридор. У нее была одна из немногих одноместных комнат. Она была крошечной, и в ней едва помещались узкая кровать, комод и письменный стол, одновременно служивший трюмо, но она была благодарна за то, что могла здесь уединиться.
В Гастингсе она всегда любила общежитский шум и сутолоку. Она никогда не возражала, что девушки врывались в ее комнату поболтать, что-нибудь одолжить или рассказать анекдот. Но здесь она обнаружила, что ей стало тяжело с этим справляться. Она жаждала уединения и полной тишины. Ее раздражала мелочность скандалов и раздоров между другими медсестрами. Иногда она даже обижалась на попытки подружиться с ней. Джоан была единственной девушкой, для которой у нее действительно находилось время.
И все же сегодня вечером шум не беспокоил ее. Ее успокаивали голоса медсестер так же, как она когда-то слышала, как бабушка по ночам ворошит огонь в печке или двигает стулом.
Может быть, она начала излечиваться от этого?
Чтобы проверить себя, она положила руку на кольцо, уютно лежавшее между ее грудей, и попыталась вспомнить лицо Майкла в тот день, когда он подарил ей его. Она так отчетливо его видела, его темные волосы блестели на солнце, и вокруг глаз образовались крошечные морщинки, когда он улыбнулся, и его синие глаза так пытливо смотрели на нее.
В этот раз никаких слез. Наверное, она уже все их выплакала. Но все еще оставалась грусть и тоска по тому, что у нее когда-то было. Ее все еще иногда колол стыд, что она легла в постель со своим братом. Но сейчас она смотрела на это более спокойно, в конце концов, они не знали, что были родственниками, и она правильно поступила, уехав, когда узнала.
И вдруг она поняла, что настало время поехать домой и снова увидеться с бабушкой. У нее было три дня отгулов, и завтра она спросит старшую сестру, когда сможет их взять.
— Гулять, Великан, — сказала Хонор, выключив приемник. Было воскресенье, третье сентября, и она только что слушала речь премьер-министра. Германия проигнорировала требование вывести войска из Польши, и вследствие этого была объявлена война.
Хонор не ожидала, что Германия отступит, когда у власти этот маньяк Адольф Гитлер. Но она надеялась на чудо и молилась.
Она проснулась рано утром и увидела чистое голубое небо и легкий туман, окутавший реку. Еще до того как одеться, она вышла во двор и взяла из клетки Дымку, крольчиху Адель, и села на скамью погладить ее, как делала это каждое утро.
По реке плыла флотилия лебедей, над головой летели дикие гуси, и ветки на бузине провисали от тяжести спелых ягод. Везде, куда она смотрела, было красиво, высокая вьющаяся трава за забором, кусты ярких фиолетовых и лиловых астр под вьющейся розовой розой, все еще цветущей с июня. Она подумала, что сегодня как раз хороший день для того, чтобы свершилось чудо, но когда началась передача, у нее оборвалось сердце. Она должна была знать, что чудес не существует.
Хонор отчетливо вспоминала день, когда началась Первая мировая. Было 4 августа, ей было тридцать пять, Роуз тринадцать, и они сидели в саду и чистили горох на обед, когда маленький мальчик примчался с улочки на велосипеде и прокричал им эту новость. Фрэнк немедленно сел на свой велосипед и уехал в Рай. Он сообщил оттуда, что все были возбуждены и все молодые мужчины немедленно хотели вступить в армию.
Фрэнк тоже был возбужден. Но Хонор вспомнила, как вначале разозлилась, что он ведет себя как мальчишка, а потом ее немного стошнило. Вероятно, это было дурное предзнаменование беды.
У нее сегодня снова возникло то же самое чувство. Поэтому она пойдет в гавань Рай с Великаном и по дороге будет собирать чернику.
— Идем, Великан, — позвала она и улыбнулась, когда он помчался к ней. Кто-то из его родителей был колли, судя по его черно-белой вьющейся шерсти, но она не могла представить, кем был другой, потому что у него была большая голова, обрубок вместо хвоста и очень длинные ноги. Он был ужасно худым, его шерсть сходила клочьями и была усеяна блохами, когда она четыре месяца назад обнаружила его у своей двери. В какой-то мере это было очень похоже на появление Адель, Хонор пришлось уговаривать его поесть, пичкать его лекарствами, и временами ей казалось, что он не выживет.
Но он выжил, и точно так же, как появление Адель круто перевернуло жизнь Хонор, то же сделало появление Великана.
Хонор была убита горем, когда Адель исчезла. Краткое письмо с объяснениями не сказало ей ничего, чему можно было верить. Она не понимала, почему Адель сначала не появилась дома и не доверилась ей. Каждый раз, когда в коттедж приходил Майкл в поисках Адель, Хонор после его визитов была еще более растеряна и расстроена, явно видя, как он страдает. Иногда он был в гневе, иногда просто плакал как ребенок, и она очень боялась, что он лишит себя жизни, потому что эта искорка любви к жизни в нем, которая всегда так привлекала к нему, сейчас угасла.
Потом он вдруг перестал приходить, и хотя Хонор говорила себе, что это хорошо, потому что это означало, что он смирился с ситуацией, а еще это означало, что ей было больше не с кем поделиться своим горем и волнениями. Она стала ко всему равнодушна. Она почти не ела, не убирала, не ухаживала за садом. Иногда она только кормила кур и кроликов и забиралась обратно в постель. Слабый голос внутри нее шептал, что она ступила на скользкую дорожку к слабоумию, но какое ей было дело, если никому больше не было дела до нее?
А потом однажды днем, ближе к вечеру, когда лил дождь, она услышала царапанье в дверь, и ее одолело любопытство. Она открыла дверь и увидела на пороге собаку — жалкое, паршивого вида существо, смотревшее на нее умоляющими глазами.
Может быть, она немного сошла с ума, потому что решила, что собака пришла к ней по какой-то особенной причине. Она предложила ей остатки жаркого из кролика, и когда оказалось, что собака не смогла его есть, покормила ее из рук, кусочек за кусочком, потом устроила ей постель в сарае, потому что она слишком кишела блохами, чтобы пустить ее в дом.
Собака была все еще там на следующее утро и попыталась вилять обрубком хвоста, увидев свою спасительницу. Она съела еще немного кролика, потом упала на землю, будто изнемогая от усталости, и у Хонор сжалось сердце от сострадания.
Она назвала пса Великаном, и ей потребовалось много времени, чтобы привести его в порядок. Иногда, когда она приносила ему еду, он просто смотрел на нее своими большими, печальными глазами, словно удивляясь, зачем она беспокоится, потому что хотел умереть. Но каждый день она приносила ему немного больше еды, избавляла от глистов и вшей, купала и расчесывала.
И когда она перевела Великана в дом, он начал в конце концов есть с энтузиазмом. И Хонор подумала, что они вылечили друг друга: она кормила его, а он обожал ее. Они нужны были друг другу.
Если бы она знала, что собака может быть такой хорошей компанией, она завела бы кого-нибудь еще много лет назад. Просыпаясь утром от прикосновения холодного носа к ее лицу, она улыбалась. Было приятно, когда он прыгал рядом с ней, пока она собирала хворост. А по вечерам, когда она слушала приемник, он лежал, положив голову ей на ноги, и вздыхал от удовольствия. Может быть, если бы Великан не подбодрил ее настолько, она никогда не нашла бы сил поехать в Гастингс выяснять, не знает ли старшая сестра в больнице, куда уехала Адель.
Несмотря на прекрасный день, на болотах не было никого. Хонор догадалась, что почти все в Англии сидели у приемников и весь остаток дня они будут обсуждать это с соседями, друзьями и семьей. Она плелась по галечному берегу к морю, играя с Великаном, бросая ему палки и думая про Адель.
Сейчас, когда объявили войну, она будет в самом сердце воздушных рейдов, потому что Хонор догадалась, что немцы будут бомбить лондонские доки. Она представляла свою внучку в опасности, и у нее было то же дурное предчувствие, как и тогда, когда Фрэнк ушел воевать. Она помнила, как стояла на пляже, смотрела на Францию и пыталась внушить, чтобы война закончилась, чтобы он мог вернуться домой. Сейчас она даже не могла дойти до моря из-за мотков колючей проволоки, которой намеревались остановить вторжение.
Майклу придется быть в самой гуще. Хонор часто думала, как у него дела и пережил ли он разрыв с Адель. Почему-то она в этом сомневалась. Возможно, его тянуло пьянствовать с другими молодыми летчиками, но он был чувствительным, искренним человеком, и его страдания после исчезновения Адель наверняка оставили глубокие шрамы в его душе.
— Но почему она вдруг решила, что я ей не гожусь? — часто плакал он, разговаривая с Хонор. — Это нелогично.
В какой-то степени это показалось логичным Хонор, когда Майкл в конце концов проговорился, что они провели выходные в Лондоне вместе незадолго до ее исчезновения. Хонор была совершенно уверена, что Адель оставила этот неприятный инцидент в «Пихтах» в прошлом, потому что она была вне себя от счастья с Майклом. Но может быть, в момент интима все это вернулось и позже Адель поняла, что не сможет выдержать ни помолвку, ни брак, если занятия любовью оживили такие ужасные воспоминания.
Хонор была вынуждена высказать это предположение Майклу, но его ответ заставил ее расплакаться.
— Я тоже подумал об этом, — сказал он. — Я не поверил бы, что причина в этом, потому что она была счастлива со мной в эти выходные, но это единственная вещь, которая могла бы быть объяснением всему. Но я продолжал бы любить ее все равно, даже если бы она не легла со мной в постель до конца жизни.
Хонор знала, что как бы это ни было далеко от реальности, Майкл верил в то, что говорил. Он по-настоящему любил Адель и прошелся бы ради нее по горячим углям. И Хонор сомневалась, что он когда-либо сможет чувствовать подобное по отношению к другой женщине.
Было около трех часов дня, когда Хонор направилась обратно в коттедж. Она намеренно гуляла долго, пока не начала падать от усталости, потому что у нее в голове было слишком много всего, и она хотела пойти домой и проспать много часов.
Великан, похоже, понял, как она обеспокоена, потому что не бегал, гоняясь за птицами, как всегда, а оставался рядом с нею и время от времени глядел на нее скорбными глазами.
Именно он лаем предупредил ее, что кто-то идет к ним. Этот кто-то был слишком далеко, чтобы Хонор разглядела, кто это, но он, похоже, махал ей рукой.
Она остановилась как вкопанная, прикрыв рукой глаза от солнца, чтобы лучше рассмотреть. Этот кто-то бежал к ней, и вдруг она поняла, что это, должно быть, Адель.
Ее сердце забилось от радости. Она попыталась бежать, но смогла только ковылять.
— Бабушка! — услышала она через хруст гальки под ногами; она никогда не слышала звука слаще.
Она остановилась и смотрела, как Адель прошла до нее последние сотни две ярдов. Адель двигалась, как молодая серна, прыгая через препятствия, и волосы развевались за ней на ветру.
Хонор невольно открыла руки, и у нее по лицу побежали слезы радости. Все-таки она была права, день был подходящим для чудес.
Глава двадцатая
1940
— Отлично, сестра Талбот, — сказала старшая сестра, вручая ей диплом медсестры, значок и синий пояс, свидетельства ее квалификации. — И пожалуйста, никаких идей по поводу замужества, Англии сейчас нужны медсестры как никогда.
Адель улыбнулась. Возможно, другие медсестры безрассудно влюблялись из-за того, что была война, но не она. И пусть она научилась жить без Майкла, но ни один мужчина, которого она встречала, даже близко не мог заставить ее забыть о нем.
Старшая сестра двинулась к Джоан Марлин, чтобы дать ей значок, пояс и точно так же предупредить насчет замужества. Позже все восемь сестер, которые прошли выпускные экзамены, получат новые платья в бело-голубую полоску и накрахмаленную шапочку более сложной формы. Им увеличат зарплату, и они переедут на второй этаж общежития для медсестер в чуть бОльшие комнаты, но лучше всего было то, что они уже не были практикантками. Они получили квалификацию.
Адель широко улыбнулась Джоан. Сегодня они пойдут праздновать, выпьют пару стаканчиков, а потом будут танцевать. Это был долгий путь, но они справились. Теперь Адель поняла, как чувствовал себя Майкл, когда получил первые знаки отличия.
Было 12 мая. Через два месяца Адель исполнится двадцать один год. Война пока что не сильно затронула гражданскую жизнь. Они называли ее Ложной Войной. В январе начали выдавать по карточкам сахар, масло и ветчину, некоторые продукты редко появлялись в магазинах, а вдоль пляжей на многие мили протянули колючую проволоку и заминировали сами пляжи на случай вторжения. Основной причиной для недовольства было неудобство, причиняемое затемнением. Всех раздражало, что нельзя ходить свободно после наступления темноты, и все обижались на патрули, которые дежурили на улицах, высматривая щелочки света за шторами. Это был абсурд, потому что половина людей, доставлявшихся в травматологию по ночам, просто неудачно падали или натыкались на фонарные столбы в темноте. И лондонские больницы были не так заняты, поскольку в них лечили только в экстренных случаях, — людей, чьи операции планировались заранее, вывозили в больницы за городом.
Мужчины и женщины в форме, которые были везде, были таким ж напоминанием серьезности войны, как и списки погибших в газетах, но для большинства обычных людей это была все еще далекая реальность, которая пока что не коснулась их жизни.
В апреле немцы вторглись в Данию и Норвегию, потом через два месяца их армия вошла в Голландию, Бельгию и Люксембург. В тот же день Уинстон Черчилль стал главой коалиционного правительства вместо Невилла Чемберлена, который подал в отставку за несколько дней до того.
И все же, как бы мирно ни было сейчас дома, взволнованные речи Черчилля по радиоприемнику не оставляли ни у кого сомнений, что на британских островах очень скоро всех призовут на реальную войну — в воздухе, на море и на земле. В атмосфере было какое-то волнение и даже напряжение. Большинство людей придерживались той точки зрения, что чем скорее этот момент наступит, тем скорее все окончится.
— Вот так! Это я называю справедливым, — заявила с ликованием Джоан, когда они с Адель окончили дежурство и получили новую комнату на втором этаже. Адель уже давно выехала из своей комнаты и переехала в комнату на двоих с Джоан. Эта новая комната была в задней части общежития, и поскольку она выходила во двор и весь вид состоял из мрачных крыш домов и нескольких низкорослых деревьев, здесь было намного тише. Кроме того, она была гораздо больше, здесь был собственный умывальник и даже место для двух мягких кресел.
— Кровати такие же жесткие, — сказала Адель, попрыгав на кровати, проверяя ее. — Но это просто супер, что у нас, наконец, есть место для себя. А тебе придется быть поаккуратнее. Мне до смерти надоело за тобой подбирать.
Две подруги переехали в одну комнату вскоре после объявления войны и сразу после первой поездки Адель домой к бабушке. Возвращение домой словно очистило ее. Хотя ее бомбардировали горькие воспоминания о Майкле, погрузившись в домашнюю рутину — собирая хворост, кормя кур и кроликов, готовя и убирая, — она смогла взять себя в руки. Она поняла, что была сильной как физически, так и морально, у нее появилось больше решительности, и она была почти уверена в том, что именно благодаря испытаниям, через которые прошла в детстве, она стала хорошей медсестрой. Первое, что она сделала, вернувшись в Уайтчепел, — это отказалась от своей одноместной комнаты, и в компании такой шумной и заводной подруги по комнате, как Джоан, Адель скоро обнаружила, что у нее остается не много времени, чтобы размышлять о прошлом.
— По-моему, ты думаешь, что ты идеальная, — возразила Джоан. — Как насчет всех тех раз, когда ты будила меня своими чертовыми кошмарами?
Адель вспыхнула. Когда она бодрствовала, все было отлично, но она не могла помешать Майклу врываться в ее сны. Она сказала Джоан, что не помнит, о чем были ее кошмары, но по сути, сон всегда был один и тот же, и он был таким явным, что она не могла забыть его.
В этом сне она шла по болотам и подняла голову, чтобы посмотреть на летевший над ней самолет. Она знала, что это Майкл, потому что самолет махнул крылом точно так, как описала бабушка. Он все кружил над ее головой, круг за кругом, словно это был цирковой трюк, а она смеялась и махала ему руками. Потом вдруг раздался звук выстрела, и самолет вошел в спираль. Вспыхнуло пламя, и она услышала перекрикивавший шум его голос: это были крики о помощи.
Ей часто снились кошмары с тех пор, как она сбежала из Гастингса, но этот начался через несколько дней после объявления войны, Она подумала, что причина, вероятно, в том, что она прочитала в газетах о гибели молодого стажера в Биггинг-хилле, когда он в первый раз поднимался в воздух на своем «спитфайре». С тех пор она много раз слышала о гибели пилотов — как под вражеским обстрелом над территорией Франции, так и по причине несчастных случаев вовремя тренировочных полетов. Она раньше в отчаянии и страхе проглядывала газеты каждое утро. Но сейчас она заставила себя прекратить это, потому что знала, что такие навязчивые мысли только вредят здоровью.
— Я думаю, мне снятся кошмары, потому что приходится делить комнату с тобой, — отрезала она подруге в ответ.
Джоан рассмеялась, и Адель в который раз подумала, как ей повезло, что у нее такая подруга. Джоан вся сияла и освещала ре самый мрачный день. Ее симпатичное веснушчатое лицо, грива непокорных рыжих волос и танцующие зеленые глаза, а также ее умение смеяться над самой собой привлекали к ней и остальных медсестер и пациенток. Но больше всего Адель ценила в ней ее цельность и простоту. Если она решала, что кто-то ее друг, то она принимала этого человека целиком, со всеми недостатками. Сколько раз она забиралась к Адель в постель, когда той снились кошмары, и просто крепко обнимала ее — она не вмешивалась, не анализировала, не поучала.
Адель очень хорошо знала, что, если она расскажет Джоан о Майкле, та не разболтает ни одной живой душе. Но она не рассказала ей, это была единственная из ее тайн, которую она хотела унести с собой в могилу.
— Так что мы сегодня вечером наденем? — спросила Джоан, как всегда, переключаясь на тему, которую она считала по-настоящему важной. — Как ты думаешь, со мной ничего не случится, если я снова буду в этом изумрудно-зеленом? Или все будут думать, что у меня только одно платье?
— Ну, мне свое полосатое придется надеть в сотый раз, поскольку это моя единственная более-менее приличная вещь, — сказала Адель. — Так что вполне можешь надевать свое изумрудное.
У них не было денег на новую одежду. Джоан отдавала часть своей зарплаты матери, а Адель посылала деньги бабушке.
— Давай попробуем заманить парочку стоящих парней вечером, — предложила Джоан. — Если нас будут водить в кино каждую неделю, вместо того чтобы мы сами платили за билеты, возможно, мы сможем отложить денег на покупку летнего платья на базаре.
Адель откинулась назад, ложась на свою новую кровать, и рассмеялась.
— Ну и что смешного? — спросила Джоан.
— Ты, Джоан, смешная, — сказала Адель сквозь смех. Она отлично знала, что Джоан изо всех сил пыталась найти ей бойфренда, потому что за последние несколько месяцев она много раз то уговорами, то хитростью пыталась заинтересовать Адель. Но такой способ превзошел все остальные. — Ты действительно считаешь, что я достаточно хладнокровная, чтобы заставлять мужчину каждую неделю водить меня в кино, только чтобы сэкономить пару шиллингов?
— О, черт возьми, ты действительно не такая, — сказала обидчиво Джоан. — Ты, вероятно, сама за него заплатишь, а потом купишь ему рыбы с жареной картошкой, потому что наверняка будешь считать неполноценным каждого парня, кто захочет пойти с тобой на свидание.
— Ах, вот ты какой меня считаешь? — недоверчиво спросила Адель.
— Я не просто считаю, я это знаю, — сказала Джоан. — Я за тобой наблюдаю, ты не думай. Парень с тобой заговаривает, а ты с ним не флиртуешь и вообще, задаешь ему вопросы и расспрашиваешь о его жизни и проблемах. Держу пари, что если бы он сказал, что у него на боку фурункул, ты бы предложила его вскрыть. Адель, так ты мужика не заполучишь. Ты чертовски вежлива.
Адель не знала, что сказать в ответ. Это было правдой, что она не флиртовала, потому что, прежде всего, она не знала, как это делается, и в любом случае это казалось ей бессмысленным делом, если только, конечно, кто-нибудь не понравился по-настоящему. Ей нравились многие мужчины, которых она видела с Джоан, но это было не то. Так зачем же притворяться?
— Это что, вредит твоей репутации, если я не флиртую с кем-нибудь, пока ты ходишь на свидания? — спросила она.
— Конечно нет, — горячилась Джоан. — Я горжусь тем, что ты моя подруга, у тебя есть шарм, с чем у меня самой негусто. Я просто беспокоюсь о тебе, вот и все. Ты могла бы выбрать любого парня, но, я догадываюсь, ты все еще помешана на том летчике.
— Может быть, — сказала Адель, которая сама была не в состоянии дать вразумительный ответ, «да» или «нет». — А может быть, я просто жду того единственного.
Джоан скорчила рожу.
— Ну почему бы нам пока что между делом не поиграть с парочкой неединственных?
Адель встала с кровати и подошла к куче одежды, которую они свалили на стул.
— Мистер неединственный обойдется платьем в полоску, — сказала она с усмешкой. — А ты так мила в своем изумрудно-зеленом, что на других девушек никто и смотреть не захочет.
Словно с большого расстояния, Майкл услышал голос Стена Бреннера, говорившего ему, что пора подниматься и что он принес ему чашку чая. Он заставил себя открыть глаза и увидел терпеливо стоявшего возле его постели своего ординарца. Майкл не мог поверить, что было уже четыре часа, ему казалось, что он только закрыл глаза.
— Ну хорошо, — сказал он. Он был не в состоянии ничего добавить, у него сильно обложило язык, и во рту стоял вкус виски от предыдущей ночи.
Он откинул одеяло и выбрался из кровати, протирая глаза, потом с благодарностью выпил горячий сладкий чай. Бреннер ушел, удовлетворенный, что тот наконец окончательно проснулся.
За десять минут Майкл помылся, побрился и собрался в столовую на завтрак. Он не хотел завтракать, в желудке, как обычно, крутило, но он знал по опыту, что его страх пройдет, как только оно кажется в кабине, и потом, вероятно, у него нескоро появится возможность что-нибудь съесть.
Остальные ребята из эскадрильи были уже в столовой, воздух был густым от сигаретного дыма, но они поприветствовали его только кивками. В такой ранний час никто не разговаривал. Майкл понимал, что, как и он, здесь каждый пытается взять себя в руки, зная, что сегодня будет еще один день, и старается не думать, сколько из них не вернется до вечера.
Было 28 мая, и сегодня, вероятно, повторится вчерашний день, они будут летать над Францией, пытаясь перехватить немецких бомбардировщиков, намеревающихся разбить английские и французские войска, отступающие к Дюнкерку.
Вчера Майкл сбил Me-109, но это был самый ужасный, один бог знает какой кошмарный день. Достаточно неприятное зрелище являли собой беспорядочные ряды солдат, пытавшихся дойти до пляжей Дюнкерка, откуда их должны были доставить домой, но внутри страны он видел огромные толпы людей, убегавших от немцев: женщины с младенцами на руках, малыши, хватающиеся за материнские юбки, мужчины, толкающие впереди себя тележки с пожитками. Им приходилось пробираться через изуродованные тела, сгоревшие машины, повозки и трупы животных, и Майкл был готов убить немецких пилотов, которые открывали огонь по невинным мирным жителям.
У «спитфайра» хватало топлива максимум на полтора часа. Двадцать минут до Франции, двадцать минут назад, и теоретически оставалось пятьдесят минут на то, чтобы атаковать немецкие самолеты. Но единственный способ разбить этих подонков был, если лететь на максимальной скорости более 300 миль в час, подобраться близко, расстрелять все боеприпасы, а затем стремглав умчаться, как летучая мышь из ада. Но на максимальной скорости двигатель Merlin буквально жрал топливо, и Майкл должен был учитывать, что должен оставить его достаточно для возвращения домой.
Четвертый вылет за день вчера был самым худшим. Небо было ясным, а в следующую минуту враги налетели отовсюду, было похоже, будто он влетел в рой ос Майкл погнался за одним самолетом, который был вдалеке от основной кучи, облетая его с разных сторон, чтобы сбить. Но вдруг его окружили — сверху, снизу и с обеих сторон. Он забыл надеть свой шелковый платок, и шею растерло в кровь, пока он пытался крутить головой, держась настороже. Он выстрелил в 109-й, который находился справа от него, и в другой, который был снизу, и быстро нырнул, чтобы ускользнуть от них. Он почувствовал резкую встряску, когда в него попали, и на несколько секунд подумал, что ему конец. Но было задето только левое крыло, и он умудрился взять себя в руки, ушел, сделав «бочку», и помчался назад в Англию. Он чудом умудрился дотянуть, планируя несколько последних миль, чтобы сэкономить топливо, а солнце так жарило кабину, что пот заливал глаза и он почти ничего не видел перед собой. Он был на волосок от смерти.
После чая и ломтика тоста Майкл присоединился к остальным. Их отвезли на летное поле, и у каждого в руках был парашют. Холодный, серый рассвет на летном поле. Тишина, но поле не было пустым — механики стояли наготове. Многие из них всю ночь провели за починкой и пригонкой самолетов.
Майкл много раз видел одну и ту же сцену, но она никогда не переставала волновать его. Ряд крепких маленьких «спитфайров» в утренней дымке был похож на свору собак, готовых к охоте. Сейчас стояла убийственная тишина, но через минуту, когда оживут и взвоют мощные двигатели и воздух пропитается запахом бензина и машинного масла, летное поле совершенно преобразится.
Самолет Майкла починили, и он вспрыгнул на крыло, положил парашют, скользнул в кабину и завел двигатель. Как только он садился на свое место, страх обычно проходил, и сегодняшний день не был исключением. Он проверил приборную доску и индикаторы радио, топлива и охлаждающей жидкости и поднял большой палец вверх, обозначив механикам, что все отлично. Затем, выключив двигатель, он выбрался из самолета и поплелся к палатке на запасном аэродроме ждать с остальными ребятами приказа подниматься в воздух.
Это время Майкл не любил больше всего. Ему не терпелось взлететь, и он не хотел болтаться вокруг, имея время думать. Некоторые читали, другие играли в шахматы, некоторые лежали на раскладушках и спали, а другие молча курили, передавая одну сигарету по цепочке.
Но Майкл неизменно думал об Адель. С тех пор как она его отвергла, он испытал все возможные эмоции. Недоверие, гнев, жалость, ненависть и глубокую, глубокую тоску. Он ломая себе голову, пытаясь понять, что он сделал не так, и время от времени говорил себе, что хорошо, что отделался от нее. Он пытался убедить себя, что она изменяла ему, даже пытался уговорить себя, что она сошла с ума. Но с какой бы стороны он ни смотрел на это, он всегда возвращался к одному и тому же. Наверняка в те выходные к ней вернулись приютские кошмары. Все остальное казалось нелогичным.
И все же, если дело было в этом, Майкл чувствовал, что ей сейчас нужно, чтобы ее любили, более чем когда-либо. И его чувство одиночества было, вероятно, ничтожным по сравнению с тем, что происходило у нее в голове.
Он больше не возвращался в Винчелси, это было для него невыносимо. Если мать хотела видеть его, она приезжала в Лондон, и он встречался с ней там. Отца он сначала отказывался видеть, считая его по меньшей мере частично виноватым, поскольку он не одобрял Адель. Но когда он однажды объявился в Биггинг-Хилле вскоре после объявления войны, Майкл не мог отказать ему во встрече, потому что его товарищи увидели бы, что они как чужие.
К его удивлению, отец извинялся за свою жесткость в отношении Адель. И хотя он говорил все то, чего Майкл ожидал, что, вероятно, их разрыв был к лучшему, он все же признал за Адель некоторые качества, достойные восхищения. Он также проявил необычную чувствительность. Он прямо-таки обнял Майкла и сказал, что первая любовь всегда приносит боль и что он сочувствует ему.
— Не хочешь поиграть в карты, Майкл?
Вопрос Джона Чэпмена резко вывел Майкла из его грез. Джон был самым близким его другом в эскадроне, и хотя они принадлежали к разным социальным слоям, они быстро стали закадычными друзьями, когда он прибыл в Биггинг-Хилл около семи месяцев назад.
Джону не был еще двадцати, и он выглядел еще моложе со своим круглым лицом, светлыми волосами и невинными большими глазами. Он воспитывался на ферме в Шропшире, ходил в местную среднюю классическую школу и работал в гараже, где и ощутил впервые вкус к самолетам. Он рассказал Майклу, что его попросили поехать на летное поле в десяти минутах от места, где он работал, чтобы доставить некоторые детали, и пока он там был, ему предложили прокатиться на биплане. Пилот прокатил его так, что у него волосы встали дыбом, но, как бы Джон ни был перепуган, он понял, что самолеты — его призвание, и поэтому подал заявление на вступление в ВВС, готовый стать членом наземной команды, если не пройдет как пилот. Но, похоже, экзаменационной комиссии понравилось то, что они увидели, и ему позволили пройти ускоренные курсы подготовки.
Майкл согласился поиграть в карты, зная, что это отвлечет его от мыслей об Адель и ожидания приказа подниматься в воздух. Джон раздал карты, но прежде чем заглянуть в свои, он сурово посмотрел на Майкла.
— Если со мной сегодня что-то случится, ты сообщишь моим старикам? — спросил он.
— Конечно, — ответил Майкл. — А ты моим?
Джон кивнул, и они начали играть, будто поговорили о чем-то совершенно несерьезном вроде того, куда потом пойдут пить пиво.
Приказ подниматься в воздух был отдан в семь тридцать.
— Чтобы оно провалилось, — хмыкнул Джон, поспешно надевая спасательный жилет с парашютом. — Я так надеялся, что мы в восемь нормально позавтракаем.
Майкл завязал шелковый платок, подбегая к самолету, прикрепил парашют на место у сиденья и завел мотор. Страх и тревога оставили его, потому что он знал, что пилот, который не напряжен и летит, доверяясь инстинкту, имеет больше шансов выжить, чем тот, кто слишком много думает о том, что с ним сейчас случится. У него в голове была лишь одна мысль, когда его самолет заковылял, как старый гусь, по направлению к взлетной полосе: сбить хотя бы один самолет и благополучно вернуться домой.
Когда эскадрилья, летящая впритык, приблизилась к Ла-Маншу, Майкл поднял вверх большой палец Джону, летящему справа от него. Была отличная летная погода, легкий ветер и лишь несколько пушистых белых облаков, и видимость была такая хорошая, что он увидел группку детей внизу, которые подняли головы, прикрыв ладонями глаза от солнца, чтобы рассмотреть летящие над ними самолеты.
Через считанные секунды они пролетели над утесами, и вот уже под ними было только море. Оно выглядело таким чистым, голубым и манящим, залитым солнечным светом, и заставило его вспомнить о счастливых моментах, когда он купался в море с Адель. Но Ла-Манш был для пилотов таким же врагом, как и немцы. Если бы пришлось над ним катапультироваться, шансы на выживание были бы невелики. Ему было интересно, вытащили ли вовремя пилота, которому пришлось вчера спрыгнуть с парашютом с «урагана».
По радио передали предупреждение, что по меньшей мере дюжина Me-109 направляется к Дюнкерку, и почти сразу после этого сообщения Майкл заметил их вдали. Еще он заметил столбы черного дыма, подымавшиеся с побережья Франции, и приготовился к тому, что, подлетев ближе, увидит разрушенный бомбами берег.
Небо вдруг стало темным от вражеских самолетов, летевших на него, и их серебристые кресты зловеще поблескивали на солнце. Он поднялся вверх, уходя от них, и увидел, что то же сделал Джон справа от него. Но поднимаясь вверх через слой облаков, он столкнулся еще с двумя самолетами, которые раньше не были в его поле зрения. Он пролетел точно между ними, открыв огонь, и ему показалось, что он попал в левый, поэтому сделал «бочку», чтобы догнать его и добить.
Он потерял из виду Джона и предположил, что тот снова нырнул, Но когда он вышел из «бочки», снова готовый напасть, то краем глаза увидел вспыхнувший огонь. У него не было времени проверить, в чем дело, он догонял бомбардировщик, в который попал, и должен был сконцентрироваться на том, чтобы найти хорошую позицию для нового выстрела. Его добыча пыталась ускользнуть, но предыдущее попадание затормозило его. Майкл подошел так близко, что отчетливо видел немецкого пилота, и, выстрелив, попал в нос самолета и увидел, как взорвалась охлаждающая жидкость над стеклом кабины. Набирая скорость, чтобы уйти, он удовлетворенно увидел падавший как камень самолет, оставлявший за собой след из черного дыма.
Небо вдруг стало пустым, и, посмотрев на свой счетчик топлива, Майкл вдруг понял, что залетел дальше, чем намеревался, и отбился от эскадрильи. Он резко развернулся по направлению домой и тут увидел перевернувшийся «спитфайр» Джона. Его хвост был в огне — очевидно, именно эту вспышку он увидел раньше — и хотя Джон находился в правильном положении, из которого можно было катапультироваться, было похоже, что он не может открыть кабину.
У Майкла по лицу заструился пот, и его бросило в дрожь. Он уже потерял четырех хороших друзей в эскадрилье и слышал, что полегла еще дюжина, которых он знал. Но хотя он испытывал боль за каждого из них и сочувствовал их семьям, это был первый раз, когда он фактически был свидетелем фатального исхода.
— Открой кабину! — заорал он инстинктивно. Но в тот момент, когда у него вырвались эти слова, он осознал их бесполезность, потому что единственным человеком, который мог их слышать, был оператор радио.
Майкл плакал всю дорогу домой. Джон был таким невинным — только пару дней назад он признался, что никогда не спал с девушкой. Мама передавала ему домашний пирог чуть ли не каждую неделю, а отец посылал еженедельные отчеты об играх местных футбольных команд. Они так гордились, что их единственного сына приняли в пилоты.
Это было чертовски несправедливо. Джон был первоклассным пилотом и хорошим парнем во всех отношениях, и все любили его. Он столько раз выводил Майкла из хандры своими шутками и добродушным характером. Он был таким открытым. Почему он?
* * *
Хонор стояла в саду, прикрыв глаза от солнца, и наблюдала за сражением самолетов в небе. Она была рада, что сегодня это происходило над Данджнессом, потому что в случае, если бы один из них упал, внизу не было бы домов.
Она уже потеряла счет числу таких воздушных сражений, свидетельницей которых была за последние полтора месяца с момента эвакуации Дюнкерка. Уинстон Черчилль окрестил эту войну в воздухе «Битвой за Англию», и Хонор казалось невероятным, что средний возраст пилотов, которые сражались с таким умением, отвагой и суровой решительностью, был двадцать лет.
Даже когда она не видела самолетов над головой, она знала, что где-нибудь идет сражение, потому что гул вылетавших «спитфайров» и «ураганов» будил ее почти каждое утро. Она обычно выглядывала из окна и наблюдала, как они отважно вылетают слаженной группой, беря курс на Францию, возвращаясь через два-три часа. Сначала Хонор пыталась вести счет, проверяя, все ли вернулись, но прекратила, так как впадала в большее уныние, когда недосчитывалась самолетов.
Дважды она видела, как упали самолеты; пилот одного в целости спустился на парашюте, но другой сгорел живьем. Но она, можно сказать, не видела ничего, потому что на юге Англии погибшим пилотам не было числа. Бомбардировщики залетали незаметно, сбрасывая свой смертельный груз на летные поля, убивая наземные команды и гражданское население. Что же касается бомбардировщиков, которые не долетали до намеченной цели, они беспощадно сбрасывали свой груз в любом месте, не беспокоясь, куда он попадет: в больницы, школы, деревни или города.
Полтора месяца назад Хонор набралась решимости посмотреть, как обычные люди садились на сотни маленьких лодок, чтобы спасти солдат, застрявших в Дюнкерке. Она верила, что никому не удастся покорить Англию, если ее подданные так отважны и решительны. Но сейчас, видя этих молодых военных летчиков в действии день за днем и читая списки погибших, которые с каждым днем становились все больше, она очень боялась, что у Англии не хватит людей или оружия, чтобы выиграть войну.
Она ложилась спать, исполненная беспокойства, и просыпалась с тем же чувством. Сначала она молилась только о безопасности Адель и Майкла, но потом почувствовала, что неправильно переживать только за тех, кого любишь. Каждый солдат, каждый моряк, каждый пилот был чьим-то внуком, сыном, мужем, любимым или братом. Она переживала за каждого.
— От того, что будешь смотреть на небо, сорняки сами не вылезут, — весело крикнул почтальон Джим, опуская велосипед на землю на дороге, чтобы занести ей почту.
— Конечно, не вылезут, — с улыбкой сожаления сказала Хонор, обрадованная, что ее отвлекли от мрачных мыслей. Джим ей нравился. Ему было шестьдесят семь лет, и у него была копна седых волос и самые кривые ноги, которые она когда-либо видела. Он сражался в Первой мировой войне, и хотя его здоровье оставляло желать лучшего, он заступил на место почтальона вместо сына, которого призвали в армию. Он сказал, что от этого чувствует себя нужным и физическая нагрузка полезна для него. — Но сорняки могут подождать еще, если выпьешь чашечку чая.
— Я надеялся, что ты предложишь, у меня пересохло в горле, — признался он. — И сегодня твой день. Красный день календаря. Сдается, это письмо от твоей внучки. На нем лондонский штемпель.
Джим уселся на скамью у двери, пока Хонор зашла в дом сделать чаю. Ожидая, пока закипит чайник, она быстро пробежала письмо глазами.
«Дорогая бабушка!
У меня мало новостей, здесь пока что достаточно тихо, только безотлагательные случаи, потому что остальных высылают из Лондона. Все палаты на верхнем этаже закрыты, а в цокольном этаже оборудовали новые из соображений безопасности на случай воздушного налета. Я приспособилась вязать в ночную смену, потому что работы мало, и почти закончила спинку кофты. Ужасно, что Париж взяли немцы, правда? Я иногда думаю: а смогут ли наши мужчины действительно их остановить?
Как бы мне хотелось поехать домой в отпуск. В Лондоне ужасно летом, и еда здесь кошмарная. Я предполагаю, что с едой станет намного хуже еще до того, как кончится война, потому что сейчас категорически не хватает почти всего.
Я не раз ходила на танцы с Джоан и несколькими другими медсестрами в последнее время. Забавно, как люди настроены веселиться еще больше, чем они это делали в мирное время. Можно подумать, что все они напуганы и подавлены. Но в Вест-Энде по-настоящему весело по вечерам, несмотря на затемнение, хот «Эрос» заколотили досками. Мы однажды остались там допоздна, и на улице тьма, хоть глаз выколи. Но от этого люди еще больше разговаривают друг с другом и помогают друг другу. А как мне надоело таскать противогазовую маску за собой!
В Лондон сейчас вернулось еще больше детей, я считаю, что со стороны матерей было безрассудством вернуть их, как бы они ни скучали по ним. В прошлую ночь я первый раз в жизни помогала при родах с кесаревым сечением, у матери были схватки дома два дня, пока в конце концов соседи не вызвали «скорую». Это было невероятным зрелищем, и после этого меня еще больше заинтересовало акушерство. С ребенком, маленьким мальчиком, было все отлично, но матери все еще неважно. Ее муж в армии, и ей нужно заботиться еще о троих детях. Некоторым женщинам приходится очень тяжело, правда?
Боюсь, у меня нет других новостей. Так мало пациентов, нам просто скучно. Как Великан? Я так рада, что он теперь у тебя есть, если на тебя с неба упадет немец, я уверена, что он разорвет его на куски, защищая тебя!
Позаботься о себе и не перенапрягайся, выращивая овощи. Просто подлизывайся к кроликам, чтобы у них было больше малышей. Обними за меня Дымку и погладь Великана. Береги себя.
Люблю,
Адель».
Хонор улыбнулась и засунула письмо в карман передника, чтобы позже перечитать его. Она очень беспокоилась за Адель, но каждый раз, когда приходило письмо, ей на время становилось легче.
В полдень, как раз когда Хонор пропалывала огород, в Лондоне Роуз привстала с кровати, чтобы дотянуться до сигареты.
— Черт, — пробормотала она, обнаружив, что пачка пуста, и повалилась обратно на подушки.
Прошел год и пять месяцев с тех пор, как она получила тысячу фунтов от Майлса Бэйли, и в тот момент она думала, что устроила свою жизнь. Но потом разразилась война, и ее планы расстроились.
Какое-то время все было так хорошо, ей даже не хотелось много пить. Последовав совету одного бизнесмена, часто обедавшего в ресторане, где Роуз работала, она купила очень дешевый дом с восемью комнатами в Хаммерсмите. Он сказал, что она сможет иметь больше денег, если будет сдавать комнаты. Это показалось ей хорошим советом, и хотя она с большим трудом нашла водопроводчика, чтобы сделать еще одну кухню и ванную для жильцов, она в конце концов сделала их и обставила.
Роуз обходила магазины подержанных вещей и торговалась за стоимость предметов, которые хотела купить, и как только собрала все, она впервые в своей жизни почувствовала, что куда-то продвинулась.
Было блаженством иметь свой собственный дом, ванную, которая принадлежала только ей, и достаточно денег, чтобы тратить и на одежду, духи и походы в парикмахерскую. Первые жильцы же были идеальными. Две семейные пары в двух больших комнатах и два пожилых бизнесмена в двух меньших. Все они аккуратно платили аренду каждую неделю, женщины убирали их комнаты, кухню и ванную. Бизнесмены уезжали домой к женам на выходные и даже не пользовались кухней.
В доме была совершенная гармония и покой — самым большим шумом, который Роуз слышала, был смех и болтовня двух сшей, которые успели подружиться. Роуз наивно полагала, что все они останутся здесь навсегда — у двоих пожилых мужчин уже прошел возраст для призыва, один из молодых людей был пожарным, а второй был занят где-то на гражданской службе, что освобождало его от армии. Но Роуз не учла, что начало войны затронет и гражданское население.
Мужчину из гражданской службы перевели куда-то из Лондона, и его жена, разумеется, поехала за ним. Пара, которую она взяла вместо них, поссорилась с пожарным и его женой, и они воспользовались этим как предлогом вернуться домой к ее матери. Потом оба бизнесмена съехали один за другим, потому что поняли, что лучше будет ежедневно ездить в Лондон и быть по ночам с женами и детьми, если начнут бомбить.
Роуз вскоре обнаружила, что не может себе позволить перебирать с жильцами, потому что из города выезжало столько людей, что свободных сдающихся квартир и комнат оставались сотни. Ей пришлось сдавать комнаты каждому, кто в этом нуждался, и за этим быстро последовали неприятности. У нее останавливались беженцы-евреи из Голландии и Германии, которые не говорили по-английски. Грубые, шумные мужчины, которые съезжали, не заплатив аренды. Женщины с детьми, которые расстраивали других жильцов. Был один мужчина, который часто бил вещи, когда напивался, женщина, которая оказалась проституткой, и масса залетных типов по ночам, у которых были неприятности с полицией.
Все еще лежа на подушках, Роуз оглядела свою спальню критическим взглядом. Она была в восторге, когда декоратор наклеил розовые с белым обои — после того, к чему она привыкла, это показалось ей спальней кинозвезды.
Из большого окна открывался вид на зеленые сады за домом, и раннее утреннее солнце бросало на кровать, шкаф и трюмо из орехового дерева янтарные и золотые блики. Мебель была похожа на горячо любимые фамильные ценности, как и розовый с серо-зеленым ковер с бахромой, но все эти вещи уже были в употреблении. Роуз до недавнего времени ухаживала за своей спальней, как за королевскими покоями, разглаживая розовое стеганое покрывало из сатина, и даже поставила цветы в вазу на трюмо. Иногда она просто сидела за ним, наслаждаясь собственным отражением; но вот уже некоторое время она прекратила это делать.
Сейчас вещи валялись на полу, простыни тоже были не первой свежести, а на лакированной мебели лежал слой пыли.
Роуз вовсе не была без средств. У нее было припрятано несколько сотен фунтов на счету в банке, и арендная плата, которую она получала, покрывала ее расходы на жизнь. Но она полностью потеряла присутствие духа. Она полагала, что может предусмотреть любую гадость, которую в состоянии подкинуть ей квартиранты. Она считала, что немедленно может распознать сомнительных типов, и была уверена, что у нее достаточно характера, чтобы иметь дело с любым, но она ошибалась.
Ей захотелось плакать, когда она увидела, что сделали некоторые жильцы со своими комнатами, она возмущалась, видя, в какой грязи жили некоторые из них. Но прежде всего она была ужасно одинока. Она не могла подружиться с людьми, которые у нее жили, они не могли прокатить ее на машине. Она не умела пробить кухонную раковину или сменить прокладку в кране. И когда ей проходилось беспощадно выставлять кого-нибудь из жильцов, у нее сдавали нервы.
А самым худшим было чувство вины. Не из-за того, что она взяла деньги у Майлса Бэйли — она считала, что он обязан ей, — а из-за того, что она сделала с Адель.
До нее это дошло не сразу — сначала она слишком ликовала по поводу покупки дома и ей нужно было обо всем позаботиться. Чувство вины подползло к ней совсем незаметно, сначала ее что-то тихонько покалывало, когда она видела молодых пилотов, гуляющих рука об руку со своими девушками, или встречала медсестру из местной больницы. Но сейчас она чувствовала это все чаще, и сколько бы она ни говорила себе, что должна была предотвратить брак между дочерью и ее братом, она знала, что Адель считает ее самым ничтожным существом на свете.
Роуз было уже тридцать девять лет, и когда она посмотрела в зеркало, сама убедилась в том, что с ней сделали время, выпивка, романы без любви и собственный эгоизм. Никакое количество денег не вернуло бы ей ее прежний вид — деньги могли купить общество, но не настоящих друзей. Они могли купить материальный комфорт, но не человеческое тепло. Кому будет до нее дело, если на этот дом упадет бомба и убьет ее? Ни один человек на свете не раскроет рта, чтобы сказать о ней что-нибудь хорошее.
По ночам она часто лежала, вспоминая каникулы, которые она, будучи ребенком, провела с родителями в Керлью-коттедж. Она вспоминала, как смеялись родители, готовя ужин по вечерам, как она гуляла, держа обоих за руки, как сидела у мамы на коленях у огня, пока папа читал им. Если Адель будет вспоминать свое детство, Роуз сомневалась, что у нее будет хотя бы одно хорошее воспоминание о матери.
Столько лет Роуз рассматривала годы ее собственного детства на болотах как некоторые из набросков углем, которые делал отец, — в серо-черных оттенках. Холодные, мрачные, несчастные, Но, возможно, потому, что она вернулась сюда в ясный солнечный день, набросок углем исчез, дав место яркой картине, нарисованной фломастерами. У нее перед глазами встал доходящий до пояса луговой мятлик, раскачивающийся на ветру, и изумрудно-зеленая трава, усыпанная золотистыми лютиками и малиновым клевером, Устремляющиеся к воде зимородки поднимали ослепительные фонтанчики брызг вдоль берега, а в заболоченных местах рос дикий желтый ирис.
Она даже не могла вспомнить свою мать мегерой с грубыми чертами лица, какой столько раз рисовала в своем воображении. Вместо этого она невольно вспоминала, как мама рассказывала ей сказки, пока они лепили имбирных человечков, как они собирали полевые цветы и как устраивались рядышком у огня в холодные вечера. У нее щипало в глазах, когда она представляла на своем месте Адель и понимала, как мало она заботилась о ней как мать.
До недавнего времени Роуз никогда не жалела о том, что сбежала из дому, и о том, как она это сделала. Она полностью могла оправдать себя, потому что с утра до ночи работала в этом отеле и ей приходилось отдавать всю зарплату матери, которая даже не ценила ее тяжелого труда. Кроме того, Майлс показался ей тогда большим шансом в жизни. И потом, когда все пошло не так и она осталась одна, беременная, она была слишком гордой, чтобы написать и признаться, что у нее проблемы.
Ей подумалось, что где-то по пути она потеряла свою гордость, и ее место заняла апатия. Большая часть ее взрослой жизни сейчас вспоминалась как сквозь туман, и лишь немногие образы виднелись как скалы в тумане. Как она выходила замуж за Джима в этом ужасном грязном бюро регистрации в Лэндброук-Гроув. Чиновник хмыкнул, глянув на ее огромный живот, и сказал что-то вроде «давно пора было». Потом рождение Адель в мрачном пансионе с клопами в постели. Часами ее мучила раскалывающая ее изнутри боль, и только одна остроумная служанка-ирландка помогала ей. Было ли для нее удивительно, что она не чувствовала любви к ребенку, который разрывал ее на части, не дал ей вернуться домой и заставил выйти замуж за такого остолопа, как Джим Талбот?
Рождение Памелы тоже вспоминалось ей ясно, но это было совершенно другое. Роды были быстрыми и без боли, и Джим был таким добрым и любящим, что она чуть не одурачила себя, думая, что любит его. Когда она взглянула на милое личико Памелы, она почувствовала такую нежность и гордость, подумав, что ее жизнь наконец повернулась к лучшему.
Вскоре после этого они переехали на Чарлтон-стрит, и это место показалось ей раем после тех ужасных мест, в которых они жили раньше.
Памеле было около полутора лет, когда все стало плохо. У Роуз и раньше были времена, когда она чувствовала себя истощенной и замыкалась в себе, но это всегда проходило. Однако в тот раз она словно очутилась в холодном сером тумане, и он закружил ее и не хотел отпускать. Она не хотела вставать по утрам — ей была невыносима мысль о том, что нужно встать, стирать пеленки, готовить еду и бесконечно заботиться о двух детях. Она хотела полной тишины, хотела побыть одна, и один звук голоса Джима или Адель пробуждал в ней желание выбежать из квартиры и бежать, бежать, пока она не найдет вожделенный покой.
И только Памела удерживала ее. Только ее голос не действовал ей на нервы. Ее улыбки были единственным, что немного рассеивало туман. Роуз и хотелось бы чувствовать то же по отношению к Адель, но каждый раз, глядя на нее, она вспоминала Майлса и то, через что она из-за него прошла.
Однажды, когда Памеле было три года, она попыталась уйти с ней, когда Адель была в школе. Ей удалось отложить несколько фунтов из семейного бюджета, и она подумала, что уедет на поезде в деревню и найдет какое-нибудь жилье. Но когда Роуз начала складывать все вещи, которые могли бы им понадобиться, вдруг поняла, что у нее просто не хватит сил нести тяжелую сумку и маленького ребенка, который не может сам далеко ходить. Она села на пол и расплакалась, как разочарованный ребенок.
После этого мысль об уходе много раз посещала ее, но она знала, что не сможет работать и присматривать за Памелой. И чем больше она чувствовала себя загнанной в ловушку, тем хуже ей становилось.
Потом Памела погибла, и вдруг в один момент в ее жизни ничего не осталось. Спиртное немного притупляло боль, но как только она трезвела, все возвращалось. Роуз плохо помнила, какие именно события довели ее до больницы. Все, что она помнила, — это словно кто-то после похорон Памелы заводил ее как механическую игрушку, все сильнее и сильнее, и в конце концов пружина внутри нее сломалась, и она потеряла контроль над своим телом и рассудком.
Но кое-какие процедуры, которыми лечили ее в больнице, помнила. Ванны со льдом и ужасные лекарства, от которых ее тошнило. Но ее рассудок привели в порядок не эти процедуры, а комната, в которой ее заперли одну.
Ее оставили в покое, никто не пытался разговаривать с ней, не просил ее что-то сделать, она могла спать и спать, именно это и спасло ее. Как только ее рассудок и тело отдохнули, она снова смогла ясно думать.
В тот момент, когда Роуз объявили, что ее мать стала законным опекуном Адель, ей также сказали, что ее не выпишут из больницы без согласия мужа. Она знала, что это означает: она останется здесь пожизненно, потому что Джим вряд ли объявится.
Роуз наблюдала, что персонал больницы жестче обращался с теми, кто доставлял им неприятности. Ее саму избили, когда доставили сюда, за то, что она осыпала ругательствами персонал и дралась. Страх боли заставил ее стать молчаливой и послушной, и она поняла, что только если будет вести себя так и дальше, то у нее будет какой-то шанс на побег.
Поэтому Роуз перестала возражать, что она сумасшедшая, она не разговаривала, не плакала, не кричала вообще, просто выполняла точно то, что ей говорили, и никому не создавала проблем. Она подумала, что если и дальше будет пребывать в покорном молчании, ей начнут давать маленькие поручения и она сможет завоевать их доверие.
Ее предположение оказалось верным. Вскоре ей поручили штопку одежды, мытье полов, даже работу в прачечной, и в конце концов разрешили гулять в саду.
Были времена, когда она сама начинала думать, что потеряла способность говорить, а еще улыбаться, смеяться и быстро ходить. Она так привыкла не менять отсутствующего выражения на лице, медленно шаркать, опустив голову, как другие пациенты, что обнаружила, что ей было все равно, когда кто-то из персонала говорил о ней в ее присутствии, будто она была полной имбецилкой. Но она держала глаза открытыми, слушала внимательно и запоминала все, что могло бы ей пригодиться.
Она сказала Джонни, что сбежала оттуда в фургоне доставки белья, и это было правдой. Но в чем она никогда не призналась бы ни ему, ни кому-либо другому, так это в том, что использовала свои женские хитрости на простодушном водителе, чтобы он вывез ее за это тайком. Она вовсе не стыдилась, что соблазнила его предложением секса, чтобы он спрятал ее за это в корзине с бельем, — это была честная игра. Но ей было стыдно, что как только она оказалась за воротами, она притворилась и продолжала притворяться, что любит его, чтобы он одевал, кормил и содержал ее.
У бедняги-простака Джека раньше никогда не было женщины, и он обожал Роуз. Он не курил и не пил, жил скромной жизнью в том же крошечном, обветшалом коттедже на задворках Барнета, где он родился. Родители его умерли, у него не было ни одного друга на всем свете, и единственное, чем он гордился, была его работа водителем фургона. Она прожила с ним больше года, постоянно укрепляя его веру в то, что она его женщина, и все время потихоньку обкрадывала его, пока не отложила достаточно денег, чтобы сбежать.
Некоторое время спустя она прочитала в газетах, что он повесился на дереве. От этого ей стало совсем плохо. Он добровольно рисковал потерей работы, чтобы помочь ей. Его даже могли посадить в тюрьму за укрывательство ее, если бы это обнаружилось, Ему было тридцать лет, и он провел почти всю свою жизнь, будучи мишенью для насмешек, в одиночестве и без друзей. И она разбила его сердце.
Роуз не понимала, почему она вдруг так зациклилась на прошлом. Она всегда верила, что как только у нее будет финансовая стабильность и приличное жилье, вместе с этим придет и счастье. Но она не была счастлива. Да и как она сможет быть счастлива, если всю жизнь будет оглядываться на прошлое, муча себя воспоминаниями о людях, которых она использовала и подло обманывала, и угрызениями совести от того, как обошлась с матерью и с Адель?
Иногда, после пары стаканчиков, она даже пыталась написать им и попросить прощения, но на следующее утро перечитывала письма и рвала их. Что бы она ни писала, этих слов было недостаточно, чтобы получить прощение.
Глава двадцать первая
Хонор остановилась на тротуаре Шефердс-Буш-роуд и велела Великану сесть. Глядя на дом 103 на противоположной стороне, она испытывала смесь чувств: облегчение, потому что нашла его, и легкий страх перед тем, что ей сейчас предстоит.
Она была в Лондоне лишь несколько раз в своей жизни, посещая только галереи искусств или магазины в Вест-Энде, поэтому она плохо представляла себе районы рабочего класса. Инстинкт и рассказы Адель об Ист-Энде подсказали ей, что Хаммерсмит — вполне приличный район, но в ее глазах он выглядел ужасным и жалким.
Было 23 августа, еще один жаркий день, и листья на деревьях вяло повисли, все было в пыли и саже. Окна, крест-накрест заклеенные липкой лентой, и груды мешков с песком были неизбежным признаком войны, но переполненные до краев урны с вываливающимся из них мусором и запах помоев вызывали у нее отвращение. Хонор подумала, что не смогла бы жить на улице, где весь день носятся с пронзительными криками толпы грязных детей. Еще она подумала, что женщины в передниках и головных платках, похожих на тюрбаны, сплетничавшие на ступеньках у входа, должны поднять задницу и повести своих отпрысков в парк.
Вчера Хонор получила письмо от Роуз. Кроме шока от первого письма за все эти годы, она еще была крайне удивлена нехарактерно кроткому и извиняющемуся тону. Она перечитала его десяток раз за день, пытаясь представить себе реальную причину его написания. Вчера вечером она начала отвечать на него, но совсем не зная, что написать, рано утром она решила вместо этого приехать в Лондон и встретиться с Роуз.
Ей было не просто любопытно посмотреть, как Роуз сейчас живет, и ей не хотелось отчаянно помириться со своей заблудшей дочерью. Она верила, что настало время подвести черту под прошлым.
Никто не мог предсказать, что ждет их в этой войне, и совсем недавно по радио говорили о бомбежках вокруг Лондона. Одна бомба была сброшена на Уимблдон 16 августа, и было убито много людей, а судя по карте, это было недалеко от Хаммерсмита. Хонор знала, что, если Роуз убьют или тяжело ранят во время воздушного налета, она всегда будет жалеть, что не попыталась хотя бы увидеть ее. И поскольку сегодня была суббота, она решила, что у нее есть все шансы застать Роуз дома.
Поезд шел медленно, и дорога заняла на час больше времени, чем по расписанию, поэтому у нее было слишком много времени, чтобы с беспокойством думать о последствиях своей поездки к Роуз. Она была вынуждена взять Великана с собой на случай, если возникнет что-то непредвиденное и она не сможет вернуться домой к вечеру. Хотя он, казалось, чувствовал себя как дома на полу в вагоне, она не была уверена, что он нормально воспримет оживленные улицы с автобусами и трамваями. К счастью, он, похоже, все принимал как должное, и Хонор почти гордилась собой, что нашла дорогу в Хаммерсмит без посторонней помощи.
Хотя Роуз ничего не сказала о своих личных обстоятельствах, а только то, что она сдавала комнаты, у Хонор напрашивалась мысль, что у нее были проблемы. Почему же еще она вдруг заявила, что сожалеет о той боли, которую причинила в прошлом?
Хонор было очень жарко, ее лучшее темно-синее платье было слишком плотным для летнего дня. У нее болели ноги, глаза были словно засыпаны песком, и они с Великаном оба умирали от жажды. Дом 103 на той стороне выглядел не лучше и не хуже остальных.
Это был покрытый въевшейся сажей дом с террасой, выходивший прямо на улицу, без сада перед ним. В доме было четыре этажа, один из них цокольный, и несколько ступенек, ведущих ко входной двери, которая была выкрашена в сочный синий цвет. Большинство дверей было открыто, и она надеялась, что это означало, что Роуз дома и она приехала не напрасно.
Звонок прозвенел так громко, что можно было разбудить мертвого, но Хонор не сразу услышала шаги за дверью.
Дверь открыла молодая женщина лет двадцати пяти с огненно-рыжими волосами и в контраст волосам накрашенными губами.
— Да? — спросила она.
— Я пришла к миссис Талбот, — сказала Хонор.
Девушка пожала плечами.
— Не знаю, дома ли она. Попробуйте постучать в ту дверь. — Она указала на вторую дверь по коридору и быстро ушла наверх по лестнице, оставив Хонор саму закрыть входную дверь.
Хонор постучала, потом позвала Роуз. Ответа по-прежнему не было. Посмотрев вверх по лестнице, она увидела открытую дверь в комнату с белой плиткой, которая выглядела как ванная. Поскольку ей нужно было в туалет и дать попить Великану, она зашла, взяв с собой собаку.
Она воспользовалась туалетом, отметив, что он не очень чистый, вынула оловянную миску Великана из сумки и дала ему напиться. Окно было открыто, и она высунула голову посмотреть, что находится за домом.
К ее удивлению, прямо внизу под ней на уровне цокольного этажа шезлонге спала Роуз. У Хонор стал ком в горле, потому что с такого расстояния Роуз выглядела молодой и хрупкой в своем сарафане в бело-розовую полоску с задранным выше колен подолом.
Она высунулась из окна и позвала ее.
Было почти смешно, что Роуз, не услышавшая громкого звонка в дверь, дернулась и проснулась немедленно от звука голоса матери, вскочила на ноги и изумленно оглянулась.
— Я наверху, Роуз, — крикнула Хонор. — Я стучала в твою дверь, но ты не слышала.
Через пять минут Хонор уже сидела на заднем дворе, Роуз напротив нее, а Великан между ними, тяжело дыша и переводя взгляд с одной на другую, вероятно, почувствовав напряженность между ними.
— Я не должна была посылать это письмо, — повторила Роуз уже в третий раз. — Я была сама не своя в тот момент.
— Ты была пьяна? — спросила Хонор прямо.
— Нет! Конечно нет, — слишком быстро сказала Роуз. — У меня было просто немного нехорошо на душе.
Хонор была почти уверена, что Роуз все же была пьяна и сама не помнила, как написала и отправила письмо, потому что, впустив мать, она была невероятно поражена тем, что та нашла ее. Но это не беспокоило Хонор. Хотя ей вряд ли понравилось, что это письмо было пьяным бредом, о котором дочь забыла уже к утру, с ее точки зрения, люди в такие моменты обычно говорили правду.
— Я не могу поверить, что ты из такой дали приехала на поезде, — сказала Роуз напряженно, будто пытаясь повернуть разговор в другую сторону. — Да еще и с собакой! Как ты нашла дорогу?
— Мне, конечно, шестьдесят, но мозги у меня еще работают, — сухо сказала Хонор. — Но я после этой поездки очень хочу пить, Ты не собиралась предложить мне чаю?
Она еще не видела дома Роуз, кроме ванной, да еще, проходя по коридору, бросила беглый взгляд в кухню, через которую Роуз быстро провела ее во двор. Ставя второй шезлонг, она что-то сказала о том, что под деревом прохладнее, но Хонор со своей подозрительностью решила, что причина не в этом.
Роуз покраснела.
— Конечно, о чем я только думаю! — Она вскочила на ноги. — Я пойду сделаю.
Хонор осталась в шезлонге, потому что хотела дать дочери время взять себя в руки. Как бы ни была Роуз ошеломлена визитом матери, она, похоже, не пришла в ужас, не вела себя воинственно — так, как было в тот раз, когда она приехала в Винчелси. Кроме того, она хорошо выглядела, менее бесстыдно, чем в прошлый раз, и кухня, по крайней мере, была чистой и в порядке. Было честно дать ей несколько минут для того, чтобы убрать из гостиной все, что могло бы ее смутить, и может быть, она вспомнила бы за это время, о чем написала в письме.
Задний двор был удивительно приятным — здесь был лишь клочок газона, но по стенам плелась жимолость и как раз начинали цвести осенние маргаритки. За двором кто-то следил, здесь не было сорняков, а забетонированная часть у ступенек, ведущих в кухню, была хорошо выметена. В письме Роуз подразумевалось, что это был ее дом, и если это было так, Хонор было интересно, откуда она взяла деньги на его покупку. Впрочем, она так мало знала о Роуз и понимала, что если хочет получить какой-то толк от разговоров, то ей придется укротить свое желание задать ей массу вопросов.
Роуз вернулась минут через десять с чайным сервизом на подносе. Она причесала волосы, чуть подкрасила губы и выглядела успокоившейся. Увидев чайный сервиз, Хонор слегка дернулась, потому что он был из изящного фарфора цвета слоновой кости с темно-красной полоской вокруг чашек, расписанных золотом, очень похож на тот, который был у нее.
— Как давно у тебя собака? — спросила Роуз, ставя поднос с чаем на деревянный ящик между ними. Она потянулась погладить пса, и Хонор стало понятно, что она очень не уверена в себе и пытается спрятаться за общими разговорами.
Хонор объяснила, как у нее появился Великан и почему она взяла его сегодня с собой.
За чаем они разговаривали о Битве за Англию. Роуз, похоже, совершенно ничего не слышала, но это было вполне понятно, потому что большинство сражений происходило над Эссексом, Кентом и Сассексом. Она жаловалась на продовольственные карточки, на затемнение и на постоянные ложные тревоги, когда сирены, оповещавшие о воздушных налетах, путали так, что душа уходила в пятки.
— Но мы сейчас на них уже не обращаем внимания, — сказала она, пожав плечами. — Лондон не будут бомбить. Некоторые люди просто любят паниковать. Как бы я хотела, чтобы это закончилось, мне и без того трудно заполучить хороших жильцов. Если все будут уезжать, Лондон очень быстро опустеет.
Судя по тому, что Хонор сегодня видела в Лондоне, причин для беспокойства, безусловно, не было. Транспорт ходил хорошо, магазины были открыты, как обычно, и у людей, гулявших на солнышке, был беззаботный вид.
В метро она разговорилась с одной женщиной, и та сказала, что людям уже до смерти надоело бегать в бомбоубежище при каждом звуке сирены, а потом обнаруживать, что они впустую потеряли несколько часов, потому что это была ложная тревога. Она сказала, что ничто на свете больше не заставит ее спускаться в какое-нибудь мерзкое и грязное укрытие. Так что Роуз, возможно, была права. В конце концов, она здесь жила.
— Это твой дом? — спросила Хонор после того, как выслушала тираду в адрес некоторых из ее жильцов.
— Да. Я долгое время откладывала деньги, и потом у меня появился один случайный доход. Один друг посоветовал мне вложить деньги в недвижимость. — Она говорила оправдывающимся тоном, будто выучила это объяснение наизусть.
— Очень разумно! — похвалила Хонор. Ей хотелось прекратить пустую болтовню и добраться до вопроса, почему Роуз написала ей. Чайный сервиз, так похожий на тот, который был у нее дома, дал ей возможность перевести разговор на более личные темы.
— Твой сервиз почти такой же, как мой, — сказала она веселым тоном, поднимая чашку, чтобы рассмотреть ее.
— Я его поэтому и купила, — сказала Роуз с некоторой робостью. — Я его увидела в магазине подержанных вещей, и он напомнил мне о доме.
— Я думала, ты уже не хотела вспоминать о доме, — сказала Хонор, очень постаравшись придать своему тону непринужденность.
— Ты удивишься, если узнаешь, как часто я думаю о прошлом, — возразила Роуз и опустила голову, понимая, что за таким заявлением должны последовать какие-то объяснения. — Ну хорошо, мама, — сказала она, глядя прямо на Хонор. — Я действительно сожалею о многом. Если бы я могла снова начать сначала, я бы все сделала по-другому.
Хонор кивнула.
— Ты писала мне об этом и о том, что надеешься получить прощение и шанс начать все сначала. Почему ты вдруг захотела этого?
— Не вдруг, — сказала Роуз, пожав плечами. — Я очень давно этого хотела, но с тех пор как началась война, это стало самым важным.
— Я и сама это чувствовала, — осторожно сказала Хонор. — Но как бы мне ни было приятно и какое бы я ни почувствовала облегчение, узнав, где ты находишься, я не могу обещать тебе прощение. Его нужно заслужить.
— Как? — нахмурилась Роуз.
— Ну, об этом думать тебе, — сказала Хонор. — Ты должна быть честной сама с собой, отдавая себе отчет, почему именно ты хочешь прощения. Это потому, что тебе сейчас одиноко, или потому, что у тебя проблемы?
— Нет, у меня все отлично, — вспыхнула Роуз. — У меня есть этот дом и доход с жильцов. Я могу тебе все показать, чтобы ты сама убедилась.
— На меня не производит впечатления материальное, — напомнила ей Хонор. — Никогда не производило и никогда не будет. Ты и твой отец, вы когда-то были точкой опоры в моем мире, а сейчас такая точка опоры для меня — Адель. И точно так же, как я сделала бы все, чтобы обеспечить тебе и Фрэнку безопасность и благосостояние, точно так же я делаю все для моей внучки. Поэтому тебе придется убедить меня, что твои мотивы чисты, прежде чем я подпущу тебя близко к ней.
— Не знаю, хочу ли я подходить близко к ней, — угрюмо сказала Роуз. — Мы не ладили, когда она была ребенком. Сомневаюсь, что сейчас что-то изменится.
— Если ты так к этому относишься, то я могу сразу уходить, — отрезала в ответ Хонор. — Мы с Адель неразделимы. Если ты хочешь, чтобы я вернулась в твою жизнь, тебе придется загладить вину перед ней.
Роуз какое-то время не отвечала и выкручивала руки, лежавшие на коленях.
— Я на самом деле хочу загладить вину, — сказала она в конце концов. — Я просто не верю, что она когда-либо пойдет мне навстречу. Я знаю, что все сделала не так в тот день, когда пришла повидать тебя. Я так много хотела сказать, но я не должна была просто так объявляться и быть такой… — Она запнулась, явно не подобрав слов, чтобы описать, какой она была в тот день.
— Наглой? — подсказала Хонор. — Именно такой ты была. Невежественной, неблагодарной, бесчувственной. Я не увидела ни следа от своей дочери, которую с такой любовью воспитывала. Наверное, ты жила с какими-то последними людьми, если докатилась до этого.
Роуз напряглась.
— Последние люди были единственными, кто приютил меня, — сказала она с вызовом. — Я не вышла бы замуж за Джима Талбота, если бы не находилась в отчаянном положении.
Хонор сурово посмотрела на дочь. Она действительно выглядела намного лучше, чем во время их предыдущей встречи. Ее светлые волосы сияли и были причесаны по последней моде, собраны тугим витком на затылке каким-то непонятным для Хонор способом. Она была загоревшей и все еще стройной, и ее сарафан в бело-розовую полоску явно был дорогой вещью. Но на ее лице были морщины, и не такие, которые появляются от смеха. Она безусловно была привлекательной женщиной, но выглядела суровой.
— Джим Талбот уже в далеком прошлом, — наконец сказала Хонор. — Но неужели ты притащила с собой в настоящее свое прошлое?
— Что ты хочешь этим сказать? — вспылила Роуз. — По-моему, это ты хочешь разворошить прошлое.
Хонор почувствовала, что ей нужно быть твердой.
— Только не начинай, Роуз. Просто послушай меня минуту. Твой уход и потом смерть твоего отца, все это ожесточило меня и заставило уйти в себя. И я оставалась такой до того самого дня, когда появилась Адель. Поэтому я хорошо знаю, почему люди тащат за собой свое прошлое и упиваются своим несчастьем. А ты, когда выбралась из больницы, ты попыталась целенаправленно изменить свой образ жизни?
— Разумеется, попыталась, — огрызнулась Роуз. — Посмотри на меня, разве я живу в трущобах? Я что, неряшливая, грязная или, может быть, полоумная?
— Ни то, ни другое, ни третье, — согласилась Хонор. — Но ты достигла того, что имеешь, собственными усилиями и тяжелым трудом?
— Я предполагаю, ты думаешь, что я получила это от мужчины. — Роуз поднялась с шезлонга и сердито зыркнула на мать. — Кем ты меня считаешь? Уличной девкой?
Хонор открыла было рот, чтобы ответить, но ее прервал шум самолета, пролетавшего вдалеке. Монотонный гул. Она по опыту знала, что это летит не маленький боевой самолет.
— Послушай, — сказала она, вскочив и схватив Роуз за руку. — Бомбардировщики.
— Может быть, но они не собираются сбрасывать бомбы здесь. — Роуз стряхнула ее руку. — Мне и так нехорошо, что ты считаешь меня уличной девкой, не хватало мне еще истерик.
Хонор застыла как вкопанная, напрягая слух и не обращая внимания на дочь. Раздался резкий воющий звук, потом глухой удар, за которым сразу последовали такие же, и вслед за ними оглушающий визг сирены, предупреждающей о бомбежке, от звука которой Великан завыл.
— Где ближайшее убежище? — спросила Хонор, хватая свою сумку и поводок Великана, который не прекращал выть что было мочи.
— Здесь есть одно место недалеко, но туда нельзя брать собак, — раздражительно сказала Роуз. — Ради бога, мама, успокойся, и пусть это чертово животное перестанет так ужасно выть.
— Тогда мы должны зайти в дом, Роуз, — сказала Хонор, подойдя к Великану и заботливо обнимая его. — Здесь есть подвал?
— Да, я использую его как кладовую, — сказала Роуз, небрежно беря в руки поднос, словно не о чем было беспокоиться. — Не паникуй, мама. Мы поднимемся наверх и выглянем, отсюда видно намного миль вокруг. Может быть, тогда ты успокоишься.
Из комнаты, о которой говорила Роуз, был отличный вид на центральную часть Лондона, но то, что они увидели, тут же лишило их дара речи. В небе было полно самолетов, так далеко, что они выглядели не больше птиц, но между ними и землей зловеще стояли столбы черного дыма.
От этого зрелища Роуз пришла в ужас и повернулась к Хонор, ломая руки.
— О Господи! — воскликнула она. — Они на самом деле бомбят! Что нам делать?
— Мы пойдем и посмотрим на твой подвал, — сказала Хонор. — Я не собираюсь идти в убежище без Великана. Как ты думаешь, далеко ли этот дым?
— Я не знаю, — охнула Роуз, и ее лицо вдруг побелело. — Может быть, это Ист-Энд, а может быть, и дальше, в Вест-Энде. Трудно сказать.
— Уайтчепел? — спросила Хонор, и ее ноги вдруг стали ватными.
— Возможно, — сказала Роуз. — Ну ладно, давай спустимся вниз, пока они не добрались сюда.
Позже Хонор поняла, что если бы не предупреждение о бомбежке, она бы многого не узнала о своей уже взрослой дочери. Они, вероятно, кончили бы разговор ссорой, и Хонор почти наверняка уехала бы домой, не получив ответов на вопросы, с которыми приехала.
Было четыре часа, когда завыла сирена, но к семи часам вечера Хонор уже установила, что кроме того, что Роуз эгоистична и упряма, о чем она уже хорошо знала, ее дочь еще легко впадает в панику, ей был противен любого рода физический труд и она почти не знала, что такое человечность.
Шум шел издалека, но не прекращался. Бомбили на протяжении двух часов, и кроме взрывов были слышны зенитки и сирены «скорых» и пожарных машин. Прослушав шестичасовые новости, они узнали, что бомбы сбрасывали только на Ист-Энд и доки, а не на весь Лондон, как считала Хонор.
Но она тогда не знала этого и чувствовала необходимость как можно быстрее создать безопасное место. Но Роуз была в смятении, курила одну сигарету за другой, и единственное, что сделала, но закрыла окна.
Хонор сама постучала во все двери, чтобы узнать, кто дома. Она сама убрала вещи из подвала, вымела пол, снесла вниз стулья, одеяла, подушки и другие необходимые вещи. Когда Хонор предложила Роуз наполнить ведра водой, чтобы тушить огонь от зажигательных бомб, та посмотрела на нее отсутствующим взглядом, будто слышала об этом впервые в жизни.
— Может быть, в этот дом сегодня не попадут, — рявкнула на нее Хонор в конце концов. — Но когда-нибудь они доберутся и до этих районов Лондона, будь уверена. Тебе нужно подготовиться к этому, Роуз! И безопасность жильцов тоже может зависеть от тебя.
— Не должна же я за ними приглядывать, — в ужасе возразила Роуз.
Когда Хонор ходила по жильцам, никого не оказалось дома, но вероятно, только потому, что стоял теплый день. Сегодня вечером или в любой вечер ситуация может быть другой.
— В некотором отношении ты должна приглядывать за ними. Разумеется, они взрослые люди и в состоянии решить, идти ли им в организованное бомбоубежище или нет, — сказала устало Хонор. — Но во всяком случае ты должна предоставить им этот подвал.
В ту же минуту, как прозвучал сигнал отбоя, Роуз выбежала через входную дверь безо всяких объяснений, бросив на Хонор обустройство подвала. Хонор написала список необходимых покупок на случай крайней необходимости: свечи, сгущенное молоко и консервированные продукты, парафиновая печь для обогрева зимой. Тут вернулась ее дочь с бутылкой бренди и новостью, что горят доки.
В половине восьмого, когда снова загудела сирена, были уже сумерки. Если бы Хонор к тому моменту не сделала бутербродов с говяжьей тушенкой, не налила бы фляжку чая и не накормила бы Великана едой, которую брала с собой, они остались бы голодными, потому что Роуз кинулась в подвал со своим бренди, не думая ни о ком другом, кроме себя.
Когда снова начали бомбить, Хонор тихо пошла проверить, не вернулись ли какие-нибудь жильцы. В доме не было никого, но вид из окна верхнего этажа шокировал ее. Ночное небо было ярко-красным к востоку, это явно были доки, о которых говорила Роуз.
Хонор не собиралась говорить Роуз, что Адель работает медсестрой в Лондоне, во всяком случае пока не выяснит, заслуживает ли Роуз, чтобы они с дочерью снова стали семьей. Но она так испугалась за Адель, как только увидела пожар, что сама не помнила, как выпалила это.
Только тогда Роуз вышла из своего ступора.
— Она в Ист-Энде? — недоверчиво спросила она. — Я думала, она в Сассексе, где-то рядом с тобой.
Хонор почувствовала, что должна объяснить, как это получилось.
— Она была в Гастингсе и работала в больнице в Буханане, пока не порвала со своим молодым человеком. Она поехала в Лондонскую больницу, Уайтчепел.
Роуз прекратила пить и захотела выслушать всю историю, и Хонор вроде как стало легче, когда она поделилась с ней подробностями и ужасным беспокойством, которое чувствовала, пока не знала, где находится Адель.
— Я все еще не знаю настоящей причины, почему она порвала с Майклом, они были так счастливы вместе. Но я только могу предположить, что это имеет что-то общее с тем, что случилось в приюте.
Роуз была немногословна, когда Хонор рассказала ей жуткую историю целиком, но она предположила, что Роуз чувствовала себя слишком виноватой, чтобы комментировать. Они сидели в двух шезлонгах в тусклом свете единственной слабой лампочки, и она не слишком ясно видела дочь, чтобы разглядеть выражение на ее лице, но Роуз вытирала глаза платком, и когда она в конце концов заговорила, ее голос дрожал.
— Прости, мама, я ничего об этом не знала. Я почему-то думала, что она прямо из Юстона попала как-то к тебе. Я не знала, что ее сначала послали в приют. Как мог мужчина сделать подобное с ребенком?
— В этом мире много злых людей. — Хонор пожала плечами. — Я знаю, что ты меня не поблагодаришь за напоминание о всех твоих материнских ошибках, но я должна это сказать. Если бы ты действительно заботилась о своем ребенке, давала ей любовь и чувство значимости, этот мужчина никогда бы не засосал ее в свою отвратительную паутину.
Тогда Роуз открыто расплакалась.
— Как я могла это делать? — рыдала она. — Мама, ты не представляешь, каково мне было. Я жила в ужасной нищете с человеком, который никогда не знал ничего лучшего, с ребенком, связавшим мне руки, которого я даже не хотела. Это был кошмар, и Адель постоянно напоминала мне, что я потеряла. Я не могла не винить ее в этом. Но Памелу я любила, я никогда не испытывала таких чувств по отношению к ней. А потом, когда она умерла, мне было невыносимо смотреть на Адель. Но я помешалась. Это произошло помимо моей воли.
Хонор терпеливо слушала, когда Роуз изливала ей все несчастья ее жизни с Джимом и рассказывала о черной тоске, из которой не могла выбраться.
— Я действительно сочувствую тебе, — сказала она, когда Роуз кончила. — Подозреваю, я испытывала что-то подобное, когда умер Фрэнк. Но ты не можешь все свалить на болезнь, ты должна признаться самой себе, что все происшедшее было твоим выбором, твоей виной. И только когда ты это сделаешь и по-настоящему в это поверишь, то сможешь найти путь, как поправить все.
— Слишком поздно, — сказала Роуз прерывающимся голосом.
— Есть вещи, которые никогда не поздно сделать, — настойчиво сказала Хонор. — У Адель большое сердце. Найди способ заставить ее гордиться тобой, и я уверена, что она простит тебя. Может быть, нам вдвоем помолиться сегодня вечером за ее безопасность?
— Все в порядке, вы теперь в безопасности, — утешала Адель пожилую женщину, которую только что доставили с сильным ранением в ногу. Женщина еще хныкала от страха, и Адель была удивлена, что она не кричит во все горло, после того что ей мельком удалось увидеть из окна верхнего этажа больницы.
Воздушный налет застал всех врасплох. Был прекрасный теплый субботний день, и люди в хорошем расположении духа гуляли по Майл-Энд-роуд, предвкушая наступление вечера, когда небо вдруг стало серым от бомбардировщиков.
Адель встала меньше часа назад, потому что дежурила ночью и должна была заступать на следующую смену только в шесть часов. Она как раз собиралась выйти и купить конверты, когда загудела сирена. В прошлом году сирена сотни раз оказывалась ложной тревогой, и многие проигнорировали предупреждение. И все же на юго-востоке Лондона недавно было сброшено несколько бомб, 25 августа несколько зажигательных бомб в Сити, и совсем недавно, только позавчера, подожгли нефтяные установки в Темзхейвене и Шеллхейвене в истоке Темзы, поэтому Адель не была такой уверенной.
Как и большинство людей, она полагала, что немцы заинтересованы бомбить только летные поля и корабли, но вышла посмотреть, как люди реагируют на предупреждение.
Она уже дошла до Майл-Энд-роуд, когда услышала жужжание самолетов, посмотрела наверх и увидела, что их сотни. Поскольку они не были встречены огнем, на секунду она подумала, что это английские самолеты, пока не увидела ринувшиеся к ним «спитфайры» и «ураганы». Похоже, все вдруг осознали, насколько это реально, потому что разом закричали и бросились бежать.
Адель тоже побежала обратно в общежитие, чтобы надеть свою форму медсестры. Она была в своей комнате, когда услышала высокий громкий звук от падения первой бомбы, и кинулась в укрытие, когда окна зашатались от удара.
Она так испугалась, что с трудом смогла ровно надеть свою шапочку, но поняла, что должна немедленно бежать в больницу. Чутье подсказало ей, что сегодня вечером будет самая тяжелая смена в ее жизни.
Она бежала по коридору вместе с другими медсестрами, но у них не было времени обсуждать то, что произошло. По их испуганным лицам и перекошенным шапочкам было ясно все.
Пока они бежали в больницу, сбросили еще какое-то количество бомб, но все они упали позади в районе Сильвертауна и доков — оглянувшись назад, они увидели облако серой пыли, поднимавшееся в небо. Шум сирены перекрывали сигналы машин «скорой помощи» и пожарных машин и визг колес заворачивавшего за угол грузовика, груженного командой гражданской обороны.
В отличие от шума и смятения на улице, в больнице царило зловещее спокойствие. Когда толпа медсестер ринулась в дверь, появилась старшая сестра.
— Отлично, — сказала она, одобрительно кивнув головой. — Я очень рада, что у всех вас хватило ума прийти немедленно. Я думаю, сегодня ни одна пара рук не будет лишней.
К удивлению Адель, она велела всем им пойти вниз в столовую шесть. Увидев выражение на их лицах, она чуть улыбнулась.
— Первых раненых доставят лишь через некоторое время. А потом у вас за весь вечер может не появиться возможности поесть.
Конечно, она была права, первые раненые начали появляться больше чем через час, и все это время почти не прекращали бомбить. С легкими ранениями справлялись посты первой помощи, поэтому первые пациенты были такими, с которыми не справились бы гражданские волонтеры: те, которых ранили разваливающиеся от бомбежки дома и у которых были серьезные увечья или сломанные руки или ноги.
В шесть часов, когда обычно заступала на дежурство вечерняя смена, был дан сигнал отбоя, и хотя они получили передышку от грохота бомб, она была недолгой. В половине восьмого сирена снова загудела, и начался очередной налет.
Постепенно, когда команды гражданской обороны начали откапывать людей, погребенных под камнями, начали появляться тяжелораненые, и струйка поступавших в больницу превратилась в поток.
Медсестрам и врачам приходилось работать очень быстро, они почти не слышали друг друга за нестройным шумом гудков машин «скорой помощи», воя бомб и стонов раненых, находившихся в шоке. Все раненые с ног до головы были покрыты кирпичной пылью, вокруг их глаз были красные круги. Многие умоляли сестер послать кого-то выяснить, спасли ли их детей, мужей, жен или родителей.
От тех, кто был в состоянии говорить и дать отчет о событиях, медсестры узнали, что в Сильвертауне разрушены целые улицы. Они услышали о трупах, лежавших на улицах, а одна женщина увидела оторванную руку своей дочери, которую она узнала по браслету, своему подарку. Тело дочери, вероятно, засыпало камнями с их дома. Считалось, что сотни других похоронены заживо.
Каждый раз, когда удар приходился совсем рядом, с потолка сыпалась штукатурка. Адель старалась не думать о том, что будет, если бомба попадет прямо в больницу. Одна сестра пробралась наверх и сообщила, что пожарным был отдан приказ подняться на крышу и определять, где горит. Один пожарный сказал ей, что все доки в Сюррее горят, и туда послали пожарные машины со всего Лондона, чтобы помогать тушить. Она сказала, что думает, что фабрика красок тоже взорвалась, потому что оттуда шел ужасно кислый, удушливый дым.
Все медсестры потеряли представление о времени, кидаясь от одного раненого к другому. Пол был забрызган кровью, и как бы санитарки его ни вытирали, кровь все текла. Самых тяжелораненых оперировали, потом забирали в палаты, но кровати заполнялись почти мгновенно, поэтому менее серьезные ранения обрабатывались и этим пациентам приходилось садиться или ложиться, где было место и где они не мешали персоналу.
Многие из них были в отчаянии от страха за своих близких. Некоторые потеряли своих детей или опасались, что они мертвы. Одна женщина с рукой, разодранной почти в клочья, пыталась подняться с носилок, на которых ее принесли, чтобы вернуться и искать своего маленького мальчика.
И все рассказывали о том, чем занимались, когда начался налет: «Я как раз пошла за чаем», «Я была в ванной», «Я как раз поставила чайник, а тут весь дом зашатался и с него вдруг сорвало крышу».
Адель не переставала думать, что если бы подобный налет случился в сентябре прошлого года, сразу после того как вспыхнула война, все были бы готовы к нему. Но ложная война внушила им такое же ложное чувство безопасности. Люди перестали носить с собой противогазовые маски и не обращали внимания на инструкции команд гражданской обороны, потому что считали, что они просто любят распоряжаться другими с чувством собственной значимости. Некоторые люди даже с трудом вспоминали, где находятся бомбоубежища. И Адель не думала, что в бомбоубежищах будет достаточно места для огромного числа людей, которым они будут нужны сегодня ночью.
Она, как и другие сестры, на самом деле была мало компетентна в обращении с такими ранениями: оторванные ноги, спины, полные осколков стекла, раздавленные конечности. Никакие уровни не подготовили их к этим страшным ранениям.
Мили бинтов, тонны ватных тампонов, марли и пластыря, пинты антисептика и галлоны воды становились алыми от крови. Спешно готовя пациентов к операционной, подставляя судочки кому-то, кого тошнило, накладывая жгут на рану, из которой угрожающей струей била кровь, все это время они пытались успокоить и утешить пострадавших.
— Куда нам идти? — жалобно спросила у Адель одна несчастная женщина с сильным ранением головы и с младенцем на руках. — Нашего дома больше нет, всех наших вещей, даже моих денег. Где мы будем спать? У меня даже нет сухой пеленки для малыша.
Было два часа утра, когда Адель получила перерыв на чашку чая с бутербродом. Джоан, которая была на дежурстве целый день и осталась вместе со всем персоналом, на минуту присоединилась к ней.
— Подумать только, а у меня было свидание с этим пожарным, — сказала она, глубоко затягиваясь сигаретой. — Первый парень, который мне по-настоящему понравился за целый год, и может быть, я его больше никогда не увижу.
Адель не могла разуверить ее, потому что до них долетели новости о том, как сильно горели доки. Все было в огне, здания воспламенялись и обваливались со всех сторон, погребая под собой пожарных. Ротерхит и Вулвич по ту сторону Темзы тоже сильно разбомбили. К ним поступил шестнадцатилетний мальчик, курьер из пожарной службы, он получил серьезные ожоги, пока ездил по горящим улицам, доставляя сообщения от одного пожарного офицера к другому. Он смело ездил, выполняя свою работу, пока на нем не загорелась одежда, пока он не потерял сознание, и даже когда лежал на носилках, то беспокоился, как теперь офицеры будут справляться без него.
В Стрэтфордскую больницу попала бомба, но водитель «скорой помощи» сказал, что медсестры все равно работали за ширмами. Много бомб упало и рядом с Лондонской больницей, а бомбардировщики все прилетали. Вдоль реки горели огни пожаров, освещая весь Лондон, и немцы легко могли выбирать любую цель, которую хотели.
Снова и снова ночью Адель слышала, как люди спрашивали, где были английские ВВС и почему они не остановили бомбардировщиков. Она подумала о том, как легко люди поступались своей преданностью. Несколько недель назад в Битве за Англию боевые пилоты были самыми популярными людьми во всей Англии, а сейчас их обвиняли в том, что они пропустили немецкие самолеты.
Но она видела, как прилетели бомбардировщики. Потом говорили, что их было три сотни. Она видела «ураганы» и «спитфайры», ворвавшиеся в их гущу, но их было слишком мало.
После этой кровавой бойни, продолжавшейся день и ночь, она не могла больше молча молиться за Майкла. Не потому, что ей стало все равно, а потому, что ей казалось неправильным молиться за одного, когда миллионы были в такой же опасности.
* * *
— Мама, идти туда — это безумие, — сказала Роуз, пытаясь помешать Хонор выйти из дому в восемь часов на следующее утро. — Бомбардировщики могут вернуться в любую минуту.
— Я должна увидеть Адель, — упрямо твердила Хонор. — Ты держи Великана, потому что я не оставлю его на улице, если мне придется нырнуть в бомбоубежище.
— Но я сомневаюсь, что ты доберешься, — спорила Роуз. — Наверняка автобусы не ходят, а метро закрыто.
— Тогда я пойду пешком, — сказала Хонор. — Ты только хорошо позаботься о Великане.
В утренних новостях сказали, что Ист-Энд бомбили, но, видимо, чтобы не было паники или чтобы поддержать дух, не сообщили о количестве пострадавших. Хонор слышала, как всю ночь сбрасывали бомбы, и в какой-то момент она поднялась в спальню на верхнем этаже и некоторое время стояла, глядя на красные отблески пламени. Она не могла ждать известий от Адель, она должна убедиться сама, что внучка цела. Не зная этого наверняка, она не могла вернуться домой.
Хонор удалось доехать метро до самого Элдгейта. Контролер сказал ей, что дальше линия проверяется на предмет повреждений от бомб, но подсказал, что отсюда пешком недалеко до Уайтчепела.
Как только Хонор вышла на улицу, она сразу почуяла запах горелого, и воздух был густым от дыма. Все выглядело так, как будто сверху кто-то посыпал тальком или мукой.
Она недалеко отошла от Тауэра, когда увидела первые разрушения от бомб. Здания были целы, но на дорогах лежали стекла, куски стен и черепица с крыш, и люди на улицах подметали мусор.
Но когда она прошла дальше вниз по главной улице Уайтчепела, то увидела более серьезные разрушения. Большинство витрин магазинов было разбито, и острые осколки стекла опасно болтались над расставленным в витрине товаром. Пройдя дальше, она впервые увидела дом, который разбомбило, он был превращен в груду булыжников. Словно в насмешку, боковая стена осталась целой, и на ней на своем месте висела картина с лебедями. Сморщенная пожилая женщина стояла напротив и плакала, а две молодые женщины отчаянно пытались найти среди булыжников свои вещи.
Пройдя дальше, она не раз видела подобное зрелище. В основном прямые попадания пришлись на боковые улицы, бомбами смело целые террасы и ветром еще кружило клубы белой пыли. Огромные куски обрушившихся стен перегородили дороги, все в выбоинах и ямах.
Но еще большее впечатление на Хонор произвели люди, многие с пластырем или повязкой на искаженном ужасом лице, стоявшие и в шоке смотревшие на свои бывшие дома. Она увидела женщину, у которой по лицу текли слезы, но она тупо пыталась подмести улицу.
На Майл-Энд-роуд команда гражданской обороны убирала булыжники, и Хонор спросила их, что будет с людьми, лишившимися жилья.
— Их пустят спать в церкви и школы, — сказал один дородный мужчина с пепельно-серым лицом. — Но то, что вы видели здесь, дорогая, — это ничто по сравнению с тем, как пострадал Сильвертаун. Там до сих пор откапывают людей, которых засыпало камнями. Мы скоро направимся туда, как только расчистим эту дорогу, чтобы могли проехать фургоны со спасателями и катафалки.
— А Лондонская больница цела еще? — отважилась спросить Хонор.
— Да, с ней все в порядке. У вас там кто-то есть?
— Моя внучка работает там медсестрой, — сказала Хонор, и ее голос задрожал. — Я как раз собираюсь пойти проверить, все ли с ней в порядке.
— Они там как ангелы, — сказал он, утешительно похлопав Хонор по плечу. — Я полночи бегал туда-обратно, доставляя раненых. Там внутри просто бедлам, но мы все ими гордимся.
* * *
В больнице по-прежнему был просто бедлам. Хонор не видела ничего подобного с времен Первой мировой, когда ездила в больницу в Довер к Фрэнку. Но там были раненые мужчины и в основном выздоравливающие после ранений, довольные, что они возвращаются в Англию получить некоторую передышку после ада, через который прошли. Здесь же были и женщины, и дети, некоторые из них с такими ужасными ранениями, что она не могла на это смотреть. Молодые медсестры в передниках, перепачканных кровью, с невероятной усталостью на лицах. Врачи в халатах, точно так же перепачканных кровью, в состоянии, близком к обмороку, склонившиеся над своими пациентами.
Хонор остановила проходившую мимо медсестру.
— Вы не могли бы мне сказать, здесь ли сестра Адель Талбот?
— Была, но час назад ушла, — ответила медсестра. — Несколько человек отослали отдыхать.
— Это значит, что она позже вернется?
— О да, чтобы сменить кого-нибудь. Вы ее родственница?
Хонор кивнула.
— Она моя внучка. Я просто хотела убедиться, что с ней все в порядке.
— С ней будет все отлично, когда она чуть-чуть отдохнет. — Сестра сочувственно улыбнулась. — С нами всеми все будет в порядке. Вы идите домой. Я скажу ей, что вы ее спрашивали.
Хонор вышла из больницы и пошла по дороге к Алгейту. Но пока она шла, поняла, что не может просто сесть в метро, забрать Великана и поехать домой. Кто-то должен быть рядом с этими сраженными горем бездомными, которым на несколько часов очень понадобилась бы помощь.
Увидев мужчину из команды гражданской обороны, с которым она разговаривала раньше и который как раз садился в свой грузовик и собирался уезжать, она пошла прямо к нему.
— Ну что, вы нашли свою внучку? — спросил он.
Хонор объяснила, что Адель пошла отдыхать, а она подумала, что может заняться чем-то полезным в это время.
— Запрыгивайте, — коротко сказал он, открывая дверцу грузовика. — Я знаю как раз такое место.
Проезжая по Сильвертауну, Хонор едва верила своим глазам. Грузовик маневрировал между люками и сверху по развалинам. Целые улицы были сметены, спасатели оттаскивали покрытые шью куски стен в поисках засыпанных живьем и трупов. У дороги лежали трупы, которые еще не увезли, накрытые мешками, одеялами и занавесками. Мужчины и женщины в отчаянии разгребали обломки голыми руками, явно разыскивая кого-то из пропавших близких. Хонор увидела манекен из витрины магазина, лежавший на верхней ступеньке лестницы, которая была целой, но отошла от поддерживавшей ее стены. И вдруг поняла, что это не манекен, а мертвая женщина.
От воздуха можно было задохнуться, в нем была взвешена смесь бетонной пыли и дыма от пожаров, которые все еще бушевали в доках.
Мужчина из гражданской обороны, который сказал, что его зовут Дан, попытался немного подбодрить ее, рассказав, что несколько часов назад на рассвете они нашли целых и здоровых младенца и старика.
— Дверь платяного шкафа была открыта, и вся эта штука свалилась на старика, когда дом обрушился. А ребенок был еще в своей коляске, под дверью. Он орал, прямо разрывался, поэтому мы его так быстро нашли.
Дан и другие мужчины работали всю ночь, помогая чем могли. Он сказал, что отвезет Хонор в церковь, которую использовали как центр для отдыха.
— Они будут рады любой лишней паре рук, — сказал он. — Ну конечно, если вы согласны делать бутерброды и чай и помогать записывать данные о людях, чтобы потом им можно было найти жилье.
* * *
В четыре часа дня Хонор была на пределе своих сил, как и остальные помогавшие. Она провела почти целый день, записывая данные о людях и пропавших членах их семей, потому что остальные помогавшие очень быстро заметили, что она более образованная и менее эмоциональная, чем они.
Но Хонор выслушивала одну душераздирающую историю за другой, и даже ее эмоции начали брать верх. Она догадалась, что эти люди имели очень немного еще до воздушного налета, а теперь они потеряли все, и даже членов семей. Она никогда не представляла себе, что смогла бы взять из рук убитой горем матери грязного, голодного младенца, раздеть, вымыть и накормить его. Единственным грудным ребенком, о котором она заботилась, была Роуз. Но сопереживание взяло верх над отвращением, и она проделала это не с одним ребенком. Она обнимала и кормила старших детей, матери которых еще не нашлись, утешала пожилых мужчин и женщин и расспрашивала сотни людей, заполняя данные о них в алфавитном порядке, чтобы можно было обеспечить их временным жильем.
Даже те люди, дома которых были целы, остались без газа и электричества, и все они боялись очередного налета. Весь день она слышала, что бомбоубежищ не хватает на всех, и многие жаловались, что правительство не разрешает людям спускаться в метро.
Но в половине шестого, несмотря на то что еще множество людей нуждалось в помощи, Хонор поняла, что она должна увидеться с Адель и вернуться к Роуз и Великану. Она уже не заботилась о возвращении домой в свой коттедж, потому что решила, что вернется в Сильвертаун на следующий день и будет помогать.
Ее лучшее платье было грязным, в глазах кололо, а кожа головы зудела от бетонной пыли, даже ее легкие казались забитыми. И все же, когда она попросила подвезти ее к Адель на грузовике, возвращавшемся в направлении Уайтчепела, то подумала, что может считать себя счастливой по сравнению с людьми, с которыми была весь день.
Больница приобрела чуть более аккуратный вид, чем утром, и Хонор очень быстро нашла Адель.
Она выглядела уставшей, вокруг глаз были красные круги, но когда увидела бабушку, нервно переминавшуюся с ноги на ногу у двери палаты, то с удивленным видом кинулась к ней.
— Ради бога, объясни мне, что ты тут делаешь? — отругала она ее. — В любую минуту могут начать бомбить.
Хонор как можно быстрее объяснила, что приехала навестить Роуз, а после налета ей надо было обязательно найти Адель и убедиться, что она цела.
Адель была в шоке, услышав имя Роуз. Она вспыхнула от гнева и сказала, что Хонор, вероятно, потеряла свои мозги, если приехала из Винчелси, где была в безопасности, чтобы повидать кого-то, кто совершенно не стоил того. И когда бабушка обвинила ее в немилосердности, она пожала плечами и снова начала ругать ее за то, что она рисковала жизнью, придя в Уайтчепел.
— Послушай, бабушка, — сказала она, фыркнув по поводу ее грязного платья и неодобрительно качая головой, — я очень ценю, что ты думаешь обо мне, но я в то, чему меня учили. А теперь ты должна идти, прямо сейчас. Забирай Великана и поезжай домой. И ни смей оставаться больше ни на минуту с Роуз. Лондон — это место не для тебя.
— Я не согласна, — вызывающе сказала Хонор, рассказав ей, что она делала весь день. — И я вернусь завтра, если Роуз присмотрит за Великаном. От меня здесь будет больше толку, чем на побережье.
Тогда Адель по-настоящему обеспокоилась.
— Бабушка, это опасно, — сказала она, подталкивая ее обратно к двери. — Пожалуйста, если ты меня хоть немного любишь, поезжай домой и оставайся в безопасном месте. Сразу, пока я на тебя не рассердилась.
Хонор хмыкнула от такой внезапной перемены ролей. Она не намеревалась возвращаться в Сассекс, но подумала, что умнее будет не говорить сейчас об этом Адель, когда у той голова и без нее занята. Она поцеловала внучку и велела ей возвращаться к своим пациентам.
Когда Хонор прошла половину дороги до станции Алдгейт, загудела сирена. Она оглянулась вокруг на людей, но растерялась, потому что они рассыпались во всех направлениях. Кто-то днем говорил, что станции метро были самым безопасным местом, поэтому она продолжала свой путь, ускорив шаг.
Она не оглядывалась, когда услышала гул бомбардировщиков, не дрогнула от первого воя бомбы и удара, сотрясшего землю, который последовал за ним. Она услышала, как какой-то мужчина закричал ей, и увидела, как вместе с ней побежали люди, но предположила, что он предупреждает их, чтобы они поторопились.
Еще один воющий звук где-то очень близко, и вопль женщины рядом с ней. Хонор словно в лицо дунуло горячим воздухом, и тут же ее ослепило удушливой пылью, и что-то покатилось на нее, сбивая с ног.
Ее охватила раскалывающая боль, и последней мыслью было, что она не сказала Адель, где живет Роуз.
Глава двадцать вторая
— И не смотри на меня так! Я не знаю, где она, — рявкнула Роуз на Великана. Когда полчаса назад включили сирену, он совсем сошел с ума, бешено лая и мечась из комнаты в комнату в поисках Хонор. Он не захотел спускаться с ней в подвал, и Роуз была вынуждена тащить его за ошейник.
Сейчас, когда падали бомбы, он сидел, положив передние лапы ей на колени, и его умоляющие глаза и печальный вой действовали ей на нервы.
— С нами все будет в порядке, — сказала она, смягчаясь и гладя его по голове, догадавшись, что он чувствует ее ужас, потому что с ним все было в порядке, пока не включили сирену. В полдень они гуляли в парке Ревенскорт, а потом по дороге обратно остановились у паба в конце улицы, чтобы выпить, и он вызвал всеобщий восторг. Хозяин паба, Боб, даже дал ему каких-то объедков.
Все разговаривали о бомбежке прошлой ночью в Ист-Энде, и прошел слух, что были убиты сотни людей. Все сходились на том, что целью бомбардировщиков были доки и мирные жители были убиты просто по несчастной ошибке. Но у всех были напряжены нервы. Большинство собиралось на ночь спуститься в бомбоубежище, а несколько мужчин сказали, что вышлют своих жен и детей из Лондона.
Роуз задержалась, только чтобы выпить пару стаканчиков, потому что ожидала возвращения Хонор, но время шло, а мать не появлялась, и она разозлилась и почувствовала себя одураченной, что ее оставили с Великаном.
Но сейчас, слыша, как падают бомбы, сидя наедине с собакой, Роуз пришла к мысли, что с Хонор, а может быть, и с Адель, случилось худшее. Она не могла себе представить, что мать задержится даже на минуту по дороге в Уайтчепел. Единственное, что могло помешать ей вернуться за Великаном, это то, что она не нашла Адель.
Когда ей в голову пришла другая мысль, по ее спине пробежал холодок. А что, если Майлс рассказал Адель правду?
Роуз абсолютно не помнила, как написала матери письмо и отправила его, так как она сделала это, когда была пьяна. Она была совершенно ошарашена, когда объявилась Хонор, и ее первой мыслью было, что она пришла обвинять Роуз из-за этой истории с Майлсом и Адель.
Но через несколько минут она поняла, что дело не в этом, потому что Хонор вовсе не была сердита на нее. Тогда Роуз расслабилась, решив, что Майлс нашел какой-то другой способ склонить Адель к разрыву с Майклом, не признавшись ей в том, что он ее отец. Может быть, он даже предложил ей денег, и поэтому она не рассказала бабушке.
Позже вечером, когда Хонор в конце концов рассказала ей, что Адель переехала в Лондон, чтобы забыть Майкла, Роуз даже улыбнулась про себя. Она сама бы поступила именно так, забрала деньги и растворилась в городе. Ей казалось, что Адель не была такой примерной девочкой, какой ее хотела представить Хонор, а что она пошла в мать.
Но сейчас, пока Роуз нетерпеливо ждала возвращения Хонор, у нее было неотвязное чувство, что она могла неправильно оценить Адель. А что, если Майлс рассказал ей правду, а девочка скрыла это от бабушки, чтобы пощадить ее чувства?
Если это было правдой, то когда Хонор объявилась в больнице, рассказав, что была у Роуз, Адель вполне могла прийти в ярость. И если они вдвоем задумались, то не пройдет много времени, прежде чем они поймут, откуда у нее взялись деньги на покупку дома.
Роуз стало плохо от одной мысли об этом. Может быть, Хонор поэтому не вернулась? Потому что ей было невыносимо провести ночь в компании предательницы, которая получила тридцать пресловутых сребреников?
Вой бомбы и глухой удар совсем близко, так что свет дрогнул, бросили Роуз в дрожь. Если в дом попадет бомба, она будет похоронена под грудой кирпичей. Она никогда не любила оставаться одна — это было одной из причин, почему она хотела взять жильцов. Но сегодня никого из них не было дома.
Маржери и Соня, две молодые девушки, которые жили вдвоем в большой передней комнате на втором этаже, забегали утром переодеться. Вчера они ездили в Вест-Сайд, чтобы пройтись по магазинам, и в результате остались ночевать в бомбоубежище. Они сказали, что там было мрачно и они были напуганы до ужаса, поэтому собирались переночевать у родителей Маржери, если будет еще один налет.
Роуз встала с шезлонга и легла на матрац, натянув на себя одеяло и засунув голову под подушку, пытаясь укрыться от шума бомб. Но шум был неотвязным, как и ее мысли.
В пабе она слышала, как многие люди, с которыми она пила и которых считала друзьями, договаривались встретиться в местном бомбоубежище на случай очередного воздушного налета. Но ей никто не предложил присоединиться к ним. И Маржери с Соней не спросили, все ли с ней будет в порядке.
Она подумала о том, как ее мать хотела вчера вечером узнать обо всех жильцах — сколько им лет, откуда они родом и чем зарабатывают на жизнь. Роуз не смогла рассказать ей, потому что практически ничего ни о ком не знала. Сегодня она даже не спросила Маржери, где живут ее родители.
Роуз никогда раньше не думала, что отсутствие интереса к другим людям можно считать недостатком, но, вероятно, это было именно так. Может быть, Маржери, Соня и другие жильцы, включая бывших, рассматривали ее только как сборщика аренды, а не как одинокую женщину, которая может нуждаться в друзьях. Возможно, и все эти люди в пабе считали ее независимой женщиной, в жизни которой не было для них места.
И вдруг Роуз поняла, что у нее никогда не было настоящих друзей. У нее были десятки знакомых, она могла зайти в любой из полдюжины пабов, которые посещала в Лондоне, и встретить кого-то из знакомых. Но это не было настоящей дружбой, эти люди были просто собутыльниками. Кто будет оплакивать ее, если она умрет сегодня ночью?
Если Адель сегодня рассказала Хонор про Майкла, они бы и бровью не повели, прочитав ее имя в списках убитых. Как ни один из многих мужчин, которые были в жизни Роуз, потому что если они и помнили о ней, то вспоминали бы, как она их использовала.
— Миссис Харрис! Вы меня слышите?
Хонор услышала женский голос, прозвучавший среди сильного шума, словно она находилась на вечеринке или на вокзале. Похоже, она не могла открыть глаза и у нее болело, хотя она не могла разобрать, где именно.
— Миссис Харрис! Вы пострадали во время налета, но вы сейчас в безопасности в больнице.
«Налет! Больница!» Эти слова, похоже, что-то означали, но она не могла сконцентрироваться. Она спала? Надо вставать и выпустить Великана.
— Мне нужно выпустить Великана, — смогла она вымолвить и с трудом приоткрыла глаза, увидев яркий свет.
— Вот так лучше, — сказал голос. — Мы увидели ваше имя на конверте, миссис Харрис. Вы живете в Лондоне или по адресу в Сассексе?
Медленно Хонор начала фокусировать зрение, и расплывчатое пятно перед ней приобрело форму лица — молодого, красивого лица с темно-карими глазами. У девушки на голове была накрахмаленная шапочка, совсем как у Адель.
— Адель здесь? — вымолвила она с трудом, ее рот, казалось, был забит пылью.
— Какая Адель?
— Адель Талбот, моя внучка. Она медсестра.
— Вы бабушка Адель? — недоверчиво спросила медсестра. — Боже правый!
Хонор была уверена, что это только сон. Она закрыла глаза, потому что свет был слишком яркий, и снова погрузилась в сон.
— Бабушка!
От звука голоса Адель она немедленно проснулась.
— Адель?
Она не видела ее ясно, но узнала по прикосновению руки, сжимавшей ее руку. Ей не нужно было говорить сейчас, когда Адель была рядом, она была в безопасности, и ее снова одолел сон.
Отойдя от кровати бабушки, Адель кинулась в комнату палатной сестры. Она весь вечер ухаживала за послеоперационными пациентами и не видела многих раненых, которых доставили в больницу. Для нее была шоком новость, когда к ней подошла сестра Попл и сообщила, что среди них ее бабушка. Адель полагала, что она благополучно добралась до Хаммерсмита.
Еще хуже было увидеть ее перевязанной и услышать от сестры, что они опасаются сотрясения мозга, потому что она долгое время была без сознания.
Адель сообщила сестре Джонс, что миссис Харрис ее бабушка.
— Сестра Попл сказала, что, возможно, у нее сотрясение мозга. Это так?
— Слишком рано что-то говорить, — сказала сестра и, увидев страдальческое выражение лица молодой медсестры, сочувственно похлопала ее по плечу. — Она смогла спросить о тебе, и это отличный знак, но у нее нехорошая рана на голове и сломана нога, а по всему телу множество рваных ран.
— Она очень сильная и здоровая, — сказала Адель срывающимся от волнения голосом. — Это поможет ей, правда?
— Да, сестра, конечно, поможет, и еще поможет то, что она в твоей больнице. У нее есть муж?
— Нет, она вдова, — сказала Адель. — Она навещала кое-кого в Лондоне и оставила там собаку. Но я не знаю адреса.
Она не могла заставить себя признаться, что этот «кто-то» был ее матерью. С тех пор как Хонор сообщила ей, что оставалась на ночь у Роуз, Адель кипела от гнева, что у нее хватило наглости пытаться снова влезть в их жизнь.
Сестра объяснила, что посмотрела у Хонор в сумочке и нашла письмо.
— Разумеется, я его не читала, но думаю, вы должны его прочитать, оно может быть от того, кого она приехала навестить. Скажите, Талбот, сколько времени вы уже дежурите?
— Столько, сколько и все, — сказала Адель. — Со вчерашнего налета, не считая трех свободных часов сегодня утром. Но я не хочу сменяться сейчас, когда здесь бабушка.
Сестра Джонс посмотрела на нее испытующе.
— Я настаиваю, чтобы вы позже ушли на несколько часов, — сказала она. — Истощенные медсестры совершают ошибки. Кроме того, в состоянии миссис Харрис по меньшей мере до завтра не будет каких-либо перемен.
Когда Адель порылась в сумочке Хонор и нашла слезливое письмо от Роуз, она еще больше разгневалась на мать. Было невероятно, что у нее хватило наглости просить прощения после всех страданий, которые она причинила.
Может быть, она не ожидала, что Хонор сядет на первый поезд, но позволить ей отправиться в Ист-Энд сразу же после налета было просто преступно.
Адель знала, что хотела бы сделать: кинуться в Хаммерсмит, забрать Великана и в недвусмысленных выражениях сказать матери, что она больше никогда не желает ни видеть, ни слышать ее, Но она не могла оставить больницу и бабушку и не могла приглядывать за Великаном, пока бабушка не поправится.
Она предположила, что ей просто нужно будет попросить полицию известить Роуз о том, что произошло, и надеяться, что у нее есть хоть какие-то остатки приличий, чтобы позаботиться о Великане.
На следующее утро Роуз проснулась в одиннадцать часов от звонка в дверь. Она оставалась в подвале, пока сразу после рассвета не дали отбой, но совсем не спала, потому что была очень напугана. Она вышла с Великаном ненадолго погулять и с облегчением увидела, что бомбы не задели Хаммерсмит. Тогда она вернулась к себе в спальню и легла в постель.
Открыв дверь и увидев полицейского в форме, она подумала о худшем и плотнее завернулась в свой халатик.
— Миссис Талбот? — спросил полицейский.
— Да, — сказала Роуз, и у нее подкосились ноги.
— Простите, что принес вам плохие новости, но ваша мать вчера была ранена во время воздушного налета.
Роуз не знала, что сказать. Она просто стояла и смотрела на полицейского.
— Она в Лондонской больнице в Уайтчепел. Мы получили это известие рано утром от вашей дочери, которая, если я правильно понимаю, работает там медсестрой. Она сообщила, что у миссис Харрис довольно серьезные ранения, но ее состояние стабильное.
— Но у меня здесь ее собака, — сказала Роуз, не подумав. — И что мне делать?
Полицейский косо посмотрел на нее.
— Может быть, позаботиться о собаке, пока мать поправится? — предложил он свой ответ с легкой ноткой сарказма.
— И сколько это займет времени? — спросила она.
— Вы могли бы позвонить в больницу или зайти узнать, — сказал он резко.
Когда полицейский ушел, Роуз закрыла за ним дверь и медленно прошла к себе. Ей потребовалось несколько минут, прежде чем до нее дошли его слова, и еще какое-то время, прежде чем она поняла, что он мог расценить ее реакцию как черствость. Она стояла у задней двери, глядя на ступеньки, ведущие в сад, и рылась в кармане халата, ища сигареты. Зачем она сказала про собаку? Кажется, полицейский понял это так, что она больше беспокоилась о том, как избавиться от животного, чем о том, что ее мать в больнице.
Дрожащими руками она взяла сигарету, закурила и глубоко затянулась. Всю жизнь было именно так: ее мозг словно не имел ничего общего с ее голосовыми связками. Сколько мужчин называли ее сукой, потому что она, находясь в стрессе, говорила нечто, причиняющее сильную боль. Даже когда Роуз на самом деле пыталась проявить сочувствие, всегда почему-то выходило так, что она проявляла бездушие.
Но больше всего ей было стыдно за те слова, которые она сказала в семнадцать лет, когда мать подарила ей сшитое ею самой голубое платье.
Она наговорила ужасных вещей не из-за платья, которое было хорошим и практичным. Но она была безнадежно влюблена в Майлса, и вся ее душа просила чего-то романтичного, красивого, волшебного. Простое голубое платье было олицетворением всего, что она ненавидела: работу официанткой, жизнь на болотах, к тому же ее исключили из этого блистательного мира, который она мельком видела в гостинице.
Роуз сказала матери и ужасные слова об отце, но ее подтолкнуло сказать их глубокое разочарование, что она не в силах исправить свою судьбу, и зависть к другим, которые имели гораздо больше, чем она.
Потом она считала, что единственный выход — это сбежать. В отчаянии она взяла все ценные вещи, которые нашла, потому что была уверена не до конца, что Майлс возьмет ее с собой, как бы он ее ни хотел. Кроме того, ей пришлось наговорить ему массу лжи, чтобы он согласился, и пришлось продолжать лгать даже после того, как она приехала с ним в Лондон.
Роуз тяжело опустилась на ступеньки у задней двери и заплакала, Что она сделала со своей жизнью! Всю дорогу ей встречались перекрестки, и на каждом перекрестке, до которого она доходила, она всегда выбирала более легкую дорогу — ту, которая вела под уклон.
Прошло две недели, прежде чем Роуз собралась в больницу, чтобы увидеться с Хонор. Великана она оставила дома, поскольку не могла взять его с собой. Она звонила каждый день и с облегчением слышала от палатной сестры, что здоровье Хонор каждый день улучшалось. Именно сестра посоветовала Роуз пока не приходить, потому что Хонор только беспокоилась бы о собаке, если бы Роуз пришлось оставить ее одну.
Роуз этого и ждала. Она не любила больниц, а мысль, что она может столкнуться там с Адель, приводила ее в ужас. Она понимала ее враждебное отношение, иначе бы Адель оставила записку с номером телефона и временем, когда ее можно застать. И кроме всего прочего, была еще бомбежка. В дневное время налеты прекратились, но с наступлением ночи начинался огневой вал. Би-би-си и газеты не сообщали о последствиях и никогда не упоминали о числе пострадавших, но все знали, что в Ист-Энде не осталось камня на камне.
Вокруг Хаммерсмита было достаточно упавших бомб и пожаров, чтобы Роуз получила представление о том, каким адом может быть Ист-Энд. Каждое утро она видела новые разрушения от бомб недалеко от дома, а пока стояла в очередях за продуктами, слышала, как люди говорили о местах, где было больше всего разрушений. Похоже, работавшие в Ист-Энде или в Сити часто приезжали по утрам в офис или в магазин и обнаруживали выбитые стекла или вогнутую крышу. Темой разговоров была увиденная брешь на улице, груда камней, разноцветные телефонные провода, развевающиеся на ветру, разбитые водопроводные и газовые трубы.
Роуз была крайне удивлена, что столько людей проводили бессонные ночи в бомбоубежище, а наутро преодолевали огромные расстояния пешком, чтобы вовремя появиться на месте работы. И что многие владельцы кафе и магазинов все еще открывали свои заведения, несмотря на выбитые окна. Она подумала, что они сошли с ума — ни король, ни правительство не собирались вознаграждать людей за то, что они честно выполняли свой долг. Она же просто возвращалась домой, раздобыв немного сигарет и еды. Никто не смог бы насильно завербовать ее разливать чай в палатке или раздавать одежду тем, чьи дома разбомбило.
По прошествии двух недель Роуз уже было тошно оставаться дома каждую ночь одной с Великаном. Все ее жильцы спускались в бомбоубежище и, казалось, по-настоящему там веселились. Поэтому, когда она позвонила в больницу и сестра сказала, что Хонор уже достаточно поправилась, чтобы выехать из Лондона, у Роуз поднялось настроение. Она подумала, что как только Великана заберут, она сможет пройтись по Вест-Энду, выпить и подцепить какого-нибудь нового мужчину. Она была уже сыта по горло жизнью монашки, и, судя по всему, Вест-Энд был полон военнослужащих, которые не отказались бы повеселиться.
Пока поезд метро несся вперед, Роуз безутешно смотрела на свое отражение в оконных стеклах. Недостаток сна, беспокойство и недоедание оставили свой след, и хотя она с утра очень потрудилась над своей внешностью, все же не выглядела моложе своих лет. Но оглядев пассажиров, она ободрилась, увидев, что все они выглядят намного хуже — грязные, потрепанные, с изможденными лицами.
— Доброе утро, миссис Талбот, — строго сказала сестра Джонс, зайдя в маленькую комнату ожидания, в которой Роуз оставили более чем на час.
Роуз была в состоянии шока от увиденных в больнице сцен. Сотни людей со всеми мыслимыми и немыслимыми ранениями сидели везде, где только было место, на стульях и на полу. У одного мужчины из куртки все еще торчали осколки стекла и, когда он двигался, на пол капала кровь. На носилках принесли женщину, ее лицо было неузнаваемым от лежавшего на нем толстого мучнистого слоя пыли, и на одной ноге была серьезная рана. Здесь было достаточно зрелищ, от которых Роуз выворачивало наизнанку, но шум был еще хуже — слезы, вопли, крики и вой. Она бы наверняка убежала со всех ног, если бы сестра не завела ее в эту относительно тихую маленькую комнатку, но даже здесь находились еще шестеро убитых горем людей.
— Миссис Харрис достаточно выздоровела, чтобы переезжать, и, разумеется, нам невероятно нужны кровати, — поспешно сказала сестра безо всяких вступлений. — Она хочет поехать домой, но за ней нужен уход.
— Не смотрите на меня, — возмущенно сказала Роуз. — Мне нужно управлять пансионом.
— Сестра Талбот ожидала от вас такого ответа, — отрезала сестра. — Разумеется, она более чем готова ухаживать за бабушкой, но она нужна мне здесь, нам категорически не хватает медсестер.
— Где она? — спросила Роуз. Ей ни капли не нравился высокомерный тон женщины.
— Сейчас она с пациентом, но она знает, что вы здесь, и сейчас к вам спустится.
— Я не могу ждать целый день, — воинственно сказала Роуз. Она знала, что производит неприятное впечатление, но ничего не могла поделать. Частично это было потому, что она до смерти боялась возможности столкнуться лицом к лицу с Адель.
Сестра обожгла ее взглядом.
— Некоторые раненые здесь уже ждут по восемь часов, а кто и больше, — сказала она, махнув рукой в сторону огромной приемной за маленькой комнатой. — Они испытывают боль, отчаянно пытаются узнать о родных, и большинство из них потеряли свой дом. Я вам предлагаю подумать над тем, как вам повезло в жизни.
Она повернулась и, не добавив ни слова, умчалась из комнаты, и у Роуз осталось такое чувство, будто ее ударили по лицу.
Прошло еще больше часа, прежде чем в комнату зашла медсестра. Она была высокая, стройная и очень привлекательная, хотя ее передник был забрызган кровью. Роуз вскочила со стула.
— Я жду сестру Талбот уже целую вечность! — выпалила она. — Вы не можете ее поторопить?
— Я сестра Талбот, — холодно ответила молодая женщина. — Здравствуй, мама! Мы давно не виделись, но я ожидала, что ты узнаешь собственную дочь.
Роуз смешалась, и ей стало неловко от того, что все в комнате посмотрели на нее. Она никак не могла поверить, что эта очаровательная молодая медсестра со сверкающими волосами цвета осенних листьев и великолепными зубами — Адель. В своем воображении она рисовала некрасивую, тощую девушку с болезненным цветом лица и тусклыми каштановыми волосами.
— Я… я… я… — пробормотала она.
— Ты не предполагала, что я могла немного измениться с годами? — насмешливо спросила Адель.
Роуз плюхнулась на стул.
— Ты такая красивая, — сказала она еле слышно. — Я не ожидала.
— У нас сейчас нет времени обсуждать мою внешность, — сказала Адель с легкой ноткой язвительности. — Нам нужно принять решение по поводу бабушки. Она хочет поехать домой, и, по моему мнению, там она быстрее станет на ноги, но я могу взять только несколько выходных, чтобы устроить ее. Ты останешься с ней?
Роуз была ошарашена. Адель, которую она помнила, никогда бы не осмелилась быть такой прямой.
— Я не могу, у меня жильцы, — сказала она быстро.
— Ты наверняка можешь им доверить, чтобы они позаботились о себе сами.
— Но нужно собирать аренду и мыть лестницу и ванную.
— Мама, сейчас война, — резко сказала Адель. — Люди умирают под бомбами. Неужели такое значение имеет немного грязи на лестнице? И ты можешь нанять кого-нибудь собирать аренду. Кроме того, тебе самой в Сассексе будет безопаснее.
Роуз быстро соображала. Как бы ей ни была отвратительна идея, что придется заботиться о матери, она знала, что, если откажет, ее отрежут навсегда. И потом был еще Керлью-коттедж. Было бы неплохо спать спокойно, это будет вроде каникул.
— Какая помощь маме будет нужна? — осторожно спросила она.
— Небольшая. Она может пройти пару шагов на костылях. Ей нужно помогать мыться, одеваться и все такое. И потом еще готовить и убирать.
— Думаю, я готова попробовать, — сказала Роуз слабым голосом.
Адель свирепо уставилась на нее, и Роуз вспомнила, как много раз она заявляла, что у ее дочери глаза странного зеленовато-коричневого цвета. Сейчас в них не было ничего странного, по сути, они, обрамленные густыми темными ресницами, были очень красивым.
— Ты могла бы попробовать проявить чуть больше энтузиазма, когда увидишь бабушку, — упрекнула она мать. — Она приехала в Лондон из-за тебя, а теперь у тебя есть возможность доказать, что ты действительно имела в виду то, о чем написала в письме.
Ее тон был мягким, и в словах была нежность, тронувшая Роуз.
— Конечно, я имела это в виду, — торопливо произнесла она. — Я сейчас просто немного измотана из-за этих ночных бомбежек, к вообще сейчас все вверх дном.
— Ну, тогда мы сейчас пойдем к ней, — улыбнулась Адель. — Я уверена, что она успокоится и будет очень счастлива, что ты хочешь о ней позаботиться.
Наследующее утро, собирая чемодан, Роуз вся была на нервах. Ночью на соседней улице упала бомба, и это событие наряду с ужасными сценами, увиденными накануне в больнице и вокруг нее, где было разрушено много домов, убедило ее, что, уезжая, она поступает правильно. Миссис Арброут, соседка, согласилась позаботиться о доме, сдавать комнаты, если нужно, и собирать аренду за небольшой процент. Роуз знала, что женщине можно доверять безоговорочно, потому что она была очень религиозной, и не боялась того, что может обнаружить при возвращении.
Но она боялась Адель.
В ней не осталось и следа от маленькой девочки, которая смирялась с равнодушием и иногда с жестокостью. Взрослая Адель была спокойной и очень приятной, она ничего не сказала об обиде на мать, но у Роуз все равно было какое-то нехорошее чувство.
Для этого чувства не было оснований. Все слова Адель были логичными, даже добрыми, к тому же она была очень практична. Оказалось, что она послала телеграмму почтальону в Рай, как только Хонор ранило, и попросила его кормить кроликов и кур. Сегодня она послала еще одну телеграмму, сообщив, что они приезжают сегодня после полудня. Она организовала, чтобы кто-то забрал Роуз и Великана в девять часов утра, потом заехал за ней и Хонор и отвез их в Рай. По сути, когда она говорила о них троих, это звучало так, будто ей доставляло удовольствие, что они становятся настоящей семьей.
Может быть, Роуз было так не по себе только от нечистой совести, потому что она никак не могла до конца избавиться от мысли, что Адель намеревается когда-нибудь расправиться с ней.
С Хонор тоже не все было так просто. Ее сломанная нога была еще в гипсе, а некоторые раны будут заживать еще долго, но мозг не был поврежден, потому что она по-прежнему демонстрировала свой острый ум. Она заявила Роуз в недвусмысленных выражениях, что та может забыть о ярких тряпках, потому что они не понадобятся, а вместо этого пусть возьмет прочные туфли и теплую одежду. Она напомнила ей о талонах на еду и велела взять с собой все запасы консервов, которые у нее были. И даже ехидным тоном спросила, помнит ли та еще, как свернуть курице шею.
Прошлой ночью, когда снова бомбили, Роуз подумала о том, что в Керлью-коттедж нет ни туалета, ни электричества, и вспомнила, как далеко до ближайшего магазина. Она уже пожалела, что согласилась поехать, и знала, что ей будет отвратительна роль служанки при собственной матери, хотя она и рада уехать подальше от бомб. Но она уже не могла от этого увернуться — может быть, пройдет неделя, и найдется какой-нибудь достоверный предлог, чтобы вернуться в Лондон.
Глава двадцать третья
— Мы пойдем за хворостом, когда ты здесь закончишь, — сказала Адель, пока Роуз вытирала тарелки в судомойне. — Я утром заметило буря свалила несколько деревьев. Мы возьмем топор и сможем заготовить немного дров.
Роуз вздохнула. Это был второй день ее пребывания в коттедже, и Адель занимала ее работой с того момента, как они приехали; это было понятно, потому что нужно было многое привести в порядок, но Роуз надеялась, что во второй половине дня сможет отдохнуть.
Их привезли сюда в фургоне, Хонор поместили сзади на матраце, Адель и Великана — рядом с ней. Роуз села впереди с водителем, старым глуховатым мужчиной, который громко задавал вопросы, будто глухими были они, а не он. Всю дорогу через Южный Лондон они видели ужасные разрушения от бомб.
И все же, как только они выехали из Лондона, Роуз приободрилась, увидев деревья в осенних красках. Все выглядело таким сияющим и чистым в мягком солнечном свете, даже морозец в воздухе бодрил, и, когда они проезжали одну за другой безмятежные красочные деревушки, война начала казаться просто дурным сном.
Увидев болота, она даже почувствовала неожиданно захлестнувшую ее волну ностальгии и волнения. Трава была такой пышной и зеленой, тростник в канавах развевался на ветру и клематис на изгородях блестел паутинками, тронутыми росой, точно так же, как это было в детстве Роуз.
Перед их приездом заходил почтальон Джим затопить печку. На столе он оставил корзину яиц, кварту молока в кувшине и пирог с яблоками и черникой, который, по всей вероятности, испекла жена Джима, а в вазе стояли полевые цветы, приветствуя возвращение Хонор домой. Роуз засмеялась, когда Великан начал метаться вокруг, радостно все обнюхивая, потому что она когда-то точно так же ликовала, когда родители привозили ее сюда на выходные и каникулы много лет назад.
Но ликование быстро угасло, когда небо потемнело и полил сильный дождь, а ей пришлось бежать в туалет, чтобы вылить за Хонор из ночного горшка. Хонор возмущенно спорила с Адель по поводу необходимости горшка и смело зашагала бы сейчас под дождем на костылях, но Адель и слышать об этом не хотела. Она настаивала, что на костылях можно ходить только дома, потому что земля во дворе была неровной и скользкой. Роуз слышала, как Адель заставила Хонор пообещать, что та не возьмется за свое, когда она вернется в Лондон. Она даже добавила мрачно: «Сколько бы Роуз тебя ни уверяла, что это безопасно».
Если Роуз было отвратительно выливать за матерью из горшка и перевязывать ее раны, она не так уж возражала против того, чтобы для нее готовить и следить за домом. Что-то утешительное было в том, что она вернулась в свой старый дом, хранящий воспоминания о детстве, далеко от ночных ужасов Лондона. Она была даже тронута, увидев, что ее непокорная мать так беспомощна.
Хонор всегда отличалась своей осанкой. Она стояла с ровной спиной, распрямив грудь и подняв подбородок, и была очень сильной и мускулистой. Роуз помнила, как она ребенком наблюдала за матерью, которая поднимала тяжелые ведра с камнями, копала сад, как мужчина, и взбиралась на крышу с ловкостью обезьяны. Она никогда не поддавалась усталости — поднималась с жаворонками и работала до сумерек.
Даже когда Хонор приехала в Хаммерсмит, было явно видно, что она все еще сохранила свою бодрость. И хотя ее волосы стали седыми, а лицо покрылось морщинами, было понятно, что она из тех женщин, которые никогда не стареют.
Но сейчас, когда она сидела, положив сломанную ногу на табурет, с этой огромной повязкой на голове она выглядела на свои шестьдесят. Ее кожа была желтой от синяков. Хонор сильно похудела, отчего стали заметнее морщины, ее глаза слезились, а голос потерял свои командирские нотки. Адель накинула ей на плечи яркое вязаное одеяло, и в опущенных на нос очках для чтения она вдруг стала похожа на хрупкую бабушку с картинки в детской книжке.
Дождь перешел в настоящий ливень, и за воющим ветром и дробью дождя по крыше было едва слышно приемник. Но Роуз подумала, что это намного лучше бомб, и в ту минуту, когда ее голова коснулась подушки, она уснула.
Адель спала на кушетке в гостиной. Роуз предложила, чтобы она спала с ней, но Адель об этом и слышать не захотела. Она со смехом сказала, что вот уже две недели спит по три часа, и если она заснет в удобной кровати, то рискует вообще никогда не проснуться. Но у Роуз возникло чувство, что дочери просто невыносимо находиться так близко к ней.
Хотя Роуз знала, что Адель не собирается прижать свою заблудшую мать к груди и простить ей все, что было в прошлом, ей хотелось, чтобы дочь сказала что-нибудь, что дало бы ей надежду на будущее. Она невольно восхищалась тайком, что Адель выросла не только красивой, но и умной, уверенной в себе и очень способной. Она была такой дочерью, которой гордилась бы любая мать, но Роуз мучилась угрызениями совести от того, что Адель стала такой, несмотря на мать, а не благодаря ей.
Инстинкт подсказывал ей, что Адель не была готова ни простить, ни забыть. Она была настороже, натянуто улыбалась и разговаривала с Роуз с плохо скрываемым сарказмом.
В то утро, когда она показывала, как менять повязку на раненой голове Хонор и на одной довольно сильной ране на руке, Роуз почувствовала на себе ее внимательный взгляд. Позже, когда они кормили кроликов и кур, Адель вообще не разговаривала. Она словно замышляла что-то, сдерживая свой гнев, пока не придет момент выпустить его наружу.
— Здесь сваленное дерево, — сказала Адель, шагая впереди с коляской по направлению к Винчелси-роуд. Она свернула у ворот, открыла их и втащила через них коляску. На земле лежало два дерева, вырванных с корнями.
Пока Адель взялась с топором за одно дерево, Роуз собирала мелкие ветки вокруг, быстро наполняя ими коляску.
— Разве еще недостаточно? — спросила она Адель, продолжавшую рубить дерево. Адель скинула с себя пальто и кофту, потому что вспотела от усилий. У нее по лицу струился пот, а лиф платья покрылся влажными пятнами.
— Эта печка потребляет много дерева, — сказала Адель, приостановившись, чтобы стереть пот. — Тебе нужно будет приходить сюда каждый день и нарубить еще.
— Я не могу этого делать, — в ужасе сказала Роуз. — Я сомневаюсь, что смогу даже поднять топор. — Но когда эти слова вылетели у нее изо рта, она поняла, что должна была просто кивнуть в ответ. Адель окатила ее ледяным взглядом, будто перед ней находилось жалкое существо.
— Я попытаюсь, конечно, — поспешила сказать Роуз. — Но может быть, здесь где-нибудь найдется мужчина, который нарубит для меня дров?
Адель снова подняла топор и, держа его обеими руками, фыркнула.
— А ты ни капли не изменилась, — сказала она. — Всегда ждала, что все за тебя будут делать мужчины. Я думаю, в твоей жизни не было ни дня, чтобы ты тяжело поработала, не так ли?
— Я всегда сама заботилась о себе, — ответила Роуз, но ее голос задрожал, потому что она почувствовала, что это начало окончательного выяснения отношений, которого она ждала и боялась. — По крайней мере с тех пор, как Джим меня бросил.
— Неужели? — Брови Адель удивленно поднялись. — И ты каким-то образом заработала достаточно денег, чтобы купить дом?
— Да. Ну, во всяком случае, на депозит, — отрезала Роуз и зашагала прочь, потому что испугалась.
— Лжешь! — крикнула Адель и побежала за ней, хватая ее за руку. — Я предполагаю, откуда эти деньги. От Майлса Бэйли, так? Ты его шантажировала!
— Я не знаю, о ком ты говоришь, — упорно защищалась Роуз. — Кто такой Майлс Бэйли?
Удар по лицу был таким быстрым, что она даже не увидела, кода Адель подняла руку. Она отшатнулась назад, споткнулась об упавшую ветку и упала на спину, растянувшись во весь рост. Адель стояла над ней с топором в руке и гневно смотрела на нее.
— Ты несчастная, вероломная сука, — зашипела она на нее. — Ты еще и дура, если думаешь, что он мне не сказал! Он тоже порядочная скотина, но у него хотя бы есть остатки приличий, он пытается защитить своего сына! А ты отвратительна, у тебя не только не хватило духу прийти ко мне и рассказать, почему я не могла выйти замуж за Майкла, ты еще использовала это, чтобы выкрутить из него деньги.
— Я этого не делала! — бурно настаивала Роуз, зная, что у Адель нет доказательств. — Я не брала денег. Я только пошла к нему, потому что не могла вернуться в твою жизнь и рассказать это сама.
— Я уже выросла! — бросила ей в лицо Адель. — Я вспоминала все те мерзости, которые ты делала и говорила мне намеренно, и поняла, отчего это. Я уверена, что за одну неделю думала о тебе больше, чем ты обо мне за все двадцать лет. Ты обращалась со мной хуже, чем с бродячей кошкой! Ты обвинила меня в смерти Памелы, ты заставила меня думать, что запила по моей вине, и даже родившись, я причинила тебе зло. После всего этого ты меня уже не сможешь одурачить. Ты просто шлюха, лгунья, и ты совершенное ничтожество как человек.
Роуз была ошеломлена жестокими словами Адель, и ей казалось невероятным, что она копила в себе эти два дня столько яда, ожидая нужного момента, чтобы выплюнуть его.
Она лежала на траве, оцепенев и не сводя глаз с топора в руке Адель. Она была уверена, что Адель набросится на нее с топором. — Прости, Адель, — захныкала она. — Я была больна, у меня было не все в порядке с головой, ты же знаешь. Спроси у бабушки. Она расскажет.
— Я ни о чем не буду бабушку спрашивать, — сказала Адель. Ее глаза горели и голос охрип от волнения. — Она уже достаточно из-за тебя настрадалась. Тебе было мало, что ты разбила ее сердце? Зачем тебе нужно было возвращаться — чтобы разрушить еще и мою жизнь и жизнь Майкла?
— Я никогда не хотела причинить маме боль, я была молодой и глупой, — рыдая, вымолвила Роуз. — Ни тебе, ни Майклу, но я же должна была что-то сделать. Если бы вы поженились и у вас родились дети, они могли бы быть слабоумными.
— Может быть, я поверила бы, если бы ты пришла ко мне и рассказала всю правду, — заорала на нее Адель. — Но ты пошла к нему, ты увидела в этом прекрасную возможность нажиться.
— Если ты так плохо обо мне думаешь, почему ты заставила меня приехать сюда и ухаживать за мамой? — выкрикнула Роуз.
— Может быть, потому, что я хотела заманить тебя сюда и убить!
К ужасу Роуз, Адель взялась за топор обеими руками, подняла его и быстро опустила, остановившись лишь в нескольких дюймах от головы Роуз.
— Ты когда-то пыталась убить меня, или ты уже забыла? А я тебе ничего не сделала.
— Я была больна и вне себя от горя из-за смерти Памелы! — заверещала Роуз, отчаянно пытаясь выкрутиться, потому что Адель махала топором, каждый раз все приближая его к лицу Роуз. — Я тебе никогда не объясняла. Майлс меня бросил, когда я была беременна тобой. Я его обожала, а он меня просто бросил на произвол судьбы, я могла кончить в работном доме. Ты не знаешь, через что я прошла. Пожалуйста, Адель, не убивай меня.
— Сколько денег ты из него вытянула? — выкрикнула Адель и ближе придвинулась к Роуз, снова опасно приближая топор к ее лицу. — Говори мне быстро или получишь топором!
Роуз поняла, что бессмысленно продолжать отрицать, что она взяла деньги у Майлса, у нее было такое чувство, что Адель итак все знала.
— Тысячу фунтов, — прохрипела она. — Но он был мне должен, после того что он сделал со мной.
Адель снова замахнулась топором. Роуз закричала и закрыла лицо руками, невольно описавшись. Лезвие прошло так близко, что почти коснулось ее щеки, и вошло в траву прямо возле ее уха.
— Ты мне отвратительна, — с презрением бросила Адель. — Посмотри на себя, ты просто в ужасе от ребенка, которого все время колотила! Ты заслуживаешь страданий за то, что сделала со мной, но я подумала о чем-то более конструктивном, чем убить тебя или изуродовать.
— Я сделаю все, что ты скажешь, — захныкала Роуз. Она была напугана и думала, что даже не в состоянии будет подняться с земли. — Послушай, я продам дом и отдам деньги маме.
— Ты думаешь, она захочет твоих чертовых денег? — снова заорала Адель. — Ты думаешь, я когда-нибудь позволю ей узнать, насколько порочна ее единственная дочь?
— Так чего же ты хочешь? — выкрикнула Роуз.
— Я хочу, чтобы она жила долго и была счастлива, и это все, — ответила Адель срывающимся голосом. — Я хочу, чтобы она ни дня в жизни больше не беспокоилась. Я хочу, чтобы она думала, что они с Фрэнком воспитали хорошего, порядочного человека. Даже если это неправда.
Роуз продолжала дрожать от страха.
— Ты готова дать ей это, чего бы это ни стоило? — прошипела ей Адель. — Готова?
Роуз кивнула. Она знала, что должна согласиться, другого выбора у нее не было.
— Тогда сядь, — приказала ей Адель. — И слушай внимательно, потому что повторять я не буду.
Роуз села и попыталась рукавом стереть слезы с лица.
— Хорошо! — сказала Адель. — Я дам тебе только один шанс искупить свою вину, и это будет для тебя нелегко. Тебе придется добровольно ухаживать за бабушкой, выливать из ее горшка, мыть ее, кормить и следить за коттеджем, за садом и за животными. Ты станешь любящей дочерью, которой она заслуживает.
— Я сделаю это, — в отчаянии согласилась Роуз. — Я обещаю, я сделаю.
— Так-то лучше, — сказала Адель и ухмыльнулась. — Я знаю, что через полчаса после моего отъезда ты начнешь разрабатывать план, как выбраться отсюда и вернуться к своему пьянству и грязной жизни. Только попробуй! Одно неверное движение — и я буду знать об этом. И я буду стоять у тебя над душой. Обещаю, что не дам тебе второго шанса.
Роуз заглянула в зеленовато-коричневые глаза дочери, и они вдруг до боли напомнили ей о Майлсе. Он посмотрел на нее точно так же незадолго до того, как бросил ее. Это был такой проницательный взгляд, словно он посмотрел ей прямо в душу и ему не понравилось то, что он там увидел.
Наверное, он раскрыл всю ее ложь и мошенничество точно так же, как это сделала Адель. Похоже было, что Адель пошла в отца, а не в мать.
— Я должна кое-что рассказать тебе о твоем отце, — начала Роуз, потому что вдруг почувствовала непреодолимое желание облегчить душу.
— Я не хочу это слушать. Я терпеть не могу его, так же как и тебя, — оборвала Адель. — Эти поленья ты должна отвезти домой. Успокойся, потом обойди коттедж сзади, войди через заднюю дверь и умойся, прежде чем бабушка увидит тебя.
Роуз в недоуменном молчании наблюдала, как Адель спокойно подошла к коляске, полной хвороста, свалила сверху поленья и рядом с ними топор и подтолкнула коляску к воротам, будто ничего не произошло.
Роуз поднялась, нашарила в кармане сигарету, затем швырнула в коляску остатки упавшего дерева и глубоко затянулась, пытаясь унять дрожь.
Адель была не права, считая, что она все эти годы никогда о ней не думала. Она думала. Но никогда не упрекала себя за то, что так плохо с ней обходилась. Даже когда Хонор отругала ее за то, что она плохая мать, она до конца не осознала, сколько страданий принесла дочери.
Но сейчас она увидела это. Когда она столкнулась лицом к лицу с такой яростью и ненавистью, разрушилась вся ее тщательно выстраиваемая годами защита. Она не могла оправдаться, потому что была тем, кем назвала ее Адель, — лгуньей, шлюхой и мошенницей.
Роуз разрыдалась, будто что-то внутри нее сломалось, и вместе со слезами появилось отвращение к себе. Она всегда использовала людей, возможно, бессознательно, но сейчас, когда она подумала об этом, то поняла, что всегда приживалась у тех, кто мог что-то дать. Она когда-нибудь поступала по доброте, из щедрости или альтруизма?
Хотя она часто и раскаивалась в обмане, бессердечности, алчности и манипулировании людьми, но всегда находила какое-то оправдание для себя.
Роуз закрыла лицо руками, вдруг так отчаянно устыдившись себя самой, что ей захотелось умереть, лишь бы не встречаться снова с Адель или Хонор.
Она оставалась во дворе, пока не сгустились сумерки, потому что не могла прекратить плакать, эти слезы были словно рекой сожалений. Только сейчас она поняла значение поговорки «Что посеешь, то и пожнешь». Как она могла ожидать любви, доброты или понимания, если сама никогда никому этого не дала?
Ей до смерти хотелось просто сбежать отсюда, найти паб и напиться до забытья. Именно так она обычно поступала в кризисных ситуациях. Но на этот раз она этого не сделает. Она будет точно следовать указаниям Адель. Вероятно, этого всегда будет недостаточно ни для ее матери, ни для ее дочери. Но нужно было попытаться.
Через две недели Хонор сидела в кресле у печки и смотрела на ногу в гипсе, которую положила на табурет. Гипс был грязным, потому что Великан забегал в дом со двора и отряхивал рядом с ней свою грязную и мокрую шерсть. Серый носок, который она натянула на ногу, нужно было заштопать, в дырке виднелся фиолетового цвета палец, и нога зудела под гипсом. Она невероятно устала оттого, что не могла свободно передвигаться, ей ужасно надоело сидеть взаперти, но она понимала, что ей еще повезло.
Ей повезло, что она осталась жива, и она должна быть рада, что все остальные раны так быстро зажили. Даже рана на голове уже почти затянулась, и через несколько дней можно будет снять повязку.
Роуз ощипывала курицу в судомойне и чихала каждый раз, когда перышки попадали ей в нос, и каждый раз при этом Хонор невольно улыбалась.
Роуз не была предназначена для деревенской жизни. Ее руки были слишком нежными для грубой работы, в ней не было выносливости, и она была привередливой. Если бы все было так, как она хотела, они бы каждый вечер ели рыбу с жареной картошкой, она покупала бы хлеб и, вероятно, предпочла бы работать на фабрике боеприпасов и платить кому-нибудь, чтобы ухаживали за ее матерью. Но что удивительно, она ни разу не пожаловалась с тех пор, как уехала Адель.
Хонор знала, что между ними произошла какая-то стычка. Они, как могли, пытались скрыть это, но она ощущала это по испуганному молчанию дочери. Роуз внимательно слушала, когда Адель инструктировала ее насчет лекарств для Хонор, насчет того, как часто нужно менять повязку и как распознать, нет ли инфекции. Она кротко согласилась ходить к телефонной будке каждую неделю в условленное время и звонить Адель в больницу с отчетом о здоровье Хонор.
Было крайне удивительно, что Роуз не огрызнулась на Адель, когда она твердила, что нужно держать в запасе ведра с водой, иметь в доме песок и огнетушитель под рукой на случай зажигательных бомб. В конце концов, Роуз видела последствия бомбежек и читала все инструкции правительства о том, как тушить пожары.
Но она вела себя так, будто была просто прислугой, боялась слово сказать против. А это, как помнила Хонор, было крайне нетипично для Роуз, которая всегда была склочной и самоуверенной.
И еще более нетипично для нее было подниматься в шесть часов, ворошить золу в печке и снова затапливать ее, потом через час приносить Хонор чашку чая и спрашивать, нужен ли ей уже горшок.
Хонор была уверена, что такое покорное поведение не продержится и пару дней, но этого не произошло. Роуз кормила кроликов и кур, собирала хворост, стирала и убирала в доме. Кроме того, она удивительно хорошо готовила. Похоже, она обучилась некоторым секретам ремесла, работая в ресторане, потому что суп, который она варила, был намного вкуснее, чем все, что умела готовить Хонор. И она была очень терпеливой, меняя повязки и помогая Хонор мыться и одеваться.
Она не могла убить курицу или кролика, и Хонор сомневалась, что она когда-нибудь сможет это сделать, но это не имело значения — почтальон Джим всегда был рад услужить при необходимости. Но больше всего Хонор удивило, что Роуз могла быть приятной в общении. Она любила те же самые программы по приемнику, и они обе смеялись до упаду над некоторыми передачами. Она хорошо играла в карты и научила Хонор нескольким новым играм.
Много раз она была холодной или выглядела очень скучающей и, когда ходила в Рай по поручению, задерживалась там дольше, чем требовалось. Это заставляло Хонор подозревать, что она делала остановку в пабе. Но с ней было легко, потому что она не болтала впустую, как многие женщины, которых знала Хонор.
Жизнь превратилась в приятную череду домашних дел, и хотя Хонор раздражала неспособность Роуз к физическому труду, она была за многое ей благодарна, особенно за то, что дочь вернулась к ней.
Один или два раза она чуть не сказала ей о своих чувствах, но было слишком рано и у нее все еще были подозрения. Роуз была загадкой: она до сих пор не рассказала о том, что произошло между ее побегом из дома и психиатрической больницей. Не призналась и в том, кто отец Адель. Временами Хонор думала, что такое поведение может быть следствием лечения в психиатрической больнице. Но если это так, то казалось странным, что она вспоминала всякие происшествия из своего детства и, похоже, ей нравилось разговаривать о них.
Еще она задавала множество вопросов об Адель, особенно о ее пребывании в «Пихтах», о том, как она осваивалась в коттедже и когда познакомилась с Майклом Бэйли. По мнению Хонор, она считала, что если составит все кусочки из жизни своей дочери в то время, когда ее не было рядом, то каким-то образом добьется прощения Адель.
— Наконец-то я разобралась с курицей, — сказала вдруг Роуз с порога в судомойню, отчего Хонор вздрогнула.
— Отлично, — сказала Хонор, борясь с искушением добавить: «давно пора» или «ты все перья положила в мешок?».
— Да, мама, — устало произнесла Роуз, будто предвидела дальнейшие вопросы. — И пол подмела, если хочешь знать. Выпьем по чашечке чая?
— Я сама могу сделать чай, — сказала Хонор, двумя руками поднимая ногу в гипсе и ставя ее на пол. — Пора мне уже немного поупражняться. Ты иди садись, уже наработалась за день.
Роуз сняла с себя передник и вошла в гостиную. Хонор вылезла из кресла и стала на здоровую ногу, потянувшись к костылю, чтобы опереться на него.
— По-моему, к тому времени, когда снимут гипс, мышцы просто разучатся работать, — сказала она, передвигаясь к печке, чтобы поставить чайник. — Очень надеюсь, что мне не придется хромать до конца жизни.
— Хромать лучше, чем прыгать на одной ноге, — сказала Роуз, садясь.
Это замечание заставило Хонор вспомнить о Фрэнке. Он всегда говорил в том же духе. Она повернулась к дочери и увидела то же задумчивое выражение, какое часто бывало у Фрэнка.
— Что-то не так, Роуз? — спросила она, открывая буфет, где хранилась чайная посуда.
— Ничего такого, — сказала Роуз. — Я думала об Адель, когда ощипывала курицу. Не могу представить, как она выдерживает и день за днем смотрит на кровь и вывороченные кишки. Одно дело работать медсестрой в мирное время, но сейчас… В ее возрасте она должна ходить на танцы и веселиться.
— Война не будет длиться вечно, — сказала Хонор, зацепив две чашки одним пальцем и ставя их на стол. — Когда она кончится, будет время и для танцев. В ее возрасте у нас уже были дети.
— М-м-да, — пробормотала Роуз. — Я тогда была беременна Памелой.
Хонор не решилась повернуться и посмотреть на дочь, потому что она впервые упомянула о Памеле с тех пор, как приехала сюда.
— Что ты чувствовала, когда забеременела во второй раз? — осторожно спросила она.
— Сначала я была в ужасе, — ответила Роуз тихо. — Но Джим был так доволен, и я была вроде как рада, что сделала его счастливым. Я хотела быть как другие женщины, знаешь, такие веселые и улыбчивые, и души не чают в младенцах. Это вполне нормально, правда?
— Я не знаю, — сказала Хонор. — Не могу сказать, что я была такой. У меня никогда не было желания приласкать чужого малыша.
— Правда? — У Роуз был удивленный голос. — Мне всегда казалось, что ты хотела много детей.
Хонор хмыкнула.
— Вот уж точно нет. Ты мне очень нравилась, но я каждый месяц с облегчением констатировала, что не залетела снова.
— Боже мой! — воскликнула Роуз. — Жаль, что я не знала.
— А какая разница?
— Ну, может быть, я бы не чувствовала себя такой ненормальной, что не хотела детей.
Вода закипела, и Хонор заварила чай. Отставив его на край печки, она снова села.
— У тебя появилась Адель при других обстоятельствах, — сказала она. — Ты была обеспокоена, испугана, и я думаю, любая женщина в таких обстоятельствах не считала бы появление ребенка радостью.
— Я никогда не думала ни о ком, кроме себя самой, — призналась Роуз. — Я винила ее за то, что мое тело стало безобразным, за боль и за то, что она мешала мне спать. Другие матери не делают этого.
— Может быть, и делают, но не признаются в этом, — сказала Хонор. — Мой свекор нанял мне няню-горничную. Если бы не ее помощь, я вполне могла бы найти много поводов для недовольства.
— Но ты полюбила меня, правда? — спросила Роуз.
Хонор нахмурилась.
— Я полюбила тебя с той минуты, когда тебя положили мне в руки, — сказала она. — Но ты ведь и сама это знаешь?
Ответа не последовало, и Хонор обернулась посмотреть на дочь. Роуз с озабоченным видом теребила пуговицы на кофте.
— Ты ведь не думаешь иначе? — спросила Хонор.
— Дети не думают о таких вещах, — сказала Роуз. — Они просто принимают все. Но когда папа ушел на войну, я чувствовала, что у тебя для меня не было времени.
— Не было времени для тебя? — недоверчиво переспросила Хонор.
— Ну, ты всегда закрывалась в своей комнате, ходила сама гулять. Это было ужасно, ты словно не замечала меня, — выпалила Роуз.
— Я была расстроена Я ужасно скучала по нему и боялась, что его убьют, — сказала Хонор, но ее вдруг кольнуло чувство вины, потому что она помнила, как старалась уединяться. Она даже иногда обижалась на Роуз, что той все время что-то было от нее нужно.
— Я тоже так себя чувствовала, — сказала Роуз. — Но ты, похоже, не замечала этого.
— Тогда прости меня. Я думаю, что слишком ушла в себя тогда, — печально сказала Хонор.
— Мне было только тринадцать лет, мама. — Голос Роуз поднялся на тон выше. — Я чувствовала себя так, словно потеряла обоих родителей. Ты редко говорила со мной, никогда не интересовалась, как у меня дела в школе, есть ли у меня друзья — ничего. Наверное, неудивительно, что я не могла полюбить Адель?
— Ну ладно, — резко сказала Хонор, вдруг испугавшись, что Роуз пытается манипулировать ею. — Возможно, у меня был нехороший период, но я не забросила тебя и не причиняла тебе вреда.
— Давай оставим эту тему, — согласилась Роуз, махнув головой. — Не хочу ворошить прошлое.
Хонор взглянула на дочь, увидела, что она смотрит себе под ноги, и вспомнила, как часто Роуз вела себя точно так же, когда была ребенком. Она поднимала разговор о какой-то своей обиде, потом вдруг замолкала, словно была не в состоянии или боялась продолжать. Это всегда раздражало Хонор и сейчас возымело такой же эффект.
— Ради бога, давай выкладывай и покончим с этим! — воскликнула Хонор. — Если ты думаешь, что я причинила тебе вред, скажи об этом.
— Ты не совсем причинила мне вред, хотя и была несправедливой, — тихо сказала Роуз. — Но мне больно не от того, что было в прошлом, больно от того, какой ты представила меня Адель.
— Что ты имеешь в виду? — спросила Хонор. — Я тебя ей никак не «представляла». Все ее представление о тебе основано на твоих собственных действиях.
— Ты ей когда-нибудь рассказывала, что с четырнадцати лет я работала как лошадь в этом отеле и отдавала тебе заработанное до последнего пенни? — спросила Роуз. — Ты ей рассказала, что зимой я уходила прежде, чем начинало светать, и возвращалась домой через четырнадцать часов в дождь и в снег?
— Я рассказывала ей, что ты работала в отеле, — возмущенно сказала Хонор.
— Ручаюсь, она подумала, что я работала официанткой каких-нибудь пару часов, — горько сказала Роуз. — Я разжигала огонь, выливала из горшков, чистила серебро и натирала полы. Я растирала руки в кровь, и у меня болело все тело задолго до того, как я добиралась до положения официантки, надев форму и обслуживая стариков и старух в ресторане, которые обращались со мной как с грязью. А после этого я мыла посуду. И только когда все было убрано, могла уходить домой.
— Я не понимаю, к чему ты ведешь? — строго сказала Хонор. — В чем суть?
— Суть в том, что Адель считает, что ты была идеальной матерью, а я такая плохая, потому что сбежала из дому и оставила вас, — категорично сказала Роуз. — Ей никогда не говорили, что подтолкнуло меня к этому.
— Я и сама не знаю, что тебя подтолкнуло, — вздохнула Хонор. — Может, ты мне скажешь?
— Я содержала всю семью в четырнадцать лет. Когда я возвращалась домой, такая уставшая, что едва волочила ноги, ты всегда жаловалась, как тебе одиноко, — резко ответила Роуз. — Потом наконец папа вернулся домой, и он был для меня пугающе чужим человеком. Ты нянчилась с ним, но ни разу не поблагодарила меня за то, что я зарабатываю деньги на его лекарства и дополнительную еду. Ты даже ничего никогда мне не объясняла.
Хонор почувствовала, как словно поднялся занавес над той частью ее жизни, на которую она решила не оглядываться.
— Я не думала об этом, — сказала она нерешительно.
— Нет, не думала, — с горечью продолжала Роуз. — Единственным днем, когда у меня была возможность не вскакивать с утра, было воскресенье, и однажды в воскресенье утром ты разбудила меня на рассвете, чтобы я пошла собрать хвороста для печки, несмотря на то что я пришла домой с работы в начале третьего. Отец крепко спал, и ты сама могла пойти за хворостом, но нет, ты вытащила меня из постели. Ты Адель об этом рассказывала?
— Это были тяжелые времена для всех, — сказала Хонор вызывающе.
— Да, тяжелые, — согласилась Роуз. — И ты помешалась на отце и, вероятно, плохо спала. Но ты обращалась со мной как с прислугой. У меня было такое чувство, что ты меня используешь.
Хонор забыла многое из того, что произошло за эти годы, но слова Роуз пробуждали в ней воспоминания.
— Прости меня, — сказала она.
— О, не надо мне извинений, — устало произнесла Роуз. — Просто я хочу, чтобы тебе были понятны причины моего ухода. Я не была настолько плохой, и думаю, Адель тоже нужно это знать.
Несколько секунд Хонор молчала. Слова Роуз словно бросили свет на темное пятно. Она действительно была виновата во всем, в чем обвиняла ее дочь. Она представляла себе годы между уходом Фрэнка на войну и побегом Роуз со своей собственной точки зрения. Она не смогла оценить по достоинству роль, которую сыграла дочь, более того, до настоящего момента она вообще не считала, что Роуз играла какую-то роль.
— Ты права, — сказала она после некоторого молчания. — Я не ценила тебя, а должна была бы. Я готова признать это и рассказать Адель. Но если ты хочешь помириться с ней, тебе нужно быть честной с ней по поводу всего, что произошло потом. Здесь я не смогу помочь.
Роуз встала и молча налила чай в чашки. Она дала Хонор чашку, потом села со своей.
— Я не хотела начинать все эти разговоры, — сказала она наконец тихим и извиняющимся голосом. — У меня случайно вырвалось.
— Наверное, это к лучшему, — сказала Хонор и, потянувшись, сжала руку дочери. — У моей мамы было выражение: «Нельзя положить новое варенье в грязные банки». Может быть, сейчас мы отмыли наши банки.
Роуз слабо улыбнулась.
— Мне почему-то думается, что Адель никогда не захочет даже постараться понять меня.
Хонор вздохнула.
— Не суди других по собственным меркам. Она умная девочка с большим сердцем. Время и горести войны могут заставить ее изменить мнение.
Великан подошел к Роуз и положил голову ей на колени. Она почесала ему голову и погладила его.
— Если бы люди были хоть немного похожи на собак, — сказала она. — Они не носят в себе обиды, не требуют объяснений.
— Может быть, и так, — улыбнулась Хонор. — Но они дают нам столько внимания и любви, сколько мы даем им. А в этом отношении люди не сильно отличаются. Великан тебя полюбил, и Адель со временем полюбит, если увидит, что ты этого стоишь.
* * *
Майкл чуть переместился на сиденье, пошевелив затекшей ногой, и взглянул на «ланкастер», бомбардировщик, летевший рядом с ним, управлял которым его австралийский друг Джо Спайерс. Майкл ненавидел летать по ночам, особенно в январе, когда стоял мороз и облака заслоняли луну, но небольшим утешением было то, что Джо был в небе рядом с ним.
Когда нога чуть отошла, Майкл улыбнулся сам себе. Несколько дней назад один из летчиков на базе назвал его «старик Бэйли», потому что он хромал, выбравшись из «спитфайра». И он действительно чувствовал себя стариком в свои двадцать три. Большинству ребят в эскадрилье было девятнадцать или двадцать, все лица были новыми, а его старые товарищи практически все погибли.
Иногда он позволял себе думать о том, что когда-нибудь подстрелят и его. Ему казалось невероятным, что он может выжить, он был не лучшим и не худшим пилотом, чем остальные. Но в другие моменты он считал себя непобедимым, и это в какой-то мере было еще более опасно.
Сейчас он направлялся к Германии с приказом сопровождать бомбардировщики. Было не так жутко, как в дни воздушных боев в Битве за Англию, но у ночных полетов были свои сложности, и не годилось быть самоуверенным.
Он подумал, что, какая бы опасность ему ни грозила, лучше быть в небе, чем застрять на штабной работе в Лондоне. «Блицкриг» продолжался уже три месяца, и число жителей в Ист-Энде уменьшилось в десять раз от еженощных бомбежек. Но эти кокни были отважным народом, по ночам они спускались в бомбоубежища, а утром выходили наверх и обнаруживали целые улицы в руинах. И несмотря на это, шли на работу, часто даже не имея возможности умыться или выпить чашку чая.
Майкл сам был вынужден оказаться в бомбоубежище в Новый год. Он был достаточно глуп и позволил Джо уговорить себя встретить Новый год за пределами базы. Он готов был бежать сломя голову, когда до него донесся запах уборных. Этого запаха было достаточно, чтобы стошнило кого угодно, и он решил, что лучше рискнуть быть убитым на улице, чем провести ночь в этой вони. Но он, конечно, остался — как сказал Джо, осторожность — это важная часть отваги. И даже получил удовольствие, несмотря на запах и на то, что людей было как сардин в бочке. Они обратили ситуацию в свою пользу, поудобнее устроившись в своем маленьком пространстве и заботясь друг о друге. Один старик играл на аккордеоне, и все пели вместе с ним.
В ту ночь рядом были люди всех социальных слоев: простые местные, которые спускались сюда каждую ночь и которые организовали это место; франты в куртках в компании леди, сверкающих бриллиантами, и уличные девки из Сохо, помогавшие женщинам с грудными и маленькими детьми; среднего возраста домохозяйки из пригорода, которых застала сирена прежде, чем они успели добраться домой; сморщенные старики, веселые молодые машинистки и продавщицы и приличная группка мужчин в военной форме.
Они с Джо познакомились с двумя девушками из Йоркшира. Обе были сестрами запаса в больнице в Южном Лондоне и, как и Майкл с Джо, приехали в Вест-Энд встречать Новый год. Майклу очень понравилась Джун, хорошенькая темноволосая девушка. Она была живой и забавной, и он подумал, что может позвонить ей и договориться о свидании, как только у него будет увольнительная.
Джо все время говорил, что лучший способ забыть о девушке — это найти другую, и в этом Майкл был согласен с ним. Джун совсем не напоминала ему Адель — она была маленькой, приятной полноты, и у нее все время не закрывался рот. Было далеко за полночь, когда он поцеловал ее, и она с готовностью ответила. Это было как раз то, чего он хотел, — простая девушка, которая не думает слишком много. Кто-то, кто не сможет тронуть его душу, как это сделала Адель.
Начал идти снег, и Майкл проклял все. Хотя в снежную погоду было легче долететь до цели незамеченными, однако было труднее увидеть вражеские самолеты. Еще пять минут, и они будут на месте, а если им улыбнется удача, еще через десять минут они повернут домой.
Вспышки огня по самолетам противника осветили на мгновение летное поле и ангары, к которым они направлялись. Майкл и два других «спитфайра» поднялись вверх, чтобы подпустить три «ланкастера» ближе к их цели. Когда была сброшена первая бомба, Майкл услышал звук ее удара и, посмотрев вниз, увидел, что занялся пожар.
— Да! — заорал он с ликованием, потому что это явно был полевой склад боеприпасов и цистерны с топливом.
Его ликование возрастало после каждой бомбы, потому что он уже ясно видел летное поле в огне пожара, они попали в самолеты и сровняли здания с землей.
Когда работа была сделана, все самолеты рассыпались в разные стороны, чтобы поворачивать домой, и Майкл ликующе загоготал, забыв о холоде и о коловшей ноге, и даже о том, что нужно следить за бомбардировщиками.
От треска и сильной вибрации с правой стороны самолета он вздрогнул. Резко обернувшись, он увидел рядом с собой «мессер-шмитт» и красные огоньки его орудий. Майкл автоматически выстрелил, но немецкий самолет нырнул, уклонившись от выстрела, и, прежде чем Майкл успел подумать о том, чтобы набрать высоту, кинулся на него снизу с быстротой молнии и снова выстрелил, попав «спитфайру» в нос.
На лобовое стекло брызнула охлаждающая жидкость двигателя, заслонив Майклу поле зрения, и только тогда он увидел, что его самолет горит.
— Боже правый! — воскликнул он, потому что такого конца он боялся больше всего. Он почувствовал внезапную волну жара — еще несколько секунд, и он сгорит заживо. Он ничего не видел впереди, потому что из-за снега охлаждающая жидкость прилипла к лобовому стеклу. Все, что он видел, это были оранжевые и алые огоньки справа от него, и ему ничего не оставалось, как перевернуться и катапультироваться.
Он был обучен этому. Теоретически кабина должна была открыться от нажатия, и он бы вылетел, как пробка из бутылки. Но самолет перевернулся, весь в огне, и кабина не хотела открываться.
На мгновение он увидел Адель. Она бежала к нему, и волосы развевались за ней, как флаг.
— Господи, помоги мне, — произнес он охрипшим голосом, приготовясь к смерти.
Глава двадцать четвертая
1941
Хонор открыла входную дверь и увидела, как Джим, только что положивший письмо в ящик, удаляется по дороге.
— Возвращайся, согреешься чашкой чая, — позвала она.
Был морозный январский день со шквалистым ветром. Небо было черным, и Хонор подумала, что к вечеру пойдет снег. Ей сняли гипс с ноги как раз перед Рождеством, но, к ее разочарованию, ей все еще приходилось опираться на палку, потому что нога ослабела от долгого бездействия. Роуз позволяла ей только немного погулять по саду, а сейчас не разрешила и этого из-за скользкого льда, поэтому она подумала, что компания Джима будет приятной и рассеет ее скуку.
Джим повернулся, и его широкая улыбка подтвердила, что он рад ее приглашению.
— Я так замерз, что превратился в настоящий кусок льда, но не постучал, потому что подумал, что ты захочешь спокойно почитать письмо.
Хонор рассмеялась.
— Ты же отлично знаешь: у меня столько свободного времени, что я не знаю, что с ним делать, — сказала она. — Письмо от Адель может подождать. Ну, заходи.
— Роуз нет дома? — поинтересовался Джим, потопал ботинками на половичке и закрыл за собой дверь.
— Она только что отправилась в Рай поискать масло для ламп и поменять книги из библиотеки, — сказала Хонор. — Странно, что ты ее не встретил, она только что вышла.
— Я ни на кого не смотрел, — сказал он, снимая пальто и садясь. — Я был слишком занят мыслями о бедной миссис Бэйли.
— А что с ней? — спросила Хонор.
Джим смутился.
— Ты не слышала?
— Не слышала о чем?
— О Майкле.
— Только не говори мне, что его убили! — Хонор быстро села.
— Ну, «пропал без вести», «считают погибшим», но это практически то же самое, не правда ли? — сказал Джим, потом, увидев пораженное лицо Хонор, потянулся и погладил ее по руке. — Прости, Хонор. Я думал, ты уже слышала. Она получила телеграмму неделю назад.
— Такой славный мальчик, — вздохнула Хонор, и у нее на глазах выступили слезы. — Как это случилось?
— Его подстрелили над Германией, так, по крайней мере, говорят, — ответил Джон, стаскивая с рук митенки и сгибая и разгибая пальцы. — Она очень тяжело это переживает, ну ты ведь лучше остальных знаешь, какая она. Ее соседка рассказала мне сегодня утром, что прошлой ночью миссис Бэйли выходила на улицу в ночной рубашке. Она не отдает себе отчета в том, что делает!
— Его могли захватить в плен, — предположила Хонор. — Я слышала, что проходят недели, даже месяцы, пока просочатся новости.
Джим пожал плечами.
— Это кажется маловероятным. Судя по всему, к ней приходил кто-то из эскадрильи Майкла, он видел его самолет в огне и не видел, как Майкл катапультировался.
— Хорошенькое утешение, — угрюмо произнесла Хонор. — Он не мог дать ей какой-нибудь надежды?
Она снова поднялась, чтобы приготовить чай, но, увидев жестяную коробку от чая, который принес ей Майкл, когда они только познакомились с Адель, она расплакалась.
— Ну, Хонор, не надо так волноваться, — озабоченно сказал Джим. — Лучше бы я тебе не говорил.
— Хорошо, что я узнала это от тебя, а не из сплетен в магазине, — сказала Хонор, шмыгая носом сквозь слезы. — Я так его любила. Знаешь, я всегда надеялась, что между ним и Адель что-то будет. И его матери я тоже сочувствую, он из всех ее детей был ближе к ней. Что же она теперь будет делать?
Джим грустно покачал головой.
— Если она не возьмет себя в руки, ее экономка уйдет. Я слышал, она уже сто раз собиралась уйти, любому терпению приходит конец.
— Ну, надеюсь, она продержится какое-то время, — возмущенно сказала Хонор. — В такие времена у многих крыша поехала. И с этим ничего не поделаешь. Я помню, что чувствовала, когда умер Фрэнк.
— А ты на самом деле не столько кусаешь, сколько лаешь, — поддразнил ее Джим. — Ты очень добрая женщина.
Хонор улыбнулась бесцветной улыбкой.
— А дети все еще считают, что я ведьма?
Он покачал головой.
— Эта чепуха уже давно умерла, с тех пор как появилась Адель. А сейчас у тебя появилась еще и Роуз, и она слишком хорошенькая, чтобы быть дочерью ведьмы.
— Я иногда думаю, что мы все втроем заколдованы, — грустно сказала Хонор. — У нас всех была очень беспокойная жизнь.
— Ну вот, это непохоже на тебя, — сказал Джим с выражением озабоченности на своем добром лице. — Я всегда считал тебя стойкой женщиной.
Хонор печально покачала головой.
— Нет, Джим, я не такая. Я просто старая женщина, которая делает что может, чтобы как-то прожить.
Джим оставался еще какое-то время, и они поговорили о карточках на продукты и о том, как им повезло по сравнению с городскими жителями, которые не могли рассчитывать на кур и домашние овощи. После его ухода Хонор прилегла на кушетку, натянула на себя шаль и заплакала. Она знала в глубине души, что Адель никогда не переставала любить Майкла. Да, она ходила на свидания с другими молодыми мужчинами, она не спрашивала больше, есть ли от него новости, но она никого не могла обмануть. Его смерть будет для нее большим горем. Хонор была уверена, что Майкл мертв, если его самолет загорелся.
Но она плакала не только из-за Адель, но и из-за Эмили Бэйли. Хонор однажды случайно встретилась с ней в Рае во время Битвы за Англию и спросила ее о Майкле. Эмили было явно приятно поговорить о нем с человеком, который хорошо его знал. Она говорила о нем с большой гордостью, но выглядела напряженной и худой, с мешками под глазами от бессонных ночей.
С тех пор как Хонор попала под бомбежку, она по-настоящему почувствовала, что такое беспокойство и ужас. И все же она напоминала себе, что Адель почти все время работает в палате, расположенной в метро, а если выходит на улицу, то всегда может спрятаться в бомбоубежище, если включат сирену. Эмили же не могла успокоить себя такой мыслью. Она знала так же хорошо, как остальные, что шансы пилота выжить в подбитом самолете ничтожно малы.
И еще Хонор знала, что, если бы Адель погибла, она не вынесла бы этой потери. Она даже не захотела бы попытаться. И она догадалась, что именно так должна чувствовать себя Эмили. Сердце подсказывало Хонор, что она должна надеть пальто и ботинки и пойти в Винчелси повидать ее. Но она знала, что может не дойти так далеко — если она поскользнется на льду, то может снова сломать ногу. Вместо этого она напишет письмо, возможно, Эмили немного утешит, если она будет знать, что кто-то сопереживает ей.
Была половина третьего, когда Роуз вышла из Рая, направляясь домой, но уже смеркалось. Во всех магазинах были длинные очереди, и хотя ей удалось купить масло для ламп, немного сыру, сливочного масла и чаю, нигде не было сахара. Она провела в пабе больше времени, чем намеревалась, но было так здорово пофлиртовать с двумя солдатами в увольнительной. Ее мать не одобрила бы этого, но если бы Роуз время от времени не могла выпить пару стаканчиков в мужской компании, она перегрызла бы ей горло.
Когда паб закрыли, она бросилась в библиотеку и теперь беспокоилась, что так надолго оставила Хонор одну.
Но день был хорошим, несмотря на мороз. Стояние в очередях хотя и отняло у нее время, но это не было скучно. Все болтали и смеялись, и она встретила несколько женщин, с которыми когда-то ходила в школу, и обе были очень довольны встрече с ней. Ее циничная натура подсказала ей — они поговорили с ней, надеясь, что она подбросит им пару-другую тем для сплетен, но все равно ей было приятно возобновить знакомство. Она была очень тронута, узнав, что обе они считали, что Адель приехала к бабушке жить, потому что Роуз болела. Она не ожидала, что мать прибегнет к спасительной лжи, чтобы избавить Адель от неловкости и стыда. Раньше она, вероятно, приукрасила бы свою «болезнь», чтобы вызвать сопереживание, но сейчас просто пожала плечами и сказала, что Хонор была лучшей матерью, чем она.
Несмотря на то что она добралась до библиотеки поздно, ей удалось опередить одну женщину и взять «Унесенные ветром». Она уже несколько недель охотилась за этой книгой, но как бы ни хотела погрузиться в чтение вечером, чувствовала, что обязана Хонор и должна дать ей прочитать книгу первой.
В общем и целом Роуз была вполне довольна собой, потому что, вероятно, впервые за свою взрослую жизнь она почувствовала себя счастливой. К ее крайнему удивлению, она совсем не скучала по Лондону и как только приспособилась к ведению домашних дел в коттедже, даже начала находить в них удовольствие.
В тот день, когда она вылила все свои обиды Хонор, атмосфера разрядилась. Ее поразило, что мать способна признать свои ошибки. Впрочем, за последние месяцы Роуз приятно была удивлена, что мать совсем не соответствует образу безразличной, ханжеской и своевольной женщины, который она создала у себя в голове на протяжении стольких лет.
По сути, Хонор была хорошей компанией. У нее было живое и часто злое чувство юмора. Она была приземленной, прямой и очень практичной. Разумеется, были дни, когда они огрызались друг на друга, но для людей, которые долго живут одни, всегда тяжело чье-то постоянное присутствие рядом. Сначала Роуз обижалась на то, что должна прислуживать матери, а Хонор сильно подозревала Роуз во всем, что она говорила и делала. У них обеих не прошла еще горечь друг на друга, но Хонор очень любила повторять: «Рим не за один день строился».
И все же, по большому счету, было намного больше смеха, чем скандалов, и у Роуз часто возникали моменты нежности к Хонор, особенно когда она стоически терпела боль и неподвижность.
Если бы не ситуация с Адель, Роуз чувствовала, что могла бы жить с матерью вечно, при условии, что каждую неделю она могла бы ходить на танцы или в кино. Но она не могла забыть как ненависть и презрение, которые вылила на нее дочь, так и угроз, и была уверена, что как только Хонор полностью выздоровеет, Адель захочет, чтобы Роуз убралась навсегда.
Каждую неделю Роуз очень нервничала, когда ходила в Винчелси в установленное время звонить дочери. Адель не оскорбляла ее, не была бесцеремонной, но в ее голосе не было тепла и ничто не подсказывало, что она постепенно может смягчиться, несмотря на то что Хонор писала ей, что все в порядке. Поскольку «блицкриг» в Лондоне продолжался и бомбили каждую ночь, Адель не могла взять отгулы, чтобы приехать к ним, даже на Рождество. Роуз знала, что пока Адель все-таки не приедет домой и не увидит, что Роуз сдержала свое слово и, вероятно, изменилась к лучшему, она всегда будет презирать ее и думать о ней плохо.
Роуз и Хонор хорошо понимали, что новости по радио не давали полной картины о ситуации в Лондоне и о войне вообще. Письма Адель, информация, которую передавали соседям их близкие и друзья из города и с передовой, давали совершенно другую картину. Убитых и раненых были тысячи, у немцев была лучшая техника и численное превосходство, поэтому казалось маловероятным, что Англия сможет победить их. По ночам они слышали, как летают бомбардировщики, часто сбрасывающие бомбы еще задолго до того, как долетали до Лондона. Сюда ежедневно прибывали беженцы из Европы и из Лондона, потерявшие все. Иногда Роуз становилась у окна и смотрела на пляж с огромными клубками колючей проволоки, думая, как скоро немцы ворвутся в Британию.
Вероятно, они высадятся вдоль этого побережья, и они с Хонор вполне могут оказаться в большей опасности, чем под бомбежками в Лондоне.
Солнце окончательно зашло, когда Роуз подошла к дороге, ведущей в коттедж. Было полнолуние, но луна то исчезала, то появлялась из-за гряд облаков, лишь на мгновения освещая вершины крыш в Винчелси на холме и черную ленту реки.
Из-за затемнения ночью было жутко. Ее не встречал свет лампы в коттедже, не было света и в домах в Винчелси. Она словно осталась одна во всем мире, и в этом направлении ехало мало машин, потому что люди экономили бензин для крайней необходимости. Луна снова зашла за тучи, и Роуз обругала себя за то, что не взяла фонарь. На дороге будет просто ад, она наверняка будет вступать в покрытые льдом лужи или спотыкаться о большие камни.
Она в нерешительности остановилась в начале дороги, глядя в небо, туда, где только что была луна.
— Ну выходи же, миссис Луна, — сказала она и захихикала от собственного ребячества.
Какой-то шум заставил ее повернуть голову. Что-то или кто-то находился на лугу у реки. Предположив, что это овца, она осторожно вышла на дорогу. Но услышав этот звук снова, она остановилась и прислушалась.
Шум от овец был привычным на болотах, но это был другой шум. У овец не было привычки разгуливать в такой холод, для них было естественнее сбиться в кучу у изгороди. Она была уверена, что это человек, потому что, кроме хруста по мерзлой траве, она слышала чье-то тяжелое дыхание.
Луна вышла снова, и, к своему удивлению, Роуз увидела на лугу женщину, которая, похоже, бежала к реке. Луна сверкнула в ее светлых развевающихся волосах и снова скрылась, но шумное дыхание стало более явным, и Роуз показалось, что женщина в отчаянии. Интуитивно у нее мелькнула мысль, что женщина собирается утопиться.
Как же иначе можно было объяснить ее появление на лугу в темноте в такой холод? Роуз знала по собственному опыту, что в моменты отчаяния люди способны на все, и поняла, что должна остановить эту женщину.
Забыв, что лишь несколько секунд назад беспокоилась из-за льда и камней, она бросила свои свертки у дороги, ринулась к дыре в изгороди, через которую она часто пролезала, собирая хворост, и протиснулась в нее. Женщина исчезла из поля зрения, но когда Роуз пошла по лугу перед рекой, она услышала всплеск.
Кинувшись к месту, откуда был звук, она успела как раз вовремя, чтобы увидеть очень белую руку, молотившую по темной воде. Тело женщины уже погрузилось в воду.
Роуз в отчаянии огляделась вокруг себя. Ближайший дом был ее, но Хонор ей здесь не помощница. К тому времени когда она приведет помощь из другого места, женщина уже утонет. Выбора не было, она должна была спасти ее сама.
Она сдернула с себя пальто и прыгнула, не позволив себе даже подумать о ледяной воде, о глубине и о том, каким сильным может быть течение. Когда она ударилась о ледяную воду, шок был таким, что Роуз почувствовала, как у нее вот-вот остановится сердце, но она заставила себя бродить по воде, пока не найдет женщину.
Луна вышла снова, как раз настолько, чтобы Роуз разглядела что-то плавающее на поверхности, что не было водорослями. Ей понадобилось лишь четыре или пять взмахов, чтобы добраться до нее, и когда ее рука уткнулась в шерстяную ткань, она поняла, что это пальто или широкое платье женщины.
Все еще бродя по воде, она схватила его одной рукой, другой шаря в воде под ним. Ее рука коснулась чего-то, и она рванула это вверх.
Это была нога, на ней не было ни чулка, ни туфли, и поэтому Роуз поняла, что женщина окончательно обезумела.
Вода была такой холодной, что Роуз почти парализовало, но она все еще держала ногу женщины, чтобы ее не унесло течением, снова опустила руку и нащупала талию, обхватила ее рукой и начала тащить вверх. Под ее весом Роуз потянуло вниз, и ей пришлось отпустить ногу, чтобы вынырнуть на поверхность, но ее рука все еще крепко обхватывала женщину за талию, и наконец ей удалось поднять ее на поверхность.
Луна вышла снова, и Роуз с удивлением констатировала, что женщина не молодая, как она подозревала по ее длинным волосам, а среднего возраста, и на шее у нее, словно какое-то причудливое ожерелье, была тяжелая цепь. Именно это объяснило, почему женщина находилась в воде головой вниз.
Страх, что женщина и ее потянет вниз, придал Роуз новых сил, и она сорвала с ее шеи эту цепь. Женщина вдруг стала намного легче. Она казалась безжизненной, но Роуз вспомнила: чтобы утонуть, нужно провести под водой больше двух или трех минут.
Она достаточно легко добралась до берега, плывя на спине и поддерживая голову женщины руками, но совсем другое дело было выбраться на берег, вытаскивая кого-то еще.
Она попыталась держать женщину за пальто и уже почти забралась наверх, как оно начало выскальзывать из ее рук под весом тела женщины.
— Черт тебя побери! — крикнула она вслух. — Будь я проклята, если тебя здесь оставлю, как бы ты этого ни хотела. Помоги же ты мне, ради бога!
Но женщина не могла помочь, и у Роуз не было другого выхода, как соскользнуть обратно в воду. К этому времени она уже так замерзла, что подумала, что сама может умереть здесь. Ее руки совершенно онемели, но она подплыла к женщине сзади, обхватила ее вокруг талии и что есть силы подтолкнула к берегу.
Цепляясь за траву, Роуз выбралась на берег, потом потянулась вниз и ухватила женщину под мышки. Она вытащила ее наверх и перевернула животом вниз на траву.
Роуз только пару раз видела, как делают искусственное дыхание, и не была уверена, что помнит, как это делается, и даже не знала, может быть, уже было слишком поздно пытаться. Но она надавила на спину женщины, потом подняла ее плечи и продолжала делать это.
— Дыши, ради бога! — кричала она, прокачивая ей легкие. — Ты что думаешь, я хочу умереть здесь от холода рядом с тобой?
Темнота никогда не наводила на нее такого ужаса. Она словно обернула их толстым черным одеялом, и Роуз хотелось сбежать отсюда, потому что она уже больше не выдерживала. Но она продолжала делать искусственное дыхание, несмотря на холод и слезы, которые текли по ее лицу, обжигая обмороженную кожу.
И вдруг она услышала всхлип.
— Вот так! — закричала она торжествующе. — Давай дыши, черт тебя побери! Дыши!
Она скорее услышала, чем увидела, как у женщины изо рта хлынула вода, и казалось, что ее не один галлон. Потом еще всплеск, и Роуз приложила ухо к ее лицу и услышала слабое, хриплое дыхание.
— Умница! — сказала она и побежала за пальто, которое сбросила, прежде чем прыгнуть в реку. Она укутала им женщину и приподняла, посадив. Хотя ее голова беспомощно свисала, женщина по крайней мере дышала.
С точки зрения Роуз можно было сделать только одно — добраться вместе с этой неудавшейся самоубийцей до коттеджа. Она не рискнула оставить ее, потому что женщина могла снова броситься в реку и в любом случае могла умереть от холода прежде, чем придет помощь. Поэтому она с трудом подняла женщину на ноги, потом наклонилась, перекинув тело женщины через плечо как мешок, как поднимали людей пожарные. Спотыкаясь под весом, Роуз направилась к дороге.
В ее туфлях хлюпала вода, и все тело замерзло так, что каждое движение причиняло боль, а женщина была такой тяжелой, что Роуз подумала, что не пронесет ее и нескольких ярдов. Но она сконцентрировалась на каждом шаге и так, шаг за шагом, приближалась к коттеджу.
Она услышала, как женщину за ее спиной стошнило, но по меньшей мере это означало, что она приходит в себя. Она тащилась вперед, думая только о том, чтобы добраться до входной двери.
— Мама! — заорала она, как только ступила на тропинку. — Открой дверь!
Дверь распахнулась настежь, золотой свет лампы осветил силуэт матери, и ничего в ее жизни не было более желанного.
— Господи, что там у тебя? — выкрикнула Хонор. — Это животное?
— Утопленница, — отрезала Роуз, и ей захотелось засмеяться, потому что от одного только вида матери она снова почувствовала себя в безопасности.
— О Боже, — воскликнула Хонор, когда Роуз положила свою ношу на ковер перед камином. — Это Эмили!
Она начала срывать с женщины насквозь промокшую одежду и закутывать ее в одеяла. Роуз кратко рассказала ей, что произошло, но от резкого перехода в тепло комнаты и от шока, который испытала, она почувствовала себя как-то странно, и у нее все расплылось перед глазами.
Она вспомнила, как мать велела ей скинуть с себя одежду, потому что с нее всюду капало. Она предположила, что, наверное, пошла в спальню раздеться, потому что следующее, что она четко помнила, — это ночная рубашка и халат на ней и обернутое вокруг ее мокрой головы полотенце. Хонор сидела на полу, качая женщину в руках, и старалась напоить ее бренди по глоточку.
— Я Хонор Харрис, дорогая, — говорила мать женщине, которая смотрела на нее отсутствующим взглядом. — Я о тебе позабочусь, теперь все будет хорошо.
Роуз было ужасно холодно, она хотела подобраться к печке, чтобы согреться, но не могла, потому что мать и женщина были у нее на дороге, и она почему-то почувствовала тревогу.
— Мы не можем заботиться о ней, мама, — сказала она. — Ей нужно в больницу. Она не дворняжка, как Великан, ты не можешь привести ее в порядок, накормив и обогрев. Как только я согреюсь, я пойду и вызову «скорую помощь».
— Ш-ш-ш! — произнесла Хонор, бросив на Роуз свой обычный строгий взгляд.
— Мама, она сошла с ума! Она прыгнула в реку, и если бы я это не услышала, ее бы сейчас уже снесло течением к воротам шлюза!
— Она просто вне себя от горя, — сказала Хонор, все еще качая женщину в руках. — Майкл пропал без вести, его подстрелили над Германией.
— Майкл? — переспросила Роуз.
Хонор посмотрела на нее.
— Да, Майкл, молодой человек, которого любила Адель. Это его мать, Эмили Бэйли.
Роуз отшатнулась как пьяная, и у нее было такое чувство, что ее голова вот-вот взорвется. Эмили. Это было для нее слишком много. Неужели женщина, которую она спасла, — та самая, которую она когда-то так проклинала?
Эмили Бэйли, эта ведьма, которая не любила своего мужа, но ни за что не позволила бы ему жениться на другой! Роуз никогда не встречалась с ней, никогда не видела ее фотографии, но когда она была влюблена в Майлса, она хотела, чтобы она и ее проклятые дети умерли.
А сейчас, по прошествии около двадцати двух лет, она случайно спасла ей жизнь.
— Роуз, дорогая, я думаю, у тебя шок, — вдруг воскликнула Хонор. — Ты белая как мел и дрожишь, как желе. Укутайся в одеяло и налей себе немножко бренди.
Чуть позже часы пробили шесть, и до Роуз дошло, что все драматические события не заняли и получаса от начала до конца, хотя ей это время показалось долгими часами. Она уже согрелась благодаря бренди, но по-прежнему чувствовала себя странно. Мать все еще сидела на полу, обнимая и раскачивая Эмили и бормоча слова утешения. Роуз вдруг показалось, что она просто сторонний наблюдатель, до которого никому нет дела.
— Ты не можешь оставаться на полу, мама, у тебя будет болеть спина, — раздраженно сказала она чуть погодя. — Давай я подниму ее на кушетку. Рано или поздно ей придется тебя отпустить.
— Если б я считала, что мой ребенок умер, я бы хотела, чтобы кто-нибудь обнимал меня, — упрямо сказала Хонор.
При этих словах матери у Роуз стал ком в горле.
— Ты вполне можешь обнимать ее на кушетке, — хрипло сказала она. — Ну ладно, давай я помогу тебе подняться и приготовлю всем нам чаю.
Казалось странным, что Роуз смогла так легко дотащить Эмили до коттеджа, потому что ей понадобилось собрать все остатки сил, чтобы поднять ее с пола на кушетку. Возможно, Хонор заметила это, потому что не успела Роуз помочь ей подняться, как она обняла дочь.
— Ты была такая смелая, прыгнув за ней в реку, — сказала она прерывистым голосом и с глазами, полными слез. — Вы могли обе утонуть.
Роуз пожала плечами.
— Это было бы смело, если бы я подумала, прежде чем сделать это, — сказала она. — Но я не подумала, меня просто что-то подтолкнуло.
— Значит, если ты не подумала, то твой поступок нельзя назвать смелым? — сказала Хонор, попытавшись улыбнуться и опускаясь на кушетку рядом с Эмили.
— Да, — ответила Роуз. — А сейчас, Эмили, может быть, ты перестанешь плакать и выпьешь чаю?
Роуз не знала, помог ли ее строгий тон, но в первый раз с того момента, как Эмили очутилась в коттедже, она посмотрела на одеяло, которым была укутана, затем огляделась вокруг.
— Где я? — спросила она слабым голосом и перестала плакать.
— Ты прыгнула в реку, и моя дочь вытащила тебя, — пояснила Хонор, убирая все еще влажные волосы с лица Эмили. — Ты меня знаешь? Я Хонор Харрис, бабушка Адель, которая когда-то была у тебя горничной. А это Роуз, моя дочь, она спасла тебя.
Эмили вопросительно смотрела на Хонор в течение нескольких секунд с выражением ребенка, который только что проснулся после дурного сна.
— Ты когда-то приходила ко мне в дом.
— Верно, — терпеливо сказала Хонор, взглянув на Роуз, сидевшую на стуле напротив них. — Я была подругой твоей матери. Мы однажды разговаривали в Рае в прошлом году, про Майкла. Мне так жаль, что он пропал без вести, я тоже очень его любила.
У Эмили сморщилось лицо, и она снова заплакала, на этот раз это были громкие, душераздирающие рыдания, и она уткнулась лицом в плечо Хонор и прильнула к ней.
— Это несправедливо, — рыдала она. — Он был такой особенный для меня, такой добрый и любящий. Я не хочу жить без него.
— Но он может находиться в лагере для военнопленных, — мягко сказала Хонор. — Ты пока что не можешь сдаваться. Что он будет чувствовать, если вернется домой с войны и обнаружит, что ты покончила с собой?
— Он не вернется, я знаю, что он умер, — настаивала Эмили. — Его друг видел его самолет в огне.
— Я уверена, что он рассказал тебе, как много пилотов выпрыгивают с парашютом с горящих самолетов и остаются целы, — сказала Хонор. — Я читала десятки таких историй.
— Это Бог меня осудил, — сказала тупо Эмили. — Это мое наказание за грехи.
Хонор взглянула на Роуз и слегка улыбнулась.
— Какие у тебя грехи? — спросила она Эмили мягко. — Ручаюсь, их немного.
— Я грешна, грешна, — твердила Эмили, сжимая Хонор руку. — Я ужасно обращалась со своей семьей.
— Я не думаю, что винить нужно тебя одну, — сказала Хонор ровным голосом.
— Меня одну. Майлс был когда-то таким добрым и любящим, это из-за меня он изменился и стал таким невыносимым. За это я сейчас наказана.
— Думаю, будет лучше, если мы выпьем по чашечке вкусного чая, — сказала Хонор.
Вечером того же дня Роуз лежала в постели, совершенно ледяной, хотя она положила в нее грелку. Эмили спала в постели с ее матерью, а на дворе бушевал ветер и от ветра стучали окна. Она потянулась за халатом и надела его поверх ночной рубашки, хотя знала, что никакое количество одеял не согреет ее сегодня, точно так же, как никакие слова Хонор не смогли бы облегчить горе Эмили.
Ей было холодно от чувства вины и стыда. Эмили не хотела жить, потому что потеряла Майкла, это было нормальной реакцией для матери. Но Роуз никогда не хотела жить с Адель и даже хотела, чтобы она умерла вместо Памелы.
Из-за Памелы она очень хорошо понимала горе Эмили, то отчаяние, которое заставило ее броситься в реку. Но все же Роуз никогда не была настоящей матерью для Адель. Она никогда не ценила ее и никогда не любила.
И какова будет реакция Адель на новость о Майкле? Роуз знала, что она будет так же убита горем, как его мать, но кому она сможет излить это, если все считают, что она его бросила? Только два человека знали правду, но Адель не пошла бы ни к одному из них.
Когда они собирали хворост и Адель напала на нее с топором, Роуз подумала, что это худший момент в ее жизни, но сейчас ей было еще хуже. Она вернулась сюда жить, близко узнала мать и наконец почувствовала себя счастливой — и это открыло ей глаза на то, какой эгоистичной, жадной и поверхностной она была. Она считала, что становится лучшим человеком. Временами она даже сама себе нравилась.
Но когда Эмили вместе со слезами вылила столько о своем браке и семье, Роуз стало стыдно, что она, вероятно, была одной из причин, заставивших распасться брак Эмили. Все эти годы Роуз говорила себе, что она была невинной жертвой волокиты, который бездушно бросил ее, когда она носила его ребенка, но сегодня она уже больше не могла притворяться перед самой собой.
Это правда, что она была девственницей, познакомившись с Майлсом, но ее вряд ли можно было бы назвать невинной, потому что она хладнокровно вознамерилась заполучить его. Она хотела жить комфортно и весело в Лондоне, и, ощутив, что он богат, одинок и раним, она использовала свою внешность, молодость и обаяние, чтобы заполучить его. Он успел лишь несколько раз поцеловать ее, а она уже начала умолять его, чтобы он забрал ее с собой в Лондон, коварно утверждая, что отец плохо обращается с ней.
Майлс сказал ей, что он женат и у него трое детей, еще до того, как сели на поезд. Он даже явно дал ей понять, что сможет только помочь ей найти работу и жилье. Он сдержал свое слово, нашел ей жилье и поддерживал ее материально, и, не пусти она в ход все свои женские чары, он никогда бы не спал с ней.
Если бы она тогда использовала свой ум на то, чтобы получить работу, вместо того чтобы плести интриги и лгать, пытаясь заставить его бросить жену и жениться на ней! Он десятки раз говорил ей, что не может навлечь позор на свою семью разводом.
Безусловно, он виноват в том, что она забеременела, светский человек должен был знать, как предотвратить это. И конечно, было бессердечно с его стороны оставить ее одну выкручиваться. Но она сама навлекла это на себя — если бы она не лгала ему постоянно, он поверил бы, что она ждет от него ребенка, и взял бы ответственность за него. Он был снобом, часто проявлял бесхарактерность, но обладал мягкосердечием и был человеком чести. Он безусловно не был таким скотом, каким она его рисовала.
У Хонор был зуб на Майлса, но это было понятно, если вспомнить, как он обращался с Адель, когда она работала у его жены. Роуз увидела недоверие на лице матери, когда Эмили утверждала, что он не всегда был таким. Эмили была права: когда-то он был мягким и любящим, и Роуз чувствовала вину за перемену в нем.
Теперь, когда он потерял своего младшего сына, Роуз вспомнила, как ревновала, когда Майлс нежно улыбался при одном упоминании о Майкле, который тогда только начал ходить. Она всегда утверждала, что любила Майлса, но, вероятно, правда была в том, что она никогда не любила никого, кроме себя самой.
Глава двадцать пятая
— Ты ведь никому не расскажешь, что я пыталась сделать? — умоляла Эмили Роуз, когда они вместе шли пешком в Винчелси.
— Нет, конечно нет, — ответила Роуз. — Но только если ты мне пообещаешь, что это не повторится.
Прошло три дня с тех пор, когда Эмили пыталась утопиться. Наследующее утро Хонор поручила Джиму поехать и встретиться с ее экономкой и сказать, что Эмили заболела, пока была у нее в гостях, и вернется домой, как только чуть-чуть окрепнет. Она проспала почти весь первый день, потом снова много плакала, но сейчас казалась намного более спокойной, и Роуз сопровождала ее домой.
— Обещаю, — сказала Эмили тихим голосом. Она выглядела очень бледной и измученной, и ее пальто, которое Хонор высушила, село. В туфлях, которые дала ей Роуз и которые были на нее велики, она больше была похожа на беженку, чем на светскую леди. — Ты была такой смелой, Роуз, а мне так стыдно.
Роуз сглотнула комок в горле. Эмили уже в который раз сказала это за последние пару дней, и хотя ей было приятно, что ее считали смелой, Роуз все еще боролась со своим чувством вины.
Две женщины шли вверх по холму в Винчелси, и Эмили взяла Роуз под руку.
— Роуз, ты такое серьезное, доброе дело для меня сделала, — сказала она. — И я имею в виду не только то, что ты спасла мне жизнь, но и то, что позволила мне выговориться. Я сегодня чувствую себя другим человеком. Я вроде как стала сильнее.
Роуз не могла не улыбнуться в ответ. В Эмили было что-то такое милое и юное, несмотря на то что ей было пятьдесят четыре года и она была на четырнадцать лет старше Роуз. В последние несколько дней они много говорили, и Роуз обнаружила, что ей многое нравится в Эмили.
— Возможно, ты еще услышишь хорошие новости о Майкле, — сказала она. — Так что попытайся просто не нервничать и не терять надежды. Ты же не хочешь кончить в таком месте, в какое выслали меня.
Эмили кивнула.
— Нет, не хочу. Может быть, я снова должна постараться с Ральфом и Дианой. Они всегда были против меня, но я предполагаю, что сама была в этом виновата — пила, выкидывала всякие фортели. Ты не представляешь, как тебе повезло, что у тебя такая дочь, как Адель. Должно быть, она большое утешение для тебя.
Роуз улыбнулась, но это была грустная улыбка. Вчера вечером она сказала Эмили, что была плохой матерью, но Эмили явно ее не слушала. Она все еще была такой, какой когда-то была Роуз — настолько погруженной в себя, что жизнь и проблемы других людей не трогали ее.
Закончив ночное дежурство, Адель валилась с ног от крайней усталости, но, увидев письмо в ящике в общежитии и знакомый каллиграфический почерк бабушки на нем, она ободрилась.
Это была очередная ночь, на протяжении которой сильно бомбили и в больницу доставили больше пострадавших, чем обычно. Она не понимала, почему так много людей, особенно стариков, игнорировали бомбоубежища и оставались дома. Неужели они не осознавали грозящей им опасности?
Адель зашла в столовую и положила себе каши. Одним из настоящих кошмаров ночных дежурств была путаница с едой. Она не могла есть обед из мяса и овощей, только что проснувшись, а потом, после долгой ночи в палате она, проголодавшаяся, должна была довольствоваться кашей или яичницей с тостом.
Она села за столик, за которым сидели Джоан и новая медсестра из Бирмингема, Энни. Открыв письмо и прочтя две строчки, она с шумом уронила ложку.
— Что такое? — обеспокоенно спросила Джоан.
— Майкл. Он пропал без вести, — в ужасе выдохнула Адель. — Его самолет подбили.
Она кинулась в свою комнату, не в состоянии сдержать слезы. Лишь некоторое время спустя Джоан осторожно заглянула в дверь.
— Я могу зайти? — спросила она. — Или ты хочешь побыть одна?
— Нет, посиди со мной, — сказала Адель, глотая слезы и вытирая глаза. — Это так ужасно, Джоан. Я так сильно его любила, мне невыносимо думать, что он ушел навсегда.
Джоан утешила ее в привычной для себя манере, крепко обняв Адель и отметив, что Майкл, вполне вероятно, мог попасть в плен.
— Я сомневаюсь в этом, — шмыгнула носом Адель.
— Нужно надеяться, — сказала Джоан. — Вспомни своего дедушку в Первой мировой. Он был ранен, и его бросили, думая, что он умер, правда? Но он же выжил.
Адель с самого начала войны снились кошмары о Майкле и о том, как сбивают его самолет, поэтому сейчас, когда это случилось, она была уверена в том, что он погиб. Но она все равно кивнула, словно соглашаясь с подругой.
Немного позже девушки легли в постель, и Джоан сразу заснула. Адель не спала и держалась за кольцо, висевшее на цепочке, вспоминая все, что любила в Майкле, и понимая, что время не притупило ее чувств. Боль была такой же сильной, как тогда, когда она уехала из Гастингса. Но тогда она, по крайней мере, могла представлять себе, как Майкл ходит, разговаривает, смеется. Она даже могла надеяться, что когда-нибудь они встретятся и он снова будет рядом с ней как ее друг и брат. А сейчас все ушло.
Она никогда не сможет гордиться им, когда его будут награждать за отвагу. Не будет радоваться за него, когда услышит, что он женился. Не будет даже могилы, на которую она сможет приходить с цветами.
А еще она пыталась представить, что чувствует бабушка, потому что в ее письме явно ощущалось горе, и она, безусловно, вспомнила, как Фрэнк уходил на войну, а потом вернулся совсем другим человеком. Может быть, она сможет отпроситься у старшей сестры, чтобы съездить домой?
Адель получила отпуск только в конце марта, и то лишь потому, что заболела. Она работала, несмотря на насморк, фурункулы на шее и понос. Но только тогда, когда Джоан пошла к старшей сестре и обратила ее внимание на то, что Адель теряет вес и плохо ест и спит, ей велели провериться у врача.
Адель догадывалась, что ее состояние вызвано новостями о Майкле. Она боялась закрыть глаза ночью, потому что ей постоянно снилось, как он горит живьем в самолете. Она все время думала о нем и лишилась из-за этого аппетита. Но она не могла сказать этого врачу и протестовала, уверяя, что находится в таком же состоянии, как и остальные, от большой нагрузки. Но у врача было свое мнение, и он сказал, что она должна как минимум две недели отдохнуть.
Хотя Адель было легко от мысли, что она возвращается домой, поездка оказалась для нее утомительной. Когда ближе к вечеру она подошла к двери коттеджа, пройдя от вокзала всю дорогу пешком, то буквально падала от усталости.
— Адель! — удивленно воскликнула бабушка, увидев еле державшуюся на ногах внучку. — Почему ты не предупредила о своем приезде телеграммой? Что с тобой? У тебя такой вид, будто ты заболела.
— Теперь, когда я дома, все будет хорошо, — сказала Адель, подойдя к бабушке и обнимая ее. — Мне дали отпуск, чтобы я отдохнула.
Она почти не обратила внимания на Роуз, которая подошла снять с нее шляпу, пальто и туфли и помогла прилечь на кушетку Она хотела отмахнуться от нее, но у нее не было никаких физических сил. Должно быть, она немедленно уснула и проснулась, когда на дворе уже было совершенно темно. Открыв глаза, она увидела Роуз, которая что-то помешивала на печке.
— Что ты делаешь? — спросила она в изумлении, потому что печка была местом, которое ассоциировалось у нее только с бабушкой. — А где бабушка?
— Я здесь, дорогая, — сказала Хонор, сидевшая в кресле слева от нее. — Сейчас у нас Роуз шеф-повар, она меня к печке и близко не подпускает.
Следующие три дня Адель почти все время спала. Она смутно помнила, как время от времени выходила в туалет, как ей приносили еду как Хонор садилась к ней на кровать и задавала вопросы. Но Адель было нечего рассказывать, потому что за пять последних месяцев она почти ничего не видела за пределами больницы, кроме развалин, а в стенах больницы — только боль и страдания.
Ей очень хотелось рассказать бабушке о своих чувствах к Майклу. Но это было невозможно. Бабушка полностью разделила бы ее горе от потери близкого друга, потому что она тоже любила Майкла. Но она не поняла бы, почему у Адель было такое ощущение, что у нее вырезали сердце, после того как она его бросила, потому что они были не пара.
С того самого времени, как она получила бабушкино письмо, она находилась в каком-то взволнованном состоянии, осознавала все происходящее вокруг, но была бесчувственна ко всему, кроме своей боли. Майкл был и ее любимым, и ее братом. Если бы люди знали об этом, они бы безгранично сочувствовали. Но бывший жених или друг заслуживал лишь краткого «Я сожалею» и поспешного перехода на другую тему. Поэтому ей приходилось все держать в себе, делать вид, что у нее все хорошо, и выслушивать проблемы других людей, и все это время она постепенно падала духом.
Она неоднократно порывалась приехать домой, чтобы проверить, выздоровела ли полностью Хонор, и убедиться, что Роуз за всем следит. Но сейчас, когда Адель наконец была дома, она так плохо себя чувствовала, что забыла о своих намерениях, — она не заметила ни состояния дома и сада, ни того, выглядит ли бабушка выздоровевшей. И она совершенно не собиралась разбираться, воспользовалась ли Роуз этой ситуацией. Единственное, что на нее повлияло, — это отсутствие шума от бомб и возможность поспать.
Из оцепенения ее вывел запах яичницы с беконом, и лишь позже она обнаружила, что уже четвертый день находится дома. Она только начала просыпаться, когда до нее долетел этот запах, и впервые с тех пор, как она получила вести о Майкле, она почувствовала голод.
Она встала, подошла к двери комнаты и увидела Роуз, которая стояла у печки и весело напевала себе под нос «Белые утесы Довера», шлепая куски бекона на сковородку.
В первую секунду Адель захотелось вернуться к себе. Она очень много думала о Роуз за последние несколько месяцев, и в основном исключительно с ненавистью. Каждый раз, разговаривая с ней по телефону, она боролась с собой, пытаясь быть вежливой, несмотря на то что бабушка сообщала в письмах, что Роуз ухаживала за ней хорошо.
У Адель не было желания прощать Роуз — одна только мысль о том, что она может найти в матери что-то такое, что понравится ей, была смешной. Она вспоминала о ней как о бесстыдной, сильно накрашенной женщине в обтягивающей одежде, шатающейся на высоких каблуках и с сигаретой в пальцах с ярко-красным маникюром.
Но Роуз, одетая в потертые брюки и голубой джемпер с заштопанными дырками на рукавах, выглядела сейчас совсем не так, как раньше. Светлые волосы были заплетены в толстую косу, а на лице не было макияжа.
Будучи ребенком, Адель определяла настроение матери по наличию макияжа. Когда она была не накрашена, к ней можно было приближаться только крайне осторожно. И несмотря на то что сейчас в позе матери не было ничего угрожающего, напротив, она выглядела спокойной и счастливой, плохих воспоминаний было достаточно, чтобы Адель нервно застыла на месте.
Роуз, вероятно, вдруг почувствовала присутствие Адель и обернулась с улыбкой.
— Я как раз готовила это тебе в качестве угощения, — сказала она.
Бекон действительно был угощением. Адель даже не могла вспомнить, когда ела его в последний раз, и от восхитительного запаха у нее потекли слюнки.
— Нам никогда не дают бекон в Лондоне, — выпалила она, потому что удивительная идея матери приготовить для нее угощение застала ее врасплох.
— Мы и здесь нечасто его едим, — сказала Роуз ровным голосом. — Я вчера больше часа стояла за ним в очереди. Но это стоило того, если бекон подбодрит тебя. Было просто ужасно наблюдать, как тебе было нехорошо.
У Адель в голове мелькнула мысль, что это какой-то дикий полет фантазии, потому что в детстве она часто мечтала о том, как однажды проснется и увидит, что ее мать вдруг превратилась в любящую, улыбающуюся, счастливую женщину.
Все выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. За окном сияло солнце, на серванте стояла ваза с нарциссами, и еще более удивительным было лицо матери, бело-розовое и пышущее здоровьем, и глаза, потерявшие холодность, которую она помнила.
— Мы уже сто лет назад позавтракали, — продолжала Роуз, явно не обеспокоившись состоянием транса, в котором находилась Адель. — Мама во дворе, кормит кроликов, и у нее очень поднимется настроение, если она войдет и увидит, как ты уплетаешь еду. Ты же ее знаешь!
— Ты совсем другая, — неуверенно произнесла Адель.
— Надеюсь, что так, — сказала Роуз со смешком. — Больше похожа на деревенскую девушку, чем на завсегдатайку баров, какой раньше была. Но ты тоже совсем по-другому выглядишь — похудевшая, бледная и озабоченная. Садись за стол, у меня почти все готово. Как ты себя сегодня чувствуешь?
— Еще не знаю, — сказала Адель, потому что у нее вдруг подкосились ноги и она потянулась к спинке стула, чтобы опереться.
Роуз кинулась к Адель и подхватила ее под мышки, чтобы помочь.
— Ты еще слаба, — сказала она, и ее голос был сочувственно мягким. — Твоя бабушка наверняка думает, что это переутомление от тяжелой работы. Но я знаю, в чем дело. Это оттого, что ты столько времени держала в себе это горе.
Адель повернулась к матери, готовая с сарказмом возразить, но резко остановилась, увидев ее лицо. Оно выражало полное понимание. Адель хорошо научилась читать по лицам, работая медсестрой, и поняла, что Роуз не притворяется. Ее слова явно шли от сердца.
— Да, — ответила она. — И по-прежнему держу это в себе.
Адель с уверенностью ожидала, что Роуз начнет изливать чувства, но она не начала.
— Если захочешь поговорить позже, когда мы будем одни, просто скажи, — сказала она и повернулась к печке.
Она молча поставила на стол бекон, яичницу, тост и чай. Адель начала есть и расплылась в широкой улыбке от почти забытого вкуса бекона.
— М-м-м, — сказала она оценивающе. — Это чудесно.
В дом зашла Хонор с Великаном и, увидев Адель за столом, счастливо рассмеялась.
— Вы посмотрите на нее! — воскликнула она. — Роуз говорила, что ты можешь проснуться, соблазнившись запахом бекона, а я ей не поверила. Я как раз только говорила Дымке, что ты выйдешь с ней поздороваться не раньше чем через пару дней.
Великан пошел прямо к столу и посмотрел на Адель умоляющими глазами. Она собиралась отрезать ему кусок бекона, но Роуз неодобрительно погрозила ей пальцем.
— Не смей тратить бекон на эту собаку, ты не знаешь, как он жрет. Ешь все сама до последнего. Тебе нужно набираться сил.
В этом упреке было что-то настолько материнское, что глаза Адель наполнились слезами и ей пришлось отвернуться.
Роуз и Хонор вышли вместе в сад, вероятно, чувствуя, что могут отбить у Адель аппетит, если будут рядом. Но после общежитских завтраков из яичного порошка и холодного обгорелого тоста ничего не могло бы оторвать Адель от этого лакомства.
Она не бездарно провела время одна. Она могла оглядывать все старые знакомые вещи, слушать тишину и отмечать то, что увидела.
Хонор снова выглядела крепкой женщиной, и то, как они с Роуз вышли вместе так по-дружески, подразумевало, что они ладят друг с другом. И коттедж выглядел аккуратнее и чище, чем Адель его помнила раньше.
Она знала, что еще не может быть объективной с Роуз. Ее слова о том, что она сейчас больше похожа на деревенскую девушку, чем на завсегдатая баров, свидетельствовали о том, что она посмотрела себя критически и, оценив, решила, что должна измениться. Ее понимание внутреннего состояния Адель говорило, что она задумывалась о том, чем для Адель было исчезновение Майкла.
Ей потребуется какое-то время, чтобы выяснить, реален ли новый образ Роуз или это просто маленькое притворство. Но все же сейчас, в прекрасный солнечный день, отдохнув и отключившись от постоянных больничных драм, Адель была настроена оптимистично.
К концу первой недели, которую Адель провела дома, она почувствовала себя в сотню раз лучше. Она хорошо ела и спала как сурок, к ней вернулся цвет лица, и мешки под глазами почти сошли. Но несмотря на это, Роуз и слышать не хотела о том, чтобы она занялась домашней работой.
— Пока ты не вернешься в Уайтчепел, тебе нужно только отдыхать, — настаивала она, и Хонор ее поддерживала. — Поэтому читай книги, гуляй и даже не пытайся чем-то заняться.
Адель делала так, как ей говорили, потому что после напряженной работы в больнице было блаженством абсолютно ничего не делать. Она часами гуляла по болотам, иногда находила место, где можно было укрыться от холодного ветра, и просто сидела и слушала диких птиц и плеск моря о гальку, пытаясь привести в порядок свои мысли о матери и о Майкле.
Сейчас, когда она была здесь, в том месте, где его встретила, она не могла поверить в то, что он умер. А если он и умер, то наверняка его дух вернется сюда и она ощутит это по колебанию цветков бузины на ветру или по вкусу соли с моря на губах. Она хорошо представляла его сейчас таким, каким он был в первый день их знакомства. Это было тоже время года, такой же холодный ветер, а сотни молодых ягнят так же резвились на траве. Она вспомнила, как он пытался перейти через ручей по поваленному дереву, раскинув руки, и нервно рассмеялся, когда его нога скользнула по мшистой поверхности. Она уже в тот момент знала, что он будет главным в ее жизни.
Сейчас, оглядываясь назад, она понимала, что их мог связать просто зов крови, и подумала, что если это так, то его душа тем более должна прилететь сюда и избавить ее от мук ложных надежд.
Но если, вернувшись сюда, Адель испытывала одновременно и сладкое, и горькое чувство надежды по поводу Майкла, ее чувства по поводу Роуз были еще более противоречивыми. Все ее прошлые представления о ленивой, жестокой, подверженной сменам настроения женщине опровергались тем, что было у нее перед глазами.
Роуз редко сидела без дела. Она энергично замешивала тесто для хлеба, старательно рыхлила почву для высева семян и усердно готовила еду. Она научилась рубить дрова, ощипывать кур и даже освежевывать кроликов и все время листала специальные книги, чтобы больше узнать о выращивании овощей. Она легко и тепло улыбалась, у нее было чувство юмора и очень привлекательный молодой вид.
Временами Адель невольно смеялась над шутками матери, на пару мгновений забывая о том, что должна держаться начеку. Временами ее тянуло задать Роуз несколько прямых вопросов, — не из злобствования, а чтобы понять превращение женщины из прошлого, которую она ненавидела, в женщину из настоящего, к которой она рисковала привязаться.
Вчера днем Роуз ездила на велосипеде в Рай, и хотя Адель давно хотела остаться наедине с Хонор, она была молчаливой и задумчивой.
Хонор словно читала ее мысли, потому что вдруг заговорила про Роуз.
— Я думаю, ты должна согласиться с фактом, Адель, что почти все твое детство твоя мать была нездорова. Я знаю, что не видела ее тогда, но она многое мне о себе рассказывала, и рассказывала, как она обращалась с тобой. Я полагаю, у нее была душевная болезнь, а это для тела намного серьезнее, чем болезнь физическая. Но ты и сама как медсестра должна это знать.
— Так что, я должна все простить? — резко ответила Адель.
— Если бы Великан меня укусил, когда я попыталась бы осмотреть его рану, ты бы хотела, чтобы я его бросила? — таким же резким тоном возразила Хонор.
Адель перевела глаза на собаку, лежавшую у бабушкиных ног, положив ей морду на колени, и смотревшую на нее обожающим взглядом.
— Это совсем другое, — сказала она. — Собака не в состоянии объяснить, что у нее что-то болит.
— Может быть, Роуз тоже была не в состоянии, — сказала Хонор, пожав плечами. — У нас троих есть кое-что общее — мы не умеем словами выражать наши подлинные чувства. Мы все проявляем любовь и заботу через поступки.
— Ты так же хорошо, как и я, знаешь, что она никогда не показывала мне ничего, кроме своей обиды на меня, — с жаром сказала Адель. В ту же секунду ее охватило непреодолимое желание рассказать бабушке все, включая то, как Роуз выпросила у Майлса денег, зная, что Хонор никогда не простит этого. Но она сдержалась. В тот день на болотах она сказала Роуз, что ее новой задачей будет сделать так, чтобы Хонор чувствовала себя счастливой и спокойной, и Роуз старалась, поэтому никак нельзя было свести ее старания на нет.
— Она ухаживала за мной, когда мне это было нужно, и этим пыталась показать нам обеим, что сожалеет о прошлом, — со вздохом сказала Хонор. — Ты же видела, как она заботилась и о тебе тоже с тех пор, как ты вернулась домой.
— Да, но я не могу не думать, что у нее есть какие-то задние мысли.
— Ты не думала, что она просто хочет, чтобы мы обе ее любили?
— Чтобы я ее любила? — возмутилась Адель. — После дождичка в четверг.
Вспомнив свои полные горечи слова, которые сказала вчера, Адель почувствовала некоторые угрызения совести. Может быть, она немного боялась, что Роуз потеснит ее место в бабушкином сердце? Или ей просто нужна была Роуз, чтобы срывать на ней обиды за все то, что ей не нравилось в ее жизни?
Двухнедельный отпуск Адель подходил к концу, но она не хотела возвращаться в Лондон. Она слышала, что вот уже две ночи не было ночных налетов, и некоторые говорили, что война окончена. Но даже если это было глупым оптимизмом, она знала, что ее неохота возвращаться объяснялась не мыслью о толпах раненых, о суматохе и грязи, которыми всегда сопровождались бомбежки, а скорее чувством, что она оставляет здесь что-то недоделанным, хотя сама не знает что.
За два дня до отъезда она пошла в Винчелси купить свечей и спичек. Холодный ветер утих, светило солнце, и, когда она добралась до Лэндгейта и посмотрела через болота на Рай вдалеке, пейзаж был таким красивым, что у нее стал ком в горле.
Майкл сделал фотографию этого вида как раз перед поступлением в Оксфорд. Он сказал, что повесит ее на стену как воспоминание о счастливых днях. Вспомнив об этом, она вдруг решила, что должна зайти к миссис Бэйли.
Бабушка говорила, что Эмили заходила к ним домой несколько раз с тех пор, как получила вести о Майкле. Адель это удивило, но бабушка сказала, что она была в отчаянии и ей просто хотелось поговорить о сыне с кем-то, кто хорошо его знал и мог бы разделить ее горе.
Адель не знала наверняка, как ее встретит Эмили, но чувствовала, что все равно должна зайти.
Дверь открыла экономка. Она впустила Адель в холл и пошла наверх сказать миссис Бэйли. Пока Адель ждала, на нее нахлынули воспоминания прошлых лет, когда она работала здесь — мыла и чистила пыльный холл, развешивала хозяйкину одежду и пыталась готовить более изысканные блюда, чем те, которые готовила дома.
Но эти мысли не были горькими, потому что ей пришло в голову, что если бы не ее опыт в этом доме — как хороший, так и плохой, — она, вероятно, не справилась бы с дисциплиной во время учебы на медсестру.
Миссис Бэйли спустилась с лестницы медленно, будто у нее затекли ноги. Она постарела с того дня, как Адель пригласили поговорить о помолвке. Ее кожа приобрела желтоватый оттенок, а волосы были больше седые, чем золотые. На ней была твидовая юбка и розовая двойка из жакета и джемпера, но они не придавали ей такого элегантного вида, как раньше. Согнувшиеся плечи и глубокие морщины вокруг рта выдавали ее горе.
— Я надеюсь, вы не расцените это как вторжение, — выпалила Адель. — Но я подумала, что должна зайти и сказать, что мне ужасно жаль Майкла.
— Это очень любезно с твоей стороны, Адель, — сказала миссис Бэйли приветливо. — Заходи, пожалуйста, в гостиную, там горит огонь в камине.
— Вы не получали еще каких-либо новостей? — спросила Адель, как только они сели.
— Нет, ничего. Разумеется, я связалась с Красным Крестом, они все еще проверяют лагеря для военнопленных, но говорят мне, что надежды нет.
Адель захотелось рассказать ей о том, что она почувствовала на болотах, но поскольку миссис Бэйли считала, что она бросила Майкла, потому что разлюбила его, это показалось ей неуместным.
— Вы не должны переставать надеяться, — сказала Адель. — Если бы вы видели то, что я видела в Лондоне, вы бы быстро начали верить в чудеса. Столько раз люди считали, что их близкие убиты, а они объявлялись целыми и невредимыми.
— Хонор говорила мне, что ты стала прекрасной медсестрой, — сказала миссис Бэйли. — Она очень гордится тобой.
Адель как раз собиралась сказать, что в Лондоне продолжались бомбежки и что она, как и многие медсестры, чувствовала свою неопытность, когда вдруг открылась дверь и, к ее ужасу, вошел Майлс Бэйли.
Все ее воспоминания об этом человеке были неприятными, а последнее, в тот день, когда он сказал ей, что он ее отец, намного превосходило все остальные. Она не могла сказать, что ненавидела его за это, понимая, что у него не было выбора и он должен был сообщить ей эту горестную новость. Она даже вспомнила, что он сделал это достаточно мягко. И все равно, когда она вспоминала его, ей приходил на ум грубиян, который ударил ее по лицу и велел ей убираться из его дома в канун Рождества. И она презирала его за это.
Майлс Бэйли не сильно изменился с тех пор, как она видела его в последний раз, — то же красное лицо и живот. Он был одет в деловой темный костюм и рубашку с накрахмаленным воротником, и у него с лица отхлынула кровь, когда он увидел Адель.
— Я прошу прощения, — сказал он, отступая. — Я не знал, что у тебя гости, Эмили. Я встречался кое с кем здесь и просто зашел спросить, как ты.
— Ну заходи, Майлс, — сказала Эмили, улыбаясь, будто была довольна увидеть его. — Ты, конечно, помнишь Адель, она как раз зашла высказать мне свои соболезнования по поводу Майкла. Я позвоню и попрошу, чтобы приготовили чай.
— Я уже должна идти, — поспешно сказала Адель, вставая.
— Пожалуйста, не убегай, Адель, — попросила Эмили, сдерживающим жестом положив ей руку на плечо. — Хонор и Роуз часто рассказывают мне то, что узнают из твоих писем о больнице в Лондоне и о войне, и мне бы очень хотелось послушать еще.
От одного упоминания имени Роуз в присутствии Майлса Адель поежилась.
— Мне кажется, я здесь лишняя, поскольку пришел мистер Бэйли, — нервно сказала она, почти не осмеливаясь взглянуть на него.
— Какая чепуха, Адель, — вымолвил Майлс. К нему явно вернулось его хладнокровие. — Я бы тоже хотел послушать о твоей работе. И Эмили нужно многое тебе сказать, она так благодарна твоей матери и бабушке за то, что они спасли ее, и я тоже благодарен.
Адель изумленно посмотрела на него.
— Спасли ее? — переспросила она.
— Ты не знаешь об этом? — в свою очередь удивился он, и его лицо стало озабоченным. — Значит, тебя пощадили! Я не сомневался, что тебе рассказали. Эмили упала в реку, а твоя мать прыгнула за ней и вытащила ее. Очень отважный поступок в холодную январскую ночь.
Адель была изумлена не меньше, чем если бы Майлс сказал, что Роуз проехала на слоне через Рай, потому что ей ничего не рассказывали.
— Правда?! — воскликнула она. — Я знала, что миссис Бэйли была у них в гостях, но бабушка ничего не рассказывала о падении в реку.
Эмили встала, ее лицо порозовело от смущения.
— Я пойду в кухню и сама займусь чаем, — сказала она.
Адель почувствовала, что можно, вероятно, упасть в реку летом, идя по берегу, но в зимние месяцы не было смысла даже приближаться к реке.
В ту же секунду, как Эмили скрылась за дверью, она испытующе посмотрела на Майлса.
— Она упала или прыгнула?
— Она заявляет, что поскользнулась на грязи, но мы оба можем делать свои выводы, потому что это было как раз через несколько дней после того, как она получила телеграмму о Майкле, — сказал он нарочито грубоватым голосом. — Твоя мать тоже легко могла утонуть, спасая ее, река вышла из берегов и течение было очень быстрое. Я бы сам зашел поблагодарить ее, но из-за нашей прошлой связи это показалось мне неуместным.
Адель была удивлена тому, что он так открыто разговаривает, особенно в доме жены.
— Да, вы правы. Но лучше бы вы ничего не говорили про речку. Миссис Бэйли, наверное, была сама не своя от горя в тот момент, а сейчас ей будет неловко от того, что я знаю об этом.
— Мне никогда не приходило в голову, что твоя семья не захочет тебе рассказать, — сказал он задумчиво.
— Бабушка никогда не была сплетницей, и у нее большое сердце, — с гордостью сказала Адель. — Она очень любила Майкла и, разумеется, сочувствовала его матери и не захотела бы, чтобы об этом случае узнали. Что касается моей матери, наверное, у нее, в конце концов, есть некоторая деликатность.
Эмили вернулась, неся поднос с чашками чая, и они втроем немного поговорили о войне, о том, как ранило Хонор во время налета, и о том, как медсестры выхаживают раненых.
Адель показалось, что Эмили справляется с ситуацией. Она видела ее много раз в худшем состоянии, когда работала на нее. Потеря Майкла, безусловно, открыла ей глаза на беды других людей, и она проявляла настоящее сочувствие к тем, чьи дома разбомбило и кто остался вдовой или сиротой.
Майлс был менее язвителен и предвзят, чем раньше, горе смягчило его. На его глаза навернулись слезы, когда он говорил о своем старшем сыне и зяте, которых должны были скоро послать за пределы страны, и он боялся, что потеряет и их. Он ничем не унижал Эмили, а когда упоминал о внуках, в его голосе была нежность.
Адель оставалась достаточно долго для визита вежливости, потом в качестве предлога уйти объяснила, что должна еще купить свечи, и сказала, что ей пора.
— Спаси тебя Бог за то, что ты пришла, — сказала Эмили, целуя ее в щеку. — Пожалуйста, попроси Хонор и Роуз, чтобы они как-нибудь ко мне зашли. Скажи им, что я занимаюсь сейчас кое-какой добровольной работой, и у меня все отлично благодаря им.
Майлс пожал Адель руку и пожелал ей всего хорошего, потом проводил до входной двери.
Когда она ступила на мостовую, Майлс вдруг остановил ее.
— Я очень прошу у тебя прощения, — сказал он.
Адель посмотрела ему прямо в глаза.
— За что?
— За то, что причинил тебе столько несчастья, — сказал он.
— Значит, вы хотите, чтобы я видела вас в лучшем свете, так? — сказала она с насмешкой. — Я думаю, для меня было самым большим шоком обнаружить, что мой отец — хам, сноб и человек, который бьет слуг.
Майлс поморщился.
— Может быть, ты невысокого мнения обо мне, Адель, но я сам в этом виноват. Я же увидел в тебе многое, за что тебя можно любить и уважать. С тех пор как пришло известие о том, что Майкл пропал без вести, мне пришлось многое переоценить в своем характере и в жизни. Я обнаружил, что многое не имеет смысла. — Мне это ни о чем не говорит, — сказала она, раздраженная тем, что он все сводит к своим чувствам. — Мне пришлось жить с сердечной болью с того дня, когда вы сказали, кем мне приходитесь, и стало еще больнее, когда я услышала, что Майкл пропал. Я надеюсь и молюсь, чтобы он находился где-нибудь в лагере для военнопленных и в конце войны вернулся домой невредимым. Тогда у вас и у вашей жены все будет отлично. Но я буду все в той же ситуации, я не смогу встретить его с радостью ни как сестра, ни как любимая.
— Мне очень жаль, — сказал он, взяв ее руки в свои. — Действительно очень жаль. Если тебе нужна будет какая-либо помощь, Адель, приходи ко мне. Я не могу изменить прошлое, но, может быть, я смог бы сделать что-нибудь для тебя в будущем.
Адель хотела было сказать что-то резкое, но никакие умные слова не приходили ей в голову. Все, что она видела, — это пара глаз, невероятно похожих на ее, все, что слышала, — это искренность в его голосе, все, что чувствовала, — это тепло его рук на своих.
Он вынул визитную карточку из кармана и вложил ей в руку, закрывая ее пальцы вокруг карточки.
— Звони мне. Что бы ты обо мне ни думала, как бы нам обоим ни было больно узнать, что я твой отец, я прежде всего горжусь тем, что моя дочь выросла таким хорошим и сильным человеком.
Адель попятилась. Она знала, что как адвокат он имел большой опыт в произнесении трогательных речей, которые совершенно определенно по большей части были ложью. Но все же его слова тронули ее. Она почувствовала, что он будто вдруг заполнил какую-то пустоту в ней, и поняла, что должна бежать от него, пока не расплакалась.
Глава двадцать шестая
1942
— Мне все до смерти надоело, — зевнула Джоан, разливая чай по чашкам себе и Адель. — Как хочется залезть в кровать и вздремнуть.
Недавно пробило полночь, несколько пациентов из их палаты крепко спали, и они проскользнули в палатную выпить чаю и поболтать.
— Подумать только, мы когда-то жаловались, что у нас дел по горло, — рассмеялась Адель.
В апреле прошлого года, когда она была в Рае, ночные налеты прекратились. К тому времени, как она приехала в Лондон, люди более или менее вернулись к своей обычной жизни и с оптимизмом считали, что с «блицкригом» покончено. Но десятого мая был ужасный налет, самый серьезный со времени начала войны, и к утру прошли слухи, что погибло три тысячи человек. Бомбы попали в здание суда, в Тауэр и в монетный двор. Были разрушены все мосты между Тауэром и Ламбетом и повреждены сотни газопроводов. Серьезно разрушено было Вестминстерское аббатство, и даже фасад Биг-Бена был изрыт дырами. Не хватало воды, чтобы тушить пожары.
В ту ночь и два последующих дня и ночи Адель вместе со всем остальным персоналом больницы работала на пределе, помогая пострадавшим. Хотя тогда никто не выражал открыто своих страхов, Адель ясно читала в каждом лице один и тот же вопрос: «Сколько мы еще сможем вынести?»
Но после того как пострадавших подлечили и отослали домой, погибших похоронили и дороги расчистили, больше таких налетов не было. Хотя в Лондоне и в других городах случались периодические бомбежки, казалось, что теперь с «блицкригом» покончено, и в больнице снова воцарилось относительное спокойствие.
В декабре прошлого года японские самолеты разбомбили Перл-Харбор. На следующий день США и Великобритания объявили войну Японии, а затем война Соединенным Штатам была объявлена Германией и Италией.
Адель с Джоан встречали новый, 1942 год на танцах в «Империи» на Лейсестер-сквер, а через два дня было объявлено, что Япония захватила Филиппины и вторгается в Ост-Индию. К концу января в Англию начали прибывать американские войска, вызвавшие огромное волнение среди медсестер. Даже Адель, которая до тех пор не интересовалась мужчинами, не могла не найти этих жизнелюбивых, воспитанных и щедрых мужчин привлекательными.
С февраля она начала ходить на танцы как минимум раз в неделю, и пять раз разные мужчины приглашали ее в кино или выпить. Ей очень понравился светловолосый голубоглазый лейтенант Роберт Онслоу из Огайо, которого она встретила в «Углу Радуги», в клубе для военнослужащих всех званий в старом ресторане «Дель Монико» на углу Шефтесберри-авеню и Пикадилли. Он водил ее в театр на «Блаженный дух» по Ноэлю Коварду и в кино на «Ребекку» и «Прощай, мистер Чипс». Но в мае его откомандировали на базу в Саффолк, и его письма постепенно стали приходить все реже, пока он совсем не перестал писать.
Адель не огорчило окончание так и не начавшегося романа, потому что Джоан совершенно справедливо заметила, что в море еще очень много рыбы. Она была уже достаточно рада тому, что ей снова может понравиться мужчина. Ей было хорошо оттого, что она стала, как и ее подруги, жить днем только вечерним свиданием, получать удовольствие от жизни и ничего не принимать слишком всерьез.
Сейчас она понимала, что день, когда она снова столкнулась лицом к лицу с Майлсом в Винчелси, стал поворотным моментом в ее жизни. Появившееся у нее спокойствие духа почти наверняка было вызвано тем, что она сумела справиться с обидой, которую держала на мать.
После разговора с Майлсом в тот день она вернулась домой и попросила Хонор и Роуз рассказать ей о том, как Эмили чуть не утонула. Роуз не очень хотелось говорить на эту тему, она отмахнулась от участия в разговоре и вышла погулять, но Хонор оказалась намного более словоохотливой. Она не только в живописных выражениях рассказала о событиях той ночи, но и сказала, что Эмили в самом деле обязана жизнью смелости и выдержке Роуз и ее пренебрежению собственной безопасностью. Она также упомянула, что некоторые вещи, которые рассказывала Эмили, находясь в расстроенных чувствах, заставили ее саму задуматься о своих материнских ошибках.
С полными слез глазами она рассказала Адель, как обращалась с Роуз, когда Фрэнк вернулся домой с войны. Она объяснила, что была зла на то, что он вернулся с контузией, и даже иногда жалела, что он не умер во Франции. Она признала свою вину за то, что вымещала свою боль на Роуз.
Бабушка уже не в первый раз пыталась дать Адель понять, что настало время простить мать. Но в этот раз, возможно потому, что Адель тронуло, с какой храбростью Роуз спасла Эмили, она почувствовала, будто ей открылась дверь в прошлое. И вдруг все ее недавние наблюдения и все, что она воспринимала, сложились в единое целое, и она увидела Роуз в совершенно другом, более положительном свете.
В тот вечер Адель намного комфортнее чувствовала себя с Роуз. В какой-то момент, когда они сидели по разные стороны кушетки и слушали приемник, Адель положила ноги на кушетку и Роуз взяла их и положила себе на колени. Просто маленький жест, но любовный и дружеский.
На следующее утро Адель случайно выпустила одного кролика из клетки, меняя солому, и Роуз прибежала помочь ловить его. Кролик явно намеревался удрать от них, и пока они обе бегали вокруг, пытаясь догнать его, они смеялись до колик в животе.
Когда Адель возвращалась в Лондон, Роуз вызвалась проводить ее на вокзал, и по дороге Адель рассказала ей о своем разговоре с Майлсом в Винчелси.
Какое-то время Роуз молчала, и Адель пришло в голову, что она размышляла, как бы сказать о нем что-нибудь нехорошее. Но Роуз не собиралась этого делать, а просто думала над рассказом Адель.
— Мне бы хотелось иметь хотя бы грамм твоего здравого рассудка и человечности, когда мне было столько лет, сколько тебе, — сказала она со вздохом. — Я думаю, ты больше пошла в него, чем в меня, Адель.
Тогда Адель сменила тему разговора и спросила Роуз, хочет ли она вернуться в свой дом в Лондоне теперь, когда Хонор снова в форме.
— Ты можешь вернуться, ты же знаешь, — сказала Адель. — Ни бабушка, ни я не будем чувствовать, что ты нас бросаешь, мы обе знаем, что здесь для тебя не самая сладкая жизнь.
Роуз улыбнулась.
— Здесь лучше, чем в Лондоне, — сказала она. — Намного лучше. И мне нравится быть рядом с мамой.
Когда Адель вернулась в Лондон, ей было над чем подумать. Жизнь уже не была черно-белой. Никто не был совсем плохим, но и идеальным никто не был, и в первую очередь она сама. И она поняла, что ей придется жить с тем, что выпало на ее долю.
Думая о Роуз просто как о Роуз, а не как о неудавшейся матери, она обнаружила, что может смотреть на нее по-другому. Она стала уже не подозрительной, а интригующей, не оскорбительной, а забавной. Когда они разговаривали по телефону, у них возникало много поводов для смеха. Там, где раньше была натянутость и недоверие, появилось тепло.
С каждой поездкой Адель домой они все лучше стали понимать друг друга, они спали на одной кровати и вместе занимались домашним хозяйством, ходили в кино, а иногда и в паб выпить пару стаканчиков. Они спорили, иногда их взгляды совсем расходились, но через год Адель могла честно сказать, что они стали друзьями. Роуз была единственной, кто знал и понимал ее подлинные чувства к Майклу. Адель также могла доверяться ей, рассказывая о других мужчинах, которых она встречала. Роуз в ответ рассказывала ей о мужчинах из своего прошлого, включая Майлса. Она как-то пошутила, что у них не может быть нормальных отношений, какие бывают между матерью и дочерью, потому что они обе не знают, что это такое. Адель подумала, что это истинная правда. Но в каком-то смысле так было даже лучше, потому что они могли быть честнее друг с другом.
— Интересно, что будет, если старшая сестра застанет меня, когда я прилягу? — захихикала Джоан.
— Она тебя повесит, колесует и четвертует, — сказала Адель, быстро споласкивая их чашки. — И она может вернуться в любую минуту, так что нам лучше найти для себя какое-нибудь занятие.
Как только она закончила фразу, зазвонил телефон.
— О, черт побери! — воскликнула Джоан. — Вот и кончилась наша спокойная ночь. Наверняка это какой-то себялюбивый тип, которому нужна кровать.
— Женская хирургия, — сказала она бодрым голосом, поднимая трубку. Она нахмурилась, слушая голос на том конце провода. — Одну минуту, — сказала она и протянула Адель трубку. — Это тебя, — сказала она. — Твоя мама.
У Адель прыгнуло сердце, и она выхватила у подруги трубку. Роуз могла звонить сюда ночью только в самом крайнем случае.
— Что случилось, мама? — спросила она в страхе. — Что-то с бабушкой?
— Нет, дорогая, ничего страшного, — ответила Роуз. — У меня хорошие новости. Я знаю, что сейчас середина ночи и, вероятно, я не лучший человек, от которого ты хотела бы услышать это. Но я чувствовала, что ты захочешь знать немедленно. Майкл нашелся!
Адель охнула, у нее подкосились ноги, и она вынуждена была ухватиться за спинку стула, чтобы быть в состоянии продолжить разговор. Роуз оставалась на ночь в Винчелси, потому что Эмили Бэйли упала и вывихнула щиколотку, а у ее экономки был свободный день и она гостила у родных. Роуз как раз помогала Эмили подняться в спальню, когда позвонили из Красного Креста. Они сказали, что их только что уведомили, что Майкл находится в лагере для военнопленных.
— Они уверены? — осторожно спросила Адель, не веря в то, что это может быть правдой.
— Да, это наверняка, они не сообщают родственникам, пока не удостоверятся, — сказала Роуз ненатурально визгливым от волнения голосом. — Кажется, он получил тяжелое ранение и его поместили в больницу, а потом перевозили из лагеря в лагерь, поэтому Эмили не получала вестей.
— Он цел? — спросила Адель, и у нее упало сердце от мысли, что Майкл может быть обезображен ожогами, без руки или ноги.
— Они только могли сказать, что он в порядке и что от него скоро будут приходить письма. Но он жив, Адель! Для Эмили этого достаточно. Ты бы ее видела, она плакала и смеялась одновременно. Такая радость! Я не могла позвонить тебе, прежде чем не уложила ее в постель.
— Скажи ей, что я очень рада, и спасибо тебе за то, что позвонила немедленно, но я должна попрощаться, идет старшая сестра, — быстро сказала Адель, услышав стук каблуков в коридоре. — Попробуй позвонить мне завтра утром в общежитие часов в девять.
Весь остаток ночи Адель сияла от счастья, шептала Джоан, как это чудесно и какой счастливой будет бабушка, когда узнает новости.
Джоан пару раз странно посмотрела на нее, явно удивляясь, почему Адель бросила этого мужчину, если так любила его. Она также с интересом спросила, что ее мать делает у матери Майкла, если их роман не удался из-за того, что его не одобрила семья.
Адель от радости могла бы разболтать Джоан всю историю, если бы они не работали, зная, что Джоан можно довериться и что она никому не расскажет. Но старшая сестра все время ходила туда-сюда, а такую долгую и сложную историю нельзя было легко рассказать шепотом между делом.
Если бы Адель могла, она бы пустилась в пляс по всей палате, разбудила всех и стучала бы в судна, чтобы отпраздновать новость. Ей захотелось прямо сейчас сесть на поезд и ехать домой, потому что к утру в Винчелси все будут говорить о чудесной новости. Майкл был жив, и это была самая чудесная новость в ее жизни.
Меньше чем за час до того, как разбудить пациентов, Джоан готовила в коридоре столик, на котором развозили чай, а Адель сидела за палатным столом и записывала сведения о пациентах. И вдруг она прервалась, подумав о Майлсе.
Два месяца спустя после того, как она снова встретилась с ним в Винчелси, Адель достала его визитную карточку и позвонила ему. Она сама не знала, зачем звонит, у нее просто было неясное ощущение чего-то незавершенного. Она была в полной уверенности, что у него есть дела поинтереснее, чем она, и что он найдет какой-нибудь предлог. Но она оказалась не права, он был очень рад услышать ее.
Он повел ее на ланч во французский ресторан в Мэйфэр, сказав, что до войны это было роскошное место. Сейчас оно уже не было таким роскошным, потому что было повреждено несколькими бомбами, и ресторан не смогли снова привести в прежнее состояние. Большинство обедающих были военнослужащие со своими женами или подругами, и старый аккордеонист пытался создать романтическую атмосферу.
Почти сразу Адель увидела, что Майлс не был таким людоедом, каким она его себе рисовала. Он был предвзятым и по привычке резким, но еще он был внимательным и обезоруживающе искренним.
За простой, но хорошо приготовленной едой он рассказал ей свою версию отношений с Роуз.
Роуз уже многое рассказывала Адель об этом и даже признавалась во всей лжи, к которой прибегала, чтобы уговорить Майлса взять ее с собой в Лондон. Почти в каждой подробности история Майлса совпадала с ее рассказом, кроме того, что он был достаточно галантен, чтобы принять на себя вину за то, что он прежде всего сам поощрял ее интерес к нему.
— Я не должен был так поступать, — сказал он, печально качая головой. — Но я был одинок, Эмили стала невозможной с того момента, как родился Майкл, — то билась в истериках, то была холодной как лед, — а Роуз была такой прелестной, и она интересовалась мной. А это сильно притягивает мужчин.
Он говорил о первых нескольких неделях в Лондоне с Роуз с явной ностальгией. Она никогда не была раньше в Лондоне, ее восхищали даже такие банальные вещи, как поездка на трамвае, и он явно получал удовольствие оттого, что показывал достопримечательности такой хорошенькой девушке. Адель пришло в голову, что он, вероятно, первый раз в своей жизни получал удовольствие, но в то же время смертельно боялся возможного скандала, если бы был разоблачен. У Адель были смешанные чувства по поводу его отговорки, что он наконец разнервничался, когда понял, что Роуз не собирается самостоятельно становиться на ноги, несмотря на все ее уверения, когда они только уехали из Рая, что ей ничего не нужно от него.
— Я не ожидал, что она пойдет в прислуги, хотя на тот момент это выглядело лучшим решением, — сказал он, нахмурив брови, от чего появились морщины. — Я понимал, что у нее неподходящие для этой работы взгляды, она была слишком живой и необузданной. Но она воротила нос от любой работы, даже от места в модном магазине, где предлагали хорошую зарплату и жилье.
Роуз говорила Адель, что притворялась, будто ей отказывали в месте, в то время как она даже не писала заявления. Она говорила, что не собиралась искать работу, потому что думала, что, если Майлс будет продолжать поддерживать ее, он вскоре разведется с женой и женится на ней. Может быть, она была не права, но Адель предполагала, что в то время большинство женщин ожидало от своих мужчин, чтобы они их содержали.
С ее точки зрения, Майлс был отчасти скотиной. Роуз действительно использовала все свои штучки, чтобы затянуть его, особенно секс, но факт оставался фактом: он был женатым мужчиной за тридцать, игравшим с семнадцатилетней девчонкой, которая была еще девственницей, когда он познакомился с ней.
— Так вы знали, что она была беременна мной, когда вы оставили ее? — прямо спросила Адель.
— Она так утверждала, — признался он откровенно. — Я решил ей не верить. И то, что она потом не искала меня, чтобы попросить денег, я принял за подтверждение своей правоты.
Адель ощетинилась.
— Вы могли проверить, права ли она, — обвинила она его. — С ней могло случиться все что угодно. Вы говорили, что любили ее! Как вы могли быть таким черствым?
— У меня на первом месте были жена и дети, — сказал он тем высокомерным тоном, который она помнила по их прошлым встречам.
— Но они не были на первом месте, когда вы сбежали в Лондон с Роуз, — колко напомнила ему Адель. — Я думаю, вы очень плохо поступили.
— Это так, — сказал он. — Но я был в невозможной ситуации.
Адель поняла, что нет смысла с ним спорить. Он был типичным представителем своего класса и считал, что с теми, кто стоит ниже его по социальной лестнице, не стоит считаться.
— И что же вы подумали, когда Роуз объявилась двадцать лет спустя и сказала вам обо мне? — спросила она, заводя разговор о более свежих событиях.
Его лицо стало кирпичного цвета.
— Я был просто в тупике! Ужасно было узнать, что она действительно ждала от меня ребенка, но когда я обнаружил, что этот ребенок — девушка, которую я встречал у Эмили и на которой собирался жениться Майкл, это был кошмар. Я запаниковал — видишь ли, я не предполагал, что Роуз будет хранить тайну.
— Так вы заплатили ей за молчание? А вы не побоялись, что, если заплатите ей один раз, она будет приходить и просить еще?
Его глаза вспыхнули от гнева, как в тот вечер, когда он ударил ее. Она подумала, что крайне удивительно, что он не набросился на Роуз.
— Да, боялся. Но я боялся еще больше при мысли о том, что она сделает, если я не заплачу. Но как ты узнала о деньгах? Вряд ли она тебе призналась, правда?
Адель вдруг почувствовала, что должна стать на сторону матери.
— Да, она призналась, — сказала она беспечным тоном. — Когда мы снова стали жить вместе после того, как мою бабушку ранило под бомбежкой, она рассказала мне все. Я не одобряю шантаж, но не одобряю и мужчин, бросающих женщин, которые носят их ребенка. И ей нужно было, чтобы вы остановили нашу свадьбу, правда?
Майлс какое-то время задумчиво смотрел на Адель, прежде чем ответить.
— Да. И буду с тобой совершенно откровенен: даже если бы между вами не было кровной связи, на тот момент я бы сделал почти все что угодно, чтобы Майкл не женился на тебе.
Адель разозлилась при этих словах.
— Простая девочка с болот выходит замуж за сына барристера, — с колкостью сказала она. — О, мистер Бэйли, это было бы ужасно!
Майлс поморщился.
— В данный момент я бы предпочел, чтобы Майкл женился на уличной девке, чем услышать, что он «пропал без вести, предположительно погиб», — сказал он горестно. — Но тогда я хотел, чтобы мой сын женился на женщине из высших слоев.
— Каким же вы были ханжой! — Адель не могла сдержаться, чтобы не уколоть его. — После того как я сбежала в Лондон и потеряла Майкла, я часто пыталась утешить себя мыслью, как мне повезло, что вы не стали моим свекром.
Адель больше никогда не хотела видеть Майлса после того ланча. Он честно рассказал ей свою версию истории, и она даже почувствовала, что неприятные черты его характера, о которых она узнала, будучи в Хэррингтон-хаус, были реакцией на невозможное поведение Эмили в течение многих лет. Но он, похоже, не испытывал никакого чувства вины за то, что бросил Роуз. И совершенно не потерял своего снобизма.
Но прошло несколько недель, и, когда он позвонил ей и предложил встретиться, она подумала, что ей нужно узнать его получше. В этот раз он был более мягок, больше интересовался ею и меньше пытался произвести на нее впечатление, показывая, какой он важный человек. К тому времени как они встретились в четвертый раз, у нее начала складываться реальная картина. Его суровость, холодность и отсутствие юмора были всего лишь ширмой. Адель почувствовала, что эти черты сформировались у него под давлением властных родителей, вследствие неудачного брака, а также его карьеры. Когда он сбросил притворство, она увидела настоящего Майлса Бэйли — доброго и мягкого человека, который любил своих детей и внуков и у которого в жизни было мало удовольствий и смеха и очень немного любви.
Во время четвертого ланча Адель обнаружила, что Майлс на самом деле нравится ей — хочется ей этого или нет. Он рассказал ей о некоторых немного забавных судебных делах, в которых участвовал, и она чуть не плакала от смеха благодаря его чувству юмора и умению воссоздать некоторые смехотворные персонажи, которых он защищал или обвинял.
— Неудивительно, что Майкл был так увлечен тобой, — сказал он с улыбкой. — С тобой так приятно.
Адель просто рассмеялась, не придумав, что остроумное сказать в ответ.
— Я вспоминаю тот день в общежитии в Гастингсе как один из самых несчастных в моей жизни, — сказал он, потянувшись через стол и взяв ее за руку. — Я пришел, ожидая оскорблений, угроз и бог знает чего еще, и я был готов к безобразной сцене. Но ты восприняла мою новость с таким спокойствием и чувством собственного достоинства, что я был просто сбит с толку.
— Давайте не будем говорить об этом, — сказала она, смутившись от напряженности в его голосе.
— Но мы должны поговорить об этом, Адель, — настаивал он. — Мы не можем отмахнуться от этого. Я должен признать, что почувствовал облегчение, когда ты упростила мне задачу. Но потом я почувствовал себя абсолютным ничтожеством.
— И поделом вам, — сказала она, пытаясь отвлечь его юмором.
— Возмездие пришло ко мне неожиданно, — сказал он. — Видишь ли, хотя мне нужно было сказать тебе, что я твой отец, я не испытывал никаких отцовских чувств, по меньшей мере тогда. Они пришли только потом, когда я подумал, какая ты смелая, не эгоистичная и бесстрашная, особенно когда узнал, что ты отдалилась и от бабушки и никогда не рассказывала ей о настоящей причине. Вот тогда меня и прошибло. Ты была такой девочкой, которой гордился бы любой отец. Но как я мог гордиться? Я никак не влиял на становление твоего характера, не воспитывал тебя и был так жесток с тобой! Ты понимаешь, что я имею в виду?
— Думаю, да, — сказала она.
— Хотел бы я знать, что делать, — сказал он печально. — Я задумывался над этим сегодня утром до нашей встречи, но все еще не знаю, как будет правильно.
Адель нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду.
— Делать? Вам не нужно ничего делать!
Майлс покачал головой.
— Думаю, что нужно. Мне ничего не нужно было делать для тебя в последние двадцать три года, но мне хотелось бы принять участие в твоем будущем.
— Мы можем встречаться время от времени, — сказала она с улыбкой.
— Но я подозреваю, что каждый раз, когда я буду видеться с тобой, я буду хотеть большего, чем совместный ланч или обед время от времени, — сказал он.
Адель забрала руки и рассмеялась, чтобы скрыть, что вдруг занервничала.
— Если между нами будет что-то еще, начнутся разговоры, — сказала она.
— В этом-то и трудность, — признался он. — Я хочу большего, и я думаю, что должен публично признать тебя своей дочерью.
— Вы не должны этого делать! — сказала она, всполошившись. — Представьте, что поднимется! Кроме ваших детей и чувств Эмили, есть еще моя бабушка. Она сразу догадается, как Роуз получила свой дом, и Роуз будет конец.
— Но речь идет о тебе, — настаивал он, — а не о них. Я не смог поступить по справедливости много лет назад. И думаю, что должен сделать это сейчас.
— Нет. Пусть все будет как есть, — сказала она твердо. — Я очень тронута, что вы чувствуете, что это нужно сделать. Но мне достаточно того, что это прозвучало между нами. Наши семьи и так уже много страдали.
— В этом отношении ты права, — вздохнул он. — Но если обнаружится, что Майкл жив, мне обязательно нужно будет раскрыть это ему. После того, через что он прошел, ты не думаешь, что обязана рассказать ему правду о том, почему бросила его?
До сегодняшнего дня Адель не задумывалась о том, что сказал Майлс. Может быть, потому, что она уже перестала надеяться, что увидит Майкла живым, но еще и потому, что ее жизнь стала очень насыщенной. Она уже не уединялась в свободное от дежурства время, у нее были десятки подруг, кроме Джоан, и часто она ходила к ним в гости и знакомилась с их семьями.
Еще она часто навещала дома своих бывших пациентов, проверяя, как они поправляются, и продолжала учиться, потому что хотела получить диплом акушерки. Она ходила на танцы, в кино и в театр, ездила домой в Рай, когда у нее была пара выходных, и все это оставляло ей очень мало времени на размышления о прошлом.
Адель все еще носила кольцо Майкла на шее, он никогда не покидал ее сердца. Но, считая, что он уже не вернется, она решила не думать о нем и продолжать жить.
Но вот она сидела в тихой палате, смотрела, как первые лучи солнца стараются пробиться через затемнение, и в ней боролись все чувства, которые она испытывала к Майклу. Она словно видела перед собой его лицо, эти синие глаза, длинные ресницы и губы, чуть загнутые в уголках, будто он беспрестанно улыбался.
И еще она вспоминала, как Майлс настаивал, что, если Майкл окажется живым, она должна рассказать ему все.
Адель слишком хорошо помнила, в какой ужас пришла, когда Майлс выложил ей эту шокирующую новость. Она привыкала к этому три года, но даже сейчас она сама себе казалась грязной. И она не сомневалась, что Майкл будет чувствовать себя так же.
Ситуация осложнялась еще и тем, что Эмили, Роуз и Хонор стали хорошими подругами. В прошлом году они много времени провели вместе. Разве не естественно будет, если две семьи соберутся вместе, чтобы отпраздновать возвращение Майкла домой? Но Эмили и Хонор втайне будут надеяться, что Майкл с Адель смогут уладить свои разногласия, в чем бы они ни заключались. С другой стороны, Адель, Майлс и Роуз постараются держаться в стороне и скрывать свою разрушительную тайну.
Майкл будет находиться среди двух лагерей и не понимать, почему его тянут в разные стороны, пока ему не скажут правды.
Но даже если каким-то чудом он примет этот факт, как они должны будут вести себя друг с другом? Адель даже не могла себе представить, сможет ли обнять его как сестра. Может быть, даже невинное прикосновение вызовет у нее чувство вины? Они будут нервничать в присутствии друг друга еще и оттого, что их тайна причинила боль стольким людям.
Майлсу, вероятно, сообщили о сыне тогда же, когда и Эмили, и Адель подумала, что, вероятно, должна позвонить ему позже и договориться о встрече, чтобы они могли все обсудить.
«Но он жив, — напомнила она себе, потому что ничто остальное не могло заставить ее забыть об этом чуде. — Пока мы должны просто отпраздновать, а не думать о том, что делать, когда он вернется домой».
Пока Адель размышляла о Майкле, Майлс в это время находился во дворе конюшни на «Ферме», в своем доме в Элтоне. Он заливал в машину остатки бензина, который хранил на крайний случай. Он проснулся в пять, в таком восторге от новости о Майкле, которую ему сообщили вчера вечером, что уже не мог заснуть. Он не позвонил вчера Эмили, потому что было очень поздно, а сегодня решил, что поедет в Винчелси и они вместе отпразднуют.
Он был немного удивлен, что первой его мыслью было помчаться к ней. За все годы скандалов и обид он привык не обращать внимания на Эмили и считать их троих детей только своими. Если он иногда признавал, что они унаследовали некоторые черты характера от матери, это были только отрицательные черты. В прошлом, если бы был повод что-нибудь отпраздновать, он бы и не подумал пригласить Эмили присоединиться к ним.
И только когда сообщили, что Майкл пропал без вести, он начал рассматривать Эмили как союзницу. До тех пор она мешала ему, смущала его, он с радостью выкинул бы ее из своей жизни и сделал все, чтобы забыть ее. Он наносил визиты ей только из чувства долга и ответственности.
Но когда он посчитал, что Майкл умер, он понял, что Эмили была единственным человеком, разделявшим его горе, единственным, с кем он мог поделиться воспоминаниями. И он кинулся к ней, и она утешила его.
Потом она рассказала ему, что была на волосок от смерти, и о том, как Роуз спасла ее. Он счел абсурдно ироничным, что именно влияние Роуз и ее матери помогали Эмили держаться и в свою очередь поддерживать его. В некоторые свои самые черные дни он чувствовал, что Бог сыграл с ним какую-то шутку. Почему он должен получать утешение от жены, с которой расстался и которая никогда не утешала его раньше, и чувствовать себя обязанным женщине, которая была причиной его огромной сердечной боли?
И все же, когда Майлс понял, что Эмили еще важна для него, ему стало еще тяжелее решить, как поступить с Адель. Он хотел, чтобы она присутствовала в его жизни, причем на переднем плане, приходила к нему в дом, познакомилась с его друзьями и коллегами. Он хотел обращаться с ней как с дочерью, а не встречаться тайком, будто стыдился ее.
До прошлой ночи он на восемьдесят процентов был уверен, что должен рассказать всей своей семье о ней. Он не ожидал, что Ральф и Диана очень этому обрадуются, но подумал, что если Майкла нашли и он жив, то он захочет узнать правду о том, почему Адель его бросила. Но сейчас Майлс боялся, что его желания были эгоистичны и правда не принесет ничего, кроме боли.
Майлс приехал в Хэррингтон-хаус в начале десятого, остановившись пару раз по дороге, чтобы не появиться слишком рано. Он был так взволнован, что с трудом стоял на месте, ожидая, пока ему откроют дверь.
Дверь открылась, но на пороге стояла не экономка Эмили, как он ожидал. Это была Роуз.
У него по спине пробежал холодок, и он отступил на шаг. Конечно, он знал, что Роуз много времени проводила с Эмили, но не встречался с ней раньше и ни на секунду не предполагал, что она сегодня может оказаться в доме. Она выглядела совершенно не такой, какой он видел ее в последний раз в своем кабинете.
— Ты так поражен, — сказала она тихо. — Но не бойся, я буду вести себя идеально.
Он предположил, что она имеет в виду, они не знакомы, но только полный идиот может поверить женщине, которая однажды его шантажировала.
И все-таки эта Роуз не имела ничего общего с развязной, чересчур накрашенной хищницей, которая ворвалась к нему в кабинет. Она выглядела приятной и свежей в простом ситцевом платье и с голыми ногами. Ее сложной прически тоже след простыл, и светлые волосы были заплетены в одну аккуратную косу. Ей было около сорока, но выглядела она на тридцать.
— Я тебе не враг, — сказала она тихо и быстро объяснила свое присутствие здесь. Она сказала, что как раз собиралась пойти наверх помочь Эмили спуститься вниз, а потом позвонить Адель в больницу. Она разговаривала и вела себя так уважительно, словно была младшей сестрой Эмили, встретившейся с мужем сестры.
— Заходите же, — сказала она чуть громче, включая широкую улыбку. — Я вам обоим только приготовлю завтрак, потом уберу и пойду расскажу маме чудесные новости. Вам обоим сегодня есть о чем поговорить.
Страх Майлса улегся, когда она побежала вверх по лестнице. Адель утверждала, что Роуз изменилась к лучшему, и он предположил, что если бы она собиралась о чем-то рассказать Эмили, то уже давно бы это сделала.
— О Майлс, какая чудесная новость! — восторженно сказала Эмили, ковыляя вниз по лестнице и опираясь на руку Роуз. — Я так рада, что ты приехал. Никто другой не поймет моих чувств так, как ты.
Майлс невольно подошел обнять ее, как только она спустилась в холл, хотя не делал этого много лет, и она очень тепло ответила ему. Она захихикала и схватила его за щеки, с нежностью ущипнув их.
— Я думаю, что мы сегодня самые счастливые люди на земле. Я чувствую себя так, будто мне снова восемнадцать лет.
Майлс подумал, что она прелестно выглядит. Ее щеки порозовели, глаза блестели, и он вспомнил о том, как сильно любил ее когда-то.
Роуз тоже рассмеялась от радости за них.
— Я убегаю готовить завтрак, — сказала она. — Вы наверняка хотите побыть одни.
Майлс и Эмили зашли в гостиную.
— Я надеюсь, что Адель и Майкл в конце концов помирятся и будут вместе, — сказала Эмили, садясь. — Адель безусловно еще любит его, Роуз сказала, что она была в восторге от новости, когда Роуз вчера позвонила ей. Одна хорошая сторона этой проклятой войны — то, что исчезли барьеры между классами. Именно это заставило их расстаться в первую очередь.
— И мое неодобрение, — сказал Майлс, вдруг почувствовав себя некомфортно.
— Но ты ведь уже изменил свое мнение на ее счет, правда? — сказала Эмили. — Ты говорил, что ошибся в ней тогда, когда приезжал в первый раз.
— Да, ты права. Она милая и добрая девушка, — сказал Майкл, подумав, как воспримет это Эмили, если узнает, что они часто встречались в Лондоне. — Но тот факт, что она беспокоится о том, жив ли Майкл, не означает, что она все еще любит нашего сына. Я подозреваю, у нее просто дружеские чувства.
— А Хонор так не думает, — сказала Эмили, надувшись. — Она считает, что они созданы друг для друга.
— Ну ладно, Эмили, — вздохнул Майлс. — Достаточно уже одного того, что Майкл жив, и не нужно планировать за него будущее. Война еще не окончена, и мы не можем ни на что рассчитывать. Давай просто жить сегодняшним днем, хорошо?
Эмили даже не могла вспомнить, когда в последний раз у нее был такой чудесный день, и не хотела, чтобы Майлс уезжал домой. Они разговаривали без конца — о Майкле, о счастливых временах в прошлом и о том, чего бы они хотели в будущем. Майлс ни к чему не относился критично, по сути, он был таким добрым и старался помочь, вымыл посуду после завтрака и все убрал — он даже сходил в магазин купить ей сахара. Сахар он не нашел, но вместо него принес сахарин. Когда он попробовал с ним чай, то скорчил гримасу и сказал, что лучше будет пить чай без сахара, чем эту отраву.
— Я думаю, война сравняла всех, — сказал он задумчиво, заглядывая в кладовку и пытаясь найти что-нибудь на ужин. — Вот мы по меркам большинства людей богаты. Но на одни только деньги нельзя купить сахар, бекон или филе для бифштексов. Странно подумать, что даже у короля и премьер-министра тот же рацион, что и у нас, как и у тех, кто живет в трущобах.
Эмили сидела за кухонным столом и чистила несколько картофелин.
— Роуз и Хонор хорошо питаются, — сказала она. — Но они выращивают всякие овощи и разводят кур и кроликов. Те яйца, которые мы ели за завтраком, были от них.
Майлс закрыл дверь в кладовку. В его руках была коробка колбасного фарша.
— Ты много говоришь о них, — сказал он с ноткой сарказма. — С чего бы это?
— Я восхищаюсь ими, — ровным тоном сказала Эмили. — Пусть они живут в примитивном коттедже, носят потрепанную одежду и им приходится очень тяжело работать, но в них есть что-то особенное.
— То есть?
— Хонор очень мудра, она понимает людей, не задавая им вопросов. Что же касается Роуз, она подбадривает меня. Она такая честная, она признает, что большую часть своей жизни вела себя как ведьма по отношению ко всем, кто ее любил. И все-таки она мне по-настоящему нравится, она практична, слегка любит распоряжаться и не разрешает мне жалеть саму себя. Я так надеюсь, что у Майкла и Адель все образуется, когда кончится война.
Майлс сел рядом с ней и взял ее за руки, отчего она уронила картошку и нож.
— Перестань, Эмили, — сказал он.
Она рассмеялась, потому что тон был нежным, совсем не таким резким, каким он привык разговаривать с ней.
— Я серьезно, — сказал он с упреком. — Я считаю, у них вряд ли что-то будет, и если ты будешь их поддерживать, это только разочарует тебя.
— Я знаю моего сына, — сказала она, пожав плечами. — В последний раз, когда я его видела, он все еще любил Адель, это было всего за неделю до его последнего полета. Он сам мне это сказал.
— Может быть, это так и было, но с тех пор много чего случилось. Истории между людьми не такие, как в сказках. Любовь может умереть, если ее не подпитывать.
— Как это было с нами? — сказала она, и ее глаза наполнились слезами.
— Да, именно так, — сказал он.
* * *
Майлс вдруг почувствовал невыразимую грусть. Он вспомнил, как его сердце распирало от любви и гордости, когда он смотрел, как отец Эмили ведет ее под руку по проходу в день их свадьбы. Ей было всего шестнадцать, и белое шелковое платье, золотые волосы, цветы и вуаль делали ее похожей на ангела. Он вспомнил, как нервничал и как ему было от этого плохо перед первой брачной ночью, потому что он был уверен, что такому эфемерному созданию будут отвратительны плотские желания. Но ей это не было отвратительно. Как только они оказались в их спальне на «Ферме» с заново переклеенными для них обоями, она проявила столько же страсти, сколько и он.
— Жаль, что я не могла понимать тебя лучше и была эгоистична, — сказала она мягко. — Ты заслуживал большего.
Майлс был поражен. Раньше она никогда не брала на себя ни капли ответственности за их неудавшийся брак.
— А я должен был проявить больше терпимости, когда родился Майкл, — сказал он. — Я слышал, женщины после родов часто впадают в депрессию.
Она кивнула.
— Роуз сказала мне, что тоже была в депрессии, когда родилась Адель. Мы обе были плохими матерями.
— Но Майкл все равно вырос отличным парнем, — сказал Майлс, чтобы отвлечь ее от разговоров про Роуз.
— И Адель тоже. Может быть, их влекло друг к другу отчасти и потому, что их матери одинаково обращались с ними.
— Я думаю, это чуть больше научило их понимать людей, — сказал он. — Но ты выглядишь уставшей, Эмили, после ужина я лучше поеду домой.
— Нет, не уезжай, — попросила она. — Останься на ночь.
— Не могу, — сказал он. — Мне завтра нужно быть в Лондоне, я готовлю большое дело. Но если хочешь, я вернусь на выходные.
— Хочу, — сказала она и улыбнулась. — И попытайся достать шампанского, чтобы мы по-настоящему отметили.
Глава двадцать седьмая
Адель улыбнулась, наблюдая, как Майлс изучает меню. Они встретились, чтобы пообедать вместе в ресторане на Грик-стрит в Сохо, и хотя меню было очень длинным, ничего из того, что заказывал Майлс, не оказалось в наличии.
Ей было интересно, почему он не спросил официанта, что у них есть. Но она предположила, будто Майлс подумал, что им подсунут то блюдо, которого в кухне больше всего.
Был ноябрь, и хотя угроза вторжения, казалось, прошла с того момента, как американцы присоединились к своим союзникам, доставив с собой свои «Летающие крепости» — бомбардировщики, способные пролетать большие расстояния без необходимости заправляться, — военно-морской флот в этом году сильно пострадал. Население не должно было знать, но пострадало более тысячи британских военных кораблей, которые торпедировали немецкие подводные лодки.
Но настроение все же было оптимистичным. У ВВС теперь были «ланкастеры» и «стерлинги» — самолеты, которые могли также доставлять бомбы на большие расстояния, и с помощью американцев они угощали немцев их собственным блюдом. Недавно объявили, что Британия вернула себе Тобрук в Северной Африке, и после заключения союза Британии с Россией довольно много людей считали, что Германию можно победить.
— Ты выглядишь уставшим, — заметила Адель. Лицо Майлса было не таким румяным, как всегда, и под глазами были мешки. — Ты что, где-то пьянствовал?
— Нет, — сказал он, но при этом по-мальчишески усмехнулся. — Правду говоря, я был очень занят, пытаясь помочь некоторым еврейским семьям выехать из Германии. Ты же знаешь, что там происходит, правда?
Адель кивнула. В Ист-Энде жило и попадало в больницу очень много евреев, и она очень хорошо представляла себе их бедственное положение как здесь, так и в Европе. Среди жителей Лондона ходили очень сильные антиеврейские настроения, эти люди обвиняли евреев во всем. Многие из их доводов были смешны и противоречивы. То они говорили, что евреи занимали все места в бомбоубежищах, то говорили, что они так богаты, что все выехали из Лондона, пока продолжались воздушные налеты. Евреев обвиняли в том, что они управляли черным рынком и грабили разрушенные дома, но настоящие девушки-кокни, как Джоан, которые знали всех местных преступников, говорили, что это они держали черный рынок, а разрушенные дома грабили команды гражданской обороны, которые приводили в порядок улицы.
Адель пришлось познакомиться со многими людьми из еврейской общины, и она была склонна верить их рассказам о том, как плохо обращаются с их родственниками в Германии и Польше. Они рассказывали, что их сгоняли и отправляли в гетто, вывозили поездами в лагеря и без раздумий расстреливали, если они пытались сбежать.
— Это все правда? — спросила она Майлса, потому что многие люди утверждали, что эти рассказы — чистая пропаганда. — Лагеря и все остальное?
— Да, Адель, боюсь, что это правда, — сказал он и глубоко вздохнул. — Мне как раз удалось помочь одному своему другу-еврею, юристу из Берлина, перебраться в Англию. Он со своей семьей живет сейчас у меня на «Ферме», и они оставили нацистам все — дома, деньги и ценности. Он рассказывал мне такие вещи, в которые я не поверил бы, если б это рассказывал кто-нибудь другой. Мой друг утверждает, что Гитлер намеревается истребить весь еврейский народ.
— Но он не может это сделать, правда?
— Я полагаю, он уже начал. Ройбен рассказал мне, что он уже построил лагеря с газовыми камерами и крематориями, чтобы потом сжигать тела. Он говорил, что, когда евреев вывозят поездами на «переселение», поезда отправляются именно туда, в лагеря. И женщины и дети тоже.
— Нет! — воскликнула Адель. — Это чудовищно. Разве мирные жители в Германии могут поддерживать такое варварство?
Майлс пожал плечами.
— Я полагаю, люди боятся пойти против потому, что боятся за собственные жизни. И в такой фантастически зловещий план трудно поверить. Но давай сегодня не будем беседовать об этих ужасах. Мы с Эмили получили еще одно письмо от Майкла, и в общем и целом у него довольно бодрое настроение.
Адель с готовностью наклонилась вперед. Содержание первых двух писем Майкла, которые скорее были краткими записками, было разочаровывающе туманным, и целые фразы были вымараны цензором. Они только узнали, что он находится в лагере для военнопленных «Сталаг 8б», но могли лишь догадываться о том, где находится лагерь, как он туда попал и насколько серьезны его ранения.
Похоже, он не знал, что они считали его мертвым, и упомянул, что его мучает боль в ноге. Он написал, что кормят не очень хорошо, что ему не хватает книг и что они играют в футбол и в карты. И еще он сильно беспокоился о них.
Майлс пояснил, что немцы, вероятно, сказали ему, что почти всю Англию сровняли с землей.
— Он был явно взволнован, получив наше первое письмо, — заметил он, сделав паузу, чтобы извиниться, что не принес с собой письма Майкла, потому что Эмили ни за что не хотела с ними расставаться. — Он в восторге от того, что мы с Эмили сейчас друзья, и благодарен за все новости, которые мне удалось собрать о его друзьях из эскадрильи. Он сказал, что через Красный Крест пришли кое-какие книги и посылки, что он читает кое-что из Агаты Кристи и научился шить, потому что ему приходится латать свою форму. Все остальное — вопросы о семье, племянницах и племянниках, и о том, как мы все справляемся с войной. — Майлс сделал паузу. — Он просит передать привет тебе и твоей бабушке.
У Адель защипало в глазах. В их первую встречу после новости, что Майкл находится в Германии, она настаивала, чтобы Майлс не упоминал о ней в письмах к сыну. Эмили вряд ли можно было удержать от этого, потому что она поддерживала стабильные отношения с Роуз и Хонор и, разумеется, захотела бы известить его, что они почувствовали облегчение, узнав, что он цел. Адель так хотелось самой написать ему, но она боялась дать ему понять, что все еще влюблена в него. И все-таки, что бы она ни говорила, как бы ни была уверена, что делает правильно, держась на расстоянии, ее сердце все еще упрямо хотело большего.
Официант принес им еду, и Адель была рада отвлечься. Иногда она жалела, что так близко узнала Майлса, потому что чем ближе она ему становилась, тем более невозможной становилась ситуация.
За едой они говорили о многих разных вещах: об осаде Сталинграда, о которой Майлс думал, что она окончится очень скоро, потому что немецкая армия понесла огромные потери, о победах Монтгомери в Северной Африке и о падении Муссолини в Италии. Майлс согласился, что Англии отчаянно требовалась помощь Америки войсками, танками и самолетами, но он подозревал, что, когда война будет наконец выиграна, Америка возьмет на себя все заслуги за победу, будто англичане только и сидели сложа руки последние три года.
— Я не люблю янки, — сказал он злобно. — Они ведут себя чертовски высокомерно, но где они были во время «блицкрига»? Сколько из их пилотов могли сделать то, что делали наши ребята во время Битвы за Англию? Они шлялись по Англии в своей щегольской форме и подкупали легковерных девушек своими сигаретами, жевательной резинкой и нейлоновыми чулками. Разве среди них были настоящие герои?
Адель могла лишь улыбнуться в ответ на это, потому что и сама взяла пару чулок и плиток шоколада. Ей до смерти хотелось рассказать Майлсу, что у Роуз тоже есть поклонник-американец, военный полицейский из Арканзаса по имени Рассел. Судя по всему, он однажды остановил ее в Рае, чтобы спросить дорогу в Гастингс, а через какое-то время повел на танцы. По мнению бабушки, он был хорошим человеком, однако она сказала это после того, как он принес ей несколько банок консервированных персиков и масло для ламп и починил забор, который снесло бурей.
— Они не так плохи, — сказала Адель и рассмеялась, увидев, что Майлс готовится произнести новую тираду. — Их людей тоже убивают, и если бы они не появились здесь вовремя, возможно, немцы были бы уже здесь. Поэтому перестань быть ханжой. Те янки, которых я встречала, были очаровательны.
Он открыл рот, чтобы что-то сказать, потом снова его закрыл.
— Только не выходи за одного из них замуж и не уезжай с ним туда жить, — сказал он с кривой улыбкой.
— Мне пока что никто не предлагал, — хмыкнула она. — Но это соблазнительно. Представь — иметь сколько угодно масла, сыра и мяса. Жить в нормально обогреваемом доме. И не штопать одежду. Моя одежда так истрепалась, я бы отдала все что угодно за новое платье.
Он задумчиво посмотрел на нее, возможно, только сейчас заметив, что на ней было все то же темно-коричневое платье, в котором она каждый раз встречалась с ним с тех пор, как кончилось лето, с единственной разницей, что в этот раз она повязала вокруг шеи кремово-коричневый платок.
— У тебя была тяжелая жизнь, правда? — спросил он, и голос его дрогнул. — Подумать только, что имела Диана, когда была маленькой! Уроки танцев и музыки, бессчетное количество красивых платьев и туфель. Мне сейчас очень грустно, что ты имела так мало.
— Но ведь она от этого не стала самой счастливой девочкой на свете, правда? — колко сказала Адель. Она не хотела, чтобы он жалел ее, и вспомнила Диану с кислым лицом и гадким нравом.
Майлс вздохнул.
— Нет. Ее по-прежнему нельзя назвать счастливой, и я часто думаю, что это моя вина. Я был озабочен своей карьерой, когда дети были маленькими, и не много времени проводил с ними. И еще они видели столько перепалок между Эмили и мною. Не думаю, чтобы я когда-нибудь говорил с Дианой так, как разговариваю с тобой.
Адель не знала, что на это сказать. Маленькой девочкой она всегда представляла, что обеспеченные люди живут пленительной жизнью, но теперь, после разговоров с Майлсом, понимала, что совсем необязательно бывает так. Иногда он говорил, каким большим и пустым кажется его дом в Гемпшире, и она догадалась, что рое его старших детей с семьями не часто навещают его. Она подумала, что он о многом сожалеет, и это было еще одной причиной, почему она не могла отдалиться от него.
Отвезя Адель в общежитие, Майлс вернулся в гостиницу в Блумсбери, где он остановился. Вместо того чтобы лечь в постель, он сел на стул у огня, который разожгла для него горничная, и подумал об Адель. Он задумался, почему раньше, после пары их первых встреч, не ждал следующей, и понял, что сам себе копал могилу.
Ему никогда не приходило в голову, что он сможет полюбить ее так же, как других своих детей, если не сильнее. Потому что именно это он чувствовал сейчас по отношению к ней. Не просто тепло, потому что она была веселой и добросердечной. Не вину, потому что ее детство было несчастным. И не только гордость, хотя иногда гордость действительно так переполняла его, что его подмывало похвастаться ею.
Это была любовь.
Он всегда считал себя умным мужчиной, а его коллеги-юристы считали его человеком чести. И тем не менее его вовлекло в тайные отношения, которые вполне могли бы настроить Эмили и других его детей против него, если бы это выплыло. Но держать это в тайне казалось так несправедливо.
Уставившись на огонь, Майлс вспомнил, как Майкл любил большой камин, который они всегда разжигали в столовой на «Ферме» зимой. Вспоминает ли Майкл сейчас этот камин? Представляет ли себе накрытый стол с хрустальными бокалами и фамильным серебром, поблескивающим в свете свечей? Стоит ли у него перед глазами мать, красивая, в темно-синем вечернем платье с блестками, которое он всегда настоятельно просил ее надевать на семейные сборы? А каким он вспоминает Майлса? Одетым, чтобы ехать в Сити, в темном костюме и котелке? Или в парике и судейской мантии, как на фотографии, которая стоит на серванте в столовой?
Майлс глубоко вздохнул, потому что каким бы его мальчик ни вспоминал своих родителей, вряд ли он мог представить, какая дилемма стоит перед отцом.
Майкл всегда был очень честным. Майлс не мог припомнить, чтобы он когда-нибудь солгал. Поэтому он предположил, что если бы он спросил сына, как ему поступить, Майкл настоятельно посоветовал бы сказать правду, а там пусть как карты лягут.
Но одной из его карт был Майкл, еще одной — Эмили, а еще Ральф, Диана и внуки. А что, если он потеряет их всех?
Майкл был голоден и пытался согреться, сворачиваясь в клубок под одним грубым, поношенным одеялом на сбитом в комки, влажном матраце. Барак В был длиной двадцать пять футов и шириной четырнадцать футов, у стен стояли двенадцать трехъярусных деревянных коек. Пол был просто сбит из досок. В центре барака стояла печь и стол с несколькими скамейками. Майкл занимал нижнюю койку и был ближе всех к печи, из уважения к его ранениям. Но печь уже два дня не топилась, потому что кончилось топливо. Завтра должны были отправиться на его поиски, но, по всей вероятности, может потребоваться несколько дней, пока они его достанут.
Но Майкл не терял бодрости духа. У него здесь были хорошие друзья, они могли болтать, играть в карты, писать письма, читать, и всегда оставалась «травля болванов» — развлечение, заключавшееся в том, чтобы докучать охранникам или надувать их, с тем чтобы убить время. В бараке находилось двенадцать англичан, три американца, один канадец, два австралийца, четыре поляка и два француза, это была интересная «смесь», и они редко скучали. Днем из-за своей больной ноги Майкл не мог присоединиться к другим, бегающим вдоль периметра забора, играющим в футбол и даже делающим гимнастику, но он был способен это пережить. А ночей он просто боялся.
Сегодня ночью, как и каждую ночь, он пытался прогнать от себя мешавший ему храп товарищей, боль в ноге и вытье ветра снаружи, загружая мозг всеми своими любимыми воспоминаниями об Англии.
Вот он играет в крикет в школе и солнце палит его затылок, анод ногами мягкая и упругая трава. Вот он съезжает по холму на велосипеде, не держась за руль, и его рубашка вздымается на спине как парашют. Вот он уже в Оксфорде и гребет вниз по реке, солнце играет бликами на воде, и перепуганные утки бросаются укрыться под нависшими над водой деревьями. Его первый одиночный полет — он поднимается над облаками и смотрит вниз на внушающую благоговейный ужас бескрайнюю бездну облаков.
Он хорошо научился отгонять от себя кошмар последнего полета, когда самолет загорелся и вышел из-под его контроля и он не мог открыть кабину. Он не помнил, как в конце концов открыл ее, к тому моменту он уже терял сознание, потому что следующее, что он увидел, — это себя самого на земле, запутавшегося в стропах парашюта. Из того, что было потом, он помнил только боль — обжигающую, раскаленную боль, которая прекратилась лишь на время, когда он снова потерял сознание.
Он смутно помнил монашек и белоснежную комнату, единственным украшением которой было огромное распятие. Позже он узнал, что жители деревни принесли его в монастырь на носилках, и если бы не монашки, он бы умер. У него были сломаны обе ноги и одна рука, кисти и лицо были обожжены. Они сотворили настоящее чудо, врачуя ожоги, потому что кожа начала восстанавливаться. Гарри Филлпот из барака Ж, прервавший учебу на врача, чтобы завербоваться в ВВС, сказал, что у него останется только слегка сморщенная кожа вокруг глаз и рта, и ничего более серьезного.
Но Майкла больше беспокоили ноги, потому что они были сломаны в двух местах, и у монашек было недостаточно медицинских знаний, чтобы верно составить кости. Он очень сильно хромал, и боль никогда не прекращалась, особенно сейчас, когда похолодало. Он каждый день делал упражнения, которые порекомендовал Гарри, и не переставал надеяться, что в один день он полностью выздоровеет.
Многие из его товарищей-заключенных только и говорили, что о побеге. Майкл в душе был с ними, но он знал, что они не смогут включить его в свои планы, он оказался бы обузой. Он бежал в свои мечты, и это получалось у него как нельзя лучше. Мечты, где все было залито солнцем, помогали ему справиться с холодом, прошлые спортивные победы помогали забыть о боли. Но по какой-то странной причине именно памятные холодные или дождливые дни, проведенные с Адель, по-настоящему переносили его домой.
Майкл вспоминал, как они бродили по болотам, как ездили под дождем на велосипедах, но прежде всего — тот морозный день в Лондоне, когда они в первый раз занимались любовью.
Он вспоминал запах ее кожи и ее волос, чувствовал шелковистость ее кожи и слышал, как она шепотом обещает ему любить его вечно. С тех пор у него были другие женщины, но ни одна не тронула его душу так, как Адель.
Мама написала ему длинное письмо о том, каким хорошим другом ей стала Роуз, мать Адель. Если верить словам матери, Роуз удалось помочь ей там, где доктора опустили руки: у нее уже не было плохих дней, когда она отказывалась вставать с постели, и она почти совсем прекратила пить.
Майкл горячо надеялся, что это было правдой, и еще он был рад, что у нее есть хороший друг. Хотя очень сложно было представить Роуз Талбот, так пренебрегавшую своей дочерью, в роли чьего-либо друга.
Он также задумывался над тем, как Роуз удалось снова пробраться в жизнь миссис Харрис, и предположил, что единственным человеком, кто мог бы рассказать ему об этом, была Адель. Еще он хотел спросить ее, почему она пошла увидеться с его матерью, когда услышала, что он пропал без вести. Для Адель не было смысла проявлять заботу и симпатию к тем, кто плохо обходился с ней. Разумеется, если только она все еще не любила его. Именно эта слабая надежда держала его в самые черные дни.
Глава двадцать восьмая
1944
— Давай двигайся, а то мы опоздаем, — рявкнула Хонор в сторону Роуз, которая выковыривала остатки пудры из пудреницы пилочкой для ногтей и пыталась напудриться этими остатками. — Тебе не нужно мазать лицо этой грязью, чтобы просто увидеться с Эмили.
Их пригласили в Хэррингтон-хаус отпраздновать успех высадки десанта в Нормандии, который начался на неделю раньше, шестого июня. Но они обе чувствовали, что настоящей причиной званого ужина было желание Майлса и Эмили показать, какими они стали хорошими друзьями. Может быть, они даже надеялись, что в будущем снова смогут жить как муж и жена.
Хонор была в восторге от того, что они снова были друзьями, — она уже упаковала с собой две бутылки вина из можжевельника и готовилась произнести тост. Бутылки были из партии, которую она отложила в начале войны с намерением открыть, когда война будет окончена. Они открыли одну бутылку после того, как сообщили, что Майкл жив, и вино оказалось как нектар, а поскольку Эмили говорила, что Майлс всегда ворчит, что нигде не достать вина, а виски и бренди почти совсем исчезли, Хонор надеялась, что он будет впечатлен.
— Это платье не слишком в обтяжку? — спросила Роуз, отложив пудреницу. Она разгладила книзу светло-голубой креп и, нервничая, посмотрела на мать.
Платью было по меньшей мере восемь лет, она привезла его с собой из Хаммерсмита, когда в последний раз ездила в Лондон.
— Нет, оно не слишком в обтяжку, — честно сказала Хонор. — Ты так думаешь только потому, что уже очень давно не наряжалась. Думаю, Эмили вполне может тебе позавидовать, оно такое красивое.
Хонор про себя думала, что ее дочь выглядит как на картинке. Пять лет войны, перебои с едой, нехватка новой одежды и постоянные беспокойства превратили многих женщин в неряшливых и истощенных, но не Роуз. Свежий воздух, физический труд и ограничение в алкоголе сотворили чудеса. Ее светлые волосы сияли так, как в молодости, кожа светилась здоровьем, а фигура была подтянутой и стройной. Вчера вечером она легла спать в бигуди, и сейчас волосы падали на ее плечи роскошными локонами. Может быть, платье было немного старомодно — практичная одежда на рынке сейчас была очень простой и ткань на нее расходовалась экономно, но старое платье Роуз было расшито на лифе, а юбка была скроена по косой и обольстительно прилегала к ее бедрам. Но вряд ли нашлась бы женщина, которая предпочла бы его скучной, дешевой одежде, которую носило сейчас большинство.
— Ну пойдем уже, ради бога, — раздраженно сказала Хонор.
Роуз молча подняла сумочку и взяла фонарик на случай, если они будут возвращаться домой поздно. Она не хотела идти. Ее приводила в ужас мысль о том, что придется сидеть за столом напротив Майлса.
Она была очень довольна, что они с Эмили уладили свои раздоры. Роуз очень привязалась к Эмили и гордилась тем, что ее подруга была счастлива отчасти и потому, что именно она помогла ей взять себя в руки. Но с Майлсом она разговаривала не более пары минут с того дня, когда они столкнулись на пороге Хэррингтон-хаус. И перспектива провести вечер рядом с ним пугала ее. Возможно, он все еще зол на нее за шантаж, так же как она все еще мялась от неловкости. Потом еще были Хонор и Эмили, блаженно верившие, что в тот момент, когда Майкл вернется, они с Адель бросятся друг к другу в объятия. Четверо людей, хранивших столько тайн, за одним столом — она чувствовала, что быть беде.
Они закрыли входную дверь и быстро зашагали по дороге. Было почти пять часов, солнце еще грело, и вечер был таким мирным. До вчерашнего дня они беспрестанно слышали пушечную стрельбу на Ла-Манше. Хонор сказала, что эти звуки точно такие же, как двадцать восемь лет назад в битве на Сомме.
— Что ты говорила, она для нас готовит? — спросила Хонор, когда они поднимались по холму по направлению к Винчелси.
Роуз улыбнулась. Вот уже несколько месяцев мама беспокоилась по поводу еды. Она при любом удобном случае сводила к ней разговор. Роуз было интересно, как бы она выжила, если бы жила в городе и ей приходилось обходиться только едой по карточкам. Похоже, она не понимала, какой удачей была возможность иметь яйца, кур и кроликов, и для нее наступал конец света, когда кончался сахар.
— Она сказала, что ей удалось раздобыть немного мяса барашка, — сказала Роуз. — Надеюсь только, что она приготовила его так, как я объяснила.
Экономка Эмили ушла некоторое время назад, и она не нашла кем ее заменить. У нее еще оставалась миссис Томас, которая приходила убирать несколько раз в неделю, и Роуз обучала Эмили готовить. К всеобщему удивлению, она училась быстро и получала от этого удовольствие. По сути, она стала хорошей хозяйкой и гордилась своим домом и садом. Она часто говорила, что в тот день, когда обнаружилось, что Майкл жив, до нее дошло, как ей повезло, и она исполнилась решимости к тому времени, как он вернется домой, стать такой матерью, которой он будет гордиться.
— Эти туфли меня убивают, — сказала Хонор, приостановившись под Лэндгейтом и глядя на свои распухшие ноги в блестящих коричневых лодочках. — Мне не надо было тебя слушать, надо было надеть старые.
Роуз вздохнула. Какое-то время назад она убедила Хонор, чтобы та сшила себе новое платье из ткани, лежавшей много лет. Она закончила его как раз на этой неделе, и оно выглядело прелестно — пуговицы до самого низа, короткие рукава, светло-зеленый хлопок с маленькими белыми ромашками. У нее еще была хорошая фигура, и с причесанными кверху волосами она выглядела почти элегантно. Но Роуз пришлось сражаться, чтобы заставить мать надеть чулки и красивые туфли.
— После стаканчика-другого вина ты забудешь про свои ноги, — сказала Роуз. — Не могла же ты надеть старые ботинки, что подумали бы о тебе Эмили и Майлс?
— Пусть люди принимают меня такой, какая я есть, — ядовито сказала Хонор. — Я слишком стара, чтобы пытаться выглядеть модницей.
Хонор действительно после пары стаканов вина забыла о своих тесных туфлях. Было просто наслаждением сидеть за красиво накрытым столом с отполированным серебром, белоснежными салфетками и сверкающими бокалами, не говоря уж о восхитительном барашке, готовившемся медленно, пока мясо не отошло от кости, как раз как она любила. Она до этого момента не понимала, как ей не хватало изысканности элегантных обедов. В последний раз она так ела более тридцати лет назад в Танбридж-Уэлсе.
Эмили сверкала так же, как и ее бокалы, явно в восторге от того, что ей все удалось сделать как надо. Она выглядела мило и совсем молодо в розовом платье из шифона и с собранными на затылке крупными локонами. Она сказала, что купила это платье еще в 1929 году, когда Майклу было двенадцать лет, и не надевала его с тех пор, потому что мода изменилась и стали носить намного более длинные юбки.
Майлс был очень внимательным и если и испытывал немного волнения от того, что был единственным мужчиной среди трех женщин, то не проявлял его. Хонор невольно потеплела к нему, потому что он не был таким непримиримым и напыщенным, каким показался ей при первой встрече. Она подумала, что его слишком невозмутимый характер изменило примирение с Эмили и работа с еврейскими беженцами, которым он помогал обустроиться в Англии.
Он также пришел в восторг от ее можжевелового вина, проигнорировав принесенный с собой кларет, и не раз сказал, что может продать все ее вино в Лондоне.
Разговор тек без напряжения, и они очень смеялись, когда Роуз рассказывала забавные истории о своих жильцах в Лондоне и о некоторых проблемах, с которыми столкнулась, переселившись на болота. Хонор просто сидела, откинувшись на спинку стула, и слушала, гордясь тем, что Роуз так хорошо умеет развлекать людей. С тех пор как она приехала сюда, она совершенно потеряла свой предыдущий жесткий, довольно банальный имидж, но сохранила при этом понимание низших слоев общества, что придавало ей восхитительную пикантность.
— Что ты планируешь делать, когда закончится война, Роуз? — спросил Майлс. — Ты останешься здесь или вернешься в Лондон?
— Мне бы хотелось остаться здесь и управлять поселком из домов-фургонов, — сказала она.
— Поселком из домов-фургонов! — воскликнула Хонор. — Откуда у тебя такие идеи, скажи на милость?
— Люди будут готовы отдать все за отпуск на море, и если я продам свой дом, то смогу купить пять или шесть фургонов и построить блок для душей и туалетов, — сказала Роуз, явно не обескураженная удивлением матери.
— И где ты собиралась поставить эти фургоны? — возмущенно спросила Хонор. — Надеюсь, не на нашей земле!
— Нет, мама, — рассмеялась Роуз. — Я знаю, что ты не потерпела бы у своей двери толпу шумных отдыхающих. У мистера Грина есть рядом кусок земли, я предложила ему арендовать ее у него, а он сможет открыть маленький магазинчик. Он был полностью за.
Хонор немедленно поняла, что это, в конце концов, не такая уж сумасшедшая идея. Освальд Грин был владельцем нескольких акров земли между ее домом и Петом-Левелом. Это была необработанная, каменистая земля рядом с морем, не подходящая для выпаса овец. У Освальда был кое-какой бизнес в Гастингсе, и он как-то сказал ей, что все время подумывает над схемами, которые приносили бы ему доход, но чтобы при этом его участие было минимальным. Она также предполагала, что он питал слабость к Роуз, потому что он был одиноким вдовцом лет пятидесяти пяти.
— Это может сработать, — сказала она с напускным равнодушием. — Если ты готова как следует впрячься в работу.
— С моей точки зрения это хорошая идея, — сказал Майлс, чуть глотая слова, потому что уже достаточно выпил за вечер. — Лично я не представляю ничего хуже, чем отдых в фургоне, но смею заметить, что этот вариант будет привлекательным для людей, которые не могут позволить себе остановиться в гостинице. И Хонор могла бы продавать им яйца и вино.
— Может быть, удастся убедить Адель вернуться сюда и тоже помогать? — весело сказала Эмили.
При этом замечании Хонор вдруг совершенно серьезно отнеслась к идее Роуз. Она очень скучала по Адель и часто пыталась придумать что-нибудь, чем можно было бы заманить ее обратно из Лондона.
— А вот это просто великолепная идея, — сказала она, просияв и посмотрев на Эмили. — Она любит жизнь на свежем воздухе, и я представляю, какое для нее будет удовольствие красить фургоны и разбивать клумбы.
— И может быть, она еще вернется к Майклу, — взволнованно сказала Эмили.
Хонор выпила всего несколько бокалов вина и, может быть, потому заметила, как Роуз и Майлс напряглись от замечания Эмили. Предположив, что Майлс еще оставил для себя открытым вопрос насчет соответствия ее внучки и его сына, она посмотрела на Роуз.
— А что ты имеешь против этого?
Роуз покраснела.
— Ну, мама, — сказала она чуть резковато. — Адель не понравится, если мы будем сводничать.
— Она все еще любит его, как ты хорошо знаешь, — с ядом в голосе сказала Хонор. — И Эмили рассказывала мне, что Майкл спрашивает о ней в каждом письме. Так что если Майлс сделает любезность сойти со своего пьедестала и принять этот брак, их двоих уже ничего не будет сдерживать.
— Хонор совершенно права, Майлс, — сказала Эмили, потянувшись к мужу и ласково потрепав его по руке. — Мы все знаем, что Адель бросила Майкла потому, что мы не одобряли их отношений, и мы были очень не правы в этом. Адель чудесная девушка, мы вместе пережили тяжелые времена, поэтому давайте все выпьем за возможное будущее Майкла и Адель вместе.
Эмили подняла свой бокал, за нею Хонор, но она заметила, что Роуз и Майлс в ужасе смотрят друг на друга, не притрагиваясь к своим бокалам.
— Ну, в чем дело? — спросила Хонор, переводя взгляд с одного лица на другое. — Вы знаете что-то, чего я не знаю? Майлс! Что-то не так с Майклом, чего ты не хочешь обнародовать?
Эмили захихикала.
— О, он просто глупо упирается. У Майкла все отлично, хотя он сейчас чуть прихрамывает. Он может получить работу в авиации, когда вернется домой, и его будущее будет в его руках.
— Адель не хочет выходить замуж за Майкла.
При этом решительном заявлении Майлса Хонор внимательно посмотрела на него. Она почувствовала боль в его голосе и нечто сродни панике во взгляде.
— Откуда ты это знаешь? — спросила она.
— Потому что она сказала мне, — ответил он.
— Когда, дорогой? — спросила Эмили. Она была подвыпившей, но явно пыталась вести себя так, будто почти не пила.
У Майлса сделался очень смущенный вид.
— Я пригласил ее на ланч в Лондоне, — сказал он. — Я хотел извиниться за то, что так плохо обращался с ней, когда она здесь работала.
Хонор немедленно сообразила, что происходит что-то подозрительное. Адель рассказала бы ей, если бы Майлс пригласил ее на ланч, если, разумеется, они оба не хотели что-то скрыть.
— Ну пусть, мама, — вмешалась Роуз, и у нее в глазах было странно жесткое выражение. — Вы с Эмили цепляетесь за глупые мечты. Майлс прав, Майкл для Адель просто друг семьи.
Хонор перевела взгляд с лица Майлса на лицо дочери и увидела в обеих парах глаз тот же самый страх. Они оба знали какую-то тайну, это было совершенно очевидно, и тут она вспомнила, с какой неохотой Роуз собиралась на этот ужин.
— Вы вдвоем что-то замыслили, чтобы расстроить их отношения, так? — сказала она бурно. — Что вы сделали? Что вы им сказали?
— Это правда, Майлс? — спросила Эмили, и ее голос стал на тон резче. — Но как ты мог замышлять что-то вместе с Роуз? Она тогда даже не жила здесь.
До Хонор тоже это дошло, но она очень давно приезжала к ней, и Хонор рассказала ей, что у Адель есть молодой человек. Зачем ей хотеть расстроить их отношения? Это не имело смысла.
Но перебирая прошлое в мыслях, Хонор вспомнила, что враждебность Адель к матери была намного сильнее, чем можно было ожидать. Она отчаялась когда-либо их примирить. И это притом, что Адель обычно легко прощала людей.
— Вы должны мне сказать, что вы двое сделали, — резко сказала Хонор. Она поднялась со стула и угрожающе посмотрела на них. — Я хочу правды, полной правды. И сейчас же!
Наступила полная тишина. Майлс и Роуз украдкой поглядывали друг на друга, а Эмили уставилась с открытым ртом на Хонор.
— Пусть я старею, но я еще не выжившая из ума старуха, — гневно сказала Хонор и погрозила пальцем Майлсу. — Я уверена, что вы с Роуз вместе вынашивали какой-то план, чтобы Адель бросила Майкла и удрала в Лондон, и если вы не расскажете мне, в чем дело, я узнаю сама. — Она на минуту приостановилась, чтобы придать своим словам больше значимости. — Мне расскажет старшая сестра в больнице в Буханане. Она все знает, потому что именно она сказала мне, что Адель перевелась в Лондонскую больницу. Она не организовала бы этот перевод без веской причины. Так что, мне поехать и спросить у нее? Или вы сами мне расскажете?
Тишина была как на кладбище, Майлс и Роуз имели такой вид, будто им хотелось выбежать из комнаты.
Майлс прервал молчание.
— Я расскажу вам, — сказал он тихим голосом. — Я обещал Адель, что не буду рассказывать, но сейчас вижу, что должен это сделать. — Он сделал паузу, быстро взглянул на Роуз, которая делала ему гримасы, и прочистил горло. — Правда в том, что Адель — моя дочь.
Хонор секунду или две думала, что это неудачная шутка. Она посмотрела на Эмили и увидела, что та в шоке широко раскрыла рот.
— Не будь смешным, Майлс, — сказала она пронзительным тонким голосом. — Как это может быть?
— У меня был роман с Роуз, — сказал он.
Хонор как раз собиралась попросить его повторить, что он сказал, предположив, что она ослышалась, но он опустил голову, а Роуз закрыла лицо руками.
— Это было, когда меня во время прошлой войны посылали сюда ликвидировать имущество, — продолжал он после короткой паузы. — Я остановился в «Джордже» в Рае, а Роуз там работала. Но когда Адель работала здесь, я не знал, что она дочь Роуз. Я не знал, пока Роуз не пришла ко мне в кабинет, после того как увидела объявление о помолвке в «Таймс».
Хонор с шумом села, совершенно задохнувшись от новости.
— Но тогда получается, что Майкл — ее сводный брат, — произнесла она еле слышно.
Эмили вскочила со стула, повернувшись к Роуз.
— У тебя был роман с Майлсом? Как ты могла? Я думала, ты мне друг.
У Хонор кружилась голова от шока. Она уже пожалела, что выжала из них эту тайну, но какой бы ошеломляющей ни была эта новость, она объясняла многое из того, что раньше сбивало ее с толку.
— Сядь и закрой рот, Эмили, — сказала она твердо. — Пусть они сначала объяснят.
В основном объяснил все Майлс, и, учитывая его крайнее замешательство и частые вспышки гнева Эмили, он справился вполне хорошо.
Пока перед ними разворачивалась его история, Хонор испытала все мыслимые чувства. Прежде всего сильнейший гнев по поводу того, что счастье Адель было разрушено действиями ее собственной матери и что она должна была справляться сама с такой неожиданностью.
Она не знала, что чувствовала к Майлсу и Роуз, была ли это ярость или сочувствие, но скорее это казалось смесью того и другого, и правы они были или нет, заведя роман, они никак не могли знать, что это приведет к таким далеко идущим последствиям.
Что же касается Эмили, к ней она испытывала глубочайшую жалость. Ей удалось в прошедшем году взять себя в руки, а эта новость наверняка вернет ее в прежнее состояние.
К Роуз вернулся голос только тогда, когда Майлс начал запинаться, описывая, как пошел в больницу в Гастингсе, чтобы сообщить эту новость Адель.
— Может быть, я должна была прийти к тебе и попросить совета по поводу всего того, что с этим делать, вместо того чтобы позволить Майлсу пойти к Адель, — сказала она Хонор жалобным голосом, и ее глаза наполнились слезами. — Но я не знала, как ты это воспримешь. — Она остановилась, чтобы вытереть глаза, потом взглянула на Эмили. — Я никогда не встречалась с тобой до того вечера, как вытащила тебя из реки. Когда я обнаружила, кто ты такая, мне казалось невероятным, что судьба может так повернуть. И я не симулировала дружбу с тобой. Мои чувства были подлинными, хотя я сомневаюсь, что сейчас ты сможешь в это поверить. Эмили хотела точно знать, когда возникли их отношения, сколько они длились и знала ли Роуз, что у Майлса было трое детей. Майлс опустил голову, рассказывая ей, а потом признался им о своих встречах с Адель в Лондоне.
— Я в результате полюбил ее, — сказал он просто. — Она очень просила меня никогда этого не разглашать, она всегда боялась, что это причинит боль Эмили, Майклу и другим моим детям. — Тогда он повернулся к Эмили и осторожно взял ее за руку. — Я всегда порывался рассказать тебе. Пусть казалось более милосердным держать все в тайне, но, с другой стороны, это казалось несправедливым.
— Что ты скажешь, Эмили? — спросила Хонор у подруги, которая положила голову на руки, и ее хрупкие плечи сотрясались от рыданий.
— Ничего. — Эмили отняла руки от лица и сглотнула слезы. — Я не меньше Майлса в этом виновата. Я ужасно обращалась с ним в то время, когда это случилось. И так все время, до тех пор, пока мы не расстались и я не приехала сюда жить.
— Это очень честная и благородная манера смотреть на вещи, — сказала Хонор, потом подвинула свой стул ближе к Эмили и обняла ее. — Наверное, мы сейчас должны подумать над тем, как сказать правду Майклу.
— Я не знаю, — сказала Эмили. — А что вы все думаете?
— Правда заставит его перестать надеяться на Адель, — сказал Майлс.
— Но может быть, именно эта надежда и поддерживает его сейчас? — сказала Роуз.
Эмили вдруг повалилась на стол, сбивая бокал с вином на скатерть.
— Эмили! — воскликнула Хонор. — С тобой все в порядке? Может, мы с Роуз пойдем, а вы с Майлсом сами разберетесь?
Она подняла Эмили и прижала ее голову к своей груди, потому что женщина снова рыдала и, казалось, была убита горем.
— Наверное, это был сильный шок для тебя, — утешительно сказала Хонор, гладя ее по голове. — Мы обе виноваты в том, что мечтали о свадьбе и о том, что наши семьи соединятся. Конечно, сейчас это невозможно, но вероятно, пусть не сейчас, мы сможем примириться друг с другом и наша дружба перерастет в более крепкую, основанную на взаимопонимании.
Роуз поднялась со стула, подошла к Эмили и положила ей руку на плечо.
— Мне так хотелось бы повернуть время назад, — сказала она печально. — Ты знаешь, Эмили, что ты моя единственная настоящая подруга за всю жизнь? Мне невыносимо, что я причинила тебе столько боли. Пожалуйста, прости меня!
— И меня тоже, — сказал Майлс. — Я должен был понять, что твои проблемы с нервами были вызваны рождением Майкла, и позаботиться о том, чтобы помочь тебе. А я ожесточился на тебя. Я очень сожалею.
Эмили подняла голову с плеча Хонор, посмотрела на три пары обеспокоенно глядевших на нее глаз, потом встала и двинулась вокруг стола.
Она подняла бокал, наполнила его вином и опустошила одним глотком.
— Никто из вас не должен передо мной извиняться, — сказала она, вытирая слезы салфеткой. — Я заслужила все, что имею, и даже больше. Но сейчас я смотрю на вас троих, вы так беспокоитесь из-за меня, и мне невероятно стыдно. Я знаю, что должна вам кое-что рассказать, я думала, что это не вытянули бы из меня даже под пыткой, но я расскажу. Ради Адель и Майкла.
Она наклонилась вперед и дрожащей рукой снова наполнила свой бокал.
Тут Хонор испугалась. В глазах женщины был опасный огонек, она уже выпила больше, чем нужно, и ее явное спокойствие почти наверняка было затишьем перед бурей.
— Давай я помогу тебе лечь в постель, — предложила Хонор. — У нас на сегодняшний день было достаточно потрясений и страданий.
— И я вам еще добавлю, — сказала Эмили, поднимая бокал и выпивая вино большими глотками. Допив, она посмотрела в три напряженных лица, все еще с пустым бокалом в руке.
— Майкл — не сын Майлса. Он ребенок садовника, который работал у нас на «Ферме».
Некоторое время царила тишина. Хонор уставилась на Эмили, подумав, что ослышалась. Майлс и Роуз тоже.
Сильный звук вывел их из этого состояния. Эмили швырнула пустым бокалом в камин, где он рассыпался на осколки.
— Это правда! — крикнула она с вызовом, и ее руки задрожали. — Я влюбилась в него, он умолял меня бежать с ним, но я не смогла.
— Джаспер? — воскликнул Майлс. — Это он?
— Да, он, — сказала она. — Это ты называл его Джаспером. По сути, его звали Уильям Джаспер. Я называла его Билли. Майкл весь в него.
Хонор повернулась посмотреть на Майлса. Его лицо было пепельно-бледным, он был ошарашен новостью, и на мгновение Хонор подумала, что Эмили просто придумала жестокий способ отомстить.
— Я… я… я… — пробормотал он. — Я иногда думал, почему ты проводишь с ним столько времени в саду. Но я не мог такое о тебе подумать.
— Мужчины иногда так глупы, — Эмили коротко и напряженно рассмеялась. — Они думают, что если мужчина гуляет, это отлично, но женщины должны предположительно сидеть дома, вышивать и ждать, когда они вернутся домой. Мне было так одиноко на «Ферме», Майлс. Ты уходил рано утром и возвращался поздно вечером, а часто пропадал целыми днями. Все, что у меня было, — это твои родители, читавшие мне нравоучения о том, как должна себя вести молодая хозяйка. Они даже не разрешали мне играть с Ральфом и Дианой, потому что их должна была воспитывать няня. Билли заставил меня почувствовать себя желанной и любимой, он вернул меня к жизни.
— Почему ты не сказала мне? — сказал Майлс.
— Что? Что у меня был роман с садовником и что я ждала от него ребенка? — Эмили пьяно захохотала. — Ты бы выставил меня за дверь. И я бы очутилась в том же положении, в каком была Роуз.
— Я имею в виду то, что ты была несчастна, прежде чем у тебя начался роман, — упрекнул ее Майлс.
— А что бы ты сделал? — отрезала она в ответ. — Прочитал бы мне лекцию о том, сколько лет «Ферма» принадлежит вашей семье? Твои родители старели, и рядом с ними кто-то должен был быть. Даже когда началась Первая мировая, мне не разрешали делать ничего, кроме как сидеть и вязать шлемы. Билли хотел завербоваться, ты помнишь?
Майлс кивнул.
— Я его разубеждал, говорил, что мы без него не справимся.
— Верно, именно это ты и говорил. Но он уже тогда любил меня и хотел уйти, потому что боялся того, к чему это могло бы привести, а мы тогда еще даже не целовались. Ты должен был отпустить его. Он в результате пошел воевать и умер в окопах. Я думаю, он даже не пытался выжить.
Хонор услышала резкую боль в голосе Эмили и поняла, почему у нее столько лет душа была не на месте. Она к тому же вспомнила, что чувствовала к Фрэнку, и знала в душе, что любая женщина, столь сильно любившая мужчину, поступила бы так, как Эмили, правильно это было или нет.
Роуз тоже плакала, может, потому, что понимала Эмили, может, потому, что чувствовала свою ответственность за то, что навлекла больше бед на эту семью, Хонор этого не знала.
Майлс смотрел на Эмили, которая снова села за стол, уронив голову на руки. Он выглядел так, будто весь мир обрушился на него.
Хонор тоже захотелось плакать. Она так ждала сегодняшнего вечера, потому что думала, что уже наверняка Эмили и Майлс снова станут мужем и женой. А сейчас это было исключено.
— Я думаю, мы должны пойти домой, Роуз, — сказала она тихо.
Роуз и Хонор ушли. Они выскользнули из дома, не сказав ни слова. Было уже темно, и ночной воздух обвевал теплом их голые плечи. Они не разговаривали, а просто взяли друг друга под руку и быстро зашагали прочь от Хэррингтон-хаус.
Роуз и Хонор снова увидели Эмили только в начале августа. Они обе написали ей письма после этого званого ужина, но ответа не получила ни одна. Почтальон Джим сказал им, что она уехала, но они не представляли себе, уехала ли она с Майлсом или одна.
Наутро после званого ужина Хонор и Роуз обсуждали, когда рассказать Адель. Разумеется, это будет для нее чудесной новостью, потому что теперь, когда Майкл вернется домой, уже ничто не будет стоять на их пути и ничто не сможет помешать их браку. Но они не могли просто рассказать ей, не посоветовавшись сначала с Майлсом и Эмили. Это была их семейная тайна, в конце концов, и возможно, они сами захотели бы объяснить это Адель, решив, будут ли говорить Майклу.
Но когда они начали углубляться в разговоры о том, что произошло накануне вечером, это стало похоже на прогулку по минному полю. Хонор рассердилась и сказала, что Роуз должна была давным-давно рассказать ей правду, и обе семьи избежали бы страданий. Она сказала, что никогда бы не приняла приглашения на ужин, если бы знала, что у Роуз когда-то был роман с Майлсом. Кроме того, она догадалась, что Роуз шантажировала Майлса, и чувствовала к ней такое отвращение, что много дней с ней не разговаривала. Временами между ними возникала такая напряженность, что Роуз чуть не вернулась в Лондон.
Ситуацию усугублял беспрерывный дождь, заставлявший их много времени проводить в доме. Днем они занимались своими обычными делами, по вечерам слушали приемник или читали, но не так непринужденно и по-дружески, как раньше. И только тогда, когда они услышали, что Германия запустила новый беспилотный самолет, известный под названием VI, чтобы снова сбросить бомбы на Лондон, Хонор начала проявлять настоящее беспокойство.
— Что только у Эмили и Майлса в голове, скажи на милость? Они вообще думают связаться с нами? — неистовствовала она. — Я уже хочу с этим покончить, мне это так действует на нервы.
Роуз знала, что на самом деле она боится, что Адель снова будет подвергаться опасности, поскольку новые бомбардировки означали, что на какое-то время она не получит отпуска.
Люди называли новую угрозу «самолетами-снарядами», и ходили слухи, что это была месть Гитлера за высадку десанта в Нормандии, потому что бомбежки начались практически сразу после высадки десанта. Гул самолетов был слышен над головами, но все отчеты и по радио, и в газетах были довольно поверхностными: это были отчеты об атаках на юге, но без подробностей. Адель еженедельно сообщала в письмах, что в больнице снова кипит работа, было много раненых, но она только упомянула, что самолеты-снаряды были адским неудобством, потому что было невозможно предупредить об их появлении.
— С ней будет все в порядке, мама, — утешительно сказала Роуз. — И Эмили с Майлсом тоже скоро объявятся. Им нужно принять очень важное решение, они не могут торопиться с этим. Я знаю, тебе не терпится сказать Адель, но она три года верила в то, что Майкл ее брат, и если будет так считать еще пару недель, это ничего для нее не изменит.
— Я не только из-за Адель дергаюсь, — призналась Хонор. — Я все время беспокоюсь и о Майкле тоже. Что он почувствует, когда узнает, что он сын садовника?
Потом, в первый день без дождя за долгое время, в Керлью-коттедж зашла Эмили. Она выглядела хорошо, проведя несколько недель с Майлсом в Девоне. Она извинилась за то, что не дала им знать, но сказала, что они с Майлсом почувствовали, что им нужно на какое-то время удалиться от всех, чтобы хорошо все обдумать.
— Возможно, это вам обеим покажется странным, но я рада, то все вышло наружу, — сказала она, и ее глаза заблестели от слез. — Может быть, у нас с Майлсом есть шанс начать все сначала все заново. И Адель с Майклом уже больше ничего не будет сдерживать.
Она продолжила, сказав, что они решили рассказать Майклу, когда он вернется, но он будет решать сам, нужно ли сообщать Ральфу и Диане. Она сказала, что Майлс подумал, может быть, им нужно рассказать Адель в следующий раз, когда она приедет домой в отпуск, и он зайдет к ним, чтобы они могли рассказать ей вместе.
— Он думает, что я тоже должна присутствовать, — сказала она. — Показать, как я счастлива, что она теперь часть нашей семьи. Несмотря на понятное волнение Эмили по поводу того, как Майкл воспримет новость, что Майлс не его биологический отец, она казалась отнюдь не напряженной и даже счастливой. Она сказала, что эта тайна заставляла ее много лет чувствовать себя несчастной и что теперь, когда все раскрылось, у нее как будто с плеч спал тяжелый груз. Майлс сказал, что это никоим образом не изменило его чувств к Майклу и что он тоже очень счастлив, что ему больше не придется скрывать свои встречи с Адель.
— Я надеюсь, что вы обе все еще мои подруги? — сказала Эмили, глядя то на Хонор, то на Роуз. — Кроме всего прочего, это сделало нас настоящей семьей.
Они всегда считали Эмили обаятельной, но слабой и себялюбивой, а сейчас вдруг поняли, с какой смелостью она призналась в тот вечер в неверности и обмане. Она могла гневаться на Майлса, находясь в преимущественном положении с точки зрения морали, и завоевать симпатии всех, но она этого не сделала.
Единственное, что она увидела, было препятствие между ее любимым сыном и женщиной, которую он любил. Зная, что в ее силах убрать это препятствие, чего бы это ни стоило, она была готова заплатить эту цену.
— Конечно, мы всегда будем друзьями, — сказала Хонор хриплым от эмоций голосом. — Эмили Бэйли, ты смелая и очень честная женщина.
Эмили оставалась у них до вечера, и они втроем много хохотали, делясь сплетнями и новостями о том, что произошло с момента их последней встречи.
— Вы вдвоем должны куда-нибудь вместе пойти, — предложила Хонор, когда они пили по второй чашке чая. — Вы наверняка должны друг другу многое сказать наедине. И в качестве перемены вы могли бы немного повеселиться.
— Мы могли бы поехать в Лондон, — немедленно сказала Эмили. — Мне нужно кое-что новое из одежды, а в магазинах в Рае ничего нет.
— А это хорошая идея? Вы не забыли о самолетах-снарядах? — спросила Хонор.
— Адель сообщала в последнем письме, что бомбят в основном к югу от реки, — ответила Роуз. — И потом, мне нужно проверить, как дела в Хаммерсмите. И в Лондоне веселее, чем где-либо еще.
Хонор улыбнулась при этих словах, увидев, что тучи над Эмили и Роуз рассеялись.
— Ну, пусть будет так, как вы хотите, — сказала она. — И потом не жалуйтесь мне, если все поезда будут опаздывать.
В один четверг, почти в конце августа, Роуз и Эмили сели утром на восьмичасовой поезд из Рая до Лондона. Все лето было очень дождливым и промозглым, но в то утро ярко светило солнце. Эмили выглядела очень элегантной в светло-голубом костюме и кремовой фетровой шляпе с широкой отделкой. Роуз пошутила, что она выглядит как бедная родственница в полосатом летнем платье и видавшей виды соломенной шляпе, отделанной новой лентой.
— Мы могли бы посмотреть на свадебные шляпы, — мечтательно сказала Эмили, выглядывая из окна поезда.
Роуз чуть улыбнулась. Она подумала, что ее подруга иногда бывает сущим ребенком. Она словно верила в фей-крестниц и думала, что по взмаху волшебной палочки Майкл и Адель просто проплывут по проходу в церкви, не оглядываясь назад. Насколько им было известно, Адель могла сейчас с кем-то встречаться и ее чувства к Майклу могли измениться. Что касается Майкла, они не знали достоверно о его ранениях и, безусловно, даже представить себе не могли, как повлияет на него новость о том, что его настоящий отец похоронен где-то в полях Фландрии.
— Не искушай судьбу, — упрекнула ее Роуз. — И в любом случае, если сейчас почти невозможно купить помаду или пудру, неужели ты думаешь, что мы сможем найти магазин с приличными шляпами?
— Тогда давай купим что-нибудь экстравагантное для Хонор, — предложила Эмили. — Как насчет какой-нибудь красивой мамы?
Роуз рассмеялась. Мысль о матери, разгуливающей в соблазнительной пижаме, показалась ей забавной.
— Это будет лишней тратой денег и купонов. Она оценит идею, но не будет носить пижаму, ей нравятся фланелевые ночные рубашки. Она предпочла бы пару брюк или шерсть, чтобы связать себе джемпер. Или даже шоколад.
— Моя мама говорила, что в молодости Хонор была очень красивой. Рассказывала, что она носила совершенно очаровательные шляпы, когда только переселилась в Керлью-коттедж. Твой отец тоже был красивым мужчиной, Роуз. Мама рассказывала, что им восхищались все леди.
Роуз улыбнулась. Она вспомнила, как родители одевались к обеду, когда жили в Танбридж-Уэлсе. Хонор в густо-синем вельвете, с блестящими гребнями в волосах и с божественным запахом духов. Фрэнк был высокий и стройный, и его светлые волосы были густыми и вились. Она вспомнила его в каштановом жилете с жемчужными пуговицами, и как он рассмеялся, когда она сказала, что он похож на принца.
— Они были красивой парой, — согласилась Роуз. — Но я не думаю, что они действительно любили разодеваться. У них двоих было все, что нужно, и они были счастливы, живя простой жизнью.
— Интересно, была бы я такой, если бы убежала с Билли? — задумчиво сказала Эмили.
— Не могу тебя представить в коттедже садовника, — сказала Роуз. — Ты родилась не для суровой жизни.
— Как и Хонор. Как и ты, — сказала Эмили.
Роуз была неприятно удивлена, увидев, насколько жалким выглядит Лондон. Она приезжала ненадолго за последние несколько лет, но поскольку она была одна и сразу направлялась в Хаммерсмит, она не заметила каких-либо существенных перемен. Но когда они с Эмили по солнышку прогуливались до Хэймаркета, через Пикадилли до Риджент-стрит, она погрустнела при виде заколоченных окон, грязных от сажи фасадов домов и всеобщей безотрадности. Правда, Вест-Энд тоже пострадал во время «блицкрига», но она ожидала, что все уже привели в порядок. И хотя булыжники убрали, некоторые здания остались стоять полуразрушенными, и в расщелинах росли сорняки.
Эта часть Лондона всегда отождествлялась у Роуз с роскошью. С элегантными женщинами, одетыми по последней моде, выходящими из такси. С цветочными ларьками, продававшими такие необычайные цветы, которые можно увидеть только в Вест-Энде. С витринами ювелирных магазинов с камнями сказочной красоты, с магазинами одежды, в которых масса красивых вещей.
В тот день они не увидели красиво одетых женщин, прогуливающихся мимо витрин. Все выглядели растрепанными и неряшливыми. В витринах тоже было мало того, что могло бы возбудить интерес Роуз и Эмили, одни скучные практичные вещи, ничего фривольного или роскошного. Мужчин в военной форме тоже было мало. Они все явно уехали в Нормандию на высадку десанта.
В кофейне, где теперь подавали не кофе, а чай, они подслушали разговор двух женщин за соседним столиком о самолетах-снарядах, Похоже, они причиняли намного больше разрушений, чем Роуз и Эмили представляли себе.
— Если мотор затихнет, тебе конец, — сказала одна женщина другой. — И нет смысла бежать, потому что бежать некуда.
— Но все же здесь мы, можно сказать, в безопасности, — ответила ее подруга. — Все бомбы падают на Кройдон-Вэй и Ист-Энд. Моя соседка в курсе, она сказала, самолеты дальше просто не могут долететь.
— Как ты думаешь, с Адель все в порядке? — нервно прошептала Эмили. — Может, съездим к ней?
— Не глупи, — отрезала Роуз. — Посмотри, что случилось с Хонор, когда она туда поехала! Кроме того, Адель сказала бы нам, что нельзя приезжать в Лондон, если бы это было опасно. Мы здесь будем в безопасности, та женщина сказала, что ракеты дальше Вест-Энда не долетают. И потом мы можем позвонить в больницу и поговорить с Адель.
Женщины забыли об угрозе самолетов-снарядов, когда зашли в «Свен и Эдгар» на Пикадилли-серкус и Роуз нашла там очень приятное ароматическое мыло и темно-синие холщовые брюки размера как раз на ее мать. Эмили купила симпатичную блузку, приободрившись, что в Лондоне действительно есть кое-что стоящее в магазинах, потом они решили дойти до «Селфриджа» на Оксфорд-стрит, а после ланча поехать в Хаммерсмит.
Подруги остановились у дверей «Селфриджа» послушать старомодную шарманку. На шарманщике был поношенный цилиндр и истрепавшийся фрак, а сверху на шарманке танцевала маленькая обезьянка.
Обеим женщинам это напомнило детство, когда такое зрелище было совершенно обычным, и они пришли в восторг от миленькой обезьянки в красной курточке и феске. С тех пор как началась война и ввели карточки на продовольствие, мало кто держал домашних животных. Разумеется, люди не выгоняли животных, которые у них уже были, но если они умирали, то не заводили себе новых. Что касается обезьянки, она была первой, которую они увидели за много лет.
Владелец обезьянки дал Роуз подержать ее, и она вскарабкалась ей на плечо и молча уселась там. Эмили тоже захотела ее подержать, но она нервничала и хихикала как школьница.
Вдруг они услышали над головой шум самолета. Они взглянули вверх, как и все, и обезьянка на плече у Роуз вдруг заверещала, обнажая зубы. Шарманщик схватил обезьянку.
— Самолет-снаряд, — сообщил он им и, ухватившись за шарманку, покатил ее прочь в переулок.
Роуз обернулась вокруг и увидела, что все стоявшие вокруг них на мостовой просто стояли и смотрели вверх или совсем не обращали внимания и входили и выходили из «Селфриджа». Никто не мчался в бомбоубежище, и хотя ей хотелось спасаться бегством, она испугалась, что будет выглядеть глупо.
Она потянулась взять Эмили за руку, когда гул приблизился.
— О Роуз, мне страшно, — воскликнула Эмили и крепко сжала ее руку.
— Все в порядке, — сказала Роуз, хотя тоже была испугана. — Увидишь, он пролетит мимо нас.
Вдруг они оказались изолированными от других покупателей, которые прошли в холлы магазинов или исчезли в станции метро Бонд-стрит. Инстинктивно они двинулись к магазину с полосатым козырьком. И вдруг гул утих.
Вспомнив, что они подслушали в кафе, Роуз уронила сумку с покупками, обхватила Эмили руками и крепко прижала ее к себе. Она услышала звук, похожий одновременно на свист и жужжание, и земля задрожала под их ногами. Вверх взмело клуб пыли, и, когда они склонили головы друг другу на плечо, Роуз скорее почувствовала, чем увидела, как на них падает козырек магазина, он был словно черной тенью, поглотившей их. Что-то еще ударило их, сбивая на мостовую. Они по-прежнему не разжимали объятий. Когда их засыпало булыжниками, Роуз лишь успела подумать, что они должны были последовать за мужчиной с обезьянкой.
Первым о смерти Роуз и Эмили сообщили Майлсу, который провел весь день в суде и вернулся к себе в кабинет около половины четвертого. Он собирал некоторые папки с документами, чтобы взять их домой, когда зашла секретарь и сказала, что его желает видеть полицейский.
Майлс был в радужном настроении. Ему сегодня везло, и дело, по которому он выступал прокурором, завершилось на день раньше. На следующий день у него не было особенных дел в Лондоне и погода была такой прекрасной, что он подумал: почему бы не поехать вечером в Винчелси и остаться на выходные? Это было бы сюрпризом для Эмили.
— Честно, парень, я этого не делал, в чем бы там ни было дело, — пошутил он, когда к нему в кабинет зашел высокий худой полицейский с отталкивающим лицом.
Когда полицейский не улыбнулся в ответ, Майлс немедленно понял, что он пришел сообщить нечто неприятное.
— Мне очень жаль, сэр, — сказал полицейский. — Сегодня днем на Оксфорд-стрит упала бомба. Мы имеем основания полагать, что среди жертв ваша жена. Она была сегодня в Лондоне? Майлса бросило в жар, потом в холод. Днем он действительно слышал про самолет-снаряд на Оксфорд-стрит, но почти не обратил внимания. В первые несколько недель налетов Фау-1 была паника. Ужасало, что не предупреждала сирена, и сама ракета без пилота наводила ужас. Но люди привыкли к ракетам, и они да успели надоесть. Хотя сначала закрывались кинотеатры и театры из-за небольшого количества посетителей, скоро изменилось и это и все продолжали жить, не обращая внимания ни на что.
Услышав о ракете сегодня, он даже не спросил, есть ли человеческие жертвы.
— Я не знаю, — сказал он, пытаясь взять себя в руки. — Она говорила, что собиралась пройтись с подругой по магазинам, но не сказала, в какой день и куда они собираются пойти. Почему вы думаете, что это была она?
— Мы нашли вашу визитную карточку в ее книжечке продовольственных талонов, сэр, — сказал полицейский. — Ее подруга — блондинка по фамилии Талбот?
— Да, — прошептал Майлс и тяжело опустился в кресло. — Они серьезно ранены? В какой они больнице?
— Простите, сэр, — сказал полицейский, опустив голову. — Они обе получили смертельные ранения.
— Они погибли? — Майлс в ужасе посмотрел на полицейского. — Не может быть. Наверное, это ошибка.
— Нет, сэр, это не ошибка. Сегодня было убито несколько человек и еще больше ранено. Вы не могли бы сейчас пойти со мной и опознать ее? И не можете ли вы мне сказать, кто является ближайшими родственниками другой женщины, миссис Талбот?
— Ее дочь работает здесь, в Лондоне, медсестрой, — сказал Майлс прерывистым голосом, и у него из глаз брызнули слезы. — Господи, я не вынесу! За что именно их?
Тот же самый вопрос возник в голове у Майлса во время процедуры опознания тел, и потом, когда он взял такси и отправился к Адель. Роуз и Эмили отвезли в морг так, как и нашли, они и мертвые крепко обнимали друг друга. Хотя их тела были раздавлены падающими булыжниками, лица остались нетронутыми. Каким-то непостижимым образом это утешило Майлса, потому что они обе были красивыми и немного самовлюбленными женщинами. И он любил их обеих.
Глава двадцать девятая
— Похороны всегда такие душераздирающие, но хоть дождя не было. Грустно, что ее старший сын не смог взять на сегодня увольнительную.
— Не думаю, что они ладили. Он почти не навещал мать. Но я думаю, что это его жена, вон там, разговаривает с дочерью.
Адель отодвинулась подальше, так, чтобы не слышать миссис Грейс и миссис Маккензи. Они обе жили в Винчелси и были известными сплетницами. Адель догадалась, что к тому времени, когда они выпьют вторую рюмку шерри, они даже не удосужатся разговаривать шепотом, как делали это сейчас.
Возвращение в Хэррингтон-хаус вызвало у нее странное ощущение, на нее нахлынула масса воспоминаний, не говоря уже о том, что она оказалась среди массы людей. И столовая, и гостиная были забиты битком, и еще многие вышли в сад. Многих Адель знала в лицо, если не по имени, но довольно много было и незнакомых людей.
Она чувствовала бы себя спокойнее, если бы пошла помогать в кухню, но Майлс нанял четверых женщин подавать закуски, иона знала, что ни он, ни бабушка не одобрили бы, если бы увидели, что она взялась разносить пирожные и бутерброды.
Майлс и Хонор о чем-то серьезно разговаривали в углу гостиной, наклонив друг к другу головы, и хотя Адель знала, что может пойти и присоединиться к ним, она не смогла этого сделать.
Выскользнув в холл, она быстро огляделась и, удостоверившись, что никто не смотрит, открыла входную дверь и вышла из дома.
* * *
С того вечера, когда девять дней назад Майлс пришел в общежитие сообщить ей о смерти Роуз и Эмили, она не могла ни спать ни есть. Она болтала с подругами, когда он приехал, и до нее почти не дошла трагическая новость, пока он не сгреб ее в охапку и не втолкнул в такси, чтобы успеть на последний поезд в Рай, отъезжавший с вокзала Чаринг-кросс.
На станции не было ни одного такси, и они пошли в Керлью-коттедж пешком. Дойдя до конца переулка, они увидели Хонор, которая ждала их с фонарем в руке. Оказалось, она ждала, что Эмили и Роуз вернутся около восьми, а когда они не объявились, она предположила, что они остались посмотреть спектакль или фильм и сядут на последний поезд. Боясь, что они могут споткнуться в темноте без фонаря, она вышла им навстречу.
— А где девочки? — крикнула она, прежде чем они успели подойти к ней. — Они остановились в Рае?
Адель вспомнила, как Майлс схватился за ее руку. Он не знал, что ответить. Потом Хонор, наверное, вдруг поняла, что они не по какому-то случайному совпадению тоже очутились в последнем поезде, и заголосила.
Это были не рыдания, не вопль, но звук глубокого горя. Словно похоронный вой, который шел откуда-то изнутри. Свет от фонаря запрыгал, и Адель вслепую бросилась к ней, Майлс не отставал от нее ни на шаг.
С той первой кошмарной ночи, когда Хонор сидела в кресле, сгорбившись, раскачиваясь и воя как обезумевшая, Адель не теряла ее из поля зрения, потому что боялась, что бабушка в своем горе может лишить себя жизни.
В последующие дни она не проронила ни слова. Хотя она была в состоянии умываться, одеваться, кормить животных и даже рубить дрова, она замкнулась в каком-то своем собственном мире. Похоже, она даже не осознавала, что Адель была рядом с ней.
Адель знала все о том, что такое шок, она видела его в больнице каждый день и понимала, что он может принимать разные формы. Но она сама была не в меньшем шоке и ей нужно было поговорить о матери, выразить свои чувства к ней, живой и мертвой. Она не могла справиться со стеной молчания и с тем, что бабушка смотрела на нее как на чужую.
По просьбе Майлса зашел викарий из церкви в Винчелси, потому что он полагал, что Эмили и Роуз нужно похоронить так, как они умерли, вместе. Но Хонор смотрела словно сквозь него. Она мерила шагами комнату, когда он спросил ее, какие псалмы ей нравятся, и даже когда он поднялся и взял ее руки в свои, ее глаза по-прежнему оставались безжизненными и, похоже, она не хотела узнавать его.
И только вчера, за день до похорон, Адель в конце концов удалось проломить брешь в ее стене.
— Ты должна слушать меня, — сердито кричала она ей. — Маме бы это не понравилось, ты это знаешь. Она бы тебе сказала, чтобы ты взяла себя в руки.
Хонор месила на столе какое-то тесто. Хлеб им был не нужен, почтальон Джим накануне принес им батон хлеба. Но Хонор всегда делала хлеб по пятницам, и Адель не попыталась остановить ее, подумав, что это естественное занятие сможет помочь ей выбраться из своей темноты. Но она шлепала тестом о стол и мяла его, от чего стол шатался, и это начало действовать Адель на нервы, именно тогда она накричала на нее и велела остановиться и послушать ее.
Ответа не последовало, поэтому Адель выхватила из бабушкиных рук тесто и встряхнула ее.
— Я разговариваю с тобой, и брось этот чертов хлеб. Слушай! Роуз завтра будут хоронить. Ты должна быть там, в церкви, со мной и Майлсом. Ты не должна вести себя как полоумная, даже если у тебя разбито сердце.
Снова молчание в ответ, и Адель рассвирепела.
— А что же я? — заорала она на нее. — Как ты думаешь, что я чувствую? Роуз была мне ужасной матерью. Самое худшее, что случилось со мной, было ее виной, и все, что у меня было, — это ты. И сейчас ты собираешься от меня отвернуться, потому что она умерла? Я уже ничего для тебя не значу?
Хонор медленно повернулась к ней.
— Никто не знает, что у меня внутри, — сказала она безжизненным голосом. — Я уже все это пережила. Я не вынесу, если это повторится.
Адель была вынуждена предположить, что бабушка имеет в виду, как Роуз ушла из дому много лет назад.
— Она ушла не потому, что так хотела, — крикнула она. — Она умерла, ее убила бомба. Это может случиться с каждым. Это неправильно, что она ушла до тебя, но она ушла, и уже ничего не изменишь.
— Я всегда нападала на нее за что-то, — продолжала Хонор таким же невыразительным голосом. — После того званого ужина я наговорила ей жестоких вещей.
Адель вздохнула. По дороге из Лондона в поезде Майлс рассказал ей о том, что произошло во время ужина. Это было ошеломительно, почти невероятно, но померкло после сообщения о том, что ее мать и Эмили мертвы.
— Неважно, что ты сделала или сказала Роуз в прошлом, — сказала она кратко. — Все было до того, как они с Эмили поехали в Лондон. И что бы ни произошло на том ужине, это оказалось к лучшему. Они снова стали друзьями. Они умерли, обнимая друг друга.
— Это я предложила, чтобы они проехались прогуляться вместе, — сказала Хонор прерывающимся голосом.
— Может быть, и ты, но это не делает тебя виноватой в их смерти, — сказала Адель, окончательно выведенная из себя. — Обвиняй Гитлера. Обвиняй страну, которая не сбила ракету. Обвиняй кош хочешь. Но не себя. Они получали удовольствие вместе, когда умерли. Наверное, они даже не осознали, что произошло. Это лучший способ уйти, чем умирает большинство.
— Тебе все равно, правда? — сказала Хонор, и ее голос снова вдруг стал нормальным. — Ты по-прежнему ненавидела Роуз!
— Не будь смешной, — отрезала Адель. — Конечно, мне не все равно. Я не ненавидела ее. Возможно, я не всегда была в состоянии забыть некоторые самые неприятные наши с ней эпизоды. Но я простила ее. Она мне нравилась. Я даже могу сказать, что полюбила ее. Я именно об этом и хотела поговорить с тобой, черт побери. Тебе не приходило в голову, что у меня может возникнуть чувство вины? У тебя нет монополии на чувство вины, знаешь!
После этих слов Адель кинулась прочь из дома, слишком рассерженная, чтобы продолжать.
Она действительно чувствовала свою вину, и ей было очень жаль, что она не успела сказать Роуз, как она рада, что мать вернулась в ее жизнь, и как много она стала для нее значить. И ей было до горечи стыдно, что хотя она и оплакивала Роуз и Эмили, при этом не могла сдержать радости, что Майкл в конце концов оказался ей не братом. Что она за человек, если в такой момент может думать только о себе!
Она несколько часов бродила вокруг и почти все время плакала. Когда она наконец вернулась домой, Хонор была больше похожа на себя — грустная, немного не в себе, она уже не вела себя как сумасшедшая и не замыкалась на своих чувствах.
Утром Хонор надела то же самое черное платье и шляпу-колпак, в которых была на похоронах Фрэнка более двадцати лет назад. Адель не знала, что она сохранила эти вещи, потому что они были упакованы в коробку, которая лежала под ее кроватью. Адель догадалась, но не осмелилась спросить, чтобы получить подтверждение, что Хонор специально сшила это платье к возвращению Фрэнка из Франции, потому что оно было элегантно присобрано в талии и его украшали связанные вручную кружевные воротник и манжеты. Оно было выкрашено в черный цвет, но она догадалась, что изначально оно было голубым, и было просто чудом, что оно все еще хорошо сидело на ней.
Майлс принес Адель платье и шляпу Эмили, потому что у нее не было ничего подходящего из одежды. По иронии судьбы она вспомнила, как однажды восхищалась этим платьем, когда гладила его для Эмили. Тогда оно было в самой моде — льняное, с простроченными деталями, доходящее до половины икр, с подбитыми плечами, вырезом-лодочкой и широким поясом. Шляпка была маленькая и с вуалью, и Эмили всегда носила ее, приколов сбоку искусственную розу.
— Роуз ты бы понравилась в этом, — сказала Хонор срывающимся голосом, когда Адель вышла одетая из спальни. — Она бы сказала, что ты выглядишь, как кинозвезда.
У Адель на глаза навернулись слезы, потому что она очень хорошо помнила, как Роуз живо интересовалась гардеробом кинозвезд. Даже переезд на болота не смог окончательно положить конец ее любви к роскоши. И ей показалось очень кстати, что она одета по вкусу матери.
Это была прекрасная, трогательная служба, и церковь была набита битком. К удивлению Адель, больше людей пришло проводить Роуз, чем Эмили. Хонор часто писала в своих письмах, что Роуз все любили и когда они ходили в Рай вместе, то не могли пройти по Хай-стрит, чтобы кто-нибудь не остановился с ней поболтать. Адель всегда относилась к этому с цинизмом, представляя себе, что это просто сплетницы, надеющиеся выудить какую-нибудь информацию, но, как и во многих своих упорных представлениях о матери, в этом случае она снова ошиблась.
Во дворе церкви к Адель подошли несколько женщин, они говорили о Роуз тепло и явно были искренне расстроены ее смертью. Их короткие рассказы все были в одном духе: они рассказывали, какой она была примечательной женщиной, веселой и живой, забавной и приветливой. Еще они рассказывали, как она гордилась дочерью и какой всегда была оживленно-взволнованной, когда Адель приезжала домой в отпуск.
Может быть, если бы эти друзья и знакомые приняли приглашение Майлса вернуться в Хэррингтон-хаус, Адель смогла бы остаться, но они явно почувствовали классовую и социальную пропасть, когда увидели толпу старых друзей и родственников Эмили, устремившихся в большой дом.
Адель хорошо это чувствовала. Ближайшие друзья Эмили безусловно знали, какую роль играла Роуз в ее жизни в последнее время, и, вероятно, захотели бы поговорить с Адель и с бабушкой. Но жена Ральфа и его сестра Диана смотрели на нее с презрением. Для них она была просто девушкой с болот и бывшей служанкой-выскочкой.
Все время, пока Адель шла до реки, она плакала. О Майкле, который скоро получит письмо с сообщением о смерти матери. О Майлсе, который лишился Эмили тогда, когда она наконец стала ему другом, и о Хонор, которая считала себя ответственной за все и за всех.
Но кроме слез о тех, кого она любила, она прежде всего плакала о матери. Если бы только у них было больше времени!
Почему она никогда не говорила Роуз, что стала гордиться ею, что ждала, когда снова увидит ее? Что она смеялась, читая ее письма, что она чувствовала тепло внутри себя, зная, что Роуз заботится о бабушке, и что прошлое уже не имело значения?
Ей было стыдно, что она никогда не пыталась поговорить с Роуз о Памеле и воспоминаниях о ней, о ее чувствах к Джиму Талботу и о том, где она была все эти годы после психиатрической больницы. Адель всегда хотела это знать, не для того, чтобы обвинить или осудить, но просто чтобы у нее была полная картина о матери.
Роуз помогло бы, если бы она знала, что небезразлична дочери, и Адель не сомневалась, что Роуз рассказала бы самые неприятные эпизоды с присущим ей самоуничижительным юмором. Сейчас Адель поняла, что это было одной из самых привлекательных черт в характере ее матери. Она не боялась признать свои ошибки, и когда она что-то рассказывала, то описывала персонажи так ярко, что они были понятны слушателю так же хорошо, как и ей. Она всегда заявляла, что интересуется только собой, но ее понимание своих недостатков и недостатков других свидетельствовало о том, что это не совсем так.
Пусть она была с серьезными пороками и уж точно не святой, но она доказала, что способна быть честной, доброй, преданной и храброй. Адель было очень жаль, что она тогда была недостаточно взрослой, чтобы забыть о старых обидах и увидеть все хорошее в Роуз. Прежде, чем стало слишком поздно. Открыв дверь в коттедж, она пошла в спальню. Она всегда считала эту комнату своей, но сегодня она очень хорошо осознала, что это была первая комната Роуз — и последняя. Она открыла платяной шкаф и понюхала. В шкафу пахло лавандой, и она вспомнила, как бабушка говорила, что Роуз всегда любила этот запах, даже когда была еще маленькой девочкой, и набивала маленькие подушечки высохшими головками цветов.
Адель провела рукой по платьям. Почти все они были довоенными, ярко-розовыми, красными и изумрудно-зелеными, говорившими о том, что Роуз всегда любила быть на виду.
Бабушка однажды сказала, что она была точно такой же, как в молодости, что не любила условностей и правил. Она тогда пошутила, сказав, что отец Адель, наверное, был довольно трезвомыслящим человеком, потому что было непохоже, чтобы Адель унаследовала от Хонор и Роуз необузданный нрав.
— Как бы я хотела быть чуть более необузданной, — пробормотала она себе под нос, взгрустнув. Это всегда было невозможно, потому что бедность, экономический спад, а потом война сформировали в ней осторожность и рассудочность. — Когда закончится война, я отпущу себя, — пообещала она себе. Она не осмелилась высказать надежду, что они с Майклом могли бы снова быть вместе, потому что хотя сейчас на их пути уже не было никаких препятствий, возможно, она причинила ему такую боль, что его любовь умерла.
* * *
Восьмого мая 1945 года ближе к вечеру Адель стояла у окна мужского хирургического отделения, задумчиво смотря на Уайтчепел-роуд. Вчера вечером по радио передали, что сегодня будет официальный праздник, отмечающий конец войны в Европе, но новость была встречена с удивительно небольшой радостью. Адель предположила, что все фактически ждали этого, затаив дыхание, потому что второго числа сообщили, что Гитлера нашли мертвым в его бункере.
Но настала полночь, и все до последнего корабли в доке и на реке включили сирены, и радостно забили церковные колокола. В общежитии все девушки забрались на крышу посмотреть, как по всему Лондону устраивают фейерверки. Это было так волнительно — с этого самого места они видели пожары, ракеты-снаряды и Фау-2, а теперь весь шум и свет означал мир.
Еще не было разрешения снять затемняющие шторы, но у многих не было терпения ждать разрешения. С крыш девушки слышали восторженные крики людей, которые срывали с окон ненавистные черные тряпки, и свет из окон домов снова заливал улицы.
Утром Адель разбудила гроза, и поскольку она и несколько медсестер сменились после ночной смены, их настроение казалось очень подавленным. Ливень закончился, и еще более длинные, чем всегда, очереди выстроились перед хлебными и рыбными магазинами, но люди бродили бесцельно, будто ждали сигнала, чтобы начать праздновать.
И только в три часа, когда с Даунинг-стрит по радио передали для всего народа обещанную речь Уинстона Черчилля, официально объявившего о конце войны в Европе, люди вдруг окончательно поверили.
Сейчас было пять, и Уайтчепел-стрит была полна людей, размахивавших флагами и дувших в рожки, многие щеголяли в бумажных шляпах красного, белого и синего цветов. За последние несколько часов, как по волшебству, появились флаги, гирлянды на всех магазинах и от столба к столбу. Адель ожидала, что многие женщины будут дома, занятые приготовлением к уличным празднествам, может быть, решив, наконец, что как раз сегодня нужно вынуть все припрятанное раньше — смородину, сахар и другие продукты. Она наблюдала, как по улице бегут мужчины с ящиками пива, и догадалась, что к полуночи большинство взрослых будут пьяны как сапожники.
Она отвернулась от окна и улыбнулась, увидев такое количество пустых кроватей, потому что обещание, что война скоро окончится, удивительным образом придало сил пациентам. Тем, которых еще несколько дней назад считали не готовыми к выписке, вдруг стало значительно лучше, и их выписали. Другие, ожидавшие операций, отменили их, и даже оставшиеся мужчины были в очень приподнятом настроении и выпрашивали у нее и Джоан поцелуи, сигареты и пиво. Если бы старшая сестра услышала эти просьбы, у нее был бы приступ.
Но больше, чем ожидающему их веселому вечеру, она радовалась тому, что на следующей неделе поедет домой на целых две недели. Последние восемь месяцев с тех пор, как погибла Роуз, казались ей бесконечными. Она беспокоилась о бабушке, оставшейся одной, боялась, что она снова может уйти в себя или упасть в саду и долгое время пролежать, пока ее не обнаружат. Хорошо ли она ест? Достаточно ли ей тепло по ночам? А что, если у нее кончатся дрова или масло для ламп? И о Майлсе она беспокоилась, потому что, хотя она и могла звонить ему как домой, так и в его кабинет, вряд ли бы он признался ей, что чувствует себя несчастным или обеспокоенным.
Это была долгая, студеная зима, оказавшаяся фатальной для некоторых стариков, живших здесь в полуразрушенных домах под открытым небом и скудно питавшихся. Уголь выдавался по карточкам и топливо было тяжело раздобыть — каждый день в больницу поступали дети с травмами, которые они получали, пытаясь собрать хворост в развалинах домов. Люди смертельно устали от тяжелой жизни, они выглядели изможденными, у них были серые лица, и словно самолеты-снаряды были недостаточной опасностью, после них появились Фау-2, которые несли с собой еще больше смерти.
Разрушения, причиненные ими, были невероятными. В земле появились огромные воронки, и спасатели задыхались от клубов черного дыма с сажей, штукатуркой и кирпичной пылью. Один снаряд перед Рождеством упал на Смитфилд-Маркет, убив и покалечив более сотни людей, потом в январе еще один упал на многоквартирный дом как раз напротив больницы на Валенс-стрит, уничтожив и тот дом, который стоял рядом. В тот день Адель впервые за всю свою работу медсестрой увидела зрелища, от которых ей захотелось снять свой форменный передник и шапочку и бежать. Погибшие и покалеченные были в основном женщины и дети, потому что бомба упала утром, после того как большинство мужчин ушло на работу.
И пусть война в Европе кончилась, но еще долго после того, как военнослужащие вернутся домой, квартиры и дома отстроят и отремонтируют, вокруг будут ковылять безногие и безрукие дети. А что будет со всеми сиротами? С вдовами, с бездомными? Построят ли нормальное жилье вместо полуразваленных трущоб? Будут ли новые школы, больницы и работа для всех? Адель сегодня хотела настроиться оптимистично, но что-то заставляло ее думать, что пройдет много лет, прежде чем Англия вернется к состоянию, хоть сколько-нибудь напоминающему нормальное.
— Как бы я хотела влезть к тебе в голову и прочитать твои мысли, — сказала Джоан, подкравшись сзади к Адель и напугав ее. — Думаешь, освободили ли его и направляется ли он домой?
Адель улыбнулась. Она наконец рассказала подруге всю историю целиком, вернувшись в больницу после похорон Роуз и Эмили. Ей просто пришлось рассказать, потому что она была так несчастна, что не могла больше носить все в себе.
Джоан оказалась отдушиной для Адель. Она обняла ее, позволила ей вылить все — вину, грусть, страхи. Если бы не Джоан, она бы сломалась. И именно Джоан наконец убедила ее написать Майклу. Как она отметила, дело не просто в том, чтобы высказать ему соболезнования и сочувствие, потому что это он мог иметь от любого из родственников. Их матери были подругами и умерли вместе, и поэтому ее письмо будет значить намного больше. Она также добавила, что Адель должна засучить рукава, если хочет вернуть Майкла.
Как только Адель оправилась от шока и горя после смерти матери, она с большой радостью и надеждой отнеслась к тому, что Майкл ей не брат. Она действительно хотела снова стать его любимой, и хотела этого больше всего на свете. Она столько времени была вынуждена подавлять воспоминания об интимных моментах, что сейчас она только об этом и думала. Ей стоило лишь представить, как он целует ее, обнимает или гладит по обнаженной коже, и она возбуждалась. Часто из-за этого она не могла спать по ночам.
Было огорчительно, что Майкл имел право написать только одно короткое письмо раз в месяц, что письма шли целую вечность и что цензор не разрешал ему рассказывать ничего существенного. Но она по крайней мере знала, что он оценил ее письмо, потому что в своем ответе Майлсу он написал: «Скажи Адель, что ее письмо прекрасно. Однажды, и это будет скоро, мы будем сидеть в Кэмбер-Кастл и все рассказывать друг другу».
— На самом деле я думала не о нем, во всяком случае не сейчас, я думала о том, станет ли теперь Англия лучшей страной, — сказала она. — Людей, которые вернулись с Первой мировой, встретила страна, которая была неподходящим местом для героев, правда?
— Только ты можешь быть унылой в такой день, — рассмеялась Джоан. — По-моему, мы все имеем то, чего заслуживаем. В моем случае это будет обручальное кольцо от Билла и билет в Америку, и остаток своей чертовски счастливой жизни я проведу в роскоши в Филадельфии.
В начале прошлого года Джоан познакомилась с Биллом Оутли, американским военным моряком. Это были серьезные отношения с самого начала, и Джоан была в ужасе от того, что его могут убить, когда он отправился в Нормандию. К счастью, он остался цеп и сейчас находился где-то в районе Германии. Несколько месяцев назад он написал ей и сделал предложение.
— И чего же я заслуживаю? — спросила Адель.
— Чего-то лучшего, чем застрять в этом сифилитическом месте, — решительно сказала Джоан. — Ты же знаешь, чего сама хочешь — вернуться домой к бабушке. Сделать этот поселок из фургонов, о котором мечтала твоя мама, я никогда о таком не слышала, и это беспроигрышное дело. Мы с Биллом будем вашими первыми клиентами, когда приедем на медовый месяц.
— У меня нет на это денег, — сказала Адель с улыбкой.
— Нет, есть. Старый дом твоей мамы теперь твой.
Адель пожала плечами.
— Я не могу его продать, пока все не улажено.
— А тебе и не нужно, — решительно сказала Джоан. — Просто пойди в банк и возьми кредит под залог дома.
Адель сказала, что не думала об этом.
— Ну, тогда и сегодня не думай об этом, дубина, — рассмеялась Джоан. — Твоя голова сейчас должна быть забита мыслями о том, что сегодня вечером надеть и куда мы пойдем. И ничем другим.
Джоан умчалась ответить на звонок пациента, и Адель поняла, что она права. Сегодняшний день был не для серьезных мыслей, это был день для счастья и легкомыслия.
Сегодня она наденет это великолепное голубое мамино платье, которое бабушка подогнала под ее фигуру, она будет много пить и веселиться до упаду. Следующая неделя наступит скоро, и тогда она будет решать, что сделать со своей дальнейшей жизнью. Сейчас она даже прекратит думать о том, что скажет Майклу, когда он вернется домой. Как поется в песне: «Я засвечусь, когда зажгутся огни Лондона».
Глава тридцатая
Адель уселась на перевернутый ящик и оглядела вокруг себя землю с волнением и восторгом. Земля была очень каменистой и не сильно отличалась от гальки на пляже, но она подумала, что это только к лучшему — по крайней мере во время дождя здесь не будет болота.
Был конец июня, день стоял жаркий, в небе не было ни облачка, и она намеревалась провести все выходные подальше от больницы — здесь, на солнышке. Она словно помолодела, одевшись в шорты, старую блузку без рукавов и легкие парусиновые туфли.
На Дальнем Востоке все еще продолжалась война, продукты были по карточкам, и все еще почти невозможно было достать строевой лес, краску и другие строительные материалы. Но каждый день военные корабли привозили людей домой из Европы, и Майкл тоже скоро должен был возвратиться. А на пляже даже начали убирать колючую проволоку. Адель была блаженно счастлива.
Недавно она подала заявление на работу медсестрой в Гастингсе и Эшфорде, но еще не получила ответа. Она решила, что даже в случае отказа в августе вернется сюда навсегда и воплотит в жизнь идею Роуз о поселке из фургонов.
Это не будет чем-то вроде памятника ее матери, это не в ее духе. Идея показалась Адель привлекательной по многим причинам, и не самой последней была та, что она сможет зарабатывать на жизнь, ухаживая за бабушкой. В последний раз, когда она приезжала домой, в мае, она встретилась с мистером Грином, владельцем земли, и они поговорили об этом. Он сказал, что готов предоставить ей землю в аренду бесплатно в обмен на небольшие проценты с доходов. Она рассказала Майлсу об этом, и он предложил ей не только стартовый капитал в долг, пока не будет продан старый дом в Хаммерсмите, но и уладить за нее все бюрократические вопросы с местной администрацией.
Может быть, она сможет назвать это место «Парк фургонов Роуз Бич» или еще каким-нибудь именем, которое будет напоминать ей, чья была идея. Она, безусловно, намеревалась посадить несколько розовых кустов самых ярких красок и самых благоухающих видов, которые только сможет найти. Она не сомневалась, что душа Роуз будет летать где-то в окрестностях, потому что в первый раз, когда она пришла посмотреть это место, у нее возникло какое-то теплое и приятное чувство.
Адель едва могла сомкнуть глаза по ночам, думая об этом. Ей нужно будет доставить сюда водопроводные трубы, устроить овощехранилище и построить блок с душевыми и туалетами. Она подумала, что сможет начать с шести фургонов, но места было по меньшей мере для двенадцати. Мистер Грин сказал, что все гостиницы и пансионы в Гастингсе были набиты до отказа все лето, и она сама знала, что к следующему лету, когда она сможет открыться, каждая семья в Лондоне будет гореть желанием провести отпуск на море.
Что касается самих фургонов, у Джоан в Саусэнде был дядя, который мог их поставить. Разумеется, они будут старыми, но прочными — все, что им будет нужно, это положить слой новой краски и немного подремонтировать внутри, но на это у нее будет вся зима, и к Пасхе она сможет открыться.
Поднявшись, Адель подошла к забору, стоявшему вдоль маленького ручья. У забора росло несколько беспорядочно разбросанных кустов и деревьев, и сквозь них виднелась одна лишь крыша и труба Керлью-коттедж. Бабушка с утра говорила о том, что нужно провести электричество и сделать ванную. Казалось, окончание войны вначале мая заставило ее размечтаться о большем комфорте. Адель надеялась, что, когда она наймет людей подготовить площадку, они одновременно займутся и этим.
Стоя там и размышляя, как волнительно будет все это разворачивать, она увидела у коттеджа блеснувший огонек, словно кто-то сигналил зеркалом на солнце. Предположив, что это может быть отблеск от лобового стекла машины, она подумала, что, наверное, это Майлс привез какие-то вести от Майкла, поэтому быстрым шагом направилась к дому.
Из Красного Креста пришли новости, что пленных из его лагеря освободили в начале мая, но они не могли сказать, сколько времени ему потребуется, чтобы вернуться домой, потому что вся Европа была в смятении. Источники электроэнергии вышли из строя, телефонные линии были повреждены, и многие железнодорожные пути разрушены бомбами и танками. Проблемы усугубляли десятки тысяч беженцев, вывезенных людей и военнопленных.
Когда Адель подошла ближе к коттеджу и увидела, что это действительно машина Майлса, она ускорила шаг. Он стал ей еще ближе после смерти Роуз, потому что она могла искренне говорить с ним о ее чувствах к матери, зная, что он пережил ту же самую мощную смесь любви, гнева, удовольствия и недоверия. И несмотря на то что она не могла открыто заявить, что он ее отец, она знала об этом сама, и это придавало ей чувство надежности, которого у нее никогда не было раньше.
Адель ворвалась в дом.
— Майлс! — выпалила она, тяжело дыша и кидаясь к кушетке, где он сидел, чтобы обнять его. — Я увидела твою машину и всю дорогу бежала. Есть уже новости о Майкле?
Он обнял ее в ответ и ничего не сказал, но когда она взглянула ему в лицо, то увидела, что он улыбается от уха до уха.
— Я вся такая растрепанная, — сказала она, предположив, что его развеселил ее внешний вид, потому что ее волосы были спутаны, а шорты латались столько раз, что из них нельзя было сделать даже тряпку для мытья полов. — Я была на площадке для фургонов, снова смотрела на нее. Ты уже долго здесь сидишь?
— Минут двадцать, — сказал он, не переставая улыбаться.
Адель повернулась посмотреть на бабушку, расставлявшую чашки на столе, и тогда увидела его.
Майкл сидел на стуле в дальнем углу комнаты.
Адель охнула, закрыв рот рукой.
— Это невероятно! — воскликнула она. — Я даже не думала… — Она резко замолчала, оробев и почти испугавшись его вида.
Он был ужасно худой, кожа на его лице была покрыта шрамами и морщинами, и рядом с его стулом к стене была прислонена палка. Но он улыбался точно так же, как в тот день, когда они познакомились, его губы поднимались вверх в уголках, она никогда не могла устоять перед этой улыбкой, блеском белых зубов и перед этими глазами, синими, как небо.
— Майкл! О Боже мой, — пробормотала она, и у нее заколотилось сердце.
На короткое мгновение она не могла прийти в себя от шока. В последний раз она виделась с ним, когда нежно поцеловала его на прощанье на вокзале Чаринг-кросс после тех выходных в Лондоне. Она сохранила воспоминание о лихом молодом человеке в военной форме, с блестящими черными волосами и гладкой кожей, и шесть лет держала этот образ в памяти, спрятанный за слезами и сердечной болью. Но это был не тот Майкл, образ которого она хранила в своем сердце, это был худой незнакомец в гражданских фланелевых брюках, с коротко остриженными волосами и изуродованным шрамами лицом, и ей захотелось убежать и спрятаться.
— Ты никогда не думала, что снова увидишь меня? Или никогда не думала, что я могу так измениться? — подсказал он ей, вопросительно подняв одну бровь.
От звука его голоса у нее пропало желание бежать. Голос был тот же самый, глубокий и низкий и такой непохожий ни на акцент в голосах кокни, который она слышала каждый день в больнице, ни на здешний сассекский провинциальный акцент.
— Я не знаю, что собиралась сказать, — сказала она и подошла к нему ближе. — Я просто не могу найти слов, потому что это так неожиданно. Как хорошо, что ты вернулся. Жаль, что я не знала, что ты придешь, у меня такой вид…
— Ты именно так и выглядела, когда я встретился с тобой впервые на болотах, — улыбнулся он. — Думаю, за шесть лет ты приобрела опыт, у тебя волосы зачесаны наверх, похоже, большинство женщин так носят волосы.
Адель вспыхнула. Она не заплела волосы с утра и даже не дала себе труда расчесать их. Наверное, они выглядели как стог сена.
— Чай готов, — сказала Хонор за их спиной. — Будешь пить там, Майкл, или за столом?
— Я поднимусь, — сказал Майкл и, упершись руками о подлокотники кресла, поднялся на ноги.
Адель наблюдала, как он пошел к столу. Обе ноги были напряжены и напомнили ей о протезах, но, к счастью, это были не протезы, потому что он легко повернулся и оглянулся на нее.
— Видишь, я могу ходить без палки. Я просто держу ее рядом на всякий случай. И мне сказали, нужна лишь маленькая операция, которая все исправит.
По нежному выражению лица, с которым бабушка смотрела на Майкла, Адель поняла, что все прошлые обиды заглажены, достаточно уже одного того, что он здесь. Но Адель очень хорошо понимала, что это не так. Ей придется объяснять, и даже если она все еще была ему небезразлична, ему придется снова учиться доверять ей.
За чаем и бутербродами из рыбной пасты Майлс рассказал, как вчера поехал в Довер встретить корабль, на котором Майкл возвращался домой. Его только утром известили о приезде Майкла. Они ночевали в гостинице в Довере, потому что когда корабль зашел в порт, было уже почти темно.
— Я был как ребенок, который ждет Рождества, — сказал Майлс дрожащим от волнения голосом. — Я был одним из сотни людей, которые ждали своих сыновей, мужей и отцов. Еще я боялся, что мне сказали неверную дату, неправильный корабль, и даже что я не узнаю его. Там было столько мужчин на носилках, столько шума и суматохи. И потом я вдруг увидел его на трапе. Мой мальчик вернулся домой целым и невредимым.
Хонор рассказала Адель, что Майкл попросил, чтобы они сначала поехали в Хэррингтон-хаус, прежде чем ехать в Гемпшир и встречаться с братом и сестрой и их семьями.
— Мне нужно было адаптироваться, — пояснил Майкл, глядя на Хонор и чуть улыбаясь, словно посчитал забавным ее мнение по поводу такого решения. — Мы в лагере только и думали, что о родных, но реальность возвращения домой оказалась для меня чем-то слишком большим. Я знаю, что все будут задавать вопросы, и я так много хочу сказать. Но вместе с тем мне нечего рассказывать.
Хонор была очень удивлена, но Адель хорошо поняла, что именно имел в виду Майкл. Когда-то она вернулась сюда после «блицкрига» с таким же чувством. В эту минуту у нее был миллион вопросов к Майклу, но она поняла, что не сможет задать ни одного.
Она понимала, что не сводит с него глаз, у нее все еще колотилось сердце, и ей хотелось остаться с ним наедине, чтобы она могла ему сказать все, что было нужно сказать.
Майлс объяснил за Майкла, что его лагерь, «Сталаг 8б», находился в Силезии — в Польше, а не в Германии, как они предполагали. Лагерь освободили американцы, и Майкла вместе с другими освобожденными, которые не могли ходить, посадили на грузовики и перевозили с места на место, пока они наконец не вернулись в Англию.
— Мир словно сошел с ума, — сказал Майкл в раздумье. — Тысячи людей тащились с узлами с пожитками, маленькие дети плелись за ними и кричали от голода. Целые деревни сметены с корнем, трупы в канавах, выжженные танки и воронки от бомб. Я мельком видел некоторых людей, которые выжили после концентрационных лагерей. Они были похожи на живые скелеты. Мне до сих пор трудно поверить в то, что я видел в этих местах. Говорят, убитых миллионы.
После чая с бутербродами они вышли во двор посидеть на солнышке. Майкл лег на траву в тени под яблоней, рядом с Великаном, и Адель поняла, что у него нет настроения говорить. По его глазам было видно, как он вымотан, и она подумала, что он еще ничего не сказал о смерти матери, потому что слишком много насмотрелся ужасов за последние несколько недель.
Он неожиданно уснул, и Хонор предложила, чтобы они с Майлсом поехали в Хэррингтон-хаус открыть окна и постелить им постели, а Адель осталась бы с Майклом.
После того как они уехали, Адель взяла почитать книгу, но не могла оторвать глаз от Майкла, спавшего на траве. Она увидела, что шрам от ожога на его щеке был совершенно не таким серьезным или безобразным, как ей показалось сначала. Он хорошо зажил, и как только Майкл наберет немного веса и его волосы достаточно отрастут, чтобы сделать приличную стрижку, шрам почти не будет бросаться в глаза. Она все время невольно смотрела на его губы, хотела лечь рядом с ним, обнять его и поцеловать. В ней всколыхнулись все чувства, которые она так долго подавляла.
Но радость оттого, что она неожиданно осознала, что все еще любит его, смешивалась с болью. Она не знала, сможет ли перенести, если он не ответит ей взаимностью.
Его серые фланелевые брюки и белая рубашка, одежда довоенных времен, которую Майлс взял с собой в Довер, были ему сейчас велики, и брюки не соскользнули с его костлявых бедер только потому, что их поддерживал ремень. Было так странно смотреть, как он спит, его темные ресницы казались крошечными щеточками, и он выглядел таким спокойным и мирным. Она надеялась, это означает, что он почувствовал себя в безопасности и как дома, но возможно, после ужасов лагеря для него любое место показалось бы одинаково тихим и успокаивающим.
Время играло против нее. У нее были только эти выходные для того, чтобы поправить эту ситуацию. Как только она вернется в Лондон, а он начнет встречаться со старыми друзьями и семьей, их влияние может оказаться сильнее, чем ее.
Не поговорив с Майлсом наедине, она не представляла, что между ними уже произошло. Она сомневалась, что Майлс будет таким бесчувственным, что кинется объяснять ему реальную причину, по которой она бросила Майкла столько лет назад, во всяком случае, не сейчас, когда он так изнурен.
Так что она должна сказать, когда Майкл поднимет эту тему? Снова лгать?
Майкл проснулся примерно через час, открыл глаза и вздрогнул, увидев над собой дерево. Он повернул голову, увидел Адель, которая сидела в кресле и смотрела на него, и улыбнулся.
— Я подумал на одно ужасное мгновение, что мне только приснилось, что я вернулся, — сказал он. — Представляю, что ты обо мне подумала, когда я вот так выключился.
— Я подумала, что ты крайне устал, — сказала она. — Тебе потребуется время, много сна и хорошая пища, чтобы окончательно поправиться.
— Сказала точно как медсестра, — усмехнулся он. — Чего я хочу, так это пару кружек пива, поплавать в море и съесть рыбу с жареной картошкой из бумажного пакетика.
— Рыбу очень тяжело достать, — рассмеялась она. — Но поплавать должно быть полезно для твоих ног, и Майлс будет рад сходить с тобой выпить пару кружек.
— А я так надеялся, что ты составишь мне компанию.
Это прозвучало почти как приглашение побыть наедине, но Адель сейчас ни в чем не была уверена. Она чувствовала себя неловко, неуютно и очень неуверенно.
— Я бы составила тебе компанию, но сначала тебе нужно отдохнуть, — сказала она, и даже ей самой показалось, что она будто разговаривала с пациентом, а не со старым добрым другом.
— Ты стала еще красивее, — сказал он. — Тебе все твои пациенты и поклонники это говорят?
Адель покраснела. Он так внимательно смотрел на нее, и ей хотелось ответить что-то остроумное в том духе, что она ценит только его комплименты.
— Я не ухаживаю за моими пациентами достаточно долго, чтобы они заметили во мне изменения, — сказала она и снова испугалась, что это могло прозвучать холодно. — Но мне приятно, что ты так думаешь, — добавила она.
— А мне очень приятно, что ты так подружилась с отцом, — сказал он, застав ее врасплох оттого, что так искусно сменил тему. — Хотя я не представляю, как это могло произойти. Но это лишь один из многих слегка таинственных фактов, с которыми мне придется разобраться.
— Значит, ты хочешь разобраться, так? — сказала она, надеясь, что на этот раз ее тон был более кокетливым. — Имей в виду, произошло столько всего, что я даже не знаю, с чего начать. Это почти как начинать новый пазл.
Он приподнялся и начал растирать правую ногу.
— Болит нога? — спросила она. — Я могу тебе что-нибудь достать от боли?
— Нет, все будет нормально от простого массажа, — сказал он и посмотрел на нее долгим, проникновенным взглядом. — Давай вернемся к пазлу. Я всегда начинал с того, что собирал углы. Как только у меня получалась рамка, я легче находил кусочки. В этом случае рамка, похоже, заключается в том, что моя мать и твоя стали подругами. А это уже само по себе пазл.
— Не совсем, — сказала она нервно.
— Ну, о Роуз я знаю только с твоих слов и только то, что ты рассказывала мне много лет назад, — сказал он. — И она не была похожа на женщину, которая могла бы иметь что-то общее с моей матерью.
— Я подумала совершенно так же, когда впервые услышала об их дружбе, — осторожно сказала Адель. — Но на самом деле у них было много общего. Они обе были предоставлены сами себе, в разлуке с детьми, и обе страдали. Нас всех вместе свело извещение о том, что ты пропал без вести. Бабушка и Роуз сначала ближе узнали Эмили и утешили ее. Потом я пошла навестить ее, встретилась там с Майлсом, и с тех пор все началось.
— Да, но почему ты пошла к маме прежде всего?
— Потому что я понимала, как она убита горем.
— Ты не боялась, что она тебя оттолкнет?
Адель не поняла, имеет ли он в виду, что Эмили могла бы ее оттолкнуть из-за старых обид или из-за того, что она бросила ее сына.
— Думаю, что боялась, но я была так расстроена из-за тебя, что это было сильнее моих страхов.
— Ага! — сказал он, фыркнув. — Ну вот мы и сделали одну сторону пазла. Осталось еще три, а потом вся середина.
— Возможно, тебя будет удивлять многое сейчас, потому что война изменила в какой-то мере каждого. Она уничтожила разницу между классами и сравняла людей. Я думаю, она также помогла многим из нас понять, что в жизни действительно важно, а что нет.
— А что важно для тебя? — спросил он, посмотрев на нее украдкой.
— Это, — махнула она рукой на коттедж и болота вокруг него. — Было время, когда я думала, что это место истопчут немецкие сапоги. Сделать так, чтобы о бабушке позаботились, мои друзья, Майлс и ты.
— Я! — воскликнул он. — Я приблизительно могу догадываться, как мой отец стал важным человеком в твоей жизни, несмотря на то, как он повел себя с тобой в прошлом, потому что он рассказывал мне, что это он сообщил тебе про Роуз и мою мать. Я предполагаю, это могло вас связать. Но какое значение имею я?
— Потому что ты всегда мне был небезразличен, — сказала она просто и стала пунцового цвета, потому что он очень внимательно смотрел на нее.
— Первая любовь и все такое? — спросил он.
— Первая и единственная любовь, — сказала она и наклонилась потуже завязать шнурки на туфлях, чтобы скрыть свое смущение.
— Ты хочешь сказать, что у тебя никого не было?
— Я несколько раз ходила на свидания с разными мужчинами, — сказала она, все еще не поднимая головы. — Но никто из них не был для меня особенным или важным.
— Что у тебя на шее?
Адель инстинктивно прикрыла рукой кольцо, висевшее на цепочке у нее на шее. Оно выскользнуло из блузы, когда она наклонилась.
— Ну, покажи же, — попросил он.
— Наше кольцо, — сказала она тихо.
— Оно все еще у тебя? — Его тон был недоверчивым.
Адель приподнялась и посмотрела ему в глаза.
— Конечно. Я никогда его не снимала, — призналась она.
— Я могу надеяться, что ты его не снимала потому, что потом пожалела, что бросила меня?
Адель вдруг стало очень жарко, и она вся вспотела. Она отвела глаза.
— Конечно, я пожалела. Я никогда не переставала любить тебя.
— Посмотри на меня, — сказал он строго.
Она сделала, как он велел, но его глаза были сейчас слишком большими для его худого лица, и в них было слегка пренебрежительное выражение.
— Не играй со мной, Адель, — сказал он. — Я был в таком восторге, когда получил твое первое письмо, мне так отчаянно нужно было иметь что-то светлое в жизни и о чем-то мечтать. Но сейчас я не в этом чертовом лагере, я вернулся в реальный мир. Я не хочу, чтобы меня жалели.
— Почему ты предполагаешь, что я тебя жалею? — спросила она. — Ты вернулся домой, и тебе повезло больше, чем многим. В своих письмах я не говорила ничего такого, чего я не имела в виду.
Адель не знала, как вести себя дальше, но тут вдруг вернулись Хонор с Майлсом. Она боялась, что ситуация становится немного напряженной, но в то же время ей хотелось бы иметь больше времени, чтобы лучше объяснить свои чувства.
Как бы то ни было, Майкл поднялся поздороваться с ними, и Хонор пустилась в свои типичные неодобрительные рассуждения о том, сколько пыли в Хэррингтон-хаус, и ей жаль, что ее не предупредили заранее о приезде Майкла, чтобы она могла пойти туда и прибрать.
— Если бы ты видела, как я жил последние несколько лет, ты бы не беспокоилась об этом, — рассмеялся Майкл. — Одни только простыни и горячая вода для меня сейчас роскошь.
— Но там нет еды, — запротестовала Хонор. — Майлс набрал всего понемножку из магазина, но этого недостаточно, чтобы приготовить нормальную еду, особенно для парня, который должен восстановить силы. Ты должен остаться на ужин, у меня жаркое из кролика.
Адель подумала, что бабушка слишком давит на него.
— Майклу нужен отдых, — сказала она твердо. — Он с ног валится, и мы можем дать им жаркого с собой, им нужно будет только подогреть.
— Неукротимая сестра Талбот наносит очередной удар, — сказал Майкл, широко улыбнувшись отцу. — Но я предполагаю, что она права, и я смогу подобрать еще несколько кусков сегодня вечером с твоей помощью.
— Кусков? — переспросила Хонор.
— Большого пазла. О всем том, что произошло, пока он был на войне, — объяснила Адель и выразительно посмотрела на Майлса, надеясь, что он воспримет этот взгляд как предупреждение быть осторожным.
Хонор отругала Адель после того, как они ушли. По всей видимости, она была не в состоянии понять, что невозможно все поправить мгновенно.
— Ты была даже не очень приветливой, — сказала она неодобрительно. — Ну что с тобой такое?
— А как я должна себя вести? — возразила выведенная из себя Адель. — Не могу же я броситься ему на шею. Он действительно выглядел разбитым. И он идет в дом своей покойной матери, где, вероятно, узнает, что человек, которого он называет своим отцом, не его отец. Поэтому, учитывая все это, неужели ты думаешь, что я смогу просидеть здесь весь вечер, хлопая на него ресницами?
— Но ты ему сказала, что все еще любишь?
— Да, я сказала, бабушка, — вздохнула Адель. — Но прежде чем он снова сможет мне доверять, нужно будет сказать еще многое. Мне и самой сложно с этим справляться, а тут ты ко мне пристаешь.
Майлс заехал на минуту на следующее утро сказать, что Майкл еще крепко спит и он не собирается его будить. Он уехал, прежде чем Адель смогла спросить его, задавал ли ему вечером Майкл трудные вопросы и как Майлс ответил на них.
Вероятно, разговоры не возникали, потому что во второй половине дня они с Майклом приехали и предложили всем вместе поехать в Кэмбер-Сандз, а потом поужинать в ресторане в Рае.
Майкл казался очень холодным, но Адель приписала это их утреннему посещению могилы его матери. Он задал ей несколько вопросов, и его, похоже, немного удивило все, что она говорила. И хотя он сказал, что ему приятно снова оказаться в Рае, у Адель возникло чувство, что он хотел бы оказаться где угодно, только не здесь.
Майлс отвез их до коттеджа и сказал, что они с Майклом собираются в бар выпить пару кружек пива. Адель упомянула, что завтра собирается в Лондон семичасовым поездом, но не получила ожидаемого ответа, что они увидятся до ее отъезда.
В тот вечер Адель решила, что Майкл думает о ней просто как о старом друге, и ничего более. Если он все еще любит ее, он наверняка бы спросил, почему она его оставила.
Думая о том, что произошло между ними, она вспомнила, как он смутился, обнаружив, что она все еще носит его кольцо, и смутился еще больше, когда она утверждала, что он ее первая и единственная любовь. И она заплакала, потому что по глупости думала, что еще есть надежда, что они будут вместе.
На следующее утро Адель проснулась рано и вышла погулять. Когда она вернулась, то надела свое самое новое платье в бело-зеленый горошек на всякий случай, если вдруг зайдет Майкл.
Она была в саду и гладила Дымку, услышав, как по переулку подъезжает машина Майлса. К ее удивлению, в машине был только Майкл.
— Привет, — сказала она, когда он зашел в сад. — Как вчера пошло пиво?
— Быстро, — сказал он. — Две кружки, и я был готов.
— А Майлс?
— Я как раз насчет Майлса пришел, — сказал Майкл и нахмурил брови. — Похоже, его что-то беспокоило вчера вечером. Как будто он что-то хотел сказать мне, но не смог. Я подумал, может быть, ты знаешь, в чем дело?
У Адель все в животе перевернулось. Если Майлс не смог рассказать Майклу, то она безусловно не должна рассказывать.
— Я думаю, он чувствует себя примерно так же, как ты, — сказала она быстро. — Он так много хочет спросить и сказать, но не может найти слов. И я точно так же.
— Он сказал, что мама оставила мне Хэррингтон-хаус в своем завещании, — сказал Майкл. — Он не смог или не захотел сказать, почему. Мне показалось очень странным, что дом не поделили между Ральфом, Дианой и мной.
— Ральф и Диана не часто сюда приезжали, — сказала Адель, хотя и догадалась, что Эмили побеспокоилась о Майкле на случай, если Майлс лишит его наследства. — И потом, она знала, что ты любишь эти места. Это был дом ее семьи, помнишь? Думаю, она хотела удостовериться, что его не продадут чужим людям.
Тогда он улыбнулся.
— Я не подумал об этом. Давай пойдем в Кэмбер-Кастл, — сказал он, взглянув на дом, будто присутствие Хонор смущало его.
— А ты дойдешь так далеко? — спросила она.
— Я не калека, — сказал он, словно обороняясь.
— Я вижу, — возразила она. — Но земля неровная, а ты не должен переутомляться.
— Сегодня я уже чувствую себя более нормально, — сказал Майкл после того, как они прошагали по меньшей мере десять минут, не проронив ни слова. — Все было как в тумане с тех пор, как я сошел с корабля. Будто я был кем-то, кто пытается выдать себя за Майкла Бэйли. Ты понимаешь, что я имею в виду? Как будто я выучил все о прошлом этого парня, но как только очутился со всеми людьми из его прошлого, то не знал, как бы он реагировал.
— Ты выглядишь и ведешь себя как настоящий Майкл, — сказала она. — Но если хочешь, я тебя проверю.
— Ну давай!
Адель хихикнула.
— Что на мне было надето, когда мы познакомились?
— Поношенные брюки, заправленные в высокие резиновые сапоги, и темно-синий джемпер в дырках.
— Ты прошел первый вопрос, — сказала она. — Что ты подарил бабушке в первый раз?
— Чай в жестяной коробке, — сказал он.
— Высший балл. Скажу тебе, ты настоящий Майкл Бэйли, это точно, — рассмеялась она.
— У меня тоже есть один вопрос для тебя, — сказал он. — Чем для тебя была встреча с матерью после стольких лет?
Адель на секунду задумалась.
— Это было трудно. Я не чувствовала к ней ничего, кроме презрения, но мне приходилось заставлять себя быть любезной из-за бабушкиных чувств. Думаю, можно было сказать, что во мне долгое время копилась обида.
— А что потом поменялось?
Адель посмотрела на него косо, чувствуя, что за этими вопросами что-то стоит.
— Почему ты спрашиваешь?
Он пожал плечами.
— Я все еще пытаюсь собрать этот пазл.
Она объяснила, как Хонор ранило во время воздушного налета и как она попросила Роуз переехать сюда и ухаживать за ней.
— Я думаю, именно тогда все изменилось. Мама так хорошо ухаживала за бабушкой, что сделала ее счастливой. Я не ожидала этого, и она вроде как бы доказала мне что-то о себе. Она стала совершенно непохожей на ту женщину, рядом с которой я провела свое детство, она была живой, веселой и очень трудолюбивой. Я ее полюбила. И я ее простила задолго до того, как она умерла.
Они приближались к Кэмбер-Кастл, и оттуда ринулось несколько овец, заслышав их шаги. Адель взяла Майкла под руку, чтобы поддержать его, когда они шли через место, где было множество вросших в землю валунов.
— Ты меня простила? — спросил он, когда они зашли в замок.
Они были рядом с местом, где сидели в тот день, когда он пытался ласкать ее грудь, и она подумала, что он имеет в виду это.
— Тебя не за что прощать, — сказала она.
— Есть за что. Я не должен был тогда ехать с тобой в Лондон на выходные. Ты была не готова, а я не понял.
Адель была ошарашена его словами. Она села на поросший травой холмик, на котором они так часто сидели в прошлом, и вопросительно взглянула на него.
— Я много думал об этом, когда был в лагере, — сказал он, опершись на палку и глядя на нее. — Ты ребенком столько пережила, особенно этот инцидент в приюте. У тебя не было близких друзей, не было отца, у тебя была только бабушка. Ты застряла здесь, вдали от реального мира. Потом появился я.
— Это самое лучшее, что случилось в моей жизни.
— Но я был несправедлив с тобой. Я жил другой жизнью, в которую ты не могла войти, и сделал еще хуже, когда попросил тебя работать у моей матери. Твоя жизнь не принадлежала тебе, и они были такими скотами с тобой. Потом ты пошла учиться на медсестру и была там как в женском монастыре, где масса правил не давала тебе возможности познать мир. Ты поэтому сбежала?
— Нет, конечно нет, — поспешно сказала она.
— Но именно это я прочитал между строк в том письме, — сказал он резко. — Может, ты сейчас скажешь мне правду? Если не это, то что? Это должно было быть что-то по-настоящему серьезное, если ты сбежала даже от бабушки. Скажи мне!
Адель почувствовала тошноту. Он пронзил ее взглядом, и она шла, что он слишком умен, чтобы от него можно было отделаться ложью. Но она не могла заставить себя сказать ему правду. Не сейчас, это было слишком рано.
— Было сразу много причин, — сказала она слабо. — Такого, что я не могла тебе объяснить.
— Ты хочешь сказать, что я поторопил тебя уехать вместе на выходные? — сказал он и опустился на землю рядом с ней. — Ты была не готова, но не смогла мне сказать.
Адель расплакалась. Она хотела сказать ему, что это не так, но не смогла.
— Я так и думал, — сказал он. — Ты знала, что твою мать бросил твой настоящий отец после того, как она легла с ним в постель, твой отчим ушел, а мужчина, которому ты доверяла, применил к тебе насилие. А я был таким глупым и черствым, что не задумался, что рискую вернуть кошмары, которые ты так пыталась забыть, — сказал он дрогнувшим от волнения голосом. — Поэтому ты удрала, подумав, что я тоже тебя брошу.
Адель собиралась запротестовать, но Майкл помешал ей, продолжив:
— Думаю, я всегда понимал, что это реальная причина. Но то, что ты сказала в пятницу, и мой разговор с отцом подтвердили это. Он говорил что-то насчет того, как всякие события в прошлом портят настоящее. Он говорил очень несвязно, мы оба выпили больше, чем нужно, но я думаю, он пытался сказать мне, что чувствует, что не оправдал мои и матери ожидания. Он и к тебе очень привязался, Адель, он все время говорил, что ты особенная и что ему стыдно за прошлое. Потом все это вдруг словно сложилось в одно целое, и я понял. Я даже спросил, как он думает, есть ли еще надежда, что мы с тобой будем вместе?
— И что он сказал? — спросила Адель, почти не смея дышать и вытирая глаза.
— Он сказал, что я должен спросить у тебя. Именно это я и пытаюсь сделать. Есть такая надежда?
Адель осторожно взяла руку Майкла в свои.
— Может быть, — прошептала она.
Его рука находилась в ее руках, и между ними прошел разряд, от которого она вся затрепетала. Она не могла говорить, все, что она хотела, — это чтобы он поцеловал ее и обнимал, пока не отпала бы необходимость во всяких словах. Он был так близко, что она ощущала его теплое дыхание на своей щеке, она повернулась, и их губы встретились.
Он не сопротивлялся. Когда их губы соприкоснулись, он обвил ее руками и они упали на траву, целуясь так, будто от этого зависела их жизнь.
В последние шесть лет Адель целовали другие мужчины, но так — никогда. Это был словно фейерверк, словно огромные волны, захлестывавшие их, словно спуск с крутой горы. Это было то же самое, что в ту ночь в Лондоне, но тогда они были невинными детьми и им не с чем было сравнивать. Сейчас они оба были взрослыми, опытными людьми, и Адель поняла, что если один только поцелуй смог заставить забыть о боли в сердце, то за будущее стоит побороться.
— Можно мне поменять «может быть» на «разумеется»? — спросила она, когда они наконец остановились перевести дыхание.
Он улыбнулся и погладил ее по щеке, глядя ей прямо в глаза.
— Даже когда я был рассержен на тебя после того, как ты исчезла, я никогда не переставал любить и желать тебя, — прошептал он. — В лагере, еще до того, как ты написала мне, я часто мечтал, что я снова здесь с тобой. Но вот мы оба здесь, и это так странно, мне даже не верится, что все это на самом деле происходит.
— Но это так, — сказала она. — Мне только очень жаль, что я заставила тебя пережить все это, понимаешь… — она собиралась пуститься в объяснения, когда он закрыл ей рот очередным поцелуем.
— Прошло двенадцать лет с тех пор, как ты в первый раз привела меня сюда, — сказал он, наконец оторвавшись от нее. — И после шести лет войны и всего, через что мы прошли, я не хочу слышать никаких твоих извинений. Я думаю, мы заслуживаем того, чтобы начать все с нуля, не оглядываясь назад. Но это в том случае, если ты думаешь, что еще любишь меня.
Адель легко пробежалась пальцами по его лицу в шрамах, и у нее на глаза навернулись слезы радости.
— Я уже говорила тебе, что никогда не переставала тебя любить, — правдиво ответила она. — По сути, я даже люблю тебя еще сильнее после всего, что пережила.
— Ты действительно носила мое кольцо все это время? — спросил он.
Она кивнула.
— Я не снимаю его даже в ванной, — сказала она. — Я верила, что пока оно касается моей кожи, для нас двоих есть еще надежда.
— Тогда почему ты не написала снова, в первый год после того, и не рассказала мне, что ты чувствуешь? — спросил он удивленно. — Я бы понял. Я больше всего разозлился, что ты сожгла мосты безо всяких объяснений.
Адель сделала паузу, прежде чем ответить, подбирая слова, которые были бы правдой, чтобы при этом никого не обвинить.
— Какое объяснение я могла тебе дать? — сказала она. — Я даже себе самой не могла это объяснить, и я подумала, что тебе будет лучше без меня.
— Отец вчера вечером сказал что-то о том, что ты не ценишь саму себя, — сказал Майкл. — Я с ним чуть не поругался, потому что смешно услышать это от него, после того как он с такой неприязнью к тебе относился.
— А что он сказал тебе? — спросила она.
— Я получил отмщение, — сказал Майкл, фыркнув. — Полагаю, ты тоже на какой-то момент получила свое.
— Мы перекинулись парой слов, — сказала Адель и рассмеялась.
— Как-нибудь скоро, когда у нас не будет более интересной темы, я хочу, чтобы ты мне рассказала все, о чем вы вдвоем говорили, — сказал он. — Но не сейчас, потому что сейчас все, чего я хочу, — это целовать тебя снова и снова.
Потом он снова поцеловал ее с еще большей страстью, наклонившись над ней, когда она легла на спину, и проведя пальцами по ее волосам.
Адель поняла, что у него нет больше вопросов, потому что он совершенно успокоился. Он был дома, он был счастлив, и все получилось хорошо. Но прежде чем она могла расслабиться и заняться здесь с ним любовью, она знала, что должна сделать еще кое-что.
— Я так тебя люблю, — сказала она со вздохом. — Но я думаю, что нам было бы намного удобнее, если бы у нас было одеяло и корзина с продуктами. Тогда бы мы могли оставаться здесь целый день.
Он поднял голову и улыбнулся ей со своей характерной мальчишеской насмешливостью.
— Можем зайти к твоей бабушке и взять то и другое.
— Идти туда и обратно? Для тебя это слишком далеко, — сказала она.
— Послушайте, сестра Талбот, — сказал он возмущенно, — я тащился через пол-Европы, а теперь вы думаете, что я не смогу дойти до коттеджа?
— Сможешь, но ты никуда не пойдешь, — сказала она, выворачиваясь из-под него. — Экономь энергию, она понадобится тебе позже. Подремли на солнышке. Двадцать минут, и я вернусь.
Она убежала, смеясь, не дав ему возразить.
Как она и ожидала, объявился Майлс, он сидел в саду с Хонор. Они вопросительно взглянули на нее, когда она вошла, переводя дыхание.
— Я вернулась взять кое-что поесть, — сказала она, тяжело дыша. — Я оставила Майкла там.
— Я не мог рассказать ему вчера вечером, — сказал Майлс, обеспокоенно хмурясь. — Я пытался, но просто не смог. Я как раз говорил Хонор, что это слишком тяжело.
— Невероятно тяжело, — кивнула Адель. — И сейчас это уже и не нужно. Ему не нужно все это знать.
— Адель! — воскликнула Хонор, глядя на нее и нахмурив брови. — Что ты такое говоришь?
— У него есть свои мысли насчет того, почему я бросила его, пони милосерднее для всех, чем правда, — ответила Адель. — И пусть он в это верит.
— Но ведь я должен сказать ему, что ты моя дочь? — удивленно спросил Майлс.
— Почему? — спросила Адель.
— Потому что я полюбил тебя, — сказал он, и его глаза стали влажными.
— Может, я тебя устрою в качестве жены сына? — сказала она и наклонилась поцеловать его в лоб. — Тогда я смогу говорить тебе «отец», и никто не будет считать это странным.
Какое-то мгновение они просто смотрели друг на друга, потом Адель наклонилась и стерла слезу, которая пробежала у Майлса по щеке.
— Эмили бы одобрила, — сказала она. — Она ни за что бы не захотела, чтобы Майкл чувствовал себя не таким, как Ральф и Диана. И я думаю, Майкл бы тоже одобрил, если бы ты рассказал ему правду.
Она ждала, пока Майлс и Хонор смотрели друг на друга.
— Я думаю, и Роуз бы тоже на это согласилась, — произнесла Хонор после минутного раздумья. — Я видела, в каких она была расстроенных чувствах в тот вечер, когда все выплыло наружу. Она бы не захотела, чтобы кто-то продолжал страдать за ошибки, которые она совершила, или чтобы Майкл стал меньше любить мать.
Майлс вздохнул.
— Вы просто подталкиваете меня пойти по самому легкому пути, как поступают трусы, — сказал он.
Адель присела перед ним на корточки и, взяв его руку, поднесла ее к своей щеке.
— Разве можно назвать трусом человека, который прощает неверность жены и продолжает заботиться о ее сыне и любить его? Пусть Майкл остается в блаженном неведении. Пожалуйста!
— А что, если это выплывет потом? — спросил он, и у него снова загорелись глаза.
— А кто может ему рассказать? — сказала Адель с улыбкой. — Знаем только мы трое и еще моя подруга Джоан, но она скоро уезжает в Америку, и вообще она не из таких, кто любит болтать. Остаемся мы трое, а мы лучше всех на свете умеем хранить наши тайны.
Он слегка фыркнул и поправил Адель волосы.
— Идите наслаждайтесь вашим пикником. И к тому времени, как вы вернетесь, сделай так, чтобы я увидел это кольцо снова у тебя на пальце.
— И возьми с собой бутылку бузинного вина, — сказала Хонор с широкой улыбкой и светящимися глазами. — Фрэнк всегда называл его моим эликсиром любви.
* * *
Через десять минут Майлс и Хонор наблюдали, как Адель мчится, как газель, к замку с корзиной в руках и одеялом под мышкой. Ее волосы развевались за нею как флаг, и даже с такого расстояния они ощущали ее радость.
— Ах, снова это чувство, — мягко сказала Хонор.
— Может быть, нам уже не приходится рассчитывать на безумную любовь в будущем, — сказал Майлс прерывающимся голосом. — Но у нас будет достаточно волнений со свадьбой и, может быть, с внуками.
— Я буду прабабушкой, — задумчиво произнесла Хонор. — Х-м-м-м. Я не уверена, что мне это нравится!
Майлс рассмеялся.
— Что я такого смешного сказала? — спросила она возмущенно.
— Ты всегда была выдающейся бабушкой, — сказал он. — Я уверен, Адель именно так бы и сказала.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Барристер — судебный адвокат. (Здесь и далее прим. ред.)
(обратно)2
Boxing Day (День подарков) — второй день Рождества, когда слуги, посыльные и т. п. получают подарки.
(обратно)3
Диджестив — изысканно-терпкий коктейль, употребляемый после еды; в него обязательно входит кофейный ликер. Обычно это крепкие коктейли.
(обратно)


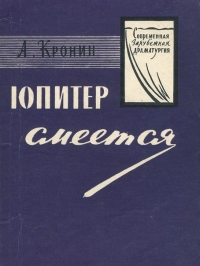


![Секс-комедия в летнюю ночь [=Комедия секса в летнюю ночь]](https://www.4italka.su/images/articles/498529/primary-medium.jpg)
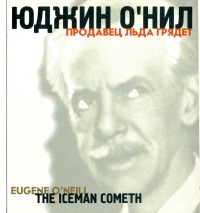

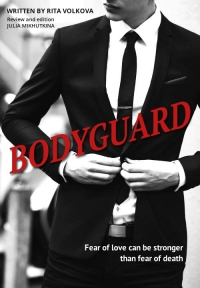
Комментарии к книге «Секреты», Лесли Пирс
Всего 0 комментариев