Маяковский, Владимир Баня. Клоп. Сборник
Баня Драма в шести действиях с цирком и фейерверком
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Товарищ Победоносиков – главный начальник по управлению согласованием, главначпупс.
Поля – его жена.
Товарищ Оптимистенко – его секретарь.
Исак Бельведонский – портретист, баталист, натуралист.
Товарищ Моментальников – репортер.
Мистер Понт Кич – иностранец.
Товарищ Ундертон – машинистка.
Растратчик Ночкин.
Товарищ Велосипедкин – легкий кавалерист.
Товарищ Чудаков – изобретатель.
Мадам Мезальянсова – сотрудница ВОКС.
Товарищ Фоскин.
Товарищ Двойкин.
Товарищ Тройкин – рабочие.
Просители.
Преддомком.
Режиссер.
Иван Иванович.
Учрежденская толпа.
Милиционер.
Капельдинер.
Фосфорическая женщина.
I действие
Справа стол, слева стол. Свисающие отовсюду и раскиданные везде чертежи. Посредине товарищ Фоскин запаивает воздух паяльной лампой. Чудаков переходит от лампы к лампе, пересматривая чертеж.
Велосипедкин (вбегая). Что, всё еще в Каспийское море впадает подлая Волга?
Чудаков (размахивая чертежом). Да, но это теперь ненадолго. Часы закладывайте и продавайте.
Велосипедкин. Хорошо, что я их еще и не купил.
Чудаков. Не покупай! Не покупай ни в коем случае! Скоро эта тикающая плоская глупость станет смешней, чем лучина на Днепрострое, беспомощней, чем бык в Автодоре.
Велосипедкин. Унасекомили, значит, Швейцарию?
Чудаков. Да не щелкай ты языком на мелких сегодняшних политических счетах! Моя идея грандиознее. Волга человечьего времени, в которую нас, как бревна в сплав, бросало наше рождение, бросало барахтаться и плыть по течению, – эта Волга отныне подчиняется нам. Я заставлю время и стоять и мчать в любом направлении и с любой скоростью. Люди смогут вылазить из дней, как пассажиры из трамваев и автобусов. С моей машиной ты можешь остановить секунду счастья и наслаждаться месяц, пока не надоест. С моей машиной ты можешь взвихрить растянутые тягучие годы горя, втянуть голову в плечи, и над тобой, не задевая и не раня, сто раз в минуту будет проноситься снаряд солнца, приканчивая черные дни. Смотри, фейерверочные фантазии Уэльса, футуристический мозг Эйнштейна, звериные навыки спячки медведей и йогов – всё, всё спрессовано, сжато и слито в этой машине.
Велосипедкин. Почти ничего не понимаю и во всяком случае совсем ничего не вижу.
Чудаков. Да напяль же ты очки! Тебя слепят эти планки платины и хрусталя, этот блеск лучевых сплетений. Видишь? Видишь?..
Велосипедкин. Ну, вижу…
Чудаков. Смотри, ты призаметил эти две линейки, горизонтальную и вертикальную, с делениями, как на весах?
Велосипедкин. Ну, вижу…
Чудаков. Этими линейками ты отмеряешь куб необходимого пространства. Смотри, ты видишь этот колесный регулятор?
Велосипедкин. Ну, вижу…
Чудаков. Этим ключом ты изолируешь включенное пространство и отсекаешь от всех тяжестей все потоки земного притяжения и вот этими странноватыми рычажками включаешь скорость и направление времени.
Велосипедкин. Понимаю! Здо́рово! Необычайно!!! Это значит – собирается, например, всесоюзный съезд по вопросу об успокоении возбуждаемых вопросов, ну, и, конечно, предоставляется слово для приветствия от Государственной академии научных художеств государственному товарищу Когану, и как только он начал: «Товарищи, сквозь щупальцы мирового империализма красной нитью проходит волна…» – я его отгораживаю от президиума и запускаю время со скоростью полтораста минут в четверть часа. Он себе потеет, приветствует, приветствует и потеет часа полтора, а публика глядит: академик только рот разинул – и уже оглушительные аплодисменты. Все облегченно вздохнули, подняли с кресел свеженькие зады и айда работать. Так?
Чудаков. Фу, какая гадость! Чего ты мне какого-то Когана суешь? Я тебе объясняю это дело вселенской относительности, дело перевода определения времени из метафизической субстанции, из ноумена в реальность, подлежащему химическому и физическому воздействию.
Велосипедкин. А я что говорю? Я это и говорю: ты себе построй реальную станцию с полным химическим и физическим воздействием, а мы от нее проведем провода, ну, скажем, на все куриные инкубаторы, в пятнадцать минут будем взращивать полупудовую курицу, а потом ей под крылышко штепсель, выключим время – и сиди, курица, и жди, пока тебя не поджарили и не съели.
Чудаков. Какие инкубаторы, какие курицы?!! Я тебе…
Велосипедкин. Да, ладно, ладно, ты думай себе хоть про слонов, хоть про жирафов, если тебе про мелкую скотину и думать унизительно. А мы всё это к нашим сереньким цыплятам сами приспособим…
Чудаков. Ну, что за пошлятина! Я чувствую, что ты со своим практическим материализмом скоро из меня самого курицу сделаешь. Чуть я размахнусь и хочу лететь – ты из меня перья выщипываешь.
Велосипедкин. Ну, ладно, ладно, не горячись. А если я у тебя даже какое перо и выщипал, ты извини, я тебе его обратно вставлю. Летай, пари, фантазируй, мы твоему энтузиазму помощники, а не помеха. Ну, не злись, парнишка, запускай, закручивай свою машину. Чего помочь-то?
Чудаков. Внимание! Я только трону колесо, и время рванется и пустится сжимать и менять пространство, заключенное нами в клетку изоляторов. Сейчас я отбиваю хлеб у всех пророков, гадалок и предсказателей.
Велосипедкин. Постой, Чудаков, дай я стану сюда, может, я через пять минут выйду из комсомольца в этакие бородатые Марксы. Или нет, буду старым большевиком с трехсотлетним стажем. Я тебе тогда всё сразу проведу.
Чудаков (оттягивая, испуганно). Осторожно, сумасшедший! Если в идущих годах здесь проляжет стальная ферма подземной дороги, то, вмещаясь своим щуплым тельцем в занятое сталью пространство, ты моментально превратишься в зубной порошок. И, может быть, в грядущем вагоны сверзятся с рельс, а здесь небывалым времятрясением в тысячу баллов к чертовой бабушке разворотит весь подвал. Сейчас опасно пускаться туда, надо подождать идущих оттуда. Поворачиваю медленно-медленно – всего в минуту пять лет…
Фоскин. Постой, товарищ, обожди минуточку. Тебе всё равно крутить машину. Сделай одолжение, сунь в твою машину мою облигацию, – не зря я в нее вцепился и не продаю, – может, она через пять минут уже сто тысяч выиграет.
Велосипедкин. Догадался! Тогда туда весь Наркомфин с Брюхановым засунуть надо, а то же ж ты выиграешь, а они всё равно тебе не поверят – таблицу спросят.
Чудаков. Ну вот, я вам в будущее дверь пробиваю, а вы на рубли сползли… Фу, исторические материалисты!
Фоскин. Дура, я ж для тебя с выигрышем тороплюсь. У тебя на твой опыт есть деньги?
Чудаков. Да… Деньги есть?
Велосипедкин. Деньги?
Стук в дверь. Входят Иван Иванович, Понт Кич, Мезальянсова и Моментальников.
Мезальянсова (Чудакову). Ду ю спик инглиш? Ах, так шпрехен зи дейч? Парле ву франсе, наконец? Ну, я так и знала! Это утомительно очень. Я принуждена делать традюксион с нашего на рабоче-крестьянский. Мосье Иван Иванович, товарищ Иван Иванович! Вы, конечно, знаете Иван Ивановича?
Иван Иванович. Здравствуйте, здравствуйте, дорогой товарищ! Не стесняйтесь! Я показываю наши достижения, как любит говорить Алексей Максимыч. Я сам иногда… но, понимаете, эта нагрузка! Нам, рабочим и крестьянам, очень, очень нужен свой, красный Эдисон. Конечно, кризис нашего роста, маленькие недостатки механизма, лес рубят – щепки летят… Еще одно усилие – и это будет изжито. У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Ну, я скажу Николаю Ивановичу, он не откажет. Но если он откажет, можно пойти к самому Владимиру Панфилычу, он, конечно, пойдет навстречу. Ведь даже и Семен Семенович мне постоянно говорит: «Нужен, – говорит, – нам, рабочим и крестьянам, нужен красный, свой, советский Эдисон». Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.
Моментальников
Эчеленца, прикажите! Аппетит наш невелик. Лишь зад-да-да-да-данье нам дадите, — Всё исполним в тот же миг.Мезальянсова. Мосье Моментальников, товарищ Моментальников! Сотрудник! Попутчик! Видит – советская власть идет, – присоединился. Видит – мы идем, – зашел. Увидит – они идут, – уйдет.
Моментальников. Совершенно, совершенно верно, – сотрудник! Сотрудник дореволюционной и пореволюционной прессы. Вот только революционная у меня, понимаете, как-то выпала. Здесь белые, там красные, тут зеленые, Крым, подполье… Пришлось торговать в лавочке. Не моя, – отца или даже, кажется, просто дяди. Сам я рабочий по убеждениям. Я всегда говорил, что лучше умереть под красным знаменем, чем под забором. Под этим лозунгом можно объединить большое количество интеллигенции моего толка. Эчеленца, прикажите, – аппетит наш невелик!
Понт Кич. Кхе! Кхе!
Мезальянсова. Пардон! Простите! Мистер Понт Кич, господин Понт Кич. Британский англосакс.
Иван Иванович. Вы были в Англии? Ах, я был в Англии!.. Везде англичане… Я как раз купил кепку в Ливерпуле и осматривал дом, где родился и жил Антидюринг. Удивительно интересно! Надо открыть широкую кампанию.
Мезальянсова. Мистер Понт Кич, известный, известный и в Лондоне и в Сити филателист. Филателист (сконапель, марколюб – по-русски), и он очень, очень интересуется химическими заводами, авиацией и вообще искусством. Очень, очень культурный и общительный человек. Даже меценат. Сконапель… ну, как это вам перевести?.. помогает, там, киноработникам, изобретателям… ну, такой, такой вроде как будто РКИ, только наоборот… Ву компрэнэ? Он уже смотрел на Москву с небоскреба «Известий» (Нахрихтен), он уже был у Анатоль Васильча, а теперь, говорит, к вам… Такой культурный, общительный, даже нам ваш адрес сказал.
Фоскин. Носатая сволочь: с нюхом!
Мезальянсова. Плиз, сэр!
Понт Кич. Ай Иван в дверь ревел, а звери обедали. Ай шел в рай менекен, а енот в Индостан, переперчил ой звери изобретейшен.
Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать на присущем ему языке, что на его туманной родине все, от Макдональда до Черчилля, совершенно как звери, заинтересованы вашим изобретеньем, и он очень, очень просит…
Чудаков. Ну, конечно, конечно! Мое изобретенье принадлежит всему человечеству, и я, конечно, сейчас же… Я очень, очень рад. (Отводит иностранца, доставшего блокнот, показывает и объясняет.) Это вот так. Да… да… да… Здесь два рычажка, а на параллельной хрустальной измерительной линейке… Да… да… да… вот сюда! А это вот так… Ну да…
Велосипедкин (отводя Ивана Ивановича). Товарищ, надо помочь парню. Я ходил всюду, куда «без доклада не входить», и часами торчал везде, где «кончил дело…» и так далее, и почти ночевал под вывеской «если вы пришли к занятому человеку, то уходите» – и никакого толку. Из-за волокиты и трусости ассигновать десяток червонцев гибнет, может быть, грандиозное изобретенье. Товарищ, вы должны с вашим авторитетом…
Иван Иванович. Да, это ужасно! Лес рубят – щепки летят. Я сейчас же прямо в Главное управление по согласованию. Я скажу сейчас же Николаю Игнатьичу… А если он откажет, я буду разговаривать с самим Павлом Варфоломеичем… У вас есть телефон? Ах, у вас нет телефона! Маленькие недостатки механизма… Ах, какие механизмы в Швейцарии! Вы бывали в Швейцарии? Я был в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Понт Кич (кладя блокнот в карман и пожимая Чудакову руку). Дед свел в рай трам из двери в двери лез и не дошел туго. Дуй Иван. Червонцли?..
Мезальянсова. Мистер Понт Кич говорит, что если вам нужны червонцы…
Велосипедкин. Ему? Ему не нужны, ему наплевать на червонцы. Я только что для него сбегал в Госбанк и пришел весь в червонцах. Даже противно. Сквозь карман жмут. Вот тут натыканы купюры по два, вот тут по три, а в этих двух карманах так одни десятичервонцевые. Ол райт! Гуд бай! (Трясет Кичу руку, обнимает его обеими руками и восхищенно проводит к дверям.)
Мезальянсова. Я очень прошу вас чуточку такта: с вашими комсомольскими замашками назреет, если еще не назрел, громадный международный конфликт. Гуд бай – до свидания!
Иван Иванович (похлопывая по плечу Чудакова и прощаясь). Я тоже в ваши годы… Лес рубят – щепки летят. Нам нужен, нужен советский Эдисон. (Уже из дверей.) У вас нет телефона? Ну, ничего, я обязательно скажу Никандру Пирамидоновичу.
Моментальников (семенит, напевая)
Эчеленца, прикажите…Чудаков (к Велосипедкину). Это хорошо, что есть деньги.
Велосипедкин. Денег нет!
Чудаков. То есть, как же это нет денег? Я не понимаю, зачем тогда хвастаться и говорить… А тем более отказываться, когда делаются солидные предложения со стороны иностранных…
Велосипедкин. Хоть ты и гений, а дурак! Ты хочешь, чтобы твоя идея обжелезилась и влетела к нам из Англии прозрачным, командующим временами дредноутом невидимо бить по нашим заводам и Советам?
Чудаков. А ведь верно, верно… Как же это я ему всё рассказал? А он еще в блокнот вписывал! А ты чего же меня не одернул? Сам еще к двери ведешь, обнимаешься!
Велосипедкин. Дура, я его недаром обнимал. Бывшая беспризорщина пригодилась. Я не его – я карман его обнимал. Вот он, блокнот английский. Потерял блокнот англичанин.
Чудаков. Браво, Велосипедкин! Ну, а деньги?
Велосипедкин. Чудаков, я пойду на всё. Я буду грызть глотки и глотать кадыки. Я буду драться так, что щеки будут летать в воздухе. Я убеждал, я орал на этого Оптимистенко. Он гладкий и полированный, как дачный шар. На его зеркальной чистоте только начальство отражается, и то вверх ногами. Я почти разагитировал бухгалтера Ночкина. Но что можно сделать с этим проклятым товарищем Победоносиковым? Он просто плющит каждого своими заслугами и стажем. Ты знаешь его биографию? На вопрос: «Что делал до 17 года?» – в анкетах ставил: «Был в партии». В какой – неизвестно, и неизвестно, что у него «бе» или «ме» в скобках стояло, а может, и ни бе, ни ме не было. Потом он утек из тюрьмы, засыпав страже табаком глаза. А сейчас, через двадцать пять лет, само время засыпало ему глаза табаком мелочей и минут, глаза его слезятся от довольства и благодушия. Что можно увидеть такими глазами? Социализм? Нет, только чернильницу да пресс-папье.
Фоскин. Товарищи, что же я слюной буду запаивать, что ли? Тут еще двух поставить надо. Двести шестьдесят рублей минимаксом.
Поля (вбегает, размахивая пачкой). Деньги – смешно!
Велосипедкин (Фоскину, передает деньги. Фоскин выбегает). Ну, гони! На такси гони! Хватай материал, помощников – и обратно. (К Поле.) Ну, что, уговорила начальство по семейной линии?
Поля. Разве с ним можно просто? Смешно! Он шипит бумажным удавом каждый раз, когда возвращается домой, беременный резолюциями. Не смешно. Это Ночкин… это такой бухгалтерчик в его учреждении, я его и вижу-то первый раз… Прибегает сегодня в обед, пакет сует, передайте, говорит… секретно… Смешно! А мне, говорит, к ним нельзя… по случаю возможности подозрения в соучастии. Не смешно.
Чудаков. Может быть, эти деньги…
Велосипедкин. Да. Тут есть над чем подумать, что-то мне кажется… Ладно! Всё равно! Завтра разберемся.
Входят Фоскин, Двойкин и Тройкин.
Готово?
Фоскин. Есть!
Велосипедкин (сгребая всех). Ну, айда! Валяй, товарищи!
Чудаков. Так, так… Проводки спаяны. Изоляционные перегородки в порядке. Напряжение выверено. Кажется, можно. Первый раз в истории человечества… Отойдите! Включаю… Раз, два, три!
Бенгальский взрыв, дым. Отшатываются, через секунду приливают к месту взрыва. Чудаков выхватывает, обжигаясь, обрывок прозрачной стеклянистой бумаги с отбитым, рваным краем.
Чудаков. Прыгайте! Гогочите! Смотрите на это! Это – письмо! Это написано пятьдесят лет тому вперед. Понимаете – тому вперед!!! Какое необычайнейшее слово! Читайте!
Велосипедкин. Чего читать-то?.. «Бе дэ 5–24–20». Это что, телефон, что ли, какого-то товарища Бедэ?
Чудаков. Не «бе дэ», а «бу-ду». Они пишут одними согласными, а 5 – это указание порядковой гласной. А – е – и – о – у: «Буду». Экономия двадцать пять процентов на алфавите. Понял? 24 – это завтрашний день. 20 – это часы. Он, она, оно – будет здесь завтра – в восемь вечера. Катастрофа? Что?.. Ты видишь, видишь этот обожженный, снесенный край? Это значит – на пути времени встретилось препятствие, тело, в один из пятидесяти годов занимавшее это сейчас пустое пространство. Отсюда и взрыв. Немедля, чтоб не убить идущее оттуда, нужны люди и деньги… Много! Надо немедля вынести опыт возможно выше, на самый пустой простор. Если мне не помогут, я на собственной спине выжму эту махину. Но завтра всё будет решено.
Товарищи, вы со мной!
Бросаются к двери.
Велосипедкин. Пойдем, товарищи, возьмем их за воротник, заставим! Я буду жрать чиновников и выплевывать пуговицы.
Дверь распахивается навстречу.
Преддомкома. Я сколько раз вам говорил: выметайтесь вы отсюда с вашей частной лавочкой. Вы воняете вверх ответственному съемщику, товарищу Победоносикову. (Замечает Полю.) И… и… вы-ы… здесь? Я говорю, бог на помощь вашей общественной деятельности. У меня для вас отложен чудный вентиляторчик. До свиданьица.
II действие
Канцелярская стена приемной. Справа дверь со светящейся вывеской «Без доклада не входить». У двери за столом Оптимистенко принимает длинный, во всю стену, ряд просителей. Просители копируют движения друг друга, как валящиеся карты. Когда стена освещается изнутри, видны только черные силуэты просителей и кабинет Победоносикова.
Оптимистенко. В чем дело, гражданин?
Проситель. Я вас прошу, товарищ секретарь, увяжите, пожалуйста, увяжите!
Оптимистенко. Это можно. Увязать и согласовать – это можно. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть отношение?
Проситель. Есть отношение… такое отношение, что прямо проходу не дает. Материт и дерется, дерется и материт.
Оптимистенко. Это кто же, вопрос вам проходу не дает?
Проситель. Да не вопрос, а Пашка Тигролапов.
Оптимистенко. Виноват, гражданин, как же это можно Пашку увязать?
Проситель. Это верно, одному его никак не можно увязать. Но вдвоем-втроем, ежели вы прикажете, так его и свяжут и увяжут. Я вас прошу, товарищ, увяжите вы этого хулигана. Вся квартира от его стонет…
Оптимистенко. Тьфу! Чего же вы с такими мелочами в крупное государственное учреждение лезете? Обратитесь в милицию… Вам чего, гражданочка?
Просительница. Согласовать, батюшка, согласовать.
Оптимистенко. Это можно – и согласовать можно и увязать. Каждый вопрос можно и увязать и согласовать. У вас есть заключение?
Просительница. Нет, батюшка, нельзя ему заключение давать. В милиции сказали, можно, говорят, его на неделю заключить, а я чего, батюшка, кушать-то буду? Он из заключения выйдет, он ведь опять меня побьет.
Оптимистенко. Виноват, гражданочка, вы же заявляли, что вам согласовать треба. А чего ж вы мне мужем голову морочите?
Просительница. Меня с мужем-то и надо, батюшка, согласовать, несогласно мы живем, нет, пьет он очень вдумчиво. А тронуть его боимся, как он партейный.
Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное государственное учреждение. Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется – фордизмы разные, то, сё…
Вбегают Чудаков и Велосипедкин.
О! А вы ж куда ж?
Велосипедкин (пытаясь отстранить Оптимистенко). К товарищу Победоносикову экстренно, срочно, немедленно!
Чудаков (повторяет). Срочно… немедленно…
Оптимистенко. Ага-га! Я вас узнаю́. Это вы сами или ваш брат? Тут ходил молодой человек.
Чудаков. Это я сам и есть.
Оптимистенко. Да нет… Он же ж без бороды.
Чудаков. Я был даже и без усов, когда начал толкаться к вам. Товарищ Оптимистенко, с этим необходимо покончить. Мы идем к самому главначпупсу, нам нужен сам Победоносиков.
Оптимистенко. Не треба. Не треба вам его беспокоить. Я же ж вас могу собственнолично вполне удовлетворить. Всё в порядке. На ваше дело имеется полное решение.
Чудаков (переспрашивает радостно). Вполне удовлетворить? Да?
Велосипедкин (переспрашивает радостно). Полное решение? Да? Сломили, значит, бюрократов? Да? Здо́рово!
Оптимистенко. Да что вы, товарищ! Какой же может быть бюрократизм перед чисткой? У меня всё на индикаторе без входящих и исходящих, по новейшей карточной системе. Раз – нахожу ваш ящик. Раз – хватаю ваше дело. Раз – в руках полная резолюция – вот, вот!
Все втыкаются.
Я ж говорил – полное решение. Вот! От-ка-зать.
Первый план тухнет. Внутренность кабинета.
Победоносиков (перелистывает бумаги, дозванивается по вертушке. Мимоходом диктует). «…Итак, товарищи, этот набатный, революционный призывный трамвайный звонок колоколом должен гудеть в сердце каждого рабочего и крестьянина. Сегодня рельсы Ильича свяжут «Площадь имени десятилетия советской медицины» с бывшим оплотом буржуазии «Сенным рынком»… (К телефону.) Да. Алло, алло!.. (Продолжает.) «Кто ездил в трамвае до 25 октября? Деклассированные интеллигенты, попы и дворяне. За сколько ездили? Они ездили за пять копеек станцию. В чем ездили? В желтом трамвае. Кто будет ездить теперь? Теперь будем ездить мы, работники вселенной. Как мы будем ездить? Мы будем ездить со всеми советскими удобствами. В красном трамвае. За сколько? Всего за десять копеек. Итак, товарищи…» (Звонок по телефону. В телефон.) Да, да, да. Нету? На чем мы остановились?
Машинистка Ундертон. На «Итак, товарищи…»
Победоносиков. Да, да… «Итак, товарищи, помните, что Лев Толстой – величайший и незабвенный художник пера. Его наследие прошлого блещет нам на грани двух миров, как большая художественная звезда, как целое созвездие, как самое большое из больших созвездий – Большая Медведица. Лев Толстой…»
Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков. Вы там про трамвай писали, а здесь вы почему-то Льва Толстого в трамвай на ходу впустили. Насколько можно понимать, тут какое-то нарушение литературно-трамвайных правил.
Победоносиков. Что? Какой трамвай? Да, да… С этими постоянными приветствиями и речами… Попрошу без замечаний в рабочее время! Для самокритики вам отведена стенная газета. Продолжаем… «Даже Лев Толстой, даже эта величайшая медведица пера, если бы ей удалось взглянуть на наши достижения в виде вышеупомянутого трамвая, даже она заявила бы перед лицом мирового империализма: «Не могу молчать. Вот они, красные плоды всеобщего и обязательного просвещения». И в эти дни юбилея…» Безобразие! Кошмар! Вызвать мне сюда товарища… гражданина бухгалтера Ночкина.
Кабинет Победоносикова тухнет. Опять очередь у кабинета. Врывающиеся Чудаков и Велосипедкин.
Велосипедкин. Товарищ Оптимистенко, это издевательство!
Оптимистенко. Да нет же ж, никакого издевательства нема. Слушали – постановили: отказать. Не входит ваше изобретение в перспективный план на ближайший квартал.
Велосипедкин. Так ведь не на одном твоем ближайшем квартале социализм строится.
Оптимистенко. Да не мешайте вы со своими фантазиями нашей государственной деятельности! (К вошедшему Бельведонскому.) Пожалте! Валяйте! Распространяйтесь! (К Чудакову.) Ваше предложение не увязано с НКПС и не треба широчайшим рабочим и крестьянам.
Велосипедкин. При чем тут НКПС? Что за головотяпство!
Чудаков. Конечно, нельзя предугадать всей грандиозности последствий, и возможно, возможно со временем применить с пользой мое изобретенье и к транспортным задачам – при максимальной быстроте и почти вне времени…
Велосипедкин. Ну, да, да, можно и с НКПС увязать. Например, садитесь вы в три часа ночи, а в пять утра – уже в Ленинграде.
Оптимистенко. Ну вот, а я что сказал? Отказать! Нежизненно. И зачем нам быть в пять утра в Ленинграде, когда все учреждения еще же ж закрыты? (Загорается красная лампочка телефона. Слушает, кричит.) Ночкина – к товарищу Победоносикову!
Отстраняясь от бросившихся к нему Чудакова и Велосипедкина, к дверям Победоносикова трусит рысцой Ночкин. Кабинет Победоносикова.
Победоносиков (крутя и дуя в вертушку). Тьфу! Иван Никанорыч? Здоро́во, Иван Никанорыч! Я тебя попрошу два билета. Ну да, международным. Как, уже не заведуешь? Тьфу! С этой нагрузкой просто отрываешься от масс. Нужен билет, так неизвестно, кому телефонить! Алло, алло! (К машинистке.) На чем остановились?
Ундертон. «Итак, товарищи…»
Победоносиков. «Итак, товарищи, Александр Семеныч Пушкин, непревзойденный автор как оперы «Евгений Онегин», так и пьесы того же названия…»
Ундертон. Простите, товарищ Победоносиков, но вы сначала пустили трамвай, потом усадили туда Толстого, а теперь влез Пушкин – без всякой трамвайной остановки.
Победоносиков. Какой Толстой? При чем трамвай?! Ах, да, да! С этими постоянными приветствиями… Попрошу без возражений! Я здесь выдержанно и усовершенствованно пишу на одну тему и без всяких уклонов в сторону, а вы… И Толстой, и Пушкин, и даже, если хотите, Байро́н – это всё хотя и в разное время, но союбилейщики, и вообще. Я, может, напишу одну общую руководящую статью, а вы могли бы потом, без всяких извращений самокритики, разрезать статью по отдельным вопросам, если вы вообще на своем месте. Но вы вообще больше думаете про покрасить губки и припудриться, и вам не место в моем учреждении. Давно пора за счет молодых комсомолок орабочить секретариат. Попрошу-с сегодня же…
Входит Бельведонский.
Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Бельведонский! Задание выполнено? В ударном порядке?
Бельведонский. Выполнено, конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз, так сказать, в социалистическом соревновании с самим с собой, но выполнено всё согласно социальному заказу и авансу на все триста процентов. Изволите, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель?
Победоносиков. Продемонстрируйте!
Бельведонский. Извольте! Вы, разумеется, знаете и видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных Луёв. Вот это Луи Каторз Четырнадцатый, прозванный так французами после революции сорок восьмого года за то, что шел непосредственно после тринадцатого. Затем вот это Луи Жакоп, и, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современное, Луи Мове Гу.
Победоносиков. Стили ничего, чисто подобраны. А как цена?
Бельведонский. Все три Луя́ приблизительно в одну цену.
Победоносиков. Тогда, я думаю, мы остановимся на Луе Четырнадцатом. Но, конечно, в согласии с требованием РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить под морёный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах.
Бельведонский. Восхитительно! Свыше пятнадцати Людовиков было, а до этого додуматься не могли, а вы сразу – по-большевицки, по-революционному! Товарищ Победоносиков, разрешите мне продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, а также распределителя кредитов. Тюрьма и ссылка по вас плачет, журнал, разумеется. Музей революции по вас плачет, – оригинал туда – оторвут с руками! А копии с небольшой рассрочкой и при удержании из жалования расхватают признательные сослуживцы. Позвольте?
Победоносиков. Ни в каком случае! Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу, но если необходимо для полноты истории и если на ходу, не прерывая работы, то пожалуйста. Я сяду здесь, за письменным столом, но ты изобрази меня ретроспективно, то есть как будто бы на лошади.
Бельведонский. Лошадь вашу я уже дома нарисовал по памяти, вдохновлялся на бегах и даже, не поверите, в нужных местах сам в зеркало гляделся. Мне теперь только вас к лошади присобачить остается. Разрешите отодвинуть в сторону корзиночку с бумажками. Какая скромность при таких заслугах! Очистите мне линию вашей боевой ноги. Как сапожок чисто блестит, прямо – хоть лизни. Только у Микель Анже́ло встречалась такая чистая линия. Вы знаете Микель Анже́ло?
Победоносиков. Анжелов, армянин?
Бельведонский. Итальянец.
Победоносиков. Фашист?
Бельведонский. Что вы!
Победоносиков. Не знаю.
Бельведонский. Не знаете?
Победоносиков. А он меня знает?
Бельведонский. Не знаю… Он тоже художник.
Победоносиков. А! Ну, он мог бы и знать. Знаете, художников много, главначпупс – один.
Бельведонский. Карандаш дрожит. Не передать диалектику характера при общей бытовой скромности. Самоуважение у вас, товарищ Победоносиков, титаническое! Блесните глазами через правое плечо и через самопишущую ручку-с. Позвольте увековечить это мгновение.
Победоносиков. Войдите!
Входит Ночкин.
Победоносиков. Вы?!!
Ночкин. Я…
Победоносиков. Двести тридцать?
Ночкин. Двести сорок.
Победоносиков. Пропили?..
Ночкин. Проиграл.
Победоносиков. Чудовищно! Непостижимо! Кто? Растратчик! Где? У меня! В какое время? В то время, когда я веду мое учреждение к социализму по гениальным стопам Карла Маркса и согласно предписаниям центра…
Ночкин. Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал.
Победоносиков. Карл Маркс? В карты? Никогда!!!
Ночкин. Ну вот, никогда… А что писал Франц Меринг? Что он писал на семьдесят второй странице своего капитального труда «Карл Маркс в личной жизни»? Играл! Играл наш великий учитель…
Победоносиков. Я, конечно, читал и знаю Меринга. Во-первых, он преувеличивает, а во‑вторых, Карл Маркс действительно играл, но не в азартные, а в коммерческие игры.
Ночкин. А вот одноклассник, знаток и современник, известный Людвиг Фейербах пишет, что и в азартные.
Победоносиков. Ну да, я читал, конечно, товарища Фейербахова. Карл Маркс иногда играл и в азартные, но не на деньги…
Ночкин. Нет… На деньги.
Победоносиков. Да, но на свои, а не на казенные.
Ночкин. Положим, каждый, штудировавший Маркса, знает, что был, правда, однажды, памятный случай и с казенными.
Победоносиков. Конечно, этот исторический случай заставит нас, ввиду исторического прецедента, подойти внимательнее к вашему проступку, но всё же…
Ночкин. Да бросьте вы вола вертеть! Не играл никогда Карл Маркс ни в какие карты. Да что мне вам рассказывать! Разве вы человека поймете? Вам только чтоб образцам да параграфам соответствовало. Эх ты, портфель набитый! Клипса канцелярская!
Победоносиков. Что?! Издеваться? И над своим непосредственным, ответственным начальством и над посредственной… да нет, что я говорю! над безответственной тенью Маркса… Не пускать! Задержать!!!
Ночкин. Товарищ Победоносиков, не утруждайте себя звонками, я сам в МУУР сообщу.
Победоносиков. Прекращу! Не позволю!!!
Бельведонский. Товарищ Победоносиков! Мгновение! Сохраните позу, как таковую. Дайте увековечить это мгновеньице.
Ундертон. Ха-ха-ха!
Победоносиков. Сочувствие? Растратчику? Смеяться? Да еще накрашенными губами?.. Вон! (Один, накручивая вертушку.) Алло, алло! Фу, фу!.. Кто это! Александр Петрович. Да я ж тебя три дня… Прошел? Поздравляю. Ну еще бы, еще бы! Какие могут быть сомнения!.. Как всегда, целыми днями, целыми ночами… Да, наконец сегодня… Два билета. Мягкие. Первый. Со стенографисткой. При чем тут РКИ? Необходимо додиктовать отчет. Какое имеют значение двести сорок рублей туда и обратно? Да, проведем их как суточные или еще какие-нибудь. В ударном порядке, с курьером… Ну, конечно, твое продвину… Вот, вот! Зеленый Мыс… Мне. Ну, жму руку, с ответственным приветом. (Бросает трубку. Мотивом тореадора.) Алло, алло!
Приемная. Чудаков и Велосипедкин наступают.
Оптимистенко. Да куда же ж вы прете, наконец? Имейте ж уважение к трудам и деятельности государственного персонала.
Входит Мезальянсова. Снова рванулись Чудаков и Велосипедкин.
Нет, нет… Вне очереди, согласно телефонограмме… (Проводит под ручку, выговаривая.) Всё готово… А як же ж. Я ему рассказал со значением, что супруга его по комсомольцам пошла. Он спервоначалу как рассердится! Не потерплю, говорит, невоздержанные ухаживания без сериозного стажа и служебного базиса, а потом даже обрадовался. Секретаршу уже ликвидировал по причинам неэтичности губ. Идите прямо, не бойтесь! И под каждым ей листком был уже готов местком…
Мезальянсова уходит.
Чудаков. Ну, вот, теперь эту пропустили! Товарищ, да поймите ж вы – никакая научная, никакая нечистая сила уже не может остановить надвигающееся. Если мы не вынесем опыт в пространства над городом, то может даже быть взрыв.
Оптимистенко. Взрыв? Ну, ето вы оставьте! Не угрожайте государственному учреждению. Нам нервничать и волноваться невдобно, а когда будет взрыв, тогда и заявим на вас куда следует.
Велосипедкин. Да пойми ты, дурья голова!.. Это тебя надо распрозаявить и куда следует и куда не следует. Люди горят работать на всю рабочую вселенную, а ты, слепая кишка, канцелярскими разговорами мочишься на их энтузиазм. Да?
Оптимистенко. Попрошу-с не упирать на личность! Личность в истории не играет особой роли. Это вам не царское время. Это раньше требовался энтузиазм. А теперь у нас исторический материализм, и никакого энтузиазму с вас не спрашивается.
Мезальянсова входит.
Оптимистенко. Расходитесь, граждане, прием закрыт.
Мезальянсова (с портфелем). О баядера, перед твоей красотой! Тара-рам-тара-рам…
III действие
Сцена – продолжение театральных рядов. В первом ряду несколько свободных мест. Сигнал: «Начинаем». Публика смотрит в бинокли на сцену, сцена смотрит в бинокли на публику. Начинаются свистки, топанье, крики: «Время!»
Режиссер. Товарищи, не волнуйтесь! На несколько минут придется задержать третье действие по независящим обстоятельствам.
Минута, снова крики: «Время!»
Одну минуту, товарищи! (В сторону.) Ну что, идут? Неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно и потом; пройдите в фойе, как-нибудь вежливо намекните. А, идут!.. Пожалте, товарищи. Нет, что вы! Очень приятно! Ну, несущественно, одну минуту, даже полчаса, это ж не поезд, всегда можно задержать. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие там государственные, даже планетарные дела. Вы смотрели первый и второй акт? Ну, как, как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд…
Победоносиков. Ничего, ничего! Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено. Подмечено. Но все-таки это как-то не то…
Режиссер. Так ведь это всё можно исправить, мы всегда стремимся. Вы только сделайте конкретные указания, – мы, конечно… оглянуться не успеете…
Победоносиков. Сгущено всё это, в жизни так не бывает… Ну, скажем, этот Победоносиков. Неудобно все-таки… Изображен, судя по всему, ответственный товарищ, и как-то его выставили в таком свете и назвали еще как-то «главначпупс». Не бывает у нас таких, ненатурально, нежизненно, непохоже! Это надо переделать, смягчить, опоэтизировать, округлить…
Иван Иванович. Да, да, это неудобно! У вас есть телефон? Я позвоню Федору Федоровичу, он, конечно, пойдет навстречу… Ах, во время действия неудобно? Ну, я потом. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.
Моментальников
Эчеленца, прикажите! Аппетит наш невелик. Только слово, слово нам скажите, — Изругаем в тот же миг.Режиссер. Что вы! Что вы, товарищи! Ведь это в порядке опубликованной самокритики и с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип.
Победоносиков. Как вы сказали? «Тип»? Разве ж так можно выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем беспартийного прощелыгу. Тип! Это все-таки не «тип», а, как-никак, поставленный руководящими органами главначпупс, а вы – тип!! И если в его действиях имеются противозаконные нарушения, надо сообщить куда следует на предмет разбирательства и, наконец, проверенные прокуратурой сведения – сведения, опубликованные РКИ, претворить в символические образы. Это я понимаю, но выводить на общее посмешище в театре…
Режиссер. Товарищ, вы совершенно правы, но ведь это по ходу действия.
Победоносиков. Действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может, ваше дело показывать, а действовать, не беспокойтесь, будут без вас соответствующие партийные и советские органы. А потом, надо показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, например, наше учреждение, в котором я работаю, или меня, например…
Иван Иванович. Да, да, да! Вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошений, жалоб и отношений – конвейер. Настоящий уголок социализма. Удивительно интересно!
Режиссер. Но, товарищ, позвольте…
Победоносиков. Не позволю!!! Не имею права и даже удивляюсь, как это вообще вам позволили! Это даже дискредитирует нас перед Европой. (Мезальянсовой.) Это вы не переводите, пожалуйста…
Мезальянсова. Ах, нет, нет, ол райт! Он только что поел икры на банкете и теперь дремлет.
Победоносиков. А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя? А что он изобрел? Тормоз Вестингауза он изобрел? Самопишущую ручку он выдумал? Трамвай без него ходит? Рациолярию он канцеляризировал?
Режиссер. Как?
Победоносиков. Я говорю, канцелярию он рационализировал? Нет! Тогда об чем толк? Мечтателей нам не нужно! Социализм – это учет!
Иван Иванович. Да, да. Вы бывали в бухгалтерии? Я бывал в бухгалтерии – везде цифры и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. Учет! Удивительно интересно!
Режиссер. Товарищ, не поймите нас плохо. Мы можем ошибаться, но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят – и заработают, посмотрят – и взбудоражатся, посмотрят – и разоблачат.
Победоносиков. А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не будоражить. Подумаешь, будильник! Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить.
Мезальянсова. Да, да, ласкать…
Победоносиков. Мы хотим отдохнуть после государственной и общественной деятельности. Назад, к классикам! Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Сколько раз я вам говорил. Помните, как пел поэт:
После разных заседаний — Нам не радость, не печаль, Нам в грядущем нет желаний, Нам, тарам, тарам, не жаль…Мезальянсова. Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже, если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, на сцене, что у них в Париже женотдела нет, а зато фокстрот, или какие юбки нового фасона носит старый одряхлевший мир – сконапель – бо монд. Понятно?
Иван Иванович. Да, да! Сделайте нам красиво! В Большом театре нам постоянно делают красиво. Вы были на «Красном маке»? Ах, я был на «Красном маке». Удивительно интересно! Везде с цветами порхают, поют, танцуют разные эльфы и… сифилиды.
Режиссер. Сильфиды, вы хотели сказать?
Иван Иванович. Да, да, да! Это вы хорошо заметили – сильфиды. Надо открыть широкую кампанию. Да, да, да, летают разные эльфы… и цвельфы… Удивительно интересно!
Режиссер. Простите, но эльфов было уже много, и их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой. Да и по ходу пьесы они нам как-то не подходят. Но относительно отдыха я вас, конечно, понимаю, и в пьесу будут введены соответствующие изменения в виде бодрых и грациозных дополнительных вставок. Вот, например, и так называемый товарищ Победоносиков, если дать ему щекотящую тему, – может всех расхохотать. Я сейчас же сделаю пару указаний, и роль просто разалмазится. Товарищ Победоносиков, возьмите в руки какие-нибудь три-четыре предмета, например, ручку, подпись, бумагу и партмаксимум, и сделайте несколько жонглерских упражнений. Бросайте ручку, хватайте бумагу – ставьте подпись, берите партмаксимум, ловите ручку, берите бумагу – ставьте подпись, хватайте партмаксимум. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Сов-день – парт-день – бю-ро-кра-та. Сов-день – парт-день – бю-ро-кра-та. Доходит?
Победоносиков (восторженно). Хорошо! Бодро! Никакого упадочничества – ничего не роняет. На этом можно размяться.
Мезальянсова. Вуй, сэ трэ педагожи́к.
Победоносиков. Легкость телодвижений, нравоучительная для каждого начинающего карьеру. Доступно, просто, на это можно даже детей водить. Между нами, мы – молодой класс, рабочий – это большой ребенок. Оно, конечно, суховато, нет этой округленности, сочности…
Режиссер. Ну, если вам это нравится, здесь горизонты фантазии необъятны. Мы можем дать прямо символистическую картину из всех наличных актерских кадров. (Хлопает в ладоши.)
Свободный мужской персонал – на сцену! Станьте на одно колено и согнитесь с порабощенным видом. Сбивайте невидимой киркой видимой рукой невидимый уголь. Лица, лица мрачнее… Темные силы вас злобно гнетут. Хорошо! Пошло́!..
Вы будете капитал. Станьте сюда, товарищ капитал. Танцуйте над всеми с видом классового господства. Воображаемую даму обнимайте невидимой рукой и пейте воображаемое шампанское. Пошло́! Хорошо! Продолжайте! Свободный женский состав – на сцену!
Вы будете – свобода, у вас обращение подходящее. Вы будете – равенство, значит, всё равно, кому играть. А вы – братство, – другие чувства вы всё равно не вызовете. Приготовились! Пошли! Подымайте воображаемым призывом воображаемые массы. Заражайте, заражайте всех энтузиазмом! Что вы делаете?!
Выше вздымайте ногу, симулируя воображаемый подъем. Капитал, подтанцовывайте налево с видом Второго интернационала. Чего руками размахались! Протягивайте щупальцы империализма… Нет щупальцев? Тогда нечего лезть в актеры. Протягивайте что хотите. Соблазняйте воображаемым богатством танцующих дам. Дамы, отказывайтесь резким движением левой руки. Так, так, так! Воображаемые рабочие массы, восстаньте символистически! Капитал, красиво падайте! Хорошо!
Капитал, издыхайте эффектно!
Дайте красочные судороги!
Превосходно!
Мужской свободный состав, сбрасывайте воображаемые оковы, вздымайтесь к символу солнца. Размахивайте победоносно руками. Свобода, равенство и братство, симулируйте железную поступь рабочих когорт. Ставьте якобы рабочие ноги на якобы свергнутый якобы капитал.
Свобода, равенство и братство, делайте улыбку, как будто радуетесь.
Свободный мужской состав, притворитесь, что вы – «кто был ничем», и вообразите, что вы – «тот станет всем». Взбирайтесь на плечи друг друга, отображая рост социалистического соревнования.
Хорошо!
Постройте башню из якобы могучих тел, олицетворяя в пластическом образе символ коммунизма.
Размахивайте свободной рукой с воображаемым молотом в такт свободной стране, давая почувствовать пафос борьбы.
Оркестр, подбавьте в музыку индустриального грохота.
Так! Хорошо!
Свободный женский состав – на сцену!
Увивайте воображаемыми гирляндами работников вселенной великой армии труда, символизируя цветы счастья, расцветшие при социализме.
Хорошо! Извольте! Готово!
Отдохновенная пантомима на тему –
«Труд и капитал актеров напитал».
Победоносиков. Браво! Прекрасно! И как вы можете с таким талантом размениваться на злободневные мелочи, на пустяшные фельетоны? Вот это подлинное искусство – понятно и доступно и мне, и Ивану Ивановичу, и массам.
Иван Иванович. Да, да, удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню… Кому-нибудь позвоню. Прямо душа через край. Это заражает! Товарищ Моментальников, надо открыть широкую кампанию.
Моментальников
Эчеленца, прикажите! Аппетит наш невелик. Только хлеба-зрелищ нам дадите, — Всё похвалим в тот же миг.Победоносиков. Очень хорошо! Всё есть! Вы только введите сюда еще самокритику, этаким символистическим образом, теперь это очень своевременно. Поставьте куда-нибудь в сторонку столик, и пусть себе статьи пишет, пока вы здесь своим делом занимаетесь. Спасибо, до свидания! Я не хочу опошлять и отяжелять впечатления после такой изящной концовочки. С товарищеским приветом!
Иван Иванович. С товарищеским приветом! Кстати, как фамилия этой артисточки, третья сбоку? Очень красивое и нежное… дарование… Надо открыть широкую кампанию, а можно даже и узкую, ну так… я и она. Я позвоню по телефону. Или пускай она позвонит.
Моментальников
Эчеленца, прикажите! Стыд природный невелик. Только адрес, адрес нам дадите, — Стелефоним в тот же миг.Два капельдинера останавливают лезущего в первый ряд Велосипедкина.
Капельдинер. Гражданин, а гражданин, вас вежливо просют, убирайтесь вы отсюда! Куда вы прете?
Велосипедкин. Мне нужно в первый ряд…
Капельдинер. А бесплатных пирожных вам не нужно? Вас вежливо просют, гражданин, а гражданин? У вас билет в рабочей полосе, а вы в чистую публику прете.
Велосипедкин. Я иду в первый ряд к товарищу Победоносикову по делу.
Капельдинер. Гражданин, а гражданин, в театр для удовольствий ходют, а не по делу. Вам вежливо говорят, катитесь отсюда колбасой!
Велосипедкин. Удовольствие дело послезавтрашнее, а я по делу по сегодняшнему, и, если будет надо, не только первый – мы вам все ряды переворотим с ложами.
Капельдинер. Гражданин, вам вежливо говорят, выметайтесь отсюда! За гардероб не платили, программу не купили, да еще без билета!
Велосипедкин. Да я не смотреть пришел. С моим делом я и по партийному билету сюда пройду… Я к вам, товарищ Победоносиков!
Победоносиков. Чего вы кричите? И кто это такой? Какой-то Победоносиков?!!
Велосипедкин. Шутки в сторону, бросьте играться. Вы и есть он, и я к вам, который и есть главначпупс Победоносиков.
Победоносиков. Надо-с узнать если не имя-отчество, то хотя бы фамилию, прежде чем обращаться к вышесидящему ответственному товарищу.
Велосипедкин. Так как ты ответственный, ты и отвечай, почему у тебя в канцелярии замораживают изобретение Чудакова? В нашем распоряжении минуты. Несчастие будет непоправимо. Отпустите немедленно деньги, вынесем опыт на максимально возвышенное место и…
Победоносиков. Что за чепуха?! Какой Чудаков? Какие возвышенности? И я вообще сам сегодня выезжаю на возвышенности Кавказа.
Велосипедкин. Чудаков – это изобретатель…
Победоносиков. Изобретателей много, а я один, и вообще прошу не беспокоить меня хотя бы в редкие, урегулированные подлежащими инстанциями минуты отдыха. Зайдите в пятницу.
Режиссер усиленно машет рукой Велосипедкину.
Велосипедкин. К тебе зайдут – и не в пятницу, а сегодня, и не я, а…
Победоносиков. Пускай заходит кто угодно, и не ко мне, а к моему заместителю. Если в приказе объявлено о моем отпуске, значит меня нет. Надо понимать конструкцию нашей конституции.
Это безобразие!
Велосипедкин (к Ивану Ивановичу). Втолкуйте ему, втелефонируйте ему, вы же обещали!
Иван Иванович. Приставать с делами к лицу, находящемуся в отпуску!!! Удивительно интересно! У вас есть телефон? Я позвоню Николаю Александровичу. Надо беречь здоровье старых ответственных, пока они еще молоды.
Режиссер. Товарищ Велосипедкин, умоляю вас, не устраивайте скандала! Он же ж не из пьесы. Он просто похож, и умоляю вас, чтоб они не догадались. Вы получите полное удовлетворение по ходу действия.
Победоносиков. Прощайте, товарищ! Нечего сказать, называетесь ррреволюционным театром, а сами раздражаете… как это вы сказали?.. будоражите, что ли, ответственных работников. Это не для масс, и рабочие и крестьяне этого не поймут, и хорошо, что не поймут, и объяснять им этого не надо. Что вы из нас каких-то действующих лиц делаете? Мы хотим быть бездейственными… как они называются? – зрителями. Не-еет! В следующий раз я пойду в другой театр!
Иван Иванович. Да, да, да! Вы видали «Вишневую квадратуру»? А я был на «Дяде Турбиных». Удивительно интересно!
Режиссер (Велосипедкину). Что вы наделали? Вы чуть не сорвали весь спектакль. Пожалте на сцену! Пьеса продолжается!
IV действие
Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый и с чемоданом Победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан.
Поля. Что ж, я так и останусь?.. Не смешно!
Победоносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство! Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды, ну и я еду восстановить важный государству организм, укрепить его в разных гористых местностях.
Поля. Я же знаю, ну, видела, – тебе принесли два билета. Я могла думать… Ну, чем, чем я тебе мешаю? Смешно!
Победоносиков. Оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. Плыви, моя гондола! У меня не гондола, а государственный корабль. Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там… доклад, отчет, резолюция – социализм. По моему общественному положению мне законом присвоена стенографистка.
Поля. Когда я твоей стенографии мешала? Смешно! Ну, хорошо, ты перед другими ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь?! Пусти ты меня, ради бога, и стенографируй хоть всю ночь! Смешно!
Победоносиков. Тсс… Ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради бога». Тсс… Внизу живет Козляковский, он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем.
Поля. Чего скрывать? Смешно!
Победоносиков. Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские, упадочные настроения, создавшие такой неравный брак. Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся! Я – и ты! Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого, цепь старого быта!
Поля. Я тебе мешаю? Чем? Смешно! Это ты из меня сделал ощипанную наседку.
Победоносиков. Тсс!!! Довольно этой ревности! Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже хахалей найти сообразно моему общественному положению. Шкодливая юбконосица!
Поля. Замолчи! Не смешно!
Победоносиков. Тсс!!! Я тебе сказал, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить!
Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается Велосипедкин, за ним Чудаков, груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Двойкин и Тройкин.
Велосипедкин. Нажимай, товарищи! Еще ступенек двадцать. Тащи тихо! Чтоб он не спрятался опять за секретарей и бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него.
Чудаков. Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени.
Двойкин. Ты чувствуешь, как нагреваются части под рукой? Стекло закипает.
Тройкин. С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита! Честное слово, плита! С трудом держусь, чтоб не разжать ладонь.
Чудаков. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело.
Двойкин. Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем!!!
Велосипедкин (подбегает и поддерживает, обжигаясь). Товарищи, не сдавайтесь. Еще ступенек десять-пятнадцать, он сейчас же здесь, наверху. О, черт, адово пламя! (Отрывает обожженную руку.)
Чудаков. Тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. Скорее! Хотя б до площадки! Сваливайте здесь!
Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приоткрывается, показывается Поля.
Победоносиков. Ты, конечно, не волнуйся… Ты, Полечка, помни, что ты сама можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание.
Поля. Мое? Сама? Не смешно!
Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг. Он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и, чтоб выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель. Прощай, Полечка!
Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова.
Мезальянсова. Носик, ты скоро?
Победоносиков. Т-с-с-с!!!
Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит слово «Мандат». Общее остолбенение. Выскакивает Оптимистенко, на ходу подтягивает брюки, в ночных туфлях на босы ноги, вооружен.
Оптимистенко. Где? Кого?!
Фосфорическая женщина. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на двадцать четыре часа в сегодняшнее время. Срок короткий, задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь.
Оптимистенко (бросается к делегатке, всматривается в мандат, скороговоркой проборматывая текст). «Институт истории рождения коммунизма…» Так… «Даны полномочия…» Правильно… «Отобрать лучших…» Ясно… «для переброски в коммунистический век…» Что делается-то! Что делается, господи!.. (Бросается вверх по ступенькам.)
На пороге появляется раздраженный Победоносиков.
Оптимистенко. Товарищ Победоносиков, к вам делегат из центру.
Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно пробегает мандат, потом торопливо приглашает рукой в квартиру. К Оптимистенко шепотом, потом к Фосфорической женщине.
Победоносиков (к Оптимистенко). Накрути хвост вертушке. Справься там, знаешь у кого, возможная ли эта вещь, сообразно ли это с партэтикой и мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления. (К фосфорической женщине.) Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии и сейчас же за получением руководящих директив будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мещанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. (К Велосипедкину.) Пожалуйста! Я ж вам говорил – заходите прямо ко мне!
Победоносиков пропускает Фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид.
Победоносиков (к подбежавшему Оптимистенко). Ну, что, что?
Оптимистенко. Оне смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания.
Победоносиков. Ах, за границей! Значит, надо с ВОКСом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы не могут проявить. Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается. Подымайтеся вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.
V действие
Установка второго действия, только беспорядочная. Надпись: «Бюро по отбору и переброске в коммунистический век». Вдоль стены сидят Мезальянсова, Бельведонский, Иван Иванович, Кич, Победоносиков. Оптимистенко секретарствует на приеме. Победоносиков ходит недовольный, придерживая двумя руками два портфеля.
Оптимистенко. В чем дело, гражданин?
Победоносиков. Нет, так это продолжаться не может! Я об этом еще поговорю. Я и в стенную газету про это напишу. Обязательно напишу!!! С бюрократизмом и протекционизмом надо бороться. Я требую пропустить меня вне очереди!
Оптимистенко. Товарищ Победоносиков, да какой же может быть бюрократизм перед проверкой и перед отбором? Не треба вам ее беспокоить. Идите себе вне очереди. Вот очередь пройдет, и валяйте прямо сами по себе и без всякой очереди.
Победоносиков. Мне нужно сейчас!
Оптимистенко. Сейчас? Пожалуйста, сейчас! Только же ж у вас часы с ихними часами не согласованы. У нее же ж, товарищ, время другое, и как она мне скажет, вы сейчас же ж и пойдете…
Победоносиков. Так ведь мне ж надо в связи с переброской выяснить массу дел: и оклад, и квартиру, и прочее.
Оптимистенко. Тьфу! Да я же ж вам говорю, не суйтесь вы с мелочами в крупное госучреждение! Мы мелочами заниматься не можем. Государство крупными вещами интересуется: фордизмы разные, машины времени, то, сё…
Иван Иванович. Вы когда-нибудь бывали в очереди? Я первый раз бываю в очереди. Удивительно неинтересно!
Бывший кабинет Победоносикова полон. Приподнятость и боевой беспорядок первых октябрьских дней. Фосфорическая женщина говорит.
Фосфорическая женщина. Товарищи, сегодняшняя встреча – наспех. Со многими мы проведем года. Я расскажу вам еще много подробностей нашей радости. Едва разнеслась весть о вашем опыте, ученые установили дежурство. Они много помогли вам, учитывая и корректируя ваши неизбежные просчеты. Мы шли друг к другу, как две бригады, прорывающие тоннель, пока не встретились сегодня. Вы сами не видите всей грандиозности ваших дел. Нам виднее: мы знаем, что́ вошло в жизнь. Я с удивлением оглядывала квартирки, исчезнувшие у нас и тщательно реставрируемые музеями, и я смотрела гиганты стали и земли, благодарная память о которых, опыт которых и сейчас высятся у нас образцом коммунистической стройки и жизни. Я разглядывала незаметных вам засаленных юношей, имена которых горят на плитах аннулированного золота. Только сегодня из своего краткого облета я оглядела и поняла мощь вашей воли и грохот вашей бури, выросшей так быстро в счастье наше и в радость всей планеты. С каким восторгом смотрела я сегодня ожившие буквы легенд о вашей борьбе – борьбе против всего вооруженного мира паразитов и поработителей. За вашей работой вам некогда отойти и полюбоваться собой, но я рада сказать вам о вашем величии.
Чудаков. Товарищ, простите, я вас перебью. Но времени остается наших шесть часов, и мне нужны ваши последние указания. Сколько будет отправлено, год назначения, быстрота?
Фосфорическая женщина. Направление – бесконечность, скорость – секунда – год, место – 2030 год, сколько и кто – неизвестно. Известна только станция назначения. Здесь – ценность неясна. Будущему прошлое – ладонь. Примут тех, кто сохранится в ста годах. Приступайте, товарищ! Кто с вами?
Фоскин. Я!
Двойкин. Я!
Тройкин. Я!
Фосфорическая женщина. А кто из математиков – для чертежей и руководства?
Фоскин. Мы!
Двойкин. Мы!
Тройкин. Мы!
Фосфорическая женщина. Как? Вы и рабочие, вы и математики?
Велосипедкин. Очень просто! Мы и рабочие, мы и вузовцы.
Фосфорическая женщина. Для нас просто. Я не знала, прост ли для вас переход от конвейера к управлению, от рашпиля к арифмометру.
Двойкин. Не такие переходы делали, товарищ. Мы броненосцы делали, потом зажигалки, с зажигалками кончили – штыки начали, штыков наделали – на трактора перешли, да еще всякую учебу на вуз наматывали. И у нас многие не верили, только мы это неверие в рабочий класс ликвидировали. Когда вы наше время изучали, у вас небольшой просчетец вышел. Вы, кажется, про прошлый год думаете?
Фосфорическая женщина. Я вижу, с вашим подвижным курьерским мозгом встать бы прямо в наши ряды и в нашу работу.
Велосипедкин. Этого мы и боимся, товарищ. Машину мы пустим и, конечно, пойдем, если ячейка пошлет. Но, пожалуйста, лучше пока не берите нас никуда. У нас как раз наш цех на непрерывку переходит – очень важно и интересно знать, выполним ли мы пятилетку в четыре года.
Фосфорическая женщина. Обещаю одно. Остановимся на станции 1934 год для получения справок. Но если таких, как вы, много, то и справок не надо.
Чудаков. Идем, товарищи!
Стена канцелярии. Пробегают Чудаков, Велосипедкин, Двойкин, Тройкин, Фоскин, на ходу сверяя планы. Победоносиков семенит за Чудаковым. Чудаков отмахивается.
Победоносиков (возбужденно размахивая). Подумаешь, какой-то Чудаков пользуется тем, что изобрел какой-то аппаратишко времени и познакомился с этой бабой, ответ-женщиной, раньше. Я еще не уверен вообще, что здесь не просто бытовое разложение и вообще связи фридляндского порядка. Пол и характер! Да! Да! (К Оптимистенко.) Подчиненный товарищ Оптимистенко, вы же должны понять, что вопрос касается важнейшей вещи о поездке моей, ответственного работника, во главе целого учреждения в столетнюю служебную командировку.
Оптимистенко. Да не согласовано ваше путешествие!
Победоносиков. То есть как это не согласовано? Я уже с утра себе и литеры и мандаты выписал!
Оптимистенко. Ну, видите, а с НКПС не увязано.
Победоносиков. Но при чем же тут НКПС? Это же головотяпство! Это же ж не поезд. Тут в одну секунду сорок человек или восемь лошадей мчат вперед на целый год.
Оптимистенко. Отказать! Нежизненно! Кто же ж согласится ездить в командировку, когда ему за сто лет суточных треба, а ему секундочные выписывать будут?
Кабинет Победоносикова.
Фосфорическая женщина. Товарищи…
Поля. Прошу слова! Простите за навязчивость, я без всякой надежды, какая может быть надежда! Смешно! Я просто за справкой, что такое социализм. Мне про социализм товарищ Победоносиков много рассказывал, но всё это как-то не смешно.
Фосфорическая женщина. Вам недолго осталось ждать. Вы поедете вместе с мужем, с детьми.
Поля. С детьми? Смешно, у меня нет детей. Муж говорит, что в наше боевое время лучше не связываться с таким несознательным не то элементом, не то алиментом.
Фосфорическая женщина. Хорошо. Вас не связывают дети, но ведь вас связывает многое другое, раз вы живете с мужем.
Поля. Живу? Смешно! Я не живу с мужем. Он живет с другими, равными ему умом, развитостью. Не смешно!
Фосфорическая женщина. Почему же вы называете его мужем?
Поля. Чтобы все видели, что он против распущенности. Смешно!
Фосфорическая женщина. Понимаю. Значит, он просто заботится о вас, чтобы у вас всё было?
Поля. Да… он заботится, чтобы у меня ничего не было. Он говорит, что обрастание меня новым платьем компрометирует его в глазах товарищей. Смешно!
Фосфорическая женщина. Не смешно!
Стена канцелярии. Проходит Поля.
Победоносиков. Поля? Ты как здесь? Доносила? Жаловалась?!
Поля. Жаловалась? Смешно!
Победоносиков. Ты ей, главное, рассказала, как мы шли вместе, плечо к плечу, навстречу солнцу коммунизма? Как мы боролись со старым бытом? Женщины любят сентиментальность. Ей это понравилось? Да?
Поля. Вместе? Смешно!
Победоносиков. Ты смотри, Поля! Ты не должна запятнать мою честь как члена партии с выдающимся стажем. Ты должна помнить про партийную этику и не выносить сора из избы. Кстати, ты пошла бы в избу, то есть в квартирку, и убрала бы, вынесла сор и уложила вещи. Я еду. Я против совместительства и пока поеду один, а тебя выпишу, когда вообще буду выписывать родственников. Иди домой, Поля, а то…
Поля. Что «а то»? Не смешно!
Кабинет Победоносикова.
Фосфорическая женщина. Выбор на ваше учреждение пал случайно, как и изобретения кажутся случайными. Пожалуй, лучшие образцы людей в том учреждении, в котором работают Тройкины и Двойкины. Но у вас на каждой пяди стройка, хорошие экземпляры людей можно вывезти и отсюда.
Ундертон. Скажите, а мне можно с вами?
Фосфорическая женщина. Вы отсюда?
Ундертон. Пока ниоткуда.
Фосфорическая женщина. Как так?
Ундертон. Сократили.
Фосфорическая женщина. Что это значит?
Ундертон. Губы, говорят, красила.
Фосфорическая женщина. Кому?
Ундертон. Себе.
Фосфорическая женщина. Больше ничего не делали?
Ундертон. Перестукивала. Стенографировала.
Фосфорическая женщина. Хорошо?
Ундертон. Хорошо.
Фосфорическая женщина. Отчего ж ниоткуда?
Ундертон. Сократили.
Фосфорическая женщина. Почему?
Ундертон. Губы красила.
Фосфорическая женщина. Кому?
Ундертон. Да себе ж!
Фосфорическая женщина. Так какое ж им дело?
Ундертон. Сократили.
Фосфорическая женщина. Почему?
Ундертон. Губы, говорят, красила!
Фосфорическая женщина. Так зачем же вы красили?
Ундертон. Не покрасить, тогда и совсем не примут.
Фосфорическая женщина. Не понимаю. Если б вы еще кому-нибудь другому, скажем, приходящим за справками на работе красили б, ну, тогда б могли сказать – мешает, посетители обижаются. А так…
Ундертон. Товарищ, вы меня извините за губы. Что мне делать? В подполье я не была, а нос у меня в веснушках, на меня только и внимание обратят, что я губами бросаюсь. Если у вас и без этого на людей смотрят, вы скажите, только покажите вашу жизнь – хоть краешком! Конечно, там у вас все важные… с заслугами, там Победоносиковы разные. Я им на глаза попадаться не буду, но все-таки пустите… Если не подойду, я обратно вернусь… вышлете сейчас же. А в дороге я могу кой-чего поделать, впечатления будете диктовать или отчет в израсходовании – я настукаю.
Ночкин. А я подсчитаю. Я лучше у вас в МУУР заявлю, а то пока здесь суды разберутся…
Стена приемной.
Победоносиков. Запишите, занесите в протокол! В таком случае я должен заявить, что я снимаю с себя всякую ответственность, и если вследствие незнакомства с предшествующей перепиской, а также неудачного подбора личного состава произойдет катастрофа…
Оптимистенко. Ну, ето вы оставьте!.. Не угрожайте крупному государственному учреждению, нам нервничать и волноваться невдобно. А если произойдет катастрофа, мы тогда и доведем до сведения милиции на предмет составления протокола.
Проходит Ночкин, прячась за Ундертон.
Победоносиков (останавливая Ночкина и меряя Ундертон глазами). Как? Еще в учреждении?! Еще на свободе?!! Товарищ Оптимистенко! Почему не приняты меры? Но, впрочем, раз вы еще на свободе, вы не можете уклоняться от срочной работы. Надо сообразно с моими командировками выписать подъемные и суточные, исходя из нормального понятия о времени и среднего заработка за сто лет, ну и там командировочные и подотчетные… В случае порчи машины, может, где-нибудь придется простоять, на каком-нибудь глухом полугодии, лет двадцать, тридцать, надо всё это предусмотреть и принять во внимание. Нельзя так неорганизованно катиться…
Ночкин. А ты организованно катись колбасой!!! (Скрывается.)
Иван Иванович. Колбасой? Вы бывали на заседаниях? Я бывал на заседаниях. Везде бутерброды с сыром, с ветчиной, с колбасой – удивительно интересно!
Победоносиков (один, разваливается в кресле). Ну, хорошо, я уйду! При таком отношении я скажу, что я ухожу в отставку. Пускай потом изучают меня по воспоминаниям современников и портретам. Я ухожу, но вам же, товарищи, хуже!
Выходит фосфорическая женщина.
Оптимистенко. Прием закрыт! Придите завтра, в порядке живой очереди.
Фосфорическая женщина. Какой прием? Какое завтра? Какая очередь?!!
Оптимистенко (указывая на вывеску «Без доклада не входить»). Согласно с основными законами.
Фосфорическая женщина. А, вы эту глупость снять забыли?!
Победоносиков (вскакивая и идя рядом с фосфорической женщиной). Здравствуйте, здравствуйте, товарищ. Простите, что я опоздал, но эти дела… Я все-таки к вам заехал на минутку. Я отказывался. Но никто и слушать не хочет. Езжай, говорят, представительствуй. Ну, раз коллектив просит, – пришлось согласиться. Только имейте в виду, товарищ, я работник центрального значения, пускай другие колхозятся. Вы это учтите заранее и снеситесь. Товарищ Оптимистенко может дать молнией за наш счет. Вы, конечно, сами понимаете, что мне придется предоставить должность согласно стажу и общественному положению как крупнейшему работнику в своей области.
Фосфорическая женщина. Товарищ, я никого никуда не определяю, я явилась к вам только для убедительности. Не сомневаюсь, что с вами поступят так, как вы заслуживаете.
Победоносиков. Инкогнито? Понимаю! Но между нами, как облеченными обоюдным доверием, не может быть тайн. И я, как старший товарищ, должен вам заметить, что вас окружают люди не вполне стопроцентные. Велосипедкин курит. Чудаков – пьет, должно быть, пьет сообразно с фантазией. Должен сказать и про жену, не смею утаить от организации, – мещанка и привержена к новым связям и к новым юбкам, совокупно именуемым старым бытом.
Фосфорическая женщина. Ну, какое вам дело? Работают зато…
Победоносиков. Ну что ж, что зато? Я тоже за то, но я зато не пью, не курю, не даю «на чай», не загибаю влево, не опаздываю, не… (наклоняется к уху), не предаюсь излишествам, не покладаю рук…
Фосфорическая женщина. Это вы говорите про всё, чего вы «не, не, не»… Ну а есть что-нибудь, что вы «да, да, да»?
Победоносиков. Да, да, да? Ну, да! Директивы провожу, резолюции подшиваю, связь налаживаю, партвзносы плачу́, партмаксимум получаю, подписи ставлю, печать прикладываю… Ну, просто уголок социализма. У вас там, должно быть, циркуляция бумажек налажена, конвейер, а?
Фосфорическая женщина. Не знаю, про что вы говорите, но, конечно, бумага для газет подается в машину исправно.
Входит Понт Кич и Мезальянсова.
Понт Кич. Кхе, кхе!
Мезальянсова. Плиз, сэр.
Понт Кич. Асеев, бегемот, дай в долг, лик избит, и стоимость снизилась май пуд часейшен…
Мезальянсова. Мистер Понт Кич хочет сказать, что он может по сходной государственной цене скупить, ввиду полной ненадобности, все часы, и тогда он поверит в коммунизм.
Фосфорическая женщина. Понятно и без перевода. Сначала признайте – выгоды потом! Товарищи! Приходите вовремя, – ровно в двенадцать часов на станцию 2030 год отбывает первый поезд времени.
VI действие
Подвал Чудакова. С двух сторон невидимой машины возятся Чудаков и Фоскин, Велосипедкин и Двойкин. Фосфорическая женщина сверяет с планом невидимую машину. Тройкин хранит двери.
Фосфорическая женщина. Товарищ Фоскин! Щиты, ослабляющие ветер, ставьте ординарные. Пятилетка приучила к темпу и скорости. Переход почти не будет заметен.
Фоскин. Стекло сменю. Полмиллиметра. Небьющееся.
Фосфорическая женщина. Товарищ Двойкин! Проверьте рессоры. Смотрите, чтобы не трясло на ухабах праздников. Непрерывка избаловала плавным ходом.
Двойкин. Пройдем плавно, только б не валялись водочные бутылки на дороге.
Фосфорическая женщина. Товарищ Велосипедкин! Следите за манометром дисциплины. Отклонившихся срежет и снесет.
Велосипедкин. Ничего! Подтянем струною!
Фосфорическая женщина. Товарищ Чудаков, готово?
Чудаков. Отметим линию стояния, и можно пускать пассажиров.
Белая лента-рулон размотана между колесами невидимой машины.
Велосипедкин. Тройкин, пускай!
C четырех сторон с плакатами под «Марш времени» вливаются пассажиры.
Марш времени Взвивайся, песня, рей, моя, над маршем красных рот! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! Вперед, страна, скорей, моя, пускай старье сотрет! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! Шагай, страна, быстрей, моя, коммуна – у ворот! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! На пятилетке премией мы – сэкономим год! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! Наляг, страна, скорей, моя, на непрерывный ход! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! Сильней, коммуна, бей, моя, пусть вымрет быт-урод! Впе — ред, вре- мя! Вре — мя, вперед! Взвивайся, песня, рей, моя, над маршем красных рот! Впе — ред, вре – мя! Вре — мя, вперед!Оптимистенко (отделяясь от толпы, к Чудакову). Товарищ, я вас должен конфиденциально спросить – буфет будет? Так и знал! А почему не оповещено приказом? Забыли? Ну, ничего, питья хватит, с едой перебьемся. Заходите в наше купе. Которое местечко-то?
Чудаков. Становитесь рядом. Плечо к плечу. Об усталости не беспокойтесь. Только поворот вот этого колеса – и через секунду…
Победоносиков (входит в сопровождении Мезальянсовой). Звонка еще не было? Можно давать. Сразу второй! (К Двойкину.) Товарищ, ты партийный? Да? Не в службу, а в дружбу, – помоги там с вещами. Документы важные, о-о-о!!! Нельзя доверять разным беспартийным носильщикам, носящим только за деньги, а тебе, как выдвиженцу, пожалуйста, – неси! Доверяю!.. Кто здесь завглавнач посадки? Где мое купе? Мое место, конечно, нижнее…
Фосфорическая женщина. Машина времени еще не вполне оборудована. Вам, как пионерам этого вида транспорта, придется стоять со всеми.
Победоносиков. При чем тут пионеры? Пионерский слет закончен, и попрошу никогда больше не надоедать мне с пионерами. Эта кампания проведена! Я просто не поеду! Черт знает что такое! Надо, наконец, научиться беречь старого гвардейца, а то я уйду из гвардии. Наконец я требую компенсации за неиспользованный отпуск! Одним словом, где вещи?
Двойкин толкает вагонетку с перевязанными кипами бумаг, шляпными картонками, портфелями, охотничьими ружьями и шкафом-сундуком Мезальянсовой. С четырех углов вагонетки четыре сеттера. За вагонеткой Бельведонский с чемоданом, ящиком, кистями, портретом.
Фосфорическая женщина. Товарищ, это что за громадный универмаг?
Оптимистенко. Да нет же ж. Это малюсенькое обрастание.
Фосфорическая женщина. Ну, зачем вам? Хоть часть оставьте!
Оптимистенко. Конечно, товарищ, почтой дошлете.
Победоносиков. Попрошу без замечаний! Развесьте себе стенную газету и замечайте там. Я должен представить циркуляры, литеры, копии, тезисы, перекопии, поправки, выписки, справки, карточки, резолюции, отчеты, протоколы и прочие оправдательные документы при хотя бы вещественных собаках. Я мог спросить дополнительный вагон-бис, но я не спрашиваю сообразно со скромностью в личной жизни. Не теряйте политику дальнего прицела. Вам это тоже очень и очень пригодится. Получив штаты, я переведу канцелярию в общемировой масштаб. Расширив штаты, я переведу масштаб в междупланетный. Надеюсь, вы не хотите обесканцелярить и дезорганизовать планету?
Оптимистенко (фосфорической женщине). Не возражайте, гражданка. Жалко же ж планету.
Фосфорическая женщина. Только возитесь быстрее!
Победоносиков. Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать – это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронаиглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светложелтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков.
Оптимистенко бросается, навстречу Поля с портфелем.
Поля. Пожалуйста, не шипи! Я прибирала дома, как ты велел, – сейчас вернусь, доприбираюсь. Вижу – забыл. Думаю – важное! Смешно! Прибежала – пожалуйста! (Передает портфель.)
Победоносиков. Принимаю портфель и принимаю к сведению. Надо напоминать раньше! В следующий раз я буду рассматривать это как прорыв и ослабление супружеской дисциплины. Провожатые, выйдите! Прощай, Поля! Когда я устроюсь, я тебе буду присылать треть чего-нибудь в согласии с практикой суда и вплоть до изменения устаревшего законодательства.
Понт Кич (входя и останавливаясь). Кхе, кхе!
Мезальянсова. Плиз, сэр!
Понт Кич. Вор нагл драл с лип жасмин дай нам плюньте биллетер…
Мезальянсова. Мистер Кич хочет сказать и говорит, что он без билета, потому что не знал, какой нужен – партийный или железнодорожный, но что он согласен врастать в любой социализм, только чтоб это ему было доходно…
Оптимистенко. Плиз, плиз, сэр. Доро́гой договоримся.
Иван Иванович. Привет! Наше вам и вашим и нашим достижениям. Еще одно последнее усилие – и всё будет изжито. Вы видали социализм? Я сейчас увижу социализм – удивительно интересно.
Победоносиков. Итак, товарищи… Почему и на чем мы остановились?
Ундертон. Мы остановились на «Итак, товарищи…».
Победоносиков. Да! Прошу слово! Беру слово! Итак, товарищи, мы переживаем то время, когда в моем аппарате изобретен аппарат времени. Этот аппарат освобожденного времени изобретен именно в моем аппарате, потому что у меня в аппарате было сколько угодно свободного времени. Настоящий текущий момент характеризуется тем, что он момент стоячий. А так как в стоячем моменте неизвестно, где заключается начало и где наступает конец, то я сначала скажу заключительное слово, а потом вступительное. Аппарат прекрасный, аппарату рад – рад и я и мой аппарат. Мы рады потому, что, раз мы едем раз в год в отпуск и не пустим вперед год, мы можем быть в отпуску каждый год два года. И наоборот, теперь мы получаем жалованье один день в месяц, но раз мы можем пропустить весь месяц в один день, то мы можем получать жалованье каждый день весь месяц. Итак, товарищи…
Голоса
– Долой!
– Довольно!!
– Валяй без молебнов!!!
– Чудаков, выключи ему время!
Чудаков подкручивает Победоносикова. Победоносиков продолжает жестикулировать, но уже совсем не слышен.
Оптимистенко. В свою очередь беру слово от лица всех и скажу вам прямо в лицо, невзирая на лица, что нам всё равно, какое лицо стои́т во главе учреждения, потому что мы уважаем только то лицо, которое поставлено и стои́т. Но скажу нелицеприятно, что каждому лицу приятно, что это опять ваше приятное лицо. Поэтому от лица всех подношу вам эти часы, так как эти идущие часы будут к лицу именно вам, как лицу, стоящему во главе…
Голоса
– Долой!!!
– Посолите ему язык!!
– Закрути ему кран, Чудаков!
Чудаков выключает Оптимистенко. Оптимистенко тоже жестикулирует, но и его не слышно.
Фосфорическая женщина. Товарищи! По первому сигналу мы мчим вперед, перервав одряхлевшее время. Будущее примет всех, у кого найдется хотя бы одна черта, роднящая с коллективом коммуны, – радость работать, жажда жертвовать, неутомимость изобретать, выгода отдавать гордость человечностью. Удесятерим и продолжим пятилетние шаги. Держитесь массой, крепче, ближе друг к другу. Летящее время сметет и срежет балласт, отягченный хламом, балласт опустошенных неверием.
Победоносиков. Отойди, Поля!
Ночкин (вбегает, преследуемый). Мне бы только добежать до социализма, уж там разберут.
Милиционер (догоняет, свистя). Держи!!!
Вскакивают в машину.
Фосфорическая женщина. Раз, два, три!
Бенгальский взрыв. «Марш времени». Темнота. На сцене Победоносиков, Оптимистенко, Бельведонский, Мезальянсова, Понт Кич, Иван Иванович, скинутые и раскиданные чертовым колесом времени.
Оптимистенко. Слезай, приехали!
Победоносиков. Поля, Полечка! Пощупай меня, осмотри меня со всех сторон. Кажется, меня переехало временем. Полина!.. Увезли?! Задержать, догнать и перегнать! Который час? (Смотрит на дареные часы.)
Оптимистенко. Отдавайте, отдавайте часы, гражданин! Бытовая взятка нам не к лицу как таковая, коль скоро я один от лица всех месячное жалованье в эти часы вложил. Мы найдем себе другое лицо, чтобы подносить часы и уважать.
Иван Иванович. Лес рубят – щепки летят. Маленькие… большие недостатки механизма. Надо пойти привлечь советскую общественность. Удивительно интересно!
Победоносиков. Художник, лови момент, изобрази живого человека в смертельном оскорблении!
Бельведонский. Не-е-ет! Ракурс у вас какой-то стал неудачный. На модель надо смотреть, как утка на балкон. У меня только снизу вверх получается вполне художественно.
Победоносиков (Мезальянсовой). Хорошо, хорошо, пускай попробуют, поплавают без вождя и без ветрил! Удаляюсь в личную жизнь писать воспоминания. Пойдем, я с тобой, твой Носик!
Мезальянсова. Я уже с носиком, и даже с носом, и даже с очень большим. Ни социализма не смогли устроить, ни женщину. Ах вы, импо… зантная фигурочка, нечего сказать! Гуд бай, адье, ауфвидерзейн, прощайте!!! Плиз, май Кичик, май Пончик! (Уходит с Понтом Кичем.)
Победоносиков. И она, и вы, и автор – что вы этим хотели сказать, – что я и вроде не нужны для коммунизма?!?
Конец
[1929–1930]
Клоп Феерическая комедия. Девять картин
Работают
Присыпкин – Пьер Скрипкин – бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених.
Зоя Березкина – работница.
Эльзевира Давидовна – невеста, маникюрша, кассирша парикмахерской
Розалия Павловна – мать-парикмахерша Ренесанс.
Давид Осипович – отец-парикмахер Ренесанс.
Олег Баян – самородок, из домовладельцев.
Милиционер.
Профессор.
Директор зоосада.
Брандмейстер.
Пожарные.
Ша́фер.
Репортер.
Рабочие аудитории.
Председатель горсовета.
Оратор.
Вузовцы.
Распорядитель празднества.
Президиум горсовета, охотники, дети, старики.
I
Центр – вертящаяся дверища универмага, бока остекленные, затоваренные витрины. Входят пустые, выходят с пакетами. По всему театру расхаживают частники-лотошники.
Пуговичный разносчик
Из-за пуговицы не стоит жениться, из-за пуговицы не стоит разводиться! Нажатие большого и указательного пальца, и брюки с граждан никогда не свалятся.
Голландские,
механические,
самопришивающиеся пуговицы,
6 штук 20 копеек…
Пожалте, мусью!
Разносчик кукол
Танцующие люди
из балетных студий.
Лучшая игрушка
в саду и дома,
танцует по указанию
самого наркома!
Разносчица яблок
Ананасов! нету…
Бананов! нету…
Антоновские яблочки 4 штуки 15 копеек.
Прикажите, гражданочка!
Разносчик точильных камней
Германский небьющийся точильный брусок,
30 копеек любой кусок.
Точит в любом направлении и вкусе
бритвы, ножи и языки для дискуссий!
Пожалте, граждане!
Разносчик абажуров
Абажуры любой расцветки и масти.
Голубые для уюта, красные для сладострастий.
Устраивайтесь, товарищи!
Продавец шаров
Шары-колбаски.
Летай без опаски.
Такой бы шар генералу Нобиле, —
они бы на полюсе дольше по́были.
Берите, граждане…
Разносчик селедок
А вот лучшие республиканские селедки,
незаменимы к блинам и водке!
Разносчица галантереи
Бюстга́льтеры на меху,
бюстга́льтеры на меху!
Продавец клея
У нас и за границей, а также повсюду
граждане выбрасывают битую посуду.
Знаменитый Экцельзиор, клей-порошок,
клеит и Венеру и ночной горшок.
Угодно, сударыня?
Разносчица духов
Духи Ко́ти на золотники!
Духи Ко́ти на золотники!
Продавец книг
Что делает жена, когда мужа нету дома, 105 веселых анекдотов бывшего графа Льва Николаевича Толстого вместо рубля двадцати – пятнадцать копеек.
Разносчица галантереи
Бюстгальтеры на меху,
бюстгальтеры на меху!
Входят Присыпкин, Розалия Павловна, Баян.
Разносчица
Бюстгальтеры…
Присыпкин
(восторженно)
Какие аристократические чепчики!
Розалия Павловна
Какие же это чепчики, это же…
Присыпкин
Что ж я без глаз, что ли? А ежели у нас двойня родится? Это вот на Дороти, а это на Лилиан… Я их уже решил назвать аристократическо-кинематографически… так и будут гулять вместе. Во! Дом у меня должен быть полной чашей. Захватите, Розалия Павловна!
Баян (подхихикивая)
Захватите, захватите, Розалия Павловна! Разве у них пошлость в голове? Оне молодой класс, оне всё по-своему понимают. Оне к вам древнее, незапятнанное пролетарское происхождение и профсоюзный билет в дом вносят, а вы рубли жалеете! Дом у них должен быть полной чашей.
Розалия Павловна, вздохнув, покупает.
Баян
Я донесу… они легонькие… не извольте беспокоиться… за те же деньги…
Разносчик игрушек
Танцующие люди из балетных студий…
Присыпкин
Мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Во! Захватите, Розалия Павловна!
Розалия Павловна
Товарищ Присыпкин…
Присыпкин
Не называйте меня товарищем, гражданка, вы еще с пролетариатом не породнились.
Розалия Павловна
Будущий товарищ, гражданин Присыпкин, ведь за эти деньги пятнадцать человек бороды побреют, не считая мелочей – усов и прочего. Лучше пива к свадьбе лишнюю дюжину. А?
Присыпкин (строго)
Розалия Павловна! У меня дом…
Баян
У него дом должен быть полной чашей. И танцы и пиво у него должны бить фонтаном, как из рога изобилия.
Розалия Павловна покупает.
Баян (схватывая сверточки)
Не извольте беспокоиться, за те же деньги.
Разносчик пуговиц
Из-за пуговицы не стоит жениться!
Из-за пуговицы не стоит разводиться!
Присыпкин
В нашей красной семье не должно быть никакого мещанского быта и брючных неприятностей. Во! Захватите, Розалия Павловна!
Баян
Пока у вас нет профсоюзного билета, не раздражайте его, Розалия Павловна. Он – победивший класс, и он сметает всё на своем пути, как лава, и брюки у товарища Скрипкина должны быть полной чашей.
Розалия Павловна покупает со вздохом.
Баян
Извольте, я донесу за те же самые…
Продавец сельдей
Лучшие республиканские селедки!
Незаменимы при всякой водке!
Розалия Павловна (отстраняя всех, громко и повеселевши)
Селедка – это – да! Это вы будете иметь для свадьбы вещь. Это я да́ захвачу! Пройдите, мосье мужчины! Сколько стоит эта килька?
Разносчик
Эта лососина стоит 2.60 кило.
Розалия Павловна
2.60 за этого шпрота-переростка?
Продавец
Что вы, мадам, всего 2.60 за этого кандидата в осетрины!
Розалия Павловна
2.60 за эти маринованные корсетные кости? Вы слышали, товарищ Скрипкин? Так вы были правы, когда вы убили царя и прогнали господина Рябушинского! Ой, эти бандиты! Я найду мои гражданские права и мои селедки в государственной советской общественной кооперации!
Баян
Подождем здесь, товарищ Скрипкин. Зачем вам сливаться с этой мелкобуржуазной стихией и покупать сельдей в таком дискуссионном порядке? За ваши 15 рублей и бутылку водки я вам организую свадьбочку на-ять.
Присыпкин
Товарищ Баян, я против этого мещанского быту – канареек и прочего… Я человек с крупными запросами… Я – зеркальным шкафом интересуюсь…
Зоя Березкина почти натыкается на говорящих, удивленно отступает, прислушиваясь.
Баян
Когда ваш свадебный кортэж…
Присыпкин
Что вы болтаете? Какой картёж?
Баян
Кортэж, я говорю. Так, товарищ Скрипкин, называется на красивых иностранных языках всякая, и особенно такая, свадебная торжественная поездка.
Присыпкин
А! Ну-ну-ну!
Баян
Так вот, когда кортэж подъедет, я вам спою эпиталаму Гименея.
Присыпкин
Чего ты болтаешь? Какие еще такие Гималаи?
Баян
Не Гималаи, а эпиталаму о боге Гименее. Это такой бог любви был у греков, да не у этих желтых, озверевших соглашателей Венизелосов, а у древних, республиканских.
Присыпкин
Товарищ Баян, я за свои деньги требую, чтобы была красная свадьба и никаких богов! Поня́л?
Баян
Да что вы, товарищ Скрипкин, не то что понял, а силой, согласно Плеханову, дозволенного марксистам воображения я как бы сквозь призму вижу ваше классовое, возвышенное, изящное и упоительное торжество!.. Невеста вылазит из кареты – красная невеста… вся красная, – упарилась, значит; ее выводит красный посаженный отец, бухгалтер Ерыкалов, – он как раз мужчина тучный, красный, апоплексический, – вводят это вас красные шафера, весь стол в красной ветчине и бутылки с красными головками.
Присыпкин (сочувственно)
Во! Во!
Баян
Красные гости кричат «горько, горько», и тут красная (уже супруга) протягивает вам красные-красные губки…
Зоя (растерянно хватает за рукава обоих. Оба снимают ее руки, сбивая щелчком пыль)
Ваня! Про что он? Чего болтает эта каракатица в галстуке? Какая свадьба? Чья свадьба?
Баян
Красное трудовое бракосочетание Эльзевиры Давидовны Ренесанс и…
Присыпкин
Я, Зоя Ванна, я люблю другую.
Она изячней и стройней,
и стягивает грудь тугую
жакет изысканный у ней.
Зоя
Ваня! А я? Что ж это значит: поматросил и бросил?
Присыпкин (вытягивая отстраняющую руку)
Мы разошлись, как в море
корабли…
Розалия Павловна (вырывается из магазина, неся сельди над головой)
Киты! Дельфины! (Торговцу сельдями.) А ну, покажи, а ну, сравни твою улитку! (Сравнивает; сельдь лотошника больше; всплескивает руками.) На хвост больше?! За что боролись, а, гражданин Скрипкин? За что мы убили государя императора и прогнали господина Рябушинского, а? В могилу меня вкопает советская ваша власть… На хвост, на целый хвост больше!..
Баян
Уважаемая Розалия Павловна, сравните с другого конца, – она ж и больше только на головку, а зачем вам головка, – она ж несъедобная, отрезать и выбросить.
Розалия Павловна
Вы слышали, что он сказал? Головку отрезать. Это вам головку отрезать, гражданин Баян, ничего не убавится и ничего не сто́ит, а ей отрезать головку стоит десять копеек на киле́. Ну! Домой! Мне очень нужен профессиональный союзный билет в доме, но дочка на доходном предприятии – это тоже вам не бык на палочке.
Зоя
Жить хотели, работать хотели… Значит, всё…
Присыпкин
Гражданка! Наша любовь ликвидирована. Не мешайте свободному гражданскому чувству, а то я милицию позову.
Зоя, плачущая, вцепилась в рукав. Присыпкин вырывается. Розалия Павловна становится между ним и Зоей, роняя покупки.
Розалия Павловна
Чего надо этой лахудре? Чего вы цепляетесь за моего зятя?
Зоя
Он мой!
Розалия Павловна
А!.. Она-таки с дитём! Я ей заплачу́ алименты, но я ей разобью морду!
Милиционер
Гражда́не, прекратите эту безобразную сцену!
II
Молодняцкое общежитие. Изобретатель сопит и чертит. Парень валяется; на краю кровати девушка. Очкастый ушел головой в книгу. Когда раскрываются двери, виден коридор с дверями и лампочки.
Босой парень (орет)
Где сапоги? Опять сапоги сперли. Что ж мне их на ночь в камеру хранения ручного и ножного багажа на Курский вокзал относить, что ли?
Уборщик
Это в них Присыпкин к своей верблюди́хе на свидание затопал. Надевал – ругался. В последний раз, говорит. А вечером, говорит, явлюсь в обновленном виде, более соответствующем моему новому социальному положению.
Босой
Сволочь!
Молодой рабочий (убирает)
И сор-то после него стал какой-то благородный, деликатный. Раньше што? Бутыль с-под пива да хвост воблы, а теперь баночки Тэжэ да ленточки разрадуженные.
Девушка
Брось трепаться, парень галстук купил, так его уже Макдональдом ругаете.
Парень
Макдональд и есть! Не в галстуке дело, а в том, что не галстук к нему, а он к галстуку привязан. Даже не думает – головой пошевелить боится.
Уборщик
Лаком дырки покрывает; заторопился, дыру на чулке видать, так он ногу на ходу чернильным карандашом подмазывал.
Парень
Она у него и без карандаша черная.
Изобретатель
Может быть, не на том месте черная. Надо бы ему носки переодеть.
Уборщик
Сразу нашелся – изобретатель. Патент заявляй. Смотри, чтоб идею не сперли. (Рванул тряпкой по столику, скидывает коробку, – разваливаются веером карточки. Нагибается собрать, подносит к свету, заливается хохотом, еле созывая рукой товарищей.)
Все (перечитывают, повторяют)
Пьер Скрипкин. Пьер Скрипкин!
Изобретатель
Это он себе фамилию изобрел. Присыпкин. Ну, что это такое Присыпкин? На что Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? А Пьер Скрипкин – это уже не фамилия, а романс!
Девушка (мечтательно)
А ведь верно: Пьер Скрипкин – это очень изящно и замечательно. Вы тут гогочете, а он, может, культурную революцию на дому проделывает.
Парень
Мордой он уже и Пушкина превзошел. Висят баки, как хвост у собаки, даже не моет – растрепать боится.
Девушка
У Гарри Пиля тоже эта культура по всей щеке пущена.
Изобретатель
Это его учитель по волосатой части развивает.
Парень
И на чем только у этого учителя волоса держатся: головы никакой, а курчавости сколько угодно. От сырости, что ли, такие заводятся?
Парень с книгой
Н-е-ет. Он – писатель. Чего писал – не знаю, а только знаю, что знаменитый! «Вечорка» про него три раза писала: стихи, говорит, Апухтина за свои продал, а тот как обиделся, опровержение написал. Дураки, говорит, вы, неверно всё, – это я у Надсона списал. Кто из них прав – не знаю. Печатать его больше не печатают, а знаменитый он теперь очень – молодежь обучает. Кого стихам, кого пению, кого танцам, кого так… деньги занимать.
Парень с метлой
Не рабочее это дело – мозоль лаком нагонять.
Слесарь, засаленный, входит посредине фразы, моет руки, оборачивается.
Слесарь
До рабочего у него никакого касательства, расчет сегодня брал, женится на девице, парикмахеровой дочке – она же кассирша, она же маникюрша. Когти ему теперь стричь будет мадмуазель Эльзевира Ренесанс.
Изобретатель
Эльзевир – шрифт такой есть.
Слесарь
Насчет шрифто́в не знаю, а корпус у нее – это верно. Карточку бухгалтеру для скорости расчетов показывал.
Ну и милка, ну и чудо, —
одни груди по два пуда.
Босой
Устроился!
Девушка
Ага! Завидки берут?
Босой
А что ж, я тоже, когда техноруком стану да ежедневные сапоги заведу, я тоже себе лучшую квартиренку пообнюхаю.
Слесарь
Я тебе вот что советую: ты занавесочки себе заведи. Раскрыл занавесочку – на улицу посмотрел. Закрыл занавесочку – взятку тяпнул. Это только работать одному скучно, а курицу есть одному веселее. Правильно? Из окопов такие тоже устраиваться бегали, только мы их шлепали. Ну что ж – пошел!
Босой
И пойду и пойду. А ты что из себя Карла Либкнехта корчишь? Тебя из окна с цветочками помани, тоже небось припустишься… Герой!
Слесарь
Никуда не уйду. Ты думаешь, мне эта рвань и вонь нравится? Нет. Нас, видите ли, много. На всех на нас нэповских дочек не наготовишься. Настроим домов и двинем сразу… Сразу все. Но мы из этой окопной дыры с белыми флагами не вылезем.
Босой
Зарядил – окопы. Теперь не девятнадцатый год. Людя́м для себя жить хочется.
Слесарь
А что – не окопы?
Босой
Врешь!
Слесарь
Вшей сколько хошь.
Босой
Врешь!
Слесарь
А стреляют бесшумным порохом.
Босой
Врешь!
Слесарь
Вот уже Присыпкина из глазной двухстволки подстрелили.
Входит Присыпкин в лакированных туфлях, в вытянутой руке несет за шнурки стоптанные башмаки, кидает Босому. Баян с покупками. Заслоняет от Скрипкина откалывающего слесаря.
Баян
Вы, товарищ Скрипкин, внимания на эти грубые танцы не обращайте, оне вам нарождающийся тонкий вкус испортят.
Ребята общежития отворачиваются.
Слесарь
Брось кланяться! Набалдашник расколотишь.
Баян
Я понимаю вас, товарищ Скрипкин: трудно, невозможно, при вашей нежной душе, в ихнем грубом обществе. Еще один урок оставьте ваше терпение не лопнутым. Ответственнейший шаг в жизни – первый фокстрот после бракосочетания. На всю жизнь должен впечатление оставить. Ну-с, пройдитесь с воображаемой дамой. Чего вы стучите, как на первомайском параде?
Присыпкин
Товарищ Баян, башмаки сниму: во‑первых, жмут, во‑вторых, стаптываются.
Баян
Вот, вот! Так, так, тихим шагом, как будто в лунную ночь в мечтах и меланхолии из пивной возвращаетесь. Так, так! Да не шевелите вы нижним бюстом, вы же не вагонетку, а мадмуазель везете. Так, так! Где рука? Низко рука!
Присыпкин (скользит на воображаемом плече)
Не держится она у меня на воздухе.
Баян
А вы, товарищ Присыпкин, легкой разведкой лифчик обнаружьте и, как будто для отдохновения, большим пальчиком упритесь, и даме сочувствие приятно, и вам облегчение – о другой руке подумать можете. Чего плечьми затрясли? Это уже не фокстрот, это вы уже шиммское «па» продемонстрировать изволили.
Присыпкин
Нет. Это я так… на ходу почесался.
Баян
Да разве ж так можно, товарищ Присыпкин! Если с вами в вашем танцевальном вдохновении такой казус случится, вы закати́те глаза, как будто даму ревнуете, отступите по-испански к стене, быстро потритесь о какую-нибудь скульптуру (в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, так этих скульптур и ваз разных всегда до черта наворочено). Потритесь, передернитесь, сверкните глазами и скажите: «Я вас поня́л, коварррная, вы мной играете… но…» и опять пусти́тесь в танец, как бы постепенно охлаждаясь и успокаиваясь.
Присыпкин
Вот так?
Баян
Браво! Хорошо! Талант у вас, товарищ Присыпкин! Вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране – вам развернуться негде. Разве наш Средний Козий переулок для вас достойное поприще? Вам мировая революция нужна, вам выход в Европу требуется, вам только Чемберленов и Пуанкаро́в сломить, и вы Мулен Ружи и Пантеоны красотой телодвижений восхищать будете. Так и запомните, так и замрите! Превосходно! А я пошел. За этими шаферами нужен глаз да глаз, до свадьбы задатком стакан и ни росинки больше, а работу выполнят, тогда хоть из горлышка. Оревуар. (Уходит, крича из дверей.) Не надевайте двух галстуков одновременно, особенно разноцветных, и зарубите на носу: нельзя на выпуск носить крахмальную рубаху!
Присыпкин меряет обновки.
Парень
Ванька, брось ты эту бузу, чего это тебя так расчучелило?
Присыпкин
Не ваше собачье дело, уважаемый товарищ! За што я боролся? Я за хорошую жизнь боролся. Вон она у меня под руками: и жена, и дом, и настоящее обхождение. Я свой долг, на случай надобности, всегда исполнить сумею. Кто воевал, имеет право у тихой речки отдохнуть. Во! Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю. Во!
Слесарь
Боец! Суворов! Правильно!
Шел я верхом, шел я низом,
строил мост в социализм,
не достроил и устал
и уселся у моста́.
Травка выросла у мо́ста.
По мосту́ идут овечки.
Мы желаем очень просто
отдохнуть у этой речки…
Так, что ли?
Присыпкин
Да ну тебя! Отстань ты от меня с твоими грубыми агитками… Во! (Садится на кровать, напевает под гитару.)
На Луначарской улице
я помню старый дом –
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном.
Выстрел. Бросаются к двери.
Парень (из двери)
Зоя Березкина застрелилась!
Все бросаются к двери.
Парень
Эх, и покроют ее теперь в ячейке!
Голоса
Скорее… Скорее… Скорую… Скорую…
Голос
Скорая! Скорей! Что? Застрелилась! Грудь. Навылет. Средний Козий, 16.
Присыпкин один, спешно собирает вещи.
Слесарь
Из-за тебя, мразь волосатая, и такая баба убилась! Вон! (Берет. Присыпкина за пиджак, вышвыривает в дверь и следом выбрасывает вещи.)
Уборщик (бегущий с врачом, придерживает и приподымает Присыпкина, подавая ему вылетевшую шляпу)
И с треском же ты, парень, от класса отрываешься!
Присыпкин (отворачиваясь, орет)
Извозчик, улица Луначарского, 17! С вещами!
III
Большая парикмахерская комната. Бока в зеркалах. Перед зеркалами бумажные цветища. На бритвенных столиках бутылки. Слева авансцены рояль с разинутой пастью, справа печь, заворачивающая трубы по всей комнате. Посредине комнаты круглый свадебный стол. За столом: Пьер Скрипкин, Эльзевира Ренесанс, двое шаферов и шафериц, мамаша и папаша Ренесанс. Посаженный отец – бухгалтер и такая же мать. Олег Баян распоряжается в центре стола, спиной к залу.
Эльзевира
Начнем, Скрипочка?
Скрипкин
Обождать.
Пауза.
Эльзевира
Скрипочка, начнем?
Скрипкин
Обождать. Я желаю жениться в организованном порядке и в присутствии почетных гостей и особенно в присутствии особы секретаря завкома, уважаемого товарища Лассальченко… Во!
Гость (вбегая)
Уважаемые новобрачные, простите великодушно за опоздание, но я уполномочен передать вам брачные пожелания нашего уважаемого вождя, товарища Лассальченко. Завтра, говорит, хоть в церковь, а сегодня, говорит, прийти не могу. Сегодня, говорит, партдень, и хочешь не хочешь, а в ячейку, говорит, поттить надо. Перейдем, так сказать, к очередным делам.
Присыпкин
Объявляю свадьбу открытой.
Розалия Павловна
Товарищи и мусье, кушайте, пожалуйста. Где вы теперь найдете таких свиней? Я купила этот окорок три года назад на случай войны или с Грецией или с Польшей. Но… войны еще нет, а ветчина уже портится. Кушайте, мусье.
Все (подымают стаканы и рюмки)
Горько! Горько!..
Эльзевира и Пьер целуются.
Горько! Г о-о-о-рь-к-о-о!
Эльзевира повисает на Пьере. Пьер целует степенно и с чувством классового достоинства.
Посаженный отец – бухгалтер
Бетхове́на!.. Шакеспеара!.. Просим изобразить кой-чего. Не зря мы ваши юбилеи ежедневно празднуем!
Тащат рояль.
Голоса
Под крылышко, под крылышко ее берите! Ух и зубов, зубов-то! Вдарить бы!
Присыпкин
Не оттопчите ножки моей рояли.
Баян (встает, покачивается и расплескивает рюмку)
Я счастлив, я счастлив видеть изящное завершение на данном отрезке времени полного борьбы пути товарища Скрипкина. Правда, он потерял на этом пути один частный партийный билет, но зато приобрел много билетов государственного займа. Нам удалось согласовать и увязать их классовые и прочие противоречия, в чем нельзя не видеть вооруженному марксистским взглядом, так сказать, как в капле воды, будущее счастье человечества, именуемое в простонародье социализмом.
Все
Горько! Горько!
Эльзевира и Скрипкин целуются.
Баян
Какими капитальными шагами мы идем вперед по пути нашего семейного строительства! Разве когда мы с вами умирали под Перекопом, а многие даже умерли, разве мы могли предположить, что эти розы будут цвести и благоухать нам уже на данном отрезке времени? Разве когда мы стонали под игом самодержавия, разве хотя бы наши великие учителя Маркс и Энгельс могли бы предположительно мечтать или даже мечтательно предположить, что мы будем сочетать узами Гименея безвестный, но великий труд с поверженным, но очаровательным капиталом?
Все
Горько!.. Горько!..
Баян
Уважаемые граждане! Красота – это двигатель прогресса! Что бы я был в качестве простого трудящегося? Бочкин и – больше ничего! Что я мог в качестве Бочкина? Мычать! И больше ничего! А в качестве Баяна – сколько угодно! Например:
Олег Баян
от счастья пьян.
И вот я теперь Олег Баян, и я пользуюсь, как равноправный член общества, всеми блага́ми культуры и могу выражаться, то есть нет – выражаться я не могу, но могу разговаривать, хотя бы как древние греки: «Эльзевира Скрипкина, передайте рыбки нам». И мне может вся страна отвечать, как какие-нибудь трубадуры:
Для промывки вашей глотки,
за изящество и негу
хвост сельдя и рюмку водки
преподносим мы Олегу.
Все
Браво! Ура! Горько!
Баян
Красота – это мать…
Шафер (мрачно и вскакивая)
Мать! Кто сказал «мать»? Прошу не выражаться при новобрачных.
Шафера оттаскивают.
Все
Бетхове́на! Камаринского!
Тащат Баяна к роялю.
Баян
Съезжалися к загсу трамваи –
там красная свадьба была…
Все (подпевают)
Жених был во всей прозодежде,
из блузы торчал профбилет!
Бухгалтер
Поня́л! Все поня́л! Это значит:
Будь здоров, Олег Баянчик,
кучерявенький баранчик…
Парикмахер (с вилкой лезет к посаженной маме)
Нет, мадам, настоящих кучерявых теперь, после революции, нет. Шиньон гоффре делается так… Берутся щипцы (вертит вилкой), нагреваются на слабом огне а ля этуаль (тычет вилку в пламя печи), и взбивается на макушке эдакое волосяное суффле.
Посаженная
Вы оскорбляете мое достоинство как матери и как девушки… Пустите… Сукин сын!!!
Шафер
Кто сказал «сукин сын»? Прошу не выражаться при новобрачных!
Бухгалтер разнимает, подпевая, пытаясь крутнуть ручку кассового счетчика, с которым он вертится, как с шарманкой.
Эльзевира (к Баяну)
Ах! Сыграйте, ах! Вальс «Тоска Макарова по Вере Холодной». Ах, это так шарман, ах, это просто петит истуар…
Шафер (вооруженный гитарой)
Кто сказал «писуар»? Прошу при новобрачных…
Баян разнимает и набрасывается на клавиши.
Шафер (приглядываясь, угрожающе)
Ты что же это на одной черной кости играешь? Для пролетариата, значит, на половине, а для буржуазии на всех?
Баян
Что вы, что вы, гражданин? Я на белых костях в особенности стараюсь.
Шафер
Значит, опять выходит, что белая кость лучше? Играй на всех!..
Баян
Да я на всех!
Шафер
Значит, с белыми вместе, соглашатель?
Баян
Товарищ… Так это же… цедура.
Шафер
Кто сказал «дура»? При новобрачных. Во!!! (Грохает гитарой по затылку.)
Парикмахер нацепливает на вилку волосы посаженной матери. Присыпкин оттесняет бухгалтера от жены.
Присыпкин
Вы что же моей жене селедку в грудь тычете? Это же ж вам не клумба, а грудь, и это же вам не хризантема, а селедка!
Бухгалтер
А вы нас лососиной угощали? Угощали? Да? А сами орете – да?
В драке опрокидывают газовую невесту на печь, печь опрокидывается, – пламя, дым.
Крики
Горим!!! Кто сказал «горим»?.. Пожар! Лососину… Съезжались из загса трамваи…
IV
В чернейшей ночи поблескивает от недалекого пламени каска пожарного. Начальник один. Подходят и уходят докладывающие пожарные.
1-й пожарный
Не совладать, товарищ начальник! Два часа никто не вызывал… Пьяные стервы!! Горит, как пороховой склад. (Уходит.)
Начальник
Чего ж ему не гореть? Паутина да спирт.
2-й пожарный
Затухает, вода на лету сосулится. Погреб водой залили глаже, чем каток. (Уходит.)
Начальник
Тела́ нашли?
3-й пожарный
Одного погрузили, вся коробка испорчена. Должно быть, балкой поломана. Прямо в морг. (Уходит.)
4-й пожарный
Погрузили… одно обгоревшее тело неизвестного пола с вилкой в голове.
1-й пожарный
Под печкой обнаружена бывшая женщина с проволочным венчиком на затылочных костях.
3-й пожарный
Обнаружен неизвестный довоенного телосложения с кассой в руках – очевидно, при жизни бандит.
2-й пожарный
Среди живых нет никого… Среди трупов недосчитывается один, так что согласно ненахождения полагаю – сгорел по мелочам.
1-й пожарный
Ну и иллюминация! Прямо театр, только все действующие лица сгорели.
3-й пожарный
Везла их со свадьбы карета,
карета под красным крестом.
Горнист скликает пожарных. Строятся. Маршируют через театр, выкрикивая.
Пожарные
Товарищи и граждане, водка – яд.
Пьяные республику за зря спалят!
Живя с каминами, живя с примуса́ми,
сожжете дом и сгорите сами!
Случайный сон – причина пожаров, —
на сон не читайте Надсо́на и Жарова!
V
Огромный до потолка зал заседаний, вздымающийся амфитеатром. Вместо людских голосов – радиораструбы, рядом несколько висящих рук по образцу высовывающихся из автомобилей. Над каждым раструбом цветные электрические лампы, под самым потолком экран. Посредине трибуна с микрофоном. По бокам трибуны распределители и регуляторы голосов и света. Два механика – старик и молодой – возятся в темной аудитории.
Старый (сдувая разлохмаченной щеткой из перьев пыль с раструбов)
Сегодня важное голосование. Смажь маслом и проверь голосовательный аппарат земледельческих районов. Последний раз была заминка. Голосовали со скрипом.
Молодой
Земледельческие? Хорошо! Центральные смажу. Протру замшей горло смоленским аппаратам. На прошлой неделе опять похрипывали. Надо подвинтить руки служебным штатам столиц, а то у них какой-то уклончик: правая за левую цепляется.
Старый
Уральские заводы готовы. Металлургические курские включим, там провели новый аппарат на шестьдесят две тысячи голосов второй группы электростанции Запорожья. С ними ничего, работа легка.
Молодой
А ты еще помнишь, как раньше было? Смешно, должно быть?
Старый
Меня раз мамка на руках на заседание носила. Народу совсем мало – человек тысячу скопилось, сидят, как дармоеды, и слушают. Вопрос был какой-то важный и громкий, одним голосом прошел. Мать была против, а проголосовать не могла, потому что меня на руках держала.
Молодой
Ну конечно! Кустарничество!
Старый
Раньше такой аппарат и не годился бы. Бывало, человеку первому руку поднять надо, чтоб его заметили, так он ее под нос председателю тычет, к самой ноздре подносит обе, жалеет только, что не древняя богиня Изида, а то б в двенадцать рук голосовал. А многие спасались. Про одного рассказывали, что он какую-то важную дискуссию всю в уборной просидел – голосовать боялся. Сидел и задумывался, шкуру, значит, служебную берёг.
Молодой
Уберег?
Старый
Уберег!.. Только по другой специальности назначили. Видят любовь к уборным, так его там главным назначили при мыле и полотенцах. Готово?
Молодой
Готово!
Сбегают вниз к распределительным доскам и проводам. Человек в очках и бородке, распахнув дверь, прямым шагом входит на эстраду, спиной к аудитории, поднимает руки.
Оратор
Включить одновременно все районы федерации!
Старший и младший
Есть!
Одновременно загораются все красные, зеленые и синие лампочки аудитории.
Оратор
Алло! Алло! Говорит председатель института человеческих воскрешений. Вопрос опубликован телеграммами, обсужден, прост и ясен. На перекрестке 62-й улицы и 17-го проспекта бывшего Тамбова прорывающая фундамент бригада на глубине семи метров обнаружила засыпанный землей обледеневший погреб. Сквозь лед феномена просвечивает замороженная человеческая фигура. Институт считает возможным воскрешение индивидуума, замерзшего пятьдесят лет назад.
Урегулируем разницу мнений.
Институт считает, что каждая жизнь рабочего должна быть использована до последней секунды.
Просвечивание показало на руках существа мозоли, бывшие полстолетия назад признаком трудящегося. Напоминаем, что после войн, пронесшихся над миром, гражданских войн, создавших федерацию земли, декретом от 7 ноября 1965 года жизнь человека неприкосновенна. Довожу до вашего сведения возражения эпидемической секции, боящейся угрозы распространения бактерий, наполнявших бывшие существа бывшей России. С полным сознанием ответственности приступаю к решению. Товарищи, помните, помните и еще раз помните:
Мы голосуем человеческую жизнь!
Лампы тушатся, пронзительный звонок, на экране загорается резолюция, повторяемая оратором.
«Во имя исследования трудовых навыков рабочего человечества, во имя наглядного сравнительного изучения быта требуем воскрешения».
Голоса половины раструбов: «Правильно, принять!», часть голосов: «Долой!» Голоса смолкают мгновенно. Экран тухнет. Второй звонок, загорается новая резолюция. Оратор повторяет.
«Резолюция санитарно-контрольных пунктов металлургических и химических предприятий Донбасса. Во избежание опасности распространения бактерий подхалимства и чванства, характерных для двадцать девятого года, требуем оставить экспонат в замороженном виде».
Голоса раструбов: «Долой!» Одинокие выкрики: «Правильно!»
Есть ли еще резолюции и дополнения?
Загорается третий экран, оратор повторяет.
«Земледельческие районы Сибири просят воскрешать осенью, по окончании полевых работ, для облегчения возможности присутствия широких масс желающих».
Подавляющее количество голосов-труб: «Долой!», «Отклонить!» Лампы загораются.
Ставлю на голосование: кто за первую резолюцию, прошу поднять руки!
Подымается подавляющее большинство железных рук.
Опустить! Кто за поправку Сибири?
Подымаются две редких руки. Собрание федерации приняло: «Вос-кре-сить!» Рев всех раструбов: «Ура!!!» Голоса молкнут.
Заседание закрыто!
Из двух распахнувшихся дверей врываются репортеры. Оратор прорывается, бросая радостно во все стороны.
Воскресить! Воскресить!! Воскресить!!!
Репортеры вытаскивают из карманов микрофоны, на ходу крича:
1-й репортер
Алло!!! Волна 472 ½ метра… «Чукотские известия»… Воскресить!
2-й репортер
Алло! Алло!!! Волна 376 метров… «Витебская вечерняя правда»… Воскресить!
3-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 211 метров… «Варшавская комсомольская правда»… Воскресить!
4-й репортер
«Армавирский литературный понедельник». Алло! Алло!!!
5-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 44 метра. «Известия чикагского совета»… Воскресить!
6-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 115 метров… «Римская красная газета»… Воскресить!
7-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 78 метров… «Шанхайская беднота»… Воскресить!
8-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 220 метров… «Мадридская батрачка»… Воскресить!
9-й репортер
Алло! Алло! Алло! Волна 11 метров… «Кабульский пионер»… Воскресить!
Газетчики врываются с готовыми оттисками.
1-й газетчик
Разморозить или не разморозить?
Передовицы в стихах и в прозе!
2-й газетчик
Всемирная анкета по важнейшей теме –
о возможности заноса подхалимских эпидемий!
3-й газетчик
Статьи про древние гитары и романсы
и прочие способы одурачивания массы!
4-й газетчик
Последние новости!!! Интервью! Интервью!
5-й газетчик
Научный вестник, пожалуйста, не пугайтесь!
Полный перечень так называемых ругательств!
6-й газетчик
Последнее радио!
7-й газетчик
Теоретическая постановка
исторического вопроса:
может ли слона убить папироса!
8-й газетчик
Грустно до слез, смешно до колик:
объяснение слова «алкоголик»!
VI
Матовая стеклянная двухстворчатая дверь, сквозь стены просвечивают металлические части медицинских приборов. Перед стеной старый профессор и пожилая ассистентка, еще сохранившая характерные черты Зои Березкиной. Оба в белом, больничном.
Зоя Березкина
Товарищ! Товарищ профессор, прошу вас, не делайте этого эксперимента. Товарищ профессор, опять пойдет буза…
Профессор
Товарищ Березкина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое «буза»? (Ищет в словаре.) Буза… Буза… Буза… Бюрократизм, богоискательство, бублики, богема, Булгаков… Буза – это род деятельности людей, которые мешали всякому роду деятельности…
Зоя Березкина
Эта его «деятельность» пятьдесят лет назад чуть не стоила мне жизни. Я даже дошла до… попытки самоубийства.
Профессор
Самоубийство? Что такое «самоубийство»? (Ищет в словаре.) Самообложение, самодержавие, самореклама, самоуплотнение… Нашел «самоубийство». (Удивленно.) Вы стреляли в себя? Приговор? Суд? Ревтрибунал?
Зоя Березкина
Нет… Я сама.
Профессор
Сама? От неосторожности?
Зоя Березкина
Нет… От любви.
Профессор
Чушь… От любви надо мосты строить и детей рожать… А вы… Да! Да! Да!
Зоя Березкина
Освободите меня, я, право, не могу.
Профессор
Это и есть… Как вы сказали… Буза. Да! Да! Да! Да! Буза! Общество предлагает вам выявить все имеющиеся у вас чувства для максимальной легкости преодоления размораживаемым субъектом пятидесяти анабиозных лет. Да! Да! Да! Да! Ваше присутствие очень, очень важно. Я рад, что вы нашлись и пришли. Он – это он! А вы – это она! Скажите, а ресницы у него были мягкие? На случай поломки при быстром размораживании.
Зоя Березкина
Товарищ профессор, как же я могу упомнить ресницы, бывшие пятьдесят лет назад…
Профессор
Как? Пятьдесят лет назад? Это вчера!.. А как я помню цвет волос на хвосте мастодонта полмиллиона лет назад? Да! Да! Да!.. А вы не помните, – он сильно раздувал ноздри при вдыхании в возбужденном обществе?
Зоя Березкина
Товарищ профессор, как же я могу помнить?! Уже тридцать лет никто не раздувает ноздрей в подобных случаях.
Профессор
Так! Так! Так! А вы не осведомлены относительно объема желудка и печени, на случай выделения возможного содержания спирта и водки, могущих воспламениться при необходимом высоком вольтаже?
Зоя Березкина
Откуда я могу запомнить, товарищ профессор! Помню, был какой-то живот…
Профессор
Ах, вы ничего не помните, товарищ Березкина! По крайней мере был ли он порывист?
Зоя Березкина
Не знаю… Возможно, но… только не со мной.
Профессор
Так! Так! Так! Я боюсь, что мы отмораживаем его, а отмерзли пока что вы. Да! Да! Да!.. Ну-с, приступаем.
Нажимает кнопку, стеклянная стена тихо расходится. Посредине, на операционном столе, блестящий оцинкованный ящик человечьих размеров. У ящика краны, под кранами ведра. К ящику электропроводки. Цилиндры кислорода. Вокруг ящика шесть врачей, белых и спокойных. Перед ящиком на авансцене шесть фонтанных умывальников. На невидимой проволоке, как на воздухе, шесть полотенец.
Профессор (переходя от врача к врачу, говорит) (Первому.)
Ток включить по моему сигналу.
(Второму.)
Доведите теплоту до 36,4 – пятнадцать секунд каждая десятая.
(Третьему.)
Подушки кислорода наготове?
(Четвертому.)
Воду выпускать постепенно, заменяя лед воздушным давлением.
(Пятому.)
Крышку открыть сразу.
(Шестому.)
Наблюдать в зеркало стадии оживления.
Врачи наклоняют головы в знак ясности и расходятся по своим местам.
Начинаем!
Включается ток, вглядываются в температуру. Каплет вода. У маленькой правой стенки с зеркалом впившийся доктор.
6-й врач
Появляется естественная окраска!
Пауза.
Освобожден ото льда!
Пауза.
Грудь вибрирует!
Пауза.
(Испуганно.)
Профессор, обратите внимание на неестественную порывистость…
Профессор (подходит, вглядывается, успокоительно)
Движения нормальные, чешется, – очевидно, оживают присущие подобным индивидуумам паразиты.
6-й врач
Профессор, непонятная вещь: движением левой руки отделяется от тела…
Профессор (вглядывается)
Он сросся с музыкой, они называли это «чуткой душой». В древности жили Страдивариус и Уткин. Страдивариус делал скрипки, а это делал Уткин, и называлось это гитарой.
Профессор оглядывает термометр и аппарат, регистрирующий давление крови.
1-й врач
36,1.
2-й врач
Пульс 68.
6-й врач
Дыхание выравнено.
Профессор
По местам!
Врачи отходят от ящика. Крышка мгновенно откинулась, из ящика подымается взъерошенный и удивленный Присыпкин, озирается, прижав гитару.
Присыпкин
Ну и выспался! Простите, товарищи, конечно, выпимши был! Это какое отделение милиции?
Профессор
Нет, это совсем другое отделение! Это – отделение ото льда кожных покровов, которые вы отморозили…
Присыпкин
Чего? Это вы чевой-то отморозили. Еще посмотрим, кто из нас были пьяные. Вы, как спецы-доктора, всегда сами около спиртов третесь. А я себя, как личность, всегда удостоверить сумею. Документы при мне. (Выскакивает, выворачивает карманы.) 17 руб. 60 коп. при мне. В МОПР? Уплатил. В Осоавиахим? Внес. «Долой неграмотность»? Пожалуйста. Это что? Выписка из загса! (Свистнул.) Да я же вчера женился! Где вы теперь, кто вам целует пальцы? Ну и всыплют мне дома! Расписка шаферов здесь. Профсоюзный билет здесь. (Взгляд падает на календарь, трет глаза, озирается в ужасе.) 12 мая 1979 года! Это ж за сколько у меня в профсоюз не плочено! Пятьдесят лет! Справок-то, справок спросют! Губотдел! ЦК! Господи! Жена!!! Пустите! (Обжимает окружающим руки, бросается в дверь.)
За ним беспокоящаяся Березкина. Доктора́ окружают профессора. Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.
Хором
Это что он такое руками делал? Совал и тряс, тряс и совал…
Профессор
В древности был такой антисанитарный обычай.
Шесть врачей и профессор вдумчиво моют руки.
Присыпкин (натыкаясь на Зою)
Какие вы, граждане, собственно, есть? Кто я? Где я? Не матушка ли вы Зои Березкиной будете?
Рев сирены обернул присыпкинскую голову.
Куда я попал? Куда меня попали? Что это?.. Москва?.. Париж?? Нью-Йорк?!. Извозчик!!!
Рев автомобильных сирен.
Ни людей, ни лошадей! Автодоры, автодоры, автодоры!!! (Прижимается к двери, почесывается спиной, ищет пятерней, оборачивается, видит на белой стене переползающего с воротничка клопа.)
Клоп, клопик, клопуля!!! (Перебирает гитару, поет.) Не уходи, побудь со мною… (Ловит клопа пятерней; клоп уполз.) Мы разошлись, как в море корабли… Уполз!.. Один! Но нет ответа мне, снова один я… Один!!! Извозчик, автодоры… Улица Луначарского, 17! Без вещей!!! (Хватается за голову, падает в обморок на руки выбежавшей из двери Березкиной.)
VII
Середина сцены – треугольник сквера. В сквере три искусственных дерева. Первое дерево: на зеленых квадратах-листьях – огромные тарелки, на тарелках мандарины. Второе дерево – бумажные тарелки, на тарелках яблоки. Третье – зеленое, с елочными шишками, – открытые флаконы духов. Бока – стеклянные и облицованные стены домов. По сторонам треугольника – длинные скамейки. Входит репортер, за ним четверо: мужчины и женщины.
Репортер
Товарищи, сюда, сюда! В тень! Я вам расскажу по порядку все эти мрачные и удивительные происшествия. Во-первых… Передайте мне мандарины. Это правильно делает городское самоуправление, что сегодня деревья мандаринятся, а то вчера были одни груши – и не сочно, и не вкусно, и не питательно…
Девушка снимает с дерева тарелку с мандаринами, сидящие чистят, едят, с любопытством наклоняясь к репортеру.
1-й мужчина
Ну, скорей, товарищ, рассказывайте всё подробно и по порядку.
Репортер
Так вот… Какие сочные ломтики! Не хотите ли?.. Ну хорошо, хорошо, рассказываю. Подумаешь, нетерпение! Конечно, мне, как президенту репортажа, известно всё… Так вот, видите, видите?..
Быстрой походкой проходит человек с докторским ящиком с термометрами.
Это – ветеринар. Эпидемия распространяется. Будучи оставлено одно, это воскрешенное млекопитающее вступило в общение со всеми домашними животными небоскреба, и теперь все собаки взбесились. Оно выучило их стоять на задних лапах. Собаки не лают и не играют, а только служат. Животные пристают ко всем обедающим, подласкиваются и подлизываются. Врачи говорят, что люди, покусанные подобными животными, приобретут все первичные признаки эпидемического подхалимства.
Сидящие
О-о-о!!!
Репортер
Смотрите, смотрите!
Проходит шатающийся человек, нагруженный корзинками с бутылками пива.
Проходящий (напевает)
В девятнадцатом веке
чу́дно жили человеки –
пили водку, пили пиво,
сизый нос висел, как слива!
Репортер
Смотрите, конченный, больной человек! Это один из ста семидесяти пяти рабочих второй медицинской лаборатории. В целях облегчения переходного существования врачами было предписано поить воскресшее млекопитающее смесью, отравляющей в огромных дозах и отвратительной в малых, так называемым пивом. У них от ядовитых испарений закружилась голова, и они по ошибке глотнули этой прохладительной смеси. И с тех пор сменяют уже третью партию рабочих. Пятьсот двадцать рабочих лежат в больницах, но страшная эпидемия трехгорной чумы пенится, бурлит и подкашивает ноги.
Сидящие
А-а-а-а!!!
Мужчина (мечтательно и томительно)
Я б себя принес в жертву науке, – пусть привьют и мне эту загадочную болезнь!
Репортер
Готов! И этот готов! Тихо… Не спугните эту лунатичку…
Проходит девушка, ноги заплетаются в «па» фокстрота и чарльстона, бормочет стихи по книжице в двух пальцах вытянутой руки. В двух пальцах другой руки воображаемая роза, подносит к ноздрям и вдыхает.
Несчастная, она живет рядом с ним, с этим бешеным млекопитающим, и вот ночью, когда город спит, через стенку стали доноситься к ней гитарные рокотанья, потом протяжные душу раздирающие придыхания и всхлипы нараспев, как это у них называется? «Романсы», что ли? Дальше – больше, и несчастная девушка стала сходить с ума. Убитые горем родители собирают консилиумы. Профессора говорят, что это приступы острой «влюбленности», – так называлась древняя болезнь, когда человечья половая энергия, разумно распределяемая на всю жизнь, вдруг скоротечно конденсируется в неделю в одном воспалительном процессе, ведя к безрассудным и невероятным поступкам.
Девушка (закрывает глаза руками)
Я лучше не буду смотреть, я чувствую, как по воздуху разносятся эти ужасные влюбленные микробы.
Репортер
Готова, и эта готова… Эпидемия океанится…
30 герлс проходят в танце.
Смотрите на эту тридцатиголовую шестидесятиножку! Подумать только – и это вздымание ног они (к аудитории) обзывали искусством!
Фокстротирующая пара.
Эпидемия дошла… дошла… до чего дошла? (Смотрит в словарь.) До а-по-гея, ну… это уже двуполое четвероногое.
Вбегает директор зоологического сада с небольшим стеклянным ларчиком в руках. За директором толпа, вооруженная зрительными трубами, фотоаппаратами и пожарными лестницами.
Директор (ко всем)
Видали? Видали? Где он? Ах, вы ничего не видали!! Отряд охотников донес, что его видели здесь четверть часа тому назад: он перебирался на четвертый этаж. Считая среднюю его скорость в час полтора метра, он не мог уйти далеко. Товарищи, немедленно обследуйте стены!
Наблюдатели развинчивают трубы, со скамеек вскакивают, вглядываются, заслоняя глаза. Директор распределяет группы, руководит поисками.
Голоса
Разве его найдешь!.. Нужно голого человека на матраце в каждом окне выставить – он на человека бежит…
Не орите, спугнете!!!
Если я найду, я никому не отдам…
Не смеешь: он коммунальное достояние…
Восторженный голос
Нашел!!! Есть! Ползет!..
Бинокли и трубы уставлены в одну точку. Молчание, прерываемое щелканием фото- и киноаппаратов.
Профессор (придушенным шепотом)
Да… Это он! Поставьте засады и охрану. Пожарные, сюда!!!
Люди с сетками окружают место. Пожарные развинчивают лестницу, люди карабкаются гуськом.
Директор (опуская трубу, плачущим голосом)
Ушел… На соседнюю стену ушел… SOS! Сорвется – убьется! Смельчаки, добровольцы, герои!!! Сюда!!!
Развинчивают лестницу перед второй стеной, вскарабкиваются. Зрители замирают.
Восторженный голос сверху
Поймал! Ура!!!
Директор
Скорей!!! Осторожней!!! Не упустите, не помни́те животному лапки…
По лестнице из рук в руки передают зверя, наконец очутившегося в директорских руках. Директор запрятывает зверя в ларец и подымает ларец над головой.
Спасибо вам, незаметные труженики науки! Наш зоологический сад осчастливлен, ошедеврен… Мы поймали редчайший экземпляр вымершего и популярнейшего в начале столетия насекомого. Наш город может гордиться – к нам будут стекаться ученые и туристы… Здесь, в моих руках, единственный живой «клопус нормалис». Отойдите, граждане: животное уснуло, животное скрестило лапки, животное хочет отдохнуть! Я приглашаю вас всех на торжественное открытие в зоопарк. Важнейший, тревожнейший акт поимки завершен!
VIII
Гладкие опаловые, полупрозрачные стены комнаты. Сверху из-за карниза ровная полоса голубоватого света. Слева большое окно. Перед окном рабочий чертежный стол. Радио. Экран. Три-четыре книги. Справа выдвинутая из стены кровать, на кровати, под чистейшим одеялом, грязнейший Присыпкин. Вентиляторы. Вокруг Присыпкина угол обгрязнен. На столе окурки, опрокинутые бутылки. На лампе обрывок розовой бумаги. Присыпкин стонет. Врач нервно шагает по комнате.
Профессор (входит)
Как дела больного?
Врач
Больного – не знаю, а мои отвратительны! Если вы не устроите смену каждые полчаса, – он перезаразит всех. Как дыхнет, так у меня ноги подкашиваются! Я уж семь вентиляторов поставил: дыхание разгонять.
Присыпкин
О-о-о!
Профессор бросается к Присыпкину.
Присыпкин
Профессор, о профессор!!!
Профессор тянет носом и отшатывается в головокружении, ловя воздух руками.
Присыпкин
Опохмелиться…
Профессор наливает пива на донышко стакана, подает.
Присыпкин (приподнимается на локтях. Укоризненно)
Воскресили… и издеваются! Что это мне – как слону лимонад!..
Профессор
Общество надеется развить тебя до человеческой степени.
Присыпкин
Черт с вами и с вашим обществом! Я вас не просил меня воскрешать. Заморозьте меня обратно! Во!!!
Профессор
Не понимаю, о чем ты говоришь! Наша жизнь принадлежит коллективу, и ни я, ни кто другой не могут эту жизнь…
Присыпкин
Да какая же это жизнь, когда даже карточку любимой девушки нельзя к стенке прикнопить? Все кнопки об проклятое стекло обламываются… Товарищ профессор, дайте опохмелиться.
Профессор (наливает стакан)
Только не дышите в мою сторону.
Зоя Березкина входит с двумя стопками книг. Врачи переговариваются с ней шепотом, выходят.
Зоя Березкина (садится около Присыпкина, распаковывает книги)
Не знаю, пригодится ли это. Про что ты говорил, этого нет, и никто про это не знает. Есть про розы только в учебниках садоводства, есть грезы только в медицине, в отделе сновидений. Вот две интереснейшие книги приблизительно того времени. Перевод с английского: Хувер – «Как я был президентом».
Присыпкин (берет книгу, отбрасывает)
Нет, это не для сердца, надо такую, чтоб замирало…
Зоя Березкина
Вот вторая – какого-то Муссолини: «Письма из ссылки».
Присыпкин (берет, откидывает)
Нет, это ж не для души. Отстаньте вы с вашими грубыми агитками. Надо, чтоб щипало…
Зоя Березкина
Не знаю, что это такое? Замирало, щипало… щипало, замирало…
Присыпкин
Что ж это? За что мы старались, кровь проливали, когда мне, гегемону, значит, в своем обществе в новоизученном танце и растанцеваться нельзя?
Зоя Березкина
Я показывала ваше телодвижение даже директору центрального института движений. Он говорит, что видал такое на старых коллекциях парижских открыток, а теперь, говорит, про такое и спросить не у кого. Есть пара старух – помнят, а показать не могут по причинам ревматическим.
Присыпкин
Так для чего ж я себе преемственное изящное образование вырабатывал? Работать же я ж и до революции мог.
Зоя Березкина
Я возьму тебя завтра на танец десяти тысяч рабочих и работниц, будут двигаться по площади. Это будет веселая репетиция новой системы полевых работ.
Присыпкин
Товарищи, я протестую!!! Я ж не для того размерз, чтобы вы меня теперь засушили. (Срывает одеяло, вскакивает, схватывает свернутую кипу книг и вытряхивает ее из бумаги. Хочет изодрать бумагу и вдруг вглядывается в буквы, перебегая от лампы к лампе.) Где? Где вы это, взяли?..
Зоя Березкина
На улицах всем раздавали… Должно быть, в библиотеке в книги вложили.
Присыпкин
Спасен!!! Ура!!! (Бросается к двери, как флагом развевая бумажкой.)
Зоя Березкина (одна)
Я прожила пятьдесят лет вперед, а могла умереть пятьдесят лет назад из-за такой мрази.
IX
Зоологический сад. Посредине на пьедестале клетка, задрапированная материями и флагами. Позади клетки два дерева. За деревьями клетки слонов и жирафов. Слева клетки трибуна, справа возвышение для почетных гостей. Кругом музыканты. Группами подходят зрители. Распорядители с бантами расставляют подошедших – по занятиям и росту.
Распорядитель
Товарищи иностранные корреспонденты, сюда! Ближе к трибунам! Посторонитесь и дайте место бразильцам! Их аэрокорабль сейчас приземляется на центральном аэродроме. (Отходит, любуется.)
Товарищи негры, стойте вперемежку с англичанами красивыми цветными группами, англосаксонская белизна еще больше оттенит вашу оливковость… Учащиеся вузов, – налево, к вам направлены три старухи и три старика из союза столетних. Они будут дополнять объяснения профессоров рассказами очевидцев.
Въезжают в колясках старики и старухи.
1-я старуха
Как сейчас помню…
1-й старик
Нет – это я помню, как сейчас!
2-я старуха
Вы помните, как сейчас, а я помню, как раньше.
2-й старик
А я как сейчас помню, как раньше.
3-я старуха
А я помню, как еще раньше, совсем, совсем рано.
3-й старик
А я помню и как сейчас и как раньше.
Распорядитель
Тихо, очевидцы, не шепелявьте! Расступитесь, товарищи, дорогу детям! Сюда, товарищи! Скорее! Скорее!!
Дети (маршируют колонной с песней)
Мы здо́рово учимся
на бывшее «ять»!
Зато мы и лучше всех
умеем гулять.
Иксы и игреки
давно сданы.
Идем туда, где тигрики
и где слоны!
Сюда, где звери многие,
и мы с людьём
в сад зоологии
идем! идем!! идем!!!
Распорядитель
Граждане, желающие доставлять экспонатам удовольствия, а также использовать их в научных целях, благоволят приобретать дозированные экзотические продукты и научные приборы только у официальных служителей зоосада. Дилетантство и гипербола в дозах – смертельны. Просим пользоваться только этими продуктами и приборами, выпущенными центральным медицинским институтом и городскими лабораториями точной механики.
По саду и театру идут служители зоосада.
1-й служитель
В кулак бактерии рассматривать глупо!
Товарищи, берите микроскопы и лупы!
2-й служитель
Иметь советует доктор Тоболкин
на случай оплевания раствор карболки.
3-й служитель
Кормление экспонатов – незабываемая картина!
Берите дозы алкоголя и никотина!
4-й служитель
Пои́те алкоголем, и животные обеспечены
подагрой, идиотизмом и расширением печени.
5-й служитель
Гвоздика огня и дымная роза
гарантируют 100 процентов склероза.
6-й служитель
Держите уши в полном вооружении.
Наушники задерживают грубые выражения.
Распорядитель (расчищает проход к трибуне горсовета)
Товарищ председатель и его ближайшие сотрудники оставили важнейшую работу и под древний государственный марш прибыли на наше торжество. Приветствуем дорогих товарищей!
Все аплодируют, проходит группа с портфелями, степенно раскланиваясь и напевая.
Все
Службы бремя
не сморщило нас.
Делу – время,
потехе – час!
Привет вам от города,
храбрые ловцы!
Мы вами го́рды,
мы – города отцы!!!
Председатель (входит на трибуну, взмахивает флагом, всё затихает)
Товарищи, объявляю торжество открытым. Наши года чреваты глубокими потрясениями и переживаниями внутреннего порядка. Внешние события редки. Человечество, истомленное предыдущими событиями, даже радо этому относительному покою. Однако мы никогда не отказываемся от зрелища, которое, будучи феерическим по внешности, таит под радужным оперением глубокий научный смысл. Прискорбные случаи в нашем городе, явившиеся результатом неосмотрительного допущения к пребыванию в нем двух паразитов, случаи эти моими силами и силами мировой медицины изжиты. Однако эти случаи, теплящиеся слабым напоминанием прошлого, подчеркивают ужас поверженного времени и мощь и трудность культурной борьбы рабочего человечества.
Да закалятся ду́ши и сердца́ нашей молодежи на этих зловещих примерах!
Не могу не отметить благодарностью и предоставляю слово прославленному нашему директору, разгадавшему смысл странных явлений и сделавшему из пагубных явлений научное и веселое препровождение времени.
Ура!!!
Все кричат «ура», музыка играет туш, на трибуну влазит раскланивающийся директор зоологического сада.
Директор
Товарищи! Я обрадован и смущен вашим вниманием. Учитывая и свое участие, я не могу всё же не принести благодарности преданным труженикам союза охотников, являющимся непосредственными героями поимки, а также уважаемому профессору института воскрешений, поборовшему замораживающую смерть. Хотя я и не могу не указать, что первая ошибка уважаемого профессора была косвенной причиной известных бедствий. По внешним мимикрийным признакам – мозолям, одежде и прочему – уважаемый профессор ошибочно отнес размороженное млекопитающее к «гомо сапиенс» и к его высшему виду – к классу рабочих. Не приписываю успех исключительно своему долгому обращению с животными и проникновению в их психологию. Мне помог случай. Неясная, подсознательная надежда твердила: «Напиши, дай, разгласи объявления». И я дал:
«Исходя из принципов зоосада, ищу живое человечье тело для постоянных обкусываний и для содержания и развития свежеприобретенного насекомого в привычных ему, нормальных условиях».
Голос из толпы
Ах, кой южас!
Директор
Я понимаю, что ужас, я сам не верил собственному абсурду, и вдруг… существо является! Его внешность почти человеческая… Ну, вот как мы с вами…
Председатель совета (звонит в звонок)
Товарищ директор, я призываю вас к порядку!
Директор
Простите, простите! Я, конечно, сейчас же путем опроса и сравнительной зверологии убедился, что мы имеем дело со страшным человекообразным симулянтом и что это самый поразительный паразит. Не буду вдаваться в подробности, тем более, что они вам сейчас откроются в этой в полном смысле поразительной клетке.
Их двое – разных размеров, но одинаковых по существу: это знаменитые «клопус нормалис» и… и «обывателиус вульгарис. Оба водятся в затхлых матрацах времени.
«Клопус нормалис», разжирев и упившись на теле одного человека, падает по́д кровать.
«Обывателиус вульгарис», разжирев и упившись на теле всего человечества, падает на́ кровать. Вся разница!
Когда трудящееся человечество революции обчесывалось и корчилось, соскребая с себя грязь, они свивали себе в этой самой грязи гнезда и домики, били жен и клялись Бебелем, и отдыхали и благодушествовали в шатрах собственных галифе. Но «обывателиус вульгарис» страшнее. С его чудовищной мимикрией он завлекает обкусываемых, прикидываясь то сверчком-стихоплетом, то романсоголосой птицей. В те времена даже одежда была у них мимикрирующая – птичье обличье – крылатка и хвостатый фрак с белой-белой крахмальной грудкой. Такие птицы свивали гнезда в ложах театров, громоздились на дубах опер, под Интернационал в балетах чесали ногу об ногу, свисали с веточек строк, стригли Толстого под Маркса, голосили и зазывали в возмутительных количествах и… простите за выражение, но мы на научном докладе… гадили в количествах, не могущих быть рассматриваемыми, как мелкая птичья неприятность.
Товарищи! Впрочем… убеждайтесь сами!
Делает знак, служители обнажают клетку; на пьедестале клопий ларец, за ним возвышение с двуспальной кроватью. На кровати Присыпкин с гитарой. Сверху клетки свешивается желтая абажурная лампа. Над головой Присыпкина сияющий венчик – веер открыток. Бутылки стоят и валяются на полу. Клетка окружена плевательными урнами. На стенах клетки – надписи, с боков фильтры и озонаторы. Надписи:
1. «Осторожно – плюется!» 2. «Без доклада не входить!» 3. «Берегите уши – оно выражается!»
Музыка сыграла туш; освещение бенгальское; отхлынувшая толпа приближается, онемев от восторга.
Присыпкин
На Луначарской улице
я помню старый дом –
с широкой темной лестницей,
с завешенным окном!..
Директор
Товарищи, подходите, не бойтесь, оно совсем смирное. Подходите, подходите! Не беспокойтесь: четыре фильтра по бокам задерживают выражения на внутренней стороне клетки, и наружу поступают немногочисленные, но вполне достойные слова. Фильтры прочищаются ежедневно специальными служителями в противогазах. Смотрите, оно сейчас будет так называемое «курить».
Голос из толпы
Ах, какой ужас!
Директор
Не бойтесь – сейчас оно будет так называемое «вдохновляться». Скрипкин, – опрокиньте!
Скрипкин тянется к бутылке с водкой.
Голос из толпы
Ах, не надо, не надо, не мучайте бедное животное!
Директор
Товарищи, это же совсем не страшно: оно ручное! Смотрите, я его выведу сейчас на трибуну. (Идет к клетке, надевает перчатки, осматривает пистолеты, открывает дверь, выводит Скрипкина, ставит его на трибуну, поворачивает лицом к местам почетных гостей.) А ну, скажите что-нибудь коротенькое, подражая человечьему выражению, голосу и языку.
Скрипкин (покорно становится, покашливает, подымает гитару и вдруг оборачивается и бросает взгляд на зрительный зал. Лицо Скрипкина меняется, становится восторженным. Скрипкин отталкивает директора, швыряет гитару и орет в зрительный зал)
Граждане! Братцы! Свои! Родные! Откуда? Сколько вас?! Когда же вас всех разморозили? Чего ж я один в клетке? Родимые, братцы, пожалте ко мне! За что ж я страдаю?! Граждане!..
Голоса гостей
– Детей, уведите детей…
– Намордник… намордник ему…
– Ах, какой ужас!
– Профессор, прекратите!
– Ах, только не стреляйте!
Директор с вентилятором, в сопровождении двух служителей, вбегает на эстраду. Служители оттаскивают Скрипкина. Директор проветривает трибуну. Музыка играет туш. Служители задергивают клетку.
Директор
Простите, товарищи… Простите… Насекомое утомилось. Шум и освещение ввергли его в состояние галлюцинации. Успокойтесь. Ничего такого нет. Завтра оно успокоится… Тихо, граждане, расходитесь, до завтра.
Музыка, марш!
Конец
[1928–1929]
Люблю
Обыкновенно так
Любовь любому рожденному дадена, — но между служб, доходов и прочего со дня на́ день очерствевает сердечная почва. На сердце тело надето, на тело – рубаха. Но и этого мало! Один — идиот! — манжеты наделал и груди стал заливать крахмалом. Под старость спохватятся. Женщина мажется. Мужчина по Мюллеру мельницей машется. Но поздно. Морщинами множится кожица. Любовь поцветет, поцветет — и скукожится.Мальчишкой
Я в меру любовью был одаренный. Но с детства людье трудами муштровано. А я — убег на берег Риона и шлялся, ни черта не делая ровно. Сердилась мама: «Мальчишка паршивый!» Грозился папаша поясом выстегать. А я, разживясь трехрублевкой фальшивой, играл с солдатьем под забором в «три листика». Без груза рубах, без башмачного груза жарился в кутаисском зное. Вворачивал солнцу то спину, то пузо — пока под ложечкой не заноет. Дивилось солнце: «Чуть виден весь-то! А тоже — с сердечком. Старается малым! Откуда в этом в аршине место — и мне, и реке, и стоверстым скалам?!»Юношей
Юношеству занятий масса. Грамматикам учим дурней и дур мы. Меня ж из 5-го вышибли класса. Пошли швырять в московские тюрьмы. В вашем квартирном маленьком мирике для спален растут кучерявые лирики. Что выищешь в этих болоночьих лириках?! Меня вот любить учили в Бутырках. Что мне тоска о Булонском лесе?! Что мне вздох от видов на море?! Я вот в «Бюро похоронных процессий» влюбился в глазок 103 камеры. Глядят ежедневное солнце, зазна́ются. «Чего, мол, стоют лученышки эти?» А я за стенного за желтого зайца отдал тогда бы – все на свете.Мой университет
Французский знаете. Де́лите. Множите. Склоняете чу́дно. Ну и склоняйте! Скажите — а с домом спеться можете? Язык трамвайский вы понимаете? Птенец человечий чуть только вывелся — за книжки рукой, за тетрадные дести. А я обучался азбуке с вывесок, листая страницы железа и жести. Землю возьмут, обкорнав, ободрав ее, — учат. И вся она – с крохотный глобус. А я боками учил географию, — недаром же наземь ночевкой хлопаюсь! Мутят Иловайских больные вопросы: – Была ль рыжа борода Барбароссы?— Пускай! Не копаюсь в пропы́ленном вздоре я — любая в Москве мне известна история! Берут Добролюбова (чтоб зло ненавидеть), — фамилья ж против, скулит родовая. Я жирных с детства привык ненавидеть, всегда себя за обед продавая. Научатся, сядут — чтоб нравиться даме, мыслишки звякают лбенками медненькими. А я говорил с одними домами. Одни водокачки мне собеседниками. Окном слуховым внимательно слушая, ловили крыши – что брошу в уши я. А после о ночи и друг о друге трещали, язык ворочая – флюгер.Взрослое
У взрослых дела. В рублях карманы. Любить? Пожалуйста! Рубликов за́ сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шлялся, глазастый. Ночь. Надеваете лучшее платье. Душой отдыхаете на женах, на вдовах. Меня Москва душила в объятьях кольцом своих бесконечных Садовых. В сердца, в часишки любовницы тикают. В восторге партнеры любовного ложа. Столиц сердцебиение дикое ловил я, Страстно́ю площадью лежа. Враспашку — сердце почти что снаружи — себя открываю и солнцу и луже. Входите страстями! Любовями влазьте! Отныне я сердцем править не властен. У прочих знаю сердца дом я. Оно в груди – любому известно! На мне ж с ума сошла анатомия. Сплошное сердце — гудит повсеместно. О, сколько их, одних только весен, за 20 лет в распаленного ввалено! Их груз нерастраченный – просто несносен. Несносен не так, для стиха, а буквально.Что вышло
Больше чем можно, больше чем надо — будто поэтовым бредом во сне навис — комок сердечный разросся громадой: громада любовь, громада ненависть. Под ношей ноги шагали шатко — ты знаешь, я же ладно слажен, — и все же тащусь сердечным придатком, плеч подгибая косую сажень. Взбухаю стихов молоком – и не вылиться — некуда, кажется – полнится заново. Я вытомлен лирикой — мира кормилица, гипербола праобраза Мопассанова.Зову
Подня́л силачом, понес акробатом. Как избирателей сзывают на митинг, как села в пожар созывают набатом — я звал: «А вот оно! Вот! Возьмите!» Когда такая махина ахала — не глядя, пылью, грязью, сугробом, — дамье от меня ракетой шарахалось: «Нам чтобы поменьше, нам вроде танго́ бы…» Нести не могу — и несу мою ношу. Хочу ее бросить — и знаю, не брошу! Распора не сдержат ребровы дуги. Грудная клетка трещала с натуги.Ты
Пришла — деловито, за рыком, за ростом, взглянув, разглядела просто мальчика. Взяла, отобрала сердце и просто пошла играть — как девочка мячиком. И каждая — чудо будто видится — где дама вкопалась, а где девица. «Такого любить? Да этакий ринется! Должно, укротительница. Должно, из зверинца!» А я ликую. Нет его — ига! От радости себя не помня, скакал, индейцем свадебным прыгал, так было весело, было легко мне.Невозможно
Один не смогу — не снесу рояля (тем более — несгораемый шкаф). А если не шкаф, не рояль, то я ли сердце снес бы, обратно взяв. Банкиры знают: «Богаты без края мы. Карманов не хватит — кладем в несгораемый». Любовь в тебя — богатством в железо — запрятал, хожу и радуюсь Крезом. И разве, если захочется очень, улыбку возьму, пол-улыбки и мельче, с другими кутя, протрачу в полно́чи рублей пятнадцать лирической мелочи.Так и со мной
Флоты – и то стекаются в гавани. Поезд – и то к вокзалу гонит. Ну а меня к тебе и подавней — я же люблю! — тянет и клонит. Скупой спускается пушкинский рыцарь подвалом своим любоваться и рыться. Так я к тебе возвращаюсь, любимая. Мое это сердце, любуюсь моим я. Домой возвращаетесь радостно. Грязь вы с себя соскребаете, бреясь и моясь. Так я к тебе возвращаюсь, — разве, к тебе идя, не иду домой я?! Земных принимает земное лоно. К конечной мы возвращаемся цели. Так я к тебе тянусь неуклонно, еле расстались, развиделись еле.Вывод
Не смоют любовь ни ссоры, ни версты. Продумана, выверена, проверена. Подъемля торжественно стих строкоперстый, клянусь — люблю неизменно и верно!ноябрь 1921 – февраль 1922
Про это
Про что – про это?
В этой теме, и личной и мелкой, перепетой не раз и не пять, я кружил поэтической белкой и хочу кружиться опять. Эта тема сейчас и молитвой у Будды и у негра вострит на хозяев нож. Если Марс, и на нем хоть один сердцелюдый, то и он сейчас скрипит про то ж. Эта тема придет, калеку за локти подтолкнет к бумаге, прикажет: – Скреби! — И калека с бумаги срывается в клекоте, только строчками в солнце песня рябит. Эта тема придет, позвонится с кухни, повернется, сгинет шапчонкой гриба, и гигант постоит секунду и рухнет, под записочной рябью себя погребя. Эта тема придет, прикажет: – Истина! — Эта тема придет, велит: – Красота! — И пускай перекладиной кисти раскистены — только вальс под нос мурлычешь с креста. Эта тема азбуку тронет разбегом — уж на что б, казалось, книга ясна! — и становится – А — недоступней Казбека. Замутит, оттянет от хлеба и сна. Эта тема придет, вовек не износится, только скажет: – Отныне гляди на меня! — И глядишь на нее, и идешь знаменосцем, красношелкий огонь над землей знаменя. Это хитрая тема! Нырнет под события, в тайниках инстинктов готовясь к прыжку, и как будто ярясь – посмели забыть ее! — затрясет; посыпятся души из шкур. Эта тема ко мне заявилась гневная, приказала: – Подать дней удила! — Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное и грозой раскидала людей и дела. Эта тема пришла, остальные оттерла и одна безраздельно стала близка. Эта тема ножом подступила к горлу. Молотобоец! От сердца к вискам. Эта тема день истемнила, в темень колотись – велела – строчками лбов. Имя этой теме: ……!I. Баллада Редингской тюрьмы
Стоял – вспоминаю. Был этот блеск. И это тогда называлось Невою. Маяковский, «Человек». (13 лет работы, т. 2, стр. 77)О балладе и о балладах
Немолод очень лад баллад, но если слова болят и слова говорят про то, что болят, молодеет и лад баллад. Лубянский проезд. Водопьяный. Вид вот. Вот фон. В постели она. Она лежит. Он. На столе телефон. «Он» и «она» баллада моя. Не страшно нов я. Страшно то, что «он» – это я, и то, что «она» — моя. При чем тюрьма? Рождество. Кутерьма. Без решеток окошки домика! Это вас не касается. Говорю – тюрьма. Стол. На столе соломинка.По кабелю пущен номер
Тронул еле – волдырь на теле. Трубку из рук вон. Из фабричной марки — две стрелки яркие омолниили телефон. Соседняя комната. Из соседней сонно: – Когда это? Откуда это живой поросенок? — Звонок от ожогов уже визжит, добела раскален аппарат. Больна она! Она лежит! Беги! Скорей! Пора! Мясом дымясь, сжимаю жжение. Моментально молния телом забегала. Стиснул миллион вольт напряжения. Ткнулся губой в телефонное пекло. Дыры сверля в доме, взмыв Мясницкую пашней, рвя кабель, номер пулей летел барышне. Смотрел осовело барышнин глаз — под праздник работай за двух. Красная лампа опять зажглась. Позвонила! Огонь потух. И вдруг как по лампам пошло куролесить, вся сеть телефонная рвется на нити. – 67–10! Соедините! — В проулок! Скорей! Водопьяному в тишь! Ух! А то с электричеством станется — под Рождество на воздух взлетишь со всей со своей телефонной станцией. Жил на Мясницкой один старожил. Сто лет после этого жил — про это лишь — сто лет! — говаривал детям дед. – Было – суббота… под воскресенье… Окорочок… Хочу, чтоб дешево… Как вдарит кто-то!.. Землетрясенье… Ноге горячо… Ходун – подошва!.. — Не верилось детям, чтоб так-то да там-то. Землетрясенье? Зимой? У почтамта?!Телефон бросается на всех
Протиснувшись чудом сквозь тоненький шнур, раструба трубки разинув оправу, погромом звонков громя тишину, разверг телефон дребезжащую лаву. Это визжащее, звенящее это пальнуло в стены, старалось взорвать их. Звоночинки тыщей от стен рикошетом под стулья закатывались и под кровати. Об пол с потолка звоно́чище хлопал. И снова, звенящий мячище точно, взлетал к потолку, ударившись о́б пол, и сыпало вниз дребезгою звоночной. Стекло за стеклом, вьюшку за вьюшкой тянуло звенеть телефонному в тон. Тряся ручоночкой дом-погремушку, тонул в разливе звонков телефон.Секундантша
От сна чуть видно — точка глаз иголит щеки жаркие. Ленясь, кухарка поднялась, идет, кряхтя и харкая. Моченым яблоком она. Морщинят мысли лоб ее. – Кого? Владим Владимыч?! А! — Пошла, туфлею шлепая. Идет. Отмеряет шаги секундантом. Шаги отдаляются… Слышатся еле… Весь мир остальной отодвинут куда-то, лишь трубкой в меня неизвестное целит.Просветление мира
Застыли докладчики всех заседаний, не могут закончить начатый жест. Как были, рот разинув, сюда они смотрят на Рождество из Рождеств. Им видима жизнь от дрязг и до дрязг. Дом их — единая будняя тина. Будто в себя, в меня смотрясь, ждали смертельной любви поединок. Окаменели сиренные рокоты. Колес и шагов суматоха не вертит. Лишь поле дуэли да время-доктор с бескрайним бинтом исцеляющей смерти. Москва — за Москвой поля примолкли. Моря — за морями горы стройны. Вселенная вся как будто в бинокле, в огромном бинокле (с другой стороны). Горизонт распрямился ровно-ровно. Тесьма. Натянут бечевкой тугой. Край один — я в моей комнате, ты в своей комнате – край другой. А между — такая, какая не снится, какая-то гордая белой обновой, через вселенную легла Мясницкая миниатюрой кости слоновой. Ясность. Прозрачнейшей ясностью пытка. В Мясницкой деталью искуснейшей выточки кабель тонюсенький — ну, просто нитка! И все вот на этой вот держится ниточке.Дуэль
Раз! Трубку наводят. Надежду брось. Два! Как раз остановилась, не дрогнув, между моих мольбой обволокнутых глаз. Хочется крикнуть медлительной бабе: – Чего задаетесь? Стоите Дантесом. Скорей, скорей просверлите сквозь кабель пулей любого яда и веса. — Страшнее пуль — оттуда сюда вот, кухаркой оброненное между зевот, проглоченным кроликом в брюхе удава по кабелю, вижу, слово ползет. Страшнее слов — из древнейшей древности, где самку клыком добывали люди еще, ползло из шнура — скребущейся ревности времен троглодитских тогдашнее чудище. А может быть… Наверное, может! Никто в телефон не лез и не лезет, нет никакой троглодичьей рожи. Сам в телефоне. Зеркалюсь в железе. Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры! Пойди – эту правильность с Эрфуртской сверь! Сквозь первое горе бессмысленный, ярый, мозг поборов, проскребается зверь.Что может сделаться с человеком!
Красивый вид. Товарищи! Взвесьте! В Париж гастролировать едущий летом, поэт, почтенный сотрудник «Известий», царапает стул когтем из штиблета. Вчера человек — единым махом клыками свой размедведил вид я! Косматый. Шерстью свисает рубаха. Тоже туда ж!? В телефоны бабахать!? К своим пошел! В моря ледовитые!Размедвеженье
Медведем, когда он смертельно сердится, на телефон грудь на врага тяну. А сердце глубже уходит в рогатину! Течет. Ручьища красной меди. Рычанье и кровь. Лакай, темнота! Не знаю, плачут ли, нет медведи, но если плачут, то именно так. То именно так: без сочувственной фальши скулят, заливаясь ущельной длиной. И именно так их медвежий Бальшин, скуленьем разбужен, ворчит за стеной. Вот так медведи именно могут: недвижно, задравши морду, как те, повыть, извыться и лечь в берлогу, царапая логово в двадцать когтей. Сорвался лист. Обвал. Беспокоит. Винтовки-шишки не грохнули б враз. Ему лишь взмедведиться может такое сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.Протекающая комната
Кровать. Железки. Барахло одеяло. Лежит в железках. Тихо. Вяло. Трепет пришел. Пошел по железкам. Простынь постельная треплется плеском. Вода лизнула холодом ногу. Откуда вода? Почему много? Сам наплакал. Плакса. Слякоть. Неправда — столько нельзя наплакать. Чертова ванна! Вода за диваном. Под столом, за шкафом вода. С дивана, сдвинут воды задеваньем, в окно проплыл чемодан. Камин… Окурок… Сам кинул. Пойти потушить. Петушится. Страх. Куда? К какому такому камину? Верста. За верстою берег в кострах. Размыло всё, даже запах капустный с кухни всегдашний, приторно сладкий. Река. Вдали берега. Как пусто! Как ветер воет вдогонку с Ладоги! Река. Большая река. Холодина. Рябит река. Я в середине. Белым медведем взлез на льдину, плыву на своей подушке-льдине. Бегут берега, за видом вид. Подо мной подушки лед. С Ладоги дует. Вода бежит. Летит подушка-плот. Плыву. Лихорадюсь на льдине-подушке. Одно ощущенье водой не вымыто: я должен не то под кроватные дужки, не то под мостом проплыть под каким-то. Были вот так же: ветер да я. Эта река!.. Не эта. Иная. Нет, не иная! Было — стоял. Было – блестело. Теперь вспоминаю. Мысль растет. Не справлюсь я с нею. Назад! Вода не выпустит плот. Видней и видней… Ясней и яснее… Теперь неизбежно… Он будет! Он вот!!!Человек из-за 7-ми лет
Волны устои стальные моют. Недвижный, страшный, упершись в бока столицы, в отчаяньи созданной мною, стоит на своих стоэтажных быках. Небо воздушными скрепами вышил. Из вод феерией стали восстал. Глаза подымаю выше, выше… Вон! Вон — опершись о перила моста?.. Прости, Нева! Не прощает, гонит. Сжалься! Не сжалился бешеный бег. Он! Он — у небес в воспаленном фоне, прикрученный мною, стоит человек. Стоит. Разметал изросшие волосы. Я уши лаплю. Напрасные мнешь! Я слышу мой, мой собственный голос. Мне лапы дырявит голоса нож. Мой собственный голос — он молит, он просится: – Владимир! Остановись! Не покинь! Зачем ты тогда не позволил мне броситься? С размаху сердце разбить о быки? Семь лет я стою. Я смотрю в эти воды, к перилам прикручен канатами строк. Семь лет с меня глаз эти воды не сводят. Когда ж, когда ж избавления срок? Ты, может, к ихней примазался касте? Целуешь? Ешь? Отпускаешь брюшко? Сам в ихний быт, в их семейное счастье намереваешься пролезть петушком?! Не думай! — Рука наклоняется вниз его. Грозится сухой в подмостную кручу. – Не думай бежать! Это я вызвал. Найду. Загоню. Доконаю. Замучу! Там, в городе, праздник. Я слышу гром его. Так что ж! Скажи, чтоб явились они. Постановленье неси исполкомово. Му́ку мою конфискуй, отмени. Пока по этой по Невской по глуби спаситель-любовь не придет ко мне, скитайся ж и ты, и тебя не полюбят. Греби! Тони меж домовьих камней! —Спасите!
Стой, подушка! Напрасное тщенье. Лапой гребу — плохое весло. Мост сжимается. Невским течением меня несло, несло и несло. Уже я далеко. Я, может быть, за́ день. За де́нь от тени моей с моста. Но гром его голоса гонится сзади. В погоне угроз паруса распластал. – Забыть задумал невский блеск?! Ее заменишь?! Некем! По гроб запомни переплеск, плескавший в «Человеке». — Начал кричать. Разве это осилите?! Буря басит — не осилить вовек. Спасите! Спасите! Спасите! Спасите! Там на мосту на Неве человек!II. Ночь под Рождество
Фантастическая реальность
Бегут берега — за видом вид. Подо мной — подушка-лед. Ветром ладожским гребень завит. Летит льдышка-плот. Спасите! – сигналю ракетой слов. Падаю, качкой добитый. Речка кончилась — море росло. Океан — большой до обиды. Спасите! Спасите!.. Сто раз подряд реву батареей пушечной. Внизу подо мной растет квадрат, остров растет подушечный. Замирает, замирает, замирает гул. Глуше, глуше, глуше… Никаких морей. Я — на снегу. Кругом — версты суши. Суша – слово. Снегами мокра. Подкинут метельной банде я. Что за земля? Какой это край? Грен — лап — люб-ландия?Боль были
Из облака вызрела лунная дынка, стену́ постепенно в тени оттеня. Парк Петровский. Бегу. Ходынка за мной. Впереди Тверской простыня. А-у-у-у! К Садовой аж выкинул «у»! Оглоблей или машиной, но только мордой аршин в снегу. Пулей слова матершины. «От нэпа ослеп?! Для чего глаза впряжены?! Эй, ты! Мать твою разнэп! Ряженый!» Ах! Да ведь я медведь. Недоразуменье! Надо — прохожим, что я не медведь, только вышел похожим.Спаситель
Вон от заставы идет человечек. За шагом шаг вырастает короткий. Луна голову вправила в венчик. Я уговорю, чтоб сейчас же, чтоб в лодке. Это – спаситель! Вид Иисуса. Спокойный и добрый, венчанный в луне. Он ближе. Лицо молодое безусо. Совсем не Исус. Нежней. Юней. Он ближе стал, он стал комсомольцем. Без шапки и шубы. Обмотки и френч. То сложит руки, будто молится. То машет, будто на митинге речь. Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в золоте — чего уж пошловатей?! Но такая грусть, что стой и грустью ранься! Расплывайся в процыганенном романсе.Романс
Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег хрустя разламывал суставы.
Для чего?
Зачем?
Кому?
Был вором-ветром мальчишка обыскан.
Попала ветру мальчишки записка.
Стал ветер Петровскому парку звонить:
– Прощайте…
Кончаю…
Прошу не винить…
Ничего не поделаешь
До чего ж на меня похож! Ужас. Но надо ж! Дернулся к луже. Залитую курточку стягивать стал. Ну что ж, товарищ! Тому еще хуже — семь лет он вот в это же смотрит с моста. Напялил еле — другого калибра. Никак не намылишься — зубы стучат. Шерстищу с лапищ и с мордищи выбрил. Гляделся в льдину… бритвой луча… Почти, почти такой же самый. Бегу. Мозги шевелят адресами. Во-первых, на Пресню, туда, по задворкам. Тянет инстинктом семейная норка. За мной всероссийские, теряясь точкой, сын за сыном, дочка за дочкой.Всехные родители
– Володя! На Рождество! Вот радость! Радость-то во!.. — Прихожая тьма. Электричество комната. Сразу — наискось лица родни. – Володя! Господи! Что это? В чем это? Ты в красном весь. Покажи воротник! – Не важно, мама, дома вымою. Теперь у меня раздолье — вода. Не в этом дело. Родные! Любимые! Ведь вы меня любите? Любите? Да? Так слушайте ж! Тетя! Сестры! Мама! ТушИте елку! Заприте дом! Я вас поведу… вы пойдете… Мы прямо… сейчас же… все возьмем и пойдем. Не бойтесь — это совсем недалеко — 600 с небольшим этих крохотных верст. Мы будем там во мгновение ока. Он ждет. Мы вылезем прямо на мост. – Володя, родной, успокойся! — Но я им на этот семейственный писк голосков: – Так что ж?! Любовь заменяете чаем? Любовь заменяете штопкой носков?Путешествие с мамой
Не вы — не мама Альсандра Альсеевна. Вселенная вся семьею засеяна. Смотрите, мачт корабельных щетина — в Германию врезался Одера клин. Слезайте, мама, уже мы в Штеттине. Сейчас, мама, несемся в Берлин. Сейчас летите, мотором урча, вы: Париж, Америка, Бруклинский мост, Сахара, и здесь с негритоской курчавой лакает семейкой чай негритос. Сомнете периной и волю и камень. Коммуна — и то завернется комом. Столетия жили своими домками и нынче зажили своим домкомом! Октябрь прогремел, карающий, судный. Вы под его огнепёрым крылом расставились, разложили посудины. Паучьих волос не расчешешь колом. Исчезни, дом, родимое место! Прощайте! — Отбросил ступеней последок. – Какое тому поможет семейство?! Любовь цыплячья! Любвишка наседок!Пресненские миражи
Бегу и вижу — всем в виду кудринскими вышками себе навстречу сам иду с подарками под мышками. Мачт крестами на буре распластан, корабль кидает балласт за балластом. Будь проклята, опустошенная легкость! Домами оскалила скАлы далекость. Ни люда, ни заставы нет. Горят снега, и го́ло. И только из-за ставенек в огне иголки елок. Ногам вперекор, тормозами на быстрые вставали стены, окнами выстроясь. По стеклам тени фигурками тира вертелись в окне, зазывали в квартиры. С Невы не сводит глаз, продрог, стоит и ждет — помогут. За первый встречный за порог закидываю ногу. В передней пьяный проветривал бредни. Стрезвел и дернул стремглав из передней. Зал заливался минуты две: – Медведь, медведь, медведь, медв-е-е-е-е… —Муж Феклы Давидовны со мной и со всеми знакомыми
Потом, извертясь вопросительным знаком, хозяин полглаза просунул: – Однако! Маяковский! Хорош медведь! — Пошел хозяин любезностями медоветь: – Пожалуйста! Прошу-с. Ничего — я боком. Нечаянная радость-с, как сказано у Блока. Жена – Фекла Двидна. Дочка, точь-в-точь в меня, видно — семнадцать с половиной годочков. А это… Вы, кажется, знакомы?! — Со страха к мышам ушедшие в норы, из-под кровати полезли партнеры. Усища — к стеклам ламповым пыльники — из-под столов пошли собутыльники. Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели. Весь безлицый парад подсчитать ли? Идут и идут процессией мирной. Блестят из бород паутиной квартирной. Все так и стоит столетья, как было. Не бьют — и не тронулась быта кобыла. Лишь вместо хранителей духов и фей ангел-хранитель — жилец в галифе. Но самое страшное: по росту, по коже одеждой, сама походка моя! — в одном узнал — близнецами похожи — себя самого — сам я. С матрацев, вздымая постельные тряпки, клопы, приветствуя, подняли лапки. Весь самовар рассиялся в лучики — хочет обнять в самоварные ручки. В точках от мух веночки с обоев венчают голову сами собою. Взыграли туш ангелочки-горнисты, пророзовев из иконного глянца. Исус, приподняв венок тернистый, любезно кланяется. Маркс, впряженный в алую рамку, и то тащил обывательства лямку. Запели птицы на каждой на жердочке, герани в ноздри лезут из кадочек. Как были сидя сняты на корточках, радушно бабушки лезут из карточек. Раскланялись все, осклабились враз; кто басом фразу, кто в дискант дьячком. – С праздничком! С праздничком! С праздничком! С праздничком! С праз — нич — ком! — Хозяин то тронет стул, то дунет, сам со скатерти крошки вымел. – Да я не знал!.. Да я б накануне… Да, я думаю, занят… Дом… Со своими…Бессмысленные просьбы
Мои свои?! Д-а-а-а — это особы. Их ведьма разве сыщет на венике! Мои свои с Енисея да с Оби идут сейчас, следят четвереньки. Какой мой дом?! Сейчас с него. Подушкой-льдом плыл Невой — мой дом меж дамб стал льдом, и там… Я брал слова то самые вкрадчивые, то страшно рыча, то вызвоня лирово. От выгод — на вечную славу сворачивал, молил, грозил, просил, агитировал. – Ведь это для всех… для самих… для вас же… Ну, скажем, «Мистерия» — ведь не для себя ж?! Поэт там и прочее… Ведь каждому важен… Не только себе ж — ведь не личная блажь… Я, скажем, медведь, выражаясь грубо… Но можно стихи… Ведь сдирают шкуру?! Подкладку из рифм поставишь — и шуба!.. Потом у камина… там кофе… курят… Дело пустяшно: ну, минут на десять… Но нужно сейчас, пока не поздно… Похлопать может… Сказать — надейся!.. Но чтоб теперь же… чтоб это серьезно… — Слушали, улыбаясь, именитого скомороха. Катали по столу хлебные мякиши. Слова об лоб и в тарелку — горохом. Один расчувствовался, вином размягший: – Поооостой… поооостой… Очень даже и просто. Я пойду!.. Говорят, он ждет… на мосту… Я знаю… Это на углу Кузнецкого моста. Пустите! Нукося! — По углам — зуд: – Наззз-ю-зззюкался! Будет ныть! Поесть, попить, попить, поесть — и за 66! Теорию к лешему! Нэп — практика. Налей, нарежь ему. Футурист, налягте-ка! — Ничуть не смущаясь челюстей целостью, пошли греметь о челюсть челюстью. Шли из артезианских прорв меж рюмкой слова поэтических споров. В матрац, поздоровавшись, влезли клопы. На вещи насела столетняя пыль. А тот стоит — в перила вбит. Он ждет, он верит: скоро! Я снова лбом, я снова в быт вбиваюсь слов напором. Опять атакую и вкривь и вкось. Но странно: слова проходят насквозь.Необычайное
Стихает бас в комариные трельки. Подбитые воздухом, стихли тарелки. Обои, стены блёкли… блёкли… Тонули в серых тонах офортовых. Со стенки на город разросшийся Бёклин Москвой расставил «Остров мертвых». Давным-давно. Подавно — теперь. И нету проще! Вон в лодке, скутан саваном, недвижный перевозчик. Не то моря, не то поля — их шорох тишью стерт весь. А за морями — тополя возносят в небо мертвость. Что ж — ступлю! И сразу тополи сорвались с мест, пошли, затопали. Тополи стали спокойствия мерами, ночей сторожами, милиционерами. Расчетверившись, белый Харон стал колоннадой почтамтских колонн.Деваться некуда
Так с топором влезают в сон, обметят спящелобых — и сразу исчезает всё, и видишь только обух. Так барабаны улиц в сон войдут, и сразу вспомнится, что вот тоска и угол вон, за ним она — виновница. Прикрывши окна ладонью угла, стекло за стеклом вытягивал с краю. Вся жизнь на карты окон легла. Очко стекла — и я проиграю. Арап — миражей шулер — по окнам разметил нагло веселия крап. Колода стекла торжеством яркоогним сияет нагло у ночи из лап. Как было раньше — вырасти б, стихом в окно влететь. Нет, никни к стенной сырости. И стих и дни не те. Морозят камни. Дрожь могил. И редко ходят веники. Плевками, снявши башмаки, вступаю на ступеньки. Не молкнет в сердце боль никак, кует к звену звено. Вот так, убив, Раскольников пришел звенеть в звонок. Гостьё идет по лестнице… Ступеньки бросил — стенкою. Стараюсь в стенку вплесниться, и слышу — струны тенькают. Быть может, села вот так невзначай она. Лишь для гостей, для широких масс. А пальцы сами в пределе отчаянья ведут бесшабашье, над горем глумясь.Друзья
А во́роны гости?! Дверье крыло раз сто по бокам коридора исхлопано. Горлань горланья, оранья орло́? ко мне доплеталось пьяное допьяна. Полоса щели. Голоса? еле: «Аннушка — ну и румянушка!» Пироги… Печка… Шубу… Помогает… С плечика… Сглушило слова уанстепным темпом, и снова слова сквозь темп уанстепа: «Что это вы так развеселились? Разве?!» Сли́лись… Опять полоса осветила фразу. Слова непонятны — особенно сразу. Слова так (не то чтоб со зла): «Один тут сломал ногу, так вот веселимся, чем бог послал, танцуем себе понемногу». Да, их голоса́. Знакомые выкрики. Застыл в узнаваньи, расплющился, нем, фразы крою по выкриков выкройке. Да — это они — они обо мне. Шелест. Листают, наверное, ноты. «Ногу, говорите? Вот смешно-то!» И снова в тостах стаканы исчоканы, и сыплют стеклянные искры из щек они. И снова пьяное: «Ну и интересно! Так, говорите, пополам и треснул?» «Должен огорчить вас, как ни грустно, не треснул, говорят, а только хрустнул». И снова хлопанье двери и карканье, и снова танцы, полами исшарканные. И снова стен раскаленные степи под ухом звенят и вздыхают в тустепе.Только б не ты
Стою у стенки. Я не я. Пусть бредом жизнь смололась. Но только б, только б не ея невыносимый голос! Я день, я год обыденщине пре́дал, я сам задыхался от этого бреда. Он жизнь дымком квартирошным выел. Звал: решись с этажей в мостовые! Я бегал от зова разинутых окон, любя убегал. Пускай однобоко, пусть лишь стихом, лишь шагами ночными — строчишь, и становятся души строчными, и любишь стихом, а в прозе немею. Ну вот, не могу сказать, не умею. Но где, любимая, где, моя милая, где – в песне! — любви моей изменил я? Здесь каждый звук, чтоб признаться, чтоб кликнуть. А только из песни – ни слова не выкинуть. Вбегу на трель, на гаммы. В упор глазами в цель! Гордясь двумя ногами, Ни с места! – крикну. — Цел! — Скажу: – Смотри, даже здесь, дорогая, стихами громя обыденщины жуть, имя любимое оберегая, тебя в проклятьях моих обхожу. Приди, разотзовись на стих. Я, всех оббегав, – тут. Теперь лишь ты могла б спасти. Вставай! Бежим к мосту! — Быком на бойне под удар башку мою нагнул. Сборю себя, пойду туда. Секунда — и шагну.Шагание стиха
Последняя самая эта секунда, секунда эта стала началом, началом невероятного гуда. Весь север гудел. Гудения мало. По дрожи воздушной, по колебанью догадываюсь — оно над Любанью. По холоду, по хлопанью дверью догадываюсь — оно над Тверью. По шуму — настежь окна раскинул — догадываюсь — кинулся к Клину. Теперь грозой Разумовское за́лил. На Николаевском теперь на вокзале. Всего дыхание одно, а под ногой ступени пошли, поплыли ходуном, вздымаясь в невской пене. Ужас дошел. В мозгу уже весь. Натягивая нервов строй, разгуживаясь все и разгуживаясь, взорвался, пригвоздил: – Стой! Я пришел из-за семи лет, из-за верст шести ста, пришел приказать: Нет! Пришел повелеть: Оставь! Оставь! Не надо ни слова, ни просьбы. Что толку — тебе одному удалось бы?! Жду, чтоб землей обезлюбленной вместе, чтоб всей мировой человечьей гущей. Семь лет стою, буду и двести стоять пригвожденный, этого ждущий. У лет на мосту на презренье, на сме́х, земной любви искупителем значась, должен стоять, стою за всех, за всех расплачу́сь, за всех распла́чусь.Ротонда
Стены в тустепе ломались на́ три, на четверть тона ломались, на сто́… Я, стариком, на каком-то Монмартре лезу — стотысячный случай — на стол. Давно посетителям осточертело. Знают заранее всё, как по нотам: буду звать (новое дело!) куда-то идти, спасать кого-то. В извинение пьяной нагрузки хозяин гостям объясняет: – Русский! — Женщины — мяса и тряпок вязанки — смеются, стащить стараются за́ ноги: «Не пойдем. Дудки! Мы – проститутки». Быть Сены полосе б Невой! Грядущих лет брызго́й хожу по мгле по Се́новой всей нынчести изгой. Саже́нный, обсмеянный, са́женный, битый, в бульварах ору через каски военщины: – Под красное знамя! Шагайте! По быту! Сквозь мозг мужчины! Сквозь сердце женщины! — Сегодня гнали в особенном раже. Ну и жара же!Полусмерть
Надо немного обветрить лоб. Пойду, пойду, куда ни вело б. Внизу свистят сержанты-трельщики. Тело с панели уносят метельщики. Рассвет. Подымаюсь сенскою сенью, синематографской серой тенью. Вот — гимназистом смотрел их с парты — мелькают сбоку Франции карты. Воспоминаний последним током тащился прощаться к странам Востока.Случайная станция
С разлету рванулся — и стал, и на́ мель. Лохмотья мои зацепились штанами. Ощупал — скользко, луковка точно. Большое очень. Испозолочено. Под луковкой колоколов завыванье. Вечер зубцы стенные выкаймил. На Иване я Великом. Вышки кремлевские пиками. Московские окна видятся еле. Весело. Елками зарождествели. В ущелья кремлёвы волна ударяла: то песня, то звона рождественский вал. С семи холмов, низвергаясь Дарьялом, бросала Тереком праздник Москва. Вздымается волос. Лягушкою тужусь. Боюсь — оступлюсь на одну только пядь, и этот старый рождественский ужас меня по Мясницкой закружит опять.Повторение пройденного
Руки крестом, крестом на вершине, ловлю равновесие, страшно машу. Густеет ночь, не вижу в аршине. Луна. Подо мною льдистый Машук. Никак не справлюсь с моим равновесием, как будто с Вербы — руками картонными. Заметят. Отсюда виден весь я. Смотрите — Кавказ кишит Пинкертонами. Заметили. Всем сообщили сигналом. Любимых, друзей человечьи ленты со всей вселенной сигналом согнало. Спешат рассчитаться, идут дуэлянты. Щетинясь, щерясь еще и еще там… Плюют на ладони. Ладонями сочными, руками, ветром, нещадно, без счета в мочалку щеку истрепали пощечинами. Пассажи — перчаточных лавок початки, дамы, духи развевая паточные, снимали, в лицо швыряли перчатки, швырялись в лицо магазины перчаточные. Газеты, журналы, зря не глазейте! На помощь летящим в морду вещам ругней за газетиной взвейся газетина. Слухом в ухо! Хватай, клевеща! И так я калека в любовном боленьи. Для ваших оставьте помоев ушат. Я вам не мешаю. К чему оскорбленья! Я только стих, я только душа. А снизу: – Нет! Ты враг наш столетний. Один уж такой попался — гусар! Понюхай порох, свинец пистолетный. Рубаху враспашку! Не празднуй труса́! —Последняя смерть
Хлеще ливня, грома бодрей, бровь к брови, ровненько, со всех винтовок, со всех батарей, с каждого маузера и браунинга, с сотни шагов, с десяти, с двух, в упор — за зарядом заряд. Станут, чтоб перевесть дух, и снова свинцом сорят. Конец ему! В сердце свинец! Чтоб не было даже дрожи! В конце концов — всему конец. Дрожи конец тоже.То, что осталось
Окончилась бойня. Веселье клокочет. Смакуя детали, разлезлись шажком. Лишь на Кремле поэтовы клочья сияли по ветру красным флажком. Да небо по-прежнему лирикой зве́здится. Глядит в удивленьи небесная звездь — затрубадурила Большая Медведица. Зачем? В королевы поэтов пролезть? Большая, неси по векам-Араратам сквозь небо потопа ковчегом-ковшом! С борта звездолётом медведьинским братом горланю стихи мирозданию в шум. Скоро! Скоро! Скоро! В пространство! Пристальней! Солнце блестит горы. Дни улыбаются с пристани.Прошение на имя…… Прошу вас, товарищ химик, заполните сами!
Пристает ковчег. Сюда лучами! При́стань. Эй! Кидай канат ко мне! И сейчас же ощутил плечами тяжесть подоконничьих камней. Солнце ночь потопа высушило жаром. У окна в жару встречаю день я. Только с глобуса – гора Килиманджаро. Только с карты африканской – Кения. Голой головою глобус. Я над глобусом от горя горблюсь. Мир хотел бы в этой груде горя настоящие облапить груди-горы. Чтобы с полюсов по всем жильям лаву раскатил, горящ и каменист, так хотел бы разрыдаться я, медведь-коммунист. Столбовой отец мой дворянин, кожа на моих руках тонка. Может, я стихами выхлебаю дни, и не увидав токарного станка. Но дыханием моим, сердцебиеньем, голосом, каждым острием издыбленного в ужас волоса, дырами ноздрей, гвоздями глаз, зубом, исскрежещенным в звериный лязг, ёжью кожи, гнева брови сборами, триллионом пор, дословно — всеми порами в осень, в зиму, в весну, в лето, в день, в сон не приемлю, ненавижу это всё. Всё, что в нас ушедшим рабьим вбито, всё, что мелочи́нным роем оседало и осело бытом даже в нашем краснофлагом строе. Я не доставлю радости видеть, что сам от заряда стих. За мной не скоро потянете об упокой его душу таланте. Меня из-за угла ножом можно. Дантесам в мой не целить лоб. Четырежды состарюсь – четырежды омоложенный, до гроба добраться чтоб. Где б ни умер, умру поя. В какой трущобе ни лягу, знаю — достоин лежать я с легшими под красным флагом. Но за что ни лечь — смерть есть смерть. Страшно – не любить, ужас – не сметь. За всех – пуля, за всех – нож. А мне когда? А мне-то что ж? В детстве, может, на самом дне, десять найду сносных дней. А то, что другим?! Для меня б этого! Этого нет. Видите — нет его! Верить бы в загробь! Легко прогулку пробную. Стоит только руку протянуть — пуля мигом в жизнь загробную начертит гремящий путь. Что мне делать, если я вовсю, всей сердечной мерою, в жизнь сию, сей мир верил, верую.Вера
Пусть во что хотите жданья удлинятся — вижу ясно, ясно до галлюцинаций. До того, что кажется — вот только с этой рифмой развяжись, и вбежишь по строчке в изумительную жизнь. Мне ли спрашивать — да эта ли? Да та ли?! Вижу, вижу ясно, до деталей. Воздух в воздух, будто камень в камень, недоступная для тленов и крошений, рассиявшись, высится веками мастерская человечьих воскрешений. Вот он, большелобый тихий химик, перед опытом наморщил лоб. Книга — «Вся земля», — выискивает имя. Век двадцатый. Воскресить кого б? – Маяковский вот… Поищем ярче лица — недостаточно поэт красив. — Крикну я вот с этой, с нынешней страницы: – Не листай страницы! Воскреси!Надежда
Сердце мне вложи! Крови́щу — до последних жил. В череп мысль вдолби! Я свое, земное, не дожил, на земле свое не долюбил. Был я сажень ростом. А на что мне сажень? Для таких работ годна и тля. Перышком скрипел я, в комнатенку всажен, вплющился очками в комнатный футляр. Что хотите, буду делать даром — чистить, мыть, стеречь, мотаться, месть. Я могу служить у вас хотя б швейцаром. Швейцары у вас есть? Был я весел — толк веселым есть ли, если горе наше непролазно? Нынче обнажают зубы если, только, чтоб хватить, чтоб лязгнуть. Мало ль что бывает — тяжесть или горе… Позовите! Пригодится шутка дурья. Я шарадами гипербол, аллегорий буду развлекать, стихами балагуря. Я любил… Не стоит в старом рыться. Больно? Пусть… Живешь и болью дорожась. Я зверье еще люблю — у вас зверинцы есть? Пустите к зверю в сторожа. Я люблю зверье. Увидишь собачонку — тут у булочной одна — сплошная плешь, — из себя и то готов достать печенку. Мне не жалко, дорогая, ешь!Любовь
Может, может быть, когда-нибудь дорожкой зоологических аллей и она — она зверей любила — тоже ступит в сад, улыбаясь, вот такая, как на карточке в столе. Она красивая — ее, наверно, воскресят. Ваш тридцатый век обгонит стаи сердце раздиравших мелочей. Нынче недолюбленное наверстаем звездностью бесчисленных ночей. Воскреси хотя б за то, что я поэтом ждал тебя, откинул будничную чушь! Воскреси меня хотя б за это! Воскреси — свое дожить хочу! Чтоб не было любви – служанки замужеств, похоти, хлебов. Постели прокляв, встав с лежанки, чтоб всей вселенной шла любовь. Чтоб день, который горем старящ, не христарадничать, моля. Чтоб вся на первый крик: – Товарищ! — оборачивалась земля. Чтоб жить не в жертву дома дырам. Чтоб мог в родне отныне стать отец, по крайней мере, миром, землей, по крайней мере, – мать.[1923]
Хорошо! Октябрьская поэма
1
Время — вещь необычайно длинная, — были времена — прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети, строфа! Воспаленной губой припади и попей из реки по имени – «Факт». Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем. Я хочу, чтобы, с этою книгой побыв, из квартирного мирка шел опять на плечах пулеметной пальбы, как штыком, строкой просверкав. Чтоб из книги, через радость глаз, от свидетеля счастливого, — в мускулы усталые лилась строящая и бунтующая сила. Этот день воспевать никого не наймем. Мы распнем карандаш на листе, чтобы шелест страниц, как шелест знамен, надо лбами годов шелестел.2
«Кончайте войну! Довольно! Будет! В этом голодном году — невмоготу. Врали: «народа — свобода, вперед, эпоха, заря…» — и зря. Где земля, и где закон, чтобы землю выдать к лету? — Нету! Что же дают за февраль, за работу, за то, что с фронтов не бежишь? — Шиш. На шее кучей Гучковы, черти, министры, Родзянки… Мать их за ноги! ` Власть к богатым рыло воротит — чего подчиняться ей?!. Бей!!» То громом, то шепотом этот ропот сползал из Керенской тюрьмы-решета. В деревни шел по травам и тропам, в заводах сталью зубов скрежетал. Чужие партии бросали швырком. – На что им сбор болтунов дался́?! — И отдавали большевикам гроши, и силы, и голоса. До самой мужичьей земляной башки докатывалась слава, — лила́сь и слы́ла, что есть за мужиков какие-то «большаки» – у-у-у! Сила! —3
Царям дворец построил Растрелли. Цари рождались, жили, старели. Дворец не думал о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати, царицам вверенной, раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти, одеял и кру́жевца голова присяжного поверенного кружится. Забывши и классы и партии, идет на дежурную речь. Глаза у него бонапартьи и цвета защитного френч. Слова и слова. Огнесловая лава. Болтает сорокой радостной. Он сам опьянен своею славой пьяней, чем сорокаградусной. Слушайте, пока не устанете, как щебечет иной адъютантик: «Такие случаи были — он едет в автомобиле. Узнавши, кто и который, — толпа распрягла моторы! Взамен лошадиной силы сама на руках носила!» В аплодисментном плеске премьер проплывает над Невским, и дамы, и дети-пузанчики кидают цветы и роза́нчики. Если ж с безработы загрустится сам себя уверенно и быстро назначает — то военным, то юстиции, то каким-нибудь еще министром. И вновь возвращается, сказанув, ворочать дела и вертеть казну. Подмахивает подписи достойно и старательно. «Аграрные? Беспорядки? Ряд? Пошлите, этот, как его, — карательный отряд! Ленин? Большевики? Арестуйте и выловите! Что? Не дают? Не слышу без очков. Кстати… об его превосходительстве… Корнилове… Нельзя ли сговориться сюда казачков?!. Их величество? Знаю. Ну да!.. И руку жал. Какая ерунда! Императора? На воду? И черную корку? При чем тут Совет? Приказываю туда, в Лондон, к королю Георгу». Пришит к истории, пронумерован и скреплен, и его рисуют — и Бродский и Репин.4
Петербургские окна. Сине и темно. Город сном и покоем скован. НО не спит мадам Кускова. Любовь и страсть вернулись к старушке. Кровать и мечты розоватит восток. Ее Волос пожелтелые стружки причудливо склеил слезливый восторг. С чего это девушка сохнет и вянет? Молчит… но чувство, видать, велико́. Ее утешает усастая няня, видавшая виды, — Пе Эн Милюков. «Не спится, няня… Здесь так душно… Открой окно да сядь ко мне», – Кускова, что с тобой? — «Мне скушно… Поговорим о старине». – О чем, Кускова? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных былей, небылиц — и про царей и про цариц. И я б, с моим умишкой хилым, — короновала б Михаила. Чем брать династию чужую… Да ты не слушаешь меня?! — «Ах, няня, няня, я тоскую. Мне тошно, милая моя. Я плакать, я рыдать готова…» – Господь помилуй и спаси… Чего ты хочешь? Попроси. Чтобы тебе на нас не дуться, дадим свобод и конституций… Дай окроплю речей водою горящий бунт… — «Я не больна. Я… знаешь, няня… влюблена…» – Дитя мое, господь с тобою! — И Милюков ее с мольбой крестил профессорской рукой. – Оставь, Кускова, в наши лета любить задаром смысла нету. — «Я влюблена», — шептала снова ушко профессору она. – Сердечный друг, ты нездорова. — «Оставь меня, я влюблена». – Кускова, нервы, — полечись ты… — «Ах, няня, он такой речистый… Ах, няня-няня! няня! Ах! Его же ж носят на руках. А как поет он про свободу… Я с ним хочу, — не с ним, так в воду». Старушка тычется в подушку, и только слышно: «Саша! — Душка!» Смахнувши слезы рукавом, взревел усастый нянь: – В кого? Да говори ты нараспашку! — «В Керенского…» – В какого? В Сашку? — И от признания такого лицо расплы́лось Милюкова. От счастия профессор о́жил: – Ну, это что ж — одно и то же! При Николае и при Саше мы сохраним доходы наши. — Быть может, на брегах Невы подобных дам видали вы?5
Звякая шпорами довоенной выковки, аксельбантами увешанные до пупов, говорили — адъютант (в «Селекте» на Лиговке) и штабс-капитан Попов. «Господин адъютант, не возражайте, не дам, — скажите, чего еще поджидаем мы? Россию жиды продают жидам, и кадровое офицерство уже под жидами! Вы, конешно, профессор, либерал, но казачество, пожалуйста, оставьте в покое. Например, мое положенье беря, это… черт его знает, что это такое! Сегодня с денщиком: ору ему – эй, наваксь щиблетину, чтоб видеть рыло в ней! — И конешно — к матушке, а он меня к моей, к матушке, к свет к Елизавете Кирилловне!» «Нет, я не за монархию с коронами, с орлами, НО для социализма нужен базис. Сначала демократия, потом парламент. Культура нужна. А мы — Азия-с! Я даже — социалист. Но не граблю, не жгу. Разве можно сразу? Конешно, нет! Постепенно, понемногу, сегодня, завтра, через двадцать лет. А эти? От Вильгельма кресты да ленты. В Берлине выходили с билетом перронным. Деньги штаба — шпионы и агенты. В Кресты бы тех, кто ездит в пломбированном!» «С этим согласен, это конешно, этой сволочи мало повешено». «Ленина, который смуту сеет, председателем, што ли, совета министров? Что ты?! Рехнулась, старушка Рассея? Касторки прими! Поправьсь! Выздоровь! Офицерам — Суворова, Голенищева-Кутузова благодаря политикам ловким быть под началом Бронштейна бескартузого, какого-то бесштанного Левки?! Дудки! С казачеством шутки плохи — повыпускаем им потроха…» И все адъютант – ха да хи — Попов – хи да ха. — «Будьте дважды прокляты и трижды поколейте! Господин адъютант, позвольте ухо: их … ревосходительство … ерал Каледин, с Дону, с плеточкой, извольте понюхать! Его превосходительство… Да разве он один?! Казачество кубанское, Днепр, Дон…» И всё стаканами — дон и динь, и шпорами — динь и дон. Капитан упился, как сова. Челядь чайники бесшумно подавала. А в конце у Лиговки другие слова подымались из подвалов. «Я, товарищи, — из военной бюры. Кончили заседание — тока-тока. Вот тебе, к маузеру, двести бери, а это — сто патронов к винтовкам. Пока соглашатели замазывали рты, подходит казатчина и самокатчина. Приказано питерцам идти на фронты, а сюда направляют с Гатчины. Вам, которые с Выборгской стороны, вам заходить с моста Литейного. В сумерках, тоньше дискантовой струны, не галдеть и не делать заведенья питейного. Я за Лашевичем беру телефон, — не задушим, так нас задушат. Или возьму телефон, или вон из тела пролетарскую душу. Сам приехал, в пальтишке рваном, — ходит, никем не опознан. Сегодня, говорит, подыматься рано. А послезавтра — поздно. Завтра, значит. Ну, не сдобровать им! Быть Кере́нскому биту и ободрану! Уж мы подымем с царёвой кровати эту самую Александру Федоровну».6
Дул, как всегда, октябрь ветра́ми, как дуют при капитализме. За Троицкий дули авто и трамы, обычные рельсы вызмеив. Под мостом Нева-река, по Неве плывут кронштадтцы… От винтовок говорка скоро Зимнему шататься. В бешеном автомобиле, покрышки сбивши, тихий, вроде упакованной трубы, за Гатчину, забившись, улепетывал бывший — «В рог, в бараний! Взбунтовавшиеся рабы!..» Видят редких звезд глаза, окружая Зимний в кольца, по Мильонной из казарм надвигаются кексгольмцы. А в Смольном, в думах о битве и войске, Ильич гримированный мечет шажки, да перед картой Антонов с Подвойским `втыкают в места атак флажки. Лучше власть добром оставь, никуда тебе не деться! Ото всех идут застав к Зимнему красногвардейцы. Отряды рабочих, матросов, голи — дошли, штыком домерцав, как будто руки сошлись на горле, холёном горле дворца. Две тени встало. Огромных и шатких. Сдвинулись. Лоб о лоб. И двор дворцовый руками решетки стиснул торс толп. Качались две огромных тени от ветра и пуль скоростей, — да пулеметы, будто хрустенье ломаемых костей. Серчают стоящие павловцы. «В политику… начали… баловаться… Куда против нас бочкаревским дурам?! Приказывали б на штурм». Но тень боролась, спутав лапы, — и лап никто не разнимал и не рвал. Не выдержав молчания, сдавался слабый — уходил от испуга, от нерва. Первым, боязнью одолен, снялся бабий батальон. Ушли с батарей к одиннадцати михайловцы или константиновцы… А Керенский — спрятался, попробуй вымань его! Задумывалась казачья башка. И редели защитники Зимнего, как зубья у гребешка. И долго длилось это молчанье, молчанье надежд и молчанье отчаянья. А в Зимнем, в мягких мебеля́х с бронзовыми выкрутами, сидят министры в меди блях, и пахнет гладко выбритыми. На них не глядят и их не слушают они у штыков в лесу. Они упадут переспевшей грушею, как только их потрясут. Голос – редок. Шепотом, знаками. – Ке́ренский где-то? — – Он? За казаками. — И снова молча. И только по́д вечер: – Где Прокопович? — – Нет Прокоповича. — А из-за Николаевского чугунного моста́, как смерть, глядит неласковая Аврорьих башен сталь. И вот высоко над воротником поднялось лицо Коновалова. Шум, который тек родником, теперь прибоем наваливал. Кто длинный такой?.. Дотянуться смог! По каждому из стекол удары палки. Это — из трехдюймовок шарахнули форты Петропавловки. А поверху город как будто взорван: бабахнула шестидюймовка Авророва. И вот еще не успела она рассыпаться, гулка и грозна, — над Петропавловской взви́лся фонарь, восстанья условный знак. – Долой! На приступ! Вперед! На приступ! — Ворва́лись. На ковры! Под раззолоченный кров! Каждой лестницы каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров. Как будто водою комнаты по́лня, текли, сливались над каждой потерей, и схватки вспыхивали жарче полдня за каждым диваном, у каждой портьеры. По этой анфиладе, приветствиями оранной монархам, несущим короны-клады, — бархатными залами, раскатистыми коридорами гремели, бились сапоги и приклады. Какой-то смущенный сукин сын, а над ним путиловец — нежней папаши: «Ты, парнишка, выкладай ворованные часы — часы теперича наши!» Топот рос и тех тринадцать сгреб, забил, зашиб, затыркал. Забились под галстук — за что им приняться? — Как будто топор навис над затылком. За двести шагов… за тридцать… за двадцать… Вбегает юнкер: «Драться глупо!» Тринадцать визгов: – Сдаваться! Сдаваться! — А в двери — бушлаты, шинели, тулупы… И в эту тишину раскатившийся всласть бас, окрепший над реями рея: «Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время». И один из ворвавшихся, пенснишки тронув, объявил, как об чем-то простом и несложном: «Я, председатель реввоенкомитета Антонов, Временное правительство объявляю низложен — ным». А в Смольном толпа, растопырив груди, покрывала песней фе́йерверк сведений. Впервые вместо: – и это будет… — пели: – и это есть наш последний… — До рассвета осталось не больше аршина, — руки лучей с востока взмо́лены. Товарищ Подвойский сел в машину, сказал устало: «Кончено… в Смольный». Умолк пулемет. Угодил толко́в. Умолкнул пуль звенящий улей. Горели, как звезды, грани штыков, бледнели звезды небес в карауле. Дул, как всегда, октябрь ветра́ми. Рельсы по мосту вызмеив, гонку свою продолжали трамы уже — при социализме.7
В такие ночи, в такие дни, в часы такой поры на улицах разве что одни поэты и воры́. Сумрак на мир океан катнул. Синь. Над кострами — бур. Подводной лодкой пошел ко дну взорванный Петербург. И лишь когда от горящих вихров шатался сумрак бурый, опять вспоминалось: с боков и с верхов непрерывная буря. На воду сумрак похож и так — бездонна синяя прорва. А тут еще и виденьем кита туша Авророва. Огонь пулеметный площадь остриг. Набережные — пусты́. И лишь хорохорятся костры в сумерках густых. И здесь, где земля от жары вязка́, с испугу или со льда, ладони держа у огня в языках, греется солдат. Солдату упал огонь на глаза, на клок волос лег. Я узнал, удивился, сказал: «Здравствуйте, Александр Блок. Лафа футуристам, фрак старья разлазится каждым швом». Блок посмотрел — костры горят — «Очень хорошо». Кругом тонула Россия Блока… Незнакомки, дымки севера шли на дно, как идут обломки и жестянки консервов. И сразу лицо скупее менял, мрачнее, чем смерть на свадьбе: «Пишут… из деревни… сожгли… у меня… библиотеку в усадьбе». Уставился Блок — и Блокова тень глазеет, на стенке привстав… Как будто оба ждут по воде шагающего Христа. Но Блоку Христос являться не стал. У Блока тоска у глаз. Живые, с песней вместо Христа, люди из-за угла. Вставайте! Вставайте! Вставайте! Работники и батраки. Зажмите, косарь и кователь, винтовку в железо руки! Вверх — флаг! Рвань — встань! Враг — ляг! День — дрянь. За хлебом! За миром! За волей! Бери у буржуев завод! Бери у помещика поле! Братайся, дерущийся взвод! Сгинь — стар. В пух, в прах. Бей — бар! Трах! тах! Довольно, довольно, довольно покорность нести на горбах. Дрожи, капиталова дворня! Тряситесь, короны, на лбах! Жир ёжь страх плах! Трах! тах! Tax! тах! Эта песня, перепетая по-своему, доходила до глухих крестьян — и вставали села, содрогая воем, по дороге топоры крестя. Но — жи — чком на месте чик лю — то — го по — мещика. Гос — по — дин по — мещичек, со — би — райте вещи-ка! До — шло до поры, вы — хо — ди, босы, вос — три топоры, подымай косы. Чем хуже моя Нина?! Ба — рыни сами. Тащь в хату пианино, граммофон с часами! Под — хо — ди — те, орлы! Будя — пограбили. Встречай в колы, провожай в грабли! Дело Стеньки с Пугачевым, разгорайся жарче-ка! Все поместья богачевы разметем пожарчиком. Под — пусть петуха! Подымай вилы! Эх, не потухай, — пет — тух милый! Черт ему теперь родня! Головы — кочаном. Пулеметов трескотня сыпется с тачанок. «Эх, яблочко, цвета ясного. Бей справа белаво, слева краснова». Этот вихрь, от мысли до курка, и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды.8
Холод большой. Зима здорова. Но блузы прилипли к потненьким. Под блузой коммунисты. Грузят дрова. На трудовом субботнике. Мы не уйдем, хотя уйти имеем все права. В наши вагоны, на нашем пути, наши грузим дрова. Можно уйти часа в два, — но мы — уйдем поздно. Нашим товарищам наши дрова нужны: товарищи мерзнут. Работа трудна, работа томит. За нее никаких копеек. Но мы работаем, будто мы делаем величайшую эпопею. Мы будем работать, все стерпя, чтоб жизнь, колёса дней торопя, бежала в железном марше в наших вагонах, по нашим степям, в города промерзшие наши. «Дяденька, что вы делаете тут, столько больших дядей?» – Что? Социализм: свободный труд свободно собравшихся людей.9
Перед нашею республикой стоят богатые. Но как постичь ее? И вопросам разнедоуменным не́т числа: что это за нация такая «социалистичья», и что это за «соци — алистическое отечество»? «Мы восторги ваши понять бессильны, Чем восторгаются? Про что поют? Какие такие фрукты-апельсины растут в большевицком вашем раю? Что вы знали, кроме хлеба и воды, — с трудом перебиваясь со дня на день? Такого отечества такой дым разве уж настолько приятен? За что вы идете, если велят — «воюй»? Можно быть разорванным бомбищей, можно умереть за землю за свою, но как умирать за общую? Приятно русскому с русским обняться, — но у вас и имя «Россия» утеряно. Что это за отечество у забывших об нации? Какая нация у вас? Коминтерина? Жена, да квартира, да счет текущий — вот это — отечество, райские кущи. Ради бы вот такого отечества мы понимали б и смерть и молодечество». Слушайте, национальный трутень, — день наш тем и хорош, что труден. Эта песня песней будет наших бед, побед, буден.10
Политика — проста. Как воды глоток. Понимают ощерившие сытую пасть, что если в Россиях увязнет коготок, всей буржуазной птичке — пропасть. Из «сюртэ женераль», из «интеллидженс сервис», «дефензивы» и «сигуранцы» выходит разная сволочь и стерва, шьет шинели цвета серого, бомбы кладет в ранцы. Набились в трюмы, палубы обсели на деньги вербовочного агентства. В Новороссийск плывут из Марселя, из Дувра плывут к Архангельску. С песней, с виски, сыты по-свински. Килями вскопаны воды холодные. Смотрят перископами лодки подводные. Плывут крейсера, снаряды соря. И миноносцы с минами носятся. А поверх всех с пушками чудовищной длинноты сверх — дредноуты. Разными газами воняя гадко, тучи пропеллерами выдрав, с авиаматки на авиаматку пе — ре — пархивают «гидро». Послал капитал капитанов ученых. Горло нащупали и стискивают. Ткнешься в Белое, ткнешься в Черное, в Каспийское, в Балтийское, — куда корабль ни тычется, конец катаниям. Стоит морей владычица, бульдожья Британия. Со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо. – Красным не нравится?! Им голодно?! Рыбкой наедитесь, пойдя на дно. — А кому на суше грабить охота, те с кораблей сходили пехотой. – На море потопим, на суше потопаем. — Чужими руками жар гребя, дым отечества пускают пострелины — `выставляют впереди одураченных ребят, баронов и князей недорасстрелянных. Могилы копайте, гроба копите — Юденича рати прут на Питер. В обозах Еды вкуснятся, консервы — пуд. Танков гусеницы на Питер прут. От севера идет адмирал Колчак, сибирский хлеб сапогом толча. Рабочим на расстрел, поповнам на утехи, с ним идут голубые чехи. Траншеи, машинами выбранные, саперами Крым перекопан, — Врангель крупнокалиберными орудует с Перекопа. Любят полковников сантиментальные леди. Полковники любят поговорить на обеде. – Я иду, мол (прихлебывает виски), а на меня десяток чудовищ большевицких. Раз – одного, другого — ррраз, — кстати, как дэнди, и девушку спас. — Леди, спросите у мерина сивого — он как Мурманск разизнасиловал. Спросите, как — Двина-река, кровью крашенная, трупы вытая, с кладью страшною шла в Ледовитый. `Как храбрецы расстреливали кучей коммуниста одного, да и тот скручен. Как офицера́ его величества бежали от выстрелов, берег вычистя. Как над серыми хатами огненные перья и руки холёные туго у горл. Но… «итс э лонг уэй ту Типерери, итс э лонг уэй ту го!» На первую республику рабочих и крестьян, сверкая выстрелами, штыками блестя, гнали армии, флоты катили богатые мира, и эти и те… Будьте вы прокляты, прогнившие королевства и демократии, со своими подмоченными «фратэрнитэ» и «эгалитэ»![1] Свинцовый льется на нас кипяток. Одни мы — и спрятаться негде. «Янки дудль кип ит об, Янки дудль дэнди». Посреди винтовок и орудий голосища Москва — островком, и мы на островке. Мы — голодные, мы — нищие, с Лениным в башке и с наганом в руке.11
Несется жизнь, овеевая, проста, суха. Живу в домах Стахеева я, теперь Веэсэнха. Свезли, винтовкой звякая, богатых и кассы. Теперь здесь всякие и люди и классы. Зимой в печурку-пчелку суют тома шекспирьи. Зубами щелкают, — картошка — пир им. А летом слушают асфальт с копейками в окне: – Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне! — Я в этом каменном котле варюсь, и эта жизнь — и бег, и бой, и сон, и тлен — в домовьи этажи отражена от пят до лба, грозою омываемая, как отражается толпа идущими трамваями. В пальбу присев на корточки, в покой глазами к форточке, чтоб было видней, я в комнатенке-лодочке проплыл три тыщи дней.12
Ходят спекулянты вокруг Главтопа. Обнимут, зацелуют, убьют за руп. Секретарши ответственные валенками топают. За хлебными карточками стоят лесорубы. Много дела, мало горя им, фунт – целый! — первой категории Рубят, липовый чай выкушав. – Мы не Филипповы, мы — привыкши. Будет обед, будет ужин, — белых бы вон отбить от ворот. Есть захотелось, пояс — потуже, в руки винтовку и на фронт. — А мимо — незаменимый, Стуча сапогом, идет за пайком — Правление выдало урюк и повидло. Богатые — ловче, едят у Зунделовича. Ни щей, ни каш — бифштекс с бульоном, хлеб ваш, полтора миллиона. Ученому хуже: фосфор нужен, масло на блюдце. Но, как на́зло, есть революция, а нету масла. Они научные. Напишут, вылечат. Мандат, собственноручный, Анатоль Васильича. Где хлеб да мяса́, придут на час к вам. Читает комиссар мандат Луначарского: «Так… сахар… так… жирок вам. Дров… березовых… посуше поленья… и шубу широкого потребленья. Я вас, товарищ, спрашиваю в упор. Хотите — берите головной убор. Приходит каждый с разной блажью. Берите пока што ногу лошажью!» Мех на глаза, как баба-яга, идут назад на трех ногах.13
Двенадцать квадратных аршин жилья. Четверо в помещении — Лиля, Ося, я и собака Щеник. Шапчонку взял оборванную и вытащил салазки. – Куда идешь? — В уборную иду. На Ярославский. Как парус, шуба на весу, воняет козлом она. В санях полено везу, забрал забор разломанный Полено — тушею, тверже камня. Как будто вспухшее колено великанье. Вхожу с бревном в обнимку. Запотел, вымок. Важно и чинно строгаю перочинным. Нож — ржа. Режу. Радуюсь. В голове жар подымает градус. Зацветают луга, май поет в уши — это тянется угар из-под черных вьюшек. Четверо сосулек свернулись, уснули. Приходят люди, ходят, будят. Добудились еле — с углей угорели. В окно — сугроб. Глядит горбат. Не вымерзли покамест? Морозы в ночь идут, скрипят снегами-сапогами. Небосвод, наклонившийся на комнату мою, морем заката обли́т. По розовой глади моря, на юг — тучи-корабли. За гладь, за розовую, бросать якоря, туда, где березовые дрова горят. Я много в теплых странах плутал. Но только в этой зиме понятной стала мне теплота любовей, дружб и семей. Лишь лежа в такую вот гололедь, зубами вместе проляскав — поймешь: нельзя на людей жалеть ни одеяло, ни ласку. Землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь и мчишь, колеся, — но землю, с которою вместе мерз, вовек разлюбить нельзя.14
Скрыла та зима, худа и строга, всех, кто на́век ушел ко сну. Где уж тут словам! И в этих строках боли волжской я не коснусь. Я дни беру из ряда дней, что с тыщей дней в родне. Из серой полосы деньки, их гнали годы — водники — не очень сытенькие, не очень голодненькие. Если я чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза. Круглые да карие, горячие до гари. Телефон взбесился шалый, в ухо грохнул обухом: карие глазища сжала голода опухоль. Врач наболтал — чтоб глаза глазели, нужна теплота, нужна зелень. Не домой, не на суп, а к любимой в гости, две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфект да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол — полена березовых дров. Мокрые, тощие под мышкой дровинки, чуть потолще средней бровинки. Вспухли щеки. Глазки — щелки. Зелень и ласки вы́ходили глазки. Больше блюдца, смотрят революцию. Мне легше, чем всем, — я Маяковский. Сижу и ем кусок конский. Скрип — дверь, плача. Сестра младшая. – Здравствуй, Володя! – Здравствуй, Оля! – Завтра новогодие — нет ли соли? — Делю, в ладонях вешаю щепотку отсыревшую. Одолевая снег и страх, скользит сестра, идет сестра, бредет трехверстной Преснею солить картошку пресную. Рядом мороз шел и рос. Затевал щекотку — отдай щепотку. Пришла, а соль не валится — примерзла к пальцам. За стенкой шарк: «Иди, жена, продай пиджак, купи пшена». Окно, — с него идут снега, мягка снегов тиха нога. Бела, гола столиц скала. Прилип к скале лесов скелет. И вот из-за леса небу в шаль вползает солнца вша. Декабрьский рассвет, изможденный и поздний, встает над Москвой горячкой тифозной. Ушли тучи к странам тучным. За тучей берегом лежит Америка. Лежала, лакала кофе, какао. В лицо вам, толще свиных причуд, круглей ресторанных блюд, из нищей нашей земли кричу: Я землю эту люблю. Можно забыть, где и когда пузы растил и зобы, но землю, с которой вдвоем голодал, — нельзя никогда забыть!15
Под ухом самым лестница ступенек на двести, — несут минуты-вестницы по лестнице вести. Дни пришли и топали: – Дожили, вот вам, — нету топлив брюхам заводовым. Дымом небесный лак помутив, до самой трубы, до носа локомотив стоит в заносах. Положив на валенки цветные заплаты, из ворот, из железного зёва, снова шли, ухватясь за лопаты, все, кто мобилизован. Вышли за́ лес, вместе взялись. Я ли, вы ли, откопали, вырыли. И снова поезд ка́тит за снежную скатерть. Слабеет тело без ед и питья, носилки сделали, руки сплетя. Теперь запевай, и домой можно — да на руки положено пять обмороженных. Сегодня на лестнице, грязной и тусклой, копались обывательские слухи-свиньи. Деникин подходит к са́мой, к тульской, к пороховой сердцевине. Обулись обыватели, по пыли печатают шепотоголосые кухарочьи хоры́. – Будет… крупичатая!.. пуды непочатые… ручьи – чаи́, сухари, сахары́. Бли-и-и-зко беленькие, береги ке́ренки! — Но город проснулся, в плакаты кадрованный, — это партия звала: «Пролетарий, на коня!» И красные скачут на юг эскадроны — Мамонтова нагонять. Сегодня день вбежал второпях, криком тишь порвав, простреленным легким часто хрипя, упал и кончался, кровав. Кровь по ступенькам стекала на́ пол, стыла с пылью пополам и снова на пол каплями капала из-под пули Каплан. Четверолапые зашагали, визг шел шакалий. Салоп говорит чуйке, чуйка салопу: – Заёрзали длинноносые щуки! Скоро всех слопают! — А потом топырили глаза-таре́лины в длинную фамилий и званий тропу. Ветер сдирает списки расстрелянных, рвет, закручивает и пускает в трубу. Лапа класса лежит на хищнике — Лубянская лапа Че-ка. – Замрите, враги! Отойдите, лишненькие! Обыватели! Смирно! У очага! — Миллионный класс вставал за Ильича против белого чудовища клыкастого, и вливалось в Ленина, леча, этой воли лучшее лекарство. Хоронились обыватели за кухни, за пеленки. – Нас не трогайте — мы цыпленки. Мы только мошки, мы ждем кормежки. Закройте, время, вашу пасть! Мы обыватели — нас обувайте вы, и мы уже за вашу власть. — А утром небо — веча зво́нница! Вчерашний день виня во лжи, расколоколивали птицы и солнце: жив, жив, жив, жив! И снова дни чередой заводной сбегались и просили. – Идем за нами — «еще одно усилье». От боя к труду — от труда до атак, — в голоде, в холоде и наготе держали взятое, да так, что кровь выступала из-под ногтей. Я видел места, где инжир с айвой росли без труда у рта моего, — к таким относишься и́наче. Но землю, которую завоевал и полуживую вынянчил, где с пулей встань, с винтовкой ложись, где каплей льешься с массами, — с такою землею пойдешь на жизнь, на труд, на праздник и на́ смерть!16
Мне рассказывал тихий еврей, Павел Ильич Лавут: «Только что вышел я из дверей, вижу — они плывут…» Бегут по Севастополю к дымящим пароходам. За де́нь подметок стопали, как за́ год похода. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня, мотня, — бегут добровольцы, задрав порточки, — чистая публика и солдатня. У кого — канарейка, у кого — роялина, кто со шкафом, кто с утюгом. Кадеты — на что уж люди лояльные — толкались локтями, крыли матюгом. Забыли приличия, бросили моду, кто — без юбки, а кто — без носков. Бьет мужчина даму в морду, солдат полковника сбивает с мостков. Наши наседали, крыли по трапам, `кашей грузился последний эшелон. Хлопнув дверью, сухой, как рапорт, из штаба опустевшего вышел он. Глядя на́ ноги, шагом резким шел Врангель в черной черкеске. Город бросили. На молу — голо. Лодка шестивёсельная стоит у мола. И над белым тленом, как от пули падающий, на оба колена упал главнокомандующий. Трижды землю поцеловавши, трижды город перекрестил. Под пули в лодку прыгнул… – Ваше превосходительство, грести? — – Грести! — `Убрали весло. Мотор заторкал. Пошла весело́ к «Алмазу» моторка. Пулей пролетела штандартная яхта. А в транспортах-галошинах далеко, сзади, тащились оторванные от станка и пахот, узлов полтораста накручивая за день. От родины в лапы турецкой полиции, к туркам в дыру, в Дарданеллы узкие, плыли завтрашние галлиполийцы, плыли вчерашние русские. Впе — реди година на године. Каждого трясись, который в каске. Будешь доить коров в Аргентине, будешь мереть по ямам африканским. Чужие волны качали транспорты, флаги с полумесяцем бросались в очи, и с транспортов за яхтой гналось — «Аспиды, сперли казну и удрали, сволочи». Уже экипажам оберегаться пули шальной надо. Два миноносца-американца стояли на рейде рядом. Адмирал трубой обвел стреляющих гор край: – Ол райт. — И ушли в хвосте отступающих свор, — орудия на город, курс на Босфор. В духовках солнца горы́ жарко́е. Воздух цветы рассиропили. Наши с песней идут от Джанкоя, сыпятся с Симферополя. Перебивая пуль разговор, знаменами бой овевая, с красными вместе спускается с гор песня боевая. Не гнулась, когда пулеметом крошило, вставала, бесстрашная, в дожде-свинце: «И с нами Ворошилов, первый красный офицер». Слушают пушки, морские ведьмы, У — ле — петывая во винты во все, как сыпется с гор – «готовы умереть мы за Эс Эс Эс Эр!» — Начштаба морщит лоб. Пальцы корявой руки буквы непослушные гнут: «Врангель оп — раки — нут в море. Пленных нет». Покамест — точка и телеграмме и войне. Вспомнили — недопахано, недожато у кого, у кого доменные топки да зо́ри. И пошли, отирая пот рукавом, расставив на вышках дозоры.17
Хвалить не заставят ни долг, ни стих всего, что делаем мы. Я пол-отечества мог бы снести, а пол — отстроить, умыв. Я с теми, кто вышел строить и месть `в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды — которое будет. Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи. Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. Я вижу — где сор сегодня гниет, где только земля простая — на сажень вижу, из-под нее коммуны дома прорастают. И меркнет доверье к природным дарам с унылым пудом сенца́, и поворачиваются к тракторам крестьян заскорузлые сердца. И планы, что раньше на станциях лбов задерживал нищенства тормоз, сегодня встают из дня голубого, железом и камнем формясь. И я, как весну человечества, рожденную в трудах и в бою, пою мое отечество, республику мою!18
На девять сюда октябрей и маёв, под красными флагами праздничных шествий, носил с миллионами сердце мое, уверен и весел, горд и торжествен. Сюда, под траур и плеск чернофлажий, пока убитого кровь горяча, бежал, от тревоги, на выстрелы вражьи, молчать и мрачнеть, кричать и рычать. Я здесь бывал в барабанах стучащих и в мертвом холоде слез и льдин, а чаще еще — просто один. Солдаты башен стражей стоят, подняв свои островерхие шлемы, и, злобу в башках куполов тая, притворствуют церкви, монашьи шельмы. Ночь — и на головы нам луна. Она идет оттуда откуда-то… оттуда, где Совнарком и ЦИК, Кремля кусок от ночи откутав, переползает через зубцы. Вползает на гладкий валун, на секунду склоняет голову, и вновь голова-лунь уносится с камня голого. Место лобное — для голов ужасно неудобное. И лунным пламенем озарена мне площадь в сияньи, в яви в денной… Стена — и женщина со знаменем склонилась над теми, кто лег под стеной. Облил булыжники лунный никель, штыки от луны и тверже и злей, и, как нагроможденные книги, — его Мавзолей. Но в эту дверь никакая тоска не втянет меня, черна и вязка́, — души не смущу мертвизной, — он бьется, как бился в сердцах и висках, живой человечьей весной. Но могилы не пускают, — и меня останавливают имена. Читаю угрюмо: «товарищ Красин». И вижу — Париж и из окон До́рио… И Красин едет, сед и прекрасен, сквозь радость рабочих, шумящую морево. Вот с этим виделся, чуть не за час. Смеялся. Снимался около… И падает Войков, кровью сочась, — и кровью газета намокла. За ним предо мной на мгновенье короткое такой, с каким портретами сжи́лись, — в шинели измятой, с острой бородкой, `прошел человек, железен и жилист. Юноше, обдумывающему житье, решающему — сделать бы жизнь с кого, скажу не задумываясь — «Делай ее с товарища Дзержинского». Кто костьми, кто пеплом стенам под стопу улеглись… А то и пепла нет. От трудов, от каторг и от пуль, и никто почти — от долгих лет. И чудится мне, что на красном погосте товарищей мучит тревоги отрава. По пеплам идет, сочится по кости, выходит на свет по цветам и по травам. И травы с цветами шуршат в беспокойстве. – Скажите — вы здесь? Скажите — не сдали? Идут ли вперед? Не стоят ли? — Скажите. Достроит коммуну из света и стали республики вашей сегодняшний житель? — Тише, товарищи, спите… Ваша подросток-страна с каждой весной ослепительней, крепнет, сильна и стройна. И снова шорох в пепельной вазе, лепечут венки языками лент: – А в ихних черных Европах и Азиях боязнь, дремота и цепи? — Нет! В мире насилья и денег, тюрем и петель витья — ваши великие тени ходят, будя и ведя. – А вас не тянет всевластная тина? Чиновность в мозгах паутину не сви́ла? Скажите — цела? Скажите — едина? Готова ли к бою партийная сила? — Спите, товарищи, тише… Кто ваш покой отберет? Встанем, штыки ощетинивши, с первым приказом: «Вперед!»19
Я земной шар чуть не весь обошел, — и жизнь хороша, и жить хорошо. А в нашей буче, боевой, кипучей, — и того лучше. Вьется улица-змея. Дома вдоль змеи. Улица — моя. Дома — мои. Окна разинув, стоят магазины. В окнах продукты: вина, фрукты. От мух кисея. Сыры не засижены. Лампы сияют. «Цены снижены». Стала оперяться моя кооперация. Бьем грошом. Очень хорошо. Грудью у витринных книжных груд Моя фамилия в поэтической рубрике. Радуюсь я — это мой труд вливается в труд моей республики. Пыль взбили шиной губатой — в моем автомобиле мои депутаты. В красное здание на заседание. Сидите, не совейте в моем Моссовете. Розовые лица. Рево́львер желт. Моя милиция меня бережет. Жезлом правит, чтоб вправо шел. Пойду направо. Очень хорошо. Надо мною небо. Синий шелк! Никогда не было так хорошо! Тучи — кочки переплыли летчики. Это летчики мои. Встал, словно дерево, я. Всыпят, как пойдут в бои, по число по первое. В газету глаза: молодцы – венцы! Буржуям под зад наддают коленцем. Суд жгут. Зер гут[2]. Идет пожар сквозь бумажный шорох. Прокуроры дрожат. Как хорошо! Пестрит передовица угроз паршой. Чтоб им подавиться. Грозят? Хорошо. Полки идут у меня на виду. Барабану в бока бьют войска. Нога крепка, голова высока. Пушки ввозятся, — идут краснозвездцы. Приспособил к маршу такт ноги: вра — ги ва — ши — мо — и вра — ги. Лезут? Хорошо. Сотрем в порошок. Дымовой дых тяг. Воздуха береги. Пых-дых, пых — тят мои фабрики. Пыши, машина, шибче-ка, вовек чтоб не смолкла, — побольше ситчика моим комсомолкам. Ветер подул в соседнем саду. В ду — хах про — шел. Как хо — рошо! За городом — поле, В полях — деревеньки. В деревнях — крестьяне. Бороды веники. Сидят папаши. Каждый хитр. Землю попашет, попишет стихи. Что ни хутор, от ранних утр работа люба. Сеют, пекут мне хлеба. Доят, пашут, ловят рыбицу. Республика наша строится, дыбится. Другим странам по́ сто. История — пастью гроба. А моя страна — подросток, — твори, выдумывай, пробуй! Радость прет. Не для вас уделить ли нам?! Жизнь прекрасна и удивительна. Лет до ста́ расти нам без ста рости. Год от года расти нашей бодрости. Славьте, молот и стих, землю молодости.1927
Примечания
1
Братство и равенство (фр. – fraternite, egalite).
(обратно)2
Очень хорошо (нем. – Sehr gut).
(обратно)
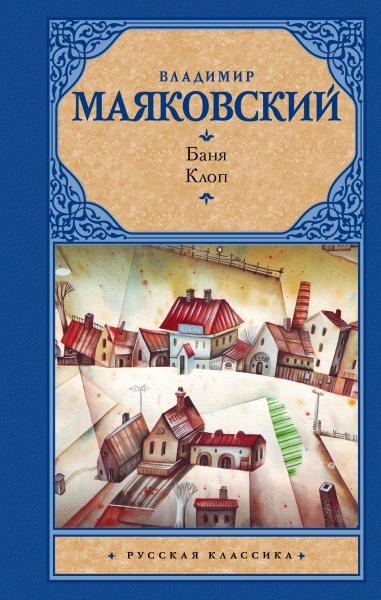


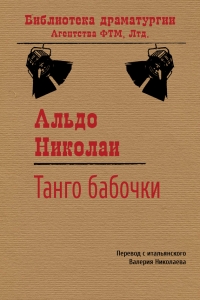
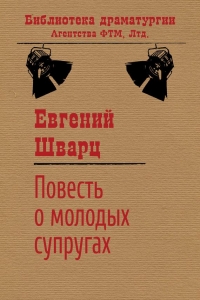
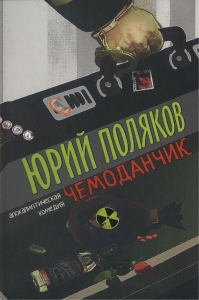

Комментарии к книге «Баня. Клоп», Владимир Владимирович Маяковский
Всего 0 комментариев