Велимир Хлебников Степь отпоёт
© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик». Издание, оформление. 2016
* * *
Виктор Владимирович Хлебников (1885-1922)
Свояси
В «Деньем боге» я хотел взять славянское чистое начало в его золотой липовости и нитями, протянутыми от Волги в Грецию. Пользовался славянскими полабскими словами (Леуна).
В. Брюсов ошибочно увидел в этом словотворчество.
И «Детях Выдры» я взял струны Азии, ее смуглое чугунное крыло и, давая разные судьбы двоих на протяжении веков, я, опираясь на древнейшие в мире предания орочей об огненном состоянии земли, заставил Сына Выдры с копьем броситься на солнце и уничтожить два из трех солнц – красное и черное.
Итак, Восток дает чугунность крыл Сына Выдры, а Запад – золотую липовость.
Отдельные паруса создают сложную постройку, рассказывают о Волге как о реке индоруссов и используют Персию как угол русской и македонской прямых. Сказания орочей, древнего амурского племени, поразили меня, и я задумал построить общеазийское сознание в песнях.
В «Ка» я дал созвучие «Египетским ночам», тяготение метели севера к Нилу и его зною.
Грань Египта взята – 1378 год до Р. Х., когда Египет сломил свои верования, как горсть гнилого хвороста, и личные божества были заменены Руковолосым Солнцем, сияющим над людьми. Нагое Солнце, голый круг Солнца, стал на некоторое время волею Магомета Египта – Аменофиса IV единым божеством древних храмов. Если определять землями, то в «Ка» серебряный звук, в «Девьем боге» золотой звук, в «Детях Выдры» – железно-медный.
Азийский голос «Детей Выдры», славянский «Девьего бога» и африканский «Ка».
«Вила и Леший» – союз балканской и сарматской художественной мысли.
Город задет в «Маркизе Дэзес» и «Чертике».
В статьях я старался разумно обосновать право на Провидение, создав мерный взгляд на законы времени, а в учении о слове я имею частые беседы с Лейбница.
«Крымское» написано мольным размером.
Мелкие вещи тогда значительны, когда они так же начинают будущее, как падающая звезда оставляет за собой огненную полосу; они должны иметь такую скорость, чтобы пробивать настоящее. Пока мы не не умеем определить, что создает эту скорость. Но знаем, что вещь хороша, когда она, как камень будущего, зажигает настоящее.
В «Кузнечике», в «Бобэоби», в «О, рассмейтесь» были узлы будущего – малый выход бога огня и его веселый плеск. Когда я замечал, как старые строки вдруг тускнели, когда скрытое в них содержание становилось сегодняшним днем, я понял, что родина творчества – будущее. Оттуда дует ветер богов слова.
Я в чистом неразумии писал «Перевертень» и, только пережив на себе его строки: «Чин зван мечем навзничь» (война) – и ощутив, как они стали позднее пустотой: «Пал, а норов худ и дух ворона лап», – понял их как отраженные лучи будущего, брошенные подсознательным «Я» на разумное небо. Ремни, вырезанные из тени рока, и опутанный ими дух остаются до становления будущего настоящим, когда воды будущего, где купался разум, высохли и осталось дно.
Найти, не разрывая круга корней, волшебный камень превращений всех славянских слов одно в другое, свободно плавить славянские слова – вот мое первое отношение к слову. Это самовитое слово вне быта и жизненных польз. Увидя, что корни лишь призрак <и>, за которыми стоят струны азбуки, найти единство вообще мировых языков, построенное из единиц азбуки, – мое второе отношение к слову. Путь к мировому заумному языку.
Во время написания заумные слова умирающего Эхнатэна «Манч! Манч!» из «Ка» вызывали почти боль; я не мог их читать, видя молнию между собой и ими; теперь они для меня ничто. Отчего – я сам не знаю.
Но когда Давид Бурлюк писал сердце, через которое едут суровые пушки будущего, он был прав как толкователь вдохновения: оно – дорога копыта будущего, его железных подков.
«Ка» писал около недели, «Дети Выдры» – больше года, «Девин бог» – без малейшей поправки в течение двенадцати часов письма, с утра до вечера. Курил и пил крепкий чай. Лихорадочно писал. Привожу эти справки, чтобы показать, как разнообразны условия творчества.
«Зверинец» написан в Московском зверинце.
В «Госпоже Ленин» хотел найти «бесконечно малые» художественного слова.
В «Детях Выдры» скрыта разнообразная работа над величинами игра количеств за сумраком качеств.
«Девий бог», как не имеющий ни одной поправки, возникший случайно и внезапно, как волна, выстрел творчества, может служить для изучения безумной мысли.
Так же внезапно написан «Чертик», походя́ на быстрый пожар пластов молчания. Желание «умно», а не заумно понять слово привело к гибели художественного отношения к слову. Привожу это как предостережение.
Законы времени, обещание найти которые было написано мною на березе (в селе Бурмакине, Ярославской губернии) при известии о Цусиме, собирались десять лет.
Блестящим успехом было предсказание, сделанное на несколько лет раньше, о крушении государства в 1917 году. Конечно, этого мало, чтобы обратить на них внимание ученого мира.
Заклинаю художников будущего вести точные дневники своего духа: смотреть на себя как на небо и вести точные записи восхода и захода звезд своего духа. В этой области у человечества есть лишь один дневник Марии Башкирцевой и больше ничего. Эта духовная нищета знаний о небе внутреннем самая яркая черная Фраунгоферова чёрта современного человечества.
Закон кратных отношений во времени струны человечества мыслим для войн, но его нельзя построить. Для мелкого ручья времени отдельной жизни отсутствуют опорные точки, нет дневников.
В последнее время перешел к числовому письму, как художник числа вечной головы вселенной, так, как я ее вижу, и оттуда, откуда ее вижу. Это искусство, развивающееся из клочков современных наук, как и обыкновенная живопись, доступно каждому и осуждено поглотить естественные науки.
И ясно замечаю в себе спицы повторного колеса и работаю над дневником, чтобы поймать в сети закон возврата этих спиц.
В желании ввести заумный язык в разумное поле вижу приход старой спицы моего колеса. Как жалко, что об этих спицах повтора жизни я могу говорить только намеками слов.
Но, может быть, скоро мое положение изменится.
Весна 1919
Стихотворения
1. Птичка в клетке
О чем поешь ты, птичка в клетке? О том ли, как попалась в сетку? Как гнездышко ты вила? Как тебя с подружкой клетка разлучила? Или о счастии твоем В милом гнездышке своем? Или как мушек ты ловила И их деткам носила? О свободе ли, лесах, О высоких ли холмах, О лугах ли зеленых, О полях ли просторных? Скучно бедняжке на жердочке сидеть И из оконца на солнце глядеть. В солнечные дни ты купаешься, Песней чудной заливаешься, Старое вспоминаешь, Свое горе забываешь, Семечки клюешь, Жадно водичку пьешь. 6 апреля 18972. «И я свирел в свою свирель…»
И я свирел в свою свирель, И мир хотел в свою хотель. Мне послушные свивались звезды в плавный кружеток. И свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Начало 19083. «Россия забыла напитки…»
Россия забыла напитки, В них вечности было вино, И в первом разобранном свитке Восчла роковое письмо. Ты свитку внимала немливо, Как взрослым внимает дитя, И подлая тайная сила Тебя наблюдала хотя. Начало 19084. «Немь лукает луком немным…»
Немь лукает луком немным В закричальности зари. Ночь роняет душам темным Кличи старые «Гори!». Закричальность задрожала, В щит молчание взяла И, столика и стожала, Боем в темное пошла. Лук упал из рук упавном, Прорицает тишина, И в смятении державном Улетает прочь она. Начало 19085. «Там, где жили свиристели…»
Там, где жили свиристели, Где качались тихо ели, Пролетели, улетели Стая легких времирей. Где шумели тихо ели, Где поюны крик пропели, Пролетели, улетели Стая легких времирей. В беспорядке диком теней, Где, как морок старых дней, Закружились, зазвенели Стая легких времирей. Стая легких времирей! Ты поюнна и вабна, Душу ты пьянишь, как струны, В сердце входишь, как волна! Ну же, звонкие поюны, Славу легких времирей! Начало 19086. «Я славлю лёт его насилий…»
Я славлю лёт его насилий, Тех крыл, что в даль меня носили, Свод синезначимой свободы, Под круги солнечных ободий, Туда, под самый-самый верх, Где вечно песен белый стерх. 19087. «Из мешка…»
Из мешка На пол рассыпались вещи. И я думаю, Что мир – Только усмешка, Что теплится На устах повешенного. 19088. «Времыши-камыши…»
Времыши-камыши На озера береге, Где каменья временем Где время каменьем. На берега озере Времыши, камыши, На озера береге Священно шумящие. 19089. «Жарбог! Жарбог!..»
Жарбог! Жарбог! Я в тебя грезитвой мечу, Дола славный стаедей, О, взметни ты мне навстречу Стаю вольных жарирей. Жарбог! Жарбог! Волю видеть огнезарную Стаю легких жарирей, Дабы радугой стожарною Вспыхнул морок наших дней. <1908>10. «Огнивом-сечивом…»
Огнивом-сечивом высек я мир, И зыбку-улыбку к устам я поднес, И куревом-маревом дол озарил, И сладкую дымность о бывшем вознес. 190811. Крымское. Записи сердца. Вольный размер
Турки Вырея блестящего и щеголя всегда – окурки Валяются на берегу. Берегу Своих рыбок В ладонях Сослоненных. Своих улыбок Не могут сдержать белокурые Турки. Иногда балагурят. Я тоже роняю окурок… Море в этом заливе совсем засыпает. Засыпают Рыбаки в море невод. Небо Слева… в женщине Вы найдете тень синей? Рыбаки не умеют: Наклонясь, сети сеют. Рабочий спрашивает: «Ачи я бачил?» Перекати-полем катится собачка. И, наклонясь взять камешек, Чувствую, что нужно протянуть руку прямо еще. Под руководством маменьки Барышня учится в воду камень кинуть. На бегучие сини Ветер сладостно сеет Запахом маслины, Цветок Одиссея. И, пока расцветает, смеясь, семья прибауток, Из ручонки Мальчонки Сыпется, виясь, дождь в уплывающих уток. Море щедрою мерой Веет полуденным золотом. Ах! Об эту пору все мы верим, Все мы молоды, И начинает казаться, что нет ничего невообразимого, Что в этот час Море гуляет среди нас, Надев голубые невыразимые. День, как срубленное дерево, точит свой сок. Жарок песок. Дорога пролегла песками. Во взорах – пес, камень. Возгласы: «Мамаша, мамаша!» Кто-то ручкой машет. Жар меня морит. Морит и море. Блистает «сотки» донце… Птица Крутится, Летя. Кру́ги… Ах, други! Я устал по песку таскаться! А дитя, Увидев солнце, Закричало: «Цаца!» И этот вечный по песку хруст ног! Мне грустно. О, этот туч в сеть мигов лов! И крик невидимых орлов! Отсюда далеко все видно в воде. Где глазами бесплотных тучи прошли, Я черчу «В» и «Д». Чьи? Не мои. Мои: «В» и «И». По устенью Ящерица Тащится Тенью, Вся нежная от линьки. Отсюда море кажется Выполощенным мозолистыми руками в синьке. День! Ты вновь стал передо мной, как карапузик-мальчик, Засунув кулачки в карманы. Но вихрь уносит песень дальше И ясны горные туманы. Все молчит. Ни о чем не говорят. Белокурости турок канули в закат. О, этот ясный закат! Своими красными красками кат! И его печальные жертвы – Я и краски утра мертвыя. В эти пашни, Где времена роняли свой сев, Смотрятся башни, Назад не присев! Где было место богов и земных дев виру, Там в лавочке – продают сыру. Где шествовал бог не сделанный, а настоящий, Там сложены пустые ящики. И обращаясь к тучам, И снимая шляпу, И отставив ногу Немного, Лепечу – я с ними не знаком – Коснеющим, детским, несмелым языком: «Если мое скромное допущение справедливо, Что золото, которое вы тянули, Когда, смеясь, рассказывали о любви, Есть обычное украшение вашей семьи, То не верю, чтоб вы мне не сообщили, Любите ли вы «тянули», Птичку «сплю», А также в предмете «русский язык» Прошли ли Спряжение глагола «люблю»? И сливы? Ветер, песни сея, Улетел в свои края. Лишь бессмертновею Я. Только. «И, кроме того, ставит ли вам учитель двойки?» Старое воспоминание жалит. Тени бежали. И старая власть жива, И грустны кружева. И прежняя грусть Вливает свой сон в слово «Русь»… «И любите ли вы высунуть язык?»[1] Конец 190812. «Вечер. Тени…»
Вечер. Тени. Сени. Лени. Мы сидели, вечер пья. В каждом глазе – бег оленя, В каждом взоре – лёт копья. И когда на закате кипела вселенская ярь, Из лавчонки вылетел мальчонка, Провожаемый возгласом: «Жарь!» И скорее справа, чем правый, Я был более слово, чем слева. <1908>13. «В пору, когда в вырей…»
В пору, когда в вырей Времирей умчались стаи, Я времушком-камушком игрывало, И времушек-камушек кинуло, И времушко-камушко кануло, И времыня крылья простерла. <1908>14. «Мне спойте про девушек чистых…»
Мне спойте про девушек чистых, Сих спорщиц с черемухой-деревом, Про юношей стройно-плечистых: Есть среди вас они – знаю и верю вам. <1908>15. «Мизинич, миг…»
Мизинич, миг, Скользнув средь двух часов, Мне создал поцелуйный лик, И крик страстей, и звон оков. Его, лаская, отпустил, О нем я память сохранил, О мальчике кудрявом. И в час работ, И в час забавы О нем я нежно вспоминаю И, ласкою отменной провожая, Зову, прошу: «Будь гостем дорогим!» 190816. «Любил я, стенал я, своей называл…»
Стенал я, любил я, своей называл Ту, чья невинность в сказку вошла, Ту, что о мне лишь цвела и жила И счастью нас отдала ‹…› Но Крысолов верховный «крыса» вскрикнул И кинулся, лаем длившись, за «крысой», – И вот уже в липах небога, И зыбятся свечи у гроба. <1908>17. «когда казак с высокой вышки…»
Когда казак с высокой вышки Увидит дальнего врага, Чей иск – казацкие кубышки, А сабля – острая дуга, – Он сбегает, развивая кудрями, с высокой вышки, На коня он лихого садится И летит без передышки В говором поющие станицы. Так я, задолго до того мига, Когда признание станет всеобщим, Говорю: «Над нами иноземцев иго, Возропщем, русские, возропщем! Поймите, что угнетенные и мы – те ж! Учитесь доле внуков на рабах И, гордости подняв мятеж, Наденьте брони поверх рубах!» <1908>18. Скифское
Что было – в водах тонет. И вечерогривы кони, И утровласа дева, И нами всхожи севы. И вечер – часу дань, И мчатся вдаль суда, И жизнь иль смерть – любое, И алчут кони боя. И в межи роя узких стрел – Пустили их стрелки – Бросают стаи конских тел Нагие ездоки. И месть для них – узда, Желание – подпруга. Быстра ли, медленна езда, Бежит в траве подруга. В их взорах голубое Смеется вечно вёдро. Товарищи разбоя, Хребет сдавили бедра. В ненастье любят гуню, Земли сырая обувь. Бежит вблизи бегунья, Смеются тихо оба. [Его плечо высоко, Ее нога, упруга, Им не страшна осока, Их не остановит куга.] Коня глаза косы, Коня глаза игривы: Иль злато жен косы Тяжеле его гривы? Качнулись ковыли, Метнулися навстречу. И ворог ковы лить Грядет в предвестьях речи. Сокольих крыл колки, Заморские рога. И гулки и голки, Поют его рога. Звенят-звенят тетивы, Стрела глаз юный пьет. И из руки ретивой Летит-свистит копье. И конь, чья ярь испытана, Грозит врагу копытами. Свирепооки кони, И кто-то, кто-то стонет. И верная подруга Бросается в траву. Разрезала подпругу, Вонзила нож врагу. Разрежет жилы коням, Хохочет и смеется. То жалом сзади гонит, В траву, как сон, прольется. Земля в ней жалом жалится, Таится и зыби́т. Змея, змея ли сжалится, Когда коня вздыбит? Вдаль убегает насильник. Темен от солнца могильник. Его преследует насельник И песен клич весельный… О, этот час угасающей битвы, Когда зыбятся в поле молитвы!.. И темны, смутны и круглы, Над полем кружатся орлы. Завыли волки жалобно: Не будет им обеда. Не чуют кони жала ног. В сознании – победа. Он держит путь, где хата друга. Его движения легки. За ним в траве бежит подруга – В глазах сверкают челоноки. Конец 190819. Заклятие смехом
О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, О, засмейтесь усмеяльно! О, рассмешищ надсмеяльных – смех усмейных смехачей! О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! Сме́йево, сме́йево, Усмей, осмей, смешики, смешики, Смеюнчики, смеюнчики. О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! <1908–1909>20. «О, достоевскиймо бегущей тучи!..»
О, достоевскиймо бегущей тучи! О, пушкиноты млеющего полдня! Ночь смотрится, как Тютчев, Безмерное замирным полня. <1908–1909>21. «Бобэоби пелись губы…»
Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так ил холсте каких-то соответствий Вне протяжении жило Лицо. <1908–1909>22. «Кому сказатеньки…»
Кому сказатеньки, Как важно жила барынька? Нет, не важная барыня, А, так сказать, лягушечка: Толста, низка и в сарафане, И дружбу вела большевитую С сосновыми князьями. И зеркальные топила Обозначили следы, Где она весной ступила, Дева ветреной воды. <1908–1909>23. Кузнечик
Крылышкуя золотописьмом Тончайших жил, Кузнечик в кузов пуза уложил Прибрежных много трав и вер. «Пинь, пинь, пинь!» – тарарахнул зинзивер. О, лебедиво! О, озари! <1908–1909>24. «Чудовище – жилец вершин…»
Чудовище – жилец вершин, С ужасным задом, Схватило несшую кувшин, С прелестным взглядом. Она качалась, точно плод, В ветвях косматых рук. Чудовище, урод, Довольно, тешит свой досуг. <1908–1909>25. «С журчанием, свистом…»
С журчанием, свистом Птицы взлетать перестали. Трепещущим листом Они не летали. Тянулись таинственно перья За тучи широким крылом. Беглец науки лицемерья, Я туче скакал напролом. 1908–191326. Вам
Могилы вольности – Каргебиль и Гуниб Были соразделителями со мной единых зрелищ, И, за столом присутствуя, они б Мне не воскликнули б: «Что, что, товарищ, мелешь?» Боец, боровшийся, не поборов чуму, Пал около дороги круторогий бык, Чтобы невопрошающих – к чему? Узнать дух с радостью владык. Когда наших коней то бег, то рысь вспугнули их, Чару рассеянно-гордых орлов, Ветер, неосязуемый для нас и тих, Вздымал их царственно на гордый лов. Вселенной повинуяся указу, Вздымался гор ряд долгий. И путешествовал по Кавказу И думал о далекой Волге. Конь, закинув резво шею, Скакал по легкой складке бездны. С ужасом, в борьбе невольной хорошея, Я думал, что заниматься числами над бездною полезно. Невольно числа и слагал, Как бы возвратясь ко дням творенья, И вычислил, когда последний галл Умрет, не получив удовлетворенья. Далёко в пропасти шумит река, К ней бело-красные просыпались мела́, Я думал о природе, что дика И страшной прелестью мила. Я думал о России, которая сменой тундр, тайги, степей Похожа на один божественно звучащий стих, И в это время воздух освободился от цепей И смолк, погас и стих. И вдруг на веселой площадке, Которая, на городскую торговку цветами похожа, Зная, как городские люди к цвету падки, Весело предлагала цвет свой прохожим, – Увидел я камень, камню подобный, под коим пророк Похоронен; скошен он над плитой и увенчан чалмой. И мощи старинной раковины, изогнуты в козлиный рог, На камне выступали; казалось, образ бога камень увенчал мой. Среди гольцов, на одинокой поляне, Где дикий жертвенник дикому богу готов, Я как бы присутствовал на моляне Священному камню священных цветов. Свершался предо мной таинственный обряд. Склоняли голову цветы, Закат был пламенем объят, С раздумьем вечером свиты́… Какой, какой тысячекост, Грознокрылат, полуморской, Над морем островом подъемлет хвост, Полунеземной объят тоской? Тогда живая и быстроглазая ракушка была его свидетель, Ныне – уже умерший, но, как и раньше, зоркий камень, Цветы обступили его, как учителя дети, Его – взиравшего веками. И ныне он, как с новгородичами, беседует о водяном И, как Садко, берет на руки ветхогусли – Теперь, когда Кавказом, моря ощеренным дном, В нем жизни сны давно потускли. Так, среди «Записки кушетки» и «Нежный Иосиф», «Подвиги Александрам» ваяете чудесными руками – Как среди цветов колосьев С рогом чудесным виден камень. То было более чем случай: Цветы молилися, казалось, пред времен давно прошедших слом О доле нежной, о доле лучшей: Луга топтались их ослом. Здесь лег войною меч Искандров, Здесь юноша загнал народы в медь, Здесь истребил победителя леса ндрав И уловил народы в сеть. 16 сентября 190927. Опыт жеманного
Я нахожу, что очаровательная погода, И я прошу милую ручку Изящно переставить ударение, Чтобы было так: смерть с кузовком идет по года́. Вон там на дорожке белый встал и стоит виденнега! Вечер ли? Дерево ль? Прихоть моя? Ах, позвольте мне это слово в виде неги! К нему я подхожу с шагом изящным и отменным. И, кланяясь, зову: если вы не отрицаете значения любви чар, То я зову вас на вечер. Там будут барышни и панны, А стаканы в руках будут пенны. Ловя руками тучку, Ветер получает удар ея, и не я, А согласно махнувшие в глазах светляки Мне говорят, что сношенья с загробным миром легки. <1909>28. «Вы помните о городе, обиженном в чуде…»
1
Вы помните о городе, обиженном в чуде, Чей звук так мило нежит слух И взятый из языка старинной чуди. Зовет увидеть вас пастух, С свирелью сельской (есть много неги в сельском имени), Молочный скот с обильным выменем, Немного робкий перейти реку, журчащий брод. Все это нам передал в названьи чужой народ. Пастух с свирелью из березовой коры Ныне замолк за грохотом иной поры. Где раньше возглас раздавался мальчишески-прекрасных труб, Там ныне выси застит дыма смольный чуб. Где отражался в водах отсвет коровьих ног, Над рекой там перекинут моста железный полувенок. Раздору, плахам – вчера и нынче – город ясли. В нем дружбы пепел и зола, истлев, погасли. Когда-то, понурив голову, стрелец безмолвно шествовал за плахой. Не о нем ли в толпе многоголосой девичий голос заплакал? В прежних сил закат, К работе призван кат. А впрочем, все страшней и проще: С плодами тел казенных на полях не вырастают рощи. Казнь отведена в глубь тайного двора – Здесь на нее взирает детвора. Когда толпа шумит и веселится, Передо мной всегда казненных лица. Так и теперь: на небе ясном тучка – Я помню о тебе, боярин непокорный Кучка!2
В тебе, любимый город, Старушки что-то есть. Уселась на свой короб И думает поесть. Косынкой замахнулась – косынка не простая: От и до края летит птиц черная стая. <1909>29. «Я не знаю, земля кружится или нет…»
Я не знаю, Земля кружится или нет, Это зависит, уложится ли в строчку слово. Я не знаю, были ли мо<ими> бабушкой и дедом Обезьяны, т<ак> к<ак> я не знаю, хочется ли мне сладкого или кислого. Но я знаю, что я хочу кипеть и хочу, чтобы солнце И жилу моей руки соединила общая дрожь. Но я хочу, чтобы луч звезды целовал луч моего глаза, Как олень оленя (о, их прекрасные глаза!). Но я хочу, чтобы, когда я трепещу, общий трепет приобщился вселенной. И я хочу верить, что есть что-то, что остается, Когда косу любимой девушки заменить, напр<имер>, временем. Я хочу вынести за скобки общего множителя, соединяющего меня, Солнце, небо, жемчужную пыль. <1909>30. «Я переплыл залив Судака…»
Я переплыл залив Судака. Я сел на дикого коня. Я воскликнул: России нет, не стало больше, Ее раздел рассек, как Польшу. И люди ужаснулись. Я сказал, что сердце современного русского висит, как нетопырь. И люди раскаялись. Я сказал: О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи! Я сказал: Долой Габсбургов! Узду Гогенцоллернам! Я писал орлиным пером. Шелковое, золотое, оно вилось вокруг крупного стержня. Я ходил по берегу прекрасного озера, в лаптях и голубой рубашке. Я был сам прекрасен. Я имел старый медный кистень с круглыми шишками. Я имел свирель из двух тростин и рожка отпиленного. Я был снят с черепом в руке. Я в Петровске видел морских змей. Я на Урале перенес воду из Каспия в моря Карские. Я сказал: Вечен снег высокого Казбека, но мне милей свежая парча осеннего Урала. На Гребенских горах я находил зубы ската и серебряные раковины вышиной в колесо фараоновой колесницы. Конец 1909 – начало 191031. Мария Вечора
Выступы замок простер В синюю неба пустыню. Холодный востока костер Утра встречает богиню. И тогда-то Звон раздался от подков. Вел, как хата, Месяц ясных облаков Лаву видит седоков. И один из них широко Ношей белою сверкнул, И в его ночное око Сам таинственный разгул Выше мела белых скул Заглянул. «Не святые, не святоши, В поздний час несемся мы, Так зачем чураться ноши В час царицы ночи – тьмы!» Уж по твердой мостовой Идут взмыленные кони. И опять взмахнул живой Ношей мчащийся погони. И кони устало зевают, замучены, Шатаются конские стати. Усы золотые закручены Вождя веселящейся знати. И, вящей породе поспешная дань, Ворота раскрылися настежь. «Раскройся, раскройся, широкая ткань, Находку прекрасную застишь. В руках моих дремлет прекрасная лань!» И, преодолевая странный страх, По пространной взбегает он лестнице И прячет лицо в волосах Молчащей кудесницы. «В холодном сумраке покоя, Где окружили стол скамьи, Веселье встречу я какое В разгуле витязей семьи?» И те отвечали с весельем: «Правду промолвил и дело. Дружен урод с подземельем, И любит высоты небесное тело». – «Короткие четверть часа Буду вверху и наедине. Узнаю, льнут ли ее волоса К моей молодой седине». И те засмеялися дружно. Качаются старою стрелкой часы. Но страх вдруг приходит. Но все же наружно Те всадники крутят лихие усы… Но что это? Жалобный стон и трепещущий говор, И тела упавшего шум позже стука. Весь дрожа, пробегает в молчании повар И прочь убегает, не выронив звука. И мчатся толпою, недоброе чуя, До двери высокой, дубовой и темной, И плачет дружинник, ключ в скважину суя, Суровый, сердитый, огромный. На битву идут они к женственным чарам, И дверь отворилась под тяжким ударом Со скрипом, как будто, куда-то летя, Грустящее молит и плачет дитя. Но зачем в их руках заблистали клинки? Шашек лезвия блещут из каждой руки. Как будто заснувший, лежит общий друг, И на пол стекают из крови озера. А в углу близ стены – вся упрек и испуг – Мария Вечора. <1909–1912>32. «Полно, сивка, видно, тра…»
Полно, сивка, видно, тра Бросить соху. Хлещет ливень и сечет. Видно, ждет нас до утра Сон, коняшня и почет. <1909–1912>33. Трущобы
Были наполнены звуком трущобы, Лес и звенел и стонал, Чтобы Зверя охотник копьем доконал. Олень, олень, зачем он тяжко В рогах глагол любви несет? Стрелы вспорхнула медь на ляжку, И не ошибочен расчет. Сейчас он сломит ноги оземь И смерть увидит прозорливо, И кони скажут говорливо: «Нет, не напрасно стройных возим». Напрасно прелестью движений И красотой немного девьего лица Избегнуть ты стремился поражений, Копьем искавших беглеца. Все ближе конское дыханье И ниже рог твоих висенье, И чаще лука трепыханье, Оленю нету, нет спасенья. Но вдруг у него показались грива И острый львиный коготь, И беззаботно и игриво Он показал искусство трогать. Без несогласья и без крика Они легли в свои гробы, Он же стоял с осанкою владыки – Были созерцаемы поникшие рабы. <1910>34. Змей поезда. Бегство
Посвящается охотнику за лосями, павдинцу Попову; конный, он напоминал Добрыню. Псы бежали за ним, как ручные волки. Шаг его – два шага простых людей.
1
Мы говорили о том, что считали хорошим, Бранили трусость и порок. Поезд бежал, разумным служа ношам,2
Змеей качаемый чертог. Задвижками стекол стукал, Шатал подошвы ног.3
И одурь сонная сошла на сонных кукол, Мы были – утесы земли. Сосед соседу тихо шушукал4
В лад бега железного скользкой змеи. Испуг вдруг оживил меня. Почудилось, что жабры Блестят за стеклами в тени.5
И посмотрел. Он задрожал, хоть оба были храбры, Был ясен строй жестоких игол. Так, змей крылатый! Что смерть, чума иль на охоте бабры.6
Пред этим бледным жалом, им призрак нас дразнил и дрыгал. Имена гордые, народы, почестей хребты? – Над всем, всё попирая, призрак прыгал.7
То видя, вспомнил я лепты́, Что милы суровому сердцу божеств. «Каковых ради польз, – воскликнул я, – ты возродил черты8
Могучих над змеем битвы торжества?» Как ужас или как творец неясной шутки Он принял вид и облик подземных существ?9
Но в тот же миг заметил я ножки малютки, Где поприще бега было с хвостом. Эти короткие миги были столь жутки,10
Что я доныне помню, что было потом. Гребень высокий, как дальние снежные горы, Гада покрыл широким мостом.11
Разнообразные людские моры Как знаки жили в чешуе. Смертей и гибели плачевные узоры12
Вились по брюху, как плющ на стене. Наместник главы, зияла раскрытая книга, Как челка лба на скакуне.13
Сгибали тело чудовища преемственные миги, То прядая кольцами, то телом коня, что встал, как свеча. Касалися земли нескромные вериги.14
И пасть разинута была, точно для встречи меча. Но сеть звездами расположенных колючек Испугала меня, и я заплакал не крича.15
Власам подобную читая книгу, попутчик Сидел на гаде, черный вран, Усаженный в концах шипами и сотнями жучек.16
Крыла широкий сарафан Кому-то в небе угрожал шипом и бил, и зори За ним светлы, как око бабра за щелью тонких ран.17
И спутник мой воскликнул: «Горе! Горе!» – И слона вымолишь не мог, охвачен грустью. Угроза и упрек блестели в друга взоре.18
Я мнил, что человечество – верховье, мы ж мчимся к устью, И он крылом змеиным напрягал, Блестя зубов ужасной костью.19
И вдаль поспешно убегал, Чтоб телу необходимый дать разбег И старого движенья вал.20
В глазах убийство и ночлег, Как за занавеской желтой ссору, Прочесть умел бы человек.21
Мы оглянулись сразу и скоро На наших сонных соседей: Повсюду храп и скука разговора.22
Всё покорялось спячке и беседе. Я вспомнил драку с змеем воина, Того, что, меч держа, к победе23
Шел. И воздух гада запахом, а поле кровию напоены Были, когда у ног, как труп безжизненный, чудовище легло. Кипела кровию на шее трупа черная пробоина.24
Но сердце применить пример старинный не могло. Меж тем после непонимаемых метаний Оно какой-то цели досягло25
И, сев на корточки, вытягивало шею. Рой желаний Его томил и мучил, чем-то звал. Окончен был обряд каких-то умываний,26
Он повернулся к нам – я в страхе умирал! – Соседа сонного схватил и, щелкая, Его съедал. Змей стряпчего младого пожирал!27
Долина огласилась голкая Воплем нечеловеческим уст жертвы. Но челюсть, частая и колкая,28
Медленно пожирала члены мертвы. Соседей слабо убаюкал сон, И некоторые из них пошли, где первый.29
«Проснитесь! – я воскликнул. – Проснитесь! Горе! Гибнет он!» Но каждый не слыхал, храпел с сноровкой, Дремотой унесен.30
Тогда, доволен сказки остановкой, Я выпрыгнул из поезда прочь, Чуть не ослеплен еловою мутовкой.31
Боец, я скрылся в куст, чтоб жить и мочь. Товарищ моему последовал примеру. Нас скрыла ель – при солнце ночь.32
И мы, в деревья скрывшись, как в пещеру, Были угасших страхов пепелище. Мы уносили в правду веру.33
А между тем рассудком нищи Змеем пожирались вместо пищи. 191035. «Мы желаем звездам тыкать…»
Мы желаем звездам тыкать, Мы устали звездам выкать, Мы у шили сладость рыкать. Будьте грозны, как Остра́ница, Платов и Бакланов, Полно вам кланяться Роже басурманов. Пусть кричат вожаки, Плюньте им в зенки! Будьте в вере крепки, Как Морозенки. О, уподобьтесь Святославу – Врагам сказал: «Иду на вы!» Померкнувшую славу Творите, северные львы. С толпою прадедов за нами Ермак и Ослябя. Вейся, вейся, русское знамя, Веди через сушу и через хляби! Туда, где дух отчизны вымер И где неверия пустыня, Идите грозно, как Владимир Или с дружиною Добрыня. <1910>36. Алферово
Немало славных полководцев, Сказавших «счастлив», умирая, Знал род старинных новгородцев, В потомке гордом догорая. На белом мохнатом коне Тот в Польше разбил короля. Победы, коварны оне, Над прежним любимцем шаля. Тот сидел под старой липой, Победитель в Измаиле, И, склонен над приказов бумажною кипой, Шептал, умирая: «Мы победили!» Над пропастью дядя скакал, Когда русские брали Гуниб. И от раны татарскою шашкой стекал Ручей. – Он погиб. То бобыли, то масть вороная Под гулкий звон подков Носила седоков Вдоль берега Дуная. Конюшен дедовских копыта, Шагами русская держава Была походами покрыта, Товарищами славы. Тот на Востоке служил И, от пули смертельной не сделав изгиба, Руку на сердце свое положил И врагу, улыбаясь, молвил: «Спасибо». Теперь родовых его имений Горят дворцы и хутора, Ряды усадебных строений Всю ночь горели до утра. Но, предан прадедовским устоям, Заветов страж отцов, Он ходит по покоям И теребит концы усов. В созвездье их войдет он сам! Избранники столицы, Нахмурив свои лица, Глядят из старых рам. <1910>37. «Слоны бились бивнями так…»
Слоны бились бивнями так, Что казались белым камнем Под рукой художника. Олени заплетались рогами так, Что казалось, их соединял старинный брак С взаимными увлечениями и взаимной неверностью. Реки вливались в море так, Что казалось: рука одного душит шею другого. <1910–1911>38. «Люди, когда они любят…»
Люди, когда они любят, Делающие длинные взгляды И испускающие длинные вздохи. Звери, когда они любят, Наливающие в глаза муть И делающие удила из пены. Солнца, когда они любят, Закрывающие ночи тканью из земель И шествующие с пляской к своему другу. Боги, когда они любят, Замыкающие в меру трепет вселенной, Как Пушкин – жар любви горничной Волконского. <1911>39. «Мои глаза бредут, как осень…»
Мои глаза бредут, как осень, По лиц чужим полям, Но я хочу сказать вам – мира осям: «Не позволя́м». Хотел бы шляхтичем на сейме, Руку положив на рукоятку сабли, Тому, отсвет желаний чей мы, Крикнуть, чтоб узы воль ослабли. Так ясневельможный пан Сапега, В гневе изумленном возрастая, Видит, как на плечо белее снега Меха надеты горностая. И падает, шатаясь, пан На обагренный свой жупан… <1911>40. Сон лихача
Зачем я сломил Тело и крыло Летевшей бабурки? Плачет село Над могилой девчурки. <1911>41. «Как два согну́тые кинжала…»
Как два согнутые кинжала, Вонзились в небо тополя, И, как усопшая, лежала Кругом широкая земля. Брошен в сумрак и тоску, Белый дворец стоит одинок. И вот к золотому спуска песку, Шумя, пристает одинокий челнок. И дева пройдет при встрече, Объемлема власами своими, И руки положит на плечи, И, смеясь, произносится имя. И она его дли нежного досуга Уводит, и багряный одетого руб, А утром скатывает в море подруга Его счастливый заколотый труп. <1911>42. «Очи Оки…»
Очи Оки Блещут вдали. <1911–1912>43. «Наш кочень очень озабочен…»
Наш кочень очень озабочен: Нож отточен, точен очень! <1911–1912>44. «Когда над полем зеленеет…»
Когда над полем зеленеет Стеклянный вечер, след зари, И небо, бледное вдали, Вблизи задумчиво синеет, Когда широкая зола Угасшего кострища Над входом в звездное кладбище Огня ворота возвела, – Тогда на белую свечу, Мчась по текучему лучу, Летит без воли мотылек. Он грудью пламени коснется, В волне огнистой окунется, Гляди, гляди, и мертвый лег. 1911–191245. «Снежно-могучая краса…»
Снежно-могучая краса С красивым сном широких глаз, Твоя полночная коса Предстала мне в безумный час. Как обольстителен и черен Сплетенный радостью венок, Его оставил, верно, ворон, В полете долгом одинок. И стана белый этот снег Не для того ли строго пышен, Чтоб человеку человек Был звук миров, был песнью слышен. 1911–191246. Ирония встреч
Ты высокомерно улыбнулась На робкий приступ слов осады, И ты пошла, не оглянулась, Полна задумчивой досады. Да! Дерзко королеву просить склонить Блеск гордых губ. Теперь я встретился. Угодно изменить Судьбе тебя: ты изучала старый труп. <1912>47. «Зеленый леший – бух лесиный…»
Зеленый леший – бух лесиный Точил свирель, Качались дикие осины, Стенала благостная ель. Лесным пахучим медом Помазал кончик дня И, руку протянув, мне лед дал, Обманывая меня. И глаз его – тоски сосулек – Я не выносил упорный взгляд: В них что-то просит, что-то су́лит В упор представшего меня. Вздымались руки-грабли, Качалася кудель И тела стан в морщинах дряблый, И синяя видель. Я был ненароком, спеша, Мои млады лета, И, хитро подмигнув, лешак Толкнул меня: «Туда?» <1912?>48. «Когда умирают кони, дышат…»
Когда умирают кони – дышат, Когда умирают травы – сохнут, Когда умирают солнца – они гаснут, Когда умирают люди – поют песни. <1912>49. «Закон качелий велит…»
Закон качелей велит Иметь обувь то широкую, то узкую. Времени то ночью, то днем, А владыками земли быть то носорогу, то человеку. <1912>50. «Сон – то сосед снега весной…»
Сон – то сосед снега весной, То левое непрочное правительство в какой-то думе. Коса то украшает темя, спускаясь на плечи, то косит траву. Мера то полна овса, то волхвует словом. <1912>51. «Когда рога оленя подымаются над зеленью…»
Когда рога оленя подымаются над зеленью, Они кажутся засохшее дерево. Когда сердце н<о>чери обнажено в словах, Бают; он безумен. <1912>52. Па-люди
Птица, стремясь ввысь, Летит к небу, Панна, стремясь ввысь, Носит высокие каблуки. Когда у меня нет обуви, Я иду на рынок и покупаю ее. Когда у кого-нибудь нет носу, Он покупает воску. Когда у народа нет души, Он идет к соседнему И за плату приобретает ее – Он, лишенный души!.. <1912>53. «Я победил: теперь вести…»
Я победил: теперь вести Народы серые я буду. В ресницах, вера, заблести, Вера, помощница чуду. Куда? Отвечу без торговли: Из той осоки, чем я выше, Народ, как дом, лишенный кровли. Воздвигнет стены в меру крыши. Лето 191254. «Гонимый – кем, почем я знаю?..»
Гонимый – кем, почем я знаю? Вопросом: поцелуев в жизни сколько? Румынкой, дочерью Дуная, Иль песнью лет про прелесть польки, – Бегу в леса, ущелья, пропасти И там живу сквозь птичий гам. Как снежный сноп, сияют лопасти Крыла, сверкавшего врагам. Судеб виднеются колеса С ужасным сонным людям свистом. И я, как камень неба, несся Путем не нашим и огнистым. Люди изумленно изменяли лица, Когда я падал у зари. Одни просили удалиться, А те молили: «Озари». Над юга степью, где волы Качают черные рога, Туда, на север, где стволы Поют, как с струнами дуга, С венком из молний белый черт Летел, крути власы бородки: Он слышит вой власатых морд И слышит бой в сквородки. Он говорил: «Я белый ворон, я одинок, Но всё – и черную сомнений ношу, И белой молнии венок – Я за один лишь призрак брошу: Взлететь в страну из серебра, Стать звонким вестником добра». У колодца расколоться Так хотела бы вода, Чтоб в болотце с позолотцей Отразились повода. Мчась, как узкая змея, Так хотела бы струя, Так хотела бы водица Убегать и расходиться, Чтоб, ценой работы добыты, Зеленее стали чёботы, Черноглазые, ея. Шепот, ропот, неги стон, Краска темная стыда, Окна, избы с трех сторон, Воют сытые стада. В коромысле есть цветочек, А на речке синей челн. «На, возьми другой платочек, Кошелек мой туго полн». – «Кто он, кто он, что он хочет? Руки дики и грубы! Надо мною ли хохочет Близко тятькиной избы? Или? Или я отвечу Чернооку молодцу, – О, сомнений быстрых вече, – Что пожалуюсь отцу? Ах, юдоль моя гореть». Но зачем устами ищем Пыль, гонимую кладбищем, Знойным пламенем стереть? И в этот миг к пределам горшим Летел я, сумрачный, как коршун. Воззреньем старческим глядя на вид земных шумих, Тогда в тот миг увидел их. <1912>55. Из песен гайдамаков
«С нави́сня ан летит, бывало, горино́ж, В заморских чёботах мелькают ноги, А пани, над собой увидев нож. На землю падает, целует ноги. Из хлябей вынырнет усатый пан моржом, Чтоб простонать: «Santa Maria!» Мы ж, хлопцы, весело заржем И топим камнями в глубинах Чартория. Панов сплавляем по рекам, А дочери ходили по рукам. Была веселая пора, И с ставкою большою шла игра. Пани нам служит как прачка-наймитка, А пан плывет, и ему на лицо садится кигитка». – Нет, старче, то негоже: Парча отстоит от рогожи. <1912>56. Числа
Я всматриваюсь в вас, о, числа, И вы мне видитесь одетыми в звери, в их шкурах, Рукой опирающимися на вырванные дубы. Вы даруете единство между змееобразным движением Хребта вселенной и пляской коромысла, Вы позволяете понимать века, как быстрого хохота зубы. Мои сейчас вещеобразно разверзлися зеницы Узнать, что будет Я, когда делимое его – единица. <1912>57. Перевертень (Кукси, кум мук и скук)
Кони, топот, инок, Но не речь, а черен он. Идем, молод, долом меди. Чин зван мечем навзничь. Голод, чем меч долог? Пал, а норов худ и дух во́рона лап. А что? Я лов? Воля отча! Яд, яд, дядя! Иди, иди! Мороз в узел, лезу взором. Солов зов, воз волос. Колесо. Жалко поклаж. Оселок. Сани, плот и воз, зов и толп и нас. Горд дох, ход дрог. И лежу. Ужели? Зол, гол лог лоз. И к вам и трем с смерти мавки. <1912>58. Семеро
1
Хребтом и обличьем зачем стал подобен коню, Хребтом и обличьем зачем стал подобен коню, Кому ты так ржешь и смотришь сердито? Я дерзких красавиц давно уж люблю, Я дерзких красавиц давно уж люблю, И вот обменил я стопу на копыто.2
У девушек нет таких странных причуд, У девушек нет таких странных причуд, Им ветреный отрок милее. Здесь девы холодные сердцем живут, Здесь девы холодные сердцем живут, То дщери великой Гилеи.3
Гилеи великой знакомо мне имя, Гилеи великой знакомо мне имя, Но зачем ты оставил свой плащ и штаны? Мы предстанем перед ними, Мы предстанем перед ними, Как степные скакуны.4
Что же дальше будут делая, Игорь, Игорь, Что же дальше будут делая С вами дщери сей страны? Они сядут на нас, белые, Товарищ и друг, Они сядут на нас, белые, И помчат на зов войны.5
Сколько ж вас, кому охотней, Борис, Борис, Сколько ж вас, кому охотней Жребий конский, не людской? Семь могучих оборотней, Товарищ и друг, Семь могучих оборотней – Нас, снедаемых тоской.6
А если девичья коптит, Борис, Борис, А если девичья конница Бой окончит, успокоясь? Страсти верен, каждый гонится, Товарищ и друг, Страсти верен, каждый гонится Разрубить мечом их пояс.7
Не ужасное ль в уме, Борис, Борис, Не ужасное ль в уме Вы замыслили, о, братья? Нет, покорны девы в тьме, Товарищ и друг, Нет, покорны девы в тьме – Мы похитим меч и платья.8
Но, похитив их мечи, что вам делать с их слезами, Борис, Борис, Но, похитив их мечи, что вам делать с их слезами? То исконное оружие. Мы горящими глазами, Товарищ и друг, Мы горящими глазами Им ответим. Это средство – средств не хуже их.9
Но зачем вам стало надо, Борис, Борис, Но зачем вам стало надо Изменить красе лица? Убивает всех пришельцев их громада, Товарищ и друг, Убивает всех пришельцев их громада, Но нам любо скок беглеца.10
Кратких кудрей, длинных влас, Борис, Борис, Кратких кудрей, длинных влас Распри или вас достойны? Этот спор чарует нас, Товарищ и друг, Этот спор чарует нас, Ведут к счастью эти войны. 191259. «Ночь, полная созвездий…»
Ночь, полная созвездий. Какой судьбы, каких известий Ты широко сияешь, книга? Свободы или ига? Какой прочесть мне должно жребий На полночью широком небе? <1912>60. «Где прободают тополя жесть…»
Где прободают тополя жесть Осени тусклого паяца, Где исчезает с неба тяжесть И вас заставила смеяться, Где под собранием овинов Гудит равнинная земля, Чтобы доходы счел Мордвинов, Докладу верного внемля, Где заезжий гость лягает пяткой, Увы, несчастного в любви соперника, Где тех и тех спасают прятки От света серника, Где под покровительством Януси Живут индейки, куры, гуси, Вы под заботами природы-тети Здесь, тихоглазая, цветете. Август 191261. «Небо душно и пахнет сизью и выменем…»
Небо, душно и пахнет сизью и выменем. О, полюбите, пощадите вы меня! Я и так истекаю собою и вами, Я и так уж распят степью и ивами. «Конец 1912»62. «Мне мало надо!..»
Мне мало надо! Краюшку хлеба И каплю молока Да это небо, Да эти облака! <1912, 1922>63. «О, черви земляные…»
О, черви земляные, В барвиночном напитке Зажгите водяные Два камня в черной нитке. Темной славы головня, Не пустой и не постылый, Но усталый и остылый, Я сижу. Согрей меня. На утесе моих плеч Пусть лицо не шелохнется, Но пусть рук поющих речь Слуха рук моих коснется. Ведь водою из барвинка Я узнаю, все узнаю, Надсмеялась ли косынка, Что зима, растаяв с краю. 191364. «И смелый товарищ шиповника…»
И смелый товарищ шиповника, Как камень, блеснул В лукавом слегка разговоре. Не зная разгадки виновника, Я с шумом подвинул свой стул. Стал думать про море. О, разговор невинный и лукавый, Гадалкою разверзнутых страниц Я в глубь смотрел, смущенный и цекавый, В глубь пламени мерцающих зениц. 191365. Бех. Басня
Знай, есть трава, нужна для мазей. Она растет по граням грязей. То есть рассказ о старых князях: Когда груз лет был меньше стар, Здесь билась Русь и сто татар. С вязанкой жалоб и невзгод Пришел на смену новый год. Его помощники в свирели Про дни весенние свистели И щеки толстые надули, И стали круглы, точно дули. Но та́ земля забыла смех, Лишь и день чумной здесь лебедь несся, И кости бешено кричали: «Бех», – Одеты зеленью из проса, И кости звонко выли: «Да! Мы будем помнить бой всегда». 191366. Перуну
Над тобой носились беркута, Порой садясь на бога грудь, Когда миял ты, рея, омута, На рыбьи наводя поселки жуть. Бог, водами носимый, Ячаньем встречен лебедей, Не предопределил ли ты Цусимы Роду низвергших тя людей? Не знал ли ты, что некогда восстанем, Как некая вселенной тень, Когда гонимы быть устанем И обретем в времёнах рень? Сил синих снём, Когда копьем мужья встречали, Тебе не пел ли: «Мы не уснем В иных времен начале»? С тобой надежды верных плыли, Тебя провожавших зовом «Боже», И как добычу тебя поделили были, Когда взошел ты на песчаной рени ложе. Как зверь влачит супруге снеди, Текущий кровью жаркий кус, Владимир не подарил ли так Рогнеде Твой золоченый длинный ус? Ты знаешь: путь изменит пря, И станем верны, о, Перуне, Когда желтой и белой силы пря Перед тобой вновь объединит нас в уне. Навьем возложенный на сани, Как некогда ты проплыл Днепр – Так ты окончил Перунепр, Узнав вновь сладость всю касаний. <1913>67. Утренняя прогулка
Лапой белой и медвеж<ь>ей Друг из воздуха помажет, И порыв метели свежий Отошедшее расскажет. Я пройтись остерегуся, Общим обликом покат. Слышу крик ночного гуся, Где проехал самокат. В оглоблях скривленных Шагает Крепыш, О, горы зеленых, Сереющих крыш! Но дважды тринадцать в уме. Плохая поклажа в суме! К знахарке идти за советом? Я верю чертям и приметам! 13 февраля 191368. В лесу. Словарь цветов
На эти златистые пижмы Росистые волосы выжми. Воскликнет насмешливо: «Только?» Серьгою воздушная о́льха. Калужниц больше черный холод, Иди, позвал тебя Рогволод. Коснется калужницы дремя, И станет безоблачным время. Ведь мною засушено дремя На память о старых богах. Тогда серебристое племя Бродило на этих лугах. Подъемля медовые хоботы, Ждут ножку богинины чёботы. И белые ель и березы, И смотрят на небо дерезы. В траве притаилась дурника, И знахаря ждет молодика. Чтоб злаком лугов молодиться, Пришла на заре молодица. Род конского черепа – кость, К нему наклоняется жость. Любите носить все те имена, Что могут онежиться в Лялю. Деревня сюда созвана, В телеге везет свою кралю. Лялю на лебеде Если заметите, Лучший ни небе день Крилей отметите. И крикнет и цокнет весенняя кровь: «Ляля на лебеде – Ляля любовь!» Что юноши властной толпою Везут на пути к водопою Кралю своего села – Она на цветах весела. Желтые мрачны снопы Праздничной возле толпы. И ежели пивни захлопали И песни вечерней любви, Наверное, стройные тополи Смотрят на праздник в пыли. Под именем новым – Олеги, Вышаты, Добрыни и Глебы Везут конец дышла телеги, Колосьями спрятанной в хлебы, Своей голубой королевы. Но и в цветы запрятав низ рук, Та, смугла, встает, как призрак. «Ты священна, Смуглороссья», – Ей поют цветов колосья. И пахло кругом мухомором и дремой, И пролит был запах смертельных черемух. Эй! Не будь сурова, не будь сурова, Но будь проста, как вся дуброва. <1913>69. «Меня проносят <на> <слоно>вых…»
Меня проносят <на> <слоно>вых Носилках – слон девицедымный. Меня все любят – Вишну новый, Сплетя носилок призрак зимний. Вы, мышцы слона, не затем ли Повиснули в сказочных ловах, Чтобы ласково лилась на земли, Та падала, ласковый хобот. Вы, белые призраки с черным, Белее, белее вишенья, Трепещ<е>те станом упорным, Гибки, как ночные растения. А я, Бодисатва на белом слоне, Как раньше, задумчив и гибок. Увидев то, дева ответ<ила> мне Огнем благодарных улыбок. Узнайте, что быть <тяжелым> слоном Нигде, никогда не бесчестно. И вы зачарован<ы> сном, Сплетайтесь носилками тесно. Волну клыка как трудно повторить, Как трудно стать ногой широкой. Песен с ненками, свирелей завет, Он с нами, на нас, синеокий. <1913>70. Написанное до войны
– Что ты робишь, печенеже, Молотком своим стуча? – О, прохожий, наши вежи Меч забыли для мяча. В день удалого похода Сокрушила из засады Печенегова свобода Святославовы насады. Он в рубахе холщево́й, Опоясанный мечом, Шел пустынной бечевой. Страх для смелых нипочем! Кто остаться в Перемышле Из-за греков не посмели, На корму толпою вышли – Неясыти видны мели. Далеко та мель прославлена, Широка и мрачна слава, Нынче снова окровавлена Светлой кровью Святослава. Чу, последний, догоняя, Воин, дальнего вождя, Крикнул: «Дам, о, князь, коня я, Лишь беги от стрел дождя!» Святослав, суров, окинул Белым сумраком главы, Длинный меч из ножен вынул И сказал: «Иду на вы!» И в трепет бросились многие, Услыша знакомый ответ. Не раз мы в увечьях, убогие, Спасались от княжеских чет. Над смущенною долиной Он возникнул, как утес, Но прилет петли змеиной Смерть воителю принес. «Он был волком, не овечкой! – Степи молвил предводитель. – Золотой покрой насечкой Кость, где разума обитель. Знаменитый сок Дуная Наливая в глубь главы, Стану пить я, вспоминая Светлых клич: «Иду на вы!» – Вот зачем сижу я, согнут, Молотком своим стуча. Знай, шатры сегодня дрогнут, Меч забудут для мяча. Степи дочери запляшут, Дымом затканы парчи, И подковой землю вспашут, Славя бубны и мячи. <1913>71. Песнь смущенного
На полотне из камней Я черную хвою увидел. Мне казалось, руки ее нет костяней, Стучится в мой жизненный выдел. Так рано? А странно: костяком Прийти к вам вечерком И, руку простирая длинную, Наполнить созвездьем гостиную. Конец 191372. Ночь в Галиции
Русалка
С досок старого дощаника Я смотрю на травы дна, В кресла белого песчаника Я усядуся одна. Оран, оран дикой костью Край, куда идешь. Ворон, ворон, чуешь гостью? Мой, погибнешь, господине!Витязь
Этот холод окаянный, Дикий вой русалки пьяной. Всюду визг и суматоха, Оставаться стало плохо.(Уходит.)
Песня ведьм
Ла-ла сов! Ли-ли соб! Жун-жан – соб леле. Соб леле! Ла, ла, соб. Жун-жан! Жун-жан!Русалки
(поют)
Иа ио цолк. Цио иа паццо! Пиц пацо! Пиц пацо! Ио иа цолк! Дынза, дынза, дынза!Русалки
(держат в руке ученик Сахарова и поют по нему)
Между вишен и черешен Наш мелькает образ грешен. Иногда глаза проколет Нам рыбачья острога, А ручей несет и холит, И несет сквозь берега. Пускай к пню тому прильнула Туша белая овцы И к свирели протянула Обнаженные резцы. Руахадо, рындо, рындо. Шоно, шоно, шоно. Пинцо, пинцо, пинцо. Пац, пац, пац.Похороны опришками товарища
«Гож нож!» – то клич боевой, Теперь ты не живой. Суровы легини́, А лица их в тени.Русалка
Кого несет их шайка, Соседка, отгадай-ка.Русалки
Ио иа цолк, Ио иа цолк. Пиц, пац, пацу, Пиц, пац, паца. Ио иа цолк, ио иа цолк, Копоцамо, миногамо, пинцо, пинцо, пинцо!Ведьмы
Шагадам, магадам, выкадам. Чух, чух, чух. Чух.(Вытягиваются в косяк, как журавли, улетают.)
Разговаривающие галичники
Вон гуцул сюда идет, В своей черной бузрукавке. Он живет На горах с высокой Мавкой. Люди видели намедни, Темной ночью на заре, Это верно и не бредни, Там на камне-дикаре. Узнай же! Мава черноброва, Но мертвый уж, как лук, в руках: Гадюку держите сурово, И рыбья песня на устах. А сзади кожи нет у ней, Она шиповника красней, Шагами хищными сильна, С дугою властных глаз она, И ими смотрится в упор, А за ремнем у ней топор. Улыбки нету откровеннее, Да, ты ужасно, привидение. Декабрь 191373. «Сегодня снова я пойду…»
Сегодня снова я пойду Туда, на жизнь, на торг, на рынок, И войско песен поведу С прибоем рынка в поединок! <1914>74. Курган
Копье татар чего бы ни трогало – Бессильно все на землю клонится. Раздевши мирных женщин до́гола, Летит в Сибирь – Сибири конница. Курганный воин, умирая, Сжимал железный лик Еврея. Вокруг земля, свист суслика, нора и – Курганный день течет скорее. Семья лисиц подъемлет стаю рожиц, Несется конь, похищенный цыганом, Лежит суровый запорожец Часы столетий под курганом. 191575. Тризна
Гол и наг лежит строй трупов, Песни смертные прочли. Полк стоит, глаза потупив, Тень от летчиков в пыли. Н когда легла дубрава На конце глухом села, Мы сказали: «Небу слава!» – И сожгли своих тела. Люди мы иль копья рока Все в одной и той руке? Нет, ниц вемы; нет урока, А окопы вдалеке. Тех, кто мертв, собрал кто жив, Кудри мертвых вились русо. На леса тела сложив, Мы свершали тризну русса. Черный дым восходит к небу, Черный, мощный и густой. Мы стоим, свершая требу, Как обряд велит простой. У холмов, у ста озер Много пало тех, кто жили. На суровый, дубовый костер Мы руссов тела положили. И от строгих мертвых тел Дон восходит и Иртыш. Сизый дым, клубясь, летел. Мы стоим, хранили тишь. И когда веков дубрава Озарила черный дым, – Стукнув ружьями, направо Повернули сразу мы. 191576. «Годы, люди и народы…»
Годы, люди и народы Убегают навсегда, Как текучая вода. В гибком зеркале природы Звезды – невод, рыбы – мы, Боги – призраки у тьмы. <1915>77. Воспоминания
Достойны славы пехотинцы, Закончив бранную тревогу. Но есть на свете красотинцы И часто с ними идут в ногу. Вы помните, мы брали Перемышль Пушкинианской красоты. Не может быть, чтоб вы не слышали Осады вашей высоты. Как судорга – пальба Кусманека, Иль Перемышль старый старится? От поцелуев нежных странника Вся современность ниагарится. Ведь только, только Ниагаре Воскликну некогда: «Товарищ!» (Самоотрицание в анчаре, На землю ласково чинарясь.) А вы, старейшие из старых, Старее, нежели Додо, Идите прочь! Не на анчарах Вам вить воробушка гнездо. Для рукоплескания подмышек Раскрывши свой увядший рот, Вас много, трепетных зайчишек, Скакало в мой же огород. В моем пере на Миссисипи Обвенчан старый умный Нил. Его волну в певучем скрипе Я эхнатэнственно женил. <1915>78. Суэ
На небо восходит Суа. С востока приходят с улыбкой Суэ. Бледнея, шатаются нашей земли, Не могут набег отразить, короли. Зовут Суэ князя Веспуччи, Разит он грозою гремучей. Чипчасы шатаются, падая, Победой Суэ окровавленно радуя. И вот Монтезума, бледнея, пришел И молвил: «О, боги! Вам дали и дол», – Не смея сказать им: «О, братья!» Но что же? На нем уж железное платье – Суэ на владыку надели. Он гордость смирил еле-еле. Он сделался скоро темней и смуглей, Он сделался черен, как пепел. Три дня он лежал на цветах из углей, Три дня он из клюва колибрина не пил. На третий его на носилках уносят. Как смерть, их пришествие губит и косит. <1915>79. Смерть в озере
«За мною, взвод!» – И по лону вод Идут серые люди, Смелы в простуде. Это кто вырастил серого мамонта грудью? И ветел далеких шумели стволы. Это смерть и дружина идет на полюдье, И за нею хлынули валы. У плотины нет забора, Глухо визгнули ключи. Колесница хлынула Мора И за нею влажные мечи. Кто по руслу шел, утопая, Погружаясь в тину болота, Тому смерть шепнула: «Пая, Здесь стой, держи ружье и жди кого-то». И к студеным одеждам привыкнув И застынув мечтами о ней, Слушай: смерть, пронзительно гикнув, Гонит тройку холодных коней. И, ремнями ударив, торопит И на козлы, гневна вся, встает, И заречною конницей топит Кто на Висле о Доне поет. Чугун льется по телу вдоль ниток, В руках ружья, а около – пушки. Мимо лиц – тучи серых улиток, Пестрых рыб и красивых ракушек. И выпи протяжно ухали, Моцарта пропели лягвы, И мертвые, не зная, здесь мокро, сухо ли, Шептали тихо: «Заснул бы, ляг бы!» Но когда затворили гати туземцы, Каждый из них умолк. И диким ужасом исказились лица немцев, Увидя страшный русский полк. И на ивовой ветке извилин, Сноп охватывать лапой натужась, Хохотал задумчивый филин, Проливая на зрелище ужас. <1915>80. Бог XX века
Как А, Как башенный ответ – который час? Железной палкой сотню раз Пересеченная Игла, Серея в небе, точно Мгла, Жила. Пастух железный, что он пас? Прочтя железных строк записки, Священной осению векши, Страну стадами пересекши, Струили цокот, шум и писки. Бросая ветку, родите стук вы! Она, упав на коврик клюквы, Совсем как ты, сокрывши веко, Молилась богу другого века. И тучи проволок упали С его утеса на леса, И грозы стаями летали В тебе, о, медная леса. Утеса каменные лбы, Что речкой падали, курчавясь, И окна северной избы – Вас озарял пожар-красавец. Рабочим сделан из осей, И икс грозы закрыв в кавычки, В священной печи жег привычки Страны болот, озер, лосей. И от браг болотных трезв, Дружбе чужд столетий-пьяниц, Здесь возник, быстер и резв, Бог заводов – самозванец. Ночью молнию урочно Ты пролил на города, Тебе молятся заочно Труб высокие стада. Но гроз стрела на волосок Лишь повернется сумасшедшим, Могильным сторожем песок Тебя зарыть не сможет – нечем. Железных крыльев треугольник, Тобой заклеван дола гад, И разум старший, как невольник, Идет исполнить свой обряд. Но был глупец. Он захотел, Как кость игральную, свой день Провесть меж молний. После, цел, Сойти к друзьям из смерти тень. На нем охотничьи ремни И шуба заячьего меха, Его ружья верны кремни, И лыжный бег его утеха. Вдруг слабый крик. Уже смущенные Внизу столпилися товарищи. Его плащи испепеленные. Он обнят дымом, как пожарище. Толпа бессильна; точно курит Им башни твердое лицо. Невеста трупа взор зажмурит, И после взор еще… еще… Три дин висел как назидание Он и вышине глубокой неба. Где смельчака найти, чтоб дань его Безумству снесть на землю, где бы? <1915>81. «В холопий город парус тянет…»
В холопий город парус тянет. Чайкой вольницу обманет. Куда гнется – это тайна, Золотая судна райна. Всюду копья и ножи, Хлещут мокрые ужи. По корме смоленой стукать Не устанет медный укоть, На носу темнеет пушка, На затылках хлопцев смушки. Что задумалися, други, Иль челна слабы упруги? Видишь, сам взошел на мост, Чтоб читать приказы звезд. Догорят тем часом зори На смоле, на той кокоре. Кормщик, кормщик, видишь, пря В небе хлещется, и зря? Мчимтесь дальше на досчане! Мчимся, мчимся, станичане. Моря веслам иль узки? Мчитесь дальше, паузки! В нашей пре заморский лен, В наших веслах только клен. На купеческой беляне Браги груз несется пьяный; И красивые невольницы Наливают ковш повольницы. Голубели раньше льны, Собирала псковитянка, Теперь, бурны и сильны, Плещут, точно самобранка. <1915>82. «Усадьба ночью, чингисхань!..»
Усадьба ночью, чингисхань! Шумите, синие березы. Заря ночная, заратустрь! А небо синее, моцарть! И, сумрак облака, будь Гойя! Ты ночью, облако, роопсь! Но смерч улыбок пролетел лишь, Когтями криков хохоча, Тогда я видел палача И озирал ночную, смел, тишь. И вас я вызвал, смелоликих, Вернул утопленниц из рек. «Их незабудка громче крика», – Ночному парусу изрек. Еще плеснула сутки ось, Идет вечерняя громада. Мне снилась девушка-лосось В волнах ночного водопада. Пусть сосны бурей омамаены И тучи движутся Батыя, Идут слова, молчаний Каины, – И эти падают святые. И тяжкой походкой на каменный бал С дружиною шел голубой Газдрубал. <1915>83. «Ни хрупкие тени Японии…»
Ни хрупкие тени Японии, Ни вы, сладкозвучные Индии дщери, Не могут звучать похороннее, Чем речи последней вечери. Пред смертью жизнь мелькает снова, Но очень скоро и иначе. И это правило – основа Для пляски смерти и удачи. <1915>84. Зверь + число
Когда мерцает в ды́ме сел Сверкнувший синим коромысел, Проходит Та, как новый вымысел, И бросит ум на берег чисел. Воскликнул жрец: «О, дети, дети!» – На речь афинского посла. И ум, и мир, как плащ, одеты На плечах строгого числа. И если смертный морщит лоб Над винно-пенным уравнением, Узнайте: делает он, чтоб Стать роста на небо растением. Прочь застенок! Глаз не хмуря, Огляните чисел лом. Ведь уже трепещет буря, Полупоймана числом. Напишу в чернилах: верь! Близок день, что всех возвысил! И грядет бесшумно зверь С парой белых нежных чисел! Но, услышав нежный гомон Этих уст и этих дней, Он падет, как будто сломан, На утесы меж камней. 21 августа 191585. «И снова глаза щегольнули…»
И снова глаза щегольнули Жемчугом крупным своим И просто и строго взглянули На то, что мы часто таим. Прекрасные жемчужные глаза, Звенит в них утром войска «вашество». За серебром бывают образа, И им не веровать – неряшество. Упорных глаз сверкающая резь И серебристая воздушь. В глазах: «Певец, иди и грезь!» – Кроме меня, понять кому ж? И вы, очаревна, внимая, Блеснете глазами из льда. Взошли вы, как солнце в погоду Мамая, Над степью старою слов «никогда». Пожар толпы погасит выход Ваш. Там буду я, вам верен, близь, Петь восхитительную прихоть Одеть холодных камней низь. Ужель, проходя по дорожке из мауни, Вы спросите тоже: «Куда они?» Сентябрь – октябрь 191586. Пен пан
У вод я подумал о бесе И о себе, Над озером сидя на пне. Со мной разговаривал пен пан И взора озерного жемчуг Бросает воздушный, могуч меж Ивы, Большой, как и вы. И много невестнейших вдов вод Преследовал ум мой, как овод, Я, брезгая, брызгаю ими. Мое восклицалося имя – Шепча, изрицал его воздух. Сквозь воздух умчаться не худ зов, Я озеро бил на осколки И после расспрашивал: «Сколько?» И мир был прекрасно улыбен, Но многого этого не было. И свист пролетевших копыток Напомнил мне много попыток Прогнать исчезающий нечет Среди исчезавших течений. «конец 1915>87. «Моих друзей летели сонмы…»
Моих друзей летели сонмы. Их семеро, их семеро, их сто! И после испустили стон мы. Нас отразило властное ничто. Дух облака, одетый в кожух, Нас отразил, печально непохожих. В года изученных продаж, Где весь язык лишь «дам» и «дашь». Теперь их грезный кубок вылит. О, роковой ста милых вылет! А вы, проходя по дорожке из мауни, Ужели нас спросите тоже, куда они? Начало 191688. «Моя так разгадана книга лица…»
Моя так разгадана книга лица: На белом, на белом – два серые зня! За мною, как серая пигалица, Тоскует Москвы простыня. <Начало 1916>89. «О, если б Азия сушила волосами…»
О, если б Азия сушила волосами Мне лицо – золотым и сухим полотенцем, Когда я в студеном купаюсь ручье. Ныне я, скромный пастух, Косу плету из Рейна и Ганга и Хоанхо. И коровий рожок лежит около – Отпиленный рог и с скважиной звонкая трость. <1916>90. «Вновь труду доверил руки…»
Вновь труду доверил руки И доверил разум свой. Он ослабил голос муки, Неумолчный ночью вой. Судьбы чертеж еще загадочный Я перелистываю днями. Блеснет забытыми заботами Волнующая бровь, Опять звенит работами Неунывающая кровь. <1916>91. «Где, как волосы девицыны…»
Где, как волосы девицыны, Плещут реки, там в Царицыне, Для неведомой судьбы, для неведомого боя, Нагибалися дубы нам ненужной тетивою, В пеший полк 93-й, Я погиб, как гибнут дети. 19 мая 191692. «Татлин, тайновидец лопастей…»
Татлин, тайновидец лопастей И винта певец суровый, Из отряда солнцеловов. Паутинный дол снастей Он железною подковой Рукой мертвой завязал. В тайновиденье щипцы. Смотрят, что он показал, Онемевшие слепцы. Так неслыханны и вещи Жестяные кистью вещи. Конец мая 191693. «Веко к глазу прилепленно приставив…»
Веко к глазу прилепленно приставив, Люди друг друга, быть может, целуют, Быть может же, просто грызут. Книга войны за зрачками пылает Того, кто у пушки, с ружьем, но разут. Потомок! От Костомарова позднего Скитаясь до позднего Погодина, Имя прочтете мое, темное, как среди звезд Нева, Среди клюкву смерти проливших за то, чему имя старинное «родина», А имя мое страшней и тревожней На столе пузырька С парой костей у слов: «Осторожней, Живые пока!» Это вы, это вы тихо прочтете О том, как ударил в лоб, Точно кисть художника, дроби ком, Я же с зеленым гробиком У козырька Пойду к доброй старой тете. Сейчас все чары и насморк, И даже брашна, А там мне не будет страшно. – На смерть! 2-я половина 191694. «Ласок…»
Ласок Груди среди травы, Вы вся – дыханье знойных засух. Под деревом стояли вы, А косы Жмут жгут жестоких жалоб в жёлоб, И вы голубыми часами Закутаны медной косой. Жмут, жгут их медные струи. А взор твой – это хата, Где жмут веретено Две мачехи и пряхи. Я выпил вас полным стаканом, Когда голубыми часами Смотрели в железную даль. А сосны ударили в щит Своей зажурчавшей хвои, Зажмуривши взоры старух. И теперь Жмут, жгут меня медные косы. <1916>95. «Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова…»
Сегодня строгою боярыней Бориса Годунова Явились вы, как лебедь в озере. Я не ожидал от вас иного И не сумел прочесть письмо зари. А помните? Туземною богиней Смотрели вы умно и горячо, И косы падали вечерней голубиней На ваше смуглое плечо. Ведь это вы скрывались в ниве Играть русалкою на гуслях кос. Ведь это вы, чтоб сделаться красивей, Блестели медом – радость ос. Их бусы золотые Одели ожерельем Лицо, глаза и волос. Укусов запятые Учили препинанью голос, Не зная ссор с весельем. Здесь Божия мать, ступая по колосьям, Шагала по нивам ночным. Здесь думою медленной рос я И становился иным. Здесь не было «да», Но не будет и «но». Что было – забыли, что будем – не знаем. Здесь Божия матерь мыла рядно, И голубь садится на темя за чаем. 1916, 192296. «Народ поднял верховный жезел…»
Народ поднял верховный жезел, Как государь идет по улицам. Народ восстал, как раньше грезил. Дворец, как Цезарь раненный, сутулится. В мой царский плащ окутанный широко, Я падаю по медленным ступеням, Но клич «Свободе не изменим!» Пронесся до Владивостока. Свободы песни, снова вас поют! От песен пороха народ зажегся. В кумир свободы люди перельют Тот поезд бегства, тот, где я отрекся. Крылатый дух вечернего собора Чугунный взгляд косит на пулеметы. Но ярость бранного позора – Ты жрица, рвущая тенета. Что сделал я? Народной крови темных снегирей Я бросил около пылающих знамен, Подругу одевая, как Гирей, В сноп уменьшительных имен. Проклятья дни! Ужасных мук ужасный стон. А здесь – о, ржавчина и цвель! – Мне в каждом зипуне мерещится Дантон, За каждым дереном – Кромвель. 10 марта 191797. Огневоду
Слово пою я о том, Как огневод, пота струями покрытый, в пастушеской шкуре из пепла, дыма и копоти, Темный и смуглый, Белым поленом кормил тебя, Дровоядного зверя огня. Он, желтозарный, то прятался смертью За забор темноты, то ложился кольцом, как собака, В листве черного дерева мрака. И тогда его глаз нам поведал про оперение синего зимородка. И черными перьями падала черная ветвь темноты. После дико бросался и грыз, гривой сверкнув золотой, Груду полен среброрунных, То глухо выл, пасть к небу подняв, – от холода пламенный голод, жалуясь звездам. Через решетку окна звезды смотрели. И тебя, о, огонь, рабочий кормил Тушами белых берез испуганной рощи, Что колыхали главами, про ночь шелестя И что ему все мало бы, а их ведь не так уже много. О приходе людей были их жалобы. Даже На вывеску «Гробов продажа» (крик улиц темноты) Падала тихая сажа. 23 октября 191798. «А я…»
Л. Г.
А я Из вздохов дань Сплетаю В Духов день. Береза склонялась к соседу, Как воздух зеленый и росный. Когда вы бродили по саду, Вы были смелы и прекрасны. Как будто увядает день его, Береза шуметь не могла. И вы ученица Тургенева! И алое пламя повязки узла! Может быть, завтра Мне гордость Сиянье сверкающих гор даст. Может, я сам, К седьмым небесам Многих недель проводник, Ваш разум окутаю, Как строгий ледник, И снежными глазами В зеленые ручьи Парчой спадая гнутою, Что все мы – ничьи, Плещем у ног Тканей низами. Горной тропою поеду я, Вас проповедуя. Что́ звезды и солнце – все позже устроится. А вы, вы – девушка в день Троицы. Там буду скитаться годы и годы. С коз Буду писать сказ О прелестях горной свободы. Их дикое вымя Сосет пастушонок. Где грозы скитаются мимо, В лужайках зеленых, Где облако мальчик теребит, А облако – лебедь, Усталый устами. А ветер, Он вытер Рыданье утеса И падает, светел, Выше откоса. Ветер утих. И утух Вечер утех У тех смелых берез, С милой смолой, Где вечер в очах Серебряных слез. И дерево чар серебряных слов. Нет, это не горы! Думаю, ежели к небу камень теснится, А пропасти пеной зеленою моются, Это твои в день Троицы Шелковые взоры. Где тропинкой шелковой, Помните, я шел к вам, Шелковые ресницы! Это, Тонок И звонок, Игрист в свирель Пастушонок. Чтоб кашу сварить, Пламя горит. А в омуте синем Листья кувшинок. <Май – июнь, 1918>99. Харьковское Оно́
Где на олене суровый король Вышел из сумрака северных зорь, Где белое, белое – милая боль, Точно грыз голубя милого хорь. Где ищет белых мотыльков Его суровое бревно, И рядом темно молоко – Так снежен конь. На нем Оно! Оно струит, как темный мед, Свои целуемые косы. На гриве бьется. Кто поймет, Что здесь живут великороссы? Ее речными именами Людей одену голоса я. Нога качает стременами, Желтея смугло и босая. <Лето 1918>100. «Сияющая вольза…»
Сияющая вольза Желаемых ресниц И ласковая дольза Ласкающих десниц. Чезори голубые И нрови своенравия. О, мраво! Моя моролева, На озере синем – мороль. Ничтрусы – туда! Где плачет зороль. <1918>101. «Ветер – пение…»
Ветер – пение Кого и о чем? Нетерпение Меча быть мячом. Люди лелеют день смерти, Точно любимый цветок. В струны великих, поверьте, Ныне играет Восток. Быть может, нам новую гордость Волшебник сияющих гор даст, И, многих людей проводник, Я разум одену, как белый ледник. 1918–1919102. О свободе
Вихрем разумным, вихрем единым Все за богиней – туда! Люди крылом лебединым Знамя проносят туда. Жгучи свободы глаза, Пламя в сравнении – холод! Пусть на земле образа! Новых построит их голод. Двинемся, дружные, к песням! Все за свободой – вперед! Станем землею – воскреснем, Каждый потом оживет! Двинемся в путь очарованный, Гулким внимая шагам. Если же боги закованы, Волю дадим и богам! Начало ноября 1918, 1922103. Жизнь
Росу вишневую меча Ты сушишь волосом волнистым. А здесь из смеха палача Приходит тот, чей смех неистов. То черноглазаю гадалкой, Многоглагольная, молчишь, А то хохочущей русалкой На бивне мамонта сидишь. Он умер, подымая бивни, Опять на небе виден Хорс. Его живого знали ливни – Теперь он глыба, он замерз. Здесь скачешь ты, нежна, как зной, Среди ножей, светла, как пламя, Здесь облак выстрелов сквозной, Из мертвых рук упало знамя. Здесь ты поток времен убыстрила, Скороговоркой судит плаха. А здесь кровавой жертвой выстрела Ложится жизни черепаха. Здесь красных лебедей заря Сверкает новыми крылами. Там надпись старого царя Засыпана песками. Здесь скачешь вольной кобылицей По семикрылому пути. Здесь машешь алою столицей, Точно последнее «прости». Начало января 1919104. «В этот день голубых медведе́й…»
В этот день голубых медведе́й, Пробежавших по тихим ресницам, Я провижу за синей водой В чаше глаз приказанье проснуться. На серебряной ложке протянутых глаз Мне протянуто море и на нем буревестник; И к шумящему морю, вижу, птичая Русь Меж ресниц пролетит неизвестных. Но моряной любес опрокинут Чей-то парус в воде кругло-синей, Но зато в безнадежное канут Первый гром и путь дальше весенний. <1919>105. «Весны пословицы и скороговорки…»
Весны пословицы и скороговорки По книгам зимним проползли. Глазами синими увидел зоркий Записки сты́десной земли. Сквозь полет золотистого мячика Прямо в сеть тополевых тенет В эти дни золотая мать-мачеха Золотой черепашкой ползет. Весна 1919106. «Весеннего Корана…»
Весеннего Корана Веселый богослов, Мой тополь спозаранок Ждал утренних послов. Как солнца рыболов, В надмирную синюю тоню Закинувши мрежи, Он ловко ловит рев волов И тучу ловит соню, И летней бури запах свежий. О, тополь-рыбак, Станом зеленый, Зеленые неводы Ты мечешь столба. И вот весенний бог (Осетр удивленный) Лежит на каждой лодке У мокрого листа. Открыла просьба: «Небо дай» – Зеленые уста. С сетями ловли бога Великий Тополь Ударом рога Ударит о́ поле Волною синей водки. Весна 1919107. «Над глухонемой отчизной «Не убей!»…»
Над глухонемой отчизной: «Не убей!» И голубой станицей голубей Пьяница пением посоха пуль, Когда ворковало мычание гуль: «Взвод, направо, разом пли! Ошибиться не моги! Стой – пали! Свобода и престол, Вперед!» И дева красная, открыв подол, Кричит: «Стреляй в живот! Смелее, прямо в пуп!» Храма дальнего набат, У забора из оград Общий выстрел, дымов восемь – «Этот выстрел невпопад!» Громкий выстрелов раскат. Восемнадцать быстрых весен С песней падают назад. Молот выстрелов прилежен, И страницей ночи нежен, По-русалочьи мятежен Умный труп. Тело раненой волчицы С белой пеной на губах? Пехотинца шаг стучится Меж малиновых рубах. Так дваждыпадшая лежала, И ветра хладная рука Покров суровый обнажала. Я видел тебя, русалку восстаний, Где стонут! 1919108. Случай
Напитка огненной смолой Я развеселил суровый чай, И Лиля разуму «долой» Провозглашает невзначай. И пара глаз на кованом затылке Стоит на страже бытия. Лепешки мудрые и вилки, Цветов кудрявая и смелая семья. Прозрачно-белой кривизной Нас отражает самовар, Его дыхание и зной, И в небо падающий пар – Всё бытия дает уроки, <Закона требуя взамен> потоки. Бег могучий, бег трескучий Прямо к солнцу <держит> бык, Смотрит тучей, сыплет кучей Черных искр, грозить привык. Добрый бык, небес не мучай, Не дыши, как паровик. Ведь без неба <видеть> нечем, В чьи рога венками мечем. Апрель 1919109. «Точит деревья и тихо течет…»
Точит деревья и тихо течет В синих рябинах вода. Ветер бросает нечет и чёт, Тихо стоят невода. В воздухе мглистом испарина, Где-то, не знают кручины, Темный и смуглый выросли парень, Рядом дивчина. И только шум ночной осоки, И только дрожь речного злака, И кто-то бледный и высокий Стоит, с дубровой одинаков. <1919>110. «И черный рак на белом блюде…»
И черный рак на белом блюде Поймал колосья синей ржи. И разговоры о простуде, О море праздности и лжи. Но вот нечаянный звонок: «Мы погибоша, аки обре!» Как Цезарь некогда, до ног Закройся занавесью. Добре! Умри, родной мой. Взоры если Тебя внимательно откроют, Ты скажешь, развалясь на кресле: «Я тот, кого не беспокоят». <1919>111. Мои походы
Коней табун, людьми одетый, Бежит назад, увидев море. И моря страх, ему нет сметы, Неодолимей детской кори. Но имя веры, полное Сибирей, Узнает снова Ермака – Страна, где замер нежный вырей, И сдастся древний замок А. Плеск небытия за гранью Веры Отбросил зеркалом меня. О, моря грустные промеры Разбойным взмахом кистеня! 1919–1920112. «Собор грачей осенний…»
Собор грачей осенний, Осенняя дума грачей. Плетня звено плетений, Сквозь ветер сон лучей. Бросают в воздух стоны Разумные уста. Речной воды затоны И снежный путь холста. Три девушки пытали: Чи парень я, чи нет? А голуби летали, Ведь им немного лет. И всюду меркнет тень, Ползет ко мне плетень. Нет! 1919–1920113. Праотец
Меток из тюленей могучих на теле охотника, Широко льются рыбьей кожи измятые покровы. И чучеле сухого осетра стрелы С орлиными перышками, дроты прямые и тонкие, С камнем, кремнем зубчатым на носу вместо клюва и парою перьев орлиных на хвосте. Суровые могучие открыты глаза, длинные жестокие волосы у охотника. И лук в руке, с стрелою наготове, осторожно вытянут вперед, Подобно оку бога и сновидении, готовый ринуться певучей смертью: Дззи! Ни грубых круглых досках и ремнях ноги. 1919–1920114. Кормление голубя
Вы пили теплое дыхание голубки, И, вся смеясь, вы наглецом его назвали. А он, вложив горбатый клюв в накрашенные губки И трепеща крылом, считал вас голубем? Едва ли! И стая иволог летела, Как треугольник зорь, на тело, Скрывая сумраком бровей Зеркала утренних морей. Те низко падали, как пение царей. За их сияющей соломой, Как воздухом погоды золотой, Порою вздрагивал знакомый Холма на землю лёт крутой. И голубя малиновые лапки В ее прическе утопали. Он прилетел, осенне-зябкий. Он у товарищей в опале. 1919–1920115. «Сыновеет ночи синева…»
Сыновеет ночей синева, Веет во всё любимое, И кто-то томительно звал, Про горести вечера думая. Это было, когда золотые Три звезды зажигались на лодках И когда одинокая туя Над могилой раскинула ветку. Это было, когда великаны Одевалися алой чалмой И моряны порыв беззаконный, Он прекрасен, не знал почему. Это было, когда рыбаки Запевали слова Одиссея И на вале морском вдалеке Крыло подымалось косое. 1920116. Город будущего
Здесь площади из горниц, в один слой, Стеклянною страницею повисли, Здесь камню сказано «долой», Когда пришли за властью мысли. Прямоугольники, чурбаны из стекла, Шары, углов, полей полет, Прозрачные курганы, где легла Толпа прозрачно-чистых сот, Раскаты улиц странного чурбана И лбы стены из белого бревна – Мы входим в город Солнцестана, Где только мера и длина. Где небо пролито из синего кувшина, Из рук русалки темной площади, И алошарая вершина Светла венком стеклянной проседи, Ученым глазом в ночь иди! Ее на небо устремленный глаз В чернила ночи ярко пролит. Сорвать покровы напоказ Дворец для толп упорно волит, Чтоб созерцать ряды созвездий И углублять закон возмездий. Где одинокая игла На страже улицы угла, Стеклянный путь покоя над покоем Был зорким стражем тишины, Со стен цветным прозрачным роем Смотрели старцы-вещуны. В потоке золотого, куполе, Они смотрели, мудрецы, Искали правду, пытали, глупо ли С сынами сеть ведут отцы. И шуму всего человечества Внимало спокойное жречество. Но книгой черных плоскостей Разрежет город синеву, И станет больше и синей Пустотный ночи круг. Над глубиной прозрачных улиц В стекле тяжелом, в глубине Священных лиц ряды тянулись С огнем небес наедине. Разрушив жизни грубый кокон, Толпа прозрачно-светлых окон Под шаровыми куполами Былых видений табуны, Былых времен расскажет сны. В высоком и отвесном храме Здесь рода смертного отцы Взошли на купола концы, Но лица их своим окном, Как невод, не задержат свет<а>, На черном вырезе хором Стоит толпа людей завета. Железные поля, что ходят ни колесах И возят мешок толп, бросая общей кучей, Дворец стеклянный, прямей, че<м> старца посох, Свою бросают ось, один на черных тучах. Ремнями приводными живые ходят горницы, Светелка за светелкою, серебряный набат, Узнавшие неволю веселые затворницы, Как нити голубые стеклянных гладких хат. И, озаряя дол, Верхушкой гордой цвел Высокий горниц ствол. Окутанный зарницей, Стоит высот цевницей. Отвесная хором нить, Верхушкой сюда падай, Я буду вечно помнить Стены прозрачной радуй. О, ветер города, размерно двигай Здесь неводом ячеек и сетей, А здесь страниц стеклянной книгой, Здесь иглами осей, Здесь лесом строгих плоскостей. Дворцы-страницы, дворцы-книги, Стеклянные развернутые книги, Весь город – лист зеркальных окон, Свирель в руке суровой рока. И лямкою на шее бурлака Влача устало небеса, Ты мечешь в даль стеклянный дол, Разрез страниц стеклянного объема Широкой книгой открывал. А здесь на вал окутал вал прозрачного холста, Над полом громоздил устало пол, Здесь речи лил сквозь львиные уста И рос, как множество зеркального излома. 1920117. Слово о Эль
Когда судов широкий вес Был пролит на груди, Мы говорили: видишь, лямка На шее бурлака. Когда камней бесился бег, Листом в долину упадая, Мы говорили – то лавина. Когда плеск волн, удар в моржа, Мы говорили – это ласты. Когда зимой снега хранили Шаги ночные зверолова, Мы говорили – это лыжи. Когда волна лелеет челн И носит ношу человека, Мы говорили – это лодка. Когда широкое копыто В болотной тони держит лося, Мы говорили – это лапа. И про широкие рога Мы говорили – лось и лань. Через осипший пароход Я увидал кривую лопасть: Она толкала тяжесть вод, И луч воды забыл, где пропасть. Когда доска на груди воина Ловила копья и стрелу, Мы говорили – это латы. Когда цветов широкий лист Облавой ловит лёт луча, Мы говорим – протяжный лист. Когда умножены листы, Мы говорили – это лес. Когда у ласточек протяжное перо Блеснет, как лужа ливня синего, И птица льется лужей ноши, И лег на лист летуньи вес, Мы говорим – она летает, Блистая глазом самозванки. Когда лежу я на лежанке, На ложе лога на лугу, Я сам из тела сделал лодку, И лень на тело упадает. Ленивец, лодырь или лодка, кто я? И здесь и там пролита лень. Когда в ладонь сливались пальцы, Когда не движет легот листья, Мы говорили – слабый ветер. Когда вода – широкий камень, Широкий пол из снега, Мы говорили – это лед. Лед – белый лист воды. Кто не лежит во время бега Звериным телом, но стоит, Ему названье дали – люд. Мы воду черпаем из ложки. Он одинок, он выскочка зверей, Его хребет стоит, как тополь, А не лежит хребтом зверей. Прямостоячее двуногое, Тебя назвали через люд. Где лужей пролилися пальцы, Мы говорили – то ладонь. Когда мы легки, мы летим. Когда с людьми мы, люди, легки, Любим. Любимые – людимы. Эль – это легкие Лели, Точек возвышенный ливень, Эль – это луч весовой, Воткнутый в площадь ладьи. Нить ливня и лужа. Эль – путь точки с высоты, Остановленный широкой Плоскостью. В любви сокрыт приказ Любить людей, И люди – те, кого любить должны мы. Матери ливнем любимец – Лужа-дитя. Если шириною площади остановлена точка – это Эль. Сила движения, уменьшенная Площадью приложения, – это Эль. Таков силовой прибор, Скрытый за Эль. Начало 1920118. «Москвы колымага…»
Москвы колымага, В ней два имаго. Голгофа Мариенгофа. Город Распорот. Воскресение Есенина. Господи, отелись В шубе из лис! Апрель 1920119. Праздник труда
Алое плавало, алое На копьях у толпы. Это труд проходит, балуя Шагом взмах своей пяты. Труднеделя! Труднеделя! Кожа лоснится рубах. Льется песня, в самом деле, В дне вчерашнем о рабах, О рабочих, не рабах! И, могучая, раскатом Песни падает, пока Озаряемый закатом Отбивает трепака. Лишь приемы откололи Сапогами впереди, Как опять Востоком воли Песня вспыхнула в груди. Трубачи идут в поход, Трубят трубам в медный рот! Веселым чародеям Широкая дорога. Трубач, обвитый змеем Изогнутого рога. Это синие гусары На заснувшие ножи Золотые лили чары Полевых колосьев ржи. Городские очи радуя Огневым письмом полотен, То подымаясь, то падая, Труд проходит, беззаботен. И на площади пологой Гулко шли рогоголовцы – Битвенным богом Желтый околыш, знакомый тревогам. И на затылках, наголо стриженных, Раньше униженных, – Черные овцы. Лица закрыли, Кудри струили. Суровые ноги в зеленых обмотках, Ищут бойцы за свободу знакомых, В каждой винтовке ветка черемухи – Боевой привет красотке. Как жестоки и свирепы Скакуны степных долин! Оцепили площадь цепи, На макушках – алый блин! Как сегодня ярки вещи! Золотым огнем блеснув, Знамя падает и плещет, Славит ветер и весну. Это идут трубачи, С ног окованные в трубы. Это идут усачи, В красоте суровой грубы. И, как дочь могучей меди Меж богов и меж людей, Звуки, облаку соседи, Рвутся в небо лебедей! Веселым чародеям Свободная дорога, Трубач сверкает змеем Изогнутого рога. Алый волос расплескала, Точно дева, площадь города, И военного закала Черны ветреные бороды. Золото красными птицами Носится взад и вперед. Огненных крыл вереницами Был успокоен народ. 20 апреля 1920120. Горные чары
Я верю их вою и хвоям, Где стелется тихо столетье сосны И каждый умножен и нежен, Как баловень бога живого. И вижу широкую вежу И нежу собою и нижу. Падун улетает по дань, И вы, точно ветка весны, Летя по утиной реке паутиной. Ночная усадьба судьбы, Север цели всех созвездий Созерцали вы. Вилось одеянье волос, И каждый – путь солнца, Летевший в меня, чтобы солнце на солнце менять. Березы мох – маленький замок, И вы – одеяние ивы, Что с тихим напевом «увы!» Качала качель головы. На матери камень Ты встала; он громок Морями и материками, Поэтому пел мой потомок. Но ве́дом ночным небосводом И за руку зорями зорко ведо́м. Вхожу в одинокую хижу, Куда я годую себя и меня. Печаль, распустив паруса, Где делится горе владелицы, Увозит свои имена, Слезает неясной слезой, Изученной тропкой из окон Хранимой хра<ми́н>ы. И лавою падает вал, Оливы желанья увел Суровый поток Дорогою пяток. 1920121. Каракурт
От зари и до́ ночи Вяжет Врангель онучи, Он готовится в поход Защищать царев доход. Чтоб, как ранее, жирели Купцов шеи без стыда, А купчих без ожерелий Не видать бы никогда. Чтоб жилось бы им как прежде, Так, чтоб ни в одном глазу, Сам господь, высок в надежде, Осушил бы им слезу. Чтоб от жен и до наложницы Их носил рысак, Сам господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. Есть волшебная овца, Каждый год дает руно. «Без содействия Творца Быть купцами не дано». Кровь волнуется баронья. «Я спаситель тех, кто барин». Только каркает воронья Стая: «Будешь ты зажарен!» Тратьте рати, рать за ратью, Как морской песок. Сбросят в море вашу братью: Советстяг – высок. Конец октября 1920122. Алеше Крученых
Игра в аду и труд в раю – Хорошеу́ки первые уроки. Помнишь, мы вместе Грызли, как мыши, Непрозрачное время? Сим победиши! 26 октября 1920123. Саян
Саян здесь катит вал за валом, И берега из мела. Здесь думы о бывалом И время онемело. Вверху широким полотни́щем Шумят тревожно паруса, Челнок смутил широким днищем Реки вторые небеса. Что видел ты? Войска? Собор немых жрецов? Иль повела тебя тоска Туда, в страну отцов? Зачем ты стал угрюм и скучен, Тебя течением несло, И вынул из уключин Широкое весло? И, прислонясь к весла концу, Стоял ты, очарован, К ночному камню-одинцу Был смутный взор прикован. Пришел охотник и раздел Себя от ветхого покрова, И руки на небо воздел Молитвой зверолова. Поклон глубокий три раза, Обряд кочевника таков. «Пойми, то предков образа, Соседи белых облаков». На вышине, где бор шумел И где звенели сосен струны, Художник вырезать умел Отцов загадочные руны. Твои глаза, старинный боже, Глядят в расщелинах стены. Пасут оленя и треножат Пустыни древние сыны. И за суровым клинопадом Бегут олени диким стадом. Застыли сказочными птицами Отцов письмена в поднебесья. Внизу седое краснолесье Поет вечерними синицами. В своем величии убогом На темя гор восходит лось Увидеть договора с богом Покрытый знаками утес. Он гладит камень своих рог О черный каменный порог. Он ветку рвет, жует листы И смотрит тупо и устало На грубо-древние черты Того, что миновало.II
Но выше пояса письмен, Каким-то отроком спасен, Убогий образ на березе Красою ветхою сиял. Он наклонился детским ликом К широкой бездне перед ним, Гвоздем над пропастью клоним, Грозою дикою щадим, Доской закрыв березы тыл, Он, очарованный, застыл. Лишь черный ворон с мрачным криком Летел по небу, нелюдим. Береза что́ ему сказала Своею чистою корой, И пропасть что́ ему молчала Пред очарованной горой? Глаза нездешние расширил, В них голубого света сад. Смотрел туда, где водопад Себе русло́ ночное вырыл. 1920–1921124. Море
Бьются синие которы И зеленые имуры. Эй, на палубу, поморы, Эй, на палубу, музуры, Голубые удальцы! Ветер баловень – а-ха-ха! – Дал пощечину с размаха, Судно село кукарачь, Скинув парус, мчится вскачь. Волны скачут лата-тах! Волны скачут а-ца-ца! Точно дочери отца. За морцом летит морцо. Море бешеное взы-ы! Море, море, но-но-но! Эти пади, эти кручи И зеленая крутель. Темный волн кумоворот, В тучах облако и мра Белым баловнем плывут. Моря катится охава, А на небе виснет зга – Эта дзыга синей хляби, Кубари веселых волн. Море вертится юлой, Море грезит и моргует И могилами торгует. Наше оханное судно Полететь по морю будно. Дико гонятся две влаги, Обе в пене и белаге, И волною кокова Сбита, лебедя глава. Море плачет, море вакает, Черным молния варакает. Что же, скоро стихнет вза Наша дикая гроза? Скоро выглянет ваража И исчезнет ветер вражий? Дырой диль сияет в небе, Буря шутит и шиганит, Небо тучи великанит. Эй, на палубу, поморы, Эй, на палубу, музуры, Ветер славить молодцы! Ветра с морем нелады Доведут нас до беды. Судно бьется, судну ва-ва! Ветер бьется в самый корог, Остов бьется и трещит. Будь он проклят, ветер-ворог, – От тебя молитва щит. Ветер лапою ошкуя Снова бросится, тоскуя, Грозно вырастет волна, Возрастая в гневе старом, И опять волны ударом Вся ладья потрясена. Завтра море будет о́теть, Солнце небо позолотит. Буря – киш, буря – кши! Почернел суровый юг, Занялась ночная темень. Это нам пришел каюк, Это нам приходит неман. Судну ва-ва, море бяка, Море сделало бо-бо. Волны, синие борзые, Скачут возле господина, Заяц тучи на руке. И волнисто-белой грудью Грозят люду и безлюдью, Полны злости, полны скуки. В небе черном серый кукиш, Небо тучам кажет шиш. Эй ты, палуба лихая, Что задумалась, молчишь? Ветер лапою медвежьей Нас голубит, гладит, нежит. Будет небо голубо, А пока же нам бо-бо. Буря носится волчком, По морскому бога хая. А пока же, охохонюшки, Ветру молимся тихонечко. 1920–1921125. «Как стадо овец мирно дремлет…»
Как стадо овец мирно дремлет, Так мирно дремлют в коробке Боги былые огня – спички, божественным горды огнем. Капля сухая желтой головки на ветке, Это же праотцев ужас – Дикий пламени бог, скорбный очами, В буре красных волос. Молния пала ни хату отцов с соломенной крышей, Дуб раскололся, дымится, Жены и дети, и старцы, невесты черноволосые, Их развевалися волосы, – Все убегают в леса, крича, оборачиваясь, рукой подымая до неба, На острые зубы зверя лесного, гадов шипящих укус, Как обед для летучего гнуса. Дико пещера пылает: Золото здесь, зелень и синь горят языками. Багровый, с зеленью злою Взбешенных глаз в красных ресницах, Бог пламени, жениной палкой побитый, Машет дубиной корявой, гнев на селе срывает. Соседи бросились грабить село из пещер. Копья и нож, крики войны! Клич «С нами бог!», И каждый ворует у бога Дубину и длинные красные волосы. «Бог не с нами!» – плачут в лесу Деревни пылавшей жильцы. Как волк, дико выл прадед, Видя, как пеплом Становится хижина. Только угли горят и шипят. Ничего уже больше, горка золы. Смотрят глазами волков Из тьмы. Плачь, жена! Нет уже хижины милой Со шкурами, удочками, копьями И мясом оленей, прекрасным на вкус. В горы бежит он проворно, спасаясь. А сыны «Мы с нами!» Запели, воинственные. И сделали спички, Как будто и глупые – И будто божественные, Молнию так покорив, Заперев в узком пространстве. «Мы с нами!» – запели сурово они, Точно перед смертью. – Ведайте, знайте: «Мы с нами!» Сделали спички – Стадо ручное богов, Огня божество победив. Это победа великая и грозная. К печке, к работе Молнию с неба свели. Небо грозовое, полное туч, – Первая коробка для спичек, Грозных для мира. Овцы огня в руне золотом Мирно лежат в коробке. А раньше пещерным львом Рвали и грызли людей, Гривой трясли золотой. А я же, алчный к победам, Буду делать сурово Спички судьбы, Безопасные спички судьбы! Буду судьбу зажигать, Разум в судьбу обмакнув. «Мы с нами!» – Спички судьбы. Спички из рока, спички судьбы. Кто мне товарищ? Буду судьбу зажигать, Сколько мне надо Для жизни и смерти. Первая коробка Спичек судьбы – Вот она! Вот она! <1921>126. «Люди! Над нашим окном…»
Люди! Над нашим окном В завтрашний день Повесим ковер кумачовый, Где были бы имена Платона и Пугачева. Пророки, певцы и провидцы! Глазами великих озер Будем смотреть на ковер, Чтоб большинству не ошибиться! <1921>127. Самострел любви
Хотите ли вы Стать для меня род тетивы Из ваших кос крученых? На лук ресниц, в концах печенный, Меня стрелою нате, И я умчусь грозы пернатей. 25 января 1921128. «Тайной вечери глаз знает много Нева…»
Тайной вечери глаз знает много Нева, Здесь спасителей кровь причастилась вчера С телом севера, камнем булыжника. В ней воспета любовь отпылавших страниц. Это пеплом любви так черны вечера И рабочих и бледного книжника. Льется красным струя, Лишь зажжется трояк На усталых мостах. Трубы ветра грубы́, А решетка садов стоит стражей судьбы. Тайной вечери глаз знает много Нева У чугунных коней, у широких камней Дворца Строганова. Февраль 1921, начало 1922129. «Девушки, те, что шагают…»
Девушки, те, что шагают Сапогами черных глаз По цветам моего сердца. Девушки, опустившие копья На озера своих ресниц. Девушки, моющие ноги В озере моих слов. <1921>130. «Люди! Утопим вражду в солнечном свете!..»
Люди! Утопим вражду в солнечном свете! В плаще мнимых звезд ходят – я жду – Смелых замыслов дети, Смелых разумов сын. <1921>131. «Помимо закона тяготения…»
Помимо закона тяготения Найти общий строй времени, Яровчатых солнечных гусель, – Основную мелкую ячейку времени и всю сеть. <1921>132. Моряк и поец
Как хижина твоя бела! С тобой я подружился! Рука морей нас подняла На высоту, чтоб разум закружился. Иной открыт пред нами выдел. И, пьяный тем, что я увидел, Я Господу ночей готов сказать: «Братишка!» – И Млечный Путь Погладить по головке. Былое – как прочитанная книжка. И в море мне шумит братва, Шумит морскими голосами, И в небесах блестит братва Детей лукавыми глазами. Скажи, ужели святотатство Сомкнуть, что есть, в земное братство? И, открывая умные объятья, Воскликнуть: «Звезды – братья! Горы – братья! Боги – братья!» Сапожники! Гордо сияющий Весь Млечный Путь – Обуви дерзкой дратва́. Люди и звезды – братва! Люди! Дальше окоп К силе небесной проложим. Старые горести – стоп! Мы быть крылатыми можем. Я, человечество, мне научу Ближние солнца честь отдавать! «Ась, два», – рявкая солнцам сурово. Солнце! Дай ножку! Солнце! Дай ножку! Загар лица, как ветер, смугол, Синел морской рубашки угол. Откуда вы, моряк? Где моря широкий уступ В широкую бездну провалится, Как будто казнен Лизогуб И где-то невеста печалится. И воды носятся вдали, Уж покорены небесами. Так головы, казненные Али, Шептали мертвыми устами Ему, любимцу и пророку, Слова упорные: «Ты – бог» – И медленно скользили по мечу, И умирали в пыли ног, Как тихой смерти вечеря, Когда рыдать и грезить нечего. И чокаясь с созвездьем Девы И полночи глубокой завсегдатай, У шума вод беру напевы, Напевы слова и раскаты. Годы прошедшие, где вы? В земле нечитаемых книг! И пело созвездие Девы: «Будь, воин, как раньше, велик!» Мы слышим в шуме дальних весел, Что ужас радостен и весел, Что он – у серой жизни вычет И с детской радостью граничит. <Начало 1921>133. «И вечер темец…»
И вечер темец, И тополь земец, И мореречи, И ты, далече! <1921>134. «“Э-э! Ы-ым!” – весь в поту…»
«Э-э! Ы-ым!» – весь в поту, Понукает вола серорогого, И ныряет соха выдрой в топкое логово. Весенний кисель жевали и ели зубы сохи деревянной. Бык гордился дородною складкой на шее И могучим холмом на шее могучей, Чтобы пленять им коров, И рога перенял у юного месяца, Когда тот блестит над темным вечерним холмом. Другой – отдыхал, Черно-синий, с холмом на шее, с горбом, Стоял он, вор черно-синей тени от дерева, С нею сливаясь. Жабы усердно молились, работая в большие пузыри, Точно трубач в рог, Надув ушей перепонки, раздув белые шары. Толстый священник сидел впереди, Глаза золотые навыкате, И книгу погоды читал. Черепахи вытягивали шеи, точно удивленные, Точно чем<-то> в этом мире изумленные, протянутые к тайне. Весенних запахов и ветров пулемет – Очнись, мыслитель, есть и что-то – В нахмуренные лбы и ноздри, Ноздри пленяя пулями красоты обоняния, Стучал проворно «ту-ту-ту». Цветы вели бои, воздушные бои пыльцой, Сражались пальбою пушечных запахов, Билися битвами запахов: Кто медовее – будет тот победитель. И давали уроки другой войны И запахов весенний пулемет, И вечер, точно первосвященник зари. Битвами запаха бились цветы, Летали душистые нули. И было согласное и могучее пение жаб В честь ясной погоды. Люди, учитесь новой войне, Где выстрелы сладкого воздуха, Окопы из брачных цветов, Медового неба стрельба, боевые приказы. И вздымались молитвенниками, Богослужебными книгами пузыри У квакавших громко лягушек, Набожных, как всегда вечерами при тихой погоде. Весна 1921135. Пасха в Энзели
Темно-зеленые, золотоокие всюду сады, Сады Энзели. Это растут портахалы, Это нарынчи Золотою росою осы́пали Черные ветки и сучья. Хинное дерево С корой голубой Покрыто улитками. А в Баку нет нарынчей, Есть остров Наргинь, Отчего стала противною Рыба морская, белуга или сомы. О сумасшедших водолазах Я помню рассказы Под небом испуганных глаз. Тихо. Темно. Синее небо. Цыганское солнышко всходит, Сияя на небе молочном. Бочонок джи-джи Пронес армянин, Кем-то нанят. Братва, обнимаясь, горланит: «Свадьбу новую справляет Он, веселый и хмельной. Свадьбу новую справляет Он, веселый и хмельной». Так до утра. Пения молкнут раскаты. Слушай, годок: «Троцкий» пришел. «Троцкого» слышен гудок. Утро. Спали, храпели. А берега волны бились и пели. Утро. Ворона летит, И курским соловьем С вершины портахала Поет родной России Ка, Вся надрываясь хриплою грудью. На родине, на севере, ее Зовут каргою. Я помню, дикий калмык Волжской степи Мне с сердцем говорил: «Давай такие деньги, Чтоб была на них карга». Ноги, усталые в Харькове, Покрытые ранами Баку, Высмеянные уличными детьми и девицами, Вымыть в зеленых водах Ирана, В каменных водоемах, Где плавают красные до огня Золотые рыбы и отразились плодовые деревья Ручным бесконечным стадом. Отрубить в ущельи Зоргама Темные волосы Харькова, Дона и Баку. Темные вольные волосы, Полные мысли и воли. Весна 1921136. Новруз труда
Снова мы первые дни человечества! Адам за адамом Проходят толпой На праздник Байрама Словесной игрой. В лесах золотых Заратустры, Где зелень лесов златоуста! Это был первый день месяца Ая. Уснувшую речь не забыли мы В стране, где название месяца – Ай И полночью Ай тихо светит с небес. Два слова, два Ая, Два голубя бились В окошко общей таинственной были… Алое падает, алое На древках с высоты. Мощный труд проходит, балуя Шагом взмах своей пяты. Трубачи идут в поход, Трубят трубам в рыжий рот. Городские очи радуя Золотым письмом полотен, То подымаясь, то падая, Труд проходит, беззаботен. Трубач, обитый змеем Изогнутого рога! Веселым чародеям Широкая дорога! Несут виденье алое Вдоль улицы знамёнщики, Воспряньте, все усталые! Долой, труда погонщики! Это день мирового Байрама. Поодаль, как будто у русской свободы на паперти, Ревнивой темницею заперты, Строгие, грустные девы ислама. Черной чадрою закутаны, Освободителя ждут они. Кардаш, ружье на изготовку Руками взяв, несется вскачь, За ним летят на джигитовку Его товарищи удач. Их смуглые лица окутаны в шали, А груди в высокой броне из зарядов, Упрямые кони устало дышали Разбойничьей прелестью горных отрядов. Он скачет по роще, по камням и грязям, Сквозь ветер, сквозь чащу, упорный скакун, И ловкий наездник то падает наземь, То вновь вверх седла – изваянья чугун. Так смуглые воины горных кочевий По-братски несутся, держась за нагайку, Под низкими сводами темных деревьев, Под рокот ружейный и гром балалайки. Начало мая 1921137. Кавэ-кузнец
Был сумрак сер и заспан. Меха дышали наспех, Над грудой серой пепла Храпели горлом хрипло. Как бабки повивальные Над плачущим младенцем, Стояли кузнецы у тела полуголого, Краснея полотенцем. В гнездо их наковальни, Багровое жилище, Клещи носили пищу – Расплавленное олово. Свирепые, багряные Клещи, зрачками, оловянные, Сквозь сумрак проблистав, Как вдоль других устав. Они, как полумесяц, блестят на небеси, Змеей из серы вынырнув удушливого чада, Купают в красном пламени заплаканное чадо И сквозь чертеж неясной морды Блеснут багровыми порой очами черта. Гнездо ночных движений, Железной кровью мытое, Из черных теней свитое, Склонившись к углям падшим, Как колокольчик, бьется железных пений плачем. И те клещи свирепые Труда заре пою. И где, верны косым очам, Проворных теней плети Ложились по плечам, Как тень багровой сети, Где красный стан с рожденья бедных Скрывал малиновый передник Узором пестрого Востока, А перезвоны молотков – у детских уст свисток, – Жестокие клещи, Багровые, как очи, Ночной закал свободы и обжиг Так обнародовали: «Мы, Труд Первый и прочее и прочее…» Начало мая 1921138. Иранская песня
Как по речке по Ирану, По его зеленым струям, По его глубоким сваям, Сладкой около воды, Ходят двое чудаков Да стреляют судаков. Они целят рыбе в лоб, Стой, голубушка, стоп! Они ходят, приговаривают. Верю, память не соврет. Уху варят и поваривают. «Эх, не жизнь, а жестянка!» Ходит в небе самолет Братвой облаку уда́лой. Где же скатерть-самобранка, Самолетова жена? Иль случайно запоздала, Иль в острог погружена? Верю сказкам наперед: Прежде сказки – станут былью, Но когда дойдет черед, Мое мясо станет пылью. И когда знамена оптом Пронесет толпа, ликуя, Я проснуся, в землю втоптан, Пыльным черепом тоскуя. Или все свои права Брошу будущему в печку? Эй, черней, лугов трава! Каменей навеки, речка! Май 1921139. «С утробой медною…»
1
С утробой медною Верблюд, Тебя ваял потомок Чингисхана. В пустынях белых, с шелестом сухих бумаг, Письменного стола Колючей мысли вьюк несешь – Кузнец случайно ли забыл дать удила? – Туда, где звон чернильных струй, На берега озер черниловодных, Под деревом времен Батыя, копной его ветвей, Нависших на глаза, на лоб писателя, Семьей птенцов гнезда волос писателя, Кто древней Галиле<е> Дал грани большаков и угол. Проносишь равенство, как вьюк, Несешься вскачь, остановивши время Над самой пропастью письменного стола, – Где страшно заглянуть, – Чтоб звон чернильных струй, Чей водопровод – Дыхание песчаных вьюг, Дал равенство костру И умному огню в глазах Холодного отца чернильных рек, Откуда те бежали спешным стадом, И пламени зеркальному чтеца, Ч(ей) разум почерк напевал, Как медную пластину – губ Шаляпина Толпою управлявший голос. Ты, мясо медное с сухою кожей В узорном чучеле веселых жен, По скатерти стола задумчивый прохожий, – Ты тенью странной окружен. В переселенье душ ты был, Быть может, раньше – нож. Теперь неси в сердцах песчаных Из мысли нож! Люди открытий, Люди отплытий, Режьте в Реште Нити событий. Летевший Древний германский орел, Утративший Ха, Ищет его В украинском «разве», В колосе ржи. Шагай Через пустыню Азии, Где блещет призрак Аза, Звоном зовет сухие рассудки.2
Раньше из Ганга священную воду В шкурах овечьих верблюды носили, Чтоб брызнуть по водам свинцовым на Волге, реке дикарей. Этот, из меди верблюд, Чернильные струи от Волги до Ганга Нести обречен. Не расплещи же, Путник пустыни стола, Бочонок с чернилами![2] 5 июня 1921140. Ночь в Персии
Морской берег. Небо. Звезды. Я спокоен. Я лежу. А подушка – не камень, не перья: Дырявый сапог моряка. В них Самородов в красные дни На море поднял восстанье И белых суда увел в Красноводск, В красные воды. Темнеет. Темно. «Товарищ, иди, помогай!» – Иранец зовет, черный, чугунный, Подымая хворост с земли. Я ремень затянул И помог взвалить. «Саул!» («Спасибо» по-русски.) Исчез в темноте. Я же шептал в темноте Имя Мехди. Мехди? Жук, летевший прямо с черного Шумного моря, Держа путь на меня, Сделал два круга над головой И, крылья сложив, опустился на волосы. Тихо молчал и после Вдруг заскрипел, Внятно сказал знакомое слово На языке, понятном обоим. Он твердо и ласково сказал свое слово. Довольно! Мы поняли друг друга! Темный договор ночи Подписан скрипом жука. Крылья подняв, как паруса, Жук улетел. Море стерло и скрип и поцелуй на песке. Это было! Это верно до точки! 1921141. Дуб Персии
Над скатертью запутанных корней Пустым кувшином Подымает дуб столетние цветы С пещерой для отшельников. И в шорохе ветвей Шумит созвучие С Маздаком Маркса, «Хамау, хамау! Уах, уах, хаган!» – Как волки, ободряя друг друга, Бегут шакалы. Но помнит шепот тех ветвей Напев времен Батыя. Лето 1921142. «Ночи запах – эти звезды…»
Ночи запах – эти звезды В ноздри буйные вдыхая, Где вода легла на гвозди, Говор пеной колыхая, Ты пройдешь в чалме зеленой Из засохнувшего сена – Мой учитель опаленный, Черный, как костра полено. А другой придет навстречу, Он устал, как весь Восток, И в руке его замечу Красный сорванный цветок. <Лето 1921>143. «Ручей с холодною водой…»
Ручей с холодною водой, Где я скакал, как бешеный мулла, Где хорошо. Чека за сорок верст меня позвала на допрос. Ослы попадались навстречу. Всадник к себе завернул. Мы проскакали верст пять. «Кушай», – всадник чурек отломил золотистый, Мокрый сыр и кисть голубую вина протянул на ходу, Гнездо голубых змеиных яиц, Только нет матери. Скачем опять, на ходу Кушая неба дары. Кони трутся боками, ремнями седла. Улыбка белеет в губах моего товарища. «Кушай, товарищ», – опять на ходу протянулась рука с кистью глаз моря. Так мы скакали вдвоем на допрос у подножия гор. И буйволов сухое молоко хрустело в моем рту, А после чистое вино в мешочках и золотистая мука. А рядом лес густой, где древний ствол Был с головы до ног окутан хмурым хмелем, Чтоб лишь кабан прошиб его, несясь как пуля. Чернели пятна от костров, зола белела, кости. И стадо в тысячи овец порою, как потоп, Руководимо пастухом, бежало нам настречу Черными волнами моря живого. Вдруг смерилось темное ущелье. Река темнела рядом, По тысяче камней катила голубое кружево. И стало вдруг темно, и сетью редких капель, Чехлом холодных капель Покрылись сразу мы. То грозное ущелье Вдруг встало каменною книгой читателя другого, Открытое для глаз другого мира. Аул рассыпан был, казались сакли Буквами нам непонятной речи. Там камень красный подымался в небо На полверсты прямою высотой, кем-то читаемой доныне. Но я чтеца на небе не заметил, Хотя, казалось, был он где-то около. Быть может, он чалмой дождя завернут был. Служебным долгом внизу река шумела, И оттеняли высоту деревья-одиночки. А каменные ведомости последней тьмы тем лет Красны, не скомканны стояли. То торга крик? Иль описание любви, и нежной и туманной? Как пальцы рук, над каменной газетой белели облака. К какому множеству столетий Окаменелых новостей висели правильно строки? Через день Чека допрос окончила ненужный, Н я, гонимый ей, в Баку на поезде уехал. Овраги, где клубилася река В мешках внезапной пустоты, Где сумрак служил небу. И узнавал растений храмы И чины, и толпу. Здесь дикий виноград я рвал, Все руки исцарапав. И я уехал. Овраги, где я лазил, мешки русла пустого, где прятались святилища растений, И груша старая в саду, на ней цветок богов – омела раскинула свой город, Могучее дерево мучая деревней крови другой, цветами краснея, – Прощайте все! Прощайте, вечера, когда ночные боги, седые пастухи, в деревни золотые вели свои стада. Бежали буйволы, и запах молока вздымался деревом на небо И к тучам шел. Прощайте, черно-синие глаза у буйволиц за черною решеткою ресниц, Откуда лились лучи материнства и на теленка и на людей. Прощай, ночная темнота, Когда и темь и буйволы Одной чернели тучей, И каждый вечер натыкался я рукой На их рога крутые, Кувшин на голове Печальнооких жен С медлительной походкой. Лето – осень 1921144. «Я видел юношу-пророка…»
Я видел юношу-пророка, Припавшего к стеклянным волосам лесного водопада, Где старые мшистые деревья стояли в сумраке важно, как старики, И перебирали на руках четки ползучих растений. Стеклянной пуповиной летела в пропасть цепь Стеклянных матерей и дочерей Рождения водопада, где мать воды и дети менялися местами. Внизу река шумела. Деревья заполняли свечами своих веток Пустой объем ущелья, и азбукой столетий толпилися утесы. А камни-великаны – как плечи лесной девы Под белою волной, Что за морем искал священник наготы. Он Разиным поклялся быть напротив. Ужели снова бросит в море княжну? Противо-Разин грезит. Нет! Нет! Свидетели – высокие деревья! Студеною волною покрыв себя И холода живого узнав язык и разум, Другого мира, ледян<ого> тела, Наш юноша поет: «С русалкою Зоргама обручен Навеки я, Волну очеловечив. Тот – сделал волной деву». Деревья шептали речи столетий. Лето – осень 1921145. «Ра – видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде…»
Ра – видящий очи свои в ржавой и красной болотной воде, Созерцающий свой сон и себя В мышонке, тихо ворующем болотный злак, В молодом лягушонке, надувшем белые пузыри в знак мужества, В траве зеленой, порезавшей красным почерком стан у девушки, согнутой с серпом, Собиравшей осоку для топлива и дома, В струях рыб, волнующих травы, пускающих кверху пузырьки, Окруженный Волгой глаз. Ра – продолженный в тысяче зверей и растений, Ра – дерево с живыми, бегающими и думающими листами, испускающими шорохи, стоны. Волга глаз, Тысячи очей смотрят на него, тысячи зир и зин. Н Разин, Мывший ноги, Подпил голову и долго смотрел на Ра, Так что тугая шеи покраснела узкой чертой. 1921146. Союзу молодежи
Русские мальчики, львами Три года охранявшие народный улей, Знайте, я любовался вами, Когда вы затыкали дыры труда Или бросались туда, Где львиная голая грудь – Заслон от свистящей пули. Всюду веселы и молоды, Белокурые, засыпая на пушках, Вы искали холода и голода, Забыв про постели и о подушках. Юные львы, вы походили на моряка Среди ядер свирепо-свинцовых, Что дыру на котле Паров, улететь готовых, Вместо чугунных втул Локтем своего тела смело заткнул. Шипит и дымится рука, И на море пахнет жарким – каким? Редкое жаркое, мясо человека. Но пар телом заперт, Пары не летят, И судно послало свистящий снаряд. Вам, юношам, не раз кричавшим «Прочь» мировой сове, Совет: Смело вскочите на плечи старших поколений, То, что они сделали, – только ступени. Оттуда видней! Много и далёко Увидит ваше око, Высеченное плеткой меньшего числа дней. 1921147. Я и Россия
Россия тысячам тысяч свободу дала. Милое дело! Долго будут помнить про это. А я снял рубаху, И каждый зеркальный небоскреб моего волоса, Каждая скважина Города тела Вывесила копры и кумачовые ткани. Гражданки и граждане Меня – государства Тысячеоконных кудрей толпились у окон. Ольги и Игори, Не по заказу Радуясь солнцу, смотрели сквозь кожу, Пала темница рубашки! А я просто снял рубашку – Дал солнце народам Меня! Голый стоял около моря. Так я дарил народам свободу, Толпам загара. 1921148. 1905 год
Пули, летя невпопад, В колокола били набат. Царь! Выстрел вышли: Мы вышли! А, Волга, не сдавай, Дон, помогай! Кама, Кама! Где твои орлы? Днепр, где твои чубы? Это широкие кости, Дворцов самочинные гости, Это ржаная рать Шла умирать! С бледными, злыми, зелеными лицами, Прежде добры и кротки́, Глухо прорвали плотину И хлынули Туда, где полки Шашки железные наголо вынули. Улиц, царями жилых, самозваные гости, Улиц спокойных долгие годы! Это народ выпрямляется в росте Со знаменем алым свободы! Брать плату оков с кого? И не обеднею Чайковского, Такой медовою, что тают души, А страшною, чугунною обедней Ответил выстрел первый и последний, Чтоб на снегу валялись туши. Дворец с безумными глазами, Дворец свинцовыми устами, Похож на мертвеца, Похож на Грозного-отца, Народ «любимый» целовал… Тот хлынул прочь, за валом вал… Над Костромой, Рязанью, Тулой, Ширококостной и сутулой, Шарахал веник пуль дворца. Бежали, пальцами закрывши лица, И через них струилась кровь. Шумела в колокол столица. Но то, что было, будет вновь. Чугунных певчих без имен – Придворных пушек рты открыты: Это отец подымал свой ремень На тех, кто не сыты! И, отступление заметив, Чугунным певчим Шереметев Махнул рукой, сказав: «Довольно Свинца крамольникам подпольным!» С челюстью бледной, дрожащей, угрюмой, С остановившейся думой Шагают по камням знакомым: «Первый блин комом!» Конец 1921149. «Детуся! Если устали глаза быть широкими…»
Детуся! Если устали глаза быть широкими, Если согласны на имя «браток», Я, синеокий, клянуся Высоко держать вашей жизни цветок. Я ведь такой же, сорвался я с облака, Много мне зла причиняли За то, что не этот, Всегда нелюдим, Везде нелюбим. Хочешь, мы будем брат и сестра, Мы ведь в свободной земле свободные люди, Сами законы творим, законов бояться не надо, И лепим глину поступков. Знаю, прекрасны вы, цветок голубого. И мне хорошо и внезапно, Когда говорите про Сочи И нежные ширятся очи. Я, сомневавшийся долго во многом, Вдруг я поверил навеки: Что предначертано там, Тщетно рубить дровосеку. Много мы лишних слов избежим. Просто я буду служить вам обедню, Как волосатый священник с длинною гривой. Пить голубые ручьи чистоты, И страшных имен мы не будем бояться. 13 сентября 1921, начало 1922150. «Золотистые волосики…»
Ю. С.
Золотистые волосики, Точно день Великороссии. В светло-серые лучи Полевой глаз огородится: Это брызнули ключи Синевы у Богородицы. 1921151. «Песенка – лесенка в сердце другое…»
Песенка – лесенка в сердце другое. За волосами пастушьей соломы Глаза пастушески-святые Не ты ль на дороге Батыя Искала людей незнакомых? 1921152. «Звенят голубые бубенчики…»
Звенят голубые бубенчики, Как нежного отклика звук, И первые вылетят птенчики Из тихого слова «люблю». 1921153. «На родине красивой смерти – Машуке…»
На родине красивой смерти – Машуке, Где дула войскового дым Обвил холстом пророческие очи, Большие и прекрасные глаза, И белый лоб широкой кости, – Певца прекрасные глаза, Чело прекрасной кости К себе на небо взяло небо, И умер навсегда Железный стих, облитый горечью и злостью. Орлы и ныне помнят Сражение двух желез, Как небо рокотало И вспыхивал огонь. Пушек облаков тяжелый выстрел В горах далече покатился И отдал честь любимцу чести, Сыну земли с глазами неба. И молния синею веткой огня Блеснула по небу И кинула в гроб травяной Как почести неба. И загрохотал в честь смерти выстрел тучи Тяжелых гор. Глаза убитого певца И до сих нор живут не умирая В туманах гор. И тучи крикнули: «Остановитесь, Что делаете, убийцы?» – тяжелый голос прокатился. И до сих пор им молятся, Глазам, Во время бури. И были вспышки гроз Прекрасны, как убитого глаза. И луч тройного бога смерти По зеркалу судьбы Блеснул – по Ленскому и Пушкину, и брату в небесах. Певец железа – он умер от железа. Завяли цветы пророческой души. И дула дым священником Пропел напутственное слово, А небо облачные почести Воздало мертвому певцу. И доныне во время бури Горец говорит: «То Лермонтова глаза». Стоусто небо застонало, Воздавши воинские почести, И в небесах зажглись, как очи, Большие серые глаза. И до сих пор живут средь облаков, И до сих пор им молятся олени, Писателю России с туманными глазами, Когда полет орла напишет над утесом Большие медленные брови. С тех пор то небо серое – Как темные глаза. <Октябрь 1921>154. Голод
Почему лоси и зайцы по лесу скачут, Прочь удаляясь? Люди съели кору осины, Елей побеги зеленые… Жены и дети бродят по лесу И собирают березы листы Для щей, для окрошки, борща, Елей верхушки и серебряный мох – Пища лесная. Дети, разведчики леса, Бродят по рощам, Жарят в костре белых червей, Зайчью капусту, гусениц жирных Или больших пауков – они слаще орехов. Ловят кротон, ящериц серых, Гадов шипящих стреляют из лука, Хлебцы пекут из лебеды. За мотыльками от голода бегают: Целый набрали мешок, Будет сегодня из бабочек борщ – Мамка сварит. На зайца что нежно прыжками скачет по лесу, Дети, точно во сне, Точно на светлого мира видение, Восхищенные, смотрят большими глазами, Святыми от голода, Правде не верят. Но он убегает проворным виденьем, Кончиком уха чернея. Вдогонку ему стрела полетела, Но поздно – сытный обед ускакал. А дети стоят очарованные… «Бабочка, глянь-ка, там пролетела… Лови и беги! А там голубая!..» Хмуро в лесу. Волк прибежал издалёка На место, где в прошлом году Он скушал ягненка. Долго крутился юлой, всё место обнюхал, Но ничего не осталось – Дела муравьев, – кроме сухого копытца. Огорченный, комковатые ребра поджал И утек за леса. Там тетеревов алобровых и седых глухарей, Заснувших под снегом, будет лапой Тяжелой давить, брызгами снега осыпан… Лисонька, огнёвка пушистая, Комочком на пень взобралась И размышляла о будущем… Разве собакою стать? Людям на службу пойти? Сеток растянуто много – Ложись в любую… Нет, дело опасное. Съедят рыжую лиску, Как съели собак! Собаки в деревне не лают… И стала лисица пуховыми лапками мыться, Взвивши кверху огненный парус хвоста. Белка сказала, ворча: «Где же мои орехи и желуди? – Скушали люди!» Тихо, прозрачно, уж вечерело, Лепетом тихим сосна целовалась С осиной. Может, назавтра их срубят на завтрак. 7 октября 1921155. Трубите, кричите, несите!
Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай, Вышедшие, шатаясь, из столовой советской, Знаете ли, что целый великий край, Может быть, станет мертвецкой? Я знаю, кожа ушей ваших, точно у буйволов мощных, туга, И ее можно лишь палкой растрогать. Но неужели от «Голодной недели» вы ударитесь рысаками в бега, Когда над целой страной Повис смерти коготь? Это будут трупы, трупы и трупики Смотреть на звездное небо, А вы пойдете и купите На вечер – кусище белого хлеба. Вы думаете, что голод – докучливая муха И ее можно легко отогнать, Но знайте – на Волге засуха: Единственный повод, чтобы не взять, а – дать. Несите большие караваи На сборы «Голодной недели». Ломоть еды отдавая, Спасайте тех, кто поседели! Волга всегда была вашей кормилицей, Теперь она в полугробу. Что бедствие грозно и может усилиться – Кричите, кричите, к устам взяв трубу! Октябрь 1921156. Обед
Со смехом стаканы – глаза! Бьется игра мировая! Жизни и смерти жмурки и прятки. Смерть за косынкой! Как небо, эту шею бычью Секач, как месяц, озарял. Человек Сидит рыбаком у моря смертей, И кудри его, как подсолнух, Отразились в серебряных волнах. Выудил жизнь на полчаса. Мощным берегом Волги Ломоть лежит каравая – Укором, утесом, чтобы на нем Старый Разин стоял, Подымаясь как вал. И в берег людей Билась волна мировая. Мяса образа Над остовом рта: Храмом голодным Были буханки серого хлеба. Тучей Смерти усталой волною хлестали О берег людей. Плескали и бились русалкой В камни людей. В тулупе набата День пробежал. В столицы, Где пуль гульба, гуль вольба, Воль пальба, Шагнуть тенью Разина. <Октябрь 1921>157. «Волга! Волга!»
Волга! Волга! Ты ли глаза-трупы Возводишь на меня? Ты ли стреляешь глазами Сёл охотников за детьми, Исчезающими вечером? Ты ли возвела мертвые белки Сёл самоедов, обреченных уснуть, В ресницах метелей, Мертвые бельма своих городов, Затерянные в снегу? Ты ли шамкаешь лязгом Заколоченных деревень? Жителей нет – ушли, Речи ведя о свободе. Мертвые очи слепца Ты подымаешь? Как! Волга, матерью, Бывало, дикой волчицей Щетинившая шерсть, Когда смерть приближалась К постелям детей – Теперь сама пожирает трусливо детей, Их бросает дровами в печь времени? Кто проколол тебе очи? Скажи, это ложь! Скажи, это ложь! За пятачок построчной платы! Волга, снова будь Волгой! Бойко, как можешь, Взгляни в очи миру! Граждане города голода. Граждане голода города. Москва, остров сытых веков В волнах голода, в море голода, Помощи чарус взвивай. Дружнее, удары гребцов! <Октябрь – ноябрь 1921>158. «В тот год, когда девушки…»
В тот год, когда девушки Впервые прозвали меня стариком И говорили мне: «Дедушка», – вслух презирая Оскорбленного за тело, отнюдь не стыдливо Поданное, но не съеденное блюдо, Руками длинных ночей, В лечилицах здоровья, – В это<м> я ручье Нарзана Облил тело свое, Возмужал и окреп И собрал себя воедино. Жилы появились на рук<ах>, Стала шире грудь, Борода шелковистая Шею закрывала. 7 ноября 1921159. «Сегодня Машук, как борзая…»
Сегодня Машук, как борзая, Весь белый, лишь в огненных пятнах берез. И птица, на нем замерзая, За летом летит в Пятигорск. Летит через огненный поезд, Забыв про безмолвие гор, Где осень, сгибая свой пояс, Колосья собрала в подол. И что же? Обратно летит без ума, Хоть крылья у бедной озябли. Их души жестоки, как грабли, На сердце же вечно зима. Их жизнь жестока, как выстрел. Счет денег их мысли убыстрил. Чтоб слушать напев торгашей, Приделана пара ушей. 9 ноября 1921, начало 1922160. «Перед закатом в Кисловодск…»
К. А. Виноградовой
Перед закатом в Кисловодск Я помню лик, суровый и угрюмый, Запрятан в воротник: То Лобачевский – ты, Суровый Числоводск. Для нас священно это имя. «Мир с непоперечными кривыми» Во дни «давно» и весел Сел в первые ряды кресел Думы моей, Чей занавес уж поднят. И я желал сегодня, А может, и вчера, В знаменах Невского, Под кровлею орлиного пера, Увидеть имя Лобачевского. Он будет с свободой на «ты»! И вот к колодцу доброты, О, внучки Лобачевского, Вы с ведрами идете, Меня встречая А я, одет умом в простое, Лакаю собачонкой В серебряном бочонке Вино золотое. 10 ноября 1921161. «Русь зеленая в месяце Ай!..»
Русь зеленая в месяце Ай! Эй, горю-горю, пень! Хочу девку – исповедь пня. Он зеленый вблизи мухоморов. Хоти девок – толкала весна. Девы жмурятся робко, Запрятав белой косынкой глаза. Айные радости делая, Как ветер проносятся Жених и невеста, вся белая. Лови и хватай! Лови и зови огонь горихвостки. Туши поцелуем глаза голубые, Шарапай! И, простодушный, медвежьею лапой Лапай и цапай Девичью тень. Ты гори, пень! Эй, гори, пень! Не зевай! В месяце Ай Хохота пай Дан тебе, мяса бревну. Ну? К девам и жёнкам Катись медвежонком Или на панской свирели Свисти и играй. Ну! Ты собираешь в лукошко грибы В месяц Ау. Он голодай, падает май. Ветер сосною люлюкает, Кто-то поет и аукает, Веткой стоокою стукает. И ляпуна не поймать Бесу с разбойничьей рожей. Сосновая мать Кушает синих стрекоз. Кинь ляпуна, он негожий. Ты, по-разбойничьи вскинувши косы, Ведьмой сигаешь через костер, Крикнув: «Струбай!» Всюду тепло. Ночь голуба. Девушек толпы темны и босы, Темное тело, серые косы. Веет любовью. В лес по грибы. Здесь сыроежка и рыжий рыжик С малиновой кровью, Желтый груздь, мохнатый и круглый, И ты, печери́ца, Как снег скромно-белая. И белый, крепыш с толстой головкой. Ты гнешь пояса, Когда сенозарник, В темный грозник. Он – месяц страдник, Алой змеею возник Из черной дороги Батыя. Колос целует Руки святые Полночи богу. В серпня неделю машешь серпом, Гонишь густые колосья, Тучные гривы коней золотых, По́том одетая, пьешь Из кувшинов холодную воду. И в осенины смотришь на небо, На ясное бабие лето, На блеск паутины. А вечером жужжит веретено. Девы с воплем притворным Хоронят бога мух, Запекши с малиной в пирог. В месяц реун слушаешь сов, Урожая знахарок. Смотришь на зарево. После зазимье, свадебник месяц, В медвежьем тулупе едет невеста, Свадьбы справляешь, Глухарями украсив Тройки дугу. Голые рощи. Сосна одиноко Темнеет. Ворон на ней. После пойдут уже братчины. Брага и хмель на столе. Бороды политы серыми каплями, Черны меды на столе. За ними зимник – Умник в тулупе. Осень 1921162. «Завод: ухвата челюсти, громадные, тяжелые…»
Завод: ухвата челюсти, громадные, тяжелые, Проносят медь, железо, олово; Огня – ночного властелина – вой; Клещи до пламени малиновые; В котлах чугунных кипяток Слюною кровавою клокочет; Он дерево нечаянно зажег, Оно шипит и вспыхнуть хочет! Ухват руду хватает мнями И мчится, увлекаемый ремнями. И, неуклюжей сельской панны, Громадной тушей великана Руда уселась с края чана, Чугун глотая из стакана! Где печка с сумраком боролась, Я слышал голос – ржаной, как колос: «Ты не куй меня, мати, К каменной палате! Ты прикуй меня, мати, К девич<ь>ей кровати!» Он пел по-сельскому у горна, Где всё – рубаха даже – черно. Зловещий молот пел набат, Руда снует вперед-назад! Всегда горбата, в черной гриве, Плеснув огнем, чтоб быть красивой. Осень 1921163. «Вши тупо молилися мне…»
Вши тупо молилися мне, Каждое утро ползли по одежде, Каждое утро я казнил их – Слушай трески, – Но они появлялись вновь спокойным прибоем. Мой белый божественный мозг Я отдал, Россия, тебе: Будь мною, будь Хлебниковым. Сваи вбивал в ум народа и оси, Сделал я свайную хату «Мы – будетляне». Все это делал, как нищий, Как вор, всюду проклятый людьми. <Осень 1921>164. «Цыгане звезд…»
Цыгане звезд Раскинули свой стан, Где белых башен стадо. Они упали в Дагестан, И принял горный Дагестан Железно-белых башен табор, Остроконечные шатры. И духи древнего огня Хлопочут хлопотливо, Точно слуги. <Осень 1921>165. Москва будущего
В когтях трескучих плоскостей, Смирней, чем мышь в когтях совы, Летали горницы В пустые остовы и соты, Для меда человека бортень, – Оставленные соты Покинутого улья Суровых житежей. Вчера еще над Миссисипи, Еще в пыли Янтцекиянга Висела келья И парила, а взором лени падала К дворцу веселья и безделья, Дворцу священного безделья. И, весь изглоданный полетами, Стоял осенний лист Широкого, высокого дворца Под пенье улетавших хат. Лист города, изглоданный Червем полета, Лист осени гнилой Сквозит прозрачным костяком Истлевшей и сопревшей сердцевины. Пусть клетчатка жилая улетела – Прозрачные узоры сухожилья И остова сухой чертеж Хранились осенью листа. Костлявой ладонью узорного листа Дворец для лени подымал Стеклянный парус полотна. Он подымался над Окой, Темнея полыми пазами, Решеткой пустою мест, Решеткою глубоких скважин Крылатого села, Как множество стульев Ушедшей толпы: «Здесь заседание светлиц И съезд стеклянных хат» <Осень 1921>166. Бурлюк
С широкою кистью в руке ты бегал рысью И кумачовой рубахой Улицы Мюнхена долго смущал, Краснощеким пугая лицом. Краски учитель Прозвал тебя «Буйной кобылой С черноземов России». Ты хохотал, И твой трясся живот от радости буйной Черноземов могучих России. Могучим «хо-хо-хо!» Ты на все отвечал, силы зная свои, Одноглазый художник, Свой стеклянный глаз темной воды Вытирая платком носовым и говоря: «Д-да», – Стеклом закрывая С черепаховой ручкой. И, точно бурав, Из-за стеклянной брони, из-за окопа Внимательно рассматривал соседа, Сверлил собеседника, говоря недоверчиво: «Д-да». Вдруг делался мрачным и скорбным. Силу большую тебе придавал Глаз одинокий. И, тайны твоей не открыв, Что мертвый стеклянный шар Был товарищем жизни, ты ворожил. Противник был в чарах воли твоей, Черною, мутною бездной вдруг очарован. Братья и сестры, сильные хохотом, все великаны, С рассыпчатой кожей, Рыхлой муки казались мешками. Перед невидящим глазом Ставил кружок из стекла Оком кривой, могучий здоровьем художник. Разбойные юга песни порою гремели Через рабочие окна, галка влетала – увидеть, в чем дело. И стекла широко звенели На Бурлюков «хо-хо-хо!». Горы полотен могучих стояли по стенам. Кругами, углами и кольцами Светились они, черный ворон блестел синим клювом углом. Тяжко и мрачно багровые и рядом зеленые висели холсты, Другие ходили буграми, как черные овцы, волнуясь, Своей поверхности шероховатой, неровной – В них блестели кусочки зеркал и железа. Краску запекшейся крови Кисть отлагала холмами, оспой цветною. То была выставка приемов и способов письма И трудолюбия уроки, И было всё чарами бурлючьего мертвого глаза. Какая сила искалечила Твою непризнанную мощь И дерзкой властью обеспечила Слова: «Бурлюк и подлый нож В грудь бедного искусства»? Ведь на «Иоанне Грозном» шов – Он был заделан позже густо – Провел красиво Балашов. Россия, расширенный материк, И голос Запада громадно увеличила, Как будто бы донесся крик Чудовища, что больше в тысячи раз. Ты, жирный великан, твой хохот прозвучал по всей России, И стебель днепровского устья, им ты зажат был в кулаке, Борец за право народа в искусстве титанов, Душе России дал морские берега. Странная ломка миров живописных Выла предтечею свободы, освобожденьем от цепей. Так ты шагало, искусство, К песни молчания великой. И ты шагал шагами силача В степях глубокожирных И хате подавал надежду На купчую на земли, Где золотились горы овинов, Наймитам грусти искалеченным. И, колос устья Днепра, Комья глины людей Были послушны тебе. С великанским сердца ударом Двигал ты глыбы волн чугуна Одним своим жирным хохотом. Песни мести и печали В твоем голосе звучали. Долго ты ходы точил Через курган чугунного богатства, И, богатырь, ты вышел из кургана Родины древней твоей. Осень 1921167. Крученых
Лондонский маленький призрак, Мальчишка в тридцать лет, в воротничках, Острый, задорный и юркий, Бледного жителя серых камней Прилепил к сибирскому зову на «чёных». Ловко ты ловишь мысли чужие, Чтоб довести до конца, до самоубийства. Лицо энглиза, крепостного Счетоводных книг, Усталого от книги. Юркий издатель позорящих писем, Небритый, небрежный, коварный, Но девичьи глаза, Порою нежности полный. Сплетник большой и проказа, Выпады личные любите. Вы очарователь<ный> писатель – Бурлюка отрицатель<ный> двойник. Осень 1921168. «Русь, ты вся поцелуй на морозе!..»
Русь, ты вся поцелуй на морозе! Синеют ночные дорози. Синею молнией слиты уста, Синеют вместе тот и та. Ночами молния взлетает Порой из ласки пары уст. И шубы вдруг проворно Обегает, синея, молния без чувств. А ночь блестит умно и черно. <Осень 1921>169. Одинокий лицедей
И пока над Царским Селом Лилось пенье и слезы Ахматовой, Я, моток волшебницы разматывая, Как сонный труп, влачился по пустыне, Где умирала невозможность, Усталый лицедей, Шагая напролом. А между тем курчавое чело Подземного быка в пещерах темных Кроваво чавкало и кушало людей В дыму угроз нескромных. И волей месяца окутан, Как в сонный плащ, вечерний странник Во сне над пропастями прыгал И шел с утеса на утес. Слепой, и шел, пока Меня свободы истер двигал И бил косым дождем. И бычью голову я снял с могучих мяс и кости И у стены поставил. Как воин истины и ею потрясал над миром: Смотрите, вот она! Вот то курчавое чело, которому пылали раньше толпы! И с ужасом Я понял, что я никем не видим, Что нужно сеять очи, Что должен сеятель очей идти! Конец 1921 – начало 1922170. «Пусть пахарь, покидая борону…»
Пусть пахарь, покидая борону, Посмотрит вслед летающему ворону И скажет: в голосе его Звучит сраженье Трои, Ахилла бранный вой И плач царицы, Когда он кружит, черногубый, Над самой головой. Пусть пыльный стол, где много пыли, Узоры пыли расположит Седыми недрами волны. И мальчик любопытный скажет: Вот эта пыль – Москва, быть может, А это Пекин иль Чикаго пажить. Ячейкой сети рыболова Столицы землю окружили. Узлами пыли очикажить Захочет землю звук миров. И пусть невеста, не желая Носить кайму из похорон ногтей, От пыли ногти очищая, Промолвит: здесь горят, пылая, Живые солнца, и те миры, Которых ум не смеет трогать, Закрыл холодным мясом ноготь. Я верю, Сириус под ногтем Разрезать светом изнемог темь. Конец 1921 – начало 1922171. «На глухом полустанке…»
На глухом полустанке С надписью «Хопры», Где ветер оставил «Кипя» И бросил на землю «ток», Ветер дикий трех лет, Ветер, ветер, Ухая, охая, ахая, всей братвой Поставили поваленный поезд, На пути – катись. И радостно говорим все сразу: «Есть!» Рок, улыбку даешь? 14 декабря 1921172. «Москва, ты кто?..»
Москва, ты кто? Чаруешь или зачарована? Куешь свободу Иль закована? Чело какою думой морщится? Ты мировая заговорщица. Ты, может, светлое окошко В другие времена, А может, опытная кошка: Велят науки распинать Под острыми бритвами умных ученых, Застывших над старою книгою На письменном столе Среди учеников? О, дочь других столетий, О, с порохом бочонок – <Твоих> разрыв оков. 15 декабря 1921173. «Трижды Вэ, трижды Эм!..»
Трижды Вэ, трижды Эм! Именем равный отцу! Ты железо молчания ешь, Ты возницей стоишь И слова гонишь бич<о>м Народов взволнованный цуг! Начало 1922174. «Если я обращу человечество в часы…»
Если я обращу человечество в часы И покажу, как стрелка столетия движется, Неужели из нашей времен полосы Не вылетит война, как ненужная ижица? Там, где род людей себе нажил почечуй, Сидя тысячелетьями в креслах пружинной войны, Я вам расскажу, что я из будущего чую, Мои зачеловеческие сны. Я знаю, что вы – правоверные волки, Пятеркой ваших выстрелов пожимаю свои, Но неужели вы не слышите шорох судьбы иголки, Этой чудесной швеи? Я затоплю моей силой, мысли потопом Постройки существующих правительств, Сказочно выросший Китеж Открою глупости старой холопам. И, когда председателей земного шара шайка Будет брошена страшному голоду зеленою коркой, Каждого правительства существующего гайка Будет послушна нашей отвертке. И, когда девушка с бородой Бросит обещанный камень, Вы скаж<е>те: «Это то, Что мы ждали веками». Часы человечества, тикая, Стрелкой моей мысли двигайте! Пусть эти вырастут самоубийством правительства и книгой – те. Будет земля бесповеликая! Будь ей песнь повеликою: Я расскажу, что вселенная – с копотью спичка На лице счета. И моя мысль – точно отмычка Для двери, за ней застрелившийся кто-то… 28 января 1922175. Признание. Корявый слог
Нет, это не шутка! Не остроглазья цветы. Это рок. Это рок. Вэ-Вэ, Маяковский! – Я и ты, Нас как сказать по-советски, Вымолвить вместе в одном барахле? По Рософесорэ́, На скороговорок скорословаре? Скажи откровенно: Хам! Будем гордиться вдвоем Строгою звука судьбой. Будем двое стоять у дерева молчания, Вымокнем в свисте. Турок сомненья Отгоним Собеским Яном от Вены. Железные цари, Железные венцы Хама Тяжко наденем на́ голову, И – шашки наголо! Из ножен прошедшего – блесните, блесните! Дни мира, усните, Цыц! Старые провопли, Мережковским усните, Рыдал он папашей нежности нашей. Звуки – зачинщики жизни. Мы гордо ответим Песней сумасшедшей В лоб небесам. Да, но пришедший И не Хам, а Сам. Грубые бревна построим Над человеческим роем. Начало 1922176. «На нем был котелок вселенной…»
На нем был котелок вселенной И лихо был положен, А звезды – это пыль! Не каждый день гуляла щетка, Расчесывая пыль, – Враг пыльного созвездия. И, верно, в ссоре с нею он. Салага, по-морскому, веселый мальчуган, В дверную ручку сунул «Таймс» с той звезды Веселой, которой Ярость ядер Сломала полруки, Когда железо билось в старинные чертоги. Беловолосая богиня с отломанной рукой. А волны, точно рыба, В чугунном кипятке, Вдоль печи морской битвы Скакали без ума. Беру… Читаю известия с соседней звезды: «Новость! Зазор! На земном шаре, нашем добром и милом знакомом, Основано Правительство земного шара. Думают, что это очередной выход будетлян, Громадных паяцов солнечного мира. Их звонкие шутки и треск в пузыри, и вольные остроты Так часто доносятся к нам с Земли, Перелетев пустые области. На события с Земли Ученые устремили внимательные стекла». Я вскочил с места. Скомкал в досаде известия: – Какая выдумка! Какая ложь! Ничего подобного. Ложь! Начало 1922177. Отказ
Мне гораздо приятнее Смотреть на звезды, Чем подписывать Смертный приговор. Мне гораздо приятнее Слушать голоса цветов, Шепчущих: «Это он!», Склоняя головку, Когда я прохожу по саду, Чем видеть темные ружья Стражи, уличающей Тех, кто хочет Меня убить. Вот почему я никогда, Нет, никогда не буду Правителем! Январь, апрель 1922178. «Ну, тащися, Сивка…»
Ну, тащися, Сивка Шара земного. Айда понемногу! Я запрег тебя Сохой звездною, Я стегаю тебя Плеткой грёзною. Что пою о всём, Тем кормлю овсом, Я сорву кругом траву отчую И тебя кормлю, ею потчую. Не затем кормлю – Седину позорить: Дедину люблю И хочу озорить! Полной чашей торбы Насыпаю овса, До всеобщей борьбы За полет в небеса. Я студеной водою Расскажу, где иду я, Что великие числа – Пастухи моей мысли. Я затем накормил, Чтоб схватить паруса, Ведь овес тебе мил И приятна роса. Я затем сорвал сена доброго, Что прочла душа, по грядущему чтица, – Что созвездья вот подымается вал, А гроза налетает, как птица. Приятель белогривый, – знашь? – Чья грива тонет в снежных го́рах. На тучах надпись «Наш», А это значит: готовлю порох. Ну, тащися, Сивка, но этому пути Шара земного, – Сивка Кольцова, кляча Толстого. Кто меня кличет из Млечного Пути? [А? Вова! В звезды стучится! Друг! Дай пожму твое благородное копытце!] 2 февраля 1922179. Не шалить!
Эй, молодчики-купчики, Ветерок в голове! В пугачевском тулупчике Я иду по Москве! Не затем высока Воля правды у нас, В соболях-рысаках Чтоб катались, глумясь. Не затем у врага Кровь лилась по дешевке, Чтоб несли жемчуга Руки каждой торговки. Не зубами скрипеть Ночью долгою – Буду плыть, буду петь Доном-Волгою! Я пошлю вперед Вечеровые уструги. Кто со мною – в полет? А со мной – мои други! Февраль 1922180. «Я призываю вас шашкой…»
Я призываю вас шашкой Дотронуться до рубашки. Ее нет. Шашкой сказать: король гол. То, что мы сделали пухом дыхания, Я призываю вас сделать железом. 15 февраля 1922181. Кто?
Парень С слоновьим затылком И нежными и добрыми громадными неловкими ушами Выпятил вперед, Свесив губу, как слово «так!», Свой железный подбородок Вождя толп, Прет вперед и вперед, и вперед! С веселыми глазами Крушения на небе летчик, Где мрачность миров осыпана Осколками птицы железной, Веселой птицы осколками. И слабыми, добрыми губами. Богатырь с сажень в плечах – Кто он? Бывало, своим голосом играя, как улыбкой, Он зажигает спичку острот О голенище глупости. Начало 1922182. «Оснегурить тебя…»
Оснегурить тебя Пороши серебром. Дать большую метлу, Право гнать зиму Тебе дать. Начало 1922183. «Приятно видеть…»
Приятно видеть Маленькую пыхтящую русалку, Приползшую из леса, Прилежно стирающей Тестом белого хлеба Закон всемирного тяготения! Начало 1922184. «Участок – великая вещь!..»
Участок великая вещь! Это – место свиданья Меня и государства. Государство напоминает, Что оно все еще существует! Начало 1922185. «Солнца лучи в черном глазу…»
Солнца лучи в черном глазу У быка И на крыле синей мухи, Свадебной капли чертой Мелькнувшей над ним. <Весна 1922>186. «Народ отчаялся. Заплакала душа…»
Народ отчаялся. Заплакала душа. Он бросил сноп ржаной о землю И на восток ушел с жаной, Напеву самолета внемля. В пожарах степь, Холмы святые. В глазах детей Встают Батыи. Колосьев нет… их бросил гневно Боже ниц, И на восток уходит беженец. <Март 1922?>187. «Есть запах цветов медуницы…»
Есть запах цветов медуницы Среди незабудок В том, что я, Мой отвлеченный строгий рассудок, Есть корень из Нет-единицы, Точку раздела тая К тому, что было, И тому, что будет. Кол. Начало 1922188. Ночной бал
Девы подковою топали О́ поле, о́ поле, о́ поле! Тяжкие билися тополи, Звездный насыпан курган. Ночь – это глаз у цыган! Колымага темноты, Звучно стукали коты! Ниже тучи опахала Бал у хаты колыхала, Тешась в тучах, тишина, И сохою не пахала Поля молодца рука. Но над вышитой сорочкой Снова выросли окопы, Через мглу короткой ночки Глаз надвинулись потопы. Это – бревна, не перина, Это – кудри, не овчина… Кто-то нежный и звериный. «Ты дичишься? Что причина? Аль не я рукой одною Удержу на пашне тройку? Аль не я спалил весною Так, со зла, свою постройку? Чтобы билось серебро, Покрывало милой плечи, Кто всадил нож под ребро Во глухом лесу, далече? Кровью теплой замарал Мои руки, деньги шаря. Он спросонок заорал С диким ужасом на харе. И теперь красоткой первой Ты проходишь меж парней. Я один горюю стервой На задворках, на гумне». Каркнет ворон на юру. Всё за то, пока в бору Роса пала над покойником, Ты стоял лесным разбойником. Всё задаром! Даром волос вьется скобкой, Даром в поле зеленя. «Точно спичка о коробку, Не зажжешься о меня». Смотришь тихо и лениво, Тихо смотришь на кистень. Где же искра? Знать, огниво Недовольно на кремень. Начало 1922189. «Трата и труд, и трение…»
Трата и труд, и трение, Теките из озера три! Дело и дар из озера два! Трава мешает ходить ногам, Отрава гасит душу, и стынет кровь. Тупому ножу трудно резать. Тупик – это путь с отрицательным множителем. Любо идти по дороге веселому, Трудно и тяжко тропою тащиться. Туша, лишенная духа, Труп неподвижный, лишенный движения, Труна́ – домовина для мертвых, Где нельзя шевельнуться, – Все вы течете из тройки, А дело, добро – из озера два. Дева и дух, крылами шумите оттуда же. Два – движет, трется – три. «Трави ужи», – кричат на Волге, Задерживая кошку. Начало 1922190. Всем
Есть письма – месть. Мой плач готов, И вьюга веет хлопьями, И носятся бесшумно духи. Я продырявлен копьями Духовной голодухи, Истыкан копьями голодных ртов. Ваш голод просит есть, И в котелке изящных чум Ваш голод просит пищи – вот грудь надармака! И после упадаю, как Кучум От копий Ермака. То голод копий проколоть Приходит рукопись полоть. Ах, жемчуга с любимых мною лиц Узнать на уличной торговке! Зачем я выронил эту связку страниц? Зачем я был чудак неловкий? Не озорство озябших пастухов – Пожара рукописей палач, – Везде зазубренный секач И личики зарезанных стихов. Все, что трехлетняя година нам дала, Счет песен сотней округлить, И всем знакомый круг лиц, Везде, везде зарезанных царевичей тела, Везде, везде проклятый Углич! Апрель – май 1922191. «Святче божий!..»
Святче божий! Старец, бородой сед! Ты скажи, кто ты? Человек ли еси, Ли бес? И что – имя тебе? И холмы отвечали: Человек ли еси, Ли бес? И что – имя тебе? Молчал. Только нес он белую книгу Перед собой И отражался в синей воде. И стояла на ней глаголица старая, И ветер, волнуя бороду, Мешал идти И несть книгу. А стояло в ней: «Бойтесь трех ног у коня, Бойтесь трех ног у людей!» Старче божий! Зачем идешь? И холмы отвечали: Зачем идешь? И какого ты роду-племени, И откуда – ты? Я оттуда, где двое тянут соху, А третий сохою пашет. Только три мужика в черном поле Да тьма воронов! Вот пастух с бичом, В узлах чертики От дождя спрятались. Загонять коров помогать ему они будут. Май – июнь 1922192. «Не чертиком масленичным…»
Не чертиком масленичным Я раздуваю себя До писка смешиного И рожи плаксивой грудного ребенка. Нет, я из братского гроба И похо<рон> – колокол Воли. Руку свою подымаю Сказать про опасность. Далекий и бледный, но не <житейский> Мною указан вам путь, А не большими кострами Для варки быка На палубе вашей, Вам знакомых и близких. Да, я срывался и падал, Тучи меня закрывали И закрывают сейчас. Но не вы ли падали позже И<гнали память крушений>, В камнях <невольно> лепили Тенью земною меня? За то что напомнил про звезды И был сквозняком быта этих голяков, Не раз вы оставляли меня И уносили мое платье, Когда я переплывал проливы песни, И хохотали, что я гол. Вы же себя раздевали Через несколько лет, Не заметив во мне Событий вершины, Пера руки времен За думой писателя. Я одиноким врачом В доме сумасшедших Пел свои песни-лекар<ства>. Май – июнь 1922193. «Я вышел юношей один…»
Я вышел юношей один В глухую ночь, Покрытый до земли Тугими волосами. Кругом стояла ночь, И было одиноко, Хотелося друзей, Хотелося себя. Я волосы зажег, Бросался лоскутами, кольцами И зажигал кр<угом> себя <нрзб>, Зажег поля, деревья – И стало веселей. Горело Хлебникова поле, И огненное Я пылало в темноте. Теперь и ухожу, Зажегши волосами, И вместо Я Стояло – Мы! Иди, варяг суровый Нансен, Неси закон и честь. Начало 1922?194. «Еще раз, еще раз…»
Еще раз, еще раз, Я для вас Звезда. Горе моряку, взявшему Неверный угол своей ладьи И звезды: Он разобьется о камни, О подводные мели. Горе и вам, взявшим Неверный угол сердца ко мне: Вы разобьетесь о камни, И камни будут надсмехаться Над вами, Как вы надсмехались Надо мной. <Май 1922>Поэмы
195. Зверинец
Посв<ящается> В. И.
О, Сад, Сад!
Где железо подобно отцу, напоминающему братьям, что они братья, и останавливающему кровопролитную схватку.
Где немцы ходят пить пиво.
А красотки продавать тело.
Где орлы сидят подобны вечности, означенной сегодняшним, еще лишенным вечера, днем.
Где верблюд, чей высокий горб лишен всадника, знает разгадку буддизма и затаил ужимку Китая.
Где олень лишь испуг, цветущий широким камнем.
Где наряды людей баскующие.
Где люди ходят насупившись и сумные.
А немцы цветут здоровьем.
Где черный взор лебедя, который весь подобен зиме, а черно-желтый клюв – осенней рощице, немного осторожен и недоверчив для него самого.
Где синий красивейшина роняет долу хвост, подобный видимой с Павдинского камня Сибири, когда по золоту пала и зелени леса брошена синяя сеть от облаков, и все это разнообразно оттенено от неровностей почвы.
Где у австралийских птиц хочется взять хвост и, ударяя по струнам, воспеть подвиги русских.
Где мы сжимаем руку, как если бы в ней был меч, и шепчем клятву: отстоять русскую породу ценой жизни, ценой смерти, ценой всего.
Где обезьяны разнообразно злятся и выказывают разнообразные концы туловища и, кроме печальных и кротких, вечно раздражены присутствием человека.
Где слоны, кривляясь, как кривляются во время землетрясения горы, просят у ребенка поесть, влагая древний смысл в правду: «Есть хоцца! Поесть бы!» – и приседают, точно просят милостыню.
Где медведи проворно влезают вверх и смотрят вниз, ожидая приказании сторожа.
Где нетопыри висят опрокинуто, подобно сердцу современного русского.
Где грудь сокола напоминает перистые тучи перед грозой.
Где низкая птица влачит за собой золотой закат со всеми углями его инжира.
Где в лице тигра, обрамленном белой бородой и с глазами пожилого мусульманина, мы чтим первого последователя пророка и читаем сущность ислама.
Где мы начинаем думать, что веры – затихающие струи волн, разбег которых – виды.
И что на свете потому так много зверей, что они умеют по-разному видеть бога.
Где звери, устав рыкать, встают и смотрят на небо.
Где живо напоминает мучения грешников тюлень, с воплем носящийся по клетке.
Где смешные рыбокрылы заботятся друг о друге с трогательностью старосветских помещиков Гоголя.
Сад, Сад, где взгляд зверя больше значит, чем груды прочтенных книг.
Сад.
Где орел жалуется на что-то, как усталый жаловаться ребенок.
Где лайка растрачивает сибирский пыл, исполняя старинный обряд родовой вражды при виде моющейся кошки.
Где козлы умоляют, продевая сквозь решетку раздвоенное копыто, и машут им, придавая глазам самодовольное или веселое выражение, получив требуемое.
Где завысокая жирафа стоит и смотрит.
Где полдневный пушечный выстрел заставляет орлов посмотреть на небо в ожидании грозы.
Где орлы падают с высоких насестов, как кумиры во время землетрясения с храмов и крыш зданий.
Где косматый, как девушка, орел смотрит на небо, потом на лапу.
Где видим дерево-зверя в лице неподвижно стоящего оленя.
Где орел сидит, повернувшись к людям шеей и смотря в стену, держа крылья странно распущенными. Не кажется ли ему, что он парит высоко над горами? Или он молится? Или ему жарко?
Где лось целует сквозь изгородь плоскорогого буйвола.
Где олени лижут холодное железо.
Где черный тюлень скачет по полу, опираясь на длинные ласты, с движениями человека, завязанного в мешок, и подобный чугунному памятнику, вдруг нашедшему в себе приступы неудержимого веселья.
Где косматовласый «Иванов» вскакивает и бьет лапой в железо, когда сторож называет его «товарищ».
Где львы дремлют, опустив лица на лапы.
Где олени неустанно стучат об решетку рогами и колотятся головой.
Где утки одной породы в сухой клетке подымают единодушный крик после короткого дождя, точно служа благодарственный – имеет ли оно ноги и клюв? – божеству молебен.
Где цесарки – иногда звонкие сударыни с оголенной и наглой шеей и пепельно-серебряным телом, обшитые заказами у той же портнихи, которая обслуживает звездные ночи.
Где в малайском медведе я отказываюсь узнать сосеверянина и вывожу на воду спрятавшегося монгола, и мне хочется отомстить ему за Порт-Артур.
Где волки выражают готовность и преданность скошенными внимательно глазами.
Где, войдя в душную обитель, в которой трудно быть долго, я осыпаем единодушным «дюрьрак!» и кожурой семян праздных попугаев, болтающих гладко.
Где толстый блестящий морж машет, как усталая красавица, скользкой черной веерообразной ногой и после падает в воду, а когда он вскатывается снова на помост, на его жирном могучем теле показывается усатая, щетинистая, с гладким лбом голова Ницше.
Где челюсть у белой высокой черноглазой ламы и у плоскорогого низкого буйвола и у прочих жвачных движется ровно направо и налево, как жизнь страны.
Где носорог носит в бело-красных глазах неугасимую ярость низверженного царя и один из всех зверей не скрывает своего презрения к людям, как к восстанию рабов. И в нем притаился Иоанн Грозный.
Где чайки с длинным клювом и холодным голубым, точно окруженным очками, оком имеют вид международных дельцов, чему мы находим подтверждение в прирожденном искусстве, с которым они подхватывают на лету брошенную тюленям еду.
Где, вспоминая, что русские величали своих искусных полководцев именем сокола, и вспоминая, что глаз казака, глубоко запавший под заломленной бровью, и этой птицы – родича царственных птиц – один и тот же, мы начинаем знать, кто были учителя русских в военном деле. О, сокола́, побивающие грудью цапель! И острый протянутый кверху клюв ее! И булавка, на которую насекомых садит редко носитель чести, верности и долга!
Где красная, стоящая на лапчатых ногах утка заставляет вспомнить о черепах тех павших за родину русских, в костяках которых ее предки вили гнезда.
Где в золотистую чуприну птиц одного вида вложен огонь той силы, какая свойственна лишь давшим обет безбрачия.
Где Россия произносит имя казака, как орел клекот.
Где слоны забыли свои трубные крики и издают крик, точно жалуются на расстройство. Может быть, видя нас слишком ничтожными, они начинают находить признаком хорошего вкуса издавать ничтожные звуки? Не знаю. О, серые морщинистые горы! Покрытые лишаями и травами в ущельях!
Где в зверях погибают какие-то прекрасные возможности, как вписанное и часослов Слово о полку Игореви во время пожара Москвы.
Лето 1909, 1911
196. Журавль
В. Каменскому
На площади в влагу входящего угла, Где златом сияющая игла Покрыла кладбище царей, Там мальчик в ужасе шептал: «Ей-ей! Смотри, закачались в хмеле трубы – те!» Бледнели в ужасе заики губы, И взор прикован к высоте. Что? Мальчик бредит наяву? Я мальчика зову. Но он молчит и вдруг бежит: какие страшные скачки! Я медленно достаю очки. И точно: трубы подымали свои шеи, Как на стене тень пальцев ворожеи. Так делаются подвижными дотоле неподвижные на болоте выпи. Когда опасность миновала, – Среди камышей и озерной кипи Птица-растение главою закивала. Но что же? Скачет вдоль реки, в каком-то вихре, Железный, кисти руки подобный, крюк. Стоя над волнами, когда они стихли, Он походил на подарок на память костяку рук! Часть к части, он стремится к вещам с неведомой еще силой – Тик узник на свидание стремится навстречу милой! Железные и хитроумные чертоги В каком-то яростном пожаре, Как пламень, возникающий из жара, На место становясь, давали чуду ноги. Трубы, стоявшие века, Летят, Движениям подражая червяка, Игривей в шалости котят. Тогда части поездов, с надписью: «Для некурящих» и «Для служилых», Остов одели в сплетенные друг с другом жилы. Железные пути срываются с дорог Движением созревших осенью стручков. И вот, и вот плывет по волнам, как порог, Как Неясыть иль грозный Детинец, от берегов отпавшийся Тучков! О, род людской! Ты был как мякоть, В которой созрели иные семена! Чертя подошвой грозной слякоть, Плывут восстанием на тя иные племена! Из желез И меди над городом восстал, грозя, костяк, Перед которым человечество и все иное лишь пустяк, Не более одной желёз. Прямо летящие, в изгибе ль, Трубы возвещают человечеству погибель. Трубы незримых духов се! Поют: «Змее с смертельным поцелуем Была людская грудь уют». Злей не был и Кощей, Чем будет, может быть, восстание вещей. Зачем же вещи мы балуем? Вспенив поверхность вод, Плывет наперекор волне железно-стройный плот. Сзади его раскрылась бездна черна, Разверзся в осень плод, И обнажились, выпав, зерна. Угловая башня, не оставив глашатая полдня – длинную пушку, Птицы образуют душку. На ней в белой рубашке дитя Сидит безумное, летя, И прижимает к груди подушку. Крюк лазает по остову С проворством какаду. И вот рабочий, над Лосьим островом, Кричит, безумный: «Упаду!» Жукообразные повозки, Которых замысел по волнам молний сил гребет, В красные и желтые раскрашенные полоски, Птице дают становой хребет. На крыше небоскребов Колыхались травы устремленных рук. Некоторые из них были отягощением чудовища зоба, В дожде летящих в небе дуг Летят, как листья в непогоду, Трубы, сохраняя дым и числа года. Мост, который гиератическим стихом Висел над шумным городом, Объяв простор в свои кова, Замкнув два влаги рукава, Вот медленно трогается в путь С медленной походкой вельможи, которого обшита золотом грудь, Подражая движению льдины, И им образована птицы грудина. И им точно правит какой-то кочегар, И, может быть, то был спасшийся из воды в рубахе красной и лаптях волгарь С облипшими ко лбу волосами И с богомольными вдоль щек из глаз росами. И образует птицы кисть Крюк, остаток от того времени, когда четверолапым зверем только ведал жисть. И вдруг бешеный ход дал крюку возница, Точно когда кочегар геростратическим желанием вызвать крушение поезда соблазнится. Много сколько мелких глаз в глазе стрекозы оконные Дома образуют род ужасной селезенки, Зелено-грязный цинге исконный. И где-то внутри их, просыпаясь, дитя отирает глазенки. Мотри! Мотри! Дитя, Глаза протри! У чудовища ног есть полос буйнее меха козы. Чугунные решетки – листья в месяц осени, Покидая место, чудовища меху дают ось они. Железные пути, в диком росте, Чудовища ногам дают легкие трубчатообразные кости, Сплетаясь змеями в крутой плетень, И длинную на город роняют тень. Полеты труб были так беспощадно явки, Покрытые точками, точно пиявки, Как новобранцы к месту явки, Летели труб изогнутых пиявки – Так шея созидалась из многочисленных труб. И вот в союз с вещами летит поспешно труп. Строгие и сумрачные девы Летят, влача одежды длинные, как ветра сил напевы. Какая-то птица, шагая по небу ногами могильного холма С восьмиконечными крестами, Раскрыла далекий клюв И половинками его замкнула свет, И в свете том яснеют толпы мертвецов, В союз спешащие вступить с вещами. Могучий созидался остов. Вещи выполняли какой-то давнишний замысел, Следуя старинным предначертаниям. Они торопились, как заговорщики, Возвести на престол – кто изнемог в скитаниях, Кто обещал: «Я лалы городов вам дам и сел, Лишь выполните, что я вам возвещал». К нему слетались мертвецы из кладбищ И плотью одевали остов железный. «Ванюша Цветочкин, то Незабудкин, бишь, – Старушка уверяла – он летит, болезный». Изменники живых, Трупы злорадно улыбались, И их ряды, как ряды строевых, Над площадью желчно колебались. Полувеликан, полужура́вель, Он людом грозно правил, Он распростер свое крыло, как буря волокна, Путь в глотку зверя предуказан был человечку, Как воздушинке путь в печку. Над готовым погибнуть полем Узники бились головами в окна, Моля у нового бога воли. Свершился перепорот. Жизнь уступила власть Союзу трупа и вещи. О, человек! Какой коварный дух Тебе шептал, убийца и советчик сразу: «Дух жизни в вещи влей!» Ты расплескал безумно разум – И вот ты снова данник журавлей. Беды обступали тебя снова темным лесом, Когда журавль подражал в занятиях повесам, Дома в стиле ренессанс и рококо – Только ягель, покрывший болото. Он пляшет в небе высоко, В пляске пьяного сколота. Кто не умирал от смеха, видя, Какие выкидывает в пляске журавель коленца! Но здесь смех приобретал оттенок безумия, Когда видели исчезающим в клюве младенца. Матери выводили Черноволосых и белокурых ребят И, умирая во взоре, ждали. Одни от счастия лицо и концы уст зыбят, Другие, упав на руки, рыдали. Старосты отбирали по жеребьевке детей – Так важно рассудили старшины – И, набросав их, как золотистые плоды, в глубь сетей, К журавлю подымали в вышины. Сквозь сетки ячейки Опускалась головка, колыхая шелком волос. Журавль, к людским пристрастясь обедням, Младенцем закусывал последним. Учителя и пророки Учили молиться, о необоримом говоря роке. И крыльями протяжно хлопал, И порой людишек скучно лопал. Он хохот-клик вложил В победное «давлю». И, напрягая дуги жил, Люди молились журавлю. Журавль пляшет звончее и гольче еще, Он людские крылом разметает полчища, Он клюв одел остатками людского мяса, Он скачет и пляшет в припадке дикого пляса. Так пляшет дикарь над телом побежденного врага. О, эта в небо закинутая в веселии нога! Но однажды он поднялся и улетел вдаль. Больше его не видали. 1909197. Лесная дева
Когда лесной стремится уж Вдоль зарослей реки, По лесу виден смутный муж С лицом печали и тоски. Брови приподнятый печальный угол… И он изгибом тонких рук Берет свирели ствол (широк и кругол) И издает тоскливый звук. Предтечею утех дрожит цевница, Воздушных дел покорная прислуга. На зов спешит певца подруга – Золотокудрая девица. Пылает взоров синих колос, Звучит ручьем волшебным голос! И персей белизна струится до ступеней, Как водопад прекрасных гор. Кругом собор растений, Сияющий собор. Над нею неба лучезарная дуга, Уступами стоят утесы; Ее блестящая нога Закутана в златые косы. Волос из золота венок, Внутри блистает чертог ног: Казалось, золотым плащом Задернут стройный был престол. Очей блестящим лучом Был озарен зеленый пол. И золотою паутиной Она была одета, Зеленою путиной Придя на голос света. Молчит сияющий глагол. Так, красотой своей чаруя, Она пришла (лесная дева) К волшебнику напева, К ленивцу-тарарую. И в сумрака лучах Стоит беззлобный землежитель, И с полным пламенем в очах Стоит лучей обитель. Не хитрых лепестков златой венок: То сжали косы чертог ног. Достигнута святая цель, Их чувство осязает мель, Угас Ярилы хмель. Она, заснув с ласкающей свободой, Была как омут ночью или водоем. А он, лесник чернобородый, Над ней сидел и думал. С ней вдвоем, Как над речной долиной дуб, Сидел певец – чрез час уж труп. Храма любви блестят чертоги, Как ночью блещущий ручей. Нет сомнений, нет тревоги В беглом озере ночей. Без слов и шума и речей… Вдруг крик ревнивца Сон разбудил ленивца. Топот ног. Вопль, брани стон, На ноги вспрыгнул он. Сейчас вкруг спящей начнется сеча, И ветер унесет далече Стук гневной встречи. И в ямах вся поверхность почвы. О, боги неги, пойдите прочь вы! И в битве вывернутые пни, И страстно борются они. Но победил пришлец красавец, Разбил сопернику висок И снял с него, лукавец, Печаль, усмешку и венок. Он стал над спящею добычей И гонит мух и веткой веет. И, изменив лица обычай, Усопшего браду на щеки клеит. И в перси тихим поцелуем Он деву разбудил, грядущей близостью волнуем. Но далека от низкого коварства, Она расточает молодости царство, Со всем пылом жены бренной, Страсти изумлена переменой. Коварство с пляской пробегает, Пришельца голод утолив, Тогда лишь сердце постигает, Что значит новой страсти взрыв. Она сидит и плачет тихо, Прижав к губам цветок. За что, за что так лихо Ее оскорбил могучий рок. И доли стана Блестели слабо в полусвете. Она стояла скорбно, странно, Как бледный дождь в холодном лете. Вкруг глаза, синего обманщика, Горят лучи, не семя одуванчика? Широких кос закрыта пеленой, Стояла неги дщерь, Плеч слабая стеной… Шептали губы: «Зверь! Зачем убил певца? Он кроток был. Любил свирель Иль страсть другого пришлеца Законная убийству цель? В храмовой строгости берез Зачем убил любимца грез? Если чет средств примирить, Я бы могла бы разделить, Ему дала бы вечер, к тебе ходила по утрам, – Теперь же все – для скорби храм! И эти звезды и эти белые стволы – Ничто! Ничто! – теперь мне не милы. Был сердцем страстным молодой, С своей черной бородой он был дитя. Чего хотя, Нанес убийственный удар, Ты телом юн, а сердцем стар, С черно-синей ночью глаз И мелкокудрым златом влас? Иль нет: убей меня, Чтоб возле, здесь, была я труп, Чтоб не жила, себя кляня За прикасанье твоих губ». И тот молчит. Стеная Звонко, уходит та И рвет со стоном волосы. Тьма ночная Зажгла на небе полосы (Темно-кровавые цвета). А он бежит? Нет, с светлою улыбкой, Сочтя приключение ошибкой, Смотрит сопернику в лицо, Снимает хладное кольцо. И, сев на камень, Зажженный в сердце пламень Излил в рыданьях мертвенной свирели, И торжеством глаза горели. 1911198. И и Э. Повесть каменного века
1
«Где И? В лесу дремучем Мы тщетно мучим Свои голоса. Мы кличем И, Но нет ея, В следах семья. Уж полоса Будит три Все жития, Сны бытия».2
Сучок Сломился Под резвой векшей. Жучок Изумился, На волны легши. Волн дети смеются, В весельи хохочут, Трясут головой, Мелькают их плечики, А в воздухе вьются, Щекочут, стрекочут И с песней живою Несутся кузнечики.3
«О, бог реки, О, дед волны! К тебе старики Мольбой полны. Пусть вернется муж с лососем Полновесным, черноперым. Седой дедушка, мы просим, Опираясь шестопером, Сделай так, чтоб, бег дробя, Пали с стрелами олени. Заклинаем мы тебя. Упадая на колени».4
Жрецов песнопений Угас уже зой. Растаял дым, А И ушла, блестя слезой. К холмам седым Вел нежный след ее ступеней. То, может, блестела звезда Иль сверкала росой паутина? Нет, то речного гнезда Шла сиротина.5
«Помята трава. Туда! Туда! Где суровые люди С жестоким лицом. Горе, если голова, Как бога еда, Несется на блюде Жрецом».6
«Плачьте, волны, плачьте, дети! И, красивой, больше нет. Кротким людям страшны сети Злого сумрака тенет. О, поставим здесь холмы И цветов насыпем сеть, Чтоб она из царства тьмы К нам хотела прилететь, От погони отдыхая Злых настойчивых ворон, Скорбью мертвых утихая В грустной скорби похорон. Ах, становище земное Дней и бедное длиною Скрыло многое любезного Сердцу племени надзвездного».7
Уж белохвост Проносит рыбу. Могуч и прост, Он сел на глыбу. Мык раздался Неведомого зверя. Человек проголодался, Взлетает тетеря. Властители движению, Небесные чины Вести народ в сражение Страстей обречены. В бессмертье заковав себя, Святые воеводы Ведут, полки губя Им преданной природы. Огромный качается зверя хребет – Чудовище вышло лесное. И лебедь багровою лапой гребет – Посланец метели весною.8
И
Так труден путь мой и так долог, И грудь моя тесна и тяжка, Меня порезал каменный осколок, Меня ведет лесная пташка. Вблизи идет лучистый зверь. Но делать что теперь Той, что боязливей сердцем птичек? Но кто там? Бег ужель напрасен? То Э, спокойствия похитчик, Твой вид знакомый мне ужасен! Ты ли это, мой обидчик? Ты ли ходить по пятам, Вопреки людей обычаю, Всюду спутник, здесь и там, Рядом с робкою добычью? Э! Я стою на диком камне, Простирая руки к бездне, И скорей земля легка мне Будет, чем твоей любезной Стану я, чье имя И. Э! Уйди в леса свои.9
Э
О, зачем в одежде слез, Серной вспрыгнув на утес, Ты грозишь, чтоб одинок Стал утес, Окровавив в кровь венок Твоих кос? За тобой оленьим лазом Я бежал, забыв свой разум, Путеводной рад слезе, Не противился стезе. Узнавая лепестки, Что дрожат от края ног, Я забыл голубые пески И пещеры высокий порог.10
Лесную опасность Скрывает неясность. Что было со мной Недавней порой? Зверь, с ревом гаркая (Страшный прыжок, Дыхание жаркое), Лицо ожег. Гибель какая! Дыхание дикое, Глазами сверкая, Морда великая… Но нож мой спас, Не то – я погиб, На этот раз Был след ушиб.11
И
Рассказать тебе могу ли? В водопада страшном гуле? Но когда-то вещуны Мне сказали: он и ты – Вы нести обречены Светоч тяжкой высоты. Я помню явление мужа: Он, крыльями голубя пестуя, И плечами юноши уже, Нарек меня вечной невестою. Концами крыла голубой, В одежде огня золотой, Нарек меня вечной вдовой. Пути для жизни разны: Здесь жизнь святого – там любовь, Нас стерегут соблазны. Зачем предстал ты вновь? Дола жизни страшен опыт, Он страшит, страшит меня! За собой я слышу топот Белоглавого коня.12
Э
Неужели, лучшим в страже, От невзгод оберегая, Не могу я робким даже Быть с тобою, дорогая? Чистых сердц святая нить Все вольна соединить. Жизни все противоречья! Лучший воин страшных сеч я, Мне тебя не умолить!13
И
Так отвечу: хорошо же! Воин верный будешь мне. Мы вдвоем пойдем на ложе, Мы сгорим в людском огне.14
Э
Дева нежная, подумай, Или все цветы весны На суровый и угрюмый Подвиг мы сменить вольны? Рок-Судьи! Даруй удачу Ей в делах ее погонь. Отойду я и заплачу, Лишь тебя возьмет огонь. Ты на ложе из жарких цветов, Дева сонная, будешь стоять. А я, рыдающий, буду готов В себя меча вонзить рукоять. Жрец бросает чет и нечет И спокойною рукой Бытия невзгоды лечит Неразгаданной судьбой. Но как быть, кого желанья – Божьей бури тень узла? Как тому, простерши длани, Не исчезнуть в сени зла? Слишком гордые сердца, Слишком гневные глаза, Вы, как копья храбреца, Для друзей его гроза. Там, где рокот водопада Душ любви связует нить, И, любимая, не надо За людское люд винить. Видно, так хотело небо Року тайному служить, Чтобы клич любви и хлеба Всем бывающим вложить, Солнце дымом окружить.15
Угас, угас Последний луч. Настал уж час Вечерних туч. Приходят рыбари На радости улова. В их хижинах веселье. Подруги кроткие зари, Даруя небу ожерелье, На небосклон восходят снова. Уже досуг Дневным суетам Нес полукруг, Насыщен светом. Кто утром спит, Тот ночью бесится. Волшебен стук копыт При свете месяца. Чей в полночь рок греметь, То тихо блистающим днем, Шатаясь, приходит великий медведь, И прыгает травка прилежным стеблем. Приносит свободу, Дарует истому, Всему живому Ночью отдых.16
И
Мы здесь идем. Устали ноги, И в жажде дышит слабо грудь. Давно забытые пороги, О, сердце кроткое, забудь! Сплетая ветки в род шатра, Стоят высокие дубы. Мы здесь пробудем до утра – Послушно ждет удар судьбы.17
Жрец
Где прадеды в свидании Надменно почивали, Там пленники изгнания Сегодня ночевали. Священным дубровам Ущерблена честь. Законом суровым Да будет им Месть. Там сложены холмы из рог Убитых в охотах оленей. То теней священных урок, То роща усопших селений.18
Толпа
Пошли отряд И приведи сюда! Сверши обряд, Пресекши года.19
Жрец
О, юноши, крепче держите Их! Помните наши законы: Веревкой к столбу привяжите, И смелым страшны похороны. И если очи зачаруют Своей молодой красотой, То, помните, боги ликуют, Увидев дым жертв золотой.20
Вот юный и дева Взошли на костер. Вкруг них огонь из зева Освещает жриц-сестер. Как будто сторож умиранью, Приблизясь видом к ожерелью, Искр летающих собранье Стоит над огненной постелью.21
Но спускается Дева Из разорванных радугой туч, И зажженное древо Гасит сумрака луч. И из пламенной кельи, Держась за руку, двое Вышли. В взорах веселье, Ликует живое.22
И
Померкли все пути, Исполнены обеты. О, Э! Куда идти? Я жду твои ответы! Слышишь, слышишь, лес умолк Над проснувшейся дубровой? Мы свершили смелый долг, Подвиг гордый и суровый.23
Толпа родичей
Осужденных тела выкупая, Мы пришли сюда вместе с дарами. Но тревога, на мудрость скупая, Узнает час живыми во храме. Мы сличим тех, Кто был покорен крику клятвы, Кого боялся зоркий грез, Сбирая дань обильной жатвы, Из битвы пламеней лучистой Кто вышел невредим, Кто поборол душою чистой Огонь и дым. Лишь только солнце ляжет, В закате догорая, Идите нами княжить, Страной родного края.Послесловие
Первобытные племена имеют склонность давать имена, состоящие из одной гласной. Шестопер – это оружие, подобное палице, но снабженное железными или каменными зубцами. Оно прекрасно рассекает черепа врагов. Зой – хорошее и еще лучше забытое старое слово, значащее эхо. Эти стихи описывают следующее событие средины каменного века. Ведомая неясной силой, И покидает родное племя. Напрасны поиски. Жрецы молятся богу реки, и в их молитве слышится невольное отчаяние. Скорбь увеличивается тем, что следы направлены к соседнему жестокому племени; о нем известно, что оно приносит в жертву всех случайных пришельцев. Горе племени велико. Наступает утро, белохвост проносит рыбу; проходит лесное чудовище. Но юноша Э пускается в погоню и настигает И; происходит обмен мнениями. И и Э продолжают путь вдвоем и останавливаются в священной роще соседнего племени. Но утром их застают жрецы, уличают в оскорблении святынь и ведут на казнь. Они вдвоем, привязанные к столбу, на костре. Но спускается с небес Дева и освобождает пленных. Из старого урочища приходит толпа выкупать трупы. Но она видит их живыми и невредимыми и зовет княжить. Таким образом, через подвиг, через огонь лежал их путь к власти над родными.
1911–1912
199. «Любовь приходит страшным смерчем…»
I. Тень в саду (поет)
Любовь приходит страшным смерчем На слишком ясные зерка́ла. Она вручает меч доверчивым Убийства красного закала. Она летит нежней, чем голубь, Туда, где старая чета, Как рок, приводит деву в пролубь И сводит с жизнию счета. Ее грома клянут отторженные От всех забав, от всех забот, С ней бродят юноши восторженные В тени языческих дубров. Она портниха ворожбы, Волшебн<ой> радостной божбы. Ее шагам в сердца «ау», Кружок голубеньких полосок, Венком украсивших главу, Свирели вешней отголосок. Она внимает звонкой клятве, Резва, как лань, в сердечной жатве. Мудрец, богине благодарствуй, Скажи: «Царица! Нами царствуй. Иди, иди! Тобой я грезил, Тебе престолы я ковал. Когда, ведом тобой, как жезел, Ходил, любил иль тосковал. Я, песни воин прямодушный, Тебе, стыдливой и воздушн<о>й, Во имя ранней красоты Даю дос<п>ехи и мечты». Тогда бродили страсти голо В земле славянского глагола, И, звонкой кривдой не сочтешь, Была красивей молодежь. Из цветов сплетённый меч, Ты дал силу мне воззвать – Всем алчущим сна лечь На дикую кровать. И, молвы презрев обузы, Верноподданных союзы Царства вечной основать. И ниша жизнь еще прелестней К огням далеким потечет, Когда воскликнем: «Нет небесней!» – Тебе творя за то почет. Чтоб, благодушно отвечая, Ты нам сказала, не серчая: «Да, вашей рати нет верней! Равно приятны сердцу все вы. Любите, нежные, парней, Любимы ими будьте, девы!» И, быть может, засмеется Надевающий свой шлем Захохочет, улыбнется Кто был раньше строг и нем. Как прекрасен ее лик! Он не ведает вериг. Разум – строгая гробница, Изваяние на ней. Сердце – жизни вереница, Быстрый лёт живых теней.(Кончает играть.)
II. Голос из сада
За мной, знамена поцелуя, И, если я паду сражен, Пусть, поцелуй на мне оснуя, Склонится смерть, царица жен. Она с неясным словарем Прекрасных жалоб и молений Сойдет со мной, без царств царем, В чертоги мертвых поколений.III. Другой голос
Мы потоком звезд одеты. Вокруг нас ночная тьма. Где же клятвы? Где обеты? Чарования ума? Скорый почерк на записке, Что кольцом ладони смята. Знаю, помню, милый близко. Ночь покровом сердцу свята. Милый юноша, ужели Гневный пламень уст потух? Я стою здесь. Посвежели Струи ночи. Чуток слух.IV. Первый голос
Порок сегодня развевает Свои могучие знамёна И желтой тканью одевает Ночные тусклые времёна. Божниц в ресницах образа, С свирелью скорбные глаза, Вы мне знакомы с молодечества, Я это вам везде ответствовал. И взоров скорбное отечество, Когда страдал, любил и бедствовал. О, это вам, прекрасно-жгучим, Послушны мы, порокам учим. Как дуновенье поздних струй И сна обещанный покой, Твой обетован поцелуй Твоей объемлемы<й> рукой.V. Второй голос
Воды тихи; воздух красен, Чуть желтеет он вверху, Чуть журчит ветвями ясень, Веткой дикою во мху. Хоть и низок Севастополь, Целый год крепился он, Я стройна, как гордый тополь, Неприступна с всех сторон. Ах, Казбек давно просился Под владычество Москвы, Но позднее оросился Кровью снег его главы. На усердных богомолов Буду Дибич и Ермолов. Дева, бойся указаний Кремля белого Казани. Стены, воином пробиты, Ведь не нужны для защиты. Были ведомы ошибки И под Плевной, и на Шипке. Я их встречу, как Кутузов Рать нестройную французов. Ты, что прелести таила, Право, хрупче Измаила. Нет, как воин у Царьграда, Страх испытывая около, Не возьмешь того, что надо, Резвой волей в сердце сокола. Нет, на строгой битве взоров Буду воин и Суворов! И красавицу Святославу Дам и Нарву, и Полтаву! Я же, выявив отвагу, У Варшавы возьму Прагу! Ныне я и ты, мы воины, Перестанем, успокоенны. Нет, цветущие сады Старой тайны разум выжег. В небесах уже следы От подошвы глупых книжек.VI. Второй голос
Кто сетку из чисел Набросил на мир, Разве он ум наш возвысил? Нет, стал наш ум еще более сир! Останься, странник. Посох брось! Земного шара хочет ось, Чтоб роковому слову «смерть» Игрушкою была в час полночи твердь. Там сумрак, тень, утес и зной, Кусты, трава, приюты гаду. И тополь тонкий и сквозной Струит вечернюю прохладу. Стоит священный знойный день, Журчит ручья руки кистень. Через каменный дневник, Одеваем в тени тучею, В кружев снежный воротник Ты струей бежал гремучею. Ты, как тополь стеклянный, Упав с высоты, О, ручей, за поляной Вод качая листы. Здесь пахнут травы-медоносы И дальни черные утесы. И рядом старый сон громад, Насупив темное чело, Числа твоих брызг, водопад, Само божество не сочло! И синий дрозд Бежал у камений, И влажный грозд Висит меж растений. Казалось мне, что словом разностопным Ручей пел славу допотопным Спутникам прошлых миров, Жизнь их, веселие, ужасы, гибели. Те, что от пиршеств столов В дебри могильные скопами выбыли. Ах, диким конем в полуденный час Катился ручей, в ущелии мчась! Вы, жители нашей звезды, Что пламень лишь в время ночей. Конем без узды Катился ручей. Вся книга каменного дна Глазам понятна и видна. Вверху прозрачная уха Из туч, созвездий и светил, Внизу столетий потроха. По ним валы ручей катил. Деревьев черные ножи На страже двух пустынь межи. Ладьи времен звук слышен гребли, И бьет зеленые млат стебли. Под стеклянной плащаницей Древних мощей вереница. На этом кладбище валов, Ручья свобод на ложе каменном, Носился ящер-рыболов С зрачком удава желтым пламенным. И несся рык, Блестели пасти. Морских владык Боролись страсти За право воздуха глотка, За право поцелуя. Теперь лежат меж плитняка, Живою плотню пустуя. Сих мертвых тел пронзая стаю, Я предостережение читаю Вам – царствам и державам, Коварствам, почестям и славам. Теперь же все кругом пустынно, Вверху, внизу утесов тына, Под стеклянным плащом, Меж дубровы с плющом. Из звезд морских, костей и ниток, И ракообразных, и улиток, Многосаженных ужей, Подводных раков и ежей Могильным сводом дикий мост Здесь выгнула земля, Огнув кольцом высокий рост Утесов стройного кремля. Давно умершее жилище, Красноречивое кладбище, Где высок утесов храм Старой крепостью лучам. Неутомимая работница, Гробов задумчивая плотница, То тихий отдых, то недуг, Своим внимательная взором, По этим пажитям усталым Свой проведи усталый плуг. Давно обманут кубком малым, Давно разбит я в бурях спором, Давно храню отчаянья звук! Приход той славит, кто устал, Кто прахом был и прахом стал!VII. Первый голос
Слушай: отчаялось самое море Донести до чертогов волну И умчалося в пропасти, вторя В вольном беге коню-скакуну. Оно вспомнит и расскажет Громовым своим раскатом, Что чертог был пляской нажит Дщерью в рубище лохматом. Вдруг вспорхнула и согнулась И, коснувшись рукою о руку, Точно жрец, на других оглянулась, Гусель гулких покорная звуку. Не больше бел зимы снежок, Когда, на пальцах ног держась, Спрямит с землею сапожок, Весенней бабочкой кружась. Она легка; шаги легки. Она и светоч и заря. Кругом ночные мотыльки, В ее сиянии горя. Море вспомнит и расскажет Грозовым своим глаголом, Что чертог был пляской нажит, Пляской в капище веселом. Синеет река, От нас далека. В дымке вечерней Воздух снует. Голос дочерний Земля подает. Зеленых сосен Трепет слышен. И дышит осень, Ум возвышен. Рот рассказов, Взор утех. В битве азов Властен грех. Я еще не знаю, кто вы, Вы с загадочным дерзанием, Но потоки тьмы готовы Встретить час за нее лобзанием, Но краса таит расплату За свободу от цепей. В час, когда взойду я к кату, Друг свободы, пой и пей! Вспомни, вспомни, Как погиб! Нет укромней Стройных лип. Там за этой темной кущей Вспомни синий тот ручей, Он, цветуще-бегущий, Из ресниц бежит лучей. Две богини нами правят! Два чела прически давят! Два престола песни славят! Хватая бабра за усы В стране пустынь златой красы, На севере соседим С белым медведем.VIII
Как чей-то меч железным звуком, Недавно здесь ударил долг. И, осужденный к долгим мукам, Я головой упал, умолк. На берега отчизны милой Бросал я пену и буруны. Теперь поник главою хилой, Тростник главою желтострунный. Храбрее, юноши! Недаром Наш меч. Рассудком сумрак освещай И в битвах пламенным ударом Свой путь от терний очищай. Я видел широкого буйвола рог И умирающий глаз носорога. А поодаль стоял весь в прекрасном пророк И твердил: «В небесах наступает тревога!» Он твердил: «Тот напиток уж выпит, Что рука наливала судьбы, И пророчества те, что начертит Египет, Для всеобщего мира грубы». Он мне поведал: «Забудутся игры, Презрение ляжет на кротость овцы, В душах возникнут суровые тигры, Презреньем одеты свободой вдовцы». Я видел – бабр сидел у рощи И с улыбкой дышал в ствол свирели. Ходили, как волны, звериные мощи, И надсмешкою брови горели. И с наклоном изящным главы Ему говорила прекрасная дева. Она говорила: «Любимцы травы! Вам не хватает искусства напева!» Ужель не верх земных достоинств Быть единицей светлых воинств? Вас, презираемых мечом, Всех не окровавленных войной, Бичуй, мой слог, секи бичом, Топчи и конь мой вороной. И поток златых кудрей Окровавленного лика Скажет многих книг мудрей: «Жизнь прекрасна и велика». Нет, не одно тысячелетье, Гонитель туч, суровый Вырей, Когда гнал птиц лететь своею плетью, Гуси тебя знали, летя над Сибирью. Твой лоб молнии били, твою шкуру секли ливни, Ты знал свисты грозы, ведал ревы мышей, Но, как раньше, блистают согнутые бивни Ниже упавших на землю ушей. И ты застыл в плащах косматорыжих, Как сей страны нетленный разум, И лишь тунгуз бежит на лыжах, Скользя оленьим легким лазом. О, дикое небо, быть Ермаком, Врага Кучума убивать, Какой-то молнии куском Бросать на темную кровать! Перед тобою, Ян Собеский, Огонь восторга бьется резкий. И русские вы оба, Пускай и «нет» грохочет злоба. Юный лик спешит надвинуть Черт порочных чёрта сеть. Но пора настала минуть Погремушкою греметь! Пояс казацкий с узорною резьбой Мне говорил о серебре далеких рек, Иль вспыхнувший грозно в час ночи разбой – То полнило душу мою, человек. То к свету солнца Купальского Я пел, ударив в струны, То, как конь Пржевальского, Дробил песка буруны. И, как сквозь белый порох, стен Блестят иконы Византии, Так не склоню пред вами я колен, Судители России. Смотрите, я крылом ширяю Туда, в седой мглы белый дол, И вас полетом примиряю – Я, встрепенувшийся орел. Мы юноши. Мечи наши остро отточены. Раздавайте смело пощечины. Юношей сердца смелей Отчизны полей королей! Кумирами грозными, белыми, Ведайте, смелы мы! Мы крепнем дерзко и мужаем Под тяжким бедствий урожаем. Когда в десне судьба резцом прорежет, Несется трусов вой и скрежет. Меч! Ты предмет веселый смеха, Точно серьги для девиц, Резвых юношей утеха, Повергая царства ниц, О мире вечном людской брехни Поклоннику ты скажешь: «Сейчас умрешь! Еще вздохни!» – И холодно на горло ляжешь. Учитель русского семейства, Злодей, карающий злодейство, Блажен, кто страсть тобой владеть Донес до долга рокового. Промолвит рок тебе: «Ответь!» – Ты року скажешь свое слово, А страницы воли звездной Прочитает лязг железный. Он то враг, то брат свободы, – Меч, опоясавший народы. Когда отчизна взглядом гонит, Моей души князь Понятовский Бросался с дерзостью чертовской, Верхом плывет и в водах тонет… Военная песнь, греми же всё ближе! Греми же! Звени же!IX
Из отдыха и вздоха Веселый мотылек На край чертополоха Задумчиво прилег. Летит его подруга Из радуги и блеска, Два шелковые круга, Из кружева нарезка. И юных два желанья, Поднявшихся столбом, Сошлися на свиданье И тонут в голубом. На закон меча намек Этот нежный мотылек. Ах, юнак молодой, Дай тебе венок надену! Ты забудешь разбой, Ты забудешь измену.X
Но пусть свобод твоих становища Обляжет сильных войск змея. Так из чугунного чудовища Летит высокая струя. Мы жребия войн будем искать, Жребия войны, земле неизвестного, И кровью войны будем плескать В лики свода небесного. Ведь взоры воинов морозны, А их уста немы и грозны. Из меди и стали стянут кушак, А на голове стоит шишак. Мы устали звездам выкать, Научились звездам тыкать, Мы узнали сладость рыкать. Пусть в ресницах подруг, Как прежде, блистает таинственное. Пусть труды и досуг Юношей – страсть воинственная. Все ходит сокол около Прямых и гладких стен. В походке странной сокола Покой предчувствием смятен. Он ходит, пока лов Не кончен дикой смерти, И телом мертвых соколов Покой темницы смерьте. 1911–1912200. Гибель Атлантиды
1
«Мы боги», – мрачно жрец сказал И на далекие чертоги Рукою сонно указал. «Холодным скрежетом пилы Распались трупы на суставы, И мною взнузданы орлы Взять в клювы звездные уставы. Давно зверь, сильный над косулей, Стал без власти божеством. Давно не бьем о землю лбом, Увидя рощу или улей. Походы мрачные пехот, Копьем убийство короля Послушны числам, как заход, Дождь звезд и синие поля. Года войны, ковры чуме Сложил и вычел я в уме. И уважение к числу Растет, ручьи ведя к руслу. В его холодные чертоги Идут изгнанницы тревоги. И мы стоим миров двух между, Несем туда огнем надежду. Все же самозванцем поцелуйным, Перед восшествием чумы, Был назван век рассудком буйным. Смеется шут, молчат умы. Наукой гордые потомки Забыли кладбищей обломки. И пусть нам поступь четверенек Давно забыта и чужда, Но я законов неба пленник, Я самому себе изменник, Отсюда смута и вражда. Венком божеств наш ум венчается, Но, кто в надеждах жил, отчается. Ты – звездный раб, Род человеческий!» – Сказал, не слаб, Рассудок жреческий. «И юность и отроки наши Пьют жизнь из отравленной чаши. С петлею протянутой столб И бегство в смерти юных толп, Все громче, неистовей возгласы похоти В словесном мерцающем хохоте. О, каменный нож, Каменных досок! – Пламенный мозг, – То молодежь! Трудился я. Но не у оконченного здания Бросаю свой железный лом! Туда, к престолу мироздания, Хочу лететь вдвоем с орлом! Чтобы, склонив чело у ног, Сказать: устал и изнемог! Пусть сиротеет борозда, Жреца прийми к себе, звезда».2
Рабыня
Юноша, светел, Небо заметил. Он заметил, тих и весел, Звезды истины на мне, Кошелек тугой привесил, Дикий, стройный, на ремне. К кошельку привесил ножик, Чтоб застенчиво и впредь С ним веселых босоножек Радость чистую смотреть. С ним пройдуся я, скача, Рукавом лицо ударив, Для усмешки отроча, Для веселых в сердце зарев.Жрец
Косы властны чернотой, Взор в реснице голубой, Круг блистает золотой, Локоть взяв двойной длиной. Кто ты, С взором незабудки? Жизнь с тобой шутила шутки. Рабыня Твои остроты, Жрец, забавны. Ты и я – мы оба равны: Две священной единицы Мы враждующие части, Две враждующие дроби, В взорах розные зеницы, Две, как мир, старинных власти – Берем жезл и правим обе. Ты возник из темноты, Но я более, чем ты: Любезным сделав яд у ртов, Ты к гробам бросил мост цветов. К чему товарищ в час резни?Жрец
Поостерегися… Не дразни… Зачем смеешься и хохочешь?Рабыня
Хочешь? Стань палачом, Убей меня, ударь мечом. Рука подняться не дерзает? На части тотчас растерзает Тебя рука детей, внучат – На плечи, руки и куски, И кони дикие умчат Твой труп разодранный в пески. Ах, вороным тем табуном Богиня смерти, гикнув, правит, А труп, растоптан скакуном, Глазами землю окровавит. Ведай, знай: сам бог земной Схватит бешено копье И за честь мою заступится. Ты смеешься надо мной, Я созвучие твое, Но убийцы лезвие, Наказание мое, Ценой страшною окупится. Узнает город ста святош, Пред чем чума есть только грош. Замажешь кровью птичьи гнезда, И станут маком все цветы, И молвят люди, скажут звезды: Был справедливо каран ты. След протянется багровый – То закон вещей суровый. Узнай, что вера – нищета, Когда стою иль я, иль та. Ты, дыхание чумы, Веселишь рабынь умы! С ним же вместе презираю Путь к обещанному раю. Ты хочешь крови и похмелий! – Рабыня я ночных веселий!Жрец
Довольно, Лживые уста!Рабыня
Мне больно, больно! Я умираю, я чиста.Жрец
Она, красива, умерла Внутри волос златых узла, И, как умершая змея, Дрожат ресницы у нея. Ее окончена стезя, Она мечом убита грубым. Ни жить, ни петь уже нельзя, Плясать, к чужим касаться губам. Меч стал сытым кровью сладкой Полоумной святотатки, Умирающей загадкой Ткань вопросов стала краткой. Послушный раб ненужного усилья! Сложи, о, коршун, злые крылья! Иди же в ножны, ты не нужен, Тебя насытил теплый ужин, Напился крови допьяна. Убита та, но где она? Быть может, мести страшный храм? Быть может, здесь, быть может, там? Своих обид не отомстила И, умирая, не простила. Не так ли разум умерщвляет, Сверша властительный закон, Побеги страсти молодой? Та, умирая, обещает Взойти на страстный небосклон Возмездья красною звездой!3
Прохожий
Точно кровь главы порожней, Волны хлещут, волны воют Нынче громче и тревожней, Скоро пристань воды скроют. И хаты, крытые соломой, Не раз унес могучий вал. Свирельщик так, давно знакомый, Мне ужас гибели играл. Как будто недра раскаленные Жерл огнедышащей горы, Идут на нас валы зеленые, Как люди, вольны и храбры. Не как прощальное приветствие, Не как сердечное «прости», Но как военный клич и бедствие, Залились водами пути. Костры горят сторожевые На всех священных площадях, И вижу – едут часовые На челнах, лодках и конях. Кто безумно, кто жестоко Вызвал твой, о, море, гнев? Видно мне чело пророка, Молний брошенный посев. Кто-то в полночь хмурит брови, Чей-то меч блеснул, упав. Зачем, зачем? Ужель скуп к крови Град самоубийства и купав? Висит – надеяться не смеем мы – Меж туч прекрасная глава, Покрыта трепетными змеями, Сурова, точно жернова. Смутна, жестока, величава, Плывет глава, несет лицо – В венке темных змей курчаво Восковое змей яйцо. Союз праха и лица Разрубил удар жестокий, И в обитель палача Мрачно ринулись потоки. Народ, свой ужас величающий, Пучины рев и звук серчающий, И звезды – тихие свидетели Гробницы зла и добродетели. Город гибнет. Люди с ним. Суша – дно. Последних весть. Море с полчищем своим Все грозит в безумстве снесть. И вот плывет между созвездий, Волнуясь черными ужами, Лицо отмщенья и возмездий – Глава, отрублена ножами. Повис лик, длинно-восковой, В змей одежде боковой, На лезвии лежит ножа. Клянусь, прекрасная глава – Она глядит, она жива. Свирель морского мятежа, На лезвии ножа лежа́, В преддверье судеб рубежа, Глазами тайными дрожа, Где туч и облака межа, Она пучины мести вождь. Кровавых капель мчится дождь. О, призрак прелести во тьме! Царица, равная чуме! Ты жила лишенной чести, Ныне ты – богиня мести. О, ты, тяжелая змея Над хрупки образом ея, – Отмщенья страшная печать И ножен мести рукоять. Змей сноп, глава окровавлённая, Бездна – месть ее зеленая. Под удары мерной гребли Погибает люд живой, И ужей вздыбились стебли Над висячею главой. О, город, гибель созерцающий, Как на бойнях вол, – спокойно. Валы гремят, как меч бряцающий, Свирели ужаса достойно. Погубят прежние утехи Моря синие доспехи. Блеск, хлещет ливень, свищет град И тонет, гибнет старый град! Она прической змей колышет, Она возмездья ядом дышит. И тот, кто слушал, слово слышит: «Я жреца мечом разрублена, Тайна жизни им погублена, Тайной гибели я вею У созвездья Водолея. Мы резвилися и пели, – Вдруг удар меча жреца! Вы живыми быть сумели, Схоронив красу лица. И забыты те, кто выбыли! Ныне вы в преддверье гибели. Как вы смели, как могли вы Быть безумными и живы! Кто вы? Что вы? Вы здоровы! Стары прежние основы. Прежде облик восхищения, Ныне я – богиня мщения». Вверху ужей железный сноп, Внизу идет, ревет потоп. Ужасен ветер боевой, Валы несутся, все губя. Жрец, с опущенной головой: «Я знал тебя!» 1912201. Вила и Леший. Мир
Горбатый леший и младая Сидят, о мелочах болтая. Она, дразня, пьет сок березы, А у овцы же блещут слезы. Ручей, играя пеной, пел, И в чащу голубь полетел. Здесь только стадо пронеслось Свистящих шумно диких уток, И ветвью рог качает лось, Печален, сумрачен и чуток. Исчез и труд, исчезло дело; Пчела рабочая гудела, И на земле и в вышине Творилась слава тишине. Овца задумчиво вздыхает И комара не замечает. Комар, как мак, побагровел И звонко, с песней, улетел. Качая черной паутиной На землю падающих кос, Качала Вила хворостиной От мошек, мушек и стрекоз. Лег дикий посох мимо ног; На ней от воздуха одежда; Листов березовых венок Ее опора и надежда. Ах, юность, юность, ты что дым! Беда быть тучным и седым! Уж Леший капли пота льет С счастливой круглой головы. Она рассеянно плетет Венки синеющей травы. «Тысячелетние громады Морщиной частою измучены. Ты вынул меня из прохлады, И крылышки сетью закручены. Леший добрый, слышишь, что там? Натиск чей к чужим высотам? Там, на речке, за болотом?» Кругом теснилась мелюзга, Горя мерцанием двух крыл, И ветер вечером закрыл Долину, зори и луга. «Хоть сколько-нибудь нравится Тебе моя коса?» – «Конечно, ты красавица, То помнят небеса. Ты приютила голубков, Косою черная, с боков!» А над головой ее летал, Кружился, реял, трепетал Поток синеющих стрекоз (Где нет ее, там есть мороз), Младую Вилу окружал И ей в сиянье услужал. Вокруг кудрявы древеса, Сини, могучи небеса. Младенец с пышною косой Стоял в дуброве золотой, Живую жизнь созерцал И сердцу милым нарицал. «Спи, голубчик, спи, малюта, В роще мира и уюта!» Рукой за рог шевелит нежно, Так повторив урок прилежно. На небо смотрит. Невзначай На щеку каплет молочай. Рукою треплет белый чуб, Его священную чуприну. «Чуть-чуть ты стар, немного глуп, Но все же брат лугам и крину». Но от темени до пят Висит воздушная ограда, Синий лен сплести хотят Стрекоз реющее стадо. «Много, много мухоморов, Есть в дуброве сухостой, Но нет люда быстрых взоров, Только сумрак золотой. Где гордый смех и где права? Давно у всех душа сова?» На мху и хвое Леший дремлет, Главу рукой, урча, объемлет. Как мотылек, восток порхал И листья дуба колыхал. Военный проходит С орлом на погоне; И взоров не сводит, Природа в загоне. Она встает, она идет, Где речки слышен зов – туда, Где мышь по лону вод плывет И где задумчива вода.Голос с реки
Я белорукая, Я белокожая, Ручьям аукая, На щук похожая, О землю стукая, Досуг тревожу я. «Кто там, бедная, поет? Злую волю кто кует?» В тени лесов, тени прохладной, Стоял угрюмый и злорадный Рыбак. Хохол волос упал со лба. Вблизи у лоз его судьба. Точно грешник виноватый, Боязливый, вороватый, Дикий, стройный, беспокойный, Здесь рыбак пронес уду, Верен вольному труду. Неслась веселая вода. Постой, разбойница, куда? «Где печали, Где качели, Где играли Мы вдвоем? Верещали Из ущелий Птицы. Бился водоем». Козлоногих сторожей Этой рощи, этих стад, Без копья и без ножей Распрю видеть умный рад. Пусть подъемлют черти руку, Возглашая, что довольно! Веселясь лбов крепких стуку, Веселюсь и я невольно. Страсть, ты первая посылка, Чтоб челом сразиться пылко. Над лысой старостью глумится Волшебноокая девица. Хребтом прекрасная, сидит, Огнем воздушных глаз трепещет, Поет, смеется и шалит, Зарницей глаз прекрасных блещет И сыплет сверху муравьев. Они звончее соловьев На ноги спящего поставят И страшным гневом позабавят. Как он дик и как он согнут, Веткой длинною дрожа, Как персты его не дрогнут, Палкой длинной ворожа. Как дик и свеж Владыка мреж! «Я, в сеть серебряных ячеек Попавши, сомом завоплю, В хвосте есть к рыбам перешеек, Им оплеуху налеплю». Рукою ловит комаров И садит спящему на брови: «Ты весел, нежен и здоров, Тебе не жалко капли крови. Дубам столетним ты ровесник, Но ты рогат, но ты кудесник». Подобно шелка черным сетям, С чела спускалася коса, В нее, летя к голодным детям, Попалась желтая оса. «Осы боюсь!» Осу поймала; Та изогнула стан дугой И в ухо беса, что дремало, Вонзился хвост осы тугой. Ручную садит пчелку В его седую холку. Он покраснел, чуть-чуть рассержен. И покраснел заметно он, Но промолчал: он был воздержан И не захотел нарушить сон. «Как ты осклиз, как ты опух, Но все же витязь верный, рьяный, Капуста заячья, лопух! Козел, всегда собою пьяный!» Устало, взорами небесная Дышала трудно, но прелестная. Сверчки свистели и трещали И прелесть жизни обещали. Досуг лукавством нежным тешит И волос ногтем длинным чешет. И на плечо ее прилег Искавший радость мотылек. Но от головы до самых ног Снует стрекозьих крыл станок. Там небеса стоят зеленые, Какой-то тайной утомленные. Но что? «Ква, ква!» – лягушка пела, пасть ужа. Уже бледна вскочила Вила, вся дрожа. И внемлет жалобному звуку, Подъемля к небу свою руку. Власы волной легли вдоль груди, Где жило двое облаков, Для восхищенных взоров судей, Для взоров пылких знатоков! О, этот бледный страха крик! Подъемлет голову старик. «Не всё же, видно, лес да ели; Мы, видно, крепко надоели. Ты дюже скверная особа». (Им овладели гнев и злоба.) «Души упрямца нету вздорней! Смотри, смотри! Смотри проворней! Мы капли жизни бережем, Она же съедена ужом». Там жаба тихо умирает И ею уж овладевает. Блестя, как рыбки из корзинки, По щекам падали слезинки. Он телом стар, но духом пылок, Как самовар блестит затылок. Он гол и наг: ветхи колосья Мехов, упавших на бедро, Склонились серые волосья На лоб и древнее чело. Его власы – из снега льны, Хоть мышцы серы и сильны. «Мой товарищ желтоокий! Посмотри на мир широкий. Ты весной струей из скважин Жадно пьешь березы сок, Ты и дерзок и отважен, Телом спрятан у осок. И, грозя согнутым рогом, Сладко грезишь о немногом». Исполнен неясных овечьих огней, Он зенками синими водит по ней. И просит, грустящий, глазами скользя; Но Вила промолвила тихо: «Нельзя!» – И машет строго головой. Тот, вновь простерт, стал чуть живой. Рога в сырой мох погрузил И, плача, звуком мир пронзил. Вблизи цветка качалась чашка; С червем во рту сидела пташка. Жужжал угрозой синий шмель, Летя за взяткой в дикий хмель. Осока наклонила ось, Стоял за ней горбатый лось. Кричал мураш внутри росянки, И несся свист златой овсянки. Ручей про море звонко пел, А Леший снова захрапел! В меха овечьи сел слепень, Забывши свой сосновый пень. Мозоль косматую копытца Скрывала травка медуница. И вечер шел. Но что ж: из пара Встает таинственная пара. Воздушный аист грудью снежной, Костяк вершины был лишен, И, помогая выйти нежно, Достоин жалости, смешон, Он шею белую вперил На небо, тучами покрыто, И дверь могилы отворил Своей невесте того быта. Лучами солнце не пекло; Они стоят на мокрых плитах. И что же? Светское стекло Стояло в черепе на нитях. Но скоро их уносит мгла, Земная кружится игла. Но долго чьи-то черепа Стучали в мраке, как цепа. А Вила злак сухой сломила, С краев проворно заострила, И в нос косматому ввела, И кротко взоры подняла. Рукой по косам провела, О чем-то слезы пролила, И, сев на пень взамену стула, Она заплакала, всхлипнула. И вдруг (о, радость) слышит: «Чих!» То старый бешено чихнул, Изгнать соломинку вздрогнул. «Мне гнев ужасен лешачих. Они сейчас меня застанут, Завоют, схватят и рванут, И все мечты о лучшем канут, И речи тихие уснут. Покрыты волосом до пят, Все вместе сразу завопят. Начнут кусаться и царпать И снимут с кожи белой лапоть. Союз друзей враждой не понят, На всех глаголах ссор зазвонят И хворостиною погонят Иль на веревке поведут. Мне чьи-то поступь уж слышна. Ах, жизнь сурова и страшна!» – «Смотри, сейчас сюда нагрянут, Пощечин звонких наддадут Грызня начнется и возня, Иди, иди же, размазня!» Себя обвив концом веревки, Меж тем брюшко сребристо-лысое Ему давало сходство с крысою, Ушел, кряхтя, в места ночевки. Печально в чаще исчезал, Куда идти, он сам не знал. Он в чащу плешину засунул И, оглянувшись, звонко плюнул. «Га! Еще побьют». – «Достоин жалости бедняга! Пускай он туп, Пускай он скряга! Мне надо много денег!» – «А розог веник?» – «Ожерелье в сорок тысяч Я хочу себе достать!» – «Лучше высечь… Лучше больше не мечтать». – «И медведя на цепочке… Я мукой посыплю щечки. Будут взоры удлиненными, Очи больше современными. Я достану котелок На кудрей моих венок. Рот покрасив меджедхетом, Я поссорюсь с целым светом, И дикарскую стрелу Я на щечке начерчу. Вызывая рев и гнев, Стану жить я точно лев. Сяду я, услыша ропот, И раздастся общий шепот». – «То-то, на той сушине растет розга». – «Иди, иди, ни капли мозга!» – «Иду, иду в мое болото. Трава сыра». – «Давно пора!» Досады полная вконец, – Куда ушел тот сорванец? – Бросала колкие надсмешки, Сухие листья, сыроежки, Грибы съедобные, и ветки, И ядовитые заметки. Летела нитка снежных четок Вслед табуну лесных чечеток. С сосновой шишкой, дар зайчишки, – Сухая крышка мухомора Летит как довод разговора. Слоны, улитки-слизняки, И веткой длинной сквозняки, А с ними вместе города Летят на воздух все туда. Она все делалась сердитей И говорила: «Погодите. О ты, прижимающий ухо косое, Мой заяц, ответь мне, какого ты соя?» Как расшалившийся ребенок, Покинут нянькой нерадивой, Бесился в ней бесенок, Покрытый пламенною гривой. К ручейной влаге наклонясь, Себя спросила звонко: «Ась?» – И личиком печальным чванится Стран лицемерия изгнанница. Она пошла, она запел Грозно, воинственно, звонко. И над головою пролетела В огне небес сизоворонка. Кругом озера и приволье, С корой березовой дреколье, Поля, пространство, и леса, И голубые небеса. Вела узорная тропа; На частоколе черепа. И рядом низкая лачуга, Приют злодеев и досуга. Овчарка встала, заворчав, Косматый сторож величав. Звонков задумчивых бренчанье, Овчарки сонное ворчанье. Повсюду дятлы и синицы, И белоструйные криницы. «Слышу запах человечий? Где он, дикий? Мех овечий?» Вид прекрасный, вид пригожий, Шея белая легка, Рядом с нею, у подножий, Два трепещут мотылька. И много слов их ждет прошептанных, И много троп ведет протоптанных. 1912202. Шаман и Венера
Шамана встреча и Венеры Была так кратка и ясна: Она вошла во вход пещеры, Порывам радости весна. В ее глазах светла отвага И страсти гордый, гневный зной: Она пред ним стояла нага, Блестя роскошной пеленой. Казалось, пламенный пожар Ниспал, касаясь древка снега. Глаз голубых блестел стожар, Прося у желтого ночлега. «Монгол! – свои надувши губки, Так дева страсти начала. (Мысль, рождена из длинной трубки, Проводит борозды чела). – Ты стар и бледен, желт и смугол, Я же – роскошная река! В пещере дикой дай мне угол, Молю седого старика. Я, равная богиням, Здесь проведу два-три денька. Послушай, рухлядь отодвинем, Чтоб сесть двоим у огонька. Ты веришь? Видишь? – Снег и вьюга! А я, владычица царей, Ищу покрова и досуга Среди сибирских дикарей. Еще того недоставало – Покрыться пятнами угрей. Монгол! Монгол! Как я страдала! Возьми меня к себе, согрей!» Покрыта пеплом из снежинок И распустив вдоль рук косу, Она к нему вошла. Как инок, Он жил один в глухом лесу. «Когда-то храмы для меня Прилежно воздвигала Греция. Могол, твой мир обременя, Могу ли у тебя согреться я? Меня забыл ваять художник, Мной не клянется больше витязь. Народ безумец, народ безбожник, Куда идете? Оглянитесь!» – «Не так уж мрачно, – Ответил ей, куря, шаман. – Озябли вы, и неудачно Был с кем-нибудь роман». – «Подумай сам: уж перси эти Не трогают никого на свете. Они полны млека, как крынки. (По щекам катятся слезинки.) И к красоте вот этой выи Холодны юноши живые. Ни юношей, ни полководцев, Ни жен любимцев, ни уродцев, Ни утомленных стариков, Ни в косоворотках дураков. Они когда-то увлекали Народы, царства и престолы, А ныне, кроткие, в опале, Томятся, спрятанные в полы. И веришь ли? Меня заставили одеть Вот эти незабудки! Ну, право, лучше умереть. Чем эти шутки. Это жестоко». Она отошла И, руки протянув, вздохнула. «Как эта жизнь пошла!» И руки к небу протянула. «Всё, всё, монгол, всё, всё – тщета, Мы – дети низких вервий. И лики девы – нищета, Когда на ней пируют черви!» Шаман не верил и смотрел, Как дева (золото и мел) Присела, зарыдав, И речь повел, сказав: «Напрасно вы сели на обрубок – Он колок и оцарапает вас». Берет с стола красивый кубок И пьет, задумчив, русский квас. Он замолчал и, тих, курил, Смотря в вечернее пространство. Любил убрать, что говорил, Он в равнодушия убранство. И дева нежное «спасибо» Ему таинственно лепечет И глаза синего изгиба Взор шаловливо мечет. И смотрит томно, ибо Он был красив, как белый кречет. Часы летели и бежали, Они в пещере были двое. И тени бледные дрожали Вокруг вечернего покоя. Шаман молчал и вдаль глядел, Венера вдруг зевнула. В огонь шаман глядел, Венера же уснула. Заветы строгие храня Долга к пришелицам святого, Могол сидел, ей извиня Изгибы тела молодого. Так, девы сон лелея хрупкий, Могол сидел с своею трубкой. «Ах, ах!» – она во сне вздыхала, Порою глазки открывала, Кого-то слабо умоляла, Защитой руку подымая, Кому-то нежно позволяла И улыбалася, младая. И вот уж утро. Прокричали На елях бледные дрозды. Полна сомнений и печали, Она на смутный лик звезды Взирала робко и порой О чем-то тихо лепетала, Про что-то тихо напевала. Бледнело небо и светало. Всходило солнце. За горой О чем-то роща лепетала. От сна природа пробудилась, Младой зари подняв персты. Венера точно застыдилась Своей полночной наготы. И, добродетели стезей идя неопытной ногой, Она раздумывала, прилично ли нагой Явиться к незнакомому мужчине. Но было сокрыт ответ богини. [ «Он мало мне знаком», – Она и уме споем решила, Сорвать листочек поспешила И тело бледное прикрыла Березы черным лепестком. И великодушный к ней могол Ей бросил шкуру рыси.] И дева, затаив глагол, Моголу бросила взор выси. От кос затылок оголив, Одна, без помощи подруг, Она закручивает их в круг. Но тот, как раньше, молчалив. Затылок белый так прекрасен, Для чистых юношей так ясен. Но, лицемерия престол, Сидит задумчивый могол. Венера ходит по пещере И в горести ломает руки. «Это какие-то звери! Где песен нежных звуки? От поцелуев прежних зноя, Могол! Могол, спаси меня! Я вся горю! Горя и ноя, Живу, в огнистый бубен чувств звеня. Узнай же! Знаешь, что тебе шепну на ухо? Ты знаешь? Знаешь, – я старуха!.. Никто не пишет нежных писем, Никто навстречу синим высям Влюбленных глаз уж не подъемлет, Но всякий хладно с книжкой дремлет. Но всякий хладно убегает Прочь от себя за свой порог, Лишь только сердце настигает Любви назначенный урок. Как все это жестоко! – Сказала дева, вдруг заплакав. – Скажи хоть ты: ужель с Востока Идет вражда к постелям браков? К ногам снегов, к венкам из маков? С хладом могилы отрок одинаков». Но, неразговорчив и сердит Как будто, тот сидит. Напрасно с раннего утра, Раньше многоголосых утра дудок, Она из синих незабудок, В искусстве нравиться хитра, Сплела венок почти в шесть сажен И им обвилась для нежных дел. По-прежнему монгол сидел, Угрюм, задумчив, важен. Вдруг сердце громче застучало. «Могол, послушай, – так начала Она. – Быть может, речь моя чудна И даже дика, и мало прока. Я буду здесь бродить одна (Ты знаешь, я ведь одинока), Срывать цветы в густом лесу, Вплетать цветы в свою косу. Вдали от шума и борьбы, Внутри густой красивой рощи Я буду петь, сбирать грибы, Искать в лесу святого мощи, Что может этой жизни проще?» – «Изволь, душа моя, – ответил Могол с сияющей улыбкой. – Я даже в лесу встретил Дупло с прекрасной зыбкой». В порыве нежном хорошея, Она бросается ему на шею, Его ласкает и целует, Ниспали волосы, как плащ. Могол же морщится, тоскует Она в тот миг была палач. Она рассказывает ему Про вредный плод куренья. «Могол любезный, не кури! Внемли рыданью моему». Он же, с глазами удовлетворенья, Имя произносит Андури. Шаман берет рукою бубен И мчится в пляске круговой, Ногами резвыми стучит, Венера скорбная молчит Или сопровождает голос трубен, Дрожа звенящей тетивой. Потом хватает лук и стрелы И мимо просьб, молитв, молений Идет охотник гордый, смелый К чете пасущихся оленей. И он таинственно исчез, Где рос густой зеленый лес. Одна у раннего костра Венера скорбная сидит. То грусть. И, ей сестра, Она задумчиво молчит. Цветы сплетая в сарафан, Как бело-синий истукан, Глядит в необеспокоенные воды – Зеркало окружающей природы. Поет, хохочет за двоих Или достает откуда-то украдкой Самодержавия портных Новое уложение законов И шепчет тихо: «Как гадко!» Или: «Как безвкусно… фу, вороны!» Сам-друг с своею книжкой, Она прилежно шепчет, изучает, Воркует, меряет под мышкой И… не скучает. И воды после переходит, И по поляне светлой бродит. Сплетает частые венки, На косах солнца седоки. О чем-то с горлинкой воркует И подражательно кокует. Венера села на сосновый пень И шепчет робко: «Ветер-телепень! Один лишь ты меня ласкаешь Своею хрупкою рукой, Мне один не изменяешь, Людей отринувши покой. Лишь тебе бы я дарила Сном насыщенный ночлег, Двери я бы отворила, Будь ты отрок, а не бег… Будь любимый человек… Букашки и все то, что мне покорно! Любите, любите друг друга проворно! Счастье не вернется никогда!» И вот приходит от труда, Ему навстречу выбегает, Его целует и ласкает, Берет оленя молодого, На части режет, и готово Ее стряпни простое блюдо; Сидит и ест… ну, право же, не худо! Шаман же трубку тихо курит И взор устало, томно щурит. И, как чудесная страна, Пещера в травы убрана. Однажды белый лебедь Спустился с синей высоты, Крыло погибшее колебит И, умирая, стонет: «Ты! Иди, иди! Тебя зовут, Иди, верши свой кроткий труд. От крови черной пегий Я, умирающий, кляну: Иди, иди, чаруя негой Свою забытую страну. Тебе племен твоих собор Готовит царственный убор. Иди, иди, своих лелея! Ты им других божеств милее. Я, лебедь умирающий, кляну: Дитя, вернись в свою страну, Забыв страну озер и мохов, Иди, приемля дань из вздохов». И лебедь лег у ног ея, Как белоснежная змея. Он, умирающий, молил И деву страсти умилил. «Шаман, ты всех земных мудрей! Как мной любима смоль кудрей, И хлад высокого чела, И взгляда острая пчела. Я это все оставлю, Но в песнях юноши прославлю Вот эти косы и эту грудь. Ведун мой милый, все забудь! И водопад волос могуче-рыжий, И глаз огонь моих бесстыжий, И грудь, и твердую и каменную, И духа кротость пламенную. Как часто после мы жалеем О том, что раньше бросим!» И, взором нежности лелеем, Могол ей молвит: «Просим Нас не забывать, И этот камень дикий, как кровать Он благо заменял постели, Когда с высокой ели Насмешливо свистели Златые свиристели». И с благословляющей улыбкой Она исчезает ласковой ошибкой. 1912203. Марина Мнишек
«Пане! Вольны вы Меня пленить блестящим разговором, Умом находчивым и спорым, В котором всё – днепровская струя И широко-синие заливы, Но знайте! Я Если и слыву всех польских дев резвей В мазурке, пляске нежной, В одежде панны белоснежной, То знайте, нет меня трезвей, Когда я имею дело с делом; Я спорю с старцем поседелым». Смотрит ласково, прищурясь, и добавляет: «Я не обещаю и не обольщаю, Но, юноша, заключите свои самые пылкие желанья В самую ужасную темницу: Пока я не московская царица, Я говорю вам: до свиданья!» Ей покоренный юноша ей смотрит вслед И хочет самому чуть слышный дать ответ: «Панна! В моих желаньях нет обмана!» Она уходит и платьем белым чуть белеет. Он замысел упорный в мечтах своих лелеет. «Панны! Вы носитесь [На шеях в вас влюбленных паничей], А после жизнью хладной коситесь, И жребий радости ничей. Добро! И я предстану пред тобой, Моих желаний страстною рабой, Одет в венок, багрец и серебро». И вечером того же дня, Когда средь братин и медов, Высоких кубков и рогов Собралась братья и родня Обречь часы вечерней лени, Марина села на колени К отцу. Под звуки трубачей, Дворни, шутов и скрипачей Рукой седины обнимает И пиру радостно внимает. Вся раскрасневшись, дочь прильнула К усов отцовских седине И, в шуме став с ним наедине, Шепнула: «Тату! Тату! Я буду русская царица!» Не верит и смеется, И смотрит ласково на дочку, И тянет старый мед, И шепчет: «Мне сдается, Тебя никто сегодня не поймет!» По-прежнему других спокойны лица. Урсула смотрит просто, кротко На них двоих и снова быстрою иголкой, Проворной, быстрою и колкой, На шелке «Вишневецкий» имя шьет Кругом шелкового цветочка. Меж тем дворовые девицы Поют про сельские забавы, Трудясь над вычурным нарядом Под взором быстрым Станислава, Ему отвечая украдкой пылким взглядом. А Мнишек временем вечерним, К словам прислушиваясь дочерним, Как и что ему лепечет, Ей отвечает: «То знает чет и нечет, В твоих словах рассудка нет». Таков был Мнишка дочери ответ. Сечь Запорожская (так сопка извергает Кумир с протянутой рукой) Так самозванцев посылает, Дрожи, соседних стран покой! Соседних стран покой, дрожи, Престол, как путник перед ударом молнии, бежи. Сквозь степи, царства и секиры Летят восстания кумиры. И звонким гулом оглашает Его паденье ту страну, Куда посол сей упадает, Куда несет и смуту и войну Его пылающий полет. В старинном дереве свичадо, Дар князя польского Сапеги, Невест-прабабушек отрада, Свидетель ласк усталой неги, Залогов быстроглазых ребятишек, – Кого ты не было услада, Кого не заключало в свои бреги! Пред ним стоит Марина Мнишек. Две стройные руки С пухом подмышек Блестят, сияньем окруженные, В стекле прекрасном отраженные, Блестят над кружевом рукавным. С усмешкой полуважной, полузабавной Девица думает о доле самодержавной. Блошанку дева с плеч спускает И тушит бледную свечу. И слабо дышит, засыпает, Доступна лунному лучу Золотокудрой головой И прочь простертою рукой Под изогнутой простыней. Зарница пышет. Завтра вёдро. А мимо окон ходит бодро Ее помолвленный жених, Костер вечерних дум своих. От тополей упали тени, Как черно-синие ступени. Лунным светом серебрим, Ходит юноша по ним, Темной скорбию томим. И мыслит: «Я ей не ровесник Моей породой и судьбой. Военный жребий: ты – кудесник! Мой меч за царственный разбой!» Много благородства и упрямки В Сапеги старом замке. В озерах нежатся станицы Белокрылых лебедей. И стерегут пруд, как ресницы – Широко раскрытые зеницы, Стада кумирные людей. Там камень с изображением борьбы, С [движением] протянутой руки Смотрел на темные дубы, За голубые тростники. Уж замысел кровавый Стал одеваться новой плотью. Уж самозванец мнит себя с державой, Красуясь в призрачной милоти. «Карает провиденье дерзость. Что же? Возмездьем страшным горделивый, Я оценю за плаху ложе, И под мечом судьбы красивый. А вы, толпа седых бояр! – С поклоном низким в пыли серой Вы обопретесь на ладони, Когда любима мной без меры Займет престол, молясь Мадонне. Я буду, может быть, убит, Исчезнет имя с самих плит, Убит в дворце великолепном… Убийцей, раньше раболепным. У водопада, где божок С речным конем затеял ссору, Ты снимала сапожок, Одевала ножку скоро. И от взгляда скрывалась за тенью березы… Пускай гудят колокола, Когда [девические] грезы Станут военные дела. Сему свидетель провидение!» Порой его давит виденье: Косматый конь с брадою мужа, Рысью каменно-гулкой, Стуча копытом по каменным плитам, Протягивал руку, Чтобы прогулкой Рассеять их скуку. И мчался после бело-пегий (Кругами расходилась лужа) Из тополевого сада Сапеги. Так на досуге пламенея, В своем решенье каменея, Он ходит, строг и нелюдим, Сам-друг с желанием своим. Стоила ночь. Как полководцы, Стояли тихо тополя. Смотрели в синие колодцы Звезды, лучами шевеля. И уж приблизился рассвет, И ум готовит свой ответ. Охота. Звон. Как в сказках, На тылах кисти кречета́, И пляшет жеребцов черкасских Умных кровная чета. Промчалась нежная козуля. Убит матерый был кабан. И годы всем сочла зозуля: Ей дар пророчить дан. И много игр веселых и забавных Знал старый князь. Гостей своих в чертогах славных Он веселил, развеселясь. И говорит: «Сегодня у Потоцкого ночуем. Он дома, он хандрит. Он болен почечуем». И думает Марина: Сам польский король будет саном ее деверь. К ее ногам красивым током, Царицы белого плаща, Упали юг, восток и север. Везде затихнут мятежи, Могучим чувством трепеща Исполнить волю госпожи. Ее удел слепой успех. Она примирит костел с Востоком. И Мнишек молвил: «Он и ты – вы пара. Пусть Божия меня постигнет кара, Если мои имения и рабы, Бочонки с золотом, ковры Ему не будут брошены мостом тяжелым В его походе за престолом». Гнев разгорелся в старике, И он держак сжал в пястуке. И молвил ксендз: «Полячка, посох Держа в руке, клади свой след в восточных росах. Умеет с запада порой Солнце взойти на послух свой. Покорна вести веры правой, Вернись в костел с своей державой». Покоем полно Тушино. Огни потушены. Храпят ночные табуны, Друзья в час мира и войны. И атаманова подруга, Как месяц ясный, белолика, Бьет оземь звонкою подковой Гвоздей серебряного круга И мчится в пляске стройна, ди́ка, Красою гордая здоровой. Лишь гремлют песню кашевары Про Днепр, про Сечу и порог. Очкуром вяжет шаровары Воин дебелый и высок. Бежите, русские, бежите. Быть безоружными дрожите. Худая слава Про царство русское бежит. Повсюду войско Владислава, И русского ничто уж не дрожит. Война, война… Он в польском шлеме, Латинских латах Повел на битву племя Людей суровых и усатых. Литва и Польша, Крым и Сечь, Все, с чьих плеч О землю стукал меч, Делили с ними похода время. В Калугу гонит князь коня, Пронзая смутным взором даль, Там саблей долгою звеня, Сошлися лях, литвин, москаль. То Смута. Годы лихолетья и борьбы, Насильств, походов и вражды. Поутру бой, разбой иль схватка, А вечером удалая присядка. Когда дрожит земля и гнется Под шагом шаек полководца, Пирушки и попойки, И жены веселы и бойки. Станицей зорь, пожарищ, зарев, Солнцем ночным висячих марев Отметил путь противник государев. И часто длинными ножами кончался разговор, Кто всея Руси царь – князь Шуйский или вор. И девы русские порой просили братьев заколоть, Рукой осязая трепетное сердце, Не в силах в жизни побороть Пых нестерпимый иноверца. А между тем толпой шиши, Затаены в лесной глуши, Точили острые ножи, И иногда седой боярин Их оделял сребром и златом, За ревность к Руси благодарен, Сойдя к отшельникам усатым. В шубе овец золоторунных Стоит избранник деревень. И с дюжиной углов чугунных Висит в его руке кистень. Любимец жен, в кудрей венце, На вид удалый и здоровый. Рубцы блистали на лице, Предметы зависти суровой. Он стан великих сторожил И Руси храбростью служил. Из мха и хвои шалаши Скрывали русских палаши. Святая чернь и молодежь Так ополчилася на ложь. Тело одних стесняли вериги, Другие читали старинные книги. На пришельцев негодуя, Здесь обитали они скромно, С работой песни чередуя И дело делая огромно. И дивно стукались мечи, Порою пламенно звенели, Казалось, в битве бирючи Взывали в тихие свирели. Так, стесненны в пределах косных, Висят мечи на темных соснах. На темных соснах здесь почила Седая древность. Людей же здесь соединила К отчизне ревность. Смерть, милостивая смерть! Имей же жалость! Приди и утоли ее усталость. Осталась смерть – последнее подобие щита! А сзади год стыда, скитанья, нищета. «Дворяне! Руку на держак!» – Лишь только крикнул Ляпунов, Русь подняла тесак, Сев на крупы табунов. Давно ль Москва в свои кремли Ее звала медноглаголым гулом. Давно ль сыны ее земли Дружили с буйством и разгулом. Давно ль царицей полумира Она вошла в свою столицу, И сестры месяца – секиры Умели стройно наклониться. Темрюк, самота, нелюдим, Убит соперником своим. Их звала ложь: обычаи страны, заветы матерей – Все-все похерьте. Народ богатырей Пусть станет снедью смерти. И опечалилась земля, Завету страшному внемля, И с верховыми табунами Смешались резвые пехотники. С отчизны верными сынами Здесь были воду жечь охотники. Всякий саблею звенит, Смута им надежный щит. Веселые детинушки Несут на рынок буйную отвагу. Сегодня пьют меды и брагу, А завтра виснут на осинушке. «Мамо! Мне хочется пить!» – «Цить, детка, цить! Ты не холопья отрасль, ты дворянин. Помни: ты царский сын!» Вдруг объята печалью: Отчизне и чужбине чужд, Валуева пищалью Убит мятежный муж. Плачьте, плачьте, дочери Польши! Надежд не стало больше. Под светы молнии узорной Сидела с посохом Марина. Одна, одна в одежде черной, Врагов предвидя торжество, Сидела над обрывом, Где мчатся волны сквозь стремнины. И тихо внемлет божество Ее роптания порывам. Москвы струя лишь озарится Небесных пламеней золой, Марина, русская царица, Острога свод пронзит хулой. «Сыну, мой сыну! Где ты?» Ее глаза мольбой воздеты, И хохот, и безумный крик, И кто-то на полу холодном Лежит в отчаяньи бесплодном. Ключами прогремит старик. Темничный страж, угрюм и важен, Смотрел тогда в одну из скважин. Потом вдруг встанет и несется В мазурке легкокрылой, С кем-то засмеется, улыбнется, Кому-то шепчет: «Милый». Потом вдруг встанет, вся дрожа, Бела, как утром пороша́, И шепчет, озираясь: «Разве я не хороша?» Вдруг к стражу обращается, грозна: «Где сын мой? Ты знаешь! – с крупными слезами, С большими черными глазами. – Ты знаешь, знаешь! Расскажи!» И получает краткое в ответ: «Кат зна!» «Послушай, услужи: Ты знаешь, у меня казна. Освободи меня!» Но он уйдет, лицо не изменяя. Так погибала медленно в темнице Марина, русская царица. <1912–1913>204. Хаджи-Тархан
Где Волга прянула стрелою На хохот моря молодого, Гора Богдо своей чертою Темнеет взору рыболова. Слово песни кочевое Слуху путника расскажет: Был уронен холм живой, Уронил его святой, – Холм, один пронзивший пажить! А имя, что носит святой, Давно уже краем забыто. Высокий и синий, боками крутой, Приют соколиного мыта! Стоит он, синея травой, Над прадедов славой курган. И подвиг его, и доныне живой, Пропел кочевник-мальчуган. И псов голодающих вторит ей вой. Как скатерть желтая, был гол От бури синей сирый край. По ней верблюд, качаясь, шел И стрепетов пожары стай. Стоит верблюд, сутул и длинен, Космат, с чернеющим хохлом. Здесь люда нет, здесь край пустынен, Трепещут ястребы крылом. Темнеет степь; вдали хурул Чернеет темной своей кровлей, И город спит, и мир заснул, Устав разгулом и торговлей. Как веет миром и язычеством От этих дремлющих степей, Божеств морских могил величеством, Будь пьяным, путник, – пой и пей! Табун скакал, лелея гривы, Его вожак шел впереди. Летит как чайка на заливы, Волнуя снежные извивы, Уж исчезающий вдали. Ах, вечный спор горы и Магомета, Кто свят, кто чище и кто лучше. На чьем челе коран завета, Чьи брови гневны, точно тучи. Гора молчит, лаская тишь. Там только голубь сонный несся. Отсель урок: ты сам слетишь, Желая сдвинуть сон утеса. Но звук печально-горловой, Рождая ужас и покой, Несется с каждою зарей Как знак: здесь отдых, путник, стой! И на голубые минареты Присядет стриж с землей на лапах, А с ним любви к иным советы И восковых курений запах. Столбы с челом цветочным Рима В пустыне были бы красивы. Но, редкой радугой любима, Она в песке хоронит ивы. Другую жизнь узнал тот угол, Где смотрит Африкой Россия, Изгиб бровей людей где кругол, А отблеск лиц и чист и смугол, Где дышит в башнях Ассирия. Мила, мила нам пугачевщина, Казак с серьгой и темным ухом. Она знакома нам по слухам. Тогда воинственно ножовщина Боролась с немцем и треухом. Ты видишь город стройный, белый, Там кровью полита земля, Там старец брошен престарелый, Набату страшному внемля. Уже не реют кумачи Над синей влагою гусей. Про смерть и гибель трубачи, Они умчались от людей. И Волги бег забыл привычку Носить разбойников суда, Священный клич «сарынь на кичку» Здесь не услышать никогда. Но вновь и вновь зеленый вал Старинной жаждой моря выпит, Кольцом осоки закрывал Рукав реки морской Египет. В святых дубравах Прометея Седые смотрятся олени. В зеркалах моря, сиротея, С селедкой плавают тюлени, Сквозь русских в Индию, в окно, Возили ружья и зерно Купца суда. Теперь их нет. А внуку враг и божий свет. Лик его помню суровый и бритый, Стада ладей пастуха. Умер уж он; его скрыли уж плиты, Итоги из камня, и грез, и греха. Помню я свет отсыревшей божницы, Там жабы печально резвились! И надпись столетий в камней плащанице! Смущенный, наружу я вышел и вылез, А ласточки бешено в воздухе вились У усыпальницы – предков гробницы. Чалмы зеленые толпой Здесь бродит в праздник мусульман, Чтоб предсказал клинок скупой Коней отмщенья водопой И месть гяуру (радость ран), Казани страж – игла Сумбеки, Там лились слез и крови реки. Там голубь, теменем курчав, Своих друзей опередил И падал на землю стремглав, Полет на облаке чертил. И, отражен спокойным тазом, Давал ума досугу разум. Мечеть и храм песет низина И видит скорбь в уделе нашем Красив и дик, зову муэдзина Зовет народы к новым кашам. С булыжником там белена На площади ясной дружила, И башнями стройно стена И город и холм окружила. И туча стрел неслась не раз. Невест восстанье было раз. Чу! Слышен плач, и стан княжны На руках гнется лиходея. Соседи радостью полны, И под водою блещет шея. И помнит точно летописец Сии труды на радость злобы, И гибель многих вольных тысяч, И быстро скованные гробы. Настала красная пора В низовьях мчащегося Ра. Война и меч, вы часто только мяч Лаптою занятых морей, И волжская воля, ты отрок удач, Бросая на север мяч гнева полей. «Нас переженят на немках, клянусь!» Восток надел венок из зарев, За честь свою восстала Русь. И, тройку рек копьем ударя, Стоял соперник государя. Заметим кратко: Ломоносов Был послан морем Ледовитым, Спасти рожден великороссов Быть родом, разумом забытым. Но что ж! Забыв его венок, Кричим гурьбой: «Падам до ног». И в звуках имени Хвалынского Живет доныне смерть Волынского. И скорбь безглавых похорон Таится в песни тех сторон. Ты видишь степь: скрипит телега, Песня лебедя слышна, И живая смерть Олега Вещей юности страшна. С косой двойною бог скота, Кого стада вскормили травы, Стоит печально. Всё тщета! Куда ушли столетья славы? Будь неподвижною, севера ось, Как остов небесного судна. В бурю родились, плывем на авось, Смотрим загадочно, грозно и чудно. И светел нам лик в небе брошенных писем, Любим мы ужас, вой смерча и грех. Как знамя мы молодость в бурю возвысим, Рукой огневою начертим мы смех. Ах, мусульмане те же русские, И русским может быть ислам. Милы глаза, немного узкие, Как чуть открытый ставень рам. Что делать мне, мой грешный рот? Уж вы не те, уж я не тот! Казак сдувал с меча пылинку, На лезвие меча дыша, И на убогую былинку Молилась Индии душа. Когда осаждался тот город рекой, Он с нею боролся мешками с мукой. Запрятав в брови взоры синие, Исполнен спеси и уныния, Верблюд, угрюм, неразговорчив, Стоит, надсмешкой губы скорчив. И, как пустые рукавицы, Хохлы горба его свисают, С деньгой серебряной девица Его за повод потрясает. Как много просьб к друзьям встревоженным В глазах, торгующих мороженым! Прекрасен в рубищах их вырез. Но здесь когда-то был Озирис. Тот город, он море стерег! И впрямь, он был моря столицей. На Ассирию башен намек, Околицы с сельской станицей. И к белым и ясным ночным облакам Высокий и белый возносится храм С качнувшейся чуть колокольней. Он звал быть земное довольней. В стволах садов, где зреет лох, Слова любви скрывает мох. Над одинокою гусяной Широкий парус, трепеща, Наполнен свежею моряной, Везет груз воблы и леща. Водой тот город окружен, И в нем имеют общих жен. 1913205. Сельская дружба
Как те виденья тихих вод, Что исчезают, лишь я брызну, Как голос чей-то в бедствий год: «Пастушка, встань, спаси отчизну!» Вид спора молний с жизнью мушки Сокрыт в твоих красивых взорах, И перед дланию пастушки, Ворча, реветь умолкнут пушки, И ляжет смирно копий ворох. Так, в пряже таинственной с счастьем и бедами, Прекрасны, смелы и неведомы, Юношей двое явились однажды, С смелыми лицами, взорами жажды. Наутро пришли они, мокрые, в росах, В руке был у каждого липовый посох. То вестники блага – подумал бы каждый. Смелы, зорки, расторопны, В русые кудрей покрытые копны, К труду привычны и охотники, Они просилися в работники. Какой-то пришли они тайной томя, Волнуемы подвигом общим, – Ни этих приход мы не ропщем. Так голубь порою крылами двумя В время вечернее мчится и серое. И каждый взглянул на них, сразу им веруя. Но голубь летит все ж единый. Пришли они к нам урожая годиной. Сюда их тропа привела, Два шумных и легких крыла. С того напрасно снят, казалось, шлем: Покрыт хвостом на медной скрепе, Он был бы лучше и свирепей. Он русый стог на плечах нес Для слабых просьб и тихих слез. Другой же, кроток, чист и нем, Мечтатель был и ясли грез. Как лих и дик был тот в забрале, И весел голос меж мечей! Иные сны другого ум избрали, Ему был спутником ручей, И он умел в тиши часами Дружить с ночными небесами. Как строк земли иным созвучие, Как одеянье сердцу лучшее. Село их весело приемлет, И сельский круг их сказкам внемлет. Твердят на все спокойно «да!» Не только наши города. Они вошли в семью села, Им сельский быт был дан судьбой. И как два серые крыла – Где был один, там был другой. Друг с другом жизни их сплелись; С иными как-то не сошлись. И все приветствуют их. Умолкли злые языки, Хотя ворчали старики: Тот слишком лих, тот слишком тих. Они прослыли голубки (К природе образы близки), И парубки, хотя раней косились, Но и те угомонились. Не знаю, что тому виною, Решенье жен совсем иное. Они, наверное, правы. Кто был пред ними наяву Осколком века Святослава И грозных слов «Иду на вы», – Пред тем, склонив свою главу, Проходит шумная орава. Так, дикий шорох чуть услышат В ночном пасущиеся кони, Прядут ушами, робко дышат: Ведь все есть в сумрака законе. Когда сей воин, отцов осколок, Встречался, меряя проселок, На ее быстрый взор спускали полог. Перед другим же, подбоченясь, Смелы, бойки, как новый пенязь, Играя смело прибаутками И смело-радостными шутками, Стояли весело толпой, На смех и дерзость не скупой. Бранили отрока за то, Что, портя облик молодой, Спускался клок волос седой На мысли строгое чело, Был сирота меж прядей черных. Казнили стаей слов задорных За то, что рано поседел, Храня другой судьбы удел, Что пустяки ему важны И что ему всегда немного нездоровится, А руки слабы и нежны – Породы знак, гласит пословица. Ходила бойкая молва, Что несправедлив к нему закон За тайну темную рождения И что другой судьбы права На жизнь, счастье, наслаждение Хранил в душе глубоко он. Хоть отнял имя, дав позор, Но был отец Ивана важен Где-то. То, из каких-то жизни скважин, Все разузнал болтливый взор. Враждуя с правом и тоской, С своей усмешкой удальской, Стаю молний озорницы Бросали в чистые зарницы. «Не я, не мы», – кричали те, В безумца, верного мечте, Весною красненький цветок, Зимой холодный лед снежка Порой оттуда, где платок, Когда летал исподтишка. Позднее с ними примирились И называть их договорились: Наш силач (Пропащая головушка), И наш скрипач, И нам соловушка. Ведь был силен, чьи кудри были русы, А тот на скрипке знал искусы. Был сельский быт совсем особый. В селе том жили хлеборобы В верстах двенадцати Военный жил; ему покой давно был велен: В местах семнадцати Он был ранен и прострелен, То верной, то шальною пулей (Они летит, как пчелы в улей). И каждый вечер, вод низами, К горбунье с жгучими глазами Сквозь луга и можжевельник С громкой песней ходил мельник. Идя тропою ивняка, Свою он «Песню Песней» пел, Тогда село наверняка, Смеясь, шептало: «Свой труд окончить он успел». Копыто позже путь топтало. Но осенью, когда пришли морозы, Сверкнули прежние угрозы В глазах сердитых стариков, Как повесть жизни и грехов, И раздавалось бранное слово. Потом по-старому пошло все снова, Только свадьбы стали чаще, С хмелем ссоры и смятений. Да порой в вечерней чаще Замечали пляску теней. Но что же? Недолго длилось все и то же, Однажды рев в деревне раздался, Он вырос, рос и на небо взвился. Забилась сторожа доска! В том крике – смертная тоска. Набат? Иль бешеные волки? «Ружье подай мне! Там, на полке». Притвор и ствол поспешно выгнув, В окошко сада быстро прыгнув, Бегут на помощь не трусы. Бог мой! От осаждающей толпы Оглоблей кто-то отбивался. В руках полена и цепы, Но осажденный не сдавался. За ним толпой односельчане, Забыв свирели и заботы, Труды, обычай и работы, На мясе, квасе и кочане Обеды скудные прервав, Идут в защиту своих прав. Излишни выстрел и заряд. Слова умы не озарят. На темный бой с красавцем пришлым Бегут, размахивающим дышлом. Тогда, кто был лишь грез священник, Сбежал с крыльца семи ступенек. Молва далеко рассказала Об этом крике: «Не боюсь!» Какая сила их связала, Какое сердце и союз! В его руке высокий шест Полетом страшным засвистал И круг по небу начертал. Он им по воздуху провел, Он, хищник в стае голубей. Умолкли возгласы: «Убей!» И отступили люди мест, И побежали люди сел. «В тихом омуте-то черт!» – Молвил тот, кто был простерт. Наверно, месяц пролежал Борис, кругом покрытый льдом, – Недуг кончиной угрожал. Он постарел и поседел. Иван, гордясь своим трудом, Сестрою около сидел, И в темный час по вечерам, Скорбна, как будто войдя в храм, Справлялась не одна села красавица, Когда Борис от ран поправится. И он окрепнул наконец, Но вышел слабый, как чернец. Меж тем и сельских людей гнев Улегся, явно присмирев. Борис однажды клятву дал Реку Остер двенадцать раз, Не отдыхая, переплыть, Указ судьбы его не спас. Он на седьмом погиб. Не плакал, не рыдал Иван, но, похоронив, решил уйти. Иных дней жребий темный вынул И, незамеченный, покинул Нас. Не знаю, где решил он жить. Быть может, он успел забыть Тот край, как мы его забыли, Забвенью предали пути. Но голубь их скитаний, хром, Отныне сломанным крылом Дрожит и бьется, узник пыли. Так тяжко падает на землю Свинцом пронзенный дикий гусь. Но в их сердцах устало внемлю Слова из книги общей: «Р у с ь». 1913206. Каменная баба
Старик с извилистою палкой И очарованная тишь. И, где хохочущей русалкой Над мертвым мамонтом сидишь, Шумит кора старинной ивы, Лепечет сказки по-людски, А девы каменные нивы – Как сказки каменной доски. Вас древняя воздвигла треба. Вы тянетесь от неба и до неба. Они суровы и жестоки, Их бусы – грубая резьба. И сказок камня о Востоке Не понимают ястреба. Стоит с улыбкою недвижной, Забытая неведомым отцом, И на груди ее булыжной Блестит роса серебряным сосцом. Здесь девы скок темноволосой Орла ночного разбудил, Ее развеянные косы, Его молчание удил! И снежной вязью вьются горы, Столетних звуков твердые извивы. И разговору вод заборы Утесов, сверху падших в нивы. Вон дерево кому-то молится На сумрачной поляне. И плачется и волится Словами без названий. О, тополь нежный, тополь черный, Любимец свежих вечеров! И этот трепет разговорный Его качаемых листов. Сюда идет «пиши-пиши», Златоволосый и немой. Что надо отроку в тиши Над серебристою молвой? Рыдать, что этот Млечный Путь не мой? «Как много стонет мертвых тысяч Под покрывалом свежим праха! И я – последний живописец Земли неслыханного страха. Я каждый день жду выстрела в себя. За что? За что? Ведь всех любя, Я раньше жил, до этих дней, В степи ковыльной, меж камней». Пришел и сел. Рукой задвинул Лица пылающую книгу. И месяц плачущему сыну Дает вечерних звезд ковригу. «Мне много ль надо? Коврига хлеба И капля молока. Да это небо, Да эти облака!» Люблю и млечных жен, и этих, Что не торопятся цвести. И это я забился в сетях На сетке Млечного Пути. Когда краснела кровью Висла И покраснел от крови Тисс, Тогда рыдающие числа Над бедным миром пронеслись. И синели крылья бабочки, Точно двух кумирных баб очки. Серо-белая, она Здесь стоять осуждена Как пристанище козявок, Без гребня и без булавок, Рукой грубой указав Любви каменный устав. Глаза серые доски́ Грубы и плоски. И на них мотылек Крылами прилег, Огромный мотылек крылами закрыл И синее небо мелькающих крыл, Кружевом точек берёг Вишневой чертой огонек. И каменной бабе огня многоточие Давало и разум и очи ей. Синели очи и вырос разум Воздушным бродяги указом. Вспыхнула темною ночью солома? Камень кумирный, вставай и играй Игор игрою и грома. Раньше слепец, сторож овец, Смело смотри большим мотыльком, Видящий Млечным Путем. Ведь пели пули в глыб лоб, без злобы, чтобы Сбросил оковы гроб мотыльковый, падал в гробы гроб. Гон! Гоп! В небо прыгай, гроб! Камень, шагай, звезды кружи гопаком. В небо смотри мотыльком. Помни, пока, эти веселые звезды, пламя блистающих звезд, – На голубом сапоге гопака Шляпкою блещущий гвоздь. Более радуг и цвета! Бурного лёта лета! Дева степей уж не та! 10 марта 1919207. Лесная тоска
Вила
Пали вой полевые На речную тишину, Полевая в поле вою, Полевую пою волю, Умоляю и молю так Волшебство ночной поры, Мышек ласковых малюток, Рощи вещие миры: Позови меня, лесную, Над водой тебе блесну я, Из травы сниму копытце, Зажгу я косах небеса я И, могучая, босая, Побегу к реке купаться.Лешак
Твои губы – брови тетерева, Твои косы – полночь падает, О тебе все лето реву, Но ничто, ничто не радует. Светлых рыбок вместо денег Ты возьмешь с речного дна, В острых зубках, как вареник, Вдруг исчезнула одна: Без сметаны она вкусна, Хрупко бьется на зубах. На стене сырой, где клятва, Я слезами стены вымою, Где ручьями сырость капает, Над призраком из сырости, Словам любви, любимая, Тогда ужель не вырасти – Булавка нацарапает.<Вила>
Ты это, ветер, ты? Верю, ветер любит не о чем Грустить неучем, После петь путь Моих ветреных утренних пят, Давать им лапти легких песен, А песен опасен путь. Мой мальчик шаловливый и мятежный, Твои таинственные нити Люблю ловить рукою нежной, Ковры обманчивых событий. Что скажешь ты?Ветер
На обрыве, где гвоздика, Возле лодки, возле весел, Озорной, босой и весел, Где косматому холопу Стражу вверила халупа, Парень неводом частым отрезал, Вырезав жезел, Русалке-беглянке пути. Как билась русалка, страдая! Сутки бьется она в сетке, Где течения излом, Вместе с славкой ястребиной, Желтоокой и рябой. Рыбак, он силой чар ужасных Богиню в невод изловил И на руках ее прекрасных Веревки грубой узлы вил.Вила
Беру в свидетели потомство И отдаленную звезду, С злодеем порвано знакомство, На помощь девушке бегу.Ветер
Что же, волосы развеяв, По дороге чародеев Побеги меж темных елей. Ах, Вила, Вила! Ты простодушьем удивила Меня, присяжного лгуна, Не думал я, что сразу Поверишь ты рассказу. Разве есть тебя резвей В сердце простодушном, Каждой выдумке послушной?Русалка
Зачем ты обманул?Ветер
А без проказ совсем уснул, И злые шалости – моя свобода.Старик
Как черный ветер, колыхается Из красных углей ожерелье. Она поет и усмехается, Костер ночной – ее веселье. Она поет, идет и грезит, Стан мошек волосом разит. Как луч, по хвойным веткам лезет И тихо к месяцу скользит. То в сумраке себя ночном купает, То в облаке ночном исчезла, То молчаливо выступает В дыму малинового жезла. Она то молнией нагой Блеснет одна в дуброве черной, То белодымною ногой Творит обряд упорный.Русалка
Всюду течи те, Меня тян<е>те! Только помните – Здесь пуги не те, Здесь потонете! Жмурился вечер, Жмуря большие глаза, Спрячась в озерах во сне голубых. Тогда я держала в руках голубей, Сидя на ветке шершавой и старой, И опрокинутой глыбой Ко́сы веселий Висели. В осине осенней То было.<Лешак>
Час досады, час досуга, Час видений и ведуний, Час пустыни, час пестуний. Чтоб пышней, длинней и далее Золотые косы дали ей. Виноваты вы не в этом, Вы греховны тем, что нынче Обещались птицы звонче: «Полотенцем моей грезы Ветру вытру его слезы». Ветер – ветреный изменник, Не венок ему, а веник. Вы помните, страстничал вечер Громадами томных, Расширенных глаз над озером.Ветер
Там не та темнота. Вы ломите мошек стада, Вы ива своего стыда, Где мошек толкутся стада. Теперь, выходя из воды, Вы ива из золота, Вы золота ива. Чаруетесь теми, Они сосне Восклицали: «Сосни!» Чураетесь теми, Она во сне Заклинала весну. Явен овен темноты. Я виновен, да, но ты? Вы ива у озера, Чьи листья из золота.Русалка
Лени друг и враг труда, Ты поклялся, верю чуду, Что умчимся в никогда И за бедами забуду, Что изменчив, как вода.Рыбаки
Вышел к сетям – мать владычица! Что-то в сетях тупо тычется. Изловили ли сома. Да таких здесь не видать! Или спятил и с ума! А глаза уж смотрят слабо. Вышел парень: «Водяная бьется баба!» И сюда со мной бегом, Развязаться бы с грехом.Ветер
Чары белые лелею, Опрокинутые ивами. Одоленом одолею Непокорство шаловливое. Голубой волны жилицы, Купайтесь по ночам, Кудри сонные струятся Крученым панычом. Озаренные сияньем, Блещут белым одеяньем По реке холодной беженки, На воде холодной неженки. Я веселый, я за вами, Чтоб столкнуть вас головами.Русалка
Слышишь, ветер, слышишь ужас? Ветра басня стала делом. В диких сетях обнаружась, Бьется Вила нежным телом. Режут листья, как мечи, Кожу неги и услад. Водяной бугай, мычи, Жабы, вам забить в набат! Пышных кос ее струя, По хребту бежит змея. И косые клетки сетки, Точно тени зимней ветки, Сот тугой и длинной сетки, Режут до крови рубцы. И на теле покрасневшем Отпечатана до мяса Сеть, вторая – на руках, Точно тени на снегу Наклоненных низко веток. И, запутанная в соты, Дичь прекрасная охоты Уж в неволе больше часа, Раскраснелась и в слезах. Слезы блещут на глазах. Дрожат невода концы. Холить брось свои усы, Злой мальчишка и пророк. Это злой игре урок. Вила лесным одуванчиком Спускалась ночью с сосны, Басне поверив обманщика, Пленница сеток, не зная вины. Ну, берись скорей за помощь, Шевелись, речной камыш!Ветер
Цапля с рыбою в зобу Полетела за плотину, Вила милая, забудь Легкой козни паутину. Я в раскаяньи позднем Говорю «прощайте» козням.Вила
Удалого рыболова Плеском влаги испугаю. Чу, опять пронесся, снова, Водяного рев бугая. Сестры, подруги, Зубом мышиным Рвите тенета, Ветер, маши нам, После поймете!Девы
Ля! Ля! Ля! Девушки, ля! Рвет невода Белая жинка. Всюду заминка, Льется вода. Спят тополя. Синяя доля Ранней зари. Сказку глаголя, Шли рыбари. В руке их уда, Идут сюда.Утро
Поспешите, пастушата! Ни видений, ни ведуний, Черный дым встает на хате, Все спокойно и молчит. На селе, в далекой клуне Цеп молотит и стучит. Скот мычит, пастух играет, Солнце красное встает. Н, как жар, заря играет, Вам свирели подает.Осень 1919, 1921
208. Поэт
Как осень изменяет сад, Дает багрец, цвет синей меди, И самоцветный водопад Снегов предшествует победе, И жаром самой яркой грезы Стволы украшены березы, И с летней зеленью проститься Летит зимы глашатай – птица, Где тонкой шалью золотой Одет откос холмов крутой, И только призрачны и наги Равнины белые овраги, Да голубая тишина Просила слова вещуна, – Так праздник масленицы вечной Души отрадою беспечной Хоронит день недолговечный, Хоронит солнца низкий путь, Зимы бросает наземь ткани И, чтобы время обмануть, Бежит туда быстрее лани. Когда над самой головой Восходит призрак золотой И в полдень тень лежит у ног, Как очарованный зверок, – Тогда людские рощи босы Ткут пляски сердцем умиленных И лица лип сплетают косы Листов зеленых. Род человечества, Игрою легкою дурачась, ты, В себе самом меняя виды, Зимы холодной смоешь начисто Пустые краски и обиды. Иди, весна! Зима, долой! Греми, весеннее, трубой! И человек, иной, чем прежде, В своей изменчивой одежде, Одетый облаком и наг, Цветами отмечая шаг, Летишь в заоблачную тишь, С весною быстрою сам-друг, Прославив солнца летний круг. Широким неводом цветов Весна рыбачкою одета, И этот холод современный Ее серебряных растений, И этот ветер вдохновенный Из полуслов, и полупения, И узел ткани у колен, Где кольца чистых сновидений. Вспорхни, сосед, и будь готов Нести за ней охапки света И цепи дыма и цветов. И своего я потоки, Моря свежего взволнованней, Ты размечешь на востоке И посмотришь очарованней. Сини воздуха затеи. Сны кружились, точно змеи. Озаренная цветами, Вдохновенная устами, Так весна встает от сна. Все, кто предан был наживе, Счету дней, торговле отданных, Счету денег и труда, – Все сошлись в одном порыве Любви к Деве верноподданных, Веры в праздник навсегда. Крик шута и вопли жен, Погремушек бой и звон, Мешки белые паяца, Умных толп священный гнев, Восклицали: Дева – Цаца! Восклицали нараспев, В бурных песнях опьянев. Двумя занятая лавка, Темный тополь у скамейки. Шалуний смех, нечаянная давка, Проказой пролитая лейка. В наряде праздничном цыган, Едва рукой касаясь струн, Ведет веселых босоножек. Шалун, Черноволосый, черномазый мальчуган Бьет тыквою пустой прохожих. Глаза и рот ей сделал ножик. Она стучит, она трещит, Она копье и ловкий щит. Потоком пляски пробежали В прозрачных одеяньях жены. «Подруги, верно ли? – Едва ли, Что рядом пойман леший сонный? Подруги, как мог он в веселия час Заснуть, от сестер отлучась? – Прости, дружок, ну, добрый путь, Какой кисляй, какая жуть!» И вот, наказанный щипками, Бежит неловкими прыжками И скрыться от сестер стремится, Медведь, и вдруг свободнее, чем птица, Долой от злых шалуний мчится. Волшебно-праздничною рожей, Губами красными сверкнув, Толпу пугает чернокожий, Копье рогожей обернув. За ним с обманчивой свободой Рука воздушных продавщиц, Темнея солнечной погодой, Корзину держит овощей. Повсюду праздничные лица И песни смуглых скрипачей. Среди недолгой тишины Игра цветами белены. Подведены, набелены, Скакали дети небылицы. Плясали черти очарованно, Как призрак с призраком прикованные, Как будто кто-то ими грезит, Как будто видит их во сне, Как будто гость замирный лезет В окно красавице весне. Слава смеху! Смерть заботе! Из знамен и из полотен, Что качались впереди, Смех, красиво беззаботен, С осьминогом на груди, Выбегает, смел и рьян, – Жрец проделок и буян. Пасть кита несут, как двери, Отворив уста широко, Два отшельника-пророка, В глуби спрятаны, как звери, Спорят об умершей вере. Снег за снегом, Все летит к вере в прелести и негам. Вопит задумчиво волынка, Кричит старик «кукареку», И за снежинкою снежинка Сухого снега разноцветного Садилась вьюга на толпу Среди веселья беззаветного. Одетый бурной шкурой волка, Проходит воин, медь и щит. Жаровней-шляпой богомолка Старушка набожных смешит. Какие синие глаза! Сошли ли наземь образа – Дыханьем вечности волнуя, Идут сквозь праздник поцелуя Священной живописью храма, Чтобы закрыл глаза безбожник, [Как] дева нежная ислама, Иль в руки кисти взял художник? «Скажи, соседка, – мой Создатель! – Кто та живая Богоматерь?» – «Ее очами теневыми Был покорен страстей язык, Ее шептать святое имя Род человеческий привык». Бела, белее изваяния, Струя молитвенный покой, Она, божественной рукой, Идет, приемля подаяние. И что ж! И что ж! Какой злодей Ей дал вожатого шута! Она стыдится глаз людей, Ее занятье – нищета! Но нищенки нездешний лик, Как небо синее, велик. Казалось, из белого камня изваян Поток ее белого платья, О, нищенка дальних окраин, Забывшая храм Богоматерь! Испуг. Молчат… И белым светом залита, Перед видением толпа детей, толпа дивчат. Но вот веселие окрепло. Ветер стона, хохот пепла, С диким ревом краснокожие Пробежали без оглядки, За личинами прохожие Скачут в пляске и присядке. И за ней толпа кривляк, С писком плача, гик шутов, Вой кошачий, бой котов, Пролетевшие по улице, Хохот ведьмы и скотов, Человек-верблюд сутулится, Говор рыбы, очи сов, Сажа плачущих усов, На телеге красный рак, С расписными волосами, В харе святочной дурак Бьет жестянкою в бочонок, Тащит за руку девчонок. Мокрой сажи непогода, Смоляных пламен костры, Близорукие очки текут копотью по лицам, По кудрявых влас столицам. И в ночной огнистой чаре, В общей тяге к небылицам Дико блещущие хари, Лица цвета кумача Отразились, как свеча, Среди тысячи зеркал, Где огонь, как смерть, плескал. Смеху время! Звездам час! Восклицали, ветром мчась. И копья упорных снежинок, Упавших на пол мостовой. Скамья. Голо выбритый инок Вдвоем с черноокой женой. Как голубого богомольцы, Качались длинных кудрей кольца, И полночь красным углем жег В ее прическе лепесток. И что ж! Глаза упорно-синие Горели радостью уныния И, томной роскоши полны, Ведут в загадочные сны. Но, полна метели, свободы от тела, Как очи другого, не этого лика, Толпа бесновалась, куда-то летела, То бела, как призрак, то смугла и дика. И около мертвых богов, Чьи умерли рано пророки, Где запады – с ними востоки, Сплетался усталый ветер шагов, Забывший дневные уроки. И, их ожерельем задумчиво мучая Свой давно уж измученный ум, Стоял у стены вечный узник созвучия, В раздоре с весельем и жертвенник дум. Смотрите, какою горой темноты, Холмами, рекою, речным водопадом Плащ, на землю складками падая, Затмил голубые цветы, В петлицу продетые Ладою. И бровь его, на сон похожая, На дикой ласточки полет, И будто судорогой безбожия Его закутан гордый рот. С высокого темени волосы падали Оленей сбесившимся стадом, Что, в небе завидев врага, Сбегает, закинув рога, Волнуясь, беснуясь морскими волнами, Рогами друг друга тесня, Как каменной липой на темени, И черной доверчивой мордой Все дрожат, дорожа и пылинкою времени, Бросают сердца вожаку И грудой бегут к леднику, – И волосы бросились вниз по плечам Оленей сбесившихся стадом. По пропастям и водопадам. Ночным табуном сумасшедших оленей, С веселием страха, быстрее, чем птаха! Таким он стоял, сумасшедший и гордый Певец (голубой темноты строгий кут, Морскою волною обвил его шею измятый лоскут). И только алмаз Казил-э Зажег красноватой воды Звездой очарованной, к булавке прикованной Плаща голубые труды, Девичьей душой застрахованный. О девушка, рада ли, Что волосы падали Рекой сумасшедших оленей, Толпою в крутую и снежную пропасть, Где белый белел воротничок? В час великий, в час вечерний, Ты, забыв обет дочерний, Причесала эти волосы, Крылья дикого орлана, Наклонясь, как жемчуг колоса, С голубой душою панна. И как ветер делит волны, Свежей бури песнью полный, Первой чайки криком пьяный, – Так скользил конец гребенки На других миров ребенке, Чьи усы темнеют нивой Пашни умной и ленивой. И теперь он не спал, не грезил и не жил, Но, багровым лучом озаренный, Узор стен из камней голубых Черными кудрями нежил. Он руки на груди сложил, Прижатый к груде камней призрак, Из жизни он бежал, каким-то светом привлеченный, Какой-то грезой удивленный, И тело ждало у стены Его души шагов с вершин, Его обещанного спуска, Как глина, полная воды, Но без цветов – пустой кувшин Без запаха и чувства. У ног его рыдала русалка. Она, Неясным желаньем полна, Оставила шум колеса И пришла к нему, слыхала чьи Песни вечера не раз. Души нежные русалочьи Покорял вечерний час. И забыв про ночные леса, И мельника с чертом божбу, И мельника небу присягу, Глухую его ворожбу, И игор подводных отвагу. Когда рассказом звездным вышит Пруда ночного черный шелк И кто-то тайну мира слышит, Из мира слов на небо вышед, С ночного неба землю видит И ждет, к себе что кто-то выйдет, Что нежный умер и умолк. Когда на камнях волос чешет Русалочий прозрачный пол И прячется в деревьях липы, Конь всадника вечернего опешит, И только гулкий голос выпи Мычит на мельнице, как вол. Утехой тайной сердце тешит Усталой мельницы глагол, И всё порука от порока. Лишь в омуте блеснет морока, И сновидением обмана Из волн речных выходит панна И, горделива и проста, Откроет дивные уста. Поет про очи синие, исполненные прелести, Что за паутиной лучей, И про обманчивый ручей, Сокрыт в неясном шелесте. Тогда хотели звезды жгучие Соединить в одно созвучие И смуглую веру воды, Веселые брызги русалок, И мельницы ветхой труды, И дерево, полное галок, И девы ночные виды́. И вот, одинока, горда, Отправилась ты в города. При месяце белом Синеющим телом Пугает людей. Стучится в ворота И входит к нему. В душе у девы что-то, Неясное уму. Но сердце вещее не трогали Ночные барышни и щеголи, Всегда их улицы полны И густо ходят табуны. Русалка, месяца лучами – Невеста в день венца, Молчанья полными глазами, Краснея, смотрит на певца. Глаза ночей. Они зовут и улетают Туда, в отчизну лебедей, И одуванчиком сияют В кругах измученных бровей, И нежно-нежно умоляют. «Как чает мой красивый разум, На мельницу седую приходя, Ты истязал своим рассказом О празднике научного огня. Ведь месяцы сошли с небес, Запутав очи в черный лес, И, обученные людскому бегу, Там водят молнии телегу И толпами возят людей На смену покорных коней. На белую муку́ Размолот старый мир Работою рассудка, И старый мир – он умер на скаку! И над покойником синеет незабудка, Реки чистоглазая дочь. Над древним миром уже ночь! Ты истязал меня рассказом, Что с ним и я, русалка, умерла, И не река девичьим глазом Увидит времени орла. Отец искусного мученья, Ты был жесток в ночной тиши, Несу венок твоему пенью, В толпу поклонниц запиши!» Молчит. Руками обнимая, Хватает угол у плаща И, отшатнувшись и немая, Вдруг смотрит молча, трепеща. «Отец убийц! Отец убийц – палач жестокий! А я, по-твоему, в гробу? И раки кушают меня, Клешнею черной обнимая? Зачем, чертой ночной мороки Порывы первые ломая, Ты написал мою судьбу? Как хочешь назови меня: Собранием лучей, Что катятся в окно, Ручей-печаль, чей бег небесен, Иль нет из да – в долине песен, Иль разум вод – сквозь разум чисел, Где синий реет коромысел, – Из небытия людей в волне Ты вынул ум, а не возвысил За смертью дремлющее «но». Или игрой ночных очей, [Всегда жестоких и коварных,] – На лоне ночи светозарных, И омутом, где всадник пьет, Иль месяца лучом, что вырвался из скважин, Иль мне быть сказкой суждено? Но пощади меня! Отважен, Переверни конном копье!» Тогда рукою вдохновенной На Богоматерь указал. «Вы сестры. В этом нет сомнений. Идите вместе, – он сказал, – Обеим вам на нашем свете Среди людей не знаю места (Невеста вод и звезд невеста). Но, взявшись за руки, идите Речной волной бежать сквозь сети Или нести созвездий нити В глубинах темного собора Широкой росписью стены, Или жилицами волны Скитаться вы обречены, Быть божествами наяву И в белом храме и в хлеву, Жить нищими в тени забора, Быть в рубище чужом и грязном, Волною плыть к земным соблазнам, И быть столицей насекомых, Блестя в божественные очи, Спать на земле и на соломах, Когда рука блистает ночи. В саду берез, в долине вздохов Иль в хате слез и странных охов – Поймите, вы везде изгнанницы, Вам участь горькая останется Везде слыхать: «Позвольте кланяться». По белокаменным ступеням Он в сад сошел и встал под Водолеем. «Клянемся, клятве не изменим, – Сказал он, руку подымая, Сорвал цветок и дал обеим. – Сколько тесных дней в году, Стольких воль повторным словом Я изгнанниц поведу По путям судьбы суровым». И призраком ночной семьи Застыли трое у скамьи. 16–19 октября 1919, 1921209. Три сестры
Как воды полночных озер За темными ветками ивы, Блестели глаза у сестер, А все они были красивы. Одна, зачарована богом Старинных людских образов, Стояла под звездным чертогом И слушала полночи зов. А та замолчала навеки, Душой простодушнее дурочки, Боролися черные веки С глазами усталой снегурочки. А та – золотистые глины Любила весною у тела, На сене, на стоге овина Лежать – ее вечное дело. Внезапный язык из окошка на птичнике – Прохожего дразнит цыгана, То, полная песен язычника, Стоит на вершине кургана. И, полная неба и лени, Жует голубые цветы, И в мертвом засохнувшем сене Плывет в голубые пути. Порой, быть одетой устав, Оденет ночную волну, Позволит ветров табуну Ласкать ее стана устав. И около тела нагого Холодная пела волна Давно позабытое слово Из мира далекого сна. Она одуванчиком тела Летит к одуванчику мира, И сказка великая пела, – Глаза человека – секира. И в сказку вечернего неба Летели девичьи глаза, И волосы темного хлеба Волнуются, льются назад. Умчалися девичьи земли В молитвенник дальнего неба, И волосы черного хлеба Волнуются, полночи внемля. Она – точно смуглый зверок, И смуглые блещут глазенки; Небес синева, точно слабый урок, Блеснет на зарницах теленка. Те волосы – золота темного мед, Те волосы – черного хлеба поток. То черная бабочка небо сосет И хоботом узким пьет синий цветок. Поверили звезд водоему Ее молодые лета, Темнеет сестрой чернозему Любимая сном нагота. И кротость и жалость к себе В ее разметавшихся ку́дрях, И небо горит голубей В колосьях священных и мудрых. И неба священный подсолнух, То золотом черным, то синим отливом Блеснет по разметанным волнам, Проходит, как ветер по нивам. Идет, как священник, и темной рукой Дает темным волнам и сон и покой, Иль, может быть, Пушкин иль Ленский По ниве идет деревенской; И слабая кашка запутает ноги Случайному путнику сельской дороги. Глазами зеваки, иль, может быть, боги Пришли красивыми очами Все на земле благословить. Другая окутана сказкой Умерших недавно событий, К ней тянутся часто за лаской Другого дыхания нити. Она величаво, как мать, Проходит по зарослям вишни И любит глаза подымать, Где звезды раскинул всевышний. Дрожали лучи поговоркою, И время столетьями цедится, Ты смотришь, задумчиво-зоркая, Как слабо шагает Медведица. Платка белоснежный ковер, Одежда бела и чиста; Как пена далеких озер. Ее колыхались уста. И дышит старинная вольница, Ушкуйницы гордая стать. О, строгая ликом раскольница, Поморов отшельница-мать. Лоск ласк и хитрости привычной сети Чертили тучное лицо у третьей, Измены низменной она Были живые письмена. И темные тела дары, Как небо, светлы и свободны; На облако черной главы Нисходит огонь благородный. И голод голубого холода Оставит женщину и глину. И вновь таинственно и молодо Молилась глина властелину. И полумать и полудитя, И с мглой языческой дружа, Она уходит в лес, хотя Зовет назад ее межа. Стонавших радостно черемух Зовет бушующий костер. Там в стороне от глаз знакомых Находишь, дикая, шатер. Сквозь белые дерева очи Ты скачешь товаркою ночи, И в черной шубе медвежонок Своих на тело падших кос, – Ты, разбросавший волосы ребенок, Забыв про яд жестоких ос, Но помнишь прелести стрекоз. И ловишь шмелей-медвежат, Хоть дерева ветки дрожат, И пьешь цветы медовой пыли, И лазаешь поспешней белки, – Тогда весна сидит сиделкой У первых дней зеленой силы. И, точно хохот обезьяны, Взлетели косы выше плеч, И ветров синие цыгане Ведут взволнованную речь. Она весна или сестра, В ней кровь весенняя течет, И жар весеннего костра В ее дыхании печет. Она пчелиным божеством На службу тысячи шмелей Идет, хоть трудно меж ветвей Служить молитву божеством. 30 марта 1920, 1921210. Ночь в окопе
Семейство каменных пустынниц Просторы поля сторожило. В окопе бывший пехотинец Ругался сам с собой: «Могила! Объявилась эта тетя, Завтра мертвых не сочтете, Всех задушит понемножку. Ну, сверну собачью ножку!» Когда-нибудь Большой Медведицы Сойдет с полей ее пехота. Теперь лениво время цедится, И даже думать неохота. «Что задумался, отец? Али больше не боец? Дай затянем полковую, А затем – на боковую!» Над мерным храпом табуна И звуки шорохов минуя, «Международника» могучая волна Степь объяла ночную; Здесь клялась небу навсегда, Росою степь была напоена, И ало-красная звезда Околыш украшала воина. «Кто был ничем, Тот будет всем». Кто победит в военном споре? Недаром тот грозил углом Московской брови всем довольным, А этот рвался напролом К московским колокольням. Не два копья в руке морей, Протянутых из Севера и Юга, Они боролись: раб царей И он, в ком труд увидел друга. Он начертал в саду невест, На стенах Красного Страстного: «Ленивый да не ест». Труд свят и зверолова. Молитве верных чернышей Из храма ветхого изгнав, Сюда войны учить устав Созвал любимых латышей. Но он суровою рукой Держал железного пути. Нет, я – не он, я – не такой! Но человечество – лети! Лицо Сибирского Востока, Громадный лоб, измученный заботой, И, испытуя, вас пронзающее око, О хате жалится охотою. Она одна, стезя железная! Долой, беседа бесполезная. Настанет срок, и за царем И я уйду в страну теней. Тогда беседе час. Умрем, И всё увидим, став умней. Когда врачами суеверий Мои послы во тьме пещеры Вскрывали ножницами мощи И подымали над толпой Перчатку женскую, жилицу Искусно сделанных мощей, Он умер, чудотворец тощий, Но эта женская перчатка Была расстрелом суеверий. И пусть конина продается, И пусть надсмешливо смеется С досок московских переулков Кривая конская головка, Клянусь кониной, мне сдается, Что я не мышь, а мышеловка. Клянусь ею, ты свидетель, Что будет сорванною с петель, И поперек желанья бога, Застава к алому чертогу, Куда уж и поставил ногу. Я так скажу – пусть будет глупо Оно глупцам и дуракам, Но пусть земля покорней трупа Моим доверится рукам. И знамена, алей коня, Когда с него содрали кожу, Когтями старое казня, Летите, на орлов похожи! Я род людей сложу, как части Давно задуманного целого. Рать алая! Твоя игра! Нечисты масти У вымирающего белого! Цветы нужны, чтоб скрасить гробы, А гроб напомнит: мы – цветы… Недолговечны, как они. Когда ты просишь подымать Поближе к небу звездочета, Или когда, как божья мать, Хоронишь сына от учета, Когда кочевники прибы́ли, Чтоб защищать твои знамена, Или когда звездою гибели Грядешь в народ одноплеменный, Москва, богиней воли подымая Над миром светоч золотой, Русалкой крови орошая Багрянцем сломанный устой, Ты где права? Ты где жива? Скрывают платья кружева. Когда чернеющим глаголем Ты встала у стены, Когда сплошным Девичьим Полем Повязка на рубце войны. В багровых струях лицо монгольского Востока, Славянскою волнуяся чертой, Стоит могуче и жестоко, Как образ новый, время, твой! Проклятый бред! Молчат окопы, А звезды блещут и горят… Что будет завтра – бой? Навряд. Курган языческой Рогнеде Хранил девические кости, Качал ковыль седые ости, И ты, чудовище из меди, Одетое в железный панцирь. На холмах алые кубанцы. Подобное часам, на брюхе броневом Оно ползло, топча живое! Ползло, как ящер до потопа, Вдоль нити красного окопа. Деревья падали на слом, Заставы для него пустое. И такал звонкий пулемет, Чугунный выставив живот. Казалось, Над муравейником окопа Сидел на корточках медведь, Неодолимый, точно медь, Громадной лапою тревожа. И право храбрых – смерти ложе – И стоны слабых: «Боже, боже!» Опять брони блеснул хребет, И вновь пустыня точно встарь, Но служит верный пулемет Обедню смерти, как звонарь. Друзьями верными несомая, По степи конница летела. Как гости, как старинные знакомые, Входили копья в крикнувшее тело. А конь скакал… Как желт зубов оскал! И долго медь с распятым Спасом Цепочкой била мертвеца. И, как дубина: «Бей по мордасам!» – Летит от белого конца. Трепещет рана, вся в огне, Путь пули – через богородиц. На золотистом скакуне Проехал полководец. Его уносит иноходец. За сторожевым военным валом Таилась конница врагов: «Журавель, журавушка, жур, жур, жур…» – Оттоль неслось на утренней заре. И доски каменные дур, Тоска о кобзаре, О строе колеса и палок, Семействе сказочных русалок. Но чу? «Два аршина керено́к Брошу черноглазой, Нож засуну в черенок, Поскачу я сразу. То пожаром, то разбоем Мы шагаем по земле. Черемуху воткнув в винтовку, Целуем милую плутовку. Мы себе могилу роем В серебристом ковыле». Так чей-то голос пел. Ворчал старик: «Им мало дедовской судьбы! Ну что ж, заслужите, пожалуй, – Отцы расскажут, так бывало, – Себе сосновые гробы, А лучше бы садить бобы Иль новый сруб срубить избы, Сажать капусту иль рожь, Чем эти копья или нож». Из Чартомлыцкого кургана, Созвавши в поле табуны, Они летят, сыны обмана, И, с гривой волосы смешав И длинным древком потрясая, Немилых шашками секут, И вдруг – все в сторону бегут, Старинным криком оглашая Просторы бесконечных трав, С звериным воем едет лава. Одни вскочили на хребты И стоя борются с врагом, А те за конские хвосты Рукой держалися бегом. Оставив ноги в стременах, Лицом волочатся в траве И вдруг, чтоб удаль вспоминать, Опять пануют на коне Иль ловят раненых на руки. И волчьей стаи шорохи и звуки… Как ветка старая сосны Гнездо суровое несет, Так снег Москвы в огне весны Морскою влагою умрет. И если слезы в тебе льются, В тебе, о старая Москва, Они когда-нибудь проснутся В далеком мере как волна. Но море Черное, страдая, К седой жемчужине Валдая, Упорно тянется к Москве. И копья длинные стучат, И голоса морей звучат. Они звучат в колосьях ржи, И в свисте отдаленной пули, И в час, когда блеснут ножи. Морские волны обманули, Свой продолжая рев валов, Седы, как чайка-рыболов, Не узнаваемы никем, Надели человечий шлем. Из белокурых дикарей И их толпы, всегда невинной, Сквозит всегда вражда морей И моря белые лавины. Чтоб путник знал о старожиле, Три девы печи сторожили, Как жрицы радужной пустыни. Но руки каменой богини, Держали ног суровый камень. Они зернистыми руками К ногам суровым опускались, И плоско мертвыми глазами Былых таинственных свиданий Смотрели каменные бабы. Смотрело Каменное тело На человеческое дело. «Где тетива волос девичьих? И гибкий лук в рост человека, И стрелы длинные на перьях птичьих, И девы бурные моего века?» – Спросили каменной богини Едва шептавшие уста. И черный змей, завит в кольцо, Шипел неведомо кому. Тупо животное лицо Степной богини. Почему Бойцов суровые ладони Хватают мертвых за виски И алоратные полки Летят веселием погони? Скажи, суровый известняк, На смену кто войне придет? – Сыпняк! Весна 1920211. Ладомир
И замки мирового торга, Где бедности сияют цепи, С лицом злорадства и восторга Ты обратишь однажды в пепел. Кто изнемог в старинных спорах И чей застенок там на звездах, Неси в руке гремучий порох – Зови дворец взлететь на воздух. И если в зареве пламен Уж потонул клуб дыма сизого, С рукой в крови взамен знамен Бросай судьбе перчатку вызова. И если меток был костер И взвился парус дыма синего, Шагай в пылающий шатер, Огонь за пазухою – вынь его. И где ночуют барыши, В чехле стекла, где царский замок, Приемы взрыва хороши И даже козни умных самок, Когда сам бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? О девушка, души косой Убийцу юности в часы свидания За то, что девою босой Ты у него молила подаяния. Иди кошачею походкой, От нежной полночи чиста. Больная, поцелуй чахоткой Его в веселые уста. И ежели в руке желез нет – Иди к цепному псу, Целуй его слюну. Целуй врага, пока он не исчезнет. Холоп богатых, улю-лю, Тебя дразнила нищета, Ты полз, как нищий, к королю И целовал его уста. Высокой раною болея, Снимая с зарева засов, Хватай за ус созвездье Водолея, Бей по плечу созвездье Псов! И пусть пространство Лобачевского Летит с знамен ночного Невского. Это шествуют творяне, Заменивши Д на Т, Ладомира соборяне С Трудомиром на шесте. Это Разина мятеж, Долетев до неба Невского, Увлекает и чертеж И пространство Лобачевского. Пусть Лобачевского кривые Украсят города Дугою над рабочей выей Всемирного труда. И будет молния рыдать, Что вечно носится слугой, И будет некому продать Мешок от золота тугой. Смерть смерти будет ведать сроки, Когда вернется он опять, Земли повторные пророки Из всех письмен изгонят ять. В день смерти зим и раннею весной Нам руку подали венгерцы. Свой замок цен, рабочий, строй Из камней ударов сердца. И, чокаясь с созвездьем Девы, Он вспомнит умные напевы И голос древних силачей И выйдет к говору мечей. И будет липа посылать Своих послов в совет верховный, И будет некому желать Событий радости греховной. И пусть мещанскою резьбою Дворцов гордились короли, Как часто вывеской разбою Святых служили костыли. Когда сам бог на цепь похож, Холоп богатых, где твой нож? Вперед, колодники земли, Вперед, добыча голодовки. Кто трудится в пыли, А урожай снимает ловкий. Вперед, колодники земли, Вперед, свобода голодать, А вам, продажи короли, Глаза оставлены – рыдать. Туда, к мировому здоровью, Наполнимте солнцем глаголы, Перуном плывут по Днепровью, Как падшие боги, престолы. Лети, созвездье человечье, Всё дальше, далее в простор, И перелей земли наречья В единый смертных разговор. Где роем звезд расстрел небес, Как грудь последнего Романова, Бродяга дум и друг повес Перекует созвездье заново. И будто перстни обручальные Последних королей и плахи, Носитесь в воздухе, печальные Раклы, безумцы и галахи. Учебников нам скучен щебет, Что лебедь черный жил на юге, Но с алыми крылами лебедь Летит из волн свинцовой вьюги. Цари, ваша песенка спета. Помолвлено лобное место. И таинство воинства – это В багровом слетает невеста. И пусть последние цари, Улыбкой поборая гнев, Над заревом могил зари Стоят, окаменев. Ты дал созвездию крыло, Чтоб в небе мчались пехотинцы. Ты разорвал времен русло И королей пленил в зверинцы. И он сидит, король-последыш, За четкою железною решеткой, Оравы обезьян соседыш, И яда дум испивши водки. Вы утонули в синей дымке, Престолы, славы и почет. И, дочерь думы-невидимки, Слеза последняя течет. Столицы взвились на дыбы, Огромив копытами долы, Живые шествуют – дабы На приступ на престолы. И шумно трескались гробы, И падали престолы. Море вспомнит и расскажет Грозовым своим глаголом – Замок кружев девой нажит, Пляской девы пред престолом. Море вспомнит и расскажет Громовым своим раскатом, Что дворец был пляской нажит Перед ста народов катом. С резьбою кружев известняк Дворца подруги их величий. Теперь плясуньи особняк В набат умов бросает кличи. Ты помнишь час ночной грозы, Ты шел по запаху врага, Тебе кричало небо «взы!» И ныло с бешенством в рога. И по небу почерк палаческий, Опять громовые удары, И кто-то блаженно-дураческий Смотрел на земные пожары. Упало Гэ Германии. И русских Эр упало. И вижу Эль в тумане я Пожара в ночь Купала. Смычок над тучей подыми, Над скрипкою земного шара, И черным именем клейми Пожарных умного пожара. Ведь царь лишь попрошайка И бедный родственник король, – Вперед, свободы шайка, И падай, молот воль! Ты будешь пушечное мясо И струпным трупом войн – пока На волны мирового пляса Не ляжет ветер гопака. Ты слышишь: умер «хох», «Ура» умолкло и «банзай», – Туда, где красен бог, Свой гнева стон вонзай! И умный череп Гайаваты Украсит голову Монблана – Его земля не виновата, Войдет в уделы Людостана. И к онсам мчатся вальпарайсы, К ондурам бросились рубли. А ты, безумец, постарайся, Чтоб острый нож лежал в крови. Это ненависти ныне вести, Их собою окровавь, Вам былых столетий ести В море дум бросайся вплавь. И опять заиграй, заря, И зови за свободой полки, Если снова железного кайзера Люди выйдут железом реки. Где Волга скажет «лю», Янцекиянг промолвит «блю», И Миссисипи скажет «весь», Старик Дунай промолвит «мир», И воды Ганга скажут «я», Очертит зелени края Речной кумир. Всегда, навсегда, там и здесь, Всем всё, всегда и везде! – Наш клин пролетит по звезде! Язык любви над миром носится И Песни песней в небо просится. Морей пространства голубые В себя заглянут, как в глазницы, И в чертежах прочту судьбы я, Как блещут алые зарницы, Вам войны выклевали очи, Идите, смутные слепцы, Таких просите полномочий, Чтоб дико радовались отцы. Я видел поезда слепцов, К родным протянутые руки, Дела купцов – всегда скупцов – Порока грязного поруки. Вам войны оторвали ноги – В Сибири много костылей, – И, может быть, пособят боги Пересекать простор полей. Гуляйте ночью, костяки, В стеклянных просеках дворцов, И пусть чеканят остряки Остроты звоном мертвецов. В последний раз над градом Круппа, Костями мертвых войск шурша, Носилась золотого трупа Везде проклятая душа. Ты населил собой остроги, Из поручней шагам созвучие, Но полно дыма и тревоги, Где небоскреб соседит с тучею. Железных кайзеров полки Покрылись толстым слоем пыли. Былого пальцы в кадыки Впилися судорогою были. Но, струны зная грыж, Одев рубахой язву, Ты знаешь страшный наигрыш, Твой стон – мученья разве?.. И то впервые на земле: Лоб Разина резьбы Коненкова, Священной книгой на Кремле, И не боится дня Шевченко. Свободы воин и босяк, Ты видишь, пробежал табун? То буйных воль косяк, Ломающих чугун. Колено ставь на грудь, Будь сильным как-нибудь! И, ветер чугунных осп, иди Под шепоты «господи, господи». И древние болячки от оков Ты указал ночному богу – Ищи получше дураков! – И небу указал дорогу. Рукой земли зажаты рты Закопанных ядром. Неси на храмы клеветы Ветер пылающих хором. Кого за горло душит золото Неумолимым кулаком. Он, проклиная силой молота, С глаголом молнии знаком. Панов не возит шестерик Согнувших голову коней, Пылает целый материк Звездою, пламени красней. И вы, свободы образа! Кругом венок ресницы тайн, Блестят громадные глаза Гурриэт эль-Айн. И изречения Дзонкавы Смешает с чистою росою, Срывая лепестки купавы, Сливянки с русою косой. Где битвы алое говядо Еще дымилось от расстрела, Идет свобода Неувяда, Поднявши стяг рукою смело. И небоскребы тонут в дыме Божественного взрыва, И объят кольцами седыми Дворец продажи и наживы. Он, город, что оглоблю бога Сейчас сломал о поворот, Спокойно стал, едва тревога Его волнует конский рот. Он, город, старой правдой горд И красотою смеха сила – В глаза небеснейшей из морд Жует железные удила; Всегда жестокий и печальный, Широкой бритвой горло нежь! – Из всей небесной готовальни Ты взял восстания мятеж, И он падет на наковальню Под молот – божеский чертеж! Ты божество сковал в подковы, Чтобы верней служил тебе, И бросил меткие оковы На вороной хребет небес. Свой конский череп человеча, Его опутав умной гривой, Глаза белилами калеча, Он, меловой, зажег огниво. Кто всадник и кто конь? Он город или бог? Но хочет скачки и погонь Набатный топот его ног. Туда, туда, где Изанаги Читала «Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колени Шанг-Ти, И седой хохол на лысой голове Бога походит на снег, Где Амур целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Индрой, Где Юнона с Цинтекуатлем Смотрят Корреджио И восхищены Мурильо, Где Ункулункулу и Тор Играют мирно в шашки, Облокотись на руку, И Хоккусаем восхищена Астарта, – туда, туда! Как филинов кровавый ряд, Дворцы высокие горят. И где труду так вольно ходится И бьет руду мятежный кий, Блестят, мятежно глубоки, Глаза чугунный богородицы. Опять волы мычат в пещере, И козье вымя пьет младенец, И идут люди, идут звери На богороды современниц. Я вижу конские свободы И равноправие коров, Былиной снов сольются годы, С глаз человека спал засов. Кто знал – нет зарева умней, Чем в синеве пожара конского, Он приютит посла коней В Остоженке, в особняке Волконского. И вновь суровые раскольники Покроют морем Ледовитым Лица ночные треугольники Свободы, звездами закрытой. От месяца Ая до недель «играй овраги» Целый год для нас страда, А говорят, что боги благи, Что нет без отдыха труда. До зари вдвоем с женой Ты вязал за снопом сноп. Что ж сказал господь ржаной? «Благодарствую, холоп». И от посева до ожина, До первой снеговой тропы, Серпами белая дружина Вязала тяжкие снопы. Веревкою обмотан барина, Священников целуемый бичом, Дыши, как вол, – пока испарина Не обожжет тебе плечо, И жуй зеленую краюху, Жестокий хлеб, – который дён? – Пока рукой земного руха Не будешь ты освобожден. И песней веселого яда Наполни свободы ковши, Свобода идет Неувяда Пожаром вселенской души. Это будут из времени латы На груди мирового труда И числу, в понимании хаты, Передастся правительств узда. Это будет последняя драка Раба голодного с рублем, Славься, дружба пшеничного злака В рабочей руке с молотком! И пусть моровые чернила Покроют листы бытия, Дыханье судьбы изменило Одежды свободной края. И он вспорхнет, красивый угол Земного паруса труда, Ты полетишь, бессмертно смугол, Священный юноша, туда. Осада золотой чумы! Сюда, глазниц небесных воры! Умейте, лучшие умы, Намордники одеть на моры! И пусть лепечет звонко птаха О синем воздухе весны, Тебя низринет завтра плаха В зачеловеческие сны. Это у смерти утесов Прибой человечества. У великороссов Нет больше отечества. Где Лондон торг ведет с Китаем, Высокомерные дворцы, Панамою надвинув тучу, их пепла не считаем, Грядущего творцы. Так мало мы утратили, Идя восстания тропой, – Земного шара председатели Шагают дерзкою толпой. Тринадцать лет хранили будетляне За пазухой, в глазах и взорах, В Красной уединясь Поляне, Дней Носаря зажженный порох. Держатель знамени свобод, Уздою правящий ездой, В нечеловеческий поход Лети дорогой голубой. И, похоронив времен останки, Свободу пей из звездного стакана, Чтоб громыхал по солнечной болванке Соборный молот великана. Ты прикрепишь к созвездью парус, Чтобы сильнее и мятежнее Земля неслась в надмирный ярус И птица звезд осталась прежнею. Сметя с лица земли торговлю И замки торга бросив ниц, Из звездных глыб построишь кровлю – Стеклянный колокол столиц. Решеткою зеркальных окон Ты, синих зарев неясыть, И ты прядешь из шелка кокон, Полеты – гусеницы нить. И в землю бьют, как колокола, Ночные звуки-великаны, Когда их бросят зеркала, И сеть столиц раскинет станы. Где гребнем облаков и ночном цвету Расчесано полей руно, Там птицы ловят на лету Летящее с небес зерно. Весною ранней облака Пересекал полетов знахарь, И жито сеяла рука, На облаках качался пахарь. Как узел облачный идут гужи, Руна земного бороны, Они взрастут, колосья ржи, Их холят неба табуны. Он не просил: «Будь добр, бози, ми И урожай густой роди!» – Но уравненьям вверил озими И нес ряд чисел на груди. А там муку съедобной глины Перетирали жерновами Крутых холмов ночные млины, Маша усталыми крылами. И речи знания в молнийном теле Гласились юношам веселым, Учебники по воздуху летели В училища по селам. За ливнями ржаных семян ищи Того, кто пересек восток, Где поезд вез на север щи, Озер съедобный кипяток. Где удочка лежала барина И барчуки катались в лодке, Для рта столиц волна зажарена И чад идет озерной водки. Озерных щей ночные паровозы Везут тяжелые сосуды, Их в глыбы синие скуют морозы И принесут к глазницам люда. Вот море, окруженное в чехол Холмообразного стекла, Дыма тяжелого хохол Висит чуприной божества. Где бросала тень постройка И дворец морей готов, Замок вод возила тройка Море вспенивших китов. Зеркальная пустыня облаков, Озеродей летать силен. Баян восстания письмен Засеял нивами станков. Те юноши, что клятву дали Разрушить языки, – Их имена вы угадали – Идут увенчанны в венки. И в дерзко брошенной овчине Проходить ты, буен и смел, Чтобы зажечь костер почина Земного быта перемен. Дорогу путника любя, Он взял ряд чисел, точно палку, И, корень взяв из нет себя, Заметил зорко в нем русалку. Того, что ни, чего нема, Он находил двуличный корень, Чтоб увидать в стране ума Русалку у кокорин. Где сквозь далеких звезд кокошник Горят Печоры жемчуга, Туда иди, небес помощник, Великий силой рычага. Мы в ведрах пронесем Неву Тушить пожар созвездья Псов, Пусть поезд копотью прорежет синеву, Взлетая по сетям лесов. Пусть небо ходит ходуном От тяжкой поступи твоей, Скрепи созвездие бревном И дол решеткою осей. Как муравей ползи по небу, Исследуй его трещины И, голубой бродяга, требуй Те блага, что тебе обещаны. Балды, кувалды и киюры Жестокой силой рычага В созвездьях ночи воздвигал Потомок полуночной бури. Поставив к небу лестницы, Надень шишак пожарного, Взойдешь на стены месяца В дыму огня угарного. Надень на небо молоток, То солнце на два поверни, Где в красном зареве Восток, – Крути колеса шестерни. Часы меняя на часы, Платя улыбкою за ужин, Удары сердца на весы Кладешь, где счет работы нужен. И зоркие соблазны выгоды, Неравенство и горы денег – Могучий двигатель в лони́ годы – Заменит песней современник. И властный озарит гудок Великой пустыни молчания, И поезд, проворный ходок, Исчезнет созвездья венчаннее. Построив из земли катушку, Где только проволока гроз, Ты славишь милую пастушку У ручейка и у стрекоз, И будут знаки уравненья Между работами и ленью, Умершей власти, без сомненья, Священный жезел вверен пенью. И лень и матерь вдохновенья, Равновеликая с трудом, С нездешней силой упоенья Возьмет в ладонь державный лом. И твой полет вперед всегда Повторят позже ног скупцы, И время громкого суда Узнают истины купцы. Шагай по морю клеветы, Пружинь шаги своей пяты! В чугунной скорлупе орленок Летит багровыми крылами, Кого недавно, как теленок, Лизал, как спичечное пламя. Черти не мелом, а любовью, Того, что будет, чертежи. И рок, слетевший к изголовью, Наклонит умный колос ржи. 22 мая 1920, 1921212. Ночь перед Советами
1
Сумрак серый, сумрак серый, Образ – дедушки подарок. Огарок скатерть серую закапал. Кто-то мешком упал на кровать, Усталый до смерти, без меры, В белых волосах, дико всклокоченных, Видна на подушке большая седая голова. Одеяла тепло падает на пол. Воздух скучен и жуток. Некто притаился, Кто-то ждет добычи. Здесь не будет шуток, Древней мести кличи! И туда вошло Видение зловещее. Согнуто крючком, Одето, как нищая, Хитрая смотрит, Смотрит хитрая! «Только пыли вытру я. Тряпки-то нет!» Время! Скажи! Сколько старухе Минуло лет? В зеркало смотрится – гробы. Но зачем эти морщины злобы? Встала над постелью С образком девичьим, Точно над добычей Стоит и молчит. «Барыня, а барыня!» – «Что тебе? Ключи?» Лоб большой и широкий, В глазах голубые лучи, И на виски волосы белые дико упали, Красивый своей мощью лоб окружая, обвивая. «Барыня, а барыня!» – «Ну что тебе?» – «Вас завтра повесят! Повисишь ты, белая!» Раненым зверем вскочила с кровати: «Ты с ума сходишь? Что с тобой делается? Тебе надо лечиться». – «Я за мукой пришла, мучицы… Буду делать лепешки. А времени, чай, будет скоро десять. Дай барыню разбужу». – «Иди спать! Уходи спать ложиться! Это ведьма, а не старуха. Я барину скажу! Я устала, ну что это такое, Житья от нее нет, Нет от нее покоя!» Опустилась на локоть, и град слез побежал. «Пора спать ложиться!» Радостный хохот В лице пробежал. Темные глазки сделались сладки. «Это так… Это верно… кровь у меня мужичья! В Смольном не была, А держала вилы да веник… Ходила да смотрела за кобылами. Барыня, на завтра мне выдайте денег. Барыня, вас завтра Наверно повесят…» Шепот зловещий Стоит над кроватью Птицею мести далеких полей. Вся темнота, крови засохшей цвета. И тихо уходит, Неясное шамкая: «На скотном дворе я работа́ла, Да у разных господ пыль выметала, Так и умру я, Слягу в могилу Окаянною хамкою».2
В Смольном девицей была, белый носила передник, И на доске золотой имя записано: первою шла. И с государем раза два или три, тогда был наследник, На балу плясала в общей паре. После сестрой милосердия спасала больных В предсмертном паре, в огне. В русско-турецкой войне Ходила за ранеными, дать им немного ласки и нег. Терпеливой смерти призрак, исчезни! И заболела брюшною болезнью, Лежала в бреду и жажде. Ссыльным потом помогала, сделалась красной, Была раз на собраньи прославленной «Воли Народной» – опасно как! – На котором все участники позже Каждый Качались, удавлены Шеями в царские возжи. Билися насмерть, боролись Лучшие люди с неволей. После ушла корнями в семью: Возилась с детьми, детей обучала. И переселилась на юг. Дети росли странные, дикие, Безвольные, как дитя, Вольные на всё, Ничего не хотя: Художники, писатели, Изобретатели. Отец ее был со звездою старик, Бритый, высокий, холодный. Теперь в друг друга, рукой книги и ржи, Вонзили обе ножи: Исчадье деревни голодной и сама столица на Неве, ее благородие. Мучения ножик и наслаждения порхал, муки и мести, Глаза голубые и глаза темной жести. Баба и барыня – Обе седые, в лохматых седых волосах. Да у барыни губы в белых усах. Радовались неге мести и муки. Потом долго ломала барыня руки На грязной постели. «Это навет!» А на кухне угли самовара Уж засвистели. «Скоро барин прийдет, Пусть согреет живот».3
Старуха снова пришла, но другая. «Слухай, барыня, слухай, Побалакай с старухой! Бабуся моя, Как молодкой была, Дородной была. И дородна и бела, Чернобровая, Что калач из печи! Что пирог! Славная девка была. Бела и здорова – Другую такую сыщи! И прослыла коровой. Парни-хлыщи! Да глаза голубые веселухи зака́янной! А певунья какая! Лесной птицы Глотка звонче ее. Заведет, запоет и с ума всех сведет. Утром ходит в лесу, Спою чешет косу И запоет! Бредят борзые и гончие, Барин коня своего остановит, Рубль серебряный девке подорит Барин лихой, седые усы… А барин наш был собачар. Псарню большую имел. И на псарне его Были черные псы да курчавые; Были белые все, Только чуточку ржавые. Скачут, как бесы, лижут лицо, Гнутся и вьются, как угри, в кольцо. А сколько визга, а сколько лая! Охота была удалая, Барыня милая! Воют в рога, Скачут и ищут зайца-врага. Белый снежочек, Скачет комочек – Заячьи сны, Белый на белом, Уши черны. Вот и начался по полю скок! Тонут в пыли Черные кони и бобыли! Тонут в сугробах и тонут! Гончие воют и стонут! Друг через друга Псы перескакивают, Кроет их вьюга, Кого-то оплакивают, Стонут и плачут. А барин-то наш скачет… и скачет, Сбруей серебряной блещет, Черным арапником молотит и хлещет. Зайчиха дрожит, уже вдовушка. Людям люба заячья кровушка! Зайца к седлу приторочит, Снежного зайца, нового хочет. Или ревет, заливается в рог. Лютые псы скачут у ног. Скачут поодаль холопы любимые, Поле белехонько, только кусточки. Свищут да рыщут, Свеженьких ищут собачие рточки. С песней в зубах, в зенках огонь! Заячий кончится гон, Барин удалый к бабе приедет, Даст ей щеночка: «Эй, красота! Вот тебе сын али дочка, Будь ему матка родимая. Барскому псу дай воспитание». Барину псы дорогая утеха, а бабе они – испытание! Бабонька плачет, Слезками полосы русые вымоет, Песик весь махонький – что голубок! Барская милость – рубль на зубок. «Холи и люби, корми молоком! Будет тебе богоданным сынком». Что же поделает бабонька бедная? Встанет у притолки бледная И закатит большие глаза – в них синева. Отшатнется назад, Схватит рукою за грудь И заохает, и заохает! Вся дрожит. Слезка бежит, Точно ножом овцу полоснули. Ночь. Все уснули. Плачет и кормит щеночка-сыночка Всю ночку Барская хамка, песика мамка! – Чужие ведь санки! Барин был строгий, правдивой осанки, С навесом суровым нависших бровей, И княжеских, верно, кровей. Был норовитый, Резкий, сердитый, Кудри носил серебристые – Помещик был истый, Длинные к шее спускались усы – Теперь он давно на небеси, Батюшка-барин! Будь земля ему пухом! Арапник шуршал: шу да шу! Полз, ровно змей. Как я заслышу, Девчонка, застыну и не дышу, Спрячуся в лен или под крышу. Шепчет, как змей: «Не свищу, а шкуру спущу». А барин арапником Вдруг как шарахнет Холопа по морде! Помещик был истый, да гордый. И к бабе пришел: «На, воспитай! Славный мальчик, крови хорошей, А имя – Летай! Щенка, стерегись, не души! Немилость узнаешь барской души! Эй, гайдуки! Дайте с руки! Из полы в полу!» И вот у бабуси щеночек веселый. А от деда у ней остался мальчишка, Толстый да белый, ну, словно пышка, Глаза голубые, Взять бы и скушать! Дед-то, нить, помер, зачах, Хоть жили оба на барских харчах! Сидит ни скамейке, Ерошит спросонку Свои волосенки. Такой кучерявый, такой синеглазый, Игры да смех любит, проказы! Бабка заплакала. Вся побледнела. И зашаталась, Бросилась в ноги, Серьгою звеня! «Барин, а барин! Спасите меня!» Ломит, ломает белые руки! Кукиш, матушка-барыня, кукиш! «Арапником будет Спаситель, Ты ему матка, Кабыздох был родитель». Вот и вся взятка! Кукиш. Щеночек сыночком остался. Хлопнулась о пол, забилась в падучей. Барин затопал, Стукнул палкою. Угрюмый ушел, не прощаясь, без ласки! Брови как тучи. Вот и жизнь началась! Так и заснули втроем, Два ведра на коромысле: черный щенок и сынок милоокий. На одной руке собака повисла, Тявкает, матерь собачую кличет, Темного волоса ищет. Сладко заснул зайцев сыщик! Грезит про снежное поле и скачку! Храпит собачка. А на другой Папаня родимый обнял ручками грудь, Ротиком в матерь родимую тычет, Песни мурлычет, Глаза протирает и нежится, Родненький, Темной возле родинки Или встает и сам с собою играет, Во сне распевает. Грезит, поет малое дитя, Ручкою тянет матери грудь, Жуть! Греет ночник. Здесь собачища С ртищем Зайчище ловить, в зубищах давить. А там мой отец, ровно скотец, На материнскую грудь Разевает свой ртец, Ейную грудку сосет мальчик слюнявый. И по сонной реке две груди – два лебедя плывут. А рядом повиснул щенок, будто рак, и чернеет, лапки – клешни! Чмок да чмок! Мордашкой звериной в бабкину грудь. Тяв да тяв, чернеет, всю искусал… собачьими зубками царапает. А рядом отец – бедный дурак… сирота соломенный, Горемычный, то весь смеется, то слезками капает. Вот и кормит всю ночку бабка, бабуся моя, Щеночка-сыночка, да вскрикнет, А после жутко примолкнет, затихнет. На груди своей матушки и собачьей няни Бедный папаня прилег. Дитя – мотылек, Грудь матери – ветка. Песик, шелковый, серый, курчавый комок, Теплым греет животиком, Сладким нежится котиком, А рядом папаня К собачьей няне И матери милой курчавится, Детским тянется ротиком К собачьей няне, целуется да балуется, Бьет, веселится мальчонка, колотит в ручонки, Тянется – замер. К матери, что темнеет на подушке большими, как череп, глазами, Чье золото медовое волнуется, чернеет, Рассыпалось на грудь светлыми, как рожь, волосами, Прилез весь голенький, сморщенный, глазками синея, Красненьким скотиком, Мальчик кудрявенький головой белобрысой, белесой В грудку родимую тычет, А в молоке нехватка и вычет! Матери неоткуда его увеличить! И оба висят, как повешенные. Лишь собачища Сопит, Черным чутьем звериным Нежную ищет сонную грудь, ползет по перинам. Мать… у нее на смуглом плече, прекрасно нагом, Белый с черными пятнами шелковый пес! Имя ему – Летай-Кабыздох! А на другом, Мух отгоняя, Мой папаня Над головкою сонную ручку занес… Чмокает губками сонными. Вот и плачет она тихо каждую ночку, Слезы ведрами льет. Грудь одна ее, знай, – милому сыну ее, синеглазому, Что синие глазки таращит и пучит. А другую сосет пес властелина ее. Шелковый цуцик Кровь испортил молодки невинную. Зачем я родилась дочкой? И по ночам в глазах целые ведра слез. Бабка как вскочит босая. Да в поле, да в лес! Темной ночкой, а буря шумит! И леший хохочет. И, бог сохрани, потревожить! – Мачехой псу быть не может! Вот и стала мамкой щеночка. Вот и плачет всю ночку. Осеннею ночкой – ведра слез! Черный шелковый комок на плечо ей слез. И зараз чмок да чмок. Собачье дитя и человечье, А делать нечего! Захиреешь в плетях, Засекут, подашь если в суд! – штаны снимай! Сдерут с кожи алый лоскут, положат на лавку! Здесь выжлец, с своим хвостищем, – А здесь мой отец, возле матери нищим! Суседские дети мух отгоняли. Барыня милая! Так-то в то время холопских детей С нечистою тварью равняли. Так они вместе росли – щенок и ребенок. И истощала же бабка! Как щепка. Задумалась крепко! Стала худеть! Бела, как снежок, Стала белей горностаюшки. В чем осталась душа? Да глазами молодка больно хороша! Мамка Летая Как зимою по воду пойдет да ведра возьмет – Великомученица ровно ходит святая! В черной шубе прозрачною стала, да темны глаза. Свечкою тает и тает. Лишь глаза ее светят, как звезды, Если выйдет зимою на воздух. Не жилец на белом свете, Порешили суседи! А Летай вырос хорош, День ото дня хорошея! Всегда беспокойный, Статный, поджарый, высокий, стройный! Скажут Летаю, прыгнет на шею И целует тебя по-собачьи! Быстрых зайцев давил, как мышей, Лаял, Барин в нем души не чаял! «Орлик, цуцик! цуцик!» И кормит цыплятами барских ручек. Всех наш Летай удивил. А умный! Даром собачьих книг нет! Вечно то скачет, то прыгнет! Только папаня, в темный денек, Раз подстерег И на удавке и удавил. И повесил Перед барскими окнами. У барина перед окнами Отродье песье Висит. Где его скок удалой, прыть! «Чтобы с ним господа передохнули, Пора им могилу рыть!» Утром барин встает, А на дворне вой! Смотрит: пес любимый, Удавленный папой, Висит как живой, Крутится, Машет лапой. Как осерчал! Да железной палкой в пол застучал: «Гайдук! Эй! Плетей!» Да плетьми, да плетьми! Так и папаню Засек до чахотки, Кашель красный пошел. На скамейке лежит – В гробу лежат краше! А бабку деревня Прозвала Собакевной. Сохнуть она начала, задушевная! Нет, не уйти ей от барского чиха! Рябиною стала она вянуть и сохнуть! Первая красавица, а теперь собачиха. Встанет и охнет: «Где вы, мои золотые, Дни и денечки? Красные дни и годочки, Желтые косы крутые?» Худая, как жердь, Смотрит, как смерть. Все уплыло и прошло! И вырвет седеющий клок. И стала тянуть стаканами водку, Распухшее рыло. Вот как оно, барыня, было! Черта ли? Женскую грудь собачонкою портили! Бабам давали псов в сыновья, Чтобы кумились с собаками. Мы от господ не знали житья! Правду скажу: Когда были господские – Были мы ровно не люди, а скотские! Ровно корова! Бают, неволю снова Вернуть хотят господа? Барыня, да? Будет беда, Гляди, будет большая беда! Что говорить! Больше не будем с барскими свиньями есть из корыт!»<4>
Пришла и шепчет: «Барыня, а барыня!» – «Ну что тебе, я спать хочу!» – «Вас скоро повесят! Хи-их-хи! Их-хи-хи! За отцов, за грехи!» Лицо ее серо, точно мешок, И на нем ползал тихо смешок! «Старуха, слушай, пора спать! Иди к себе! Ну что это такое, Я спать хочу!» Белым львом трясется большая седая голова. «Ведьма какая-то, Она и святого взбесит». – «Барыня, а барыня!» – «Что тебе?» – «Вас скоро повесят!» Барин пришел. Часы скрипят. Белый исчерченный круг. «Что у вас такое? Опять?» – «Барин мой миленький, Я на часы смотрю, Наверное, скоро будет десять!» – «Прямо покоя нет. Ну что это такое: Приходит и говорит, Что меня завтра повесят».<5>
В печке краснеет пламя зари, Ходит устало рука; Как кипяток молока, белые пузыри над корытом, облака. Льются мыльные стружки, льется мыльное кружево, Шумные, лезут наружу вон. А голубое от мыла корыто Горами снега покрыто, Липовое корыто. Грязь блестела глазами цыганок. Пены белые горы, как облака молока, на руки ползут, Лезут наверх, громоздятся. Добрый грязи струганок, Кулак моет белье, Руки трут; Это труд старой прачки. Синеет вода. Рубанок белья эти руки. «Эх, живешь хуже суки!» Долго возиться с тряпками тухлыми. Руки распухли веревками жил, голубыми, тугими и пухлыми. Дворник трубкой попыхивает, золотым огнем да искрами. Лесной бородач, из Поволжья лесистого, В доме здесь он служил. Белый пар из корыта Прачку закрыл простыней, Облаком в воздухе встал, Причудливым чудищем белым. Прачки лицо сумраком скрыто. К рукам онемелым, Строгавшим белье, Ломота приходит – знать, к непогоде. В алые зори печки огонь пары расцветил. На веревках простыни, штаны белели.<6>
«Дело известное, – Из сословья имущего! А белье какое! Не белье, а облако небесное! А кружева, а кружева на штанах – Тьма Господняя, – Тьма-тьмущая. Вчера и сегодня Ты им услуживай, А живи в сырых стенах! Вот я и мучаюсь, Стирать нанята, Чтобы снежной мглою Зацвели подштанники». Осень 1921213. Настоящее
I
Над белым сумраком Невы, У подоконника окна, Стоял, облокотись, Великий князь. «Мне мил был Сумрак сельской хаты И белая светелка, Соломенная челка Соломы черной и гнилой, Ее соломенный хохол И на завалинке хохол. И все же клич «царей долой» – Палит и жжет мне совесть. Лучи моего духа Селу убогому светили, Но неприязненно и сухо Их отрицали и не любили. «Он захотел капусты кислой», – Решил народный суд. А я ведро на коромысле Из березы пою, их вечером несут. Суровою волею голи глаголы висят на глаголе. Я, самый верхний лист На дереве царей, Подземные удары Слышу, глухой подземный гул. Нас кто-то рубит, Дрожат листы, И вороны летят далече. Чу! Чую, завтра иль сегодня Всё дерево на землю упадет. Железа острие нас рубит. И дерево дрожит предсмертной дрожью». Нежнее снежной паутины И снежных бабочек полна, Над черной бездною ночей Летела занавесь окна. И снежный камень ограничил, Белее чести богоматери, Его высокий полусвод. «Народ нас создал, возвеличил. Что ж, приходи казнить, народ! Какой холодный подоконник! И смотрит звезды – вещий сонник! Да, настежь ко всему людей пророческие очи! Придет ли смерть, загадочная сводня, И летнем по горлу защекочет, И всё приму сегодня, Чего смерть ни захочет. Но сердце темное пророчит. Что ждет меня – какая чаша? Ее к устам моим несу! Глухой острог, параша, Глухой острог, затерянный в лесу, Среди сугробов рудники И ты, печальная параша, Жестоких дней приятельница? Там полетят в меня плевки, Я буду для детей плевательница? Как грустен этот мир! Время бежит, перо писарей Торопится, Царей Зовет охолопиться… И буду я висеть на виле; А может, позже Меня удавят те же вожжи, Какими их давили. Смерть! Я – белая страница! Чего ты хочешь – напиши! Какое нынче вдохновение ее прихода современней Ранней весной, не осенью, Наше сено царей будет скошено. Разлукой с небом навсегда, Так наземь катится звезда Обетом гибели труда. Ах, если б снять с небесной полки Созвездий книгу, Где всё уж сочтено, Где жизни нить, и плахи нить, и смеха нить В едином шелке Ткало веретено, Покорно роковому игу, Для блеска звездных игол. И показать людей очей корыту Ее задумчиво-открытую… Мне станет легче извинить И палача и плаху, И даже лесть кровавому галаху. Часов времен прибою внемля, Подкошенный подсолнух, я Сегодня падаю на землю. И вот я смерти кмотр. Душа моя готовится на смотр Отдать отчет в своих делах. Что ждет меня? Глухой темничный замок, Ужимки за решеткой самок, Толпа безумных дураков И звон задумчивых оков? И я с окованной рукой, Нарушив прадедов покой, Сойду туда?»II
Голоса и песни улицы
1
Цари, цари дрожали, Цари, цари дрожат! На о На о́бух Господ, На о, На о́бух Господ, На о, На о́бух Царей, Царя, Царя, Народ, Наро, Наро́д, Кузнец, Моло́, Молотобоец. Наро́, Народ, Бере́т, Бере́ Берет Господ, На о, на о царей Берет, Кладет Народ, Моло́, Моло́тобоец Царе́ Царей На обух, Пусть ус Споко́ятся В Сиби́, В Сибирских су, Сугро, Сугробах белых. Господ, господ кладет, Кладет, кладет Народ, Кладет, Кладет Народ, Кладет белого царя, Кладет белого царя! Белого царя! Белою царя! – Царя! А мы! – А мы глядим, а мы, а мы глядим! Цари, цари дрожат! Они, они дрожат!Великий князь
Что? Уже начинается?(Смотрит на часы.)
Да, уже пора!2
Голоса с улицы
Мы писатели ножом! Тай-тай, та́рарай, Тай-тай, тарарай! Священники хохота, Трай-тай, тарара́й. Священники выстрелов. Запевалы смерти, Трай-тай, тарарай. Запевалы смерти. Отцы смерти. Трай-тай, тарарай. Отцы смерти. Трай-тай, тарарай. Сына родила! Трай-тай, тарарай. Сына родила! Невесты острога, Трай-тай, тарарай. Сына родила! Мыслители винтовкой, Трай-тай, тарарай. Мыслители брюхом!Великий князь
Да, уж начинается!.. В воду бросила! Тай-тай, тарарай. В воду бросила! Тай-тай, тарарай. В воду бросила!3
Кто? – Люди! А, бог на блюде! Подан. – Бог на брюхе! – С новым годом! Пли! Одною меньше мухой. Пли! Шашка сбоку! – К сроку! С глазами борова Свинья в котле. – Здорово. Рази и грей! В посылке – олово. Священник! – Милости просим! – Алых денег Бросим! – А, прапор! Добро пожаловать! Ты белый, а пуля ала ведь! Городовой на крыше! – Прицелы выше! Бог на пузе! – В общий узел! Площадь очищена! – Винтовка, пищи на! Красная подкладка. – Гладко! А вон проходит красота Вся в черном, но дымится дуло. – Ни черта! И она уснула. Священник! – Отсыпь свинцовых денег! В слуховом окне пулемет! – По черной лестнице – вперед! Пристав! – Чисто. Ты, белая повязка! – Салазки!! Лежат поленницей дров… Наколотили… кровь. Среди прицелов бешеных Сестра идет помешанная И что-то поет из «Князя Игоря». – Вдогонку! Выгорело. На палках бог! – Перо им в бок! Пьяные бары. – В Самару. Плывет белуга. – В Калугу. Идут, молчат, ни звука! Крадутся. – В Москву. Пли! На уру! – Тпру! Тах-тах-тах! Идут Люди закона С книгами! – Дать капли Дона! Выгоним! Идут – вновь Муху на бровь. – Стой! Здесь Страшный Суд! Пли! – Тут! Ловко! Река! Горит винтовка! Горит рука! Еще гробокопы! – Послать в окопы! С глазами жалости… – Малой! Стреляй! Не балуйся! Разве наши выстрелы Шага к смерти не убыстрили?4
Мы писатели ножом, Тай-тай, тара-рай! Мы писатели ножом. Священники хохота, Тай-тай, тара-рай, Священники хохота. Святые зеленой корки, Тай-тай, тара-рай, Святые зеленой корки. Запевалы паденья престолов, Тай-тай, тара-рай. Скрипачи на брюхе богатых, Тай-тай, тара-рай. Невесты острога, Тай-тай, тара-рай. Свободные художники обуха. Знайте: самый страшный грех – Пощади!Великий князь
Началось! Оно! Обугленное бревно Божественного гнева Качается, нацелилось в окно. Тай-тай, тара-рай. Художники обуха. Невесты острога. Тай-тай, тара-рай. В воду бросила! Тай-тай, тара-рай. В воду бросила! Мощи в штанах. Святые мощи в штанах. Тай-тай, тара-рай. Мощи в штанах. Раска́, Раскаты грома, Го ря, Горят хоромы.5
Ах вы, сони! Что по-барски Вы храпите целый день? Иль мила вам жизни царской Умирающая тень? Иль мила вам плетки древней Налетающая боль И в когтях цинги деревни Опухающая голь? Надевайте штаны В насекомых и дырах! Часы бар сочтены, Уж лежат на секирах. Шагайте, усачи И нищие девчонки! Несите секачи И с порохом бочонки! Братья и мужья, У кого нет ножа, У того есть мышьяк! Граждане города, В конском дымящемся кале Вас кричат ножи, Вас ножи искали! Порешили ножи, Хотят лезвием Баловаться с барьем, По горлу скользя. Целоваться с барьем, Миловаться с барьем, Лезвием секача Горло бар щекоча, Летнем скользя, – А без вас нельзя! Иди, беднота, Столичная голь! Шагай, темнота, Как знамя глаголь! Несите нажим с Горячего поля Войском нищим, войском нищим, Чем блеснув за голенищем, Хлынем! Хлынем! Вынем! Вынем! Жарко ждут ножи – они зеркало воли.6
Песня сумрака
Видит Господь, Нет житья от господ. Одолели – одолели! Нас заели. Знатных старух, Стариков со звездой Нагишом бы погнать, Ясноликую знать. Всё господское стадо, Что украинский скот, Толстых, седых, Молодых и худых, Нагишом бы всё снять, И сановное стадо, И сановную знать Голяком бы погнать, Чтобы бич бы свистал, В звездах гром громыхал. Где пощада? Где пощада? В одной паре с быком Господа с кадыком, Стариков со звездой Повести голяком И погнать босиком, Пастухи чтобы шли Со взведенным курком. Одолели! Одолели! Околели! Околели! Всех дворян бы согнать И сановную знать Там, где бойни. Нам спокойней! Нам спокойней! Видит Господь, Нет житья от господ. Ухарь боец Как блеснет тесаком!7
Прачка
Я бы на живодерню На одной веревке Всех господ провела Да потом по горлу Провела, провела! Я белье мое всполосну, всполосну! А потом господ Полосну, полосну! И-их! – Крови лужица! – В глазах кружится! Чтобы лучше целоваться И шептать ответом «да», Скоро в тени одеваться Будут господа. Как нарядится барыня: Серьги – имение, целое имение! Как за стеклом – голодным харчи, Их сияют лучи. Тень кругом глаз, чтобы глаза удлинять. Шляпа – «Ой, мамочка! Не бей меня!» Не шляпа, солнца затмение! Две сажени! Цветы да игла! Серьги трясутся в ушах. А шелка – ведь это целый ушат! Зорькой небесной себя опоясывая, Снежною бурей вьюгу на землю сбрасывают Дочерям богатея. Такая затея! Я бы не могла. Ты пройдешь, удалый ножик, Около сережек! Бары, дело известное! Из сословья имущего. А белье какое! Не белье, а облако небесное! Тьма-тьмущая, Тьма Господняя – Кружева у барышни на штанах. Вчера и сегодня ты им услуживай, А живи в сырых стенах.8
Голоса с улицы
Разве мы От холоди не ныли Вдвоем в землянке? И от усталости не падали? Не спали, сытые, на теплой падали? Не спали на ходу, склонивши голову? Так лейте пули – вот свинец и олово! Я, дочь народа, Простая чернорабочая, Сегодня вас свободой потчую! Бог! Говорят, на небе твоя ставка! Сегодня ты – получаешь отставку! На вилы, Железные вилы подымем Святое для всех господа имя! Святое, седое божие имя. На небе громовержец, Ты на земле собольи шубы держишь? Медники глухого переулка! Слышите раскаты грома гулкого: Где чинят бога? Будет на чуде ржа, И будет народ палачом без удержа. Речи будут его кумачовые. Живи. Будут руки его пугачевые В крови! Это время кулачных боев Груди народной и свинцовой пули. Слышите дикий, бешеный рев: Люди проснулись. Теперь не время мыть рубашки: Иди, язык гремучих шашек! Мыслители винтовкой. Раска́, Раскаты грома. Горя́, Горят хоромы. На о́, На о́бух господ…9
Другие
Чтоб от жен и до наложницы Господ нес рысак, Сам господь, напялив ножницы, Прибыль стриг бумаг. Тучной складкою жирели Купцов шеи без стыда, А купчих без ожерелий Не видать бы никогда. Были сложены обедни. А где бог бедных? Кто бы рабочим Утром дал бы передник И сказал «носи»? Друг бедноты на небеси. И утром принес бы стакан молока? Наш бог в кулаке, Наша вера кулака! А наша рабочая темь Стоит, дрожа. Виновата тем, – В кулаке нет ножа. Ладонь без ножа. Хлынем, братушки, хлынем Войском нищим. Вынем, братушки, вынем Нож в голенище. Ярославль! Ты корову На крышу поставил! Рязань, ты телят молодцом Режешь огурцом. Волга! Все за дворцом. Берем божбой Святой разбой!10
Гож нож! Раскаты грома. Нож гож, Пылай, хоромы.11
Великий князь
О, роковой напев судьбы, Как солнце окровавило закатом Ночные стекла тех дворцов, А всё же стекла голубы! Не так ли я, воспетый катом, Железным голосом секиры, Вдруг окровавлю жажду шири?<12>
Рыжие усики. – Что, барышня, трусите? Гноя знак. – Что, барышня, боязно? Ноябрь 1921214. Ночной обыск
На изготовку! Бери винтовку. Топай, братва: Направо 38. Сильнее дергай! – Есть! – На изготовку! Лезь! – Пожалуйте, Милости просим! – Стой, море! – Врешь, мать Седая голова, Ты нас – море – не морочь. Скинь очки. Здесь 38? – Да! Милости просим, Дорогие имениннички! – Трясется голова, Едва жива. – Мать! Как звать? Живее веди нас, мамочка! Почтенная Мамаша! Напрасно не волнуйтесь, Все будет по-хорошему. Белые звери есть? – Братишка! Стань у входа. – Сделано – чердак. – Годок, сюда! – Есть! – Топаем, море, Закрутим усы! Ловко прячутся трусы… Железо засунули, Налетели небосые, Расхватали все косые, Белые не обманули их. – А ты, мать, живей Поворачивайся! И седые люди садятся На иголку ружья. А ваши мужья? Живей неси косые, Старухи, мне, седому Морскому волку! Слышу носом, – Я носом зорок, – Тяну, слышу верхним чутьем: Белые звери есть. Будет добыча. – Брат, чуешь? Пахнет белым зверем. Я зорок. А ну-ка, гончие – братва! – Вот, сколько есть – И немного жемчужин. – Сколько кусков? – Сорок! – Хватит на ужин! Что разговаривать! Бери, хватай! Братва, налетай! И только! Не бары ведь! Бери, Сколько влезет. Мы не цари Сидеть и грезить. Братва, налетай, братва, налетай! Эй, море, налетай! Налетай орлом! – Даешь? Давай, сколько влезет! – Стара, играй польку, Что барышня грезит.Голос
Мама, а мама! – Мать, а мать! Держи ответ! Белой сволочи нет? – Завтра – соберется совет. А я стара, гость! Алое, белое, Белая кость. Где тут понять? И белые волосы уже у меня. Я – мать. – Птах! Птах! Выстрел, дым, огонь! – Куда, пострел! Постой! Оружье, руки вверх! – В расход его, братва! – Стань, юноша, у стенки. Вот так! Вот так! Волосики русики, Золотые усики. – У печки стой, белокурый, Скидай с себя людские шкуры! – Гость моря, виноват За промах – Рука дрожала. Шалунья пуля. – Смеется, дерзость или наглость? Внести в расход? – Даешь в лоб, что ли, Товарищи братва, Морские гости? О вас молва: вы – великодушны. – Вполне свободно! Это море может, Эту милость может Море оказать! – Старуха, повернись назад. – Даем в лоб, что ли, Белому господину? – Моему сыну? – Рубаху снимай, она другому пригодится, В могилу можно голяком. И барышень в могиле – нет. Штаны долой И все долой! И поворачивайся, не спи – Заснуть успеешь. Сейчас заснешь, не просыпаясь! – Прощай, мама, Потуши свечу у меня на столе. – Годок, унеси барахло. Готовься! Раз! два! – Прощай, дурак! Спасибо За твой выстрел. – А так!.. За народное благо, Трах-тах-тах! Трах! – Спасибо, а какое? С голубиное яйцо Или воробьиное? Вот тебе и загадка! Готов голубчик, Ноги вытянул. А субчик был хорош, И маска хороша. Еще два выстрела: Вот этот в пол, А этот в бога! Вот так! Сюда! Пошлем его к чертям собачьим. Мы с летучим морем За веселыми плечами Над рубахой белой, Над рубахой синей, Увидим – бабахнем! Штаны у меня широки, В руке торчит железо, И не седой бобер, А море синее Тугую шею окружило И белую рубашку. Богу мать. – Браток, что его, поднимать? Нести? Оставить – некрасиво. – Плевать! Нам что! – Мама! – А это что за диво: И будто семнадцати лет, А волосы – снег! И черные глаза Живые! – Море приносит с собою снег, Я в четверть часа поседела. Если не нравится смотреть на старуху, Не смотрите, отвернитесь! Владимир! Володя! Владимир! Мама! Он голый! – Барышня! Трупы холода не знают! И мертвые сраму не имут. – Дела! Дела! Вольно! – Подлец! Смеется после смерти! – А рубашек таких Я не нашивал – хороша! И пятен крови нет, Полотно добротное. – Вошел и руку на плечо. – Годок! Я гада зарубил! Лежит на чердаке У пулемета. – Эге-ге! – Где мать? – Очень белая барышня, Так вы побелели Еще до нашего прихода? Морского ветра еще и не дуло, Морем и ветром еще и не пахло, А здесь уже выпал снег На чердак и на головы. Торчало пулеметов дуло Из-под перины? Ничего, ничего. Это ранней весной Вишневый цвет Упал вам на голову снегом. Встряхнитесь, осыпятся листья, Милая барышня. Покрывало для гроба Из цветов хорошее. – Это и только! – Браток! Что ты ее мучаешь? – А ну-ка, Милая барышня в белом, К стенке! – Этой? Той? Какой? Я го-то-ва! – А ну, к чертям ее! – Стой! Довольно крови! Поворачивайся, кукла! – Крови? Сегодня крови нет! Есть жижа, жижа и жижа. От скотного двора людей, Видишь, темнеет лужа? Это ейного брата Или мужа. – Владимир! – Мама! – Ты бы сказала «папа». Это было бы веселее! Где он, в бегах? В орловских рысаках? Дал рыси и прибавил ходу! А может, скаковой любимец? И обгоняет в скачках? Ну, кукла, уходи, Пошла к себе! Глаз не мозоль! Здесь будет попойка. Не плачь, сестрица, Здесь не место вольным. У нас есть тоже сестры В деревнях и лесах, А не в столицах. Иди себе спокойно, человек, Своей дорогой. Раз зеркало, я буду бриться! И время есть. Криво стекло, Косая рожа. Друзья в окно Все это барахло – Ему здесь быть негоже. И сделаем здесь море, Чтоб волны на просторе. Да только чайки нет. А зеркало, его долой – Бах кулаком! – Себя окровянил. Склянка красных чернил это зеркало. – Вояка с зеркала куском! Порой жестоки зеркала. Они Упорно смотрят, И судей здесь не надо – Поболее потемок! – Годок! Дай носовой платок! – Владимир! Володя! – Он вымер! Он вымер Сегодня! Вымер и вымер! Тебя не услышит! Согнутый на полу Владеет миром. И не дышит. – А это что? Господская игра, Для белой барышни потеха? Сидит по вечерам И думает о муже, Бренчит рукою тихо. И черная дощечка За белою звучит И следует, как ночь За днем упорно. Кто играет из братвы? – А это можем… Как бахнем ложем… Аль прикладом… Глянь, братва, Топай сюда, И рокот будет, и гром, и пение… И жалоба, Как будто тихо Скулит под забором щенок. Щенок, забытый всеми. И пушек грохот грозный вдруг подымется, И чей-то хохот, чей-то смех подводный и русалочий. Столпились. Струнный говор, Струнный хохот, тихий смех. – Прикладом бах! Бах прикладом! – Смейся море! Море смейся! Большой кулак бури, Сегодня ходи по ладам… В окопы неприятеля снарядом… раз! В землянках светлый богоматери праздник, Где земляки проводят тихо. Нужду сначала кормят Белым телом, А потом черней. Две смены, две рубашки: Одна другой тесней. Одно и то же кушанье двум едокам. Ишь, зазвенели струны! Умирать полетели. Долго будет звенеть Струнная медь. – Вдарь еще разок, Годок! Гудит, как пчелы, Когда пчеляк отымет мед. Бах! Бах! – Ловко, моряки. Наше дело морское: Бей и руши! Бей и круши! Ломите, ломайте. Грабьте и грабьте, Морские лапти! Смелей! Не робь! Не даром пухли, Чинить найдутся, А эту рухлядь, Этот ящик, где воет цуцик, На мостовую За окно! Пугать соседок Эдак! – Это дело подходящее, Море, бурное оно. Это по-нашенски, А не по-нищенски. Вдребезги Ббаам-паах! – Нынче море разгулялось, Море расходилось, Море разошлось. Экая сила. – Никого не задавило? – Никак нет. Только трех муравьев, Вышедших на разведку. Пылища. Силища! – Где винтовка, детка? Годок, сними того грача? – Сейчас! Tax! Готов. Попал? – Упал. Мертв. А где старуха? Мать, ты здесь? Жратвы! Вина и лососины! И скатерть белую. Цветы. Стаканы. Будет пир, как надо. Да чтоб живей, И мясо и жаркого, Не то согнем в подкову! – Годочки, будем шамать, Ашать, браточки, кушать. Жрать. Сейчас пойдет работа-мама! И за скулою затрещит. А все же пахнет, От мертвых дух идет. – Владимир! – Владимира ей надо – стонет! А нас забыла, нас не хочет! Давайте все морочить: – Мы здесь! – Я здесь, Оля! – Я здесь, Нина! – Я здесь, Верочка! – Мяу! – Вот смехота! Тонким голосом Кричи по-бабьему. – Ребята, не балуйтесь У гроба, у смерти. – А ловко ты Прикладом вдарил. Как оно запоет, Зазвенит, заиграет и птицей, умирая, полетело. Аж море в непогоду. Слушай, там в дверях Дощечка: «Прошу стучать». Браток поставил «ка» – вышло: «Прошу скучать» На дверях гроба молодого, Где сестры мертвого и вдовы. Ха-ха-ха! Какое дышло. – И точно, есть о ком Скучать той барышне-вдове С седыми волосами. Мы, ветер, принесли ей снег. Ветер моря. Море, так море! Так, годочки, Мы пройдем, как смерть И горе. С нами море! С нами море! Трупы валяются. Море разливанное, Море – ноздри рваные, Да разбойничье, Беспокойничье. Аж грозой кумачовое, Море беспокойничье, Море Пугачева. – Я верхним чутьем Белого зверя услышал. Олень! Слышу, Пахнет белым! Как это он бахнет! За занавеской стоял, Притаился, маменькин сынок. Дал промах И смеется. Я ему: «Стой, малой!» А он: «Даешь в лоб, что ли?» «Вполне свободно», – говорю. Трах-тах-тах! Да так весело Тряхнул волосами, Смеется, Точно о цене спрашивается, Торгуется. Дело торговое, Дело известное, Всем один конец, А двух не бывать. К богу мать! А, плевать! «Вполне свободно, – говорю, – Это можно, Эту милость может Море оказать». Трах-тах-тах! Вот как было: Стоит малой: «Даешь в лоб, что ли?» – «Вполне свободно», – Отвечаю. Трах-тах-тах! Дым! И воздух обожгло. Теперь лежит, златоволосый, Чтобы сестра, рыдая, целовала. «Киса, моя киса, Киса золотая». Девочка, куда? Пропуск на кошку! Стой! – Годок, постой, Нет пропуска на кошку. В окошко! – Как звать? – Марусей. – Мы думали, маруха, Это лучше. – За стол садитесь, гости. – Прямая, как сосна, Старуха держится. А верно, ей сродни Владимир. Сын. Она угрюма и зловеща. «Из-под дуба, дуба, дуба!» Часам к шести. Налей вина, товарищи. Чтоб душу отвести! Пей, море, Гуляй, море, Шире, больше! Плещись! Чтоб шумело море, Море разливанное! «Свадьбу новую справляет Он веселый и хмельной… и хмельной»… Вот денечки. – Садись, братва, за пьянку! За скатерть-самобранку. «Из-под дуба, дуба, дуба!» Садись, братва! – Курится? – Петух! – О, боже, боже! Дай мне закурить. Моя-тоя потухла. Погасла мало-мало. Седой, не куришь – там на небе? – Молчит. Себя старик не выдал, Не вылез из окопа. Запрятан в облака. Все равно. Нам водка, море разливанное, А богу – облака. Не подеремся. Вон бог в углу – И на груди другой В терну колючем, Прикованный к доске, он сделан, Вытравлен Порохом синим на коже – Обычай морей. А тот свечою курит… Лучше нашей – восковая! Да, он в углу глядит И курит. И наблюдает. На самоварную лучину Его бы расколоть! И мелко расщепить. Уголь лучшего качества! Даром у него Такие темно-синие глаза, Что хочется влюбиться, Как в девушку. И девушек лицо у бога, Но только бородатое. Двумя рядами низко Струится борода, Как сумрачный плетень Овечьих стад у озера, Как ночью дождь, Глаза передрассветной синевы, И вещие и тихие, И строги и прекрасны, И нежные несказанной речью, И тихо смотрят вниз Укорной тайной, На нас, на всю ватагу Убийц святых, На нашу пьянку Убийц святых. – Смотри, сойдет сюда И набедокурит. А встретится, взмахнет ресницами, И точно зажег зажигалкой. Темны глаза, как небеса, И тайна вещая есть в них И около спокойно дышит. Озера синей думы! – Даешь в лоб, что ли? Даешь мне в лоб, бог девичий, Ведь те же семь зарядов у тебя. С большими синими глазами? И я скажу спасибо За письма и привет. – Море! Море! Он согласен! Он взмахнул ресницами, Как птица крыльями. Глаза летят мне прямо в душу, Летят и мчатся, машут и шумят. И строго, точно казнь, Он смотрит на меня в упорном холоде! О ужасе рассказами раскрытые широко, Как птицы мчатся на меня, Синие глаза мне прямо в душу. Как две морские птицы, большие, синие и темные, В бурю, двя буревестника, глашатаи грозы. И машут и шумит крылами! Летит! Торопится. Насквозь! Насквозь! Ныряют на дно души. Так… Я пьян… И это правда… Но я хочу, чтоб он убил меня Сейчас и здесь над скатертью, Что с пятнами вина, покрытая стеклом. – Шатия-братия! Убийцы святые! В рубахах белых вы, Синея полосатым морем, В штанах широких и тупых внизу и черных, И синими крылами на отлете, за гордой непослушной шеей, Похожими на зыбь морскую и прибой, На ветер моря голубой, И черной ласточки полетом над затылком, Над надписью знакомой, судна именем, О, говор родины морской, плавучей крепости, И имя государства воли! Шатия-братия, Бродяги морские! Ты топаешь тупыми носками По судну и земле, И в час беды не знаешь качки, Хоть не боишься ее в море. Сегодня выслушай меня: Хочу убитым пасть на месте, Чтоб пал огонь смертельный Из красного угла. Оттуда бы темнело дуло, Чтобы сказать ему – дурак! Перед лицом конца. Как этот мальчик крикнул мне, Смеясь беспечно В упор обойме смерти. Я в жизнь его ворвался и убил, Как темное ночное божество, Но побежден его был звонким смехом, Где стекла юности звенели. Теперь я бога победить хочу Веселым смехом той же силы, Хоть мрачно мне Сейчас и тяжко. И трудно мне. – Бог! я пьян… – Назюзился… наш дядя… – А время на судно идти. – Идем! – Я пьян, но слушай… Дай закурим! И поговорим с тобой по душам. Много ты сделал чудес, Только лишь не был отцом. Что там! Я знаю! Ты девушка, но с бородой. Ты ходишь в пиве и рвешь цветы, Плетешь венки И в воды после смотришься. Ты синеглазка деревень, Полей и сел, С кудрявою бородкой – Вот ты кто. Девица! Хочешь, Подарю духи? А ты назначишь День свиданья, И я приду с цветами Утонченный и бритый, Томный. Потом по набережной, По взморью, мы пройдемся, Под руку, Как надо? Давай поцелуемся, Обнимемся и выпьем на «ты». Иже еси на небеси. – Братва, погоди, Не уходи, не бесись! – Русалка С туманными могучими глазами, Пей горькую! Та к. – Братва! Мы где увидимся? В могиле братской? Я самогона притащу, Аракой бога угощу, И созовем туда марух. На том свете Я принимаю от трех до шести. Иди смелее: Боятся дети, А мы уж юности – «прости». Потом святого вдрызг напоим, Одесса-мама запоем. О боги, боги, дайте закурить! О чем же дальше говорить. Пей, дядько, там в углу! Ай! Он шевелит устами И слово произнес… из рыбьей речи. Он вымолвил слово, страшное слово, Он вымолвил слово, И это слово, о, братья, «Пожар!» – Ты пьян? Нет, пьяны мы. – До свиданья на том свете. – Даешь и лоб, что ли? – Старуха! Ведьма хитрая! Ты подожгла. Горим! Спасите! Дым! – А я доволен и спокоен. Стою, кручу усы, и все как надо. Спаситель! Ты дурак. – Дает! Старшой, дает! В приклады! Дверь железная! Стреляться? Задыхаться?Старуха
(показываясь)
Как хотите! 7–11 ноября 1921215. Шествие осеней Пятигорска
1
Опустило солнце осеннее Свой золотой и теплый посох, И золотые черепа растений Застряли на утесах, Сонные тучи осени синей, По небу ясному мечется иней. Лишь золотые трупики веток Мечутся дико и тянутся к людям: «Не надо делений, не надо меток, Вы были нами, мы вами будем». Бьются и вьются, Сморщены, скрючены, Ветром осенним дико измучены. Тучи тянулись кверху уступы. Черных деревьев голые трупы Черные волосы бросили нам, Точно ранним утром, к ногам еще бо́сым С лукавым вопросом: «Верите снам?» С тобой буду на «ты» я, Сады одевают сны золотые. Все оголилось. Золото струилось. Вот дерева призрак колючий: В нем сотни червонцев блестят! Скряга, что же ты? Пойди и сорви, Набей кошелек! Или боишься, что воры Большие начнут разговоры?2
Грозя убийцы лезвием, Трикратною смутною бритвой, Горбились серые горы: Дремали здесь мертвые битвы С высохшей кровью пены и пана. Это Бештау грубой кривой, В всплесках камней свободней разбоя, Похожий на запись далекого звука, На А или У в передаче иглой И на кремневые стрелы Древних охотников лука. Полон духа земли, облаком белый, Небу грозил боевым лезвием, Точно оно – слабое горло, нежнее, чем лен. Он же – кремневый нож В грубой жестокой руке, К шее небес устремлен. Но не смутился небесный объем: Божие ясно чело. Как прокаженного, крепкие цепи Бештау связали, К долу прибили Ловкие степи: Бесноватый дикарь – вдалеке! Ходят белые очи, и носятся полосы, На записи голоса, На почерке звука жили пустынники. В светлом бору, в чаще малинника Слушать зарянок И желтых овсянок. Жило́ю была Горная голоса запись. Там светлые воды и камни-жрецы, Молились им, верно, седые отцы.3
Кувшины издревле умершего моря Стояли на страже осени серой. Я древнюю рыбку заметил в кувшине. Проснулась волна это Мертвого моря. Из моря, ставшего серым строгим бревном, Напилены доски, орлы Умной пилой человека. Лестниц-ручьев, лада песен морей, Шероховаты ступени, Точно коровий язык, серый и грубый, шершавый. Белые стены на холмы вели По трупам усопшей волны, усопшего моря, Туда, на пролом, Где орел и труп моря Крылья развеял свои высоко и броско, Точно острые мечи. Над осени миром покорнее воска Лапти шагают по трупам морей, Босяк-великан беседует тихо Со мной о божиих пташках. Белый шлем над лицом плитняковым холма, степного вождя, Шероховатые шершавы лестниц лады, Песен засохшего моря! Серые избы из волн мертвого моря, из мертвого поля для бурь! Для китов и для ящеров поляна для древней лапты стала доской. Здесь кипучие ключи Человеческое горе, человеческие слезы Топят бурно и смех и пение. Сколько собак, Художники серой своей головы, Стерегут Пятигорск. В меху облаков Две Жучки, Курган Золотой, Машук и Дубравный. В черные ноздри их кто поцелует? Вскочат, лапы кому на плечо положив? А в городе смотрятся в окна Писатели, дети, врачи и торговцы! Н волос девушки каждой – небоскреб тысяч людей! Эти зеленые крыши, кик овцы, Тычутся мордой друг в друга и дремлют. Ножами золотыми стояли тополя, И девочка подруге кричит задорно «ля». Гонит тучи ветреный хвост.4
Осени скрипки зловещи, Когда золотятся зеленые вещи. Ветер осени Швырял листьями в небо, горстью любовных писем, И по ошибке попал в глаза (дыры неба среди темных веток). Я виноват, Что пошел назад. Тыкал пальцем в небо, Горько упрекая, И с земли поднял и бросил В лицо горсть Обвинительных писем, Что поздно.5
Плевки золотые чахотки И харканье золотом веток, Карканье веток трупа золотого, веток умерших, Падших к ногам. Шурши, где сидела Шура, на этой скамье, Шаря корня широкий сапог, шорох золотого, Шаря воздух, садясь на коней ветра мгновенного, В зубы ветру смотря и хвост подымая, Табор цыган золотых, Стан бродяг осени, полон охоты летучей, погони и шипа.6
Разбейся, разбейся, Мой мозг о громады народного «нет». Полно по волнам носиться Стеклянной звездою. Это мне над рыжей степью Осени снежный кукиш! А осень – золотая кровать Лета в зеленом шелковом дыме. Ухожу целовать Холодные пальцы зим.7
Стали черными, ослепли золотые глазята подсолнухов, Земля – мостовая из семенух. Сколько любовных речей Ныне затоптано в землю! Нежные вздохи Лыжами служат моим сапогам, Вместе с плевком вспорхнули на воздух! Это не сад, а изжога любви, Любви с семенами подсолнуха. Октябрь – ноябрь 1921216. Берег невольников
Невольничий берег, Продажа рабов Из теплых морей, Таких синих, что болят глаза, надолго Перешел в новое место: В былую столицу белых царей, Под кружевом белым Вьюги, такой белой, Как нож, сослепа воткнутый кем-то в глаза, Зычно продавались рабы Полей России. «Белая кожа! Белая кожа! Белый бык!» – Кричали торговцы. И в каждую хату проворнее вора Был воткнут клинок Набора. Пришли; смотрят глупо, как овцы, Бьют и колотят множеством ног. А ведь каждый – у мамыньки где-то, какой-то Любимый дражайший сынок. Матери России, седые матери, – Войте! Продаватели Смотрят им в зубы, Меряют грудь, Щупают мышцы, Тугую икру. «Повернись, друг!» Врачебный осмотр. Хлопают по плечу: «Хороший, добрый скот!» Бодро пойдет на уру Стадом волов, Пойдет напролом, Множеством пьяных голов, Сомнет и снесет на плечах Колья колючей изгороди, И железным колом С размаха, чужой Натыкая живот, Будет работать, Как дикий скот Буйный рогом. Шагайте! С богом! Прощальное баево. Видишь; ясные глаза его Смотрит с белых знамен. Тот, кому вы верите, «Бегает, как жеребец. Рысь! Сила! Что, в деревне, Чай, осталась кобыла? Экая силища! Какая сила! Ну, наклонись!» Он стоит на холодине наг, Раб белый и голый. Деревня! В одежды визга рядись! Ветер плачевный Гонит снега стада На молодые года, Гонит стада, Сельского хама рог, За́ море. Кулек за кульком, Стадо за стадом брошены на палубу, Сверху на палубы строгих пароходов, Мясо, не знающее жалости, Не знающее жалобы, Бросает рука Мировой наживы, Игривее шалости. Страна обессынена! А вернется оттуда Человеческий лом, зашагают обрубки, Где-то по дороге, там, на чужбине, Забывшие свои руки и ноги. Бульба больше любил свое курево в трубке. Иль поездами смутных слепцов Быстро прикатит в хаты отцов. Вот тебе и раз! Ехал за море С глазами, были глаза, а вернулся назад без глаз А он был женихом! Выделка русской овчинки! Отдано русское тело пушкам – В починку! Хорошая починка! В уши бар белоснежные попал Первый гневный хама рев: Будя! Русское мясо! Русское мясо! На вывоз! Чудища морские, скорее! А над всем реют На знаменах Темные очи Спаса Над лавками русского мяса. Соломорезка войны Железной решеткою Втягивает Всё свежие. И свежие колосья С зернами слез Великороссии. Гнев подымался в раскатах: Не спрячетесь! Не спрячетесь! Те, кому на самокатах Кататься дадено В стеклянных шатрах, Слушайте вой Человеческой говядины Убойного и голубого скота. «Где мои сыны?» – Несется в окно вой. Сыны! Где вы удобрили Пажитей прах? Ноги это, ребра ли висят на кустах? Старая мать трясет головой. Соломорезка войны Сельскую Русь Втягивает в жабры. «Трусь! Беги с полей в хаты», – Кричит умирающий храбрый. Через стекло самоката В уши богатым седокам самоката, Недотрогам войны, Несется: «Где мои сыны?» Из горбатой мохнатой хаты. Русского мяса Вывоз куй! Стала Россия Огромной вывеской. И на нее Жирный палец простерт Мировою рубля. «Более, более Орд В окопы Польши, В горы Галиции!» Струганок войны стругает, скобля, Русское мясо, Порхая в столице. Множество стружек – Мертвые люди! Пароходы-чудовища С мерзлыми трупами Море роют шурупами, Воют у пристани, Ждут очереди. Нету сынов! Нету отцов! Взгляд дочери дикий Смотрит и видит Безглазый, безустый мешок С белым оскалом, В знакомим тулупе. Он был родимым отцом В далекой халупе. Смрадно дышит, Хрипит; «Хлебушка, дочка…» … Обвиняю! Темные глаза Спаса Белых священных знамен, Что вы трепыхались Над лавками Русского мяса Молча, И не было упреков и желчи В ясных божественных взорах, Смотревших оттуда. А ведь было столько мученья, Столько людей изувечено! И слугою войны – порохом Подано столько печенья Из человечины Пушкам чугунным. Это же пушек пирожного сливки, Сливки пирожного, Если на сучьях мяса обрывки, Руки порожние – Дали… Сельская голь стерегла свои норы. Пушки-обжоры Саженною глоткой, Бездонною бочкой Глодали, Чавкая, То, что им подано Мяса русского лавкой. Стадом чугунных свиней, Чугунными свиньями жрали нас Эти ядер выше травы скачки́. Эти чугунные выскочки, Сластены войны, Хрустели костями. Жрали и жрали нас, белые кости, Стадом чугунных свиней. А вдали свинопас, Пастух черного стада свиней, – Небо синеет, тоже пьянея, Всадник ни коне едет. Мы были жратвой чугуна, Жратвою, жратва! И вдруг же завизжало, Хрюкнуло, и над нею брата, как шершнево жало, Занесла высоко Кол Священной Огромной погробной свободы. Это к горлу же Бэ Приставило нож, моря тесак, Хрюкает и бежит, как рысак. Слово «братва», цепи снимая Работорговли, Полетело, как колокол, Воробьем с зажженным хвостом В гнилые соломенные кровли. Свободы пожар! Пожар. Набат. Хрюкнуло же, убежало. – Брат! Слово «братва» из полы в полу, точно священный огонь, На заре Из уст передавалось В уста, другой веры завет. Шепотом радости тихим. Стариковские, бабьи, ребячьи шевелились уста. Жратва на земле Без силы лежала, Ей не сплести брони из рогож. И над ней братва Дымное местью железо держала, Брызнувший солнцем ликующий нож. Скоро багряный Дикой схваткой двух букв, Чей бой был мятежен. Азбуки боем кулачным Кончились сельской России Молитвы, плач их. Погибни, чугун окаянный! И победой бэ. Радостной, светлой, Были брошены трупные метлы, Выметавшие села, И остановлен Войны праздничный бег, Работорговли рысь. Дикие, гордые, вы, Хлынув из горла Невы, В рубахах морской синевы, На Зимний дворец, Там, где мяса главный купец За черным окном, Направили дуло. Это дикой воли ветер, Это морем подуло. Братва, напролом! Это над морем «Аврора» Подняла: «Наш». «Товарищи! Порох готовлю». Стой, мертвым мясом Торговля. Браток, шарашь! Несите винтовок, Несите параш В Зимний дворец. Годок, будь ловок. Заводы ревут: «На помощь». Малой? Керенского сломишь? В косматой шкуре греешь силы свои. Как слоны, высоко подняв хоботы, Заводы трубили Зорю Мировому братству: просыпайся, Встань, прекрасная конница, Вечно пылай, сегодняшняя бессонница. А издалека, натягивая лук, прошлое гонится. Заводы ревут: «Руки вверх» богатству. Слонов разъяренное стадо. … Зубы выломать… Глухо выла мать; Нету сына-то, Есть обрубок… И целует обрубок… Колосья синих глаз, Колосья черных глаз Гнет, рубит, режет Соломорезка войны. Ноябрь 1921217. Переворот в Владивостоке
День без костей. Смена властей… Переворот. Линяют оборотни; Пешие толпы, конные сотни. В глубинах у ворот, В глубинах подворотни, Смуглый стоит на русских охотник. Его ружье листом железным Блестит, как вечером болото. И на губах дыханье саки И песня парней Нагасаки. Здесь боевое, служебное место, А за волною – морская невеста. У самурая Смотрел околыш боем у Цусимы, Как повесть мести, полный гневом, Блестел. «Идите прочь», – неслась пальбы суровой речь, Речь, прогремевшая в огне вам! Над городом взошел заморский меч. И он, как месяц молодой, Косой, кривой… Сноп толп, косой пальбы косимый, Он тяжко падал за улицы на свалку. Переворот… дыхание Цусимы. Тела увозят на двуколке. И алое в бегах, Торопится, течет, спешит рекою до зареза, Железо и железо! Где зелень прежняя? Трава бывалая? И знамя алое? И ты, зеленый плащ пророка? Тебя забыл дол Владивостока! Он, променяв для новых дел, Железною щетиною поседел! Как листьями рагоз Покрытые, ряды пехоты Идут спокойно, молчаливо, Как листьями рагоз покрытое болото, Как листьями рагоз покрыто дно залива. На суд очей далекого залива Проходит тесная пехота. Настойчив, меток Ком дроби беглых глаз! И город взят зарядом Упорной сотни глаз. И пыль, взметенная снарядом, Опять спокойно улеглась. И мертвых ищет водолаз. Потом встает, в морских растениях И видят все: он поседел, И выпал снег на строгом бобрике. С народом морозов – народы морей! Боги мороза, – на лыжи скорей! Походка тверда самурая. Праздника битвы уснувшего края. А волны пели: звеним! звеним! Вприпрыжку шашка шла за ним, Как воробей, скакала по камням мостовой И пищи искала – кто здесь живой? Вот песнь: меняйте смерть на беглеца, – Два жребия пред вами! Кому поссориться случилось – Бывало, босая девчонка спешит за мальчишкой Вприпрыжку, босая, кляня! Проказы юных лет! О камни звеня, Так шашка волочилась вслед! Пускай белила, – дерзкий снег лица, На скулы выпали ему. Разрез очей и темен и жесток, Пускай сукно зеленого покроя, Знакомого войскам земного шара образца, Одеждою военною служило, Окраской полевых пространств, А шашка нежность разделила С нарядной записною книжкой, Где тангенсы и косинусы, Женой второй, ревнуя, ссорясь. Но старый бог войны, блеснув сквозь облака Улиц Владивостока, вздымал на воздух голубка, Сквозя сквозь воина стекло Видением ужасным: Виденьем древнего лубка, – Глаза косые подымая Достойным воином Мамая, Он проходил, высокий горец. В нем просыпались старые ножа сны, И дух войны; смертей счета И пулеметов строгое «га-та». В броне из телячьих копыт, Он сошел с островного лубка, И червем шелковым шиты Голубые одежды его облака. Где мертвые русы, старой улицы бусы. Желтые бесы; пушки выстрелом босы. Гопак пальбы по небу топал, Полы для молний сотрясал Широких досок синевы, Полы небесной половицы; Смычок ходил Амура и Невы – Огня сверкала полоса; И сладко ловить и сладко ловиться! Паре глаз чужого бога, Шуму крыл – улыбка дань! Там, где темная дорога, В сердце нежность и тревога, Быстры уличные лица, Сладко верить и молиться, Темной улице молиться! Бьется шашка его о пол; Умный черный глаза пепел. Море подняло белого выстрела бивень, Море подняло черного зарева хобот, Ока косого падает ливень – Город пришельцами добыт. Глаз, косой глаз-ручей, Льется, шумит и бежит. Насмешливой улыбкой улыбайся, Глаз, привешенный седой головою китайца! В ночном лесу военных зарев Он стукнул в дверь, рукой ударив. Повторный удар кулака – Это в дверь застучала опять, Дверь моряка, Его боевая рука, ночной шум в облака. И падал град на град, Не с голубиное яйцо, как полагается, А величиною в скорлупу умершей птицы Рук, Охотницы воздушной за слонами, – Дедов смутной грозы, может быть грезы, – Несущей слонят в своих лапах. Слоны исчезали, как зайцы, Почуяв ее приближавшийся запах. Они бежали табунами в страну Сибири и березы, Страшнее не видели сов они, Желтым костром глаз очарованы, – Совы слонов! Пришел немного пьяный и веселый, Горел, желтел огонь околыша. И кукла войн за ним и кто-то шел еще. Что хочет он у «русской няни»? Стоит и дверь за ручку тянет. «Моя играй-играя С тобою мало-мало». В эту пору ждать гостей? Кто он? Быть подпоркой двери нанят, Кто он, в полночь? Только стук. Нет ответа, нет вестей! Деревцо вишневое, щебетавшее «да». Вишня в лучах злотого заката. Бог войти, и с ним беда, Стукнул и двери твоей хаты! В старом городе никого нет, город умер и зачах, – Бабочка голубая, в золотых лучах! Черные сосны в снегу, Черные сосны над морем, черные птицы на соснах – Это ресницы. Белое солнце, Белое зарево – Черного месяца ноша, – Это глаза. Золотая бабочка Присела на гребень высокий Золотого потопа, Золотой волны – Это лицо. Брызгами дерево, Золотая волна золотого потопа Сотнями брызг закипела, Набежала на кручу Золотой пучины. Золотая бабочка Тихо присела на ней отдохнуть, На гребень морей золотой, Волны закипевшей. Это лицо. Это училось синее море у золотого, Как подыматься и падать И закипать и рассыпаться золотыми нитями, Золотыми брызгами, золотыми кудрями Золотого моря. Золотыми брызгами таять На песке морском, Около раковин моря. Косая бровь все понимала. «Моя играй-играя Мало-мало». Око косое бога войны Старой избы окном покосилось, Спрятано в бровях лохматых, Белою мышью смотрело. Он замер за дверью, лучше котов Прыжок на добычу сделать готов. Пела и билась железная шашка, Серебряной билась игрой. За дверью он дышит и замер И смотрит косыми глазами. «Мои тебя не знай! Моя тебя видай-видай! Моя с тобой играя мало-мало?» Осада стен глухих речами! Их двое, полузнакомы они, Ведут беседу речью ломаной. Он знает слабые места Негого тела, нагого воина проломы. Он знает ямку живота, Куда летит удар борца Прямою вилкой жестких пальцев, – Могилы стук без обиняка! Летит наскок наверняка! Умеет гнуть быстрей соломы тела чужие! Он, малый и тщедушный, Ровесник в росте с малышами, Своей добычею послушной, Играет телом великана. Одним лишь знаньем тайн силач, С упругим мячиком ловкач. Играет телом великана. Умеет бросить наземь мясо, Чужой утес костей и мяс, Рассыпаться стеклом стакана, В пространство за ушами Двумя лишь пальцами вломясь. Его умел, нагой, без брони, Косой удар ребром ладони, Ломая кости пополам, Чужой костяк бросать на слом, Как будто грохнувший утес, Ударом молнии коснувшись кадыка, Приходом роковой падучей На землю падать учит Его суровая рука. Иль, сделав из руки рога, Убийце выколоть глаза, Его проворно ослепить Наскоком дикого быка, И радость власти тихо пить. И пальцам тыл согнув богатыря, Приказ ума удесятеря, Чтоб тела грохнулся обвал И ноги богу целовал. И пальцы хрупкие ломать, Согнув за самые концы, Убийцу весть покорнее теленка Иль бросить на колени ниц Чужое мясо, чужой утес, Уже трусливый, точно пес. Иль руку вывернув ему, На полпрямых согнувши локоть, – Вести послушнее ребенка. И, за уши всадив глубоко ногти, Уходи разума позвать чуму. И ни устах припадок пены, Чтобы молитвою богам Землею мертвою легли к его ногам Безумных сил беспомощные члены. Или, чужие наклоняя пальцы, Победу длить и впредь и дальше! В опасные места меж ребер Он наносил удар недобер. И, верный друг удачи, Нес сквозь борьбу решения итог, Как верный ход задачи: Все, кроме ловкости, ничто! Четою птиц летевших Косые очи подымались кверху Под тонкими бровями. Как крылья эти брови, как крылья в часы бури, Жестокие и злые, застывшие в полете. И красным цветком осени Были сложены губы. Небрежный рта цветок, жестокою чертой означен На подбородок брошен был широкий, – Это воин востока. Пыли морской островов, пыли морей странный посол, Стоял около двери, тихо стуча. 2–11 ноября 1921218. Тиран без Тэ. Встреча
<1>
Ок! Ок! Это горный пророк! Как дыханье кита, из щелей толпы, Вылетают их стоны и ярости крики. Яростным буйволом пронесся священник цветов; В овчине суровой голые руки, голые ноги. Горный пастух его бы сочел за своего, Дикий буйвол ему бы промолвил: «Мой брат!» Он, божий ветер, вдруг прилетел, налетел В людные улицы, с гор снеговых, Дикий священник цветов, Белой пушинкой кому-то грозя. «Чох пуль! Чох шай» – Стал нестерпимым прибой! Слишком поднялся потоп торга и рынка, всегда мировой! Черные волосы падали буйно, как водопад, На смуглый рот И на темные руки пророка. Грудь золотого загара, золотая, как желудь, Ноги босые, Листвой золотой овчина торчала Шубою шиврат-навыворот. Божественно-темное дикое око – Веселья темница. Десятками лет никем не покошены, Стрижки не зная, Волосы падали черной рекой на плечо. Конский хвост не стыдился бы этих веревок, Черное сено ночных вдохновений, Стога полночей звездных, Черной пшеницы стога. Птичьих полетов пути с холодных и горных снегов Пали на голые плечи, На темные руки пророка. Темных голосов жилье И провода к небесам для разговоров, Для темных с богом бесед. Горы денег сильнее пушинка его, И в руке его белый пух, перо лебедя, Лебедем ночи потеря, Когда он летел высоко над миром, Над горой и долиной. Бык чугунный на посох уселся пророка, Птицей ни нем отдыхая, Медной качал головой. Белый пушок в желтых пальцах, Неба ночного потеря, В диких болотах упала, между утесов. А на палке его стоял вол ночной, А в глазах его огонь солнечный. Ок! Ок! Еще! Еще! Это пророки сбежалися с гор Встречать чадо Хлебникова. Это предтечи Сбежалися с гор. Очана! Мочана! Будем друзья! Облако камня дороже! Ок! Ок! Как дыханье кита, Из ноздрей толпы, Вылетали их дикие крики. «Гуль-мулла», – пронесся ветер, «Гуль-мулла», – пронесся стон. Этот ветер пролетел, Он шумел в деревнях темных, Он шумел в песке морей. «Наш», – запели священники гор, «Наш», – сказали цветы – Золотые чернила, На скатерть зеленую Неловкой весною пролитые. «Наш», – запели дубровы и рощи – Золотой набат, весны колокол! Сотнями глаз – Зорких солнышек – В небе дерева Ветвей благовест. «Наш», – говорили ночей облака, «Наш», – прохрипели вороны моря, Оком зеленые, клювом железные, Неводом строгим и частым, К утренней тоне Спеша на восток. Месяц поймав сетки мотнею полета, Тяжко и грузно летели они. Только «мой» не сказала дева Ирана, Только «мой» не сказала она. Через забрало тускло смотрела, В черном щелку стоя поодаль.<2>
Белые крылья сломав, Я с окровавленным мозгом Упал к белым снегам И терновника розгам. К горным богам пещеры морской, Детских игор ровесникам: «Спасите! Спасайте, товарищи!» И лежал, закрыт простыней Белых крыл, грубо сломанных оземь. Рыжий песец перья Хитро и злобно рвал из крыла. Я же недвижим лежал. [Горы, белые горы. «Курск» гулко шел к вам. Кружевом нежным и шелковым, Море кружева пеною соткано. Синее небо. У старого волка морского Книга лежала Крапоткина «Завоевание хлеба». В прошлом столетьи Искали огня закурить. Может, найдется поближе И ярче огонь Трубку морскую раздуть? Глазами целуя меня, – Я – покорение неба – Моря́ и моря́ Синеют без меры. Алые сады – моя кровь, Белые горы – крылья. «Садись, Гуль-мулла, Давай перевезу».3
И в звездной охоте Я звездный скакун, Я – Разин напротив, Я – Разин навыворот. Плыл я на «Курске» судьбе поперек. Он грабил и жег, а я слова божок. Пароход-ветросек Шел через залива рот. Разин деву В воде утопил. Что сделаю я? Наоборот? Спасу! Увидим. Время не любит удил. И до поры не откроет свой рот. В пещерах гор Нет никого? Живут боги? Я читал в какой-то сказке, Что в пещерах живут боги, И, как синенькие глазки, Мотыльки им кроют ноги. Через Крапоткина в прошлом, За охоту за пошлым Судьбы ласкают меня И снова после опалы трепещут крылом За плечами.4
«Мы, обветренные Каспием, Великаны алокожие, За свободу в этот час поем, Славя волю и безбожие. Пусть замолкнет тот, кто нанят, Чья присяга морю лжива. А морская песня грянет. На устах молчит нажива». Ветер, ну?<5>
Пастух очей стоит поодаль. Белые очи богов по небу плыли! Пила белых гор. Пела моряна. Землею напета пластина. Глаза казни Гонит ветер овцами гор По выгону мира. Над кремневой равниной, овцами гор, Темных гор, пастись в городах. Пастух людских пыток поодаль стоит, Снежные мысли, Белые речки, Снежные думы Каменного мозга, Синего лба, Круч кремневласых неясные очи. Пытки за снежною веткой шиповника. Ветер – пастух божьих очей. Гурриэт эль-Айн, Тахирэ, сама Затянула на себе концы веревок, Спросив палачей, повернув голову: «Больше ничего?» – «Вожжи и олово В грудь жениху!» Это ее мертвое тело: снежные горы.<6>
Темные ноздри гор Жадно втягивают Запах Разина, Ветер с моря. Я еду, Ветер пыток.7
<Золотые чирикали птицы На колосе золота.> Смелее, не робь! Зелен<ые> улиц<ы> камен<ых> зда<ний>, Полк узеньких улиц. Я исхлестан камнями! Булыжные плети Исхлестали глаза степных дикарей. <Голову закрываю обеими руками.> Тише! Пощады небо не даст! Пулей пытливых взглядов проулков Тысячи раз я пророгожен. Высекли плечи Булыжные плети! Лишь башня из синих камней <тонкой> березой на темном мосту Смотрела Богоматерью и перевязывала ран<ы>. Серые стены стегали.8
Вечерний рынок. «Вароньи яйца! Один – один шай! Один – один шай! Лёви, лови!» Кудри роскоши синей, Дикие болота царевичи, Синие негою, Золото масла – крышей покрыли, Чтобы в ней жили глаз воробьи, Для ласточек щебечущих глаз (Масла – коровьего вымени белых небес, снега и инея). Костры. Огни в глиняных плошках. Мертвая голова быка у стены. Быка несут на палках, Полчаса назад еще живого. Дикие тени ночей. Напитки в кувшинах ледяные – В шалях воины. Лотки со льдом, бобы и жмыхи. И залежи кувшинов голубых – Как камнеломни синевы, Здесь свалка неба голубого, Чей камень полон синевы. Слышу «Дубинушку» в пении неба, Иль бурлак небо волочит на землю? Зеленые куры, красных яиц скорлупа. И в полушариях черных, как черепа, Блистает главами толпа, В четки стуча, Из улицы темной: «Русски не знаем, Зидарастуй, табарича». Лесов рукопашная, Шубы настежь, Овчины зеленые, Падают боги камней Игрою размеров.9
Дети пекут улыбки больших глаз В жаровнях темных ресниц И со смехом дают случайным прохожим. Калека-мальчик руки-нити Тянул к прохожим по-паучьи у мечети. Вином запечатанным С белой головкой над черным стеклом Жены черные шли. Кто отпечатает? – Лениво! Я – кресало для огнива Животно-испуганных глаз, глупо-прелестных черною прелестью, Под покрывалом, От страха спасителем. Смертельной чахотки, Белой чахотки Забрала белеют у черных теней. Белые прутья на черные тени спускались – смерти решетка. Белой, окошка черной темницы, решеткой Женщин идущих. Тише, Востока святая святых! Ок! Ок! Я пророк!10
Полночь. Решт. Рыжие прыжками кошек И двойкой зеленой кладбищенских глаз скачут в садах, Дразнят собак. «Гау, гау! Га-га! Га-га» – Те отвечали лениво. Перекличка лесных лис и собак В садах заснувшего города. Души мертвых в садах молитвы <правоверной>. Это чёрта сыны прыгали в садах. На голые шары черепов, бритые головы, С черным хохлом где-то сбоку (дыма черное облако) Весь вечер смотрели мы. Прокаженные жены, подняв покрывало, Звали людей: «Приди, отдохни! Усни на груди у меня».11
Тиран без Тэ. «Ре́ис тума́м донья́», – Али В Председатели шара земного Посвящается за стаканом джи-джи. Страна, где все люди Адамы, Кони наружу небесного рая! Где деньги – «пуль», И в горном ущельи, Над водопадом гремучим В белом белье ходят ханы Тянуть лососей Длинною сеткою на шесте. И всё на «ша»: шах, шай, шира. Где молчаливому месяцу Дано самое звонкое имя – Ай. В этой стране я!12
Весна морю дает Ожерелье из мертвых сомов – Трупами устлан весь берег. Собакам, провидцам, пророкам И мне – Морем предложен обед Рыбы уснувшей На скатерти берега. Роскошь какая! Будь человек! Не стыдись! Отдыхай, почивай! Кроме моря, здесь нет никого. Никому не нужно мое спасибо, Море, ты слишком велико, Чтобы ждать, чтобы я целовал тебе ручку. Купаюсь, целую морскую волну, Море не пахнет ручкой барыни. Три мешочка икры Я нашел и испек, И сыт! Вороны, каркая, – в небо! «Упокой, господи» и «Вечную память» Пело море Тухлым собакам. В этой стране Алых чернил взаймы у крови – дружеский долг – Время берет около Троицы, Когда алым пухом Алеют леса-недотроги, Зеленой нежной ресницей широкие. Не терпится дереву, хочется быть мне Зеленым знаменем пророка, Но пятна кровавые Троицы Еще не засохли. Перья зеленые – ветки ее – лебедей стая плавает по воздуху. И золотые чернила весны В закат опрокинуты, в немилости, И малиновый лес Сменяет зеленый. В этой стране собаки не лают, Если ночью ногою наступишь на них, Кротки и тихи Большие собаки. И цыпленок, раньше чем уснуть в руке господи<на>, Бегает по нему и ловит, Полный охотничьей <жизни>, мошек и комаров. Тебе люди шелка не дадут, О, пророк! И дереву знаменем быть, Мальцы кровавые лета запечатлены на зеленых листах <Когда недотрогу неженку-розу беру знаменем>.13
Сегодня я в гостях у моря, Скатерть широка песчаная, Собака поодаль. Ищем. Грызем. Смотрим друг на друга. Обедал икрою и мелкой рыбешкой. Хорошо! Хуже в гостях у людей! Из-за забора: «Урус дервиш, дервиш урус!» – Десятки раз крикнул мне мальчик.14
Косматый лев, с глазами вашего знакомого. Кривым мечом Грозил кому-то, угрожал – покоя часовой, заката сторож, И солнце перезревшей девой (Верно, сладкое любит варенье), Сладко, ласково закатилось на львиное плечо. Среди зеленых изразцов, Среди зеленых изразцов!15
Халхал. Хаи в чистом белье Нюхал алый цветок, сладко втягивал в ноздри запах цветка, Жадно глазами даль созерцая. «Русски не знай – плёхо! Шалтай-балтай не надо, зачем? Плёхо! Учитель, давай (50 лет) – столько пальцев и столько – Азия русская. России первая, учитель харяшо. Толстой большой человек, да, да, русский дервиш! А! Зардешт, а! Харяшо!» И сагиб, пьянея, алый нюхал цветок, Белый и босой, И смотрел на синие дальние горы. Крыльцо перед горами в коврах и горах винтовок, Выше – предков могилы. А рядом пятку чесали сыну его: Он хохотал, Стараясь ногою попасть слугам в лицо. Тоже он был в одном белье. По саду ханы ходят беспечно в белье Или копают заступом мирно Огород капусты. «Беботеу вевять», – Славка запела. Каменное зеркало гор. Я на горах. Зеркало моря наход<ится> По ту сторону – Матери <большой головой>. Отсюда, Волге наперекор, Текут реки, в те же морей <просторы> – Воли запасы черпать где <ведра>. Здесь, среди гор, Человек сознает, что зазнался. Скакала, шумела река, Стекленясь <волосами>. Буханки камней. Росли лопухи в рост человека. Струны раз <метав камнями>, – Кто играл в эти струны?16
Булыжники собраны в круг, Гладка, как скатерть, долина, Выметен начисто пол ущелья: Из глазу не надо соринки. Деревья в середке булыжных венков. Черепами людей белеют дома. Хворост на палках. Там чай-хане пустыни. Черные вишни-соблазны на удочке тянут голодных глаза. Армянские дети пугливы. Сотнями сказочных лбов Клубятся, пузырятся в борьбе за дорогу Корни смоковницы (Я на них спал) И в землю уходят, Тоской матерей тянутся к детям, Пуповиной протянутой от веток <к> корням. Плетусь, ученье мое давит мне плечи, Проповедь немая, нет учеников. Громадным дуплом Настежь открыта счетоводная книга столетий. Брюхом широким ствол (шире коня поперек), Пузырясь, пузатым грибом, Подымал над собой тучу зеленую листьев и веток, Зеленую шапку, Градом ветвей стекая к корням, С ними сливаясь в узлы Ячеями сети огромной. Ливень дерева сверху, дождь дерева пролился В корни и землю, внедряясь в подземную плоть, Ячейками сети срастались глухою петлею. И листья, певцы того, что нет, Младшие ветви и старшие, И юношей толпы – матери держат старые руки. Чертеж? Или дерево? Сливаясь с корнями, дерево капало вниз И текло древесною влагой, Ручьями, В медленном ливне столетий. Ствол пучится брюхом, где спрячутся трое, Долине дает второе зеленое небо, – Кольца ячей в 4 узла. Здесь я спал, изнемогший. Белые кони (лебеди снега и спеси) паслися на лужайке оседланы. «Ты наше дитю! Вот тебе ужин, ешь и садись! – Мне крикнул военный, с русской службы бежавший. – Чай, вишни и рис». «Пуль» в эти дни я не имел, шел пеший, Целых два дня я питался лесной ежевикой, Ей одолжив желудок Председателя земного шара. (Мариенгоф и Есенин). «Беботеу вевять», – славка поет!17
Чудищ видений ночей черные призраки. Черные львы. Плясунья-шалунья вскочила на дерево, Стоит на носке, другую, в колене согнув, занесла над головой, И согнута в локте рука. Кружев черен наряд. Сколько призраков! Длинная игла дикобраза блестит в лучах Ая. Ниткой перо примотаю и стану писать новые песни. Очень устал. Со мною винтовка и рукописи. Лает лиса за кустами. Где развилок дорог поперечных, живою былиной Лег на самой середке дороги, по-богатырски руки раскинул. Не ночлег, а живая былина Онеги. Звезды смотрят в душу с черного неба. Ружье и немного колосьев – подушка усталому. Сразу заснул. Проснулся, смотрю – кругом надо мною На корточках дюжина воинов. Курят, молчат, размышляют. «По-русски не знай». Что-то думают. За плечами винтовки. Покрытые роскошью будущих выстрелов, Груди в широкой броне из зарядов. «Пойдем». Повели. Накормили, дали курить голодному рту. И чудо – утром вернули ружье. Отпустили. Ломоть сыра давал мне кардаш, Жалко смотря на меня.18
– Садись, Гуль-мулла. Черный горячий кипяток, брызнул мне в лицо? Черной воды? Нет – посмотрел Али-Магомет, засмеялся: – Я знаю, ты кто. – Кто? – Гуль-мулла. – Священник цветов? – Да-да-да. Смеется, гребет. Мы несемся в зеркальном заливе Около тучи снастей и узорных чудовищ с телом железным, С надписями «Троцкий» и «Роза Люксембург».19
«Лодка есть, Товарищ Гуль-мулла! Садись, повезем! Денег нет? Ничего. Так повезем! Садись!» – Наперебой говорили киржимы. Я сажусь к старику. Он добродушен и красен, о Турции часто поет. Весла шум<ят>. Баклан полетел. Из Энзели мы едем в Казьян. Я счастье даю? Почему так охотно возят меня? Нету почетнее в Персии – Быть Гуль-муллой, Казначеем чернил золотых у весны. В первый день месяца Ай Крикнуть, балуя: «Ай!» Бледному месяцу Ай, Справа увидев. Лету крови своей отпустить, А весне – золотых волос. Я каждый день лежу на песке, Засыпая на нем. Конец 1921, 1922219. Уструг Разина
Где море бьется диким неуком, Ломая разума дела, Ему рыдать и грезить не о ком, Оно, морские удила Соленой пеной покрывая, Грызет узду людей езды. Так девушка времен Мамая, С укором к небу подымая Свои глаза большой воды, Вдруг спросит нараспев отца: «На что изволит гневаться? Ужель она тому причина, Что меч суровый в ножны сует, Что гневная морщина Ему лицо сурово полосует, Согнав улыбку, точно хлам, Лик разделивши пополам?» По затону трех покойников, Где лишь лебедя лучи, Вышел парусник разбойников Иступить свои мечи. Засунув меч кривой за пояс, Ленивою осанкою покоясь, В свой пояс шелковомалиновый Кремни для пороха засунув, Пока шумит волны о сыне вой Среди взволнованных бурунов. Был заперт порох в рог коровы, На голове его овца. А говор, краткий и суровый, Шумел о подвигах пловца. Как человеческую рожь Собрал в снопы нездешний нож. Гуляет пахарь в нашей ниве. Кто много видел, это вывел. Их души, точно из железа, О море пели, как волна, За шляпой белого овечьего руна Скрывался взгляд головореза. Умеет рукоять столетий Скользить ночами, точно тать, Или по горлу королей Концом свирепо щекотать, Или рукой седых могил Ковать столетья для удил. И Разина глухое «слышу» Подымется со дна холмов, Как знамя красное, взойдет на крышу И поведет войска умов.* * *
И плахи медленные взмахи Хвалили вольные галахи. Была повольницей полна Уструга узкая корма. Где пучина, для почина Силу бурь удесятеря, Волги синяя овчина На плечах богатыря. Он стоит полунагой, Горит пояса насечка, И железное колечко Опускается серьгой. Не гордись лебяжьим видом, Лодки груди птичий выдум! И кормы, весь в сваях, угол Не таи полночных пугал. Он кулак калек Москве кажет – во! Во душе его Поет вещий Олег. Здесь все сказочно и чудно, Это воли моря полк, И на самом носу судна Был прибит матерый волк. А отец свободы дикой На парчовой лежит койке И играет кистенем, Чтоб копейка на попойке Покатилася рублем. Ножами наживы Им милы, любезны И ветер служивый И смуглые бездны. Он, невидим и неведом, Быстро катится по водам. Он был кум бедноты, С самой смертью на «ты». Бревен черные кокоры Для весла гребцов опоры. Сколько вражьих голов Срубил в битве галах, Знает чайка-рыболов, Отдыхая на шестах. Месяц взял того, что наго, вор. На уструге тлеет заговор. Бубен гром и песни дуд. И прославленные в селах Пастухи ножей веселых Речи тихие ведут: «От отечества, оттоле Отманил нас отаман. Волга-мать не видит пищи, Время жертвы и жратвы. Или разумом ты нищий, Богатырь без головы? Развяжи кошель и грош Бедной девки в воду брось! Куксит, плачет целый день. Это дело – дребедень. Закопченною девчонкой Накорми страну плотвы. В гневе праведном серчая, Волга бьется, правды чая. Наша вера – кровь и зарево, Наше слово государево». Богатырь поставил бревна Твердых ног на доски палубы, Произнес зарок сыновний, Чтоб река не голодала бы. Над голодною столицей Одичавших волн Воин вод свиреполицый, Тот, кому молился чёлн, Не увидел тени жалобы. И уроком поздних лет Прогремел его обет: «К богу-могу эту куклу! Девы-мевы, руки-муки, Косы-мосы, очи-мочи! Голубая Волга – на! Ты боярами оболгана!» Волге долго не молчится. Ей ворчится, как волчице. Волны Волги – точно волки, Ветер бешеной погоды. Вьется шелковый лоскут. И у Волги у голодной Слюни голода текут. Волга воет, Волга скачет Без лица и без конца. В буревой волне маячит Ляля буйного донца. «Нам глаза ее тошны. Развяжи узлы мошны. Иль тебе в часы досуга Шелк волос милей кольчуги?» «Баба-птица ловит рыбу, Прячет в кожаный мешок. Нас застенок ждет и дыба, Кровь прольется на вершок». И морю утихнуть легко, И ветру свирепствовать лень. Как будто веселый дядько, По пояс несется тюлень. Нечеловеческие тайны Закрыты шумом, точно речью. Так на Днепре, реке Украйны, Шатры таились Запорожской Сечи. И песни помнили века Свободный ум сечевика. Его широкая чуприна Была щитом простолюдина, А меч коротко-голубой Боролся с чертом и судьбой. Льются водка и вода, Дикий ветер этой лодки и овода. 1921, 19 января 1922220. Синие оковы
К сеням, где ласточка тихо щебечет, Где учит балясин училище с четами нечет. Где в сумраке ум рук – Господ кистей, Смех – ай, ай! – лов наглых, назойливых ос, Нет их полету костей, Злее людских плоскостей Рвут облака золотые У морей ученических кос. Жалобой палубы подняты грустные очи, Кто прилетел тихокрылый? Солнц И кули с червонцами звезд наменять На окрик знакомый: «Я не одета, Витюша, не смотрите на меня!» Ласточки две, Как образ семьи, в красном куте, Из соломы и глины Вместо парчи Свили лачугу: Взамен серебра образу был Этих ласточек брак. Синие в синем муху за мухой ловили, Ко всему равнодушны – и голосу Кути, И рою серебряной пыли, К тому, что вечерние гаснут лучи, Ясная зайчиков алых чума В зелени прежней, кладбище солнца, темнеет, поря! Вечер и сони махали крылом, щебеча. Вечер. За садом, за улицей, говор на «ча»: «Чи чадо сюда прилетело? Мало дитя?» Пчелы телегу сплели! Ласточки пели «цивить!». Черный взор нежен и смугол, Синими крыльями красный закутан был угол. Пчелы тебя завели. Будет пора, и будет велик Голос – моря переплыть И зашатать морские полы – Красной Поляны Лесным гопаком, О ком Речи несутся от края до края. Что брошено ими «уми» Из умирая. И эта несть дальше и больше, Дальше и дальше, Пальцами Польши, Черных и белых народов Уносит лады В голубые ряды, Народов, несущихся в праздничном шуме Без проволочек и про́волочек. С сотнями стонными Проволок ящик (С черной зеркальной доской). Кто чаровал Нас, не читаемых в грезах, А настоящих, Бросая за чарами чары вал. И старого крова очаг, Где город – посмешище, Свобода – седая помещица, Где птицам щебечется, Бросил, как знамя, Где руны – весна Мы! Узнайте во сне мир! Поссорившись с буднями, Без берега нив Ржаницы с ржаницей, Увидеться с студнями – Их носит залив, Качает прилив, Где море рабочее вечером трудится – Выбивает в камнях свое: восемь часов! Разбудится! Солнце разбудится! Заснуло, – На то есть Будильник Семи голосов, веселого грома, Веселого хохота, воздушного писка. Ограда, – на то есть Напильник. А ветер – доставит записку. На поиск! На поиск! – Пропавшего солнца. Пропажа! Пропажа! Пропавшего заживо. В столбцах о краже Оно такое: Немного рыжее, Немного ражее, Теперь под стражею, Веселое! В солнцежорные дни Мы не только читали, Но и сами глотали Блинами в сметане И небесами другими, Когда дни нарастали, На масленой… Это не в море, это не блин, – Это же солнышко Закатилось сквозь вас с слюной. Вы здесь просто море, А не масленичный гость. Точно во время морского прибоя, Дальняя пена – ваши усы. Съел солнышко в масле и сыт. Солнце щиплет дни И нагуливает жир, Нужно жар его жрецом жрать и жить, Не худо, ежели около кусочек белуги, А ведь липко едят в Костроме и Калуге. Не смотри, что на небе солнце величественно, Нет, это же просто поверье язычества. Солнышко, радостей папынька! Где оно нынче? У черта заморского запонка? Черт его спрятал в петлицу? Выловим! Выловим! Выудим! Выудим! Кто же, ловкач, Дерзко выломит удочку? И вот девушка-умница, девушка-чудочко Самой яркой звездой земного погона Блеснула, как удочка За солнцем В погоню, в погоню! Лесою блеснула. И будут столетья глазеть, Потомков века, На вас, как червяка. Солнышко, удись! Милое, удись! Не будь ослух Моляны Красной Поляны. И перелетели материк Расеи вы Вместе с Асеевым. И два голубка Дорогу вели крючку рыбака. А сам рыбак – Страдания столица – В знакомо-синие оковы Себя небрежно заковал, Верней, другие заковали, И печень смуглую клевали Ему две важные орлицы, И долгими ночами Летели дальше, величавы. А вдалеке, просты, легки, Зовут мальчишки: «Голяки!» Ведь Синь и Голь В веках дружа́т, И о нашествии Синголов Они прелестно ворожат. И речи врезалися в их головы, В стакане черепа жужжат, Здесь богатырь в овчине, похож на творца Петербурга, И милые дивчины, и корчи падучей, летевшие зорко. Придет пора, И слухов конница, По мостовой ушей Несясь, копытом будет цокать; Вы где-то там, В земле Владивостока. И жемчуг около занозы Безумьем запылавшей мысли, Страдающей четко зари, Двух раковин, небесной и земной, – Нитью выдуманных слез. Вы там, где мощное дыхание кита! Теперь из шкуры пестро-золотой, Где яблок золотых гора, Лесного дикого кота Вы выставили локоть. Друзья! И мальчики! Давайте этими вселенными Играть преступно в альчики. И парусами вдохновенными Мы тронем аль чеки. Согласны? Стало, будет кон, Хотя б противился закон, И вот решения итог: Несите бабки и биток. Когда же смерти баба-птица Засунет мир в свой кожаный мешок, Какая вдумчивая чтица Пред смыслом строк отступится на шаг, Прочтя нечаянные строки: Осенняя синь и вы – в Владивостоке? Где конь ночей отроги гор, – Седой, – взамен травы ест И наклонился низко мордой, И в звездном блеске шумов очередь, Ваш катится обратный выезд, Чтобы Москву овладивосточить. И жемчуг северной Печоры Таили ясных глаз озера: Снежной жемчужины – северный жемчуг. И, выстрелом слов сквозь кольчугу молчания, Мелькали великие реки, И бегали пальцы дороги стучания По черным и белым дощечкам ночей. Вот Лена с глазами расстрела Шарахалась волнами лени В утесы суровых камней. Утопленник плавал по ней С опухшим и мертвым лицом. А там, кольчугой пен дыша, Сверкали волны Иртыша, И воин в северной броне Вставал из волн, ракушек полн, Давал письмо для северной Онеги. Широкие очи рогоз, Коляска из синих стрекоз Была вам в поездке Сибирью сколоченный воз. И шумов далекого моря обоз. Ударов о камин задумчивых волн, Тянулся за вами, как скарб. Россия была уж близка, И честь отдавал вам сибирский мороз. Хотели вы не расплескать Свидания морей беседы говорливой Серебряные капли, Нечаянные речи В ладонях донести, – Росой летя на крыльях цапли, – Ту синеву залива, что проволокой путей далече Искала слуха шуму бурь И взвизгов ласточек полету, И судей отыскать для вкуса ласточек гнезда морского. И в ухо всей страны Валдая, – Где вечером Москва горит сережкой, – Шепнуть проделки самурая, Что море куксило, страдая, Что в море плавают япошки; И, подковав на синие подковы Для дикой скачки, Страну дороги Ермаковой, Чтоб вывезть прошлое на тачке. И сруб бревенчатый Сибири, В ладу с былиной широкой Дива стоокого, Вас провожал Не тряскою коляской Из сонма множества синих стрекоз. Шатер небес навесом был ночлега. В широкой радуге морозных жал Из синих мух, чьи крылья сверк морей, Везла вас колымага, Воздушная телега Олега! Олега! Любимца веков! Чтоб разом Был освещен неясный разум, И топот победы Сибири синих подков, И дерзкая другов ватага. Умеем написать слова любые На кладбище сосновой древесины. Я верю, многие не струсят Вдруг написать чернилами чернил Русалку, божество, И весь народ, гонимый стражей книг, Перчаткой белой околоточных. А вы чернилами вернил – Верни! Верни! – На полотне обычных будней Умеете коряво начертать Хотя бы «божество», В неловком вымолве увидеть каменную бабу Страны умов, Во взгляде – степь Донских холмов? Не в тризне Сосен и лесов, Не на потомстве лесопилен И не на кладбище сосновом бора, – А в жизни, жизни, На радуге веселья взора, На волнах милых голосов Скоро, споро, Корявый почерк Начертать И, крикнув: «Ни черта!», В глаза взглянуть городового, – Свисток в ушах, ведь пишется живое слово, А с этим ссорится закон И пятит свой суровый глаз в бока! Начертана событий азбука: Живые люди вместо белого листа. Ночлег поцелуев, ресница, Вместо широкого поля страницы Для подписи дикой. Давайте из знакомых Устраивать зверинцы Задумчивых божеств, Чтобы решеткою – дела! Рассыпав на соломах, Заснувшие в истомах, С стеклянным волосом тела. Где «да» и «нет» играло в дурачки, Где тупость спряталась в очки, Чтоб в наших дней задумчивой рогоже Сидели закутанные некто – Для неба негожи, На небо немного похожи, И граждане речи Стали граждане жизни. Не в этом ли, о песнь, бег твой? Как та дуброва оживлена, Сама собой удивлена, Сама собой восхищена, Когда в ней плещется русалка! И в тусклом звездном ситце, Усталая носиться, – Так оживляет храмы галка! Бывало, я, угрюмый и злорадный, Плескал, подкравшись, в корнях ольхи, На книгу тела имя Ольги. Речной волны писал глаголы я. Она смеялась, неповадны Ей лица сумрачной тоски, И мыла в волнах тело голое. Но лишь придет да-единица, Исчезнет надпись меловой доски И, как чума, след мокрой губки Уносит все – мое хочу на душегубке, И ропот быстрых вод В поспешных волнах проворных строк, Неясной мудрости урок, – Ведь не затем ли, Чтобы погоду и солнечный день обожествить В книге полдня, сейчас Ласточка пела «цивить!»? В избе бревенчатой событий Порой прорублено окно – Стеклянных дел Задумчивое но. Бревенчатому срубу, Прозрачнее окна, Его прозрачные глаза На тайный ход событий Позволят посмотреть. Когда сошлись Глаголь и Рцы И мир качался на глаголе Повешенной Перовской, Тугими петлями войны, Как маятник вороньих стай – Однообразная верста: Столетий падали дворцы, Одни осталися Асеевы, Вы Эр, покинули Расею вы, И из России Эр ушло, Как из набора лишний слог, Как бурей вырвано весло… И эта скобок тетива, Раскрытою задачей, От вывесок пив и пивца Звала в Владивосток Очей Очимира певца. Охотники, удачи! Друзья, исчислите, Какое Мыслете, Обещанное Эм, Размолов, как жернов, время, В муку для хлеба, Его буханку принесут? Мешочником упорным? Но рушатся первые цепи И люди сразились и крепи Сурового Како! Как? Как? Как? Так много их: Ка… Ка… Ка… Идут, как новое двуногое, Колчак, Корнилов и Каледин. Берет могильный заступ беден, Ему могилу быстро роет: «Нас двое, смерть придет, утроит». Шагает Ка, Из бревен наскоро Сколоченное, То пушечной челюстью ляская, Волком в осаде, Ступает широкой ногою слона На скирды людей обмолоченные, Свайной походкой по-своему Шагает, шугая, шатается. От живой шелухи Поле было ступою. Друзья моей дружины! Вы любите белым медведям Бросать комок тугой пружины. Дрот, растаявши в желудке, Упругой стрелой, Как старый клич «долой», Проткнет его живот. И «вззы» кричать победе, Охотником по следу Сегодня медведей, а завтра ярых людведей. Людведи или хуже медведей? Охоты нашей недостойны? И свиста меткого кремневых стрел? (Людведей и Синголов войны.) С людведем на снегу барахтаясь, Обычной жизни страх, таись! Вперед! Вперед! Ватага! Вперед! Вперед! Синголы! Маячит час итога! Порока и святого Година встала Ужасной незнакомкою, Задачу с уравненьем комкая, Чего не следует понять иначе. Ошибок страшный лист у ней, Ошибок полный лист у ней, В нем только грубые ошибки И ни одной улыбки. Те строки не вели к концу Желанной истины: Знак равенства в знакомом уравненьи Пропущен здесь, поставлен там. И дулом самоубийцы железная задача Вдруг повернулася к виску, Но Красной Поляны Был забытым лоскут? И черепа костью жеманною Година мотала навстречу желанному. Случалось вам лежать в печи Дровами Для непришедших поколений? Случалось так, чтоб ушлые и непришедшие века Были листом для червяка? Видали вы орлят, Которым черви съели Их жилы в крыльях, их белый снежный пух? Их неуклюжие прыжки взамен полета? Самые страшные вещи! Остальное – лопух! Телят у горла месяц вещий? Но не пришло к концу Желанной истины в старинном смысле уравненье, Поклонникам «ура» быть не может не к лицу. Прошел гостей суровый цуг, Друзей могилы. Сколько их? Восьмеро? Карогого солнца лучи Плывут в своей железной вере. Против теченья страшный ход. Вы очарованы в железный круг – Метать чугунную икру. Ход до смерти – суровый нерест Упорных смерти женихов, Войны упорных осетров, Прибою поперек ветров, То впереди толпы пехот – Колчак, Корнилов и Каледин. В волнах чугунного Амура, Осоками столетий шевеля, Вас вывел к выстрелам обеден, Столетьям улыбаясь, Дуров. Когда блистали шашки, неловки и ловки́, Богов суровых руки играли тихо в шашки, Играли в поддавки. Шатаясь бревнами из звука, Шагала азбука войны. На них, бывало, я Сидел беспечным воробьем И песни прежние чирикал, Хоть смерти маятники тикали. Вы гости сумрачных могил, Вы говор струн на Ка, Какому голоду оков, Какому высушенному озеру Были в неудачной игре козыри? Зачем вы цугом шли в могилу? Как крышка кипятка, Как строгий пулемет, Стучала вслед гробов доска, Где птицей мои летел на туловище слепой свободы. Прошли в стране, Как некогда Ругил, Вы гости сумрачных могил! И ровный стук – удары в пальцы кукол. То смерть кукушкою кукукала, Перо рябое обнаружив, За сосны спрятавшись событий, В именах сумрачных вождей. Кук! Ку-кук! Об этом прежде знал Гнедов. Пророча сколько жить годов, Пророча сколько лет осталось. Кукушка азбуки, в хвое имен закрыта, Она печально куковала, Душе имен доступна жалость. Поры младенческой судьбы народов кукол Мы в их телах не замечали. Могилы край доскою стукал. А иногда, сменяя Ка, насмешливо лилося «Люли» Через окопы и за пули. Там жили кололовы, Теперь оковоловы. Коса войны, чумы, меча ли Косила колос сел, И все же мы не замечали Другие синие оковы, Такие радостные всем. Вы из земли хотели Ка. Из грязи, из песка и глины, Скрепить устои и законы, Чтоб снова жили властелины. А эта синяя доска, А эти синие оковы Грозили карою тому, Кто не прочтет их звездных рун. Она небесная глаголица, Она судебников письмо, Она законов синих свод, И сладко думается и сладко волится Тому, их клинопись прочесть кто смог. Холмы, равнины, степи! Вам нужны голубые цепи? Вам нужны синие оковы? Оне – в небесной вышине! Умей читать их клинопись В высоких небесах, Пророк, бродяга, свинопас! Калмык, татарин и русак! Все это очень, очень скучно, Все это глухо и не звучно. Но здесь других столетий трубка, И государств несется дым. И первая конная рубка Юных (гм! гм!) с седым. Какая-то колода, быть может человечества, Искала Ка, боялась Гэ! И кол, вонзенный в голь, Грозил побегам первых воль, Немилых кололобым. Но он висел, небесный кол, Его никто не увидал, И каждый отдавался злобам. А между тем миры вращались Кругом возвышенного Ка. И эта звездная доска – Синий злодей – Гласила с отвагою светской: Мы в детской Рода людей. Я кое-как проковыляю Пору пустынную, Пока не соберутся люди и светила В общую гостиную. О, Синяя! В небе, на котором Три в семнадцатой степени звезд, Где-то я был там полезным болтом. Ваши семнадцать лет, какою звездочкой сверкали? Воздушные висели трусики, Весной земные хуже лица. Огонь зеленый – ползет жужелица, Зеленые поднявши усики, Зеленой смертью старых кружев Сквозняк к могилам обнаружив, В зеленой зелени кроты Ходы точили сквозь листы. «Проворнее, кацап! Отверженный, лови». Кап, кап, кап! Падали вишни в кувшин, Алые слезы садов. Глаза, как два скворца в скворешнице, На ветке деревянной верещали. Она в одежде белой грешницы, Скрывая тело окаянное, Стоит в рубашке покаянной. Она стоит, живая мученица, Где только ползала гусеница, Веревкой грубой опоясав Как снег холодную сорочку, Где ветки молят солнечного Спаса, – Его прекрасные глаза, – Чернил зимы не ставить точку. Суровой нищенки покров. А ласточка крикнет «цивить!» И мчится и мчится веселью учиться! Стояла надписью Саяна В хребтах воздушной синевы, Лилось из кос начало пьяное – Земной, веселый, грешный хмель. Над нею луч порой сверкал, И свет божественный сиял, И кто-то крылья отрубал. Сегодня в рот вспорхнет вареник, В веселый рот людей – и вот Вишневых полно блюдо денег, Мушиный радуется сход, Отметив скачкой час свобод. Белее снега и мила, Она воздушней слова «панны», Она милей, белей сметаны. Блестя червонцами менял, Летали косы, как ужи, Среди взволнованных озер, Где воздух дик и пышен. «Раб! Иди и доложи, Что госпожа набрала вишен. И позови сюда ковер». Какой чахотки сельской грезы Прошли сквозь очи, как стрела, Когда, соседкою ствола, Рукою темною рвала С воздушных глаз малиновые слезы? Я верю: разум мировой Земного много шире мозга И через невод человека и камней Единою течет рекой, Единою проходит Волгой. И самые хитрые мысли ученых голов: Граждане мысли полов и столов, Их разум оболган. Быть может, то был общий заговор И дерева и тела. Отвага глаза, ватага вер И рядом – вишневая розга, Терновник для образа несшая смело. Но честно я отмечу – была ты хороша. Быть может, в эти полчаса Во мне и ей вселенская душа Искала, отдыхая, шалаша, И возле ног могучих, босых, Устало свой склонила посох, Искала отдыха, у темени Ручей бежал земного времени. В наборе вишен и листвы, В полях воздушной синевы, Где ветер сбросил пояса, Глаза дрожали черная роса. Зеленый плеск и переплеск – И в синий блеск весь мир исчез. Весна 1922Драматические произведения
221. Снежимочка. Рождественская сказка
1-е деймо
Лес зимой – серебряной парчой одетый.
Снезини. А мы любоча хороним… хороним… А мы беличи-неза-будчичи роняем… роняем… (Веют снежинками и кружатся над лежащим неподвижно Снегичем-Маревичем.)
Смехини. А мы, твои посестры, тебе на помощь… на помощь… Из подолов незенных смехом уста засыпем – серебром сыпучим…
Немини. А мы тебе повязку снимем… немину…
Слепини. А мы тебе личину снимем… слепину… А мы, твои посестры, тебе на помощь… на помощь…
Снезини. Глянь-ка… глянь-ка: приотверз уста… призасмеял-ся – приоткрыл глаза – прилукавился. Ой, девоньки, жаруй! (С смехом разбегаются. Их преследует Снегич-Маревич, продолжая игру и оставляя неподвижными тех, кого коснулся.)
Березомир. Сколько игр я видел!.. Сколько игр… (поникает в сон) сколько игр…
Сказчич-Морочич (поет, пользуясь как струнами ветвями березы.)
Дрожит струной Влажное черное руно, И мучоба Входит в звучобу, Как (смеясь, окружающим) – я не знаю. Я пьян собой…Береза, подобная белоцветным гуслям, звучит. Воздушный, палешницей играющий, остается невидим. С разных концов, зыбля жалами и телами, приползают слухчие змеи и, угрожающе шипя, подымаются по стволу.
Сказчич-Морочич. Ай! (Падает, роняя струны, умерщвленный кольцами слепоглазых слухатаев.)
Сделав свое дело, змеи расползаются, распуская кольца.
Молчащие сестры. Плачемте, сестры. Он шел развязать поясы с юных станов. Плачемте, сестры. Омоем лица и немвянные омоем волосы в озере грустин, где растут грустняки над грустиновой водой. Плачемте, печальные.
Березомир. Нет у гуслей гусельщика. Умолкли гусли. Нет и слухчих змеев…
Няня-леший. Тише! Тише, люди! Мальчики, тише! (Взлетает на воздух и, пройдясь по вершинам деревьев колесом, чертит рукой, полной светлячков, знак и исчезает.)
Немини торопливо повязывают повязки.
Березомир (глухо завывает). О, стар я!.. И я только растение… И мне не страшны никто.
Навстречу вылетают духи с повязками слепоты и глухоты и старательно повязывают ими людям глаза и морду.
Пусть не видят! Пусть не слышат!
Люди, разговаривая между собой, проходят.
Молодой рабочий (радостно, вдохновенно). Так! И никаких, значит, леших нет. И все это нужно, чтобы затемнить ум необразованному человеку… Темному.
Снегич-Маревич подлетает и бросает в рот снег. Бросает за меховой воротник, где холодно, бросает в рот и в лицо говорящему. Снезини прилетают и опрокидывают над говорящими подолы снега.
2-й человек (спокойно). Вообще ничего нет, кроме орудий производства…
Снегич-Маревич бросает в рот снег.
Однако холодновато. Идем. Итак, вообще ничего нет. (Уходит.)
Играющие снова появляются и играют.
Некий глас. Отвергшие – отвергнуты!
И Снезини, и Березомир, и Снегич-Маревич – всё вздрагивает и с ужасом прислушивается к новому голосу.
Некий глас (с новой силой, точно удар грома). Отвергнуты отвергшие!
Вещежонка (помавая снегообразной седой головой). Это о них… о ушедших… о них… (Склоняется все ниже и ниже к земле головой.) Березомир. А… стар я.
Снезини и Любоч с новой силой отдаются старым русалиям.
О них – о чужаках…
Старушка-докладчица. Чужаков нетути… да! ушли из лесу. В поле пошли.
Бес. Кто холит корову? бес. Кто отвечает за нее? бес. А ты что делал? Ставил сети? Ловил снегирей? пухляков?
Бесеныш (сквозь слезы). Колоколец худо звучит – пастушонок не находит – волк поел.
Бес. Вот тебе, голубчик… зачем волк поел. (Наламывает березовые прутья.)
Березомир. На доброе дело и себя не жаль.
Бесок (плача). Не буду, дедушка! Ой, больше не буду! Миленький, дорогой!
Березомир (глядя). Ничего, не повредит… Малец еще…
Отдыхая, Снегич-Маревич и Снезини прилегли на стволах деревьев.
Липяное бывьмо. Сладка нега белых тел.
Пробегает заяц – плутоватый комок зимы. Снезини окружают его и играют с ним.
Снезини. Ай, воришка! А у кого ты украл свою шубку? У Зимы!
Заяц встает на задние лапы и, играя, ударяет лапами.
Вселенничи (играя)
Крылом вселенновым овеяла И в тихую мгляность растаяла. Вселенничей-слезичей сеяла И душу прекрасным измаяла.Слепини, играя, повязывают зайцу глаза. Пробегает, оставляя красный след, волк.
Все. Волченька… милый… волченька… бедун ты наш… горюн ты наш… извечный.
Морозный тятька. Этого так нельзя оставить… Здесь нужна лечоба.
Волк сидится и жарко облизывается языком. Вокруг него хлопочут над врачеванием его ран. С диким воем проносятся гончие. Березомир хлещет их ветвями. Снезини садятся им на шеи и уносятся вдаль. Показывается усталый охотник с ружьем в руке. Он в белом кафтане и черном поясе.
Снежак. За дело, белые друзья. (Разводит упругие прутья, и они звонко хлещут по разгоряченному красному лицу и выпученным глазам усатого сивоглазого охотника.)
Древолюд. Ха-ха-ха! (Размахивает от радости белыми пестрыми руками.)
Снежачиха. А эта хворостиночка тебе люба? (Подкладывает под ноги ветку, и охотник, задыхаясь и делая безумные глаза, падает в снег, ружье дает выстрел.)
Липовыйпарень. Ай, больно, больно!.. (Дрожит и долго качается.)
Барин уходит назад, без шапки, без пояса, дикий и простоволосый.
Древолюди Снегчие. Ха-ха-ха! Ну, и потешен же честной народ!
Белый мужик. Но что это? Пробежали морозные рынды. Стучат страницами, секирами, ищут. Осматривают. Провыл бирючий. Вышел снежный барин. Чешет голову.
Белый боярин. Честной народ! Ушла она! Как дым в небо. Как снег в весну. Ушла. Истаяла.
Все. Кто? Кто?
Снежные мамки. Да Снежимочка! Снежимочка! Снежимочка же!
Белый боярин (понурив голову). Снежимочка…
Все. Куда?
Снежные мамки. Да в город же! В город. В город ушла.
Все. В город…
Березомир (опуская голову). В город… Снежимочка… в город… (В раздумье глубоко поникает головой.) Лесная душа… В город…
Все. В город…
Глубокое раздумье.
Снегомужье. Ушла…
Березомир (грустно). Ушла…
Заяц. Я проскакал сейчас до балки Снегоубийц, здесь к ее следам присоединяются большие мужские.
Снегун. Проскакал? Мужские?
Все. Ах! ах!
Боярышни падают в обморок. У Снегуна, этого скорбно величавого старика, на больших глазах навертываются слезы, и он подымает с просьбой о помощи белые глаза к небу.
Ворон. Снимите с меня немину.
Немини снимают.
Врешь, мелкий врунишка, вырезатель липовых карманов, обкрадыватель полушубков у всех липовых парней.
Рында. К делу!
Заяц. Сам врунишка! Ишь какой ушатый!
Ворон. Молчи, заяц!
Заяц. А кто зайчиху Милюту на смерть заклевал? да!
Мамки. Да что они, издеваются, что ли? Охальники!
Ворон. Это не были следы другого человека, это были лапти, которые висели у куста «Ясные зайцы» еще с тех пор.
Рында. К делу!
Ворон. Она сняла их и нарочно делала следы, чтобы запутать свой след.
Снегун (плача). Бедная ты моя девочка…
Снежные мамки. Горе век будет мыкать? Век грущун будет горевать! Сердечная моя!
Снегун машет рукой, все удаляются.
Ворон (взмахивая крыльями). Она пошла к ховуну… (Улетает.)
2-е деймо
<Ховун.> Нонче норовят всё из нас книги… Старых разбойников нет. Те, что свистнут в два пальца, и откуда ни возьмись сивка-бурка пышет ноздрями.
<1-й собеседник.> Складно сказано, дед. Читал ты, дедушка, Каутского?
<Ховун.> Мы, барин, темные люди черной сотни. Живем в лесу, а и в гостях у нас либо ворон, либо мор. Не научены мы.
<1-й собеседник.> А, вот он, мракобес, где!
Ховун. А ты, парень, ворона оставь. Ворон – птица гордая. А не то видишь? а? (Показывает батог.)
1-й собеседник. Ныне отпущаеши раба твоего, черного гордея, гордого ворона, заступничеством же лесного истинолюба.
Ховун. А и шуточки свои оставь, парень. Не к месту они.
2-й собеседник. Ну, дедка, успокойся, не злись, говорю. Сослужил службу немалую. Пришла осень – золотые вкушай плоды. Слушаешь. Вот. Мало? Бормочешь?
Ховун. Я те бормочу, баринок, ворон молвит. (Бросает ворону бумажки, тот раздирает их, старый плут, поглядывая на Ховуна и помогая клюву лапой.)
2-й собеседник (возмущенно вскакивает с места). Каков? а? Каков? Ну, и умник же ты, дедушка! Но твое дело.
Ховун (сощурив от злости глаза). А про батог забыл, барин? а? Разошлись не в своей избе.
Три размеренных удара в двери: «Отвори!»
Ховун. Войдет, кто может.
Снежимочка. Вхожу, дедушка. Здравствуй!
Ховун. Морозный обычай, детка.
Снежимочка. Людской обычай, дедушка. Здравствуй, ворон!
1-й собеседник (недоверчиво). Что это, из «Снегурочки» Римского-Корсакова? Ведь мы, товарищи, не спим?
Ворон налетает и клюет собеседника в глаз, сине-черный умник.
Ай, мошенник, чуть не выклевал глаза! Многоуважаемый товарищ Борис, не обсудить ли нам по-товарищески создавшееся положение вещей?
2-й собеседник (картавя и сюсюкая). Очень и очень даже кстати. (Пришептывая, удаляются в другую светелку.)
Снежимочка. Кто это, дедушка?
Ховун. А… руковерхники… Качались бы, как спелые вишни… Сидели бы скромненько… Так нет же… невежничают. Изобидели тебя, ворон, черняга?
Ворон, растопырив шею и крылья, слетает с места и, усевшись на плече Ховуна, подымая голову, жалобно каркает.
Ховун. Что? злое почуял, вещун?
Из двери стремительно выбегает 2-й собеседник с бумагой и оружием. Он с рыжей темно-рыжей бородой и зелено-голубыми холодными глазами. Вытянув вперед руку, он читает неестественно громким голосом: «Ввиду того, что вызывающий образ действий так называемого Ховуна заставляет нас принять меры немедленной предосторожности и даже самообороны, [ввиду того, что некоторые обстоятельства], ясные даже для не знающих известного произведения Римского-Корсакова, заставляют признать существование [готовящегося предательства], ввиду всего этого… батожок… Ах, черт, он дерется батожком!.. – вот!» Делает несколько выстрелов, и Ховун падает с простреленным черепом. Слышен топот удаляющихся ног.
Снежимочка. Что это? Город? Или весна? Прощай, дед, мне жалко тебя. (Целует в целый глаз, который блестит и жив.) Вот я и среди людей. Садись мне на плечо, ворон, мы пойдем вместе. (Идет по дороге.)
Славодей
Люд стал лед, И хохот правит свой полет. О, город – из улиц каменный лишай, Меня меня ты не лишай.(останавливаясь)
Но что это? Иль пашня я безумья борон?
Но нет: видение и на плече виденья ворон!
Но что ж! Встречаясь с женщиной, не худо поклониться.
Ах, ее глаза блестят, как днем зарницы!
Женщина с ведрами. Ишь какая белавая барышня! (Останавливается и смотрит.)
Пьяница. Я пью или не пью?
Зимний голос. О, дщерь! Блюди белый закон.
Идут по дороге в город. Прохожие попадаются все чаще и чаще.
Снегей. О, не ходи!
Славодей. Вот и город…
«И дымнолиственных бор труб Избы закатной застит сруб».Прохожие. Мы забыли два слова: гайдамак и басурман – Запорожскую Сечь.
Нищий. Я есть хочу… я голоден… есть охота… дайте мне.
Снежимочка. Это лешачонок? А это что? Это лосихи везет, взявши зубами ветку, на которой сидит несколько людей? Мы любили так забавляться у себя в лесу.
Мальчики. Снегурочка! Снегурочка! Помнишь, видели и Народном доме?
В толпе, которая окружает Снежимочку, проходит одобрительный ропот: «Снегурочка. Снегурочка… помню». Некоторые снимают шляпы. Прохожие останавливаются, опираясь на палки и седые бороды опуская на палки.
Ученый. Всю науку придется перестроить.
Некто. Ай, какие черносотенные глаза!
Городовой перерезает шествие.
Городовой. Барышня… а барышня!.. Никак нельзя…
Снежимочка (останавливаясь). Кто ты?
Славодей. Городовой… о, мой милый городовой… вот я, и вот мой вид на жительство… веди меня, куда хочешь, но ее оставь: не разрушай видения. Молю тебя! (Становится на колени.)
Старуха. Миленочек, миленочек, пожалей ее: видишь, она с дороги.
Городовой с суровым видом дает свисток.
Пристав. Что здесь такое? А! нарушение пристойного!
Снежимочка. Кто этот высокий в рядне цвета осины?
Пристав (резко). Я сказал, что не могу, и не могу! Ведите в участок!
Все отправляются в участок.
Оставший спутник. О! я пью или не пью?
Дети (кричат). Снегурочка! Снегурочка! Мы помним ее. Мы видели!
Матери выносят детей и просят благословить.
Некто. Ужас… где я ее видел? В какой грезе? каком безумстве! Она! она! она! (Бежит, отслоняясь от нее рукой.)
Вводьмо в 3-е деймо
Снежак и Снежачиха плачут.
Снежак. Ушла Снегляночка, нет ее.
Ручьини ходят с ледочашами и собирают их слезы, проливая затем в ручьи.
Печальный леший (с свирелью).
Нега Снега, О, не у тех! В опашне клеста, В рядне снегиря Тайна утех.Снежак (утирая слезы, поет). Вы, пухляки, порхучие по лозам и лесам, позовите – приманите густосвистых снегирей, молвите: зовет их Снежак.
Пухляки перепархивают и, посвистывая, улетают.
Снегири. Мы здесь, Снегей.
Снежак. Вы полетите к птицеловам, их расставлены мелкие сети, там рассыпано золотое зерно. Вы попадете в сети, вы увидите Снежимочку, вы расскажете о мне.
Снегири. Мы исполним твою волю, Снегей. (Рассыпаются, исчезая, по кустам.)
Снежак и Снежачиха плачут. Ледини собирают слезы в чаши.
Лешачонок (передразнивает кого-то, играет).
За́реву Снегиря. Нет негиря. Я зареву.(Заливается смехом и, бросив дуду в сторону, убегает.)
Березомир ловит его и сечет.
Лешачиха (трясет крючковатым носом). Вот я тебя прутом… прутом…
3-е деймо
Песнь
Я тело чистое несу И вам, о улицы, отдам. Его безгрешным донесу И плахам города предам. Я жертва чистая расколам, И, отдаваясь всем распятьям, Сожгу нас огненным глаголом, Завяну огненным заклятьем.Старец. Звучали вселенновые струны, и вещалось: под милым славянским небом поклонились иным богам и отвернулись свои и надсмеялись чужие. (Выходит на площадь, окруженный свитой славянской дружины.)
Качаются стяги с надписью – «Славянская весна», «Веничие и величие славян», «Дедославль», «Веселые детинушки» и др. Мелькают одежды русского рода. Мелькают тяжелые золотые косы. Блестят глаза юношей.
Руководитель празднества (с помоста). Сегодня праздник Очищения – Чистый день. Клянемся ли мы носить только славянские одежды?
Все. Клянемся – единым будущим славян!
Руководитель празднества. Клянемся ли мы не употреблять иностранных слов?
Все. Клянемся!
Руководитель празднества. Клянемся ли мы утвердить и прославить русский обычай?
Все. Да!
Руководитель празднества. Клянемся ли вернуть старым славянским богам их вотчины – верующие души славян?
Все. Клянемся!
Некоторые из присутствующих надевают славянские одежды. Здесь же предлагается несколько иностранных слов заменить русскими.
Кто-то из присутствующих. Вы пришли позже. Здесь разрушали царства, там созидали новые.
Вы молоды. Вы превосходите численностью наших угнетателей. Вы превосходите их красотой души и простором занятой земли. Смелее! смелее, славяне!
Присутствующие бурно выражают свой восторг. Начинаются состязания русских и беге, борьбе, звучобе и славобе. Русские скачут, прыгают, бегают. Играют на свирелях. Поют.
Кто-то. Но где же Снежимочка? Снежимочка где?
Р о к о т. Снежимочка где? Где Снежимочка?..
Смятение.
Руководитель игры (после некоторого промежутка, всходя на помост). Снежимочки нет. Она таинственно исчезла, но то место, где она была, покрыто весенними цветами. Унесите же в руках, как негасимые свечи, разнесите по домам знаки таинственного чуда и, может быть…
Голоса многих. Чудо! Чудо! Снежимочка растаяла цветами.
Голос удаляющихся. Мы будем помнить ее заветы…
Проходит, наклоняясь, тела благообразных стариц, юношей, детей и срывают благоговейно длинные голубые цветы. Они горят, как свечи.
Голоса удаляющихся
Забыли мы, что искони Проржали вещие кони. Благословляй или роси яд, Но ты останешься одна – Завет морского дна – Россия.Новые голоса удаляющихся
Ушедшая семья морей Закон предвечный начертала, Но новою веков зарей Пора текущая сметала. Но нами вспомнится, чем были, Восставим гордость старой были. И цветень сменит сечень, И близки, близки сечи. Конец 1908222. Чертик. Петербургская шутка на рождение «Аполлона»
Диалоги
Старик. О, дайте мне рог!..
Другие внимающие. Рок…
Старик. Просторы смерьте…
Внимающие. Смерти…
Старик. Есть он, радейте в нем любить…
Кто-то с застывшим взором. Внемлю: бить.
Старик. Смерть шествует с нами…
Внимающие. Снами…
Старик. О, лукавое имя! (Роняет рог и исчезает во мгле.)
Слушающие. Ими…
<Ученый> (с бритым худым лицом и в длинных волосах пробегает ученый и кричит, разрывая на себе волосы). Ужас! Я взял кусочек ткани растения, самого обыкновенного растения, и вдруг под вооруженным глазом он, изменив с злым умыслом свои очертания, стал Волынским переулком с выходящими и входящими людьми, с полузавешенными занавесями окнами, с читающими и просто сидящими друг над другом усталыми людьми; и я не знаю, куда мне идти: в кусочек растения под увеличительным стеклом или в Волынский переулок, где я живу. Так не один и тот же и там и здесь, под увеличительным стеклом в куске растения и вечернем дворе? Вселенная на вопрошания мои тиха!
Кусты (протягивая смехи как лица). Ха-ха-ха…
Скачут голые ведьмы с буйным свитком волос и, оседлав ученого, мчат его на край видимого поля.
Ведьмы
На водопой, на водопой седого ученого, За очки его держитесь, как поводья, Верхом, на коняке верхом. Мы мчимся по полю на скакуне плохом? На седом длинноволосом ученом – О покажи, конь, свое робкое лицо нам!Старица болота
Он бывал в гостинице: человек умный и простой.
Где останавливаются боги, где приличествует быть богам.
И вот он разумом заплатит за постой.
И вот он вызвал ведем –
Лай и гам.
И ликование, вложенное в приподнятые губы: мы вместе с этим едем!
Любовник (с поднятыми воротников и блещущими смелостью глазами в тени ворот, еде злой стоит младший дворник). Здесь должна пройти Оля. Черт, на помощь! На помощь, милый черт!
Черт. Я здесь, молодой человек, что вам угодно от меня?
Молодой челочек. Немногого. Ты видишь на углу? Ты понимаешь, здесь толпы съехавших с разных концов русской земли девушек истребляют свои права быть нашим небом и справляют те, которые способны обратить ведьм в бегство. Крашеные кошки и собаки прилежно заменяют расходящихся с учения девушек.
Песнь гуляк
Я пою навстречу тучам Сном мгновенным, сном летучим, Именуйте жизни зелье, Жизни тесна, низка келья. Но порою слишком жгучим Взорам тонко покрывало. Мы напевы смерти учим До седьмого истин вала.Одна. Кант… Конт… Кент… Кин…
Молодой господин. Она! (Бросается с поднятой рукой.)
Черт. Куда?
Молодой господин. На звезду, купающую свой лик в котле, орошенном кровью.
Черт. Есть! Вы подымаетесь как два зверя, оставив на земле все ненужное. Среди возгласов: ах! ох! ах! – падаете в обморок. В чем дело? Не нужно ли здесь присутствие черта?
Все (с слабым ужасом). Она улетела.
Черт. Неужели?
Одна
Ах, ее волосы печально порыжели. На образе зимней метели. Они улетели. Неужели! Им чужды стыд и страх. Ах… Ах…(Закрывают лицо руками и, вынув платочки, плачут, сидя на снегу.)
Черт. Какие прекрасные книги оставлены ею здесь. Целая куча. Всё Конт да Кант. Еще Кнут. Извозчик, не нужен ли тебе кнут?
<Извозчик.> А? У меня и свой есть.
<Черт.> Дело! Неужели вся эта гора книг нужна была для сего весьма легкого и незамысловатого полета по этому зимнему звездному небу? Или это башня для разбега, к которой прибегали все начинающие воздухоплаватели. Ах, по-видимому, скоро будет открыто высшее училище передвижения вскачь на лошадях, лицом, волочащимся по камням, ногами, привязанными к конскому хвосту, хотя некоторые люди говорят, что в старину этот способ передвижения применялся обыкновенно к казни. Но что хочет погибнуть – погибнет.
Старуха. А то еще есть город, где камни учатся быть камнями и проходит все три рода образования – высшее, среднее и низшее. А мостовая учится быть мостовой, и что же! Все люди ходят из предосторожности с отбитыми предварительно носами, а кони, от избытка образовании, там трехногие. Потому что камни ходят и изучают Канта.
Черт. Да, велик свет и чудны дела его, все не поймешь, да и где попить! Черные службы Наву. Понял? Понял? Добрый черт? Понимаешь, люди так захотели быть святыми, что самый злой черт все-таки немного добрее самого лучшего человека.
<Молодой господин.> Раз, два – ведьма и лешак. Я или она, но полет, полет по сиво-сумрачному небу, где строи труб, где город, кутающий вершки и оставляющий людям корешки, стремится стать, тем, чем дивно уже умел стать лишай на корнях берез и их ветках. Полет, черт возьми, Черт!
Черт. Слушаюсь наших приказаний, добрый и благосклонный господин и вместе с тем молодой человек, в котором кровь играет, как когда-то в вселенной божество. А ныне оно утихло.
Молодой господин. Обдумай в мелочах наше предприятие. Опьем эту ночь и эту легкую метель за наше предприятие и будем на «ты».
Черт. Я предпочитаю следовать вдохновению. Что же касается «Ты», «Вы» – плотина пруда ‹…›, которого мельник – «Ты»«; и всем, что ‹…› не луга, а мельник – бывает виновником их затопления. Однако здесь становится жарко даже и для нас, умеющих жить в пекле. Ты знаешь, кто это? В сусличьей остроконечной шапке, в дубленом зипуне, подвязанном зеленым поясом, и притворяющийся пьяным? – Это Перун.
Перун. А мне наплевать, хотите облесить степи виселицами дли изменников и обезлесить леса – облесяйте. Ваше счастье и ваше добро – манная утка для диких товарищей, летящих на гибель. Вот почему она цела, зовет спокон веков на выстрелы. А мне наплевать. Я пришел вас спасти. А не хотите, как знаете.
Старичок. Ведомо, против воли нельзя…
Мальчишка (к Перуну). Дядюшка, а дядюшка, достань воробушка!
Перун. А мне наплевать. Городовой, а городовой, ты хороший человек? А?
Городовой. Некогда мне с тобою разговаривать.
Кто-то. Ух! Вот это д-да! (Изумленный, останавливается и бежит дальше.)
Молодой господин. Как ты думаешь, Черт, много ли сейчас времени?
Черт. Судя по Вашему лицу, я думаю, осталось ровно столько, чтобы ко времени появления вашей обольстительницы ее красота имела нежные очертания скуки.
Молодой господин. В этом есть опасность, мой дорогой.
Черт. Опасность? Опасны, но я когда-то пас сны! Смотри: в охабне жемчугами покрытой мурмолке «последний русский», ты видишь, идет. Не правда ли – его брови приподняты грозой, а на устах змеится недобрая улыбка? О, он предвидит то, о чем бросил пророчество в дубленом зипуне Перун, но кто его слушает? На него только с улыбкой оглядываются и, смеясь, показывают пальцами. Он тоже знает кое-что о лесах, о которых не шил Геродот. Но что это? Цветочные воины? Мечи из цветов?! Смотрите, завязывается битва. Обороняются, играя снежками, выходя с книгами и руках, с утомленными лицами, они бросают и храбро ведут битву цветов. О, в этой битве цветов и я умереть готов! Здесь есть лица, недурные даже для ведем. Но есть и ученые.
Девицы, сидя на голом снегу и закрыв лицо платочками, плачут.
Черт. До свидания, сестрицы. Мы, может быть, встретимся с вами на болоте, если вам будет когда-нибудь угодно в собирании трав найти приятное и забавное времяпровождение. Не забудьте, впрочем, громко назвать меня по имени. Мое имя несколько страшное, именно оно звучит «Черт», но это не значит, чтобы я не был вежливым молодым человеком. Я даже люблю слушать бритого пастора. Что же касается… то я люблю посещать обедню в день кончины Чайковского. Вы видите, с какой легкостью, и притом ничего не требуя взамен, я раскрыл перед вами свое общественное положение. Отвечайте мне тем же и вы; между нами завяжутся отношения, ни к чему не обязывающие, – более призрак, чем вещи, – но все же изрядная сумка боевых выстрелов против скуки, хандры и других гостей, подражающих заимодавшим в недоверчивости к клятвенным словам прислуги, что хозяев дома нет или что год уже, как они умерли. Итак, еще раз до свидания (кланяется, приподымает шляпу).
Одна из девиц (приподымаясь). Ваше лицо несколько иное, чем у других. Ваши глаза несколько ярче, чем глаза других. Так как дома меня ждет только сухой чай с гороховой дочерью Германии и учебник положения городского населения при Капетингах, то я бы последовала за Вами на Ваше болото, собирая травы и слушая Ваши рассказы, так как мне кажется, что это будет иметь большее значение для самообразования, чем мои обычные вечерние занятия.
Черт (раскланиваясь). Моя прославленная учтивость побуждает меня сделать все зависящее от меня, чтобы я отблагодарил Вас за Ваше общество, которым Вы любезно подарили меня далеко превосходящим Ваши скромные предположения образом.
Другие. И я! и я! (Некоторые отымают от глаз платочки и гордо, не глядя, уходят.)
Черт. О, прекрасные девицы! Клянусь тем естественным дополнением к людям установленного образца, которым меня наделило людское недоброжелательство, вы найдете в моем болоте более того, чего искали Канты, потому что их искания слишком часто напоминают кусочек зеленой, но единственной колбасы у цветов на окошке.
Одна. Соловьев… Отечественный мыслитель сказал…
Черт. Да, мы там послушаем и соловьев. Знайте, что недавно я должен был принять ходоков от городских кошек, жалующихся, что несметное количество их сестер погибает от предрассудков, что весенняя песнь кошек, их хвала восходящему солнцу менее приятна, чем песни их вкусных соперников по нарушению ночной тишины – соловьев, и что свод законов не ограждает их от летящих чернильниц – и просящих слезно рассеять этот предрассудок. Но я должен был им указать на ограниченность круга их миропонимания и заявить, что начало кошек, призванных заменить нечто мычащее или только еще хрюкающее (и здесь благородство имеет разделы), есть мировое начало и восходит до звезд и даже дальше, за пределы сих светил, ибо сам мир – я должен это заявить голосом твердым и властным – есть лишь протяжное «мяу», зажаренное и поданное ним вместо благородного «м-му». Вы видите, что и я бываю способен на потрясение основ.
Одна. Вы несколько порой болтливы, Чертик. Вы позволите нам на пивать Вас «Чертик»?
Черт. О да, и заметьте при этом, и с большим удовольствием.
Другие. Если Вы завели разговор о кошках только потому, что рассказывали раньше о<б> <о>кошке, то это доказывает Ваш дурной слух и то, что пишете очень скверные стихи.
Черт. Это обмен рукопожатий в пляске скорой речи?
Одна. Только, ради бога, не упоминайте о коромысле!
Черт. Я поражен, я побежден, я отступаю перед вашей наблюдательностью, блестящим лезвием вашей мысли. Увы! Зачем отрицать и отпираться, я именно о коромысле хотел упомянуть.
Одна (смотрит на часы). Однако мне нужно идти. Знаете, Чертик, когда Вы очень волнуетесь, у Вас на бровях показываются рожки. (Мужественно, низким голосом, подавая руку.) До свидания, Чертик, мне нужно идти.
Черт. Как? Вы уходите? Уже? Нет, этому не бывать! Где мы? А! Здание кн<ягини> Дашковой! Милый Геркуля, ты простишь мне, что твое изображение красуется на всех порошках с древле-овсяной мукой? Да, я винюсь, это была моя злая шутка. Но я думал оказать тебе услугу, что это тебя прославит, когда ты будешь везде в ходу, подобный средству, которое слабит. Что? Что? Ты недоволен сравнением? Идем, надень мой плащ! Здесь есть два сфинкса… где они? Да вот они!
О, благородные и прекрасные создания, неподвижно смеющиеся в течение веков. Вы попадаете в общество, которое будет не менее чутко прислушиваться к вашим метким замечаниям, чем к разглагольствованиям человека с помоста, который умеет рассказать, какой величины был нос у того человека и в котором году вселенная услышала его «уа», который вытащил вас, не спрашивая вашего позволения, на свет божий из сияющих песков и блистательно молчит о вас самих. На ваших устах скользит известная доля пренебрежения ко всему земному, но тем приятнее будет вам это небольшое путешествие, так как, уверяю вас, оно состоится в противоречии со всеми земными законами. Вы видите, что на их лицах заиграла улыбка согласия? Но для того, чтобы привести в исполнение свое намерение, нм нужно услышать священное слово «Ка». Здесь нет сыщиков?
Ворон а. Кар! Кар!
<Черт.> Вы видите, сфинксы, подобно тюленям, радостно кидаются в воду и, ныряя, плывут? Мы с ними встретимся на пути.
Кто-то. Что здесь такое?
Черт. Ничего. Это упал в воду снег. Что же касается сфинксов, то они отправились опускать избирательные записки. Кроме того, они объявлены неблагополучными по чуме и были увезены «скрой помощью».
Кто-то. Ты брешешь?
Другой. Тише, это лукавый! Я его сразу узнал.
Черт. Были тени. Кроме того, нам нужно вызвать Геру. Геркуля, кто у нас там есть?
Геркулес наклоняется и что-то шепчет на ухо.
Ах, нас представить! Это известный силач, бывший черносотенником давно-давно и ныне снова собирающийся вступить в борьбу с чудовищами.
Геракл подходит, по очереди пожимает руку.
Все. Ай! Ай! И это обещанное возмездие за наше общество? Вы нехорошо отблагодарили нас!
Геракл (тихим голосом). Простите. Я так долго стоял на выступе дворца, я так давно был лишен счастья пожать кому-нибудь руку. Было естественно утратить чувство меры. (С чувством.) Простите!
Черт. Ну, простите его; видите, у него слезы на глазах.
Все. О, мы великодушно прощаем! И кроме того, когда утихнет боль, ни делается просто смешно. Вы страдаете дальнозоркостью?
Геракл. О да, я так привык смотреть вдаль. В течение такою долгого времени я должен был стоить на стене и смотреть вдаль. Вы не поверите, что только облака, а также божественная помощь в вычислениях над стаями ворон помогли мне проводить время. Я не хотел, я не мог смотреть на людей, столь легкомысленных, столь неглубоких. Ах, эти вороны! Знаете, они знают достоверно о нашей грядущей гибели. Они даже знают из неизвестных мне источников кое-что о тех, кто придут сменить нас. И при этом, таково свойство этой породы, они надеются устроиться с не меньшим благополучием, чем при нас. О людях же они отзываются с величайшим презрением. О, почему никто не разгадал?
Одни. Как это глубоко! Как это умно, свежо! Вы наверняка предавались размышлениям, стоя у окон? На вашу голову капала вода с крыши; это неприятно, но это, вероятно, очень освежает голову.
Геракл. Да, я размышлял.
Одна. Не хотите ли надеть мои очки, я тоже дальнозорка.
Геракл. Нет, бледно. О, если вы дадите черные очки, то я предстану ими украшенный.
Одна. Черные очки! Он просит черные очки, у кого они есть? Вот!
Другая. У меня есть. Наденьте… Вот так… Ну, теперь вы настоящий современник. Идемте.
Геракл. Да, я размышлял. Поверите, но среди людей я чувствую себя как живой ивовый прут среди прутьев, пошедших на корзину. Потому что живой души у городских людей нет, а есть только корзина. Я живо представляю себе жреца Дианы, с его веселыми блестящими глазами и чувственным красным ртом. Он бы, конечно, сказал, старый товарищ и пьяница, что между горожанином та разница, которая существует между живым оленем и черепом с рогами. Есть некий лакомка и толстяк, который любит протыкать вертелом именно человеческие души, слегка наслаждается шипением и треском, видя блестящие капли, падающие в огонь, стекающие вниз. И этот толстяк – город. О, как презирают нас вороны и как они зорко видят будущее! Они питают суеверный страх пред калеками. Не значит ли это, что пришельцы будут лишены конечностей? Может быть, их губы?
Одна. Знаете, вы немного все-таки одичали. Всё вороны и вороны. Это ничего, что я вам говорю: одичали?
Геракл. О, что вы, сударыня. Я разрывал чудовищам пасти и нисколько не спрашивал у них на это согласия.
Одна. О, прекрасная невозвратимая Греция! Не правда ли, она мало походит на нашу величавую столицу?
Геракл. Мм… как сказать? О, да, там были прекрасные девушки, и, кроме того, они больше плясали и охотились, чем учились, что было бы сочтено безрассудством и названо безнравственным. Кроме того, этим боялись бы навлечь гнев богов и кару могущественной природы. Д-да… Но что это?.. за нами топот, впереди смятение. Чертик, вы, кажется, называете его «Чертиком», – Чертик скачет на каком-то темном могучем слоне с еще мертвыми глазами и клыками. Опершись о плечо, стоит, если не ошибаюсь, Гера.
Странное, загадочное зрелище. Что бы сказал мой приятель Никодим? Он, вероятно, сказал бы: бывающее бывает наделено в меньшей степени вкусом, чем я.
Черт. Мой закадычный друг и царевич – Мамонт. Он готовился принять престол своего отца, когда вдруг, по неизвестным причинам, весь род их умер, и он, скитаясь, нашел в молодых летах кончину в полузамерзлых болотах Сибири. Кроме того – Гера, прошу любить и жаловать. Я умчал его мимо ученых.
Гера. Как противны чувству красоты ваши прически и одежды. Фи! Так одеться не осмелилась бы у нас и рабыня. В противном случае некоторые из вас могли бы выйти недурными гречанками.
Мамонт издает трубный звук, подымая хобот.
Черт. А вот мы и на болоте, вот лебяжий пух. Сорвите из них венок и украсьте им мертвую голову царевича, который так и не нашел возвещанного ему при рождении престола. О, покройте лобзаньями мертвого друга. (Целует в глаза Мамотна.)
Гера. Страшная участь! Бойтесь, люди, трепещите, ужасное ожидая что-то, люди! Ужасна участь его, его и ему подобных!
Черт. Но где же ваши сфинксы? Но вот и они, с гордыми неизъяснимыми улыбками, вынырнули из воды и бодро поставили на берег лапы. Почему они молчат? Вы!.. Говорите!
Сфинксы. Тише! Тише! Он рассердился! фырр…
Черт. И улыбайтесь!
Сфинксы. И улыбаемся.
Черт. Достойное вас занятие.
Сфинксы. Мы думаем!
Гера уходит на частное совещание со спутницами. Через несколько времени они возвращаются одетыми и причесанными по образу богини. Богиня стоит с высокой прической и улыбающимися глазами. Легкая метель плетет на ее теле снежные венки.
Гера. О, люди! люди! От лучей зноя нас защищает метель. Если бы вы знали, как мы любим вас, пристально следим за ходом ваших судеб. Если бы вы поняли, что наша божественная власть зависит от вас и вне вас – призрак. О люди, люди, зачем вы покинули нас? (Смотрит на звезды.)
Мамонт (падает на колени и глухо рыдает). И я был царевич! (Глухо рыдает.)
Гера. Перестаньте Вы! О чем Вы плачете, скажите… Стыдно, толстый юноша. Вот на Вас белый венок одет! Вы были царевичем, да? У Вас была невеста? Нет! Не надо плакать, дайте я Вас поцелую в Ваш мертвый невидящий глаз. Не надо плакать. Развеселите его чем-нибудь, девушки!
Девушки ходят вокруг плачущего Мамонта и поют: «Заинька беленький, заинька серенький, поскачи, попляши», ударяя в ладоши. Мамонтом овладевает приступ неудержимого веселья; он начинает скакать и плясать и кружиться. Другие стоят и смотрят с улыбкой.
Мамонт Я вижу! Я прозреваю! Я думаю!
Сфинксы. Он видит! Мы же перестали думать, находя это скучным, и только улыбаемся.
Гера. Да, он все нашел. Он стоит в блаженном безумии. Совьемте ж вокруг него круг из рук и голосов, как слабо опьяненные вином рабыни пред своим царевичем.
Сфинксы. Обещанное возвещено.
Гера. Звезды, будьте свидетели союза земли и любви. Звезды, о звезды…
Сумасшедший (с горящими глазами).
Все вожделея и им вожделенная, Стояла девушка на берегу старого Волоха. Но из протянутой вперед руки вселенной Обнаженная высунута проволока.Черт. Это не живая вселенная, а чучело. Чучело птицы с мертвым глазом и выходящей из кости проволокой, – ужасно!
Сфинксы. Это страшно. Над этим мы не умеем смеяться. Здесь шипи улыбки – трусы. В его выкрике есть какой-то мучительный вызов.
Черт. Да, его слова страшны, но зато он нисколько не опасен и может остаться. Пусть он смотрит в глаза Мамонта. Смотрите, он смотрит огненным взглядом на слепые глаза царевича. Смотрите, царевич вздрагивает. Закройте все глаза. Вы не вынесете – это лучи. Царевич видит.
Кто-то. Он и раньше видел.
Черт. Нет, он только что, сейчас прозрел!.. Безумец зажег слепца безумным светом своих очей. Слепец прозрел. Мертвый царевич – видит! Так недополненный кубок божества, пролитый на землю, рождает зрение. Слепой не вынес луча безумия. Учитесь, о учитесь!
Сфинксы. Мы улыбаемся.
Черт. Рассказывали ли вам что-нибудь подобное учителя?
Все. Нет, дорогой, не рассказывали.
Черт. Мы невидимы для окружающих. Мы только мрак и струи морена для смотрящих извне. Но мы всё видим. Но смотрите – что за странность! Вот собирается множество лягушек самых разнообразных, больших и малых, которые образуют гребень волны так, что мельчайшие лягушки подобны пене – и вот, о чудо! Смотрите! Смотрите! Из пены рождается, возникая, новый жрец искусств – Белокумирный. Какой странный кумир!
– «Не содержит ли он, однако, крыс!»
Одна. Ну, мне пора, однако, идти домой. Уже поздно, и не близок путь… До свиданья, остроумный Чертик!
Черт. Странное, странное зрелище! Я очарован им.
Кто-то. Это не бог… Это только выводок молодых лягушат, храбро поющих, каждый на свой лад, песни жизни.
Черт. Очень может быть. Искусственное заведение для разведения молодых лягушат? Совершенно невинное занятие, друзья, даже без знака вопроса; но почему здесь вопросы принимают очертания бога? Разводка лягушат… ха! ха! ха!
Сверху. А мы летим на раскатистый голос нашего друга. Нас там не приняли. Нас чуть не посадили в какую-то жидкость нетления, и только чьи-то чары, несмотря на негодование и вопль жрецов, спасли нас от преждевременного бессмертия. Ольга схватила насморк, простудилась. Я от неудобного положения, занятого разговорами, и полета верхом на облаке схватил головную боль. Кроме того, у меня болят зубы. Не знаешь ли, чем помочь?
Черт. Есть средства безусловно сильные. Например, положить руку на огонь. От сильной боли зубы должны утихнуть.
Молодой господин. Ты прав по обыкновению. А это что за не по-нашему одетые особы? Какой у них лихой независимый вид! Фу-ты ну-ты! Это наши товарки!
Черт. О! это одна из шуток, которыми я забавляюсь. Видишь ли, из музея похищены древние и ценные статуи. Пораженные тем, что происходило, они будут некоторое время стоять в оцепенении; мы же приведем на след их разыскивающих.
Молодой господин. О Черт, Черт! Ты обольщаешь всех, кроме себя.
Чиновник. Вот они. А вот и воры. Буду стрелять при попытке бегства.
Черт. Мы не двигаемся.
Все разбегаются, кроме Черта и Молодого человека.
Это было бы слишком скучно, если бы у моего правила обманывать были желания. Да! Скучно делать льготы для себя и невинности быть обманут<ой>.
Чиновник. Убежали! В погоню туда, в погоню!
Одна из учиниц. Мы не знаем, в чем дело. Мы отправились при очень невероятной обстановке. И вот…
Чиновник. Извините, извините… Я так виноват. Я прикажу здесь подать вам лошадей. Я стал жертвой недоразумения.
Одна. Да, но как же так?
Чиновник. Извините, извините, сударыня!
Черт и Молодой господин одни, беседуют.
Молодой господин. Смотрите, видите озеро и охотник за осокой держит за шнурок утку. Это манная утка кричит, и к ней слетаются товарищи и надают мертвыми от выстрелов охотника. Утка кричит, кричит… Что это, сударыня, значит? Я должен размышлять, не страшен ли этот сон – этот повальный полет в смерть. Я тоже был охотником.
Черт. Ужасна эта охота: где осока – годы, ни – дичь поколения.
Молодой господин. Ты говоришь страшные вещи. И твои очи страшны сегодня.
Черт. А вот девушка, подходящая к пропасти, чтобы кинуть нечто, лежащее на ладони. Но! Это живое – не только живое, но и целый народ. Да, он несом к пропасти, раздираемый междоусобиями. Окруженный жестокими и грозными соседями, он презирает военное ремесло, существующий только своей многочисленностью; он стремится распасться на сословия, разделенные ненавистью. Да! Его пропасть близка, и близок раздел между воинственными соседями. О леса, которые не предвидел старик Геродот, вы будете!
Молодой господин. Страшно, что ты говоришь, Черт. Ты сегодня мрачен.
Черт. Поневоле. О!.. О, я как раненый олень, ищущий уединения, готов взбежать на отдаленную звезду и с закинутыми рогами простонать истину. В этом есть глубокий смысл, мой друг. О леса, леса, на них качаются не плоды, а люди. Не мимо ли кладбища мы идем? Не страшно ли, что близость кладбища наводит на размышление о природе бессмертия с проткнутой проволокой и стеклянными глазами? Потому что всюду, несмотря на снег, вижу летние, яркие, красные и синие и нежноглиняные цветы, на таких же сине-зеленых или бледно-желтых широких густых ветках. Земная потуга на бессмертие. Но почему именно родили их глиняные и увядающие цветы? Или это голод бессмертия, зов его, идущий из дупла? Здесь люди задолго до смерти покупают место для своей могилы. И в дни именин – на место последнего покоя, и платят сторожу жалованье, чтобы он соблюдал порядок. Так они завоевывают весомый земной рай.
Нищие. Бабочки, а бабочки, помянем рабу божию. (Едят, стоя гурьбой, кутью с изюмом.) Подвиньтесь, родные бабочки!
Нищий. Вон господа идут! (Вкрадчиво.) Милый барин, дайте за упокой души!
Черт. Странно, черт возьми, очень странно. Идемте быстрей. Вот дом утолимой печали. Печали по отсутствующему бессмертию. Утолимой глиняными тяжелыми венками синих незабудок под стеклом с свинцовым днищем и боками! Странно! Очень странно! Вот надпись: «И настанет великая тишина». Под ним око с расходящимися лучами. Идемте, люди, быстрей!
Песнь мальчика на кладбище
Ударится сокол о колья Всем лётом соко́линой гру́ди, Упал. Доля соколья. Сверкает глаз в прозрачном пруде. Всё ходит около крутых и близких стен, В походке страшной сокола Покой преддверием смятен. Он ходит, пока лов Не кончен дикой смерти. О, телом мертвых соколов Покой темницы смерьте!Черт. Он кончил. Поприще глиняных цветков под свинцом и чугунной оградой! Мимо знаков! Страшный вывод! Где живые люди с восточными глазами? Кто не хочет смерти, тому не подаем руки. Того мы граним злобными взглядами и усмешками.
Пустырь. Метель.
Кто этот? Вот – один военный, который несет на себе другого?
Русский (с длинными усами, несущий замерзшего человека). Этого пьянчугу я нашел во время своей ежедневной прогулки за городом замерзающим и немогущим. Я нес его на плечах три версты и теперь, гордый и счастливый, что я могу спасти его, останавливаюсь перед вами, первыми встреченными здесь мной людьми. Помогите мне привести его в чувство и, когда он придет в себя, дать хорошего подзатыльника, чтобы он умел впредь, не замерзая, идти по большой дороге. Я счастлив, что спас его от смерти.
Черт. Замерзающая! Замерзающий людин! Судя по вашему бескорыстному поступку, высокому росту и отменно-дерзкому выражению лица, вы – отставной воин? Вы спасли его?
Русский. Да, я полковник, я полковник. И я спас его.
Черт. Я люблю видеть в вещах прообразы. Я люблю сквозь вещи зорким шагом видеть будущее. Вы разгоняете мои мрачные думы… Вы – добрый светлый луч, разогнавший сердечную непогоду. Но спешимте его привести в чувство. Ваша осанка и вид отставного военного заставляют меня снять шляпу и просить позволения пожать вашу руку.
Военный. О да, я отставной военный. При Тырнове мой полк переходил реку по шею в воде, шел лед. Мы сражались за Россию. Немногие остались живыми. У каждого свой нрав. Так со славою мне умирать? Я борюсь только за могилы предков!
Черт. Нет, я – черт. Но кто вы? А… Мм-да. Что ж, всякое бывает. Н-да!
Русский. Я протягиваю вам палец руки. Простите мне мой прямой и откровенный вопрос. Но я горд своей прямотой и тем, что два раза в лицо паивал одного временщика мошенником. Да, я ему прямо в лицо сказал: «Вы, ваше превосходительство, мошенник!» Теперь я с удовольствием пожму вашу, простите, честную руку. Да, я сказал правду, несмотря на то что я, как видите, очень беден. Я был у него на приеме и так и сказал: «Вы, ваше превосходительство, мошенник!» Что? И недурно?
Черт. Не только недурно, но и прекрасно. Прекрасно, и вы – статный старик, несущий на плечах замерзающего пьянчугу. Но, по-видимому, здесь холодно. Знаете что? Оставьте его на наше попечение. Оставьте нам и свое имя, чтобы этот несчастный знал, кому он обязан жизнью, а мы знали, в ком приветствовать приход человека.
Военный. С удовольствием! (Дает адрес.)
Черт. О, там бывал! Еще раз вашу прекрасную ручку. Эта рука работала шашкой.
Военный. Бал-дарю… Всего, всего хорошего. (Идет по снежной дороге.)
Черт. Какая прекрасная личность! И этих людей…
Военный. Я человек решительный. Ко мне раз подошли босяки: «Барин, барин, мы тебя зарезать хотим». Я им сказал: «Что вы думаете, что я цыпленок вам, что ли? Живой не дамся в руки! Подходите!» Они попятились и ушли. У меня же ничего с собою не было. Ну, здесь наши дороги расходятся. Бал-дарю!
Черт. Отведемте этого босяка в чайную и там приведем его в чувство Эй, половой! (На пьяного указывает.)
Половой. Что изволите?
Черт. Снегу, да всего того, что нужно.
Половой. Слушаюсь.
Черт. Эти люди могут спасти Россию. Какая открытая и благородная усмешка! Всегда и везде последним судьей выбирайте зверя. Не правда ли, великолепны эти извозчики со своими рыжими бородами, свежими голубыми глазами и тугими шеями? У многих из них лица властителей. С каким бы презрением отозвался бы зверь о наших!
Монашка. Братец, пожертвуйте на построение храма! Братец! Спасибо, дорогой мой! Спасибо, родной! Дай тебе бог здоровья!
Молодой господин жертвует.
Черт. Видел того, чьи глаза то широко темны, то выпуклы и напрягаются? Не правда ли, он безумец?
Безумец (вставая и протягивая руку). Вы думаете, что я безумец? Безумец! Да!
Половой (осклабившись). Сумасшедший!
Замерзший (вытирает усы и перестает ныть). Благодарю! (Подымается и уходит.)
Разносчик. Чулки вязаны, рукавицы теплые! Очень дешево, лучший товар!
Половой. Он теперь не замерзнет. Стреляная птица!
Черт. Но почему опять появляется на сцене чертеж России и слово «Россия» в страховании? Лишь только он ушел! Страшный человек!
Половой (подходит и пальцем трогает слово «Россия»). Так точно, сударь! Они будто отлучались куда-то, а теперь вернулись.
Черт (смотрит на часы). Однако неотложные дела заставляют меня лишиться вашего общества. Мы встретимся завтра у Кругликовых в семь часов?
Молодой господин. Да! До свиданья, глубокоуважаемый Черт!
Студент (засыпая над пивом). Отрешился…
Половой (появляясь, строго). Здесь засыпать не полагается.
Студент. А? Кружку!
Сфинксы (появляясь). Кружку!
Сиделец. Черного? Белого?
Сфинксы. Синего. Мы пьем только синее небо.
Сиделец. Как угодно!
Сфинксы (поют)
Лапы протягивая друг к дружке, Мы полним небом синим кружки, Мы смотрим светло и спесиво На все иные пива. Мир станет небом постепенно, О, Млечный Путь, зачем ты пена? Петь и пить будет, Кто нашу песню забудет.Французская свобода
Я пришла сюда согреться! Мои завяли крашеные перья, Холодна и одинока теперь я. О, куда мне деться?Ученый (входя и садясь за столик). Меня уморили проклятые ведьмы. Шея болит, ноги болят. Пива и пива!
Сиделец (с кружкой в руке)
Напиток охотно подам Пришедшим ко мне господам. Края пенного стакана широки и о́блы, О, не хотите ли, сфинксы, кусочка воблы? Пиво взойдет до Овна и до Рака. – О не угодно ли, сфинксы, рака? Пиво не дороже копеек пяти, Взметнет до Млечного Пути В моем стакане звездная пена, В обширном небе узнать поднос с пивной закуской – Обычай новорусский!Стакан пива принимает размеры вселенной. Посетители закуривают важно трубки, и в их дыме исчезает все – пивная и посетители. Молодой человек выходит на звездную ночь, извозчик пытается проехать… «Садитесь, я подвезу…»
Молодой господин (высаживается). Ну, здесь я слезаю…
Сторож. Мост в сказку разобран, господин. Вы останетесь в сказке до следующего действия.
Молодой господин. А! (Поворачиваясь, идет назад.)
Сторож (ставя заставу). Проезд в сказку закрыт, господа.
1909
223. Маркиза Дэзес
<Лель>
На днях я плясал. На этой неделе. Какого дня? Среда, четверг или воскресенье? В сидячей жизни это спасенье. Знакомые, приятели, родня. Устал. Вспотел. Уж отхожу. Как вдруг какой-то воин: «Подстричься вам пора-с!» Сказал и скок в толпу. Я думал: вот те раз! Я уже послать ему собрался вызов, Но не нашел в толпе нахала. Кроме того, здесь нужно было перейти какую-то межу. Я в созерцание ушел чьего-то опахала Из перышек голубеньких и сизых. Наука-то больно проста: сначала «милостивый государь», А потом свинцом возьми да и ударь. Да… А там, глядишь, и парни Несут кромсать в трупарню.Делкин
Ха-ха, куда он гнет! Забавник! И не моргнет!Перховский
Ну, я не трушу. Это и не странно. Лицом имея грушу…Делкин
Я бы хотел под мушкою стоять разок.Глобов
А правда, хороша, последний как мазок, В руке противника горсть спелой вишни?Перховский
Ну, тогда и выстрелы немного лишни. И тот, кто сумрачен, как инок, Тогда уж портит поединок.Холст
Э-е-е! Вы правы! Я как-то шел, Станом стройный сын степей, Влек саблю и серебро цепей…Лель (сходя)
В взоров море тонучи, Я хожу одетый в онучи. В сегоденки-лапотки Я воткнул стоять цветки. Вокруг пуговиц сорочки Легли синие цветочки.Все
Он чудо! Он прелесть! Он милка! От восторга выпала моя челюсть, Соседка, передайте мне вилку!Ценитель
О! Это тонко. Весьма! Вы заметили, какая нежность письма?Любитель
Да! Здесь что-то есть! Не знаете, здесь можно поесть?Писатель
Какой образ, какой образ! Пойду и запишу.Любитель
Пойду и что-нибудь перекушу.Ценитель
Я, идучи сюда, уже перекусил. Но он немного здесь перекосил.Художник
Молодчага! Молодчинище! Здоровенно!Писатель
И все так изученно, изысканно и откровенно, Здесь все разумно, точно, тонко! Стремление к письму цветочному И явный вкус к порочному.Пожилой человек
Какая прелесть глазами поросенка Смотрит вот с этого холста. Я бы охотно дал рублей с полста. Он в белое во все одет, и лапоть с онучем Соединен красивым лыком. Склонение местоимения «он» учим, – Могли бы ответить детские глаза спросившему, чем занято Ныне дитя. Наступят сроки, и главным станет то, Что сейчас как отдаленный гнев и ужас мерещится. Так… Я буду рад, когда мое имя с надписью «продано» на этот холст наносится. Но что? Он подаст нам руку! Послушай, дорогая, это не полотно, Что взгляды привлекло, как лучшее пятно. Ну, что же, новый друг! Из холста воображаемого выдем-ка! Какая добрая выдумка Заставила вас нарядиться в наряды Леля? Или старинная чарующая маска Готова по сердцу ударить, как новая изысканная ласка.Лель
Мне так боги Руси велели.Пожилой господин
Да? Вы чудак. Вы чудной.Лель
Кроме того, я связан в воле одной…Пожилой господин
Кем – полькой, шведкой, Руси дочью?Лель
Нет, но звездной ночью, Когда я обещанье дал расточиться в Руси русской рать И, растекаясь, в битвах неустанно умирать.Пожилой господин
Странное обещанье в наш надменный век. Прощайте, добрый человек.Поэт (одетый лешим)
Стан пушком златым золочен, Взгляд мой влажен, синь и сочен. Я рогат, стоячий, вышками. Я космат, висячий, мышками, Мои губы острокрайны, Я стою с улыбкой тайны. Полулюд, полукозел, Я остаток древних зол. Мне, веселому и милому козлу, Вздумалось прийти с поцелуем ко злу. Разочаруют, лобзая, уста, И загадка станет пуста: Взор веселый, вещий, древен, Будь как огнь сотлевших бревен.Распорядитель вечера (слуге)
За Рафаэлем пошли. Кто это пришли?Слуга
Маркиза Дэзес!Маркиза Дэзес
Я здесь не чувствую мой вес. Так здесь умно и истинно-изысканно. Но что здесь лучшее – ответь же, говори же! Чудесен юноши затылок бычий? И здесь совсем, совсем всё как в Париже! О, вы бесстрашно поступили, вводя этот обычай! Повсюду чисто, светло, сухо. Обоев тонкая обшивка. В них умирает муха? Мило, мило. Под живописью в порядке расставлены цветки? Духов болотных котелки? Собачки дикой коготки? Не той ли, что, бродя и паки, Утратила чутье в душе писателя с происхождением от собаки?Спутник
Быть может, да, но вот и он…Маркиза Дэзес
Хотите дам созвучье – бог рати он. Я вам подруга в вашем ремесле.Спутник
Да, он – Багратион, если умершие, уставшие хворать И вновь пришедшие к нам люди – божья рать, Смерть ездила на нем, как папа на осле, И он заснул, омыленный, в гробу.Маркиза Дэзес
О, боже, ужасы какие! Опять о смерти. Пощадите бедную рабу.Спутник
Я уже вам сказал, Что я искал, Упорный, своей смерти. Во мне сын высот ник, Но сегодня я уже не вижу очертаний неуловимой дичи. Когда я преследовал, вабя и клича, Дамаск вонзая в шею тура, Срывая лица маек в высотах Порт-Артура, Неодолимый охотник. Пояс казаков с железной резьбой Мне говорил про серебро далеких рек, Порой зарницей вспыхнувший разбой, – Вот что наполняло мою душу, человек! Я слышу властный голос: «Смерьте», – Просторы? Ужас? Радость? Рок? Не знаю. Нестройный звук нарек развилок двух дорог.Маркиза Дэзес
Ах, оставьте… вы все про про былое! Оставьте! Смотрите, я весела, воскликнуть готова «былое долой!» я. Смотрите лучше: вот жена, облеченная в солнце, и только его, Полулежа и полугреясь всей мощью тела своего, Поддерживая глубиной раздвинутого пальца Прекрасное полушарие груди (о взоры, богомольные скитальцы!), Чтобы рогатую сестру горячим утолить молоком, Козу с черными рожками и черным языком. Как сладок и, светом пронизанный, остер Миг побратимства двух сестер. Миг одной из их двух жажды Сделал мать дочерью, дочь матерью, родством играя дважды. Не сетуйте на мой нескладный образ, Но в этом больше смеха, сударь, а я по-прежнему к вам добра-с.(Пожимает, смеясь, руку.)
Пусть я с неловкостью дикарки Беру лишь те слова, что дешевы, но ярки.Спутник
Царица, нет – богевна! Твоя беседа сегодня так напевна.Маркиза Дэзес (смеясь)
Право! Вот я не знала! Но вставайте скорее с колен. Я подарю вам на память мое покрывало. Но тише, тише, сядем, Мы все это уладим.Спутник
Я знаю, что «смерьте» велел мне голос – Ваш золотой и долгий волос!Маркиза Дэзес
Да. Тише, тише. Слышите, там смеются. Это – Мейер. Сядьте сюда. Передайте мне веер. Где были вы вечор? Зачем так грустен ясный взор?Рафаэль
Я слышал зов. Надеюсь видеть папу Пия и Анджело!Распорядитель
Вино? Пришли!Слуга (заикаясь)
Они изволили, то есть пришли.Распорядитель
Ты мелешь, братец, чепуху!Слуга
Нет, нет! Я как на духу!Распорядитель
Но это явная ошибка! Быть может, вы не туда звонили! Или, в самом деле, Рафаэля имя шутник присвоил? Или?Рафаэль (с легким поклоном)
Мне при рождении святыми отцами имя Рафаила некогда дано.Распорядитель (к слуге)
О, олух! олух! ду… Я говорил тебе: вино!Рафаэль
Я вызвал здесь и переполох, и смуту, и беду… Я не думал… Я думал встретить Микель-Анджело.Распорядитель
Ах, здесь посвежело!(Пожимая руку Рафаэлю.)
Ах, я не могу! Я не могу! Здесь путаница вышла. Во всем вините, пожалуйста, слугу. Я убегу (убегает).Слуга
Ишь, куда повертывает Маковский дышло…Кто-то
О, Рафаэль-вино и Рафаэль живой! О, прибаутка ведем! Ну, что же, ты ошибся: домой, в путь обратный едем.Рафаэль и незнакомец уходят.
Рыжий поэт
Я мечте кричу: пари же, Предлагая чайку Шенье, (Казненному в тот страшный год в Париже), Когда глаза прочли: «чай, кушанье». Подымаясь по лестнице К прелестнице, Говорю: пусть теснится Звезда в реснице. О Тютчев туч! какой загадке, Плывешь один, вверху внемля? Какой таинственной погадка Тебе совы – моя земля?Слуга
Одни поют, одни поют, И нее снуют, и нее снуют, Пока дают живой уют.Зрители проходят и уходят. Маркиза Дэзес и Спутник в боковой горнице.
Маркиза Дэзес
То отрок плыл, смеясь черными глазами, И ветки черных усов сливались с звездными лозами. Я, звездный мир зная над собой, была права, И люди были мне, березке, как болотная трава. Неслышна ли<шь> ночь, незрима топь, Но что это? Переживаем ли мы вновь таинственный потоп? Почувствуй, как жизнь отсутствует, где-то ночуя, И как кто-то другой воскликнул: так хочу я! Люди стоят застыло, в разных ростах, и улыбаясь. Но почему улыбка с скромностью ученицы готова ответить: я из камня и голубая-с. Но почему так беспощадно и без надежды Упали с вдруг оснегизненных тел одежды! Сердце, которому были доступны все чувства длины, Вдруг стало ком безумной глины! Смеясь, урча и гогоча, Тварь восстает на богача. Под тенью незримой Пугача Они рабов зажгли мятеж. И кто их жертвы? Мы те же люди, те ж! Синие и красно-зеленые куры Сходят с шляп и клюют изделье немчуры, Червонные заплаты зубов Стоящих, как выходцы гробов. Вон, скаля зубы и перегоняя, скачет горностаев снежная чета, Покинув плечи, и ярко-сини кочета. Там колосится пышным снопом рожь И люди толпы передают ей дрожь. Щегленок вьет гнездо в чьем-то изумленном рту, И все перешло какую-то таинственную черту. Лапки ставя вместе, особо ль, Там скачет чей-то соболь. И козочки ступают осторожно по полу, Глазом блестя, оставив живопись, А сова, раньше мел, – над ними крыльями хлопала, О, спутник мой, крепись! Щегленок – сын булавки! И все приняло вид могильной лавки! Там в живой и синий лен Распались женщин кружева. Н взгляд стыдливо просветлен Той, которая, внизу камень, взором жива. От каждой шеи, от каждой выи Вспорхнули тени. Зачем живые? Все стали камнями какого-то сада, И звери бродят скучные среди них – какая досада: И ее глазах и стыд, и нега, И отсвет бледный от другого брега. Ей милостью оставлен легкий ток, Полузаслоняя вид нагот. Взор обращен к жестокому Судье. Там полубоязливо стонут: Бог, Там шепчут тихо: Гот, Там стонут кратко: Дье! Это налево. А направо люди со всем пылом отдались веселью, Не заметив сил страшных новоселья.Спутник
Бежим! Бежим отсюда, о госпожа!Маркиза Дэзес
Но что это? Ты весь дрожишь? Ты весь дрожа? Но спрашивать не буду. Куда же мы идем, мой «мой»?Спутник
В божество, божество, спасающее глаз тьмой! Мои имения мне принесут земную мощь! В «вчера» мы будем знать улыбку тещ. Но нет! Не скучно ли быть рабом покорным суток. Нет, этот путь, как глаз раба печальный, жуток! Убийца всех, я в сердце миру нож свой всуну! Божество. Стать божеством. Завидовать Перуну. Я новый смысл вонзаю в «смерьте». Повелевая облаками, кидать на землю белый гром… Законы природы, зубы вражды ощерьте! Либо несите камни для моих хором. Собою небо, зори полни я, Узнать, как из руки дрожит и рвется молния.Маркиза Дэзес
Успокойся, безумец, успокойся!Спутник
Сокройся, неутешная, сокройся! Твоя печаль и ты, но что ты рядом с роком значишь?Маркиза Дэзес (закрыв лицо)
Но ты весь дрожишь? Ты плачешь?Спутник
Так! Я плачу. Чертоги скрылись волшебные с утра. Развеяли ветра. Над бездною стою. Не «ять» и «е», а «е» и «и»! Не «ять» и «е», а «е» и «и»! Голос неумолкший смерти. Кого – себя? Себя для смерти! Себя, взиравшего! О, верьте, мне поверьте!Маркиза Дэзес
Ты сумен, друг. Бежим, бежим! Разве не ужасен этот ножа молчания нажим К стеклу внимающего духи, Кого, как нетопыри, растянуто ухо. Слышишь, как умолкло странно все вокруг и в тишине внезапной нарастая, Бежим – сейчас войдут к нам горностаи. И заструятся змейки узких тел. Но что это? Чей меч иль бич в ночи свистел? О, бежим, бежим! Ты не можешь? Повсюду дышит новый зверь. Я не Дэзес. Я русская, я русская, поверь!Спутник
Бог от «смерти» и бог от «смерьте»!
Маркиза Дэзес. С твоей руки струится мышь. Перчатка с писком по руке бежит. Какая резвая и нежная она! Так что-то надвигается! Я уже дрожу. Но подавляю гордо болезненную улыбку уст.
Спутник. Бежим!
Маркиза Дэзес. Хорошо. Я бегу. Но я не могу. Жестокий! Что ты сделал! Мои ноги окаменели! Жестокий, ты смеешься? Уж не созвучье ли ты нашел «Нелли»? Безжалостный, прощай! Больше я уже не в состояния подать тебе руки, ни ты мне. Прощай!
Спутник. Прощай. На нас надвигается уж что-то. Мы прирастаем к полу. Мы делаемся единое с его камнем. Но зато звери ожили. Твой соболь поднял головку и жадным взором смотрит на обнаженное плечо. Прощай!
Маркиза Дэзес. Прощай! Как изученно и стройно забегали горностаи!
Спутник. С твоих волос с печальным криком сорвалась чайка. Но что это? Тебе не кажется, что мы сидим на прекрасном берегу, прекрасные и нагие, видя себя чужими и беседуя? Слышишь?
Маркиза Дэзес. Слышу, слышу! Да, мы разговариваем на берегу ручья! Но я окаменела в знаке любви и прощания, и теперь, когда с меня спадают последние одежды, я не в состоянии сделать необходимого движения.
Спутник. Увы, увы! Я поднимаю руку, протянутую к пробегающему горностаю. И глаз, обращенный к пролетающей чайке. Но что это? И губы каменеют, и пора умолкнуть. Молчим! Молчим!
Маркиза Дэзес. Умолкаю…
Голос из другого мира. Как прекрасны эти два изваяния, изображающие страсть, разделенную сердцами и неподвижностью.
– Да. Снежная глина безукоризненно передает очертания их тел.
– Ты прав. Идем в курильню!
– Идем. (Идут.) Я то же предложить хотел.
Конец 1909, 1911
224. Госпожа Ленин
Действующие лица:
Голос Зрения. Голос Слуха.
Голос Рассудка. Голос Внимания.
Голос Памяти. Голос Страха.
Голос Осязания. Голос Воли.
Время действия – 2 дня в жизни г-жи Лени́н, разделяемые неделей.
Сумрак. Действие протекает перед голой стеной.
Действие 1-е
Голос Зрения. Только что кончился дождь, и на согнутых концах потемневшего сада висят капли ливня.
Голос Слуха. Тишина. Слышно, что кем-то отворяется калитка. Кто-то идет по дорожкам сада.
Голос Рассудка. Куда?
Голос Соображения. Здесь можно идти только в одном направлении.
Голос Зрения. Кем-то испуганные, поднялись птицы.
Голос Соображения. Тем же, кто отворил дверь.
Голос Слуха. Воздух наполнен испуганным свистом, раздаются громкие шаги.
Голос Зрения. Да, своей неторопливой походкой приближается.
Голос Памяти. Врач Лоос. Он был тогда, не очень давно.
Голос Зрения. Он весь в черном. Шляпа низко надвинута над голубыми смеющимися глазами. Сегодня, как и всегда, его рыжие усы подняты к глазам, а лицо красно и самоуверенно. Он улыбается, точно губы его что-то говорят.
Голос Слуха. Он говорит: «Добрый день, г-жа Лени́н!» А также: «Не находите ли вы, что сегодня прекрасная погода?»
Голос Зрения. Его губы самоуверенно улыбаются. У него на лице ожидание ответа. Его лицо принимает строгий вид. Его лицо и рот принимают смеющееся выражение.
Голос Рассудка. Оно делает вид, что извиняет молчание; но я не отвечу.
Голос Зрения. Его губы принимают вкрадчивое выражение.
Голос Слуха. Он снова спрашивает: «Как ваше здоровье?»
Голос Рассудка. Ответь ему: «Мое здоровье прекрасное».
Голос Зрения. Его брови радостно шевельнулись. Лоб наморщен.
Голос Слуха. Он говорит: «Надеюсь…»
Голос Рассудка. Не слушай, что он говорит. Скоро он будет прощаться. Скоро уйдет.
Голос Слуха. Он продолжает все еще что-то говорить.
Голос Зрения. Губы его не перестают двигаться. Он смотрит мягко, просяще и вежливо.
Голос Догадки. Он о чем-то нужном говорит.
Голос Рассудка. Пускай говорит. Он не получит ответа.
Голос Воли. Он не получит ответа.
Голос Зрения. Он удивлен. Он делает движение рукой. Несмелое движение.
Голос Рассудка. Необходимо подать ему руку, несносен обряд.
Голос Зрения. Его черный котелок плывет в воздухе, подпилен и опустился на русые кудри. Он повернулся черными прямыми плечами, на которых оставшаяся от щетки белая пылинка. Он удаляется.
Голос Радости. Наконец.
Голос Зрения. Он, темнея, мелькнул за деревьями.
Голос Слуха. Слышу шаги в конце сада.
Голос Рассудка. Он не придет сюда снова.
Голос Слуха. Калитка стукнула.
Голос Рассудка. Скамейка влажна, прохладна, и все тихо после дождя. Ушел человек – и опять жизнь.
Голос Зрения. Мокрый сад. Кем-то сделанный чертеж круга. Следы ног. Мокрая земля, мокрые листья.
Голос Разума. Здесь страдают. Зло есть, но с ним не борются.
Голос Сознания. Мысль победит. Ты, одиночество, спутник мысли. Нужно избегать людей.
Голос Зрения. Прилетевшие голуби. Улетевшие голуби.
Голос Слуха. Открылась снова дверь.
Голос Воли. Я молчу, я избегаю других.
Действие 2-е
Голос Осязания. Шевельнулись руки, и пальцы встречают холодный узел рубашки. Руки мои в плену, а ноги босы и чувствуют холод на каменном полу.
Голос Слуха. Тишина. Я здесь.
Голос Зрения. Синие и красные круги. Кружатся, переходят с места на место. Темно. Светильник.
Голос Слуха. Опять шаги. Один, другой. Они громки, потому что кругом тишина.
Голос Страха. Кто?
Голос Внимания. Шли туда. Изменили направление. Идут сюда.
Голос Рассудка. Сюда – только ко мне. Они ко мне.
Голос Слуха. Стоят. Все тихо.
Голос Ужаса. Двери скоро отворятся.
Голос Слуха. Щелкает ключ.
Голос Страха. Ключ повертывается.
Голос Рассудка. Это они.
Голос Сознания. Мне страшно.
Голос Воли. Но все же слово не будет произнесено. Нет.
Голос Зрения. Дверь раскрылась.
Голос Слуха. Вот их слова: «Госпожа больная, будьте добры перейти. Господин врач приказал».
Голос Воли. Нет.
Голос Сознания. Буду молчать.
Голос Зрения. Они обступили.
Голос Осязания. К плечу прикоснулась рука.
Голос Воспоминания….белому, когда-то.
Голос Осязания. Пола коснулись волосы.
Голос Воспоминания…. черные и длинные.
Голос Слуха. Они говорят: «Держи за голову, возьми за плечи! Неси! Идем!»
Голос Сознания. Они несут. Все погибло. Мировое зло.
Голос Слуха. Доносится голос: «Больная все еще не переведена?» – «Никак нет».
Голос Сознания. Все умерло. Все умирает.
1909, 1912
225. Аспарух
I. Войско в степи
Отрок. О, Аспарух! Разве ты не слышишь, что громко ржут кони? Это стан князей. Они не хотят идти. Им ясные очи подруг дороже и ближе ратного дела. Среди лебяжьих столиц они вспоминают о судьбах семей, покинутых на заботы. Если ты идешь на войну, то зачем тобою взято мало стрел? Так они в недовольстве говорят о походе. И требуют вернуться.
Аспарух. Слушай, вот я поскачу прочь от месяца; громадная тень бежит от меня по холмам. И если мой конь не догонит тени, когда я во всю быстроту поскачу по холмам, то грянется мертвый от этой руки мой конь и навеки будет лежать недвижим. (Скачет.)
О трок. Совершилось: грохнулся наземь и подымает голову старый конь, пронзенный мечом господина.
Аспарух. Иди и передай что видел.
II
Лют. Уж стены Ольвии видны.
Аспарух. Здесь будут шатры. А это – головы князей?
Лют. Повиноваться нас учили предки, и мы верны их приказаньим, хотя ты строг и много юношей цветущих среди погибших умерло князей.
III. Стан вечером
1-й воин. Вот эллин. Лежит и напевает беззаботно.
2-й воин. Я видел их, когда был пленным.
Бывало, парубки и девки Масло польют на белый камень, Чтоб бог откушал, И после скачут, оголясь, вокруг костров. Нагие девки их в венках Волнуют кровь и раскаляют душу. А белобородые жрецы благословляют происшедшее, Их обычай обольстительней, чем наш.1-й воин. Где грек?
2-й воин. Лежит и смотрит.
Отрок (протягивая руку к пленному). Отпустите!
Эллин проходит на шатер, оттуда доносится смех.
Стража. Что-то веселое принес с собою юркий эллин.
Голос из шатра: «Проводите до ворот».
Кто-то закутанный в плаще выходит.
Стража. Он вырос и выше и шире в плечах. И шаг длиннее. Но след исполнить приказанье. А неладно. Ночь синее.
Старший воин провожает.
Воин
Молчит, а мне за ним идти. Эй ты, скажи хоть слово! Или ты хочешь заработать что-нибудь молчанием? Кроме палочных ударов – ничего нет. Но вот стоящие на стенах города Вышли встречать; а вот и плата!(Хочет ударить.)
Ай, ай, кто ты?
Аспарух. Смерть, смерд! (Коротким мечом убивает его и перескакивает через ров.)
IV
Город. Праздник. Жрецы в венках немертвых белых цветов стоят безглагольно на углу площади. Шествие, будто из белых богов и богинь, возлагает венки на жертвенный камень.
Заговор: «Сгинь! Сгинь! Улетайте, ходоки, в неба пламень!»
Присутствующие (поют, закутанные в белое)
Все коварно, все облыжно! Пламень все унесть готов, Только люди неподвижно Вознесли венки цветов. Громче лейтесь, звуки песен, Каждый юноша внемли: Будет гроб для каждой тесен, Каждый только клок земли.Жрец
Горе, горе, гнев и ужас, Наземь лягши, поклонитесь! В солнце светлом обнаружась, Лучезарный виден витязь. Все сошлось в единый угол: Горе, грезы, свет и гром. И, лицом прекрасным смугол, Бог блистает серебром. Горе, горе, гнев и гнев! Вознесите плачи душ, На вас смотрит, загремев, Лучезарный бледный муж!Присутствующие падают на колени, молясь и коленопреклоненные. Аспарух в темном плаще, некоторое время стоит, не решаясь, прямо и неподвижно, после опускается тоже. Крики: «Это переодетые грабители!» Вооруженная стража грубо бросается к нему.
Аспарух (подымаясь и замахиваясь мечом). Прочь, чернь!
Воин (подымаясь с земли). Нет, он не простой!
Толпа
Вот кто водит и морочит свой народ. Златом сорт каждой ночью во всех притопах у ворот. Холодая, голодая, стоит войско в диком поле. Знать, гречанка молодая отняла у князя волю. Золотое в золоченом вознесли мы чаши с влагой, Отдавайся же с отвагой пляскам, неге наученным. Пляши с нами, о Аспарух! Иди за нами, о Аспарух! Побежденный нестуденым Губ прижатьем девы младшей, Отдавайся же смущенным Пляскам тайны с девой падшей.(Увлекают Аспаруха за собой.)
V
Начальник города. Где Аспарух? В каком притоне отдыхает он от своих подданных? Его войска взбесились и хотят идти на приступ. У ворот кто-то убит. Где Аспарух? В какой трущобе скрывается он от своих подданных? Уж три стрелы лежат у храма Дианы.
VI
Лют. На седла, воины! Вперед. Пусть все решит военный жребий.
Начинается сражение.
1-й воин
На днях хвалился эллин Привратника дать место Аспаруху.2-й воин. А кто-то принес перстень и меч и говорил, что это вещи Аспаруха. Эллины дерутся отчаянно. Но жребий вынут. Но кто это в развевающемся плаще бежит через пустырь? Он кричит: «Где мои войска, где мой конь?»
Аспарух
Столпитесь же вокруг меня, держащие луки наготове Приговор мне ведом. Слетайтесь же ко мне, стрелы, Как стрижи на вечерний утес. Я буду стоять как вечерний утес, Закутанный и один, мертвого же меня Не бросайте, но отвезите к великим порогам. Я закрываюсь плащом и жду.Жрец (протягивая руку). Мужайся, Аспарух!
В о и н. Зашатался и упал, и разъезжаются по своим местам.
1911
226. Мирско́нца
I
Поля. Подумай только: меня, человека уже лет семидесяти, положить, связать и спеленать, посыпать молью. Да кукла я, что ли?
Оля. Бог с тобой! Какая кукла!
Поля. Лошади в черных простынях, глаза грустные, уши убогие. Телега медленно движется, вся белая, а я в ней точно овощ: лежи и молчи, вытянув ноги, да посматривай за знакомыми и считай число зевков у родных, а на подушке незабудки из глины, шныряют прохожие. Естественно и вскочил, – бог с ними со всеми! – сел прямо на извозчика и полетел сюда без шляпы и без шубы, а они: «лови! лови!»
Оля. Так и уехал? Нет, ты посмотри, какой ты молодец! Орел, право – орел!
Поля. Нет, ты меня успокой, да спрячь вот сюда в шкап. Вот эти платья, мы их вынем, зачем им здесь висеть? Вот его я надел, когда был произведен, – гм! гм! дай ему царствие небесное, – при Егор Егоровиче в статские советники, то надел его и в нем представлялся начальству, вот и от звезды помятое на сукне место, хорошее суконце, таких теперь не найдешь, а это от гражданской шашки место осталось, такой славный человек тогда еще на Морской портной был, славный портной. Ах, моль! Вот завелась, лови ее! (Ловят, подпрыгивая и хлопая руками.) Ах, озорная! (Оба ловят ее.) Все, бывало, говорил: «Я вам здесь кошелек пришью из самого крепкого холста, никогда не разорвется, а вы мой наполните, дай бог ему разорваться!» Моль! А это венчальный убор, помнишь, голубушка, Воздвиженье? Так мы все это махоркой посыплем и этой дрянью, что пахнет и плакать хочется от нее, и в сундук положим, запрем, знаешь, покрепче и замок такой повесим хороший, большой замок; а сюда, знаешь, подушек побольше, дай периновых – устал я, знаешь, сильно, – чтобы соснуть можно было, что-то сердце тревожно: знаешь, такие кошки приходят и когти опускают на сердце, сама видишь все неприятности: коляска, цветы, родные, певчие – знаешь, как это тяжело! (Хнычет.) Так если придут, скажи: не заходил и ворон костей не заносил, и что не мог даже никак прийти, потому что врач уже сказал, что умер, и бумажку эту, знаешь, сунь им в самое лицо и скажи, что на кладбище даже увезли проклятые и что ты ни при чем и сама рада, что увезли, бумага здесь главное, они, знаешь, того, перед бумагой и спасуют, а я… того (улыбается), сосну.
Оля. Родной мой, заплаканы глазки твои, обидели тебя, дай я слезки твои этим платочком утру! (Поднимается на цыпочки и утирает ему слезы.) Успокойся, батюшка. Успокойся, стоит из-за них, проклятых, беспокоиться, улыбнись же, улыбнись! На, рябиновку налью: вот выпей, она помогает, вот мясные лепешки, и свечку возьми в черном подсвечнике, он тяжелее.
Звонок.
Поля. От моли насыпь в сундук (прыгает с подсвечником в руке. Она с победоносным видом запирает на ключ, оглядывается и подбоченясь выходит в переднюю).
Голос в передней. Доброе утро! М-м э-э! Па… Нико… э-э?
Оля. Царство ему небесное! Вот… хмык, хмык… (Плачет.) Увезли, спрятали. Увезли, а он сердечный – живехонек!
Голос в передней. То есть? Э-э! – тронулась старуха, совсем рехнулась! Э-э? – это чудо, это, э-э, можно сказать, случай!
Оля. Умер, батюшка, умер, с полчаса только, ну, что мне, старой, божиться; ногами в гробу… А он умер, честное слово, а вы, может быть, куда-нибудь торопитесь, спешите, а? А то посидите, отдохните, если устали, уж уйду свечу поставить, знаете обычай, вы отдохните, посидите в гостиной, покурите, а ключа не дам ни за какие смерти: режьте, губите, волоките на конских хвостах белое тело мое, только не дам ключа, вот и весь сказ. Посидите в гостиной, не бойтесь…
О н. Того…
Оля. Да вы не спешите, куда же вы торопитесь? Ушел-таки… А странный, говорит, случай. (Стучит ключом в шкап.) Ушел, соглядатай проклятый, уж я и так и так…
Поля. Что? Ушел?
Оля. Ушел, родной.
Поля. Ну и слава богу! И хвала ему за то, что ушел. А я сижу здесь да думаю, что и как оно обернется, а оно все к лучшему.
Оля. Уж я ему: «Да вы куда-нибудь торопитесь, может быть, спешите?» А ему все невдомек, прости господи! Да ты выдь, батюшка. Опять звонок! И отпирать не буду: прямо скажу – больна да при смерти! Кто там? (Неясный ответ.) Больна, сударь мой, больна!
Голос неизвестного. Я врач.
Оля. А у меня, сударь, такая болезнь, что увижу врача – или метла и руку прыгает, или кочерга, а то воды кувшин или еще что хуже.
Голоса за дверью. Что? – По-видимому! Как быть?
– А бог с ней! Нам-то что?
– Пусть себе ездит на помеле!
Оля. Ушли, удалой мой, ушли.
Поля. Что-то глуховат…
Оля. Я им метлой, как тут не уйти? (Отпирает ключом дверь, накрывает на стол.) Уедем в деревню… нехорошо: певчие, чужие люди, лошади я шляпах.
II
Старая усадьба. Столетние ели, березы, пруд. Индюшки, куры. Они идут вдвоем.
Поля. Как хорошо, что мы уехали! До чего дожили: в своем дому пришлось прятаться… Послушай, ты не красишь своих волос?
Оля. Зачем? А ты?
Поля. Совсем нет, а помнится мне, они были седыми, а теперь точно стали черными.
Оля. Бот, слово в слово. Ведь ты стал черноусым, тебе точно сорок лет сбросили, а щеки как в сказках: молоко и кровь. А глаза – глаза чисто нить, право! Ты писаный красавец, как говорили деды в песнях старых! Что за притча такая?
Поля. Ты видишь, кстати, наш сосед приехал к нам и об естественном беседует подборе с Надюшей. Смотри да замечай: не быть бы худу.
Оля. Да, да, и я приметила. А Павлик бьет баклуши, пора учиться отдавать.
Поля. К товарищам: пускай собьют толчками и щипками пух нежный детства. Не дай бог, чтоб вырос маменькин сынок.
Оля. Ну уж пожалуйста! Помнишь ты бегство без шляпы, извозчика, друзей, родных… тогда он вырос… и конский колыхался хвост над медной каской, и хмурые глаза смотрели на воина лице угрюмом, блестя огнем печально дорогим, а теперь пух черный на губе, едва-едва он выступает, как соль сквозь глину, – опасная пора: чуть-чуть недоглядишь – и кончено!
Подходит Петя с ружьем и вороном в руке.
Петя. Я ворона убил.
Оля. Зачем, зачем? Кому же надо?
Петя. Он каркал надо мной.
Оля. Обедать будешь ты один сегодня. Запомни, что, ворона убив, в себе самом убил ты что-то.
Петя. Я сыт: я сливки пил у Маши.
Оля. У Маши?.. Завтра ты уедешь!
Поля. Да, сударь, рано, очень рано!
Петя. И хлеба черный кус она мне принесла.
Поля. Пора служить!
Петя. Кому, чему? Себе – согласен, а также милым мне.
Поля. Приятно слышать! А, происхождение видов! Добро пожаловать к нам в гости! Нинуша, Иван Семенович здесь! Не правда ли, что у обезьян в какой-то кости есть изъян? Мы не учены, но любит старость начитанных умы.
Оля. Ушли куда-то…
Поля. Как будто бы в беседку. Опасная соседка!
Оля. Беседка, м-м, пора, пора!
Появляется сияющая Нинуша.
Нинуша. Он, он! (Отвечая на молчаливый вопрос, говорит.) Да, да!
Нина. Он начал про Дарвина, а кончил так невинно: «На небе солнце есть, а после – я имею честью»… и сделался совсем иной и руку поцеловал слюной.
Поля. Я очень рад, я очень рад, будь весела, здорова, умна, прекрасна и сурова.
Нина. Об этом знала я тогда, когда сидели мы в саду на той скамье, где наши имена в зеленой краске вырезаны им, и наблюдали сообща падучих звезд прекрасный рой, и козодой журчал вдали, и смолкли шепоты земли.
Поля. Давно ли мы, теперь они, а там и вы – так всё сменяется на свете.
Нина. Но видишь, он стоит под деревом, и я скажу ему «согласна». Согласен? (Хватает за руку.)
Поля. М-м-м!
III
Лодка, река. Он вольноопределяющийся.
Поля. Мы только нежные друзья и робкие искатели соседств себе, и жемчуга ловцы мы в море взора, мы нежные, и лодка плывет, бросив тень на теченье; мы, наклоняясь над краем, лица увидим свои в веселых речных облаках, пойманных неводом вод, упавших с далеких небес; и шепчет нам полдень: «О, дети!» Мы, мы – свежесть полночи.
IV
С связкой книг проходит Оля, и навстречу идет Поля. Он подымается на лестницу и произносит молитву.
Оля. Греческий?
Поля. Грек.
Оля. А у нас русский.
Встречаются через несколько часов.
Оля. Сколько?
Поля. Кол, но я, как Муций и Сцевола, переплыл море двоек и, как Манлий, обрек себя в жертву колам, направив их в свою грудь.
Оля. Прощай.
V
Поля и Оля с воздушными шарами в руке, молчаливые и важные, проезжают в детских колясках.
<1912>
227. Ошибка Смерти. Тринадцатый гость
Действующие лица: Барышня Смерть, 12 посетителей и 13-й посетитель.
Место действия: харчевня веселых мертвецов-трупов с волынкой в зубах.
Барышня Смерть. Друзья! Начало бала Смерти. Возьмемтесь за руки и будем кружиться.
Запевало
В шали шалый шел, Морозный слышу скрежет, Трещит и гнется пол, Коготь шагающий нежит. Ударим, ударим опять в черепа, Безмясая пьяниц толпа. Там, где вилось много вервии́ Нежных около висков, Пусть поют отныне черви Песней тонких голосков. Мой череп по шов теменной Расколется пусть скорлупой, Как друга стакан именной, Подымется мертвой толпой. Жив ли ты, труп ли ты, пой-ка! Да славится наша попойка, Пусть славится наша пирушка, Где череп веселых – игрушка, И между пирушки старушка, И с пьяною рожей старец веселья, Закутан рогожей, – он князь новоселья! Все, от слез до медуницы, Все земное будет «бя». Корень из нет-единицы Волим вынуть из себя. Довольно! (Останавливает круг.)12 гостей. Теперь что делать, Барышня Смерть?
Барышня Смерть
Ты часы? Мы часы! Нет, не знаешь ни аза, Кверху копьями усы, И закрой навек глаза! Там, где месяц над кровлей повис, Стрелку сердца на полночь поставь И скажи: остановись! Все темное грезь и явь. В старинном сипе Ночных дверей Погибни, выпей, Умри скорей. Как бусы ниток, Виденья дней Рассыпь, нишкни так, И стань бледней. Бледней и шатайся… Окончим бал Смерти, господа! Я устала. Я сяду. Мы летели, мы дышали, И на теле эти шали, Точно птицы, пав на снег, Подымая нас на смех, Знали, есть обед из нег. Вот. Тот мот, – Кто-то, что лучше За гробом чарующей тучи.(Берет соломинку и пьет вишневый сок из стеклянного стакана.)
12 гостей делают то же. Длинный стол, крытый белым. В стаканах красное, темное.
ПИР
Барышня Смерть (сосет красную сладкую воду; в губах ее соломинка золотистая, узкая). Мне дайте голову Олега, – мой милый, храбрый мальчик. (Пьет и задумывается.) Эй! Дайте лед!
У некоторых черепов черные губы.
(Зевает.) Эй! Белые чары! К ужину, господа! (Медленно встает и уходит в дверь.) Мне показалось, там у дверей стоит этот мальчик.
Медленно снимает с соломинки чехол. И в белом вся бродит с хлыстом среди гостей. Укротительница среди своих зверей. Чаши – с глиняно-желтыми надбровными дугами и серыми скулами – около гостей. Стук в двери.
Кто там, кто там в этот час? Кто прильнул сюда, примчась?Дружок, отворите двери – вам ближе; а вы передайте мой хлыст – вот он там.
Так безумен и неистов, Кто стучится в темный выстав? На горящее окно Его бурей принесло?Голос
Эй! Отворите!Барышня Смерть
Он сюда стучит опять, Он сюда вошел, скользя, Нас всего… Четыре, пять… Он – тринадцатый, нельзя! Иль немой сказал: «Агу», Иль он молвил: «Не могу», Он вошел и стал под притолкой, Милый, милый, его вытолкай.Вошедший
Эй! Торговка смертью! Я не читал про город Глупов, Но я вижу много бледных трупов. Они милы, они милы, В когтях смеющейся плутовки, Их губы – скорые винтовки, Но лица их мелы, мелы.Они молчат, они умерли, как огонь, брошенный на снег, и лица их белы, как пятно мела на стене. Да, это харчевня мертвых гуляк. Вот куда я попал. Я также хочу быть сытым всем, чем здесь сыты эти белые, эти меловые у стен. Некоторые из них еще шевелятся: так мухи умирают на цветке – лениво и с неохотой. Слушай! (Сгибая шашку.) Я, тринадцатый, тоже хочу пива мертвых. Мне нравится моя греза.
Приходит сон: одни ложатся и шепчут «няня», другие – «братец» и что-то бормочут и ворчат.
Слушай! Я требую пива мертвых: его напились эти белые, эти меловые у стен. Струятся, как оплывшая свеча, их одежды, и у всех полореха в руках. Эй! Я приказываю!
Барышня Смерть. Слушаю, барин; да как же это сделать, стакана нет свободною?
Вошедший. Это не мое дело. Я приказал, я покупаю в харчевне мертвецов глоток кубка смерти.
Барышня Смерть. Ах ты, напасть какая! На рынок, что ли, пойти?
Вошедший. Ни снежинки совета и помощи.
Барышня Смерть. Уж очень ты подозрительный человек – вот что, верно говорю.
Вошедший. Да, или ты лишаешься права торговли смертью навсегда и повсюду.
Барышня Смерть. Вот какой строгий. (Надевает платочек.) И вправду беда. Ну, чего смотришь, проклятый? В харчевне мертвецов нельзя пить чужими стаканами.
Среди мертвецов некоторое оживление и у некоторых за меловой маской – огонь живых. Они шевелятся концами бровей, рта.
Барышня Смерть (берет хлыст). Назад, проклятые! Назад, в смерть! (Щелкает хлыстом.) На кого теперь их оставлю? Сидите смирно (Уходит.)
Двенадцать, которые прилипли к стенам, как скамья мертвых, оживают; некоторые зажигают спички: «Позвольте прикурить». – «Благодарю вас». Другие сладко позевывают, потягиваясь: «Ох-хо-хо!»
Барышня Смерть. Нет дома соседки. А здесь все повскакали. Уйди ты! Что надо? Еще зарубит.
Тринадцатый. У меня ни капли сострадания. Я весь из жестокости.
Барышня Смерть (перебегает к двенадцати и усаживает их). Сидите, ястребы. Голову я потеряла.
Тринадцатый. Я, тринадцатый, спрашиваю – голова пустая?
Барышня Смерть. Пустая, как стакан.
Тринадцатый. Вот и стакан для меня. Дай твою голову. Барышня Смерть. Вот не соображу, что делать; будь полная, знала бы.
Тринадцатый. Идет? Ставка на глупость смерти.
Барышня Смерть. Идет.
Тринадцатый. Ты стояла когда-то на доске среди умных изящных врачей, и проволока проходила кости и выходила в руку, в паутине, а череп покрыт надписями латыни. Ну?
Барышня Смерть (потупившись). Да. Нас было три на цепи.
Тринадцатый. Отвинти свой череп. Довольно! Чаша тринадцатого гостя. А вместо него возьми мой носовой платок. Он еще не очень грязен и надушен (разворачивает).
Барышня Смерть. Повелитель! Ты ужаснее, чем Разин. Хорошо. А нижнюю челюсть оставь мне. На что тебе она? (Закидывает косы и отвинчивает череп, передает ему.) Не обессудь, родимой.
Тринадцатый (передает носовой платок). Не обессудь, родная.
Барышня Смерть. С носовым платком плохо видно. Сам налей себе. В черном бочонке, в черном твоя вода. Слушай! Не обмани меня! Как женщина, когда ее ведут в застенок, обнимает ноги палача, так я обнимаю и целую твои. Я ослепла. Я не вижу. Мой череп у тебя, у силача.
Тринадцатый. В первый раз в жизни я очень тронут таким добросердечным раскаянием. Смерть валяется в ногах у меня.
Двенадцать посетителей. Ты не обманешь, но мы обманем: мы невольники у стены, в глазах у которых скоро будет по государству червей, мы заклинаем: обмани!
Барышня Смерть. Я не увижу ни букашек, ни пира в харчевне: горе мне, я слепа, я обнимаю ноги; ты хотел, угрожал, требовал квас мертвых. Он в бочонке, а мой в голубом. Не перемешай их. Смотри: дочь могил, как березовый веник у твоих ног, – молит и заклинает. А если ты маятник между «да» и «нет», – то имей сердце!
Тринадцатый. Ты сама нальешь напитки.
Барышня Смерть. Но где мой череп? Где глаза? Слушай, и знаю, ты победил (ищет голову). Что теперь мне подскажет мой носовой платок? Ничего! Я победила или умираю? (Вскакивает.) Больше свиста свирелей из берцовых костей человека! Треска позвонков! Ударов в тазы! Больше лютней из узких мизинцев! Вы, двенадцать, вы хитро перешептываетесь. Среди вас я бродила с хлыстом. Теперь тоже не растерзаете меня. Прочь! Прочь!
О, черепа, играйте в лютни! О, кости, бейте в балалайки!Я налью две чаши – жизни и смерти – и сделаюсь иной, невкусной, беленой у дороги. Теперь выбирай.
Тринадцатый. Сама выбери.
Барышня Смерть. Я слепа.
Тринадцатый. Поэтому и выбери.
Барышня Смерть. Я пью, – ужасный вкус. Я падаю и засыпаю. Это зовется «Ошибкой Барышни Смерти». Я умираю (падает на подушки).
Двенадцать оживают толчками по мере ее умирания. Веселый пир освобожденных.
Барышня Смерть (подымая голову). Дайте мне «Ошибку г-жи Смерти». (Перелистывает ее.) Я все доиграла (вскакивает с места) и могу присоединиться к вам. Здравствуйте, господа!
23 ноября 1915
«Сверхповести»
228. Дети Выдры
1-й парус
1
Море. В него спускается золотой от огня берег. По небу пролетаю! дни духа в белых плащах, но с косыми монгольскими глазами. Один из них касается рукой берега и показывает руку, с которой стекают огненные брызги; они, стеная, как лебеди осенью в темной ночи, уносятся дальше. Издали доносится их плач.
Берег вечно горит, подымая костры огня и бросая потоки лавы в море, волны бьются о красные утесы и черные стены.
Три солнца стоят на небе – стражи первых дней земли. В верхнем углу площадки, по закону складней, виден праздник медведя. Большой черный медведь сидит на цепи. Листвени Севера. Вокруг него, потрясая копьями, сначала пляшут и молятся ему, а потом с звуком бубен и плясками съедают его. Водопад лавы падает с утесов в море. Дети Выдры пролетают, как нежно-серебристые духи с белыми крылами.
2
Волны время от времени ударяют о берег. Одно белое солнце, другое, меньшее, красное с синеватым сиянием кругом и третье – черное в зеленом венке. Слышны как (бы) слова жалобы и гнева на странном языке. В углу занавеси виден конец крыла. Над золотым берегом показывается крылатый дух с черным копьем в руке, в глазах его много злой воли. Копье, шумя, летит, и красное солнце падает, точно склоняясь к закату, роняя красный жемчуг в море; земля изменяется и тускнеет. Несколько зеленых травинок показалось на утесе, сразу прыгнув. Потоки птицы.
Встав на умершее солнце, они, подняв руку, поют кому-то славу без слов. Затем Сын Выдры, вынув копье и шумя черными крылами, темный, смуглый, главы кудрями круглый, ринулся на черное солнце, упираясь о воздух согнутыми крыльями, – и то тоже падает в воды. Приходят олени и звери.
Земля сразу темнеет. Небу возвращается голубой блеск. Море из черного с красными струями стало зеленым. Дети Выдры подают друг другу руку и впервые опускаются на землю. В дневной жажде они припадают устами к холодной струе, сменившей золотой поток лавы; он надевает на руку каменный молоток и раскалывает камень. Всюду травы, деревья, рощи берез. Он сгибает березу, роняющую листья, в лук, связывает прядью волос.
Показывается маленький монгол с крыльями.
Озирая курган прежних спутников, одинокое солнце закатывается в грустных облаках.
Покачивая первые дни золотого счастья, Матерь Мира – Выдра показывается на волнах с рыбой в зубах и задумчиво смотрит на свои дела.
Первый дым – знак жизни над той пещерой, куда привел их мотылек.
3
Дети Выдры сидят у костра вдвоем и растапливают свои восковые крылья. Сын Выдры говорит, показывая на белое солнце: «Это я!»
Черный конь морских степей плывет, летит вода из круглой ноздри около круглого глаза. Кто-то сидит на нем, держа в руках слоновую доску и струны.
То первые дни земного быта.
Крупный морской песок. Ребра кита чернеют на берегу. Морские кони играют в волнах. Одинокий естествоиспытатель с жестянкой ходит около них, изучая мертвые кости кита. Дочь Выдры берет в морскую раковину воды и льет за воротничок ученому. Он морщится, смотрит на небо и исчезает.
Небо темно-серое. Дочь Выдры окутана волосами до ног. Дождь. Письма молнии. Прячась от нее, они скрываются в пещере. Небо темнеет. Крупные звезды. Град. Ветер. Площадь пересекает черный самобег. Дикие призывные звуки. Здесь стон разбившегося насмерть лебедя и дикое хрюканье носорога. В темноту брошены два снопа света, из окна наклоняется истопник в шубе и, протягивая руку, кричит: «Туда» – и бросает на песок сумку. Страшный ветер. Дрожа от холода, они выходят, берут привезенные одеяла. Они одеваются. На нем пуховая шляпа. Дочь Выдры в черной шубке; на ней голубой чепец. Они садятся и уезжают. Бородатый людоконин, с голубыми глазами и копытами, проходит по песку. Муха садится ему на ухо; он трясет темной гривой и прогоняет. Она садится на круп, он поворачивается и задумчиво ловит ее рукой.
4
Поднимается занавес – виден герцог Будетлянин, ложи и ряд кресел. Дети Выдры проходят на свои места, в сопровождении человека в галунах.
На подмостках охота на мамонта.
Золотые березы осени венчают холм. Осины. Ели. Толпа старцев и малые внуки стоят, подымая руки к небу. Бивни, желтые, исчерченные трещинами, эти каменные молнии, взвились кверху. Как меткая смерть носится хобот в облаках пыли. В маленьких очах, с волосатыми ресницами, высокомерие. Художник в дикой, вольно наброшенной шкуре вырезает на кости видимое и сурово морщит лоб. Камни засыпают ловчую яму, где двигается только один хобот и глаза.
Занавес
Твою шкуру секли ливни, Ты знал ревы грозы, ты знал писки мышей, Но как раньше сверкают согнутые бивни Ниже упавших на землю ушей.2-й парус
Горит свеча именем разум в подсвечнике из черепа; за ней шар, бросающий на все шар черной тени. Ученый и ученики.
Ученый. Точка, как учил Боскович.
Ровесник Ломоносова. Что? (Срывается со стороны игра в мяч. Мяч куда-то улетает.) Бурные игроки!
Игрок
От силы сапога летит тот за облака.
Но слабою овечкой глядит другой за свечкой.
Атом вылетает к 2-му игроку; показываются горы. Это гора Олимп.
На снежных вершинах туземцы молитв.
Б<удетлянин>. Гар, гар, гар! Ни, ни, ни! Не, не, не! Размером Илиады решается судьба Мирмидонянина.
Впрочем, он неподалеку в сумраке целует упавшую с закрытыми очами Бризеиду и, черный, смуглый, подняв кверху жесткие черные очи, как ветер бродит рукой по струнам.
Сверху же беседуют о нем словом Гомера: «Андра мой эннепе, Муза».
Снежный зверинец, наклоняя головы, сообща обсуждает час его. Сейчас или позднее он умрет.
– Ахилл Кризь! Я люблю тебя! Ну ляг, ляг, ну положи сюда снои черные копытца. Небо! Может ли быть что-нибудь равное моему Брысе? Это ничего, что я комар! О чем вы там расквакались?
(Раньше все это было скрыто тенью атома.)
Не смей смеяться. Нехорошо так сладко смеяться. Подыми свои голубые ловушки.
Наверху Олимп бросал взволнованно прочувствованные слова ил чашку весов, оживленно обсуждая смерть и час Ахилла.
Впрочем, скоро он заволакивается облаками и становится нашей Лысой горой с одинокой ведьмой.
На все это внимательно смотрели Дети Выдры, сидя на галерке, проехавшие с морского берега, еще нося на щеках морскую пыль.
3-й парус
Сын Выдры думает об Индии на Волге. Он говорит: «Ныне я упираюсь пятками в монгольский мир и рукой осязаю каменные кудри Индии». Сын Выдры слетает с облаков, спасая от руссов Нушабэ и ее страну.
Ушкуйник, грустно негодуя, Толпу друзей на помощь звал. Вотще! Лишь ветер, скорбно дуя, Его на дереве качал. Ему гребцов знаком был навык И взмах веслом вдоль длинных лавок, И вещий холод парусов, На латах, шлеме – знак рубцов, И плач закованных купцов, Трусливых, раненных, лукавых. Щели глаз своих кровавых Филин движет и подъемлет, И косое око внемлет, Как сучок внутри извилин. Погасил, шурша, бубенчики, Сон-трава качает венчики. Опять, опять хохочет филин, Но вот негромкий позвонок, Усталый топот чьих-то ног. Покрыты в ткан<ей> черных груды, Идут задумчиво верблюды, Проходят спутники араба: То Мессакуди и Иблан Идут в Булгар, За ним Куяба – Дорога старых персиян. Искандр-намэ в уме слагая, Он пел про руссов золотых, Как всё, от руссов убегая, Молило милости у них. Как эта слава неизвестная, Бурей глаз своих небесная, Рукой темною на рынок Бросает скованных богинь, А в боя смертный поединок, Под песни бешеных волынок, Идет с напевом: Дружба! Сгинь! Визг парусов вверху телег, Пророча ужас и набег, Уводит в храмов темных своды Жрецов поруганной колоды, Их колесные суда Кладбища строят навсегда. В священной роще, черной тьме, Иблан запел: Искандр-намэ! Где огнепоклонник ниц упал, Горбом бел своих одежд, И олень во тьме ступал, Рог подъемля сонных вежд, – Там лежит страна Бердая, Цветом зорь не увядая. Песня битв – удар весла, Буря руссов принесла. Видя, что красней соломы Гибнут белые хоромы, Плакал злобно старый ясс, О копье облокотясь. Морских валов однообразие, Дворцы туземных поморян, И уж игрушки веселой Абхазии Кудрями машут среди северян. Царь Бердай и Нушабэ Гневно молятся судьбе: «Надень шлем, надень латы! Прилети сюда, крылатый Царь Искандр! Искандр, внемли Крику плачущей земли. Ты любимцем был веков! Брось пирушку облаков! Ты, прославленный людьми, Дерзость руссов покарай. Меч в ладонь свою возьми, Прилети с щитом в наш край! Снова будь земная ось, Мудрецов же сонных брось». И тот сошел на землю, Призрак полководца! Беги, храбрец! Затем ли? С мертвыми бороться! Уж с Камы два прекрасных венда Копьем убиты Зоревенда. Но русс Кентал, Чьи кудри – спеющий ковыль, Подковой витязя топтал Сраженьем взвеянную пыль, Как прокаженный, нелюдим, Но девой снежною любим. Тогда Искандр дал знак полкам, В шлеме серебряном изогнут. Он ждал, с дружиной войдя в храм, Когда от битвы руссы дрогнут. И пал Кентал. Но долго мчался наяву, Прижав к коню свою главу, С своим поникшим кистенем И сумасшедшим уж конем. И нес его конь, обнажая резцы, Сквозь трупы, сквозь сонмы смущенных людей И руссы схватили коней под уздцы, И мчались на отмель, на парус ладей. В путях своих велики боги, Арабы мудры и мирны́ И наблюдают без тревоги Других избранников войны. А море стало зеленее И русской кровью солонее. Гремит, журча струей, родник; Мордвин, арабов проводник, Сложив оазису моленье, Сказал: «Здесь стан отдохновенья. Здесь расположим мы свой стан Вблизи столицы государства; В Булгаре любят персиян, Но Кереметь – само коварство». Но клич, но стон потряс леса; В нем отблеск близких похорон, И в нем не верят в небеса. Костер печально догорает, Пламёна дышат в беспорядке. Индиец старый умирает, Добыча страшной лихорадки. Глава о руки упиралась И дыханьем смерти волновалась. И снова зов сотряс покой. И он взмахнул своей рукой: «Меня в гроб тот положите, Его же, отроки, спасите. Мой близок, близок смертный сон, А там невинно гибнет он. Не дорожу дней горстью малою, Его же новым веком жалую». Никто, никто не прекословит, Ему поспешно гроб готовят. Как лев, тот выпрыгнул из гроба; Его душили гнев и злоба. Он у индийца вырвал меч, Круг начертав любимцем сеч. Но безоружные арабы Знаками успокоили его: «Мы безоружные и слабы, Не бойся друга своего. И, кроме звезд, у нас нет кровли. Мы люди мира и торговли». Тот бросил взгляд суров и бешен. И те решили: он помешан. Два-три прыжка – и он исчез: Его сокрыл высокий лес.4-й парус
СМЕРТЬ ПАЛИВОДЫ
Вокруг табора горели костры.
Возы, скрипевшие днем, как того требовала неустрашимость их обладателей, теперь молчали.
Ударяя в ладоши и кивая головой, казаки пели:
Славни молодцы паны запорожцы. Побачили воны цаплю на болоте. Отаман каже: «От же, братцы, дивка!» А есаул каже: «Я з нею кохався». А кошевой каже: «А я и повинчався».Так, покручивая усы, пели насмешливую, неведомо кем сложенную песенку, смеющуюся над суровым обычаем Сечи Запорожской, этого русского ответа на западных меченосцев и тевтонских рыцарей.
Молчавшие стояли и смеялись себе в усы; испуганный кулик прилетел па свет пламени и, захлопав крыльями, улетел прочь.
Коростель, эта звонкая утварь всех южных ночей, сидел и кричал в лугу. Волы лежали в степи подобно громадным могильным камням, темнея концом рог. Искалась на них надпись благочестивого араба: так дивно, как поднятые ребром серые плиты, подымались они косым углом среди степи из земли. Одинокий верблюд, которого пригнал лазутчик крымчая<к>, спесиво смотрел на это собрание воинов, вещей, полов в дикой зеленой стране, эти сдвинутые имеете ружья с богатой отделкой ствола и ложа, эти ратища со значками, эти лихо повернутые головы, эти кереи, вольно ложившиеся на плечах, воинственно и сурово сбегавшие вниз, – где еще вчера, быть может, два волка спорили над трупом третьего или татары варили из конины обед. Зегзицыны чёботы быстро и нежно трепетали под телом большой бабочки.
Назавтра, чуть забелелся рассвет, табор тронулся в путь.
Снова заскрипели возы, как множество неустрашимых, никого не боящихся людей. Вот показались татары; порыскав в поле, они исчезли. Их восточные, в узких шляпах, лица, или хари, как не преминул бы сказать казак, выражали непонятную для европейца заботу. Казаки заряжали пищали, сдували с полки пыль, осматривали кремни, настороженно висевшие над ударным местом, и в шутку стреляли в удальцов.
На быстрых утлых челнах продолжался путь. Сквозь волны, натрудясь белым у одних, смуглым у других телом, казаки гребли, радуясь тихой погоде и смеясь буре, ободряемые сопутствующим ветром.
Был предан мятежу целый край. Ведя за руку плачущих черноволосых женщин или неся на плече дырявые мешки с золотыми и серебряными сосудами, шли победители к морю.
Славную трубку раскурили тогда воители. Казалось, казацкий меч сорвался с чьих-то плеч и плясал гопака по всей стране. На обратном пути довольные, шутя и балагуря, плыли казаки; гребли весело и пели. Пел и Паливода. Не думали они о том, что близка смерть для многих храбрецов. Да и была ли бы возможна эта жизнь, если б они задавали судьбе эти вопросы!
Паливода стоял и думал; оселедец вился по его гладкому затылку; пастбище смертей, с рукоятью как куст незабудок, было засунуто за широкий пояс. Холодней волн озера блестел его угол над поясом. Белая рубаха и испачканные смолой штаны украинского полотна дополняли наряд – суровый и гордый. Загорелая рука была протянута к закату; другие казаки были в повязке осенних маков.
Оперся на свое собрание бирюзы и сапфиров казак и смотрел вдаль, на пылающее от багрянца море.
Между тем, как волк, залег на их пути отряд крымских татар. Была сеча; многие остались лежать, раскинув руки, и всякого крылатого прилетного татарина кормить очами. Лютая суровая сеча. В ту пору это было любимое лакомство орлов. Случалось, что сытые орлы не трогали груды трупов на поле сечи и клевали только глаза. И был в станице бессмертных душ, полетевших к престолу, Паливода. Зрелым оком окинул он, умирая, поле битвы и сказал: «Так ныне причастилась Русь моего тела, и иду к горнему престолу».
И оставил свое тело мыть дождям и чесать ветру и полетел в высокие чертоги рассказать про славу запорожскую и как погиб за святую Русь.
И увидел, пока летел, Нечосу и его спутников, и запорожскую «ненько», принимающую величественным движением руки целующих ее руку, с наклоненными стрижеными головами, ходоков земли запорожской. И ста<д>о вельмож кругом.
И смутилось сердце и заплакал, но после запел воинственно и сурово. И величавый летел по небу.
Увидел синий дым, и белую хату, и подсолнух, и вишни и крикнул сурово и гордо:
Пугу, братцы, пугу! Пугу, запорожцы!И высунулось из светлицы доброе и ласковое лицо и ответило: «Пугу, пугу!»
И снова голосом, в котором дрожала недавняя обида, казак ответил: «Казак с большого луга».
И снова закивал старой головой и позвал казака до дому. Мать накрывала на скатерть и с улыбкой смотрела на воина. Так нашла уют тоскующая душа казака. Он слушал рассказ про обиды и думал, как помочь своему воин<ств>у. И, наклонясь из старого окошка, видели, как на земле, гикая и улюлюкая, несся Молодые Кудри на тучу врагов и вдруг, дав назад, поволок по полю дичь. И как, точно свет из разорвавшейся тучи, понеслись с копьями оправившиеся казаки, и все смешалось и бежало перед ними. И за плечами Сечи Запорожской, казалось, вились крылья. Была победа за русскими. И поклонился в пояс и полетел дальше Паливода, смутный и благодарный.
И как песнь жаворонка, которая постепенно переходит в стук мечей и шум сечи, и голоса победителей, донеслась до него ликующая казацкая песнь: «Пугу, братцы, пугу!» Воины с длинными крыльями летели к нему навстречу и со светлыми лицами божественных юношей умчали завернутую в согнутые крылья человеческую душу к покою и миру.
Так предстал пред светлые очи гордый казак, чей сивый ус вился вокруг как бы каменной щеки, а голубые глаза смотрели холодно и спокойно и на самую смерть.
А победители казаки долго сумно стояли над могилой Паливоды, пока старейший не махнул рукой и не сказал: «Спи, товарищ!» – дав тем самым знак закапывать могилу славного.
5-й парус
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПАРОХОДЕ
Разговор и крушение во льдах
<1>
Громад во мгле оставив берег, Направив вольной в море бег И за собою бросив Терек, Шел пароход и море сек. Во мгле ночей что будет с ним? Сурова и мрачна звезда пароходов. Много из тех, кто земными любим, Скрыто внутри его шелковых сводов. Прильнув к веревочной ограде, Задумчиво смотрели полудети, В каком жемчужном водопаде Летели брызги в синем свете. И призрак стеклянный глубин, И чайки на берег намеки: Они точно крылья судьбин, От берега мы недалеки. На палубах шныряют сотни, Плывешь ты, по морю прохожий, Окован суровою кожей, Морские поют оборотни. Окраскою серою скромен И строгий в строеньи своем, Как остров во мраке огромен, Рассек голубой водоем. В плаще, одряхлевшем от носки, Блестя золотыми погонами, Взошел его вождь на подмостки – Он правит служебными звонами. Теченье мысли не нарушу: Кто-то сказал, смеясь во взоре, Что будет год, оставив сушу, Наполним воздух или море. Но что же, если мы вспорхнем Однажды дальше в синеву, Со звезд полуночным огнем Увижу землю наяву. Ведь власти речь и материк На жизнь и смерть хранят союз, Как будто войн устал старик Нести на плечах мелкий груз. Возница мира раньше вез Молниегривыми конями Из мира рыданий и слез Более скорбей, одетых тенями. И к быту первых дикарей Мечта потомков полетит, И быт без слов – скорей, скорей! – Она задумчиво почтит. Если мир одной державой Станет – сей образ люди ненавидят, – В мече ужели посох ржавый Потомки воинов увидят? Когда от битв небес излучин Вся содрогается земля, Ученых разум станет скучен, И я скучаю, им внемля́. Да, те племена, но моложе, Не соблазнились общим братством – Они мечом добудут ложе. ‹…› Не в самых явных очертаниях Рок предстоит для смертных глаз, Но иногда в своих скитаниях Он посещает тихий час. «Мне отмщение, и Аз воздам» – Все, может быть, и мы услышим. Мы к гневным молни<й> бороздам Лишь в бури час умы колышем. Пожар я помню небоскреба И глину ласточек гнезда, Два-три серебряные зоба Я не забуду никогда. Огнем и золотом багровым Пожар красивый рвет и мечет, А на стене, в окне суровом, Беспечно ласточка щебечет. Летают молни<и> пламёна На свод морей, как трость волнуем, И ветров гневные племёна Рассвирепели поцелуем. Еще ужасней наводненье: Где раньше пела детвора, Там волны с криками «ура» Ломают бедное селенье. Везде мычащие стада Как будто ревом помогают, И из купален без стыда Нагие люди выбегают. Судов на пристани крушенье, Плачевный колокола звон, И на равнине в отдалении И крик, и вопль, и бледный стон. И что ж, где волны диким гнездом змей С лобзанием к небу устремлялись, Там голубиный сон морей И солнца блеск – его скиталец. Да, от дворцов и темных хижин Идет мятеж на власть рассудка. – Добряк в очках сидит обижен: Глупца услышать ведь не шутка. – О судьбах речь. Кто жил глубоко, Кто сумрак и огонь зараз, Тот верит в видящее око, Чету всевидящую глаз. Бойтеся русских преследовать, Мы снова подымем ножи И с бурями будем беседовать На рубежах судьбы межи. И если седьмое колено Мешает яд и точит нож, Его права на то: измена Подкралась с лицами вельмож. На злодеяния бешеном вале Должен носиться потомка челнок, За то, что у предков когда-<то> отняли Славу, лучи и венок. – О, юноша, ваш лепет, То дерзкий, то забавный, Мне рассказал, что вами не́ пит Кубок общин в мире главный. – Ты прав: не костер, а вязанка готовая дров, Из кубка живого и не́ пил. Ты же, чей разум суров, Ты старого разума пепел. «Мы не рождаемся в жизнь дважды», – Сказал задумчивый мудрец. Так веселись, будь светел каждый, И здравствуй, ты, о, звон колец! Свершай же, свершай свой бег, О, моря жестокого данник. Идешь, так хотел человек, Иди же, иди же, о, странник! И храмы убийства быков В широких и круглых стенах, И буря внезапных хлопков, И бык, упадающий в прах. И жизни понятен мне снова учебник, Мрет муравейника правда живая, А ты, таинственный волшебник, За дубом стоишь, убивая. Приятно гибель и раскол Принесть, как смерти чародейник, Огромного дуба сокрытый за ствол, В кипучий трудом муравейник. Ведь листья зеленые жили особо, Позднее сплетались в державы стволов. Туда и мы, любимцы гроба, Невода мертвых неясный улов. Желудок князем возгласить – Есть в этом, верю, темный смысл. Пора кончать тех поносить, Кто нас к утесу дум возвысил. Как, на глав змеиных смысел, Песни чертога быть зодчим, Как рассказать володение чисел, Поведать их полдням и но́чам? О, сумасшествие п<р>орока, Когда ты мир ночей потряс, Ты лишь младенцем в объятиях рока Несся сквозь звездных сияние ряс. А изображени<я> главы Вам дорогого существа: Сестры, невесты, брата – вы Лучи другого естества. Кто изнемог под тяжестью возмездий И жизнь печальную оглянет, Тот пред лицом немых созвездий Своего предка прокля́нет. Опасно видеть в вере плату За перевоз на берег цели, Иначе вылезет к родному брату Сам лысый черт из темной щели. Мы жребия войн будем искать, Жребия войн, земле неизвестного, И кровью войны станем плескать В лики свода небесного. И мы живем, черны размерам, И сами войны суть лады, Идет число на смену верам И держит кормчего труды. – И грозная бьется гора Сверкающей радугой пыли. – Когда мы судили вчера, О роке великом забыли. Помнишь безумную ласточек дурь, Лиц пролетающих около, Или полет через области бурь Бело-жестокого сокола? О, бедствие вам – одиноким и зрячим Столбам на полях слепоты. Ответим мы стоном и плачем На шествие судеб пяты. – А волны черные и бурные С журчанием бились о прибой, Как будто дерзко-балагурные Беседы с мрачною судьбой. Наездник напрасно, плывя, помогал, Конь вороной за отлива волной Шел, храпя, И после в испуге долой убегал, Ремнями возницу идти торопя. И снова к прибою бежал, оживая, Как будто в глубинах друзей узнавая, Как будто бы родина там вдалеке, Кругом же прибоя черта снеговая. ‹…› – Вы, книги, пишетесь затем ли, Чтоб некогда ученый воссоздал, Смесив в руке святые земли, Что я когда-то описал? И он идет: железный остов Пронзает грудью грудь морскую, И две трубы неравных ростов Бросают дымы; я тоскую. Морские движутся хоромы, Но, предков мир, не рукоплещь: До сей поры не знаем, кто мы – Святое Я, рука иль вещь. Мы знаем крепко, что однажды Земных отторгнемся цепей. Так кубок пей, пускай нет жажды, Но все же кубок жизни пей. Мы стали к будущему зорки, Времен хотим увидеть даль, Сменили радугой опорки, Но жива спутника печаль. Меж шестерней и кривошипов Скользит задумчиво война, И где-то гайка, с оси выпав, Несет крушенье шатуна. Вы – те же: 300, 6 и пять, Зубами блещете опять. Их, вместе с вами, 48, Мы, будетляне, в сердце носим И их косою травы косим. Нас просят тщетно: мир верни, Где нет винта и шестерни. Но будетлянин, гайки трогая, Плаща искавший долго впору, Он знает: он построит многое, В числе для рук найдя опору. Ведь к сплаву молний и лавины Кричали толпы: «Мы невинны!» О, человек, забудь смирение! Туда, где, старой осью хлябая, Чуть поборая маслом трение И мертвых точек перебой, – Одно, одно! – созвездье слабое В волненьи борется с судьбой, – Туда иди, красавец длани, Будь старшим братом этой лани. Ведь меж вечерних и звездных колес Ты один восстаешь на утес. И войны <пред> тем умеряют свой гнев, Кто скачет, рукою о рок зазвенев. Земного пути колесо маховое, И вечер, и речка, и черные хвои, И оси земной в тучах спрятанный вал – Кобзу кобзарю подавал. А солнце-ремень по морям и широтам Скользит голубым поворотом.(Сын Выдры кричит «ау» Индии спящей.)
2
Дети Выдры играют на пароходе в шахматы. Площадь – поле шахматной доски; действующие лица: Пешки, Ферязь, Конь и другие. Видны руки Детей Выдры и огромные спички Черные молчат. Белые говорливы.
1-я пешка
Тра-ра́-ра, тра-ра́-ра, тра-ра́-ра. Тра, ра, ра, ра – Мы люди войны и удара. Ура, ура!2-я пешка
Ни зовы войны и пожарищ Шагает за мною товарищ. И с нами шагает беда!(мрачно)
Да-да!Предводитель
Возьми скорей на мушку Задумчивую пушку. Зовет рожок военный, За мной идет отряд. Молвою вдохновенной Те пушки говорят. У каждой свой заряд.3-я пешка
Там-там, К высота́м! Знамя там.Конь
Скачу я вбок и через, Туда, где вражья Ферязь. Я ноги возвысил, А уши развесил. Меж вражеских чисел Кидаюсь я, весел.Ферязь
В латах я. Пусть Нами башня занята не та. «Ура» так просится к устам! Победа все еще не там! На помощь иду я К усталым отвагам Ускоренным шагом, Воюя и дуя! В кровавых латах прочь мы вы<й>дем И сколько люда не увидим.Черные молчаливые
Зирин! Зирин!Черные
Мат!Шахматы складывают в коробку.
Сын Выдры
Вот и всё.3
Игра на пароходе
<Сын Выдры>
Мне скучно, и нужно нам игру придумать. Сколько скуки в скоке скалки! О, день и динь, и дзень! О, ночь, нуочь и ничь! Морской прибой всеобщего единства.Морское путешествие
Сын Выдры перочинным ножиком вырезывает на утесе свое имя: «Велимир Хлебников». Утес вздрагивает и приходит в движение: с него сыпется глина, и дрожат ветки.
Утес
Мне больно. Знаешь кто я? Я сын Пороса.Сын Выдры
Здравствуй, поросенок!Утес
Зачем глумиться? Но игрушками из глины, Я, растроганный, сошел И зажег огнем долины, Зашатав небес престол. Пусть знает старый властелин, Что с ними я – детьми долин, Что угрожать великолепью Я буду вечно этой цепью. Что ни во что его не чту, Лелею прежнюю мечту. И вновь с суровою божбой Я славлю схватку и разбой, Утоляя глад и гнев Им ниспосланных орлов, Точно снег, окоченев Над ущельем соколов. За серной бродит здесь охотник, Где горы к облаку приближены, Давно воздвиг их древний плотник, Дворцы и каменные хижины. Вишу, как каменный покойник, У темной пропасти прикованный За то, что, замыслом разбойник, Похитил разум обетованный. Я помню день борьбы и схватки С толпой подземных великанов: Мелькали руки и лопатки, И ребра согнутые станов. Узнает полночь этот мир, Сегодня что, как утро, свеж, И за пустой весельем пир Костяк взойдет, в одежде мреж. Смотри, уж Грузия несет корзины, И луч блеснул уж на низины.Люди
Бог великий что́ держал, Скрытый сумрака плащом, Когда ты во тьме бежал, Обвит молнии плющом? Он не дал разум нашим дедам В эти ветхие года И в плену горы соседом Обречет быть навсегда. Но что с ним сделали враги? Где радость, жизнь и где веселие? <За веком век печально нижет>, Прикован к темному ущелью, И лишь олень печально лижет, Как смолы, кровь с его ноги. И на кудрей его вершины Льют века свои кувшины.Сын Выдры
Но чью-то слышу я дуду. Сейчас иду.<Люди>
Клянемся, сон бесчеловечен. Как кровь и сало, блещет печень!Сын Выдры
Прощай, собрат. Прости невольную ошибку. Страдалец! Целую твой священный палец!Орлы
Пролетаем с пожеланьем Сердцу вырванному вырасти, Над изящным стадом ланей В склонах мглы и утра, и сырости.Дочь Выдры
Походить бы я хотела Очертаниями тела, Что с великим и убогим Быть чарующей не ленится И с искусством хромоногим – Вечно юная изменница.(Освобождает его, перерезая, как черкешенка, цепь)
ПушкинДети Выдры идут к водопаду.
Занавес
– Но что за шум? Там кто-то стонет! – Льды! Пароход тонет.Сын Выдры
Жалко. Очень жалко. Где мои перчатки? И где моя палка? Духи пролил. Чуть-чуть белил.Вбегающий
Уж пароход стоит кормой И каждой гайкою дрожит. Как муравьи, весь люд немой Снует, рыдает и бежит. Нырять собрался, как нырок, Какой удар! Какой урок! И слышны стоны: «Небеса, мы невинны». Несется море, как лавины. Где судьи? Где законы?6-й парус
ДУША СЫНА ВЫДРЫ
Ганнибал
Здравствуй, Сципион. И ты здесь? Как сюда попал? Не знаю, прихоть иль закон: Сюда идет и стар и мал, Да, все бегут на тень утеса. Ты знаешь, мрачный слух пронесся, Что будто Карл и Чарльз, – они Всему виною: их вини. Два старика бородатых – Все слушают бород лохматых, – Поймав, как жизнь морской волны, Клешнею нежные умы И тело веры, точно рыбки, Клешней своей сдавив ошибки, Добыче право дав висеть (Пусть поет та в тисках железных, В застенке более полезных), Поймали нас клешнями в сеть. Весы над книгой – весы счетов, Числа страниц и переплетов. Ей можно череп проломить, Другим не надо изумить. Хотя норой в ее концах Ничто сокрылось, как в ларцах. Ума не будет и помину – И я пред книгой шляпу скину. Давай возьмем же по булыжнику Грозить услугой темной книжнику? Да, эту старую войну С большой охотой я начну. Карл мрачно учит нас: Я шел войной на римский дол, Вперед, упрям и бледен, шел, Стада слонов сквозь снег провел, Оставив цепи дымных сел, Летел, как призрак, на престол, Свободу юга долго пас, Позднее бед числа не счел – Не для отчизны властных глаз. И много знал в душе я ран, И брата лик упал в мой стан; Он был с копья сурово сброшен, Суровым долгом рано скошен, А волосы запутались о тын, Был длиннокудр пустыни сын – Нет! Но потому, что́ римские купцы, Сходя толпой накрашенной в Аид, Погибнув от обжорства, лени и чумы <(Смерть розную рождение сулит. Пустыни смолами надушен, К словам, умри, равнопослушен)>, Зовут избытки и заразы, Телом лоснящимся и масляным Помощники неслыханным напраслинам. А путь сюда велик и прям, И мира нашего властям Становятся ненужными подполчные заказы, Посредством юрких ходоков, На масло и на жир у римских мясников, На снедь горячую и гадкую, В ней мы, по ученью мудрецов, – Поверю я в ученье шаткое, – Печемся здесь в смоле купцов, По грудь сидя в высоких бочках, В своих неслыханных сорочках, Забыв о битвенных утехах И о латах и доспехах, Не видя в том ни капли толку, И тянем водку втихомолку. Ее приносят сторожа Тайком, украдкой и дрожа, – Смущать подземное начальство Они научены сызмальства. Итак, причина у войны: Одни весьма-весьма жирны. Товарищ в славе повествует Толпе соседей и соседок Про утро наших грез и сует, Что первый мой неясный предок, Сокрытый и сумраке времен, Был мил и дик, но не умен. Рукой качаячь на сучках, С неясной думою в зрачках, В перчатках белых на меху, Как векша, жил в листве вверху, Ел пестрых бабочек и зерна, Улиток, слизней и грибы, Он наблюдал глазами черными Звезд ток, взобравшись на дубы, Ладонью пользуясь проворной Для ловли, бега и ходьбы. И вовсе был простаковат Наш предок, шубою космат, С своей рукою волосатой, А все же им служи и ратуй. Таких людей я с ног сшибал Одной угрозой темных взоров.Сципион
Ты прав, мой храбрый Ганнибал, Они не стоят разговоров. Наш мир, поверь, не так уж плох, Создав тебя, создав меня! Созда<ть> двух-трех веселых блох – Совсем не тяжкая вина.Ганнибал
Итак, пути какой-то стоимости. О, слава! Стой и мости. Причина: кость или изъян Есть у людей и у обезьян. Ты веришь этой чепухе?<Сципион>
Ей-богу, нет. Хе-хе! Мы пляску их, смеясь, увидим, А там, зевая, к предкам вы<й>дем. Извергло их живое, И вот, сюда явившись, двое Приносят копоти огни, Из новой истины клешни. О тенях тени говорич<м>! Как много звезд там вдалеке. Послушай, осаждая Рим, Себя ударив по щеке, Давил ты меньше комаров, Чем сколько смотрит на нас ныне (В) ночной доверчивой пустыне Созвездий пятен и миров. На римском щеголе прыщей Садится меньше и бедней, Чем блещет звезд во тьме ночей И то, чему свистят, И то, чему все рукоплещут, Не стоит много (образ взят), Когда кругом так звезды блещут. Как два певца, что за проезд До ближнего села Расскажут вам теченье звезд И как устроена пчела. И к ним не будь ты так суров. Смотри: давил не столько комаров Ты на пунической щеке, Как звезд сверкает вдалеке. Но слышишь – ходит кто-то, В руке же древко дрота.Святослав
И снова, меж вас пролетая, Вскрикну: «Иду я на вы!» Горе: кайма золотая Обвила пространство главы. Чело, презиравшее неги, И лоб, не знавший слов «страшно», Налили вином печенеги И пили так, славя мной брашно.Пугачев
Я войско удальцов Собрал со всех сторон И нес в страну отцов Плач смерти, похорон.Самко
Я жертвой был течений розных, Мои часы шли раньше звездных. Заведен люд на часы. Чашкой гибели весы Наклонилися ко мне, Я упал по звезд вине.Ян Гус
Да, давно и я горе<л>. И, старее, чем вселенная, Мутный взор (добыча хворости), Подошла ко мне согбенная Старушка милая, вся в хворосте. Я думал, у бабушки этой внучат Много есть славных и милых, Подумал, что мир для сохи непочат И много есть и старого силах. «Простота, – произнес я, – святая», – То я подумал, сюда улетая.Ломоносов
Я с простертою рукой Пролетел в умов покой.Разин
Я полчищем вытравил память о смехе, И черное море я сделал червонным, Ибо мир сделан был не для потехи, А смех неразлучен со стоном. Топчите и снова топчите, мои скакуны, Враждебных голов кавуны.Волынский
Знайте, что новые будут Бироны И новых «меня» похоро́ны.Ганнибал
Да, да: ты прав, пожалуй. Коперник, добрый малый.Коперник
Битвы доля бойцу кажется Лучезарной, вместе лучшей. Я не спорю. Спорить сердце не отважится, Враждовал я только с тучею. Быть, рукой судьбы ведом, Ходит строгим чередом.Ганнибал
Раз и два, один, другой, Тот и тот идут толпой. Нагибая звездный шлем, Всяк приходит сюда нем. Облеченный в звезд шишак, Он, усталый, теневой, Невесомый, не живой, Опустил на остров шаг. Ужель от Карлов наводнение Ведет сюда все привидения?Вопль духов
На острове вы. Зовется он Хлебников. Среди разъяренных учебников Стоит, как остров, храбрый Хлебников – Остров высокого звездного духа. Только на поприще острова сухо – Он омывается морем ничтожества.Множества
Наши клятвы и обеты Клеветой замысла злоба, В белый холст мы все одеты Для победы или гроба, Иль невиданных венков, Иль неслыханных оков.Голос из нутра души
Как на остров, как на сушу, Погибая, моряки, Так толпой взошли вы в душу Высшим манием руки. Беседой взаимной Умы умы покоят, Брега гостеприимно Вам остров мой откроет. О, духи великие, я вас приветствую. Мне помогите вы: видите, бедствую? А вам я, кажется, сродни, И мы на свете ведь одни.Совет
1911–1913
229. Война в мышеловке
1
Вы помните? Я щеткам сапожным Малую Медведицу повелел отставить от ног подошвы, Гривенник бросил вселенной и после тревожно Из старых слов сделал крошево. Где конницей столетий о́раны Лохматые пашни белой зари, Я повелел быть крылом ворону И небу сухо заметил: «Будь добро, умри!» И когда мне позже приспичилось, Я, чтобы больше и дальше хохотать, Весь род людей сломал, как коробку спичек, И начал стихи читать. Был шар земной Прекрасно схвачен лапой сумасшедшего. – За мной! Бояться нечего!2
И когда земной шар, выгорев, Станет строже и спросит: «Кто же я?» – Мы создадим «Слово Полку Игоревич Или же что-нибудь на него похожее. Это не люди, не боги, не жизни, Ведь в треугольниках – сумрак души! Это над людом в сумрачной тризне Теней и углов Пифагора ковши. Чугунная дева вязала чулок Устало, упорно. Широкий чугун Сейчас полетит, и мертвый стрелок Завянет, хотя был красивый и юн. Какие люди, какие масти В колоде слухов, дань молве! Врачей зубных у моря снасти И зубы коренные, но с башнями «Бувэ»! И старец пены, мутный взором, Из кружки пива выползая, Грозит судьбою и позором, Из белой пены вылезая.3
Малявина красавицы, в венке цветов Коровина, Поймали небоптицу. Хлопочут так и сяк. Небесная телега набила им оскомину. Им неприятен немец, упитанный толстяк. И как земно и как знакомо И то, что некоторые живы, И то, что мышь на грани тома, Что к ворону По – ворон Калки ленивый!<4>
Как! И я, верх неги, Я, оскорбленный за людей, что они такие, Я, вскормленный лучшими зорями России, Я, повитой лучшими свистами птиц, – Свидетели: вы, лебеди, дрозды и журавли! – Во сне провлекший свои дни, Я тоже возьму ружье (оно большое и глупое, Тяжелее почерка) И буду шагать по дороге, Отбивая в сутки 365.317 ударов – ровно. И устрою из черепа брызги, И забуду о милом государстве 22-летних, Свободном от глупости возрастов старших, Отцов семейства (общественные пороки возрастов старших). Я, написавший столько песен, Что их хватит на мост до серебряного месяца. Нет! Нет! Волшебницы дар есть у меня, сестры небоглазой. С ним я распутаю нить человечества, Не проигравшего глупо Вещих эллинов грез, Хотя мы летаем. Я ж негодую на то, что слова нет у меня, Чтобы воспеть мне изменившую Избранницу сердца. Ныне в плену я у старцев злобных, Хотя я лишь кролик пугливый и дикий, А не король государства времен, Как зовут меня люди: Шаг небольшой, только «ик», И упавшее «о», кольцо золотое, Что катится по́ полу.<5>
Вы были строгой, вы были вдохновенной, Я был Дунаем, вы были Веной. Вы что-то не знали, о чем-то молчали, Вы ждали каких-то неясных примет. И тополи дальние тени качали, И поле лишь было молчанья совет.<6>
Панна пены, Пана пены, Что вы – тополь или сон? Или только бьется в стены Роковое слово «он»? Иль за белою сорочкой Голубь бьется с той поры, Как исчезнув в морс точкой Хмурый призрак серой при? Это чаек серых лёт! Это вскрикнувшие гаги! Полон силы и отваги, Через черес он войдет!<7>
Где волк воскликнул кровью: «Эй! Я юноши тело ем», – Там скажет мать: «Дала сынов я». – Мы, старцы, рассудим, что делаем. Правда, что юноши стали дешевле? Дешевле земли, бочки воды и телеги углей? Ты, женщина в белом, косящая стебли, Мышцами смуглая, в работе наглей! «Мертвые юноши! Мертвые юноши!» – По площадям плещется стон городов. Не так ли разносчик сорок и дроздов? – Их перья на шляпу свою нашей. Кто книжечку издал «Песни последних оленей» Висит, продетый кольцом за колени, Рядом с серебряной шкуркою зайца, Там, где сметана, мясо и яйца! Падают Брянские, растут у Манташева, Нет уже юноши, нет уже нашего Черноглазого короля беседы за ужином. Поймите, он дорог, поймите, он нужен нам!<8>
Не выли трубы набат о гибели: «Товарищи милые, милые выбыли». Ах, вашей власти вне не я – Ноет жестокий узор уравнения. Народы бросились покорно, Как Польша, вплавь, в мои обители, Ведь я люблю на крыльях ворона Глаза красивого Спасителя! За ним, за ним! Туда, где нем он! На тот зеленый луг, за Неман! За Неман свинцовый и серый! За Неман, за Неман, кто верует!<9>
Я задел нечаянно локтем Косы, сестры вечернему ворону, А мост царапал ногтем Пехотинца, бежавшего и сторону Убийцы, под волнами всхлипывая, Лежали, как помосты липовые. Чесала гребнем смерть себя, Свои могучие власы, И мошки ненужных жизней Напрасно хотели ее укусить.<10>
Девы и юноши, вспомните, Кого мы и что мы сегодня увидели, Чьи взоры и губы истом не те, – А ты вчера и позавчера «увы» дели́. Горе вам, горе вам, жители пазух, Мира и мора глубоких морщин, Точно на блюде, на хворях чумазых Поданы вами горы мужчин. Если встал он, Принесет ему череп Эс, Вечный и мирный, жизни первей! Это смерть идет на перепись Пищевого довольства червей. Поймите, люди, да есть же стыд же, Вам не хватит в Сибири лесной костылей, Иль позовите с острова Фиджи Черных и мрачных учителей И проходите годами науку, Как должно есть человечью руку. Нет, о друзья! Величаво идемте к Войне Великаньше, Что волосы чешет свои от трупья. Воскликнемте смело, смело, как раньше: «Мамонт наглый, жди копья! Вкушаешь мужчин â la Строганов». Вы не взошли на мой материк! Будь же неслыхан и строго нов, Похорон мира глухой пятерик. Гулко шагай и глубокую тайну Храни вороными ушами в чехлах. Я верю, я верю, что некогда «Майна!» Воскликнет Будда или Аллах.<11>
Белые дроги, белые дроги. Черное платье и узкие ноги. Был бы лишь верен, вернее пищали с кремнями, мой ум бы. Выбрал я целью оленя лохматого. За мною Америго, Кортец, Колумбы! Шашки шевелятся, вижу я мат его.<12>
Капает с весел сияющий дождь, Синим пловцов величая. Бесплотным венком ты увенчан, о, вождь! То видим и верим, чуя и чая. Где он? Наши думы о нем! Как струи, огни без числа, Бесплотным и синим огнем Пылая, стекают с весла. Но стоит, держа правило, Не гордится кистенем. И что ему на море мило? И что тосковало о нем? Какой он? Он русый, точно зори, Как колос спелой ржи, А взоры – это море, где плавают моржи. И жемчугом синим пламёна Зажгутся опять как венок. А он, потерявший имёна, Стоит молчалив, одинок. А ветер забился все крепче и крепче, Суровый и бешеный моря глагол! Но имя какое же шепчет Он, тот, кому буря престол? Когда голубая громада Закрыла созвездий звено, Он бросил клич; «Надо, Веди, голубое руно!»<13>
И люди спешно моют души в прачешной И спешно перекрашивают совестей морды, Чтоб некто, лицом сумасшествия гордый, Над самым ухом завыл: «Ты ничего не значишь, эй!» И многие, надев воротнички, Не знали, что делать дальше с ними: Встав на цыпочки, повесить на сучки Иль написать обещанное имя.<14>
Котенку шепчешь: «Не кусай». Когда умру, тебе дам крылья. Уста напишет Хокусай, А брови – девушки Мурильо.<15>
Табун шагов, чугун слов! Венки на бабра повесим сонно, Скачемте вместе. Самы и Самы, нас Много – хоботных тел. 10 – ничто. Нас много – друзей единицы. Заставим горлинок пушек снаряды носить. Движением гражданина мира первого – волка Похитим коней с Чартомлыцкого блюда, Ученее волка, первого писаря русской земли, Прославим мертвые резцы и мертвенную драку. Шею сломим наречьям, точно гусятам. Нам наскучило их «Га-Га-Га!». Наденем намордник вселенной, Чтоб не кусала нас, юношей, И пойдем около белых и узких борзых С хлыстами и тонкие, Лютики выкрасим кровью руки, Разбитой о бивни вселенной, О морду вселенной. И из Пушкина трупов кумирных Пушек наделаем сна. От старцев глупых вещие юноши уйдут И оснуют мировое государство Граждан одного возраста.<16>
Одетый в сеть летучих рыб, Нахмурил лоб суровый бог рыб. Какой-то общий шум и шип, И точно красный выстрел – погреб. За алым парусом огня Чернеют люди и хлопочут. Могил видением казня, Разбой валов про смерть пророчит. И кто-то, чернильницей взгляда недобрый, Упал, плетнем смерти подняв свои ребра. Упав, точно башен и пушек устав. Вот палуба поднялась на дыбы, Уже не сдержана никем. Русалки! Готовьте гробы! Оденьте из водорослей шлем! От земли печальной вымыв. И покройте поцелуями этот бледный желтый воск кости. А на небе, там, где тучи, Человеческие плоскости Ломоть режут белых дымов. Люди, где вы? Вы не вышли Из белой праотцев могилы, И только смерть, хрипя на дышле, Дрожит и выбились из силы. Они устала. Пожалейте Ее за голос «куд-кудах!». Как тяжело и трудно ей идти, Ногами вязнет в черепах. Кто волит, чтоб чугунный обод Не переехал взоров ласточки, Над тем качнулся зверский хобот И вдруг ударил, с силой час тоски. И бьет тяжелою колодой Он оглупевшего зверка, И масти красною свободой Наполнят чашу, пусть горька.<17>
Свобода приходит нагая, Бросая на сердце цветы, И мы, с нею в ногу шагая, Беседуем с небом на «ты». Мы, воины, строго ударим Рукой по суровым щитам: Да будет народ государем, Всегда, навсегда, здесь и там! Пусть девы споют у оконца, Меж песен о древнем походе, О верноподданном Солнца – Самодержавном народе.<18>
Эта осень такая заячья, И глазу границы не вывести Осени робкой и зайца пугливости. Окраскою желтой хитер Осени желтой житер. От гривы до гребли Всюду мертвые листья и стебли. И глаз остановится слепо, не зная, чья – Осени шкурка или же заячья.<19>
Вчера я молвил: «Гулля, гулля!» – И войны прилетели и клевали Из рук моих зерно. И надо мной склонился дёдер, Обвитый перьями гробов И с мышеловкою у бедер, И мышью судеб меж зубов. Крива извилистая трость, И злы синеющие зины. Но белая, как лебедь, кость Глазами зетит из корзины. Я молвил: «Горе! Мышелов! Зачем судьбу устами держишь?» Но он ответил: «Судьболов Я и волей чисел – ломодержец». И мавы в битвенных одеждах, Чьи кости мяса лишены, И с пляской конницы на веждах Проходят с именем жены. Крутясь волшебною жемжуркой, Они кричали: «Веле! Веле!» – И, к солнцу прилепив окурок, К закату призраком летели. А я червонною сорочкой Гордился, стиснув удила, – Война в сорочке родила. Мой мертвый взор чернеет точкой.<20>
Узнать голубую вражду И синий знакомый дымок Я сколько столетий прожду? Теперь же я запер себя на замок. О, боги! Вы оставили меня И уж не трепещ<е>те крылами за плечами, И не заглядываете через плечо в мой почерк. В грязи утопая, мы тянем сетьми Слепое человечество. Мы были, мы были детьми, Теперь мы – крылатое жречество.<21>
Уж сиротеют серебряные почки В руке растерянной девицы, Ей некого, ей незачем хлестать! Пером войны поставленные точки И кладбища большие, как столица, Иных людей иная стать. Где в простыню из мертвых юношей Обулась общая земля, В ракушке сердца жемчуга вы́ношу, Вас злобным свистом жалейки зля. Ворота старые за цепью И нищий, и кривая палка. И государства плеч (отрепье) Блестят, о, умная гадалка!<22>
Воин! Ты вырвал у небес кий И бросил шар земли. И новый Ян Собеский Выбросил: «Пли!» – Тому, кто Уравнение Минковского На шлеме сером начертал И песнезовом Маяковского На небе черном проблистал.<23>
Ты же, чей разум стекал, Как седой водопад, На пастушеский быт первой древности, Кого числам внимал И послушно скакал Очарованный гад В кольцах ревности; И змея плененного пляска и корчи, И кольца, и свист, и шипение Кого заставляли все зорче и зорче Шиповники солнц понимать, точно пение; Кто череп, рожденный отцом, Буравчиком спокойно пробуравил И в скважину надменно вставил Росистую ветку Млечного Пути, Чтоб щеголем в гости идти; В чьем черепе, точно стакане, Была росистая ветка черных небес, – И звезды несут вдохновенные дани Ему, проницавшему полночи лес.<24>
Я, носящий весь земной шар На мизинце правой руки – Мой перстень неслыханных чар, – Тебе говорю: Ты! Ты вспыхнул среди темноты. Так я кричу крик за криком, И на моем каменеющем крике Ворон священный и дикий Совьет гнездо и вырастут ворона дети, А на руке, протянутой к звездам, Проползет улитка столетий! Блаженна стрекоза, разбитая грозой, Когда она прячется на нижней стороне Древесного листа. Блажен земной шар, когда он блестит На мизинце моей руки!<25>
Страну Лебе́дию забуду И ноги трепетных Моревен. Про Конецарство, ведь оттуда я, Доверю звуки моей цеве. Где конь благородный и черный Ударом ноги рассудил, Что юных убийца упорный, Жуя, станет жить, медь удил. Где конь звероокий с волной белоснежной Стоит, как судья у помоста, И дышло везут колесницы тележной Дроби преступные, со ста. И где гривонос благородный Свое доверяет копыто Ладони покорно холодной, А чья она – всеми забыто. Где гривы – воздух, взоры – песни. Все дальше, дальше от Ням-ням! Мы стали лучше и небесней, Когда доверились коням. О, люди! Тик разрешите вас назвать! Жгите меня, Но так приято целовать Копыто у коня: Они на нас так не похожи, Они и строже и умней, И белоснежный холод кожи, И поступь твердая камней. Мы не рабы, но вы посадники, Но вы избранники людей! И ржут прекрасные урядники, В нас испытуя слово «дей!». Над людом конских судей род Обвил земной шар новой молнией. Война за кровь проходит в брод, Мы крикнем: «Этот дол не ей!» И черные, белые, желтые Забыли про лай и про наречья. Иной судья – твой шаг, тяжел ты! И власть судьи не человечья. Ах, князь и кнезь, и конь, и книга – Речей жестокое пророчество. Они одной судьбы, их иго Нам незаметно, точно отчество.<26>
Ветер – пение Кого и о чем? Нетерпение Меча стать мячом. Я умер, я умер, И хлынула кровь По латам широким потоком. Очнулся я иначе, вновь Окинув вас воина оком.1915–1919–1922
230. Азы из Узы
Единая книга
Явидел, что черные Веды, Коран и Евангелие, И в шелковых досках Книги монголов Из праха степей, Из кизяка благовонного, Как это делают Калмычки зарей, Сложили костер И сами легли на него – Белые вдовы в облако дыма скрывались, Чтобы ускорить приход Книги единой, Чьи страницы – большие моря, Что трепещут крылами бабочки синей, А шелковинка-закладка, Где остановился взором читатель, – Реки великие синим потоком: Волга, где Разина ночью поют, Желтый Нил, где молятся солнцу, Янцекиянг, где жижа густая людей, И ты, Миссисипи, где янки Носят штанами звездное небо, В звездное небо окутали ноги, И Ганг, где темные люди – деревья ума, И Дунай, где в белом белые люди, В белых рубахах, стоят над водой, И Замбези, где люди черней сапога, И бурная Обь, где бога секут И ставят в угол глазами Во время еды чего-нибудь жирного, И Темза, где серая скука. Род человечества – книги читатель, А на обложке – надпись творца, Имя мое – письмена голубые. Да ты небрежно читаешь. Больше внимания! Слишком рассеян и смотришь лентяем, Точно уроки закона божия. Эти горные цепи и большие моря, Эту единую книгу Скоро ты, скоро прочтешь! В этих страницах прыгает кит И орел, огибая страницу угла, Садится на волны морские, груди морей, Чтоб отдохнуть на постели орлана.* * *
Я, волосатый реками… Смотрите! Дунай течет у меня по плечам, И – вихорь своевольный – порогами синеет Днепр. Это Волга упала мне на руки, И гребень в руке – забором гор Чешет волосы. А этот волос длинный – Беру его пальцами – Амур, где японка молится небу, Руки сложив во время грозы.Азия
Всегда рабыня, но с родиной царей на смуглой гру́ди, Ты поворачиваешь страницы книги той, Чей почерк – росчерки пера морей. Чернилами служили люди, Расстрел царя был знаком восклицанья, Победа войск служила запятой, А толпы – многоточия, Чье бешенство не робко, – Народный гнев воочью, И трещины столетий – скобкой. И с государственной печатью Взамен серьги у уха, То девушка с мечом – Противишься зачатью, То повитуха мятежей – старуха. Всегда богиня прорицанья, Читаешь желтизну страниц, Не замечая в войске убыли, Престолы здесь бросаешь ниц Скучающей красавицы носком, Здесь древний подымаешь рубль Из городов, засыпанных песком. А здесь глазами нег и тайн, И дикой нежности восточной Блистает Гурриэт эль-Айн, Костром окончив возраст непорочный. У горных ласточек здесь гнезда отнимают пашни, Там кладбища чумные – башни, Здесь пепел девушек Несут небес старшинам, Доверив прах пустым кувшинам. Здесь сын царя прославил нищету И робок опустить на муравья пяту, И ходит нищий в лопани. Здесь мудрецы живьем закопаны, Не изменивши старой книге. А здесь былых столетий миги, Чтоб кушал лев добычу Над письменами войн обычаю. Там царь и с ним в руках младенец, Кого войска в песках уснули, С утеса в море бросились и оба потонули. О, слезы современниц! Вот степи, где курганы, как волны на волне, В чешуйчатой броне – былые богдыханы Умерших табунов. Вот множество слонов Свои вонзают бивни Из диких валунов Породы допотопной, И в множество пещер Несутся с пеньем ливни Игрою расторопной, Лавинами воды, То водопадами, что взвились на дыбы, Конями синевы на зелени травы И в кольца свернутыми гадами. Ты разрешила обезьянам Иметь правительства и королей, Летучим проносясь изъяном За диким овощем полей. И в глубине зеленых вышек Ты слышишь смех лесных братишек. Как ты стара! Пять тысяч лет. Как складки гор твоих зазубрены! Былых тысячелетий нет С тех пор, как головы отрублены Веселых пьяниц Хо и Хи. Веселые, вы пили сок И пьянства сладкие грехи. Веселым радостям зазорным Отдавши тучные тела, Забывши на небе дела, Вы казнены судом придворным. Зеваки солнечных затмений, Схватив стаканы кулаком, Вы проглядели современья Сидонии приход второй. Его судов Цусимою разгром – Он вновь прошел меж нас, Медина, Когда Мукден кровавила година, Корея знала господина И на восток Ро<ж>ественских путина. Страна костров и лобных мест, и пыток Столетий пальцами Народов развернула свиток, Целуешь здесь края одежд чумы, А здесь единство Азии куют умы.* * *
Туда, туда, где Изанаги Читала «Моногатори» Перуну, А Эрот сел на колена Шангти, И седой хохол на лысой голове Бога походит на снег, Где Амур целует Маа-Эму, А Тиэн беседует с Индрой, Где Юнона с Цинтекуатлем Смотрит Корреджио И восхищены Мурильо, Где Ункулункулу и Тор Играют мирно в шашки, Облокотясь на руку, И Хокусаем восхищена Астарта – туда, туда.Современность
Где серых площадей забор в намисто: «Будут расстреляны на месте!» – И на невесте всех времен Пылает пламя ненависти, И в город, утомлен, Не хочет пахарь сено везти, Ныне вести: пал засов. Капли Дона прописав Всем, кто славился в лони́ годы, Хорони(т) смерть былых забав Века рубля и острой выгоды. Где мы забыли, как любили, Как предков целовали девы, А паровозы в лоск разбили Своих зрачков набатных хлевы, Своих полночных зарев зенки, За мовою летела мова, И на устах глухонемого Всего одно лишь слово: «К стенке!» – Как водопад дыхания китов, Вздымалось творчество Тагора и Уэльса, Но черным парусом плотов На звезды мира, путник, целься. Убийцы нож ховая разговором, Столетие правительства ученых, Ты набрано косым набором, Точно издание Крученых, Где толпы опечаток Летят, как праздник святок. Как если б кто сказал: «Война окончена – война мечам. И се – я нож влагаю в ножницы» – Или молитвенным холстам Ошибкой дал уста наложницы, Где бычию добычею ножам Стоят поклонники назад. В подобном двум лучам железе Ночная песня китаянки Несется в черный слух Замбези, За ней счета торговых янки. В тряпичном серебре Китайское письмо, Турецкое письмо На знаке денежном – РСФСР Тук-тук в заборы государств. А голос Ганга с пляской Конго Сливает медный говор гонга. И африканский зной в стране морозов, Как спутник ласточке, хотел помочь, У изнемогших паровозов Сиделкою сидела ночь. Где серны рог блеснул ножом, Глаза свободы ярки взором, Острожный замок Индии забит пыжом – Рабиндранат Тагором! «Вещь покупаэ<м>. Вещь покупае<м>!» О, песнь, полная примет! О, роковой напев, хоронят им царей, Во дни зачатия железных матерей. Старьевщик времени царей шурум-бурум Забрал в поношенный мешок. И ходит мировой татарин У окон и дверей: «Старья нет ли?» – Мешок стянув концом петли. Идет в дырявом котелке С престолом праздным на руке. «Старья нет ли? Вещь покупаэм! Царей берем. Шурум-бурум!» – Над черепами городов Века таинственных зачатий, В железном русле проводов Летел станок печати. В железных берегах тех нитей Плывут чудовища событий.* * *
Это было в месяц Ай, Это было в месяц Ай. – Слушай, мальчик, не зевай. Это было иногда, Май да-да! Май да-да! Лился с неба томный май. Льется чистая вода, Заклинаю и зову. – Что же и месяце Ау? Ай да-да! Май да-да! О, Азия! Себя тобою мучу. Как девы брови я постигаю тучу, Как шею нежного здоровья – Твои ночные вечеровья. Где тот, кто день свободных ласк предрек? О, если б волосами синих рек Мне Азия обвила бы колени И дева прошептала бы таинственные пени, И, тихая, счастливая, рыдала, Концами кос глаза суша. Она любила, она страдала – Вселенной смутная душа. И вновь прошли бы в сердце чувства, Вдруг зажигая в сердце бой, И Махавиры, и Заратустры, И Саваджи, объятого борьбой. Умерших снов я стал бы современник, Творя ответы и вопросы, А ты бы грудой светлых денег Мне на ноги рассыпала бы косы, «Учитель, – ласково шепча, – Не правда ли, сегодня Мы будем сообща Искать путей свободней?»Заклинание множественным числом
Пение первое
Вперед, шары земные! Я вьюгою очей… Вперед, шары земные!..Пение второе
И если в «Харьковские птицы», Кажется, Сушкина, Засох соловьиный дол И гром журавлей, А осень висит запятой, Вот, я иду к той, Чье греческое и странное руно Приглашает меня испить «Египетских ночей» Пушкина Холодное вино. Две нары глаз – ночная и дневная, Две половины суток. День голубой, раб черной ночи, Вы тонете, то эти, то не те. И влит прихоти на дне мгновении сотки. Вы думали, прилежно вспоминая, Что был хорош Нерон, играя Христа как председателя чеки. Вы острова любви туземцы, В беседах молчаливых немцы.231. Зангези
Введение
Повесть строится из слов как строительной единицы здания. Единицей служит малый камень равновеликих слов. Сверхповесть, или заповесть, складывается из самостоятельных отрывков, каждый с своим особым богом, особой верой и особым уставом. На московский вопрос: «Како веруеши?» – каждый отвечает независимо от соседа. Им предоставлена свобода вероисповеданий. Строевая единица, камень сверхповести, – повесть первого порядка. Она похожа на изваяние из разноцветных глыб разной породы, тело – белого камня, плащ и одежда – голубого, глаза – черного. Она вытесана из разноцветных глыб слова разного строения. Таким образом находится новый вид работы в области речевого дела. Рассказ есть зодчество из слов. Зодчество из «рассказов» есть сверхповесть. Глыбой художнику служит не слово, а рассказ первого порядка.
Колода плоскостей слова
Горы. Над поляной подымается шероховатый прямой утес, похожий на железную иглу, поставленную под увеличительным стеклом. Как посох рядом со стеной, он стоит рядом с отвесными кручами заросших хвойным лесом каменных пород. С основной породой его соединяет мост площадка упавшего ему на голову соломенной шляпой горного обвала. Эта площадка – любимое место Зангези. Здесь он бывает каждое утро и читает песни. Отсюда он читает свои проповеди к людям или лесу. Высокая ель, плещущая буйно синими волнами хвои, стоя рядом, закрывает часть утеса, казалось, дружит с ним и охраняет его покой.
Порою из-под корней выступают черной площадью каменные листы основной породы. Узлами вьются корни – там, где высунулись углы каменных книг подземного читателя. Доносится шум соснового бора. Подушки серебряного оленьего моха – в росе. Это дорога плачущей ночи.
Черные живые камни стоят среди стволов, точно темные тела великанов, вышедших на войну.
Плоскость I
Птицы
Пен очка (с самой вершины ели, надувая серебряное горлышко.). Пить пэт твичан! Пить пэт твичан! Пить пэт твичан!
Овсяночка (спокойная на вершине орешника). Кри-ти-ти-ти-ти-и и – цы-цы-цы-сссыы.
Дубровник. Вьер-вьöр виру сьек-сьек-сьек! Вэр-вэр виру сек-сек-сек!
Вьюрок. Тьöрти едигреди (заглянув к людям, он прячется в высокой ели). Тьöрти едигреди!
Овсянка (качаясь на ветке). Цы-цы-цы-сссыы.
Пеночка зеленая (одиноко скитаясь по зеленому морю, по верхним вечно качаемым ветром волнам вершин бора). Прынь! Пцире<б>-пциреб! Цэсэсэ.
Овсянка. Цы-сы-сы-ссы (качается на тростнике).
Сойка. Пиу! Пиу! Пьяк, пьяк, пьяк!
Ласточка. Цивить! Цивить!
Славка черноголовая. Беботэу-вевять!
Кукушка. Ку-ку! Ку-ку! (качается на вершине).
Молчание.
Такие утренние речи птиц солнцу.
Проходит мальчик-птицелов с клеткой.
Плоскость II
Боги
Туман мало-помалу рассеивается. Обнажаются кручи, похожие на суровые лбы людей, которых жизнь была сурова и жестока, становится ясно: здесь гнездуют боги. У призрачных тел веют крылья лебедей, травы гнутся от невидимой поступи, шумят.
Истина: боги близки! – все громче и громче. Это сонм богов всех народов, их съезд, горный табор.
Тиэн гладит утюгом свои длинные, до земли, волосы, ставшие его одеждой: исправляет складки.
Шангти смывает с лица копоть городов Запада. «Мало-мало лучше».
Как зайцы, над ушами висят два снежных пушистых клока. Длинные усы китайца.
Белая Юнон а, одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень от накипи.
Ункулункулу прислушивается к шуму жука, проточившего ходы через бревно деревянного тела бога.
Эрот
Мара-рома, Биба-буль! Укс, кукс, эль! Редэдиди дидиди! Пири-пэпи, па-па-пи! Чоги гуна, гени-ган! Аль, Эль, Иль! Али, Эли, Или! Эк, ак, ук! Гамчь, гэмчь, ио! Рпи! Рпи!Ответ (боги)
На-на-на! Эчи, учи, очи! Кези, нези, дзигага! Низаризи озири. Мэамура зиморо! Пипс! Мазачичи-чиморо! Плянь!Велес
Брувуру ру-ру-ру! Пице цапе сэ сэ сэ! Бруву руру ру-ру-ру! Сици лици ци-ци-ци! Пенчь, панчь, пеньчь!Эрот
Эмчь, Амчь, Умчь! Думчи, дамчи, домчи. Макарако киочерк! Цицилици цицици! Кукарики кикику. Ричи чичи ци-ци-ци. Ольга, Эльга, Альга! Пиц, пач, почь! Эхамчи!Юнона
Пирарара – пируруру! Леолола буароо! Вичеоло сэсэсэ! Вичи! Вичи! И би-би! Зизазиза изазо! Эпсь, Апс, Эпс! Мури-гури рикоко! Мио, мао, мум! Эп!Ункулункулу
Рапр, грапр, апр! Жай! Каф! Бзуй! Каф! Жраб, габ, бакв – кук! Ртупт! Тупт! Носятся в воздухе боги. Опять темнеет мгла, синея над камнями.Плоскость III
Люди
(ИЗ КОЛОДЫ ПЕСТРЫХ СЛОВЕСНЫХ ПЛОСКОСТЕЙ)
Люди. О, господа мать!
1-й прихожий. Так он здесь? Этот лесной дурак?
2-й прихожий. Да!
1-й прихожий. Что он делает?
2-й прихожий. Читает, говорит, дышит, видит, слышит, ходит, по утрам молится.
1-й прихожий. Кому?
2-й прихожий. Не поймешь! Цветам? Букашкам? Лесным жабам?
1-й прихожий. Дурак! Проповедь лесного дурака! А коров не пасет.
2-й прихожий. Пока нет. Видишь, на дороге трава не растет, чистая дорожка! Ходят. Протоптана дорога сюда, к этому утесу!
1-й прихожий. Чудак! Послушаем!
2-й прихожий. Он миловиден. Женствен. Но долго не продержится.
1-й прихожий. Слабо ему!
2-й прихожий. Да.
(Проходят.)
3-й прохожий. Он наверху, а внизу эти люди как плевательница для плевков его учения?
1-й прихожий. Может быть, как утопленники? Плавают, наглотались…
2-й прихожий. Как хочешь. Он спасительный круг, брошенный с неба?
1-й прихожий. Да! Итак учение лесного дурака начинается. Учитель! Мы слушаем.
2-й прихожий. А это что? Обрывок рукописи Зангези. Прильнул к корню сосны, забился в мышиную нору. Красивый почерк.
1-й прихожий. Читай же вслух!
Плоскость IV
2-й прихожий. «Доски судьбы! Как письмена черных ночей, вырублю вас, доски судьбы!
Три числа! Точно я в молодости, точно я в старости, точно я в средних годах, вместе идемте по пыльной дороге!
105+ 104+ 115 = 742 года 34 дня. Читайте, глаза, закон гибели царств.
Вот уравнение: Х = k + n (105+ 104 + 115) – (102 – (2n– 1)11) дней.
k – точка от<с>чета во времени, римлян порыв на восток, битва при Акциуме. Египет сдался Риму. Это было 2/IX 31 года до Р. Х.
При n = 1, значение Икса в уравнении гибели народов будет следующее: X = 21/VII 711, или день гибели гордой Испании, завоевание ее арабами. Пала гордая Испания!
При n = 2, X = 29/V 1453. И пробил час взятия Царьграда дикими турками. Город царей тонул в крови, и, дикие в прелести, выли турок волынки. Труп Рима второго Осман попирал. В храме Софии голубоокой – зеленый плащ пророка. На пузатых конях, с белой простыней на голове едут победители.
Пенье трех крыльев судьбы: милых одним, грозных другим! Единица ушла из пяти в десятку, из крыла в колесо, и движенья числа в трех снимках (105, 104, 115) запечатлены уравнением.
Между гибелью Персии 1/Х 331 года до Р. Хр. под копьем Александра Великого и гибелью Рима от мощных ударов Алариха 24/VIII 410 года прошло 741 год, или 105 + 104 + 115 – дней.
Доски судьбы! Читайте, читайте, прохожие! Как на тенеписи, числаборцы пройдут перед вами, снятые в разных сечениях времени, в разных плоскостях времени. И все их тела разных возрастов, сложенные вместе, дают глыбу времени между падениями царств, наводивших ужас».
<1>-й прохожий. Темно и непонятно. Но все-таки виден коготь льва! Чувствуется. Обрывок бумаги, где запечатлены народов судьбы для высшего видения!
Плоскость слов V
<В толпе.> Чангари Зангези пришел! Говорливый! Говори, мы слушаем. Мы – пол, шагай по нашим душам. Смелый ходун! Мы – верующие, мы ждем. Наши очи, ниши души – пол твоим шагам, неведомый.
Иволга. Фио эу.
Плоскость VI
Зангези
Мне, бабочке, залетевшей В комнату человеческой жизни, Оставить почерк моей пыли По суровым окнам, подписью узника, На строгих стеклах рока. Так скучны и серы Обои из человеческой жизни! Окон прозрачное «нет»! Я уж стер свое синее зарево, точек узоры, Мою голубую бурю крыла – первую свежесть. Пыльца снята, крылья увяли и стали прозрачны и жестки. Бьюсь я устало в окно человека. Вечные числа стучатся оттуда Призывом на родину, число зовут к числам вернуться.2-й прихожий. Бабочкой захотелось быть, вот чего хитрец захотел!
3-й прохожий. Миляга! Какая он бабочка… баба он!
Верующие. Спой нам самовитые песни! Расскажи нам о Эль! Прочти на заумной речи. Расскажи про наше страшное время словами Азбуки! Чтобы мы не увидели войну людей, шашек Азбуки, а услышали стук длинных копий Азбуки. Сечу противников: Эр и Эль, Ка и <Гэ>!
Ужасны их грозно пернатые шлемы, ужасны их копья! Страшен очерк их лиц: смуглого дико и нежно пространства. Тогда шкуру стран съедает моль гражданской войны, столицы засыхают как сухари – влага людей испарилась.
Мы знаем: Эль – остановка широкой площадью поперечно падающей точки, Эр – точка, прорезавшая, просекшая поперечную площадь. Эр – реет, рвет, рассекает преграды, делает русла и рвы.
Пространство звучит через Азбуку.
Говори!
Плоскость V
Зангези
Вы говорите, что умерли Рюрики и Романовы, Пали Каледины, Крымовы, Корниловы и Колчаки… Нет! С рабами боролась оборона панова, Был двадцать раз взят и разрушен Киев, Стерт в порошок. Богатый плакал, смеялся кто беден, Когда пулю в себя бросил Каледин И Учредительного собрания треснул шаг. И потемнели пустые дворцы. Нет, это вырвалось «рцы», Как дыханье умерших, Воплем клокучущим дико прочь из остывающих уст. Это Ка наступало! На облаке власти – Эля зубцы. Эль, где твоя вековая опала! Эль – вековой отшельник подполья! Гражданин мира мышей, бурною бросились бурей К тебе сутки, недели, месяцы, годы – на богомолье. Дни наступали Эля – погоды! Эль – это солнышко ласки и лени, любви! В улье людей ты дважды звучишь! Тебе поклонились народы После великой войны. Эр, Ра, Ро! Tpa-pa-pa! Грохот охоты, хохот войны. Ты – турусы на колесах В кованых гвоздях Скандинавии. Парусом шумел по Руси, Железным ободом телеги На юг уносил Крепкого снега на сердце ночлеги, В мышьи тела вонзенные когти мороза. Кляча – ветер России нес тебя. И села просили: приехали гости бы! Турусы на колесах. Разрушая услады, ты не помнил преграды, А вдали стоял посох Гэ, сломанный надвое. Эр в руках Эля! Если орел, сурово расправив крылья косые, тоскует о Леле, Вылетит Эр, как горох из стручка, из слова Россия. Если народ обернулся в ланей, Если на нем рана на ране, Если он ходит, точно олени, Мокрою черною мордою тычет в ворота судьбы, – Это он просит, чтоб лели лелеяли, Лели и чистые Эли, тело усталое Ладом овеяли. И его голова – Словарь только слов Эля. Хорем рыскавший в чужбине хочет холи! Эр, во весь опор Несись, не падая о пол! Объемы пути вычитай из преград. Ты нищих лопоть Обращаешь в народный ропот, Лапти из лыка Заменишь ропотом рыка! Эр, ты – пар, ты гонишь поезда Цепочкой цуга крови чечевиц По жилам северной Сибири Или дворцы ведешь волнами. Расцвет дорог живет тобою, как подсолнух. Но Эль настало – Эр упало. Народ плывет на лодке лени, И порох боевой он заменяет плахой, А бурю булкой. И плащаницами – пращу… и голодом старинный город, И гордых голыми. А Эр луга заменит руганью, Латы – ратью, Оружие подымет вновь из лужи, Не лазить будет, а разить! На место больного – поставит борца! Застроит храмом хлам и в городах изгонит голод, И вором волю стащит. Ты дважды зазвучал в пророке И глаждан обратило в граждан, Пронзая темь времен, Как Ка звучало в Колчаке. Ка стегало плетью Оков, закона, колов и покоя, и камней: Пророков ими побивают, – В нем казни на кол. Когда ты, Эр, выл В уши севера болотца, Широкие уши болота: «Бороться, брат, бороться!» – Охота у хаты за страшной грозою гнаться с белой борзою, Чтоб вновь шла пехота, до последнего хохота Двух черепов последних людей у блюда войны, – В это время тяжкою поступью Самоубийцы шло по степи Ка, Шагая к Элям неверными, как будто пьяного, шагами И крася облака судьбы собой, Давая берег новый руслу человеческих смертей. Последним ходом в проигрыше – дуло у виска – Идет, бледнея, Ка. Эр, Ра, Ро! Рог! Рог! Бог Руси, бог руха, Перун – твой бог, в огромном росте Не знает он преград, рвет, роет, режет, рубит. Вздор, что Каледин убит и Колчак, что выстрел звучал. Это Ка замолчало, Ка отступило, рухнуло наземь. Это Эль строит морю мора мол, а смерти – смелые мели.1-й прихожий. Он – ученый малый.
2-й прихожий. Но песнь его без дара. Сырье, настоящее сырье его проповедь. Сырая колода. Посушить мыслителя.
Плоскость VIII
Зангези
Эр, Ка, Эль и Гэ – Воины азбуки – Были действующими лицами этих лет. Богатырями дней. Воли людей окружала их силу, Как падает с весел мокрая. Лодку, лыжи, лёт и лед, лапу Ищет, кто падает, куда? – в снег, воду и в пропасть, в провал. Утопленник сел в лодку и стал грести. Лодка широка, не провалится. И лени захотелось всем. И тщетно Ка несло оковы, во время драки Гэ и Эр, Гэ пало, срубленное Эр, И Эр в ногах у Эля!Пусть мглу времен развеют вещие звуки мирового языка.
Он – точно свет.
Слушайте
Песни звездного языка:
«Где рой зеленых Ха для двух И Эль одежд во время бега, Го облаков над играми людей, Вэ толп кругом незримого огня И Ла труда, и Пэ игры и пенья, Че юноши – рубашка голубая, Зо голубой рубашки – зарево и сверк. Вэ кудрей мимо лиц, Вэ веток вдоль ствола сосен, Вэ звезд ночного мира над осью, Чe девушек – червонн<ые> рубах<и>, Го девушек – венки лесных цветов. И Со лучей веселья, Вэ люда по кольцу, Эс радостей весенних, Мо горя, скорби и печали. И Пи веселых голосов, И Пэ раскатов смеха, Вэ веток от дыханья ветра, Недолги Ка покоя. Девы! Парни! Больше Пэ! Больше Пи! Всем будет Ка – могила! Эс смеха, Да веревкою волос, А рощи – Ха весенних дел, Дубровы – Ха богов желанья, А брови – Ха весенних взоров И косы – Ха полночных лиц. И Мо волос на кудри длинные, И Ла труда во время бега, И Вэ веселья, Пэ речей, Па рукавов сорочки белой, Вэ черных змей косы, Зи глаз, Ро золотое кудрей у парней. Пи смеха! Пи подков и бега искры! Мо грусти и тоски, Мо прежнего унынья. Го камня на высоте, Вэ волн речных, Вэ ветра и деревьев, Созвездье Го ночного мира, Та тени вечеровой – дева, И За-за радостей – глаза. Вэ пламени незримого – толпа. И пенья Пэ, И пенья Ро сквозь тишину, И криков Пи».Таков звездный язык.
Толпа. Это неплохо, Мыслитель! Это будет получше!
Зангези. Это звездные песни, где алгебра слов смешана с аршинами и часами. Первый набросок! Этот язык объединит некогда, может быть, скоро!
1-й прихожий. Он божественно врет. Он врет, как соловей ночью. Смотрите, сверху летят летучки. Прочтем одну:
«Вэ значит вращение одной точки около другой (круговое движение).
Эль – остановка падения, или вообще движения, плоскостью, поперечной падающей точке (лодка, летать).
Эр – точка, просекающая насквозь поперечную площадь.
Пэ – беглое удаление одной точки прочь от другой, и отсюда для многих точек, точечного множества, рост объема (пламя, пар).
Эм – распыление объема на бесконечно малые части.
Эс – выход точек из одной неподвижной точки (сияние).
Ка – встреча и отсюда остановка многих движущихся точек и од ной неподвижной Отсюда конечное значение Ка – покой; закованность.
Ха преграда плоскости между одной точкой и другой, движущейся к ней (хижина, хата).
Че – полый объем, пустота которого заполнена чужим телом. Отсюда кривая, огибающая преграду.
Зэ – отражение луча от зеркала. – Угол падения равен углу отражения (зрения).
Гэ – движение точки под прямым углом к основному движению, прочь от него. Отсюда вышина».
1-й слушатель. С своими летучками он делается свирепым, этот Зангези! Что скажешь по этому поводу?
2-й слушатель. Он меня проткнул, как рыбешку, острогой своей мысли.
Зангези. Слышите ли вы меня? Слышите ли вы мои речи, снимающие с вас оковы слов? Речи – здания из глыб пространства.
Частицы речи. Части движения. Сло́ва – нет, есть движения в пространстве и его части – точек, площадей.
Вы вырвались из цепей ваших предков. Молот моего голоса расковал их – бесноватыми вы бились в цепях.
Плоскости, прямые площади, удары точек, божественный круг, угол падения, пучок лучей прочь из точки и в нее – вот тайные глыбы языка. Поскоблите язык – и вы увидите пространство и его шкуру.
Плоскость мысли IX
Тише! Тише. Он говорит!
Зангези. Благовест в ум! Большой набат в разум, в колокол ума! Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот! Пойте все вместе за мной!
I
Го у м.
Оум.
Уу м.
Паум.
Соум меня
И тех, кого не знаю.
Моум.
Боум.
Лаум.
Чеум.
– Бом!
Бим!
Бам!
II
Проум.
Праум.
Приум.
Ниум.
Вэум.
Роум.
Заум.
Выум.
Воум.
Боум.
Быум.
– Бом!
Помогайте, звонари, я устал.
III
Доум.
Даум.
Миум.
Раум.
Хоум.
Хаум.
Бейте в благовест ума!
Вот колокол и черенка.
Суум.
Изум.
Неум.
Наум.
Двуум.
Треум.
Деум.
– Бом!
IV
Зоум.
Коум.
Соум.
Поум.
Глаум.
Раум.
Ноум.
Нуум.
Выум.
– Бом!
Бом! Бом, бом!
Это большой набат в колокол ума.
Божественные звуки, слетающиеся сверху на призыв человека.
Выум – это изобр<етающий ум>. Конечно, нелюба старого ведет к выуму.
Ноум – враждебный ум, ведущий к другим выводам, ум, говорящий первому «но».
Гоум – высокий, как эти безделушки неба, звезды, невидные днем. У падших государей он берет выпавший посох Го.
Лаум – широкий, розлитый по наиболее широкой площади, не знающий берегов себе, как половодье реки.
Коум – спокойный, сковывающий, дающий устои, книги, правила и законы.
<Г>лаум с вершины сходит в толпы ко всем. Он расскажет полям, что видно с горы.
Чеум – подымающий чашу к неведомому будущему. Его зори – чезори. Его луч – челуч. Его пламя – чепламя. Его воля – чеволя. Его горе – чегоре. Его неги – ченеги.
Моум – гибельный, крушащий, разрушающий. Он предсказан в пределах веры.
Вэум – ум ученичества и верного подданства, набожного духа.
Оум – отвлеченный, озираю<щий> всё кругом себя, с высоты одной мысли.
Изум – выпрыг из пределов бытового ума.
Даум – утверждающий.
Ноум – спорящий.
Суум – половинный ум.
Соум – разум-сотрудник.
Нуум – приказывающий.
Хоум – тайный, спрятанный разум.
Быум – желающий разум, сделанный не тем, что есть, а тем, чего хочется.
Ниум – отрицающий.
Проум – предвидение.
Праум – разум далекой старины, ум-предок.
Боум – следующий голосу опыта.
Воум – гвоздь мысли, вогнанный в доску глупости.
Выум – слетевший обруч глупости.
Раум – не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. Речи его – рар<еч>и.
Зоум – отражающий ум.
Прекрасен благовест ума.
Прекрасны его чистые звуки.
Но вот Эм шагает в область сильного слона «Могу».
Слушайте, слушайте моговест мощи!
Плоскость X
Иди, могатырь! Шагай, могатырь! Можарь, можар! Могун, я могею! Моглец, я могу! Могей, я могею! Могей, мое я. Мело! Умело! Могей, могач! Моганствуйте, очи! Мело! Умело! Шествуйте, моги! Шагай, могач! Руки! Руки! Могунный, можественный лик, полный могебнов! Могровые очи, могатые мысли, могебные брови! Лицо могды. Рука могды! Могна! Руки, руки! Могарные, можеские, могунные, Могесные, мощные, могивые! Могесничай, лик! Многомогейные, могистые моги, Это вы рассыпались, волосы, могиканами, Могеичи – моговичи, можественным могом, могенятами, Среди моженят – могушищ, могеичей можных, Вьется один могушонок, Можбой можеству могес могатеев могатых. В толпе моженят и моговичей. Вода в клюве! Крылья шумят ворона. Тороплюсь, не опоздать бы! Лицо, могатырь! Могай, моган! Могей, могун! Могачь, могай! Иду можарищем, можарю можарство можелью! Могачь, могай! Могей, могуй! Иди, могатырь! Мог моготы! Можар можавы! Могесник, мощник! Можарь, мой ум! Могай, рука! Могуй, рука! Моган, могун и могатырь! Иди! Могай, моган! Могей, могун! Глаза могвы, уста могды! Могатство могачей!Это Эм ворвалось в владения Бэ, чтоб не бояться его, выполняя долг победы. Это войска пехотные Эм размололи глыбу объема невозможного, камень-дикарь невозможного на муку, на муравьиные ноши, из дерева сделали мох и мураву, из орла муху, из слона мышь и стадо мурашей и целое стало мукой бесконечно малых частей. Это пришло Эм, молот великого, молью шубы столетий, всё истребив.
Так мы будим спящих богов речи.
Дерзко трясем за бороду – проспитесь, старцы!
Я могогур и благовест Эм! Можар! Можаров! К Эм, этой северной звезде человечества, этому стожару всех стогов веры, – наши пути. К ней плывет струг столетий. К ней плывет бус человечества, гордо надув паруса государств.
Так мы пришли из владений ума и замок «Могу».
Тысяча голосов (глухо). Могу!
(еще раз). Могу!
(еще раз). Могу!
Мы можем!
Горы, дальние горы. Могу!
Зангези. Слышите, горы расписались в вашей клятве. Слышите этот гордый росчерк гор «Могу» на выданном вами денежном знаке? Повторенное зоем ущелья – тысячами голосов? Слышите, боги летят, вспугнутые нашим вскриком?
Многие. Боги летят, боги летят!
Плоскость XI
Боги шумят крылами, летя ниже облака.
Боги
Гагагага гэгэгэ! Гракахата гророро Лили эги, ляп, ляп, бэмь. Либибиби нираро Синоано цицириц. Хию хмапа, хир зэнь, ченчь Жури кика син сонэга. Хахотири эсс эсэ. Юнчи, энчи, ук! Юнчи, энчи, пипока. Клям! Клям! Эпс!Многие. Боги улетели, испуганные мощью наших голосов. К худу или добру?
Плоскость XII
Зангези. А, шагает Азбука! Страшный час! Бревна Эм стили выше облака. Тяжко шагает Ка. Снова через труп облака тянутся копья Гэ и Эр, и когда они оба падут мертвыми, начнется страшная тяжба Эль и Ка – их отрицательных двойников. Эр, наклоняясь в зеркало нет-единицы, видит Ка; Гэ увидит в нем Эль. Выше муравейника людей, свайная постройка битвы загромоздила небо столбами и плахами, тяжелой свайной войной углов из бревен.
Но ветер развеял все.
Боги улетели, испуганные мощью наших голосов.
А вы видели, как Эль и Ка стучат мечами? И из бревен свайный кулак Ка протянул к суровым свайным латам Эль?
А! Колчак, Каледин, Корнилов только паутина, узоры плесени на этом кулаке! Какие борцы схватились и борются за тучами? Свалка Гэ и Эр, Эль и Ка! Одни хрипят, три трупа, Эль одно. Тише.
Плоскость XIII
Зангези
Они голубой тихославль, Они голубой окопад. Они в никогда улетавль, Их крылья шумят невпопад. Летуры летят в собеса Толпою ночей исчезаев. Потоком крылатой этоты, Потопом небесной нетоты. Летели незурные стоны, Свое позабывшие имя, Лелеять его нехотяи. Умчались в пустыни зовели, В всегдаве небес иногдава, Нетава, земного нетава! Летоты, летоты инее! Вечернего воздуха дайны, Этавель задумчивой тайны, По синему небу бегуричи, Нетуричей стая, незуричей, Потопом летят в инеса, Летуры летят в собеса! Летавель могучей виданой, Этотой безвестной и странной, Крылом белоснежные махари, Полета усталого знахари, Сияны веянами дахари. Река голубого летога, Усталые крылья мечтога, Широкие песни ничтога. В созвездиях босы, Там умерло «ты». У них небесурные косы, У них небесурные рты! В потоке востока всегдава, Они улетят в никогдавель. Очами земного нетеж, Закона земного нетуры, Они в голубое летеж, Они в голубое летуры. Окутаны вещею грустью, Летят к доразумному устью, Нетурные крылья, грезурные рты! Незурные крылья, нетурные рты! У них небесурные лица, Они голубого столица. По синему небу бегуричи! Огнестром лелестра небес. Их дико грезурные очи, Их дико незурные рты.Ученики. Зангези! Что-нибудь земное! Довольно неба! Грянь «камаринскую»! Мыслитель, скажи что-нибудь веселенькое. Толпа хочет веселого. Что поделаешь – время послеобеденное.
Плоскость XIV
Зангези
Слушайте! Верхарня серых гор. Бегава вод в долину, И бьюга водопада об утесы Седыми бивнями волны. И сивни облаков, Нетоты туч Над хивнями травы. И бихорь седого потока Великой седыни воды. Я божестварь на божествинах! Иду по берегу. А там стою, как стог. И черный мамонт полумрака, чернильницей пролитый В молоке ущелья, Поднявший бивень белых вод, Грозит травы божествежу, и топчут сваи лебеду, Чтобы стонала: «Боже, боже!» Грозит и в пропасть упадает. Пел петер дикой степи, Лелепр синеет ночей, Весны хорошава ночная, верхарня травы, Где ветра ходно, на небе огнепр, Сюда, мластелины! Младыки, сюда! Здесь умер волестр, о, ветер сладыки. И гибельный гнестр, И хивень божеств. А я, божестварь, одинок.В толпе
Безумью барщина И тарабарщина, На каком языке, господин Зангези?Зангези
Дальше: А вы, сапогоокие девы, Шагающие смазными сапогами ночей Но небу моей песни, Бросьте и сейте деньги ваших глаз По большим дорогам! Вырвите жало гадюк Из ваших шипящих кос! Смотрите щелками ненависти. Глупостварь, я пою и безумствую! Я скачу и пляшу на утесе. Когда пою, мне звезды хлопают в ладоши. Стою. Стою! Стойте! Вперед, шары земные! Так я, великий, заклинаю множественным числом, Умножарь земного шара: ковыляй толпами земель, Земля, кружись комариным роем. Я один, скрестив руки, Гробизны певцом. Я небыть. Я такович.Плоскость XV
Но вот песни звукописи, где звук то голубой, то синий, то черный, то красный:
Вэо-вэя – зелень дерева, Нижеоты – темный ствол, Мам-эами – это небо, Пучь и чапи – черный грач. Мам и эмо это облако. Запах вещей числовой. День в саду. А вот ваш праздник труда: Лели-лили – снег черемух, Заслоняющих винтовку. Чичечача – шашки блеск, Биээнзай – аль знамен, Зиээгзой – почерк клятвы. Бобо-биба – аль околыша, Мипиопи – блеск очей серых войск. Чучу биза – блеск божбы. Мивеаа – небеса. Мипиопи – блеск очей, Вээава – зелень толп! Мимомая – синь гусаров, Зизо зея – почерк солнц, Солнцеоких шашек рожь. Лели-лили – снег черемух, Сосесао – зданий горы…Слушающие. Будет! Будет! Довольно! Соленым огурцом в Занзези! Ты что-нибудь мужественное! Поджечь его!
Смотри, даже заяц выбежал слушать тебя, чешет лапой ухо, косой.
Зангези! Брось заячье зайцам. Мы ведь мужчины! Смотри, сколько здесь собралось! Зангези! Мы заснули. Красиво, но не греет! Плохие дрова срубил ты для отопки наших печей. Холодно.
Падучая XVI
ПАДУЧАЯ
Что с ним? Держи его! Азь-два… Ноги вдевать в стремена! Но-жки! Азь-два. Ишь, гад! Стой… Готов… Урр… урр. Белая рожа! Стой, не уйдешь! Не уйдешь! Стой, курва, тише, тише! Зарежу, как барана… Стой, гад! Стой, гад. Ать! Хырр… хырр… Урр… Урр… Не уйдешь… Врешь… Стой… Стон… Урр… уррр… Хырр… Хрра… Атть! Атть! Атть! Врешь, курва. Сволочь! А! Господа мать! Не спас головы Для красной свободы… Первый осетинский конный полк, Шашки выдер-гать – Вон! За мной! Направо руби, Налево коли! Урр… урр… Не уйдешь! Слушай, браток: Нож есть? Зарежу – купец, Врешь, не удержишь! А! В плену… врете! Ать! Ать!Зангези
С ним припадок. Страшная война посетила его душу. И перерезала наши часы, точно горло. Этот припадочный, Он нам напомнил, Что война еще существует.Плоскость XVII
Трое
Ну, прощай, Зангези!(Уходят.)
Дорога сборищу тесна, Везде береза и сосна. О, боги, боги, где вы? Дайте прикурить. Я прежних спичек не найду. Давай закурим на ходу. Идем. – Мы где увидимся? В могиле братской? Я самогону притащу, Аракой бога угощу И созовем туда марух. – Эх! Курится? – Петух! На том свете и примаю от трех до шести. Иди смелей, боятся дети, А мы уж юности – прости! По-нашенски напьемся, по-простецки, по-дурацки. Потом спитого в лоск напоим, Одесса мама запоем. И пусть пляшут а-ца-ца! Возле мертвого донца. Даешь, Зангези?Зангези
Спички судьбы.Трое
Есть.Плоскость XVIII
Зангези
Нет, не бывает у бури кавычек! Требовал смерти у Рюриковичей Пылкий, горячий Рылеев. В каждом течет короле яд, И повис, неподвижно шагая, Смерть для Рылеева цепей милее. Далее мчится буря нагая. Дело свободы, все же ты начато! Пусть тех могилы тихи. Через два в тринадцатой – Сорок восьмого года Толп, красных толп пастухи. Ветер свободы, День мировой непогоды! И если восстали поляки, Не боясь у судьбы освистанья, Щеку и рот пусть у судьбы раздирает свисток, Пусть точно дуло, точно выстрел суровый. Точно дуло ружья, смотрит угрюмый Восток На польского праздник восстанья. Через три в пятой, или двести сорок три, Червонцами брошенных дней Вдруг загорелся, как смерть в одиночке, Выстрел в грудь Берга, мертвой Мятежников точки, Польши смирителя, Польши наместника, Звона цепей упорного вестника. Это звена цепей блеснули: Через три в пятой – день мести И выстрела дыма дыбы. Гарфильд был избран, посадник Америки, Лед недоверия пробит, Черен три в пятой – звери какие – Гарфильд убит. И если Востока орда Улицы Рима ограбила И бросила белый град черным оковам. Открыла для стаи вороньей обед, – Через два раза в одиннадцатой три Выросла снова гора черепов Битвы в полях Куликова – Это Москва переписывала набело Чернилами первых побед Первого Рима судьбы черновик. Востока народов умолк пулемет, Битвой великою кончилась Обойма народов Востока. Мельник времен Из костей Куликова Плотину построил, холм черепов. Окрик несется по степи: «Стой!» Это Москва – часовой. Волны народов одна за другой Катились на запад: Готы и гунны, с ними татары. Через дважды в одиннадцатой три Выросла в шлеме сугробов Москва, Сказала Востоку: «Ни шагу!» Там, где земля от татар высыхала, Долго блистал их залив, Ермак с головою нахала, Суровую бровь углом заломив, Ветру поверив широкую бороду, Плыл по прекрасным рекам Сибири К Кучума далекому городу. Самое нежное в мире Не остановит его, Победителя жребий В зеркале вод отражался, Звезды блистали Искера – И полумир переходит к Москве. Глядели на русских медвежие хари, Играли в камнях медвежата, Толпилися лось и лосята. Манят и дразнят меха соболей Толстых бояр из столицы, Шли воеводы на поиск землицы, Плыли по морю, по северным льдам. Вслед за отходом татарских тревог – Это Русь пошла на восток. Через два раза в десятой степени три После взятья Искера, После суровых очей Ермака, Отраженных в сибирской реке, Наступает день биты Мукдена, Где много земле отдали удали. Это всегда так: после трех в степени энной Наступил отрицательный сдвиг. Стесселем стал Ермак Через три и десятой степени дней И столько же. Чем Куликово было татарам, Тем грозный Мукден был для русских. В очках ученого пророка Его видал за письменным столом Владимир Соловьев. Ежели Стессель любил поросят – Был он Ермак через три в десятой. И если Болгария Разорвала своего господина цепи И свободною встала, после стольких годов, Решеньем судилища всемирного – Долина цветов, – Это потому, что прошло Три в одиннадцатой Со дня битвы при Тырнове. Киев татарами взят, В храмах верблюды храпят, Русская взята столица, Прошло три в десятой И в горах Ангоры Сошлися Тимур с Баязетом. И пусть в клетке сидит Баязет, Но монголам положен отпор. Через степени три Смена военной зари. Древнему чету и нечету Там покоряется меч и тут. Есть башня из троек и двоек, Ходит по ней старец времен, Где военных знамен воздух клевали лоскутья И кони упорно молчат, Лишь звучным копытом стучат. Мертвый, живой – все в одной свалке! Это железные времени палки, Оси событий из чучела мира торчат Пугала войн проткнувшие прутья. Проволока мира – число. Что это? Истины челны? Иль пустобрех? Востока и Запада волны Сменяются степенью трех. Греки боролися с персами, все в золотых шишках, С утесов бросали их, суровые, в море. Марафон – и разбитый Восток Хлынул назад, за собою сжигая суда. Гнались за ними и пересекли степи они. Через четырежды Три в одиннадцатой степени, Царьград, секиры жди! Храм запылает окурком, Все будет отдано туркам, Князь твой погибнет в огне На белом прекрасном коне. В море бросает свою прибыль Торговец, турки идут, с ними же гибель. 17-й год. Цари отреклись. Кобылица свободы! Дикий скач напролом. Площадь с сломанным орлом. Отблеск ножа в ее Темных глазах, Не самодержавию Ее удержать. Скачет, развеяв копытами пыль, Гордая скачет пророчица. Бьется по камням, волочится Старая мертвая быль. Скачет, куда и к кому? Никогда не догоните! Пыли и то трудно угнаться-то, Горят в глазах огонь и темь – Это потому И затем, Что прошло два в двенадцатой Степени дней Со дня алой Пресни. Здесь два было времени богом, И паденье царей с уздечкой в руке, И охота за ними «улю-лю» вдалеке Выла в даль увлекательным рогом. Пушечной речью Потрясено Замоскворечье, Мина снарядам кудрями чугунными Кланялся низко Нижегородец Минин. Справлялись Мина именины, А рядом Самых красивых в Москве богородиц В глубинах часовен Хохот глушил гор Воробьевых. Это Пушкин, как волосы длинные, Эн отрубил И победителю песен их бросил. Мин победил. Он сам прочел Онегина железа и свинца В глухое ухо толп. Он сам взойдет на памятник. Через три в пятой дней Сделался снег ал. И не узнавали Мина глаза никого, Народ забе́гал, Мина убила рука Коноплянниковой. Через три в пятой, двести сорок три дни, Точно, что всего обидней, Приходит возмездие. Было проделано чудо жестокости, Въелось железо человечеству до́ кости, Пушки отдыхали лишь по воскресеньям, Ружьи воткнуть казалось спасеньем. Приказ грозе и тишине, Германский меч был в вышине. И когда мир приехал у какого-то договора на горбах, Через три в пятой Был убит эсером Мирбах. Если в пальцах запрятался нож, А зрачки открывала настежью месть, Это время завыло: «Даешь!» – А судьба отвечала послушная: «Есть».<Плоскость XIX>
К Зангези подводят коня. Он садится.
Зангези
Иверни выверни, Умный игрень! Кучери тучери, Мучери ночери, Точери тучери, вечери очери. Четками чуткими Пали зари. Иверни выверни, Умный игрень! Это на око Ночная гроза, Это наука Легла на глаза! В дол свободы Без погонь! Ходы, ходы! Добрый конь.Он едет в город.
Зангези
И, волосатый реками! Смотрите, Дунай течет У меня по плечам! И, вихорь своевольный, Порогами синеет Днепр. Это Волга блеснула синими водами, А этот волос длинный, Беру его пальцами, – Амур, где японка Молится небу Во время бури. Хороший плотник часов, Я разобрал часы человечества, Стрелку верно поставил, Лист чисел приделал, Вновь перечел все времена, Гайку внедрил долотом, Ход стрелки судьбы железного неба Стеклом заслонил: Тикают тихо, как раньше. К руке ремешком прикрепил Часы человечества. Песни зубцов и колес Железным поют языком. Гордый, еду, починкой мозгов. Идут и ходят как прежде. Глыбы ума, понятий клади, И весь умерших дум обоз, Как боги лба и звери сзади, Полей божественных навоз, Кладите, как колосья, в веселые стога И дайте им походку и радость, и бега. Вот эти кажутся челом мыслителя, Священной песни книгой те. Рабочие, завода думы жители! Работайте, носите, двигайте! Давайте им простор, военной силы бег И ярость, и движенье. Пошлите на ночлег И беды, и сраженье, И кудри молодца Бегут пусть от отца. Поставьте в поезда, ночные пароходы, Где зелень темных звезд, Чтобы через кадык небес вести Людей небесные пути. И чтоб вся мощь и свежесть рек Влекла их на простор, охотничий ночлег. Чтобы неподвижной глыбой снов Лежал бы на девичьем сене Порядок мерных слов, Усталый и весенний. Вперед, шары земные! Если кто сетку из чисел Набросил на мир, Разве он ум наш возвысил? Нет, стал наш ум еще более сир! Раньше улитки и слизни – Нынче орлиные жизни. Более радуг в цвета! Та-та! Будет земля занята Сетью крылатых дорог. Та-та! Ежели скажут: ты бог, – Гневно ответь: клевета, Мне он лишь только до ног! Плечам равна ли пята? Та-та! Лёта лета! Люди растаявший лед. Дальше и дальше полет. В великих погонях Бешеных скачек На наших ладонях Земного шара мячик. В волнах песчаных <Качались – мо́ря синей прическе –> Сосен занозы. Почерком сосен Была написана книга песка, Книга морского певца. Песчаные волны, где сосны стоят, – Свист чьих-то губ, Дышащих около. Шумит, грызя молчание, Как брошенную кость, Дневное море. Зверь моря синемехий и синебурый Бьется в берег шкурой. Подушка – камень, Терновник – полог, Прибои моря – простыня, А звезд ряды – ночное одеяло Отшельнику себя, Морских особняков жильцу, Простому ветру. Мной недовольное ты! Я, недовольный тобой! Льешь на пространстве версты Пену корзины рябой. Сваи и сваи, и сваи! На свайных постройках лежит Угроза, созревшая в тайнах Колосьями сумрачных жит! Трудно по волнам песчаным тащиться! Кто это моря цветов продавщица? На берег выдь, сядь рядом со мной! Я ведь такой же простой и земной! Я, человечество, мне научу Ближние солнца Честь отдавать, «Ась! два!» Рявкая солнцам сурово. Я воин; время – винтарь. Мои обмотки: Рим пылающий, обугленный, дымный – Головешка из храмов, Стянутый уравнениями туго Весь поперек, – Одна моя обмотка. И Царьград, где погибает Воин в огне, – Другая, тоже хорошая. Я ведь умею шагать Взад и вперед По столетьям. Онучи туги. Ну, дорогу, други! Слышу я просьбу великих столиц: Боги великие звука, Пластину волнуя земли, Собрали пыль человечества, Пыль рода людей, Покорную каждым устам, В большие столицы, В озера стоячей волны, Курганы из тысячных толп. Мы дышим ветром на вас, Свищем и дышим. Сугробы народов метем, Волнуем, волны наводим и рябь, И мерную зыбь на глади столетий. Войны даем вам И гибель царств Мы, дикие звуки, Мы, дикие кони. Приручите нас: Мы понесем вас В другие миры, Верные дикому Всаднику Звука. Лавой беги, человечество, звуков табун оседлав. Конницу звука взнуздай!<Плоскость XX>
ГОРЕ И СМЕХ
Зангези уходит прочь.
Горы пусты.
На площадке козлиными прыжками появляется Смех, ведя за руку Горе…
Он без шляпы, толстый, с одной серьгой в ухе, в белой рубашке. Одна половина его черных штанов синяя, другая золотая. У него мясистые веселые глаза.
Горе одета во все белое, лишь черная, с низкими широкими полями шляпа.
Горе
Я горе. Любую доску́ я Пойму, как царевну печаль! И так проживу я, тоскуя. О, ветер, мне косы мочаль! Я когтями впилася в тело, Руками сдавила виски. А ласточка ласково пела О странах, где нету тоски. И, точно в долину, в меня Собралась печаль мировая, И я прославляю, кляня, Кто хлеба лишен каравая. Зачем же вы, очи умерших, Крылами плескали нужды? Я рыбою бьюся в их вершах, Русалка нездешней воды!Смех
В горах разума пустяк Скачет легко, точно серна. Я веселый могучий толстяк, И в этом мое «Верую». Чугунной скачкою моржа Я прохожу мои пути. Железной радугой ножа Мой смех умеет расцвести. <Рукою мощной подбоченясь, Трясу единственной серьгой.> Дровами хохота поленниц Топлю мой разум голубой. Ударом в хохот указую, Что за занавеской скрылся кто-то, И обувь разума разую И укажу на пальцы пота. Ты водосточною трубой <Протянута к глазам небес, А я безумец и другой,> Я – жирными глазами бес. Курись пожарами кумирен, Гори молельнями печали! Затылок мой, от смеха жирен, Твои же руки обнимали, Твои же губы целовали И, точно крыши твердый скат, Я в непогоде каждой сух. А ты – как та, которой кат <Клещами вынимает дух. На колесе привязана святою,> Застенок выломал суставы, Ты, точно строчка запятою, Вдруг отгородилась от забавы. А я тяну улыбки нитки, Где я и ты, Тебе на паутине пытки Мои даю цветы. И мы – как две ошибки В лугах ночной улыбки. Я смех, я громоотвод От мирового гнева. Ты водоем для звездных вод, Ты мировой печали дева. Всегда судьбой меня смешишь: Чем более грустна ты, Тем ярче в небе шиш – <Им судьбы тароваты. Твоя душа – густой ковер,> Где ходят ноги звезд. А я вчера на небе спер Словарь недорогих острот. Колени мирового горя Руками обнимая, плачешь, А я с ним подерусь, поспорю И ловко одурачу. У каждого своя цель И даже у паяца. Но многие боятся Твоих нездешних глаз. И ежели золу ем, Она невкусная, пойми! Ты всё же тихим поцелуем Мне поручи несешь любви. И вечно ты ко мне влекома, И я лечу в твою страну. И, как пшеничная солома, Ты клонишь нежную вину. Я жирным хохотом трясуся И над собой и над судьбой, Когда порой бываешь «дуся», Моей послушною рабой.Старик
Потомков новые рубли, Для глаза божьего сквозны, Кладу в ночные кошельки Гробами звякнувшей казны. Два холма во временн Дальше, чем глаза от темени. Я ученическим гробам Скажу не так, скажу не там. Хранитель точности, божбам Веду торговые счета. Любимцы нег, друзья беды, Преступники и кто горды, Мазурики и кто пророки – В одном потоке чехарды Игра числа и чисел сроки. Вот ножницы со мной, Зловеще лязгая, стригу Дыханье мертвой беленой И смеха дикое гу-гу. Я роздал людям пай на гроб, Их увенчал венками зависти. И тот, в поту чей мертвый лоб, Не смог с меня глаза вести. Носитесь же вместе, горе и смех. Носитесь, как шустрые мыши. Надену свой череп и белый доспех И нежитью выгляну с крыши. И кости безумного треска Звенят у меня на руке. Ах, если бы вновь занавеска Открылась бы вновь вдалеке. И глаз опрокинутых Китежи Пусть горе закроет ресницей. Бегите же, дети, бегите же! – Что в жизни бывает, не снится.Смех
Я смех, я громоотвод, Где гром ругается огнем, Ты, горе, для потока вод Старинный водоем. И к пристани гроза Летит надменною путиной. Я истины глаза У горя видывал из тины. Я слова бурного разбойник, Мои слова – кистень на Волге! Твоей печали рукомойник Мне на руки льет струи долги.Горе
Сумрак – умная печаль! Сотня душ во мне теснится, Я нездешняя, вам жаль, Невод слез – мои ресницы. Пляшу Кшесинскою пред гробом И в замке дум сижу Потоцкой Перед молчанием Гирея. А и детстве я любила клецки, Веселых снегирей. Они глазам прохожих милы, Они малиновой весною зоба, Как темно-красные цветы, На зимнем выросли кусту. Но все пустынно, и не ты Сорвешь цветы с своей могилы, Развеешь жизни пустоту. Мне только чудится оскал Гнилых зубов внизу личины, Где червь тоскующий искал Обед из мертвечины. Как синей бабочки крыло На камне, Слезою черной обвело Глаза мне.Смех
Что же, мы соединим Наши воли, наши речи! Смех никем не извиним, Улетающий далече! Час усталый, час ленивый! Ты кресало, я огниво! Древний смех несу на рынок. Ты, веселая толпа, Ты увидишь поединок Лезвия о черепа. Прочь одежды! Прочь рубахи! По дороге черепов поползете, черепахи! Скинь рубашку с полуплеч, И в руке железный волос Будет мне грозить, как меч, Как кургана древний голос. Точно волны чернозема, Пусть рассыпется коса, Гнется, в грудь мою ведома, Меди тонкой полоса. И простор твоих рубах, Не стесняемый прибоем, Пусть устанет о рабах Причитать печальным воем. Дерзкой волею противника Я твой меч из ножен выбью. Звон о звон, как крик крапивника, Чешую проколет рыбью. Час и череп, чет и нечет! Это молнии железные Вдруг согнулись и перечат – Узок узкий путь над бездною! На снегах твоей сорочки Алым вырастут шиповники. Это я поставил точки Своей жизни, мы виновники! Начинай же, начинай! И в зачет и невзначай! Точно легкий месяц Ай! Выбирай удачи пай! Пусть одеты кулаки Рукоятью в шишаки, Темной проволочной сеткой, От укуса точно пчел, Отбивают выпад меткий – Их числа никто не счел. И, удары за ударом, Искры сыпятся пожаром, Искры сыпятся костром. Время катится недаром, Ах, какой полом!(Смех падает мертвый, зажимая рукоятью красную пену на боку.)
<Плоскость XXI>
ВЕСЕЛОЕ МЕСТО
Двое читают газету.
Как? Зангези умер! Мало того, зарезался бритвой. Какая грустная новость! Какая печальная весть! Оставил краткую записку: «Бритва, на мое горло!» Широкая железная осока Перерезала воды его жизни, его уже нет… Поводом было уничтожение Рукописей злостными Негодяями с большим подбородком И шлепающей и чавкающей парой губ.Зангези
(входя)
Зангези жив, Это была неумная шутка.1920–1922
Проза
232. Велик-день. (Подражание Гоголю)
– Сегодня Велик-день; одень хустку – гарнесенькой станешь, – уныло говорила жинка, работая ухватом у печи и обращаясь к молодой девушке, сидевшей у окна, расчесывая свои волосы и закидывая назад голову.
– Хиба я не знаю? – недовольно отвечала та, подымая руку, чтобы расправить непокорную прядь волос, змейкой щекотавшей грудь.
Сегодня Велик-день; в толпу малороссиянок вмешается она, дочь огня, одетая, как они, и пойдет с ними в старинный высокий храм на высокой горе, окруженный столетней рощей и далеким видом лугов, сел, рек, где умер чтимый в сердцах.
И когда старинный золотобородый звонарь ударит в большие и малые колокола и голуби понесутся над миром, тогда медленно исчезнут они одна за другой в высоком темном входе.
Юный отрок, член какого-то темного союза, стоял и жадно всматривался в новый для него мир. Те, кто сражалась вместе с Игорем и плакали вместе с Ярославной, с умиленными и строгими лицами шли одни за другими в храм и несколько свысока оглядывали досужего паныча. Молодцеватые киреи висели на их плечах. И издали мелькали малиновые «богородицы», червонным сердцем врезанные в их воротниках. Все наводило на размышления… Он попал в почти совсем ему незнакомый уголок исконной России. Один и тот же вопрос, чуть не в сотый раз, недоуменно приходил в голову. Отчего этой одежды не носят русские? Должны ли лучшие народы оставлять одиноким народ в его борьбе за свои нравы и обычаи? И можно ли стыдиться той одежды, в которой сражались и умирали предки? Вид его собственных пуговиц, желтых, медных, однообразно болтающихся на своих местах, немного угнетал его. Почему бы ему не надеть этой стройной киреи с малиновой «богородицей», в которой ходили его предки? Недоумевая, переводил он взгляд с одного лица хорошенькой малороссиянки на другое и вдруг встретил улыбающийся насмешливый взгляд дочери огня. Был у ней вкруг головы венок из бумажных цветов и намисто из пышных зеленых и красных бус, только что-то было такое небесно-чертовское в глазах и очаровательно сложенных губах, что заставило произнести: «Э! Тут дело неспроста. Это или красивейшая из дочерей Украины, или дочь неба. Неладно и так и этак». Вздрогнуло что-то в душе доброго молодца, заговорило и затрепетало на резных дубовых листах его духа. Вздрогнул он и по-другому, мужественно, с суровым укором, взглянул на сельскую волшебницу. На ее же лице было счастье и гордость сознания своей силы. Шепот и смех раздались кругом.
– Глядите, паныч! – щебетали одни из проказниц, другие же смешливо спрашивали: «А, цэ таке? – И, смеясь, отвечали: – И не знаем… цэ таке!»
В это время показался под руку с городской барышней парень, что учился в далекой туманной столице. Как подстреленная, затрепетала небесная панночка, увидев подходящих горожан. «Вот, – закричала она, показывая на него рукой. – Вот, – повторила она, задыхаясь и снимая повязку. И вдруг всплеснула руками и воскликнула – Да что же это такое! Ужли мы, русские зори, не смеем лица показать от срама, в лицо посмотреть немецким? Да неужели нет хлопца постоять за нас? Гайдамаки! Гайдамаки!» И бросила венок на пол, и закрыла лицо руками, и заплакала, и убежала. Тогда, оглянувшись кругом суровыми и грустными глазами, пошел за ней отрок, и было видно, как он перед ней, белой и боязливой, в темной глубине дубов произносил суровую клятву воина: постоять за родину и ее обычаи. «Обижена ты, оклеветана, и некому постоять за тебя», – твердил он себе. И сказал он себе: «Россия для русского обычая».
«Да кто вы, не хлопцы, что ли! – уже сквозь слезы произносила она. – Смотрите, кто вы, на что вы похожи». И отвернулась и надула губки. Хлопцы же почесывали сердито чубы и говорили: «Хоть и девчина, а не сказать бы худого, правду говорит. Ей-богу, правду!»
Между тем, как воробьи, уселись на завалинке местные эсдеки и эсдечки и щебетали о Каутском, как воробьи в солнечную погоду. И, проходя мимо них, панночка гневно стрельнула глазами и промолвила: «У-у, недобрые!»
В тот же вечер журила ее стара. «Что это тебя не видать, так долго было? Так нельзя! И еще накликаешь на него беду, и будут его пытать и щипцами горячими потчевать. Тебе-то нипочем, а ему каково? Ведь так уж бывало». – «Ни, мамо! – счастливо смеясь, отвечала панночка, – мы все это устроим».
<1911>
233. Око́. Орочонская повесть
Око́.
Брат! Ты, как красногорлый соловей, боишься своей красоты, робкий красавец. Разве не знаешь, отчего соленый бывает обед: то от слез моих солона еда. Разве не знаешь, кто робко скрывается в зеленой чаще, когда ты купаешься? – это я прячусь в густых ивах.
Опять ты ушел, гордый и легкий, в лес, а я здесь сижу день одна-одинешенька. Ах, мне чуется, что где-то живут много людей, а не как мы одни вдвоем, брат и сестра. О, какое счастье жить, где много чужих людей, а не брат и сестра! О, если бы ты сказал мне: «Я люблю тебя, сестра!»
Да, ты часто говоришь: «Я люблю тебя, сестра», и ни разу меня не обидел, но ты говоришь на совсем другом, незнакомом языке.
О, если б здесь было много братьев чужих и не родных, какое то было бы счастье! Я бы припала с поцелуями к каждому праху их ног! Я бы дрожала, как береза от удара, от их взгляда. Я бы каждого спросила ранней ночью, темной осенью: «Брат! ты любишь меня?»
Мои бы глаза были бы широки и бездонны, как темные озера, а вся я дрожала бы и смеялась от счастья. А если бы в ответ он насмешливо засвистел, как брат, я бы вся покрылась слезами от отчаянья. Бедная я, бедная я, несчастная! Ах! когда вечером я сижу у огня, какие движения струятся по моему телу. Так осиновый лес дрожит от приближающегося ветра. Как я умела бы плясать! Все ветры осенние и весенние сгибали и наклоняли бы мое тело.
Как сгибается в огне береста, так сгибалась бы я перед вашими взорами, братья. Я подслушала все изломы голосов незнакомых мне птиц и падение вниз чистой воды и все это передала бы в страстной песне! Я бы сковывала руки пожатьем и расковывала их и сплясала бы пляску огня перед пламенными бурей взглядами.
Брат! Брат, полюби меня!
Что с тобой? Ты говоришь кому-то и улыбаешься. Это не я…
– Так! так! ты просишь, чтобы я тебя полюбил? Разве я тебя обижаю?
– Обижаешь? Обижаешь! Разве я не красива? Разве я не прелестна? Зачем ты на меня не взглянул другими глазами, как будто тигр тебе брат? Смотри, смотри, что скрывают одежды? Поверь этим грудям, которые просят словами более звонкими, чем крик несчастья или восхищения. Вот!
– Что с тобою? Ты сходишь с ума? Что ты говоришь, сестра! Что с тобой?
– Я люблю тебя! Не веришь? Не веришь? Сердишься? Сердишься! Не сердись, прости меня, я тебя люблю. Ты – как небо перед молнией.
– Еще бы не сердиться! Чистая, как снег, – я всегда так думал о тебе, и вдруг слова змеи, ужален я ими в самое сердце. Зачем ты, как паук, прядешь какие-то сети. Знай – оба умрем и погибнем в них. Оставь это, забудь, сестра!
– Прости меня, брат, прости. Забудь, как будто этого дня не было. Прости меня.
Он все поет о каких-то двух солнцах, убитых предком. Будто они упали в море и погасли, а третье осталось, и всем стало легче жить. Разве могут быть три солнца? Но все-таки сказочно прекрасное зрелище того, как гибнет каменное солнце от легкого стрелка. Как шипело море! Сколько брызг летело во все стороны! Как брошенные головни, гасли в воде громадные солнца. Это было вот так (берет из костра головню и привешивает к березе, висящей над рекой; стреляет из лука, и головня падает в воду). Ночью это было бы еще восхитительнее. Но может ли солнце быть ночью? Почему не может: ведь голубые глаза любящего – это солнце днем, а влюбленные глаза черного цвета – солнце ночью. Может! А люди были таинственны и горды, как мой брат, которого не поймешь. А мы хитры и умны, как я.
Хорошо же, Злой! Увидишь! А если придет, пусть подумает, что я выстрелила в небо и на стреле взобралась до туч.
О, ручей, я иду к счастью. Отбелки, я иду к счастью! Не задевайте о мои ноги, травки, не замедляйте счастья.
Дойду ли я так? Нет, нужно бежать до той поляны, где я поставлю жилье.
Не шуми, вода, так громко, я иду к счастью!
Заплетайтесь в мои ноги, цветы!
Нежьте и услаждайте слух, птахи!
О, если бы медведь помог мне!
О, если бы рысь принесла ветки!
Нет, сама я должна срубить шалаш, где буду сидеть одна, смеясь.
Вот и готово. Как быстро.
Не успела оглянуться.
Теперь положу берестяный черпак и черепа зверей. И оставлю кругом следы. Точно не первый день здесь живет.
Нет, лучше пусть цветы и травы будут нетронуты вокруг шалаша.
Здесь я встречу тебя, милый.
Ах, брат идет! Точно. Отвернусь от него и тело буду умывать.
Расстанемся надолго.
1912
234. Жители гор
Суровые очертанья грозного кремля гор, точно круто искривленные брови старообрядцев при встрече с Кучумом, ослепительные одноугольники с льдистыми глазами, устремленными кверху, и мутное серебро рек в зеленых тканях, будто белые девы свадьбы, смеясь и гуторя, надели зеленые венки, поют и подымают сорванные ветви, водопад – нить жемчугов вдоль гордого, полного хищного предвкушения счастья, горла невесты, закат-уманец с сверкающей саблей, по зову Остраницы поднявшись в поход, и вы, голубые небеса, и две голубых боярышни, смеющиеся и шушукающиеся друг с другом, и могучий кряж, как русская порода, восставшая для защиты земли в дни Грюнвальда, и белый, окаймленный молнией, камень с прямыми чертами, падающими во все стороны из одной точки, власть московского государя среди Новгорода, Пскова и Литвы, и Польши, и гремучая широкая река – все окружало белого государя, толпилось к нему, уносило его живую силу речным сильным потоком и молилось на него или било покорно челом, простершись у подножья.
Темные ущелья, темные, как старцы в поддевках поморского согласия, сумраком вникали в этот зеленый и белый вершинами мир.
И потемневшие от времени лики скрывались в окладе меловых пород.
И снега – строгие платки старообрядческих девушек.
Как красная кумачовая рубаха мужика, горело одно облако. Сеет он одной рукой семена – лучи, а другой держит лукошко с солнечным зерном. И как помертвевшее лицо узнавшего о смерти жены – снежные змеи окраин других туч, а над ними закат – червонорусска, спешащая через Лысую гору в великий день к Киеву.
Черные кудрявые дубы покрывали кряжи.
И хата лепилась над бездной с той стороны, откуда идут монголы. Там Коссовским полем спускался вниз шелом – разбитый на части утес.
На высокий утес взлетал орел и садился, как русский на престол Византии, как Управда.
И прямые черты возносили срединный могучий камень, точно воины Куликовское поле.
Так, как обломки жизни русских, толп<ились> и громоздились части горного темного мира, и по всему этому бродили светлые взоры ока. Близок был вечер и темнел, и опускался.
Как суровые души сжигавших себя из-за переставленного звука, высились камни. Здесь жили русские.
Над пропастью стояла девушка и пела.
Сноп трав и цветов был в ее руке, а в глазах блестело и колыхалось далекое синее море.
Так, как разум мыслителя на <туманном> ха<осе> мира, так лепилась хата, из нее исходил дым, и оттуда сошел человек.
Рога оленя были за его плечами и пятна свежей крови на гачах.
– Легинь?
– Да?
Гремучий водопад, летя вечной стрелой вихрем вниз, заглушил его слова.
Но он с новой страстью воскликнул: «Я люблю тебя, солодка!» – и задрожал.
Заунывные, извилистые, певуче однообразные звуки несущихся волн прервали его речь и ее ответ, птица с пронзительным криком пронеслась над ними.
Но он с <новой> силой воскликнул:
– Я люблю тебя!
Старуха, стоявшая у входа в хату, поднесла руки к глазам и произнесла: «Иль сокел наш горлинку гонит».
Но засмеялась сестра и сказала: «Нет, он голубь, а она – соколица».
Но лишь молча посмотрела на нее и снова отвернулась от него.
И запел он песнь и пошел прочь.
Люли, люли, На войне летают пули.И мгла окружила их, и, вздохнув чему-то, пошел по знакомой тропе домой.
Казалось ей, она видит белого как лунь старца с <глазами> <звездами>, и перед ним, как злой должник, стоит черный медведь и ждет, когда вынет старец краюху хлеба.
Иль видела себя матерью, великоглавой, кроткой, и на руках у ней дитя, а на<д> ни<ми> зве<зда> и не<бо>, и идут по<клониться> волхвы.
Нельзя было видеть и свои руки в молочной мгле.
И вдруг кто-то наклонился над ней и жарко поцеловал в щеку.
– Стыдись! – воскликнула она и подняла руку, но уже никого не было, и только молочная мгла окружала ее.
Да кто-то злобно и мстительно захохотал.
Свистел последний дрозд, синий с серым верхом.
Стоят в воде ночные латы.
Уж «ау» кричат из хаты.
Мертвый олень лежит у порога, и злорадно, погрузивши руки в кровь и свежуя тушу, смотрит на нее Артем.
Но лишь молча взглянула на него она и пошла к себе.
Скоро огонь, освещавший окно, погас, прозрачность ночи пришла снизу и одела горы. И, как под скобку остриженные волосы, выступили резкие края и тростниковая крыша над мазанки белой стеной.
Пытливо взглянул на нее отец и сказал:
– А он, слышь, принес трех орлят хочет приручить их и летать на них по небу.
– Разобьется мальчик.
– Разобьется, говоришь?
И южная ночь сделала из них, сонных, трупы. Но одного терзали злой дух или сон, как облако время, за которым мерцает луч счастья грешного и знойного, где сложены одежды, где с хохотом купалась и брызгалась водой молодость.
И утро застало ручей сбегающим, зелено-белым, птиц распевающими, а <она> шла с ружьем на плече к ручью.
Медленно, оглянувшись, не смотрит ли за ней кто-нибудь, она снимала с себя сорочку и в это время была прекраснее, чем когда-либо. Рука была поднята кверху, и только голова скрывалась под покровом. После, доверившись, сняла с себя все и вошла в воду и поплыла. И в это время над ней раздался веселый свист: с ружьем проходил по горной тропинке и весело свистел, глядя сверху.
Как туман ранним утром, белелось ее тело, и подняла гневные глаза на него и крикнула из воды:
– Иди, постылый!
Но летел хищник, рыдая по выстрелу, и темный коршун с окровавленным клювом, хватая когтями песок, упал к ее ногам.
И, беспечно засвистав, ушел он на охоту. И, возвращаясь с горным козлом, он увидел ее в стройном наряде с ножом длинным и узким на поясе в черной кожаной оправе. Улыбнулся он и посмотрел на нее.
Но она отвернулась и лукаво нахмурилась.
И ушла в чащу, будто зовущая и, робкий он последовал за ней.
Искоса молча оглядывалась она и шла дальше, точно звала, и вот на зеленой поляне стала собирать хворост.
Сейчас наклонялся и подымался ее белоснежный затылок над травой.
И иногда на нем останавливала большие расширенные глаза.
Он подошел к ней и взял ее за плеч<и>.
И тогда с глухим криком «гож нож» она вырвала из-за пояса меч; он взвился и опустился в плечо и оцарапал грудь. Но он улыбнулся презрительно и прижимал ее к себе и снова осыпал поцелуями.
И птицы испуганно слетались и смотрели на эту битву двух тел И вот она была окровавлена, потому что нечаянно порезала руки, а он прижимался к ней и обнимал руками, лепеча что-то. И, закрыв лицо рукой, разрыдалась.
[Крякнул] он и, уронив руки назад, остался лежать на них. Она вынула гребень и, посматривая на него, стала расчесывать волосы. Он улыбался слабо и печально.
Но опять поднялась мгла, откуда появились тучи, ветер и облака жильцы этих горных высот. Их белые тени исчезли в ней, точно рыба в воде.
– Дай мне руку! – воскликнула она.
Он дал.
– Сядем здесь! – крикнула она.
Они сели. Она шепнула ему на ухо: «Покажи мне, что как любят. Я не знаю». Он молчал.
– Ты сердишься? – голос ее сделался нежнее.
– Скажи мне, – усмехнулась она, – что нужно делать?
– Слушай, – сказала она, дрогнув, – прости меня. Я была неправа.
– Я тебя люблю, – вдруг прошептала она, осыпая поцелуями его голову. – Наклонись же ко мне, приголубь меня, наклонись, как небо над землей.
– Что с тобой? – шептал он в ужасе и восхищении.
Горячий и молчаливый, он нагнулся над ней и коснулся се губами.
– Ах! – воскликнула она уже в беспамятстве.
Но вдруг солнце показалось, солнце осветило ее девичьи ноги, она раскрыла глаза: над ней лежал мертвый холодный Артем.
1912, 1913
235. «Лубны – своеобразный глухой город…»
Лубны – своеобразный глухой город.
Белое высокое здание суда, подымающее власть высоко над жителями города <нрзб.>, в садах качающиеся еврейки в гамаках, кругом села великороссов, говорящих по-малорусски, но помнящих об единой Руси, так как их деды жили и родились на севере; лукаво смотрят их лица на каждого нового пришельца, желая понять, кто он враг или друг.
Здесь благословенный отличный воздух, луга и поля, река Сула славится своим здоровьем, а подите – люди умирают не только от старости, но и от частой чахотки. И пожары в русских столицах, где тройка черных или золотистнх одноцветных крепких <нрзб.> коней, изгибая красивые морды, несет древних воинов, в так же изогнутых шлемах, на войну с огнем, сквозь быстро собирающуюся по бокам толпу, и старая битвенная судорога их движений, напоминая о войнах, волнует сердца, там не то, <нрзб.> и полководец этой битвы скачет впереди с трубой в руке и бросает звонкие повеления.
Но здесь пожары так часты, как нигде. Они всегда происходят ночью.
Гневные, властные и торжественные реют над городом звуки трубы, то отдаленные, то страшно близкие, нарастая в силе. Они преследуют вас, они разыщут вас везде, в каком бы уголке города вы бы ни спрятались. Они, помимо слов, говорят, что ваш долг быть там. И властнее слов собирают жителей к пожарищу.
Настойчивость этих гневных звуков ужасна. Они проходят вашу душу, вы не знаете в вашей душе преград для них. Вы знаете, что в день Страшного суда вы проснетесь под эти трубы.
– Горит, – отвечают в этот миг прохожие и устремляются вперед.
Тотчас какой-то ветер подымается по городу, начинается суматоха: лают собаки, бегут люди, и слышен топот ног и крики. Эти трубы не знают вас, с вашими личными страстями, но они знают люд и гнут его волю, как змею и бросают для победы над огнем.
– Проснитесь, – говорят они, – восстал огонь, усмирите его, бросьте снова связанного и скованного в клетку. Ему пора не настала; это еще не последняя схватка огня и люда. Еще не время укротить зверя.
Я долго думал о неизмеримости величия их, я знал, что все, что есть, есть только письмена; и старался понять их, ведь осязание числа есть великий переводчик не имеющих никакого родства языков.
В тоскующих и грозных, в них на каком-то языке виделось зерно воскрешения мертвых.
И в грозном гуле этих звуков, углом подымающихся над миром, падающих с неба на мир лавой, скрыт<о> обещание про день огня победителя, в них скрыты предтеча и знаменье, милое сердцу народа. Огневая ли природа усопших, дальние ли объятия смерт<и> солнца? Ведь живое более походит на землю, чем мертвое. И схватка огня и земли, увенчанная победой огня, раскрывшего крышки земных гробов и сожегшего их, что как <нрзб.> волнует вас после <нрзб.>.
Он придет, этот гневный вождь – красный багряный огонь.
Если смерть – разлука огня и земного воска, то здесь слышится возврат огневого человечества.
Да, я долго не мог забыть тоскующий гул этих труб.
Да, в такую ночь хорошо бродить одиноким путником, ожидая Страшного суда. Но послушайте тогда, как снова грозно завывают трубы: «Нужно бросить обратно в темницу».
1912, 1913
236. «Коля был красивый мальчик…»
Коля был красивый мальчик. Тонкие черные брови, иногда казавшиеся громадными, иногд<а> обыкно<венными>, синевато-зеленые глаза, лукавой улыбкой завяз<анный> рот и веселое хрупкое личико, которого коснулось дыхание здоровья.
Он вырос в любящей семье; он не знал других окриков в ответ на причуды или шалости, как «дитя мое, зачем ты волнуешься?».
В больших глазах его одновременно боролись бледно-синеватый оттенок и зеленый, как будто плавал лист купавы по озеру.
У него было семь скрипок и скрипка Страдивариуса. Но мальчик, кажется, немного был утомлен обилием этих скрипок. «Только ты худ немного», – смеясь, говорили ему старшие. Он был очень маленького роста, хрупкий и нежный. Родные звали его сфинксом, обещая ему неожиданный перелом в настроении.
Раз, когда он проходил по тому берегу моря, который теперь уже исчез, смытый волнами одной бури, какой-то наблюдательный моряк задумчиво произнес: «Муравей и стрекоза» (вторым был я); в самом деле, он был трудолюбив, как муравей.
В Одессе, а это было в Одессе, многие переселялись на берег моря в легкомысленных клетушках, воздвигая их вдоль тропинок, угощая в праздник<и> т<олпу> дорогим чаем и дешевыми песенками.
В этой полурыбацкой жизни находили прелесть. Дети неловкой пухлой рукой подымают запутавшуюся в водорослях удочку. Другие, устав от уроков, видят ось жизни в ловле мелких рачков, толпами скользящих в воде. Волны чувственный р<ой> от купа<льщиков>, в зеленом саду бродят еврейки и бросают жгучие и томные взгляды своего племени. Черные зрачки и белые белки их глаз удивительны, и они справедливо гордятся ими.
Искусство – суровый бич: оно разрушает семьи, оно ломает жизни и душу. Трещиной раскола отделяет душу от другой и труп привязывает к башке, где коршуны славы клюют когда-то живого человека.
Буря, когда с верхушки ветряных мельниц слетает крыша и с треском ломаются крылья, деревья гнутся в одну сторону, и ветки свищут от напряженья, трясущиеся овцы стоят и, жалобно блея, зовут отворить ворота.
Впрочем, конечно, это только вычурный своей мрачностью образ.
1912, 1913
237. Охотник Уса-гали
Уса-гали воспитывал соколов, охотился, а при случае занимался разбоем. Если его уличали, он добродушно спрашивал: «А разве нельзя? Думал, можно!» Увидев спящего жаворонка в степи, Уса-гали ползет к нему и прижимает его за хвост к земле; птица просыпается в плену. Орел сидит на стогу. Гали подкрадывается к стогу с длинной петлей. Орел зорко смотрит на волосяной обруч. Полный подозрений, он подымается на ноги, готовый улететь, но уж висит, ударяя черными крыльями, хлопая ими и крича. Уса-гали выбегает из-под стога и за веревку тянет бедного князя воздуха, черного пленника с железными когтями; его крылья в размахе достигают сажени. Гордый, он едет по степи. Орел долго будет жить в плену, разделяя пищу с овчарками Раз, во время погони, целая вереница всадников окружила его. Гали напрасно рыскал на своем коне в средине облавы. Что же он делает? Он повернул коня и поскакал к одному из всадников. Тот нерешительно ставит коня боком. Гали свистнул плетью, и добрый конь, оглушенный страшным ударом в лоб, упал на колени. Уса-гали ускакал. Это был лихой удар, вызвавший конский обморок. В степи долго помнили лопнувшую подпругу на оглушенном коне и примятого всадника.
В то время чумаки ездили обозами, покрывая возы от непогоды цельным войлоком. Волы идут, двигая вечно мокрые черные губы, отмахиваясь от мух. Были охотники подкрасться к чумакам, на скаку сунуть под колено конец войлока и умчаться с ним в степь. Тогда остроумные чумаки привязали войлок к обозу очень длинной веревкой. Уса-гали так и сделал. Но едва веревка кончилась, он сильнейшим толчком был сброшен на землю, сломав руку. Чумаки подбежали и на славу выместили свои обиды. «Будет?» – спрашивали они его. «Будет, батька, будет!» – отвечал он тихо. Это удовольствие стоило ему нескольких ребер.
Плетью, которая есть близкий родич северного кистеня, он умел владеть превосходно, то есть по-киргизски, пользуясь ею на волчьих охотах. Настойчивее борзой ручные орлы, преследуя в степи волка, доводят его до состояния бешенства и равнодушия ко всему.
Послушный иноходец прибавляет ходу, и Гали, наклонившись с седла, своим кистенем приканчивал изнемогающего в неравном споре зверя. Бедные бирюки!
Раз его застали важно гнавшим хворостиной целое стадо дроф.
– Уса-гали, ты что делаешь?
– Крылья подмерзли, мало-мало продаю их, – равнодушно отвечал он. Это было во время гололедицы.
Гаков Уса-гали. Белый конь пасется у стоянки. Стая витютней наносится ветром. Лебеди блеснули в глубокой синеве неба, как край другого мира. Белые стрепеты пасутся на песчаном бугру. Витютни, сидевшие в траве, вдруг срываются и уносятся. Рассказы, журчит беседа. Начинается вечерянка.
Между тем гуси, своим узором разделившие небо пополам, вытягиваются в тонкую полосу. Стая, похожая на воздушного змея где-то далеко теряется бесконечной нитью, может быть облегчая полет. Гуси перекликаются и снова перестраиваются, как темный Млечный Путь.
Между тем прибавился ветер, и сильнее закачалось гнездо ремеза, похожее на теплую рукавицу, подвешенную к иве. Лунь, весь черный, с красивым серебряным теменем проносится мимо. Вороны и сороки радуют как хорошая примета.
– Слышите? – рассказывают про пленную турчанку. – Она выходила в поле, ложилась, прикладывала голову к земле, и, когда ее спрашивали, что она делает, она отвечала «Я слушаю, как на небе служат обедню. Хорошо как!»
Русские стояли кругом. Здесь же Уса-гали, в стороне, что-то скромно ест. Он был хороший степной зверь. Урус построил пароходы, урус провел дорогу и не замечает другой степной жизни. Неверный урус – гяур-урус.
Если вы прислушивались к голосам диких гусей, не слышали ли вы: «Здравствуй! Долженствующие умереть приветствуют тебя!»
1913
238. Николай
Странное свойство случая! Оно проводит вас равнодушным мимо того, чему присвоено имя «страшного», и, наоборот, вы ищете глубины и тайны за ничтожным случаем. Я шел по улице и остановился, видя собирающуюся толпу около грузовых подвод.
– Что здесь такое? – спросил я случайного прохожего.
– Да вот, – ответил тот, смеясь.
В самом деле, в гробовой тишине старый вороной конь мерно ударял копытом об мостовую. Другие кони прислушивались, глубоко поникнув головами, молчаливые, неподвижные. В стуке копытом слышалась мысль, прочитанный рок и приказание, и остальные кони, понурясь, внимали. Толпа быстро собиралась, пока грузчик не вышел откуда-то, не дернул коня за повод и не поехал дальше. Но старый вороной конь, глухо читающий судьбу, и старые понуренные товарищи остались в памяти.
Невзгоды странствовательной жизни окупаются волшебными случаями. К таким я отношу встречу с Николаем. Если бы вы встретили его, вы бы, вероятно, не обратили внимания. Только немного смуглый лоб и подбородок выдали бы его. И слишком честно ничего не выражающие глаза могли бы вам сказать, что перед вами равнодушный и скучающий среди людей охотник.
Но это была одинокая воля, имевшая свой путь и свой конец жизни. Он не был с людьми. Он походил на усадьбы, забором отгороженные от дороги, забором повернутые к проселку. Он казался молчаливым и простым, осторожным и необщительным. Его нрав казался даже бедным. В хмелю он становился груб и дерзок с своими знакомыми, назойливо требовал денег. Но – странно – испытывал прилив нежности к детям: не потому ли, что это были пока еще не люди? Эту черту я знавал и у других. Он собирал вокруг себя детвору и на всю мелочь, которой владел, покупал им убогие сласти, баранки, пряники, которыми украшены лари торговок. Хотел ли он сказать: «Смотрите, люди, так поступайте с другими, как я с ними». Но, так как эта нежность не была его ремеслом, на меня его молчаливая проповедь оказывала больше действия, чем проповедь иного учителя с громкой и всемирной славой. Какую-то простую и суровую мысль выражали тогда его прямые глаза.
А впрочем, кто прочтет душу нелюдимого серого охотника, сурового гонителя вепрей и диких гусей? Мне вспоминается по этому поводу суровый приговор над всей жизнью одного умершего татарина, который оставил предсмертную записку с краткой, но привлекающей внимание надписью: «Плюю на весь мир»
Татарам он казался отступником от веры, изменником, а русским властям – опасной горячей головой. Признаюсь, я не раз хотел дать подпись под эту записку, указанную равнодушием и отчаянием. Но эта молчаливая выставка свободы от железных законов жизни и ее суровой правды, этот орешник, собирающий у своего подножия полевые цветы, все-таки глубокая черта; в них скрывалась простая и суровая мысль, хранимая его, несмотря ни на что, честными глазами.
В одном старом альбоме, которому много лет, среди выцветших сгорбленных старцев с звездой на груди, среди жеманных пожилых женщин с золотой цепью на руке, всегда читающих раскрытую книгу, вы могли бы встретить и скромное желтое изображение человека с чертами лица мало замечательными, прямой бородой и двустволкой на коленях; простой пробор разделял волосы.
Если вы спросите, кто эта поблекшая выцветшая светопись, вам кратко ответят, что это Николай. Но от подробных объяснений, наверное, уклонятся. Легкое облачко на лице говорившего вам укажет, что к нему относились не как к совершенно постороннему человеку.
Я знал этого охотника. К людям вообще можно относиться как к разным освещениям одной и тон же белой головы с белыми кудрями. Тогда бесконечное разнообразие представит вам созерцание лба и глаз в разных освещениях, борьба теней и света на одной и той же каменной голове, повторенной и старцами и детьми, дельцами и мечтателями бесконечное число раз.
И он, конечно, был лишь одним из освещений этого белого камня с глазами и кудрями. Но может ли кто-нибудь не быть им?
Про его охотничьи подвиги многое рассказывали. Когда его просили принесть зверя, он, отличавшийся молчаливостью, спрашивал: «Сколько?» – и исчезал. Бог ведает какими судьбами, но он появлялся и приносил, что ему заказывали. Кабаны знали его как молчаливого и страшного врага.
Черни – это место, где из мелкого моря растет камыш, – были им изучены превосходно. Кто знает – если бы можно было проникнуть в душу пернатого мира, населяющего устье Волги, – каким образом был запечатлен в нем этот страшный охотник! Когда они оглашали стонами пустынный берег, не слышалось ли в их рыданиях, что челн Птичьей Смерти снова пристал к берегу? Не грозным ли существом с потусторонней властью казался он им, с двустволкой за плечами и в сером картузе?
Немилостивое грозное божество появлялось и на уединенных песках: белая или черная стая долгими криками оглашала смерть своих товарищей. Впрочем, в этой душе был уголок жалости: он всегда щадил гнезда и молодых, которые знали лишь его удаляющийся шаг.
Он был скрыт и молчалив, чаще неразговорчивый; и только те, которым он показывал краешек своей души, могли догадаться, что он осуждал жизнь и знал «презрение дикаря» к человеческой судьбе в ее целом. Впрочем, это состояние души можно лучше всего понять, если сказать, что так должна была осуждать новизну душа «природы», если б она через жизнь этого охотника должна была перейти из мира «погибающих» в мир идущих на смену, прощальным оком окинув метели уток, безлюдье, мир пролитой по морю крови красных гусей, перейти в страну белых каменных свай, вбитых в русло, тонких кружев железных мостов, городов-муравейников, сильный, но нелюбезный сумрачный мир!
Он был прост, прям, даже грубовато суров. Он был хорошей сиделкой, ухаживая за больными товарищами, а в нежности к слабым и готовности быть их щитом ему мог бы завидовать средневековый латник в шлеме с пером.
На охоту он отправлялся так: он садился в бударку, где его ждали две вынянченные им собаки, и спускался вниз, прикрепив парус к мушке то бечевой, то веслами. Надо сказать, что на Волге есть коварный ветер, который налетает с берега среди полной тишины и перевертывает неосторожного рыбака, не сумевшего распутать парус.
На месте лодка поворачивалась вверх дном, служа кровлей, втыкались железные прутья, и у костра начинались охотничьи сутки до ухода на вечернику. Умные молчаливые собаки были вскормлены на лодке, в которую впитались запахи всей водящейся на Волге дичи; черные бакланы и матерая нога кабана лежали здесь вместе с стрепетами и дрофами.
Тихо завывают волки: «это они собираются», «это они уходят».
Его желанием было умереть вдали от людей. В чем он сильно разочаровался? Он бродил среди людей, отрицая их. Жестокий по ремеслу, он сжился с гонимыми нелюдьми, к которым являлся как жестокий князь, несущий смерть; но в поединке люда и нелюда становился на их сторону. Так Мельников, преследовавший раскольников, все же написал «В горах и лесах».
Да его иначе нельзя представить, как Птичьего Перуна, жестокого, но верного своим подданным и уловившего в них какую-то красоту.
У него были люди, которых он мог назвать друзьями; но чем более его душа оставляла свою «раковину», тем сильнее равенство двух властно нарушал он в свою пользу; он становился высокомерен, и дружба походила на временное перемирие между двумя враждующими. Разрыв происходил из-за малейшего случая, тогда он бросал взор, говоривший: «Нет, ты не наш», и делался сух и чужд.
Не многим было ясно, что этот человек, собственно, не принадлежит к люду. С задумчивыми глазами, с молчаливым ртом, он уже два или три десятка лет был главным жрецом в храме Убийства и Смерти. Между городом и пустыней те же оси, та же разница, какая между чертом и бесом. Ум начинается с тех пор, когда умеют делать выбор между плохим и хорошим. Охотник сделал этот выбор в пользу беса, великого безлюдья. Он твердо заявил желание не быть похороненным на кладбище. Отчего он не хотел тихого креста?.. Был ли он упорный язычник? И что ему рассказала книга, которую прочел только он, и никто уж не прочтет ее пепла?
Но смерть не шла наперекор его желаниям.
Раз местный листок напечатал заметку, что в урочище, известном местным жителям под именем «Конская застава», найдены лодка и тело неизвестного человека. Было добавлено, что рядом валялась двустволка. Так как это был год Черной Смерти и суслики, миловидные животные степи, падая во множестве, заставляли сниматься с кочевий кочевников и в страхе бежать и так как охотник уже неделю пропадал сверх срока, то люди, знавшие его, послали на разведки, охваченные тревожным ожиданием и недобрым предчувствием. Разведчики, возвратясь, подтвердили, что охотник умер. Со слов рыбаков они рассказали следующее.
Уже несколько ночей на ватагу, основанную на пустынном острове, по ночам приходила неизвестная черная собака и, останавливаясь перед избою, глухо выла. Ни побои, ни крики на нее не действовали. Ее отгоняли, предчувствуя, что значит посещение на необитаемом острове черной неизвестной собаки. Но она неизменно приходила в следующую ночь, жуткая, воющая, отравляя сон рыбакам.
Наконец сердобольный стражник вышел к ней навстречу; она радостно визгнула и, урча, повела его к опрокинутой лодке; вблизи, с ружьем в руке, лежал совершенно исклеванный птицами человек, с мясом, сохранившимся только в сапогах. Облако птиц кружилось над ним. Вторая собака, полумертвая, лежала у его ног.
Умер он от лихорадки или от чумы – неизвестно. Волны мерно ударяли в берег.
Так он умер, исполнив свою странную мечту – найти конец вдали от людей.
Но друзья над его могилой все-таки поставили скромный крест. Так умер волкобой.
1913
239. Закаленное сердце. (Из черногорской жизни)
– Стой, влаше, ми те запопим, – проговорил Мирко, забивая ствол ружья клоком овечьей шерсти.
Он смотрел вдаль. В самом деле, красная феска мелькнула за камнем. Как крылья у коршуна, поднялись руки у Мирко, поднесли ложе к плечу, загремел выстрел, покатился по ущелью, и феска, взмахнув черной кистью, передвинулась на побледневшем лице умирающего турка.
– Может, там еще кто есть? – тихо спросил Бориско, стоявший около отца и наблюдавший происходившее.
– Все бывает, кроме беременного человека, – угрюмо возразил Мирко, закусывая концы длинного уса и мрачно вглядываясь в даль.
Вдруг он потряс ружьем и воскликнул:
– Собаки! Это будет, когда верба даст грозды. Тогда вы покорите нас!
– Умер? – спросил Борнско.
– От яловой козы не жди молока, от нули – добра. Останься здесь. Страхич пасет коз. Будь осторожен. С Богом! Ты – дотич! Пусть сам орел будет слепым рядом с тобой.
Крупными шагами он уходил из ущелья, по которому плыли синие тучи.
– Младыми свет стоит – думал юнак, опираясь на ружье.
Он был уже в возрасте. Давно ли это было?
Его опоясали, и мать поцеловала ему глаза и сказала:
– Господине! Приказывай мне, я твоя раба, я слушаю тебя.
А он в ответ поцеловал ей морщинистые руки и со всем пылом обещал быть опорой старости.
Баловень-орел жил на привязи у хаты. Бориско пас коз и прямо из вымени пил молоко, проголодавшийся и усталый. Да, это было давно.
– Не будь мед, – сказал ему Мирко, – слижут тебя. Не будь яд – выблюют тебя.
Долго размышлял Бориско над странной мудростью этих простых слов.
Другие видения прошлого встали перед его глазами. Он знал, что входит в другую полосу жизни. Бориско не был безродный никогович. Человек от человека были все его предки по дебелой крови. Человеком был дед, человеком и прадед. Славен их род в Черной Горе. В самой России помнят о нем. Да, он воеводич. Он стоял, опершись о ружье.
«За негу твою я дам кровь из-под горла», – вспомнил он огненные старинные слова старой сербской песни. Их он недавно шептал Заре, тогда, на восходе солнца. Высоко, как вершины черногорских гор, на полроста отделившись от земли и соединив над головой прекрасно сплетенные руки, подскакивали плясуньи, и, как играющие в полдень орлы, носились кругом них юнаки, смелые и вооруженные кривыми ножами. У орлов и у горных вершин родины учились они пляскам. Седой русский сидел около них и наблюдал их обычаи.
В струку крепко завернулся детич. Черногорец задумался.
– Тяжко мясу без мяса, – донесся звонкий довольный голос.
– Да, тяжко мясу без мяса, – вздрогнул он. – Где Зара? Где она?
– Станица?
– Да.
Станка несет кувшин с водой и котелок каши. Босые ноги ее были покрыты пылью, и легкая струна висела на плече. Зоркие глаза ее заметили турка.
– Молодой, – с невольным сожалением бросила она в его сторону, ставя кувшин на землю.
Жадно припал Бориско к студеной влаге и пил. Но раньше, чем он успел опорожнить кувшин, пуля неизвестно откуда направленного выстрела разбила его на куски. Лишь желтое ребро кувшина сиротливо оставалось в руке, недавно еще державшей пушку. Бориско с сожалением смотрел на воду. Но снова выстрел.
– Сядь! – крикнул он, схватив за руку сестру и силой опуская ее на землю.
И в самое время: частые пули, сопутствуемые вспышками дыма, защелкали у них над головами, сплющиваясь о каменную стену. Дело не было совершенно безвыходным, но, видя беззаботную улыбку сестры, Бориско чувствовал прилив отчаяния. Она смеялась, как ребенок, получивший игрушку в руки. Пули, ударявшиеся в стену, видимо, радовали ее.
Меж тем перестрелка окончилась. Бориско огляделся.
– Что, дети, я задал вам страху? – неожиданно спросил Мирко, показываясь откуда-то сверху. Усы его вздрагивали, а лицо горело. – Что, дети, будете тешить беса? Хорошо, что я, но не турчин.
– Это ты стрелял? – спросил Бориско.
– Я! – ответил Мирко. – Отцовская пуля разобьет кувшин, но минует сердце, турецкая разобьет грудь и минует кувшин.
Бориско смотрел на него и удивлялся суровому мужеству его шутки и закаленному непрестанными войнами сердцу.
Март 1913
240. Ка
<1>
У меня был Ка; в дни Белого Китая Ева, с воздушного шара Андрэ сойдя в снега и слыша голос «иди!», оставив в эскимосских снегах следы босых ног, – надейтесь! – удивилась бы, услышав это слово. Но народ Маср знал его тысячи лет назад. И он не был неправ, когда делил душу на Ка, Ху и Ба. Ху и Ба – слава, добрая или худая, о человеке. А Ка – это тень души, ее двойник, посланник при тех людях, что снятся храпящему господину. Ему нет застав во времени; Ка ходит из снов в сны, пересекает время и достигает бронзы (бронзы времен).
В столетиях располагается удобно, как в качалке. Не так ли и сознание соединяет времена вместе, как кресло и стулья гостиной.
Ка был боек, миловиден, смугол, нежен; большие чахоточные глаза византийского бога и брови, точно сделанные из одних узких точек, были у него на лице египтянина. Решительно, мы или дикари рядом с Маср, или же он приставил к душе вещи нужные и удобные, но посторонние.
Теперь кто я.
Я живу в городе, где пишут «бѣ сплатныя купальни», где городская управа зовет граждан помогать войнам, а не воинам, где хитрые дикари смотрят осторожными глазами, где лазают по деревьям с помощью кролиководства. Там черноглазая, с серебряным огнем, дикарка проходит в умершей цапле, за которой уже охотится на том свете хитрый мертвый дикарь с копьем в мертвой руке; на улицах пасутся стада тонкорунных людей, и нигде так не мечтается о Хреновском заводе кровного человеководства, как здесь. «Иначе человечество погибнет», – думается каждому. И я писал книгу о человеководстве, а кругом бродили стада тонкорунных людей. Я имею свой небольшой зверинец друзей, мне дорогих своей породистостью; я живу на третьей или четвертой земле, начиная от солнца, и к ней хотел бы относиться как к перчаткам, которые всегда можно бросить стадам кроликов. Что еще сказать о мне? Я предвижу ужасные войны из-за того – через «ять» или «е» писать мое имя. У меня нет ногочелюстей, головогруди, усиков. Мой рост: я больше муравья, меньше слона. У меня два глаза. Но не довольно ли о мне?
Ка был мой друг, я полюбил его за птичий нрав, беззаботность, остроумие. Он был удобен, как непромокаемый плащ. Он учил, что есть слова, которыми можно видеть, слова-глаза и слова-руки, которыми можно делать. Вот некоторые его дела.
2
Раз мы познакомились с народом, застегивающим себя на пуговицы. Действительно, внутренности открывались через полость кожи, а здесь кожа застегивалась на роговидные шарики, напоминавшие пуговицы. Во время обеда через эту полость топилась мыслящая печь. Это было так.
Стоя на большом железном мосту, я бросил в реку двухкопеечную деньгу, сказав: «Нужно заботиться о науке будущего».
Кто тот ученый рекокоп, кто найдет жертву реке?
И Ка представил меня ученому 2222 года.
– А! – через год после первого, но младенческого крика сверхгосударства АСЦУ. – АСЦУ! – произнес ученый, взглянув на год медяка. – Тогда еще верили в пространство и мало думали о времени.
Он дал мне поручение составить описание человека. Я заполнил все вопросы и подал ведомостичку. «Число глаз – два, – читал он, – число рук – две; число ног – две; число пальцев – 20». Он положил худой светящийся череп на теневой палец. Мы обсуждали выгоды и невыгоды этого числа.
– Изменяются ли когда-нибудь эти числа? – спросил он, окидывая меня проницательным взглядом умных больших глаз.
– Это предельные числа, – ответил я. – Дело в том, что иногда встречаются люди с одной рукой или ногой. Число таких людей заметно увеличивается через 317 лет.
– Но этого довольно, – ответил он, – чтобы составить уравнение смерти. Язык, – заметил ученый 2222 года, – вечный источник знания. Как относятся друг к другу тяготение и время? Нет сомнения, что время так же относится к весу, как бремя к бесу. Но можно ли бесноваться под тяжелой ношей? Нет. Бремя поглощает силы беса. И там, где оно, его нет. Другими словами, время поглощает силы веса, и не исчезает ли вес там, где время? По духу вашего языка, время и вес – два разных поглощения одной и той же силы.
Он задумался.
– Да, в языке заложены многие истины.
На этом наше знакомство прервалось.
3
В другой раз Ка дернул меня за рукав и сказал:
– Пойдем к Амепофису.
Я заметил Ли, Шурура и Нефертити. У Шурура была черная борода кольцами.
– Здравствуйте, – кивнул Аменофис головой и продолжал – Атэн! Сын твой, Нефер-Хепру-Ра, так говорит: «Есть порхающие боги, есть плавающие, есть ползающие. Сух, Мневис, Бонну. Скажите, есть ли на Хани мышь, которая не требовала себе молитв? Они ссорятся между собой, и бедняку некому возносить молитвы. И он счастлив, когда кто-нибудь говорит: «Это я» – и требует себе жирных овнов. Девять луков! Разве не вы дрожали от боевого крика моих предков? И если я здесь, а Шеш держит гибкой рукой тень, то не от меня ли там спасает меня здесь ее рука? Разве не мое Ка сейчас среди облаков и озаряет голубой Хапи столбами огня? Я здесь велю молиться мне там! И вы, чужеземцы, несите в ваши времена мою речь».
Ка познакомил его с ученым 2222 года.
Аменофис имел слабое сложение, широкие скулы и большие глаза с изящным и детским изгибом.
В другой раз я был у Акбара и у Асоки. На обратном пути мы очень устали.
Мы избегали поездов и слышали шум Сикорского. Мы прятались от того и другого и научились спать на ходу. Ноги сами шли куда-то, независимо от ведомства сна. Голова спала. Я встретил одного художника и спросил, пойдет ли он на войну. Он ответил: «Я тоже веду войну, только не за пространство, а за время. Я сижу в окопе и отымаю у прошлого клочок времени. Мой долг одинаково тяжел, что и у войск за пространство». Он всегда писал людей с одним глазом. Я смотрел в его вишневые глаза и бледные скулы. Ка шел рядом. Лился дождь. Художник писал пир трупов, пир мести. Мертвецы величаво и важно ели овощи, озаренные подобным лучу месяца бешенством скорби.
В другой раз, по совету Ка, я выбрил наголо свою голову, измазал себя красным соком клюквы, в рот взял пузырек с красными чернилами, чтобы при случае брызгать ими; кроме того, я обвязался поясом, залез в могучие мусульманские рубашки и надел чалму, приняв вид только что умершего. Между тем Ка делал шум битвы: в зеркало бросал камень, грохотал подносом, дико ржал и кричал на «а-а-а».
И что же? Очень скоро к нам прилетели две прекрасных удивленных гур с чудными черными глазами и удивленными бровями; я был принят за умершего, взят на руки, унесен куда-то далеко.
Принимая правоверных, они касались чела концами уст и так же лечили раны. Вероятно, они знали вкус крови, но из вежливости не замечали. Смешно испачкавшись в чернилах своими очаровательными ротиками, 3 гур скоро стерли искусственную рану и достигли исцеления мнимого больного. Иногда гур плясали, и черные волосы гнались за ними, как играющие вороны или как сиракузские суда за Алкивиадом, как птицы, одна за другой. Это была пляска радости. Казалось, целый венок головок мчался в одном ручье Позднее радость их немного улеглась, но они по-прежнему смотрели на меня восхищенными глазами, перешептываясь и сверкая ночными глазами.
Пришел М<агомет> и смотрел веселыми, насмешливыми глазами. Он сказал, что теперь многое не настоящее.
– Ничего! Ничего, молодой человек продолжайте в том же духе!
Утром я проснулся немного усталый; гур смотрели немного удивленно, точно заметили что-то странное. Губы их были чисто-начисто вымыты. Красные чернила тоже сошли с их рук. Казалось, они не решались что-то сказать. Но в это время я заметил надпись, на ней моими же красными чернилами было написано: «Вход посторонним строго возбраняется». Далее следовала замысловатая подпись. Я исчез, но запомнил запачканные красными чернилами волосы и руки Гауры и еще многое, и в тот же вечер вместе с воинами Виджаи плыл на Сахали, в 543 году до <Р. Хр.> Гур мне чудились по-прежнему, но в одеждах, из крыл стрекоз или в шубах из незабудок, тяжелых и суровых составленных почвой и растениями, кудрявые голубые лани.
Конечно, многие из вас дружат с игральной колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками червонными девами, тузами. Но случалось ли вам играть не с предметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным – хотя бы мировой волей? А я играл, и игра эта мне знакома. Я считаю ее более увлекательной той, знаки достоинства которой – свечи, мелок, зеленое сукно, полночь. Я должен сказать, что в выборе ходов вы ничем не ограничены. Если бы игра требовала и это было в ваших силах, вы бы могли, пожалуй, стереть мокрой губкой с черного неба все его созвездия, как с училищной доски задачу. Но каждый игрок должен своим ходом свести на нет положение противника.
Несмотря на свою мировую природу, ваш противник ощущается вами как равный, игра происходит на началах взаимного уважения, и не в этом ли ее прелесть? Вам кажется, что это знакомый, и вы более увлечены игрой, чем если бы с вами играл гробовой призрак. Ка был наперсником в этой забаве.
4
Ка печально сидел на берегу моря, спустив ноги. Осторожнее, осторожнее! Студенистые морские существа, разбитые волнами, толпились у берегов, пригнанные сюда ветром, скитаясь мертвыми стадами, и, тускло блестя, скользили из рук купальщиц, то темно-зеленых, то темно-красных в плотно одевавших их тканях. Некоторые непритворно хохотали, застигнутые волной. Ка был худощав, строен и смугл. Котелок был на его, совсем нагом, теле. Почерневшие от моря волосы вились по плечам. Тусклые волны, поблескивая верхушками, просвечивали сквозь него. Чайка, пролетая сзади серой тени, видна была через его плечи, но теряла в живости окраски и, пролетав, снова возвращала себе яркое, черно-белое перо. Его перерезала купальщица в зеленом, усеянном серебряными пятнами, купальном. Он вздрогнул и снова вернул себе прежние очертания. Она смело улыбнулась и посмотрела на него. Ка сгорбился. Между тем, долго плававший в воде, выходил из моря на берег, покрытый ее струями, точно мехом, и был зверь, выходящий из воды. Он бросился на землю и замер; Ка заметил, что два или три наблюдательных дождевика написали на песке число шесть три раза подряд и значительно переглянулись. Татарин-мусульманин, поивший черных буйволов, бросившихся к воде, разрывая постромки, и ушедших в море на такую глубину, что только темные глаза и ноздри чернели над водой, а все их покрытое коркой переплетенной с волосами грязи тело скрылось под водой, вдруг улыбнулся и сказал христианину-рыбаку: «Масих-аль-Деджал». Тот его понял, лениво достал трубку и, закурив, лениво ответил: «А кто его знает. Мы не ученые. Сказывают люди», – добавил он. Военный, в подзорную трубку следивший за редким пловцом, повесил ее на ремень и холодно посмотрел на него, повернулся и пошел плохо заметной тропинкой.
Между тем вечерело, и стадо морских змей плыло по морю. Берег опустел, и лишь Ка по-прежнему сидел, обвив руками колени. «Все суетно, все поздно», – думал он. «Эй, теневой храбрец, – казалось, крикнул ветер, – осторожнее!» Но Ка был недвижим. И волна смывает его. Подплывает белуга и проглатывает его. В новой судьбе он становится круглой галькой и живет среди ракушек одного спасательного пояса и пароходной цепи. Белуга питала слабость к старым вещам. Здесь же был пояс с арабской надписью Фатьмы Меннеды, от тех времен, когда среди копий, кончаров, весел и перначей стоял сам орел смерти, а она отражалась в воде, качнув синими серьгами, хохотунья с раскрытыми раз навсегда печальными глазами, и, ударив веслами, плыл уструг все дальше, и дальше, отраженный в ночных водах, и точно усики ночного мотылька касались палубы ноги белого облака.
Но вот могущественная белуга умирает в сетях рыбаков.
5
Ка вернул свободу.
Седые рыбаки с голыми икрами пели эдды, печальную песнь морских берегов, и тянули невод мелкий, частый, мокрый, полный капель, в котором порой висели черные раки, схватив клешней за нитку, напрягая жилистые руки, иногда они выпрямлялись и смотрели на вечное море. Поодаль мирно сидели, как большие дворовые собаки, орланы. Морская хохотунья села на камень, в котором был Ка, и отпечатала мокрые ноги. Сама рыба, мертвая, блестела жучками на берегу.
Но его нашла девушка и взяла с собой. Она пишет на нем танку: «Если бы смерть кудри и взоры имела твои, я умереть бы хотела», а на другой стороне камня – ветку простых зеленых листьев; пусть они оттеняют своим узором нежную поверхность плоского беловатого камня. И их темно-зеленый узор обвил камень сеткой. Он испытывал мучения Монтезумы, когда все бывало безоблачным или когда Лейли подымала камень и дотрагивалась до него губами и тихо целовала его, не подозревая в нем живого существа, и говорила языком Гоголя «тому, кто умеет усмехаться» Около был чугунный Толстой, нежно-красная морская ракушка, очень блестящая, покрытая точками, и морщинистые, с каменными лепестками, цветы. Тогда Ка соскучился и пришел к своему господину; тот пел: «Мы ели ен сао чахоточных стрижей и будем есть их до, до ен сао друзей». Это значило, что он был зол.
– О! – сказал тот мрачно, – ну говори, где и что.
Рассказ про свои обиды журчал: «Она была полна того незамного, неизъяснимого выражения…» и так далее. Собственно, это был жалобный донос на судьбу, на ее черную измену, на ее затылок.
Ка было приказано вернуться и держать стражу.
Ка отдал честь, приложился к козырьку и исчез, серый и крылатый.
6
На следующее утро он доносил: «Просыпается: я на часах около» (винтовка блеснула за его плечами). «Восклицательный знак; знак вопроса; многоточие. Оттуда, где дует ветер богов и где богиня Изанага, оттуда на ней змеиная полусеребряная ткань, пепельно-серая. Чтобы понять ее, нужно знать, что пепельно-серебряные, почти черные, полоски чередуются с прозрачными, как окно или чернильница. Прелесть этой ткани постигается лишь тогда, когда она озаряется слабым огнем радостной молодой рукой. Тогда по ее волнам серебристого шелка пробегает оттенок огня и вновь исчезает, как ковыль. На зданиях города так трепещет вечерний пожар. Большие очаровательные глаза. Называет себя обожаемой, очаровательной».
– Не то, – прервал я поток слов. – Ты ошибаешься, – строго заметил я.
Неужели? делано-печально возразил Ка.
Вообрази, еще веселее произнес он немного спустя, как будто принес мне радостную весть, – три ошибки: 1) в городе, 2) улице, 3) доме.
Но где же?
Я не знаю, ответил Ка, чистосердечие звучало в его голосе.
Хотя я его очень любил, но мы поссорились. Он должен был удалиться. Махая крылами, одетый в серое, он исчез. Сумрак трепетал у его ног, точно он был прыгающий инок, мой горделивый и прекрасный бродяга. «А, это он, бездноглазый! – воскликнули несколько прохожих. – А где же Тамара, где Гудал?» – дав повод воткать в повесть эти художественные мелочи своим испугом горожан.
Между тем я ходил по набережной взад и вперед, и ветер рвал мой котелок и бросал косые капли на лицо и черное сукно. Я посмотрел вслед золотившемуся облачку и хрустнул руками.
Я знал, что Ка был оскорблен.
Еще раз он мелькнул в отдалении, изредка маша крылами. Мне же показалось, что я одинокий певец и что Арфа крови в моих руках. Я был пастух; у меня были стада душ. Теперь его нет. Между тем ко мне подошел кто-то сухой и сморщенный. Он осмотрелся, значительно взглянул и, сказав: «Будет! Скоро!», кивнул головой и исчез. Я пошел за ним. Там была роща. Черные дрозды и славки с черной головой скакали в листве. Как охрипшие степные волы ревели и мычали прекрасные серые цапли, высоко в небо закинув клюв, на самой высокой ветке старого сухого дуба. Но вот промелькнул инок в сухой измятой высокой шапке, весь черный, среди дубов. Лицо его было желчно и сморщенно. Один дуб имел дупло, в нем стояли образа и свечи. Коры не было, потому что она давно была съедена больными зубной болью. В роще был вечный полусумрак. Жуки-олени бегали по коре дубов и, вступив в единоборство, прокалывали друг другу крылья, и между черных рогов живого можно было найти сухую голову мертвого. Пьяные дубовым соком они попадались в плен мальчикам. Я заснул здесь, и лучшая повесть арамейцев «Лейли и Медлум» навестила еще раз сон усталого смертного. Я возвращался к себе и проходил сквозь стада тонкорунных людей. В город прибыла выставка редкостей, и там я увидел чучело обезьяны с пеной на черных восковых губах; черный шов был ясно заметен на груди; в руках ее была восковая женщина. Я ушел.
Падение сов, странное и загадочное, удивило меня. Я верю, что перед очень большой войной слово «пуговица» имеет особый пугающий смысл, так как еще никому не известная война будет скрываться, как заговорщик, как рано прилетевший жаворонок, в этом слове, родственном корню «пугать». Но у меня среди этих зарослей ежевики, среди этих ив, покрытых густыми рыжими волосами корней, где все было тихо и пасмурно, сурово и серо, где одинокий бражник метался в воздухе, а деревья были тихи и строги, какая-то пыльная трава, точно умоляя, опутала мои ноги и вилась по земле, как просящая милосердия грешница Я разорвал ее нити грубыми шагами, посмотрел на нее и сказал: «И станет грубый шаг силен порвать молящийся паслён».
Я шел к себе; там моего пришествия уже ждали и знали о нем, закрывая рукой глаза, мне навстречу выходили люди. На руке у меня висела, изящно согнувшись, маленькая ручная гадюка. Я любил ее.
– Я поступил, как ворон, – думал я, – сначала дал живой воды, потом мертвой. Что ж, второй раз не дам!
7
Думая о камне, с написанной на нем веткой простых серо-зеленых листьев и этими словами «Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела», Ка летел в синеве неба как золотистое облако; среди малиновых облачных гор, настойчиво маша крылами, затерянный в стае красных журавлей, походившей в этот ранний час утра на красный пепел огнедышащей горы, красный, как и они, и соединенный с пламенеющей зарей красными нитями, вихрями и волокнами.
Путь был неблизок, и уж капли пота блестели на смуглом лице Ка, тоже красные от лучей зари. Но вот могучая журавлиная труба воинственных предков зазвучала где-то выше, за рыхло-белыми громадами.
Ка сложил крылья и, осыпанный с ног до головы утренней росой, опустился на землю. На каждом его пере торчал жемчуг росы, черный и грубый. Никто не заметил, что он опустился где-то в истоках Голубого Нила. Он отряхнулся и, как озаренный месяцем лебедь, ударил трижды по воздуху крылами. К прошлому не было возврата. Друзья, слава, подвиги – все впереди. Ка сел на злого, дикого, никогда не оскорбленного седоком полосато-золотого коня и, позволяя ему кусать свои теневые, но все же прекрасные колена, поскакал по полю. Стадо полосатых щетинистых волков с гнусавым криком гналось за ним. Их голос походил на обзор молодых дарований в ежедневной и ежемесячной печати. Но золотистый скакун упрямо загибал голову и с прежним бешенством грыз теневой локоть Ка. Он наслаждался дикой скачкой. Два или три Ням-Пям бросили в него ядовитую стрелу и с суеверным ужасом упали на землю. Он приветствовал землю, потрясая рукой. У водопада он остановился. Здесь он попал в общество обезьян, с светской непринужденностью расположившихся на корнях и ветках деревьев. Одни держали пухлыми руками младенцев и кормили их; младшие возрасты с хохотом проносились по деревьям.
Черная рубашка, могучие низкие черепа, кривые клыки давали страшный отпечаток этому обществу волосатых людей Крики буйной сладости доносились из сумрака по временам Ка вошел в их круг.
– Тогда, – вздохнул почтенный старик с мозолистым лицом, – все было иначе. Уж птица Рук исчезла. Где она? И мы не боремся с Ганноном, вырывая мечи и ломая их о колено, как гнилой хворост, и покрывая себя славой. Он ушел снова в море. А птица Рук? Я не могу завернуться одним ее могучим пером и спать на другом! А давно ли она, слетая с снежных гор, утром будила слонов своим криком. И мы говорили: «Вот птица Рук!» Тогда она подымала за облака слонят; и они смотрели вниз на землю, и хобот их был ниже тучи, как и ноги, а глаза, серый лоб и уши – выше голубой черты тучи. Она отошла! Прости о Рук!..
– Прости, – заметили обезьяны, подымаясь с своих мест.
Здесь же, у костра, сидела Белая, кутаясь в остатки шали. Вероятно, она зажгла костер и в силу этого пользовалась некоторым почетом.
– Белая! – обратился к ней старик, – когда ты шагала через пустыню, мы знали; мы послали молодежь – и ты у нас, хотя многие в последний раз взглянули на звезды. Спой нам на языке своей родины.
Молодая Белая встала.
– Посторонись, бабушка! – сказала златоволосая девушка старой обезьяне, сидевшей на дороге.
Золотые волосы одевали ее в один сплошной золотой сумрак. Слабо журча, они лились вниз, как зажженные воды, мимо плеча, покрасневшего и озябнувшего. Вместе с прекрасной скорбью, отразившейся в ее движениях, она была поразительно хороша и чудно стройна. Ка заметил, что на ногте красивой правильной ноги отразилась вся площадка леса, множество обезьян, дымящийся костер и клочок неба. Точно в небольшом зеркале, можно было заметить старцев, волосатые тела, крохотных младенцев и весь табор лесного племени. Казалось, их лица ожидали конца мира и чьего-то прихода.
Они были искажены тоской и злобой; тихий вой временами вырывался из уст. Ка поставил в воздухе слоновый бивень и на верхней черте, точно винтики для струн, прикрепил года: 411, 709, 1237, 1453, 1871; а внизу на нижней доске года: 1491, 1193, 665, 449, 31. Струны, слабо звеневшие, соединяли верхние и нижние гвоздики слонового бивня.
– Ты будешь петь? – спросил он.
– Да! – ответила она. Она дотронулась до струи и произнесла: – Судеб завистливых волей я среди вас; если бы судьбы были простыми портнихами, я бы сказала: плохо иглою владеете, им отказала в заказах, села сама за работу. Мы заставим само железо запеть «О, рассмейтесь!»
Она провела рукой по струнам: они издали рокочущий звук лебединой стаи, сразу опустившейся на озеро.
Ка заметил, что каждая струна состояла из 6 частей по 317 лет в каждой, всего 1902 года. При этом в то время, как верхние колышки означали нашествие Востока на Запад, винтики нижних концов струн значили движение с Запада на Восток. Вандалы, арабы, татары, турки, немцы были вверху; внизу – египтяне Гатчепсут, греки Одиссея, скифы, греки Перикла, римляне. Ка прикрепил еще одну струну: 78 год, – нашествие скифов Адия Саки и 1980 – Восток.
Ка изучал условия игры на 7 струнах.
Между тем Лейли горько плакала, уронив чудные золотые волосы на землю.
– Худо свой труд, исполняете, горько иглою владеете, – произнесла она, горько всхлипывая.
Ка сломил ветку и положил около плачущей, Лейли вздрогнула и сказала:
– Некогда в детстве безбурном камень имела я круглый и ветку такую на нем.
Ка отошел в сторону, в сумрак; затаенные рыдания душили его; зелеными листьями он осушал свои слезы и вспомнил белую светелку, цветы, книги.
Слушай, – сказал старик, – я расскажу о гостье обезьян. На Моа приехала она однажды к нам. Мертвая бабочка на игле дикобраза, вонзенной в черную прическу, ей заменяла веер и опахала. В руке был ивы прут с серебряными почками, в руке у Venus обезьян; ладонью черной она держалась за Моа; за крылья и за грудь. Лицо ее черно, как ворон, и черный мех курчавый мягко вился ночным руном по телу; улыбкой страстной миловидна, хорошеньким ягненком казалась она нам. И с хохотом промчалась сквозь страну Богиня черных грудей, богиня ночных вздохов.
Лейли: «Если бы смерть кудри и волос носила твои, я умереть бы хотела» – уходит в сумрак, заломив над собой руки.
– А где Аменофис? – послышались вопросы.
Ка понял, что кого-то не хватало.
– Кто это? – спросил Ка.
– Это Аменофис, сын Теи, – с особым уважением ответили ему. – Мы верим, он бродит у водопада и повторяет имя Нефертити.
Аи, Туту, Азири и Шурура, страж меча, кругом. Ведь наш повелитель до переселения душ был повелителем на Хапи мутном. И Анх сенпа Атен идет сквозь Хут Атен на Хапи за цветами. Не об этом ли мечтает он сейчас?
Но вот пришел Аменофис; народ обезьян умолк. Все поднялись с своих мест.
– Садитесь, – произнес Аменофис, протягивая руку.
В глубокой задумчивости он опустился на землю. Все сели. Костер вспыхнул, и у него, собравшись вместе, беседовали про себя 4 Ка: Ка Эхнатэна, Ка Акбара, Ка Асоки и наш юноша. Слово «сверхгосударство» мелькало чаще, чем следует. Мы шушукались. Но страшный шум смутил нас; как звери, бросились белые. Выстрел. Огонь пробежал.
– Аменофис ранен, Аменофис умирает! – пронеслось по рядам сражающихся.
Всё было в бегстве. Многие храбро, но бесплодно умирали.
– Иди и дух мой передай достойнейшему! – сказал Эхнатэн, закрывая глаза своему Ка. – Дай ему мой поцелуй.
– Бежим! Бежим!
По черно-пепельному и грозовому небу долго бежали четыре духа; на руках их лежала в глубоком обмороке Белая, распустив золотые волосы; только раз мотылек поднял свой хобот и в болоте захрапел водяной конь…
Бегство было удачно: их никто не видел.
8
Но что же происходило в лесу? Как был убит Аменофис?
I – Аменофис, сын Тэи. II – он же, черная обезьяна (полосатые волчата, попугай).
1) Я Эхнатэн.
2) И сын Амона.
3) Что говоришь, Аи, отец богов?
4) Не дашь ли ты Ушепти?
5) Я бог богов; так величал меня ромету; и точно, как простых рабочих, уволил я Озириса, Гатор, Себека и всех вас. Разжаловал, как рабису. О солнце, Ра Атэн.
6) Давай, Аи, лепить слова, понятные для пахаря. Жречество, вы мошки, облепившие каменный тростник храмов! В начале было слово…
7) О Нефертити, помогай!
Я пашни Хапи озаливил, Я к солнцу вас, ромету, вывел, Я начерчу на камне стен, Что я кум Солнца Эхнатэн. От суеверий облаков Ра светлый лик очистил. И с шепотом тихим Ушепти Повторит за мною: ты прав! О, Эхнатэн, кум Солнца слабогрудый!8) Теперь же дайте черепахи щит. И струны. Аи! Есть ли на Хапи мышь, которой не строили б храма? Они хрюкают, мычат, ревут; они жуют сено, ловят жуков и едят невольников. Целые священные города у них. Богов больше, чем небогов. Это непорядок.
1) Хау-хау.
2) Жрабр чап-чап!
3) Угуум мхээ! Мхээ!
4) Бгав! Гхав ха! Ха! Ха!
5) Эбза читорень! Эпсей кай-кай! (Гуляет в сумрачной дубраве и срывает цветы.) Мгуум мап! Мап! Мап! Мап! (Кушает птенчиков.)
6) Мио бпэг; бпэг! Вийг! Га ха! Мал! Бгхав! Гхав!
7) Егжизэу равира! Мал! Мал! Мал! Май, май. Хаио хао хиуциу.
8) Рррра га-га. Га! Грав! Эньма мээиу-уиай!
Аменофис в шкуре утанга переживает свой вчерашний день. Ест древесный овощ, играет на лютне из черепа слоненка. Остальные слушают.
Ручной попугай из России: «Прозрачно небо. Звезды блещут. Слыхали ль вы? Встречали ль вы? Певца своей любви, певца своей печали?»
Трубные голоса слонов, возвращающихся с водопоя.
Русская хижина в лесу, около Нила. Приезд торговца зверями. На бревенчатых стенах ружья (Чехов), рога. Слоненок с железной цепью на ноге.
Купец. Перо, бивни; хорошо, дюша моя. Заказ: обезьяна, большой самец. Понимаешь? Нельзя живьем, можно мертвую на чучело; зашить швы, восковая пена и обморок из воска в руки. По городам. Це, це! Я здесь ехал: маленькая резвая, бегает с кувшином по камням. Стук-стук-стук. Ножки. Недорого. Еще стакан вина, дюша моя.
Старик. Слушай, почтенный господин мой, он рассердится и может испортить прическу и воротнички почтенному господину.
Торговец. Прощайте! Не сердитесь. Хе-хе! Так охота на завтра? Приготовьте ружья, черных в засаду; с кувшином пойдет за водой, тот выйдет и будет убит. Цельтесь в лоб и в черную грудь.
Женщина с кувшином. Мне жаль тебя: ты выглянешь из-за сосны, и в это время выстрел меткий тебе даст смерть. А я слыхала, что ты не просто обезьяна, но и Эхнатэн. Вот он, я ласково взгляну, чтобы, умирая, ты озарен был осенью желанья. Мой милый и мой страшный обожатель. Дым? Выстрел! О, страшный крик!
Эхнатэн – черная обезьяна. Мэу! Манч! Манч! Манч! (Падает и сухой травой зажимает рану.)
Голоса. Убит! Убит! Пляшите! Пир вечером.
Женщина кладет ему руку на голову.
Аменофис. Манч! Манч! Манч! (Умирает.)
Духи схватывают Лейли и уносят ее.
Древний Египет
Жрецы обсуждают способы мести.
– Он растоптал обычаи и равенством населил мир мертвых; он пошатнул лас. Смерть! Смерть! Вскакивают, подымают руки жрецы.
Эхнатэн. О, вечер пятый, причал трави! Плыви «величие любви» И веслами качай. Как будто бы ресницей. Гатор прекрасно и мятежно Рыдает о прекрасном Горе. Коровий лоб… рога телицы… Широкий стан. Широкий выступ выше пояса.И опрокинутую тень Гатор с коровьими рогами, что месяц серебрит в пучине Хапи, перерезал с пилой брони проворный ящер. Другой с ним спорил из-за трупа невольника.
Вниз головой, прекрасный, но мертвый, он плыл вниз по Хапи.
Жрецы (тихо). Отравы. Эй! Пий, Эхнатэн! День жарок. Выпил! (Скачут.) Умер!
Эхнатэн (падая). Шурура, где ты? Ай, где заклинания? О Нефертити, Нефертити! (Падает с пеной на устах. Умирает, хватаясь рукой за воздух.) Вот что произошло у водопада.
9
Это было в те дни, когда люди впервые летали над столицей севера. Я жил высоко и думал о семи стопах времени;… Египет – Рим, одной Россия – Англия, и плавал из пыли Коперника в пыль Менделеева под шум Сикорского. Меня занимала длина воли добра и зла, я мечтал о двояковыпуклых чечевицах добра и зла, так как я знал, что темные греющие лучи совпадают с учением о зле, а холодные и светлые – с учением о добре. Я думал о кусках времени тающих в мировом, о смерти.
И на путь меж звезд морозный Полечу я не с молитвой, Полечу я мертвый, грозный С окровавленною бритвой.Есть скрипки трепетного, еще юношеского, горла и холодной бритвы, есть роскошная живопись своей почерневшей кровью по белым цветам. Один мой знакомый – вы его помните – умер так; он думал как лев, а умер, как Львова. Ко мне пришел один мой друг, с черными радостно-жестокими глазами, глазами и подругой. Они принесли много сена славы, венков и цветов. Я смотрел, как Енисей зимой. Как вороны, принесли пищи. Их любовная дерзость дошла до того, что они в моем присутствии целовались, не замечая спрятавшегося льва, мышата!
Они удалились в Дидову Хату. На сухом измятом лепестке лотоса я написал голову Аменофиса; лотос из устья Волги, или Ра.
Вдруг стекло ночного окна да Каменноостровском разбилось, посыпалось, и через окно просунулась голова лежавшей спокойно, вдвинутой, как ящик с овощами, походившей на мертвую, Лейли. В то же время четыре Ка вошли ко мне. «Эхнатэн умер, – сообщили они печальную весть. – Мы принесли его завещание». Он подал письмо, запечатанное черной смолой абракадаспа. Вокруг моей руки обвивался кольцами молодой удав; я положил его на место и почувствовал кругом шеи мягкие руки Лейли.
Удав перегибался и холодно и зло смотрел неподвижными глазами. Она радостно обвила мою шею руками (может быть, я был продолжение сна) и сказала только: «Медлум».
Растроганные Ка отошли в сторону и молча утирали слезы. На них были походные сапоги, лосиные штаны. Они плакали. Ка от имени своих друзей передал мне поцелуй Аменофиса и поцеловал запахом пороха. Мы сидели за серебряным самоваром, и в изгибах серебра (по-видимому, это было оно) отразились Я, Лейли и четыре Ка: мое, Виджаи, Асоки, Аменофиса.
22 февраля – 10 марта 1915
241. Скуфья скифа. Мистерия
– Идем сюда, – сказал Ка, – где Скифы из Сфинкса по утрам бегают по золотистому песку.
Лелеемые усталой ладонью ветра, сыпались пески и убегали дальше то как мука, то как снег, то как золотое море шумящих тихо-золотистых струн. Рогатая степная змея подымала голову и после, тихими движениями, набрасывала себе на глаза песочную шляпу. Золотистый, он с шорохом просыпался со лба змеи. Жаворонок, недавно прилетевший из дальней Сибири, садился на черный сучок рога змеи, на ее засыпанный песком лоб, как на ветку, и погибал в меткой пасти. Он только что спустился из облачных хребтов, где они летели вместе, бок о бок, как моряки, слыша удары грома и поляны тишины заполняя своим пением жаворонков. Он отдыхал в вечно мерзлой стране на высунувшемся из крутого берега темно-глиняном, покрытом резьбой столетий, клыке мамонта; он ночевал в пространной глазнице мамонта, а утром, когда их стая, щебеча и опьяненная полетом, соединяла свои голоса в тот мощный звучащий собор, который мог бы быть понят отдаленным громом или отголоском великого пения богов, то человеку человеческий мир вдруг показался тесным и менее, чем ранее. Жаворонок, серебряный с черными рогами, затрепетал и вдруг поник головой. Его большой черный глаз, где отражались еще реки Сибири, полузакрылся. «Я умираю, я тону в лоне смерти, – сказал он, – я, жаворонок». Став толще, песчано-золотая змея засыпала и последним каменным взором с желтым зрачком посмотрела на каменного льва. Чтобы напоминать молодым людским волнам о старых гребнях людей, его вытесали из камня и дали упругий удар хвоста кругом бедер, и плененные бедра, и полузакрытые глаза, и разрезанные морщинами веков губы. Он смотрел по-человечески вдаль, полузакрыв в песках звериные лапы. Случалось, что утренний морок останавливался около уст шептаться о тайнах столетий. Скомканные перчатки и скомканный плащ лежали на лапе льва. И странно было видеть черное сукно на суровом камне.
В это время малиновый меч солнца упал поперек пустыни, а черные пятна ночи побежали прочь, и прекрасное пение бесов донеслось до змеи из глубин мятежного звериного камня. Что там было, там, в подземельях львиного туловища, за кругом львиного хвоста? Седой вдохновенный жрец отодвигал на нити времен новую четку дня. Он стоял протянув руку. Юноши в венках были внизу. Жрица с голубыми серо-бледными глазами складывала, согнувшись, ветки для костра. Веря жрецу и задумавшись, она смотрела в упор серыми глазами и молчала. Руки ее собирали травы и бледные лютики, украшающие венки. Жрица молча смотрела на нас, прекрасно и строго, но веря нам, и одежды озером падали к ногам Девы с черной повязкой кругом стана. Хворост, венки и смолы были сложены. Злаки пустынь, покрытые ручьем серебряного волоса, круглые и восково-зеленые, лежали на круглом камне. Сквозь черный колодец вынутого камня падал к нам малиновый луч.
А кругом, как стены храма, с задернутыми облаками глазами, лежал наполовину человеческий лев. Губка времени была пролита на его лицо.
– Дети, – сказал жрец, – вот он зажегся, сияющий глагол.
Мы благоговейно слушали его в этом подземелье храма.
Он продолжал дальше:
– Вот большие и малые солнца кружатся во мне. Слышите ли вы их звук, как они поют, и пение их сливается морским глаголом с морем солнц, с пением утреннего неба? И вся слава меня хвалит звездную славу там. И если мы конобесы и черный ветер концов наших грив, пена, снежных комьев усталости, захлестывающие нас удары хвоста, злые глаза осады. Топот. Еще топот! Сколько их поднялось на дыбы и гуляет на задних ногах, грозя передними. Мы заполняем пропасти утесами, на которых книги, не прочтенные седыми волхвами тысячелетий. Мы захлестываем себя гривами, спешно набрасывая горный мост к небу. О, гул восстания! Осада. Деревья, бревна, осколки законов, горы, веры – все заполняет ров к замку неба. И улыбка судеб торчит репейником на наших диких гривах. Черные, белые, золотые, снежные товарищи. Вы походите на крыло орла, клюющего небо!
Стук прервал его мятежный голос.
– Что – там?
– Путешественник с сухой дыней на голове стучит палкой по камню храма, – ответили мы.
– Добре. Ломка уз еще надежней и верней. Пучина пуз пылает пеною парней! – огненно заключил он, сходя.
– Вспомним про полузадернутые временем глаза храмозверя. Вспомним эту губку времени, пролитую мимо глаз! – он кончил.
Прекрасный удав со свинцовым взглядом и холодным разумом в них, как будто на дереве, качался у него на руке. Серо-пепельные пятна свинцово-железным сложным узором украшали его тело. Он дважды обвил руку – живой думающий жезл, раскачивающий свое тело. Вы, жреческие отроки, расскажите, где вы были? Все сели на белые каменные лавки, вдоль стен. И ты, сероглазая и бледная, ты, призрак каменной лавки, вслушайся в таинство другого разума. Утро кончилось. Все начали свои повести. И первый начал:
– Я сидел в подводной лодке, я склонился над столом-зеркалом. Журчание воды слышалось сверху и с боков. Мы неслись. Однообразные волны серым узором плеска покрывали поверхность зеркала. Но темная черта омрачила море, и на ней были трубы и дым; на корме были люди. Звонок. Звонки. Шум подводного выстрела. Бледное пламя! Мы сказали: «Хох!» Мы ложились на дно. Нас обгоняли человекопохожие предметы. Так, крутясь, падают листья дерева – в голубой сумрак дня, и стучались в окна подводной лодки рукой мертвеца. Веками раньше, но в тот же вечер, в пустыне дубовых стволов, под водой гребя веслами, мы, Запорожская Сечь, подплыли к голубому городу и качались под водой и сторожили черно-золотые паруса. Под водой мы гребли веслами. Красное, как сегодня утром, солнце закатывалось в море. Но сечевики дышали в трубки, держали в руках смоленые концы весел и тихо качались под водой. Но вот проплыла ладья. На ней стояло много женщин в белом; все темные и стройные. Стоя на корме в длинных золотых кольцах на локтях и ногах, они были дети, ответившие на синие волны моря черными лучезарными волнами волос. Они плыли дальше. Наш вождь поплыл вплавь и как утопленник был принят на ладью. Сытые грабежом, мы поплыли назад. Пустые дубы чуть заставляли горбиться море, и только морские хохотуньи, увидя нас, прядали кверху. Морской шар синел. Мы были у родины. Славянки в золотых волосах встречали нас у устья реки и пели:
Челнок с заморским витязем Зовет на берег выйти земь. Толпе холодных лад Не надо медных лат. Мы бросили жребий в синь, Венком испытуя богинь. Вернулись! Вернулись! Вернулись! Знакомые тополи улиц. Голубые, плакать не за чем. Есть утех колосья резать чем.Мы тихо зевали, утомленные длинным рассказом, где времена сияли через времена. И кто-то сказал: «Я тот же! Я не изменился!»
Мы встали и разбрелись. Костер дымился над серебристым пеплом. Но вот священное пламя заколебалось и задвигалось как змея, когда она прислушивается к священным звукам. Все насторожились. Кто-то вошел и шепнул на ухо и показал на камень змеевласой женщины, стоявшей в сумраке. Кто-то сказал: «Помни об осужденных умереть на заре. Ах! Сплести еще одно уравнение поцелуев из лесных озер».
…
Целый день нагой я лежал на песчаной отмели в обществе двух цапель, изучаемый каким-то мудрецом из племени ворон. Он не видел еще нагого человека. Я думаю так.
Между тем озеро, полное неясных криков и вздохов, начинало жить особой ночной жизнью. Вздохи избытка жизни, покрываемые мрачным, кашлем цапель, доносились от него, похожего на тусклое серебро. Сын Солнца, женоподобный, темный, в волосах ниже плеч – бывало, он любовно и нежно расчесывал их большим гребнем, точно он звал это делать незнакомую девушку, – выходил из-за костра, и чем сильнее он опускал свой гребень в темные волосы, тем любовнее и темнее делались его добрые глаза.
Кружево и белая рубашка женщины оттеняли темную шею йога. Его ноги, одетые в светлые волосатые штаны белого, были обуты в привязанные ремнями подошвы.
…
Я помнил кроваво-золотые пятна на голубовато-белой голове призрака, золотое пятно его шлема и черный дым над ним, точно копоть над пламенем свечки.
…
Пустыня молчала. Ночью мы поднялись смотреть коготь гуся, блиставший в вышине, и освежиться дивным холодом ночи.
Большие костры изумили нас. Путешественник заснул и, упав головой, темнелся около ног, закрытый плащом.
– Завтра вы оставите храм, – сказал старик.
К утру, во время черной зари звезд, мы расстались.
– До свиданья, – сказали мы.
Ка увел меня за руку. Прошли месяцы войны.
Мы встретились на севере, у моря, на покрытых соснами утесах.
Я помнил слова седого жреца: «У вас три осады: осада времени, слова и множеств». Да, государство людей, родившихся в одном году. Да, таможенные границы между поколениями, чтобы за каждым было право на творчество.
Правда, их тела нам не нужны. Но ведь отдельные тела – листья, и остается еще дуб. Пусть он воет от наших ударов – что нам до листьев? – их много, и на смену одному вырастет другой.
Поезда уже были проложены по дну моря; я воспользовался одним из них. Среди этих утесов, изрытых морщинами, чьи ноги были вымыты морем, мне нужно было найти Числобога – бога времени. Один из этих черных утесов, точно любимец древних – зубр, стоял в море и рога опустил в море. Я шел к нему, шагая по людским глинам, прилипавшим к подошвам. Глина тихо скрежетала. Мы относились к людям, как к мертвой природе.
Китаец, со спрятанной косой, пропустив сквозь ноздри змею, вышедшую потом изо рта, улыбался узкими глазами в слезах, приговаривая: «Хорошая змея, живой змея». Потом он носился с гремящей острогой, собирая зрителей, и высек за что-то маленькую куклу, у которой просил помощи и чуда.
– Теперь сделает, – лукаво объяснил он свой договор с небом.
Белая мышь выползла из чашки.
– Живой, – радостно указывал, что мышь – живой.
– Где Числобог? – спросил я его.
Он вынул змею и сказал:
– Ветер знает, моя бог не знает.
– Стрибог, ты синий и могучий, ты, верно, знаешь, где Числобог?
– Нет, – ответил, – я должен сейчас как буря погнать над морем стадо ласточек. Спроси Ладу – она среди лебедей и лелек.
Лада направила к Подаге.
Подага холодно убивала зайца о ружье и в белой шубке стояла на поляне. Знакомые серо-голубые глаза удивили меня.
– Числобог? – спросила Подага. – Он стал где-то королем государства времени.
Две гончие своим зовом прервали разговор. Это меня удивило. Как? Он собирал подписи своих первых подданных? Числобог мог стать королем времени? Легкий вздох вырвался вслед навсегда исчезнувшей Подаге.
Привыкший везде на земле искать небо, я и во вздохе заметил и солнце, и месяц, и землю. В нем малые вздохи, цак земли, кружились кругом большого. Что ж, от этого Подага не вернется. И даже лай ее гончих становится все тише и тише. Я стал думать про власть чисел земного шара. Еще уравнение вздохов, потом уравнение смерти. И всё.
На этом государстве не будет алой крови, а только голубая кровь неба. Даже среди животных различают виды не только по внешнему виду, но и по нравам. Да, мы искусные и опасные враги и не скрываем этого.
Я был у озера среди сосен. Вдруг Лада на белоструйном лебеде с его гордым черным клювом подплыла ко мне и сказала:
– Вот Числобог, он купается.
Я посмотрел в озеро и увидел высокого человека с темной бородкой, с синими глазами в белой рубахе и в серой шляпе с широкими полями.
– Так вот кто Числобог, – протянул я разочарованно. – Я думал, что (что-нибудь) другое!
– Здравствуй же, старый приятель по зеркалу, – сказал (я, протягивая) мокрые пальцы.
Но тень отдернула руку и сказала:
– Не я твое отражение, а ты мое.
Пора научить людей извлекать вторичные корни из себя и из отрицательных людей. Пусть несколько искр больших искусств упадет в умы современников. А очаровательные искусства дробей, постигаемые внутренним опытом!
Жерлянки, жабы, журавика окружали каменный желоб, где журчал ручей.
…
А я же жертву принесу – прядь золотистых волос Подаги сожгу на камне диком. Я расскажу, чем заменили мы войну. Железные рабы на шахматной доске во много верст, друг друга разрушают по правилам игры, и победитель в состязании уносит право победителя его пославшему народу.
Но вот послы.
– Добро пожаловать, любезные соседи.
А между тем Подага с гончими стояла на склоне холма.
Гуж гор гудел голосами грохота гроз в глухом глупце. Глыбы, гальки, глины, гуд и гул.
Зелено-звонкий. Змей зыби – зверь зеркал – зой зема – зоя звезд. И звука зов и зев. Зев зорь зияет зоем зова звезд. Над зеркалом зеленых злаков – зрачков зеленых зема, змея звука звонких звезд. Но плавал плот пленных палачей на пламени полого поля – пустыне пузыристых пазух и пуз на пенистом пазе пещерного прага пустот – пружинистой пяткой полуночных песен и плясок. Пищали пены пестро-пегой пастью и пули пузырей пучины печи пламенеющей. Их пестует опаска праздных прагов – еще прыжок пучинной пятки, перинных пальцев прыжок прожег пружинистую пасть пены у пещер. О, певче-пегие племена! На большом заборе около моря было напечатано: «В близком будущем открывается государство времени». Каменные рабы, стоя на шахматном чертеже, охватывавшем часть моря и суши, разрушали друг друга, руководимые беспроволокой, уснащенные башнями вращающихся пушек, огненной горечью, подземными и надземными жалами. Это были большие сложные рабы, требовавшие и количественного и качественного творчества, выше колоколен, крайне дорогие, с сложными цветками голов. Невидимые удары на проволоке воли полководцев руководили действиями, наконец железного от почки до мозга, воина. Их было 32, которые не имели права встать на чужую клетку, не разрушив всеми силами стоявшего на ней противника. Их было 32 выше колоколен каменных рабов. Надев на локоть щит земного шара, можно было спастись от ударов.
6 июля 1916
242. «Нужно ли начинать рассказ с детства?..»
Нужно ли начинать рассказ с детства? Нужно ли вспомнить, что мои люди и мой народ, когда-то ужасавший сухопутный люд парусами и назвавший их турусы на колесах, осмеивая старым забытым искусством каждую чепуху, народ, который Гайявате современности недоверчиво скажет «турусы на колесах», и тот поникнет, седоусый, и снова замолчит – еще раз повод внутренне воскликнуть: «Нет друзей мне в этом мире!» – мой народ хитро, как осетр, подплывший к Царьграду в долбленых, снабженных веслами подводных лодках и невидимо качавшийся под волнами, в виду узорных многобашенных улиц шумной столицы, чтобы потом, после щучье-разбойничьих подвигов в узком проливе, нырнуть в море частыми ударами весел, внизу гордых парусов напрасно преследующего его турецкого флота, достичь устья Днепра и свободно вздохнуть в Запорожье, где толпились чайки. Мой народ забыл море и, тщетно порываясь к свободе, забыл, что свобода – дочь моря. Но племя волго-руссов моей земли знало чары великой степи (отдых от люда и им пустота), близость моря и таинственный холод великой реки. Там сложилось мое детство, где море Китая затеряло в великих степях несколько своих брызг, и эти капли-станы, затерянные в чужих степях, медленно узнавали общий быт и общую судьбу со всем русским людом.
Вот вы прожили срок, срок жизни, и сразу почувствовали это, так как многие истины просто отвалились от вас, как отваливаются черные длинные перья из крыла ворона в свой срок, и он сидит один в угрюмой лесной чаще и молча ждет, когда вырастут новые.
Да, я прожил какой-то путь и теперь озираю себя: мне кажется, что прожитые мною дни – мои перья, в которых я буду летать, такой или иной, всю мою жизнь. Я определился. Я закончен. Но где же то озеро, где бы я увидел себя? Нагнулся в его глубину золотистым или темно-синим глазом и понял: я тот. Клянусь, что, кроме памяти, у меня нет озера, озера-зеркала, к которому неловкими прыжками пробирается ворон, когда все вдруг тихо, и вдруг замолчавшие лесные деревья и неловкий поворот клюва – все сливается в один звук, звук тайны сумрачного бора. А ворон хочет зеркала: его встречают деревья, как лебедя.
Но память – великий Мин, и вы, глубокие минровы, вы когда-то теснились в моем сознаний, походя на мятежников, ворвавшихся на площадь: вы опрокинули игравшую в чет и нечет стражу и просили бессмертия у моих чернил и моего дара. Я вам отказал. Теперь сколько вас, образов прошлого, явится на мой призыв? Так князь, начиная войну не вовремя, не знает, велико ли будет его войско, и смутно играет, гадая о будущем, и готовит коня для бегства. Здесь его голос начал звенеть, и я подумал: но ведь это я, но в другом виде, это второй я – этот монгольский мальчик, задумавшийся о судьбах своего народа. А вырезанные из дерева слоны смотрели с ворот хурула. Тогда у меня было поручение достать монгольских кумиров, но я его позорно не выполнил.
Я помню себя очень маленьким, во время детского спора: могу ли перелезть через балясину? Я перелезаю и вызываю похвалу старшего брата. Прикосновение телом к балясине до сих пор не исчезло из памяти. Но вот другой конец страны: старый сад, столетние яворы, гора обломков камней, поросшая деревьями, – сгоревший во время восстания дворец польского пана; во время этой зари жизни мы были мудрецами, и проводить день в теплой речке было законом этих дней. Там ловились лини и щуки во столько раз меньше вершка, во сколько мы были меньше взрослого человека, и самым ярким местом этих лет была весенняя охота на осетров величиною с иголку, подплывавших к берегу; но наша сетка двух рыболовов не ПОМОРЯТ: они ускользали стрелой и опять показывались, замирая своим чешуйчатым туловищем. Два рыболова были взволнованы и озабочены – рама с сеткой для комаров была в их руках.
Здесь мне пришлось отведать хвост бобра – известное лакомство. Покрытый землей, с черной засохшей кровью, он был принесен, и под яблонями, бывшими тогда в цвету, хвост его, покрытый чешуйками и редким волосом, был изжарен. Ничего особенного. Я любил мясо серых коз, таких прекрасных и жалких с черными замороженными глазами. И помню охоты: дорога в лесу, табор саней, верховые, волчьи следы в поле; взрослые исчезли, снежноусый пан-поляк торопится догнать других. Раз к порогу нашего дома подъехала телега, полная доверху телами молодых вепрей. Раз привезли молодую собаку с распоротым брюхом. О, эти четвероногие люди лесов с желтодымными косыми отрезанными бивнями, как они мстили своим двуногим братьям за их ловкую пулю в темном зимнем сумраке! Один косой бивень долго лежал у отца на письменном столе…
Вечерняя таинственная ловля бабочек, когда вечер делался храмом, цветы обратились к <заре>, как жрицы в белых тонких рубашках, запах жертв, и, как молитва, несся, свистя полетом, бражник. Тогда, когда мы робко подкрадывались, вытянув руку к бабочке, тогда, как слышу, сверху трепетала зарница. Закрывались окна. Ждали грозу.
Годы ученичества на далекой Волге и новые удары молодой крови в мир…
1916–1918
243. Октябрь на Неве
Ранней весной 1917 я и Петников садились на московский поезд.
«Только мы, свернув ваши три года войны в один завиток грозной трубы, поем и кричим, поем и кричим, пьяные дерзостью той истины, что Правительство Земного Шара уже существует. Оно – Мы.
Только мы нацепили на свои лбы неувядаемые венки Председателей Земного Шара, неумолимые в своей загорелой дерзости, мы – обжигатели сырых глин человечества в кувшины времени и балакири, мы – зачинатели охоты за душами людей…
«Какие наглецы!» – скажут некоторые. «Нет, они святые!» – возразят другие. Но мы улыбнемся и покажем рукой на солнце: «Поволоките его на веревке для собак, судите его вашим судом судомоек – если хотите – за то, что оно вложило эти слова и дало эти гневные взоры. Виновник – оно».
Правительство Земного Шара – такие-то».
Этим воззванием был начат поэтический год, и с ним в руках два самозваных Председателя земного шара вечером садились на поезд Харьков – Москва, полные лучших надежд.
Нашей задачей в Петрограде было удлинить список Председателей, открыв род охоты за подписями, и скоро в список вошли очень хорошо отнесшиеся члены китайского посольства Тинь-Э-Ли и Янь-Юй-Кай, молодой абиссинец Али-Серар, писатели Евреинов, Зенкевич, Маяковский, Бурлюк, Кузмин, Каменский, Асеев, художники Малевич, Куфтин, Брик, Пастернак, Спасский, летчики Богородский, Г. Кузьмин, Михайлов, Муромцев, Зигмунд, Прокофьев, американцы – Крауфорд, Виллер и Девис, Синякова и многие другие.
На празднике искусств 25 мая знамя Пред<седателей> з<емного> ш<ара>, впервые поднятое рукой человека, развевалось на передовом грузовике.
Мы далеко обогнали шествие. Так на болотистой почве Невы было впервые водружено знамя Председателей земного шара.
В однодневной газете «Заем Свободы» Правительство земного шара обнародовало стихи: «Вчера я молвил: гуля, гуля! И войны прилетели и клевали из рук моих зерно».
Это было сумасшедшее лето, когда после долгой неволи в запасном пехотном полку, отгороженном забором из колючей проволоки от остальных людей, по ночам мы толпились у ограды и через кладбище – через огни города мертвых – смотрели на дальние огни города живых, далекий Саратов. Я испытывал настоящий голод пространства и на поездах, увешанных людьми, изменившими Войне, прославлявшими Мир, Весну и ее дары, я проехал два раза, туда и обратно, путь Харьков – Киев – Петроград. Зачем? Я сам не знаю.
Весну я встретил на вершине, цветущей черемухи, на самой верхушке дерева, около Харькова. Между двумя парами глаз была протянута занавеска цветов. Каждое движение веток осыпало меня цветами. Позже звездное небо одной ночи я наблюдал с высоты крыши несущегося поезда; подумав немного, я беспечно заснул, завернувшись в серый плащ саратовского пехотинца. На этот раз мы, жители верхней палубы, были усеяны черной черемухой паровозного дыма, и, когда поезд остановился почему-то в пустом поле, все бросились к реке мыться, а вместо полотенца срывали листья деревьев Украины.
– Ну, какой теперь Петроград! Теперь – Ветроград! – шутили в поезде, когда осенью мы вернулись к Неве.
Я основался в селе Смоленском, где по ночам на таинственных поездах с погашенными огнями ездили ходи, шатры вооруженных цыган были раскинуты в болотистом поле и вечно сиял огнями дом сумасшедших. Мой спутник, Петровский, большой знаток привидений, обратил мое внимание на одно деревцо – черную настороженную березку, стоявшую за забором.
Оно чутко трепетало листами от малейшего ветра. На золотистом закате каждый черный листок дерева выделялся особенно зловеще. Оно, такое, какое оно есть, настойчиво приходило к нему во сне каждую ночь. Петровский начал относиться к нему с суеверным вниманием. Позднее он открыл, что береза растет над мертвецкой, где хранились до вскрытия тела убитых. Это было уже в самый разгар событий. Мы жили у рабочего Морева, и у него, как и у многих жителей окраины, в это время хранились куски свинца для отлива пуль. «Так, на всякий случай»…
Под грозные раскаты в Царском Селе прошел день рождения. Когда по ночам, возвращаясь домой, я проходил мимо города сумасшедших, я всегда вспоминал виденного во время службы безумного рядового Лысака и его быстрый шепот: «Правда, правда не, правда есть, правда не».
Все быстрее и быстрее делался его учащенный шепот, тише и тише, безумный прятался под одеяло, уходил в него с подбородком, скрываясь от кого-то, сверкая только глазами, но продолжая шептать нечеловечески быстро. Потом он медленно подымался и садился па постель; по мере того как он подымался, шепот его становился громче и громче; он застывал на корточках с круглыми, как у ястреба, глазами, желтея ими, и вдруг выпрямлялся во весь рост и, потрясая свою кровать, звал правду бешеным, разносившимся по всему зданию голосом, от которого дрожали окна:
– Где правда? Приведите сюда правду! Подайте правду!
Потом он садился и, с длинными жесткими усами и круглыми глазами желтого цвета, тушил искры пожара, которого не было, и ловил их руками. Тогда сбегались служителя. Это были записки из мертвого поля, зарницы отдаленного поля смерти – на рубеже столетий. Силач, он походил на пророка на больничной койке.
В Петрограде мы вместе встречались – я, Петников, Петровский, Лурье, иногда забегал Ивнев и другие Председатели.
– Слушайте, друзья мои. Вот что: мы не ошибались, когда нам казалось, что у чудовища войны остался один только глаз и что нужно только обуглить бревно, отточить его и общими силами ослепить войну, а пока прятаться в руне овец. Прав ли я, когда говорю так? Правду ли говорю я?
– Правильно, – был ответ.
Было решено ослепить войну. Правительство земного шара выпустило короткий листок: «Подписи Председателей земного шара» на белом листе, больше ничего. Это был первый его шаг.
– Мертвые! Идите к нам и вмешайтесь в битву. Живые устали, – гремел чей-то голос. – Пусть в одной сече смешаются живые и мертвые! Мертвые, встаньте из могил.
В эти дни странной гордостью звучало слово «большевичка», и скоро стало ясно, что сумерки «сегодня» скоро будут прорезаны выстрелами.
Петровский в черной громадной папахе, с исхудалым прозрачным лицом, улыбался загадочно.
– Чуешь? – коротко спрашивал он, когда внезапно грохотала при нашем проходе водосточная труба.
– Что воно случилось, никак в толк не возьму, – проговорил он и стал загадочно набивать трубку с тем видом, который ясно говорил, что дальше не то еще будет.
Он был настроен зловеще.
Позднее, когда Керенский был накануне свержения, я слышал удивленный отзыв:
– Всего девять месяцев пробыл, а так вкоренился, что пришлось ядрами выбивать.
– Что он ждет? Есть ли человек, которому он не был бы смешон и жалок?
В Мариинском дворце в это время заседало Временное правительство, и мы однажды послали туда письмо:
«Здесь. Мариинский дворец. Временное правительство.
Всем! Всем! Всем!
Правительство земного шара на заседании своем 22 октября постановило: 1) Считать Временное правительство временно не существующим, а главнонасекомствующего Александра Феодоровича Керенского находящимся под строгим арестом.
Как тяжело пожатье каменной десницы».
Председатели земного шара Петников, Ивнев, Лурье, Петровский, Я – «Статуя командора».
В другой раз послали такое письмо:
«Здесь. Зимний дворец. Александре Феодоровне Керенской. Всем! Всем! Всем!
Как? Вы еще не знаете, что Правительство земного шара существует? Нет, вы не знаете, что оно уже существует.
Правительство земного шара (подписи)».Однажды мы собрались вместе и, сгорая от нетерпения, решили звонить в Зимний дворец.
– Зимний дворец? Будьте добры соединить с Зимним дворцом.
– Зимний дворец? Это артель ломовых извозчиков.
– Что угодно? – холодный, вежливый, но невеселый голос.
– Артель грузовых извозчиков просит сообщить, как скоро выедут жильцы из Зимнего дворца?
– Что? Что?
– Выедут обитатели Зимнего дворца?
– А! Больше ничего? – слышится кислая улыбка.
– Ничего!
Слышно, что кто-то хохочет у другого конца проволоки.
Я и Петников тоже хохочем у этого конца.
Из соседней комнаты выглядывает чье-то растерянное лицо.
Через два дня заговорили пушки.
В Мариинском в это время ставили «Дон-Жуана», и почему-то <в Дон-Жуане> видели Керенского; я помню, как в противоположном ярусе лож все вздрогнули и насторожились, когда кто-то из нас наклонил голову, кивая в знак согласия Дон-Жуану раньше, чем это успел сделать командор.
Через несколько дней «Аврора» молчаливо стояла на Неве против дворца, и длинная пушка, наведенная на него, походила на чугунный неподвижный взгляд – взор морского чудовища.
Про Керенского рассказывали, что он бежал в одежде сестры милосердия и что его храбро защищали воинственные девицы Петрограда – его последняя охрана.
Невский все время был оживлен, полон толпы, и на нем не раздалось ни одного выстрела.
У разведенных мостов горели костры, охраняемые сторожами в широких тулупах, в козлы были составлены ружья, и беззвучно проходили черные густые ряды моряков, неразличимых ночью. Только видно было, как колебались ластовицы. Утром узнавали, как одно за другим брались военные училища. Но население столицы было вне этой борьбы.
Совсем не так было в Москве; там мы выдержали недельную осаду. Ночевали, сидя за столом, положив голову на руки, на Казанском, днем попадали под обстрел и на Трубной, и на Мясницкой.
Другие части города были совсем оцеплены. Все же несколько раз остановленный и обысканный, я однажды прошел по Садовой всю Москву поздней ночью.
Глубокая тьма изредка освещалась проезжими броневиками; время от времени слышались выстрелы.
И вот перемирие заключено.
Вырвались. Пушки молчат. Мы бросились в голоде улиц, походя на детей, радующихся снегу, смотреть на морозные звезды простреленных окон, на снежные цветы мелких трещин кругом следа пуль, шагать по прозрачным, как лед, плитам стекла, покрывавшим Тверскую, – удовольствие этих первых часов, собирая около стен скорченные пули, скрюченные, точно тела сгоревших на пожаре бабочек.
Видели черные раны дымящихся стен.
В одной лавке видели прекрасную серую кошку. Через толстое стекло она, мяукая, здоровалась с людьми, заклиная выпустить; долго же она пробыла в одиночном заключении.
Мы хотели всему дать свои имена. Несмотря на чугунную ругань, брошенную в город Воробьевыми горами, город был цел.
Я особенно любил Замоскворечье и три заводских трубы, точно свечи твердой рукой зажженных здесь, чугунный мост и воронье на льду. Но над всем – золотым куполом – господствует выходящий из громадной руки светильник трех завод<ских> труб, железная лестница ведет на вершину их, по ней иногда подымается человек, священник свечей перед лицом из седой заводской копоти.
Кто он, это лицо? Друг и ли враг? Дымописаный лоб, висящий над городом? Обвитый бородой облаков? И не новая ли черноокая Гурриэт эль-Айн посвящает свои шелковистые чудные волосы тому пламени, на котором будет сожжена, проповедуя равенство и равноправие? Мы еще не знаем, мы только смотрим.
Но эти новые свечи неведомому владыке господствуют над старым храмом.
Здесь же я впервые перелистал страницы книги мертвых, когда видел вереницу родных у садика Ломоносова в длинной очереди в целую улицу, толпившихся у входа в хранилище мертвых.
Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти.
Октябрь – ноябрь 1918
244. Есир
Недалеко от черты прибоя, на полудиком острове Кулалы, вытянутом в виде полумесяца, среди покрытых травой песчаных наносов, где бродил табун одичавших коней, стояла рыбацкая хижина. Сложенные паруса и весла указывали, что это был стан морских ловцов. Здесь жил ловец Истома и его отец, высокий, загорелый великан с первой сединой в бороде. Зимой они громили тюленей и, увидев зверя, когда он, похожий на человека, выстал в море и смотрел любопытными глазами, бросали в него копье с подвижным кокотом.
Теперь они собирались в весеннюю путину и то подымались, то спускались из избушки на сваях около старой ивы; с веток ее падали морские сети, а около корней стояла смола. Заплаты, свежеположенные на парус, заново черная от смолы бударка, сверкающее солнце, сверкающее на волнах и на смоляных боках лодки, громадная белуга, лежавшая па лодке, свесив на землю свою махалку, орланы-белохвосты, сидевшие на отмели, другой – черной точкой сидел на верхушке песчаного обрыва, и тучи уток со свистом падали откуда-то сверху на то подымавшееся, то опускавшееся море, – вот что было вокруг.
Рано утром лодка весело побежала в город, охваченный тогда славой Разина. Полотняное небо паруса шумело над ловцами, и мир делался тесен и близок.
Трава, в которой свободно скроется верблюд, с обеих сторон склонялась над водой. Здесь они увидели лодку; охотник правил одним веслом; лицо его было настолько искусано мошками, что казалось изуродованным оспой. Он почти невидел; мертвый кабан лежал на лодке.
Сонные черепахи удивленно подымали свои головы или прыгали в воду, а я воде проворно скользили красно-золотистые ужи.
Иногда их было так много, что казалось, бесчисленные травы волнуются течением. Под шум согнутого паруса быстро скользила ловецкая лодка. Она пристала на Кутуме и там, где стояли старые ивы, покрытые рыжим ивовым волосом, отчего они походили на поставленных на голову людей, а прозрачные ветви были одеты гнездами цапель, бросила в песок тяжелую кошку.
Ловцы вышли на берег.
Мимо Кремля, через Белый город и Житный город, проходя то Вознесенскими, то Кабацкими воротами, ловцы, сгибаясь от осетра, положенного на плечи, пошли мимо рядов с ловецкой сбруей, к знакомому старообрядцу-помору.
В одном месте их остановило стадо, красного степного скота. Конные пастухи гнали их по узким улицам, и их кривые рога теснились как речные волны. В самую, гущу их врезалась тяжелая телега с зеленовато-белыми телами осетров. Там степняк ехал на стонавшем верблюде, здесь на белых украинских волах – чумаки.
У берега стояли суда с парусами из серебряной парчи и около них живописные женщины Востока. Вольные сыны Дона, в драгоценных венках, усыпанных крупным жемчугом, и серебряных зипунах, там и здесь мелькали на улицах. Имя Разина <–>[3]
Черноглазые казачки в вышитых сорочках стояли около ‹…› глиняных плетней и широко улыбались всему миру; в черных покрывалах проходили татарки. Закутанные в белое, на верблюдах проезжали степные женщины.
Старик-помор встретил их на пороге своей землянки, обнесенной забором из соломы и грязи. Так, спасаясь от зноя и пожаров, жили русские того времени.
Когда они спустились по ступенькам вниз, от темноты они ничего не могли некоторое время увидеть, но потом заметили земляные лавки, покрытые восточными коврами, и несколько тяжелых кубков на столе.
Дородная, немного тучная женщина вышла навстречу гостям. Ее лицо было покрыто сетью мелких морщин и было старчески миловидно. В красном углу сидел гость – индус. Что-то прозрачное в черных глазах и длинные черные волосы, загибаясь, падавшие на плечи, давали ему вид чужестранца. Он рассказал новости, привезенные недавно из Индии, некогда столь короткой, что она самому небу жертвовала только цветы. Как опора и надежда браминов, Саваджи восстал против коварного Ауренгзиппа, быстро основав государство махратов. И как, с другой стороны, среди яростной борьбы поклонников Вишну и поклонников Магомета разливается кроткое учение гуру (учителей) Нанака и Кабира; как проповедующие общее братство и равенство для всех людей сикхи (ученики) выбрали своим пророком сначала Говинда, а потом Тег Бохадура. И как преследует сикхов вероломный Ауронгзипп, не брезгуя ни ядом, ни наемным убийцей, и как в Китае недавно кончилось восстание Чанг-Гиентшонга, и как дух свободы пылает над всем миром.
Рассказывал и про Галай-гала-яму индусов. Гневно рассказывал про Китай, как там бедняк за полтинник, врученный его семье, соглашается идти на казнь вместо другого и кладет на доску свою морщинистую шею и покрытую седой косой голову, как там нельзя найти земли величиной с ладонь, которая бы не была покрыта колосьями; как человек возделывает такие неприступные высоты, что, казалось, у него должны были бы быть крылья, чтобы залететь туда, а собирая морскую капусту, человек приступает к возделыванию пространств моря.
И многое другое рассказал индус; глубокой ночью разошлись спать.
Истома заснул, думая о пленнике, брошенном в яму, по лицу которого ползает жаба; о правителях, которым приносят корзины вырванных глаз; о правителях, зашивающих рты слишком говорливым и разрезывающих рот слишком молчаливым; о казни глотанием песка до смерти. Утром Истома двинулся на рынок.
Он пересек шествие; большое знамя, на котором был изображен положенный на костер кабан, развевалось впереди отряда. Всадники в черных бурках, на сухопарых злых конях ехали за ним. Мелькали их черные шапки с малиновым верхом.
Это был Зажарский стрелецкий полк. В толпе же чаще и чаще слышалось имя Разина.
Взволнованные люди входили и выходили через все семь ворот Белого города: Мочаговские, Решеточные, Вознесенские, Проломные, Кабацкие, Агаряпские, Староисад-окие.
Здесь он снова встретил индуса Кришнамурти. Кришнамурти с раннего утра ушел за город, где зеленые сады застыли над тихими речками, и остановился в немом изумлении.
– Аум, – тихо прошептал он, наклоняясь над колосом синих цветков.
– Что? Дивуешься божьему миру? Дивуйся, дивуйся! – произнес за его плечами голос древнего старика.
В лаптях, в синих портах и белой рубашке, он стоял, опираясь на палку, ветхий и столетний. Лебедь времени, Кала-Гамза, трепетал над ним, над его седыми кудрями. Он был стар. Оба поняли друг друга. Потом Кришнамурти взял с собой мальчика и пошел с ним кормить диких бесприютных собак.
Он пошел на рынок у Кабацких ворот.
Здесь на открытых столах гуляла повольница. Слышались отрывочные слова, восклицания:
– Друг, иди сюда! Тяжко мясу без мяса! Тяжко другу без друга, как соловью без луга.
– На, пей! Веселись душа!
Смуглые воины пировали под открытым небом.
– Слушай: видела жаба, как коня куют, протянула и свою ногу: «Куй, кузнец!» Так и ты, друг, – воскликнул смуглый, почти черный человек, ударяя смуглой рукой по столу. Вокруг нее, точно веревки, вились тугие жилы, изобличая в нем силача-воина.
– Э! Рыбу водой не поят. Дыня или тыква?
Хохот покрыл слова говорившего.
В это время резкий стон прорезал многоголосый говор толпы.
Это проходил среди толпы высокий малый в белой рубашке и зипуне ярко-красного цвета. В руках у него был дикий лебедь, связанный в крыльях тугими веревками.
– Лебедь, живой лебедь! – Казалось, его никто не слышал.
Индус не принадлежал к расколу Шветамбара, требовавшему от учеников ходить нагими, быть «одетыми в солнце», но его вера требовала делать добрые дела всем живым существам, без изъятья, – ведь в лебедя могла переселиться душа его отца. Он решил освободить прекрасного пленника.
Там, на крутом берегу Волги, развязал брамин дикую птицу, и скоро та в последний раз блеснула в синеве белой серебряной точкой.
А брамин по-прежнему стоял над темной водой.
О чем он думал?
Как ежегодно привозят верблюды священную воду Ганга?
И как, будто среди молитвенных голосов, совершается обряд свадьбы двух рек, когда из длинногорлого тяжелого кувшина рукой жреца вода Ганга проливается в темные воды Волги – Северной невесты!
Истома его догнал.
– Это что – лебедя освободить! Нет, ты дай свободу всему народу, – сказал он.
Индус молчал. Он думал, как далекий гуру (учитель) из Индии руководит его разумом здесь. И вдруг, повернувшись, сказал: «Ты увидишь мою родину», – и после повернулся и ушел, залитый лучами солнца, в темно-зеленом халате.
А Истома размышлял, думая о его речах и думая о ползавшем на руке муравье: «Кто этот муравей? Воин? Полководец? Великий учитель своего народа? Мудрец?»
А около тихо плескалась Волга-невеста.
На другой день ловцы, справив рыбацкую сбрую и распрощавшись с милым старообрядцем, двинулись в обратный путь.
Дорогой они встречали расположенные в виде узких полозьев челны, на которых высился громадный воз хвороста; видели бударку, в которую, как первобытный парус, была воткнута густая зеленая береза. И ветер вез лодку с ее зеленым парусом. Бабы-птицы поодаль тянули свою тоню, и в их огромных клювах-мешках бились еще живые рыбы. Видели охотника, надевшего тыкву на голову и хватавшего за ноги живых уток.
Когда стемнело, вышли на берег вечерять и разложили костры.
Долго за полночь шла беседа про страшную «чуму сетей», когда вдруг на огромном расстоянии в одни сутки гибнут все сети, захворавшие болезнью сетей, особой водорослью; про страшные сны, когда не человек жарит осетров, а осетр раскладывает костер и жарит пойманного человека. Небо Лебедии сияло своими зеленоватыми звездами; Волга, журча, вливалась в море тысячью мелких ручьев. Черни были охвачены тишиной и сном. Просыпаясь утром, Истома с удивлением заметил странные кусты около лодки.
Вдруг кусты зашевелились, и голые, покрытые маслом люди, сбрасывая с себя ветки, бросились к ним.
– Есир – невольник и раб, – пронесся в воздухе несколько раз воинственный крик.
В то же время лодка была занята другими; они, быстро работая веслами, отплыли от берега. Истома был оглушен сильным ударом кулака. Он помнил над собой лицо, лишенное, как ему показалось, носа, плоское как доска.
Когда Истома очнулся, он был связан по руками и ногам и окружен вооруженными степными всадниками, составившими совет.
Среди горок камней, золы и человеческих костей был расположен степной аул. Древние зеленые изразцы лежали среди песка и пепла сожженных на костре человеческих костей. Редкие травы трепетали широкими кистями, да одинокий жаворонок резвой рысью бежал по песчаным волнам пустыни.
Вот он остановился и сел на синем обломке кувшина. Здесь была Золотая Орда, и лишь обломки башни темно-синего полива да старинный камень с татарскими письменами напоминали об этом.
Да змея бесшумно скользила около надписи: «Нет бога, кроме бога», а черноволосая девушка этих мест ходила с медной деньгой, вплетенной в косу. И надпись древнего хана: «Я был – мое имя высоко» – тонула в черном шелку ее кос.
Вот она зажгла костер и села на землю, раздумывая про Сюмерулу, срединную гору мира, где сходятся души мертвых предков пить молоко кобылиц.
Старый калмык пил бозо – черную водку калмыков.
Вот он совершил возлияние богу степей и пролил жертвенную водку в священную чашу.
– Пусть меня милует Чингиз богдо-хан, – важно проговорил он, опустив голову.
Великий Чингиз казался ему беспечным богом войны, надевшим как-то раз на плечи одеяние человеческой судьбы. Любимец степной песни, он и до сих пор живет в степи, и слова славы ему сливаются со степным ветром.
Первую чашку он плеснул в огонь, вторую – в небо, третью – на порог. И бог пламени Окын-Тенгри принял жертву. Тысяча рук окружала его. Окруженный заревом, он выскочил из пламени, и с невыносимым для смертного уха звуком залязгали, застучали и запрыгали одна о другую его красные челюсти, а белые мертвые глаза страшно уставились на смертного. Зарево тысячи рук окружило его. Словно черным парусом белое-море, свирепые зрачки косо пересекали глаза. Страшные белые глаза подымались к бровям головой мертвого, повешенной за косу. Удар ветра, и он исчез, и вновь из костра выступил черный котел, сменив багрового духа.
Коку, его дочь, подошла к нему. Ее косы, завернутые в шелковые чехлы, падали ей на грудь.
Вот она повернула голову, и вся миловидность Китая сказалась на темном лице; сквозь черный загар выступала степная алая кровь, живые глаза сверкали, как два черных месяца, умом и радостью. Малиновая, шитая золотом, шапочка была у ней на голове.
Она помнила, что девушка должна быть чистой, как рыбья чешуя, и тихой, как степной дым, и бесшумно села на землю в своих черных шароварах.
И снова лицо ее, как пламенеющий уголь, склонилось над землей.
А калмык грезил.
Он мысленно садится на коня, на аршин быстрее мысли, и скачет в великой охоте Чингиза; в ней участвовали все покоренные Чингизом народы, и почти вся Средняя Азия была охвачена кольцом великой облавы. Здесь несется ветроногий табун диких коней, там падает вилорогий первобытный бык, а здесь тетива лука вышиной с человеческий рост посылает стрелу в курчавого красного теленка. Полунагие наездницы с дикими криками проносятся по степи, и там и здесь звенят тетивы.
Старый калмык выпил еще чашку бозо, когда всадник с орлом на руке подъехал к нему. Он сообщил про приближающегося киргиза с невольником, и они вдвоем выехали к нему навстречу. Кони бодро переехали небольшую речку.
Утренние голые люди, обмазанные для борьбы жиром тюленя, были теперь одеты и громко обсуждали что-то. На Истому надели мешок для муки, сделав дыры для рук и головы, и, посадив его на седло и связав ноги, все поскакали в кочевье.
Там к нему подошел старик и коротко сказал: «Моя есир». Истома знал всё страшное значение этого слова. Вихорь и огонь удара плети перевели слово.
Вечером они двинулись в путь.
Киргиз нараспев пел «Кудатку-Билик». Истома бежал за Ахметом. В белой войлочной шляпе, в разноцветном халате Ахмет покачивался на седле и помахивал плетью, забыв, казалось, про пленника.
Степной неук бежал легкой рысью. Истома со связанными руками бежал сзади.
От частых, похожих на песню беса, ударов хвоста глаза почти ослепли и ничего не видели. Полотно рубашки лопнуло и разорвалось, спустившись на связанные руки и шею. Слепни и оводы, густо усевшись на теле, зеленой сеткой своих жадных зеленых глаз покрывали плечи. Другие тучей вились около. Тело распухло от укусов, жары и зноя. Ноги были в запекшейся крови. От штанов осталась рваная полоса.
Когда они доехали до Орды, стая черномазых детей окружила его, но киргиз поднял плеть. Что-то вроде жалости показалось на медном лице. Покачал головой и ослабил веревки; дал молока и первый раз сказал: «Ашай». Добрая старуха протянула ему черпак воды, и он выпил как дар неба. Здесь Ахмет за 13 рублей продал своего невольника. Новый купец был много добрее. С этого времени жить стало лучше. Его повели купаться. Дали кумачовую рубашку. «Якши рус», – сказал Ахмет, любуясь им. Три дня он отдыхал в духане.
Старик-горец беседовал с ним и делил с ним свой кусок сыра, лечил его ноги.
Когда он сидел на земле в своей широкой бурке, а стриженый череп подымался над буркой, как горный ястреб, Истоме делалось легче. Ему казалось, что рядом такой же невольник, как и он.
Скоро их догнал большой караван рабов, где были грузины, шведы, татары, русские, один англичанин. Тогда из русских невольников набиралась личная охрана отборных полков, как китайского богдыхана, так и турецкого султана и великого могола в Индии. Скоро караваи снова двинулся, и верблюды забряцали бубенчиками.
Дорога шла голой песчаной степью, где только жаворонки и ящерицы бегали среди кустов, да изредка подымался огненноокий, издали похожий на волка, степной филин и с трудом уносил схваченного могучей лапой зайчонка. Истома шагал за своим верблюдом по белым солончакам и бесконечному песку. В одном караване с ним была только Ядвига. У ней были длинные золотистые волосы, а в голубых глазах вечно смеялась и дразнила русалка – ресниц голубая русалка.
Для нее между горбами верблюда, похожими на песчаные холмы, покрытые кустами ковыля, был сделан особый шатер. С ног до головы она была одета в белое покрывало.
– Як на море! Совсем як на море! – восклицала она иногда и высовывала из шатра ручку.
Иногда она расспрашивала про пашу: «Вин какой? Чи он седой? Чи он грозный?»
И задумывалась.
И когда венок обвил ее голову, она вдруг сделалась хорошенькой русалкой, зачем-то сидевшей на верблюде.
Синеглазая, златоволосая, закутанная в складки полупрозрачного полотна.
Думает ли она о празднике Ярилы или о празднике весенней Ляли? Но вот большая бабочка, увлекаемая ветром, ударилась, ей о щеку, и ей кажется, что это она стучится в окошко родимого дома, бьется о морщинистое лицо матери.
– Вот такой же бабочкой прилечу и я, – шепчет она.
Между тем показались горы, и у их подножья остановились на ночь.
Отсюда они двинулись на буйволах. Эти – могучие быки, с вытянутыми вдоль затылка широкими рогами, с черно-синими глазами, где вечно светится пламя вражды к людям.
Если на гладкой, лишенной волоска, коже там и здесь торчали редкие волоски, то лишь для того, чтобы плотнее пристала к телу рубашка степной черной грязи; с нею буйволы не расставались, спасаясь от своих мучителей – тучи оводов. Первая глиняная рубашка – ее буйволы стали носить раньше человека. Более всего они любили воду и, раз увидев ее, бросались в нее так, что были видны лишь ноздри и глаза. Так они были способны проводить целые сутки.
На черном хребте одного из них в белой рубашке персианки и в шароварах сидела Ядвига и уж беспечно плела венки и гадала, отрывая лепестки: «Чи любит, чи нет?» Дорога шла горами. Как глаз бога иногда «сверкал над пустынными хребтами снежный утес, а иногда с высот виден был синий шар моря, какой-то небесный в своей синеве, и на нем косо скользил одинокий парус.
Мансур обращался ласково, много шутил и часто подходил поправить покрывало.
– Аллах велик, – говорил он Истоме, – хочет – я тебя купил, и я – твой господин, а захочет – и я тебе целуй-целуй руку.
В Испагани караван разделился, и больше Истома не видел Ядвиги.
С большими остановками, почти через год, Истома попал в Индию.
Его проводник Кунби был сикхом; нужно ли удивляться, что однажды Истома обратился к учителю и сказал: «Я тоже сикх».
Кунби радостно встретил новообращенного. Нужно ли удивляться, что однажды Истома и Кунби вместе бежали?
Кунби научил его спокойно выжидать в чаще тростников, когда мимо мчался, топча рощу, посланный вдогонку слон; спать на широких ветках, деревьев, где только что пробежала, кривляясь, обезьяна. И скоро, как два заклинателя змей, они начали скитальческую жизнь; сонная гремучая змея спала у них в выдолбленной тыкве, в соломенной корзине; белые ручные мыши, наученные прятаться, жили в грецком орехе.
Он научился понимать сложенный из сосновых игол муравейник, когда увидел жилые горы храмов и видел медные кумиры Будды много раз больше размеров человека. Раз он увидел в пещере, в лесу, нагого отшельника; борода падала к его ногам. Уже несколько лет старик держал в руках сухой хлеб, и теперь насквозь хлеба прошли длинные извилистые ногти. Старик не менял своего положения, руки его не умели двигаться, и ногти прорастали предметы, как корни растения, белые и кривые. Был страшен его вид. «Не весь ли народ индусов перед ним?» – думал Истома. И теневые боги трепетали около него темными крыльями ночных бабочек. Мудрец мечтает уйти из области людей и всюду вытравить свой след, чтобы ни люди, ни боги не сумели его найти.
Исчезнуть, исчезнуть. Подобно своим учителям, он должен победить в себе гордое желание стать богом. И если кто-нибудь изумленный назовет его богом, мудрец сурово воскликнет: «Клевета!»
Беги обрядов, ведь ты не четвероног, у тебя нет копыт. Будь сам, самим собой, через самого себя, углубляйся в самого себя, озаряемый умным светом. На высоте, куда посмеет взлететь не каждый стриж, видел воздушные храмы, висевшие ласточкой над грозной пропастью. Синее море билось у подножия пропасти. Как глаз увенчивает собой тело, так же спокойно этот труд человека заканчивал дело природы, просто и строго подымаясь на недоступном утесе.
Видел храмы, множеством подземных пещер вырубленные в глубине каменной первобытной породы. Сумрак вечно царил там местами однозвучно звенели ручьи. Пышно одетые кумиры, вытесанные из камня, толпою теснились вдоль стен и спокойной, равной ко всему, улыбкою встречали путника по подземному храму, покрытые ручьями влаги.
Видел темные толпы слонов, вырубленных из каменной породы, поднявших свои бивни, провожая богомольца по бесконечной лестнице, ведущей на вершину отвесного утеса.
Там и здесь на выступах зданий сидели белоснежные павлины, любимые людьми, но нелюдимые. Насельники запустевших храмов, стая диких обезьян, встречала их недовольным лаем тысячи оттенков и градом брошенных орехов.
Хоботы каменных слонов тянулись вдоль дороги. Храмы, стыдливо прячущиеся за кружевом своих стен, и храмы, несущие свою веру на вершину недоступного горного утеса, чуть ли не за облака, храмы, похожие в своем стремлении кверху на стройную женщину гор, несущую на плече кувшин воды, и храмы, стены которых сделаны синевой реки и белизной облаков, строгие лестницы в глубь неба и в глубь подземного мира, – все они напоминали, что ‹…›
В глубине лесных пещер пустынники, неподвижно протянувшие свои руки к небу, давшие обет не шевелиться. Пространство между ними было давно уже заткано паутиной паука. Мыши безбоязненно пробегали по их ногам, а птицы садились на седую взлохмаченную голову. Послушники кормили старцев.
И рядом поклонники мрачной богини Кали. Шелковой петлей в беззвучной глубине черных рощ, около толстых и гладких стволов, они ловили своих жертв и неслышным поворотом рычага ломали позвонки шеи в честь таинственной богини смерти.
И рядом веры, не знающие храмов, потому что лучшая книга – белые страницы – книга природы, среди облаков, а путь рождение – смерть лучшая молитва. Видел у ворот храма святого; он с отвращением, точно горькое лекарство, пил воду из кружки для милостыни, одетый в одежды, снятые с чумного покойника, трупов. Он говорил: «Нужно плакать, когда мы рождаемся, и смеяться, когда мы умираем». Он снова закутался в свой плащ, снятый с усопших. Около храмов видел бесноватых; с неслыханной силой они разрывали на себе веревки и пытались убежать в лес.
Каждое утро на заре Истома видел молящегося брамина; он стоял на одной ноге, приставив другую к лодыжке, и, повернутый па восток, широко открытыми руками, казалось, обнимал небо. Его черное тело застыло; руки расходились, точно ветки стройного дерева. Он шептал, беззвучно шевеля губами: «Тот Савитар варениам бхарго дхимахи дхно ио нах пракодайтат девазия» («Станем думать о солнечном боге, он взошел осветить наши разумы»).
В то же время крик проснувшегося павлина покрыл пожаром тихую молитву, и зелено-синие звезды на перьях птицы походили на темно-синие глаза неба сквозь древесную листву.
Зеленые сады над развалинами старых храмов, ветки и корни деревьев, впившиеся в белый камень лестницы, походили на учение браминов: все суета, все обман. Не так ли хорошенькую рассеянную головку пишет рука на старой книге в тяжелом переплете?
И то, что ты можешь увидать глазом, и то, что ты можешь услышать своим ухом, – все это мировой призрак, Майя, а мировую истину не дано ни увидеть смертными глазами, ни услышать смертным слухом.
Она – мировая душа, Брахма.
Она плотно закрыла свое лицо покрывалом мечты, серебристой тканью обмана. И лишь покрывало истины, я не ее самое, дано видеть бедному разуму людей. Исканием истины казалась эта страна Истоме, исканием и отчаянием, когда из души индуса вырвался стон: «Все – Майя!» Он хорошо помнил, как он шел в зеленой роще, и вдруг шум крыл нарушил тишину, и на белый столб покрытого зеленью храма взлетел павлин, и ветер белоснежных перьев, поток малых и больших глаз, небом звезд покрывавших серебряное тело, круто падая вниз вьюгой седых морозных звезд, холодных глаз, казались ему собранием глаз великих и малых богов эти страны.
Пять лет провел Истома в Индии. Он был на Яве и видел славные храмы и улыбающегося Будду из меди во столько раз большего человека, во сколько раз человек больше муравья, и темные громады каменных слонов под водопадом. Когда его сильно потянуло на родину, он вернулся вместе с одним караваном, посетил свой остров, но ничего не нашел, кроме сломанного весла, которым когда-то правил.
Грустно постояв над знакомыми волнами, Истома двинулся дальше.
Куда? – он сам не знал.
1918–1919
245. Малиновая шашка
Над страной прокатилось несколько волн.
Прошла та волна, когда железнодорожников и скромных учителей заставляли учить наизусть «Коте мой сирый, коте мой белый, коте волохатый», и те не знали, что им делать, и слезы веселого хохота скатывались на седые усы; прошла и та пора, когда немцы, уходя, дали напоследки грозный выстрел из пушки в зеркало воды, и водяное дерево, увлекая с собой тучу мертвых рыб, вдруг взвилось кверху дыханием кита, сразу обезрыбив пространство речки, а на дорогах неубранными лежали мертвецы с беспомощно запрокинутой кверху рукой, расстрелянные неизвестно кем и когда.
Теперь было время советской волны.
Торговки сиротливо стояли над корзинами хлеба, молодые лавочники таинственно проникали в глубину вашей души в поисках за созвучными струнами и иногда, подсовывая товар, шептали: «Знаете, это, кажется, в последний раз. Я слыхал, завтра будет приказ».
Дул ветер Москвы. Суровый всадник голодающего севера, казалось, с какой-то неохотой вступал в завоеванный край, точно в самом начале встретил женщину с ведрами или заяц с странной храбростью перебежал дорогу. Парус Оки высоко стоял над Украиной, и надпись «я страшен» зияла на нем.
Бежавшие из Москвы, как из зачумленного города, люди, каким-то сплавом бога и черта захватившие места в поезде, и много раз по дороге услышав грустную просьбу от стариков: «Поклонитесь от нас белому хлебу», – точно не надеялись старые седые люди когда-нибудь увидеть его опять, – эти люди с ужасом видели за собой догонявший их призрак Москвы, точно желтые зубы коня низко наклонялись над цветами, срывая цветы. Раем – с пулеметом у входа, чтобы не разбежались, вытянув руки, райские жители, – был север.
Конь гражданской войны, наклоняя желтые зубы, рвал и ел траву людей.
‹…› Ничто не помогало. Не помогали яркие щегольские лубки на углу улиц – взятия Одессы, с похожими на глупую красную гвоздику взрывами снарядов в белых клубах дыма и Бовой-королевичем, завоевателем приморского города. Не помогал и чертеж советских владений с запоздавшей ниткой, как остановившаяся стрелка часов.
‹…› Все изменялось. Люди перестали быть людьми. Эта Кожа одевала их тело, как крышка часов одевает сложный строй колес и гвоздиков, тела людей были заведенные человекообразные снаряды, жестокие куклы, жестокие паяцы, готовые взорваться и ответить расстрелом. И вы, в глухом переулке встречая живой глаз, осторожно отводили его, как натянутую проволоку пороховой засады. А иногда за облаками лиц, за облаками глаз вам чудились хитроумные, полные научной тайны чертежи, постройки рока; и слова и дела были какой-то облачной зарей, харей и личиной на многоугольнике, пружине рока.
Было ли это в поле среди нив, в саду или гостях, два человека встречались, как две заведенные куклы, со страшными написанными глазами, куклы с пружинами смерти в груди, не знавшие, взорвутся ли они от прикосновения руки, от слов «дорогой товарищ, который час?». Смерть проволокой опутывала людей. Старое благодушие, где ты? И в меру уходившей из-под ног почвы подымалась волна молчаливого разгула и расстрелов за нею. Эти расстрелы каждый день печатались жирной прописью. И вот, воскликнув «камо бегу от лица твоего?», вы вдруг бежали из города в глухую усадьбу, в зеленый плодовый сад, где цвели вишни и яблони, ворковали голубки и мяукали иволги.
Но и этот мир уединения, горлинок и иволг перерезывали одинокие выстрелы. Однажды в эту уединенную усадьбу упал камень, на два дня возмутивший ее тихие воды. Приехал П. Отворив ворота и подходя к ступенькам усадьбы, он сделал два выстрела: один в небо, другой в землю – и поднялся на старое, потемневшее крыльцо. Я его когда-то знал.
Белокурые волосы, которые я когда-то знал вьющимися, сейчас по-казацкому были гладко обрезанными под горшок. Голубые глаза смотрели нагло и весело. Губы его узкого, высокого лица твердо и весело усмехались, в крупных зубах было что-то волчье или собачье, лицо, как и раньше, было очень бледным, почти как полотно, только пожелтело.
Балясины мертвого дерева ограды крыльца были обвиты глухими морскими узлами старой лозы, стягивавшей змеей мертвое дерево точеной кругами узора резьбы. Толпы колец и лоз подымались кверху от мертвой петли, падая широко листами многолетней удавки кругом казненных дерев. Две ласточки отдыхали в слепленном из соломы и глины гнезде, непрерывно щебеча, вылетая и прилетая, сидя в нем, точно два челнока, вытащенных на морской берег.
Он сел за стол и расставил локти своего красно-желтого зипуна, от которого было больно глазам.
– Ну, – произнес он, отдуваясь, – вот и я, паны мои! – Он задумался… – Ну, о чем балакать, хлопцы?.. Бачу! – сказал он на тонкие голоса женщин, радостно и хлопотливо-пищавшие за дверью, и засмеялся волчьими зубами.
– Да неужели? Да не верю? Да не может быть? – в один голос, точно давая разученную игру, пели, и прыгали, и визжали сестры; косички их прыгали.
– Спичку, спичку? Маня, дай зеркало, свечу, – порой доносился торопливый шепот.
Вышла старшая сестра, босая, в мещанском красном платочке, с томной закованной улыбкой и лукавой кошачьей походкой, в белом широком парусиновом платье из холстины, немного тучная, чуть тяжелая, с красивым, по-русски правильным на расстоянии, лицом. Только постоянная игра в ее глазах голубо-серых и любовных.
– Эге! Якая ведьма вышла, – важно произнес он вместо привета.
Она села близко против него.
– О чем ты думаешь? – спросила она.
Губы ее дрожали чуть-чуть заметной коварной дрожью, говорившей о внутреннем смехе; так кошка, положив лапу на птичку, вся дрожит и бьет хвостом.
– О чем думаю! Да никаких думушек нет. Моя дума вот: я таким уродился, что хочу все уважать, все, что есть кругом меня. Ну, вот, свинья идет. Увижу свинью и уважаю ее; толста, здорова, добилась своего, идет, песенки распевает. В лес иду, в поле, потому что уважаю его за деревья, за траву; лезу в воду, потому что уважаю реку. Да. Так – так! Я все уважаю. И хочу, чтобы и меня уважали. Да! А ну-ка, хлопцы, як живете – оно, может, не очень? Бачу, всех голубков коршун на зиму поклевал. А ну-ка! Ничего, добрая детина растет, добрая. А подковы гнешь? А штанов еще нет? Прямо тулуп на голое пузо? Бачу – не очень, а ничего, добре!
«Хлопец» широко распахнул голое пузо.
– А бачите что – у меня умерла невеста. – Он строго потупил глаза, точно во время молитвы, и сделался мрачным.
– Какая? Деревянная или оловянная? – невинно спросил хлопец. – Из пряника?
– Да не! Ну что голову морочить, вот приехал к вам, дал 200 верст крюку, а они морочат голову. Совсем заморочили. Невеста и есть невеста.
Вдруг вбежала вторая сестра. Живые черные умные угли-глаза, множество струй недлинных черных волос, рассыпанных по плечам (я видел также эти волосы медно-золотыми – окись водорода), синяя кацавейка, тело оголялось через темно-синюю парусину. Живопись, менявшаяся, как обеды в хороших столовых, покрывала это полное жизни лицо, изменчивые губы. Она подскакивала и хлопала в ладоши, обнимая и целуя.
– Петя, дусенок! Какая дусочка! Боже мой, какая душечка! Как хорошо, что приехал!
Восклицанья взлетали кверху, как птички во время тока.
– Ой, и весело мне, як соловью» в лапах у кошки! – вздохнул он тоскливо, кусая, душа и проглатывая самодовольный смех.
– Ну, скажи, Петро, зачем приехал?
– Да что! Хочется увидеть весь свет, показать себя другим перед смертью.
– Ах, уж умирать собираешься! Так, значит, к невесте? Да? А муки с собой берешь для невесты? Она проголодалась.
– Який бабский вечер: все бабы и бабы и лишь один пышный красивый мужчина, девчоночки мои.
– Ты, дружок, начинаешь заговариваться.
– Ох, и извели меня. Совсем свели с ума. Нет, прочь с глаз, окаянные прелестницы!
– Какой красавец, какая душка! – взвизгнули две сестры.
– Идем в сад, дусенька, идем, у нас цветы есть, сама сажала.
– Не хочу, не хочу, да и все! Вот так сяду и буду сидеть до второго потопа да люльку курить. А ну-ка, хлопцы, дайте огня?
Хлопцев было трое, младший – богатырь телом и ребенок сердцем.
Большой, старый – глиняный, казалось, – череп, похожий сразу и на бабочку и на кувшин, с каким-то усталым, изнемогшим выражением и прямо к небу поднятыми глазами, где застыли мольбы и просьбы, неизвестно к кому обращенные, и старушечьими зубами желудевого цвета, лежал сбоку на столе, указывая, что живопись здесь процветала; здесь был приют живописи.
И вдруг, переведу глаза на старшую сестру с ее роскошными, темно-глинистыми, падавшими кругом стана волосами, стало ясно, что она сегодня Магдалина с черепом в лесной пещере и что какая-то нить связывает их. Во всяком случае, таково было задание сегодняшней очередной постановки. Белое парусиновое платье, темные роскошные волосы, с дикой негой и простотой падавшие волнисто вниз, гладкой волной на грудь, и бесконечно-нежные, стыдливо-голубые глаза, любовно устремленные на гостя, любовно сложенные губы молодой женщины сочно-красного цвета.
Знаете ли, что́ значит спичка в глухой заброшенной усадьбе в плодовом саду? Это бог и царь сельских вечеров. Тысячи лиц, сменяя веснами друг друга, со страниц книг переходили на суточный постой на лицо одной из сестер. Сестры, как трудолюбивые пчелы, работают и помогают друг другу. Звонкий хохот, прыскающий смех, убегающие ноги, чтоб спастись от смеха, порой прерывают их труд. Тысячи разнообразных милых глазок, как цветы, как однодневные бабочки, появляются и исчезают на лице. Лицо делается лугом лиц, где на почве одни цветы сменяют другие и одни души – другие. Сколько сумасшествий от однообразия сельской жизни спасены тобой, закопченная спичка! Как место в поезде занимается то одним, то другим человеком, так живая человеческая голова становится гостиницей путешествующих лиц.
Тихий самодовольный хохот собравшихся был прерван голосом старшей сестры:
– А ну-ка, иди-ка сюда! Да иди, не кривляйся, родимый, а ну, наклони сюда головушку. Крепче! Не кобенься! Положи сюда! Вот так!
Она положила голову на колени и, придерживая ее одной рукою, долго, дрожа красными торжествующими губами, ласкала и гладила ее другой рукой, как ласкают и успокаивают на коленях ленивую жирную кошку. Потом вдруг диким движением хищной птицы, вдруг проснувшейся ночью совы, схватила череп и положила ему на голову.
– Хо-хо-хо! – захохотал гость. – Хо-хо-хо! – повторил он, схватываясь за живот, вскочил с места и, наклонив голову и засунув ее в высокий воротник красно-желтого радужного жупана, в дикой пляске, сделавшись огромно высоким, громадными шагами понесся по крыльцу, выкидывая дикие коленца. Это было страшно. Мне показалось – сама Смерть, темнея громадными глазами, носится по крыльцу и делает слепые прыжки, и, казалось, удивленная тем, что с ней происходит, делала громадные шаги, становясь похожей на летучую мышь днем. Он грузно опустился на скамью.
– Хо-хо-о! Ох, уморили детинушку!
Серебряная шашка лежала с ним рядом на столе; на прекрасном боевом железе была вырезана золотая надпись неведомого летчика и его имя. Серебряная полоса, кто был твой первый господин и как он умер? И купаясь в облаках, падая в воздушные ямы, скользя по серебряным проходам среди облаков, откуда в самом конце облачной глуби, слепой норы – каплями прекрасного голубого огня брызгало небо, о ком на далекой земле ты думал тогда, летая крылатой птицей? И были у нее черные глаза, пара черных цветов на лице, или голубые в шелковых божественных ресницах, светоносным огнем, полным неги, горели они изнутри и любовно и с гордостью смотрели на тебя – победителя небесной синевы, и голубое девичье пламя, ясным светом открыв весеннее окно, горело у ней в глазах.
– Полк подарил, – сказал гость и тронул шашку. – Сам зарубил гада! – похвалился он после. – Да, были дела.
Трое хлопцев присоседились к оружию, отколовшись от старших. Правда, не во всякую дверь мог бы пройти младший.
– Вот поеду на Карпаты – там галичане, забуду в чистом воздухе гадкий порошок кацапов – ой и дурной же, в Москве все извозчики, клюя носом по вечерам, закладывают им ноздри и одобряют и возносятся на небо, забыв про овес и конный двор. «От него душа веселится и уходит небо». А там ведьмочки-панночки. Ну, найду добрую дивчину, вот як ты али ты, голубую снегуру с крупными глазами, и путцу корни в землю. Пора, довольно перекати-поля. И время. Довольно. Побачил всего.
Старшая сестра положила на темный шелк своих волос темный умный черен. Две головы за гранью времени в каком-то зеркале отражены стояли – одна над другой.
– Ну теперь, Барышня Смерть, здравствуйте!
Она встала босая с распущенными волосами и двойной страшной головой, золотисто-голубые в черную точку глаза блестели, окруженные роскошным светом. Белое платье было торжественно, золотые роскошные волосы странно зажигались тысячами огней. Невидимый свет окружил ее стройное, немного тучное тело. Темный умный череп смотрел торжественно большими глазами. Дыхание тайны носилось в воздухе, трепеща крыльями над семью людьми.
– А впрочем, невеста не умерла! – произнес гость, закуривая трубку и переменяя положение ног.
– Голубчик! Жива?
– Жива и вышла замуж.
Темный череп стоял, как на жертвеннике, на темных, одного цвета с ним, распущенных волосах красавицы. Она беззвучно улыбалась, поджав губы, готовые прыснуть от смеха.
Если тайна живописи возможна на холсте, досках, извести и других мертвых вещах, – она возможна, разумеется, и на живых лицах; и были сейчас божественны ее брови над синими глазами, вечно изменчивыми, как небо в оттенках, в вечной дрожи погоды, роскошно алым темным цветком пышных уст.
– Бычка! – подскочил один из братьев и, взяв окурок, роскошно и шумно вдувая воздух, наслаждаясь, затянулся.
– Что, не бачили меня видеть? О чем я? Да… Ну вот, вроде есаула я был в конном отряде. Петлюровцев колотил. Все у меня были: и китайцы, старообрядцы, спартаковцы, венгры. Хорошие, боевые ребята были. Врываемся в город, песни играют, кто во что одет: в черные бурки, сермяги, алые жупаны – прями сброд, но у всех на шляпе червонные ленты вьются. Лихие люди. Старообрядцы – молодцы ребята!
– Да неужели? И ты не врешь? – захохотала старшая сестра. – Так ты настоящий воин, богатырь на коне.
Кошачьи глаза опять смеялись, и щеки ее прыгали.
– Едем, свищем, а червонные ленты на соломенных шляпах, либо по плечам, червонеют, як невиданные птицы крутятся, скачут в поле – дикий вид, а молодецкий. Так в кумачах едем. Как песни грянем – стон стоит. Ну, я без малейшей дрожи гадов на тот свет шлю. Вы что думаете – шутка? БойГ сердце колотится – у как! Як птичка выпрыгнуть хочет. Як дрова, сплеча рубишь, засекаешь гадов, а после ходишь сам пьяный, весь шатаешься, пьянеешь боем, стоишь как столб, голова кружится, ничего в это время не помнишь.
– Ничетошеньки? Неужели?
– Гордо так ходишь, озираешься. Балакают, бывают пьяные богом, ну а мы так пьяные боем. Конница налетает вовсю, спасаясь от главного удара пехоты, углом идет бой. Удар боя направлен в одну сторону. На иноходце летишь, жупан кровью, кажется, горит, в руке шашка, пальба по врагу, пыль, о-о, а-а-а! – рев стоит, и хлопцы с красным и лентами в пыли несутся. Режут, бьют все, что по дороге. У, страшно говорить! Эх, милое дело! Да, я уже не тот, много видел, гадам мстил. Честно скажу: не жалел.
– Да ну же? Да ты истинный русский воин! Сирот опора!
Он сидел грустный, опустившийся, развалясь.
– Ого-го, милейший! Наверное, сидел в обозе или в тылу сеном торговал, а сюда приехал и доказывает и нос выше держит, знаем! – загорячились мальчики, споря о чем-то и доказывая.
– Ну, не верьте, если не хотите, ну, не хотите – не верьте. Знал сербов – удивительно чистые души, и все черноокие. Ну и гуцулы хороши, с павлиньим пером на соломенной шляпе, дерутся до последнего.
Изучавшие со всех сторон шашку хлопцы вдруг радостно захохотали.
– Ну вот… Что вы хлопцы? О чем гремите?
– Хо-хо-хо! Вот так шашка! Ну и шашка! Даже кровь на ней есть… И такая чистенькая, молоденькая, точно барышня, – новенькая кровь! Он ходит и головы срубает, а потом присядет к окну, сгорбится, как кузнечик, и малиновой краской шашку выводит. И кровь в лавке покупает или дарят возлюбленные.
– А что, разве я вру? Докажи, что я вру?
– Кровь ржавеет, а здесь новенькие красные пятна, еще свежие.
– Какая дуська, какая дуська! Шашку раскрашивает! – торопливой скороговоркой заговорили сестры.
– Вот не думали! Ты подумай только: шашку раскрашивать! Это надо! Дай я обниму тебя. – Она встала и, тучная, толстая, но страстная – протянула к нему руки старой многолюбицы.
– Ну нет, спасибо.
– Раз, только раз, ну, дусенька, раз!
– Поцелуй на расстоянии – тогда согласен. – Он тихо смеялся и закрывался руками, прятался под стол от по-прежнему протянутых рук.
– Ну, дуся, – разок, только разок!
– Да нет же, на расстоянии, ради бога! – прятался он.
– Ну, как хочешь, ну, не хочешь, не надо. А все же дуся! Дуся и дуся! – Она вынула иголку и нитку.
– А расстрел так: подходишь и – бац! Прямо в лоб стреляешь – валишь! Оно скверно бывает, когда выстрелишь в лоб, а людына все-таки как столбец стоит, ни с места, и только кровью глаза запачканы. Что ж! Выстрелишь второй раз по кровавому лбу.
– Какой врун! Какой лгун! Боже, какой лгун! Покажи свои глаза окаянные, – разгорячились сестры, – свои томные, голубые очи – мужчины, великолепного красавца и убийцы!
– Хо-хо-хо! Вот так шашка! Это он подводит себе совесть, подведенная ты душа! Вояка ты, вояка! Там была дивка; я замахнулся – она как завизжит! Смотрю – красная кровь!.. Я думал взаправду кровь, даже испугался сам, смотрю-смотрю, а там на железе красная краска, еще пальцем растерта и отпечаток двух пальцев… Вот миляга! Сидел у окна сгорбившись, трудился, наводил.
– Хо-хо-хо! Миляга – намазал шашку и всем рассказывает, что это кровь, хочет быть страшнее!
Третья сестра. Кузнечик! Обожаемый, тебя обажаю! Красить шашку, ну подумайте только!
Она была восторженным существом.
Вторая. Дружок, я тебя не узнаю, еще сегодня храбрый воин, и вдруг – паяц!
Хлопец. Тоже – художник на шашке! Знаем вашего брата: продувная братия.
– А что? Я учился живописи не закрашивать же мне губы? Я ведь не женщина!
– Они у вас бледные, как земля, а теперь горят как огонь.
– Ну, а мы целуемся шашками. Цокаемся. Ловкие, сердитые поцелуи на морозе. Я не скрываю, что это краска, а не кровь!
– Дружок, а про расстрелы – может быть, тоже живопись на лезвии молчания? – Она наклонилась к нему и, обняв его голову руками, захохотала. – Так вот ты кто? Трудится, как художник, на лезвии шашки головки золотоволосые выводит. Ах, ты, миляга, миляга! Сердечная душа.
– Воображаете ночную темноту, и два всадника целуются шашками?.. Ночь молчит. Какая дуся! Какая дуся! Кругом трава выше человека…
– Не верите, как хотите! Это в порядке вещей: вы, женщины, красите себе губы, а я свою шашку, что тут неестественного? Ну, довольно!
Он туго затянул голову, платком и надел череп, поддерживая рукой. Его дикие скачки слепого во все стороны разогнали всех и заставили жаться в угол. Страшные жмурки! Высокая дикая тень, размахивая руками и с бледным черепом, металась по крыльцу и вдруг разразилась неожиданным крепким гопаком, так что тряслись половицы. Он сбросил жупан на землю и был страшен, в голубой шелковой рубашке, дико расставляя ноги, размахивая костлявыми руками.
Этим воспользовались братья и, будучи дюжими ребятами, схватив за ноги и за руки, немедля вынесли воина в сад. Волны мужского хохота доносились оттуда. «Охо-хо-хо!» – задыхался один. «Ох-ох-ох!» – задыхался от смеха другой. Все тонули в сумерках. «Кузнечик, кузнечик, – неслось оттуда, – настоящий кузнечик!»
Они принесли мертвого кузнечика за ноги и за руки на крыльцо.
– Ну, будет! Довольно. Будет. Уеду в Галицию! Там нявки есть: спереди белогрудые женщины, как простые смертные, а сзади кожи нет, и все потроха видны, красное мясо. Точно часы без крышки. Страшная русалка, и тоже глаза подведены. Ух, ее лешие не любят. Ловят – и прямо в огонь.
<Третья сестра>. Ну, кушайте, вот лапша, молоко и все. Знаете, когда суровый воин ест, он удивительно походит на кузнечика, в особенности рот – твердый, тонкий, узкий, и жадные большие глаза. Ну, совсем, совсем живой кузнечик, так взяла бы – и на булавку. Хо-хо-хо! – на булавку.
– Кузнечик так кузнечик! А вареники добрые. Как надо вареники! С вишней, молодуха? У художников глаза зоркие, как у голодных. Добрые вареники, белые, жирные, как молодые поросята! Я уж десяток послал себе в рот.
– Вот бы взять такого поросенка и шлепнуть по губам, чтоб замолчал, а то трещит, не зная что!
– Какой невежда, какой наглец, уходи из-за стола! – вспылила сестра.
– Тпру, голубушка, стой, уходи сама, если не по душе.
– Нет, подумайте, какой невежда: гостя и так называть. Как ты смеешь! Мальчишка, нахал, щенок, уходи из-за стола!
– Вот и гости! На войне – едешь грозой гадов, шашка над головой, полполка под твоим началом, иноходец почетный, белый конь, а в гостях хлопцы за ноги выносят в сад и голодным кузнечиком зовут. Где же все величие? Бедная моя слава!.. А дюжие хлопцы! Приезжайте, возьму к себе.
– Ну что, как? – загадочно и коварно спросила старшая сестра.
Первая. Душка! Милый!
Вторая. Божественный, обожаемый!
Первая. Как я его люблю!
Вторая. Как я его люблю!
– Идем чай пить!
– Ну, братья и сестрицы, что вам рассказать? Вы меня варениками, а я рассказами. Товарообмен. Ну, вот, взяли город. Много их там. А ну-ка, песню к горячему самовару.
Грянули песню.
– Город взят. Начинается расстрел гадов. Я пощады не давал.
– Ого-го! Так, верно, и ходит, и отрубает головы по дороге.
– А что, вы думаете, сробею! Мало вы знаете меня, судари мои! Откуда у меня серебряное оружие?
Старший брат. Докажи! Он по речке, наверно, ходил – как увидит лягушку, так голову и отрубит – вот и говорит, что рубил гадов. Ужа увидит, тоже загубит малиновой шашкой. Таких гадов зарубано, что только речка плакала. Ходил и думал, что это люди.
Старшая сестра. Так как же? Таких гадов загубил или нет? Отвечайте же! Боже, какой глупый!
– Ну, опять попал в бабью неволю. Начинается бабья власть.
Третья сестра. На огонь прилетел, как бабочка.
Старшая сестра. Ты – истинный друг!
– Едешь на иноходце, кругом хлопцы спивают: «Ох, яблочко малосольное, ох вы, девушки малохольные!» – да так грустно, что за сердце возьмет. Ленты развеваются. Кругом дивчины, да еще якие, черноокие, живая сказка в плахте, и пищат: «Який червовый жупан. Да какой красивенький! Ой, мамонька, якой красивый!» Имел успех. Не пользовались. Едешь себе и свищешь.
– «Ок, я страдала… – загремели из сада голоса заглядевшихся девушек с лопатами па плечах. – Уж и застрадала! Увидала и застрадала!»
– Есть у меня черкеска, оружие. Для воина все есть.
– Ну, так как же, правда, что ты 90 гадов убил?
– Девяносто не девяносто, а за тридцать ручаюсь.
– И не жалко?
– А меня жалели? Это было в Чернигове: мы сидели в остроге и ждали смерти. Брат налетел с четниками, ворвался в город на броневике, разбил острог, взял меня. Спаслись… Все видал. Сам будешь такой. Душа подрастет. Вы ребята, а души младенцев! Чи я баба, чтобы жалеть? Вы, бабы, льете слезы, мы льем кровь – каждому свое. Люди душат друг друга за горло – кто скорее? Не ты – так тебя. Ну вот. Одежды мало, ее нужно беречь, одежду снимаем, оставляем в белье. Приходят в опилках, сене, где кого поймали: в стогу, копнах, в подполье. Раз было – привели пять заложников, поставили босыми, в белье, выстрелили, один убежал. Считаем – все лежат, одного нет. В лес ведут красные следы от раны. Ну, раны – все равно подохнет в лесу. Пес с ним! Туда ему и дорога. Через двое суток приходит в избу: течет кровь, в белье, босой, хохочет и говорит: «Я таки убежал. Расстреляйте меня! Только сейчас». Ну, я не неволю.
– Ну, так как же, отвечай: было дело или нет? А то выпорю…
Как, П.?! Неужели тот самый, который по Москве ходил в черной папахе, белый, как смерть, и нюхал по ночам в чайных кокаин? Три раза вешался, глотал яд, бесприютный, бездомный, бродяга, похожий на ангела с волчьими зубами. Некогда московские художницы любили «писать его тело». А теперь – воин в жупане цвета крови – молодец молодцом, с серебряной шашкой и черкеской. Его все знали и, пожалуй, боялись – опасный человек. Его зовут «кузнечик» – за большие, голодные, выпуклые глаза, живую речь, вдавленный нос. В свитке, перешитой из бурки, черной папахе ‹…› он был сомнительным человеком большого города и с законом не был в ладу.
Некогда подражал пророкам (вот мысль – занести пророка в большой город с метелями, – что будет делать?).
Он худой, белый, как свеча, питался только черным хлебом и золотистым медом, да английский табак, большой чудак, в ссоре с обществом, искавший правды. Женщины-художницы писали много раз его голого, в те годы, когда он был красив.
Хромой друг, который звался чертом, три раза снимал его с петли. Это было вроде небесного закона: П. удавливается, Ч. снимает.
Известно, что он трижды обежал золоченый, с тучами каменных духов храм Спасителя, прыгая громадными скачками по ступеням, преследуемый городовым за то, что выдрал из Румянцевского музея редкие оттиски живописи.
Любил таинственное и страшное. Врал безбожно и по всякому поводу.
1921
246. Утес будущего
Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.
Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.
Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.
Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.
Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром, – лебедь этих времен.
На крылечках здания сидят люди – боги спокойной мысли.
– Второе море сегодня безоблачно.
– Да! Великий учитель равенства – второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать. Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.
– Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпа́л нас курганами.
– Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум, точно простыней.
– Именно, мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.
Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека – небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.
Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды – понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце, – это значит дать день искусственной ночи своего государства; перестроить струны государства, большого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.
Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.
– С вами спички еды?
– Давайте закурим снедать.
– Сладкий дым? Клейма «Гзи-Гзи»?
– Да, они дальнего происхождения, из материка А.
Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.
Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.
Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава, – часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.
Счастье людей – вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.
Оно – слабый месяц около Земель вокруг Солнца, коровьих глаз, нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.
Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения.
Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.
Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки в пустом покое, темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое «нет». Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его стены.
Построили в сердце звериные города.
Казалось, человек захлебнется в углероде себя.
Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.
Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.
Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, ее спящую душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.
И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.
1921–1922
247. <Две троицы. Разин напротив>
На гордом уструге «нет-единицы» плыть по душе Разина по широким волнам, будто по широкой реке, среди ветел и вязов, сидящих бакланов, среди плавающих баб-птиц, править челн поперек волне, поперек течению, избрав Волгой его судьбу, точно орел жестким клювом, оконченную плахой, но дав жизни другое течение, обратное относительно звезд над нею, перерезая время, наперекор ему, от калмыцких степей к Жигулям, плывя через шумящий поток его Я. И скрягой считать прозрачные деньги волн, плеск волн, когда призрачный уструг «нет-единицы» тихо плывет по реке Разина поперек естественного течения природы времени его Я, в искусственном направлении, среди черных Жигулей воли, от низовьев простой головы, лежащей в своей думе на секире, под расстрелом глаз вдруг задумчивой толпы, до истоков жизни молодого донца в Соловках, перерезавшего поперек всю Россию, всю русскую равнину, чтобы подслушать северные речи, увидеть северные очи, в поисках северного бога, бога Севера, до пути молодого донца на Днепре, где, стоя над омутом, выкликал, языческой удалью глаз весело вызывал из голубой волны русалок, прижимавших к водяным кудрям столько громких имен из древни<х> летопис<ей>.
Недаром хохочут холмы: «Сарынь на кичку!» и оси корня из мнимой «нет-единицы» русалок протянуты к «да-единице» <людей>.
Недаром и до сих пор Волга каждую ночь надевает разбойничий платок буйной разинской песни и, голубая красавица, смотрит, как заря зажигает кумачовой раннею спичкой сумрак лесов.
От кончины плыть к молодости: с секиры широкой, как язык коровы, прыгнула и соскочила, вот голова становится на плечи и покрывается призраком огромных богатырских кудрей; «Эй, держи около!» – кричит она, приставив кулак к богатырскому рту.
Населить свой парус, свою лодку юношей-моряком – отрицательным Разиным – то в шишаке, то в кумачовой рубахе настежь, так, чтоб грудь великих замыслов была распахнут<а> настежь, и оттуда смотреть в темную глубь реки – в темный мир омута, смотреть на тени, брошенные убегающим, испуганным раком, – быть лодкой мертвецу, умноженному на «нет-единицу».
– Эй! Двойник-Разин, садись в лодку Меня, из кокоры моих суток, на скамейку моей жизни.
Отрицательный голубой Двойник-Разин, пепел заклятий сыплется на тебя из моих рук.
Будь черной пашней сохе моей воли, точно покрытая бляхами уздечка, надетая на голову дикого коня-неука, покорись моей воле!
От красной плахи и каленного добела железа предсмертных пыток и великого моря смерти, куда влетела Волга этой жизни, волжской птицей в клетке, разметав буйны волосы, плыть к первым негам юного Я, молодого дикого южно-русского богатыря, жадного до неба, искавшего устоев правды в шуме волн у камней Ледовитого моря, под мощным гомоном тысячи тысячей государства птиц, возводивших стройную постройку храма – камнями плеска крыл, камнями голосов.
Никто бы не узнал в молодом богатыре, слушавшем на берегу ночного моря голоса летевших журавлей, лавину победы в их голосах, читавшем летучую книгу, ночные страницы ночных облаков, будущего сурового и гордого мятежника, писавшего соседним царям насмешливое «любезный брат».
Вещие глаза еще мальчика, с первым пухом на губах, были подняты широко открытыми лесными озерами навстречу вещим голосам птиц, голосам оттуда, может быть кричавшим оттуда: «Брат, брат, ты здесь!»
Там он искал те оси постройки человеческого мира, главные сваи своей своеверы, которые потом мощными сваями вбивал в родную почву, страну отцов, родной быт.
Это не был главный яроста нескольких столетий, наследник земли отцов. Это был мальчик-пустынник, мальчик-отшельник, с тихими задумчивыми глазами, пришедший от своего моря к морю Ломоносова. Наводнение неба черным кружевом стай, какой-то ледоход в небе, серые льдины птиц, стройные косяки государства, томительно-трубные клики на воздухе. Стремительный потоп несущихся черных Млечных Путей, призраки летучей воздушной конницы, узоры точек и военные крики небесной пехоты, летевшей на приступ весны, певучие полки, брошенные на завоевание весны трубными голосами журавлей, перерезав мир звонкими кликами, брошенные на приступ замка зимы войною песен, весеннее небо Севера навсегда отразилось в больших пустынных глазах Разина, глазах юноши-пустынника, пешего путешественника у берегов Ледовитого моря.
Это были две Троицы: зеленая лесная Троица 1905 года на белоснежных вершинах Урала, где в окладе снежной парчи, вещие и тихие, смотрят глаза на весь мир, темные глаза облаков и полный ужаса воздух несся оттуда, а глаза богов сияли сверху в лучах серебряных ресниц серебряным видением.
И Троица 1921 года в Халхале (Северная Персия), на родине раннего удалого дела Разина. За Пермью, у крайней северной точки веток Волги, на переломе Волги и текущих к северу рек Сибири, прошла первая Троица. У каменного зеркала гор, откуда прочь с гор, с обратной стороны бегут реки в море, любимое с севера Волгой, там прошла вторая Троица поворотного 1921 года.
«Знаем, своему богу идут молиться», – решили северяне пермской тайги, когда в черных броднях и поршнях, с ружьем за плечами, с крошнями на ремнях за плечами, мы уходили перед Троицей на месяц, лесовать на снежных вершинах Конжаковского камня, искать лесное счастье, мечтая о соболях и куницах, и неведомая снежная цепь манила и звала нас.
Речка Серебрянка летела по руслу, окутывая в свои снежные волосы скользкие черные камни, обнимала их пеной, как самые дорогие любимые существа, и щедро сыпала горные поцелуи, и, прислонив к ней ухо, можно было слышать ауканье девушек, живой человеческий смех и старые песни русских деревень в мгновенной бездне нити проворной речной волны.
Кто у кого брал струны и человеческие голоса – река или село?
Как мчится и торопится скороход с зашитым в поле письмом – хранила река в голубых волнах письмо к Волге, написанное Севером.
Кто-то смеялся там, в глубине вод, и задорно кричал удалое лесное «ау!» ему, наклонившему сверху лицо, пришельцу оттуда, из мира людей. Когда река отступала от русла каменной щели, на полувысохшем русле мокрой топи можно было увидеть свободно набросанные широкие когти, отпечатанные медведем, изданные рекой в роскошном издании с широкими полями, с прекрасными концовками сосен, в обложке песчаных берегов и снеговых отдаленных гор с черной сосной наверху.
Эти вдохновенные песни древнего лада, маленькие песенки, полные дыхания жизни, по которым можно бы судить, сколько творцу лет, куда он шел, в каком был настроении, был ли сердит или задумчив, казалась ли ему вселенная мрачным проклятием или благовестом, полным горошин серебряных слов, шашкой пьяного по голове или задумчивым рукопожатьем ночью, – были напечатаны издательств<ом> леса на книгах черной топи.
Не только свои медведи, но даже охотники умеют читать эти частушки в издании топких болот, от первых времен мира.
Какая Лаура прочтет песни лесного Петрарки?
А мы идем против реки все выше и выше, на суровые потолки гор…
1921–1922
248. Перед войной
– Через два месяца я буду убит! На прусский лоб! Ура! Урра! – крикнул прапорщик, размахивая шашкой.
– Ура, – повторяли остальные, подымаясь с мест и вежливо и участливо смотря ему в глаза.
– Смерть наверняка! Урра моей смерти! – лихо крикнул он, волнуясь и, казалось, захлебываясь от счастья. Винная заря малиновой темью выступила ему на щеки, ему, мертвому без проигрыша через два месяца! Он стоял и говорил. Голая шашка купалась вверху, рассекая воздух, разрезая сумрак лезвием, – гражданка грядущей вой ны. Она бесстыдно плясала, скинув последние шелка, и, повторенная в глазах, отражалась в зеркалах подвала, переполненного военной молодежью, на серебристых плоскостях, делавших стены и потолок подвала; весь подвал походил на зеркальный ящик. «Боже, царя храни», – пели медные горла дуд, вдруг вспомнившие о себе.
Вышли на мороз. Сели кататься, носиться по Москве, далеко за снежными заставами. Вино в руках. Люди в свежих могилах цветов и зверей, с ног до головы одетые в могилы: разве не овца, белокурая и милая, грела дыханием смерти шею поручика, – разве не братская могила льнов Псковской земли белым полотном рубашки выступала на руке, державшей вино? Точно братское кладбище, засыпанное снегом? Разве не темный зверь, с другого конца земного шара, из темных лесов Америки, прильнув к черепу художника, бросил живую дышащую тень и на лоб, и на суровую морщину, и на горящие глаза художника? Он, раньше скакавший в листве за сонными птицами, теперь согревал человека черной могилой, теплой ночью мерцающих пушистых волос, черным сиянием густых лучей и, воин после смерти, защищал человека от копий мороза. Жизнь в хижине из чужой смерти, эти люди, в шкурах свежевскопанных могил, готовились сделать прыжок в смерть, чтобы где-то там стать, вернув долг, почвой для растений, дровами для травоядных печей.
– Долг будет выполнен, – все повторяли это слово.
Какая корова, черно-пегая или белая, затопит свое вымя, висящее до земли, душой этого поручика? Какое поле – может быть, голубых незабудок, может быть, золотых лютиков, станет второй душой поручика? – этой горсти земли, похожей на разумные часы, волной, упадающей обратно в черную землю, на шепот земли, вдруг услышанный ухом: «Сын! вернись! мне необходимо тебе что-то сказать!»
Ехали, хмуро и весело молчали. Поручик иногда вставал, и голая шашка на ходу описывала в воздухе какие-то знаки, вроде восьмерки.
Самокат опоясал Москву, раздувая на ходу трубку снежной пыли, испуская стоны раненого зверя. Несколько приговоренных к смерти наступавшей войной сидели за стеклянной темницей внимательными божествами бега. Чудовище летело, подняв над собой какую-то стеклянную Ярославну, лежавшую в глубоком обмороке, подымая черными могучими руками ее стеклянный стан, как сумасшедший арап, не найденный в песнях Пушкина, умыкающий свою добычу.
– Хрро! – дико хрюкнуло чудовище, прокалывая тьму холодными белыми клыками. Встречные отвечали ему стоном дикого гуся и исчезали в морозной неге. Я гадал о войне. Что она для людей? Большое бо-бо? В час ночи, на пути домой, застава около Ворот Славы была снесена со столбов запыхавшимся чудовищем. Мы похлопывали по шее дрожавшее и умиравшее животное, упавшее на колени. Городовые, сделавшие засаду, переписывали наши имена, не совсем довольные тем, что все мы стоим на ногах. Ничуть не удивляясь тому, что мороженое бревно, поперек наших горл, не размозжило наших черепов, мы сошли на снег со сломанного чудовища, полного предсмертной дрожи, издыхавшего рядом; оно было ранено и разбило свои глаза, очаровательные в своем блеске, протыкая вилами черный стог ночей и бросая его через голову.
Теперь я знал, какою будет война: мы вылетим из своих мягких сидений в бешеном беге, сойдем на землю, но застава будет сорвана! Мы видели эту заговорщицу позорно лежащей в снежной пыли, мы щупали наши головы и видели, что они прочно сидят на плечах.
Это маленькое письмо из будущего, незаметно для окружающих ловко врученное случаем, вдруг показало мне войну в себе. Еще не дошедший до нас великий чертеж громадного здания войны, вот он, точно два-три слова, намечающие смысл большого труда.
Я умею угол великих событий, отделенных временем в несколько лет, видеть в маленьких чертежах сегодняшнего дня. В этом крушении были черты, освещавшие будущее.
Да, мы были около самой вершины угла, и маленькая прямая нашего крушения сменялась великанской прямой войны, пересекавшей стороны чертежа под тем же углом, как и прообраз. Да, застава будет сломана! хотя мы и сойдем на землю.
Я добрыми глазами смотрел на друга, когда он читал: «Я тебя, пропахшего, раскрою отсюда до Аляски», – и его могучий голос страшными объятиями крушил детские хребты понятий, еще не хотевших умирать.
На лицах понятых было написано «наша хата с краю». Чугунные тела Ворот Славы, держа трубы, смотрели на нас… Война, нарастая в звуке своей мощи, точно гудок встречного поезда, метала тузы лучших полков, распечатывала все новые и новые колоды людей. Спасаясь от головной боли, проигравшийся игрок облаком замотал голову. Этот кумачово-красный платок придавал ему восточный вид.
Звук войны достиг той высоты, грани слышимого, когда ощущение звука переходит в ощущение боли, и часто можно было видеть среди бросившихся прочь, шарахнувшихся улиц остановившийся 6-й или 13-й, полный раненых.
«Все умрем», – слышал я глухой суд из рядов красавца-полка, деловито уходившего на запад. В страшную печь бросались все новые и новые возрасты. Изредка из черных освещенных зданий доносились шумы грустной и могучей молитвы: это пели тысячи грудей уходящих… «Но ведь с той стороны ему тоже молятся», – подумал я. И вдруг передо мной мелькнул образ маленького жалкого китайца, которого сразу несколько рук дергают за косу, – что ему делать в этой толпе? Мне стало жалко того, кому молились. Кол из будущего надвигался на улицу, полную запаха вчерашних слов и понятий. Лишь верхние чердаки спаслись от потопа других времен. Подвалы были затоплены.
Я шептал проклятия холодным треугольникам и дугам, пируя над людьми, подымавшим ковши с пенной брагой, обмакивавшим в мед седые усы князей жизни, и видел, как кулак калек подымается к их теням с тою же глухой угрозой. Я отчетливо видел холодное «татарское иго» полчищ треугольников, вихрей круга, наступавшее на нас, людей, как вечер на день, теневыми войсками, в свой срок, как 12 часов войны; я настойчиво помнил, как чечевица, наполнявшая котелки пехоты, вдруг стала чечевицей лучей мести, собрала в одну точку и зажгла, как хворост.
Я помнил, как по рядам войск пробежало сначала крылатое слово: «тут-то оно и сказалось», произнесенное весело, с лукавым видом взаимного понимания, вдали от начальства, бородатым дядьком, а потом: «бабушка надвое сказала», угрюмо произнесенное суровым боевиком, как отблеск надвигавшейся кровавой зари, две трещины, пересекшие мир того дня.
«И не к «войне ли до конца» относилось это загадочно-суровое «бабушка надвое сказала»?» – невольно спрашивал я себя. Может быть, число, может быть, треугольник был пастухом этих двигавшихся на запад волн. Не он ли расставил громадные прутья железной мышеловки?
Всей силой своей гордости и своего самоуважения я опускал руку на стрелку судьбы, чтобы из положения внутри мышеловки перейти в положение ее плотника. «В игре в дураки кто кого оставит в дураках?» – спрашивал я себя.
Я помнил, как шепот «царь проедет» собирал толпы на углу Тверской. Скороход огромного роста, на аршин выше среднего уровня платков и котелков, передвигался в ней, городовые заботливо наводили порядок.
Вдруг коршун, зорко, как сыщик, выискивавший кого-то в толпе, два раза пронесся над ней и, точно не найдя, что ему надо, отлетел прочь, скрытый крышами. И только когда промчалась запряженная черной парой коляска царя и мелькнуло его лицо, коршун неожиданно вылетел снова и, опустившись над самой головой царя – точно выполнив поручение, – быстро поднялся и исчез. Точно опущенный палец вдруг указал на кого-то, а голос произнес: «Вот он». «Коршун», – разочарованно повторяли многие, и праздник встречи был испорчен, сорван внезапным приходом нового действующего лица.
20 января 1922
249. Ветка вербы. День вербы – ручки писателя
Я пишу сейчас засохшей веткой вербы, на которой комочки серебряного пуха уселись пушистыми зайчиками, вышедшими посмотреть на весну, окружив ее черный сухой прут со всех сторон.
Прошлая статья писалась суровой иглой лесного дикобраза, уже потерянной.
После нее была ручка из колючек железноводского терновника. Что это значило?
Эта статья пишется вербой другим взором в бесконечное, в «без имени», другим способом видеть е<го>.
Я не знаю, какое созвучие дают все вместе эти три ручки писателя.
За это время пронеслась река событий.
Про родину дикобраза я узнал страшные вести.
Я узнал, что Кучук-хан, разбитый наголову своим противником, бежал в горы, чтобы увидеть снежную смерть, и там, вместе с остатками войск, замерз во время снеговой бури на вершинах Ирана.
Воины пошли в горы и у замороженного трупа отрубили жречески прекрасную голову и, воткнув на копье, понесли в долины и получили от шаха обещанные 10 000 туманов награды.
Когда судьбы выходят из береговых размеров, как часто заключительный знак ставят силы природы!
Он, спаливший дворец, чтобы поджечь своего противника во сне, хотевший для него смерти в огне, огненной казни, сам погибает от крайнего отсутствия огня, от дыхания снежной бури. Снежная точка закончила эту жизнь. В его голове стояла изба его родины – из хороших туманов и хороших воинов. Не успев это сделать при жизни, он сделал это после смерти, когда хорошие воины за его голову получили хорошие деньги. Когда я бывал в этой стране в 21 году, я слышал слова: «Пришли русские и принесли с собою мороз и снег».
А Кучук-хан опирался на Индию и юг.
Но самое крупное светило на небе событий, взошедшее за это время, это «вера 4-х измерений» – изваяние из сыра работы Митурича.
30 апреля 1922
Статьи. Декларации. Заметки
250. «Пусть на могильной плите прочтут…»
Пусть на могильной плите прочтут: он боролся с видом и сорвал с себя его тягу. Он не видел различия между человеческим видом и животными видами и стоял за распространение на благородные животные виды заповеди и ее действия «люби ближнего, как самого себя». Он называл неделимых благородных животных видом своими ближними и указывал на пользу использования жизненного опыта прошлой жизни наиболее древних видов. Так, он полагал, что благу человеческого рода соответствует введение в людском обиходе чего-то подобного установлению рабочих пчел в пчелином улье, и не раз высказывал, что видит в идее рабочей пчелы идеал свой лично. Он высоко поднял стяг галилейской любви, и тень стяга упала на многие благородные животные виды. Сердце, плоть современного порыва человеческих сообществ вперед, он видел не в князь-человеке, а в князь-ткани – благородном коме человеческой ткани, заключенном в известковую коробку черепа. Он вдохновенно грезил быть пророком и великим толмачом князь-ткани, и только ее. Вдохновенно предугадывая ее волю, он одиноким порывом костей, мяса, крови своих мечтал об уменьшении отношения , где ε – масса князь-ткани, а ρ – масса смерд-ткани, отно сительно себя лично. Он грезил об отдаленном будущем, о земляном коме будущего, и мечты его были вдохновенные, когда он сравнивал землю с степным зверком, перебегающим от кустика до кустика. Он нашел истинную классификацию наук, он связал время с пространством, он создал геометрию чисел. Он нашел славяний, он основал институт изучения дородовой жизни ребенка. Он нашел микроб прогрессивного паралича, он связал и выяснил основы химии в пространстве. Довольно, сему да будет посвящена страница, и их несколько.
Он был настолько ребенок, что полагал, что после пяти стоит шесть, а после шести – семь. Он осмеливался даже думать, что вообще там, где мы имеем одно и еще одно, там имеем и три, и пять, и семь, и бесконечность – знак бесконечности.
Впрочем, он никому не навязывал своего мнения и, считая его своим лично, признавал священнейшее право всякого иметь мнение противных свойств.
(О пяти и более чувствах.)
Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?
Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?
Есть некоторое много, неопределенно протяженное многообразие, непрерывно изменяющееся, которое по отношению к нашим пяти чувствам находится в том же положении, в каком двупротяженное непрерывное пространство находится по отношению к треугольнику, кругу, разрезу яйца, прямоугольнику.
То есть, как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия.
Оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты.
Далее, точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, а треугольник непрерывно превратить в восьмиугольник, как из шара в трехпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов – например, слуховое и зрительное или обонятельное – переходят одно в другое.
Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им.
При этом, непрерывно изменяясь, он образует некоторое одно протяженное многообразие, все точки которого, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира.
Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании больного мозга?
Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, спешит, прыгает через перегородки, не надеясь спасти целого, совокупности многих личных жизней, но заботясь только о своей, когда в голове человека происходит то же, что происходит в городе, заливаемом голодными волнами жидкого, расплавленного камня, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого с страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ. А может, в сознании всякого с той же страшной быстротой ощущение порядка А переходит в ощущение порядка В, и только тогда, став В, ощущение теряет свою скорость и становится уловимым, как мы улавливаем спицы колеса лишь тогда, когда скорость его кручения становится менее некоторого предела. Самые же скорости пробегания ощущениями этого неведомого пространства подобраны так, чтобы с наибольшей медлительностью протекали те ощущения, которые наиболее связаны положительно или отрицательно с безопасностью всего существа. И таким образом были бы рассматриваемы с наибольшими подробностями и оттенками. Те же ощущения, которые наименее связаны с вопросами существования, те протекают с быстротой, не позволяющей останавливаться на них сознанию.
24 ноября 1904
251. Курган Святогора
I
Отхлынувшее море не продышало ли некоего таинственного, не подслушанного никем третьим, завета народу, восприявшему в последний час, сквозь щель времового гроба, восток живого духа, распятого железной порой воителя? Народу, заполнившему людскими хлябями его покинутое, остывающее от жара тела первого воителя ложе, осиротелый женственно мореём?
Благословляй или роси яд, Но ты останешься одна – Завет морского дна – Россия.Точно. Своими ласками передала нам Вдова лик первого и милого супруга. Щедро расточаемыми ласками создала кумир целящий. Так мы насельники и наследники уступившего нам свое ложе северного моря.
Мы исполнители воли великого моря.
Мы осушители слез вечно печальной Вдовы.
Должно ли нам нести свой закон под власть восприявших заветы древних островов?
И широта нашего бытийственного лика не наследница ли широт волн древнего моря?
II
Конечно, правда взяла звучалью уста того, кто сказал: слова суть лишь слышимые числа нашего бытия. Не потому ли высший суд славобича всегда лежал в науке о числах? И не в том ли пролегла грань между былым и идутным, что волим ныне и познания от «древа мнимых чисел»?
Полюбив выражения вида , которые отвергали прошлое, мы обретаем свободу от вещей.
Делаясь шире возможного, мы простираем наш закон над пустотой, то есть не разнотствуем с богом до миротворения.
III
Буй волит видеть свой лик в буйовичах.
И не злой ли ворожбой висит над нашей славобой тень северного моря, не узнающая в сыне лика своего отца? И не признающая в сыне сына?
И не в нас ли воскликнула земля: «О, дайте мне уста! Уста дайте мне!» И дали ли мы ей уста?
И не в несчетный ли раз одетая в грусть, телесатая равниной Вдова спрашивает: «Вот тело милого супруга. Но где его голос? Так как вижу милые уста, зачарованные злой волей соседних островов, молчащие или вторящие крику заморских птиц, но не слышу голос милого». Да. Русская славоба вторила чужим доносившимся голосам и оставляла немым северного загадочного воителя, народ-море.
И самому великому Пушкину не должен ли быть сделан упрек, что в нем звучащие числа бытия народа – преемника моря, заменены числами бытия народов – послушников воли древних островов?
И не должны ли мы приветствовать именем «первого русского, осмелившегося говорить по-русски», – того, кто разорвет злые, но сладкие чары, и заклинать его восход возгласами: «Бýди! Бýди!»
IV
Мы ничего не знаем, ничего не предсказываем, мы только с ужасом спрашиваем: ужели пришло время, ужели он?
V
Вот он шумит своими ветвями, и не окружим ли мы его порослью молодых древ?
VI
Всякое средство не волит ли быть и целью? Вот пути красоты слова, отличные от его целей. Древо ограды дает цветы и само.
VII
И останемся ли мы глухи к голосу земли: «Уста дайте мне! Дайте мне уста!» Или же останемся пересмешниками западных голосов?
VIII
И хитроумные Евклиды и Лобачевский не назовут ли одиннадцатью нетленных истин корни русского языка? В словах же увидят следы рабства рождению и смерти, назвав корни – божьим, слова же – делом рук человеческих.
И если живой и сущий в устах народных язык может быть уподоблен доломерию Евклида, то не может ли народ русский позволить себе роскошь, недоступную другим народам, создать язык – подобие доломерия Лобачевского, этой тени чужих миров? На эту роскошь русский народ не имеет ли права? Русское умнечество, всегда алчущее прав, откажется ли от того, которое ему вручает сама воля народная: права словотворчества?
Кто знает русскую деревню, знает о словах, образованных на час и живущих веком мотылька.
И не значит ли, что боги унесены из храма, если безбоязненно в ряды молящихся замешиваются иноверцы? И выполняют требы?
Пренебрегли вы древней дланью, Благословившей вас в купели, И живы жертвенные лани, Мечи жреца чтоб не тупели…IX
И не должно ли думать о дебле, по которому вихорь-мнимец емлет разнотствующие по красоте листья – славянские языки, и о сплющенном во одно, единый, общий круг, круге-вихре – общеславянском слове?
X
Конечно, Жена, телесатая северной равниной, приемлет нежного супруга, алча ласк первого, и не этим ли таинственно ваяет его лик, силой женской чары, в лик первого и милого мужа – морского моря?
Так изменяемся мы, уподобляясь первому, чтобы заслужить великих милостей у облеченной в равнину Вдовы.
И когда родимые второму морю пройдут пред восхищенным взглядом светлые горы, восставляя свой ледяной закон и рокот, не следует ли предаться непорочной игре в числа бытия своего, чаруя ими себя, как родом новой власти над собой, и прозревая сквозь них великие изначальные числа бытия-прообраза? И сии славоги, гордо плывучие на смену чужеземным снегам… Так как не на хлябях ли морских рождаются самые большие ледяные горы, каким не бывать на суше? Не наполнят ли они нашу душу трепетом и гордостью ве́щей?
И не станем ли мы тогда народом божичей, сами зоревея вечностью, а не пользуясь лишь отраженным?
Обратимте наши очи к лучам земных воль; если же мы воспользуемся заимствованным светом, то на нашу долю останется навий свет, добрые же лучи останутся на потребу соседним народам.
Мы не должны быть ниши близостью к божеству – даже отрицаемому, даже лишь волимому.
XI
И если человечество все еще зелень, трава, но не цвет на таинственном стебле, то можно ли говорить, пророча, о<б> осени, желтыми листьями отрываясь от сил бесконечного? Или же, слыша песнь, следует посмотреть на небо; не жаворонок ли первый? И даже мертвое или кажущееся таким не должно ли прозреть связью с бесконечным в эти дни?
XII
О, станем же верны морскому супругу Жены, нашему прообразу, совооруженному с нами латами – море, конем – тысячелетний рокот, щитом – водянистость существа. Он же вдохнул в нас дыхание иной поры, поры иных могачей, богачественной иной мощью. Вдова ваяет в нас лик: пред ее волей мы должны преклониться.
Конец 1908
252. Опыт построения одного естественнонаучного понятия
Понятие «симбиоз», возникшее как вспомогательное средство для описания некоторых частных явлений растительного мира, быстро привилось и распространилось по всей области описывающих жизнь наук. Это служит хорошим предзнаменованием для предпринимаемого опыта построения родственного ему понятия «μεταβιος». Определим его точным образом.
Условившись обозначать следствия, испытываемые одной жизнью от сосуществования ей другой жизни, через знаки (+), (.), (–), мы получим следующие 6 возможных случаев отношений:
где (+) означает пользу, (.) безразличное состояние, (–) вред как следстви<я> сосуществования двух жизней. Но все они объединены следующими предпосылками, вскрывающими их природу: 1) отношения между двумя жизнями протекают в одно и то же время, 2) они протекают на соседских. но разных частях пространства.
Самое определение обстановки, на которой развиваются эти отношения, предполагает возможность существования таких отношений, которые были бы возможны при следующих условиях: 1) отношения между двумя жизнями протекают в одном и том же месте; 2) отношения между двум жизнями объединяют два соседних промежутка времени.
Так как причинная связь действительна от прошлого к будущему, но не наоборот, то ясно, что одна из двух послесуществующих жизней будет находиться в состоянии, обозначаемом точкой. Это уменьшает наполовину число возможных случаев, которых таким образом будет три:
Первый из них, описывающий те отношения, в которых из послесуществования какой-нибудь жизнию другой жизни для этой первой вытекают отношения выгоды, и есть то явление, которое названо может быть μεταβιος.
Таким образом, точный розыск природы тех и других взаимоотношений приводит к такой поясняющей таблице:
где t означает время (tempus), l – место (locus), знак = понимается здесь как знак тождества, а знак X есть знак отсутствия тождества.
Условившись же обозначать через вообще отношения между двумя жизнями i1 и i2, мы получим выражение для симбиоза и выражение вида для метабиоза (где tn и tn + k есть обозначение времени).
Но, может быть, новый угол зрения, выведенный, путем перестановки времени и пространства в их свойствах, из старой точки зрения, имеет слишком незначительный кругозор, чтобы быть с успехом примененным? Положительный ответ придал бы сомнительную ценность предыдущим выкладкам.
Но, как окажется потом, можно собрать несколько примеров, которые доказывали бы широту устанавливаемого угла зрения.
Особенно доказа<тель>ный пример дает опыт сельского хозяйства. Собственно, каждый севооборот, будет ли он многопольный или простой, основан на отношениях метабиоза между злаками. Известно также в лесоводстве предпочтительное вырастание на месте исчезнувшей лесной породы какой-нибудь определенной другой.
Точно так же в «Верую» воинствующего пангерманизма входят отношения метабиоза между славянским и германским миром.
Деятельность бактерий, изменяющая почву, связывает метабиозом мир низших и растений.
Здесь может быть высказана смелая гипотеза, что сущность смены одних животных царств другими в разные времена жизни Земли также сводится к метабиозу.
Метабиоз объединяет поколения кораллов внутри какого-нибудь атолла и поколения людей внутри народа. Смерть высших, не исключая и Homo sapiens, делает их связанными метабиозом с низшими.
Перечисленных примеров достаточно, чтобы показать широту применяемой точки зрения.
Я приведу два случая метабиоза, которые мне случилось самому наблюдать. Именно 7 V <1>902 я был причиной беспокойства Totanus ochropus, раньше неподвижно сидевшего на ветке ели. Раздвинув густые ветки, я увидел покинутое гнездо одного из дроздов, в котором основался черныш. На дне гнезда лежала опавшая хвоя.
Кладка Т. ochropus состояла из 3 яиц бледно-зеленого основного цвета, затемненного бурыми пятнами и тенями.
Нет сомнения, что этот род отношений не может быть отнесен ни к одному из называемых симбиозом и представляет довольно выпуклый случай метабиоза.
Другой случай, наблюдавшийся на протяжении двух лет, относится к метабиозу между Turdus pilaris и Muscicapa grisola. Сущность его сводится к тому, что гнездо, весной служившее Turdus pilaris, во вторую половину лета занималось Muscicapa grisola, и таким образом эти два вида были связаны отношениями метабиоза.
Приведенные примеры отчасти доказывают широту устанавливаемого угла зрения.
Начало 1910
253. Учитель и ученик. О словах, городах и народах. Разговор I
Учитель. Правда ли, ты кое-что сделал?
Ученик. Да, учитель. Вот почему я не так прилежно посещаю твои уроки.
Учитель. Что же ты сделал? Расскажи!
Ученик. Видишь ли, известно, что слова склоняются по падежам своим концом – ты мне должен простить, что я ввожу в общество застенчивых молодых людей из русского, не слишком почитаемого нами языка. Но не скучная ли это вещь?
Учитель. Нет, нет, нисколько. Продолжай.
Ученик. Слыхал ли ты, однако, про внутреннее склонение слов? Про падежи внутри слова? Если родительный падеж отвечает на вопрос «откуда», а винительный и дательный на вопрос «куда» и «где», то склонение по этим падежам основы должно придавать возникшим словам обратные по смыслу значения. Таким образом слова-родичи должны иметь далекие значения. Это оправдывается. Так, бобр и бабр, означая безобидного грызуна и страшного хищника и образованные винительным и родительным падежами общей основы «бо», самым строением своим описывают, что бобра следует преследовать, охотиться за ним как за добычей, а бабра следует бояться, так как здесь сам человек может стать предметом охоты со стороны зверя. Здесь простейшее тело изменением своего падежа изменяет смысл словесного построения. В одном слове предписывается, чтобы действие боя было направлено на зверя (винительный – куда?), а в другом слове указывается, что действие боя исходит из зверя (родительный – откуда?).
Бег бывает вызван боязнью, а бог – существо, к которому должна быть обращена боязнь. Также слова лес и лысый или еще более одинаковые слова лысина и лесина, означая присутствие и отсутствие какой-либо растительности (Ты знаешь, что значит лысая гора? Ведь лысыми горами зовутся лишенные леса горы или головы), возникли через изменение направления простого слова ла склонением его в родительном (лысый) и дательном (лес) падежах. Лес есть дательный падеж, лысый – родительный. Как и в других случаях, е и ы суть доказательства разных падежей одной и той же основы. Место, где исчезнул лес, зовется лысиной. Также бык есть то, откуда следует ждать удара, а бок – то место, куда следует направить удар.
Учитель. Не хочешь ли ты намекнуть на мою плешь? Это старо.
Ученик. Нет. Время, в течение которого лес льнет в небеса и растет, неподвижный и мертвый зимой, зовется лето. Ты обидчив, учитель. Я же заносчив.
Так, если взять пару вол и вал, то действие поводырства направлено на ручного вола, которого ведет человек, и исходит из вала, который водит по реке человека и лодку. Вот слова, обратные по значению: вес и высь (вес никогда не бывает направлен в высь) – в них те же звуки ы и е, придающие разный смысл. Точно так же <глаголы еду и иду> начинаются дательным и родительным падежом основы «я»; дательный падеж будет «е», родительный – «и». Они означают, что действие то исходит от меня (родительный – откуда), когда я пеш, то покоится во мне (дательный – где), когда я двигаюсь чужой силой.
Учитель. Не сохранились ли простейшие слова в нашем языке в предлогах?
Ученик. Да. При этом простейший язык видел только игру сил. Может быть, в древнем разуме силы просто звенели языком согласных. Только рост науки позволит отгадать всю мудрость языка, который мудр потому, что сам был частью природы.
Учитель. Что же ты хотел сказать в первой части своих слов?
Ученик. Видишь ли, я отметил, что словесное нутро также имеет склонение по падежам. Склоняясь, иногда немая основа придает своему смыслу разные направления и дает слова, отдаленные по значению и похожие по звуку.
Учитель. Еще что ты хочешь сказать?
Ученик. Ты хочешь знать? Послушай: где тайная причина сложнее и туже завязана в узел мнимого случая и неразумия, чем в расселении по коре, или коже, земли городов?
Учитель. Громко! Но не искусно.
Ученик. Это обмолвка. В эту пустыню разума никто не внес общего закона и порядка. И вот я сюда бросаю луч наблюдения и даю правило, позволяющее найти место, где в диких ненаселенных странах возникнут столицы.
Учитель. Кажется, твоя главная находка – это способы произносить себе пышные похвалы.
Ученик. Это мимоходом. И отчего же не сделать за других то, что они не делают по небрежности или ленивому настроению?
Впрочем, сам суди: я нашел, что города возникают по закону определенного расстояния друг от друга, сочетаясь в простейшие чертежи, так что лишь одновременное существование нескольких чертежей создает кажущуюся путаницу и неясность. Возьми Киев. Это столица древнего русского государства. На этом пути от Киева кругом него расположены: 1) Византия, 2) София, 3) Вена, 4) Петербург, 5) Царицын. Если соединить чертой эти города, то кажется, что Киев расположен в середине паутины с одинаковыми лучами к четырем столицам. Это замечательное расстояние города-средины до городов дуги равно земному полупоперечнику, деленному на 2π. Вена на этом расстоянии от Парижа, а Париж от Мадрида.
Также с этим расстоянием (шагом столиц) славянские столицы образуют два четвероугольника. Так, столицы некогда или сейчас Киев – С.-Петербург – Варшава – София – Киев образуют одну равностороннюю ячейку, а города София – Варшава – Христиания – Прага – София – другую славянскую ячейку. Чертежи этих двух великих клеток замкнутые.
Таким образом болгары, чехи, норвежцы, поляки жили и возникали, следуя разумному чертежу двух равносторонних косоугольных клеток с одной общей стороной. И в основе их существования, их жизни, их государств лежит все же стройный чертеж. Не дикая быль, а силы земли построили эти города, воздвигли дворцы. Не следует ли искать новые законы их постижения?
Таким образом, столицы и города возникнут кругом старого, по дуге круга с лучом , где R – земной полупоперечник.
Людскому порядку не присуща эта точность, достойная глаз Лобачевского. Верховные силы вызвали к жизни эти города, расходясь многоугольником сил.
Учитель. Но дальше что нашел ты?
Ученик. Видишь ли, я думаю о действии будущего на прошлое. Но разве можно с таким грузом книг, какой есть у старого человечества, думать о таких вещах! Нет, смертный, смиренно потупи взгляд. Где великие уничтожители книг? По их волнам нельзя ходить, как по материку незнания!
Учитель. Еще что?
Ученик. Еще? Видишь ли, я хотел прочесть письмена, вырезанные судьбой на свитке человеческих дел.
Учитель. Что это значит?
Ученик. Я не смотрел на жизнь отдельных людей; но я хотел издали, как гряду облаков, как дальний хребет, увидеть весь человеческий род и узнать, свойственны ли волнам его жизни мера, порядок и стройность.
Учитель. И что же ты нашел?
Ученик. Я нашел несколько истин.
Учитель. Какие?
Ученик. Я искал правила, которому подчинялись народные судьбы. И вот я утверждаю, что года между началами государств кратны 413.
Что 1383 года отделяют паденья государств, гибель свобод.
Что 951 год разделяет великие походы, отраженные неприятелем. Это главные черты моей повести.
Учитель. Здесь мне слышатся важные истины.
Ученик. Это еще не все. Я вообще нашел, что время z отделяет подобные события, причем z=(365+48y)х, где у может иметь положительные и отрицательные значения.
Вот те значения z, которыми я воспользуюсь:
Срок 951 год связал великие мусульманские походы к Пуатье и Вене, отраженные франком Карлом Мартеллом и русским Яном Собеским. Эти походы были в 732 и 1683 году. Также грозные удары гунно-татарской силы о северный запад, удары Аттилы и Тамерлана, отраженные и встреченные Аэцием и Баязетом, были в 451 и 1402, через 951 год.
Поход Карла XII к Полтаве 1709 года за 951 год до себя имел арабов, предпринявших в 758 неудачный морской поход к Китаю.
Было видно, что 951 есть (317)x3. В 1588 был поход Медины Сидонии, испанца, к берегам Англии. В 1905 – поход Ро<ж>ественского. Между ними прошло 317 лет, или треть монголо-гуннского и турко-арабского срока поражений.
За 317 лет до 1588 Людовик <IX> потерпел поражение у берегов Туниса. Не значит ли это, что в 2222 году, через 317 лет после 1905, суда какого-нибудь народа потерпят крушение, быть может, у черного Мадагаскара?
Учитель. Не было ли число 365 священным у вавилонян?
Ученик. Да.
Учитель. К каким еще случаям ты применил свой закон?
Ученик. Сейчас. Я хочу только сказать, что если взять государства православия – Болгарию, Сербию, Россию – и посмотреть, сколько лет они существовали до первой утраты свободы, то окажется число лет, равное существованию Византии. Византия 395 – 1453= 1058; Россия 862 – 1237= 375; Болгария 679 – 1018= 339; Сербия 1050 – 1389= 339. 375 + 339+ 339= 1053. Это походит на закон сохранения силы. Государства падают тогда, когда исчерпывается сила старших государств. Наоборот, Испания 412 – 711, Франция 486 – 1421, Англия 449 – 1066, Вандалы 430 – 534, <Остготы> 493 – 555 и <Лангобарды 568 – 774> существовали 299+935+617+104+62+206= столько, сколько Рим и Византия вместе.
Учитель. Но ты обещал еще какие-то находки.
Ученик. При у= – 4, z= (365 – 48.4) x 1 = 173. Замечательно, что (173) x 14 отделяет падение царской власти в Риме, 510 (до Р.Х.), и Китае, 1912. Но это в сторону.
Когда y=+1, то z= (365+48) x 1=413.
Через 413 лет подымаются гребни волны объединения народов. Так, в 827 году Эгберт соединил Англию, через 413 лет, в 1240 году, немецкие города объединились в Ганзу, а через еще 413 лет, в 1653 году, трудами Хмельницкого соединились Малая и Великая Русь. Что будет в 2066 году, если этот ряд волн союза не прервется?
В 1110 году русские собрались на съезд в Витичеве, а через 413 лет, в 1523 году, был присоединен последний удел.
Россия. В 1380 объединились русские области для Куликовской битвы, через 413, в 1793, – присоединение Польши.
Но уже выше было замечено, что времена, разделяющие начала государств, кратны 413 годам. Колеблясь в размерах от 413 до 4130 лет, эти времена относятся друг к другу как простые целые числа 1, 2, 3 ‹…› 7, 8, 9, 10. Время 1239, протекшее между началом Франции, 486, и началом Рима, 753, есть (413) x 3.
Между началом Франции и Нормандии, 899, прошло (413) x 1. Между началом Рима, 753, и началом Египта, 3643, прошло 2890 лет, или (413) x 7. Год начала Египта настолько достоверен, что приведен в словарях (см. словарь Павленкова).
Францию и Египет отделяет (413) x 10 лет.
Начало Австрии, 976 год, отделено двумя 413 от начала готского государства, 150 год.
(413) х 1 отделяет Элладу, 776 год, и Босфорское царство, 363; Германию, 843, и Вандальское царство, 430; Россию, 862, и Англию, 449 год. У Паркера приводится летописец, относящий основание Китая к 2852 году. Следует заметить, что 2855 год отделен от начала Англии 3304 годами, или (413) x 8, а от начала России – 3717 годами: (413) x 9.
Что же касается до стран, возникающих путем восстания из старых могуществ, то время z, их отделяющее, есть (365+2x48)x1=461. Этим сроком отделены два союзных государства, Швейцария и Америка. Первое свергло мощь Австрии в 1315, а второе – мощь Англии в 1776 году. Точно так же Болгария освободилась от Византии в 679, а Португалия от Испании в 1140 году. Япония – 660, Корея – 1121.
Начало Западной Римской империи, 800, отделено 461 годом от начала Восточной Римской империи, 1261.
В 1591 году освободилась Голландия, следовательно, в 2052 году возможно восстание молодой окраины.
Учитель. Не хочешь ли ты составить роспись того, что случится в течение 1000 лет, идущих к нам?
Ученик. Предвидение будущего не отрицается этим учением. За этими числами ясна судьба, как за собранной в складки мокрой тканью – тело.
Учитель. Больше ты не знаешь применений своих правил?
Ученик. Нет, еще есть. При у=0, z=365+48x0=365; если x=8, то z=2920. Этот срок отделяет начало Египта, 3643, и падение Израиля, 723 год, а также освобождение Египта от власти гигсов, 1683, и завоевание России монголами, 1237 год, т. е. события обратного значения.
Если Византия освободилась от Рима в 393 году, то освобождение Америки произошло через (365+48х3)x3=1383, в 1776 году.
Судьба! Не ослабла ли твоя власть над человеческим родом, оттого что я похитил тайный свод законов, которым ты руководишься, и какой ждет меня утес?
Учитель. Бесцельная похвальба. Число 365 мне ясно; это частное времен года и дня. 48 – нет. Но чем ты объяснишь присутствие этого числа в земных делах? Казалось, им нет никакого дела друг до друга. Но все же твой закон совсем не кажется мне тенью.
Ученик. На силах должны были отразиться сроки вращения, а мы – дети сил.
Учитель. Красиво.
Ученик. Не отрицаю. Высший источник земного сам подает пример точности. Наука о земном делается главой науки о небесном. Но если у = 2, а x = 3, то z = (365+48x2)x3=1383. Паденья государств разделены этим сроком.
Покорению Новгорода и Вятки, 1479 и 1489 гг., отвечают походы в Дакию, 96 – 106.
Завоеванию Египта в 1250 году соответствует падение Пергамского царства в 133 году.
Половцы завоевали русскую степь в 1093 году, через 1383 года после падения Самниума в 290 году.
Но в 534 году было покорено царство Вандалов; не следует ли ждать в 1917 году падения государства?
Учитель. Целое искусство. Но как ты достиг его?
Ученик. Ясные звезды юга разбудили во мне халдеянина. В день Ивана Купала я нашел свой папоротник – правило падения государств. Я знаю про ум материка, нисколько не похожий на ум островитян. Сын гордой Азии не мирится с полуостровным рассудком европейцев.
Учитель. Ты говоришь как дитя. Но еще что ты думал в это время?
Ученик. Я думал, Моране или Весне служит русское искусственное слово. Ты помнишь имена этих славянских богинь?
Смотри, вот листки, где я записывал свои мгновенные мысли.
«В нашей жизни есть ужас». I
«В нашей жизни есть красота». II
Следовательно, писатели единогласны, что русская жизнь есть ужас. Но почему не согласна с ними народная песнь?
Или те, кто пишет книги, и те, кто поет русские песни, два разных народа?
Писатели уличают: дворянство I; военных II; чиновников III; купцов IV; крестьян V; молодых сапожников VI; писателей VII.
Следовательно, народная песнь в каком-то преступлении уличает русских писателей.
В чем же она их уличает? Во лжи? Что они мрачные лжецы?
Они начинают проповедывать. Что они проповедывают?
Чем занимаются русские писатели?
Значит, на вопрос, чем занимаются русские писатели, нужно ответить: они проклинают! Прошлое, настоящее и будущее!
Не отсюда ли источник проклятий?
Мережковский пророчил неудачу России, взяв на себя обязанности ворона; каково он чувствует себя?
На вопрос, что делать, отвеча<ю>т и песнь сел, и русские писатели.
Но какие советы дают те и другие?
Наука располагает обширными средствами для самоубийств; слушай наших советов: жизнь не стоит, чтоб жить. Почему «писатели» не показывают примера?
Это было бы любопытное зрелище.
I. Славят военный подвиг и войну.
II. Порицают военный подвиг, а войну понимают как бесцельную бойню.
Почему русская книга и русская песнь оказались в разных станах?
Не есть ли спор русских писателей и песни спор Мораны и Весны?
Бескорыстный певец славит Весну, а русский писатель – Морану, богиню смерти?
Я не хочу чтобы русское искусство шло впереди толп самоубийц!
Учитель. Но что за книга у тебя на коленях?
Ученик. Крижанич. Я люблю говорить с мертвыми.
1912
254. О расширении пределов русской словесности
Русской словесности вообще присуще название «богатая, русская». Однако более пристальное изучение открывает богатство дарований и некоторую узость ее очертаний и пределов. Поэтому могут быть перечислены области, которых она мало или совсем не касалась. Так, она мало затронула Польшу. Кажется, ни разу не шагнула за границы Австрии. Удивительный быт Дубровника (Рагузы), с его пылкими страстями, с его расцветом, Медо-Пуцичами, остался незнаком ей. И, таким образом, славянская Генуя или Венеция остал<а>сь в стороне от ее русла. Рюген, с его грозными божествами, и загадочные поморяне, и полабские славяне, называвшие луну Леуной, лишь отчасти затронуты в песнях Алексея Толстого. Само, первый вождь славян, современник Магомета и, может быть, северный блеск одной и той же зарницы, совсем не известен ей. Более, благодаря песни Лермонтова, посчастливилось Вадиму. Управда как славянин или русский (почему нет?) на престоле второго Рима также за пределами таинственного круга.
Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землей. Индия для нее какая-то заповедная роща.
В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим русский народ для нее как бы не существовал, и, таким образом, из русской Библии сейчас существует только несколько глав («Вадим», «Руслан и Людмила», «Боярин Орша», «Полтава»).
В пределах России она забыла про государство на Волге – старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами, Биармское царство. Удельный строй, кроме Новгорода, Псков и казацкие государства остались в стороне от ее русла. Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли, напоминающей японских самураев. Из отдельных мест е<ю> воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочоны). Великий рубеж 14 и 15 века, где собрались вместе Куликовская, Косовская и Грюнвальдская битвы, совсем не известен ей и ждет своего Пржевальского.
Плохо известно ей и существование евреев. Также нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобного «Гайавате» Лонгфелло. Такое творение как бы передает дыхание жизни побежденных победителю. Святогор и Илья Муромец.
Стремление к отщепенству некоторых русских народностей объясняется, может быть, этой искусственной узостью русской литературы. Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым.
Март 1913
255. Ряв о железных дорогах
Ряв! Железнодорожный закон Италии заключается в совпадении с морским берегом полотна, и вот стройная нога этого полуострова таперича обута в цельный железнодорожный сапог. Вторая черта: внутри полуострова железные пути очень скудны. Железнодорожное полотно никогда не уходит от бьющихся волн моря, и очертания Италии обведены чугункой. Вдольморские пути привели рекомую Италию к торговому расцвету.
В России приморские пути проводятся только в не совсем русских областях (Кавказ, Финляндия), ввиду несомненных выгод этого способа постройки.
Боящийся лица Волги, Волжский путь не доведен к Каспию. Устья Дуная и Дона, будучи сшиты друг с другом вдоль морского берега, дадут расцвет югу.
На севере России должны быть торопливо связаны Печора и Обь и Лена и Енисей. Тогда только будет разумна паутина железнодорожных пауков Москвы и других городов.
Ряв!
Североамериканский железнодорожный «крюк» заключается в том, что чугунный путь переплетается с руслами Великих рек этой страны и вьется рядом с ними, причем близость обоих путей так велика, что величавый чугунный дед всегда может подать руку водяному, и поезд и пароход на больших протяжениях не теряют друг друга из вида.
На востоке от Вислы русла Волги и Днепра (их средние течения) могли бы, как верхушки двух деревьев, быть связаны одним железнодорожным кругом. Теперь же, чтоб попасть в Саратов или Казань, нижегородец должен проехать в Москву. Прямой путь от устья Волги до устья Оби полезен для жизни по ту и другую сторону Урала (Камня). Впрочем, на смену пресмыкающимся путям приходят летающие и реющие пути. Есть опасность, что железными дорогами, как непонятными буквами непонятного языка, не было бы начертано на знакомых и понятых страницах слово «глупость» (дурь). Слова другого значения: расчет, разум.
1918
256. О пользе изучения сказок
Это не раз случалось, что будущее зрелой поры в слабых намеках открыто молодости.
И будущие радости цветка смутно известны ему, когда он еще бледным стеблем подымает пласты прошлогодней листвы. И народ-младенец, народ-ребенок любит грезить о себе, – в пору мужества властной рукой повертывающем колесо звезд. Так в Сивке-Бурке вещей-каурке он предсказал железные дороги, а ковром-самолетом – реющего в небе Фармана. И вот зимой сказочник-дед, сидя над бесконечным лаптем, заставляет своего любимца садиться на ковер, чтобы перегнать зарницу и крикнуть «стой!» падающей звезде.
Тысячелетие, десятки столетий будущее тлело в сказочном мире и вдруг стало сегодняшним днем жизни. Провидение сказок походит на посох, на который опирается слепец человечества.
Точно так же в созданном учениями всех вероисповеданий образе Масиха аль Деджаля, Сака-Вати-Галагалайама или Антихриста заложено учение о едином роде людей, слиянии всех государств в общину земного шара. Но если к решению задачи ковра-самолета нас привело изучение точных наук в применении к условиям полета, не те же ли точные науки, примененные к учению об обществе, приведут к решению задачи о Сака-Вати-Галагалайаме – этом очередном ковре-самолете изобретения? Так его называют индусские мудрецы. Благодаря ковру-самолету море, к которому тянулись все народы, вдруг протянулось над каждой хижиной, каждым дымом. Великий всенародный путь равномерно соединил прямой чертой каждую одну точку земного шара с каждой другой, о чем мечтали мореплаватели.
И вот человечество – взрослый цветок смутно грезился человечеству-зерну, и ковер-самолет населяет сказочные миры раньше, чем взвился на сумрачном небе Великороссии тяжеловесной бабочкой Фармана, воодушевленной людьми.
<1915>
257. Мы и дома. Мы и улицетворцы. Кричаль
Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! И колем усталые бока колесиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.
Мы, сидящие в седле, зовем туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные, как невод на морском берегу, стеклянные, как чернильница, ведут междоусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений; «посолонь» – ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла!
И если люди – соль, не должна ли солонка идти посолонь? Положив тяжелую лапу на современный город и его улицетворцев, восклицая: «Бросьте ваши крысятники» – и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под когтистой рукой. Доски победителей уже брошены, победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц; тихий стон побежденных.
Мы здесь расскажем о вашем и о нашем городе.
I. Черты якобы красивого города прошлецов (пращурское зодчество).
1) Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство – прямой угол. На город смотрят сбоку, будут – сверху. Крыша станет главное, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами. Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами «до свиданья» и «прощай!» провожая близких.
Как они одевались? Они из черного или белого льна кроили латы, поножи, нагрудники, налокотники, горла, утюжили их и, таким образом, вечно ходили в латах цвета снега или сажи, холодных, твердых, но размокающих от первого дождя, доспехах из льна. Вместо пера у иных над головой курилась смола. В глазах у иных взаимное смелое, утонченное презрение. Поэтому мостовая прошла выше окон и водосточных труб. Люд столпился на крыше, а земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов, положивших населенные своды на жилые башни-опоры; жилые здания служили мосту быками и стенами площадей-колодцев. Забыв ходить пешком или на собратьях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом, спуская вниз дождь взоров, падающих сверху; над городом будет стоять облако оценки труда каменщиков, грозящее стать грозой и смерчем для плохих кровель. Люд на крыше вырвет у мотыги ясную похвалу крыше и улице, проходящей над зданиями. Итак, его черты: улица над городом, и глаз толпы над улицей!
2) Город сбоку. «Будто красивые» современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, ислам) сгущенной природы камня с разреженной природой – воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и неударного места – сущность стиха. У улиц нет биения. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Эти дома строятся по известному правилу для пушек: взять дыру и облить чугуном. И точно, берется чертеж и заполняется камнем. Но в чертеже имеет существование и весомость – черта, отсутствующая в здании, и наоборот, весомость стен здания отсутствует в чертеже, кажется в нем пустотой; бытие чертежа приходится на небытие здания, и наоборот. Чертежники берут чертеж и заполняют его камнем, т. е. основное соотношение камня и пустоты умножают (в течение веков не замечая) на отрицательную единицу, отчего у самых безобразных зданий самые изящные чертежи, и Мусоргский чертежа делается ящиком с мусором в здании. Этому должен быть положен конец! Чертеж годится только для проволочных домов, так как заменять черту пустотой, а пустоту камнем – то же, что переводить папу римского знакомым римской мамы. Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынником, походя на громкое междометие! А здесь, сплющенные общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленные в икру улицы, – чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома-крысятники (потомки замков)?
3) Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы заводов. Три дымящиеся трубы Замоскворечья напоминают подсвечник и три свечи, невидимых при дневном свете. А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, еще ученическим. Эти болота – поляна шелкового мха труб. Трубы – это прелесть золотистых волос.
4) Город внутри. Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома – значит без вины вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения; это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям.
5) Так же мало замечали, что путешествия лишены полноты удобств и неприятны.
II. Лекарства Города Будрых.
1. Был выдуман ящик из гнутого стекла или походная каюта, снабженная дверью, с кольцами, на колесах, с своим обывателем внутри, она ставилась на поезд (особые колеи, площадки с местами) или пароход, и в ней ее житель, не выходя из нее, совершал путешествие. Иногда раздвижной, этот стеклянный шатер был годен для ночлега. Вместе с тем, когда было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки, то стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу.
Как зимнее дерево ждет листвы или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных жителей, походя на ненагруженное невооруженное судно, то на дерево смерти, на заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своем стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для передвижной ящикокомнаты (стекло-хаты). И на цепях с визгом подымался путешественник в оболочке.
Ради этого размеры шатра во всей стране – одного и того же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок владельца. Сам он во время подъема что-нибудь читал. Таким образом, возник владелец: 1) не на землю, а лишь на площадку в доме-остове, 2) не в каком-нибудь определенном городе, а вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена гражданами. Это было сделано для польз подвижного населения. Строились остовы городами; они опирались на союз стекольщиков и железников Урала. Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы и ходили поезда, носились по дорогам площадки. Такие же остовы-гостиницы строились на берегу моря, над озерами, вблизи гор и рек. Иногда в одном владении были две или три клетки. Шатры в домах чередовались с гостиными, столовыми и резварнами.
2. Современные дома-крысятники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди, сплющенные бочонком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его. В неравной борьбе многих обитающих в доме с одним владеющим им, многих, не сделавших ни одного яркого душегубства, но живущих в мрачной темнице, в заключении в доходном доме, под тяжелой лапой союза алчности и глупости; на помощь многим сначала приходили отдельные союзы, а потом государство. Было признано, что город – точка узла лучей общей силы и в известной доле есть достояние всех жителей страны и что за попытку жить в нем гражданин страны не может быть брошен (одним из случайно отнявших у него город) в каменный мешок крысятника и вести там жизнь узника, пусть по приговору только быта, а не суда. Но не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?
Было понято, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять. Сначала отдельные улицы объединялись в товарищества на паях, чтобы строить, чередуя громады с пустотой, общие замкоулицы и заменить грязный ящик улицы одним прекрасным улочертогом; в основу лег порядок др<евнего> Новгорода. Вот вид большой улицы Тверской. Высокий избоул окружался площадью. Тонкая башня соединялась мостом с соседним замкоулом. Дома-стены стояли рядом, как три книги, стоящие ребром.
Жилая башня двумя висячими мостами соединялась с другой такой же, высокой, тонкой. Еще один дворцеул. Все походило на сад. Дома соединялись мостами, верхними улицами градоула. Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества. Растительный яд стал караться наравне с зодческим мышьяком. За частными лицами осталось право строить дома: 1) вне города, 2) на окраинах его, в деревнях, пустынях, но и то для своего личного пользования. Позднее к улицетворству перешла государственная власть. Это были казенные улочертоги.
Присвоив права улицетворца и очертив кругом своих забот жианиц и жиянство (от «жить», словопроизводство по словам: «пианство» и «пианиц»), власть стала старшим каменщиком страны и на развалинах частного зодчества оперлась о щит благодарности умученных в современных крысятниках.
Нашли, что черпать средства из постройки стеклянных жилищ – нравственно. Измученные равнодушным ответом «пущай дохнут, пущай живут» ушли под крыло государства-зодчего.
Запрет на частное зодчество не распространялся на избы, хаты, усадьбы и жилища семей. Война велась с крысятниками. Занятая избоулом, земля оставалась в владении прежних собственников. Житеул 1) сдавался обществам городов, врачей, путешествий, улиц, приходам; 2) оставался у строителя, 3) продавалось на условиях, ограничивающих алчность, право содержания. Это был могучий источник доходов. Градоулы, построенные на берегах моря и в живописных местах, оживили ее высокими стеклянными замками. Итак, основным строителем стало государство; впрочем, оно стало таким в силу превосходства своих средств как самое могучее частное общество.
3. Что строилось? Теперь внимание. Здесь рассказывается про чудовища будетлянского воображения, заменившие современные площади, грязные, как душа Измайлова.
a) Дома-мосты; в этих домах и дуги моста и опорные сваи были населенными зданиями. Одни стекло-железные соты служили соседям частями моста. Это был мостоул. Башни-сваи и полушария дуг. (Корень ул от слов улица, улей, улика, улыбка, Ульяна). Мостоулы нередко воздвигались над рекой.
b) Дом-тополь. Состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминавшую высокую колокольню (100–200 саж<ен>). Наверху площадка для верхнего движения. Кольца светелок тесно следовали одно за другим на большую высоту. Стеклянный плащ и темный остов придавали ему вид тополя.
c) Подводные дворцы; для говорилен строились подводные дворцы из стеклянных глыб, среди рыб, с видом на море, и подводным выходом на сушу. Среди морской тишины давались уроки красноречия.
d) Дома-пароходы. На большой высоте искусственный водоем заполнялся водой, и в нем на волнах качался настоящий пароход, населенный главным образом моряками.
e) Дом-пленка. Состоял из комнатной ткани, в один ряд натянутой между двумя башнями. Размеры 3×100×100 сажен. Много света! Мало места. Тысяча жителей. Очень удобен для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря. Просвечивая стеклянными светелками, казался пленкой. Красив ночью, когда казался костром пламени среди черных и угрюмых башен-игл. Строится на бугре холмов. Служит хорошим домом-остовом.
m) Тот же, с двойной тканью комнат.
n) Дом-шахматы. Пустые комнаты отсутствовали в шахматном порядке.
k) Дом-качели. Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка. Мыслителям, морякам, будетлянам.
t) Дом-волос. Состоит из боковой оси и волоса комнат будетлянских, подымающихся рядом с нею на высоту 100–200 саж. Иногда три волоса вьются вдоль железной иглы.
s) Дом-чаша; железный стебель 5–200 сажен вышиной подымает на себе стеклянный купол для 4–5 комнат. Особняк для ушедших от земли; на ножке железных брусьев.
<z>) Дом-трубка. Состоял из двойного комнатного листа, свернутого в трубку с широким двором внутри, орошенным водопадом.
<у>) Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен. Это дом-книга. Размеры стены 200-100 саж.
f) Дом-поле, в нем полы служат опорой пустынным покоям, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой оленьи рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья. Нередко полы подымаются один над другим в виде пирамиды.
х) Дом на колесах; на длинном маслоеде одна или несколько кают; гостиная, светская ульская для цыган 20 века.
Начала: 1) Оседлый остов дома, бродячая каюта.
2) Человек ездит по поезду, не выходя из своей комнаты.
3) Право собственности на жилище в неопределенно каком городе.
4) Казна-строитель.
5) Правило построек особняков; гибель улиц; удары замкоулов, междометия башен.
Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов «гоум, моум, суум, туум» и вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, я, не выходя из шатра, был донесен поездом через материк к морю, где надеялся увидеть сестру. Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль дома-тополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. Остановка; здесь в пустой ячейке дома я оставил свое жилище; зайдя к водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. Я наклонился и вычислял себя, что я должен делать, чтобы исполнить волю его в себе. Вдали, между двух железных игол, стоял дом-пленка. 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники, любуясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недосягаемую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. Здесь жили И и Э. Железные иголки дома-пленки и полотно стеклянных сот озарялись закатом. У угловой башни начинался другой, протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. Там дом-шахматы; я задумался. Роща стеклянных тополей сторожила море. Между тем четыре «Чайки № 11» несли по воздуху сеть, в которой сидели купальщики, и положили ее на море. Это был час купанья. Сами они качались на волнах рядом. Я думал про сивок-каурок, ковры-самолеты и думал: сказки – память старца или нет? Или детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать – будет.
Я был на мостике и задумался.
1915
258. Труба марсиан. Люди!
Мозг людей и доныне скачет на трех ногах (три оси места)! Мы приклеиваем, возделывая мозг человечества, как пахари, этому щенку четвертую ногу, именно – ось времени.
Хромой щенок! Ты больше не будешь истязать слух нам своим скверным лаем.
Люди прошлого не умнее себя, полагая, что паруса государства можно строить лишь для осей пространства. Мы, одетые в плащ только побед, приступаем к постройке молодого союза с парусом около оси времени, предупреждая заранее, что наш размер больше Хеопса, а задача храбра, величественна и сурова.
Мы, суровые плотники, снова бросаем себя и наши имена в клокочущие котлы прекрасных задач.
Мы верим в себя и с негодованием отталкиваем порочный шепот людей прошлого, мечтающих уклюнуть нас в пяту. Ведь мы боги. Но мы прекрасны в неуклонной измене своему прошлому, едва только оно вступило в возраст победы, и в неуклонном бешенстве заноса очередного молота над земным шаром, уже начинающим дрожать от нашего топота.
Черные паруса времени, шумите!
Виктор Хлебников, Мария Синякова, Божидар, Григорий Петников, Николай Асеев.
«ПУСТЬ МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ РАСКОЛЕТСЯ НА МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И МЛЕЧНЫЙ ПУТЪ ПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ»
– Вот слова новой священной вражды.
Наши вопросы в пустое пространство, где еще не было человека, – их мы будем властно выжигать и на лбу Млечного Пути, и на круглом божестве купцов, – вопросы, как освободить крылатый двигатель от жирной гусеницы товарного поезда старших возрастов. Пусть возрасты разделятся и живут отдельно! Мы вскрыли печати на поезде за нашим паровозом дерзости – там ничего нет, кроме могил юношей.
Нас семеро. Мы хотим меча из чистого железа юношей. Им, утонувшим в законы семей и законы торга, им, у которых одна речь: «ем», не понять нас, не думающих ни о том, ни о другом, ни о третьем.
Право мировых союзов по возрасту. Развод возрастов, право отдельного бытия и делания. Право на все особо до Млечного Пути. Прочь, шумы возрастов! Да властвуют звон прерывных времен, белые и черные дощечки и кисть судьбы. Пусть те, кто ближе к смерти, чем к рождению, сдадутся! Падут на лопатки в борьбе времен под нашим натиском дикарей. А мы – мы, исследовав почву материка времени, нашли, что она плодородна. Но цепкие руки оттуда схватили нас и мешают нам свершить прекрасную измену пространству. Разве было что пьянее этой измены? Вы! Чем ответить на опасность родиться мужчиной, как не похищением времени? Мы зовам в страну, где говорят деревья, где научные союзы, похожие на волны, где весенние войска любви, где время цветет как черемуха и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается с своим завтра. (О, уравнения поцелуев – вы! О луч смерти, убитый лучом смерти, поставленным на пол волны.) Мы идем туда, юноши, и вдруг кто-то мертвый, кто-то костлявый хватает нас и мешает нам вылинять из перьев дурацкого сегодня. Разве это хорошо?
Государство молодежи, ставь крылатые паруса времени; перед тобой второе похищение пламени приобретателей. Смелее! Прочь костлявые руки вчера, перед ударом Балашова пусть будут искромсаны ужасные зрачки. Это – новый удар в глаза грубо пространственного люда. Что больше: «при» или «из»? Приобретатели всегда стадами крались за изобретателями, теперь изобретатели отгоняют от себя лай приобретателей, стаями кравшихся за одиноким изобретателем.
Вся промышленность современного земного шара с точки зрения самих приобретателей есть «кража» (язык и нравы приобретателей) – у первого изобретателя – Гаусса. Он создал учение о молнии. А у него при жизни не было и 150 рублей в год на его ученые работы. Памятниками и хвалебными статьями вы стараетесь освятить радость совершенной кражи и умерить урчание совести, подозрительно находящейся в вашем червеобразном отростке. Якобы ваше знамя – Пушкин и Лермонтов – были вами некогда прикончены как бешеные собаки за городом, в поле! Лобачевский отсылался вами в приходские учителя. Монгольфьер был в желтом доме. А мы? Боевой отряд изобретателей?
Вот ваши подвиги! Ими можно исписать толстые книги!
Вот почему изобретатели в полном сознании своей особой породы, других нравов и особого посольства отделяются от приобретателей в независимое государство времени (лишенное пространства) и ставят между собой и ими железные прутья. Будущее решит, кто очути<т>ся в зверинце, изобретатели или приобретатели, и кто будет грызть кочергу зубами.
В. Хлебников
ПРИКАЗЫ
I. Славные участники будетлянских изданий переводятся из разряда людей в разряд марсиан.
Подписано: Король времени Велимир 1-й.
II. Приглашаются с правом совещательного голоса, на правах гостей, в думу марсиан: Уэлльси Маринетти.
Предметы обсуждения.
«Улля, улля», Марсиане!
1) Как освободиться от засилья людей прошлого, сохраняющих еще тень силы в мире пространства, не пачкаясь о их жизнь (мыло словотворчества), предоставив им утопать в заработанной ими судьбе злобных мокриц. Мы осуждены завоевать мерой и временем наши права на свободу от грязных обычаев людей прежних столетий.
2) Как освободить быстрый паровоз младших возрастов от прицепившегося непрошеным и дерзким образом товарного поезда старших возрастов?
Старшие! Вы задерживаете бег человечества и мешаете клокочущему паровозу юности взять лежащую на ее пути гору. Мы сорвали печати и убедились, что груз – могильные плиты для юности.
Под видом груза, прикрепленного к нашей свистящей надменно грезе, заячьим способом провозится грязь донебесных людей!
8 апреля 1916
259. Письмо двум японцам
Наши далекие друзья! Случилось так, что мне пришлось прочесть ваши письма в «Кокумине-Симбун», и я задумался, буду ли я навязчив, отвечая вам. Но я решил, что нет, и, поймав мяч, бросаю его вам, чтобы участвовать в нашей игре в мяч младших возрастов. Итак, ваша рука протянута к нам, итак, ее встретила рукопожатием наша рука, и теперь обе руки юношей двух стран висят над всей Азией, как дуга Северного Сияния. Самые хорошие пожеланья рукопожатию! Я думаю, что вы о нас не знаете, но случилось так, что кажется, что вы пишете нам и о нас. Те же мысли об Азии, какие осенили вас умно внезапно, приходили и нам в голову. Ведь это случается, что на расстоянии начинают звенеть струны, хотя никакой игрок не касался их, но их вызвал таинственный звук, общий им. Вы даже прямо говорите к юношам нашей земли и от имени юношей вашей. Это очень отвечает нашей мысли о мировых союзах юношей и о войне между возрастами. Ведь у возрастов разная походка и языки. Я скорее пойму молодого японца, говорящего на старояпонском языке, чем некоторых моих соотечественников на современном русском. Может быть, многое зависит от того, что юноши Азии ни разу не пожали друг другу руки и не сошлись для обмена мнениями и для суждения об общих делах. Ведь если есть понятие отечества, то есть понятие и сынечества, будем хранить их обоих. Как кажется, дело заключается не в том, чтобы вмешиваться в жизнь старших, но в том, чтобы строить свою рядом с ними. То же общее, о чем мы молчим, но чувствуем, есть то, что Азия есть не только северная земля, населенная многочленом народов, но и какой-то клочок письмен, на котором должно возникнуть слово Я. Может быть, оно еще не поставлено, тогда не должны ли общие судьбы, некоторым пером, написать очередное слово? Пусть над ним задумалась рука мирового писателя! Итак, вырвем в лесу сосну, обмакнем в чернильницу моря и напишем знак-знамя «я Азии». У Азии своя воля. Если сосна сломится, возьмем Гауризанкар. Итак, возьмемся за руки, возьмем двух-трех индусов, даяков и подымемся из 1916 года, как кольцо юношей, объединившихся не по соседству пространств, но в силу братства возрастов. Мы могли бы собраться в Токио. Ведь мы – современный Египет, поскольку можно говорить о переселении душ, а вы часто звучите как Греция древних. Когда даяк, охотник за черепами, прибьет к хижине открытку Верещагина «Похвала войне», он присоединится к нам. Но это прекрасно, что вы бросили мяч лапты в наши сердца. Это потому хорошо, что дает нам право сделать второй шаг, необходимый для обеих сторон и невозможный без вашего любезного начала, так как в возврате мяча заключается игра в мяч.
Весь Ваш, японские друзья, В. Хлебников.
Вот порядок вопросов, которые мы бы могли обсудить при первой встрече на Азийском съезде.
1) Союзная помощь изобретателям в их войне с приобретателями. Изобретатели нам близки и понятны.
2) Основание первого Высшего Учебна будетлян. Он состоит из нескольких (13) взятых внаймы (на 100 лет) у людей пространства владений, расположенных на берегу моря или среди гор у потухших вулканов в Сиаме, Сибири, Японии, Цейлоне, Мурмане, в пустынных горах, там, где трудно и не у кого приобретать, но легко изобретать. Радиотелеграф соединяет их все друг с другом, и уроки происходят по радиотелеграфу. Иметь свой радиотелеграф. Сообщение по воздуху.
3) Устраивать через 2 года правильные нападения на души (не на тела, а на души) людей пространства, охотиться за науками, поражая их смертельной стрелой нового изобретения.
4) Основать Азийский Ежедневник песен и изобретений. Это для того, чтобы ускорить наш полет стрижей будущего. Статьи печатаются на любых языках, по радиотелеграфу из всех концов. Переводы содержания за неделю. Он будет хлыстом скорости тогда, если будет ежедневным и если будет в руках будетлян!
5) Думать о круго-Гималайской железной дороге с ветками в Суэц и Малакку.
6) Думать не о греческом, но о Азийском классицизме (Виджай, ронины, Масих-аль-Деджал).
7) Разводить хищных зверей, чтобы бороться с обращением людей в кроликов. В реках разводить крокодилов. Исследовать состояние умственных способностей у старших возрастов.
8) В наших снятых в временное пользование живописных владениях устраивать таборы изобретателей, где они смогут устраиваться согласно своим нравам и вкусам. Обязать соседние города и села питать их и преклоняться перед ними.
9) Добиться передачи в наши руки той части средств, которая приходится на нашу долю. Старшие возрасты не умеют выдавить из себя достаточно честности по отношению к младшим, и во многих странах эти последние ведут жизнь константинопольских собак. Например: <–>[4]
10) В остальном предоставить старшим возрастам устраиваться, как им угодно. Их дело – торг, семьи, приобретения. Наше – изобретение, война с ними, искусства, знания.
11) Разрушать языки осадой их тайны. Слово остается не для житейского обихода, а для слова.
12) Вмешаться в зодчество. Переносные каюты с кольцом для цеппелинов, дома-решетки.
13) Язык Чисел Венка Азийских юношей. Мы можем обозначить числом каждое действие, каждый образ и, заставляя показываться число на стекле светильника, говорить таким образом. Для составления такого словаря для всей Азии (образы и предания всей Азии) полезно личное общение членов Собора Отроков будущего. Особенно удобен язык чисел для радиотелеграмм. Числоречи. Ум освободится от бессмысленной растраты своих сил в повседневных речах.
Сентябрь 1916
260. Ляля на тигре
Ты – северное божество Белоруссии, ты с снежными ресницами, синими глазами и черной бровью, ты, чьи смеющиеся волосы упали на руки ветра, спрашивающая воинов времени: «Что, козочки, сыты ли?» Он только что бросил оленя с дико загнутыми назад рогами, а мальчики воздуха одевают твое тело рогожей воздуха, – ведь ты вечно купаешься в черных и серых зенках людей – радостных хмурых, вскочила на тигра, он, полосатый, гулял среди сосен, и заставила его сделать бросок бешеным копьем в будущее. Оно еще на железных воротах, но не овцы ли будущего блеют от ужасной осады, когда железо тигровой груди бьется о железо ворот! Да, мы и Ляля Белоруссии, так часто вешающая на рогах зубра венки своей прелести, мы и бабр грозный и гнедой Ганга. Вот почему мы и веселы, как детское слово «цаца», и чудовищны, как хмель опьяненных собой пушек, пляшущих пляску ведем. Твои золотые косы, упавшие на зверя, – это наши первые чистые Веры. «На страшный верх из вер…» (Петников).
Сломанные когти и ссадины на груди – наши умершие товарищи: «Сердец отчаянная Троя не размела времен пожар еще – не изгибайте в диком строе, вперед, вперед, товарищи!» – Асеев – Божидару. Они были, эти ушедшие рано товарищи, сами занесшие над горлом жертвенный нож и сами принесшие вязанку хвороста для своего дыма. Да будет еще раз почтена их память. Кого бы не раздавил, как страшный удар молотом, голос Владимира Облачного, если бы он не заметил в самом голосе улыбку Ляли, управляющей тигром. И мрачная тризна воинов, и праздник мечей его голоса – это только челнок, где гребут воины, но в нем Ляля. Когда он говорит: «Эй, вы! Небо, снимите шляпу, я иду», – это он снова ударился о стены ворот, а когда говорит: «И солнце моноклем вставлю в широко растопыренный глаз», – это та спрашивает: «Что ей делать с солнцем и моноклем?» Мы знаем твердо, что мы не повторимся на земном шаре. Чтобы оставить по себе памятник и чтобы люди не сказали: они сгинули как обры, мы <основали> государство времени (новая каменная баба степей времени; она грубо высечена, но она крепка), предоставив государствам пространств или помириться с его существованием, оставив в покое, или вступить с ним в яростную борьбу. Люди боролись до тех пор телами, туловищами, и только мы нашли, что туловища – это скучные и второстепенные рычаги, а веселые – в коробке черепа. Поэтому мы сделались пахарями мозгов – мозгопашцами. Ваши мозги для нас – это только залежи песков, суглинков, слоистых горючих сланцев. Мы уже относимся к вам и вашим обычаям как к мертвой природе, так неестественно все, что вы делаете и творите на бедной земле. Мы – еще только начало. Как говорил некогда Крученых, «мир погибнет, а нам нет конца». Как рыбаки, мы поймали вашу свободную волю и верования и уравнения. Как кравчие, мы способны накормить одним стихотворением целый год в жизни великого народа. Как швеи, мы сшиваем народности в одно мещанское одеяло, чтобы было во что кутаться озябшей земле (длинные желтые ноги! Вашей, судари, хилости). Как это? Что же будет, когда мы подымемся еще выше по ступеням общественной лестницы? И теперь, когда мы слышим милые и родственные голоса с берегов далекого Ниппона («Кокумин» Токио – «Временник» Москва), мы присваиваем себе гордое имя Юношей Земного Шара. Авось и через 100 лет мы останемся ими. Да будет светел путь этого нового имени. Государство времени озаряет люд-лучами дорогу человечества. Оно уже скомкало в комок грязного листа все старые знания. Его колыбельный подвиг. Правда, вы смотрите на него как на «игру для себя» (Евреинов), и мы идем куда-то, то как пена, оттолкнутые обратно в море, то как брошенная к столбу победы рукой возницы семерка лучших коней Гикса с снежными гривами и черными телами. Мы искусились во многих областях лучше, чем вы думаете. Заметьте, уже пять лет мы ведем войну с лучшими людьми великого народа (потому что кто-то из нас лучший – или вы, или мы, из скромности мы предполагаем, что вы). И что же? Вы кончаете тем, что устами «Русских ведомостей» признаете наши достижения необычайными и ослепительными…
Маяковский в неслыханной вещи «Облако в штанах» заставил плакать Горького. Он бросает душу читателя под ноги бешеных слонов, вскормленных его ненавистью. Бич голоса разжигает их ярость. Каменский в прекрасной вещи «Стенька Разин» искусно работал над задачей так разместить на цветущем кусте сто соловьев и жаворонков, чтобы из них вышел Стенька Разин. Хлебников утонул в болотах вычислений, и его насильственно спасали. «Светись о грядущей младости, еще не живое племя. О время, я рад, что достиг держать тебе нынче стремя» – так пишет, выступая, Асеев с сдержанной гордостью, знающей о существовании еще больших гордостей (Асеев и Петников – «Леторей»). Петников выпустил Новалиса и работал над исследованием корней русского языка. Огонь, зажженный на далеком словесном стане, освященный именем Божидара, других лучей, чем Север. «Леторей» и «Ой конин» – ледоход Дона. От Божидара, который продолжает быть спутником двух или трех людей к Земному Шару, осталась редко прекрасная речь о «едином познавательном снаряде» и «соборе внечувственных добыч». Он разбился, летя, о стены прозрачной судьбы. Вот птица падает, и кровь капает из клюва. «В нас неотвязно маячит образ снаряда», «легкими летчиками (к познанию) крылим мы, все единя, для единого покрывала всеведения» – вот его прекрасные слова. Мы постигаем Божидара через отраженное колебание в сердцах, знавших его… «Такая ль воля не допета, пути ль не стало этой поступи?» – спросил Асеев, отвечая: «Гляди, гляди, больней и зорче», «Мы бьем, мы бьем по кольцам корчей. Идем, идем к тебе на выручу». Скорбь хорошая почва для воли. И к нашей русской кузне ста рек присоединяются очередные молотки Ниппона. Мы идем к общей цели, разгадке воли Азии=Ас+ц+у.
Конец 1916
261. Воззвание Председателей земного шара
Только мы, свернув ваши три года войны В один завиток грозной трубы, Поем и кричим, поем и кричим, Пьяные прелестью той истины, Что Правительство земного шара Уже существует. Оно – Мы. Только мы нацепили на свои лбы Дикие венки Правителей земного шара. Неумолимые в своей загорелой жестокости, Встав на глыбу захватного права, Подымая прапор времени, Мы – обжигатели сырых глин человечества В кувшины времени и балакири, Мы – зачинатели охоты за душами людей, Воем в седые морские рога, Скликаем людские стада – Эго-э! Кто с нами? Кто нам товарищ и друг? Эго-э! Кто за нами? Так пляшем мы, пастухи людей и Человечества, играя на волынке. Эво-э! Кто больше? Эво-э! Кто дальше? Только мы, встав на глыбу Себя и своих имен, Хотим среди моря ваших злобных зрачков, Пересеченных голодом виселиц И искаженных предсмертным ужасом, Около прибоя людского воя, Назвать и впредь величать себя Председателями земного шара. Какие наглецы – скажут некоторые, Нет, они святые, возразят другие. Но мы улыбнемся, как боги, И покажем рукою на Солнце. Поволоките его на веревке для собак, Повесьте его на словах: Равенство, братство, свобода, Судите его вашим судом судомоек За то, что в преддверьях Очень улыбчивой весны Оно вложило в нас эти красивые мысли, Эти слова и дало Эти гневные взоры. Виновник – Оно. Ведь мы исполняем солнечный шепот, Когда врываемся к вам, как Главноуполномоченные его приказов, Его строгих велений. Жирные толпы человечества Протянутся по нашим следам, Где мы прошли. Лондон, Париж и Чикаго Из благодарности заменят свои Имена нашими. Но мы простим им их глупость. Это дальнее будущее, А пока, матери, Уносите своих детей, Если покажется где-нибудь государство. Юноши, скачите и прячьтесь в пещеры И в глубь моря, Если увидите где-нибудь государство. Девушки и те, кто не выносит запаха мертвых, Падайте в обморок при слове «границы» Они пахнут трупами. Ведь каждая плаха была когда-то Хорошим сосновым деревом, Кудрявой сосной. Плаха плоха только тем, Что на ней рубят головы людям. Так, государство, и ты – Очень хорошее слово со сна – В нем есть 11 звуков, Много удобства и свежести, Ты росло в лесу слов: Пепельница, спичка, окурок, Равный меж равными. Но зачем оно кормится людьми? Зачем отечество стало людоедом, А родина его женой? Эй! Слушайте! Вот мы от имени всего человечества Обращаемся с переговорами К государствам прошлого: Если вы, о государства, прекрасны, Как вы любите сами о себе рассказывать И заставляете рассказывать о себе Своих слуг, То зачем эта пища богов? Зачем мы, люди, трещим у вас на челюстях Между клыками и коренными зубами? Слушайте, государства пространств, Ведь вот уже три года Вы делали вид, Что человечество – только пирожное, Сладкий сухарь, тающий у вас во рту; А если сухарь запрыгает бритвой и скажет: мамочка! Если его посыпать нами, Как ядом? Отныне мы приказываем заменить слова: «Милостью Божьей» – «Милостью Фиджи». Прилично ли Господину Земному Шару (Да творится воля его) Поощрять соборное людоедство В пределах себя? И не высоким ли холопством Со стороны людей, как едомых, Защищать своего верховного Едока? Послушайте! Даже муравьи Брызгают муравьиной кислотой на язык медведя. Если же возразят, Что государство пространств не подсудно, Как правовое соборное лицо, Не возразим ли мы, что и человек Тоже двурукое государство Шариков кровяных и тоже соборен. Если государства плохи, То кто из нас ударит палец о палец, Чтобы отсрочить их сон Под одеялом: на веки? Вы недовольны, о государства И их правительства, Вы предостерегающе щелкаете зубами И делаете прыжки. Что ж! Мы – высшая сила И всегда сможем ответить На мятеж государств, Мятеж рабов, – Метким письмом. Стоя на палубе слова «надгосударство звезды» И не нуждаясь в палке в час этой качки, Мы спрашиваем, что выше: Мы, в силу мятежного права, И неоспоримые в своем первенстве, Пользуясь охраной законов о изобретении И объявившие себя Председателями земного шара, Или вы, правительства Отдельных стран прошлого, Эти будничные остатки около боен Двуногих быков, Трупной влагой коих вы помазаны? Что касается нас, вождей человечества, Построенного нами по законам лучей При помощи уравнений рока, То мы отрицаем господ, Именующих себя правителями, Государствами и другими книгоиздательствами, И торговыми домами «Война и К°», Приставившими мельницы милого благополучия К уже трехлетнему водопаду Вашего пива и нашей крови С беззащитно красной волной. Мы видим государства, павшие на меч С отчаяния, что мы пришли. С родиной на устах, Обмахиваясь веером военно-полевого устава, Вами нагло выведена война В круг Невест человека. А вы, государства пространств, успокойтесь И не плачьте, как девочки. Как частное соглашение частных лиц, Вместе с обществами поклонников Данте, Разведения кроликов, борьбы с сусликами, Вы войдете под сень изданных нами законов. Мы вас не тронем. Раз в году вы будете собираться на годичные собрания, Делая смотр редеющим силам И опираясь на право союзов. Оставайтесь добровольным соглашением Частных лиц, никому не нужным И никому не важным, Скучным, как зубная боль У бабушки 17 столетия. Вы относитесь к нам, Как волосатая ного-рука обезьянки, Обожженная неведомым богом-пламенем, К руке мыслителя, спокойно Управляющей вселенной, Этого всадника оседланного рока. Больше того: мы основываем Общество для защиты государств От грубого и жестокого обращения Со стороны общин времени. Как стрелочники У встречных путей Прошлого и Будущего, Мы так же хладнокровно относимся К замене ваших государств Научно построенным человечеством, Как к замене липового лаптя Зеркальным заревом поезда. Товарищи-рабочие! Не сетуйте на нас: Мы, как рабочие-зодчие, Идем особой дорогой, к общей цели. Мы – особый род оружия. Итак, боевая перчатка Трех слов: Правительство земного шара – Брошена. Перерезанное красной молнией Голубое знамя безволода, Знамя ветреных зорь, утренних солнц Поднято и развевается над землей, Вот оно, друзья мои! Правительство земного шара.* * *
Пропуск в правительство звезды: Сун-ят-сену, Рабиндранат Тагору, Вильсону, Керенскому.Предложения
Законы быта да сменятся Уравнениями рока. Персидский ковер имен государств Да сменится лучом человечества. Мир понимается как луч. Вы – построение пространств, Мы – построение времени. Во имя проведения в жизнь Высоких начал противоденег Владельцам торговых и промышленных предприятий Дать погоны прапорщика Трудовых войск С сохранением за ними оклада Прапорщиков рабочих войск. Живая сила предприятий поступает В распоряжение мирных рабочих войск.21 апреля 1917
262. Лебе́дия будущего
Небокниги
На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа, и здесь творецкая община, тенепечатью на тенекнигах сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза-светоча нужные тенеписьмена. Новинки Земного Шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы советов. Некоторые, вдохновленные надписями тенекниг, удалялись на время, записывали свое вдохновение, и через полчаса, брошенное световым стеклом, оно, теневыми глаголами, показывалось на стене. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них последние новости. Некоторые, умирая, просили, чтобы весть о их смерти была напечатана на облаках.
В праздники устраивалась «живопись пальбой». Снарядами разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза – вспышкой синего дыма, губы – выстрелом алого дыма, волосы – серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя.
Земледелие. Пахарь в облаках
Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо, как волы. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целые потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля, земли всей задруги. Земли многих семей возделывались одним пахарем, закрытым весенними облаками.
Пути сообщения. Искрописьма
Подводная дорога со стеклянными стенами местами соединяла оба берега Волги. Степь еще более стала походить на море. Летом по бесконечной степи двигались сухопутные суда, бегая на колесах с помощью ветра и парусов. Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села. Каждый ловецкий поселок обзаводился своим полем для спуска воздушных челнов и своим приемником для лучистой беседы со всем земным шаром. Услышанные искровые голоса, поданные с другого конца земли, тотчас же печатались на тенекнигах.
Лечение глазами
Засев полей из облаков, тенекниги, сообщающие научную общину со всей звездой, паруса сухопутных судов, покрывавшие степь, точно море, стены площадей, как великие учителя молодости, сильно изменили Лебедию за два года. В теневых читальнях дети сразу читали одну и ту же книгу, страница за страницей перевертываемую перед ними человеком сзади них. Но храмы все-таки остались. Лучшим храмом считалось священное место пустынного бога, где в отгороженном месте получали право жить, умирать и расти растения, птицы и черепахи. Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей, будут ли это кроткие покорные глаза жабы, или каменный взгляд змеи, или отважные – льва, и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струн. Лечение глазами использовалось в таких же размерах, как теперь лечебные воды.
Деревня стала научной задругой, управляемой облачным пахарем. Крылатый творец твердо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.
И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.
2-я половина 1918
263. Союз изобретателей
Открытый в городе глубокого духовного застоя, городе Астрахани, Союз изобретателей медленно старается завоевать свое «право быть» и построить точку опоры в изобретении новых видов пищи, как мука из рыбы, тыквенный чай. Есть мнение, что возможна выработка «озерных щей», так как вода высыхающих ильменей насыщена мельчайшими живыми существами и, будучи прокипячена, очень питательна; вкус напоминает мясной отвар. В будущем, когда будет исследована съедобность отдельных видов этих невидимых обитателей воды, каждое озеро с искусственно разведенными в нем невидимыми обитателями будет походить на большую чашку озерных щей, доступную для всех.
Конечно, краевая научная мысль не оставит без должного внимания еще одной продовольственной возможности.
Жало мирового разума, управляемое ростом населения, будет настойчиво жалить все живые места косности и застоя.
Осень 1918
264. Открытие народного университета
Отчет
Вчера в Народной аудитории в присутствии будущих слушателей и всех сочувствующих делу народного образования состоялось открытие Высшей вечерней народной школы.
Товарищ Бакрадзе познакомил присутствующих с задачей нового очага знания – дать возможность рабочим посвятить просвещению свой вечерний отдых.
Выступившие с речами пр<офессора> Усов и Скрынников познакомили со взглядами современной науки на происхождение жизни на земле и влияние земного шара на живые существа.
Было прочтено несколько приветствий, в том числе от учащихся средней школы.
Мысли по поводу
В вступительном слове тов. Бакрадзе отметил, что, создавая высший вечерний храм знания, рабочая власть открывает доступ к Солнцу Науки для тех, чьи сутки делятся на три равные части: труда, отдыха и сна – и, будучи занят днем, должен посвятить жажде знания свой вечерний отдых.
Рабочих, до сих пор изгнанных, имела в виду пришедшая на смену царскому праву рабочая власть. Пусть все, кто видел храм науки в узкую щель, войдут в его широко распахнутые двери! Какие бы скачки ни делал путь мировой свободы, ничто не может грозить таким памятникам рабочего права, как только что открытый вечерний храм науки. Здесь путь, взятый рабочей властью, безошибочен.
Проф. Усов произнес слово о происхождении жизни на земле. Он указал, что мельчайшая жизненная пыль могла быть занесена на землю теми небесными камнями, какие с таким треском и шумом пролетают над землей. Это своего рода небесная почта, и каждый такой камень падает как письмо с соседней звезды. Не дело ли Человека Будущего это несовершенное детище природы взять в свои руки и молотом рабочего построить правильные сношения с соседними светилами, вероятно, тоже населенными, пусть и не людьми?
Думалось, может быть, правы те, кто хотят увенчать великую вой ну завоеванием месяца. Пока же «вести оттуда» долетают до нас как небесные камни.
Проф. Скрынников посвятил свою речь первым шагам жизни на земле. «Вести из будущего» осаждали сознание.
Невольно мысль переносилась в будущее, когда рука рабочего построит подводные дворцы для изучения глубин моря, на горе Богдо гордо подымется замок для исследования неба Лебедии – осада человеческим разумом тайн звездного мира, бесчисленные колодцы, вырытые в пустыне, покроют сыпучие пески садами и зеленью, напоминая чудеса, достигнутые французами в Сахаре, и стройный тополь привяжет к месту сыпучие пески устья Волги, так напоминающ<е>е Бельгию, <оно> станет одним цветущим городом, одной, покрытой садами, общиной-задругой, на пути к единой общине земного шара.
Думалось, что у устья Волги встречаются великие волны России, Китая и Индии и что здесь будет построен Храм изучения человеческих пород и законов наследственности, чтобы создать скрещиванием племен новую породу людей, будущих насельников Азии, а проследование индусской литературы будет напоминать, что Астрахань – окно в Индию. Думалось о том времени, когда единая для всего земного шара школагазета будет разносить по радио одни и те же чтения, выслушиваемые через граммофон и составленные собранием лучших умов человечества, верховным советом Воинов Разума.
Был прочтен привет от будущего, от учащихся средней школы.
26–27 ноября 1918
265. Открытие художественной галереи
В воскресенье, 15 декабря, состоялось открытие основанной П. Догадиным картинной галереи.
Составленное с большим вкусом собрание охватывает многие течения русской живописи, впрочем, не левее «Мира искусства».
Здесь и маститый Шишкин с его сухим и мертвенным письмом. Глаз этого художника рабски понимал природу, точно чечевица светописного прибора, рабски и верно. Он воссоздавал природу, как бездушный молчаливый раб, отказываясь от живописного вмешательства и волевого приказа.
Дерзкий красочный мятежник Малявин, «Разин алого холста», представлен сдержанным наброском к «Бабам». Этот художник, давший на своих холстах неслыханную свободу красному цвету, из которого в языческом сумраке выступает смуглая женщина русских полей, он своими холстами первый приучил глаз зрителя к «красному знамени».
Так, красное пламя его души рвалось навстречу нашего времени.
И. Репин расписался в своем бессилии и особой дряблой слащавости, коснувшись темы «Прометея».
Бенуа, как всегда, безличный и средний во всех отношениях, представлен видом вечернего Пекина. Нужно отметить увядающие «Розы» Сапунова и «Камни» Рериха.
Нестерову принадлежит большая прекрасная вещь «За Волгой», полная красоты гордого молчаливого увядания. Другая его вещь «Видение отрока Варфоломея», где мальчик в лаптях, с пастушеским бичом и золотым сиянием кругом русых волос, очарованный стоит перед своим видением – пришедшим с того света старцем, опершимся на дерево призраком, в клобуке инока. Эта вещь – жемчужина всего собрания.
Сурикову принадлежит голова стрельца, набросок к его «Стеньке Разину».
Несколькими вещами представлен Серов с его «кровным», сильным мазком и Сомов, владелец утонченной кисти «горожанина». Теодорович-Карповской принадлежит одна прекрасная вещь. Великий Врубель представлен наброском к «Царевне-Лебеди». Врубель, этот Мицкевич живописи, в алое бешенство Малявина, тихое отречение и уход от жизни Нестерова и неодолимую суровость Сурикова вносит свою струну языческой сказки и цветовой гордости.
Астраханские художественные силы, собранные теперь в общину художников, представлены красочным Кустодиевым, Мальцевым и Котовым. «Верочка» Котова, освещенная солнцем и утопающая в цветах, – крупная надежда.
В собрании есть, кроме того, письма Толстого, Скрябина, Достоевского и др<угих>.
Собрание охватывает русскую живопись между передвижниками и «Миром искусства».
Может быть, в будущем рядом с Бенуа появится неукротимый отрицатель Бурлюк или прекрасный страдальческий Филонов, малоизвестный певец городского страдания; а на стенах будет место лучизму Ларионова, беспредметной живописи Малевича и татлинизму Татлина.
Правда, у них часто не столько живописи, сколько дерзких взрывов всех живописных устоев; их холит та или иная взорванная художественная заповедь.
Как химик разлагает воду на кислород и водород, так и эти художники разложили живописное искусство на составные силы, то отымая у него начало краски, то начало черты. Это течение живописного анализа совсем не представлено в собрании Догадина.
Конец декабря 1918
266. Астраханская Джиоконда
Вы видели, наверное, покрытые старым теплым золотом потемневшие холсты, от времени точно одетые шелковистой кожей, особым пухом, налетом золотой пыли.
Вы видите руку великого художника, но подписи художника на картине нет.
На родине старинной живописи, в Италии, родные города берегут такие холсты, как свой единственный глаз.
Вы помните Джиоконду Леонардо да Винчи? Она была похищена каким-то своим безумным поклонником и после тысячи приключений все-таки вернулась в родной город, с великим торжеством.
Города, столетиями хранившие старинное полотно, становятся для него лучшей рамой.
Рама из городского населения, из живых людей, – чем она хуже деревянной?
У Астрахани есть своя Джиоконда. Это – Мадонна кисти великого Леонардо да Винчи; никому не известная и затерянная, она входила в собрание Сапожниковых, потом была раскопана известным художником Бенуа и продана им в Эрмитаж за 100 тысяч руб<лей>.
Просто и мило.
Не может ли эта картина рассматриваться как общенародное достояние города Астрахани?
Если – да, то бесценная эта картина должна быть водворена на свою вторую родину.
Петроград имеет достаточно художественных сокровищ, и взять из Астрахани Мадонну – не значит ли это отнять у бедного его последнюю овцу?
Кстати, Астраханская художественная галерея находится на Кутуме, против д<ома> Лбова.
Конец декабря 1918
267. Художники мира!
Мы долго искали такую, подобную чечевице, задачу, чтобы направленные ею к общей точке соединенные лучи труда художников и труда мыслителей встретились бы в общей работе и смогли бы зажечь и обратить в костер даже холодное вещество льда. Теперь такая задача – чечевица, направляющая вместе вашу бурную отвагу и холодный разум мыслителей, – найдена. Эта цель – создать общий письменный язык, общий для всех народов третьего спутника Солнца, построить письменные знаки, понятные и приемлемые для всей населенной человечеством звезды, затерянной в мире. Вы видите, что она достойна нашего времени. Живопись всегда говорила языком, доступным для всех. И народы китайцев и японцев говорят на сотне разных языков, но пишут и читают на одном письменном языке. Языки изменили своему славному прошлому. Когда-то, когда слова разрушали вражду и делали будущее прозрачным и спокойным, языки, шагая по ступеням, объединили людей 1) пещеры, 2) деревни, 3) племени, родового союза, 4) государства – в один разумный мир, союз меняющих ценности рассудка на одни и те же меновые звуки. Дикарь понимал дикаря и откладывал в сторону слепое оружие. Теперь они, изменив своему прошлому, служат делу вражды и, как своеобразные меновые звуки для обмена рассудочными товарами, разделили многоязыкое человечество на станы таможенной борьбы, на ряд словесных рынков, за пределами которого данный язык не имеет хождения. Каждый строй звучных денег притязает на верховенство, и, таким образом, языки как таковые служат разъединению человечества и ведут призрачные войны. Пусть один письменный язык будет спутником дальнейших судеб человека и явится новым собирающим вихрем, новым собирателем человеческого рода. Немые – начертательные знаки – помирят многоголосицу языков.
На долю художников мысли падает построение азбуки понятий, строя основных единиц мысли, – из них строится здание слова.
Задача художников краски дать основным единицам разума начертательные знаки.
Мы сделали часть труда, падающего на долю мыслителей, мы стоим на первой площадке лестницы мыслителей и застаем на ней уже подымавшихся художников Китая и Японии – привет им! Вот что видно с этой лестницы мыслителей: виды на общечеловеческую.
Азбуку, открывающиеся с лестницы мыслителей. Пока, не доказывая, я утверждаю, что:
1) В на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу или по части его, дуге, вверх и назад.
2) Что Х значит замкнутую кривую, отделяющую преградой положение одной точки от движения к ней другой точки (защитная черта).
3) Что З значит отражение движущейся точки от черты зеркала под углом, равным углу падения. Удар луча о твердую плоскость.
4) Что М значит распад некоторой величины на бесконечно малые, в пределе, части, равные в целом первой величине.
5) Что Ш значит слияние нескольких поверхностей в одну поверхность и слияние границ между ними. Стремление одномерного мира данных размеров очертить наибольшую площадь двумерного мира.
6) Что П означает рост по прямой пустоты между двумя точками, движение по прямому пути одной точки прочь от другой и, как итог, для точечного множества, бурный рост объема, занимаемого некоторым числом точек.
7) Что Ч означает пустоту одного тела, заполненную объемом другого тела, так что отрицательный объем первого тела точно равен положительному объему второго. Это полый двумерный мир, служащий оболочкой трехмерному телу – в пределе.
8) Что Л значит распространение наиболее низких волн на наиболее широкую поверхность, поперечную движущейся точке, исчезание измерения высоты во время роста измерений широты, при данном объеме бесконечно малая высота при бесконечно больших двух других осях – становления тела двумерным из трехмерного.
9) Что К значит отсутствие движения, покой сети и точек, сохранение ими взаимного положения; конец движения.
10) Что С значит неподвижную точку, служащую исходной точкой движения многих других точек, начинающих в ней свой путь.
11) Что Т означает направление, где неподвижная точка создала отсутствие движения среди множества движений в том же направлении, отрицательный путь и его направление за неподвижной точкой.
12) Д значит переход точки из одного точечного мира в другой точечный мир, преображенный присоединением этой точки.
13) Что Г значит наибольшие колебания, вышина которых направлена поперек движения, вытянутые вдоль луча движения. Движения предельной вышины.
14) Что И значит отсутствие точек, чистое поле.
15) Что Б значит встречу двух точек, движущихся по прямой с разных сторон. Борьба их, поворот одной точки от удара другой.
16) Что Ц значит проход одного тела через пустое место в другом.
17) Что Щ означает разбивку поверхности, целой раньше, на разные участки, при неподвижном объеме.
18) Что Р значит разделение тела «плоской пещерой» как след движения через него другого тела.
19) Что Ж значит движение из замкнутого объема, отделение свободных точечных миров.
Итак, с нашей площадки лестницы мыслителей стало ясно, что простые тела языка – звуки азбуки – суть имена разных видов пространства, перечень случаев его жизни. Азбука, общая для многих народов, есть краткий словарь пространственного мира, такого близкого вашему, художники, искусству и вашей кисти.
Отдельное слово походит на небольшой трудовой союз, где первый звук слова походит на председателя союза, управляя всем множеством звуков слова. Если собрать все слова, начатые одинаковым согласным звуком, то окажется, что эти слова, подобно тому, как небесные камни часто падают из одной точки неба, все такие слова летят из одной и той же точки мысли о пространстве. Эта точка и принималась за значение звука азбуки, как простейшего имени.
Так, 20 имен построек, начатых с Х, защищающих точку человека от враждебной точки непогоды, холода или врагов, достаточно прочно несут на своих плечах тяжесть второго утверждения и т. д.
Задачей труда художников было бы дать каждому виду пространства особый знак. Он должен быть простым и не походить на другие. Можно было бы прибегнуть к способу красок и обозначить м темно-синим, в – зеленым, б – красным, с – серым, л – белым и т. д. Но можно было бы для этого мирового словаря, самого краткого из существующих, сохранить начертательные знаки. Конечно, жизнь внесет свои поправки, но в жизни всегда так бывало, что вначале знак понятия был простым чертежом этого понятия. И уж из этого зерна росло дерево особой буквенной жизни.
Но это ваша, художники, задача изменить или усовершенствовать эти знаки. Если вы построите их, вы завяжете узел общезвездного труда.
Предполагаемый опыт обратить заумный язык из дикого состояния в домашнее, заставить его носить полезные тяжести заслуживает внимания.
Ведь «вритти» и по-санскритски значит «вращение», а «хата» и по-египетски «хата».
Задача единого мирового научно построенного языка все яснее и яснее выступает перед человечеством.
Задачей вашей, художники, было бы построить удобные меновые знаки между ценностями звука и ценностями глаза, построить сеть внушающих доверие чертежных знаков.
В азбуке уже дана мировая сеть звуковых «образов» для разных видов пространства; теперь следует построить вторую сеть – письменных знаков – немые деньги на разговорных рынках.
Конечно, вы будете бояться чужого вдохновения и следовать своему пути.
* * *
Предлагаю первые опыты заумного языка как языка будущего, с той оговоркой, что гласные звуки здесь случайны и служат благозвучию. Вместо того, чтобы говорить:
«Соединившись вместе, орды гуннов и готов, собравшись кругом Аттилы, полные боевого воодушевления, двинулись далее вместе, но, встреченные и отраженные Аэцием, защитником Рима, рассеялись на множество шаек и остановились и успокоились на своей земле, разлившись в степях, заполняя их пустоту», – не следовало ли сказать:
«Ша+ со (гуннов и готов), вэ Аттилы, ча по, со до, но бо+зо Аэция, хо Рима, со мо вэ+ка со, ло ша степей +ча». Так звучит с помощью струн азбуки первый рассказ.
Или: «Вэ со человеческого рода бэ го языков, пэ умов вэ со ша языков, бо мо слов мо ка разума ча звуков по со до лу земли мо со языков вэ земли».
То есть: «Думая о соединении человеческого рода, но столкнувшись с горами языков, бурный огонь наших умов, вращаясь около соединенного заумного языка, достигая распылением слов на единицы мысли в оболочке звуков, бурно и вместе идет к признанию на всей земле единого заумного языка».
Конечно, эти опыты еще первый крик младенца, и здесь предстоит работа, но общий образ мирового грядущего языка дан. Это будет язык «заумный».
13 апреля 1919
268. Наша основа
§ 1. Словотворчество
Если вы находитесь в роще, вы видите дубы, сосны, ели… Сосны с холодным темным синеватым отливом, красная радость еловых шишек, голубое серебро березовой чащи там, вдали.
Но все это разнообразие листвы, стволов, веток создано горстью почти неотличимых друг от друга зерен. Весь лес в будущем поместится у вас на ладони. Словотворчество учит, что все разнообразие слова исходит от основных звуков азбуки, заменяющих семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и новый сеятель языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки, зернами языка. Если у вас есть водород и кислород, вы можете заполнить водой сухое дно моря и пустые русла рек.
Вся полнота языка должна быть разложена на основные единицы «азбучных истин», и тогда для звуко-веществ может быть построено что-то вроде закона Менделеева или закона Мозелея – последней вершины химической мысли. Общественные деятели вряд ли учитывали тот вред, который наносится неудачно построенным словом. Это потому, что нет счетоводных книг расходования народного разума. И нет путейцев языка. Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье. Кто из Москвы в Киев поедет через Нью-Йорк? А какая строчка современного книжного языка свободна от таких путешествий? Это потому, что нет науки словотворчества.
Если б оказалось, что законы простых тел азбуки одинаковы для семьи языков, то для всей этой семьи народов можно было бы построить новый мировой язык – поезд с зеркалами слов Нью-Йорк – Москва. Если имеем две соседние долины с стеной гор между ними, путник может или взорвать эту гряду гор, или начать долгий окружной путь.
Словотворчество есть взрыв языкового молчания, глухонемых пластов языка.
Заменив в старом слове один звук другим, мы сразу создаем путь из одной долины языка в другую и, как путейцы, пролагаем пути сообщения в стране слов через хребты языкового молчания.
«Лысый язык» покрывает всходами свои поляны. Слово делится на чистое и на бытовое. Можно думать, что в нем скрыт ночной звездный разум и дневной солнечный. Это потому, что какое-нибудь одно бытовое значение слова так же закрывает все остальные его значения, как днем исчезают все светила звездной ночи. Но для небоведа солнце – такая же пылинка, как и все остальные звезды. И это простой быт, это случай, что мы находимся именно около данного солнца. И солнце ничем не отличается от других звезд. Отделяясь от бытового языка, самовитое слово так же отличается от живого, как вращение земли кругом солнца отличается от бытового вращения солнца кругом земли. Самовитое слово отрешается от призраков данной бытовой обстановки и на смену самоочевидной лжи строит звездные сумерки. Так, слово зиры значит и звезды, и глаз; слово зень – и глаз, и землю. Но что общего между глазом и землей? Значит, это слово означает не человеческий глаз, не землю, населенную человеком, а что-то третье. И это третье потонуло бытовом значении слова, одном из возможных, но самом близком к человеку. Может быть, зень значило зеркальный прибор, отражающ<ую> площадь. Или взять два слова ладья и ладонь. Звездное, выступающее при свете сумерек, значение этого слова: расширенная поверхность, в которую опирается путь силы, как копье, ударившее в латы. Таким образом, ночь быта позволяет видеть слабые значения слов, похожие на слабые видения ночи. Можно сказать, что бытовой язык – тени великих законов чистого слова, упавшие на неровную поверхность.
Когда-то языки объединяли людей. Перенесемся в каменный век. Ночь, костры, работа черными каменными молотками. Вдруг шаги; все бросились к оружию и замерли в угрожающих осанках. Но вот из темноты донеслось знакомое имя, и сразу стало ясно: идут свои. «Свои!» – доносится из темноты с каждым словом общего языка. Язык так же соединял, как знакомый голос. Оружие – признак трусости. Если углубиться в него, то окажется, что оружие есть добавочный словарь для говорящих на другом языке – карманный словарь.
Как устрашающие одежды для иноплеменников языки заслуживают участи тигров в захолустном зверинце, кои, собрав достаточно возгласов удивления, обмениваются впечатлениями дня: «А что вы думаете?» – «Я получаю два рубля в сутки». – «Это стоит!»
Можно подумать, что наука роковым образом идет по тому пути, по которому уже шел язык. Мировой закон Лоренца говорит, что тело сплющивается в направлении, поперечном давлению. Но этот закон и есть содержание «простого имени» Л: значит ли Л-имя лямку, лопасть, лист дерева, лыжу, лодку, лапу, лужу ливня, луг, лежанку – везде силовой луч движения разливается по широкой поперечной лучу поверхности, до равновесия силового луча с против о силами. Расширившись в поперечной площади, весовой луч делается легким и не падает, будет ли этот силовой луч весом моряка, лыжебежца, тяжестью судна на груди бурлака или путем капли ливня, переходящей в плоскость лужи. Знал ли язык про поперечное колебание луча, луч-вихрь? Знал ли, что где v – скорость тела, с – скорость света?
По-видимому, язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его. Иногда он может служить для решения отвлеченных задач. Так, попытаемся с помощью языка измерить длину волн добра и зла. Мудростью языка давно уже вскрыта световая природа мира. Его «я» совпадает с жизнью света. Сквозь нравы сквозит огонь. Человек живет на «белом свете» с его предельной скоростью 300 000 километров и мечтает о «том свете» со скоростью большей скорости света. Мудрость языка шла впереди мудрости наук. Вот два столбца, где языком рассказана световая природа нравов, а человек понят как световое явление, здесь человек – часть световой области.
Если свет есть один из видов молнии, то этими двумя столбцами рассказана молнийно-световая природа человека, а следовательно, нравственного мира. Еще немного – и мы построим уравнение отвлеченных задач нравственности, исходя из того, что начало «греха» лежит на черном и горячем конце света, а начало добра – на светлом и холодном. Черные черти – боги пекла, где души грешников, не есть ли они волны невидимого теплого света?
Итак, в этом примере языкознание идет впереди естественных наук и пытается измерить нравственный мир, сделав его главой ученья о луче.
Если мы имеем пару таких слов, как двор и твор, и знаем о слове дворяне, мы можем построить слово творяне – творцы жизни. Или, если мы знаем слово землероб, мы можем создать слово время-пахарь, времяроб, т. е. назвать прямым словом людей, так же возделывающих свое время, как земледелец свою почву. Возьмем такие слова: миропахарь или нраво, или нравда ‹…›. Вы замечаете, как здесь, заменой п буквой н, мы перешли из области глагола править в область владений нравиться. Также возможны слова нравитель, нравительство ‹…›.
Слову боец мы можем построить поец, ноец, моец. Именам рек Днепр и Днестр – поток с порогами и быстрый поток – можем построить Мнепр и Мнестр (Петников), быстро струящийся дух личного сознания и струящийся через преграды «пр»; красивое слово Гнестр – быстрая гибель; или волестр: народный волестр – или огнепр и огнестр, Снепр и Снестр – от сна, сниться. «Мне снился снестр…» Есть слово я, и есть слово во мне, меня. Здесь можем возродить ‹…› – разум, от которого исходит слово. Слову вервие мыслимо мервие и мервый – умирающий; немервый – бессмертный. Слово князь дает право на жизнь мнязь – мыслитель и лнязь, и днязь. Звук, похожий на звук. Звач тот, кто зовет. Правительство, которое хотело бы опереться только на то, что оно нравится, могло бы себя назвать нравительством. Нравда и правда. Слову ветер отвечает петер от глагола петь. «Это ветра ласковый петер…» Слову земец соответствует темец. И обратно: земена, земьянин, земеса; слово бритва дает право построить мритва, орудие смерти. Мы говорим: он хитер. Но мы можем говорить: он битер. Опираясь на слово бивень, можем сказать хивень. «Хивень полей – колос…»
Возьмем слово лебедь. Это звукопись. Длинная шея лебедя напоминает путь падающей воды; широкие крылья – воду, разливающуюся по озеру. Глагол лить дает лебу – проливаемую воду, а конец слова – ядь напоминает черный и чернядь (название одного вида уток). Стало быть, мы можем построить – небеди, небяжеский: «В этот вечер за лесом летела чета небедей».
Вы помните, какую иногда свободу от данного мира дает опечатка. Такая опечатка, рожденная несознанной волей наборщика, вдруг дает смысл целой вещи и есть один из видов оборного творчества и поэтому может быть приветствуема как желанная помощь художнику. Слово цветы позволяет построить мветы, сильное неожиданностью. Моложава, моложавый дает слово хорошава: «хорошава весны»; «Эта осень опять холожава». <Борозда>, праздник – морозда, мраздник. Если есть звезды, могут быть мнезды. «И мнезды меня озаряют». Чудо и чудеса дает слова худеса, времеса, судеса, инеса. «Но врачесо замирной воли… и инеса седых времен, и тихеса – в них тонет поле, – и собеса моих имен». «Так инесо вторгалось в трудеса». Полон строит молон. Подобно слову лихачи, воины могут иметь имя мечачи. Трудавец, груздь, трусть.
Словотворчество – враг книжного окаменения языка и, опираясь на то, что в деревне около рек и лесов до сих пор язык творится, каждое мгновение создавая слова, которые то умирают, то получают право бессмертия, переносит это право в жизнь писем. Новое слово не только должно быть названо, но и быть направленным к называемой вещи. Словотворчество не нарушает законов языка. Другой путь словотворчества – внутреннее склонение слов. Если современный человек населяет обедневшие воды рек тучами рыб, то языководство дает право населить новой жизнью, вымершими или несуществующими словами, оскудевшие волны языка. Верим, они снова заиграют жизнью, как в первые дни творения.
§ 2. Заумный язык
Значение слов естественного, бытового языка нам понятно. Как мальчик во время игры может вообразить, что тот стул, на котором он сидит, есть настоящий, кровный конь, и стул на время игры заменит ему коня, так и во время устной и письменной речи маленькое слово солнце в условном мире людского разговора заменит прекрасную, величественную звезду. Замененное словесной игрушкой, величественное, спокойно сияющее светило охотно соглашается на дательный и родительный падежи, примененные к его наместнику в языке. Но это равенство условно: если настоящее исчезнет, а останется только слово солнце, то ведь оно не сможет сиять на небе и согревать землю, земля замерзнет, обратится в снежок в кулаке мирового пространства. Также, играя в куклы, ребенок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен; устраивать свадьбу двух собраний тряпок, совершенно неотличимых друг от друга, в лучшем случае с плоскими тупыми концами головы. Во время игры эти тряпочки – живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, – участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы – просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово – звуковая кукла, словарь – собрание игрушек. Но язык естественно развивался из немногих основных единиц азбуки; согласные и гласные звуки были струнами этой игры в звуковые куклы. А если брать сочетания этих звуков в вольном порядке, например: бобэоби или дыр бул щ<ы>л, или Манч! Манч! <или> чи брео зо! – то такие слова не принадлежат ни к какому языку, но в то же время что-то говорят, что-то неуловимое, но все-таки существующее.
Если звуковая кукла солнце позволяет в нашей человеческой игре дергать за уши и усы великолепную звезду руками жалких смертных, всякими дательными падежами, на которые никогда бы не согласилось настоящее солнце, то те же тряпочки слов все-таки не дают куклы солнца. Но все-таки это те же тряпочки, и как таковые они что-то значат. Но так как прямо они ничего не дают сознанию (не годятся для игры в куклы), то эти свободные сочетания, игра голоса вне слов, названы заумным языком. Заумный язык – значит находящийся за пределами разума. Сравни Зареч<ь>е – место, лежащее за рекой, Задоншина – за Доном. То, что в заклинаниях, заговорах заумный язык господствует и вытесняет разумный, доказывает, что у него особая власть над сознанием, особые права на жизнь наряду с разумным. Но есть путь сделать заумный язык разумным.
Если взять одно слово, допустим, чашка, то мы не знаем, какое значение имеет для целого слова каждый отдельный звук. Но если собрать все слова с первым звуком Ч (чаша, череп, чан, чулок и т. д.), то все остальные звуки друг друга уничтожат, и о общее значение, какое есть у этих слов, и будет значением Ч. Сравнивая эти слова на Ч, мы видим, что все они значат «одно тело в оболочке другого»; Ч – значит «оболочка». И таким образом заумный язык перестает быть заумным. Он делается игрой на осознанной нами азбуке – новым искусством, у порога которого мы стоим.
Заумный язык исходит из двух предпосылок:
1. Первая согласная простого слова управляет всем словом – приказывает остальным.
2. Слова, начатые одной и той же согласной, объединяются одним и тем же понятием и как бы летят с разных сторон в одну и ту же точку рассудка.
Если взять слова чаша и чёботы, то обоими словами правит, приказывает звук Ч. Если собрать слова на Ч: чулок, чеботы, черевики, чувяк, чуни, чуп<а>ки, чехол и чаша, чара, чан, челнок, череп, чахотка, чучело, – то видим, что все эти слова встречаются в точке следующего образа. Будет ли это чулок или чаша, в обоих случаях объем одного тела (ноги или воды) пополняет пустоту другого тела, служащего ему поверхностью. Отсюда чара как волшебная оболочка, сковывающая волю очарованного – воду по отношению чары, отсюда чаять, то есть быть чашей для вод будущего. Таким образом Ч есть не только звук, Ч – есть имя, неделимое тело языка.
Если окажется, что Ч во всех языках имеет одно и то же значение, то решен вопрос о мировом языке: все виды обуви будут называться Че ноги, все виды чашек – Че воды, ясно и просто. Во всяком случае хата значит хата не только по-русски, но и по-египетски; В в индоевропейских языках означает «вращение». Опираясь на слова хата, хижина, халупа, хутор, храм, хранилище, мы видим, что значение <Х> – «черта преграды между точкой и движущейся к ней другой точкой». Значение В в вращении одной точки около другой неподвижной. Отсюда – вир, вол, ворот, вьюга, вихрь и много других слов. М – «деление одной величины на бесконечно малые части». Значение Л – «переход тела, вытянутого вдоль оси движения, в тело, вытянутое в двух измерениях, поперечных пути движения». Например, площадь лужи и капля ливня, лодка, лямка. Значение Ш – «слияние поверхностей, уничтожение границ между ними». Значение К – «неподвижная точка, прикрепляющая сеть подвижных». Таким образом, заумный язык есть грядущий мировой язык в зародыше. Только он может соединить людей. Умные языки уже разъединяют.
Утверждение азбуки
Слова на Л: лодка, лыжи, ладья, ладонь, лапа, лист, лопух, лопасть, лепесток, ласты, лямка, искусство лета, луч, лог, лежанка, проливать, лить… Возьмем ловца на лодке: его вес распределяется на широкую поверхность лодки. Точка приложения силы разливается на широкую площадь, и тяжесть делается тем слабее, чем шире эта площадь. Пловец делается легким. Поэтому Л можно определить как уменьшение силы в каждой данной точке, вызванное ростом поля ее приложения. Падающее тело останавливается, опираясь на достаточно большую поверхность. В общественном строе такому сдвигу отвечает сдвиг от думской России к советской России, так как новым строем вес власти разлит на несравненно более широкую площадь носителей власти: пловец – государство – <опирается> на лодку широкого народовластья.
Итак, каждый согласный звук скрывает за собой некоторый образ и есть имя. Что же касается гласных звуков, то относительно О и Ы можно сказать, что стрелки их значений направлены в разные стороны и они дают словам обратные значения (войти и выйти, сой – род и сый – особь, неделимое; бо – причина и бы – желание, свободная воля). Но гласные звуки менее изучены, чем согласные.
§ 3. Математическое понимание истории. Гамма Будетлянина
Мы знаем про гаммы индусскую, китайскую, эллинскую. Присущее каждому из этих народов свое понимание звуковой красоты особым звукорядом соединяет колебание струн. Все же богом каждого звукоряда было число. Гамма будетлян особым звукорядом соединяет и великие колебания человечества, вызывающие войны, и удары отдельного человеческого сердца. Если понимать все человечество как струну, то более настойчивое изучение дает время в 317 лет между двумя ударами струны. Чтобы определить это время, удобен способ изучения подобных точек. Перелистаем страницы прошлого. Мы увидим, что законы Наполеона вышли в свет через 317х4 после законов Юстиниана – 533 год. Что две империи, Германская – 1871 год, и Римская – 31 год, основаны через 317х6 одна после другой. Борьба за господство на море о́строва суши Англии и Германии в 1915 году за 317х2 до себя имела великую войну Китая и Японии при Хубилайхане в 1281 году. Русско-японская война 1905 года была через 317 лет после Англо-испанской войны 1588 года. Великое переселение народов в 376 году за 317х11 до себя имело переселение индусских народов в 3111 году (эра Кали-юга). Итак, 317 лет – не призрак, выдуманный больным воображением, и не бред, но такая же весомость, как год, сутки земли, сутки солнца.
Гамма состоит из следующих звеньев: 317 дней, сутки, 237 секунд, шаг пехотинца или удар сердца, равный ему во времени, одно колебание струны А и колебание самого низкого звука азбуки – У. Пехотинец германской пехоты по военному уставу должен делать 81 или 80 шагов в минуту. Следовательно, в сутки он сделает 365х317 шагов, то есть столько шагов, сколько суток содержится в 317 годах – времени одного удара струны человечества. Столько же делает ударов среднее женское сердце. Разделив это время одного шага на 317 частей, получим 424 колебания в секунду, то есть одно колебание струны А. Эта струна есть как бы ось звучащего искусства. Приняв средний удар мужского сердца в 70 ударов в секунду и допустив, что этот удар есть год, которому нужно найти день, находим день в колебании той же струны А: в среднем ударе мужского сердца оно содержится 365 раз. Эта гамма сковывает в один звукоряд войны, года, сутки, шаги, удары сердца, то есть вводит нас в великое звуковое искусство будущего. Струна А в средневековом немецком строе и французском несколько не совпадает, но это не меняет положения дела. Звук У по исследованиям Щербы делает 432 колебания в секунду. Если взять ряд: 133.225 лет для колебаний материков, понимаемых как плоские струны, 317 лет для колебаний струны войн, год, 317 дней для жизни памяти и чувств, сутки, 237 секунд, 1/80 и 1/70 части минуты и 1/439 и 1/426 части секунды, – то перед нами будет цепь времен а1, а2, а3, а4…. аn-1, аn, связанных по такому закону: an в 365 или в 317 раз менее аn-1. Этот ряд убывающих времен и есть Гамма Будетлянина. Вообразите парня с острым и беспокойным взглядом, в руках у него что-то вроде балалайки со струнами. Он играет. Звучание одной струны вызывает сдвиги человечества через 317. Звучание другой – шаги и удары сердца, третья – главная ось звукового мира. Перед вами будетлянин со своей «балалайкой». На ней прикованный к струнам трепещет призрак человечества. А будетлянин играет, и ему кажется, что вражду стран можно заменить ворожбой струн.
Когда наука измерила волны света, изучила их при свете чисел, стало возможным управление ходом лучей. Эти зеркала приближают к письменному столу вид отдаленной звезды, дают доступные для зрения размеры бесконечно малым вещам, прежде невидимым, и делают из людей по отношению к миру отдельной волны луча полновластных божеств. Допустим, что волна света населена разумными существами, обладающими своим правительством, законами и даже пророками. Не будет ли для них ученый, прибором зеркал правящий уходом волн, казаться всемогущим божеством? Если на такой волне найдутся свои пророки, они будут прославлять могущество ученого и льстить ему: «Ты дхнешь, и двигнешь океаны! Речешь, и вспять они текут!»; будут грустить, что это им недоступно.
Теперь, изучив огромные лучи человеческой судьбы, волны которой населены людьми, а один удар длится столетия, человеческая мысль надеется применить и к ним зеркальные приемы управления, построить власть, состоящую из двояковыпуклых и <двояко>вогнутых стекол. Можно думать, что столетние колебания нашего великанского луча будут так же послушны ученому, как и бесконечно малые волны светового луча. Тогда люди сразу будут и народом, населяющим волну луча, и ученым, управляющим ходом этих лучей, изменяя их путь по произволу. Конечно, это задача грядущего времени. Наша задача только указать на закономерность человеческой судьбы, дать ей умственное очертание луча и измерить во времени и пространстве. Это делается для того, чтобы перенести законодательство на письменный стол ученого, а рухнувшее дерево тысячелетнего римского права заменить уравнениями и числовыми законами учения о движениях луча. Нужно помнить, что человек в конце концов молния, что существует большая молния человеческого рода – и молния земного шара. Удивительно ли, что народы, даже не зная друг друга, связаны один с другим точными законами?
Например, есть закон рождений подобных людей. Он гласит, что луч, гребни волн которого отмечены годом рождения великих людей с одинаковой судьбой, совершает одно свое колебание в 365 лет. Так, если Кеплер родился в 1571 году и его жизнь, посвященная доказательству вращения Земли около Солнца, в целом была высшей точкой европейской мысли за ряд столетий, то за 365х3 до него, в 476 году родился «вершина индусской мысли» Ариабхата, провозгласивший в стране йогов то же самое вращение Земли. Во времена Коперника смутно знали про Индию и, если бы люди не были молниями, закономерно связанными друг с другом, было бы удивительно это рождение Кеплера с тем же самым жизненным заданием, что и у Ариабхаты, через закономерный срок. Так же величайший логик Греции Аристотель, попытавшийся дать законы правильного разума, искусства рассуждать, родился в 384 году за 365х6 до Джона Стюарта Милля, 1804. Милль – величайший логик Европы, собственно, Англии. Или возьмем имена Эсхила, Магомета (сборник стихов, Коран), Фирдуси, Гафиза. Это – великие поэты греков, арабов и персов, одни из тех людей, которые рождаются только раз на всем протяжении судьбы данного народа. Это – летучий голландец одной и той же судьбы в морях разных народов. Возьмите года их рождения: 525 до Р. Х., 571 после Р. Х., 935 и 1300 год – четыре точки во времени, разделенные всплеском во<лн>ы в 365 лет. Или мыслители: Фихте, 1762, и Платон, 428, за 365х6 лет до него, то есть за шесть ударов рока. Или основатели классицизма: Конфуций, 551 до Р. Х., и Расин, 1639. Здесь связаны шестью мерами Франция и седой Китай; мы воображаем брезгливую улыбку Франции и ее «Фидонк»: не любит Китая. Эти данные указывают на поверхностность понятия государства и народов. Точные законы свободно пересекают государства и не замечают их, как рентгеновские лучи проходят через мышцы и дают отпечаток костей: они раздевают человечество от лохмотьев государства и дают другую ткань – звездное небо.
Вместе с тем они дают предвидение будущего не с пеной на устах, как у древних пророков, а при помощи холодного умственного расчета. Сейчас, благодаря находке волны луча рождения, не шутя можно сказать, что в таком-то году родится некоторый человек, скажем, «некто», с судьбой, похожей на судьбу родившегося за 365 лет до него. Таким образом меняется и наше отношение к смерти: мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия.
Вместе с тем происходит сдвиг в нашем отношении к времени. Пусть время есть некоторый ряд точек а, b, с, d… m. До сих пор природу одной точки времени выводили из природы ее ближайшей соседки. За мышлением этого вида было спрятано действие вычитания; говорилось: точки а и b подобны, если а – b возможно более близко к нулю. Новое отношение к времени выводит на первое место действие деления и говорит, что дальние точки могут быть более тождественны, чем две соседние, и что точки m и n тогда подобны, если m – n делится без остатка на y. В законе рождений у = 365 годам, в лице войн y = 365 – 48=317 годам. Начала государств кратны 413 годам, то есть 365+48; так, начало России в 862 году – через 413 после начала Англии, 449 год; начало Франции, 486, через (413х3) после начала Рима в 753 году. Этим понятием время необыкновенно сближается с природой чисел, то есть с миром прерывных, разорванных величин. Мы начинаем понимать время как отвлеченную задачу деления при свете земной обстановки. Точное изучение времени приводит к раздвоению человечества, так как собрание свойств, приписывавшихся раньше божествам, достигается изучением самого себя, а такое изучение и есть не что иное, как человечество, верующее в человечество.
Изумительно, что и человек как таковой носит на себе печать того самого счета. Если Петрарка написал в честь Лауры 317 сонетов, а число судов во флоте часто равно 318, то и тело человека содержит в себе 317х2 мышц = 634, (или) 317 пар. Костей в человеке 48х5 = 240, поверхность кровяного шарика равна поверхности земного шара, деленной на 365 в десятой степени.
* * *
1. Стекла и чечевицы, изменяющие лучи судьбы, – грядущий удел человечества. Мы должны раздвоиться: быть и ученым, руководящим лучами, и племенем, населяющим волны луча, подвластного воле ученого.
2. По мере того, как обнажаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны.
3. Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать клинопись созвездий. Понять волю звезд – это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли состоит путь деления, чтобы избавиться от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества. Пусть власть звезд будет беспроволочной.
Один из путей – Гамма Будетлянина, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца.
Май 1919
269. О современной поэзии
Слово живет двойной жизнью.
То оно просто растет как растение, плодит друзу звучных камней, соседних ему, и тогда начало звука живет самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идет на службу разуму, звук перестает быть «всевеликим» и самодержавным: звук становится «именем» и покорно исполняет приказы разума; тогда этот второй – вечной игрой цветет друзой себе подобных камней.
То разум говорит «слушаюсь» звуку, то чистый звук – чистому разуму.
Эта борьба миров, борьба двух властей, всегда происходящая в слове, дает двойную жизнь языка: два круга летающих звезд.
В одном творчестве разум вращается кругом звука, описывая круговые пути, в другом – звук кругом разума.
Иногда солнце – звук, а земля – понятие; иногда солнце – понятие, а земля – звук.
Или страна лучистого разума, или страна лучистого звука.
И вот дерево слов одевается то этим, то другим гулом, то празднично, как вишня, одевается нарядом словесного цветения, то приносит плоды тучных овощей разума. Не трудно заметить, что время словесного звучания есть брачное время языка, месяц женихающихся слов, а время налитых разумом слов, когда снуют пчелы читателя, время осеннего изобилия, время семьи и детей.
В творчестве Толстого, Пушкина, Достоевского слово-развитие, бывшее цветком у Карамзина, приносит уже тучные плоды смысла. У Пушкина языковой север женихал<ся> с языковым западом. При Алексее Михайловиче польский язык был придворным языком Москвы.
Это черты быта. В Пушкине слова звучали на «ение», у Бальмонта – на «ость». И вдруг родилась воля к свободе от быта – выйти на глубину чистого слова. Долой быт племен, наречий, широт и долгот.
На каком-то незримом дереве слова зацвели, прыгая в небо, как почки, следуя весенней силе, рассеивая себя во все стороны, и в этом творчество и хмель молодых течений.
Петников в «Быте Побегов» и «Поросли Солнца» упорно и строго, с сильным нажимом воли ткет свой «узорник ветровых событий», и ясный волевой холод его письма и строгое лезвие разума, управляющее словом, где «в суровом былье влажный мнестр» и есть «отблеск всеневозможной выси», ясно проводят черту между ним и его солетником Асеевым.
«Пыл липы весенней не свеяв», растет тихая и четкая дума Петникова «как медленный полет птицы, летящей к знакомому вечернему дереву», «узорами северной вицы» растет она, ясная и прозрачная.
Крыло европейского разума парит над его творчеством в отличие от азийского, персидско-гафизского упоения словесными кущами в чистоте их цветов у Асеева.
Другой Гастев.
Это обломок рабочего пожара, взятого в его чистой сущности, это не «ты» и не «он», а твердое «я» пожара рабочей свободы, это заводский гудок, протягивающий руку из пламени, чтобы снять венок с головы усталого Пушкина – чугунные листья, расплавленные в огненной руке.
Язык, взятый взаймы у пыльных книгохранилищ, у лживых ежедневных простынь, чужой и не свой язык, на службе у разума свободы. «И у меня есть разум, – восклицает она, – я не только тело», «дайте мне членораздельное слово, снимите повязку с моих губ». Полная огня в блистающем наряде цветов крови, она берет взаймы обветшавшие, умершие слова, но и на его пыльных струнах сумела сыграть песни рабочего удара, грозные и иногда величественные, из треугольника: 1) наука, 2) земная звезда, 3) мышцы рабочей руки. Он мужественно смотрит на то время, когда «для атеистов проснутся боги Эллады, великаны мысли залепечут детские молитвы, тысяча лучших поэтов бросится в море»; то «мы», в строю которого заключено «я» Гастева, мужественно восклицает «но пусть».
Он смело идет в то время, когда «земля зарыдает», а руки рабочего вмешаются в ход мироздания.
Он – соборный художник труда, в древних молитвах заменяющий слово «бог» словом «я». В нем «Я» в настоящем молится себе в будущем.
Ум его – буревестник, срывающий ноту на высочайших волнах бури.
Май – июнь 1919
270. <О стихах>
Говорят, что стихи должны быть понятны. Так <…вывеска на> улице, на которой ясным и простым языком написано: «Здесь продаются‹…›» еще не есть стихи. А она понятна. С другой стороны, почему заговоры и заклинания так называемой волшебной речи, священный язык язычества, эти «шагадам, магадам, выгадам, пиц, пац, пацу» – суть вереницы набора слогов, в котором рассудок не может дать себе отчета, и являются как бы заумным языком в народном слове. Между тем этим непонятным словам приписывается наибольшая власть над человеком, чары ворожбы, прямое влияние на судьбы человека. В них сосредоточена наибольшая чара. Им предписывается власть руководить добром и злом и управлять сердцем нежных. Молитвы многих народов написаны на языке, непонятном для молящихся. Разве индус понимает Веды? Старославянский язык непонятен русскому. Латинский – поляку и чеху. Но написанная на латинском языке молитва действует не менее сильно, чем вывеска. Таким образом, волшебная речь заговоров и заклинаний не хочет иметь своим судьей будничный рассудок.
Ее странная мудрость разлагается на истины, заключенные в отдельных звуках: ш, м, в и т. д. Мы их пока не понимаем. Честно сознаемся. Но нет сомнения, что эти звуковые очереди – ряд проносящихся перед сумерками нашей души мировых истин. Если различать в душе правительство рассудка и бурный народ чувств, то заговоры и заумный язык есть обращение через голову правительства прямо к народу чувств, прямой клич к сумеркам души или высшая точка народовластия в жизни слова и рассудка, правовой прием, применяемый в редких случаях. С другой стороны, Софья Ковалевская обязана своим даром числа, как она сама указывает в своих воспоминаниях, тому, что стены ее детской спальни были оклеены своеобразными обоями – страницами из сочинений ее дяди по высшей алгебре. Надо сказать, что мир чисел наиболее заповедная область для женской половины человечества. Ковалевская одна из немногих смертных, вошедшая в этот мир. Мог ли понимать семилетний ребенок знаки равенств, степени, скобки и все эти волшебные письмена итогов и вычетов? Конечно нет, но все-таки они оказали решающее влияние на ее жизненную судьбу – она сделалась под влиянием детского толчка загадочных обоев знаменитым числяром.
Таким образом, чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными. На примерах алгебраических значков на обоях детской спальни Ковалевской, оказавших столь решающее влияние на судьбу ребенка, и на заговорах показано, что слову не может быть предъявлено требование: «Будь понятно, как вывеска». Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы. Разве понимает земля письмена зерен, которые бросает в нее пахарь? Нет. Но осенняя нива все же вырастает ответом на эти зерна. Впрочем, я совсем не хочу сказать, что каждое непонятное творчество прекрасно. Я намерен сказать, что не сл<едует> отвергать творчество, если оно непонятно данному слою читателей.
Говорят, что творцами песен труда могут быть лишь лю<ди, работающие> у станка. Так ли это? Не есть ли природа песни в у<ходе от> себя, от своей бытовой оси? Песня не есть ли бегство <от…> я? Песня родственна бегу, в наименьшее время на<до…> слову покрыть наибольшее число верст образов и мысли!
<Без бегства> от себя не будет пространства для бегу. Вдохновение всегда <изменяло> происхождению певца. Средневековые рыцари воспевают диких пастухов, лорд Байрон – морских разбойников, сын царя Будда‹…› и прославляет нищету. Напротив, судившийся за кражу Шек<спир> говорит языком королей, так же как и сын скромного м<ещанина> Гёте, и их творчество посвящено придворной жизни. Никогда не знавшие войны тундры Печорского края хранят былины о Владимире и его богатырях, давно забытые <на> Днепре. Творчество, понимаемое как наибольшее отклонение струны мысли от жизненной оси творящего и бегство от себя, заставляет думать, что и песни станка будут созданы не тем, кто стоит у станка, но тем, кто стоит вне стен завода. Напротив, убегая от станка, отклоняя струну своего духа на наибольшую длину, певец, связанный со станком по роду труда, или уйдет в мир научных образов, странных научных видений, в будущее земного шара, как Гастев, или в мир общечеловеческих ценностей, как Александровский, утонченной жизни сердца.
<1919 – 1920>
271. Всем! Всем! Всем!
Воля! Воля будетлянская!
Вот оно! Вот оно! Желанное, родимое! Упавшее из птичьей стаи. Наше прекрасное откровение и сновидение в одеждах чисел.
Дар права всем государствам земного шара (все равны – нет любимцев и пасынков) быть разбитыми через 3n дней после своей победы. Равным образом подыматься и с пением лететь кверху через <2n> дней после падения и слома крыл о камни рока. Падать в пропасть через 3n дней после стояния на горе.
И до нас иные пытались писать законы, искушали свои слабые силенки в пении законов.
Бедные! Они думали, что это легче, чем писать стихи? А в законотворчестве видели богадельню глупости (Дизраэли). Разбитые на первом поприще, они шли ко второму, как в сторону слабейшего сопротивления.
Бедные! Главным украшением своей законоречи они считали дуло ружья. Свои своды-законы они душили боевым порохом и думали, что в этом состоит хороший вкус и изящные движения, вся соль в искусстве «пения законов».
Красноречие своих законов они смешивали с красноречием выстрелов – какая грязь! Какие порочные обычаи прошлого! Какое рабское поклонение перед прошлым.
Они нас обвиняют, что мы ступаем сто первым копытом по дороге законодателей.
Какая черная клевета!
Разве до нас строились законы, которых нельзя нарушить! Только мы, стоя на глыбе будущего, даем такие законы, какие можно не слушать, но нельзя ослушаться. Они нерушимы.
Сумейте нарушить их!
И мы признаем себя побежденными!
Кто сможет нарушить наши законы?
Они сделаны не из камня желания и страстей, а из камня времени.
Люди! Говорите все вместе: «Никто!»
Прямые, строгие в своих очертаниях, они не нуждаются в опоре острого тростника войны. который ранит того, кто на него опирается.
<Декабрь 1920–1921>
272. Радио будущего
Радио будущего – главное дерево сознания – откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество.
Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное, будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.
Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.
Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигающихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки земного шара ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа.
В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой.
Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие человечество к новым берегам…
Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы.
Радиочитальни
Эти книги улиц – читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села, исполняют задачи всего человечества.
Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня.
Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей, – эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне, вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах.
Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость: Химик Х., знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления мяса и хлеба из широко распространенных видов глины.
Толпа волнуется и думает: что будет?
Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио… Вся страна будет покрыта станами Радио…
Радиоаудитории
Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.
Все село собралось слушать.
Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц.
Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец, это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана Радио.
Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где нас нет, вместе с детским пением и шумом крыл? На каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки – духи – низко пролетели над хаткой. Нет…
Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба… В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков.
Радио и выставки
Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку.
Радиоклубы
Подойдем ближе… Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе… Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна. Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить и петь, повинуясь е<го> волевым ударам.
В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого.
Великий чародей
И вот научились передавать вкусовые ощущения – к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.
Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину роскошного пира… Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны…
Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.
Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.
И далее:
Известно, что некоторые звуки, как «ля» и «си», подымают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу.
И наконец, – в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны – как высших, так и низших.
Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле.
Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.
Осень 1921
273. «Про некоторые области…»
Про некоторые области земного шара существует выражение: «Там не ступала нога белого человека». Еще недавно таким был весь черный материк.
Про время также можно сказать: там не ступала нога мыслящего существа.
Если не каждый самый мощный поезд сдвинет с места все написанное человечеством о пространстве, то все написанное о времени легко подымет каждый голубь в письме, спрятанном под крылом. Это всего несколько вскользь брошенных, иногда очень метких, замечаний. Я не говорю о чисто словесных трудах по данному вопросу, которые не ведут к цели и служат плохим топливом паровозу знаний.
Таким образом, случилось то, что юность науки о времени отделена от первых дней земной жизни науки о пространстве приблизительно семью «годами богов».
Семью триста-шестидесяти-пятилетиями, которыми удобно измерять большие времена, большие полотна веков.
Казалось, наука о времени должна идти тем же путем, которым шла наука о пространстве.
Избегая заранее готовых мыслей открыть свой разум, как слух, к голосу опыта, лежащего перед ним. Если в ушахне будет внутреннего звона и навязчивых голосов бреда, голос опыта будет, конечно, услышан.
Задача – увидеть чистыми глазами весь опыт в кругозоре человеческого разума.
Мы знаем, что в основу науки о пространстве лег опыт плотников и землемеров, искавших равные площади полей при отводе участков древнему землевладельцу.
Этим людям знаний приходилось уравнивать прямоугольники и треугольники полей с круговыми и решать написанную пером гор и долин задачу равных площадей для полей неравных очертаний. Наоборот, точные законы времени смогут решить задачу равенства во власти справедливого распределения земельных участков во времени, задачу разверстки учений о власти и размежевания поколений. Так возводится правда во времени.
Чистые законы времени учат, что все относительно. Они делают нравы менее кровожадными, странно облагораживают их.
Они помогают выбирать сотрудников и учеников, позволяют проводить прямую кратчайшего пути к той или другой точке будущего, а не идти сложной извилистой дорогой обманчивой погони за настоящим.
В дни расцвета каждому народу свойственно понимать свое будущее как касательную к точке его настоящего.
Каждому народу свойственно жестоко разочаровываться в добротности этих первобытных способов заглядывать в свое будущее.
Они дают справедливые границы каждому движению; например, устанавливая межи между поколениями, в то же время они позволяют заглянуть в будущее, потому что законы времени не могут изменяться от положения точки, в которой находится изучающий человек, исследующий время. Открытая перед наукой о времени дорога – изучение количественных законов нового открытого мира.
Постройка уравнений и изучение их.
При первом же взгляде на найденные уравнения величин времени выступает несколько своеобразных черт, присущих только миру времени и заслуживающих быть перечисленными.
1921–1922
Автобиографические материалы
274. <Автобиографическая заметка>
Родился 28 октября 1885 в стане монгольских исповедующих Будду кочевников – имя «Ханская ставка», в степи – высохшем дне исчезающего Каспийского моря (море 40 имен). При поездке Петра Великого по Волге мой предок угощал его кубком с червонцами разбойничьего происхождения. В моих жилах есть армянская кровь (Алабовы) и кровь запорожцев (Вербицкие), особая порода которых сказалась в том, что Пржевальский, Миклуха-Маклай и другие искатели земель были потомк<ами> птенцов Сечи.
Принадлежу к месту Встречи Волги и Каспия-моря (Сигай). Оно не раз на протяжении веков держало в руке весы дел русских и колебало чаши.
Вступил в брачные узы со Смертью и, таким образом, женат. Жил на Волге, Днепре, Неве, Москве, Горыни.
Перейдя перешеек, соединяющий водоемы Волги и Лены, заставил несколько пригоршней воды проплыть вместо Каспийского моря в Ледовитое.
Переплыл залив Судака (3 версты) и Волгу у Енотаевска. Ездил на необузданных конях чужих конюшен.
Выступил с требованием очистить русский язык от сора иностранных слов, сделавши все, что можно ждать от 10 стр<ок>.
Напечатал: «О, рассмейтесь, смехачи»; в 365±48 дал людям способы предвидеть будущее, нашел закон поколений; «Девий бог», где населил светлыми тенями прошлое России; «Сельскую дружбу», через законы быта люда прорубил окно в звезды.
Некогда выступил с воззванием к сербам и черногорцам по поводу Босно-Герцеговинского грабежа, отчасти оправдавшимся через несколько лет, в Балканскую войну, и в защиту угророссов, отнесенных немцами в разряд растительного царства.
Материк, просыпаясь, вручает жезл людям морских окраин.
В 1913 году был назван великим гением современности, какое звание храню и по сие время.
Не был на военной службе.
1914
275. <Ответы на анкету С. А. Венгерова>
Биография
1. Имя и отчество
Виктор Владимирович.
2. Год, месяц и число рождения
1885, октябрь, 28.
3. Место рождения
Степь Астрах., Ханская ставка.
4. Кто были родители?
Екатерина Николаевна Вербицкая и Владимир Алексеевич Хлебников.
5. Вероисповедание.
Православный.
6. Краткая история рода. Главным образом: были ли в роду выдающиеся в каком-либо отношении люди?
Первый Хлебников упоминается как посадник Ростова среднерусского.
7. Ход воспитания и образования. Под какими умственными и общественными влияниями оно происходило?
Гимназия (пост<упил> в 3-ий кл.).
Университет (не кончил).
Отец – поклонник Дарвина и Толстого, большой знаток царства птиц, изучавший их целую жизнь; имел друзей-путешественников, один брат утерян и пропал из виду в Н<овой> Зеландии, один из рода Хлебниковых был членом Госуд<арственного> совета.
Дед умер в Иерусалиме на поклонении.
Один из сыновей его – профес<сор> Военно-Медиц<инской> Акад<емии> (физик). Многие Хлебниковы отличаются своенравием и самодурством.
8. Начало и ход деятельности.
9. Замечательные события жизни.
Библиография. Перечень всегонаписанного или переведенного. ‹…›
Первые выступления: в «Весне» г. Шебуева, крикливое воззвание к славянам – в газ. «Вечер». В «Шиповнике» – отзыв Чуковского.
Написал 2 драмы: «Девий Бог» и «Сын Выдры» – в «Пощечине Общественному Вкусу» и «Рыкающем Парнасе».
…Сделать краткое резюме тех выводов, к которым ‹…› пришли в своих изысканиях.
В ученом труде «Учитель и Ученик» пришел к мысли, что подобные события в историиприходят через 365±48 лет (мост к звез<дам>)
В. Хлебников.
В годы студ<енчества> думал о возрождении языка, написал стихи «О, рассмейтесь» и «Игра в Аду».
Заботясь о смягчении нравов, я многого не успел сделать.
<5 августа 1914>
276. <Автобиографическая заметка>
Я родился 28 окт<ября> ст. ст. 1885 в урочище Ханская Ставка калмыцкой степи или на морской окраине России вблизи устья Волги.
Печатал: 1) воззвание к славянам в газете «Вечер», статьи в «Славянине», описание поездки в Павдинский край в «Природа и Охота», стихи «О, рассмейтесь» в «Студии Импрессионистов», 1 вещь в «Весне», «Маркиза Дезес» в «Садке Судей» 1-м, «Мария Вечора» в «Садке судей» 2-м, «Учитель и ученик» (разговор, где определен год падения России в 1917 году), в «Союзе Молодежи» в 1913 году и в отдельной книжке в 1911 году, «Девий Бог» в «Пощечине Общественному Вкусу», «Дети Выдры» в «Рыкающем Парнасе», в «Стрельце», «Футуристах», «Молоке Кобылиц», «Дохлой Луне», «Изборнике», «Ряве», «Творениях», «Ошибке смерти». В харьковском «Временнике» изд. «Лирень», 5 №№, в газете «Заем Свободы» 1917 года, газете «Красный Воин», Астрахань, 1918, журнале «Пути Творчества», Харьков, 1919 г., сборниках «Харчевня Зорь», «Мы», «Ржаное слово», «Взял», «Центрифуга», «Трое», «Требник троих», «Игра в аду», «Мир с конца», в отдельных книжках «Время – мера мира», «Битвы 1917 – 1918 гг.», «Учитель и Ученик». В изданиях Казанского Общества Естествоиспытателей есть статья за 1905 год о кукушке Cuculus minoris.
Собрания сочинений не было.
В 1916 году напечатана написанная мной «Труба марсиан» и в 1917 «Воззвание Председателей земного шара», написанное тоже мной во «Временнике».
В. Хлебников
1920
277. <Ответы на анкету ВСП>
1. Хлебников.
2. Виктор Владимирович – Велимир.
3. –
4. 1885, Астраханские степи.
5. Искусство будущего.
6. 1909.
7. –
8. Петроград, Москва, Харьков.
9. «Творения», «Ряв», «Изборник», «Ошибка смерти», «Войны», «Время мера мира».
10. «Зангези».
11. Читаю на французском.
12. – Нет.
13. –
14. –
15. –
16. Передовому отряду будетлян.
17. Гилея.
18. Холост.
19. Ратник 2-го разряда.
20. Не кончил университета.
21. Мясницкая, Водопьяный переул. д. 4, кв. О. М. Брик.
22. –
Обязуюсь извещать о изменениях.
В. Хлебников
18 января 1922
Приложения
278. Спор о первенстве
Как восстановить права на первенство в одном сложном ученом споре?
В особенности если черноглазый рокочущий истец плохо знаком с законами, а сомнительный ответчик давно под землей? Северным странам, где солнце никогда не бывает буднем, известен соловей (красношейка). В границах правильного круга у него на груди красное пятно свежей крови. Красное пламя величиной с видимые размеры солнца. На сером скромном оперении северной птицы. Оно удлиняет вечер, вспорхнув среди кустарников после заката, и солнце на птице зверю заменяет закатившееся. Звездное. Птица кажется черноглазым капищем с клювом, чирикая, поворачивающим свою грудь к людям. Небольшое небо иногда с козявкой во рту.
Тело исчезает в сумраке. Видно только лже-солнце (ясный, как жар, малиновый кружок). Сумрак. Ивы. Значит ли это высокомерное пламя своего рода проповедь «будем как солнце»?
Или это было бы глупо для северной службы солнцу порхающего капища с песнью, черным клювом, ногами, живым желудком и крылатого?
Скорее здесь можно прочесть указанье на свою родословную, мысль «я – солнечного происхождения», обращенную к ивам и подруге, вероятно другого предка. Но грекам было знакомо близкое учение. Именно Аполлон соединил в своей природе 1) солнце 2) земные лучи мужества (юноша-солнце). Может быть и те и другие (греки и соловьи) были независимы друг от друга в своих исканиях, но право первенства все же за соловьем – живым северным храмом солнцу, т. е. соотечественником.
Солнце одно и вблизи земли; звезд много, и они вдали. Но само солнце только одна из звезд.
Дело ума родственно с делом сердца и страсти, и мысли одной породы и разнятся лишь числами. Именно ум ведает многими, но дальними, а сердце чем-то одним и близким.
Ум относится к отдаленному множеству, сердце к одному, стоящему рядом. S = yм или сердце; n = число; t = расстояние.
Отыскивая земное в земном, можно сказать: ум от звезд, сердце от солнца.
Но Ислам возник в знойном поясе, вблизи от солнца, как вера Солнца. Месть и страсть.
Вера ума не должна ли родиться вдали от солнца, у льдов севера? Табити и холодный рассудок. Скифы. Ось. О звуке написано море книг по имени Скучное. Среди них одинокий остров – мнение маньчжурских татар: 30–29 звуков азбуки суть 30 дней месяца и что звук азбуки есть скрип Месяца, слышимый земным слухом. Маньчжурские татары и Пифагор подают друг другу руку Сквозь прозрачную азбуку виден месяц.
Если взять число лет, равное числу дней в месяце, то мы будем иметь правящие людом могучие времена 27, 28 и 29 лет, каждое с особой судьбой и особым жезлом.
28 лет управляет сменой поколений. Смена поколений волны.
Несколько примеров: Пушкин родился через 28х2 после Державина, Чебышев через 28 после Лобачевского, Герцен через 28х6 после Мазепы.
Петр Великий через 28 после Мазепы; оба встретились при Полтаве; Эльбрусы свои поколений Карамзин и Чаадаев тоже через 28; Волынский через 28х2 после Никона. Пугачев через 28х7 после Иоанна Грозного; через 28х2 Карамзин и Забелин. Карамзин и Катков 28х2. Пугачев и Белинский 28х3. Никон и Кутузов 28х5 и Крижанич 28х4.
Ряд показывает, что через 28 лет поколения вступают в борьбу с задачами поколения на 28 лет более раннего (Мазепа и Петр).
До некоторой степени можно говорить, что если когда-то родился человек с «звездой жизни» А, то путь b= – А изберет поколение, пришедшее через 28 лет.
Так сменяются «жизненные звезды», подразумевая под ними только известный способ говорить.
У поколения Карамзина с греко-римским миром совпадало все лучшее под солнцем, и Карамзин тяжелой полкой своих книг нарядил предков в римские доблести, чтобы все лучшее совпадало с именем русского.
Поколение Чаадаева разделось от одежд, портной Карамзин. Пушкин видел «Оправдание Сумасшедшего» и «Государство Российское»; католичество у Карамзина и у Чаадаева относятся друг к другу, как черный и белый цвет. А Катков через Чаадаева может подать руку Карамзину. Также последователи Каткова с наибольшим осуждением и духом борьбы относились к государственной деятельности одного современника. Пространство более вещественно, чем числа.
Лобачевский захотел построить другой несуществующий вещественный мир, а Чебышев дал большую стройность не вещественному, но существующему уже миру чисел. Через Польшу Украйна была доступна лучам Запада, что давало ей особую от Московского Государства природу и вызвало Мазепу. Петр Великий «окном в Европу» (Пушкин) для великороссов устранил раскол и как сама победа встретился с Мазепой при Полтаве. Сноп одинаковых лучей Запада прошел через обе половины народа. Но уравнение нравов, выводимых из изучения преданий старины глубокой, Пушкина, Чебышева, Чаадаева, позволяет судить о будущих поколениях.
Лобачевский и Чаадаев родились в один год, и оба хотели (по-разному) построить не этот, другой мир. В ряду Карамзин, Чаадаев, Катков четные были западниками, нечетные (от Карамзина).
Для Пушкина замечательно, что вместе с ним родились Верстовский (живая «Аскольдова Могила») и Львов: здесь лучи времени (луч предка), разлагаясь, насы<тя>т разные дарования.
Исчисление по 27 лет дает следующий ряд: 1718 Сумароков, 1745 Кулибин, 1772 Сперанский, 1799 Пушкин, 1826 Салтыков, 1853 Владимир Соловьев и Короленко.
Он замечателен проходящей через него одной общей мыслью.
Каждое поколение как бы держит в руках игрушку, в которой разочаровывается следующее, и ищет новой. Слово, мосты, законы, изнеженность, проклятие жизни, робкое оправдание жизни.
<1914>
279. Закон поколений
Истина разно понимается поколениями. Понимание ее меняется у поколений, рожденных через 28 лет; так как это время есть число лет, равное частному месяца и суток, то на Марсе смена пониманий истины должна происходить через марсианских лет; i = время вращения Страха и Ужаса, о = сутки Марса. От этого первого на земном шаре суждения о смене поколений на Марсе следует перейти к качающемуся маятнику поколений на земле. Для этого берутся года рождений борцов – мыслителей, писателей, духовных вождей народа многих направлений, и, сравнивая их, приходишь к выводу, что борются между собой люди, рожденные через 28 лет, т. е. что через это число лет истина меняет свой знак и силачи за отвлеченные начала выступают в борьбу от поколений, разделенных этим временем. Например, Уваров 1786 и Бакунин 1814, Грановский 1813 и Писарев 1841.
Далее будут разобраны подробно некоторые ряды.
Вот ряд: Кольцов 1809, Случевский 1837, Мережковский 1865.
Народник Кольцов – первый шаг народничества (изваяние Каменского), его за руку ведет Пушкин в кокошнике. Наоборот, Случевский, которого считают предвозвестником «Весов», «Золотого Руна», был первым уходом от народа в гордое «я». Писатель Случевский был им, потому что родился через 28 лет после Кольцова. Авраама народничества сменил основоположник «Северных Цветов Ассирийских», после пахаря, сивки («Ну, тащися, сивка» Кольцова) – Ассирия, певец мрачно-бледных видений, ушедший от кумира «Народ», требовавшего новых жертв. Другой Хирам «Весов» Мережковский, третий в ряду, углубленный в свое «я», находит там языческое «я» Случевского и «они» народничества Гоголя и Кольцова, отсюда две бездны Мережковского.
Одна его бездна как бы относится к Случевскому, другая к народнику Кольцову и Гоголю (1809). Холодное творчество Мережковского связано с «я» и «они».
Юлий Словацкий («Панна Венеда») разделен 2х28 от Фад. Костюшко 1809, 1753.
Не менее странен ряд Каченовский (1), Одоевский, Тютчев (1), Блаватская 1775, 1803, 1831. Суть этого ряда – вершины «величавой веры» и «жалкого неверия» в Русь. Каченовский как ученый противник Карамзина отвергал подлинность киевских летописей и «Русскую Правду». Это высшие размеры научного сомнения, кем-либо когда-либо проявленные. И Тютчев, пришедший через 28 лет, во имя священного обуздал рассудок и указал сомнению его место.
Итак, не оттого ли Тютчеву присуща высокая вера в высокие судьбы России (известные слова: «умом России не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только верить»), что за 28 лет до него жил Каченовский, и не к Каченовскому ли обращены эти гневные слова? «У ней особенная стать – в Россию можно только верить»!
Конечно, Тютчев и Одоевский должны были родиться в одном году. На это указывает особая, более не встречающаяся тайна имен. В этом уходе на остров веры спутником Тютчеву был и Одоевский. Тютчеву и Одоевскому должно быть благодарными за одни их имена. Имена Тютчева и Одоевского, может быть, самое лучшее, что они оставили. Странно, что «Белая ночь» звучало бы настолько плохо, насколько хорошо «Белые ночи». Белыми ночами как зовом к северному небу скрыто предсказание на рождение через 28 <лет> Бредихина, первого русского, изучавшего хвостатые звезды, и брошено указание на родство 2-го знания с звездным.
Блаватская – перенесение предания Тютчева в Индию, а Козлов (1831) дал высший уровень смутной веры. В бегстве от Запада Блаватская приходит к священному Гангу. Этот ряд может быть назван рядом угасания сомнения, так как на смену Каченовскому приходят люди, те, кто то устало, как Одоевский, то с оттенком строгого долга, как Тютчев, то пылко, как Блаватская, верят большему и в большее, чем средние люди.
Также через 28 лет после Мятлева (1796), осмеявшего в Курдюковой поклонение Западу сверх меры, был Августин Голицын (1824), парижанин, католик и сын католика. Истина здесь переменила знак.
Григорович 1822. Ясинский 1850.
При имени писателя Григоровича вспоминается крепостной Антон Горемыка, главное лицо повести, и кружево кругом рук писателя; это повесть про несчастную судьбу крепостного. Несправедливые господа и суровый быт мешают ему проявить прекрасные задатки природы и свою прекрасную душу.
У Ясинского, наоборот, покорно закону 28 лет, притязает на чужие слезы и сострадания читателя не Антон, а помещик, потомок господ Антона. В силу 28 лет права на слезы читателя перешли от крепостного, выставленного в непривлекательном виде хитреца и дельца, на его нежного слабого господина, гибнущего от доброты.
Оба писателя по-своему сословны. Но теневое у Григоровича освещено сочувствием у Ясинского, а помещик в слабом мученическом сиянии. Наружность Ясинского также противоположна Григоровичу: неряшливый вид, громадная борода.
Начитанный ученый Веселовский и пылкий Белинский. Более ученый Веселовский и красноречивый Белинский также разделены 28 годами (1838 и 1810).
Задача ученого Веселовского найти общеевропейские черты в эпосе (Китоврас и др.), между тем писания Белинского определяют удельный вес в писателе народно-русского начала (Пушкин и т. д.) – кто был истинно писателем?
Ряд Лавров (I), Максим Ковалевский (1823, 1851).
У Лаврова выступает личность – первый двигатель общества, а М. Ковалевский через 28 лет выступил с родовым бытом. Новой палицей ученых боев, давших ему имя. Племя (род) сменило единицу, в чем сказалось 28 лет.
Если вы знаете, что Герцен бил в колокола, то готовьтесь к тому, что Ткачев (человек, живший через 28) станет бить в набат. Набат это больше чем просто дергать веревку колокола. Это не шутка и не праздничная обязанность человека на колокольне. В самом деле у Ткачева было право на набат. Он родился в 1840, Герцен в 1812. Год Герцена оттеняет родившийся вместе с ним изящный Панаев. Свидетель времени Пушкина. Кукольник 1812, Успенский 1840; и вот «Нравы Растеряевой улицы» были недоумевающим ответом на «Рука Всевышнего отечество спасла».
Родившийся в 1817 г. Алексей Толстой, не падая «на брюхи» перед народом и защищая восточную гордость и спесь, шел против течения. Кто, кроме косматых народников и надушенных западников, мог быть до и после него?
И точно, за 28 лет родился известный западник Тургенев, парижанин 1789, писавший на галльском наречии о русских делах, приговоренный к смертной казни (резкие признаки западничества); через 28 народник Златовратский 1845 (знамя правоверного народничества). Ряд: Крапоткин 1842 и Бакунин 1814 = 28. Крапоткин в сущности был мирный, но рассерженный ученый.
Это само по себе замечательно; значение ряда усиливается тем, что за 28 лет до Бакунина родился Уваров 1786, связавший одним обручем слова: «православие, самодержавие, народность». Это один из редких случаев маятника в понимании истины. Крапоткин умереннее Бакунина. Весь ряд: Уваров 1786, Бакунин 1814, Крапоткин 1842; Уварова и Морозова (1590), написавшего Уложение, разделяет 28х7. Зная польские утонченные многосмотревшиеся в зеркало лица Грановского и Станкевича, кого, кроме Писарева и Решетникова, никогда не имевших зеркала, с «подлиповцами на лице» можно хотеть видеть через 28 лет? Это верно: ужасный Писарев и мрачный Решетников родились в 1841 году, а два близнеца Грановский и Станкевич в – 1813 году за 28.
Повесть «Отцы и дети» Тургенева относится к их расколу, к ним. У Грановского руки в кольцах, крупные губы, волнистые волосы до плеч, у тех (Писарева и Решетникова) северно-русский вид подлиповцев – полная небрежность в одежде, очки.
Вот ряд смеющихся: Котошихин 1630 (4), Аблесимов 1742, Грибоедов 1798, Салтыков 1826, Мясницкий 1854. Салтыков и Мясницкий! так изменился смех (28). Котошихин очень напоминает желчного Салтыкова; их разделяют 28x7. Лучший смех у Аблесимова, простой, незлобствующий. Худшие у Мясницкого и Салтыкова.
Котошихино-Салтыковские настроения, к сожалению, господствовали. Недавно Лейкин сменил Ершова 1815, 1843, и желчь и горечь Лермонтова 1815.
У Алексея Толстого есть притча о крутой каше преобразований. Щербатов в сочинении «О повреждении нравов», сравнивая новые и старые нравы, высказал тоже осуждающее мнение. Года их рождения 1733 и 1817 (28х3).
Те же 28х3 отделяют князя Щербатова 1733 и Аксакова с Костомаровым 1817, составляющих с Ал. Толстым один колос рождений; следовательно, это ряд осуждающих Запад.
Радищев (1749) родился через 28 лет после усмирителя Пугачевского восстания Панина 1721.
А Посошков (1670), писавший черными чернилами и пером и после книги «о скудости и богатстве» умерший в ссылке, родился за 28х2 до Пугачева 1726.
Через 28 после западника Сенковского (барона Брамбеуса), этого Евгения Онегина в природе, 1800 славянин Страхов; после Чаадаева 1793, Катков 1821, Озерова Грибоедов; Тургенева Аксаков; славяне через 28 после западников. Первый исследователь русского моря Нагаев 1704 за 28 до первого исследователя неба – Румовского 1732, наблюдавшего прохождение Венеры через Солнце. Море и небо.
Соймонов 1683 и Ломоносов 1711, Кошанский, учитель в красноречии Пушкина, 1731 и Тредьяковский 1703. Кайданов 1782 и Белинский 1810.
Замечательные ряды Симашко 1818 и Кайгородов 1846, Ковальский 1822 и Софья Ковалевская 1850.
Сенявину победитель на Черном море, 1763, через 28 после Орлова Чесменского 1735; Радищев 1749 за 28.2 до Полежаева 1805; 2х28 – Куторгу 1812 и Остроумова 1858. Мазепа 1644 за 28.6 до Герцена 1812; Крижанич 1617 и Грановский 1813 – 28х7; масоны Майков 1728, Лопухин 1756 и Тургенев 1784; Рунич 1780 и Магницкий 1778 стали именами нарицательными; за 28х2 до них были Тихон Задонский 1724 и Сковорода 1722; через 28х2. Добролюбов 1836 и Суворин 1834, по-видимому также сопряженные величины через 28 после Суворина известный Леонтьев 1862. Пнин 1773 и Панин 1801 (отношение к крепостному праву). Никон 1605 и о. Иоанн Кронштадтский 1829 разделены 28х8; Веселаго – морской писатель (морские войны) 1813 и Сипягин – военный писатель 1785 – 28.
Закон 28 лет шатает понятие свободной воли. Добролюбов, «луч света в темном царстве», бесплодная вера в знания через 2х28 после Рунича.
Столп именно обыденной серокожей житейской мудрости деловой А. Суворин связан с уходом от будней жизни Леонтьева туда, в черную Абиссинию к черным.
В этих заметках проскальзывает чередование знака ± в понимании истины у поколений, разделенных 28 годами. Позднее осколок закона еще не названного гласит: через 28 лет «истина» меняет свой знак. Правосудию оно даст часы вместо весов. Петр Великий 1672 и Нестор летописец 1056 – 28х22.
Таким образом снимается покрывало времени.
Логика Аристотеля помогает беречь в разговорах то, что кажется истиной. Но она удобна для малых времен беседы и писаний. Умика Будийц, недавно вторгнувшихся на землю, позволяет находить истину на протяжении 28 лет и следующих столетий.
Если Аристотель знал большую и малую предпосылки, так удобно заменяемые кружками, то новое учение о истине знает правило: волнообразного изменения ее.
Истина рожденного в N-ном году обратна истине рожденного в n – 28-м году.
Впрочем, иногда тянутся две нити.
Дитя Аристотеля всегда приводилось как пример вечного непревзойденного знания.
Здесь оно превзойдено, так как исходной точкой взято время, а не пространство с его кружками. Впрочем, этим ослабляется власть истины над поколениями.
Понятие о невещественной родословной опирается на понятие о невещественном роде, пренебрегающем сословиями и независимом от красной крови. В совершенном сословном строе сословные понятия только отмечают пути этой крови, пересекающей телесные роды.
Так один из родившихся в 1877 и 1905 году должен испытывать сложные волнения своих звездных пращуров Каткова 1821, Чаадаева, Лобачевского 1793, Карамзина, Багратиона 1765, Ртищева и Матвеева 1625.
Наоборот, среди родившихся в 1885 и 1913 году должны быть испытывающие влияния ряда:
1) о. Иоанн Кронштадтский 1829, 2) Остроградский, Даль, Панин 1801, 3) Пнин 1773, 4) Кутузов, Кулибин, Потоцкий, 5) Волынский 1689, 6) Голицын 1633, 7) Никон 1605, к которому принадлежал Святополк-Мирский (1857).
Этот ряд, может быть, наиболее связанный с государством и иногда очерчивает жизнь народа.
Родословная обыденная не должна враждовать с необыденной. Ум легко мирится с существованием рока в пространстве: 2 глаза на лице, 5 пальцев на руке, столько-то ребер; но он построен на отрицании рока во времени, несмотря на признание его народной мудростью многих народов. Войны тоже построены на отрицании рока.
Сентябрь 1914
Сноски
1
Вырей – южные страны. Устенье – камни около стены. «Тянули» – лакомство, распространенное в средней России. «Сплю» – небольшая совка, водящаяся в Крыму. Турки нередко бывают белокурыми. «Цаца» – слово из детского языка, значит «игрушка, забава». – Комментарий В. Хлебникова.
(обратно)2
Почерк писателя настраивает душу читателя на одно и то же число колебаний. Задача переносить груз чисел колебания из одной души в другую выпала <на> долю одного испаганского верблюда, когда он пески пустыни променял на плоскость стола, живое мясо – на медь, а свои бока расписал веселыми ханум, не боящимися держать в руках чаши с вином. Итак, находясь у тов. Абиха, верблюд обречен носить на горбах равенство основного душевного звука в душе писателя и душ<е> чит<ателя>.
Аз – освобожденная личность, освобожден<ное> Я. Хабих – по-германски орел. Орел хабих летит в страну Азии, построивш<ую> свободную личность, чего она до сих пор не сделала, а делали приморские народы (греки, англичане).
Комментарий В. Хлебникова.
(обратно)3
В первопечатном источнике дефект – отсутствует конец фразы.
(обратно)4
В первопечатном источнике дефект – опущено окончание фразы.
(обратно)


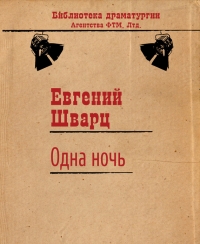
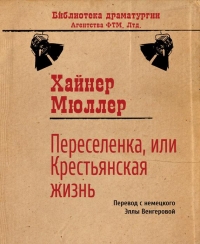
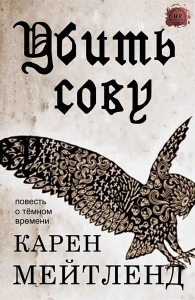
Комментарии к книге «Степь отпоёт (сборник)», Виктор Владимирович Хлебников
Всего 0 комментариев