Фридрих Дюрренматт Собрание сочинений в пяти томах. т.2. Романы и повести
Copyright by Philipp Keel, Zürich
Перевод с немецкого
Харьков: «Фолио»; Москва: «АО Издательская группа „Прогресс“»
Серия «Вершины» основана в 1995 году
Составитель Е. А. Кацева
Комментарии В. Д. Седельника
Художники
М. Е. Квитка, О. Л. Квитка
Редактор Л. Н. Павлова
В оформлении издания использованы живопись и графика автора ©Copyright 1978 by Diogenes Verlag AG, Zürich
All rights reserved
Copyright © 1986 by Diogenes Verlag AG, Zürich
Данное издание осуществлено при поддержке фонда «PRO HELVETIA» и центра «Echanges Culturels Est — Ouest» г. Цюрих, а также при содействии Посольства Швейцарии в Украине
© Составление, комментарии, перевод на русский язык произведений, кроме отмеченных в содержании *, АО «Издательская группа „Прогресс“, издательство „Фолио“, 1997
© М. Е. Квитка, О. Л. Квитка, художественное оформление, 1997
© Издательство «Фолио», издание на русском языке, марка серии «Вершины», 1997
Судья и его палач
Der Richter und sein Henker
Утром третьего ноября тысяча девятьсот сорок восьмого года Альфонс Кленин, полицейский из Тванна, обнаружил на обочине дороги, идущей из Ламбуэна (деревушки в Тессенберге), у лесистого ущелья Тваннбах, синий «мерседес». Как часто бывало той поздней осенью, стоял густой туман. Собственно говоря, Кленин уже прошел мимо машины, но вернулся, ибо, проходя мимо и мельком глянув сквозь мутные стекла машины, он увидел, что водитель навалился на руль. Он подумал, что тот пьян: будучи человеком рассудительным, Кленин остановился на самом простом объяснении. И решил поговорить с незнакомцем не официально, а по-человечески. Он подошел к автомобилю с намерением разбудить спящего, отвезти в Тванн, в гостиницу «Медведь», и с помощью черного кофе и горячего супа привести его в норму; хоть и запрещено водить машину в нетрезвом состоянии, но не запрещено ведь спать нетрезвому в машине, стоящей у обочины. Кленин открыл дверцу машины и по-отечески положил незнакомцу руку на плечо. Но сразу понял, что тот мертв. Виски его были прострелены. Теперь Кленин увидел также, что правая дверца машины распахнута. Крови в машине было немного, и темно-серое пальто на трупе казалось совсем чистым. Из кармана пальто высовывался край желтого бумажника. Кленин вытащил его и без труда установил, что покойник — Ульрих Шмид, лейтенант полиции города Берн.
Кленин не знал толком, что предпринять. Ему, деревенскому полицейскому, еще не приходилось сталкиваться с убийством. Он зашагал взад-вперед по обочине дороги. Когда же восходящее солнце пробило туман и осветило мертвеца, ему стало уже совсем не по себе. Он вернулся к машине, поднял серую фетровую шляпу, лежавшую у ног убитого, надел ему на голову и натянул ее так низко, что она закрыла рану на висках; после этого он немного успокоился.
Полицейский перешел на противоположную сторону дороги, ведущей в Тванн, и вытер пот со лба. Затем он принял решение: осторожно подвинул убитого на место рядом с водителем, закрепил безжизненное тело кожаным ремнем, который он нашел в багажнике, и сел за руль.
Мотор постоянно глох, но Кленин все же без особых усилий добрался по круто спускающейся к Тванну дороге к гостинице «Медведь». Там он заправился, и никто не заподозрил в благопристойном и неподвижном пассажире мертвеца. Это вполне устраивало Кленина, не любившего скандалов, и он молчал.
Когда он ехал вдоль озера в сторону Биля, туман снова сгустился и солнце исчезло. Утро помрачнело, как последний день пред Страшным судом. Кленин угодил в середину длинной вереницы машин, двигавшейся почему-то еще медленнее, чем того требовал туман; «похоже на похоронную процессию», — невольно подумалось Кленину. Мертвец сидел неподвижно рядом с ним и только изредка, когда машина подскакивала на ухабах, качал головой, как старый мудрый китаец, и Кленин отказался от попыток обогнать идущие впереди машины. Они достигли Биля с большим опозданием.
Когда в Биле началось расследование дела, о печальной находке сообщили в Берн комиссару Берлаху, который был к тому же непосредственным начальником убитого.
Берлах долгое время жил за границей и прославился как криминалист в Константинополе, а затем в Германии. Напоследок он возглавлял уголовную полицию во Франкфурте-на-Майне, но еще в тысяча девятьсот тридцать третьем году вернулся в свой родной город. Причиной его возвращения была не столько горячая любовь к Берну, который он частенько называл своей золотой могилой, сколько пощечина, которую он дал одному высокому чиновнику тогдашнего нового немецкого правительства. В свое время во Франкфурте было много разговоров об этом инциденте, а в Берне его оценивали в зависимости от политической конъюнктуры в Европе — сначала как возмутительный акт, потом как заслуживающий осуждения, хотя и вполне понятный и, в конце концов, как единственно возможный для швейцарца поступок; но так говорили лишь в сорок пятом.
Первое, что сделал Берлах по делу Шмида, — это отдал распоряжение на начальной стадии вести расследование тайно; выполнения этого распоряжения он добился, лишь пустив в ход весь свой авторитет. «Известно слишком мало, а газеты — самое ненужное из всех изобретений последних двух тысячелетий», — сказал он.
Берлах, по-видимому, многого ожидал от негласных действий, в отличие от своего шефа, доктора Луциуса Лутца, читавшего лекции по криминалистике в университете. Этот чиновник, на бернскую ветвь которого благотворно повлиял богатый дядюшка из Базеля, только что вернулся в Берн после посещения нью-йоркской и чикагской полиции и был потрясен «доисторическим состоянием борьбы с преступностью в столице Швейцарской федерации», как он открыто заявил директору полиции Фрейбергеру, возвращаясь однажды вместе с ним домой в трамвае.
В то же утро Берлах, еще раз переговорив по телефону с Билем, решил навестить семью Шенлер на Бантингерштрассе, где квартировал Шмид. Старый город и мост Нюдекбрюке Берлах, по своему обыкновению, прошел пешком, ибо Берн был, по его мнению, слишком маленьким городом для «трамвая и тому подобного».
Лестницу он одолел с некоторым трудом — ему было уже за шестьдесят, и в таких случаях годы давали о себе знать. Но вскоре он оказался перед домом Шенлеров и позвонил.
Госпожа Шенлер сама открыла дверь. Это была маленькая, толстенькая, не лишенная благородства дама; она сразу же впустила Берлаха, которого знала.
— Шмид ночью уехал в командировку, — сказал Берлах. — Ему пришлось уехать неожиданно, и он попросил меня кое-что выслать ему. Проводите меня, пожалуйста, в его комнату, фрау Шенлер.
Госпожа Шенлер кивнула, и они пошли по коридору мимо большой картины в тяжелой золоченой раме. Берлах взглянул на картину — это был «Остров мертвых»[1].
— А куда поехал господин Шмид? — спросила упитанная дама, открывая дверь в комнату.
— За границу, — ответил Берлах, посмотрев на потолок.
Комната была расположена на уровне земли, в окно через садовую калитку был виден маленький парк со старыми коричневыми елями, по всей видимости больными — почва под ними была густо усыпана хвоей. Комната эта была, вероятно, лучшей в доме.
Берлах подошел к письменному столу и снова огляделся. На диване лежал галстук убитого.
— Господин Шмид, конечно, в тропиках, не так ли, господин Берлах? — с любопытством спросила фрау Шенлер. Берлах немножко испугался.
— Нет, он не в тропиках. Он скорее в горах.
Фрау Шенлер вытаращила глаза и всплеснула руками.
— Господин на Гималаях?
— Примерно, — сказал Берлах. — Вы почти угадали.
Он раскрыл папку, лежавшую на письменном столе, и сразу же сунул ее под мышку.
— Вы нашли то, что должны послать господину Шмиду?
— Да, нашел.
Он еще раз огляделся, стараясь не смотреть на галстук.
— Это лучший жилец, который у нас когда-либо был. И никогда никаких историй с женщинами или чего-нибудь такого, — заверила его фрау Шенлер.
Берлах направился к двери.
— Время от времени я буду присылать служащего или заходить сам. У Шмида здесь есть еще важные документы, и они могут нам понадобиться.
— А я получу от господина Шмида открытку из-за границы? — поинтересовалась фрау Шенлер. — Мой сын собирает марки.
Берлах наморщил лоб, задумчиво посмотрел на фрау Шенлер и с сожалением ответил:
— Вряд ли. Из таких служебных командировок обычно не посылают открыток. Запрещено.
Фрау Шенлер снова всплеснула руками и разочарованно воскликнула:
— И чего только полиция не запрещает!
Берлах повернулся и вышел. Он рад был выбраться из этого дома.
Погруженный в глубокое раздумье, Берлах, вопреки обыкновению, обедал не в Шмидштубе, а в ресторане «Дю Театр». При этом он внимательно просматривал бумаги из папки, взятой в комнате Шмида. После короткой прогулки по Бундесштрассе он к двум часам вернулся в свою контору, где его ожидало известие, что мертвый Шмид прибыл из Биля. Но от визита к своему бывшему подчиненному он отказался, ибо не любил покойников и старался не тревожить их. Он охотно отказался бы и от визита к Лутцу, но тут уж поделать ничего не мог. Тщательно заперев папку Шмида в своем письменном столе, он закурил сигару и пошел в кабинет Лутца, отлично зная, что того раздражает эта вольность, которую позволяет себе старик. Однажды, много лет назад, Лутц отважился сделать ему замечание, но Берлах презрительно отмахнулся и сказал, что он когда-то десять лет состоял на турецкой службе и всегда курил в кабинетах своих начальников в Константинополе — этот ответ был тем более весом, что проверить его было невозможно.
Доктор Луциус Лутц встретил комиссара раздраженно, так как, по его мнению, следствием еще ничего не было предпринято. Он указал на мягкое кресло около письменного стола.
— Что слышно из Биля? — осведомился Берлах.
— Пока ничего, — ответил Лутц.
— Странно, — сказал Берлах, — они ведь работают как одержимые.
Берлах сел и мельком взглянул на развешанные по стенам картины Траффелета[2], цветные рисунки, на которых солдаты — то с генералом во главе, то без генерала — маршировали под большим развевающимся знаменем справа налево или слева направо.
— Опять мы с новой, растущей тревогой убеждаемся, — начал Лутц, — что в нашей стране криминалистика еще не выросла из пеленок. Видит Бог, я ко многому привык в кантоне, но те действия, которые предпринимаются в связи с убитым лейтенантом полиции и, по-видимому, считаются вполне естественными, показывают профессиональные способности нашей сельской полиции в таком жутком свете, что я просто потрясен.
— Успокойтесь, доктор Лутц, — сказал Берлах, — наша сельская полиция не менее искусна, чем полиция в Чикаго, и убийцу Шмида мы непременно найдем.
— Вы кого-нибудь подозреваете, комиссар Берлах?
— Да, я кое-кого подозреваю, доктор Лутц.
— Кого же?
— Этого я пока сказать не могу.
— Ну-ну, это интересно, — сказал Лутц. — Я знаю, вы, комиссар Берлах, всегда готовы оправдать ошибки в применении великих открытий современной криминалистики. Но все же не следует забывать, что время движется вперед и не всегда знаменитые криминалисты поспевают за ним. В Нью-Йорке и Чикаго я знакомился с такими преступлениями, о которых вы в нашем милом Берне не имеете, пожалуй, и отдаленного представления. Но вот убит лейтенант полиции, а это верный признак того, что и здесь, в самом здании общественной безопасности, дело неблагополучно и, значит, действовать надо решительно.
— Разумеется, это я и делаю, — заметил Берлах.
— Тогда все в порядке, — ответил Лутц и закашлялся.
Настенные часы громко тикали.
Берлах осторожно приложил левую руку к желудку, а правой погасил сигару в пепельнице, пододвинутой ему Лутцем. Он уже некоторое время не совсем здоров, сказал он, врач, во всяком случае, им недоволен. Его часто мучают боли в желудке, и он просит поэтому доктора Лутца дать ему заместителя по делу об убийстве Шмида, который мог бы заняться главным. А он, Берлах, хотел бы заниматься этим делом больше за письменным столом. Лутц дал свое согласие.
— Кого бы вы взяли заместителем? — спросил он.
— Чанца, — ответил Берлах. — Он, правда, еще в отпуске, в Бернском нагорье, но его можно отозвать.
— Я не возражаю. Чанц, по-моему, человек, всегда старающийся быть на высоте поставленных перед ним задач, — закончил Лутц.
Он повернулся спиной к Берлаху и стал глядеть в окно на детей, заполнивших площадь перед сиротским домом.
Вдруг его обуяло неодолимое желание поспорить с Берлахом о значении современной научной криминалистики. Он обернулся, но кабинет был уже пуст.
Хотя время приближалось к пяти часам, Берлах решил еще сегодня побывать в Тванне на месте преступления. За руль он посадил Блаттера, высокого грузного полицейского, обычно молчаливого, за что Берлах его и любил. В Тванне их встретил Кленин; он ожидал нагоняя и заранее насупился. Комиссар же был с ним приветлив, пожал ему руку и заявил, что рад познакомиться с человеком, умеющим самостоятельно думать. У Кленина слова комиссара вызвали чувство гордости, хотя он не совсем понял, что старик имел в виду. Он повел Берлаха по дороге на Тессенберг к месту преступления. Блаттер плелся следом, недовольный тем, что приходится идти пешком.
Берлаха удивило название Ламбуэн.
— По-немецки деревушка называется Ламлинген, — пояснил Кленин.
— Так-то оно лучше, — пробормотал Берлах, — это уже звучит.
Они подошли к месту преступления. Справа дорога вела в сторону Тванна и была обнесена каменной оградой.
— Где стояла машина, Кленин?
— Здесь, — ответил полицейский и указал на дорогу, — почти на середине. — И так как Берлах и не взглянул в ту сторону, добавил: — Может, было бы лучше, если бы я оставил машину с убитым здесь?
— Почему? — спросил Берлах и посмотрел вверх на Юрские горы. — Мертвых нужно как можно скорей убирать, им нечего делать среди нас. Вы были совершенно правы, отправив Шмида в Биль.
Берлах подошел к краю дороги и посмотрел вниз на Тванн. Между ним и старым поселком раскинулись сплошные виноградники. Солнце уже зашло. Улица извивалась, как змея, между домами; у вокзала стоял длинный товарный состав.
— Разве там внизу ничего не было слышно, Кленин? — спросил он. — Городок ведь совсем близко, любой выстрел там должен быть слышен.
— Там слышали только шум мотора, работавшего всю ночь, но в этом никто не заподозрил ничего плохого.
— Разумеется, как тут было заподозрить что-нибудь?
Он снова посмотрел на виноградники.
— Каково вино в этом году, Кленин?
— Отличное. Мы можем его потом попробовать.
— Хорошо бы. Я не отказался бы сейчас от стаканчика молодого вина.
Правой ногой он наступил на что-то твердое. Он нагнулся, и в его худых пальцах оказался маленький, продолговатый и сплющенный спереди кусочек металла.
Кленин и Блаттер с любопытством уставились на него.
— Пуля от револьвера, — сказал Блаттер.
— Как это вам опять удалось, господин комиссар! — удивился Кленин.
— Это всего лишь случайность, — сказал Берлах, и они спустились в Тванн.
Молодое тваннское вино, видимо, не пошло Берлаху на пользу — на следующее утро он заявил, что его всю ночь рвало.
Лутц, встретивший комиссара на лестнице, серьезно забеспокоился по поводу его самочувствия и посоветовал обратиться к врачу.
— Ладно, ладно, — проворчал Берлах и сказал, что врачей он любит еще меньше, чем современную научную криминалистику.
В кабинете ему стало лучше. Он уселся за письменный стол и вынул папку покойного.
Берлах все еще был погружен в чтение бумаг, когда в десять часов к нему явился Чанц, который накануне поздно ночью возвратился из отпуска.
Берлах вздрогнул — в первый момент ему показалось, что к нему пришел мертвый Шмид. На Чанце было такое же пальто, какое носил Шмид, и такая же фетровая шляпа. Только лицо иное — добродушное и полное.
— Хорошо, что вы здесь, Чанц, — сказал Берлах. — Нам нужно обсудить дело Шмида. Главное, вы должны взять его на себя, я не совсем здоров.
— Да, — ответил Чанц, — я уже знаю об этом.
Чанц сел, придвинул стул к письменному столу Берлаха и положил на него левую руку. На столе лежала раскрытая папка Шмида.
Берлах откинулся в кресле.
— Вам я могу признаться, — начал он. — От Константинополя до Берна я повидал тысячи полицейских, хороших и плохих. Многие из них были не лучше того бедного сброда, которым мы заселяем всякие тюрьмы, лишь случайно они оказались по другую сторону закона. Но к Шмиду это не относится, он был самым одаренным. Он мог всех нас заткнуть за пояс. У него была ясная голова, он знал, чего хотел, молчал о том, что знал, и говорил лишь тогда, когда нужно. Нам надо брать пример с него, Чанц, он во многом превосходил нас.
Чанц медленно повернул голову к Берлаху — он все время смотрел в окно — и сказал:
— Возможно.
Берлах видел, что его заместитель в этом не убежден.
— Мы мало что знаем о гибели Шмида, — продолжал комиссар. — Вот пуля, и это все. — С этими словами он положил на стол пулю, найденную им в Тванне.
Чанц взял ее и стал разглядывать.
— Она от армейского пистолета, — сказал он, вернув пулю.
Берлах захлопнул папку на своем столе.
— Мы не знаем, что нужно было Шмиду в Тванне или Ламлингене. У Бильского озера он находился не по служебным делам, иначе я знал бы о поездке. Нам не известна ни одна из причин, хоть сколько-нибудь объясняющих его поездку.
Чанц невнимательно слушал Берлаха, он положил ногу на ногу и сказал:
— Нам только известно, как Шмид был убит.
— Откуда вам это известно? — не без удивления спросил комиссар после паузы.
— В машине Шмида руль слева, и вы нашли пулю с левой стороны дороги, если смотреть из машины; кроме того, в Тванне всю ночь слышали работу мотора. Убийца остановил Шмида, когда он из Ламбуэна ехал, в Тванн. По-видимому, он знал убийцу, иначе не остановил бы машину. Шмид открыл правую дверцу, чтобы впустить убийцу, и снова сел за руль. В этот момент он и был убит. Шмид понятия не имел о намерениях человека, который его убил.
Берлах задумался и сказал:
— Теперь я хочу закурить еще одну сигару. — Закурив, он продолжал: — Вы правы, Чанц, возможно, все так и происходило между Шмидом и его убийцей, хочу вам верить. Но это не объясняет, что нужно было Шмиду на дороге из Тванна в Ламлинген.
Чанц напомнил комиссару, что под пальто на Шмиде был фрак.
— Этого я и не знал, — сказал Берлах.
— А разве вы не видели убитого?
— Нет, я не люблю покойников.
— Но это же указано в протоколе.
— Протоколы я люблю еще меньше.
Чанц молчал.
Берлах продолжил:
— Это еще больше осложняет дело. Что делал Шмид во фраке в Тваннбахском ущелье?
— Может быть, это как раз упрощает дело, — ответил Чанц, — в районе Ламбуэна наверняка живет немного людей, устраивающих приемы, на которые нужно являться во фраке.
Он вытащил маленький карманный календарь и пояснил, что это календарь Шмида.
— Я знаю его, — кивнул Берлах, — там нет ничего важного.
Чанц возразил:
— Шмид отметил среду, второго ноября, буквой «Г». В этот день около полуночи он был убит — так считает судебный врач. Еще одним «Г» помечена среда двадцать шестого, затем вторник, восемнадцатого октября.
— «Г» может обозначать все, что угодно, — сказал Берлах, — женское имя или еще что-нибудь.
— Вряд ли это женское имя, — возразил Чанц. — Девушку Шмида звали Анной, а Шмид отличался постоянством.
— О ней мне тоже ничего не известно, — признался Берлах; увидев же, что Чанц удивлен его неведением, добавил: — Меня интересует только, кто убийца Шмида, Чанц.
Чанц вежливо ответил:
— Конечно, — потом покачал головой и засмеялся. — Какой вы все же странный человек, комиссар Берлах.
Берлах совершенно серьезно сказал:
— Я большой старый черный кот, который охотно жрет мышей.
Чанц не знал толком, что на это ответить, и наконец заявил:
— В дни, помеченные буквой «Г», Шмид каждый раз надевал фрак и уезжал на своем «мерседесе».
— Откуда вам все это известно?
— От госпожи Шенлер.
— Так-так, — пробормотал Берлах и замолчал. Потом он сказал: — Да, это факты.
Чанц внимательно посмотрел в лицо Берлаха, закурил сигарету и неуверенно произнес:
— Господин доктор Лутц сказал мне, что у вас есть определенное подозрение.
— Да, оно у меня есть, Чанц.
— Поскольку теперь я ваш заместитель по делу об убийстве Шмида, не лучше ли сказать мне, на кого падает ваше подозрение, комиссар Берлах?
— Видите ли, — ответил Берлах медленно, так же тщательно взвешивая каждое слово, как это делал Чанц, — мое подозрение не есть криминалистически научное подозрение. У меня нет никаких данных, подтверждающих его. Вы видели сейчас, как мало я знаю. Я лишь предполагаю, кого можно заподозрить как убийцу; но тот, кого это касается, должен еще представить доказательства, что это был именно он.
— Как вас понять, комиссар? — спросил Чанц.
Берлах улыбнулся:
— Ну, мне придется подождать, пока обнаружатся косвенные улики, оправдывающие его арест.
— Раз мне придется работать с вами, я должен знать, против кого направить следствие, — вежливо пояснил Чанц.
— Прежде всего мы должны быть объективными. Это касается меня, имеющего подозрение, и касается вас, который в основном поведет следствие. Не знаю, подтвердится ли мое подозрение. Я подожду результатов вашего расследования. Вам надлежит найти убийцу Шмида, невзирая на мои подозрения. Если тот, кого я подозреваю, и есть убийца, вы сами к этому придете, но, в противоположность мне, безупречным научным путем; если же он не тот, вы найдете настоящего убийцу, и ни к чему знать имя человека, которого я напрасно подозревал.
Они помолчали некоторое время, затем старик спросил:
— Вы согласны с таким методом работы?
Чанц помедлил, прежде чем ответить:
— Хорошо, я согласен.
— С чего вы хотите начать, Чанц?
Чанц подошел к окну:
— Сегодняшний день помечен в календаре Шмида буквой «Г». Я хочу поехать в Ламбуэн и посмотреть, что там можно выяснить. Поеду в семь, в то самое время, в какое всегда ездил Шмид, когда собирался в Тессенберг.
Он снова повернулся и вежливо, но словно шутя спросил:
— Поедете со мной, комиссар?
— Да, Чанц, я поеду с вами, — ответил тот неожиданно.
— Хорошо, — сказал Чанц в замешательстве, ибо никак не рассчитывал на такой ответ. — В семь.
В дверях он еще раз обернулся:
— Вы ведь тоже были у фрау Шенлер, комиссар Берлах. Вы ничего там не нашли?
Старик ответил не сразу, сперва он запер папку в письменном столе и положил ключ в свой карман.
— Нет, Чанц, — произнес он наконец, — я ничего не нашел. Вы можете идти.
В семь часов вечера Чанц поехал к Берлаху в Альтенберг, где в доме на берегу Аары комиссар жил с тысяча девятьсот тридцать третьего года. Шел дождь, и быстроходную полицейскую машину занесло при повороте на Нюдекбрюке. Но Чанц ловко управился с ней. По Альбертштрассе он поехал медленно, так как никогда еще не бывал у Берлаха; сквозь мокрые стекла он с трудом рассмотрел нужный номер дома. На его неоднократные гудки никто в доме не откликнулся. Чанц вышел из машины и побежал под дождем к дому. В темноте он не нашел звонка и после недолгих колебаний нажал дверную ручку. Дверь была не заперта, и Чанц вошел в прихожую. Он увидел полуоткрытую дверь, из-за которой падал луч света. Он шагнул к двери и постучал, но, не получив ответа, распахнул ее. Перед ним был холл. Стены были заставлены книгами, на диване лежал Берлах. Комиссар спал, но было видно, что он подготовился к поездке к Бильскому озеру — он лежал в зимнем пальто. В руке он держал книгу. Было слышно его ровное дыхание, и Чанц не знал, что делать. Спавший старик и это множество книг вселяли страх. Чанц внимательно огляделся. В помещении не было окон, но в каждой стене — дверь, ведущая в другие комнаты. Посередине стоял большой письменный стол. Взглянув на него, Чанц остолбенел: в центре покоилась большая бронзовая змея.
— Я привез ее из Константинополя, — донесся спокойный голос с дивана. Берлах поднялся. — Вы видите, Чанц, я уже в пальто. Мы можем идти.
— Простите меня, — ответил ошеломленный Чанц, — вы спали и не слышали, как я вошел. Я не нашел звонка у двери.
— У меня нет звонка. Он мне не нужен, дверь никогда не запирается.
— Даже когда вас нет дома?
— Даже когда меня нет дома. Всегда очень интересно, вернувшись домой, посмотреть, украдено у тебя что-нибудь или нет.
Чанц засмеялся и взял привезенную из Константинополя змею в руки.
— Этой штукой меня однажды чуть не убили, — заметил комиссар слегка иронически, и только теперь Чанц разглядел, что голову змеи можно использовать как ручку, а тело ее остро, как кинжал. Озадаченно рассматривал он причудливый орнамент, поблескивавший на страшном оружии. Берлах стоял рядом с ним.
— Будьте мудрыми, как змеи, — сказал он, долго и задумчиво разглядывая Чанца. Потом, улыбнувшись, добавил: — И нежными, как голуби. — Он слегка похлопал его по плечу. — Я спал. Впервые за много дней. Проклятый желудок.
— Так худо? — спросил Чанц.
— Да, так худо, — ответил комиссар хладнокровно.
— Оставайтесь дома, господин Берлах, на улице холодно и дождливо.
Берлах снова посмотрел на Чанца и засмеялся.
— Ерунда, ведь надо найти убийцу. Вам, возможно, на руку, чтобы я остался дома?
Уже сидя в машине и проезжая по Нюдекбрюке, Берлах сказал:
— Почему вы не поехали через Ааргауэрштальден в Цолликофен, Чанц, это ведь ближе, чем через весь город?
— Потому что я хочу попасть в Тванн не через Цолликофен — Биль, а через Керцерс — Эрлах.
— Это необычный маршрут, Чанц.
— Не такой уж необычный, комиссар.
Они замолчали. Огни города проносились мимо них.
Когда они проезжали Вефлеем, Чанц спросил:
— Ездили вы когда-нибудь со Шмидом?
— Да, частенько. Он был осторожным водителем. — Берлах неодобрительно посмотрел на спидометр, который показывал почти сто десять.
Чанц немного сбавил скорость.
— Однажды я ехал со Шмидом черт знает как медленно, и я помню, что он как-то странно называл свою машину. Он произнес это имя, когда мы заправлялись. Вы не помните, как он называл свою машину? Я забыл.
— Он называл свою машину «синим Хароном», — ответил Берлах.
— Харон — это персонаж из греческой мифологии, не так ли?
— Харон перевозил умерших в царство теней, Чанц.
— У Шмида были богатые родители, и он мог учиться в гимназии. А такой, как я, не мог себе этого позволить. Вот он и знал, кто такой был Харон, а мы этого не знаем.
Берлах засунул руки в карманы пальто и снова глянул на спидометр.
— Да, Чанц, — сказал он. — Шмид знал греческий и латынь, он был образованным человеком и потому перед ним открывалось большое будущее; тем не менее я не ездил бы быстрее ста километров в час.
Миновав Гюмменен, машина вдруг остановилась у бензоколонки. К ним тотчас подошел заправщик.
— Полиция, — сказал Чанц, — нам нужны кое-какие сведения.
На лице склонившегося к машине человека мелькнули любопытство и испуг.
— Останавливался ли у вас два дня назад автомобилист, называвший свою машину «синим Хароном»?
Человек удивленно покачал головой, и Чанц поехал дальше.
— Спросим у следующего.
На заправочной под Керцерсом тоже ничего не знали.
Берлах проворчал:
— То, что вы делаете, не имеет смысла.
Неподалеку от Эрлаха Чанцу повезло. В понедельник вечером здесь побывал такой, ответили ему.
— Вот видите, — сказал Чанц, свернув у Ландерона на дорогу Нойенбург — Биль, — теперь нам известно, что в понедельник вечером Шмид ехал по дороге Керцерс — Инс.
— Вы уверены? — спросил комиссар.
— Я представил вам бесспорное доказательство.
— Да, доказательство бесспорное. Но что оно вам дает, Чанц? — поинтересовался Берлах.
— Мало что. Но все, что мы знаем, нам поможет в дальнейшем, — ответил он.
— Вы правы, — сказал старик, высматривая Бильское озеро. Дождь прекратился. После Нойвевиля озеро выглянуло сквозь разрывы тумана. Они въехали в Лигерц. Чанц ехал медленно, ища поворот на Ламбуэн.
Теперь машина взбиралась по склонам виноградников. Берлах опустил стекло и смотрел вниз, на озеро. Над островом Петра[3] видны были звезды. В воде отражались огни, по озеру неслась моторная лодка. Поздновато для этого времени года, подумал Берлах. Перед ними в долине лежал Тванн, за ними — Лигерц.
Они повернули и поехали к угадываемому в темноте лесу. Чанц заколебался и сказал, что дорога, может быть, ведет только в Шернельц. Поравнявшись с пешеходом, Чанц остановил машину.
— Это дорога на Ламбуэн?
— Поезжайте прямо вперед, а за белыми домами на опушке леса — направо в лес, — ответил человек в кожаной куртке и свистнул своей собачонке, белой с черной мордой, крутившейся в свете фар.
— Пошли, Пинг-Понг!
Они миновали виноградники и вскоре оказались в лесу. Ели, словно бесконечный строй колонн, надвигались на них в свете фар. Дорога была узкой и скверной, то и дело в стекло ударялись ветки. Справа дорога круто обрывалась. Чанц ехал так медленно, что было слышно, как шумит вода в ущелье.
— Это ущелье Тваннбах, — пояснил Чанц. — По ту сторону дорога в Тванн.
Скалы слева то скрывались в темноте, то вспыхивали белым светом. Кругом царил мрак, было новолуние. Дорога больше не подымалась, и ручей шумел теперь рядом с ними. Они свернули налево и проехали через мост. Перед ними открылась дорога. Дорога от Тванна на Ламбуэн. Чанц остановил машину.
Он выключил фары, и они очутились в полной темноте.
— Что теперь? — спросил Берлах.
— Теперь будем ждать. Без двадцати восемь.
Они стали ждать. Часы показывали уже восемь, но ничего не происходило. Тогда Берлах сказал, что пора уже Чанцу объяснить, что он задумал.
— Определенного плана у меня нет, комиссар. Я пока недостаточно вник в дело Шмида, да и вы еще блуждаете в потемках, хотя у вас и есть подозрение. Сейчас я исхожу из того, что там, где Шмид был в среду, вечером должно снова собраться общество, и многие наверняка приедут на машинах, ведь общество, где в нынешнее время носят фрак, должно быть многочисленным. Это, конечно, лишь предположение, комиссар Берлах, но предположения в нашем деле для того и существуют, чтобы исходить из них.
— Расследования по поводу пребывания Шмида на Тессенберге, проведенные полицией Биля, Нойенштадта[4], Тванна и Ламбуэна, не дали никаких результатов, — скептически заметил комиссар в ответ на рассуждения своего подчиненного.
— Шмид стал жертвой человека более ловкого, нежели полиция Биля и Нойенштадта, — возразил Чанц.
— Откуда вам это известно? — проворчал Берлах.
— Я никого не подозреваю, — сказал Чанц. — Но я уважаю человека, убившего Шмида, если только здесь уместно слово «уважение».
Берлах слушал его, не двигаясь, приподняв плечи.
— И вы, Чанц, хотите поймать человека, к которому питаете уважение?
— Я надеюсь, комиссар.
Они снова умолкли в ожидании. Вдруг тваннский лес осветился. Фары залили его ярким светом. Лимузин проехал мимо них по направлению к Ламбуэну и скрылся в темноте.
Чанц включил мотор. Проехало еще два автомобиля, большие темные машины, полные людей. Чанц поехал вслед за ними.
Лес остался позади. Они проехали мимо ресторана, вывеска которого освещалась сквозь открытую дверь, мимо деревенских домов; перед ними маячили задние огни последней машины.
Они достигли широкой долины Тессенберга. Небо очистилось, на небосводе ярким светом сияли заходящая Вега, восходящая Капелла, Альдебаран и огненное пламя Юпитера.
Дорога повернула на север, и перед ними выступили темные контуры Шпицберга и Хассераля, у подножия которых мерцали огни — деревни Ламбуэн, Диссе и Ноде.
Тут идущие перед ними машины свернули налево на проселочную дорогу, Чанц остановился. Он опустил стекло, чтобы выглянуть. Издали в поле угадывался дом, окруженный тополями, у освещенного входа останавливались машины. Слышались голоса, потом все прибывшие скрылись в доме, и наступила тишина. Свет над входом погас.
— Больше они никого не ждут, — сказал Чанц.
Берлах выбрался из машины и с удовольствием вдыхал холодный ночной воздух. Он смотрел, как Чанц припарковывал машину на лугу, справа от узкой дороги. Наконец тот вышел из машины и подошел к комиссару.
Они зашагали по тропинке в сторону видневшегося вдали дома. Почва была глинистой, то и дело приходилось обходить лужи — здесь тоже недавно шел дождь.
Они подошли к низкой ограде, но ворота были заперты. Над оградой возвышались ржавые прутья, сквозь которые они рассматривали дом.
Сад голый, между тополями, словно огромные звери, застыли лимузины; огней не видно. Кругом мрак и уныние.
В темноте они с трудом разглядели на воротах табличку. Один угол сорвался, и она висела косо. Чанц посветил фонариком, прихваченным из машины: на табличке была выгравирована большая буква «Г».
Они снова оказались в полной темноте.
— Видите, — сказал Чанц, — мое предположение было верным. Я ткнул пальцем в небо, а попал в яблочко. — Довольный собой, он попросил: — А теперь угостите меня сигарой, комиссар, я ее заслужил.
Берлах протянул ему сигару.
— Надо узнать, что означает буква «Г».
— Это просто: Гастман.
— Откуда вы знаете?
— Я справлялся по телефонной книге. В Ламбуэне есть только два абонента на букву «Г».
Берлах озадаченно засмеялся, но потом сказал:
— А не может это относиться к другому Г.?
— Нет, не может. Второе Г. означает жандармерию[5]. Или вы считаете, что жандарм может быть причастен к этому убийству?
— Все может быть, Чанц, — ответил старик.
Чанц зажег спичку, но ветер так яростно сотрясал тополя, что прикурить ему удалось с трудом.
Не понимаю, удивлялся Берлах, почему полиция Ламбуэна, Диссе и Линьера не обратила внимания на этого Гастмана, ведь его дом стоит в открытом поле, хорошо виден из Ламбуэна, и если здесь собирается общество, то это невозможно скрыть, более того — это прямо-таки должно бросаться в глаза, в особенности в таком захолустье.
Чанц ответил, что пока он этому не находит объяснения.
Они решили обойти вокруг дома. Разделившись, каждый направился в свою сторону.
Чанца поглотила ночь, Берлах остался один. Его знобило, он поднял воротник пальто. Он снова почувствовал тяжесть в желудке, резкую боль, на лбу его выступил холодный пот. Он пошел вдоль стены и, следуя ей, свернул направо. Дом все еще был погружен в полнейшую темноту.
Берлах остановился и прислонился к ограде. Он увидел на опушке леса огни Ламбуэна и зашагал дальше. И снова ограда изменила направление, теперь она повернула на запад. Задняя стена дома была освещена, из окон нижнего этажа лился яркий свет. Берлах услышал звуки рояля, а когда прислушался, то понял, что играют Баха.
Берлах зашагал дальше. Теперь, по его расчетам, он должен был встретиться с Чанцем; Берлах стал внимательно вглядываться в залитое светом поле и слишком поздно заметил, что в нескольких шагах от него стоял какой-то зверь.
Берлах был хорошим знатоком животных; но такого огромного зверя он еще никогда не видел. Деталей он не мог различить, видел только силуэт на фоне более светлой земли, но чудовище вызывало такой ужас, что Берлах замер на месте. Он видел, что зверь медленно, будто случайно повернул голову и уставился на него — светлыми, словно два пустых круга, глазами.
Неожиданность встречи, огромные размеры и необычность животного парализовали Берлаха. Хотя здравый рассудок не покидал его, он забыл, что необходимо действовать. Он смотрел на зверя без страха, но скованно. Зло всегда захватывало его, всегда влекло разрешить загадку.
И когда собака вдруг прыгнула на него, когда эта огромная тень, разъяренное чудовище, полное силы и жажды крови, обрушилось на него, он свалился под тяжестью бессмысленно беснующейся твари, еле успев защитить горло левой рукой, и не издал ни звука, не вскрикнул от страха, настолько все это показалось ему естественным, согласным законам мира сего.
Но прежде чем животное успело перемолоть своими челюстями руку, оказавшуюся у его пасти, он услышал звук выстрела; тело над ним содрогнулось, и теплая кровь потекла по его руке. Собака была мертва.
Она давила его своей тяжестью, и Берлах провел рукой по ее гладкой, влажной шерсти. Он поднялся с трудом и, весь дрожа, вытер руку о редкую траву. Чанц подошел, пряча револьвер в карман пальто.
— Вы не ранены, комиссар? — спросил он и недоверчиво посмотрел на его разодранный левый рукав.
— Нет. Тварь не успела прокусить руку.
Чанц наклонился и повернул морду животного к свету, упавшему на его уже мертвые глаза.
— Зубы как у хищника, — сказал он, содрогнувшись. — Эта тварь могла вас растерзать в клочья, комиссар.
— Вы спасли мне жизнь, Чанц.
Тот полюбопытствовал:
— Разве вы не носите оружия?
Берлах тронул ногой неподвижную массу, лежащую перед ним.
— Редко, Чанц, — ответил он.
Они помолчали.
Мертвая собака лежала на голой и грязной земле, и они смотрели на нее. У их ног разлилась большая черная лужа. Это была кровь, как темный поток лавы вытекавшая из разинутой пасти.
Когда они снова посмотрели на дом, картина совершенно изменилась. Музыка смолкла, освещенные окна распахнулись, люди в вечерних туалетах, толпясь, высовывались наружу. Берлах и Чанц взглянули друг на друга, чувствуя себя словно перед трибуналом, да еще посреди этих Богом забытых Юрских гор, где, как с раздражением подумал комиссар, разве что заяц с лисицей кивают друг другу.
В среднем из пяти окон отдельно от других стоял человек, который странным, но четким голосом громко спросил, что они там делают.
— Полиция, — спокойно ответил Берлах и добавил, что им необходимо поговорить с господином Гастманом.
Спрашивавший выразил удивление, что для разговора с господином Гастманом нужно было убить собаку; кроме того, сейчас он желает слушать Баха. Сказав это, человек закрыл окно, причем сделал это спокойно, не спеша, так же как говорил, без возмущения, скорее с глубоким безразличием.
Из окон доносился шум голосов. Можно было разобрать отдельные выкрики, например: «Неслыханно!», «Что вы на это скажете, господин директор?», «Безобразие!», «Невероятно — полиция, господин тайный советник!». Потом окна одно за другим закрылись, люди отошли от них, и все стихло.
Полицейским ничего другого не оставалось, как покинуть свое место. У передней калитки садовой ограды их поджидали. Какой-то человек возбужденно бегал взад и вперед.
— Быстро включите карманный фонарь, — шепнул Берлах Чанцу.
В блеснувшем луче они увидели толстое, одутловатое, плоское лицо человека, одетого в элегантный вечерний костюм. На одной его руке блестело тяжелое кольцо. Берлах тихо шепнул что-то, и свет погас.
— Кто вы такие, черт возьми? — возмутился толстяк.
— Комиссар Берлах. А вы господин Гастман?
— Я национальный советник фон Швенди, полковник фон Швенди, провались вы в преисподнюю. Какого черта вы здесь стреляете?
— Мы проводим одно расследование, и нам нужно поговорить с господином Гастманом, господин национальный советник, — ответил Берлах спокойно.
Но национальный советник никак не мог утихомириться. Он грохотал:
— Небось сепаратист, да?
Берлах решил воспользоваться другим его титулом и осторожно заметил, что господин полковник ошибается, он не причастен к проблемам локального патриотизма.
Но при первых же словах Берлаха полковник рассвирепел еще больше, чем национальный советник.
— Значит, коммунист, — рявкнул он. Он, полковник, не позволит здесь стрелять, когда музицируют. Он категорически запрещает какие бы то ни было демонстрации против западной цивилизации. Швейцарская армия уж наведет порядок!
Поскольку национальный советник явно заблуждался, Берлах решил действовать по-другому.
— Чанц, то, что сейчас говорит национальный советник, в протокол не включать, — деловито приказал он.
Национальный советник мгновенно отрезвел.
— Что еще за протокол?
Как комиссар бернской уголовной полиции, пояснил Берлах, он должен провести расследование по делу об убийстве лейтенанта полиции Шмида. И в его обязанность входит заносить в протокол ответы разных лиц на заданные им вопросы, но так как господин — он запнулся, не зная, какой титул сейчас избрать, — господин полковник неверно оценивает ситуацию, то он готов не включать в протокол ответ господина национального советника.
Полковник был озадачен.
— Так вы из полиции, — произнес он наконец, — это, конечно, меняет дело.
Он просит извинить его, продолжал полковник, он обедал сегодня в турецком посольстве, после обеда его избрали председателем союза полковников, потом был вынужден выпить «почетный кубок» в клубе гельветов, кроме того, перед обедом еще состоялось специальное заседание партийной фракции, к которой он принадлежит, а теперь этот прием у Гастмана, на котором выступает пианист как-никак с мировым именем. Он смертельно устал.
— Можно ли все-таки поговорить с господином Гастманом? — еще раз осведомился Берлах.
— А что вам, собственно, нужно от Гастмана? — поинтересовался Швенди. — Какое он имеет отношение к убитому лейтенанту полиции?
— В прошлую среду Шмид был его гостем, и на обратном пути его убили около Тванна.
— Вот мы и сели в лужу, — сказал национальный советник. — Гастман приглашает кого попало, оттого и случаются такие неприятности.
Он замолчал и задумался.
— Я адвокат Гастмана, — сказал он наконец. — А почему вы приехали именно сегодня ночью? Вы могли хотя бы позвонить.
Берлах ответил, что они только сейчас выяснили причастность Гастмана к этому делу.
Но полковник не сдавался:
— А при чем тут собака?
— Она напала на меня, и Чанцу пришлось стрелять.
— Тогда все в порядке, — сказал Швенди почти дружелюбно. — Но поговорить с Гастманом сейчас никак нельзя. Даже полиции иной раз приходится считаться с общепринятыми правилами. Завтра я приеду к вам, а сегодня постараюсь переговорить с Гастманом. Нет ли у вас фотографии Шмида?
Берлах вынул из бумажника фотографию и протянул ее адвокату.
— Благодарю, — сказал национальный советник. Кивнув на прощание, он направился к дому.
И снова Берлах и Чанц остались одни перед ржавыми прутьями садовой ограды, сквозь которые они впервые увидели этот дом.
— С таким национальным советником не совладаешь, — сказал Берлах, — раз он к тому же еще и полковник и адвокат, значит, в нем живут сразу три черта. Вот мы и сидим с нашим распрекрасным убийством и ничего не можем предпринять.
Чанц задумался. Наконец он произнес:
— Девять часов, комиссар. Я считаю, нам стоит поехать к полицейскому в Ламбуэн и поговорить с ним об этом Гастмане.
— Хорошо, — ответил Берлах. — Можете этим заняться. Попробуйте выяснить, почему в Ламбуэне ничего не знают о визите Шмида к Гастману. Я же спущусь в маленький ресторан возле ущелья. Мне надо чем-нибудь ублажить свой желудок. Буду ожидать вас там.
Они зашагали по тропинке к машине. Чанц уехал и через несколько минут был уже в Ламбуэне.
Полицейского он застал в харчевне. Тот сидел за одним столиком с Кленином, пришедшим сюда из Тванна; расположившись в стороне от крестьян, они о чем-то совещались. Полицейский из Ламбуэна был маленьким, толстым и рыжим. Звали его Жан Пьер Шарнель.
Чанц подсел к ним и вскоре развеял недоверие, которым те встретили своего коллегу из Берна. Шарнель был недоволен, что вместо французского ему приходилось говорить на немецком, с которым он был не в ладах. Они пили белое вино. Чанц закусывал хлебом с сыром; умолчав о поездке в дом Гастмана, он расспрашивал, не напали ли они на след.
— Non, — ответил Шарнель, — никакого следа assassin[6]. On a rien trouvé, ничего не нашли.
Он сказал, что в этой местности речь может идти только об одном человеке, а именно о некоем Гастмане, живущем в доме Ролье, который он купил. К нему всегда съезжается много гостей, в среду у него опять было большое празднество. Но Шмида там не было, Гастман ничего не знает, он даже имени его не слышал, Шмид n’était pas chez[7] Гастмана, impossible[8]. Совершенно исключено.
Чанц выслушал эту тарабарщину и сказал, что следует расспросить и других, тех, кто в тот день был в гостях у Гастмана.
Это он уже сделал, заметил Кленин; в Шернельце, за Лигерцем, живет писатель, который хорошо знаком с Гастманом и часто бывает у него, в среду он тоже был там. И он тоже ничего не знает о Шмиде, тоже никогда не слышал его имени и вообще не думает, чтобы гостем Гастмана мог быть полицейский.
— Так, значит, писатель? — спросил Чанц и наморщил лоб. — Придется мне заняться этим типом. Писатели всегда подозрительны, но я уж доберусь до этого умника. А что собой представляет Гастман, Шарнель? — спросил он полицейского.
— Un monsieur très riche[9], — восторженно ответил полицейский из Ламбуэна. — Денег у него — как сена, и très noble[10]. Дает чаевые моей fiancée[11], — он с гордостью указал на официантку, — comme un noi[12], но не с целью заполучить ее. Jamais[13].
— А чем он занимается?
— Философ.
— Что вы понимаете под этим словом, Шарнель?
— Много думать и ничего не делать.
— Но он ведь должен зарабатывать на жизнь?
Шарнель покачал головой.
— Он не зарабатывать деньги, он иметь деньги. Он платить налоги за весь деревня Ламбуэн. А этого для нас достаточно, чтобы Гастман считать самий симпатичны шеловек во вес кантон.
— Все же необходимо основательно заняться этим Гастманом, — решительно заявил Чанц. — Я завтра поеду к нему.
— Будьте осторожны с его собакой, — предупредил Шарнель. — Un chien très dangereux[14].
Чанц встал и похлопал полицейского из Ламбуэна по плечу.
— О, с ней я уж как-нибудь справлюсь.
Было десять часов, когда Чанц покинул Кленина и Шарнеля, чтобы поехать в ресторан возле ущелья, где его ожидал Берлах. Но там, где проселочная дорога сворачивала к дому Гастмана, он еще раз остановил машину, вышел из нее и медленно зашагал к железной калитке, затем вдоль ограды. Дом имел прежний вид, он стоял темный и одинокий, окруженный огромными, гнущимися под ветром тополями. Лимузины все еще стояли в парке. Чанц не стал обходить вокруг всего дома, а дошел лишь до угла, откуда мог наблюдать за задними освещенными окнами. Время от времени на желтых стеклах возникали тени людей, и тогда Чанц плотней прижимался к ограде, чтобы не быть замеченным. Он посмотрел на поле. Но собаки уже там не было, кто-то ее убрал, лишь в падающем из окон свете блестела черная кровавая лужа. Чанц вернулся к машине.
В ресторане Берлаха не оказалось. Хозяйка сообщила, что, выпив рюмку водки, он полчаса назад покинул их заведение и пошел в Тванн; в ресторане он пробыл пять минут, не больше.
Чанц гадал, что же старик там делал, но долго размышлять ему не пришлось: слишком узкая дорога требовала полного внимания. Он миновал мост, у которого они раньше останавливались, и поехал через лес.
Тут с ним приключилось что-то странное и зловещее, заставившее его призадуматься. Он ехал быстро, и неожиданно внизу блеснуло озеро, словно ночное зеркало между белыми скалами. По-видимому, это и было место преступления. Вдруг от скалы отделилась темная фигура и явственно подала знак, чтобы машина остановилась.
Чанц невольно остановился и открыл правую дверцу машины, хотя тотчас пожалел об этом: его осенило, что то же самое случилось и со Шмидом за несколько секунд до того, как его застрелили. Он быстро сунул руку в карман и схватился за револьвер, холод металла успокоил его. Фигура приближалась. И тут он узнал Берлаха, но напряжение не спало, он побелел от охватившего его ужаса, не осознавая причины. Берлах склонился к нему, и они уставились друг на друга; казалось, это длилось целый час, хотя прошло лишь несколько секунд. Никто не произнес ни слова, и глаза их словно остановились. Затем Берлах сел в машину, и Чанц снял руку с револьвера.
— Поезжай дальше, Чанц, — сказал Берлах; голос его прозвучал равнодушно.
Чанц вздрогнул, услышав, что комиссар обратился к нему на «ты»; отныне это обращение утвердилось.
Только миновав Биль, Берлах прервал молчание и спросил, что Чанцу удалось узнать в Ламбуэне.
— Теперь нам, пожалуй, все-таки следует называть эту дыру по-французски, — добавил он.
На сообщение о том, что ни Кленин, ни Шарнель не считают возможным визит убитого Шмида к Гастману, он ничего не ответил, а по поводу упомянутого Кленином писателя, живущего в Шернельце, сказал, что сам поговорит с ним.
Чанц отвечал оживленней, чем обычно, радуясь, что они снова разговаривают, и пытаясь заглушить свое странное возбуждение, но, не доезжая Шюпфена, оба опять замолчали.
В начале двенадцатого машина остановилась перед домом Берлаха в Альтенберге, и комиссар вышел.
— Еще раз спасибо тебе, Чанц, — сказал он и пожал ему руку, — хотя и неловко об этом говорить, но ты спас мне жизнь.
Он еще постоял, глядя вслед исчезающим задним огням быстро отъехавшей машины.
— Теперь он может ехать как хочет!
Берлах вошел в свой незапертый дом; в холле, заставленном книгами, он сунул руку в карман пальто и извлек оттуда оружие, которое осторожно положил на письменный стол рядом со змеей. Это был большой тяжелый револьвер.
Затем он медленно снял зимнее пальто. Левая рука была замотана толстым слоем тряпок, как это принято у людей, тренирующих своих собак для нападения.
На следующее утро старый комиссар уже заранее ожидал неприятностей (так он называл свои трения с Лутцем). «Знаем мы эти субботы, — думал он, шагая через мост Альтенбергбрюке, — в такие дни чиновники огрызаются просто из-за нечистой совести, потому что за всю неделю не сделали ничего толкового». Одет он был торжественно, во все черное: на десять часов были назначены похороны Шмида. Он не мог не пойти на них, это и было причиной его скверного настроения.
В начале девятого появился фон Швенди, но не у Берлаха, а у Лутца, которому Чанц только что доложил о событиях минувшей ночи.
Фон Швенди принадлежал к той же партии, что и Лутц, к консервативному либерально-социалистическому объединению независимых, он усердно продвигал последнего по службе и после банкета, устроенного по окончании закрытого совещания правления, был с ним на «ты», хотя Лутца и не избрали в Большой совет; ибо в Берне, заявил фон Швенди, совершенно немыслим народный представитель, которого звали бы Луциусом.
— Возмутительно, — начал он, едва его толстая фигура появилась в дверях. — Что тут творят твои люди из бернской полиции, уважаемый Лутц? Убивают у моего клиента Гастмана собаку редкой породы, из Южной Америки, и мешают культуре, Анатолю Краусхаар-Рафаэли, пианисту с мировым именем. Швейцарец невоспитан, лишен светскости, у него ни капли европейского мышления. Три года рекрутской школы — вот единственное средство против этого!
Лутцу было неприятно появление товарища по партии, он боялся его нескончаемых тирад, но, разумеется, предложил фон Швенди стул.
— Мы впутаны в весьма сложное дело, — заметил он робко. — Да ты ведь и сам знаешь, а молодой полицейский, которому оно поручено, по швейцарским масштабам может считаться довольно способным человеком. Старый комиссар, тоже участвующий в расследовании, отслужил свое, это верно. Я сожалею о гибели такой редкой южноамериканской собаки, у меня у самого собака, я люблю животных и рассмотрю этот инцидент особенно тщательно. Беда в том, что люди совершенно невежественны в криминалистике. Когда я думаю о Чикаго, наше положение рисуется мне прямо-таки безнадежным.
Он запнулся, смущенный тем, что фон Швенди молча уставился на него, потом неуверенно продолжил, что хотел бы узнать, был ли покойный Шмид в среду гостем его клиента Гастмана, как, по некоторым данным, считает полиция.
— Дорогой Лутц, — возразил полковник, — не будем морочить друг другу голову. Вы в полиции отлично обо всем информированы, я ведь знаю вашего брата.
— Что вы имеете в виду, господин национальный советник? — смущенно спросил Лутц, невольно обращаясь снова на «вы»; он всегда испытывал неловкость, говоря фон Швенди «ты».
Фон Швенди откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и осклабился — к этой позе он прибегал и как полковник, и как национальный советник.
— Любезный мой доктор, — произнес он, — я хотел бы наконец узнать, почему вы так упорно навешиваете этого Шмида на шею моему славному Гастману. Полиции совсем не должно касаться то, что происходит там, в Юрских горах, — у нас ведь, слава Богу, нет гестапо.
Лутц опешил.
— Почему это мы навешиваем на шею твоему совершенно незнакомому нам клиенту убитого Шмида? — спросил он растерянно. — И почему это нас не должно касаться убийство?
— Если вы не знаете, что Шмид под фамилией доктора Прантля, мюнхенского приват-доцента по истории американской культуры, присутствовал на приемах, которые Гастман давал в своем доме в Ламбуэне, то вся полиция обязана по причине своей полной криминалистической непригодности подать в отставку, — заявил фон Швенди и возбужденно забарабанил пальцами правой руки по столу Лутца.
— Этого мы действительно не знаем, дорогой Оскар, — сказал Лутц, с облегчением вспомнив наконец имя национального советника. — Ты мне сообщил сейчас большую новость.
— Ага, — сухо произнес фон Швенди и замолчал, в то время как Лутца все больше охватывало сознание своей подневольности и предчувствие, что теперь ему придется шаг за шагом во всем уступать требованиям полковника. Он беспомощно оглянулся на картины Траффелета, на марширующих солдат, на развевающиеся швейцарские знамена, на сидящего на коне генерала. Национальный советник с некоторым торжеством заметил растерянность следователя и наконец добавил к своему «ага»:
— Полиция, значит, узнает большую новость; полиция, значит, опять ничего не знала.
Как ни неприятно ему было и как ни коробила его бесцеремонность фон Швенди, следователь вынужден был признать, что Шмид бывал у Гастмана не по делам службы и что полиция понятия не имела об этих его визитах. Шмид ездил туда по личной инициативе, закончил Лутц свое нескладное объяснение. По какой же причине тот пользовался фальшивым именем, пока для него загадка.
Фон Швенди наклонился вперед и взглянул на Лутца своими заплывшими глазами.
— Это все объясняет, — сказал он, — он шпионил в пользу одной иностранной державы.
— Что ты говоришь? — воскликнул Лутц еще более растерянно.
— Сдается мне, — сказал национальный советник, — полиция прежде всего должна выяснить, зачем Шмид бывал у Гастмана.
— Полиция должна прежде всего узнать что-нибудь о самом Гастмане, дорогой Оскар, — возразил Лутц.
— Гастман совершенно безопасен для полиции, — ответил фон Швенди, — и я не хочу, чтобы ты или кто-либо из полиции им занимался. Он мой клиент, и мое дело позаботиться о том, чтобы его желания были выполнены.
Это безапелляционное заявление настолько обескуражило Лутца, что он сперва не нашелся, что возразить. Он зажег сигарету, даже не предложив в своем замешательстве закурить фон Швенди. Затем он уселся поудобней на стуле и сказал:
— Тот факт, что Шмид бывал у Гастмана, к сожалению, вынуждает полицию заняться твоим клиентом, дорогой Оскар.
Но фон Швенди не отступал.
— Этот факт вынуждает полицию заняться прежде всего мной, ведь я адвокат Гастмана, — сказал он. — Ты должен радоваться, Лутц, что имеешь дело со мной: я хочу помочь не только Гастману, но и тебе. Разумеется, дело это неприятно для моего клиента, но для тебя оно еще более неприятно, ведь полиция до сих пор ничего не выяснила. Я вообще сомневаюсь, прольете ли вы когда-нибудь свет на это дело.
— Полиция раскрывала почти каждое убийство, — ответил Лутц, — это доказано статистикой. Согласен, в деле Шмида у нас много трудностей, но ведь мы уже, — он запнулся, — достигли некоторых результатов. Так, мы сами докопались до Гастмана, и неспроста Гастман послал тебя к нам. Трудности связаны с Гастманом, а не с нами, и это он должен дать показания по делу Шмида, а не мы. Шмид бывал у него, хоть и под чужой фамилией; но именно этот факт и обязывает полицию заняться Гастманом, странное поведение убитого бросает тень прежде всего на Гастмана. Мы должны допросить Гастмана и отказаться от этого намерения можем лишь при условии, если ты нам четко объяснишь, почему Шмид бывал у твоего клиента под чужой фамилией, причем бывал неоднократно, как мы установили.
— Ладно, — сказал фон Швенди, — поговорим откровенно. И ты увидишь, что не я должен давать объяснения по поводу Гастмана, а вы должны нам объяснить, что нужно было Шмиду в Ламбуэне. Обвиняемые в этом деле вы, а не мы, дорогой Лутц.
С этими словами он вытащил большой лист бумаги, развернул его и положил перед следователем на стол.
— Вот список лиц, которые бывали в гостях у моего почтенного Гастмана, — сказал он. — Список полный. Я разделил его на три группы. Первую можно сразу исключить, она неинтересна, это люди искусства. Само собой, ничего нельзя сказать против Краусхаара-Рафаэли, он иностранец; нет, я имею в виду местных, из Утцендорфа и Мерлигена. Они либо пишут драмы о битве при Моргартене[15] и Никлаусе Мануэле[16], или же рисуют горы, ничего другого. Вторая группа — промышленники. Ты увидишь, что это люди с громкими именами, люди, которых я считаю лучшими представителями швейцарского общества. Говорю это совершенно откровенно, хотя по линии бабушки со стороны матери я происхожу из крестьян.
— А третья группа посетителей Гастмана? — спросил Лутц, так как национальный советник вдруг замолчал и его спокойствие нервировало следователя, что явно входило в намерения фон Швенди.
— Должен признаться, что третья группа, — продолжил наконец фон Швенди, — и превращает дело Шмида в особо неприятное как для тебя, так и для промышленников, ибо я вынужден коснуться вещей, которые, собственно говоря, следовало бы держать в строгой тайне от полиции. Но поскольку бернская полиция выследила Гастмана и при этом некстати выяснилось, что Шмид бывал в Ламбуэне, промышленники поручили мне проинформировать полицию, разумеется в той мере, в какой это необходимо для дела Шмида. Неприятное для нас заключается в том, что мы вынуждены раскрыть перед вами чрезвычайно важные политические обстоятельства, а неприятное для вас — в том, что, хоть ваша власть и распространяется в этой стране на представителей швейцарской и нешвейцарской национальности, третья группа вам все же неподвластна.
— Я ни слова не понимаю из того, что ты тут наговорил, — заявил Лутц.
— Ты вообще никогда ничего не понимал в политике, дорогой Луциус, — возразил фон Швенди — В третью группу входят сотрудники одного иностранного посольства, которое придает большое значение тому, чтобы ни при каких обстоятельствах оно не упоминалось вместе с определенной категорией промышленников.
Теперь Лутц понял национального советника, и в комнате следователя надолго воцарилась тишина. Звонил телефон, но Лутц снимал трубку лишь для того, чтобы гаркнуть «Совещание!» и снова умолкнуть. Наконец он произнес:
— Насколько мне известно, с этой державой теперь ведутся официальные переговоры о заключении нового торгового соглашения.
— Конечно, переговоры ведутся, — согласился полковник. — Переговоры ведутся официально, нужно же чем-то занять дипломатов. Но еще больше ведутся переговоры неофициально, а в Ламбуэне ведутся частные переговоры. В конце концов, в современной промышленности бывают переговоры, в которые государству незачем вмешиваться, господин следователь.
— Конечно, — смущенно сказал Лутц.
— Конечно, — повторил фон Швенди. — И на этих тайных переговорах присутствовал убитый, к сожалению, лейтенант городской полиции Берна, Ульрих Шмид, и присутствовал тайно, под чужим именем.
Смущенное молчание следователя подтвердило фон Швенди правильность его расчета. Лутц так растерялся, что национальный советник мог теперь делать с ним что хотел. Как то бывает с большинством простодушных натур, непредвиденный поворот в следствии по делу убитого Ульриха Шмида выбил чиновника из колеи, он настолько поддался чужому влиянию и пошел на такие уступки, что вряд ли можно было ожидать объективного расследования убийства.
Он, правда, попытался еще раз выйти из затруднительного положения.
— Дорогой Оскар, — сказал он, — я не считаю все это столь уж сложным. Разумеется, швейцарские промышленники имеют право вести частные переговоры с теми, кто в них заинтересован, и даже с той самой державой. Я не отрицаю этого, полиция в такие дела не вмешивается. Шмид был в гостях у Гастмана, повторяю, как частное лицо, и в связи с этим я приношу свои официальные извинения; конечно, он был не прав, использовав фальшивые имя и профессию, хотя полицейские по роду службы нередко оказываются в подобных ситуациях. Но он ведь не один бывал на этих встречах, там были также и люди искусства, дорогой национальный советник.
— Это необходимая декорация. Мы живем в культурном государстве, Лутц, и нуждаемся в рекламе. Переговоры должны сохраняться в тайне, а люди искусства наиболее подходящи для этого. Совместное празднество, жаркое, вино, сигары, женщины, общий разговор, художники и артисты скучают, усаживаются вместе, пьют и не замечают, что промышленники и представители той державы сидят в стороне. Они и не хотят этого замечать, потому что их это не интересует. Люди искусства интересуются только искусством. Но полицейский, присутствующий при этом, может узнать все. Нет, Лутц, дело Шмида внушает подозрения.
— К сожалению, я могу только повторить, что поводы визитов Шмида к Гастману нам пока еще неясны, — ответил Лутц.
— Если он приходил туда не по поручению полиции, значит, приходил по чьему-то другому поручению, — возразил фон Швенди. — Существуют иностранные державы, дорогой Луциус, очень интересующиеся тем, что происходит в Ламбуэне. Это мировая политика.
— Шмид не был шпионом.
— А у нас есть все основания предполагать, что он был им. Для чести Швейцарии лучше, чтобы он был шпионом, чем полицейским шпиком.
— Теперь он мертв, — вздохнул следователь, который дорого заплатил бы за возможность лично расспросить сейчас Шмида.
— Это не наше дело, — заявил полковник. — Я никого не хочу подозревать, но считаю, что только некая иностранная держава может быть заинтересована в сохранении тайны переговоров в Ламбуэне. Для нас все дело в деньгах, а для них — в принципах партийной политики. Будем же честными. Но именно это затрудняет работу полиции.
Лутц встал и подошел к окну.
— Мне все еще не совсем ясно, какова роль твоего клиента Гастмана, — произнес он медленно.
Обмахиваясь листом бумаги, фон Швенди ответил:
— Гастман предоставлял свой дом промышленникам и представителям посольства для этих переговоров.
— Но почему именно Гастман?
Его высокоуважаемый клиент, проворчал полковник, обладает нужными для такого дела качествами. Как многолетний посол Аргентины в Китае, он пользуется доверием иностранной разведки, а как бывший президент правления жестяного треста — доверием промышленников. Кроме того, он живет в Ламбуэне.
— Что ты имеешь в виду, Оскар?
Фон Швенди иронически улыбнулся:
— Слышал ли ты когда-нибудь до убийства Шмида название Ламбуэн?
— Нет.
— То-то и оно, — заявил национальный советник. — Потому что никто не знает о Ламбуэне. Для наших встреч нам нужно было неизвестное место. Так что можешь оставить Гастмана в покое. Пойми, он не жаждет контактов с полицией, не любит он ваших допросов, вынюхивания, ваших вечных выпытываний — это все годится для наших Лугинбюлей и фон Гунтенов, если у них снова рыльце не оказывается в пушку, но не для человека, который отказался быть избранным во Французскую академию. Кроме того, твоя бернская полиция действительно вела себя неуклюже, нельзя же стрелять в собаку, когда играют Баха. Не в том дело, что Гастман оскорблен, ему скорее все это безразлично, твоя полиция может взорвать его дом, он и бровью не поведет; но нет никакого смысла дальше докучать Гастману, ибо за этим убийством стоят силы, ничего общего не имеющие ни с нашими достопочтенными швейцарскими промышленниками, ни с Гастманом.
Следователь вышагивал взад-вперед перед окном.
— Нам придется подробно изучить жизнь Шмида, — заявил он. — Что же касается иностранной державы, то мы поставим в известность федерального прокурора. Каково будет его участие в деле, я не могу сказать, но основную работу он поручит нам. Попробую выполнить твое требование не трогать Гастмана; от обыска мы откажемся. Но если все же возникнет необходимость поговорить с ним, я попрошу тебя свести нас и присутствовать при беседе. Тогда я смогу уладить все формальности с Гастманом. Речь в данном случае идет не о следствии, а о формальности, необходимой для следствия, в зависимости от обстоятельств может потребоваться и допрос Гастмана, даже если это лишено смысла; расследование должно быть полным. Побеседуем об искусстве, чтобы придать допросу наиболее безобидный характер; вопросов я не буду задавать. Если же мне понадобится задать вопрос — ради чистой формальности, — я предварительно сообщу тебе о нем.
Национальный советник встал, и теперь они стояли друг против друга. Национальный советник похлопал следователя по плечу.
— Значит, решено, — сказал он. — Ты оставишь Гастмана в покое. Луциусик, ловлю тебя на слове. Папку я оставлю здесь; список составлен тщательно, и он полный. Я всю ночь звонил по телефону, и многие очень взволнованы. Еще неизвестно, захочет ли иностранная держава продолжать переговоры, когда узнает о деле Шмида. На карту поставлены миллионы, милый доктор, миллионы! Желаю тебе удачи в твоих розысках. Она тебе очень понадобится.
С этими словами фон Швенди, тяжело ступая, вышел из комнаты.
Едва Лутц успел просмотреть список, оставленный ему национальным советником, то и дело сдавленно вскрикивая при виде знаменитых имен, и убрать его — «в какое злосчастное дело я впутался», — подумал он, — как вошел Берлах, разумеется не постучав. Старик сказал, что ему нужно официальное разрешение для визита к Гастману в Ламбуэн, но Лутц отложил это на послеобеденное время.
— Теперь пора отправляться на похороны, — сказал он и встал.
Берлах не стал возражать и вышел вместе с Лутцем, которому обещание оставить Гастмана в покое стало казаться все более необдуманным. Теперь он опасался резкого протеста со стороны Берлаха.
Они стояли на улице не разговаривая, оба в черных пальто с поднятыми воротниками. Шел дождь, но они не стали раскрывать зонтов ради нескольких шагов до машины. Машину вел Блаттер. Теперь дождь полил как из ведра, косо ударяя в стекла. Каждый сидел неподвижно в своем углу. «Сейчас я должен ему все сказать», — подумал Лутц и взглянул на спокойный профиль Берлаха, который, как он это часто в последнее время делал, держал руку на животе.
— Боли? — спросил Лутц.
— Как всегда, — ответил Берлах.
Они опять замолчали, и Лутц подумал: скажу ему после обеда. Блаттер ехал медленно. Лил такой сильный дождь, что за белой завесой почти ничего нельзя было разглядеть. Трамваи, автомобили плавали где-то в этих огромных ниспадающих водопадах. В машине становилось все темней. Лутц закурил сигарету, выдохнул облако дыма и решил, что по делу Гастмана он не пустится со стариком ни в какие объяснения. Он сказал:
— Газеты напечатают сообщения об убийстве, его нельзя больше скрывать.
— Это не имеет смысла, — ответил Берлах, — мы ведь напали на след.
Лутц погасил сигарету.
— Это и не имело смысла.
Берлах молчал, а Лутц, который охотно поспорил бы, стал всматриваться в окно. Дождь немного утих. Они уже ехали по аллее. Шлоссгальденское кладбище, обнесенное серой, залитой дождем стеной, виднелось за рядами деревьев. Блаттер въехал в ворота кладбища и остановился. Они вышли из машины, раскрыли зонты и зашагали вдоль могильных рядов. Искать пришлось недолго. Надгробные камни и кресты остались позади, казалось, они ступили на строительную площадку. Земля была испещрена свежевырытыми могилами, покрытыми досками. В испачканные глиной ботинки проникала влага. В середине площадки, между пустыми могилами с грязными лужами на дне, между временными деревянными крестами и земляными холмиками, густо усеянными гниющими цветами и венками, стояли люди. Гроб еще не был спущен, пастор читал Библию, рядом с ним, держа над собой и пастором зонт, стоял могильщик в смешном фракоподобном рабочем костюме, от холода переступая с ноги на ногу. Берлах и Лутц остановились возле могилы. Старик услышал плач. Плакала фрау Шенлер, кажущаяся бесформенной и толстой под этим беспрерывным дождем; рядом с ней стоял Чанц, без зонтика, с поднятым воротником плаща и болтающимся поясом, в твердой черной шляпе. Рядом с ним стояла девушка, бледная, без шляпы, ее светлые волосы ниспадали мокрыми прядями. «Анна», — подумал Берлах. Чанц поклонился, Лутц кивнул, комиссар и бровью не повел. Он смотрел на остальных, стоявших вокруг могилы, — сплошь полицейские, все в штатском, все в одинаковых плащах, в одинаковых твердых черных шляпах, зонты как сабли в руках — фантастические стражи, возникшие из неизвестности, нереальные в своей телесности. А позади них убывающими рядами выстроились городские музыканты, собранные в спешке, в черно-красных униформах, отчаянно старавшиеся укрыть свои медные инструменты под плащами. Так они все и стояли вокруг гроба, этого деревянного ящика, без венка, без цветов, и все же единственно сухого места, защищенного от этого беспрерывного дождя, льющего все сильней, все бесконечней. Пастор давно уже закончил заупокойную, но никто не замечал этого. Были слышны лишь звуки дождя. Пастор кашлянул. Раз. Потом несколько раз. Завыли басы, тромбоны, валторны, корнеты, фаготы, гордо и торжественно, желтые вспышки в потоках дождя; но вот сникли и они, развеялись, исчезли. Все попрятались под зонтами, под плащами. Дождь лил все сильней. Ноги вязли в грязи, вода ручьями лилась в открытую могилу. Лутц поклонился и вышел вперед. Он посмотрел на мокрый гроб и еще раз поклонился.
— Господа, — донесся его голос, почти неслышный сквозь водную пелену. — Господа, нашего Шмида больше нет среди нас.
Его прервало громкое, разнузданное пение:
Черт бродит кругом, Черт бродит кругом, Перебьет он всех вас кнутом!Два человека в черных фраках, качаясь, брели по кладбищу. Без зонтов и пальто, но в цилиндрах, с которых стекала вода прямо на прилипшую к телу одежду. Они несли большой зеленый лавровый венок с волочащейся по земле лентой. Два рослых грубых парня, мясники во фраках, совершенно пьяные, все время спотыкались, вот-вот готовые упасть, но спотыкались они вразнобой, и потому им удавалось удерживаться за лавровый венок, болтающийся между ними, как корабль в бурю. Они затянули новую песню:
У мельничихи мать померла, А мельничиха жива, жива. Мельничиха батрака приняла, И мельничиха жива, жива.Они наскочили на траурное сборище, врезались в него между фрау Шенлер и Чанцем, не встретив никаких помех: все словно оцепенели. И вот они, качаясь, побрели дальше по мокрой траве, поддерживая друг друга, падая на могилы, опрокидывая кресты. Их голоса поглотил дождь, и снова наступила тишина.
Все проходит, Все кончается! —донеслось еще раз издалека. Остался лишь венок, брошенный на гроб, и грязная лента с расплывающейся черной надписью: «Нашему дорогому доктору Прантлю». Но как только люди, стоящие вокруг гроба, опомнились и вознамерились возмутиться, городской оркестр, дабы восстановить торжественность, отчаянно задул в трубы; дождь обратился в такую бурю, так захлестал по деревьям, что все ринулись прочь от могилы, у которой остались одни могильщики, черные чучела, под завывание ветра, под грохот низвергающихся водяных потоков опустившие наконец гроб в яму.
Когда Берлах с Лутцем снова сидели в машине и Блаттер, обгоняя бегущих полицейских и музыкантов, выехал на аллею, доктор дал волю своему раздражению.
— Этот Гастман просто возмутителен! — воскликнул он.
— Не понимаю, — ответил старик.
— Шмид бывал в доме Гастмана под фамилией Прантль.
— В таком случае это предостережение, — ответил Берлах, но ни о чем не стал спрашивать. Они ехали в сторону Муристальдена, где жил Лутц. Собственно, сейчас самый подходящий момент поговорить со стариком о Гастмане и о том, что его следует оставить в покое, подумал Лутц, но продолжал молчать. В Бургернциле он вышел. Берлах остался один.
— Отвезти вас в город, господин комиссар? — спросил полицейский, сидевший у руля.
— Нет, отвези меня домой, Блаттер.
Блаттер поехал быстрей. Дождь немного поутих, и вдруг у самого Муристальдена Берлаха ослепил яркий свет: солнце прорвалось сквозь тучи, опять скрылось, снова показалось в вихревой игре тумана и громоздящихся облаков — чудовищ, несшихся с запада, скапливавшихся у гор и бросающих причудливые тени на город у реки, безвольное тело, распростертое между холмами и лесами. Усталая рука Берлаха скользнула по мокрому пальто, щелки его глаз заблестели, он жадно впитывал в себя эту картину: земля была прекрасна. Блаттер остановился. Берлах поблагодарил его и вышел из служебной машины. Дождь прекратился, не стих лишь ветер, мокрый, холодный ветер. Старик стоял, ожидая, пока Блаттер повернет большую, неуклюжую машину, и еще раз приветствовал его на прощание. Он подошел к Ааре. Она вздулась грязно-коричневой водой; на волнах качались старая ржавая коляска, ветки, маленькая елка, за ней подпрыгивал бумажный кораблик. Берлах долго смотрел на реку, он любил ее. Потом через сад он направился к дому.
Прежде чем войти в холл, Берлах снял грязные башмаки. На пороге он остановился. За письменным столом сидел человек и листал папку Шмида. Правой рукой он играл турецким кинжалом Берлаха.
— Значит, это ты, — сказал старик.
— Да, я, — ответил тот.
Берлах прикрыл дверь и сел в кресло напротив письменного стола. Он молча смотрел на человека, спокойно продолжавшего листать папку Шмида; крестьянский облик непрошеного гостя, его спокойное и замкнутое худое лицо с глубоко посаженными глазами, его короткие волосы были ему знакомы.
— Теперь ты называешь себя Гастманом, — произнес наконец старик.
Человек вытащил трубку, набил ее, не спуская с Берлаха глаз, закурил и ответил, постучав пальцем по папке Шмида:
— Это тебе уже с некоторых пор хорошо известно. Ты натравил на меня парня, эти данные у него от тебя.
Он закрыл папку. Берлах посмотрел на письменный стол, на котором лежал его револьвер, рукояткой в его сторону, — стоило только протянуть руку; он сказал:
— Я никогда не перестану преследовать тебя. И однажды мне удастся доказать твою вину.
— Поторопись, Берлах, — ответил тот. — У тебя мало времени. Врачи дают тебе год жизни, если, конечно, не откладывая, прооперируешься.
— Ты прав, — сказал старик. — Один год. Но я не могу сейчас лечь на операцию, я должен уличить тебя в преступлении. Это моя последняя возможность.
— Последняя, — подтвердил тот, и они замолчали, молчали долго, сидели и молчали.
— Более сорока лет прошло, — заговорил он снова, — с тех пор как мы с тобой впервые встретились в какой-то полуразрушенной еврейской корчме у Босфора. Луна, как бесформенный желтый кусок швейцарского сыра, висела среди облаков и светила на нас сквозь прогнившие балки; это я еще отлично помню. Ты, Берлах, был тогда молодым полицейским, специалистом по Швейцарии на турецкой службе, тебя призвали, чтоб провести какие-то реформы, а я — я был уже повидавшим виды авантюристом, каким остался до сих пор, жадно стремившимся вкусить свою неповторимую жизнь на этой столь же неповторимой и таинственной планете. Мы полюбили друг друга с первого взгляда, сидя среди евреев в лапсердаках и грязных греков. Но эти проклятые шнапсы, этот перебродивший сок Бог весть из каких фиников и это огненное варево с чужеземных нив под Одессой так затуманили нам головы, что глаза наши, как горящие угли, засверкали в турецкой ночи и разговор наш раскалился. О, я люблю вспоминать этот час, определивший твою и мою жизнь!
Он засмеялся.
Старик сидел и молча глядел на него.
— Тебе остался год жизни, — продолжал он. — Сорок лет ты упорно следил за мной. Таков счет. О чем мы, собственно, спорили тогда, Берлах, в этой затхлой корчме в предместье Тофане, в дыму турецких сигарет? Ты утверждал, что главная причина большинства преступлений — человеческое несовершенство, тот факт, что мы никогда не можем точно предсказать поступок другого, предугадать случай, во все вмешивающийся. Ты называл глупостью совершение преступления, потому что нельзя обращаться с людьми как с шахматными фигурами. Я же говорил — больше из желания противоречить, чем по убеждению, — что как раз запутанность человеческих отношений и позволяет совершать преступления, которые нельзя раскрыть, что о наибольшем числе преступлений и не подозревают, потому они и остаются безнаказанными. Подогреваемые адским пламенем напитков, которые подливал нам корчмарь, а еще больше подстрекаемые нашей молодостью, мы продолжали спорить и в тот момент, когда луна скрылась над Ближним Востоком; раздраженные, мы даже заключили с тобой пари, заносчиво выкрикнув его в небо как чудовищную остроту, от которой нельзя удержаться, даже если она богохульна, — только потому, что нас привлекает соль ее, — как дьявольское искушение духа духом.
— Ты прав, — спокойно сказал старик, — мы заключили тогда с тобой пари.
— Ты не думал, что я сдержу свое слово, — засмеялся другой, — когда мы на следующее утро с тяжелыми головами проснулись в этой глухой корчме — ты на ветхой скамейке, а я под еще мокрым от шнапса столом.
— Я не думал, — ответил Берлах, — что человек в состоянии сдержать такое слово.
Они помолчали.
— Не введи нас во искушение, — снова начал посетитель. — Твоя честность никогда не подвергалась искушению, но твоя честность искушала меня. Я заключил смелое пари — совершить в твоем присутствии преступление, и совершить его так, чтобы ты не мог доказать его.
— Через три дня, — сказал старик тихо, погруженный в воспоминания, — когда мы с немецким коммерсантом шли по мосту Махмуда, ты на моих глазах столкнул его в воду.
— Бедняга не умел плавать, да и ты был не очень-то искусен в этом деле, и после твоей неудачной попытки спасти его тебя самого еле живого вытащили из грязных вод Золотого Рога, — продолжал другой невозмутимо. — Убийство было совершено в сияющий летний день, освежаемый приятным ветерком с моря, на оживленном мосту, совершенно открыто, на глазах у влюбленных парочек из европейской колонии, магометан и местных нищих, и тем не менее ты не смог доказать его. Ты приказал арестовать меня, но напрасно. Многочасовые допросы ничего не дали. Суд поверил моей версии о самоубийстве коммерсанта.
— Да, тебе удалось доказать, что коммерсант был на грани банкротства и что он тщетно пытался спастись обманом, — горько признал старик, побледнев сильнее обычного.
— Я тщательно выбирал свою жертву, мой друг, — засмеялся Гастман.
— Так ты стал преступником, — ответил комиссар.
— Не могу полностью отрицать, что в некотором роде я преступник, — небрежно сказал он. — Со временем я становился все более искусным преступником, а ты все более искусным криминалистом; но шаг, на который я опередил тебя, ты никогда так и не смог наверстать. Я все время возникал на твоем пути, как серое привидение, все время меня подмывало совершать у тебя под носом все более смелые, дикие и кощунственные преступления, а ты никогда не мог доказать их. Дураков ты умел побеждать, но тебя побеждал я.
Он продолжал, внимательно и насмешливо наблюдая за стариком:
— Вот так мы и жили. Ты — всю жизнь в подчинении у своих начальников, в твоих полицейских участках и душных кабинетах, старательно отсчитывая одну ступеньку за другой по лестнице скромных успехов, воюя с ворами и мошенниками, с несчастными горемыками, никогда не находящими своего места в жизни, и с жалкими убийцами в лучшем случае; я же — то во мраке, в дебрях затерянных столиц, то в блеске высокого положения, увешанный орденами, из озорства творя добро, поддаваясь минутному капризу и так же сея зло. Какая увлекательная забава! Твое страстное желание было — разрушить мне жизнь, мое же — тебе назло отстоять ее. Поистине та ночь связала нас навечно!
Человек, сидящий за письменным столом Берлаха, хлопнул в ладони, это был одинокий зловещий хлопок.
— Теперь наши карьеры подошли к концу, — воскликнул он. — Ты вернулся в свой Берн, наполовину потерпев неудачу, вернулся в этот сонный, простодушный город, о котором никогда не знаешь, что в нем есть еще живого, а что уже мертво, а я вернулся в Ламбуэн, опять-таки по прихоти. Люди охотно завершают круг: ведь когда-то в этой Богом забытой деревушке меня родила давным-давно истлевшая женщина, родила, ни о чем не думая и совершенно бессмысленно, вот мне и пришлось в тринадцать лет дождливой ночью убраться отсюда. И вот мы встретились. Брось, дружище, все это не имеет смысла. Смерть не ждет.
И почти незаметным движением руки он метнул нож, точно коснувшийся щеки Берлаха и вонзившийся глубоко в кресло. Старик не шевельнулся. Гость засмеялся.
— Стало быть, ты думаешь, я убил этого Шмида?
— Мне поручено вести это дело, — ответил комиссар.
Гость встал и взял папку со стола.
— Я забираю ее с собой.
— Когда-нибудь мне удастся доказать твои преступления, — повторил Берлах, — и сейчас последняя возможность сделать это.
— В этой папке единственные, хотя и скудные доказательства, которые Шмид собрал для тебя в Ламбуэне. Без этой папки ты пропал. Копий у тебя нет, я знаю тебя.
— Нет, — подтвердил старик, — копий у меня нет.
— Не хочешь ли воспользоваться револьвером, чтобы остановить меня? — спросил Гастман с издевкой.
— Ты вынул обойму, — невозмутимо произнес Берлах.
— Вот именно, — сказал гость и похлопал его по плечу.
Он прошел мимо старика, дверь отворилась, снова закрылась, хлопнула входная дверь. Берлах все еще сидел в своем кресле, приложив щеку к холодному металлу ножа. Вдруг он схватил оружие и осмотрел его. Оно было заряжено. Он вскочил, выбежал в прихожую, кинулся к входной двери, рванул ее, держа пистолет наготове: улица была пуста.
И тут пришла боль, нечеловеческая, яростная, колющая боль, что-то вспыхнуло в нем, бросило его на постель, скорчило, обожгло лихорадочным огнем, сотрясло. Старик ползал на четвереньках, как животное, бросался наземь, катался по ковру, пока не замер между стульями, покрытый холодным потом.
— Что есть человек? — тихо стонал он. — Что есть человек?
Но Берлах снова выкарабкался. После приступа он почувствовал себя лучше, боль отступила, чего давно уже не было. Маленькими осторожными глотками он выпил подогретое вино, но есть не стал. Привычной дорогой он пошел через город, по Бундесштрассе, едва ли не засыпая на ходу, но каждый шаг на свежем воздухе приносил ему облегчение. Лутц, напротив которого он вскоре сидел в кабинете, ничего не заметил — может быть, он просто слишком занят своей нечистой совестью, чтоб что-либо замечать. Он решил сообщить Берлаху о своем разговоре с фон Швенди еще сегодня днем, а не вечером, принял холодный деловой вид, выпятил грудь, как генерал на картине Траффелета, висевшей над ним, и выложил все в бодром телеграфном стиле. К его безмерному удивлению, комиссар не стал возражать, он был со всем согласен, считал, что наилучший выход — подождать решения федерального суда, а самим сосредоточиться главным образом на изучении жизни покойного Шмида. Лутц был так поражен, что забыл о своей позе и стал приветливым и разговорчивым.
— Разумеется, я навел справки о Гастмане, — сказал он, — и теперь я знаю о нем достаточно, чтобы с уверенностью сказать: заподозрить его в убийстве совершенно невозможно.
— Конечно, — сказал старик.
Лутц, получивший некоторые сведения из Биля, разыгрывал из себя осведомленного человека.
— Он родился в местечке Покау в Саксонии, сын крупного торговца кожевенными товарами; сперва был аргентинским подданным и послом этой страны в Китае — в молодости он, видимо, эмигрировал в Южную Америку, — потом французским подданным; много путешествовал. Кавалер ордена Почетного легиона, известен своими трудами по биологии. Примечательно, что он отказался от избрания во Французскую академию. Это мне импонирует.
— Интересный штрих, — заметил Берлах.
— Справки о двух его слугах еще наводятся. У них французские паспорта, но похоже, что родом они из Эмменталя. Он позволил себе с их помощью злую шутку на похоронах.
— Шутить — это, кажется, в манере Гастмана, — сказал старик.
— Ему неприятно убийство собаки. Но для нас еще неприятнее дело Шмида. Мы предстаем тут в совершенно неверном свете. Просто счастье, что я на дружеской ноге с фон Швенди. Гастман светский человек и пользуется полным доверием швейцарских предпринимателей.
— В таком случае все в порядке, — заметил Берлах.
— Его личность вне всякого подозрения.
— Безусловно, — кивнул старик.
— К сожалению, этого нельзя сказать о Шмиде, — заключил Лутц и велел соединить его с федеральной палатой.
Комиссар, уже направившийся к выходу, вдруг сказал:
— Господин доктор, я вынужден просить вас о недельном отпуске по болезни.
— Хорошо, — ответил Лутц, прикрывая трубку рукой, так как его уже соединили, — с понедельника можете не приходить.
В кабинете Берлаха ожидал Чанц, вставший при его появлении. Он старался казаться спокойным, но комиссар видел, что полицейский нервничает.
— Поедем к Гастману, — сказал Чанц, — время не терпит.
— К писателю, — ответил старик и надел пальто.
— Обходные пути, все это обходные пути, — негодовал Чанц, спускаясь следом за Берлахом по лестнице.
Комиссар остановился у выхода:
— Это же синий «мерседес» Шмида.
Чанц ответил, что купил его в рассрочку, кому-то машина ведь должна принадлежать, и открыл дверцу.
Берлах уселся рядом с ним, и Чанц поехал через вокзальную площадь в сторону Вефлеема. Берлах проворчал:
— Ты снова едешь через Инс.
— Я люблю этот маршрут.
Берлах смотрел на чисто умытые поля. Все кругом было залито ровным спокойным светом. Теплое, ласковое солнце висело в предвечернем небе, уже склоняясь к горизонту. Оба молчали.
Лишь один раз, между Керцерсом и Мюнчемиром, Чанц прервал молчание:
— Фрау Шенлер сказала мне, что вы взяли из комнаты Шмида папку.
— Ничего особенного, Чанц, только личные бумаги.
Чанц ничего не ответил, ни о чем не спросил; Берлах постучал пальцем по спидометру, показывающему сто двадцать пять километров.
— Не так быстро, Чанц, не так быстро. Дело не в том, что я боюсь, но мой желудок не в порядке. Я старый человек.
Писатель принял их в своем кабинете. Это было старое низкое помещение, при входе в которое им пришлось нагнуться. Снаружи вслед им продолжала лаять маленькая белая собачонка с черной мордой, где-то в доме плакал ребенок. Писатель сидел у готического окна, одетый в комбинезон и коричневую кожаную куртку. Он повернулся на стуле к входившим, не вставая из-за письменного стола, заваленного бумагами. Он не приподнялся, еле кивнул и лишь осведомился, что полиции угодно от него. Он невежлив, подумал Берлах, не любит полицейских; писатели никогда не любили полицейских. Старик решил быть начеку. Чанц тоже был не в восторге от такого приема. Ни в коем случае не дать ему возможности наблюдать за нами, иначе еще и в книгу попадем, примерно так подумали оба. Но когда они по знаку писателя уселись в мягкие кресла, то с изумлением заметили, что оказались в свете небольшого окна, в то время как лицо писателя было едва различимо в низкой зеленой комнате среди множества книг — так коварно слепил их свет.
— Мы пришли по делу Шмида, — начал старик, — которого убили на дороге в Тванн.
— Знаю. По делу доктора Прантля, который шпионил за Гастманом, — ответила темная масса, сидящая между окном и ними. — Гастман рассказывал мне об этом. — На мгновение лицо его осветилось — он закурил сигарету. Они успели заметить кривую ухмылку. — Вам нужно мое алиби?
— Нет, — сказал Берлах.
— Вы не допускаете мысли, что я могу совершить убийство? — спросил писатель явно разочарованно.
— Нет, — ответил Берлах сухо, — вы не можете.
— Опять все то же, писателей в Швейцарии явно недооценивают, — простонал писатель.
Старик засмеялся:
— Если вам так хочется знать, то у нас, разумеется, уже есть ваше алиби. В ночь убийства, в половине первого, вас встретил лесничий между Ламлингеном и Шернельцем, и вы вместе пошли домой. Вам было по пути. По словам лесничего, вы были в веселом настроении.
— Знаю. Полицейский в Тванне уже дважды выспрашивал лесничего обо мне. Да и всех жителей тоже. Даже мою тещу. Значит, вы все же подозревали меня в убийстве, — с гордостью констатировал писатель. — Это тоже своего рода писательский успех.
Берлах подумал, что писатель хочет, чтобы его принимали всерьез — в этом его тщеславие. Все трое помолчали. Чанц упорно пытался рассмотреть лицо писателя. Но при таком свете это было невозможно.
— Что же вам еще нужно? — процедил наконец писатель.
— Вы часто бываете у Гастмана?
— Допрос? — осведомилась темная масса и еще больше заслонила окно. — У меня сейчас нет времени.
— Не будьте, пожалуйста, таким суровым, — попросил комиссар, — мы ведь хотели только немного побеседовать с вами.
Писатель что-то пробурчал.
Берлах начал снова:
— Вы часто бываете у Гастмана?
— Время от времени.
— Почему?
Старик приготовился к резкому ответу, но писатель рассмеялся, пустил целые облака дыма обоим в лицо и сказал:
— Комиссар, он интересный человек, этот Гастман. Такой притягивает писателей, как мух. Он превосходно готовит, просто великолепно, слышите!
И тут писатель начал распространяться о кулинарном искусстве Гастмана, описывать одно блюдо за другим. Минут пять оба слушали, потом еще столько же; но когда писатель уже четверть часа все говорил и говорил о кулинарном искусстве Гастмана и ни о чем другом, кроме как о кулинарном искусстве Гастмана, Чанц встал и заявил, что они пришли не ради кулинарного искусства, однако Берлах остановил его и бодро сказал, что вопрос этот его весьма интересует, и сам стал говорить. Старик ожил, рассказывал о кулинарном искусстве турок, румын, болгар, югославов, чехов; они с писателем перебрасывались блюдами, как мячиками. Чанц потел и ругался про себя. Казалось, этому не будет конца, но наконец после сорока пяти минут они умолкли, утомленные, как после долгой трапезы. Писатель закурил сигару. Наступила тишина. Рядом снова заплакал ребенок. Внизу залаяла собака. И вдруг Чанц нарушил тишину;
— Шмида убил Гастман?
Вопрос был примитивным, старик покачал головой, а темная масса сказала:
— Вы действительно идете напролом.
— Прошу ответить, — сказал Чанц решительно и подался вперед, но лица писателя разглядеть не смог.
Берлах с интересом ждал, как поведет себя хозяин.
Писатель оставался спокойным.
— А когда полицейский был убит? — спросил он.
— Это случилось после полуночи, — ответил Чанц.
Ему, конечно, неизвестно, признает ли полиция законы логики, сказал писатель, он сильно сомневается в этом, но поскольку он, как установлено усердной полицией, в половине первого повстречался по дороге в Шернельц с лесничим, всего за каких-нибудь десять минут до этого распрощавшись с Гастманом, то Гастман, очевидно, вряд ли мог совершить это убийство.
Чанца интересовало, оставались ли еще другие гости у Гастмана.
Писатель ответил отрицательно.
— Шмид попрощался с остальными?
— Доктор Прантль имел обыкновение раскланиваться предпоследним, — ответил писатель не без иронии.
— А кто уходил последним?
— Я.
Но Чанц не сдавался:
— При этом присутствовали двое слуг?
— Этого я не знаю.
Чанц потребовал ясного ответа.
Ему сдается, ответ достаточно ясный, рявкнул на него писатель. Слуг такого сорта он не имеет обыкновения замечать.
— Хороший или плохой человек Гастман? — спросил Чанц с каким-то отчаянием и вместе с тем бесцеремонностью. Комиссар сидел словно на горячих угольях. Будет просто чудо, если мы не попадем в очередной роман, подумал он.
Писатель выпустил Чанцу в лицо такую струю дыма, что тот закашлялся, в комнате надолго воцарилась тишина, даже плача ребенка не было слышно.
— Гастман плохой человек, — произнес наконец писатель.
— Тем не менее вы часто бывали у него и бываете потому только, что он отлично готовит? — спросил Чанц возмущенно после очередного приступа кашля.
— Только поэтому.
— Этого я не понимаю.
Писатель засмеялся. Он тоже своего рода полицейский, сказал он, но без власти, без государства, без закона и без тюрем. Это и его профессия — следить за людьми.
Чанц в растерянности умолк.
— Я понимаю, — сказал Берлах и, после паузы, когда солнце погасло за окном: — Мой подчиненный Чанц своим чрезмерным усердием загнал нас в тупик, из которого мне трудно будет выбраться целым и невредимым. Но молодость обладает и хорошими качествами, воспользуемся тем преимуществом, что бык своим неистовством пробил нам дорогу (Чанц покраснел от злости при этих словах комиссара). Вернемся к вопросам и ответам, которые тут Божьей волей прозвучали. Воспользуемся случаем. Как вы расцениваете все это дело, друг мой? Гастман способен на убийство?
В комнате быстро наступали сумерки, но писатель и не подумал зажечь свет.
Он уселся в оконной нише, и теперь полицейские сидели словно пленники в пещере.
— Я считаю Гастмана способным на любое преступление, — не без сарказма прозвучал грубый голос. — Но я уверен, что Шмида он не убивал.
— Вы знаете Гастмана, — сказал Берлах.
— Я имею о нем представление, — ответил писатель.
— Вы имеете свое представление о нем, — холодно поправил старик темную массу в оконной нише.
— Меня притягивает в нем не столько его кулинарное искусство — хотя меня теперь уже не так легко воодушевить чем-нибудь иным, — а способности человека истинно нигилистического нрава, — сказал писатель. — Всегда захватывает дух, когда встречаешься с воплощением нарицательного понятия.
— Всегда захватывает дух слушать писателя, — сухо обронил комиссар.
— Возможно, Гастман сделал добра больше, чем мы все трое, вместе взятые, сидящие здесь, в этой кособокой комнате, — продолжал писатель. — Если я называю его плохим человеком, то потому, что добро он творит по той же прихоти, что и зло, на которое считаю его способным. Он никогда не совершит зла ради выгоды, как другие совершают преступления, чтобы обогатиться, завладеть женщиной или добиться власти; он совершает зло, даже если оно бессмысленно, он всегда готов на то и другое — на добро и зло, — решает дело случай.
— Вы делаете выводы, как в математике, — возразил старик.
— Это и есть математика, — ответил писатель. — Из зла можно сконструировать его противоположность. Так конструируют геометрическую фигуру как зеркальное отражение другой фигуры, и я уверен, что где-нибудь и существует такой человек, может быть, вы его и встретите. Если встречаешь одного, встретишь и другого.
— Это звучит как программа, — сказал старик.
— Ну что ж, это и есть программа, почему бы и нет, — сказал писатель. — Я представляю себя зеркальным отражением Гастмана — человека, который в самом деле преступник, потому что зло — его мораль, его философия, он творит зло столь же фанатично, как другой по убеждению творит добро.
Комиссар заметил, что пора вернуться к Гастману, он интересует его больше.
— Как вам угодно, — сказал писатель, — вернемся к Гастману, комиссар, к этому полюсу зла. У него зло не есть выражение философии или мании, а выражение его свободы: свободы отрицания.
— За такую свободу я и гроша ломаного не дам, — ответил старик.
— И не давайте ни гроша, — возразил тот. — Но можно всю свою жизнь посвятить изучению этого человека и этой его свободы.
— Всю свою жизнь, — сказал старик.
Писатель молчал. Казалось, он больше не намерен говорить.
— Я имею дело с реальным Гастманом, — произнес после долгого молчания старик. — С человеком, живущим под Ламлингеном в долине Тессенберга и устраивающим приемы, которые стоили жизни лейтенанту полиции. Я должен знать, является ли образ, что вы мне нарисовали, образом Гастмана или порождением вашей фантазии?
— Нашей фантазии, — поправил писатель.
Комиссар молчал.
— Не знаю, — заключил писатель и подошел к ним, чтобы попрощаться, но руку протянул только Берлаху, только ему. — Меня никогда не интересовали подобные вещи. В конце концов, дело полиции расследовать этот вопрос.
Оба полицейских направились к своей машине, преследуемые белой собачонкой, яростно лаявшей на них; Чанц сел за руль.
Он сказал:
— Этот писатель мне не нравится.
Собачонка взобралась на ограду и продолжала лаять.
— А теперь к Гастману, — заявил Чанц и включил мотор.
Старик покачал головой.
— В Берн.
Они спускались к Лигерцу, в глубь низины. Широко раскинулись камень, земля, вода. Они ехали в тени, но солнце, скрывшееся за Тессенбергом, еще освещало озеро, остров, холмы, предгорья, ледники на горизонте и нагроможденные друг на друга армады туч, плывущие по синим небесным морям. Не отрываясь глядел старик на беспрерывно менявшуюся погоду поздней осени. «Всегда одно и то же, что бы ни происходило, — думал он, — всегда одно и то же». Когда дорога резко повернула и показалось озеро, отвесно лежавшее как выпуклый щит у их ног, Чанц остановил машину.
— Мне надо поговорить с вами, комиссар, — сказал он взволнованно.
— О чем? — спросил Берлах, глядя вниз на скалы.
— Мы должны побывать у Гастмана, иначе мы не продвинемся ни на шаг, это же логично. Прежде всего нужно допросить слуг.
Берлах откинулся на спинку и сидел неподвижно, седой, благообразный господин, спокойно разглядывая молодого человека сквозь холодный прищур глаз.
— Бог мой, мы не всегда властны поступать так, как подсказывает логика, Чанц. Лутц не желает, чтобы мы посетили Гастмана. Это и понятно, ведь он должен передать дело федеральному прокурору. Подождем его распоряжений. К сожалению, мы имеем дело с привередливыми иностранцами. — Небрежный тон Берлаха вывел Чанца из себя.
— Это же абсурд, — воскликнул он. — Лутц из своих политических соображений саботирует дело. Фон Швенди его друг и адвокат Гастмана, из этого легко сделать вывод.
Берлах даже не поморщился:
— Хорошо, что мы одни, Чанц. Может быть, Лутц и поступил несколько поспешно, но из добрых побуждений. Загадка в Шмиде, а не в Гастмане.
Но Чанц не сдавался.
— Мы обязаны доискаться правды, — воскликнул он с отчаянием в надвигающиеся тучи. — Нам нужна правда и только правда о том, кто убил Шмида!
— Ты прав, — повторил Берлах, но бесстрастно и холодно, — правда о том, кто убил Шмида.
Молодой полицейский положил свою руку на левое плечо старика и взглянул в его непроницаемое лицо:
— Поэтому мы должны использовать все средства. Нам нужен Гастман. Следствие должно быть исчерпывающим. Не всегда можно поступать согласно логике, сказали вы. Но в данном случае мы обязаны так поступать. Мы не можем перепрыгнуть через Гастмана.
— Убийца не Гастман, — сказал Берлах сухо.
— Может быть, Гастман только приказал убить. Надо допросить его слуг! — воскликнул Чанц.
— Не вижу ни малейшей причины, по которой Гастман мог бы приказать убить Шмида, — сказал старик. — Мы должны искать преступника там, где преступление имело бы смысл, а это в компетенции только федерального прокурора, — продолжал он.
— Писатель тоже считает Гастмана убийцей, — крикнул Чанц.
— А ты, ты тоже так считаешь? — насторожился Берлах.
— Да, я тоже, комиссар.
— Значит, только ты, — констатировал Берлах. — Писатель считает его лишь способным на любое преступление, это большая разница. Писатель не сказал ни слова о преступлениях Гастмана, он говорил только о его потенциальных способностях.
Чанц потерял терпение. Он схватил старика за плечи.
— Многие годы я оставался в тени, комиссар, — прохрипел он. — Меня всегда обходили, презирали, использовали в лучшем случае как последнее ничтожество, как надежного почтальона.
— Согласен, Чанц, — сказал Берлах, уставившись в полное отчаяния лицо молодого человека, — многие годы ты стоял в тени того, кто теперь убит.
— Только потому, что он был более образованным! Только потому, что он знал латынь!
— Ты несправедлив к нему, — ответил Берлах, — Шмид был лучшим криминалистом из всех, кого я когда-либо знал.
— А теперь, — кричал Чанц, — теперь, когда у меня появился шанс, все опять должно пойти насмарку, а какая-то идиотская дипломатическая игра должна погубить мою единственную возможность выбиться в люди! Только вы можете изменить это, комиссар, поговорите с Лутцем, только вы можете убедить его послать меня к Гастману.
— Нет, Чанц, — сказал Берлах, — я не могу этого сделать.
Чанц затряс его как школьника, крепко сжимая плечи, и закричал:
— Поговорите с Лутцем, поговорите!
Но старик не уступал.
— Не могу, Чанц, — сказал он, — я этим делом больше не занимаюсь. Я стар и болен. Мне необходим покой. Ты сам должен себе помочь.
— Хорошо, — сказал Чанц, смертельно бледный и дрожащий. Он отпустил Берлаха и взялся за руль. — Не надо. Вы не можете мне помочь.
Они снова поехали вниз в сторону Лигерца.
— Ты, кажется, отдыхал в Гриндельвальде? В пансионате Айгер? — спросил старик.
— Так точно, комиссар.
— Там тихо и не слишком дорого?
— Совершенно верно.
— Хорошо, Чанц, я завтра поеду туда отдохнуть. Мне нужно в горы. Я взял недельный отпуск по болезни.
Чанц ответил не сразу. Лишь когда они свернули на дорогу Биль — Нойенбург, он сказал, и голос его прозвучал как обычно:
— Высота не всегда полезна, комиссар.
В этот же вечер Берлах отправился к своему врачу доктору Самуэлю Хунгертобелю, на Беренплатц. Уже горели огни, темная ночь быстро вступала в свои права. Из окна Хунгертобеля Берлах смотрел вниз на площадь, кишевшую людьми. Врач убирал свои инструменты. Берлах и Хунгертобель давно знали друг друга, они вместе учились в гимназии.
— Сердце, слава Богу, в порядке, — сказал Хунгертобель.
— Есть у тебя записи о моей болезни? — спросил Берлах.
— Целая папка, — ответил врач и указал на ворох бумаг на письменном столе. — Все о твоей болезни.
— Ты кому-нибудь рассказывал о моей болезни, Хунгертобель? — спросил старик.
— Что ты, Ганс, — сказал другой старик, — это же врачебная тайна.
Внизу на площади появился синий «мерседес», стал в ряд с другими машинами. Берлах присмотрелся. Из машины вышли Чанц и девушка в белом плаще, по которому струились светлые волосы.
— К тебе когда-нибудь забирались воры, Фриц? — спросил комиссар.
— С чего ты взял?
— Да так.
— Однажды кто-то все перерыл на моем письменном столе, — признался Хунгертобель, — а твоя история болезни лежала сверху. Деньги не пропали, хотя в ящиках стола их было порядочно.
— Почему ты не заявил об этом?
Врач почесал голову.
— Хотя деньги и не пропали, я хотел все же заявить. Но потом забыл.
— Так, — сказал Берлах. — Ты забыл. С тобой по крайней мере у воров хлопот не было. — И он подумал: «Вот, значит, откуда Гастман знает». Он снова посмотрел на площадь. Чанц с девушкой вошли в итальянский ресторан. «В день похорон», — подумал Берлах и отвернулся от окна. Он посмотрел на Хунгертобеля, который сидел за столом и писал.
— Как обстоят мои дела?
— Боли есть?
Старик рассказал о приступе.
— Скверно, Ганс, — сказал Хунгертобель. — В ближайшие три дня мы должны тебя оперировать. Откладывать нельзя.
— Я себя чувствую хорошо, как никогда.
— Через четыре дня будет новый приступ, Ганс, — сказал врач, — и ты его уже не переживешь.
— Значит, в моем распоряжении еще два дня. Два дня. А утром третьего дня ты будешь меня оперировать. Во вторник утром.
— Во вторник утром, — сказал Хунгертобель.
— И после этого мне останется один год жизни, не так ли, Фриц? — сказал Берлах и невозмутимо, как всегда, посмотрел на своего школьного товарища. Тот вскочил и зашагал по комнате.
— Кто тебе сказал такую ерунду?
— Тот, кто прочел мою историю болезни.
— Значит, взломщик ты? — возбужденно воскликнул врач.
Берлах покачал головой.
— Нет, не я. Но тем не менее это так, Фриц, еще только год.
— Еще только год, — ответил Хунгертобель, сел на стул у стены своей приемной и беспомощно посмотрел на Берлаха, стоявшего посреди комнаты в далеком холодном одиночестве, неподвижный и безропотный, и под его потерянным взглядом врач опустил глаза.
Около двух часов ночи Берлах вдруг проснулся. Лег он рано, приняв по совету Хунгертобеля новое лекарство, так что свое неожиданное пробуждение он сначала приписал действию непривычного для него средства. Но потом ему показалось, что разбудил его какой-то шорох. Как это всегда бывает с людьми, внезапно проснувшимися, он чувствовал себя необычайно бодрым и полным сил; тем не менее ему нужно было сначала прийти в себя, и лишь спустя несколько мгновений — в таких случаях они кажутся вечностью — он окончательно очнулся. Он лежал не в спальне, как обычно, а в библиотеке, ибо, готовясь к скверной ночи, он, насколько помнил, намеревался еще почитать, но, видимо, незаметно уснул. Он пошарил рукой и понял, что не разделся, а только накрылся шерстяным одеялом. Он прислушался. Что-то упало на пол — это была книга, которую он читал. Темнота этого лишенного окон помещения была глубокой, но не полной; из открытой двери спальни падал слабый свет, свет непогожей ночи. Он услышал далекое завывание ветра. Постепенно он стал различать в темноте книжную полку и стул, край стола, на котором, как он с трудом распознал, все еще лежал револьвер. Вдруг он почувствовал сквозняк, в спальне стукнуло окно, и сразу резко захлопнулась дверь. Из коридора послышался звук тихо затворяемой двери. Старик понял: кто-то отворил входную дверь и проник в коридор, не подумав о сквозняке. Берлах встал и зажег торшер.
Взяв револьвер, он спустил предохранитель. Человек в коридоре тоже зажег свет. Берлах удивился, заметив сквозь неплотно притворенную дверь зажженную лампу, — он не видел смысла в этом поступке незнакомца. Разгадал он его запоздало. Он увидел руку, схватившую электрическую лампочку; вспыхнуло голубое пламя, и все погрузилось во мрак: незнакомец вырвал лампочку, вызвав короткое замыкание. Берлах стоял в кромешной тьме, а тот начал борьбу на своих условиях: в полной темноте. Старик сжал оружие и осторожно отворил дверь в спальню. Вошел туда. Сквозь окна падал слабый свет, еле заметный, но по мере того, как глаза привыкали к темноте, он все усиливался. Берлах прислонился к стене между кроватью и окном, выходящим на реку; другое окно было справа от него, оно смотрело на соседний дом. Так он и стоял в непроницаемой тени, в невыгодном положении: отклониться куда-либо было нельзя, но он надеялся, что его незримость уравновесит шансы. Дверь в библиотеку освещалась слабым светом из окон. Он увидит силуэт незнакомца, когда тот появится в дверях. Вдруг в библиотеке вспыхнул узкий луч карманного фонарика, скользнул по переплетам, по полу, по креслу и, наконец, по письменному столу. Луч упал на кинжал-змею. И снова Берлах сквозь открытую дверь увидел руку. Рука была в коричневой кожаной перчатке; она осторожно ощупывала стол, пока не наткнулась на кинжал, ухватила рукоятку. Берлах поднял оружие, прицелился. Тут фонарик погас. Старик опустил револьвер, застыл в ожидании. Через окно он угадывал черную массу беспрерывно текущей реки, громаду города, кафедральный собор, как стрела устремленный в небо, несущиеся облака. Он стоял неподвижно и ждал врага, который пришел, чтобы убить его. Глаза его впились в неясный провал двери. Он ждал. Все было тихо, безжизненно. Пробили часы в коридоре: три. Он прислушался. Тихо тикали часы. Где-то просигналил автомобиль, потом проехал мимо. Люди из бара. Ему показалось, что он слышит дыхание, но, видимо, ошибся. Так он стоял, и где-то в его квартире стоял другой, между ними ночь, терпеливая, беспощадная ночь, прятавшая под своим черным покрывалом смертоносную змею, кинжал, ищущий его сердце. Старик еле дышал. Так он стоял, сжимая оружие, едва ли ощущая, как холодный пот стекает по его спине. Он ни о чем не думал, ни о Гастмане, ни о Лутце, не думал он и о своей болезни, час за часом пожиравшей его тело, собиравшейся уничтожить его жизнь, жизнь, которую он теперь защищал, полный жажды жить и только жить. Он весь превратился в зрение, пронизывающее ночь, в слух, проверяющий малейший звук, в руку, сжимавшую холодный металл оружия. Наконец он почувствовал присутствие убийцы, но по-иному, не так, как ожидал; он ощутил на щеке легкую прохладу, едва коснувшееся его колебание воздуха. Он не понимал, в чем дело, пока не догадался, что дверь, ведущая из спальни в столовую, отворилась. Вопреки его предположениям, неизвестный проник в спальню кружным путем, невидимый, неслышный, неудержимый, с кинжалом-змеей в руке. Берлах понял, что начать борьбу должен он, он должен первым действовать, он, старый, смертельно больной человек, должен начать борьбу за жизнь, которая продлится еще только год, если все пройдет хорошо, если Хунгертобель удачно сделает операцию. Берлах направил револьвер в сторону окна, выходящего на Аару. Потом выстрелил, раз, еще раз, всего три раза, быстро и уверенно, через разбитое окно в реку, потом он присел. Над ним что-то просвистело — это был кинжал, который теперь, дрожа, торчал в стене. Но старик уже достиг чего хотел: в окне напротив зажегся свет. Люди из соседнего дома высовывались из открытых окон; до смерти перепуганные и растерянные, они всматривались в ночь. Берлах поднялся. Свет из соседнего дома освещал спальню, в дверях столовой он неясно различил тень человека, потом стукнула входная дверь, потом сквозняк захлопнул дверь в библиотеку, потом в столовую, со стуком закрылось окно, и все стихло. Люди из соседнего дома все еще глазели в ночь. Старик не шевелился у своей стены, сжимая оружие в руках. Он стоял неподвижно, словно не ощущая времени. Люди исчезли из окон, свет погас. Берлах стоял у стены, опять в темноте, слившись с ней, один в доме.
Через полчаса он вышел в коридор и поискал свой карманный фонарь. Он позвонил Чанцу, чтобы тот приехал. Потом заменил перегоревшие пробки новыми, зажегся свет. Берлах уселся в кресло и стал прислушиваться. К дому, резко затормозив, подъехала машина. Снова открылась входная дверь, снова он услышал шаги. Чанц вошел в комнату.
— Меня пытались убить, — сказал комиссар. Чанц был бледен. Он был без шляпы, волосы в беспорядке спадали на лоб, а из-под зимнего пальто виднелась пижама. Они вместе пошли в спальню. Чанц с трудом вытащил из стены нож, глубоко вошедший в дерево.
— Этим? — спросил он.
— Этим, Чанц.
Молодой полицейский осмотрел выбитое стекло.
— Вы стреляли в окно, комиссар? — спросил он с удивлением.
Берлах все ему рассказал.
— Это лучшее, что вы могли сделать, — пробормотал Чанц.
Они вышли в коридор, и Чанц поднял электрическую лампочку.
— Хитро, — сказал он не без восхищения и снова положил ее на пол.
Они вернулись в библиотеку. Старик лег на диван, натянул на себя одеяло; он лежал беспомощный, вдруг постаревший и расклеившийся. Чанц все еще держал в руке кинжал-змею. Он спросил:
— Вы не разглядели его?
— Нет. Он был осторожен и быстро скрылся. Я успел только увидеть, что на нем были коричневые кожаные перчатки.
— Этого мало.
— Это просто ничто. Но хотя я его не видел и почти не слышал его дыхания, я знаю, кто это был. Я знаю, знаю это.
Старик говорил еле слышно. Чанц взвесил в руке кинжал, посмотрел на серую распростертую фигуру, на этого старого, усталого человека, на его руки, лежавшие вдоль хрупкого тела, как увядшие цветы у покойника. Потом он увидел взгляд лежащего. Глаза Берлаха смотрели на него спокойно, непроницаемо и ясно. Чанц положил нож на письменный стол.
— Завтра вам нужно поехать в Гриндельвальд, вы больны. Или вы не хотите ехать? Высота вряд ли подойдет вам. Там сейчас зима.
— Нет, я поеду.
— В таком случае вам нужно немного поспать. Подежурить у вас?
— Нет, ступай к себе, Чанц, — сказал комиссар.
— Спокойной ночи, — сказал Чанц и медленно вышел. Старик не ответил, казалось, он уже уснул. Чанц открыл входную дверь, вышел, затворил ее за собой. Медленно прошел несколько шагов до улицы, закрыл калитку. Потом повернулся лицом к дому. Кромешная тьма стояла кругом. Все терялось в этой темноте, даже соседние дома. Лишь далеко наверху горел уличный фонарь, затерянная звезда в густом мраке, полном печали, полном шума реки. Чанц стоял и вдруг тихо чертыхнулся. Он толкнул ногой калитку, решительно зашагал по садовой дорожке к входной двери, еще раз проделал путь, по которому уже проходил. Он схватился за ручку и нажал на нее. Но дверь была заперта.
Берлах поднялся в шесть часов, так и не поспав. Было воскресенье. Старик умылся, переоделся. Потом вызвал по телефону такси. Поесть он решил в вагоне-ресторане. Он взял теплое пальто и вышел из дому, в серое утро. Чемодан он не взял. Небо было ясное. Загулявший студент, шатаясь, прошел мимо, поздоровался, от него несло пивом. «Это Блазер, — подумал Берлах. — Он уже второй раз провалился по физике, бедняга. Поневоле запьешь». Подъехало такси, остановилось — большая американская машина. Шофер сидел с поднятым воротником, глаза полуприкрыты. Шофер открыл дверцу.
— На вокзал, — сказал Берлах, усаживаясь на заднее сиденье.
Машина тронулась.
— Как поживаешь? — раздался голос рядом с ним. — Спал хорошо?
Берлах повернул голову. В другом углу сидел Гастман, в светлом плаще, со скрещенными на груди руками, руками в коричневых кожаных перчатках. Он был похож на старого, насмешливого крестьянина. Шофер повернулся к ним, ухмыляясь. Воротник теперь был опущен, Берлах узнал одного из слуг. Он понял, что попал в ловушку.
— Что тебе нужно от меня? — спросил старик.
— Ты все еще следишь за мной. Ты побывал у писателя, — сказал человек в углу, в голосе его слышалась угроза.
— Это моя профессия.
Человек не спускал с него глаз.
— Каждый, кто преследовал меня, погибал, Берлах.
Сидящий за рулем несся как черт вверх по Ааргауэрштальден.
— Я еще жив. И я всегда преследовал тебя, — ответил комиссар спокойно.
Они помолчали.
Шофер на бешеной скорости несся к площади Виктории. Какой-то старик ковылял через улицу и с трудом увернулся от колес.
— Будьте же внимательней, — раздраженно сказал Берлах.
— Поезжай быстрей, — резко крикнул Гастман и насмешливо посмотрел на старика. — Я люблю быструю езду.
Комиссара знобило. Он не любил безвоздушного пространства. Они неслись по мосту, обогнали трамвай и через серебряную ленту реки быстро приближались к городу, услужливо раскрывшемуся перед ними. Улочки были еще пустынны и безлюдны, небо над городом — стеклянным.
— Советую тебе прекратить игру. Пора признать свое поражение, — сказал Гастман, набивая трубку.
Старик взглянул на темные углубления арок, мимо которых они проезжали, на призрачные фигуры двух полицейских, стоявших перед книжным магазином Ланга.
«Это Гайсбюлер и Цумштег, — подумал он, и еще: — пора наконец уплатить за Фонтане».
— Игру нашу мы не можем прекратить, — произнес он наконец. — Тогда в Турции твоя вина была в том, что ты предложил это пари, Гастман, а моя — в том, что я принял его.
Они проехали мимо здания федерального совета.
— Ты все еще думаешь, что я убил Шмида? — спросил Гастман.
— Я ни минуты не верил в это, — ответил старик и продолжал, равнодушно глядя, как тот раскуривает трубку: — Мне не удалось поймать тебя на преступлениях, которые ты совершил, теперь я поймаю тебя на преступлении, которого ты не совершал.
Гастман испытующе посмотрел на комиссара.
— Такая мысль мне даже не приходила в голову, — сказал он. — Придется быть начеку.
Комиссар молчал.
— Возможно, ты опасней, чем я думал, старик, — задумчиво произнес Гастман в своем углу.
Машина остановилась у вокзала.
— Я последний раз говорил с тобой, Берлах, — сказал Гастман. — В следующий раз я тебя убью — конечно, если ты выдержишь операцию.
— Ошибаешься, — сказал Берлах, стоя на площади, старый и мерзнущий. — Ты меня не убьешь. Я единственный, кто знает тебя, и поэтому я единственный, кто может судить тебя. Я осудил тебя, Гастман, я приговорил тебя к смерти. Сегодня твой последний день. Палач, которого я выбрал, придет к тебе сегодня. Он тебя убьет, во имя Бога это нужно наконец сделать.
Гастман вздрогнул и уставился на старика, но тот повернулся и зашагал к вокзалу, сунув руки в карманы пальто; не оборачиваясь, вошел в темное здание, медленно заполнявшееся людьми.
— Ты дурак, — закричал Гастман вслед комиссару, закричал так громко, что некоторые прохожие обернулись. — Дурак!
Но Берлаха уже не было видно.
День, который все больше заявлял о себе, был ясным и светлым, солнце, похожее на безукоризненный шар, бросало резкие и длинные тени, сокращая их по мере того, как поднималось ввысь. Город лежал как белая раковина, впитывая свет, глотая его своими улочками, чтобы ночью выплюнуть сотнями огней, — чудовище, которое непрерывно рождало все новых людей, разрушало их и хоронило. Утро становилось все лучистей, раскрывая сияющий щит над замирающим звоном колоколов. Бледный в падающем от каменной стены свете, Чанц ждал уже целый час. Он беспокойно шагал взад-вперед под арками кафедрального собора, посматривая на дикие рожи водоплюев, уставившихся на залитый солнцем тротуар. Наконец портальные двери распахнулись, хлынул мощный поток людей, но Чанц сразу заметил белый плащ. Анна шла ему навстречу. Она сказала, что рада его видеть, и протянула ему руку. Они пошли вверх по Кесслергассе, посреди возвращавшейся из церкви толпы, окруженные молодыми и старыми людьми, — тут профессор, там по-воскресному расфранченная жена булочника, там два студента с девушкой, десятки чиновников, учителей — все аккуратные, чистенькие, все голодные и радующиеся предстоящей праздничной трапезе. Они дошли до площади Казино, пересекли ее и спустились к Марцили. На мосту они остановились.
— Фройляйн Анна, — сказал Чанц, — сегодня я поймаю убийцу Ульриха.
— А разве вы знаете, кто его убил? — спросила она удивленно.
Он посмотрел на нее. Она стояла перед ним бледная и хрупкая.
— Думаю, что знаю, — сказал он. — Когда я его поймаю, — он запнулся, — станете ли вы для меня тем же, кем были вашему погибшему жениху?
Анна ответила не сразу. Она плотней запахнула плащ, словно замерзла. Подул легкий ветерок, растрепал ее светлые волосы. Она сказала:
— Согласна.
Они пожали друг другу руки, и Анна пошла к противоположному берегу. Он смотрел ей вслед. Ее белый плащ светился между стволами берез, терялся в гуще прохожих, снова появлялся и, наконец, исчез. Чанц направился к вокзалу, где оставил машину. Он поехал в Лигерц; ехал медленно, иногда останавливался, закуривал, бродил по полям, возвращался к машине и ехал дальше. Около полудня он прибыл в Лигерц, поставил машину у вокзала и пошел вверх, в сторону церкви. Он успокоился. Внизу синело озеро, кругом оголенные виноградные лозы, земля в междурядьях коричневая и рыхлая. Но Чанц ничего не видел и ничем не интересовался. Он поднимался вверх ровным, размеренным шагом, не останавливаясь и не оглядываясь. Дорога вела круто в гору, обрамленная белой стеной. Минуя виноградник за виноградником, Чанц подымался все выше, спокойно, медленно, уверенно, сунув правую руку в карман. Иногда дорогу перебегала ящерица, ястребы взмывали в небо, земля дрожала в море солнечного огня, словно в летний день; он неудержимо шел вверх. Потом он вошел в лес, оставив виноградники позади. Стало прохладней. Между стволами светились белые юркие скалы. Он подымался все выше, не сбиваясь с ровного шага, непрестанно продвигаясь вперед; он вступил на поле. Это были пашни и луга, дорога стала более пологой. Он прошел мимо кладбища — прямоугольника, обнесенного каменной оградой, с широко раскрытыми воротами. Одетые в черное женщины ходили по дорожкам, старый, сгорбленный старик посмотрел вслед прохожему, который, не останавливаясь, продолжал свой путь, держа правую руку в кармане пальто.
Достигнув Преля, он прошел мимо гостиницы «Медведь» и повернул в сторону Ламбуэна. Воздух над плоскогорьем был неподвижен и прозрачен. Силуэты, даже самые отдаленные, вырисовывались зримо и четко. Лишь хребет Шассераля был покрыт снегом, все остальное светилось светло-коричневыми красками, прерываемыми белизной стен и красным цветом крыш, черными полосами пашен. Чанц равномерно шагал вперед; солнце светило ему в спину и отбрасывало тень впереди него. Дорога пошла под уклон, он приближался к лесопилке, теперь солнце светило сбоку. Он шагал дальше, ни о чем не думая, ничего не замечая, охваченный одним желанием, обуреваемый одной страстью. Где-то залаяла собака, подбежала к нему, обнюхала безостановочно движущегося вперед, снова исчезла. Чанц все шел, неизменно держась правой стороны дороги, шаг за шагом, ни медленней, ни быстрей, приближаясь к дому, уже видневшемуся среди коричневых пашен, окруженному голыми тополями. Чанц сошел с дороги и зашагал по пашне. Ботинки вязли в теплой земле непаханого поля, но он все шел и шел, пока не достиг ворот. Они были открыты, и Чанц вошел во двор. Там стояла американская машина, но Чанц не обратил на нее внимания и направился к входной двери. Она тоже была открыта. Чанц вошел в прихожую, отворил вторую дверь и вступил в холл, занимавший весь нижний этаж. Чанц остановился. Из окон падал резкий свет. Шагах в пяти от него стоял Гастман, рядом с ним его слуги-великаны, два неподвижных и грозных мясника. Все трое были в пальто, все трое готовые к отъезду, рядом громоздились чемоданы.
— Стало быть, вы, — произнес Гастман, удивленно посмотрев на спокойное, бледное лицо полицейского в распахнутых дверях.
Он засмеялся:
— Вот, значит, что имел в виду старик! Ловко, очень-очень ловко! — Широко раскрытые глаза Гастмана искрились неестественным весельем.
Спокойно, не проронив ни слова, один из мясников неторопливо вынул из кармана револьвер и выстрелил. Чанц почувствовал удар в левое плечо и прыгнул в сторону. Потом три раза выстрелил — выстрелил в замирающий, словно в пустом бескрайнем пространстве, смех Гастмана.
Вызванные Чанцем по телефону, прибыли Шарнель из Ламбуэна, Кленин из Тванна, а из Биля наряд полиции. Чанца нашли истекающим кровью рядом с тремя трупами; один из выстрелов задел ему левую руку. Схватка, по-видимому, была короткой, но каждый из троих убитых успел выстрелить. У каждого из них нашли револьвер, один из слуг еще сжимал его в руке. Что происходило после прибытия Шарнеля, Чанц уже не видел. Когда врач из Невилля его перевязывал, он дважды терял сознание; но раны оказались неопасными.
Позже пришли жители деревни, крестьяне, рабочие, женщины. Двор был полон народа, и полиция оцепила его, но одной девушке удалось прорваться в холл, где она, громко рыдая, бросилась на труп Гастмана. Это была официантка, невеста Шарнеля. Он стоял тут же, красный от ярости. Потом Чанца понесли среди расступившихся крестьян к машине.
— Они лежат здесь, все трое, — сказал Лутц на следующее утро и указал на трупы, но триумфа в голосе его не слышалось, он звучал печально и устало.
Фон Швенди в замешательстве кивнул. Полковник по поручению своего клиента ездил с Лутцем в Биль. Они вошли в помещение, где лежали трупы. Сквозь маленькое зарешеченное оконце падал косой луч света. Оба стояли в пальто и мерзли. У Лутца были красные глаза. Всю ночь он разбирал дневники Гастмана, документы с неразборчивыми стенографическими записями.
Лутц глубже засунул руки в карманы.
— Вот мы, люди, боясь друг друга, создаем государства, фон Швенди, — снова начал он тихим голосом, — окружаем себя всякого рода стражами, полицейскими, солдатами, общественным мнением, а что толку? — Лицо Лутца исказилось, глаза еще больше покраснели, он засмеялся каким-то блеющим смехом, неуместным в этом голом и бедном помещении. — Достаточно одного пустоголового во главе крупной державы, господин национальный советник, и нас сметет, достаточно одного Гастмана — и вот уже цепи наши разорваны, форпосты обойдены.
Фон Швенди понимал, что лучше было бы вернуть следователя на землю, но не знал толком, как это сделать.
— Наши круги используются всякими проходимцами без чести и совести, — произнес он наконец. — Это неприятно, чрезвычайно неприятно.
— Никто ни о чем не подозревал, — успокоил его Лутц.
— А Шмид? — спросил национальный советник, с радостью ухватившись за эту тему.
— Мы нашли у Гастмана папку, принадлежавшую Шмиду. В ней были сведения о жизни Гастмана и предположения о его преступлениях. Шмид пытался уличить Гастмана. Делал он это как частное лицо. Ошибка, за которую он поплатился; доказано, что Гастман велел убрать Шмида; Шмида, по-видимому, убили из оружия, которое было в руках одного из слуг, когда Чанц его застрелил. Исследование оружия подтвердило это предположение. Причина убийства тоже ясна: Гастман боялся, что Шмид его разоблачит, Шмиду следовало довериться нам. Но он был молод и честолюбив.
В покойницкую вошел Берлах. Увидев старика, Лутц принял меланхоличный вид и снова спрятал руки в карманы.
— Что ж, комиссар, — сказал он, переступая с ноги на ногу, — хорошо, что мы встретились здесь. Вы вовремя вернулись из отпуска, да и я не опоздал сюда с нашим национальным советником. Покойники поданы. Мы много спорили, Берлах; я стоял за сверххитрую полицию, оснащенную всякими штучками-дрючками, я снабдил бы ее даже атомной бомбой, а вы, комиссар, были за полицию человечную, за своего рода отряд сельских жандармов, сформированный из простодушных дедушек. Покончим с этим спором. Мы оба не правы. Чанц доказал это нам совсем не научным способом — простым револьвером. Я даже не желаю знать, как он это сделал. Ну хорошо, пусть то была самооборона, мы можем ему поверить, поверим ему. Результат стоит того, как говорится, убитые тысячекратно заслуживают смерть, а пошло бы все по-научному, нам пришлось бы сейчас шпионить за чужими дипломатами. Чанца придется повысить; а мы оказались ослами, мы оба. Дело Шмида закончено.
Лутц опустил голову, сбитый с толку упорным молчанием старика, ушел в себя, снова превратился в корректного, добросовестного чиновника, откашлялся и, заметив все еще смущенного фон Швенди, покраснел, медленно вышел, сопровождаемый полковником, скрылся в темноте коридора, оставив Берлаха одного. Трупы лежали на носилках, покрытые черными покрывалами. На голых серых стенах шелушилась штукатурка. Берлах подошел к средним носилкам и откинул покрывало с мертвеца. Это был Гастман. Берлах стоял, слегка склонившись, все еще держа в левой руке черную ткань. Молча смотрел он на восковое лицо покойника, на еще сохранившие усмешку губы; глазные впадины стали еще глубже, но эти пропасти не таили больше ничего страшного. Так они встретились в последний раз, охотник и дичь, которая лежала теперь приконченной. Берлах понимал, что жизнь обоих доиграна; взгляд его еще раз проник сквозь годы, мысль его еще раз прошлась по таинственным ходам лабиринта, каким была их жизнь. Теперь между ними не осталось ничего, кроме непостижимости смерти, судьи, приговор которого — молчание. Берлах все еще стоял, склонившись, и бледный свет камеры падал на его лицо и руки, а также играл на лице покойника, — свет, одинаковый для обоих, созданный для обоих, примиряющий обоих. Молчание смерти опустилось на него, проникло внутрь, но дало успокоение только тому, другому. Мертвые всегда правы. Берлах медленно прикрыл лицо Гастмана. Он видел его в последний раз; отныне его враг принадлежал могиле. Долгие годы им владела одна только мысль: уничтожить того, кто теперь лежал перед ним в голом сером помещении, покрытый, словно легким, редким снегом, осыпающейся штукатуркой; и теперь старику не оставалось ничего другого, кроме как устало накрыть труп, смиренно просить о забвении — единственной милости, которая может смягчить сердце, изглоданное неистовым огнем.
В тот же день, ровно в восемь вечера, Чанц вошел в дом старика в Альтенберге, срочно вызванный им к этому часу. К его удивлению, дверь отворила молодая служанка в белом переднике, а войдя в коридор, он услышал из кухни плеск кипящей воды, запахи стряпни, звон посуды. Служанка сняла с него пальто. Левая его рука была на перевязи; тем не менее он приехал на машине. Девушка раскрыла дверь в столовую, и Чанц замер на пороге: стол был торжественно накрыт на две персоны. В подсвечнике горели свечи, в конце стола сидел Берлах в кресле; освещенный неярким, красноватым светом, он являл собой картину непоколебимого спокойствия.
— Садись, Чанц, — сказал старик своему гостю и указал на второе кресло, придвинутое к столу. Ошалевший Чанц сел.
— Я не знал, что приглашен на ужин, — произнес он наконец.
— Надо отпраздновать твою победу, — спокойно ответил старик и отодвинул подсвечник в сторону, так, чтобы они могли без помех смотреть друг другу в лицо. Потом он хлопнул в ладоши. Дверь отворилась, и статная полная женщина внесла поднос, уставленный сардинами, раками, горами холодных закусок, курятины, лососины, салатами из огурцов, помидоров, горошка, заправленными майонезом и яйцами. Старик положил себе всего. Чанц, увидев, какие огромные порции накладывал себе этот человек с больным желудком, от изумления взял себе лишь немного картофельного салата.
— Что мы будем пить? — спросил Берлах. — Лигерцского вина?
— Ладно, давайте лигерцского, — ответил Чанц как во сне.
Пришла служанка и налила вина. Берлах начал есть, взял хлеба, жевал подряд лососину, сардины, раков, закуски, салаты, холодное мясо, затем хлопнул в ладоши и потребовал еще вина. Остолбеневший Чанц все еще возился со своим картофельным салатом. Берлах в третий раз велел наполнить свой стакан.
— А теперь паштеты и красное нойенбургское вино, — распорядился он.
Служанка сменила тарелки, Берлах велел положить себе три паштета — из гусиной печенки, свинины и трюфелей.
— Вы же больны, комиссар, — робко произнес Чанц.
— Не сегодня, Чанц, не сегодня. Я праздную победу, я уличил наконец убийцу Шмида!
Он выпил второй стакан красного вина и принялся за третий паштет, жуя без передышки, жадно поглощая дары мира сего, непрерывно работая челюстями — будто сам дьявол утолял неутолимый голод. На стене, словно в торжествующем танце вождя негритянского племени, плясала его увеличенная вдвое тень, повторяя уверенные движения рук, наклон головы. Чанц с ужасом следил за жутким спектаклем, исполняемым смертельно больным человеком. Он сидел неподвижно, не притрагиваясь к еде, не положив в рот ни кусочка, не пригубив вина. Берлах велел подать телячьи отбивные, рис, жареную картошку, зеленый салат и шампанское. Чанц дрожал.
— Вы притворяетесь, — прохрипел он. — Вы не больны!
Берлах ответил не сразу. Он засмеялся и занялся салатом, смакуя каждый листик. Чанц не решался повторить свой вопрос.
— Да, Чанц, — произнес наконец Берлах, и глаза его дико засверкали. — Я притворялся. Я никогда не был болен, — и он сунул себе кусок телятины в рот, продолжая есть, безостановочно, ненасытно.
Чанц понял, что попал в коварную ловушку и теперь она захлопнулась. Он покрылся холодным потом. Ужас охватывал его все сильней. Он понял свое положение слишком поздно, спасения не было.
— Вы все знаете, комиссар, — произнес он тихо.
— Да, Чанц, я все знаю, — произнес Берлах твердо и спокойно, не повышая голоса, словно речь шла о чем-то второстепенном. — Ты убил Шмида. — Он схватил бокал шампанского и опорожнил его единым духом.
— Я всегда чувствовал, что вы это знаете, — простонал Чанц едва слышно.
Старик и бровью не повел. Казалось, его ничего не интересует, кроме еды; жадно положил он себе вторую тарелку риса, полил его соусом, нагромоздил сверху телячью отбивную. Чанц еще раз попытался спастись, дать отпор этому дьявольскому едоку.
— Но ведь пуля, сразившая Шмида, вылетела из револьвера, который нашли у слуги, — упрямо заявил он.
В голосе его звучало отчаяние.
В прищуренных глазах Берлаха блеснуло презрение.
— Вздор, Чанц. Ты отлично знаешь, что это твой револьвер слуга держал в руке. Ты сам сунул его убитому в руку. Лишь открытие, что Гастман преступник, помешало разгадать твою игру.
— Этого вы никогда не сможете доказать! — отчаянно сопротивлялся Чанц.
Старик потянулся на стуле, уже не больной и слабый, а могучий и спокойный, воплощение нечеловеческого превосходства, тигр, играющий со своей жертвой, и выпил остаток шампанского. Потом он велел неустанно сновавшей взад и вперед служанке подать сыр; с сыром он ел редиску, соленые огурцы, маринованный лук. Все новые и новые блюда поглощал он, словно в последний раз вкушал то, что дарит земля человеку.
— Неужели ты все еще не понял, Чанц, — сказал он наконец, — что ты уже давно доказал мне свою вину? Револьвер был твой; ведь в собаке Гастмана, которую ты застрелил, чтобы спасти меня, нашли пулю от того же оружия, которое принесло смерть Шмиду: от твоего револьвера. Ты сам представил нужные мне доказательства. Ты выдал себя, когда спасал мне жизнь.
— Когда я спасал вам жизнь! Вот почему я не обнаружил потом этой твари, — ответил Чанц механически. — Вы знали, что у Гастмана был такой пес?
— Да. Я обмотал свою левую руку тряпьем.
— Значит, вы и здесь устроили мне ловушку, — произнес убийца почти беззвучно.
— Да, и здесь. Но первое доказательство ты дал в пятницу, когда повез меня в Лигерц через Инс, чтобы разыграть комедию «с синим Хароном». Шмид в среду поехал через Цолликофен, это мне было известно, ведь он останавливался в ту ночь у гаража в Люссе.
— Откуда вы могли это знать? — спросил Чанц.
— Очень просто — я позвонил по телефону. Тот, кто в ту ночь проехал через Инс и Эрлах, и был убийцей: ты, Чанц. Ты приехал со стороны Гриндельвальда. В пансионате Айгер тоже есть синий «мерседес». Много недель ты наблюдал за Шмидом, выслеживал каждый его шаг, завидуя его способностям, его успеху, его образованности, его девушке. Ты знал, что он занимается Гастманом, ты даже знал, когда он его навещает, но ты не знал зачем. И вот случайно тебе попала в руки его папка с заметками. Ты решил взяться за это дело и убить Шмида, чтобы наконец добиться успеха. Ты верно рассчитал, что обвинить Гастмана в убийстве будет легко. А когда ты увидел в Гриндельвальде синий «мерседес», ты понял, как действовать. Ты нанял эту машину в ночь на четверг. Я побывал в Гриндельвальде, чтобы удостовериться в этом. Все дальнейшее просто: ты поехал через Лигерц в Шернельц, оставил машину в тваннбахском лесу, пересек лес кратчайшей дорогой через ущелье и вышел на дорогу Тванн — Ламбуэн. Возле скал ты подождал Шмида, он узнал тебя и с удивлением остановил машину. Он открыл дверцу, и тут ты его убил. Ты сам рассказал мне об этом. А теперь у тебя есть все, к чему ты стремился: его успех, его должность, его машина и его невеста.
Чанц слушал неумолимого шахматиста, объявившего ему мат и теперь закончившего свою жуткую трапезу. Пламя свечей заколебалось, запрыгало по лицам обоих мужчин, тени сгустились.
Мертвая тишина воцарилась в этом ночном аду, служанки больше не появлялись.
Старик сидел теперь неподвижно, казалось даже, что он не дышал, мерцающий свет вспыхивал на нем все новыми всплесками — красный огонь разбивался о лед его лба и его души.
— Вы играли мною, — медленно произнес Чанц.
— Я играл тобою, — ответил Берлах необычайно серьезно. — Я не мог иначе. Ты убил моего Шмида, и теперь я должен был воспользоваться тобой.
— Чтобы убить Гастмана, — докончил Чанц, разом все поняв.
— Ты верно сказал. Половину жизни я отдал, чтобы уличить Гастмана, и Шмид был моей последней надеждой. Я натравил его на дьявола в человеческом обличье, благородное животное на дикую бестию. Но тут появился ты, Чанц, с твоим смехотворным, преступным честолюбием, и уничтожил мой единственный шанс. Тогда я воспользовался тобой, тобой — убийцей, и превратил в свое самое страшное оружие, ибо тебя гнало отчаяние, убийца должен был найти другого убийцу. Свою цель я сделал твоей целью.
— Это было адом для меня, — сказал Чанц.
— Это было адом для нас обоих, — продолжал старик с холодным спокойствием. — Вмешательство фон Швенди толкнуло тебя на крайность, ты любым способом должен был разоблачить Гастмана как убийцу. Любое отклонение от следа, ведущего к Гастману, могло навести на твой след. Только папка Шмида могла тебе помочь. Ты знал, что она у меня, но ты не знал, что Гастман забрал ее у меня. Поэтому ты напал на меня в ночь с субботы на воскресенье. Тебя обеспокоила и моя поездка в Гриндельвальд.
— Вы знали, что это я напал на вас? — едва слышно спросил Чанц.
— Я знал это с первого мгновения. Все, что я делал, я делал с намерением довести тебя до полного отчаяния. И когда твое отчаяние достигло предела, ты отправился в Ламбуэн, чтобы положить конец делу.
— Первым открыл стрельбу один из слуг Гастмана, — сказал Чанц.
— В воскресенье утром я сказал Гастману, что пошлю человека убить его.
У Чанца помутилось в голове. Мороз подирал по его коже.
— Вы натравили меня и Гастмана друг на друга, как зверей!
— Чудовище на чудовище, — неумолимо прозвучал голос из кресла.
— Значит, вы были судьей, а я палачом, — прохрипел другой.
— Именно, — ответил старик.
— И я, который только выполнял вашу волю, вольно или невольно, я теперь преступник, человек, за которым будут охотиться!
Чанц встал, оперся правой, здоровой рукой на край стола. Горела только одна свеча. Сверкающими глазами Чанц пытался разглядеть очертания старика в кресле, но видел лишь какую-то нереальную черную тень. Рука его неуверенно и ищуще скользнула к карману.
— Оставь, — услышал он голос старика. — Это не имеет смысла. Лутц знает, что ты у меня, и женщины еще в доме.
— Да, это не имеет смысла, — сказал Чанц тихо.
— Дело Шмида закончено, — произнес старик в темноту. — Я не выдам тебя. Но уходи! Куда-нибудь! Не хочу больше видеть тебя, никогда. Достаточно, что я вынес приговор одному. Уходи! Уходи!
Чанц опустил голову и медленно вышел, слился с ночью, и, когда дверь захлопнулась и машина отъехала, погасла и последняя свеча, еще раз осветив закрывшего глаза старика яркой вспышкой пламени.
Берлах всю ночь просидел в кресле, не поднимаясь, не вставая. Чудовищная, жадная сила жизни, еще раз мощно вспыхнувшая в нем, сникла, грозила погаснуть. С отчаянной смелостью старик еще раз сыграл игру, но в одном он солгал Чанцу, и когда рано утром, с наступлением дня, Лутц ворвался в комнату и растерянно сообщил, что между Лигерцем и Тванном Чанц найден мертвым в своей машине, настигнутой поездом, он застал комиссара смертельно больным. С трудом старик велел известить Хунгертобеля, что сегодня вторник и его можно оперировать.
— Еще только год, — услышал Лутц голос старика, уставившегося в стеклянное утро за окном. — Только один год.
Подозрение
Der Verdacht
Часть первая
Подозрение
В начале ноября сорок восьмого года Берлаха поместили в «Салем», ту самую лечебницу, из окон которой можно увидеть бернский Старый город с его ратушей. Из-за сердечного приступа хирургическое вмешательство пришлось отложить на две недели. Сложнейшая операция была проведена успешно, однако подтвердила подозрения о неизлечимой болезни. Дела комиссара обстояли плохо. Уже дважды шеф Берлаха, судебный следователь Лутц, внутренне примирялся с мыслью о его кончине; но оба раза врачи все же обнадеживали Берлаха, пока перед самым Рождеством и в самом деле не наступило наконец временное облегчение. Все праздничные дни старик, правда, проспал, однако двадцать седьмого, в понедельник, вид имел бодрый и просматривал старые, за сорок пятый год, номера американского журнала «Лайф».
— Это были звери, Самуэль, — сказал он, когда доктор Хунгертобель зашел во время вечернего обхода в его палату, — это были звери, — и протянул ему журнал. — Ты врач, ты все себе сразу представишь. Посмотри на этот снимок из концлагеря Штуттхоф! Лагерный врач Нэле делает заключенному операцию без наркоза.
— С нацистами такое случалось, — ответил ему врач и, едва взглянув на снимок, заметно побледнел, продолжая держать журнал в руках.
— Что с тобой? — удивился больной.
Хунгертобель не сразу нашелся с ответом. Положив раскрытый журнал на постель Берлаха, он достал из правого кармана белого халата очки в роговой оправе, надел их — при этом, как заметил комиссар, рука его слегка подрагивала — и снова взглянул на снимок.
«С чего это он так разволновался?» — подумал Берлах.
— Ерунда, — проговорил Хунгертобель с досадой и положил журнал на стопку других, лежавших на тумбочке. — Ладно, давай руку. Посмотрим, какой у тебя пульс.
С минуту они не произносили ни слова. Потом врач отпустил руку друга и бросил взгляд на висевший над изголовьем кровати график.
— Дела пошли на поправку, Ганс.
— Еще годок дашь? — спросил Берлах.
Хунгертобель потупился.
— Не будем сейчас об этом, — сказал врач. — Через некоторое время нам придется тебя повторно обследовать, так что побереги себя.
Старик пробурчал, что всегда бережет себя.
— Вот и славно, — ответил ему Хунгертобель, собираясь уходить.
— Дай мне еще раз «Лайф», — попросил больной с деланным равнодушием.
Хунгертобель протянул ему один из лежавших в стопке номеров.
— Не этот, — проговорил комиссар, насмешливо взглянув на врача. — Дай мне тот, что ты у меня взял. Так легко мне от этих снимков из концлагеря не отделаться.
Хунгертобель помедлил мгновенье, побагровел, поймав на себе испытующий взгляд Берлаха, и протянул ему журнал. А потом быстро удалился, словно чем-то раздосадованный. Вошла медсестра. Комиссар попросил ее унести из палаты журналы.
— Кроме этого? — спросила сестра, указывая на тот, что лежал на постели Берлаха.
— Да, кроме этого, — ответил старик.
Когда сестра ушла, он стал опять всматриваться в снимок. Врач, производивший зверский эксперимент, был спокоен, как идолопоклонник. Большую часть его лица, нос и рот, закрывала марлевая повязка.
Комиссар сунул журнал в ящик тумбочки и скрестил руки под головой. Широко раскрытыми глазами он уставился в ночь, которая все больше заполняла палату. Свет он не включал.
Потом пришла медсестра с ужином. Он был по-прежнему скудным, диетическим: жидкая овсянка. К чаю, настоянному на липовом цвете, который он терпеть не мог, комиссар не притронулся. Доев овсянку, выключил свет и снова погрузился в темень, в ее непроницаемые тени.
Он любил наблюдать за огнями города, заглядывавшими в окно.
Когда сестра пришла, чтобы перестелить на ночь постель комиссара, тот спал.
В десять утра появился Хунгертобель.
Берлах лежал на кровати, скрестив руки под головой, а поверх одеяла лежал открытый журнал. Его внимательный взгляд задержался на враче. Хунгертобель заметил, что журнал, который читал старик, был открыт на том же месте — на странице со снимком из концлагеря.
— Не скажешь ли мне, отчего ты побледнел как мертвец, когда я показал тебе этот снимок в «Лайфе»? — спросил больной.
Хунгертобель приблизился к кровати, снял со спинки температурный график, изучил его внимательнее обычного и повесил на место.
— Это была нелепая ошибка, Ганс. Пустяки, не о чем и говорить, — ответил он.
— Ты знаешь этого доктора Нэле? — голос Берлаха прозвучал очень взволнованно.
— Нет, — ответил Хунгертобель. — Мы с ним не знакомы. Просто… он напомнил мне кое-кого.
— Сходство должно было быть разительным, — сказал комиссар.
— Да, он очень похож, — признал доктор, еще раз посмотрев на снимок. При этом его, как явственно заметил Берлах, снова охватило беспокойство. — Но на снимке видна лишь часть лица. В операционных все врачи похожи друг на друга, — сказал он.
— Кого же этот зверь тебе напомнил? — наседал старик.
— Все это бессмысленно, — ответил Хунгертобель. — Говорю тебе: тут какая-то ошибка.
— И все же ты готов поклясться, что это именно он, правда, Самуэль?
— Ну да, — согласился доктор. И даже поклялся бы, если бы не знал точно, что им не мог быть тот, кого он подозревает. — Лучше эту неприятную историю сейчас не обсуждать. После операции, когда речь шла о жизни или смерти! Этот самый врач, — продолжал он некоторое время спустя, не сводя глаз со снимка, словно загипнотизированный, — не может быть моим знакомым, потому что тот врач во время войны был в Чили. Все это ерунда, нелепость, всякий скажет.
— В Чили, в Чили, — проговорил Берлах. — Когда же он вернулся, этот человек, который вовсе не доктор Нэле?
— В сорок пятом.
— В Чили, в Чили, — повторил Берлах. — А все-таки скажи, кого тебе этот снимок напомнил?
Хунгертобель помедлил с ответом, что комиссару не понравилось.
— Если я назову тебе его имя, Ганс, — выдавил наконец тот из себя, — ты сразу станешь его подозревать.
— Он у меня и так на подозрении, — ответил комиссар.
Хунгертобель вздохнул.
— Вот видишь, Ганс, — сказал он. — Этого я и боялся. Я против такого подхода, понимаешь? Я старый лекарь и не желаю никому причинять зла. Твое подозрение — бред. Мыслимое ли дело: из-за какого-то снимка заподозрить человека, тем более что на фото всего лица даже не видно. Вдобавок он жил в Чили, это факт.
— А чем он там занимался? — полюбопытствовал комиссар.
— У него была своя клиника в Сантьяго, — объяснил Хунгертобель.
— В Чили, в Чили, — снова повторил Берлах.
«В этом припеве есть что-то зловещее — но как проверишь? Самуэль прав, в подозрении всегда ужасный подтекст, оно от дьявола», — подумалось ему.
— Ничто так не чернит человека, как подозрение, — продолжал он. — Мне это доподлинно известно. И я часто проклинал свою профессию. Нельзя попадаться в его сети. Но теперь мы во власти подозрения, и у меня оно от тебя. Я буду рад вернуть его тебе, мой старый друг, если только ты сам от него отрешишься. Ведь именно ты не можешь от него отделаться.
Хунгертобель присел на кровать старика и беспомощно взглянул на него. Косые лучи солнца падали в комнату сквозь занавески. День стоял отличный, как и часто этой мягкой зимой.
— Не могу, — нарушил наконец доктор стоявшую в палате тишину. — Не могу. Бог свидетель, я не в силах отбросить подозрения. Слишком хорошо я его знаю. Мы с ним вместе учились, дважды он был моим заместителем в клиниках. На снимке — он. И шрам у виска на месте. Я его помню: я сам оперировал Эмменбергера.
Хунгертобель снял очки с переносицы и положил их в правый нагрудный карман. Потом утер пот со лба.
— Эмменбергер? — спокойно переспросил некоторое время спустя комиссар. — Его так зовут?
— Вот я и проговорился, — разволновался Хунгертобель. — Да, Фриц Эмменбергер.
— Он врач?
— Врач.
— И живет в Швейцарии?
— У него на Цюрихберге клиника «Зонненштайн», — ответил доктор. — В тридцать втором он переселился в Германию, а уже оттуда — в Чили. В сорок пятом вернулся и возглавил клинику. Одну из самых дорогих лечебниц в Швейцарии, — негромко добавил он.
— Только для богачей?
— Для самых богатых.
— Он большой специалист, Самуэль? — спросил комиссар.
Хунгертобель ответил не сразу.
— На такой вопрос вообще ответить непросто, — пояснил он. — Когда-то он был хорошим специалистом, но кто может поручиться, что он им остался? Он применяет сомнительную для нас методику лечения. О гормонах, которые он использует, нам известно до обидного мало. Там, где наука пытается завоевать незнакомые сопредельные области, суетятся разные люди. И ученые, и шарлатаны — часто в одном лице. А что поделаешь, Ганс? Эмменбергер пользуется любовью своих пациентов, они верят в него, как в Бога. А это, по-моему, для таких богатых пациентов самое главное, потому что они и свою болезнь рассматривают как роскошь; не будет веры — дело не пойдет, особенно когда речь идет о лечении гормонами. Он пожинает плоды успеха, он человек уважаемый и зарабатывает большие деньги. В нашей среде его прозвали «богатым наследником»…
Хунгертобель оборвал себя на полуслове, словно досадуя, что у него вырвалось прозвище Эмменбергера.
— «Богатый наследник»? Откуда это прозвище? — спросил Берлах.
— Многие пациенты завещали свое наследство клинике, — с явной неохотой объяснил Хунгертобель. — Это там постепенно вошло в моду.
— Выходит, вы, врачи, обратили на это внимание! — сказал комиссар.
Оба умолкли, и в наступившей тишине была недосказанность, которая страшила Хунгертобеля.
— Ты не должен думать о том, о чем думаешь, — сказал он вдруг в ужасе.
— Я додумываю твои мысли, — спокойно ответил комиссар. — Будем откровенны до конца. Пусть то, что мы подумали, означает преступление, но мы не имеем права бояться собственных мыслей. Только если мы будем честны перед своей совестью, мы сможем их перепроверить и, если мы не правы, отказаться от них. О чем мы сейчас подумали, Самуэль? Мы подумали вот о чем: с помощью приемов, изученных и освоенных в концлагере Штуттхоф, Эмменбергер заставляет своих пациентов завещать ему состояние, а затем умертвляет их.
— Нет! — вскричал Хунгертобель, и в глазах его появился лихорадочный блеск. — Нет! — Он беспомощно уставился на Берлаха. — Мы не вправе так думать! Мы не животные! — воскликнул он, вскочил и забегал по палате туда-сюда: от стены к стене и от окна к кровати. — Бог мой! — простонал врач. — Страшнее этого часа в моей жизни не было!
— Подозрение, — сказал лежащий в кровати старик и еще раз неумолимо повторил: — Подозрение!
Хунгертобель остановился у постели Берлаха.
— Забудем о нашем разговоре, Ганс, — проговорил он. — Мы зашли слишком далеко. Конечно, иногда нам нравится проигрывать разные варианты и возможности. Но ни к чему хорошему это не приводит. Какое нам дело до Эмменбергера? Чем больше я смотрю на снимок, тем меньше сходства между ними нахожу — и это не отговорка. Он был в Чили, а не в Штуттхофе, и на этом наши подозрения исчерпаны.
— В Чили, в Чили, — произнес Берлах, и в его глазах появился жадный блеск готового к новым приключениям человека. Он вытянулся на постели, а потом снова расслабился и сплел пальцы на затылке. — Тебе пора к другим пациентам, Самуэль, — проговорил он чуть погодя. — Они тебя заждались. Я не буду тебя больше удерживать. Забудем о нашем разговоре; ты прав, так будет лучше всего.
Когда Хунгертобель остановился у порога и бросил на больного недоверчивый взгляд, комиссар уже заснул.
Алиби
Застав на другое утро в половине восьмого утра старика изучающим после завтрака газету «Штадтанцайгер», Хунгертобель слегка удивился: он пришел раньше обычного, и в такое время Берлах либо снова спал, либо в крайнем случае подремывал, сложив руки под головой. И еще врачу показалось, что у комиссара более свежий цвет лица, чем всегда, а сквозь полузакрытые веки в его глазах можно было разглядеть былой живой блеск.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Хунгертобель больного.
— Утренняя свежесть уже близка, — загадочно ответил тот.
— Я сегодня заглянул к тебе первому, и вообще-то с обходом это не связано, — сказал Хунгертобель, подойдя к кровати. — Я на секунду, принес тебе кипу медицинских изданий: швейцарский медицинский еженедельник, французскую газету и, самое главное, поскольку ты знаешь английский, несколько номеров «Ланцета», знаменитого английского журнала для врачей.
— Предположить, что меня заинтересуют эти издания, это очень мило с твоей стороны, — ответил Берлах, не отрывая глаз от «Анцайгера», — однако сомневаюсь, что это самое подходящее для меня чтение. Тебе известна моя нелюбовь к медицине.
Хунгертобель рассмеялся:
— И это говорит человек, которому мы помогли!
— Вот именно, — ответил Берлах, — это тем более досадно.
— А что тебя заинтересовало в «Анцайгере»? — полюбопытствовал Хунгертобель.
— Предложения купить коллекционные почтовые марки, — ответил старик.
Врач покачал головой.
— И все же тебе придется просмотреть журналы, хотя обычно ты нас, врачей, обходишь стороной. Мне важно убедить тебя, Ганс, что наш вчерашний разговор был глупостью. Ты криминалист, и я вполне допускаю, что ты способен ни за что ни про что арестовать заподозренного нами модного врача — вместе со всеми его гормональными препаратами. Не представляю, как я мог забыть об этом. Доказать, что Эмменбергер находился в Сантьяго, очень просто. Он посылал оттуда в различные медицинские издания статьи — в том числе в английские и американские. Главным образом по вопросам внутренней секреции, что и принесло ему известность; еще в студенческие годы у него были явные литературные способности, писал он столь же легко, сколь и блестяще. Сам понимаешь, он был трудолюбивым и основательным исследователем. Тем печальнее, что сейчас его увлекли модные веяния, если можно так выразиться; потому что то, чем он занимается сейчас, все-таки дешевка, медицина в зародышевом периоде, как ни крути. Последняя его статья появилась в «Ланцете» еще в январе сорок пятого, за несколько месяцев до возвращения Эмменбергера в Швейцарию. И это несомненное доказательство того, что у нашей подозрительности ослиные уши. Клянусь тебе, никогда в жизни я больше не стану испытывать себя как сыщика. Либо человек на снимке не Эмменбергер, либо сама фотография подделка.
— Пожалуй, это алиби, — сказал Берлах, складывая «Анцайгер». — Ладно, оставь мне журналы.
Когда Хунгертобель появился вновь в десять утра с обходом, старик лежал в постели, углубившись в чтение журналов.
— Выходит, медицина все-таки увлекла тебя? — удивленно спросил врач, щупая пульс Берлаха.
Хунгертобель оказался прав, признал комиссар, статьи действительно приходили из Чили.
Обрадованный Хунгертобель вздохнул с облегчением.
— Вот видишь! А мы его чуть ли не в массовых убийствах обвинили!
— В этой области достигнуты поразительные успехи, — сухо проговорил Берлах. — Я говорю о времени, друг мой, о времени. Английские журналы мне больше не нужны, а швейцарские ты мне оставь.
— Статьи Эмменбергера в «Ланцете» куда важнее, Ганс! — возразил Хунгертобель, вообразивший, будто его друга заинтересовала научная сторона статей. — Обязательно прочти их.
— Но ведь в медицинском еженедельнике Эмменбергер пишет по-немецки, — не без сарказма ответил Берлах.
— И что? — переспросил врач, ничего не поняв.
— Я вот о чем, Самуэль: меня заинтересовал его стиль, стиль врача, некогда блестяще владевшего пером, а теперь пишущего так неуклюже, — осторожно сказал старик.
— Что в этом особенного? — спросил Хунгертобель, так ни о чем и не догадываясь и продолжая изучать температурный график Берлаха.
— Подтвердить алиби все-таки не так уж легко, — сказал комиссар.
— Что ты хочешь этим сказать? — пораженно воскликнул врач. — Ты до сих пор не отказался от подозрений?
Берлах задумчиво посмотрел на своего растерянного друга, на его старое, благородное, морщинистое лицо — лицо врача, который всю жизнь относился к пациентам с полной ответственностью и никогда — спустя рукава и который так и не научился разбираться в людях, а потом сказал:
— Ты по-прежнему куришь свои «Литтл-Розе оф Суматра», Самуэль? Было бы хорошо, если бы ты предложил сигару и мне. Я думаю, после этих бесконечных занудных овсянок было бы приятно попыхтеть сигарой.
Отставка
Еще перед обедом к больному, раз за разом перечитывавшему статью Эмменбергера о слюнной железе, пришел первый после операции посетитель. Это был его шеф, который вошел в палату примерно в одиннадцать часов, сел в некотором смущении у кровати Берлаха, так и не сняв зимнего пальто, со шляпой в руках. Берлаху был доподлинно известен смысл этого визита, а шеф точно знал, как обстоят дела комиссара.
— Ну, комиссар, — начал Лутц, — как поживаете? Какое-то время мы за вас очень боялись.
— Понемножку выкарабкиваюсь, — ответил Берлах, снова скрестив руки под головой.
— Что это вы читаете? — спросил Лутц. Ему не хотелось сразу обозначить цель своего прихода, и он искал обходные пути. — Вот это да: Берлах и медицинские журналы!
Старик ответил не раздумывая:
— Это читается, как криминальный роман. Расширяю понемногу свой кругозор. Когда заболеешь, всегда хочется заняться чем-то посторонним.
Лутц поинтересовался, на какой срок — по мнению врачей — Берлаху еще будет предписан постельный режим.
— Два месяца, — ответил комиссар. — Лежать мне еще два месяца.
Теперь шефу, хотел он того или нет, пришлось выложить все, с чем он пришел.
— Предельный пенсионный возраст, — выдавил он из себя. — Предельный пенсионный возраст, комиссар; вы понимаете, что обходить этот пункт и дальше мы не вправе… да, я так думаю. На то есть законы…
— Понимаю, — ответил больной, не поведя и бровью.
— Чему быть, того не миновать, — сказал Лутц. — Вы должны беречь себя, комиссар, это самое главное.
— А как насчет современной научной криминалистики? Ведь сейчас преступников находят по этикеткам, как банки с конфитюром в магазине, — заметил старик как бы в укор Лутцу. То есть он хотел узнать, кто придет на его место.
— Ретлисбергер, — ответил шеф. — Он замещал вас все это время.
Берлах кивнул.
— Ретлисбергер. У него пятеро детей, так что прибавка будет ему весьма кстати, — сказал он. — С нового года?
— Да, с нового года, — подтвердил Лутц.
Выходит, с пятницы, подумал Берлах, он уже бывший комиссар. Он даже рад, что государственная служба у него позади, как в Турции, так и в Берне. И не только потому, что теперь у него будет больше времени для чтения Мольера и Бальзака, а это само по себе хорошо. Главная причина вот в чем; буржуазный порядок вещей перестал быть истинной ценностью. Сколько разных дел он вел… Люди остаются такими же, как были, независимо от того, ходят ли они по воскресеньям молиться в стамбульскую мечеть Святой Софии или в бернский Мюнстер. Крупных жуликов отпускают, а мелких сажают за решетку потому, что внешне они выглядят поприличнее, чем те, кто совершил бросающееся в глаза убийство, которое вдобавок попадет еще на газетные полосы, хотя суть у них у всех одна, если пристальнее вглядеться и к тому же обладать воображением. Воображение, все дело в воображении! Всего лишь из-за отсутствия воображения добропорядочный деловой человек между аперитивом и обедом частенько обделывает хитроумное дельце и совершает преступление, о котором ни один человек — и меньше всего сам он — не догадывается, ибо никто не обладает воображением, чтобы его увидеть. Мир плох из-за беззаботности. И еще потому, что из-за этой же беззаботности он проваливается в тартарары! Эта опасность куда страшнее, чем сам Сталин со всеми остальными Иосифами вместе взятыми. Для такой старой ищейки, как он, в государственной службе нет больше ничего хорошего. Чересчур много мелочей, чересчур много вынюхивания; а зверя, что следовало бы загнать, настоящего крупного зверя берет под охрану государство, как животных в зоопарке, — вот что он, Берлах, об этом думает.
У доктора Луциуса Лутца вытянулось лицо, когда он выслушал эту речь до конца; сам разговор вообще был ему неприятен, он, собственно говоря, считал неуместным не возражать, когда в его присутствии высказывались столь злонамеренные воззрения; но, в конце концов, старик болен и, слава Богу, уже на пенсии. Ему, к сожалению, пора идти, сказал он, скрывая неудовольствие, у него в полдвенадцатого еще совещание с дирекцией приютов для бедняков.
У дирекции приютов тоже почему-то более тесные связи с полицией, чем с финансовым управлением, и тут опять-таки что-то не сходится, заметил комиссар, и Лутц снова заподозрил неладное, но, к его облегчению, Берлах повернул разговор в другое русло:
— Вы могли бы оказать мне сейчас, когда я болен и ни на что не годен, одну любезность?
— С удовольствием, — откликнулся Лутц.
— Видите ли, доктор, мне нужна кое-какая информация. Человек я от природы любопытный и здесь, в клинике, развлекаюсь криминальными задачками. Старую кошку и ту не отучишь охотиться на мышей. В одном из номеров «Лайфа» я нашел снимок врача-эсэсовца из концлагеря Штуттхоф, фамилия его Нэле. Поинтересуйтесь, пожалуйста, сидит ли он до сих пор в тюрьме или что там с ним еще. С тех пор как СС объявлена преступной организацией, есть международная спецслужба, которая всем этим занимается, и запрос вам ничего не будет стоить.
Лутц записал все необходимое.
Удивленный столь странной просьбой старика, он пообещал дать указание навести справки.
После этого он откланялся.
— Всего вам доброго, выздоравливайте, — сказал он, пожимая руку комиссара. — Я постараюсь к вечеру передать вам все данные, чтобы вы могли покомбинировать всласть, решая эту задачу. Со мной тут Блаттер, он тоже хотел вас навестить. Я подожду на улице, в машине.
Вошел высокорослый толстый Блаттер, а Лутц закрыл за собой дверь.
— Привет, Блаттер, — сказал Берлах полицейскому, который часто был его водителем. — Рад тебя видеть.
— Я тоже рад, — ответил Блаттер. — Нам вас не хватает, комиссар. Везде и всюду.
— Что поделаешь, Блаттер, на мое место придет Ретлисбергер, который, как я понимаю, запоет другую песню.
— Жалко, — проговорил полицейский. — Я, конечно, ничего такого в виду не имел, надеюсь, сработаемся и с Ретлисбергером, факт, лишь бы вы выздоровели!
— Блаттер, тебе, конечно, известен магазин антиквариата на улице Майте, который принадлежит седобородому еврею Файтельбаху? — спросил Берлах.
Блаттер кивнул:
— У которого в витрине всегда выставлены одни и те же почтовые марки?
— Зайди к нему сегодня же днем и попроси, чтобы он прислал мне в «Салем» «Путешествия Гулливера». Это будет последняя служба, которую ты мне сослужишь.
— Это книга про карликов и великанов? — удивился полицейский.
Берлах рассмеялся.
— Что поделаешь, Блаттер, люблю я сказки — и все тут!
Смех этот почему-то показался полицейскому устрашающим, но вопроса он задать не осмелился.
Хижина
В ту же среду вечером ему позвонили по поручению Лутца. Хунгертобель как раз присел на стул у постели своего друга и попросил принести ему перед предстоящей вскоре операцией чашку кофе; ему хотелось воспользоваться возможностью на время пребывания Берлаха в клинике побольше держать его «при себе». Этот звонок прервал их разговор.
Берлах снял трубку и внимательно слушал. Некоторое время спустя он сказал:
— Хорошо, Фавр, а теперь пришлите этот материал мне, — и повесил трубку. — Нэле мертв, — добавил он.
— Слава Богу, — воскликнул Хунгертобель, — это стоит отметить, — и закурил сигару «Литтл-Розе оф Суматра». — Надеюсь, сестра в ближайшее время сюда не зайдет.
— Ей это еще днем не понравилось, — заметил Берлах. — А когда я сослался на тебя, она сказала, что с тебя станется.
— Когда же умер Нэле? — спросил врач.
— В сорок пятом, девятого августа. Покончил жизнь самоубийством в одной из гамбургских гостиниц. Было установлено, что он принял яд, — ответил комиссар.
— Вот видишь, — кивнул Хунгертобель, — теперь и осколки твоего подозрения упали в воду.
Берлах заморгал, глядя на клубы дыма, который Хунгертобель с наслаждением выпускал изо рта в форме колечек и спиралей.
— Ничто не утопишь с таким трудом, как подозрение, но ничто с такой легкостью не всплывает вновь и вновь на поверхность, — ответил он наконец.
Хунгертобель, который отнесся ко всему этому как к безобидной шутке, рассмеялся: комиссар, мол, неисправимый упрямец.
— А это первейшая добродетель криминалиста, — ответил тот и тут же спросил: — Самуэль, ты с Эмменбергером дружил?
— Нет, — ответил Хунгертобель, — не дружил. И, насколько я знаю, никто из однокурсников не дружил с ним. Мне все время приходит на ум история со снимком из «Лайфа», Ганс, и я хочу объяснить тебе, почему я принял это чудовище, этого врача-эсэсовца за Эмменбергера: ты наверняка и сам думал об этом. Лица на снимке почти не видно, и ошибка вызвана, скорее всего, не сходством, которое тоже присутствует, а чем-то другим. Я уже давно не вспоминал про тот случай — и не потому лишь, что произошло все это очень давно, а больше по той именно причине, что он был омерзительным; никто не любит вспоминать о случаях, вызывающих омерзение. Однажды, Ганс, мне пришлось присутствовать при том, как Эмменбергер проводил операцию без наркоза. И для меня это явилось сценой, происходившей как бы в аду, существуй он на самом деле.
— Ад существует, — спокойно ответил Берлах. — Значит, Эмменбергер уже делал когда-то нечто подобное?
— Видишь ли, — ответил врач, — в тот момент другого выхода не было, а бедолага, которого в тот раз прооперировали, жив и по сей день. Спроси его, и он поклянется всеми святыми, что Эмменбергер сущий дьявол, что несправедливо, ибо не будь Эмменбергера, его самого не было бы в живых. Однако, честно говоря, я его могу понять. Жуткое было зрелище.
— Как это случилось? — заинтересовался Берлах.
Хунгертобель отпил последний глоток кофе, и ему пришлось еще раз поднести спичку к своей «Литтл-Розе».
— Честно говоря, ни о каком волшебстве тут говорить не приходится. Как и в других профессиях, в нашей волшебство тоже не действует. Всего-то и потребовалось, что складной нож да мужество — ну и знание анатомии, конечно. Но у кого из нас, молодых студентов, достало бы присутствия духа?
Мы, пятеро медиков, поднимались в Альпах из долины Кина по хребту Блюнлис; куда мы держали путь, точно не помню, я никогда не был заядлым альпинистом, а уж географ из меня и вовсе никудышный. По-моему, это было в тысяча девятьсот восьмом году, в июле, и лето было жаркое, это мне запомнилось. Заночевали мы в хижине на нагорном пастбище. Странно, но эта хижина так и врезалась мне в память. Да, иногда она мне даже снится и я просыпаюсь весь в поту, хотя я, собственно, и не вижу того, что в ней произошло. Она наверняка была самой обыкновенной альпийской хижиной, одной из тех, что пустуют зимой, а кошмар вызывается лишь моим воображением. Этот феномен объясняется, по-моему, тем, что я всегда вижу ее как бы поросшей влажным мхом, а его, мне кажется, на альпийских хижинах не бывает. Нам часто приходилось читать о хижинах живодеров, и никто из нас не представлял себе, как они действительно выглядят. Так вот, хижина живодера для меня что-то вроде той самой альпийской хижины. Она была обнесена кольями, а недалеко от двери был вырыт колодец. Доски, из которых ее сколотили, не черные, мореные, а белые, подгнившие, и во всех щелях грибок, хотя это, возможно, уже позднейшие напластования моей памяти; между сегодняшним днем и тем случаем пролегло столько лет, что мечты и действительность сплелись неразрывно. Но я точно помню, что меня охватил безотчетный страх. Я почувствовал это, когда мы приближались к хижине по усеянному обломками глыб горному пастбищу, на котором тем летом выпаса не было и в низине которого она и стояла. Я убежден, что чувство страха охватило каждого из нас, исключая, может быть, Эмменбергера. Все разговоры прекратились, мы шли молча. Мы еще не достигли хижины, когда спустился вечер, тем более жуткий, что на какой-то невыносимо долгий, как нам показалось, промежуток времени над этой безлюдной пустыней из льда и камня повисло загадочное темно-багровое марево; этот смертоносный неземной свет, который окрасил наши лица и руки, был словно свет с иной планеты, более далекой от солнца, чем наша. И мы, гонимые страхом, так и ворвались внутрь хижины. Сделать это было легко, поскольку она оказалась не заперта. Еще в долине нам сказали, что мы сможем переночевать в ней. Обстановка внутри была жалкой, кроме нескольких нар — ничего. Однако при тусклом свете мы заметили под самой крышей пучки соломы. Наверх вела черная кривая лестница с налипшей еще в прошлом году грязью и дерьмом. Эмменбергер принес воды из колодца; странное дело, он так торопился, будто заранее знал, что должно произойти. Что, конечно, невозможно. Мы развели огонь в примитивном очаге. Нашелся и котел. И как раз тут, в этой странной атмосфере, когда все мы были подавлены усталостью и ужасом, с одним из нас и произошел смертельно опасный случай. С толстяком из Люцерна, сыном трактирщика, который подобно нам изучал медицину — с какой такой стати, никто так и не понял, потому что год спустя он оставил университет, чтобы унаследовать отцовское заведение. Так вот, этот довольно неловкий парень упал с лестницы, которая рухнула под ним, когда он полез под крышу за соломой, и имел при этом несчастье удариться горлом о выступ в стене. Он стонал, лежа на полу. Ударился он крепко. Сначала мы подумали, что у него перелом, но вот он начал прерывисто дышать, жадно хватая воздух. Мы вынесли его наружу и положили на скамью, где он и лежал в ужасающем свете зашедшего уже солнца, лучи которого, пропущенные через облачные ярусы, приобретали песочно-красный цвет. Вид несчастного вызывал тревожные чувства. Располосованное в кровь горло страшно распухло, кадык запрокинутой головы резко дергался туда-сюда. Мы с ужасом наблюдали за тем, как постепенно багровеет его лицо, казавшееся почти черным в этом адском свечении горизонта, а его широко раскрытые глаза походили на две влажные белые гальки. Тщетно пытались мы помочь ему холодными компрессами. Опухоль на горле уходила вовнутрь, ему грозило удушье. Если поначалу несчастный был во власти лихорадочного беспокойства, то теперь им постепенно овладевала апатия. Дышал он с присвистом и говорить больше не мог. Наших знаний хватило, чтобы понять: он при смерти. Но как поступить, мы не знали. У нас не было ни опыта, ни соответствующих навыков. Мы, правда, знали, что существует такая неотложная операция, которая может помочь, но не осмеливались и подумать о ней. Один Эмменбергер все понял и решил действовать. Внимательно осмотрев люцернца, он продезинфицировал в кипящей в котле воде лезвие своего складного ножа и сделал надрез, который специалисты называют кониотомией; этот прием применяется в самых крайних случаях, и состоит он в том, что гортань протыкается острием ножа между адамовым яблоком и перстневидным хрящом, чтобы открыть доступ воздуху. Но не сама операция была ужасной, Ганс, и не то, что она делалась ножом — это была вынужденная мера; ужас состоял в ином, в том, что отразилось на лицах обоих. Несчастный был, правда, близок к удушью, но глаза его были еще открыты, и даже широко открыты, так что он должен был воспринимать все, происходящее вокруг — пусть, допустим, и как в бреду. А Эмменбергер, сделавший этот надрез… Боже мой, Ганс, его глаза тоже были широко раскрыты, а лицо искажено; мне почудилось, что в его глазах появился дьявольский блеск, что-то вроде неуемной радости от возможности помучить, не знаю даже, как это еще назвать, — от этого зрелища мне стало безумно страшно, пусть лишь на секунду, потому что какой-то миг спустя все было позади. По-моему, такое чувство испытал я один, потому что остальные старались не смотреть в ту сторону. И еще я думаю, что в значительной мере это самовнушение, ну, я имею в виду то, что я пережил, и что мой самообман был вызван мрачным видом хижины и наводящим ужас небесным светом в тот вечер; и вот еще что удивительно, если говорить об этом случае: впоследствии люцернец, которому Эмменбергер с помощью кониотомии спас жизнь, никогда больше с ним не разговаривал и даже едва поблагодарил, за что многие его осуждали. Об Эмменбергере же с тех пор всегда отзывались уважительно, предрекая ему большое будущее. Его жизненный путь был непростым. Мы думали, что он будет делать карьеру, но его это не интересовало. Он много, дико много занимался. Физикой, математикой — все ему было мало, все его не устраивало; видели его и на лекциях по философии и теологии. Врачебный экзамен сдал с блеском, но частной практикой никогда не занимался, а работал по договорам, в том числе и у меня; и, должен признаться, пациенты отзывались о нем восторженно, кроме тех немногих, которые терпеть его не могли. Жизнь он вел беспокойную и одинокую, пока в конце концов не уехал за границу; он публиковал странные статьи, например апологетическое эссе об астрологии. Такой софистики мне никогда прежде читать не доводилось. Насколько мне известно, он никого к себе не допускал, стал циником, на него нельзя было положиться, как на более опытного, и это тем более неприятно поражало, что в его окружении равных ему по уму не было. Нас всех удивило, как он вдруг переменился в Чили, где планомерно занимался исследовательской деятельностью; может быть, в этом повинны тамошний климат или его новое окружение. В Швейцарии же он вернулся к своим прежним привычкам, был таким, как раньше.
— Хочется надеяться, — сказал Берлах, когда Хунгертобель закончил свой рассказ, — что эссе об астрологии у него сохранилось.
Врач ответил, что он может завтра же его принести.
— Вот, значит, какая история, — задумчиво проговорил комиссар.
— Теперь ты видишь, — сказал Хунгертобель, — что я в своей жизни слишком часто поддавался воображению.
— Воображение, как и сон, не лжет.
— Как раз сны лгут, — сказал Хунгертобель и встал со стула. — А теперь извини, мне пора на операцию.
Берлах протянул ему руку.
— Надеюсь, это будет не кониотомия или как ты там сказал?
Хунгертобель рассмеялся.
— Мошоночная грыжа, Ганс; она мне симпатичнее, хотя, честно говоря, как операция посложнее будет. Но тебе необходимо отдохнуть. Обязательно. Для тебя нет ничего полезнее, чем двенадцать часов сна.
Гулливер
Но уже около полуночи комиссар проснулся, потому что со стороны окна послышался какой-то шумок и палата наполнилась прохладным ночным воздухом.
Комиссар не стал сразу включать лампу, а задумался над тем, что могло произойти. Потом догадался, что кто-то медленно поднимает вверх жалюзи. Окружавшая его темнота рассеивалась, в неверном свете призрачно раздувались гардины, он услышал еще, как кто-то осторожно опустил жалюзи. Его снова окутала непроницаемая ночная темнота, но он почувствовал, как от окна отделилась и двинулась в его сторону какая-то фигура.
— Наконец-то, — сказал Берлах. — Вот и ты, Гулливер. — И он включил настольную лампу на тумбочке.
В долгополом сюртуке, старом, заляпанном и рваном, перед ним предстал огромного роста еврей, на которого лампа отбрасывала багровую тень.
Старик опять откинулся на подушку, положив руки под голову.
— Я был почти уверен, что ты навестишь меня этой же ночью. В том, что ты умеешь карабкаться по стенам, я не сомневался, — сказал он.
— Ты мой друг, — ответил пришелец, — вот я и здесь.
У него была крупная лысая голова и искривленные кисти рук, голову и руки покрывали бесчисленные шрамы, следы бесчеловечных пыток, но ничто не могло разрушить впечатления величия, исходившего от лица и фигуры этого человека. Великан стоял посреди комнаты, слегка ссутулившись и прижимая руки к бедрам; его размытая тень прилипла к стене и гардинам, глаза без ресниц, сверкавшие, как два алмаза, с неумолимой пристальностью уставились на старика.
— Откуда тебе стало известно, что у меня появилась необходимость быть в Берне? — проговорил он своим разбитым, почти безгубым ртом.
Он выражался описательно, опасливо, как человек, которому известны пути многих языков и который не сразу находит дорогу немецкого, но говорил он без акцента.
— Гулливер не оставляет следов, — добавил он, помолчав немного. — Я не работаю на виду.
— Каждый оставляет свой след, — возразил комиссар. — Один из них я знаю, вот он: когда ты в Берне, Файтельбах, который тебя укрывает, всякий раз дает в «Анцайгере» объявление, что у него продаются старые книги и почтовые марки. Думаю, в таких случаях у Файтельбаха есть немного денег.
Еврей рассмеялся.
— Великое искусство комиссара Берлаха состоит в том, что он находит простое решение.
— Теперь ты знаешь о своем следе, — сказал старик.
Для криминалиста нет большего греха, чем выбалтывать свои секреты.
— Для комиссара Берлаха я этот мой след оставлю. Файтельбах бедный еврей. Он никогда не сумеет развернуть дело.
После этих слов огромное привидение уселось у кровати старика и достало из кармана сюртука большую покрытую пылью бутылку и две маленькие рюмки.
— Водка, — подчеркнул великан. — Выпьем вместе, комиссар, мы всегда пили вместе.
Берлах принюхался к рюмке, он любил время от времени выпить, но сейчас ему было совестно; он представил себе, какие глаза выкатил бы на него доктор Хунгертобель, если бы увидел все это: водку и еврея в полуночный час, когда ему давно полагалось спать. Ничего себе больной, расшумелся бы Хунгертобель и закатил бы ему сцену, он такой.
— Откуда у тебя водка-то? — спросил он, сделав первый глоток. — Хорошая!
— Из России, — рассмеялся Гулливер. — Мне ее советчики достали.
— Ты что, опять был в России?
— Это мое дело, комиссар.
— Комиссэр, — поправил его Берлах. — В Берне полагается говорить «комиссэр». Ты хотя бы в советском раю не щеголял в своем мерзком сюртуке.
— Я еврей и всегда буду ходить в сюртуке, я себе поклялся. Я люблю национальный костюм моего бедного народа, — ответил Гулливер.
— Налей-ка мне еще водки, — сказал Берлах.
Еврей наполнил обе рюмки.
— Надеюсь, ты не перетрудился, когда лез вверх по стене? — спросил Берлах, наморщив лоб. — Сегодня ночью ты в очередной раз нарушил закон.
— Гулливер не хочет, чтобы его видели, — коротко ответил еврей.
— В восемь уже совсем темно, и тебя наверняка пропустили бы ко мне в «Салем». Никакой полиции тут нет.
— Для меня подняться по фасаду клиники ничего не стоит, — ответил великан и рассмеялся. — Детская забава, комиссар. Вверх по желобу, а потом по выступу стены.
— Повезло тебе, что я на пенсии, — покачал головой Берлах. — Теперь мне не придется больше отвечать за таких, как ты. Мне давно следовало упрятать тебя под замок и прославиться тем самым на всю Европу.
— Ты не сделаешь этого, поскольку знаешь, за что я борюсь, — ответил еврей, не дрогнув ни одним мускулом.
— Тебе стоило бы все-таки обзавестись какими-то документами, — предложил ему старик. — Мне это не слишком-то по вкусу, но, видит Бог, некое подобие порядка должно соблюдаться.
— Я умер, — сказал еврей. — Нацисты расстреляли меня.
Берлах промолчал. Он знал, на что намекает великан.
Где-то вдали башенные часы пробили двенадцать раз. Еврей налил водки. Его глаза весело блеснули, но веселье это было не житейского, а высшего порядка.
— Когда прекрасным майским днем сорок пятого года — хорошо помню маленькое белое облачко над головой — наши друзья из СС по ошибке оставили меня в живых в какой-то паршивой яме для гашения извести, поверх тел пятидесяти мужчин, выходцев из моего несчастного народа, когда несколько часов спустя я, весь в крови, спрятался в кустах сирени, которая цвела недалеко оттуда, так что расстрельная команда меня упустила из виду, я поклялся, что отныне я всегда буду жить жизнью последней поруганной скотины, раз уж Господу Богу угодно, чтобы нам зачастую жилось как животным. С тех пор я жил во тьме могильных ям и склепов, в подвалах и тому подобных местах, и только ночь видела мое обличье, только звезды да месяц отбрасывали свой свет на этот жалкий сюртук с тысячью дыр. Все идет, как надо. Немцы убили меня, и я обнаружил у моей жены-арийки — сейчас она мертва, и в этом ей повезло — свидетельство о моей смерти, доставленное ей рейхспочтой; оно заполнено по всем правилам, что делает честь выпускникам школ, в которых этот народ воспитывают для цивилизованной жизни. Мертв так мертв, и это относится и к еврею, и к христианину, прости меня за эту очередность, комиссар. У мертвого не может быть документов, согласись, и границ для него тоже не существует; он может прийти в любую страну, где есть гонимые и истязаемые евреи. Прозит, комиссар, я пью за наше здоровье!
И мужчины опустошили свои рюмки; мужчина в сюртуке снова налил водки и проговорил, зажмурившись, так что глаза его превратились в две сверкающие щелочки:
— Что тебе от меня нужно, комиссар Берлах?
— Комиссэр, — поправил его старик.
— Комиссар, — стоял на своем еврей.
— Мне нужны от тебя кое-какие сведения, — сказал Берлах.
— Сведения — это хорошо сказано, — рассмеялся великан. — Важные сведения на вес золота. Гулливеру известно больше, чем полиции.
— Поглядим. Ты как-то упомянул при мне, что побывал во всех концлагерях. Вообще-то ты о себе рассказывать не любишь, — сказал Берлах.
Еврей наполнил рюмки.
— Некогда к моей особе отнеслись с таким подчеркнутым уважением, что меня таскали из одного круга ада в другой, и было их больше девяти, воспетых Данте, который не был ни в одном. После этого я в моей посмертной жизни ношу на себе здоровенные шрамы, — он вытянул левую руку, которая была изувечена.
— Не знал ли ты случайно врача-эсэсовца по фамилии Нэле? — нетерпеливо спросил старик.
Какое-то мгновение еврей в задумчивости смотрел на комиссара.
— Ты говоришь об этом, из лагеря Штуттхоф? — спросил он.
— О нем самом, — подтвердил Берлах.
Великан насмешливо взглянул на старика.
— Он покончил с собой в дешевой гамбургской гостинице десятого августа сорок пятого года, — сказал он несколько погодя.
Берлах с огорчением подумал: «Черта с два Гулливер знает больше полиции».
А вслух проговорил:
— Приходилось тебе в твоей жизни — или как еще это называется — встречаться с Нэле?
Оборванец-еврей испытующе взглянул на комиссара, и его покрытое шрамами лицо исказила гримаса.
— Почему ты спрашиваешь меня об этом отъявленном негодяе?
Поразмыслив, насколько откровенным он может быть с евреем, Берлах решил все-таки скрыть свои подозрения насчет Эмменбергера, оставив их при себе. Поэтому ограничился тем, что сказал.
— Я видел его фотографию. И меня интересует, что с ним стало. Я больной человек, Гулливер, мне еще долго придется пролежать тут; все время читать Мольера не получается, вот и приходят в голову разные мысли. Меня гложет такая: что они за люди, массовые убийцы вроде Нэле?
— Все люди одинаковые. Нэле был человеком. Выходит, был похож на всех других. Это неверный, вероломный силлогизм, но опровергнуть его никто не сможет, — ответил великан, не спуская глаз с Берлаха, крупное лицо которого оставалось непроницаемым. — Насколько я понимаю, комиссар, ты видел фотографию Нэле в «Лайфе», — продолжал еврей. — Это его единственная, других нет. Сколько их ни искали в этом прекраснейшем из миров, ни одной не обнаружили. Это тем более горестно, что на снимке в «Лайфе» лица этого легендарного палача почти не видно.
— Всего один снимок, говоришь? — задумчиво переспросил Берлах. — Как это вышло?
— Дьявол позаботился об избранниках своей общины получше, чем небеса о своих, и сплел различные обстоятельства воедино, — ухмыльнулся еврей. — В списке СС, который находится теперь в криминологическом ведомстве Нюрнберга, фамилия Нэле отсутствует, нет его имени и в других подобного рода документах; получается, что в СС он не был. В официальных документах из лагеря Штуттхоф в штаб-квартире СС его фамилия ни разу не упоминается, ее нет также и в прилагаемых таблицах о прохождении службы персоналом лагерей. Этой личности, на дремлющей совести которой бесчисленное количество жертв, присуще нечто запредельное по противозаконности; похоже на то, что сами нацисты стыдились признавать его своим. А тем не менее Нэле жил, и никто никогда в его существовании не усомнился, даже самые неисправимые атеисты: в бога, измышляющего дьявольские пытки, поверить легче всего. В те времена мы, пребывавшие в концлагерях, ничем, конечно, не уступавших Штуттхофу, постоянно говорили о нем, хотя для нас он был скорее плодом молвы, чем самым злым и самым бессердечным ангелом в этом раю судей и палачей. Ничто не повернулось к лучшему и тогда, когда на небе появились просветы. Из того лагеря не осталось никого, с кем можно было бы поговорить. Штуттхоф — это под Данцигом. Тех немногих заключенных, что пережили все мучения, перестреляли эсэсовцы перед тем, как пришли русские, которые, свершив праведный суд, их за это повесили, но Нэле среди висельников не было, комиссар. Наверное, он бежал из лагеря раньше.
— Но везде его разыскивали, — сказал Берлах.
Еврей рассмеялся:
— Кого только тогда не разыскивали, Берлах! Уголовное дело завели на весь немецкий народ. Но о Нэле ни один человек не вспомнил, потому что некому было вспоминать, и его преступления остались бы неизвестными, не появись перед самым концом войны в «Лайфе» тот снимок, который ты видел, и на нем запечатлена проведенная по всем правилам врачебного искусства операция, с одной лишь косметической ошибкой — делали ее без наркоза. Человечество, как ему и положено, возмутилось, и его начали искать. Не то Нэле преспокойно окунулся бы в частную жизнь, обернулся бы безобидным сельским врачом или возглавил бы модный санаторий на водах.
— А как «Лайф» заполучил этот снимок? — спросил ни о чем не догадывавшийся старик.
— Это проще пареной репы: им его передал я, — небрежно ответил великан.
Берлах рывком сел на постели и, пораженный, уставился на еврея. «Все-таки Гулливеру известно больше, чем полиции», — в смущении подумал он. Странная жизнь, которую вел этот оборванный великан, проистекала в тех областях, где нити преступлений переплетались с нитями чудовищных пороков. Перед Берлахом сидел судья, судивший по собственным законам, по собственной воле казнивший и миловавший, не заглядывая в гражданские кодексы и уголовное законодательство славных отечеств нашей Земли.
— Выпьем водки, — сказал еврей. — Такая выпивка всегда на пользу. И нужно держаться за это, не то лишишься последней сладкой иллюзии на этой Богом забытой планете.
Наполнив рюмки, он воскликнул:
— Да здравствует человек! — и, опрокинув в себя рюмку, добавил: — Да, но как ему жить? Иногда это очень трудно.
— Незачем так кричать, — сказал комиссар, — а то придет еще дежурная медсестра. Как-никак мы в солидной клинике.
— О христианство, христианство, — проговорил еврей. — Оно произвело на свет добрых медицинских сестер и столь же неутомимых убийц.
Старику подумалось, что с водкой пора кончать, но в конце концов выпил и он.
Комната на какое-то мгновение перевернулась, и Гулливер напомнил ему огромную летучую мышь; потом комната стала на место, но несколько под углом, с чем, видимо, следовало примириться.
— Ты знал Нэле, — произнес Берлах.
Великан ответил, что иногда он имел с ним дело, и продолжал развлекаться своей водкой. А потом начал рассказывать, но уже не прежним чистым и звучным голосом, а в какой-то странной певучей тональности, которая усиливалась, когда в ней появлялись иронические и саркастические нотки; а иногда он понижал и приглушал голос, и Берлах понимал, что все, в том числе необузданность и презрение, выражало лишь его безмерную печаль по поводу необъяснимого грехопадения некогда прекрасного, созданного Богом Мира. Вот так и сидел в полночь этот огромный Агасфер[17] напротив него, старого комиссара, смертельно больного, лежащего на кровати и внимающего словам этого горюющего человека, из которого история нашей эпохи сотворила мрачного и устрашающего ангела смерти.
— Это было в декабре сорок четвертого, — продолжал нараспев Гулливер, уже наполовину во власти водки, по поверхности морей которой его боль разливалась темными маслянистыми кругами, — и еще в январе следующего года, когда крупное солнце надежды уже взошло вдали над горизонтом, в Сталинграде и в Африке. Но эти месяцы были прокляты, комиссар, и я впервые поклялся всеми нашими талмудистами и их седыми бородами, что я этого времени не переживу. А в том, что это все-таки произошло, повинен Нэле, о жизни которого тебе так не терпится узнать. Могу поведать тебе об этом апостоле медицины, что он спас мне жизнь, окунув меня на самое дно ада, а затем вытащив оттуда за волосы — насколько мне известно, эту операцию выдержал я один, проклятый выносить все на свете; из чувства безмерной благодарности я не замедлил предать его, сделав ту самую фотографию. В этом перевернутом мире существуют благодеяния, за которые можно отплатить только мошенничеством.
— Я не понимаю, о чем ты говоришь, — проговорил комиссар, не зная толком, водка ли в том повинна.
Великан рассмеялся и достал из сюртука вторую бутылку водки.
— Прости, — сказал он, — что я говорю столь пространно, но боли мои были еще обширнее. Я хочу выразить очень простую мысль. Нэле прооперировал меня. Без наркоза. Мне была оказана немыслимая честь. Еще раз извини меня, комиссар, я вынужден пить водку как воду, когда вспоминаю об этом, потому что это было ужасно.
— Черт! — воскликнул Берлах, и еще раз оглашая тишину клиники: — Черт!
Он приподнялся на кровати и автоматически протянул сидевшему у его постели чудовищу пустую рюмку.
— Чтобы выслушать эту историю, всего-то и нужно, что немного нервов, — продолжал говорить нараспев еврей в старом затертом сюртуке. — Надо забыть наконец обо всех этих вещах, говорят все не только в Германии: в России сейчас тоже свирепствуют, садисты есть повсюду; но я не желаю ничего забывать, и не только потому, что я еврей — шесть миллионов евреев умертвили немцы, шесть миллионов! — нет, а потому, что я по-прежнему остаюсь человеком, хотя и живу в подвалах вместе с крысами! Я отказываюсь делать разницу между народами и рассуждать о хороших и плохих нациях; но разницу между людьми я вынужден делать, это в меня вбили силой, и после первого же удара, обрушившегося на мое тело, я научился различать между мучителями и их жертвами. Зверства новых стражей народа в других странах я не списываю со счета, который я представляю нацистам и по которому они мне заплатят, я присовокуплю их. Я позволил себе не делать разницы между мучителями. У них у всех одинаковые глаза. Если есть Бог, комиссар, — а нет в моем истерзанном сердце большей надежды, — то он видит не народы, а только людей, и судить он будет всех по мере их преступлений, а воздаст по мере их справедливости. Христианин, христианин, восприми то, что рассказывает тебе еврей, народ которого распял вашего Спасителя и который вместе со своим народом был прибит христианами гвоздями к кресту: я, во всем ничтожестве моей души и плоти, был брошен в концлагерь Штуттхоф, лагерь уничтожения, как его называют, вблизи почтенного старинного города Данцига, из-за которого разразилась эта преступная война, и обращались с нами там круче крутого. Иегова был далеко, его заманили иные миры, или он углубился в какую-то теологическую проблему, привлекшую к себе его возвышенный дух; словом, с тем большей безжалостностью его народ погнали на смерть, расстреливали или душили в газовых камерах, смотря по настроению СС или в зависимости от погоды: задует восточный ветер — вешают, задует южный — спускают на евреев всех собак. Тут же оказался и этот доктор Нэле, судьба которого тебя так тревожит, человек высокодуховного мироустройства. Он был один из тех лагерных врачей, которыми кишмя кишел каждый лагерь; навозные жуки, с исследовательским рвением предавшиеся массовым убийствам, делавшие сотням узников уколы фенола, воздуха, карболовой кислоты и всего остального, что было представлено для их адских развлечений в пространстве между небом и землей; более того, при случае они производили опыты на людях без наркоза — вынужденно, как они уверяли, ведь жирный рейхсмаршал запретил вивисекцию животных. И, значит, Нэле был не один такой… Теперь мне пора перейти к рассказу о себе. Во время моих странствий по различным лагерям я пристально присматривался к мучителям и научился, как говорится, распознавать моих братьев во плоти. Нэле выделялся среди себе подобных. Жестокости других он не разделял. Должен признать, что, насколько это было возможно и насколько это вообще имело смысл в лагере, предназначением которого было всеобщее уничтожение, он узникам помогал. Он был более жутким человеком, чем остальные врачи, в совершенно другом смысле, комиссар. Его эксперименты не отличались изощренными истязаниями; и под ножами других врачей особым образом связанные евреи умирали, испуская страшные вопли, от шока, вызванного болью, а не неумением врача. Дьявольщина Нэле состояла в том, что все это он делал с разрешения своих жертв. Как это невероятно ни звучит, Нэле оперировал только евреев, соглашавшихся на это добровольно и точно знавших, что им предстоит; он даже поставил условием, чтобы они присутствовали при других операциях и в полной мере представляли себе весь ужас пытки, прежде чем дадут согласие испытать то же самое.
— Как это могло быть? — задыхаясь, спросил Берлах.
— Надежда, — рассмеялся великан, грудь которого вздымалась и опускалась. — Надежда, христианин. — Его глаза светились непостижимым звериным блеском, шрамы на лице вздулись, его руки, лежавшие на одеяле Берлаха, походили на лапы зверя, а разбитый рот поглощал все больше водки, вливавшейся в истерзанное тело.
С запредельной тоской он простонал:
— Вера, надежда и любовь — вот она, эта триада, как прекрасно сказано в тринадцатом стихе «Послания к коринфянам»[18]. Но надежда — самая живучая и долговечная среди них, она запечатлена на мне, еврее Гулливере, красными рубцами по всему телу. Любовь и вера провалились в Штуттхофе к дьяволу, но надежда оставалась, и с ней к дьяволу шли мы. Надежда! Она всегда была у Нэле в запасе, как камень за пазухой, и он предлагал ее каждому, кому она требовалась, а требовалась она многим. В это нельзя поверить, комиссар, но сотни людей давали Нэле возможность прооперировать себя без наркоза после того, как, трясясь от страха и бледные как смерть, видели, что предыдущий узник подох на операционном столе, и могли еще отказаться, но соглашались из одной лишь надежды обрести свободу, которую обещал им Нэле. Свобода! Как же человек должен любить ее, если соглашается вынести все ради ее обретения, любить настолько, что тогда, в Штуттхофе, был готов добровольно отправиться в огненный ад, лишь бы объять это побочное дитя свободы, которое перед ним замаячило. Свобода иногда бывает девкой, а иногда — святой, и для всех она разная, рабочий видит ее по-своему, священник по-своему, банкир по-своему, а бедный еврей в лагерях уничтожения, в Освенциме, Люблине, Майданеке, Натцвайлере и Штуттхофе, совсем по-своему; для него свобода все, что находится за пределами этого лагеря, кроме прекрасного мира Божьего — о да, в своей безграничной скромности он надеялся хотя бы на то, что его переведут обратно в такие приятные места, как Бухенвальд или Дахау, которые на расстоянии казались местами золотой свободы, где ты не подвергался опасности попасть в газовую камеру, где тебя могли только забить до смерти, но оставалась надежда — один шанс из миллиона! — что благодаря какому-то невероятному случаю ты спасешься, а не погибнешь со стопроцентной гарантией, как в лагере уничтожения. Боже мой, комиссар, давай бороться за то, чтобы свобода стала одной для всех и чтобы никому не было стыдно перед другими за свою свободу! Просто смешно: надежда попасть в другой концентрационный лагерь сгоняла массы или по крайней мере множество людей к плахе живодера Нэле; просто смешно (и тут еврей действительно разразился хохотом отчаяния и ярости), но и я сам, христианин, лег на его окровавленную плаху-козлы, в свете прожекторов я увидел призрачно поблескивающие надо мной скальпели и щипцы и по бесчисленным ступеням скатился в юдоль пыток, в мерцающий блеск зеркальных комнат боли, все более беспощадно обнажавших нас! Я тоже пошел к нему в надежде вырваться из этого Богом проклятого лагеря; поскольку Нэле, этот знаток человеческих душ, в других обстоятельствах вел себя как человек слова, мы поверили ему и в данном случае: в час самой страшной беды всегда верится в чудо. И что же, что же — он сдержал слово! Когда я, единственный из всех, перенес бессмысленную резекцию желудка, он велел подлечить меня и в первые дни февраля отправил обратно в Бухенвальд, до которого после бесконечных пересадок с одного состава на другой мне так и не суждено было добраться, потому что вблизи от Эйслебена меня настиг тот замечательный майский день с цветущей сиренью, в которой мне удалось укрыться… Вот каковы факты жизни много постранствовавшего человека, который сидит у твоей, комиссар, постели, история его страданий и скитаний по кровавым морям безумия нашей эпохи; обломки моей души и тела все еще вертит пучина нашего времени, которая поглощает миллионы и миллионы людей, виновных или безвинных, ей безразлично. Но вот допита и вторая бутылка водки, и Агасферу самое время отправиться в обратный путь: по государственному проспекту «выступ на фасаде — желоб на углу клиники» к влажному погребу дома Файтельбаха.
Тень вставшего Гулливера заполнила полкомнаты, но старик не дал ему уйти сразу.
— Но что Нэле все-таки был за человек? — спросил он тихим голосом, чуть ли не шепотом.
— Христианин, — ответил еврей, пряча в карманы грязного сюртука бутылку и рюмки. — Кто в состоянии ответить на этот вопрос? Нэле мертв, он просто взял и ушел из жизни, и тайна его ведома Господу, царствующему над небом и адом, а Бог своих тайн не выдает никому, даже теологам, его толкователям. Смертельно опасно искать там, где есть одни мертвецы. Сколько раз я пытался заглянуть под маску этого врача, с которым нельзя было поговорить, который не общался ни с кем из СС или своих коллег-врачей, не говоря уже об узниках! Сколько раз я пытался понять, что происходит за поблескивающими стеклами его очков! Что было делать бедному еврею вроде меня, если он всегда видел своего мучителя не иначе, как в белом халате и с марлевой повязкой на лице? Потому что таким, как я его с опасностью для жизни сфотографировал — а в концлагере нет ничего опаснее, чем фотографировать, — он таким и был: весь в белом, худощавый, слегка сутулящийся и ступающий бесшумно, словно опасаясь подхватить в этих бараках, где горе и нужда молились и обращались к небу, какую-то заразу. Я думаю, осторожность стала для него правилом поведения. Он, наверное, просчитал возможность того, что в один прекрасный день адские призраки концлагерей куда-то пропадут, но с тем, чтобы эта проказа с помощью других мучителей и других политических систем возродилась из глубины человеческих инстинктов где-нибудь в другом месте. Скорее всего, он заранее подготовил для себя побег в частную жизнь, полагая свою должность в аду временным заместительством. Поэтому я рассчитал свой удар, комиссар, и прицел был точным: когда появился снимок в «Лайфе», Нэле застрелился; хватило и того, что мир узнал его имя, комиссар, ибо осторожный скроет свое имя до конца (это были последние слова Гулливера, которые услышал комиссар, они прозвучали как глухой удар медного колокола и долго страшно гудели в ушах больного — «осторожный скроет свое имя!»).
Водка все-таки подействовала. Больному показалось еще, будто занавески у окна раздулись, как паруса отплывающего корабля, потом послышался шорох поднимаемого жалюзи; потом, еще менее отчетливо, ему почудилось, будто чье-то огромное массивное тело окунулось в ночь; а потом, когда через разверстую раму открытого окна в комнату ринулось бесчисленное множество звезд, в старике всколыхнулась волна упрямого желания состояться в этом мире и сражаться за другой, лучший, сражаться всей своей исстрадавшейся плотью, в которую жадно и неотвратимо вгрызался рак и которой дано прожить год и не больше, и когда водка огнем обожгла его внутренности, он во весь голос затянул «Бернский марш», нарушив тишину клиники, так что некоторые спящие проснулись… Никакой более громкой песни он не вспомнил; но когда растерянная дежурная медсестра вбежала в комнату, он уже успел заснуть.
Размышления
На другой день, это было в четверг, Берлах, как и можно было предположить, проснулся около двенадцати, незадолго до того, как ему принесли обед. Голова слегка побаливала, но вообще-то он чувствовал себя так хорошо, как уже давно не бывало, и подумал, что нет ничего лучше, чем пропустить время от времени несколько рюмок водки. Особенно когда лежишь на больничной койке и тебе это запрещено. Увидел на тумбочке несколько конвертов — это Лутц переслал ему материалы о Нэле. Полицейские службы и впрямь не вызывали больше у него нареканий, тем более что сам он с послезавтрашнего дня уже на пенсии. В приснопамятном году в Константинополе нужных сведений приходилось ждать месяцами. Но не успел комиссар приступить к просмотру документов, как медсестра принесла обед. Это была сестра Лиза, которая нравилась ему больше других, но сегодня она почему-то была замкнута и совсем на себя непохожа. Комиссару сделалось не по себе. Наверное, кому-то стало известно о событиях прошлой ночи, подумал он. Непостижимо! Он, помнится, затянул под конец, когда Гулливер уже ушел, «Бернский марш»; но тут что-то не сходится, петь патриотические песни совсем не в его духе. Черт побери, подумал он, вспомнить бы поточнее! Старик недоверчиво оглядел комнату, не прекращая поглощать овсянку. (Вечно эта овсянка!) На умывальнике стояло несколько склянок с лекарствами и таблетки, чего вчера не было. А это как понимать? Никакого объяснения он не находил. Вдобавок ко всему каждые десять минут в палате появлялись другие медсестры, которые что-то искали, уносили и приносили; одна захихикала в коридоре, он отчетливо слышал. Спросить, где Хунгертобель, он не решался, и то, что доктор появится только к вечеру, его вполне устроило: он знал, что в дневные часы у него частная практика в городе. Он с отвращением доедал овсянку с яблочным киселем (это тоже было дежурное блюдо) и был немало удивлен, когда на десерт ему принесли крепкий кофе с сахаром — по личному указанию доктора Хунгертобеля, как с упреком выразилась медсестра. Кофе его никогда прежде не баловали. Он ему пришелся по вкусу и взбодрил. Потом он с головой ушел в чтение документов, и это было разумнее всего остального, что он мог предпринять, но тут, к его удивлению, в палате появился доктор Хунгертобель. Лицо его было весьма озабочено, как мгновенно боковым зрением определил якобы углубившийся в чтение старик.
— Ганс, — сказал Хунгертобель, с решительным видом подойдя к кровати больного. — Объясни мне, ради Бога, что произошло? Я готов поклясться, и все мои сестры тоже, что ты был мертвецки пьян!
— Вот как, — проговорил старик, отрывая глаза от бумаг, и присовокупил: — Скажите на милость!
В том-то и дело, возмутился врач, все говорит за это. Он тщетно пытался разбудить Берлаха целое утро.
— Мне это очень неприятно, — с сожалением прокомментировал комиссар.
— Не может быть, чтобы ты принял алкоголь — ведь не проглотил же ты, в конце концов, саму бутылку! — в отчаянии воскликнул врач.
— Я того же мнения, — ухмыльнулся старик.
— Это какая-то загадка, — сказал Хунгертобель, протирая очки. Он всегда поступал так, когда приходил в волнение.
— Дорогой Самуэль, — обратился к врачу комиссар. — Я понимаю, как непросто опекать криминалиста, все так, и подозрения, что Берлах тайный пьяница, я отвести от себя не могу. И прошу только о том, чтобы ты позвонил в Цюрих и попросил перевести меня в тамошнюю клинику под именем Блеза Крамера, больного только что прооперированного, лежачего, но в средствах не стесненного.
— Ты хочешь к Эмменбергеру? — подавленно проговорил Хунгертобель, опускаясь на стул.
— Разумеется, — ответил Берлах.
— Ганс, — сказал Хунгертобель, — я тебя не понимаю. Нэле мертв!
— Один Нэле мертв, — уточнил старик. — А теперь надо установить, какой именно.
— Боже милостивый, — тяжело выдохнул врач. — Разве было несколько Нэле?
Берлах взял документы в руки.
— Разберемся в этом деле вместе, — спокойно ответил он, — уточним то, что вызовет наше особое внимание, и ты увидишь, что наше искусство состоит из небольшой доли математики и большой доли воображения.
— Я ничего не понимаю, — простонал Хунгертобель, — с самого утра не понимаю ровным счетом ничего.
— Попытаемся сверить все данные, — продолжал комиссар. — Роста Нэле был высокого, худощавый, волосы седые, а прежде рыжеватые, цвет глаз — серо-зеленый, к тому же он лопоухий, с узким бледным лицом, мешками под глазами, зубы его всегда были здоровы. Особые приметы: шрам над правой бровью.
— Да, это он, в точности он, — подтвердил Хунгертобель.
— Кто? — спросил Берлах.
— Эмменбергер, — ответил врач. — В описании совпадает буквально все.
— Но ведь это описание Нэле, найденного мертвым в Гамбурге, что следует из полицейского протокола, — возразил Берлах.
— Тогда вполне естественно, что я спутал их обоих, — с удовлетворением в голосе проговорил Хунгертобель. — Любой из нас может оказаться похожим на какого-то убийцу. И моя ошибка обрела самое простое в мире объяснение. С этим ты не можешь не согласиться.
— Это одна версия, — сказал комиссар. — Но возможны и иные версии, которые на первый взгляд убедительными не кажутся, но должны быть со всех сторон рассмотрены. Вот, например, другая: не Эмменбергер был в Чили, а Нэле под его именем, в то время как Эмменбергер под его именем находился в Штуттхофе.
— Это совершенно невероятная версия, — удивился Хунгертобель.
— Конечно, — ответил Берлах. — Но допустимая. И каждую нужно разобрать.
— Боже мой! До чего мы тогда дойдем? — запротестовал врач. — Тогда выходит, в Гамбурге покончил с собой Эмменбергер, а врач, возглавляющий ныне клинику «Зонненштайн», — это Нэле.
— Ты видел Эмменбергера после его возвращения из Чили? — подкинул ему вопрос старик.
— Только мельком, — удивленно проговорил Хунгертобель и схватился за голову. Потом водрузил наконец очки на переносицу.
— Вот именно! Значит, такая возможность не исключается! — гнул свою линию комиссар. — Возможна и следующая версия: самоубийца из Гамбурга — это вернувшийся из Чили Нэле, а Эмменбергер вернулся в Швейцарию из Штуттхофа, где действовал под именем Нэле.
— Тогда речь должна пойти и о другом преступлении, — покачал головой Хунгертобель, — если мы хотим, чтобы эта версия выглядела правдоподобной.
— Верно, Самуэль! — кивнул комиссар. — Нам пришлось бы предположить, что Нэле был убит Эмменбергером.
— На том же основании можно предположить и обратное: что Нэле убил Эмменбергера. Твое воображение, как я вижу, никаких границ не признает.
— Эта версия тоже имеет право на жизнь, — сказал Берлах. — Она тоже должна быть рассмотрена, по крайней мере на нашем нынешнем уровне допущений.
— Все это чушь, — обидчиво проговорил старый врач.
— Возможно, — с непроницаемым видом ответил Берлах.
Хунгертобель начал энергично возражать. С таким, мол, упрощенным подходом к действительности, как у комиссара, можно как дважды два четыре доказать все, что угодно.
— Так можно усомниться во всем на свете, — сказал он.
— Криминалист обязан подвергать действительность сомнению, — ответил старик. — Тут уж ничего не попишешь. В этом отношении мы в полном праве уподобиться философам, о которых говорят, что они мучительно подвергают все сомнению, чтобы потом, прикрываясь законами своего ремесла, пуститься в распрекраснейшие рассуждения об искусстве умирать и о жизни после смерти, хотя от нас, возможно, еще меньше проку, чем от них. Мы вместе с тобой предложили несколько версий. И любая из них имеет право на жизнь. Это лишь первый шаг. Следующий: отделить допустимые версии от правдоподобных. Допустимое и правдоподобное — не одно и то же; вполне допустимое — это еще далеко не правдоподобное. Поэтому нам следует проверить наши версии на правдоподобие. Мы имеем дело с двумя лицами, двумя врачами; с одной стороны, преступник Нэле, с другой — Эмменбергер, знакомый тебе с юношеских лет, который руководит сегодня клиникой «Зонненштайн» в Цюрихе. В сущности, мы остановились на двух версиях, и обе они возможны. Степени правдоподобия каждой из них на первый взгляд разнятся. Исходя из первой версии, между Эмменбергером и Нэле никакой связи не существует, и она правдоподобна; исходя из второй, эта связь есть, и она менее правдоподобна.
— То-то и оно, — перебил Хунгертобель старика, — а я о чем все время говорил?
— Дорогой Самуэль, — ответил Берлах, — так уж получилось, что я, будучи криминалистом, обязан разбираться в преступлениях, вытекающих из человеческих взаимоотношений. Первая версия — о том, что между Нэле и Эммербергером никакой связи нет, — меня не интересует. Нэле мертв, а против Эмменбергера у нас нет никаких фактов. В то же время моя профессия заставляет меня поглубже вникнуть во вторую, куда менее правдоподобную версию. Что в этой версии правдоподобно: она основывается на том, что Нэле и Эмменбергер поменялись ролями, что Эмменбергер действовал в Штуттхофе под именем Нэле и оперировал узников без наркоза; Нэле же, взяв фамилию Эмменбергер, пребывал в Чили и посылал оттуда отчеты о своей исследовательской работе в медицинские журналы; о дальнейшем, о смерти Нэле в Гамбурге и поведении Эмменбергера в Цюрихе, мы уже не говорим. Версия эта фантастическая, но давай подойдем к ней спокойно. Она правдоподобна потому, что оба они, Эмменбергер и Нэле, не только врачи, но и внешне очень похожи. Это только первое приближение, однако остановимся на нем. Это первый факт, который наличествует в наших допущениях и рассуждениях, в этом хитросплетении допустимого и правдоподобного. Рассмотрим же сей факт. Насколько велико их внешнее сходство? Люди часто похожи друг на друга, большое сходство встречается реже, но самыми редкостными являются сходства, когда совпадают и случайные моменты, особенности, возникшие не естественно, а в результате каких-то определенных случаев и обстоятельств. Это есть и в данном случае. У обоих совпадают не только цвет волос и глаз, не только черты лица, рост, осанка и так далее, но и странный шрам над правой бровью.
— Ну и что, случайное совпадение, — сказал врач.
— Или отнюдь не случайное, — добавил старик, — ведь ты когда-то сделал Эмменбергеру этот самый шов над бровью. В чем там было дело?
— Эта операция была следствием другой, по удалению гноя из лобной пазухи, — объяснил Хунгертобель. — Надрез делается таким образом, чтобы шрам был менее заметен. В том самом случае с Эмменбергером мне это не совсем удалось. Как говорится, и у мастеров случаются проколы, обычно я оперирую куда искуснее. Шрам вышел более заметным, чем положено для уважающего себя хирурга, да и кусочек брови я ему отхватил, — сказал он.
— Часто ли приходится делать подобные операции? — поинтересовался комиссар.
— Ну, нет, — ответил Хунгертобель, — не особенно часто. Обычно эту историю с лобной пазухой не запускают до такой степени, чтобы потребовалась операция.
— Что и удивительно, сам понимаешь, — сказал Берлах, — эту не слишком-то частую операцию сделали Нэле тоже, причем у него тоже отхвачена бровь, и в том же самом месте, как следует из протокола осмотра: найденный в Гамбурге труп самоубийцы описан очень подробно. Был у Эмменбергера на левой руке шрам от ожога шириной в ладонь?
— Откуда тебе это известно? — удивился Хунгертобель. — Действительно с Эмменбергером случилась однажды большая неприятность при проведении химического опыта, ну и…
— На трупе в Гамбурге тоже обнаружен подобный шрам, — с удовлетворением констатировал Берлах. — Сохранился ли этот шрам у Эмменбергера и по сей день? Это важно знать — ты как будто упомянул, что мельком видел его?
— Да, прошлым летом в Асконе, — подтвердил врач. — Оба шрама на месте, я сразу обратил на это внимание. Эмменбергер очень мало изменился, постоянно язвил, но вообще-то едва меня признал.
— Вот так, — сказал комиссар, — он едва признал тебя. Видишь, сходство заходит так далеко, что и сам не знаешь, кто из них кто. Нам придется либо поверить в редкие и поразительные совпадения, либо признать случай искусственного хирургического вмешательства. Скорее всего, внешнее сходство между ними не столь велико, как мы сейчас предполагаем. Того, что можно принять за сходство, исходя из официальных документов и экспертных данных, недостаточно, чтобы спутать людей в жизни; но если сходство простирается до таких редких деталей, то возможность, что один выступит в роли другого, возрастает. Специальная операция и поддельный след ожога имели бы смысл, если бы сходство требовалось превратить в идентичность. Но на нынешней стадии расследования мы можем только предполагать; однако согласись, что эта разновидность сходства делает нашу вторую версию правдоподобней.
— Нет ли, помимо фотографии Нэле из «Лайфа», других его снимков? — спросил Хунгертобель.
— Три снимка гамбургской уголовной полиции, — ответил комиссар, вынул их из конверта и протянул приятелю. — Они сделаны с трупа.
— Тут тоже мало что видно, — разочарованно проговорил некоторое время спустя Хунгертобель. Голос его дрожал. — Ну да, они очень похожи, и я могу себе представить, что мертвый Эмменбергер выглядел бы так же. А как Нэле покончил с собой?
Старик задумчиво и как бы испытующе посмотрел на врача, который с потерянным видом сидел в своем белом халате на его постели и, казалось, забыл обо всем: и о его, Берлаха, опьянении, и об остальных пациентах.
— С помощью синильной кислоты, — ответил наконец комиссар. — Как и большинство нацистов.
— То есть?
— Раскусил капсулу и проглотил содержимое.
— На голодный желудок?
— Таковы данные следствия.
— Это действует мгновенно, — сказал Хунгертобель, — а судя по снимкам, похоже, что перед смертью Нэле увидел что-то страшное.
Оба некоторое время помолчали.
Наконец комиссар сказал:
— Пойдем дальше, хотя со смертью Нэле тоже связаны некоторые загадки; нам необходимо рассмотреть и другие подозрительные моменты.
— Я не понимаю, о каких таких подозрительных моментах ты говоришь, — с удивлением и в то же время встревоженно проговорил Хунгертобель. — Ты преувеличиваешь.
— О нет, — сказал Берлах. — Вернемся к твоим воспоминаниям студенческих лет. Я лишь косвенно коснусь их. Они могут помочь мне, ибо дают психологическое обоснование того, почему при определенных обстоятельствах Эмменбергер оказался способным на те действия, на которые, как мы предполагали, он пошел в Штуттхофе, если там был он. Но начну я с других, более важных фактов: у меня в руках биографические данные того, кого мы знаем под именем Нэле. В его происхождении много темных пятен. Родился он в тысяча восемьсот девяностом году, то есть он на три года моложе Эмменбергера. Уроженец Берлина. Отец неизвестен, мать работала служанкой и отдала внебрачного ребенка на воспитание своим родителям, сама вела беспутную жизнь, попала в исправительную колонию, и дальше ее следы теряются. Дед Нэле, рабочий с завода Борзига, сам был внебрачным ребенком, еще в юношеские годы перебрался из Баварии в Берлин. Бабушка — полька. Нэле закончил народную школу, в четырнадцатом его призвали в армию, и до пятнадцатого он был в пехоте, потом по ходатайству армейского врача переведен в санчасть. Здесь им, по-видимому, овладела неодолимая тяга к медицине: он был награжден «железным крестом» за успешное проведение неотложных операций. После войны работал помощником врача в домах для умалишенных и госпиталях, в свободное время готовился к сдаче экзаменов на аттестат зрелости, чтобы выучиться потом на врача, но дважды на них проваливался, будучи не в силах сдать древние языки и математику. Похоже, способности у него проявились только в области медицины… Потом сделался знахарем и площадным лекарем, и к нему сбегалась прорва народа, причем из всех слоев населения, он вступил в конфликт с законом, но отделался не слишком большим штрафом, поскольку, как записано в постановлении суда, «обладал удивительными медицинскими познаниями». За него ходатайствовали, вступилась пресса. Тщетно. Но через некоторое время его оставили в покое и как бы забыли. Поскольку он раз за разом проваливался на экзаменах, на него стали смотреть сквозь пальцы, и в тридцатые годы Нэле занимался врачеванием в Силезии, Вестфалии, в Баварии и Гессене. И через двадцать лет таких занятий крутой поворот судьбы: в тридцать восьмом он получает аттестат зрелости. (В тридцать седьмом Эмменбергер перебрался из Германии в Чили.) У Нэле вдруг обнаружились прекрасные успехи в древних языках и в математике. В университете ему решением совета факультета разрешают сдать государственный экзамен экстерном, который он сдает столь же блестяще, как и на аттестат зрелости, после чего, ко всеобщему удивлению, исчезает с поля зрения, приняв должность врача в концлагере.
— Боже мой, — сказал Хунгертобель, — что ты хочешь этим сказать?
— А все очень просто, — несколько язвительно ответил Берлах. — Обратимся-ка к статьям, написанным Эмменбергером для швейцарского медицинского журнала и присланным из Чили. Это тоже факты, которые мы не можем отрицать и которые обязаны рассмотреть. Они якобы интересны с научной точки зрения. Охотно верю. Но во что я никогда не поверю, так это в то, что написаны они человеком, обладавшим хорошим литературным стилем, — а ведь именно такая репутация была у Эмменбергера. Выражать свои мысли тяжеловеснее, чем автор этих статей, едва ли возможно.
— Научный труд — это тебе не стихи, — запротестовал врач. — В конце концов, Кант тоже писал сложно.
— Оставь Канта в покое! — проговорил старик. — Он писал сложно, но не плохо. А автор этих статей из Чили пишет не только тяжеловесно, но и коряво, как человек, не вполне владеющий языком. Этот человек не видит разницы между дательным и винительным падежами, как говорят о берлинцах, которые тоже не знают, как сказать правильно — «тебе» или «тебя». Странно и то, что он путает греческие термины с латинскими, словно не имеет о них ни малейшего представления. Например, в пятнадцатом номере за сорок второй год употреблен термин «гастролиз» — но как?
В комнате наступила мертвая тишина.
Она продлилась несколько минут.
Потом Хунгертобель закурил свою «Литтл-Розе оф Суматра».
— Выходит, ты считаешь, что эти статьи написаны Нэле? — спросил он наконец.
— Я считаю это вполне возможным, — спокойно ответил комиссар.
— Мне нечего тебе возразить, — мрачно проговорил врач.
— Не будем спешить и преувеличивать, — сказал комиссар, положив конверты с документами на одеяло. — Я лишь доказывал тебе правдоподобие моих версий. Однако правдоподобие, действительно, еще не есть истина. Если я скажу, что завтра, похоже, пойдет дождь, вовсе не обязательно, что так и будет. В нашем мире мысль и истина неидентичны. Иначе нам жилось бы куда проще, Самуэль. Между мыслью и действительностью всегда находится реальная жизнь, в которой мы, с Божьей помощью, намерены проявить себя достойно.
— Не вижу во всем этом никакого смысла, — проговорил Хунгертобель, беспомощно взглянув на своего друга, который, как всегда, лежал неподвижно, положив руки под голову. — Если твои предположения верны, ты подвергаешь себя страшной опасности, потому что Эмменбергер — сущий дьявол! — предупредил он. — Все это бессмысленно, — тихо, чуть ли не шепотом, повторил врач.
— В справедливости всегда есть смысл, — не отступал от своего замысла Берлах. — Переведи меня к Эмменбергеру. Завтра утром — таково мое желание.
— В сочельник? — Хунгертобель вскочил на ноги.
— Да, — ответил старик. — В сочельник, — и насмешливо улыбнулся. — Трактат Эмменбергера об астрологии ты принес?
— Разумеется, — выдавил из себя врач.
Берлах рассмеялся:
— Давай-ка его сюда, мне не терпится узнать, что там обо мне говорят звезды. Может, у меня еще есть шанс?
Еще один визит
Этому страшному старику, у которого вся вторая половина дня ушла на тщательное заполнение подробной анкеты, а потом на телефонные звонки в кантональный банк и к нотариусу, этому напоминающему своей непроницаемостью восточного божка больному, к которому сестры всегда заходили не без некоторой опаски и который с непоколебимым спокойствием плел свою сеть, как плетет ее огромный паук, безошибочно сплетая одну нить с другой, незадолго до наступления темноты и вскоре после того, как Хунгертобель сообщил ему, что в сочельник его переведут в «Зонненштайн», нанесли еще один визит, причем нет полной ясности, пришел ли этот человек по своей воле или был комиссаром вызван. Он был невысок ростом, худощав, с длинной тонкой шеей. Из карманов расстегнутого плаща торчали газеты. Под плащом на нем был обтрепанный серый костюм в коричневую полоску, и в его карманах тоже было полно газет; шею он обмотал лимонно-желтым шелковым шарфом, покрытым грязными жирными пятнами, к лысине прилепился берет. Глаза поблескивали из-под кустистых бровей, крючковатый нос казался чересчур крупным для этого человечка, а рот — постыдно провалившимся внутрь из-за отсутствия зубов. Он говорил громко, изъясняясь, похоже, стихами, но иногда, подобно одиноким островам, у него вырывались отдельные слова вроде «троллейбус» или «постовой полицейский», которые по какой-то причине его бесконечно раздражали. К его жалкому платью никак не подходила вполне элегантная, но совершенно вышедшая из моды черная трость с серебряным набалдашником, перекочевавшая сюда из прошлого века, — он ею все время без всякой причины размахивал. При входе в клинику он врезался в одну из медсестер, отдал поклон, экзальтированно исторгнув из себя всевозможные извинения, безнадежно заблудился в здании, попав в родильное отделение и чуть не оказавшись в операционной, где принимали роды, откуда был изгнан врачом, споткнулся об одну из напольных ваз с фиалками, которых много перед каждой дверью; наконец его проводили в новый корпус (его отловили, как пугливого зверька), но прежде, чем попасть в палату старика, он споткнулся о собственную трость и, проехавшись на животе по коридору, ударился о дверь палаты, за которой лежал тяжелобольной.
— Ох уж эти уличные регулировщики! — воскликнул посетитель, оказавшись наконец у постели Берлаха.
«Господи, спаси и помилуй!» — подумала операционная медсестра, которая привела его к комиссару.
— Понатыкали их повсюду. Весь город просто набит уличными регулировщиками.
— Эх-хе-хе, — произнес комиссар; сразу сообразивший, что этот посетитель требует осмотрительного и продуманного подхода. — Как ни крути, а без уличных регулировщиков не обойтись, Фортшиг. Движение машин должно быть организовано, не то у нас погибнет на дорогах еще больше людей, чем сейчас.
— Организовать движение машин! — вскричал Фортшиг своим скрипучим голосом. — Прекрасно! Звучит недурственно. Но для этого никакой особой дорожной полиции не требуется, надо просто больше доверять порядочным людям. Весь Берн превратился в какую-то крепость уличных регулировщиков, и неудивительно, что все пешеходы, все пользователи улиц, взбесились, да и только! Правда, Берн всегда был таким — безрадостным полицейским гнездом, неисправимая диктатура угнездилась здесь с незапамятных времен. Сам Лессинг собирался написать трагедию о Берне, когда ему сообщили об ужасающей смерти бедного Генци[19]. Какая досада, что он ее не написал! Пятьдесят лет как я живу в этой столице, превратившейся в гнездо, а известно ли вам, что значит для составителя слов (я ставлю рядом слова, а не буквы), что значит для писателя влачить жалкое существование и голодать в этом сонном толстокожем городе (где не получишь другого литературного еженедельника, кроме «Бунда»), нет, я это описывать не стану. Ужас, ужас без конца и края! Все пятьдесят лет, гуляя по Берну, я закрывал глаза, даже в детской коляске! Я не хотел лицезреть этот несчастный город, в котором мой отец ушел из жизни в жалкой должности ассистента какой-то университетской кафедры; что же я вижу, когда открываю глаза теперь? Уличных регулировщиков, повсюду этих уличных регулировщиков!
— Фортшиг, — с живостью проговорил старик, — у нас с вами речь пойдет не о дорожной полиции, — и он строго посмотрел в сторону этого опустившегося и измотанного человека, который, сидя на стуле, раскачивался, охваченный ужасом, и в совиных глазах которого ничего, кроме несчастья, прочесть было нельзя.
— Я просто не представляю, что с вами стряслось, — продолжал старик. — Черт побери, Фортшиг, у вас ведь было отличное перо, вы были настоящим мужчиной, а «Яблочный сок», который вы издавали, был пусть и маленькой, но хорошей газетой; а сейчас вы заполняете ее страницы сплошной чепухой вроде уличных регулировщиков, троллейбусов, филателистов, шариковых авторучек, радиопрограмм, театральных сплетен, проездных билетов, рекламы кинофильмов, федеральных советов и джазов. Энергия и пафос, с которыми вы набрасываетесь на эти вещи — и впадаете при этом в стиль «Вильгельма Телля» самого Шиллера, — видит Бог, их стоило бы употребить ради других вещей.
— Комиссар, — проскрипел его посетитель, — комиссар! Не грешите, нападая на поэта, на пишущего человека, на долю которого выпало непоправимое горе жить в Швейцарии, и, что еще в десять раз хуже, жить за счет Швейцарии.
— Ну, ну, — попытался утихомирить его Берлах, однако Фортшиг все больше впадал в раж.
— Что «ну, ну»? — вскричал он, вскочил со стула и забегал по комнате от окна к двери и обратно с постоянством маятника. — Легко сказать «ну, ну»! И что это «ну, ну» оправдывает? Ничего! Бог свидетель, ничего! Согласен, я превратился в фигуру смехотворную, почти такую же, как все эти наши Хабануки, Теобалды, Евстахи и Мусташи, и несть числа им, рассказами о приключениях которых забиты страницы дорогих нашему сердцу скучных ежедневных газет и которые пытаются выстоять в борьбе с запонками, женами и лезвиями для бритья, поставив, разумеется, на себе крест; но кто не поставил на себе крест, кто не опустился в этой стране, где приходится сочинять, прислушиваясь к шепоту души, когда вокруг тебя все с треском разваливается! Эх, комиссар, комиссар, я пускался во все тяжкие, чтобы обеспечить себе достойное положение с помощью пишущей машинки, но даже до уровня среднего деревенского бедолаги не дотянул, мне пришлось отказываться от одной затеи за другой, хоронить одну надежду за другой — самые прекрасные пьесы, пламенные стихи и самые возвышенные повести! Все они оказывались карточными домиками, карточными домиками, и ничем другим. Швейцария превратила меня в шута, в пустого фантазера, в Дон Кихота, сражающегося с ветряными мельницами и стадами овец. Тебя заставляют выступать за свободу, справедливость и прочие товары, которыми торгуют у нас на рынке, чтобы поддержать общество, принуждающее тебя вести существование бедняка или прохвоста, если только ты привержен ценностям духовным, а не рыночным. Люди хотят наслаждаться жизнью и не желают пожертвовать даже тысячной долей этих наслаждений, хотя бы мельчайшим грошиком, и точно так же, как в тысячелетнем рейхе при слове «культура» хватались за револьвер[20], в наших краях хватаются за кошелек и прячут его подальше.
— Очень хорошо, Фортшиг, — строго проговорил Берлах, — что вы упомянули о Дон Кихоте — это моя любимая тема. Нам всем полагалось бы быть донкихотами, если бы у нас частица сердца оказалась на нужном месте, а в черепной коробке сохранились хотя бы крупицы разума. Но нам незачем воевать с ветряными мельницами, как престарелому рыцарю из прошлого в его жестяных доспехах; друг мой, нам приходится выходить на бой с куда более опасными великанами, иногда это просто чудовища, олицетворяющие жестокость и подлость, а иногда это динозавры, у которых мозги никогда не были больше птичьих: и страшилища эти известны нам не из сказочных книг, мы их не придумали — они взяты из жизни. И в конце концов, бороться с бесчеловечностью в любой форме и при любых обстоятельствах мы обязаны. Но важно и то, как именно мы боремся и чтобы мы при этом не теряли головы. Борьба со злом не должна превращаться в игру с огнем. А как раз вы, Фортшиг, играете с огнем, потому что оправданную борьбу ведете неразумно, вы напоминаете пожарного, гасящего пожар не водой, а нефтью. Если прочесть еженедельник, который вы издаете, этот жалкий листок, можно подумать, что всю Швейцарию нужно отменить. О том, что в этой стране многое — да, очень многое! — не в порядке, я могу рассказывать вам с утра до вечера, и по этой же причине у меня появилось немало седых волос, но предать все это огню, как если бы мы жили в Содоме или Гоморре, абсолютно неправомерно и в каком-то смысле надуманно, манерно. Можно подумать, будто вы дошли до того, что вообще стесняетесь любить эту страну. Не нравится мне это, Фортшиг. Стесняться своей любви нельзя, но она должна быть строгой и зрячей, не то она превратится в любовь обезьянью. Когда видишь на своей родине грязь и нечистоты, надо взяться за швабры и метлы, чтобы подобно Геркулесу вымести Авгиевы конюшни[21] — этот его подвиг из всех десяти мне особенно нравится, — но рушить сразу сам дом и неразумно, и бессмысленно, ибо построить новый в этом бедном искалеченном мире очень трудно, на это потребуется жизнь нескольких поколений, а когда он наконец будет построен, то окажется не лучше прежнего. Важно, чтобы правда могла быть сказана и чтобы за нее можно было сражаться, а не пускаться в благоглупости. В Швейцарии это возможно, что и следует спокойно признать и быть за это благодарным, нам нечего бояться никакого правительственного или федерального совета, да и никакого совета вообще. Что правда, то правда — кому-то приходится из-за этого ходить в отрепьях или вести жизнь, полную лишений. Свинство, конечно, кто спорит? Но истинный Дон Кихот гордится своими жалкими доспехами. Борьба против человеческого скудоумия и эгоизма всегда была тяжелой и требовала жертв, она была причиной нищеты и всяческих унижений; но это священная война, и вести ее следует с достоинством, а не со стенаниями. А вы только оглушаете наших добрых бернцев своей руганью и проклятьями, рассказывая, как несправедливо сложилась ваша судьба в их среде, и хотите накликать на Берн ближайшую хвостатую комету, чтобы обратить наш старый город в развалины. Фортшиг, Фортшиг, ваша борьба зиждется на мелочных мотивах. Когда человек говорит о справедливости, он должен обезопасить себя от подозрений, что на самом деле он подразумевает собственную кормушку. Отриньте мысли о собственном несчастье и обтрепанных брюках, которые вынуждены носить, откажитесь от мелочной войны при помощи негодных средств; в нашем мире, Господь свидетель, есть вещи поважнее, чем уличные регулировщики.
Сухощавый тщедушный Фортшиг снова уселся на стул, втянув в плечи длинную худую шею и поджав ноги. Берет упал на пол, а лимонно-желтый шарф распустился и как-то уныло свисал на впалой груди этого человечка.
— Комиссар, — плаксиво проговорил он. — Вы строги ко мне, как Моисей или Исайя к народу Израиля, и я знаю, что вы правы, но я уже четыре дня не принимал горячей пищи, у меня даже на курево денег нет.
— Разве вы не столуетесь больше у Лайбундгутов? — спросил старик, наморщив лоб и в некотором смущении.
— Мне случилось поспорить с фрау директором Лайбундгут о «Фаусте» Гёте. Ей нравится вторая часть, а мне нет. И она перестала приглашать меня. Сам господин директор написал мне, что для его супруги вторая часть «Фауста» — святая святых и он, увы, ничего больше для меня сделать не может, — заскулил писатель.
Берлаху стало жаль бедолагу. Он подумал, что был чересчур несправедлив к нему, и, испытывая внутреннюю неловкость, пробурчал:
— Что у жены директора шоколадной фабрики может быть общего с Гёте? — и добавил: — Кого же Лайбундгуты приглашают теперь? Опять этого тренера по теннису?
— Бетцингера, — с удрученным видом ответил Фортшиг.
— Тогда хотя бы он может несколько месяцев каждый третий день вкусно и плотно обедать, — с ноткой удовлетворения в голосе проговорил старик. — Хороший музыкант. Однако опусы его слушать невозможно, хотя я еще со времен моего пребывания в Константинополе привык к раздражающим слух звукам. Но это уже другой компот. Правда, я опасаюсь, что в ближайшее время Бетцингер не сойдется с фрау Лайбундгут в суждениях о Девятой симфонии Бетховена. И вот тогда она снова пригласит тренера по теннису. Над такими, как он, ничего не стоит взять верх в беседах об изящном. Я дам вам, Фортшиг, рекомендацию к Грольбаху из компании по торговле верхним платьем «Грольбах — Кюне»; у них готовят хорошо, хотя и перебирают с жирами. Надеюсь, у них вы продержитесь дольше, чем у Лайбундгутов! Грольбах литературой не увлекается, и до Гёте с его Фаустом ему нет никакого дела.
— А его супруга? — пугливо поинтересовался Фортшиг.
— Она у него глухая тетеря, — успокоил его комиссар. — Для вас, Фортшиг, это счастливый случай. И возьмите с тумбочки эту маленькую коричневую сигару. Это «Литтл-Роз», ее оставил для меня доктор Хунгертобель, так что можете спокойно курить здесь.
Фортшиг тщательно раскурил сигару.
— Не желаете ли дней на десять съездить в Париж? — как бы между прочим спросил старик.
— В Париж? — вскричал тщедушный человечек, вскакивая со стула. — Во имя всего святого, если оно существует, скажите, я не ослышался? В Париж? Поехать мне, который преклоняется перед французской литературой, как никто другой? Да первым же поездом!
От удивления и радости у Фортшига даже дыхание перехватило.
— Пятьсот франков и билет вы получите у нотариуса Бутца на Бундесгассе, — спокойно объяснил Берлах. — Путешествие будет для вас приятным. Париж прекрасный город, самый прекрасный из всех мне известных, не считая Константинополя; а французы, ну, как вам сказать, французы прекрасные и тонкие люди. Перед ними спасует даже самый что ни на есть турок.
— В Париж, в Париж, — бормотал бедолага.
— Но сначала вы поможете мне в одном деле, от которого у меня на душе кошки скребут, — сказал Берлах, пристально взглянув Фортшигу прямо в глаза. — История пренеприятнейшая.
— Преступление? — дрогнувшим голосом произнес человечек.
— Да, преступление, которое необходимо раскрыть, — ответил комиссар.
Фортшиг осторожно положил сигару на стоявшую рядом пепельницу.
— То, что мне предстоит, опасно? — понизив голос, спросил он, и глаза его расширились.
— Нет, — ответил старик. — Ничего опасного нет. — И чтобы избежать даже тени опасности, я и отсылаю вас в Париж. Однако вы должны выполнять все мои условия. Когда выйдет следующий номер вашего «Яблочного сока»?
— Не знаю. Когда у меня будут деньги.
— А как скоро вы можете разослать газету подписчикам? — спросил комиссар.
— Немедленно после выпуска, — ответил Фортшиг.
Комиссар поинтересовался, в одиночку ли Фортшиг выпускает свой «Яблочный сок».
— Да, в одиночку. С помощью пишущей машинки и старого множительного аппарата, — ответил редактор.
— А сколько экземпляров?
— Сорок пять. У меня, видите ли, очень маленькая газета, — совсем тихо сказал Фортшиг. — Больше пятнадцати постоянных подписчиков у меня никогда не было.
Несколько секунд комиссар размышлял.
— Следующий номер «Яблочного сока» должен выйти огромным тиражом. Триста экземпляров. Я вам это издание оплачу и не потребую от вас ничего, кроме того, чтобы вы сами написали в этот номер статью по моему заказу; все остальные материалы — на ваш вкус. В этой статье (и он протянул ему лист исписанной бумаги) должно содержаться то, что здесь написано; но язык и стиль должны быть вашими, Фортшиг, дайте себе труд, чтобы это получилось, как в ваши лучшие времена. Моих данных вам хватит, других не ищите и не пытайтесь выяснить, кто тот врач, против которого направлен мой памфлет. Пусть вас мои утверждения не смущают; примите их на веру, я за них отвечаю. В статье, которую вы напишете и которая будет прочитана в некоторых клиниках, будет содержаться всего лишь одна неточность: дескать, в ваших, Фортшиг, руках находятся все доказательства и что имя врача вам известно. Это опасный момент. Поэтому вы после того, как отправите по почте экземпляры «Яблочного сока», и отправитесь в Париж. Сразу же, ночным поездом!
— Я напишу. И еду в Париж, — заверил его писатель, крепко сжимая в руке лист бумаги, который дал ему старик.
Он совершенно преобразился, этот человек, и от радости пританцовывал на месте.
— О вашей поездке никто не должен знать, — повелительно проговорил Берлах.
— Никто! Ни одна живая душа! — заверил его Фортшиг.
— Сколько будет стоить выпуск такого номера? — спросил старик.
— Четыреста франков, — потребовал человек, и от мысли, что он хоть немного приведет свои дела в порядок, глаза его заблестели.
Комиссар кивнул.
— Эти деньги вы тоже получите у моего доброго друга Бутца. Если вы поспешите, он выдаст вам их еще сегодня, я с ним созвонился. Вы уедете, как только выйдет номер? — переспросил он, преисполненный своим неистребимым недоверием.
— Немедленно! — поклялся маленький человечек, подняв вверх три пальца. — Той же ночью. В Париж!
Однако старик не успокоился и после ухода Фортшига. Писатель показался ему даже более ненадежным человеком, чем прежде. Он подумал, не попросить ли Лутца понаблюдать за Фортшигом.
— Глупости, — проговорил он вслух. — Они меня уволили. Дело Эмменбергера я веду на свой страх и риск. Фортшиг статью против Эмменбергера напишет, а раз он после этого уедет, бояться мне нечего. И даже Хунгертобелю об этом знать необязательно. Пора бы ему прийти. Мне бы не помешала сейчас сигара «Литтл-Роз».
Часть вторая
Бездна
Итак, в пятницу, поздним вечером — это был последний день старого года, — комиссара, ноги которого покоились на высоких подушках, повезли на машине в Цюрих. За рулем был сам Хунгертобель, который, заботясь о здоровье друга, вел машину осторожнее обычного. Весь город так и переливался в сиянии гирлянд разноцветных лампочек. Хунгертобель оказался в одной из плотных колонн автомобилей, со всех сторон тянувшихся к этому пестрому мареву, а потом расползавшихся по боковым улицам и переулкам, где они раскрывали свои чрева и выдавливали из себя мужчин и женщин, жаждущих отпраздновать эту ночь, венчающую конец года, и готовых вступить в новый и жить в нем дальше. Старик неподвижно сидел на заднем сиденье, укрывшись в темноте этого маленького помещения на колесах с крутой крышей. Он попросил Хунгертобеля ехать не самым ближним путем. И все время наблюдал за неутомимой людской суетой. Город Цюрих обычно его особых симпатий не вызывал; четыреста тысяч швейцарцев на одном клочке земли — это все-таки немного чересчур; Банхофштрассе, по которой они теперь ехали, он ненавидел, однако сейчас, во время этого таинственного путешествия к неизвестной, но грозной цели (во время путешествия в поисках реальности, как он сказал Хунгертобелю), город его восхитил. С темного беззвездного неба пошел дождь, потом посыпал снег, и, наконец, опять пролились дождевые струи, казавшиеся на свету серебристыми лентами. Люди, люди! Все новые и новые группы людей появлялись на обеих сторонах улицы и тянулись куда-то, сквозь пелену дождя и снега. Трамваи были переполнены, из-за окон лица пассажиров и их руки с раскрытыми газетами казались нечеткими, размытыми, и все это уносилось куда-то и пропадало в фантастическом серебристом свете. Впервые со времени своей болезни Берлах почувствовал себя человеком, время которого ушло и который проиграл свою битву со смертью, эту неотвратимую битву. Причина, по которой его неумолимо тянуло в Цюрих, — это с непреклонной энергией выстроенное, хотя и совершенно случайно всплывшее в воображении больного подозрение — оно показалось ему вдруг ничтожным и пустым,» к чему стараться и мучиться, зачем и во имя чего? Ему захотелось забыться, долго и без всяких сновидений. Хунгертобель выругался про себя: он спиной ощутил сомнения старика и корил себя за то, что не воспрепятствовал этой авантюре. Поверхность застывшего озера, имевшего неопределенные очертания, медленно наплывала на них в ночи — машина медленно катила по мосту. Возникла фигура уличного регулировщика, автомата, механически вскидывающего руки и передвигающего ногами. Берлах мимоходом вспомнил Фортшига (этого злосчастного Фортшига, который сейчас в Берне, в своей грязной мансарде, дрожащей рукой строчит памфлет), а потом и эта мысль исчезла. Он откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Им все больше овладевала тягостная, необъяснимая усталость.
«Люди умирают, — думал он, — когда-нибудь умирают все, в каком-то году, как однажды умирают города, народы и континенты. Да, они подыхают, — продолжал размышлять он, — подыхают — вот подходящее слово; а Земля продолжает вертеться вокруг Солнца, все по тому же постоянному, едва заметно искривленному пути, тупо и неумолимо, и бег ее всегда остается бешеным и тихим — во все времена, во все времена. Какая разница, жив этот город или все в нем — и дома, и башни, и фонари, и людей — придавило серым, влажным и безжизненным покрывалом. А вдруг, проезжая по мосту в темноте, в дождь и в снег, я видел перед собой перекатывающиеся свинцовые воды Мертвого моря?»
Его начало знобить. Холод мироздания, этот великий, каменный холод, о котором он только безотчетно догадывался, низвергся на него. То ли на мельчайшую долю секунды, то ли на веки вечные.
Он открыл глаза и опять посмотрел в окно. Появилось и пропало из виду здание театра. Старик перевел взгляд на сидевшего впереди друга; спокойствие врача, доброта этого человека подействовали на него благотворно (о его недовольстве Берлах не догадывался). Он снова овладел собой и приободрился. У здания университета они свернули направо, где дорога становилась круче. Они то и дело поворачивали, но сейчас старику все было нипочем, он мыслил ясно, был внимателен и непреклонен.
Карлик
Автомобиль Хунгертобеля остановился в парке, ели которого как-то незаметно уходили в лес, как предположил Берлах. Где начинался этот тянувшийся до самого горизонта лес, можно было только догадываться. Здесь, наверху, падали крупные, чистые хлопья снега, из-за снегопада старику не удалось толком разглядеть продолговатое здание клиники. Ярко освещенный вход, перед которым стояла машина, сильно углублялся в фасад, а по бокам от него были два окна, огороженных изнутри решеткой искусной работы; из них, как отметил про себя комиссар, можно наблюдать за входом. Хунгертобель молча раскурил «Литтл-Роз», вышел из машины и исчез в здании. Старик остался один. Наклонившись вперед, он стал разглядывать здание, насколько это было возможно в темноте. «„Зонненштайн“, — подумал он, — вот она, действительность». Снегопад усилился; ни одно из окон не было освещено, лишь изредка сквозь густую пелену снега можно было различить какой-то неясный отсвет. Белый стеклянный комплекс современной конструкции казался мертвым. Старик начал беспокоиться: почему Хунгертобель не торопится с возвращением? Бросил взгляд на часы — с момента его ухода прошло не больше минуты. «Я нервничаю», — подумал Берлах и откинулся на спинку, собираясь закрыть глаза.
Но тут сквозь боковое стекло, по которому широкими полосами стекал растаявший снег, его взгляд привлекла к себе фигура, появившаяся за левым от входа зарешеченным окном. Сперва ему почудилось, будто он увидел обезьяну, но потом он с удивлением установил, что это карлик, один из тех, которых иногда выпускают на арену цирка для увеселения публики. Маленькие руки и ноги его были обнажены и по-обезьяньи обхватывали решетку, а огромный череп был обращен в сторону комиссара. Лицо — съежившееся, морщинистое, как у мерзкого животного, с глубокими шрамами и складками, было как бы обезображено и унижено самой природой. Карлик уставился на старика своими большими темными глазами, а сам замер, напоминая выветренный и замшелый камень. Комиссар опять наклонился вперед и прижался носом к влажному стеклу, чтобы получше видеть, но карлик уже исчез, отпрыгнув, наверное, как кошка, обратно в комнату; в темном окне больше ничего не было видно. Вернулся Хунгертобель, которого сопровождали две медсестры, белизну их халатов вдвойне подчеркивал непрекращающийся снегопад. Врач открыл дверцу машины и испугался при виде бледного лица Берлаха.
— Что такое? — шепотом спросил он.
— Ничего особенного, — ответил старик. — Просто надо еще привыкнуть к этому современному зданию. Всегда выходит так, что действительность немного отличается от того, что себе представляешь.
Хунгертобель догадался, что старик о чем-то умалчивает, и недоверчиво взглянул на него.
— Что ж, — проговорил он так же тихо, как и до этого, — все готово.
— Виделся ли ты с Эмменбергером? — шепотом спросил комиссар.
— И даже говорил с ним, — сообщил Хунгертобель. — Никаких сомнений быть не может, Ганс, это он. Я в Асконе не ошибся.
Они помолчали. Сестры, ожидавшие их снаружи, начали проявлять нетерпение.
«Мы гоняемся за фантомом, — подумал Хунгертобель. — Эмменбергер безобидный врач, и лечебница его ничем от других не отличается, разве что чуть подороже».
На заднем сиденье, в почти непроницаемой тени, сидел комиссар, который читал мысли Хунгертобеля как открытую книгу.
— Когда он меня осмотрит? — спросил Берлах.
— Прямо сейчас, — ответил Хунгертобель.
Врач почувствовал, что старик воспрянул духом.
— Тогда простимся здесь, Самуэль, — сказал Берлах, — притворяться ты не умеешь, а он не должен понять, что мы с тобой друзья. От этого первого допроса будет зависеть многое.
— Допроса? — удивился Хунгертобель.
— А то как же? — ответил комиссар с ухмылкой. — Эмменбергер будет меня обследовать, а я его — допрашивать.
Они протянули друг другу руки.
Подошли еще сестры, теперь их было четыре. Старика уложили на каталку из блестящего металла. Опуская голову, он успел еще заметить, как Хунгертобель передал сестрам его чемодан. А потом старик увидел над собой черное пустое пространство, с которого спускались хлопья снега, чтобы, невообразимо медленно вращаясь, словно танцуя или утопая, появиться на свету, а потом на какой-то миг прикоснуться к его лицу холодом и влагой.
«Снег пролежит недолго», — подумал он. Каталка въехала вовнутрь клиники, но он успел еще услышать, как удаляется машина Хунгертобеля.
— Он уезжает, он уезжает, — совсем тихо проговорил он.
Старик увидел высокий, сверкающий белизной потолок с несколькими зеркалами на нем и в них — себя, лежащего и беспомощного; каталка бесшумно и гладко плыла по каким-то таинственным коридорам, в которых даже шагов медсестер не было слышно. На блестящих стенах по обеим его сторонам были наклеены черные цифры, а двери на этом белом фоне не были заметны; в одной из ниш сумерничала крупных размеров статуя обнаженной женщины. Уже не в первый раз на Берлаха повеяло мягкой и в то же время жесткой больничной обстановкой.
Старик снова положил руки под голову.
— Есть у вас здесь карлик? — спросил он с отличным немецким произношением, потому что в списках пациентов была пометка, что он — швейцарец, проживающий за границей.
Краснощекая толстуха медсестра, катившая его, рассмеялась.
— Однако, господин Крамер! С чего вы взяли?
Она говорила по-немецки с заметным швейцарским акцентом, и по ее произношению он понял, что она уроженка Берна. И хотя ответ его не удовлетворил, но что-то положительное он в нем нашел: по крайней мере он здесь среди бернцев, своих земляков.
И Берлах спросил:
— Как вас зовут, сестра?
— Я сестра Клэри.
— Из Берна, верно?
— Из Биглена, господин Крамер.
Ну, эту он обработает, подумал комиссар.
Допрос
Берлах, оказавшись в помещении, которое на первый взгляд можно было принять за стеклянный куб, встретивший его сияющим светом, сумел разглядеть две фигуры. Мужчина — сутулящийся, худощавый, светского вида человек даже в своем профессиональном облачении, в массивных роговых очках, которые тем не менее не скрыли шрама над правой бровью, — доктор Фриц Эмменбергер. Но взгляд старика поначалу лишь скользнул по нему; женщина, стоявшая рядом с человеком, вызвавшим его подозрения, заинтересовала его больше. Он смотрел на нее с недоверием. Для него, бернца, в «ученых» женщинах было что-то жуткое. Женщина была хороша собой, этого он не мог не признать и, будучи старым холостяком, воздавал ей за это вдвойне; она была настоящей дамой, это сразу было заметно по тому, с каким благородством и чувством собственного достоинства она держалась, стоя рядом с Эмменбергером (а ведь он, возможно, окажется массовым убийцей) в своем белом халате; но все-таки, с его точки зрения, она слишком высокомерна. «Прямо бери и водружай ее хоть сейчас на пьедестал», — с огорчением подумал комиссар.
— Привет, — сказал он, отбросив свое изысканное немецкое произношение, к которому он прибегнул в разговоре с сестрой Клэри; он, мол, очень рад познакомиться со столь знаменитым врачом.
— О, вы говорите на бернском диалекте немецкого, — на том же диалекте проговорил врач.
— Хотя я и бернец, живущий за границей, но выговор своих дедов и предков еще не забыл, — объяснил старик.
— Ну, это сразу заметно, — рассмеялся Эмменбергер. — Особая манера выражаться сразу выдает бернца.
«Хунгертобель прав, — подумал Берлах. — Он не Нэле. Берлинцу нипочем не заговорить на нашем диалекте».
Он опять перевел взгляд на даму.
— Это моя ассистентка, госпожа доктор Марлок, — представил ее врач.
— Вот как, — сухо проговорил старик, дав понять, что весьма рад этому знакомству, и, без всякого перехода, слегка повернув голову в сторону врача, спросил: — А вы в Германии не бывали, доктор Эмменбергер?
— Несколько лет назад мне довелось побывать там, — ответил врач, — однако мне довольно долго пришлось жить в Сантьяго, в Чили.
Нельзя было догадаться, о чем он подумал при этом или обеспокоил ли его вопрос.
— В Чили, в Чили, — проговорил старик, а потом еще раз; — В Чили, в Чили.
Эмменбергер закурил сигарету и подошел к пульту; теперь помещение погрузилось в полутьму, светилась одна небольшая синяя лампа над лежавшим на спине комиссаром. Видны были только операционный стол да лица двух людей в белом, стоящих перед ним; старик заметил еще, что в одной из стен есть окно, сквозь которое снаружи помигивают далекие огоньки. Горящий конец сигареты, которую курил Эмменбергер, то опускался, то поднимался.
«Обычно в таких помещениях не курят, — подумалось вдруг комиссару. — Пусть и немного, но я зацепил его».
— Куда это запропастился Хунгертобель? — спросил врач.
— Я отослал его, — ответил Берлах. — Я хочу, чтобы вы осмотрели меня один.
Врач с удивлением приподнял свои очки.
— Полагаю, доктору Хунгертобелю мы можем вполне доверять.
— Разумеется, — ответил Берлах.
— Вы больны, — продолжал Эмменбергер. — Операция была очень рискованной, она удается не всегда. Хунгертобель сказал мне, что вы отдаете себе в этом отчет. Это хорошо. Нам, врачам, необходимы мужественные пациенты, которым мы можем сказать всю правду. Я приветствовал бы присутствие доктора Хунгертобеля при осмотре и сожалею, что он пошел вам навстречу. Мы, медики, должны сотрудничать, таково требование науки.
— Как коллега, я с вами полностью солидарен, — ответил комиссар.
Эмменбергер удивился.
— Что вы этим хотите сказать? — спросил он. — Насколько мне известно, вы не врач.
— Все очень просто, — рассмеялся старик. — Вы выслеживаете болезни, а я — военных преступников.
Эмменбергер закурил вторую сигарету.
— Не самое безопасное поле деятельности для частного лица, — как бы вскользь заметил он.
— В том-то и дело, — подтвердил Берлах, — и вот, пройдя полпути, я заболеваю и попадаю к вам. Какая неудача — оказаться у вас в «Зонненштайне»; или, вы считаете, мне повезло?
— О течении болезни я ничего наперед сказать не могу, — ответил Эмменбергер. — Хунгертобель же высказался не слишком оптимистично.
— Вы ведь меня еще не смотрели, — согласился с первым суждением врача старик. — По этой же причине я и не хотел, чтобы наш уважаемый Хунгертобель присутствовал при первом осмотре: если мы намерены продвинуться вперед, предубеждениям не должно быть места. А продвинуться вперед, я думаю, мы хотим оба — и вы, и я. Нет ничего хуже, чем судить о преступнике или о ходе болезни, не изучив подозреваемого в привычной для него обстановке и не разобравшись в его привычках.
Тут он прав, согласился врач. Сам он медик и в криминалистике не разбирается, но это для него ясно. Однако он надеется, что господин Крамер сможет отдохнуть в «Зонненштайне» от своих профессиональных забот.
Потом закурил третью сигарету и добавил:
— Полагаю, что здесь вы оставите военных преступников в покое.
Ответ Эмменбергера заставил старика на какое-то мгновение усомниться в правильности выбранной им тактики. «Кто тут кого допрашивает?» — подумал он и взглянул в лицо Эмменбергера, в лицо, кажущееся в свете единственной лампочки застывшей маской с поблескивающими стеклами очков и огромными и смеющимися глазами за ними.
— Дорогой доктор, — сказал он, — не станете же вы утверждать, будто в какой-то отдельной стране нет больных раком?
— Но ведь это не равносильно тому, что в Швейцарии есть военные преступники! — весело взглянул на него врач.
— То, что произошло в Германии при определенных условиях, произойдет в любой стране. Условия эти могут быть различными. Ни один человек и ни один народ тут исключения не составляют. От одного еврея, доктор Эмменбергер, которого прооперировали в одном из концлагерей без наркоза, я услышал такое суждение: люди делятся лишь на тех, кто истязает, и на тех, кого истязают. Я же считаю, что есть еще и разница между теми, кого судьба искушала, и теми, кого она пощадила. И в этом отношении мы, швейцарцы, вы и я, относимся к тем, кого судьба пощадила, что является милостью, а не ошибкой, как говорят многие; поэтому мы должны возносить молитву: «Не вводи нас во искушение». Я прибыл в Швейцарию не для того, чтобы заняться поисками военных преступников вообще, а для того, чтобы разыскать одного из них, о котором я, между прочим, имею весьма туманное представление. И вот теперь я заболел, доктор Эмменбергер, и вся моя охота разом рухнула, так что преследуемый даже не знает, как я старался его выследить. Ужасная драма!
— Тогда у вас, пожалуй, нет больше шансов найти того, кого вы ищете, — ответил врач с равнодушным видом, и выпустил изо рта струйку дыма, образовавшую над головой старика тонкое матово-белое кольцо.
Берлах заметил, как Эмменбергер сделал ассистентке знак, после чего она сразу протянула шприц. На мгновение Эмменбергер исчез в темноте зала, а когда он появился вновь, в руке у него был тюбик.
— Да, тогда ваши шансы невелики, — повторил он, наполняя шприц какой-то бесцветной жидкостью.
Однако комиссар возразил ему:
— У меня есть еще оружие в руках, — сказал он. — Обратимся к вашей методике, доктор. Вы принимаете меня, прибывшего к вам в этот последний непогожий день уходящего года из Берна, преодолевшего снежную круговерть и дождь, чтобы попасть в вашу клинику, и сразу обследуете в операционном зале. Почему вы так поступаете? Весьма странно, что меня немедленно доставили в помещение, внушившее бы ужас любому пациенту. Вы поступили таким образом, ибо желаете нагнать на меня страх; вы считаете, что можете быть моим врачом лишь в том случае, если вы обретете власть надо мной, поскольку, как вам наверняка сообщил Хунгертобель, пациент я своенравный. Вот почему вы и прибегли к этой демонстрации. Вы хотите возобладать надо мной, чтобы вылечить меня; следовательно, страх — одно из ваших подручных средств. Так же обстоят дела и в моей чертовой профессии. Наши методы схожи. Мне тоже остается лишь запугивать того, кого я ищу.
Шприц в руке Эмменбергера приблизился к старику.
— Да вы изощренный психолог, — рассмеялся врач. — Вы правы, видом этого зала я хотел воздействовать на вас. Страх — испытанное средство. Однако, прежде чем я перейду к своему делу, выслушаем до конца суть вашего. Что вы собираетесь предпринять? Любопытно было бы узнать. Преследуемый ведь не подозревает, что вы его выслеживаете, — по крайней мере вы сами так выразились.
— Он догадывается, хотя ничего определенного не знает, а это-то для него и опасно, — ответил Берлах. — Ему известно, что я в Швейцарии и что я ищу какого-то военного преступника. Он постарается погасить свои подозрения, уговаривая себя, что я ищу не его, а другого. С помощью хитроумного приема он обезопасил себя, спасшись бегством из мира безграничных преступлений в Швейцарию, хотя самого себя сюда как бы не взял. Это великая тайна. Но в самых темных уголках его сердца живет предчувствие, что я ищу его, и никого другого, только его, его одного. Он будет испытывать страх, и страх этот будет постоянно расти, хотя для его разума будет совершенно непостижимо, что я ищу его, — я, доктор, человек, который лежит абсолютно беспомощный в вашей клинике, — и он умолк.
Эмменбергер взглянул на него с удивлением и едва ли не с сочувствием, твердо держа шприц в руке.
— Ваш успех кажется мне сомнительным, — спокойно проговорил он. — Однако пожелаю вам полного успеха.
— Он сдохнет от собственного страха, — ответил старик, не изменившись в лице.
Эмменбергер медленно положил шприц на маленький столик из стекла и металлических трубок, стоящий рядом с каталкой. И оставил ее там, эту злобную острую штуковину. Эмменбергер несколько подался всем телом вперед.
— Вы так считаете? — спросил он наконец. — Вы в это верите?
Его глаза за стеклами очков едва заметно сузились.
— Просто удивительное дело — встретить в наши дни такого неисправимого оптимиста. Мыслите вы смело; будем надеяться, что действительность вас не слишком разочарует. Было бы грустно, если бы вы пришли к обескураживающим результатам, — проговорил он тихо, как бы с удивлением. Потом медленно направился в темную часть зала — и в операционном зале опять вспыхнул яркий свет. Эмменбергер стоял у пульта. — Я осмотрю вас позже, господин Крамер, — сказал он с улыбкой. — Вы серьезно больны. И это вам известно. Опасность смертельного исхода пока не исключается. Такое впечатление у меня сложилось, к сожалению, после нашей беседы. Откровенность за откровенность. Обследование будет все-таки непростым, поскольку потребуется некоторое хирургическое вмешательство. Сделаем-ка его лучше после Нового года, не правда ли? Зачем лишать себя чудесного праздника. Главное, что теперь вы будете под моим наблюдением.
Берлах ничего не ответил.
Эмменбергер погасил сигарету в пепельнице.
— Черт побери, доктор Марлок, — сказал он, — я курил в операционном зале. Господин Крамер — пациент для нас необычный. Так что будьте с ним — и со мной — построже.
— Что это такое? — раздраженно спросил старик докторшу, давшую ему две красные пилюли.
— Успокоительное, — ответила она. Воду в стакане, который она ему протянула, он выпил с еще большим неудовольствием.
— Вызовите сестру, — велел ассистентке стоявший у пульта Эмменбергер.
На пороге появилась сестра Клэри. Своим видом она напомнила комиссару добродушного палача. «Палачи всегда люди добродушные», — подумал он.
— Какую комнату вы подготовили для нашего господина Крамера? — спросил врач.
— Номер шестьдесят два, господин доктор, — ответила сестра Клэри.
— Поместим его в пятнадцатую палату, — сказал Эмменбергер. — Это облегчит для нас наблюдение за ним.
Комиссаром овладевала та же усталость, которую он ощутил в машине Хунгертобеля.
Когда сестра выкатила старика в коридор, каталка резко повернула в сторону. И Берлах, еще раз сбросив с себя оцепенение, увидел лицо Эмменбергера. Старик заметил, что врач внимательно наблюдает за ним, улыбающийся и довольный собой.
Но тут же Берлах забылся в лихорадочном ознобе.
Комната
Когда он проснулся (тем же вечером, около половины одиннадцатого, проспав около трех часов), то обнаружил, что находится в комнате, которую он оглядел с удивлением и не без озабоченности, однако и с известным чувством удовлетворения: поскольку он ненавидел больничные палаты, ему понравилось, что эта комната скорее напоминала радиостудию или какое-то другое помещение с технической аппаратурой, холодное и безличное, насколько это можно было разглядеть при свете ночной настольной лампы, горевшей по левую руку от него. Кровать, на которой он лежал — уже в пижаме, но хорошо укрытый, — оказалась все той же каталкой, на которой его привезли; он сразу узнал ее, хотя она с помощью нескольких рычажков была приведена в другое положение.
— Практично здесь все устроено, — вполголоса проговорил старик в тишине. Лампа была на шарнирах, и он прошелся лучом света по всей комнате; вот обнаружились гардины, занавешивавшие, наверное, окно; они были вытканы диковинными растениями и животными, блеснувшими на свету.
— Оно и видно, что я на охоте, — сказал он сам себе.
Откинувшись на подушку, он стал размышлять над тем, чего достиг. Пока довольно-таки мало. План свой он осуществил. Теперь следовало продолжить начатое, сплетая во все более мелкие ячейки. Необходимо действовать, но как именно действовать и с чего начать, он не знал.
Он нажал на кнопку на столике. Появилась сестра Клэри.
— Гляди-ка, да это наша медсестра из Биглена с железнодорожной ветки Бургдорф—Тун, — приветствовал ее старик. — Видите, как хорошо я знаю Швейцарию, хотя давно живу за границей.
— Итак, господин Крамер, что вам угодно? Проснулись наконец? — спросила она, подбоченясь своими полными руками.
Старик еще раз взглянул на свои наручные часы.
— Всего половина одиннадцатого.
— Вы голодны? — спросила она.
— Нет, — ответил он, чувствуя себя неважно.
— Вот видите, господин даже голода не испытывает. Я вызову госпожу Марлок, вы ведь с ней уже знакомы. Она сделает вам еще один укол, — сказала медсестра.
— Глупости, — проворчал старик. — Никаких уколов мне пока не делали. Включили бы вы лучше верхний свет. Хочу осмотреться в комнате получше. Хочется же знать, где лежишь.
Он был явно не в духе.
Комнату залило белым, но не слепящим светом, неизвестно откуда исходившим. При таком освещении комната обрела новые черты и окраску. Потолок над стариком представлял собой цельное зеркало, как он лишь теперь, к своему неудовольствию, заметил; постоянно видеть свое отражение сейчас не велика радость. «Повсюду эти зеркальные потолки, — подумал он, — с ума от них сойдешь». Втайне Берлах негодовал на скелета, глядевшего на него сверху, когда он смотрел на потолок, а ведь им был он сам. «Зеркало врет, — подумал он, — есть такие зеркала, которые все искажают, не мог я до такой степени исхудать». Берлах продолжал осматривать комнату, позабыв о стоящей в ожидании сестре. Левая от него стена была покрыта стеклом, под которое была подложена серая материя с прорезанными по ней фигурами обнаженных танцующих мужчин и женщин, плоскостными, конечно, и все-таки кажущимися объемными; а перед правой, выкрашенной в серо-зеленый цвет стеной, между дверью и гардиной, была подвешена на тросике копия с полотна Рембрандта «В анатомическом театре», которая при дуновении ветра или сквозняке раскачивалась туда-сюда, напоминая взмахи крыльев; и это сочетание картин придавало виду комнаты нечто фривольное, тем более что над дверью, перед которой стояла сестра, висело простое черное деревянное распятие.
— Однако, сестра, — сказал он, не переставая удивляться тому, насколько эта комната изменилась при ярком свете, ведь сперва он обратил внимание только на гардины перед окном, а ни танцующих женщин и мужчин, ни картины «В анатомическом театре», ни распятия не заметил, — однако, сестра, для клиники, где люди должны выздоравливать, а не сходить с ума, это довольно странная комната.
— Мы здесь, в «Зонненштайне», — ответила сестра Клэри, сплетя руки на животе, — стараемся удовлетворить любые желания — как людей набожных, так и других. Честное слово, если вам «Анатомия» не подходит, мы заменим ее «Рождением Венеры» Боттичелли или картиной Пикассо, как пожелаете.
— Тогда уж лучше повесьте здесь «Рыцаря, Смерть и Дьявола» Дюрера, — сказал комиссар.
Сестра Клэри достала записную книжку. «Рыцарь, Смерть и Дьявол», — записала она.
— Завтра же будет сделано. Прекрасная картина для комнаты умирающего. Поздравляю. У господина отменный вкус.
— Я полагаю, — ответил старик, поразившись грубости сестры Клэри, — я полагаю, что так далеко у меня еще не зашло.
Сестра Клэри помотала головой с пунцовыми щеками.
— Ошибаетесь, — возразила она. — Эта комната только для умирающих. Исключительно для них. Я пока не видела ни одного пациента, вышедшего из третьего отделения. А вы в третьем отделении, и, значит, ничего не попишешь. Каждому суждено когда-нибудь умереть. Прочтите, что я об этом написала. Это напечатано в типографии Лихти в Валкрингене.
Сестра словно из своей груди вытащила маленькую брошюру и положила ее на постель старика. Клэри Глаубер. «Смерть, цель и смысл нашего существования. Практическое руководство».
— Так что, позвать теперь докторшу? — спросила она, торжествуя.
— Нет, — ответил комиссар, не выпуская из рук «Цель и смысл нашего существования». — Нет никакой необходимости. Но гардины раздвиньте. И откройте окно.
Она выполнила его пожелание и погасила свет.
А настольную лампу старик выключил сам.
Массивная фигура сестры Клэри исчезла в освещенном прямоугольнике двери, но, прежде чем она закрыла ее за собой, он еще спросил:
— Подождите-ка, сестра! Вы на все вопросы отвечаете достаточно откровенно и прямо, так что скажите мне честно: есть в этой клинике карлик?
— А то как же, — последовал грубый ответ из освещенного прямоугольника. — Вы ведь сами его видели.
И дверь захлопнулась.
«Ерунда, — подумал он. — Я-то из третьего отделения выйду. Не велика хитрость. Позвоню Хунгертобелю. Моя болезнь зашла слишком далеко, чтобы я мог предпринять против Эмменбергера что-нибудь стоящее. Завтра вернусь обратно в „Салем“».
Ему было страшно, и он не испытывал никакого стыда, признавшись себе в этом.
Снаружи была ночь, а его окружала темнота комнаты. Старик лежал на постели, едва дыша.
«Скоро пробьют колокола, — подумал он, — колокола Цюриха огласят приход Нового года».
Откуда-то прозвучало двенадцать ударов.
Старик ждал.
И снова где-то пробило двенадцать раз, и еще раз — все время двенадцать немилосердных ударов, как будто кто-то бил молотком в кованые ворота.
Никакого перезвона колоколов, ни даже отдаленных криков собравшейся где-то и ликующей толпы.
Новый год пришел молча.
«Мир мертв, — подумал комиссар. И еще несколько раз повторил про себя: — Мир мертв. Мир мертв».
Он ощутил мелкие капельки пота на лбу, потом капельки начали медленно скатываться по виску. Он широко открыл глаза. И лежал без движения. Смиренно.
И снова Берлах услышал далекие двенадцать ударов, отзвучавшие над пустыми улицами города. А потом ему почудилось, будто он погружается в какое-то безбрежное море, в какую-то тьму.
Берлах проснулся рано утром, в сумерках занимающегося дня.
«Они не отзвонили наступление Нового года», — эта мысль его не оставляла.
Комната показалась ему даже более устрашающей, чем прежде.
Он долго вглядывался в рассвет, в его разреженные зеленовато-серые тени, пока не сообразил: окна его комнаты зарешечены.
Доктор Марлок
— Похоже, он уже проснулся, — донесся чей-то голос до комиссара, который не сводил глаз с зарешеченного окна. В комнате, все больше наполнявшейся призрачным туманным утром, стояла одетая в докторский халат немолодая уже женщина с увядшим и распухшим лицом, в которой Берлах с превеликим трудом и даже к ужасу своему узнал докторшу, стоявшую вчера в операционном зале рядом с Эмменбергером. Он впился в нее глазами, дрожа от усталости и отвращения. Не обращая внимания на комиссара, она задрала юбку и всадила иглу через чулок прямо в ногу, после сделанной инъекции она выпрямилась и, достав карманное зеркальце, накрасилась. Старик был захвачен происходящим. Для этой женщины его словно не существовало. А ее черты лица теряли свою низкую обыденность и обретали свежесть и выразительность, которые так поразили его накануне; и вскоре она, прислонившаяся к косяку двери, снова выглядела красавицей.
— Я понимаю, — медленно проговорил старик, постепенно сбрасывая с себя оцепенение, все еще слабый и смущенный. — Морфий.
— Конечно, — ответила она. — Это в нашем мире необходимо, комиссар Берлах.
Старик повернулся к окну, утро за которым начало сереть, потому что снаружи шел дождь, его струи смывали снег, высыпавший вечером накануне, а потом тихо, словно невзначай, проговорил, обращаясь к ней:
— Вы знаете, кто я такой.
И снова уставился в окно.
— Нам известно, кто вы, — подтвердила докторша, все еще стоявшая, прислонившись к косяку, засунув руки в карманы белого халата.
— Откуда вам это стало известно? — спросил он, не испытывая, по сути дела, никакого любопытства.
Она бросила ему на постель газету.
Это был «Государственный вестник».
На первой полосе он сразу же увидел свою фотографию, сделанную весной, когда он еще курил сигары «Ормонд-Бразил», и под ней подпись: «Комиссар городской полиции Берна Ганс Берлах уходит в отставку».
— Само собой, — проговорил комиссар.
А потом, раздосадованный и смущенный, еще раз взглянул на газету и увидел дату ее выхода.
И впервые за долгое время потерял самообладание.
— Дата! — хрипло прокричал он. — Дата, доктор! Дата выхода газеты!
— И что же? — спросила она, не поведя и бровью.
— Она от пятого января! — прокашлял комиссар в отчаянии, потому что до него только теперь дошло, почему не было новогоднего перезвона колоколов, он угадал весь жуткий смысл минувшей ночи.
— Неужели вы ожидали увидеть другую дату? — насмешливо спросила она, явно заинтригованная — у нее даже слегка выгнулись брови.
— Что вы со мной сделали? — вскричал он и попытался приподняться, но тут же без сил упал на подушку.
Несколько раз взмахнув еще в воздухе руками, он лежал, не шевелясь.
Достав портсигар, докторша вынула из него сигарету.
Ее, казалось, ничто не тронуло.
— Я не желаю, чтобы в моей комнате курили, — тихо, но решительно проговорил Берлах.
— На окнах решетка, — неизвестно почему ответила докторша, кивнув головой в ту сторону, где за металлическими прутьями хлестал дождь. — И вообще я не думаю, чтобы от вашего желания здесь что-нибудь зависело.
А потом подошла почти вплотную к постели старика, не вынимая рук из карманов халата.
— Инсулин, — проговорила она, глядя на него сверху вниз. — Шеф сделал вам инъекции инсулина. Это его излюбленный метод. — Она рассмеялась: — Вы, никак, собираетесь арестовать его?
— Эмменбергер убил немецкого врача по фамилии Нэле, он делал операции без наркоза, — хладнокровно проговорил Берлах. Он чувствовал, что ему необходимо привлечь докторшу на свою сторону.
Берлах преисполнился решимости идти до конца.
— Он еще много чего другого сделал, наш доктор, — ответила она.
— И вам это известно?
— Конечно.
— Вы признаете, что Эмменбергер под фамилией Нэле был лагерным врачом в Штуттхофе? — весь дрожа, спросил он.
— Естественно.
— И убийство Нэле вы признаете?
— Почему бы и нет?
Берлах, который одним махом получил подтверждение своего подозрения, этого невероятного и абсурдного подозрения, которое в нем зародили побледневшее лицо Хунгертобеля и старая фотография и которое он тяжким грузом волочил на себе все эти бесконечные дни, смотрел в окно, внутренне опустошенный. Вниз по прутьям решетки скатывались одна за другой серебристые дождевые капельки. Он был устремлен к этому мгновению истины, как к мгновению покоя.
— Если вам это известно, — сказал он, — вы повинны в соучастии.
Голос его прозвучал устало и печально.
Докторша посмотрела на него сверху таким странным взглядом, что ее молчание встревожило Берлаха. Она подвернула правый рукав халата. На предплечье у нее была выжжена какая-то цифра — как тавро у животных.
— Спину вам тоже показать? — спросила она.
— Вы были в концлагере? — воскликнул комиссар в смятении и уставился на нее, с трудом приподнявшись и опираясь при этом на правую руку.
— Эрит Марлок, заключенная 4466 из лагеря уничтожения Штуттхоф-Данциг.
В ее голосе прозвучал мертвенный холод.
Старик снова упал на подушки. Он проклинал свою болезнь, свою слабость и свою беспомощность.
— Я была коммунисткой, — ответила она, опуская рукав.
— И сумели выжить в этом лагере?
— Это было просто, — ответила она, выдержав его взгляд с таким равнодушием, будто ее ничто больше не трогало, ни одно человеческое чувство и ни одна даже самая страшная судьба.
— Я была любовницей Эмменбергера.
— Не может этого быть! — вырвалось у комиссара.
Она удивленно взглянула на него.
— Палач сжалился над подыхающей сукой, — проговорила она наконец. — Шанс заполучить в любовники врача-эсэсовца был в лагере Штуттхоф у очень немногих женщин. Любой путь, который вел к спасению, был хорош. Вы ведь тоже пойдете на все, чтобы выбраться из «Зонненштайна».
Лихорадочно дрожа, он в третий раз попытался сесть на постели.
— Вы и по сей день его любовница?
— Конечно. А почему бы и нет?
— Как это может быть? — вскричал Берлах. — Эмменбергер — чудовище! Вы были коммунисткой, значит, у вас есть убеждения!
— Да, у меня были убеждения, — спокойно проговорила она. — Я была убеждена, что нужно любить это горестное образование из камня и глины, которое вертится вокруг Солнца и которое мы именуем Землей, я верила, что во имя разума мы обязаны помочь человечеству вырваться из пут бедности и эксплуатации. Я верила не на словах. И когда художничек, малевавший открытки[22], с его смехотворными усиками и нелепой челкой на лбу пришел к власти, как специалисты официально называют это преступление, я бежала в страну, в которую все мы, коммунисты, верили, к нашей добродетельной матушке-спасительнице, — в многоуважаемый Советский Союз. О да, у меня были убеждения, и я знала, чему посвятить себя в этом мире. Я, как и вы, комиссар, была полна решимости сражаться со злом до последнего моего жизненного предела.
— Мы не должны прекращать этой борьбы, — тихо проговорил Берлах, который опять лежал на подушках, весь дрожа от внутреннего холода.
— Тогда попрошу вас посмотреть в зеркало, что над вами, — велела она.
— Я уже видел свое отражение, — ответил он, страшась поднять глаза.
Она рассмеялась.
— Прекрасный скелет ухмыляется, глядя на вас сверху, не правда ли, приняв личину комиссара уголовной полиции Берна? Наш тезис о борьбе со злом, которую нельзя прекращать ни при каких обстоятельствах, верен в безвоздушном пространстве, или, что одно и то же, когда мы сидим за письменным столом; но он не действует на планете, на которой мы мчимся по мирозданью как ведьмы на метле. Вера моя была глубока, настолько глубока, что я не пришла в отчаяние, даже когда прониклась тяготами нищенской жизни русских, всей безысходностью существования в этой огромной стране, не жаловавшей никакой законной власти, а признававшей только свободу духа. Когда русские бросали меня в свои тюрьмы, когда без суда и следствия переводили из одного лагеря в другой, хотя я не понимала зачем, я не усомнилась в том, что и это оправданно в великом историческом замысле. Когда был заключен славный пакт между господином Сталиным и господином Гитлером, я признала его необходимость, ведь речь шла о безопасности нашей великой коммунистической родины. Но когда однажды утром, после нескольких недель путешествия в вагоне для скота, русские солдаты, конвоировавшие нас из самой Сибири, в разгаре зимы сорокового года погнали меня среди прочих людей в жалких отрепьях по ветхому до предела деревянному мосту, под которым медленно тащилась грязная река, неся на себе льдины и бревна, и когда в утреннем тумане навстречу нам с другого берега вынырнули черные фигуры эсэсовцев, которые и взяли нас под свою опеку, я поняла всю суть измышленного и приведенного в действие предательства — и не только по отношению к нам, Богом забытым бедным грешникам, которые, шатаясь, брели сейчас в сторону Штуттхофа, нет, но и по отношению ко всей идее коммунизма в целом, потому что она может иметь смысл только в том случае, если составляет одно целое с идеей любви к ближнему и ко всему человечеству. Однако я перешла этот мост, комиссар, я навсегда оставила позади черную раскачивающуюся переправу, под которой протекает Буг (так называется тамошний Тартар[23]). И с тех пор я знаю, какова природа человека: она такова, что с ним можно сделать все, что когда-либо пожелает любой властитель или любой Эмменбергер — ради своего удовольствия или в угоду своим теориям; из уст человека можно выжать любое признание, ибо воля человеческая имеет свои границы, а пыткам несть числа. Оставь надежду, всяк сюда входящий! И я оставила все надежды. Сопротивляться и сражаться за лучший мир бессмысленно. Человек сам призывает к себе свой ад, он сначала представляет его себе умозрительно, а потом прокладывает к нему путь своими действиями. Повсюду одно и то же, что в Штуттхофе, что в «Зонненштайне», повсюду звучит одна и та же наводящая ужас мелодия, которая мрачными аккордами доносится из пропасти человеческой души. Если лагерь под Данцигом был адом для евреев, христиан и коммунистов, то эта вот клиника, стоящая в центре благопристойнейшего Цюриха, ад для богачей.
— Что вы имеете в виду? Странные сравнения вы употребляете, — проговорил Берлах, не отрывая глаз от докторши, которая и восхищала, и отпугивала его.
— Вы любопытны, — сказала она, — и, похоже, гордитесь этим. Вы попали в лисью нору, из которой нет выхода. На меня не рассчитывайте. Мне люди безразличны. В том числе и Эмменбергер, мой любовник.
Ад для богачей
— Объясните мне, комиссар, — снова заговорила она. — Объясните во имя этого потерянного мира, почему вас перестали устраивать эти будничные кражи и зачем вам понадобилось проникнуть в «Зонненштайн», где вам не место. Или у отслужившей свой срок полицейской ищейки особые запросы?
Докторша рассмеялась.
— Несправедливость следует настигнуть там, где она проявляется, — ответил старик. — Закон есть закон.
— Я вижу, вы любите математику, — заметила она, закуривая очередную сигарету.
Докторша по-прежнему стояла у его постели, но не со смущенным и нерешительным видом, как подле тяжелобольного, а как стоят перед козлами с привязанным к ним преступником, смерть которого считают оправданной и справедливой, сугубо деловой процедурой, выбрасывающей из жизни бесполезное существо.
— Я сразу догадалась, что вы один из тех глупцов, что молятся на законы математики. Закон есть закон. X = X. Это самая чудовищная фраза, которая когда-либо отлетала в сторону нависшего над нами вечно кровавого и вечно ночного неба, — снова рассмеялась она. — Как будто для живущих есть некое установление, действующее вне зависимости от той власти, которой человек обладает! Закон есть не закон, а власть; и изречение это начертано над теми юдолями печали, в которых мы погибаем. Ничто в этом мире самому себе не равняется, ложь все это; когда мы говорим «власть», мы подразумеваем «богатство», а стоит этому слову сорваться с наших губ, как возникает надежда испытать все пороки и грехи мира. Закон — это порок, закон — это богатство, закон это пушки, тресты, партии; все, что мы говорим, не лишено логики, кроме фразы «закон есть закон», лживой от начала до конца. Математика лжет, разум, здравый смысл, искусство — все они лгут. А чего бы вы хотели, комиссар? Не спрашивая нашего согласия, нас сажают на какую-то тонкую льдину, а мы не знаем, для чего это нужно, и пялимся на мирозданье, невероятно пустое и невероятно богатое, подстрекающее к мотовству и расточительности, и течением нас несет навстречу далеким низвергающимся водопадам, которых нам не миновать, — это единственное, что нам известно. Вот так мы и живем, чтобы умереть, так дышим и говорим, так любим, так растим детей и внуков, которых любим, ибо они плоть от плоти нашей, и вместе с которыми мы превратимся в мертвечину, распадемся на простые и мертвые элементы, из которых и состоим. Карты смешаны, разыграны и убраны со стола, c'est ca[24]. И поскольку у нас нет ничего, кроме этой грязной льдины, за которую мы цепляемся, мы и мечтаем о том, чтобы эта наша единственная жизнь — краткие мгновенья по пути к радуге, раскинувшейся над бездной, покрытой пеной и паром, — оказалась счастливой, чтобы нам было даровано ее изобилие на то короткое время, что она несет нас на себе, она, единственная, хотя и жалкая милость, дарованная нам свыше. Но ничего этого нет и никогда не будет, и преступление, комиссар, состоит не в том, что ничего этого нет, а есть бедность и нищета, но в том, что есть бедные и богатые и что судно, на котором нас всех вместе сносит к бездне, где все мы утонем, состоит из кают для знатных и богатых и трюмов для страждущих. Говорят, что, поскольку умереть предстоит нам всем, это особой роли не играет. Смерть, мол, она смерть и есть. Ох уж эта смехотворная математика. Смерть бедняков — это одно, смерть богачей и правителей совсем другое, и для кровавой трагикомедии, которая разыгрывается с их участием, остается целый мир. Как бедняк жил, так он и умирает: на мешковине в подвале, на дырявом матрасе, если дела у него шли получше, или на поле брани и чести, если ему повезет; богачи же умирают иначе. Богач жил в роскоши и желает умереть в роскоши, он воспитан, избалован, он и подыхая хлопает в ладоши: аплодисменты, друзья мои, представление окончено! Вся их жизнь была позой, смерть их — пышные похороны, надгробные речи — реклама, а все вместе — доходное дело. C’est са. Если бы я смогла провести вас по этому госпиталю, комиссар, по нашему «Зонненштайну», превратившему меня в то, чем я теперь стала, не мужчина и не женщина, а кусок мяса, которому требуются все большие дозы морфия, чтобы отпускать шуточки в адрес этого мира, несомненно заслуживающего осмеяния, то я показала бы вам, отслужившему свой срок и ни на что больше не годному полицейскому, как умирают богачи. Я открыла бы перед вами фантастически оборудованные палаты, эти вызывающие отвращение и в то же время прекрасно обставленные помещения, где они сгнивают, эти поблескивающие хромированные металлом камеры наслаждений и пыток, произвола и преступлений.
Берлах ничего ей не ответил. Он, больной, лежал неподвижно, отвернувшись от нее.
Докторша склонилась над ним.
— Я назвала бы вам имена тех, кто уже погиб и погибает здесь сегодня, — безжалостно продолжала она, — имена политиков, банкиров, промышленников, их любовниц и жен, имена звучные и всем известные, равно как и тех неизвестных спекулянтов, которые с помощью приемов, которые им ничего не стоят, зарабатывают миллионы, которые нам и не снятся. А теперь вот они умирают в этой клинике. Некоторые сопровождают свой уход из жизни богохульными шуточками, а некоторые возмущаются и изрыгают дикие проклятья на свою судьбу, заставляющую их, обладающих всем, все-таки умирать; третьи же препротивно хнычут в своих комнатах, стены которых затянуты бархатом и шелком, отказываясь поменять благословенную мирскую жизнь на благословение жизни райской. Эмменбергер предоставляет им все, и они, ненасытные, принимают все, что он предоставляет, но им мало, им требуется надежда, и он и ее им предлагает. Они верят ему беспрекословно, но это вера в дьявола, а надежда, которую он им дарит, — это ад. Они забыли о Боге и сотворили для себя нового. Больные добровольно подвергают себя пыткам, восторженно преклоняясь перед этим врачом, лишь бы прожить на несколько дней или даже минут дольше (как они надеются), лишь бы не расставаться с тем, что они любят превыше неба и ада, превыше благословения и проклятия — с Ночью и с Землей, даровавшей им такую власть. Наш хирург и здесь оперирует без наркоза. Все, что Эмменбергер творил в Штуттхофе, в этом сером необозримом городе бараков на данцигской равнине, он делает и здесь, в центре Швейцарии, в центре Цюриха, не опасаясь ни полиции, ни законов этой страны, более того — во имя науки и человечности; он безо всяких колебаний дает людям то, что они от него требуют: муки, одни только муки.
— Нет! — вскричал Берлах. — Нет! Этого человека необходимо уничтожить!
— Тогда вам придется уничтожать человечество, — ответила она.
Он снова выкрикнул свое хриплое, отчаянное «нет!», с трудом приподнимаясь на локтях.
— Нет, нет! — но это был уже не крик, а только шепот.
Докторша слегка коснулась рукой его правого плеча, и он беспомощно упал.
— Нет, нет, — хрипел он, лежа на подушках.
— Глупец вы! — рассмеялась докторша. — Что вы хотите сказать вашим «нет, нет!»? Там, где добывают черный уголь и откуда я родом, я тоже кричала мое «нет, нет!» в лицо этому миру нужды и эксплуатации, а потом начала работать в партии и в вечерних школах, потом в университете — все более решительно и упрямо уходила я в партийную работу. Я училась и работала во имя этого моего «нет, нет!»; однако теперь, комиссар, когда я этим туманным утром снежного и дождливого дня стою перед вами в своем белом халате, я знаю, что это «нет, нет!» утеряло смысл, потому что мир слишком состарился, чтобы превратиться в «да, да!», добро и зло чересчур крепко переплелись в ту самую Богом забытую ночь свадьбы неба и преисподней, когда родилось человечество, чтобы когда-либо распутаться и можно было бы сказать: вот это благое дело, а это от дьявола, это приведет к добру, а это — к злу. Слишком поздно! Нам не дано больше знать, что мы творим, какое действие вызовет наше повиновение, а какое заставит возмутиться, какими ограблениями или другими преступлениями пахнет от фруктов, которые мы едим, от хлеба или молока, которое мы даем нашим детям. Мы убиваем, не видя наших жертв и не зная их, и нас тоже убивает убийца, не знающий об этом. Слишком поздно! Искушения этого существования чересчур велики, а человек чересчур мал, он не дорос до понимания благодати, состоящей в том, что ему дарована жизнь, а не суждено остаться где-то в небытии. Мы больны смертью, наши тела разъедены раковыми опухолями. Мир прогнил, комиссар, он истлевает, как фрукт, который плохо хранили. Чего же мы хотим! Не вернуть больше на Землю райские кущи, а адский поток лавы, который мы вызывали на себя в дни наших греховных побед, нашей славы и нашего богатства и который освещает теперь наши ночи, не вернуть больше в шахты и пространства, откуда он вырвался. И лишь в мечтах или во сне мы можем вернуть утерянное, только благодаря морфию мы обретаем вновь светлые и страстные картины ради этой бесцветной жидкости, которую я впрыскиваю себе под кожу, придающую мне днем мужество для разных издевок, а ночью обретаю мои былые мечты, я готова совершить преступление, лишь бы в состоянии мимолетного безумия ощутить то, чего больше не существует, — мир, каким его создал Господь Бог. C’est са. Эмменбергер, ваш земляк, этот уроженец Берна, знает людей и чего они стоят. И безо всякой жалости пускает в ход свои рычаги там, где мы наиболее уязвимы: в смертоносном осознании нашей вечной потерянности.
— А сейчас уходите, — прошептал он. — Уходите сейчас же!
Докторша рассмеялась. А потом выпрямилась — красивая, гордая, недоступная.
— Вы хотите победить зло, а сами боитесь моего «c’est са», — проговорила она, снова подкрашиваясь и припудриваясь у дверного косяка, над которым бессмысленно и одиноко висело деревянное распятие. — Вы содрогаетесь при виде жалкой, тысячекратно замаранной и обесчещенной служительницы этого мира. Как же вы собираетесь предстать перед самим Князем Тьмы, Эмменбергером?
И она бросила на постель старика газету и коричневый конверт.
— Ознакомьтесь с почтой, многоуважаемый. Думаю, вас удивит, что вы натворили, руководствуясь благими целями!
«Рыцарь, Смерть и Дьявол»
После того как докторша оставила старика, он долго лежал без движения. Его подозрение подтвердилось, но то, что должно было бы доставить ему удовлетворение, внушало ужас. Он все рассчитал правильно, однако, как он теперь догадывался, действовал неверно. К тому же он явственно ощущал собственную немощь. Потеряны шесть дней, шесть жутких дней, отсутствующих в его сознании; Эмменбергер знал теперь, кто его выслеживает, и нанес удар.
Но когда сестра Клэри принесла наконец кофе и булочки, он попросил помочь ему сесть на постели, выпил и съел из упрямства все принесенное, исполнившись решимости победить свою слабость и перейти в наступление.
— Сестра Клэри, — сказал он. — Я из полиции, и, вероятно, будет лучше, чтобы между нами была полная ясность.
— Я знаю, комиссар Берлах, — ответила медсестра, с грозным видом стоявшая у его постели.
— Мое имя вам известно, выходит, вы в курсе дела, — продолжал Берлах, несколько удивленный. — И тогда вы понимаете, зачем я здесь.
— Вы хотите арестовать нашего шефа, — сказала она, глядя на старика сверху вниз.
— Шефа, — кивнул комиссар. — Вам известно, что ваш шеф убил в концентрационном лагере Штуттхоф, в Германии, многих людей?
— Мой шеф раскаялся, — горделиво проговорила медсестра Клэри Глаубер из Биглена. — И грехи ему прощены.
— Каким же это образом? — оторопел Берлах, уставившись на это чудовищное воплощение прямодушия, стоявшее у его постели, сложив руки на животе, с сияющим от собственной правоты лицом.
— После того, как он прочел мою брошюру, — сказала сестра.
— «Цель и смысл нашего существования»?
— Вот именно.
— Какая чушь! — с досадой воскликнул больной. — Эмменбергер продолжает убивать.
— Прежде он убивал из ненависти, а теперь из любви, — веселым голосом ответила ему медсестра. — Он убивает как врач, потому что человек втайне стремится к собственной смерти. Да вы прочтите мою брошюру. Человек должен пройти через смерть, чтобы раскрыть свои высшие возможности.
— Эмменбергер — преступник, — прокашлял комиссар, беспомощный перед этим сверхлицемерием.
«Жители Эмменталя всегда были самыми заклятыми сектантами», — подумал он в отчаянии.
— Я передам вас полиции как его соучастницу, — пригрозил комиссар, прекрасно отдавая себе отчет, что прибегает к самым дешевым трюкам.
— Пока что вы в третьем отделении, — сказала сестра Клэри Глаубер, огорченная упрямством этого больного, и вышла из палаты.
Расстроенный Берлах обратился к почте. Конверт был ему знаком: в таких Фортшиг рассылал свой «Яблочный сок». Когда он его открыл, из него выпал газетный лист. Как и двадцать лет назад, текст был напечатан на дребезжащей пишущей машинке, успевшей уже покрыться ржавчиной и с нечеткими буквами «л» и «р». Заголовок был набран типографским шрифтом: «„Яблочный сок“, швейцарская газета протеста для страны и заграницы, издаваемая Ульрихом Фридрихом Фортшигом», а ниже, уже на машинке, напечатано:
«Палач-эсэсовец в роли главного врача».
«Не будь у меня доказательств, — писал Фортшиг, — этих страшных, четких и неопровержимых доказательств, которые не в состоянии придумать ни один криминалист и ни один писатель и которые способна предоставить нам только сама жизнь, я вынужден был бы счесть плодом болезненной фантазии то, что заставляет меня написать правду. Да, сама правда, даже если она заставит нас побледнеть и навсегда подорвет то доверие, которое мы — по-прежнему и вопреки всему — испытывали к человечеству. Когда человек, уроженец Берна, под чужим именем вершит свое кровавое ремесло в лагере уничтожения под Данцигом — я не осмеливаюсь подробно описывать, с какой зверской жестокостью, — это нас потрясает; но то, что ему позволено возглавлять клинику в Швейцарии, — это позор, которому нет никакого оправдания, это свидетельство того, что и у нас не осталось больше ничего святого. Пусть эти слова явятся началом процесса, страшного и постыдного для нашей страны, но решиться на его проведение необходимо, потому что речь идет о нашей чести и сопутствовавшей ей безобидной молве, будто нам удалось сравнительно честным путем пробраться через мрачные джунгли нашего времени, пусть и зарабатывая побольше денег, чем обычно принято при торговле часами, сыром и некоторыми не слишком-то важными видами оружия. Итак, перехожу к сути дела. Мы потеряем все, если поставим на карту справедливость, играть которой недопустимо, даже если Песталоцци и пришлось бы пристыдить нас: вот и нам, мол, дали по рукам. Мы требуем, чтобы преступник, врач из Цюриха, к которому мы не испытываем жалости, потому что он сам никого не пожалел, которого мы шантажируем, потому что шантажировал он сам, и которого мы в конце концов убьем, потому что он убил множество людей, — мы знаем, что подписываем сейчас ему смертный приговор (это предложение Берлах прочел дважды). Мы требуем, чтобы этот главный врач частной клиники — будем называть вещи своими именами — явился в уголовную полицию Цюриха. Человечество будет способно на все, со временем оно овладеет искусством убийства, как мало чем на свете, и к этому человечеству в конечном итоге относимся и мы, живущие в Швейцарии, потому что и мы носим в себе те же зародыши несчастья, что и остальные, поскольку нравственность считаем нерентабельной, а рентабельное принимаем за нравственное; так пусть же это человечество докажет простыми словами этому зверю и убийце, что презираемая им духовность способна открыть и молчащие обычно рты и заставить его принять собственную погибель».
И сколь бы этот высокопарный текст ни отвечал изначальному плану Берлаха, который по-простецки беззаботно исходил из того, что достаточно будет запугать Эмменбергера, а все остальное, дескать, устроится само собой, как он полагал с беспечной самоуверенностью старого криминалиста, столь же неопровержимо Берлах осознал сейчас свое заблуждение. Врача ни в коей мере нельзя было считать человеком, которого можно запугать. Комиссар почувствовал, что Фортшиг подвергается смертельной опасности, однако надеялся, что писатель уже в Париже и тем самым находится в безопасности.
Тут Берлаху показалось, что ему неожиданно предоставилась возможность связаться с внешним миром.
Дело в том, что в палату вошел служитель с картиной Дюрера «Рыцарь, Смерть и Дьявол» под рукой. Размерами своими она превосходила оригинал. Старик внимательно пригляделся к этому с виду добродушному, несколько опустившемуся человеку лет примерно пятидесяти в наброшенном на плечи синем халате. Он сразу принялся снимать со стены «Анатомию».
— Эй! — позвал его комиссар. — Подойдите-ка сюда.
Служитель продолжал заниматься своим делом. Иногда у него из рук на пол падали щипцы или отвертка, и он спокойно нагибался и поднимал эти предметы.
— Эй, вы, — нетерпеливо воскликнул комиссар, так как служитель не обращал на него внимания. — Я комиссар полиции Берлах. Поймите: я в смертельной опасности. Когда закончите работу, выйдите из клиники и найдите инспектора Штутца, его здесь каждый ребенок знает. Или обратитесь к любому постовому полицейскому и попросите связать вас с инспектором. Поняли? Этот человек мне нужен. Пусть придет ко мне.
Служитель по-прежнему не обращал внимания на старика, с трудом формулировавшего свои мысли, сидя на постели, — говорить ему становилось все труднее и труднее. Отвинтив «Анатомию», служитель разглядывал картину Дюрера. Очень внимательно, то приближая ее к глазам, то держа на расстоянии вытянутых рук и как бы сотворя ею крестное знамение. Свет дня за окном был белесым. На какое-то мгновение старику почудилось, будто он увидел за светлыми облачными полосами проплывающий куда-то тусклый шар. Дождь понемногу прекратился. Служитель несколько раз покачал головой — картина внушала ему неприятные ощущения. Он ненадолго повернулся к Берлаху и, непривычно отчетливо выговаривая слова и покачивая головой, проговорил:
— Никакого дьявола нет.
— Есть, — хрипло воскликнул Берлах. — Дьявол есть, дружище! Он здесь, в клинике. Эй, послушайте-ка! Вам, наверное, сказали, что я спятил и мелю всякий вздор, но мне угрожает смертельная опасность, понимаете — смертельная! Это правда, дружище, правда, чистая правда!
Служитель успел уже привинтить картину и повернулся к Берлаху, улыбаясь и указывая на рыцаря, застывшего, казалось, верхом на лошади, и выдавил из себя несколько неразборчивых, клокочущих звуков; Берлах не сразу разобрал, что тот сказал, однако смысл этих слов все-таки дошел до него.
— Рыцарь пропал, — медленно и отчетливо вырвалось из судорожно перекошенного рта служителя в синем халате. — Рыцарь пропал, рыцарь пропал!
И прежде, чем служитель вышел из комнаты, неловко прикрыв за собой дверь, старик сообразил, что обращался к глухому.
Он взял в руки газету, раскрыл ее. Это была «Бернская федеральная газета».
Первое, что он увидел, была фотография Фортшига и подпись под ней: «Ульрих Фридрих Фортшиг».
А рядом с ним — крест.
Фортшиг
«Злополучная жизнь скорее все-таки печально известного, нежели знаменитого, бернского писателя Фортшига завершилась в ночь со вторника на среду при не совсем выясненных обстоятельствах», — прочел Берлах, у которого было такое чувство, будто кто-то схватил его за глотку. «Этот человек, — продолжал комментатор-душеспаситель из „Бернской федеральной газеты“, — которому природа подарила редкостные способности, не сумел распорядиться как следует ниспосланными ему дарованиями… Он начал (говорилось ниже) с экспрессионистских пьес, получивших признание у бульварных литераторов, но со временем его умение придавать нужную форму своему поэтическому таланту убывало (по крайней мере у него был поэтический талант, подумал старик), пока он не поддался пагубной идее издавать собственную газету „Яблочный сок“, которая впоследствии достаточно нерегулярно выходила в количестве примерно пятидесяти напечатанных машинописным способом экземпляров. Кто имел случай хоть раз прочесть этот скандальный листок, тот знает: он целиком состоял не только из нападок на то, что для всех нас дорого и свято, но и на отдельных хорошо известных и высокоценимых личностей. Автор листка все больше опускался, его все чаще видели пьяным, всем горожанам памятен его желтый галстук — из-за него Фортшига прозвали в нижней части города „лимоном“, — он шлялся, шатаясь, из одного питейного заведения в другое в сопровождении нескольких студентов, которые во время застолья пили за него, как за гения. Следствием установлены детали смерти писателя: с Нового года Фортшиг был каждый день более или менее пьян. Ему удалось — на средства какого-то добросердечного частного лица — в очередной раз выпустить свой „Яблочный сок“, номер особенно неудачный, ибо в нем он предпринял признанную всей нашей врачебной общественностью абсурдной атаку на неизвестного, возможно даже вымышленного врача, руководствуясь при этом геростратовым намерением учинить скандал любым путем. Насколько надуманной была эта атака, следует хотя бы из того, что писатель, патетически потребовавший, чтобы неназванный врач явился в городскую полицию Цюриха, одновременно раззвонил повсюду, что сам собирается на десять дней уехать в Париж, но не сделал этого. Сначала он отложил отъезд на день, а в ночь на среду дал в своей жалкой квартире на Кесслергассе прощальный ужин, пригласив на него музыканта Бетцингера и студентов Фридлинга и Штюрмера. Около четырех утра — уже сильно пьяный — он пошел в туалет, находившийся в конце коридора напротив его комнаты. Поскольку двери оставались открытыми, чтобы из кабинета вытянуло едкий табачный дым, туалет был виден всем троим, продолжавшим угощаться за столом Фортшига, но никто ничего особенного не заметил. Обеспокоенные его получасовым отсутствием и тем, что он не отвечал на их крики и стук в дверь туалета, они начали дергать ее, но открыть так и не сумели. Полицейский Гербер и сотрудник службы безопасности Бреннайзен, которых Бетцингер привел с улицы и которые взломали эту дверь силой, нашли несчастного скорчившимся на полу без признаков жизни. О причинах этого несчастья ясности пока нет. Но, как следует из заявления для печати, сделанного следователем Лутцем, о преступлении не может быть и речи. Хотя следствием и установлено, что Фортшиг получил удар чем-то твердым сверху, местоположением туалета это исключается. Световая шахта, в сторону которой открывается маленькое окно туалета (туалет находится на пятом этаже), настолько узкая, что для человека совершенно невозможно вскарабкаться вверх по ней или спуститься вниз: соответствующие следственные эксперименты полиции подтвердили это однозначно. Кроме того, дверь была закрыта на задвижку изнутри, все известные приемы, с помощью которых это можно было бы сделать снаружи, исключаются. На ключ дверь не закрывается, потому что в ней нет замка, а есть только тяжелая задвижка с внутренней стороны. Не остается других объяснений, кроме того, что писатель как-то особенно неудачно упал, тем более что он, по свидетельству профессора Деттлинга, был безумно пьян…»
Едва старик прочел это, как газета выпала из его рук, а пальцы судорожно вцепились в одеяло.
— Карлик, карлик! — выкрикнул он в пустоту комнаты, сразу догадавшись, как погиб Фортшиг.
— Да, карлик, — ответил ему спокойный и властный голос от двери, открывшейся незаметно для него. — Согласитесь со мной, господин комиссар, что я воспользовался услугами палача, которого вряд ли легко будет найти.
На пороге стоял Эмменбергер.
Часы
Врач закрыл за собой дверь.
Он был не в белом докторском халате, каким предстал перед комиссаром в первый раз, а в темном костюме в полоску, при белом галстуке и в серебристо-серой рубашке — тщательно ухоженная, едва ли не франтоватая личность, тем более что на руках были плотные желтые лайковые перчатки, как будто он боялся их запачкать.
— Теперь мы, бернцы, побудем наедине друг с другом, — сказал Эмменбергер и отдал похожему на скелет больному легкий, скорее уважительный, чем насмешливый, поклон.
Потом взял стоявший за задернутыми гардинами стул, который Берлах по этой причине не замечал. Повернув стул спинкой, врач сел на него у постели старика, оперся о спинку грудью и положил поверх нее руки. Комиссар вновь овладел собой. Протянул руку за газетой, тщательно сложил ее и опустил на тумбочку, после чего сплел по своему обыкновению пальцы на затылке.
— Вы, значит, убили беднягу Фортшига, — сказал Берлах.
— Тому, кто с таким пафосом составляет смертные приговоры, полагается, по моему разумению, некролог, — так же деловито подтвердил тот. — Даже писательство связано нынче с известной опасностью, и это ему только на пользу.
— Что вы от меня хотите? — спросил комиссар.
Эмменбергер рассмеялся.
— Пожалуй, это я должен был бы поинтересоваться: что вам нужно от меня?
— Это вам доподлинно известно, — ответил комиссар.
— Конечно, — согласился врач. — Это я знаю точно. Так же точно, как и вы знаете, что я хочу от вас.
Эмменбергер встал и приблизился к стене, на которую смотрел некоторое время, повернувшись к комиссару спиной. Он нажал, наверное, на какую-то кнопку или рычажок, потому что стена с танцующими мужчинами и женщинами раздвинулась бесшумно, как потайная дверь. За ней открылось просторное помещение с застекленными шкафами, на полках которых лежали хирургические инструменты: скальпели, ножницы и зажимы в металлических коробках, пачки ваты, шприцы, наполненные молочного цвета жидкостью, пузырьки и тонкая кожаная маска красного цвета — все стерильное и в образцовом порядке. Посреди этого просторного помещения стоял операционный стол. В это же время над окном начал медленно и угрожающе опускаться сверху тяжелый металлический зонт. Комната осветилась ярким светом, потому что в пазах между зеркалами были пропущены неоновые трубки, что старик заметил только теперь, а над шкафами в этом голубоватом свете он увидел большой круглый диск с зеленым свечением — часы.
— Вы и меня намерены прооперировать без наркоза? — прошептал старик.
Эмменбергер не ответил.
— Будучи человеком старым и слабым, я боюсь, что закричу, — продолжал комиссар. — Не думаю, что вы найдете во мне жертву-храбреца.
И на это врач ничего не ответил. Зато спросил:
— Видите вон те часы?
— Вижу, — сказал Берлах.
— Они показывают половину одиннадцатого, — сказал Эмменбергер, сверив их со своими наручными часами. — В семь я буду вас оперировать.
— Через восемь с половиной часов.
— Через восемь с половиной часов, — подтвердил врач. — А теперь, уважаемый, нам предстоит кое-что обсудить. Без этого нам не обойтись, а потом я оставлю вас в покое. Как говорится, последние часы жизни люди предпочитают проводить в одиночестве. Ладно. Но вы заставляете меня неоправданно много трудиться.
Он снова уселся на стул, прижавшись к нему грудью.
— Полагаю, к этому вы привыкли, — возразил ему комиссар.
Эмменбергер на какое-то мгновение смутился.
— Меня радует, — проговорил он наконец, покачивая головой, — что вы не потеряли чувство юмора. Мой карлик хорошо поработал. Протиснуться вниз по световой шахте дома на Кесслергассе после утомительной ночной прогулки по мокрой кирпичной крыше, когда на тебя шипят все коты, а потом со всего маха нанести задумчиво сидящему в туалете королю поэтов сильный смертельный удар было для коротышки делом нелегким. Я, признаться, переживал, поджидая маленькую обезьяну в моей машине у Еврейского кладбища: справится ли? Но этот дьявол, ростом меньше восьмидесяти сантиметров, сработал бесшумно и, главное, незаметно. Уже через два часа после того, как мы расстались, он подбежал ко мне вприпрыжку в тени деревьев. За вас, господин комиссар, мне придется взяться самому. Это будет несложно, и мы можем обойтись без столь неприятных для вас слов. Но как, во имя всего святого, мы поступим с нашим общим знакомым, с нашим дорогим старинным другом доктором Самуэлем Хунгертобелем с Беренплац?
— А он тут при чем? — выжидательно спросил старик.
— Но ведь это он привез вас сюда.
— У меня с ним нет ничего общего, — сказал комиссар.
— Он каждый день звонил сюда по два раза, интересовался здоровьем своего старого друга Крамера и требовал вас к телефону, — твердо проговорил Эмменбергер и наморщил лоб.
Берлах невольно взглянул на часы над стеклянным шкафом.
— Конечно, уже без четверти одиннадцать, — сказал врач, задумчиво, но не враждебно разглядывая больного.
— Он был внимателен ко мне, старался поднять меня на ноги, но к нам обоим никакого отношения не имеет, — упрямо стоял на своем комиссар.
— Прочли вы очерк о себе в «Бунде»?
Берлах помолчал секунду-другую, спрашивая себя, куда Эмменбергер метит своим вопросом.
— Я газет не читаю.
— В нем говорится, что в отставку ушел известный всему городу человек, — сказал Эмменбергер, — но вопреки этому Хунгертобель поместил вас в мою клинику под именем Блэза Крамера.
Комиссар этот удар выдержал. Он, мол, так назвался, когда лег в клинику Хунгертобеля.
— Если мы когда-то раньше с ним и встречались, он вряд ли узнал меня, так я изменился за время болезни.
Врач рассмеялся.
— Не станете же вы утверждать, будто заболели для того, чтобы попасть ко мне в «Зонненштайн»?
Берлах ничего не ответил.
Эмменбергер смотрел на старика с грустью в глазах.
— Мой дорогой комиссар, — проговорил он с легким укором, — в течение всего допроса вы не сделали ни шага мне навстречу.
— Это я должен вас допрашивать, а не вы меня, — не уступал ему комиссар.
— Вы тяжело дышите, — озадаченно проговорил Эмменбергер.
Берлах промолчал. И тут он впервые услышал тиканье часов. «Теперь я буду слышать его вновь и вновь», — подумал старик.
— Не пора ли вам признать свое поражение? — дружелюбно спросил его врач.
— Мне, наверное, ничего другого не остается, — ответил смертельно усталый Берлах, вынул руки из-под головы и положил их на одеяло. — Эти часы… Если бы их здесь не было.
— Эти часы… если бы их здесь не было, — повторил врач слова старика. — Что мы ходим друг за другом по кругу? В семь я вас убью. И это должно настолько упростить наши отношения, что вы можете без предубеждения обсудить со мной дело Эмменбергера — Берлаха. Мы с вами оба научные работники, только цели исследований у нас противоположные, мы шахматисты, играющие за одной доской. Но игра эта особенная: проиграет либо один, либо оба. Вы вашу игру уже проиграли, и теперь мне любопытно, проиграю ли и я свою.
— Вы ее проиграете, — тихо проговорил Берлах.
Эмменбергер рассмеялся.
— Возможно. Я был бы плохим шахматистом, если бы не предусмотрел такого исхода. Однако взглянем на вещи повнимательнее. У вас шансов нет никаких, потому что в семь я явлюсь сюда с моими скальпелями, а если этого не случится — по воле случая, — вы умрете через год от своей болезни; а как обстоит дело с моими шансами? Довольно плохо, согласен: ведь вы меня уже выследили!
И врач снова рассмеялся.
«Это доставляет ему удовольствие», — с удивлением отметил старик. Врач все больше удивлял его.
— Согласен, я испытываю удовлетворение от того, что бьюсь как муха в вашей сети, тем более что вы сами запутались в моей. Однако пойдем дальше: кто вывел вас на мой след?
— Это произошло без посторонней помощи, — заявил старик.
Эмменбергер покачал головой.
— Обратимся-ка лучше к более правдоподобным вещам, — сказал он. — О моих преступлениях — используем это ходячее выражение — сам по себе никто не догадается, такие догадки ни с того ни с сего с ясного неба не падают, не бывает этого. И уж наверняка этого не может быть, когда речь идет о комиссаре городской полиции Берна — не в похищении же велосипеда или в тайно сделанном аборте меня подозревают. Вернемся лучше снова к моему делу: вы, как человек, у которого нет больше шансов, имеете право знать правду, это преимущественное право потерпевших поражение. Я был осторожен, основателен и педантичен — в этом отношении я как специалист чист, — однако, несмотря на всю мою осторожность, есть, конечно, улики, которые против меня. Преступлений без улик в нашем мире случайностей не существует. Начнем перечислять: что послужило отправным пунктом для комиссара Берлаха? Начнем с фотографии в «Лайфе». Кто был тот безрассудно смелый человек, что сумел сделать в те дни снимок, я не знаю; достаточно самого факта его существования. И это довольно плохо. Но не будем преувеличивать. В свое время миллионы читателей видели эту фотографию, и среди них наверняка многие знали меня; однако до сих пор никто меня не опознал, ведь на снимке моего лица почти не видно. Так кто же опознал меня сейчас? Либо тот, кто видел меня в Штуттхофе и знает, что я здесь, — возможность эта невелика, потому что те люди, которых я взял из Штуттхофа, у меня в руках; однако, как и от любой случайности, от такой возможности не отмахнешься, — либо человек, который сохранил обо мне схожие воспоминания по моей жизни в Швейцарии до тридцать второго года. В ту пору произошел один случай в горной хижине, который я, тогда молодой студент, припоминаю во всех подробностях. Случилось все это на фоне багрового вечернего неба, и Хунгертобель был одним из пятерых, присутствовавших при этом. Следовательно, можно предположить, что узнал меня Хунгертобель.
— Ерунда, — твердо возразил старик.
Это, мол, ничем не подтвержденная мысль, чисто умозрительное допущение и больше ничего. Он догадывался, что над его другом нависла угроза и что опасность эта очень велика — если только ему не удастся отвести подозрение от Хунгертобеля, хотя он не представлял себе точно, в чем эта опасность может состоять.
— Не станем слишком поспешно подписывать смертный приговор бедному старому доктору. Обратимся прежде к другим возможным уликам, работающим против меня, попытаемся его оправдать, — продолжал Эмменбергер, опершись подбородком на сложенные на спинке стула руки, — ситуация с Нэле. Вы и ее раскопали, поздравляю, господин комиссар, Марлок мне все рассказала, это просто удивительно! Давайте сойдемся вот на чем: признаюсь, я сам сделал Нэле надрез над правой бровью и оставил следы ожога на левом предплечье, такие же, как у меня, чтобы из нас двоих вышел как бы один, но в двух лицах. Я отправил его под своим именем в Чили, и когда этот одаренный, но простодушный парень из низов, абсолютно не способный овладеть древнегреческим и латынью, зато раскрывший свои способности на бескрайнем поле медицины, вернулся согласно нашей договоренности домой, я заставил его принять капсулу с синильной кислотой в скособочившейся, с искрошившимися стенами портовой гостинице Гамбурга. C’est са, как сказала бы моя красавица любовница. Нэле был человеком чести. Он покорился своей судьбе — о нескольких моих энергичных телодвижениях умолчу — и изобразил самое прекрасное из всех мыслимых самоубийств. Не будем больше говорить об этой сцене, произошедшей серым туманным утром в гостинице для матросов и проституток в городе, наполовину обуглившемся и испепеленном, под глухие и довольно-таки тоскливые гудки заблудившихся кораблей. Эта история была достаточно рискованной игрой, которая и по сей день может сыграть со мной злую шутку — откуда мне известно, чем только ни занимался этот способный дилетант в Сантьяго, с кем он там дружил и кто может вдруг объявиться в Цюрихе, чтобы навестить Нэле. Однако давайте придерживаться фактов. Что свидетельствует против меня, если кто-нибудь выйдет на этот след? Ну, во-первых, честолюбивая идея Нэле писать статьи для «Ланцета» и «Швейцарского медицинского еженедельника» — эти улики могут стать для меня роковыми, если кому-то придет в голову сделать сравнительный стилистический анализ его и моих прежних статей. Нэле не стесняясь употреблял берлинские словечки. Но чтобы заметить это, надо сначала прочесть его статьи, а кто, помимо врачей, их прочтет? Вы видите сами, что дела нашего друга плохи. Правда, человек он безобидный, добавим мы в его оправдание. Но если он выступит в паре с криминалистом, что я вынужден допустить, то я не могу больше дать за старика руку на отсечение.
— Я здесь по заданию полиции, — спокойно ответил ему комиссар. — Немецкая полиция заподозрила вас и поручила полиции Берна разобраться. Никакой операции вы мне сегодня делать не будете, потому что моя смерть подтвердит все подозрения. И Хунгертобеля вы тоже оставите в покое.
— Одиннадцать часов две минуты, — сказал врач.
— Вижу, — ответил Берлах.
— Полиция, полиция, — повторил Эмменбергер, в раздумье глядя на Берлаха. — Можно, конечно, допустить, что даже полиция начнет копаться в моей жизни, но мне это кажется маловероятным, потому что такой поворот дела был бы исключительно выгоден для вас. Немецкая полиция поручает городской полиции Берна обнаружить преступника в Цюрихе! Нет, это, по-моему, не вполне логично. Я бы еще поверил, не будь вы больны, если бы речь не шла о вашей жизни и смерти: ваша операция и ваша болезнь не розыгрыш, о чем я сужу как врач.
Равно как и ваша отставка: о ней сообщили газеты. Что вы, вообще говоря, за человек? Прежде всего — упрямый и своенравный старик, который неохотно признает свое поражение и без всякой радости уходит в отставку. Не исключена возможность, что вы выступили в поход против меня на собственный страх и риск, без чьей-либо поддержки и без санкций полиции, руководствуясь шаткими предположениями, возникшими у вас прямо на больничной койке после разговоров с Хунгертобелем, при том что никаких неопровержимых доказательств у вас нет. Может быть, вы чересчур горды, чтобы посвятить в суть дела кого-то, кроме Хунгертобеля, а он, похоже, тоже не слишком-то убежден в своей правоте. Для вас, наверное, весь вопрос в том, чтобы, и будучи больным, доказать, что вы способны на большее, чем те, кто вас отправил в отставку. Все это я считаю более правдоподобным, чем вероятность того, что полиция решилась бросить тяжелобольного человека на щекотливое мероприятие, тем более что на настоящий момент полиция не вышла на верный след в случае с убийством Фортшига, а ведь это непременно случилось бы, будь я у нее на подозрении. Вы одиночка, господин комиссар, и вышли на бой со мной один на один. Опустившегося писателя я тоже считаю человеком непосвященным.
— Тогда почему вы его убили? — вскричал старик.
— Из осторожности, — равнодушно ответил врач. — Десять минут двенадцатого. Время не стоит на месте, уважаемый, нет, не стоит. Хунгертобеля мне тоже придется убить из осторожности.
— Вы собираетесь убить его? — воскликнул комиссар, силясь приподняться на постели.
— Лежите, не вставайте! — приказал Эмменбергер столь властно, что больной повиновался. — Сегодня четверг, — сказал он. — По четвергам у нас, врачей, вторая половина дня свободна, как вам известно. Вот и я решил доставить вам, себе и Хунгертобелю удовольствие и пригласил его навестить нас. Он приедет из Берна на машине.
— И что произойдет?
— На заднем сиденье будет сидеть мой маленький лилипут, — объяснил Эмменбергер.
— Карлик! — вскричал комиссар.
— Карлик, — подтвердил врач. — Он самый, вновь и вновь. Полезный инструмент, который я прихватил с собой из Штуттхофа. Он еще там подвернулся мне под руку, эта смехотворная штуковина, когда я оперировал узников, и по закону рейха, подписанному Генрихом Гиммлером, я должен был убить коротышку как существо, не представляющее ценности для общества, как будто какой-то великан-ариец представлял собой большую ценность! К чему бы это? Мне всегда были по душе разные курьезы природы, а униженного человека всегда можно превратить в самый полезный инструмент. До маленькой обезьяны дошло, что своей жизнью она будет обязана мне, и она позволила выдрессировать себя наилучшим образом.
На часах было четырнадцать минут двенадцатого.
Комиссар ощутил такую слабость, что на несколько мгновений смежил веки; и всякий раз, когда он открывал глаза, он видел перед собой часы, все те же большие, круглые, как бы покачивающиеся часы. Теперь он понял, что спастись ему не удастся. Эмменбергер раскусил его. Он погиб, и Хунгертобель тоже погиб.
— Вы нигилист, — негромко, едва ли не шепотом проговорил он в тишине комнаты, в которой слышалось только тиканье часов. Бесконечное и монотонное.
— Вы хотите этим сказать, что я ни во что не верю? — спросил Эмменбергер без малейшей примеси горечи в голосе.
— Не представляю себе, что мои слова можно истолковать иначе, — ответил старик, руки которого безвольно лежали поверх одеяла.
— А вы сами во что верите, господин комиссар? — спросил врач, не меняя позы, выжидательно и с любопытством глядя на старика.
Берлах промолчал.
Часы тикали не переставая, они щелкали равномерно, их неумолимые стрелки как бы незаметно для глаза, но безостановочно двигались к своей цели.
— Вы молчите, — твердо проговорил Эмменбергер, голос которого потерял всю свою вкрадчивость и игривость, он звучал отчетливо и ясно. — Вы молчите. Человек нашего времени не любит отвечать на вопрос: во что вы верите? Задавать этот вопрос становится неловко. Сегодня люди не любят произносить громкие слова, как выражаются люди скромные, и реже всего отвечают определенно, примерно так: «Я верю в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа», как некогда отвечали христиане, гордившиеся тем, что способны так ответить. Сегодня предпочитают отмалчиваться, как девушка, которой задали нескромный вопрос. Никто толком не знает, во что он в сущности верит, но, видит Бог, это не Ничто, люди все-таки верят — пусть и смутно, туманно, — они верят в такие вещи, как человечность, христианство, терпимость, справедливость, социализм и любовь к ближнему, в понятия, которые звучат несколько неопределенно, с чем люди согласны, но они все же по-прежнему думают: «Дело не в словах; самое главное быть порядочным человеком и жить с чистой совестью». И пытаются поступать в соответствии с этим принципом — кто-то дает себе труд, старается, а кто-то плывет при этом по течению. Все, что люди предпринимают, дела добрые и злые, выпадает по воле случая, благодеяния и преступления выпадают человеку как цифры в цифровой лотерее; случай выбирает, добрыми мы становимся людьми или злодеями. А громкое слово «нигилист» всегда под рукой, и его бросают в лицо каждому, от которого исходит некая угроза, да еще принимают поэтому позу уверенного в своей непогрешимости человека. Я знаю их, этих людей, убежденных в своем праве утверждать, будто один да один — три, четыре или девяносто девять, и что несправедливо требовать от них ответа: «Один да один два». Все ясное кажется им тупостью, потому что для осознания ясности прежде всего требуется характер. Они не ведают того, что убежденный коммунист — возьмем столь редкостный пример, ибо большинство коммунистов являются коммунистами по той же причине, по которой и большинство христиан являются христианами, то есть по недоразумению — они не ведают того, что человек, всей душой верящий в необходимость революции и в то, что этот путь, даже если его придется пройти по миллионам трупов, когда-то приведет к лучшему из миров, — что они, какие-нибудь господа Мюллер или Хубер, которые не верят ни в то, что Бог есть, ни в то, что его нет, не верят ни в ад, ни в рай, а только в право обделывать свои дела, но и эту веру они из трусости не объявляют своим кредо. И влачат свое существование, как черви в некой кашице, где нет места для принятия решений, имея туманное представление о том, что хорошо, что плохо и где истина, как если бы что-то подобное могло содержаться в этой кашице.
— Я не представлял себе, что палач способен на такие словоизвержения, — сказал Берлах. — Я считаю, что люди вроде вас на слова скупятся.
— Вы молодец, — рассмеялся Эмменбергер. — Я вижу, вы опять осмелели. Молодец! Для моих лабораторных опытов мне всегда требовались отважные люди; жаль только, что мое наглядное обучение всегда завершается смертью ученика. Ну ладно, поглядим, во что я верую, и положим эту веру на одну чашу весов, а потом, когда мы на другую чашу положим вашу, проверим, у кого из нас обоих она весомее; у нигилиста — раз уж вы так меня назвали — или у христианина. Вы заявились ко мне, влекомый идеями человечности или еще какими-то другими, чтобы меня уничтожить. Полагаю, вы не откажетесь удовлетворить мое любопытство.
— Понимаю, — ответил комиссар, старавшийся подавить в себе страх, который разрастался в нем и делался все более подавляющим с движением минутной стрелки часов. — Теперь вы вознамерились сыграть мне на шарманке песенку о своем кредо. Довольно-таки странно для убийцы.
— Двадцать пять минут двенадцатого, — заметил Эмменбергер.
— Как любезно с вашей стороны напомнить мне об этом, — простонал старик, дрожа от злобы и бессилия.
— Человек — что же он такое, человек? — рассмеялся врач. — Я не стыжусь своего кредо и не молчу, как молчали вы. Подобно тому, как христиане верили в три вещи, являющиеся одной, в триединство, так и я верю в две вещи, которые суть одно целое: в то, что существует нечто, и в то, что существую я. Я верю в материю, которая есть одновременно и масса и сила, невообразимое пространство и шар, который можно обойти и ощупать, на котором мы живем и в загадочно пустых пространствах которого передвигаемся; я верую в материю (сколь жалкими и пустыми словами было бы сказать вместо этого: «Я верю в Бога»), постижимую, когда она животное, трава или уголь и почти не поддающаяся расчетам, когда она атом; она не нуждается в Боге или в чем-то в этом роде, но единственная непостижимая загадка — ее собственное существование. Я верю, что существую, будучи, как и вы, частицей этой материи, атомом, молекулой, силой и массой, и это мое существование дает мне право поступать, как я того пожелаю. Как частица я лишь мгновение, случайность, точно так же как сама жизнь в этом невероятном мире всего лишь одна из бесконечного ряда случайностей, мое существование тоже случайно — окажись Земля поближе к Солнцу, никакой жизни у нас не было бы, — и смысл моего существования в том, чтобы продлиться лишь мгновение. Какая непроницаемая тьма окутала меня, когда я это постиг! Нет ничего более святого, нежели материя: человек, животное, растение, Луна, Млечный Путь, все, что бы я ни наблюдал, не более чем случайные понятийные группы, несущественные сами по себе, как несущественны пена или волна на воде: безразлично, есть они, эти вещи, или их нет, они взаимозаменяемы. Если их нет, появится что-то другое, если погаснет жизнь на этой планете, она возникнет на какой-нибудь другой в мировом пространстве: так большой выигрыш в лотерее выпадает только один раз, случайно, повинуясь закону больших чисел. Было бы смешно продлевать людям срок жизни, потому что это всегда будет только иллюзия продолжительности, а система власти будет изыскивать способы, чтобы прозябать еще несколько лет во главе какого-то государства или какой-то церкви. В мире, являющемся по своей структуре лотереей, бессмысленно заботиться о благе людей, как не имеет никакого смысла, чтобы в лотерее на каждый билет выпадал грош, когда задумано, чтобы все проигрывались вчистую — ведь нет же у человека другого более страстного желания, чем желание оказаться тем одним-единственным, тем неправедным, кому суждено сорвать весь куш. Бессмысленно верить в материю и в то же время в гуманизм, можно верить только в материю и в свое «я». Никакой справедливости не существует — разве материя может быть справедливой? — есть лишь свобода, которую можно было бы дать — кто бы ее дал? — ее можно только взять! Свобода — это отвага человека, готового пойти на преступление, потому что она сама по себе преступление.
— Я понимаю, — воскликнул комиссар, скорчившийся на своей белой простыне, как испускающее дух животное. У него было такое ощущение, будто он лежит в конце бесконечной, равнодушной ко всему улицы. — Вы не верите ни во что, кроме права мучить людей!
— Браво! — захлопал в ладоши врач. — Браво! Вот что значит хороший ученик — вы осмелились сформулировать принцип, по которому я живу. Браво, браво! — Он все еще хлопал в ладоши. — Я осмелился стать самим собой и ничем другим, я посвятил себя тому, что сделало меня свободным, — пыткам и убийству; когда я убиваю другого человека — а в семь я опять сделаю это, — когда я ставлю себя вне рамок человеческого правопорядка, учрежденного нашей слабостью, я становлюсь всего лишь мгновеньем, но зато каким мгновеньем! Я обретаю внутреннюю напряженность невероятной силы, как и у материи, я становлюсь равным ей по мощи, столь же несправедливым, как она, и в криках и муках, которые несутся мне навстречу из разверстых ртов и отражаются в остекленевших глазах, над которыми я склоняюсь и в которые смотрю, в этой дрожащей, беспомощной белой плоти, содрогающейся под моим скальпелем, я вижу мой триумф и мою свободу — и ничего, кроме этого.
Врач умолк. Медленно поднялся и пересел к операционному столу.
Часы показывали без трех минут двенадцать, без двух двенадцать, двенадцать.
— Семь часов, — донесся до него едва уловимый шепот со стороны постели больного.
— А теперь откройте мне свою веру, — сказал Эмменбергер. Его голос опять звучал спокойно и деловито, а не страстно и жестко, как незадолго перед этим.
Берлах ничего не ответил.
— Вы молчите, — с грустью проговорил врач. — Все время отмалчиваетесь.
Берлах опять промолчал.
— Молчите и молчите, — подытожил врач, опершись обеими руками на операционный стол. — Я без оглядки поставил все на свой жребий. Я был всесилен, потому что никогда ничего не боялся, потому что мне было безразлично, разоблачат меня или нет. Я и сейчас готов поставить все на кон, на орла или решку. Я признаю свое поражение, если вы, комиссар, докажете, что обладаете столь же великой, столь же безотчетной верой, как и я.
Старик молчал.
— Скажите хоть что-нибудь, — продолжал Эмменбергер после недолгой паузы, во время которой он с жадным любопытством смотрел в сторону больного. — Ответьте же мне. Вы христианин. Вас крестили. Скажите мне: я верую непоколебимо, с силой, во столько же раз превосходящей силу веры покрывшего себя позором массового убийцы, во сколько свет солнца превосходит силу свечения зимней луны; или хотя бы так: я верую с той же силой, что и он, Христос, Сын Божий!
За его спиной тикали часы.
— Возможно, ноша этой веры излишне тяжела, — сказал Эмменбергер и, поскольку Берлах продолжал хранить молчание, подошел к постели старика. — Может быть, вы верите во что-нибудь более простое, обыденное. Скажите: я верю в справедливость и в человечество, которое должно служить справедливости. Во имя и ради нее я, старый и больной, пустился во все тяжкие и отправился в «Зонненштайн», без задней мысли о славе и триумфе, положенных человеку после победы над другим человеком. Скажите же это, это легкая и достойная вера, и присутствия ее еще можно требовать от человека наших дней, скажите это, и вы свободны. Такая ваша вера меня устроит, я сочту, что по силе своей она равна моей вере, но скажите это!
Старик молчал.
— Вы, наверное, не верите, что я вас отпущу? — спросил Эмменбергер.
Никакого ответа.
— Ну, назовите что-нибудь наудачу! — предложил врач комиссару. — Обнаружьте вашу веру, даже если не доверяете моему обещанию. А вдруг вам действительно удастся спастись только тем, что у вас есть вера. Может быть, это ваш последний шанс, причем шанс спастись не только самому, но вместе с Хунгертобелем. Еще есть время позвонить ему. Вы нашли меня, а я нашел вас. Когда-то и моя игра подойдет к концу, когда-то и я допущу ошибку в расчетах. Почему бы мне не проиграть? Я могу убить вас, а могу отпустить и, значит, погибнуть. Я дошел до той точки, когда способен относиться к себе как к посторонней личности. Захочу — уничтожу себя, захочу — помилую.
Он умолк, пристально глядя на комиссара.
— Мне безразлично, как я поступлю, — сказал он. — Могущественного положения мне уже не добиться, а ведь эта точка опоры Архимеда и есть та самая высочайшая вершина, какую может достичь человек, в ней весь смысл и вся бессмыслица этого мира, в ней загадка мертвой материи, которая наподобие ненасытной стервы без конца производит из себя жизнь и смерть. Однако я в своей зловредности хочу связать ваше освобождение с нелепейшей шуткой и простейшим условием: назовите мне веру, равную по силе моей. Предъявите ее мне! Должна же вера в добро быть хотя бы равновеликой вере во зло! Предъявите мне ее! Ничто не развеселит меня сильнее, чем наблюдать за собственным вознесением в ад.
Слышалось только тиканье часов.
— Тогда скажите это ради истины как таковой, — продолжал Эмменбергер несколько погодя. — Ради веры в Сына Божьего, ради веры в справедливость.
Только тиканье часов и ничего более.
— Покажите мне вашу веру! — вскричал врач. — Покажите мне вашу веру!
Старик лежал, вцепившись пальцами в одеяло.
— В чем ваша вера? В чем ваша вера?
В голосе Эмменбергера звучал металл, это был словно трубный глас, прерывающийся к бесконечному серому небесному своду.
Старик молчал.
И тут лицо Эмменбергера, с нетерпением ждавшего ответа, сделалось холодным и расслабленным. Только шрам над правым глазом оставался багровым. Когда он с усталым видом равнодушно отвернулся от больного, показалось даже, что он содрогнулся от брезгливости. Дверь за ним закрылась бесшумно, и комиссар снова оказался в объятиях голубоватого света и бесконечного тиканья круглых часов на стене. Можно было подумать, что это бьется сердце старика.
Детская песенка
Вот так Берлах и лежал в ожидании смерти. Время уходило, стрелки часов двигались, сходились, расходились, снова встречались и расставались. Половина первого, час дня, пять минут второго, без двадцати два, два, десять минут третьего, полтретьего. Все в этом помещении, мертвой комнате без теней и с голубоватой подсветкой, оставалось таким, как прежде: шкафы со старинными инструментами за стеклом, в которых смутно отражались лицо и руки Берлаха. Все было на месте — белый операционный стол, картина Дюрера с мощным конем, остановившимся на скаку, металлическое покрытие на окнах, стул с обращенной в сторону постели старика спинкой, ничего одушевленного, кроме механического тиканья часов. Вот уже три часа, четыре. Ни шума, ни стонов, ни разговоров, ни вскриков, ни звуков шагов за дверью не доносилось до слуха старика, неподвижно лежавшего на металлической каталке. И только грудь его слегка поднималась и опускалась. Для него не существовало больше никакого окружающего мира, ни вращающейся вокруг своей оси Земли, ни Солнца, ни города. Не было ничего, кроме круглого зеленоватого диска со стрелками, менявшими свое положение, настигавшими одна другую, совпадающими и стремящимися разбежаться. Вот уже половина пятого, без двадцати пяти пять, без тринадцати пять, пять часов, пять часов одна минута, пять часов три минуты, пять часов четыре минуты, пять часов шесть минут. Берлаху с трудом удалось приподнять туловище. Пробило один, два, три раза. Он ждал. Вдруг удастся еще переговорить с сестрой Клэри. Вдруг случай спасет его. Медленно повернулся всем телом — и упал на пол. Он долго лежал на красном ковре перед кроватью, а где-то над ним поверх стеклянного шкафа висели и тикали часы, двигалась минутная стрелка: без тринадцати шесть, без двенадцати шесть, без одиннадцати. Потом он, подтягиваясь на руках, медленно пополз к двери, добрался до нее, попытался встать, схватившись за дверную ручку, но упал, полежал немного и повторил эту попытку, затем в третий, в четвертый, в пятый раз. Тщетно. Он начал царапать дверь, потому что бить по ней кулаком был не в силах. «Словно крыса», — подумал он о себе. Некоторое время он лежал неподвижно, а потом пополз обратно к постели. Приподняв голову, взглянул на часы. Десять минут седьмого.
— Еще пятьдесят минут, — громко и отчетливо проговорил он в тишине комнаты и сам испугался. — Еще пятьдесят минут.
Ему хотелось лечь на каталку, но он чувствовал, что для этого у него нет сил. И он лежал у операционного стола и ждал. Он был в плену у этой комнаты с ее шкафами, скальпелями, постелью, стулом и часами, этими самыми часами, сгоревшим солнцем в голубоватом опустошенном мирозданье, тикающим божком и тикающим лицом без рта, без глаз и носа с двумя складками, которые все больше сходились и наконец совпали — без двадцати пяти семь, без двадцати двух семь, — они как бы не хотели, но все-таки вынуждены были расстаться… без двадцати одной минуты семь, без двадцати семь, без девятнадцати минут семь. Время утекало все дальше и дальше с тихим содроганьем неподкупного механизма времени, этого неподвижного висящего на стене магнита. Без десяти семь. Берлаху удалось сесть, прислонившись туловищем к ножке операционного стола. «Старый сидящий больной человек, одинокий и беспомощный человек, вот я кто», — подумал он. Комиссар успокоился. За спиной у него часы, а перед глазами двери, на которые он глядел покорно и униженно. В этот четырехугольный проем он и войдет — тот, кого он дожидается, тот, кто его убьет, медленно орудуя скальпелем, делая надрез за надрезом с четкостью заведенного часового механизма. Он сидел, не делая попытки пошевелиться. Теперь время переместилось в него, и тиканье часов тоже, теперь незачем было больше оглядываться назад, он знал, что ждать осталось еще четыре минуты, еще три, а теперь две: он начал считать секунды, ставшие одним целым с биеньем его сердца, — еще сто, еще шестьдесят, еще тридцать секунд. Он отсчитывал их, беззвучно шевеля побелевшими бескровными губами, и, превратившись в одушевленные часы, не сводил глаз с двери, которая открылась ровно в семь с первым ударом часов. Перед ним словно разверзся черный ад, его зияющая пасть, и в самой середине ее он скорее угадал, чем увидел, размытую и темную фигуру огромного роста человека, но это был не Эмменбергер, которого старик рассчитывал увидеть на пороге; из широко открытой глотки этого человека до слуха комиссара донеслись язвительные и хриплые слова детской песенки:
Маленький Гансик Один-одиношенек Пошел в дремучий лес.Сиплый голос стоявшего в проеме двери человека заполнял собой всю комнату, а сам он, высокий и широкоплечий, был как всегда в черном сюртуке, расхристанном и порванном, едва прикрывающем его могучее тело, — еврей Гулливер.
— Привет тебе, комиссар, — сказал великан, закрывая за собой дверь. — Вот мы и снова встретились с тобой, грустный рыцарь без страха и упрека, выступивший в поход, чтобы победить злого духа. Но теперь ты сидишь перед пыточным столом, напоминающим тот, на котором некогда лежал я в прекрасной деревушке Штуттхоф под Данцигом.
И он поднял старика на руки, словно дитя, и отнес на постель.
— А ну, достанем! — рассмеялся он, видя, что комиссар по-прежнему не в состоянии произнести ни слова и что в лице его нет ни кровинки; и он достал из складок своего оборванного сюртука бутылку и два стакана.
— Водки у меня больше нет, — сказал еврей, наполнив стаканы и присев на постель старика. — Но в одном заброшенном крестьянском доме где-то в Эмментале, под громовые раскаты, в кромешной тьме и снегопаде, я украл несколько покрытых пылью бутылок славного картофельного самогона. Тоже неплохо! Мертвецу это будет прощено, не правда ли, комиссар? когда труп, вроде меня — в некотором смысле труп человека, погибшего от огненной воды, — под покровом ночи получает дань с живущих, что-то наподобие пайки на тот срок, когда он снова закопается в свою братскую могилу у этих, у советских, — все в полном порядке! Держи, комиссар, выпьем!
Он поднес стакан к его губам, и Берлах выпил. И ему сразу стало лучше, хотя он подумал, что это против всех законов медицины.
— Гулливер, — прошептал он, нащупав его руку. — Как ты узнал, что я в этой проклятой мышеловке?
Великан рассмеялся.
— А зачем же еще ты, христианин, — проговорил он, и в его глазах, широко расставленных на покрытом шрамами лице без бровей и ресниц, появился твердый металлический блеск (он уже успел выпить несколько стаканчиков), — зачем же еще ты вызвал меня в «Салем»? Я сразу понял, что ты кого-то заподозрил, что, может быть, появилась бесценная возможность все-таки обнаружить этого Нэле среди живых. Я ни на секунду не поверил, будто интерес к Нэле, который ты проявил той ночью, когда было выпито столько водки, чисто психологического свойства. Мог ли я допустить, чтобы ты погубил себя? Сегодня никому не дано сражаться со злом в одиночку, это в старину рыцари вызывали на поединок какого-нибудь дракона. Канули в прошлое те времена, когда достаточно было острого ума, чтобы разоблачить таких преступников, с какими мы имеем дело сегодня. Ну и глупец же ты, сыщик, и само время поставило тебя в глупое положение! Но я с тех пор не упускал тебя из виду и прошлой ночью явился собственной персоной к доброму доктору Хунгертобелю. Мне пришлось здорово потрудиться, чтобы вывести его из обморочного состояния, до того он перепугался. Но после этого я узнал все, что хотел, и теперь я здесь, чтобы придать событиям их прежний ход. И пусть под каждой крышей живут свои мыши, твои — в Берне, а мои — в Штуттхофе. Так мы и разделим мир.
— Как ты сюда попал? — тихо спросил Берлах.
Великан ухмыльнулся.
— Не думай, не под сиденьем какой-то полицейской машины, — ответил он, — а на автомобиле Хунгертобеля.
— Он жив? — спросил старик, овладевший наконец собой и глядя, затаив дыхание, на еврея.
— Через несколько минут он повезет тебя в старый добрый «Салем», — сказал еврей и отпил еще несколько больших глотков картофельного самогона. — Сейчас он ждет тебя в машине перед входом в «Зонненштайн».
— Карлик, — вскричал Берлах, смертельно побледнев, осознав вдруг, что еврею об опасности с этой стороны ничего не известно. — Карлик! Он его убьет!
— Да, карлик! — рассмеялся великан и отпил еще самогона. Вид у него в этом невероятном рванье был и без того устрашающий, а он еще сунул в рот два пальца и свистнул резко и пронзительно — таким свистом обычно подзывают собак.
И тут металлический щиток на окне поднялся вверх и в комнату с обезьяньей ловкостью влетела черная тень, сделала ловкий кульбит, издав при этом неразборчивые клокочущие звуки, молнией метнулась к Гулливеру и вскочила к нему на колени, прижимаясь своим уродливым старообразным лицом карлика к широкой груди великана и обнимая его мощный голый череп своими маленькими скрюченными ручонками.
— А вот и ты, моя обезьянка, мой зверек, мое маленькое адское чудовище, — ласкал еврей карлика певучим голосом. — Мой бедный Минотавр[25], мой изувеченный домовой, столько раз засыпавший кроваво-красными ночами в Штуттхофе в моих объятиях, стеная и плача, ты, единственный друг моей бедной еврейской души! Ты, сыночек мой, ты, мой мужской корень, мой заросший Аргос[26] — Одиссей вернулся к тебе из своих бесконечных странствий. О, я сразу понял, что ты скользнул в световую шахту, моя большая саламандра, потому что тебя уже тогда, в городе издевательств, выдрессировал для таких фокусов злой колдун Нэле, или Эмменбергер, или Минос[27] — разве я знаю, как его звали? На, кусай мои пальцы, мой песик! Еще сидя в машине рядом с Хунгертобелем, я услышал за спиной радостное повизгивание нашедшей хозяина запаршивевшей собачонки. Это был мой маленький друг, комиссар, и я вытащил его из-под сиденья. Что же нам делать с этим маленьким зверенышем, который тоже человек, с этим человечком, которого низвели до звериного существования и который перед всеми нами ни в чем не повинен? Видите вы его карие глаза? Они выражают ужас всех живых существ!
Старик сел на постели, не сводя глаз с этой пары призраков, с изувеченного пытками еврея и карлика, который по желанию великана приплясывал на его коленях, как дитя.
— А Эмменбергер? — спросил он. — Что с Эмменбергером?
Тут лицо великана превратилось в серый предвечный камень, а шрамы на нем были, казалось, прорезаны резцом. Резким взмахом своей огромной руки он швырнул только что опустошенную им бутылку в сторону шкафа, отчего его стеклянная витрина рассыпалась на мелкие осколки, а карлик, пискнув от страха по-крысиному, далеко отпрыгнул и спрятался под операционным столом.
— И ты еще спрашиваешь об этом, комиссар? — прошипел еврей, но сразу вновь овладел собой, и только глаза его опасно поблескивали сквозь страшно сузившиеся веки. Потом он преспокойно достал из сюртука вторую бутылку и начал жадно пить. — Когда живешь в аду, всегда хочется пить. Возлюбите врагов ваших как самих себя, как сказал некто на каменистом холме Голгофы, позволивший, чтобы его распяли на кресте, на этом злосчастном полусгнившем столбе, с развевающимся вокруг его чресл платом. Молись за грешную душу Эмменбергера, христианин, только откровенные молитвы приемлемы для Иеговы. Молись! Его больше нет — того, о ком ты спросил. Ремесло у меня кровавое, комиссар, я не могу позволить себе теологические изыскания, когда занимаюсь своим делом. Я был справедлив по законам Моисея, справедлив по законам моего Бога, христианин. Я убил его, как некогда в вечно сыром гостиничном номере в Гамбурге убили Нэле, и полиция столь же неопровержимо установит факт самоубийства, как установила это в тот раз. Что тебе сказать? Моя рука вела его руку, и он, сжатый моими объятьями, всунул себе в рот и раскусил смертоносную капсулу. Уста Агасфера молчаливы, его обескровленные губы не разожмутся. Что произошло между нами, между евреем и его палачом, и как в силу закона справедливости поменялись при этом роли, так что я стал палачом, а он жертвой, кроме нас двоих, одному Богу известно, который все это и допустил. Нам пора прощаться, комиссар.
Великан встал.
— И что теперь будет? — прошептал Берлах.
— Ничего не будет, — ответил еврей, подхватив старика под руки, и прижал его к себе. Их лица оказались совсем рядом, глаза смотрели в глаза. — Ничего не будет, ничего, — тоже шепотом повторил великан. — Никому, кроме вас с Хунгертобелем, не известно, что я здесь побывал. Беззвучной тенью проскользнул я по коридорам к Эмменбергеру, о моем существовании вообще никто не знает, кроме нескольких бедолаг, горстки евреев и горстки христиан. Пусть мир похоронит Эмменбергера, пусть в газетах появятся возвышенные некрологи, в которых воздадут должное памяти умершего. Нацистам был необходим Штуттхоф, миллионерам — эта клиника, другим понадобится еще что-то. Нам, одиночкам, не спасти мир, это был бы столь же бесполезный труд, как у несчастного Сизифа; он нам не по плечу, как не по плечу он людям многоуважаемым, ни даже целому народу, ни даже дьяволу, самому могущественному из всех, — ибо все в руке Божьей, единственно в его воле. Мы можем помочь только в отдельных случаях, ограниченных возможностями бедного еврея Гулливера и возможностями других людей. Поэтому нам незачем пытаться спасти мир, мы должны сами состояться — и это единственное настоящее приключение, которое нам остается в нашем веке.
И осторожно, как отец ребенка, великан положил старика на его постель.
— Пошли, обезьянка моя, — крикнул он и присвистнул.
Одним прыжком, сильным и далеким, карлик взлетел прямо на левое плечо, повизгивая и что-то лепеча при этом.
— Вот и хорошо, мой маленький убийца, — похвалил его великан. — Мы с тобой останемся вместе. Ведь мы оба отринуты человеческим обществом: ты самой природой, а я потому, что принадлежу к умершим. Будь счастлив, комиссар, а я отправляюсь в ночное путешествие на великую русскую равнину, мне предстоит спуститься в мрачные катакомбы этого мира, в заброшенные пещеры тех, кого преследовали всесильные.
Еврей еще раз помахал рукой комиссару, потом схватился обеими руками за решетку на окне, разогнул металлические прутья и высунулся в окно.
— Будь счастлив, комиссар, — весело проговорил он своим странным певучим голосом; теперь были видны только его плечи и голый могучий череп, а к его левой щеке прижался лицом старообразный карлик, в то время как справа от его огромной головы выкатилась полная луна, так что могло показаться, будто сейчас на плечах у еврея весь мир — Земля и Человечество. — Будь счастлив, мой рыцарь без страха и упрека, мой Берлах, — сказал он. — Гулливер отправляется дальше, к великанам и лилипутам, в другие страны, в иные миры, все дальше и дальше. Будь счастлив, комиссар, будь счастлив, — и, произнеся в последний раз «Будь счастлив», он исчез.
Старик закрыл глаза. Он ощутил благотворную умиротворенность. Тем более что знал: в тихо открывшейся двери стоит Хунгертобель, который отвезет его в Берн.
Авария
Почти правдоподобная история
Die Panne
Eine noch mögliche Geschichte
Глава первая
Существуют ли еще правдоподобные истории, истории для писателей? Если писатель не желает рассказать о себе, возвышенно, поэтически обобщить свое «я», если не испытывает потребности вполне откровенно поделиться своими надеждами и разочарованиями, рассказать, например, как он ласкает женщин, причем рассказать так, чтобы откровенность привела к обобщениям, а не увела в область физиологии или — в лучшем случае — психологии; если он этого не желает, а, напротив, сохраняя личное для себя, предпочитает творить, подобно скульптору, и в процессе созидания саморазвиваться, причем, подражая классикам, не впадает сразу в отчаяние, когда уже невозможно отрицать явную нелепицу, бьющую в глаза, то в этом случае писателя охватывает чувство одиночества, писать становится труднее, да и бессмысленнее, ведь дело не в хорошей оценке, выставленной историей литературы (кому только не выставляли хорошие оценки, какие только поделки не превозносились), — дело в требованиях дня. Но здесь опять-таки встречаешься с какой-нибудь дилеммой и с неблагоприятным положением на рынке. Ибо жизнь предлагает одни только развлечения: вечером — кино, на последней полосе ежедневной газеты — стихи; за большую плату (для социальной справедливости, начиная с одного франка) требуется уже душа, признания, откровенность, надо поставлять более высокие ценности — мораль, полезные сентенции, что-то надо преодолевать либо утверждать, скажем христианство или модное отчаяние, — одним словом, литература. Ну а если писатель все настойчивее и упорнее отказывается производить подобный товар, ясно понимая, что источник его творчества заключается в нем самом, в его сознании и подсознании (соотнесенных в зависимости от того или иного случая), в его вере и сомнениях, и если он при том полагает, что именно это совершенно не предназначено для публики, ибо с нее довольно того, что он описывает, изображает, очерчивает, эффективно скользя по поверхности, и только по ней, не болтая об остальном и не давая излишних комментариев? Придя к такому выводу, писатель становится в тупик, начинает колебаться, его охватывает растерянность, и это почти неизбежно. Возникает ощущение, что рассказывать больше не о чем, всерьез задумываешься — не бросить ли все и не уйти ли на покой; может быть, попытку-другую еще и сделаешь, но затем неминуемо свернешь в биологию, чтобы хоть мыслью охватить извержение человечества, эти грядущие миллиарды людей и беспрерывно поставляющие их чрева, или же в физику и астрономию, чтобы дать себе отчет, порядка ради, о той клетке, в которой мы снуем, как молекулы. Остальное — для иллюстрированных журналов типа «Лайф», «Матч», «Квик», «Она и он»: президент в кислородной палатке, принцесса со своим личным пилотом (отчаянным парнем), кинозвезды и разбогатевшие выскочки — взаимозаменяемые, выходящие из моды, едва о них заговорили. А рядом с этим будничная жизнь, в моем случае — западноевропейская, точнее, швейцарская, скверная погода и неважная конъюнктура, заботы и тревоги, потрясения личного плана, не связанные с мировыми событиями, с ходом вещей более существенных и менее существенных, с разматыванием клубка необходимостей. Судьба покинула авансцену, где происходит действие, чтобы подкарауливать за кулисами, вне общепринятой драматургии; на передний план выдвигаются несчастные случаи, болезни, кризисы. Даже война зависит от того, предскажут ли ее рентабельность электронные мозги, хотя, как известно, такого никогда не случится, пока счетные машины будут действовать исправно; математически можно предсказать только поражения; но горе, если произойдет фальсификация вследствие запрещенного вмешательства в искусственные мозги, хотя и это менее страшно, чем другая вероятность: расшатается какой-нибудь винтик, испортится какая-либо катушка, неверно сработает какая-то клавиша — и конец света из-за ошибочного контакта, короткого замыкания. Итак, больше не угрожают ни Бог, ни праведный суд, ни фатум, как в Пятой симфонии, а только лишь дорожно-транспортные происшествия, прорывы плотин из-за ошибки в конструкции, взрыв фабрики атомных бомб по вине рассеянного лаборанта, неотрегулированные ядерные реакторы. В этот мир аварий ведет наш путь, на пыльной обочине которого, кроме щитов, рекламирующих обувь «Балли», «студебекеры», мороженое, и мемориальных досок жертвам автомобильных катастроф, встречаются еще почти правдоподобные истории, когда в заурядном человеке неожиданно проглядывает человечество, личная беда невольно становится всеобщей, обнаруживаются правосудие и справедливость, порой даже милосердие, мимолетное, отраженное в монокле пьяного.
Глава вторая
Несчастный случай, безобидный правда, но все-таки авария, произошел на сей раз. Альфредо Трапс, так зовут нашего современника, — текстильный коммивояжер, сорок пять лет, далеко еще не располневший, приятная наружность, приличные манеры, за которыми угадывалась известная выучка, что-то этакое примитивное, как у лоточника, — ехал в «студебекере» по шоссе, надеясь через час добраться до места своего жительства (одного крупного города), когда мотор вдруг отказал. Дальше машина просто-напросто не шла. Блестя красным лаком, она беспомощно стояла у подножия небольшого холма, через который пролегало шоссе. На севере повисло кучевое облако, на западе солнце стояло еще высоко, почти как пополудни. Трапс выкурил сигарету и попытался сделать все возможное. Автомеханик, который в конце концов отбуксировал «студебекер» к себе в гараж, заявил, что раньше утра повреждение исправить не удастся: засорился бензопровод. Проверять, так ли это, было бесполезно, да и не стоило пытаться. Автомеханикам, как некогда рыцарям-разбойникам, а еще раньше — древним божествам и духам, приходится безоговорочно повиноваться. Трапс мог бы при желании дойти за полчаса до ближайшей железнодорожной станции и несколько сложным, но довольно кратким путем вернуться домой, к жене и четверым детям (все четверо мальчишки), однако сделать это поленился и решил заночевать. Было шесть часов вечера, жарко, день почти самый длинный в году; деревня, на краю которой стоял гараж, живописно раскинулась вдоль лесистых холмов, на пригорке церковь, пасторский дом и древний могучий дуб, укрепленный подпорками и огромными железными обручами, — все прочно, надежно; опрятно выглядит даже навоз перед крестьянскими домами, старательно сложенный в аккуратные кучи. Чуть в стороне был небольшой заводик, было здесь несколько трактиров и постоялых дворов; Трапс вспомнил, что один из них многие хвалили, но оказалось, что все номера в нем заняты участниками съезда скотоводов, и нового приезжего направили на виллу, где иногда принимали постояльцев. Трапс колебался. Еще не поздно было возвратиться домой поездом, однако он прельстился надеждой на какое-нибудь приключение, бывают же в селах девушки, умеющие (как, например, недавно в Гросбиштрингене) ценить текстильных вояжеров. Приободрившись, он отправился на виллу. В церкви звонили. Навстречу шло мычащее стадо коров.
Двухэтажная вилла была расположена в большом саду; ослепительно белые стены, плоская крыша, зеленые жалюзи, дом наполовину скрыт кустами, буками и елями, перед фасадом цветы, главным образом розы, среди них пожилой человечек в кожаном фартуке (по-видимому, хозяин дома), занимающийся несложной садовой работой.
Трапс представился и попросил приюта.
— Ваша профессия? — спросил старичок, подойдя к ограде. Он курил сигару и ростом едва превышал калитку.
— Я по текстильной части.
Старичок внимательно оглядел Трапса поверх маленьких очков без оправы, как это делают дальнозоркие.
— Конечно, господин может здесь переночевать.
Трапс спросил о цене.
Хозяин сказал, что обычно он за это не берет ничего; живет он один (сын в Америке), за хозяйством смотрит экономка, мадемуазель Симона, поэтому он даже бывает рад приютить гостя.
Трапс поблагодарил, тронутый гостеприимством, и отметил, что в деревне добрые нравы и обычаи предков еще не перевелись.
Калитка отворилась. Войдя, Трапс огляделся. Посыпанные гравием дорожки, газоны, обширные тенистые уголки и солнечные полянки.
Вечером у него будут гости, сказал старик, когда они подошли к цветнику, и принялся тщательно подрезать розовый куст. Придут несколько друзей, таких же пенсионеров, как и он, все живут поблизости (кто в деревне, кто на окраине, у холмов); когда-то они переехали сюда ради мягкого климата и еще потому, что здесь не чувствуешь фона, все одинокие, вдовцы, любят поговорить, услышать что-нибудь новенькое, свежее, поэтому он с удовольствием приглашает господина Трапса поужинать и провести вечерок в мужской компании.
Текстильный вояжер смутился. Он, собственно, намеревался поесть в деревне, в знаменитом на всю округу трактире, но отклонить приглашение, чувствуя себя должником, было неловко. Ведь он принял предложение бесплатно переночевать. Ему не хотелось показаться невежей горожанином. Трапс сделал вид, что польщен. Хозяин проводил его наверх. Приятная комната: умывальник, широкая кровать, стол, удобное кресло, на стене Ходлер[28], на этажерке книги в старинных кожаных переплетах. Трапс открыл саквояж, умылся, побрился, опрыскал себя одеколоном, подошел к окну, закурил. Солнечный диск, скользя за холмами, озарял буковую рощу. Трапс припомнил события минувшего дня: заказ акционерного общества (недурно), загвоздка с Вильдхольцем — нахал, подумать только, потребовал пять процентов, ну и ну… ничего, он еще его проучит. Потом всплыло беспорядочное, каждодневное: адюльтер в отеле «Туринг», вопрос, покупать ли младшему сыну (самому любимому) электрическую железную дорогу; да, надо еще позвонить жене, это не просто вежливость, а долг — предупредить ее о непредвиденной задержке. Но он пренебрег своим долгом. Как уже не раз. Жена привыкла, да и все равно не поверит. Трапс зевнул и позволил себе еще одну сигарету. Тут он увидел, как по дорожке к дому прошли три старых господина, впереди двое бок о бок, а позади лысый толстяк. Приветствия, рукопожатия, объятия, разговор о розах. Трапс отошел от окна и приблизился к этажерке. Судя по заглавиям книг, предстоял скучный вечер: «Преступное убийство и смертная казнь» Хотцендорфа[29], «Современное римское право» Савиньи[30], «Практика допроса» Эрнста Давида Холле*. Его хозяин, по-видимому, юрист, скорее всего, бывший адвокат. Трапс приготовился к длинным рассуждениям — что еще можно ждать от такого сухаря, в настоящей жизни он ничего не смыслит, потому и увяз в законах. Следует также опасаться, что зайдет разговор об искусстве или о чем-нибудь в этом роде, тогда недолго и осрамиться. Что ж, если бы не заедала работа, он тоже был бы в курсе всяких высоких материй. Без особой охоты он спустился вниз, на открытую, освещенную солнцем веранду, где собрались гости; в столовой экономка, дюжая особа, накрывала на стол. Трапс все же смутился, увидев ожидавшее его общество, и был рад, когда хозяин поднялся ему навстречу. Сейчас он выглядел почти франтом в своем слишком просторном сюртуке с тщательно зализанными редкими волосами. В адрес Трапса прозвучало короткое приветствие. Преодолев смущение, он пробормотал, что счастлив оказанной честью и прочее, поклонился холодно, сдержанно, разыгрывая роль светского дельца, и с грустью подумал, что ведь он остался в этой деревне, чтобы раздобыть какую-нибудь девчонку. Увы, не получилось. Он оглядел трех старцев, которые, казалось, ни в чем не уступали чудаковатому хозяину. На этой светлой веранде с плетеной мебелью и прозрачными гардинами они напоминали чудовищных воронов: дряхлые, грязные, беспризорные, однако сюртуки у всех (это он установил сразу же) были из первосортной материи, исключая, пожалуй, лысого (Пиле, семьдесят семь лет, как сообщил хозяин дома, представляя Трапсу своих друзей), который с достоинством восседал на неудобном табурете, хотя вокруг были удобные стулья, в сверхкорректной позе — при белой гвоздике в петлице — и непрерывно поглаживал свои густые черные крашеные усы; несомненно, пенсионер, возможно, бывший дьячок, разбогатевший благодаря счастливому случаю, или трубочист, а может быть, и машинист. Еще более опустившимися казались двое других. Один (господин Куммер, восемьдесят два года), необъятных размеров, толще Пиле, будто сложенный весь из окороков, сидел в качалке — багровое лицо, внушительный нос пьяницы, за стеклами золотого пенсне веселые глазки навыкате, под черным сюртуком ночная рубашка, надетая, очевидно, по рассеянности, в карманах напиханы газеты и бумаги. Другой (господин Цорн, восемьдесят шесть лет) худой и длинный, в левом глазу монокль, на лице шрамы, горбатый нос, белоснежная львиная грива, запавший рот, а в довершение криво застегнутый жилет и разные носки — в общем и целом позавчерашний день.
— Кампари? — предложил хозяин.
— С удовольствием, спасибо, — ответил Трапс и опустился на стул, меж тем как Длинный разглядывал его в монокль.
— Господин Трапс, вероятно, примет участие в нашей забаве?
— Конечно. Позабавиться я не прочь.
Старые господа заулыбались и закивали.
— Наша забава может показаться вам несколько странной, — чуть помедлив, осторожно пояснил хозяин. — Она заключается в том, что мы вечерами играем в свои бывшие профессии.
Старцы улыбнулись опять, вежливо, тактично.
Трапс удивился. Как это понимать?
— Дело в том, что я был когда-то судьей, — сказал хозяин. — Господин Цорн — прокурором, а господин Куммер — адвокатом. Вот мы и разыгрываем судебные процессы.
— Ах так! — Трапсу эта идея понравилась. Может быть, вечер все же не будет потерян.
Хозяин торжественно взирал на текстильного вояжера.
— Собственно говоря, мы заново пересматриваем знаменитые процессы, — мягко начал он объяснение, — процесс Сократа[31], суд над Иисусом Христом[32], Жанной д’Арк[33], Дрейфусом[34], недавно разбирали дело о поджоге рейхстага, а однажды признали невменяемым Фридриха Великого.
Трапс удивился.
— И так вы играете каждый вечер?
Судья кивнул.
— Но, разумеется, лучше всего, — продолжал он, — когда имеешь дело с живым материалом, это часто приводит к весьма любопытным ситуациям. Кажется, позавчера один член парламента, который выступал здесь в деревне с предвыборной речью и опоздал на последний поезд, был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения за шантаж и взяточничество.
— Строго судите, — весело заметил Трапс.
— Дело чести, — просияли старцы.
Какую же роль он сможет получить?
Снова улыбки, чуть ли не смех.
Судья, прокурор и защитник уже есть, заметил хозяин, ведь это должности, которые требуют знания сути и правил игры, вакантно лишь место подсудимого, однако — он хотел бы это еще раз подчеркнуть — господина Трапса никоим образом не принуждают участвовать в игре.
Затея стариков развеселила текстильного вояжера. Вечер спасен. Поучений и скуки не предвидится, пожалуй, будет даже весело. Трапс был простым человеком, не наделенным силой ума и не склонным к глубоким размышлениям, он был дельцом, проявлял, когда нужно, хитрость, умел идти на риск, любил хорошо поесть и выпить и не чуждался острых шуток. Он примет участие в забаве, сказал Трапс, и сочтет для себя честью занять осиротевшее место подсудимого.
— Браво, — прокаркал прокурор и захлопал в ладоши, — браво, это по-мужски, это называется смелостью.
Текстильный вояжер с любопытством осведомился, какое же преступление будет ему вменено.
— Несущественный пункт, — ответил прокурор, протирая монокль, — преступление всегда найдется.
Все засмеялись.
Господин Куммер поднялся.
— Идемте, господин Трапс, — сказал он почти отеческим тоном, — выпьем портвейна, которым здесь угощают. Это выдержанное вино, вы должны его отведать.
Он повел Трапса в столовую. Большой круглый стол был накрыт как нельзя более празднично. Старинные стулья с высокими спинками, потемневшие картины на стенах, все старомодное, солидное; с веранды доносилась болтовня старцев, смеркалось, через открытые окна было слышно щебетание птиц, на отдельном столике и на камине стояли бутылки с вином, бордо было в плетенках.
Защитник чуть дрожащей рукой бережно налил в две маленькие рюмки до краев старого портвейна и, пожелав здоровья текстильному вояжеру, чокнулся, еле коснувшись его рюмки, наполненной драгоценной влагой.
Трапс пригубил.
— Бесподобно, — похвалил он.
— Я ваш защитник, господин Трапс, — сказал ему господин Куммер, — так пусть же нас отныне связывают дружеские узы!
— За дружеские узы!
— Лучше всего, — заметил адвокат, приблизив к Трапсу свое багровое лицо с носом пьяницы и пенсне так, что его гигантское брюхо коснулось подзащитного (неприятная мягкая масса), — лучше всего, если вы, господин Трапс, сразу же сознаетесь мне в своем преступлении. Тогда я мог бы гарантировать, что на суде все обойдется. Хотя положение не угрожающее, недооценивать его не стоит. Длинного худого прокурора, который до сих пор еще полон энергии, следует опасаться, да и хозяин дома — увы! — склонен к строгости и, пожалуй, к педантизму, что в старости — а ему восемьдесят семь — еще более усилилось. Тем не менее мне, защитнику, удалось выиграть большинство дел или по крайней мере смягчить не один приговор. Только однажды, в случае убийства с ограблением, действительно ничего нельзя было спасти. Правда, судя по моему впечатлению о господине Трапсе, убийство с ограблением, пожалуй, исключается или?..
— Увы, я не совершал никакого преступления, — засмеялся текстильный вояжер. — Ваше здоровье!
— Доверьтесь мне, — внушал ему защитник. — Вам нечего меня стесняться. Я знаю жизнь и ничему больше не удивляюсь. Предо мной проходили судьбы, господин Трапс, разверзались бездны, можете мне поверить.
— Сожалею, — усмехнулся текстильный вояжер, — в самом деле получается, что я обвиняемый без преступления. Впрочем, это задача прокурора — найти таковое, он сам это сказал. Придется поймать его на слове. Игра есть игра. Интересно, что из этого получится. Будет настоящий допрос?
— Надо полагать!
— Это меня радует.
На лице защитника отразилось сомнение.
— Вы чувствуете себя невиновным, господин Трапс?
Текстильный вояжер рассмеялся.
— Абсолютно.
Разговор показался ему необычайно забавным.
Защитник протер пенсне.
— Запомните, молодой человек: невиновность невиновностью, главное же в нашем деле — тактика! Надеяться доказать нашему суду свою невиновность — это, мягко выражаясь, головоломная затея. Разумнее всего сразу оговорить себя в каком-нибудь правонарушении, например, для коммерсантов наиболее подходящее — подлог, мошенничество. А при допросе всегда есть шанс выяснить, что обвиняемый преувеличивает, что, собственно, имеет место не подлог, а, скажем, безобидное приукрашивание фактов ради рекламы, как это часто практикуется в торговле. Путь от вины к невиновности хотя и труден, однако не невозможен, а вот стремление сохранить невиновность сплошь и рядом оказывается безнадежным и результат — весьма плачевным. Вы проиграете, когда могли бы выиграть, и, кроме того, вы уже не выбираете вину сами, а вам ее навязывают.
Текстильный вояжер, смеясь, пожал плечами: он сожалеет, что ничем не может услужить, он, право же, не знает за собой ни одного проступка, который привел бы его к конфликту с законом, в этом он совершенно уверен.
Защитник снова нацепил пенсне. С Трапсом, видимо, придется повозиться, подумал он, орешек твердый.
— Главное, — завершил он беседу, — обдумывайте каждое слово, не болтайте просто так, иначе вы и глазом моргнуть не успеете, как вас приговорят к длительному заключению, а там уж ничем не поможешь.
В столовую вошли остальные. Расселись за круглым столом. Приятная компания, шутки. Сначала подали различные закуски, холодное мясо, крутые яйца, устрицы, черепаховый суп. Настроение было отменным, все с удовольствием орудовали вилками и ложками и без стеснения хлебали и чавкали.
— Ну-с, обвиняемый, чем вы можете нас порадовать, надеюсь, хорошеньким убийством? — проскрипел прокурор.
Защитник выразил протест.
— Мой клиент — обвиняемый без преступления, редчайший случай в судопроизводстве, так сказать. Утверждает, что невиновен.
— Невиновен? — удивился прокурор.
Шрамы на его лице побагровели, монокль чуть не попал в тарелку, повис, болтаясь на черном шнурке. Коротышка судья, крошивший в суп ломтик хлеба, замер, укоризненно посмотрел на Трапса и покачал головой, а лысый, молчаливый Пиле с белой гвоздикой в петлице удивленно уставился на него. Наступила зловещая тишина. Прекратился стук вилок и ложек, смолкло сопение и чавканье. Только Симона в углу комнаты чуть слышно хихикала.
— Придется расследовать, — опомнился наконец прокурор. — Чего быть не может, того не бывает.
— Валяйте, — рассмеялся Трапс. — Я в вашем распоряжении!
К рыбе подали вино, легкий игристый «невшатель».
— Ну что ж, — сказал прокурор, занявшись форелью, — посмотрим. Женаты?
— Одиннадцать лет.
— Детишки?
— Четверо.
— Профессия?
— По текстильной части.
— Иными словами, коммивояжер, дорогой господин Трапс?
— Генеральный представитель.
— Хорошо. Попали в аварию?
— Случайно. В этом году впервые.
— Так. А в прошлом году?
— Ну, тогда я ездил еще на старой машине, «ситроен» образца 1939-го, — пояснил Трапс, — а теперь у меня «студебекер», красный лак, спецмодель.
— «Студебекер», и совсем недавно? Так-так, интересно. До этого, наверно, не были генеральным представителем?
— Был обыкновенным, простым вояжером.
— Конъюнктура, — понимающе кивнул прокурор.
Рядом с Трапсом сидел защитник.
— Будьте внимательны, — шепнул он.
Текстильный вояжер, точнее, генеральный представитель, как мы теперь по праву можем называть его, беспечно приступил к бифштексу: выжал на него ломтик лимона, добавил чуть коньяку, перцу (собственный рецепт), посолил. Так отменно он еще никогда не закусывал, сияя, признался Трапс, до сих пор он полагал, что самое приятное из развлечений, существующих для людей его круга, — это вечера в клубе «Шлараффия»[35], но сегодняшнее общество доставляет ему неизмеримо большее удовольствие.
— Ага, — констатировал прокурор, — значит, вы член «Шлараффии». Какое же там у вас прозвище?
— Маркиз де Казанова[36].
— Отлично, — каркнул, обрадовавшись, прокурор, словно добился важного показания, и вставил монокль. — Нам всем приятно это слышать. Можно ли, судя по этому прозвищу, сделать вывод о вашей личной жизни, милейший?
— Берегитесь, — прошипел защитник.
— Только условно, дорогой господин прокурор, — ответил Трапс. — Если у меня что-нибудь и приключается с женщинами на стороне, то лишь случайно и без честолюбивых претензий.
— Не будет ли господин Трапс столь любезен вкратце рассказать собравшимся о своей жизни? — спросил судья, доливая «невшатель». — Поскольку решено устроить суд над дорогим гостем и грешником и, разумеется, упечь его на долгие годы, надлежало бы узнать о нем поподробнее, что-нибудь личное, интимное, ну, скажем, любовные похождения, только по возможности с перцем и солью.
— Рассказывайте, рассказывайте! — хихикая, требовали старцы у генерального представителя. Однажды они судили сутенера, он рассказал увлекательнейшие и пикантнейшие истории, связанные с его ремеслом, и, между прочим, отделался всего-навсего четырьмя годами тюрьмы.
— Что вы, — засмеялся Трапс, — мне, право, нечего рассказывать. Я веду обычную жизнь, господа, признаюсь откровенно, самую что ни есть заурядную… Выпьем!
— Выпьем!
Генеральный представитель поднял бокал, растроганно посмотрел на четырех стариков, впившихся в него неподвижными совиными глазами, словно он был особенно лакомым куском. Все чокнулись.
Солнце наконец зашло, и птичий гвалт стих; ландшафт был все еще виден как днем — сады и красные крыши среди деревьев, лесистые холмы, а вдали — предгорья и глетчеры; кругом царила умиротворенность, деревенская тишь, праздничное ощущение счастья, Божьей благодати и всемирной гармонии.
Трудное детство было у него, рассказывал Трапс, меж тем как Симона меняла тарелки и водружала на стол огромное дымящееся блюдо — шампиньоны в сметане с вином. Его отец был фабричный рабочий, пролетарий, поддавшийся идеям Маркса и Энгельса, озлобленный, мрачный человек, который никогда не заботился о своем единственном ребенке; мать-прачка рано состарилась.
— Учиться мне пришлось только в восьмилетке, только в ней, — горестно поведал он со слезами на глазах, жалея себя за невезучее прошлое, и поднял бокал, в который было уже налито «резерв де марешо».
— Оригинально, — молвил прокурор, — оригинально. Только восьмилетка. Значит, пробились собственными силами, уважаемый?
— Вот именно, — воодушевился Трапс, подогретый «марешо», окрыленный дружеским вниманием и очарованный зрелищем мира Божьего за окнами. — Вот именно. Еще десять лет назад я торговал вразнос и таскался с чемоданом из дома в дом. Тяжкая работа, ходишь как бродяга, ночуешь где-нибудь в копне сена или в сомнительной ночлежке. С самых низов пришлось начинать, с самых низов. А теперь… если б вы видели мой текущий счет в банке, господа! Не хочу хвалиться, но есть ли у кого-нибудь из вас «студебекер»?
— Будьте осторожнее, — шепнул обеспокоенно защитник.
— Как же это вам удалось? — поинтересовался прокурор.
— Будьте внимательнее и меньше болтайте, — напомнил защитник.
— Я сейчас единственный полномочный представитель фирмы «Гефестон» в Европе, — заявил Трапс и обвел всех торжествующим взглядом. — Только Испания и Балканы в других руках.
— Гефест — греческий бог, — хихикнул коротышка судья, накладывая себе на тарелку шампиньонов, — великий мастер кузнечного дела, который поймал богиню любви и ее любовника, бога войны Ареса, в столь искусно сплетенную невидимую сеть, что остальные боги не могли нарадоваться этому улову, но «Гефестон», чьим единственным и полномочным представителем является уважаемый господин Трапс, звучит для меня завуалированно.
— И все же вы близки к разгадке, уважаемый хозяин и судья, — засмеялся Трапс. — Вы сами сказали «завуалированно», а неизвестный мне греческий бог, имя которого почти одинаково с названием моего товара, сплел тонкую, как вуаль, прозрачную сеть. Если уже существуют нейлон, перлон и мирлон — искусственные ткани, о которых высокий суд, несомненно, слыхал, — почему бы не существовать и гефестону? Эта ткань — королева синтетики, нервущаяся, прозрачная (между прочим, для ревматиков сущая благодать) — применяется как в технике, так и в модной одежде, как для военных целей, так и в мирной жизни. Идеальный материал для парашютов — и в то же время пикантнейшая ткань для ночных сорочек прекрасных дам, знаю по собственному опыту.
— Слушайте, слушайте, — заквакали старцы. — Собственный опыт — это интересно!
Симона опять сменила тарелки и принесла жаркое из телячьей вырезки.
— Праздничный пир! — восхитился генеральный представитель.
— Рад, что вы способны оценить это, и по достоинству! — сказал прокурор. — Нам подается лучший товар и в достаточном количестве, меню как в прошлом веке, когда люди знали толк в еде. Хвала Симоне! Хвала хозяину дома! Ведь он сам все закупает, старый гном и gourmet[37]; а что касается вин, то о них заботится Пиле, трактирщик из соседней деревушки. Хвала ему! Но вернемся, однако, к вашему делу, мой усердный вояжер! Продолжим расследование. Вашу биографию мы теперь знаем, было приятно получить о вас некоторое представление, в целом совершенно ясна и ваша деятельность. Остается выяснить лишь один незначительный пунктик: как вы сумели добиться такого доходного места? Одним прилежанием и железной энергией?
— Будьте начеку! — прошипел защитник. — Здесь подвох.
— Это было не так легко, — ответил Трапс, глядя с жадностью, как хозяин разрезает жаркое, — сначала пришлось одолеть Гигакса, а это была трудная задача.
— Ага, еще и господин Гигакс! Кто же он такой?
— Мой бывший начальник.
— Вы хотите сказать, что его нужно было вытеснить?
— Его нужно было убрать, как принято выражаться среди моих коллег, — ответил Трапс и подлил себе соусу. — Господа, вы простите меня за откровенность. Деловая жизнь жестока: каков привет, таков и ответ, а хочешь быть джентльменом — пожалуйста, только тебе несдобровать. Я загребаю уйму денег, но я и работаю как лошадь, каждый день мотаю на спидометр по шестьсот километров. Конечно, я вел себя не совсем по-джентльменски, когда пришлось взять за горло старого Гигакса, мне же надо было продвигаться. Что делать — бизнес есть бизнес.
Прокурор оторвался от жаркого и с любопытством поглядел на генерального представителя.
— «Убрать», «взять за горло», — все это весьма свирепые выражения, дорогой Трапс.
Генеральный представитель засмеялся.
— Их, разумеется, следует понимать в переносном смысле.
— Надеюсь, господин Гигакс в добром здравии, почтеннейший?
— Умер в прошлом году.
— Вы с ума сошли! — прошипел защитник. — Что вы делаете?
— В прошлом году, — сочувственно произнес прокурор. — Жаль, очень жаль. Сколько ж ему было лет?
— Пятьдесят два.
— Совсем молодой. И отчего он скончался?
— От какой-то болезни.
— После того как вы получили его место?
— Незадолго до этого.
— Отлично, у меня пока вопросов больше нет, — сказал прокурор. — Повезло. Нам повезло. Нашелся покойник, а это в конце концов главное.
Все засмеялись. Даже лысый Пиле, который, сосредоточенно склонившись над тарелкой, педантично и невозмутимо поглощал огромные порции, поднял голову.
— Вот это да, — сказал он, погладил черные усы и снова принялся за еду.
Прокурор торжественно поднял бокал.
— Господа, — сказал он, — за эту находку предлагаю распить «пишонлонгвилль» 1933 года. Хорошая игра стоит доброго бордо!
Все чокнулись и выпили.
— Черт возьми, господа! — поразился генеральный представитель, осушив одним глотком «пишон» и протягивая пустой бокал судье. — Какой букет! Грандиозно!
Стемнело, лица собравшихся были едва различимы. На небе появились первые звезды. Экономка зажгла свечи в трех массивных канделябрах; на стене появилась тень от сидящей группы, похожая на чашечку какого-то фантастического цветка. Дружеская, интимная обстановка, взаимная симпатия, непринужденность.
— Как в сказке, — дивился Трапс.
Защитник вытер салфеткой лоб.
— Сказка — это вы, дорогой Трапс, — сказал он. — Ни разу в жизни мне еще не встречался обвиняемый, который с таким благодушием допускал бы столь неосторожные высказывания.
Трапс засмеялся.
— Не беспокойтесь, дорогой сосед! Вот когда начнется допрос, тогда уж я буду начеку.
Снова, как уже однажды, воцарилась мертвая тишина. Ни чмоканья, ни чавканья.
— Несчастный! — простонал защитник. — Что значит «когда начнется допрос»?
— А разве он уже начался? — беспечно спросил генеральный представитель, накладывая себе на тарелку салат.
Старцы ухмыльнулись, глаза их лукаво заблестели, и они заблеяли от удовольствия.
Молчавший до сих пор Лысый хихикнул:
— А он и не заметил, а он и не заметил!
Трапс опешил, сбитый с толку озорной веселостью стариков, ему стало не по себе, но это ощущение быстро исчезло, и он рассмеялся.
— Прошу прощения, господа, — сказал он. — Я представлял себе эту игру более торжественной, солидной, официальной, как в зале суда.
— Милейший господин Трапс, — обратился к нему судья, — ваше смущение нам дороже любой награды. Я вижу, наш метод судопроизводства кажется вам странным и слишком веселым. Но, дорогой мой, все мы четверо давно вышли в отставку и избавили себя от ненужной писанины, бесконечных протоколов, статей, юридических формул и тому подобного хлама, которым завалены судебные залы. Мы судим без оглядки на ветхие своды законов и жалкие параграфы.
— Смело, — промолвил Трапс, ворочая языком уже с некоторым усилием, — смело. Господа, мне это импонирует. Без параграфов — это дерзкая идея.
Защитник церемонно поднялся. Ему хочется подышать воздухом, объявил он, прежде чем подадут цыплят и прочее, небольшая прогулочка для здоровья и сигарета сейчас весьма кстати, он приглашает господина Трапса разделить с ним компанию.
Спустившись с веранды, они окунулись в наступившую наконец ночь, теплую и величественную. Золотые полосы света из окон столовой протянулись через газоны до розовых кустов. Небо было звездное, безлунное, темной массой стояли деревья, дорожки между ними едва угадывались. Трапс и защитник пошли рука об руку по одной из них. Отяжелев от вина, оба то и дело спотыкались и пошатывались, но старались держаться прямо и курили сигареты «Паризьен», светившиеся в темноте красными точками.
— Боже мой, — вздохнул Трапс, — ну и потеха была там. — Он показал на освещенные окна, в которых только что мелькнул широкий силуэт экономки. — До чего же занятно.
— Дорогой друг, — сказал защитник и, покачнувшись, оперся на Трапса, — прежде чем мы приступим к цыплятам, я хотел бы, с вашего позволения, поговорить с вами и надеюсь, вы отнесетесь к моим словам с должным вниманием. Вы мне симпатичны, молодой человек, я питаю к вам нежность и хочу по-отечески предупредить вас: если так пойдет и дальше, мы начисто проиграем процесс.
— Это плохо, — согласился генеральный представитель и осторожно повел защитника по дорожке вокруг массивного черного полушария кустарника.
Они вышли к пруду и, нащупав скамейку, уселись. В воде отражались звезды, тянуло прохладой. Из деревни доносились звуки гармоники и пение, затем послышался альпийский рожок — союз скотоводов отмечал свой праздник.
— Вы должны взять себя в руки, — внушал защитник, — противник захватил важные укрепления; мертвый Гигакс, который выплыл — и совершенно напрасно — благодаря вашей безудержной болтовне, является серьезной угрозой, все это крайне неприятно, неопытный адвокат уже сложил бы оружие, но при настойчивости, при использовании всех шансов и прежде всего при величайшей осторожности и дисциплине с вашей стороны я смогу еще спасти главное.
Трапс засмеялся. Это очень забавная игра, сказал он, на ближайшем заседании «Шлараффии» он непременно предложит ввести ее.
— Не правда ли? — обрадовался защитник. — Просто оживаешь. Знаете, милый Трапс, после того как я вышел в отставку и оказался вдруг без привычного дела, без всяких занятий и в этой деревушке, где мне предстояло наслаждаться старостью, я совсем зачах. Да и что тут привлекательного? Разве что не чувствуешь фона, вот и все. Здоровый климат? Без духовной-то пищи? Смешно. Прокурор был при смерти, у нашего хозяина подозревали рак желудка, Пиле страдал диабетом, меня мучила гипертония. Таков был итог. Собачья жизнь. Иногда соберемся вместе и с тоской вспоминаем свои профессии и былые успехи — это была единственная отрада. И вот однажды прокурор придумал эту игру. Судья предоставил дом, я свою чековую книжку… что ж, я холостяк, а когда работаешь десятки лет адвокатом высших слоев общества, то отложишь про черный день приличную сумму. Да, мой милый, вы не поверите, каким щедрым бывает оправданный разбойник из финансовых тузов, щедрость на грани расточительства… И эта игра стала нашим целебным источником. Гормоны, желудки, давление снова пришли в норму, скука исчезла, появилась энергия, моложавость, гибкость, аппетит. Вот полюбуйтесь-ка. — И он, несмотря на свой живот, проделал несколько гимнастических упражнений, что Трапс смутно разглядел в темноте. — Обычно мы играем с гостями судьи, которые и бывают нашими обвиняемыми, — продолжал защитник, усевшись. — Тут и коммивояжеры, и туристы, а месяца два назад мы посмели приговорить к двадцати годам тюрьмы даже одного немецкого генерала, он был здесь проездом с супругой. Только мое искусство спасло его от виселицы.
— Потрясающе, — дивился Трапс, — у вас налаженное производство! Только вот с виселицей неладно, здесь вы малость перехватили, уважаемый господин адвокат. Смертная казнь отменена.
— В государственном правосудии, — уточнил защитник. — Но у нас частное судопроизводство, и мы ввели ее снова: как раз возможность смертной казни и придает нашей игре увлекательность и оригинальность.
— Палач у вас наверняка тоже есть, а? — засмеялся Трапс.
— Конечно, есть, — с гордостью подтвердил защитник. — Пиле.
— Пиле?
— Что, удивлены?
Трапс несколько раз глотнул.
— Но ведь он… поставщик вин, которыми нас здесь угощают…
— Трактирщиком он был всю жизнь, — добродушно усмехнулся защитник. — А государственная деятельность — это лишь его побочное занятие. Чуть ли не почетная должность. Считался одним из опытнейших мастеров своего дела в соседней стране, вот уже двадцать лет как на пенсии, но не забыл старого ремесла.
По улице проехала машина, и фары осветили собеседников. Трапс на мгновение увидел табачный дым, плывущий в воздухе, необъятную фигуру защитника в замызганном сюртуке, его жирное, довольное, добродушное лицо. Трапса охватила дрожь, лоб покрылся холодным потом.
— Пиле…
— Что с вами, дорогой Трапс? — удивился защитник. — Я чувствую, вы дрожите. Вам нездоровится?
Мысленно Трапс видел перед собой Лысого, тупо пережевывающего пищу (отталкивающее зрелище). Сидеть с такой личностью за одним столом — нет уж, увольте! Но, с другой стороны, чем он виноват — профессия! Нежная летняя ночь и еще более нежное вино пробуждали в душе Трапса гуманность, терпимость и непредубежденность; в конце концов, он был человек, много повидавший и знающий жизнь, не ханжа и не мошенник, нет, он крупный текстильный специалист. Трапсу даже показалось, что игра без палача была бы менее веселой и забавной, и он уже предвкушал, как распишет в «Шлараффии» здешнее приключение, а палача можно будет наверняка пригласить туда за небольшой гонорар плюс накладные расходы. Трапс развеселился:
— Ваша взяла, согласен! Сначала я трусил, а теперь вошел в азарт!
— Доверие за доверие, — сказал защитник, когда они рука об руку двинулись к дому, жмурясь от света, бившего в глаза из окон. — Как вы прикончили Гигакса?
— Прикончил? Я?
— Ну да, он же мертв.
— Я его не убивал.
Защитник остановился.
— Мой дорогой юный друг, — сказал он участливо, — я понимаю ваши опасения. Из всех преступлений неприятнее всего сознаваться в убийстве. Обвиняемый сгорает со стыда, отрицает содеянное, хочет забыть его, вытеснить из памяти, с предубеждением копается в своем прошлом, отягощает себя преувеличенным комплексом вины и не доверяет никому, даже человеку, который относится к нему как отец, — своему защитнику. Это в корне неправильно, ибо настоящий защитник любит убийство, ликует, когда ему поручают такое дело. Ну, смелее, дорогой Трапс, говорите! Я лишь тогда чувствую себя превосходно, когда вижу перед собой настоящую задачу, словно альпинист — трудный «четырехтысячник». (Смею утверждать это как старый скалолаз.) Вот тут-то мозг начинает соображать и придумывать, крутятся колесики, нажимаются пружинки, мысли скачут с такой быстротой, что душа радуется. Не доверяясь мне, вы совершаете огромную, я бы даже сказал — решающую ошибку. Ну-ка, сознавайтесь, старина!
Но ему не в чем сознаваться, заверял генеральный представитель.
Защитник удивился. Ярко освещенный светом из окна, за которым все задорнее звучал смех и звон бокалов, он вытаращил глаза на Трапса.
— Ай-яй-яй, — пробурчал он неодобрительно, — ну что это опять? Вы упорно придерживаетесь своей ошибочной тактики и все еще притворяетесь невиновным? Неужели до вас так ничего и не дошло? Надо сознаваться, хотите вы или нет. А сознаваться всегда есть в чем, давно бы пора вам это смекнуть! Давайте-ка, мой милый, без церемоний и оттяжек, выкладывайте все начистоту. Как вы прикончили Гигакса? В состоянии аффекта, да? Тогда нам надо приготовиться к обвинению в убийстве. Держу пари, что прокурор целит именно на это. Предчувствую. Уж я-то знаю этого молодчика.
Трапс покачал головой.
— Мой дорогой господин защитник, — сказал он, — особая привлекательность вашей игры заключается в том — если позволите высказать скромное мнение новичка, — что одному из ее участников становится страшно и жутко. Игра грозит превратиться в действительность. Невольно спрашиваешь себя, преступник ты или нет, может быть, ты все-таки убил старика Гигакса? Когда я вас слушал, мне чуть не стало дурно. И потому доверие за доверие: я не виновен в смерти старого гангстера. В самом деле.
Они вошли в столовую, где уже подали цыплят и в бокалах искрилось «шато пави» 1921 года. Трапс подошел к серьезному, молчаливому Лысому и с чувством пожал ему руку.
Со слов защитника, сказал Трапс, он знает о его бывшей профессии и хочет подчеркнуть, что нет ничего приятнее, чем сидеть за одним столом с таким славным малым. У него, Трапса, нет в этом отношении никаких предрассудков, напротив.
Пиле, поглаживая крашеные усы, пробормотал, покраснев и чуть смутившись, на ужасном диалекте:
— Рад, очень рад, постараюсь.
После этого трогательного братания цыплята показались еще вкуснее. Они были приготовлены по особому, держащемуся в секрете рецепту Симоны, как объявил судья. Все чавкали, ели руками, хвалили Симонин шедевр, пили за здоровье всех и каждого, обсасывали перемазанные соусом пальцы, и среди всеобщего благодушия процесс двинулся своим чередом.
Прокурор, повязав салфетку, с чавканьем поедал нежное мясо. Он надеялся, что к этому блюду ему подадут признание обвиняемого.
— Милейший и почтеннейший обвиняемый, — пустил он пробный шар, — Гигакса вы, конечно, отравили.
— Нет, — засмеялся Трапс, — ничего подобного.
— Ну, допустим, застрелили.
— Тоже нет.
— Подстроили автомобильную катастрофу?
Все расхохотались, а защитник прошипел:
— Внимание, ловушка!
— Мимо, господин прокурор, — задорно воскликнул Трапс, — все пули мимо! Гигакс умер от инфаркта, причем не первого. Первый случился несколько лет назад, ему пришлось соблюдать режим, и, хотя он внешне пытался казаться здоровым, при любом волнении все могло повториться, я это точно знаю.
— Гм! И от кого же?
— От его супруги, господин прокурор.
— От его супруги?
— Ради Бога, осторожнее, — шепнул защитник. «Шато пави» превзошло все ожидания. Трапс осушал уже четвертый бокал, и Симона поставила перед ним отдельную бутылку.
Это удивит прокурора, сказал генеральный представитель и чокнулся со старым господином, но пусть высокий суд не думает, что он что-то скрывает, нет, он скажет правду, и только правду, даже если защитник прошипит ему все уши своим «осторожнее». С госпожой Гигакс у него кое-что было, что ж, старый гангстер часто бывал в отъезде и варварски пренебрегал своей стройной и аппетитной женушкой, и вот ему, Трапсу, приходилось подчас выступать в роли утешителя, на канапе в гостиной, а после и в супружеской постели Гигаксов, в общем, все как полагается и как это бывает в жизни.
Старики, выслушав Трапса, оцепенели, но потом все разом вдруг завизжали от удовольствия, а молчавший Лысый воскликнул, подбросив вверх свою белую гвоздику:
— Сознался, сознался!
Только защитник в отчаянии барабанил себя кулаками по голове.
— Какое безрассудство! — воскликнул он. Его клиент сошел с ума, и вся эта история не заслуживает доверия, в ответ на что Трапс под одобрительные возгласы остальных собеседников с возмущением запротестовал. Это положило начало прениям сторон, долгой дискуссии между защитником и прокурором, словесной перепалке, полушутливой, полусерьезной, смысла которой Трапс не понял. Разговор вертелся вокруг слова dolus[38], однако Трапс не знал, что оно означает. Дискуссия становилась все более бурной, громкой и непонятной, вмешался судья, но вскоре сам разгорячился, и если поначалу Трапс старался вслушиваться, пытаясь уловить суть спора, то потом махнул рукой (dolus так dolus) и с облегчением вздохнул, когда экономка подала сыры: камамбер, бри, эмментальский, грюйерский, тет-де-муан, вашрэн, лимбургский, горгонцола, — чокнулся с Лысым, единственным, который молчал и, казалось, тоже ничего не понимал, и принялся за еду, как вдруг прокурор обратился к нему.
— Господин Трапс, — спросил он (всклокоченная львиная грива, побагровевшее лицо, монокль в левой руке), — вы все еще близки с госпожой Гигакс?
Все уставились на Трапса, безмятежно жевавшего кусок белого хлеба с камамбером. Дожевав, он отпил глоток «шато пави».
Где-то тикали часы, из деревни опять донеслись звуки гармоники, мужские голоса пели песенку о кабачке «Швейцарская шпага».
После смерти Гигакса, заявил Трапс, у этой бабенки он больше не бывал. В конце концов, ему не хочется портить репутацию доброй вдове.
Его слова опять вызвали какую-то непонятную жутковатую веселость. Старики еще больше расшалились, прокурор воскликнул: «Dolo malo, dolo malo!», начал выкрикивать греческие и латинские стихи, цитировать Шиллера и Гете. Коротышка судья задул все свечи, кроме одной, и с ее помощью стал, громко блея и фыркая, показывать на стене самые причудливые теневые силуэты — коз, летучих мышей, чертей и леших, а Пиле в это время барабанил по столу так, что подпрыгивали бокалы, тарелки, блюдца:
— Будет смертный приговор, будет смертный приговор!
Только защитник не участвовал в общем веселье. Он пододвинул Трапсу блюдо и сказал:
— Давайте полакомимся сыром, больше пока делать нечего.
Подали «шато марго», и снова воцарилось спокойствие. Все взоры обратились на судью, который начал осторожно откупоривать запыленную бутылку (год 1914-й) каким-то чудным, старомодным штопором; судья ухитрился вытащить пробку, не вынимая бутылки из плетенки. Все затаили дыхание: пробку надо было по возможности не повредить, ведь она была единственным доказательством того, что вино действительно урожая 1914 года, ибо четырех десятилетий этикетка не пережила. Пробка вышла не целиком, остаток ее пришлось осторожно извлечь, но цифры на ней все же удалось прочитать; ее передавали из рук в руки, нюхали, изумлялись и в конце концов торжественно вручили генеральному представителю «на память о замечательном вечере», как сказал судья. Он первым дегустировал вино, почмокал, затем наполнил бокалы, после чего все стали нюхать, причмокивать и громко восторгаться, восхваляя щедрого хозяина. Блюда с сыром совершили круг по столу, и судья предложил прокурору начать обвинительную «речугу». Тот потребовал, чтобы сначала зажгли новые свечи: обстановка должна быть торжественной, необходимы сосредоточенность, внутренняя собранность. Симона принесла свечи. Все сидели в напряженном ожидании, генеральному представителю стало жутковато, его познабливало, но в то же время он воспринимал случившееся с ним как чудо и ни за что на свете не отказался бы от него. Правда, защитник, кажется, был не очень доволен.
— Что ж, Трапс, — сказал он, — послушаем обвинительную речь. Сами увидите, что вы натворили своими опрометчивыми ответами и ошибочной тактикой. Положение было аховое, а сейчас — просто катастрофическое… Ничего, смелее, я вам помогу выпутаться, только не теряйте голову. Выберетесь целым и невредимым, но нервы вам потреплют.
Пора. Все прокашлялись, чокнулись еще раз, и прокурор под ухмылки и похихикивание начал свою речь.
— Наш сегодняшний вечер, — сказал он, поднимая бокал и продолжая сидеть, — принес нам удачу. Мы напали на след убийства, задуманного со столь изощренной тонкостью, что оно, естественно, блестящим образом ускользнуло от ока государственного правосудия.
Изумленный Трапс вдруг возмутился:
— Я совершил убийство? — запротестовал он. — Ну, знаете, это заходит слишком далеко, защитник уже приставал ко мне с этим глупым наговором! — Но тут он опомнился и начал хохотать, да так, что еле успокоился. Как они здорово подшутили, теперь-то он понимает, что ему хотят «пришить» преступление, умора, ну просто умора.
Прокурор с важностью взглянул в сторону Трапса, вынул монокль, протер его и снова вставил.
— Обвиняемый, — сказал он, — сомневается в своей виновности. По-человечески понятно. Да и кто из нас знает самого себя, кто признается себе в содеянных преступлениях и злодейских умыслах? Но уже теперь, прежде чем разгорятся страсти, можно с уверенностью сказать одно: в случае, если Трапс убийца, как я утверждаю и как искренне надеюсь, нам предстоит пережить необычайно торжественные минуты. И по праву. Раскрытие убийства — всегда радостное событие, оно заставляет сильнее биться наши сердца, ставит нас перед новыми задачами, обязанностями и решениями, поэтому позвольте мне прежде всего поздравить нашего дорогого предполагаемого виновника, ибо без виновного, как известно, нельзя ни раскрыть убийства, ни свершить правосудия. Да здравствует наш друг, наш скромный Альфредо Трапс, которого прозорливый благоприятный случай привел в наш круг!
Разразилась буря восторга, все вскакивали с мест и пили за здоровье генерального представителя, который со слезами на глазах благодарил, заверяя, что это лучший вечер в его жизни.
Прокурор тоже прослезился:
— Это лучший вечер в его жизни, сказал наш уважаемый гость. Потрясающее слово, потрясающее! Вспомним то время, когда мы, на службе у государства, занимались унылым ремеслом. Обвиняемый стоял тогда перед нами не как друг, а как враг. И мы, которые прежде отталкивали его от себя, теперь можем прижать к сердцу. Приди же в мои объятия!
С этими словами он вскочил и стиснул Трапса в объятиях.
— Прокурор, мой дорогой, — лепетал генеральный представитель.
— Обвиняемый, мой милый Трапс, — всхлипывал прокурор. — Давай перейдем на «ты». Меня зовут Курт. Будь здоров, Альфредо!
— Будь здоров, Курт!
Они лобызали, прижимали, гладили друг друга, чокались бокалами, умилялись, растроганные чувством расцветающей дружбы.
— Как сразу все переменилось, — ликовал прокурор. — Если мы когда-то, слушая дело, расследуя преступление, вынося приговор, травили обвиняемого, то теперь мы мотивируем, аргументируем, дискутируем, обсуждаем и возражаем, не торопясь, доброжелательно, приветливо, учимся ценить и любить обвиняемого. Это порождает в нем ответную симпатию, возникает братское взаимопонимание. А как только оно установилось, все дальнейшее уже легко, преступление более не тяготит, приговор воспринимается с радостью. Так позвольте же мне выразить слова признательности по случаю совершенного убийства…
Трапс (по-прежнему в великолепнейшем настроении):
— Доказательства, Куртхен, доказательства!
— …и с полным на то основанием, ибо речь идет о красивом, об искусном убийстве. Наш любезнейший обвиняемый может, конечно, усмотреть в этом циничную развязность — нет ничего мне более чуждого. «Красивым» его преступление я бы назвал в двояком смысле: как в философском, так и в техническом. Дело в том, что наша тесная компания, уважаемый друг Альфредо, отказалась от предрассудка усматривать в преступлении исключительно (лишь некрасивое, ужасное и, напротив того, в правосудии — только прекрасное, хотя в этом прекрасном, возможно, больше ужасного. Нет, мы и в преступлении признаем красоту как необходимую предпосылку, без которой правосудие не может вершиться. Такова философская сторона. Теперь оценим техническую красоту содеянного. Оценим. Я думаю, что нашел подходящее слово, ведь цель моей обвинительной речи отнюдь не устрашение, что могло бы обеспокоить нашего друга, сбить его с толку, а всего лишь оценка, которая покажет, раскроет перед ним во всей красоте его преступление, поможет ему понять, что только на пьедестале познания, и только на нем, можно воздвигнуть прочный монумент Справедливости.
Восьмидесятишестилетний прокурор в изнеможении умолк. Несмотря на свои годы, он вещал громким скрипучим голосом, энергично жестикулировал, не забывая при этом поглощать вина и закуски. Испачканной салфеткой он вытер мокрый лоб и морщинистую шею. Трапс был растроган. Он лениво развалился на стуле, разморенный обильным ужином. Он был сыт, но тем не менее не желал отставать от старцев, хотя и признался себе, что за их колоссальным аппетитом и неутомимой жаждой угнаться было трудно. Трапс был неплохим едоком, однако такой прожорливости ему еще не случалось встречать. Он обалдело глазел через стол на прокурора, польщенный сердечностью его обхождения. Он слышал, как часы на церкви торжественно пробили двенадцать, а потом в ночной тишине раскатисто загремел хор скотоводов: «Наша жизнь что путь далекий…»
— Как в сказке, — изумленно повторял генеральный представитель, — как в сказке… Я совершил убийство? В самом деле? Меня удивляет только, каким образом.
Судья тем временем откупорил вторую бутылку «шато марго» 1914 года, и прокурор, снова свежий и бодрый, продолжил свою речь.
— Что же произошло? — сказал он. — Как я пришел к выводу, что наш милый друг прославил себя убийством, и не каким-нибудь обычным убийством, нет, виртуозным, совершенным без кровопролития, без таких средств, как яд, пистолет и тому подобное?..
Он откашлялся. Трапс, застыв с куском вашрэна во рту, не сводил с него глаз.
— …Как специалист, я должен безусловно исходить из положения, — развивал свою мысль прокурор, — что преступление может скрываться в каждом происшествии, а преступник — в каждой личности. Догадка о том, что в лице господина Трапса мы встретили человека, протежированного судьбой и экипированного преступлением, впервые возникла у нас, когда мы услышали, что текстильный вояжер еще год назад ездил в стареньком «ситроене», а теперь щеголяет в «студебекере». Я, разумеется, понимаю, что мы живем в период высокой конъюнктуры, и потому смутная поначалу догадка была скорее предчувствием, ожиданием какого-то радостного события, а именно раскрытия убийства. То, что наш любезный приятель занял место своего шефа, что он вытеснил его и, наконец, что шеф умер, — все эти факты еще не являлись доказательствами, они лишь оправдывали, фундировали наше предчувствие. Логически обоснованное подозрение начало складываться, когда мы узнали, от чего умер пресловутый шеф: от инфаркта миокарда. И вот тут-то настал момент сопоставить факты и, проявляя интуицию и проницательность, тактично, шаг за шагом, подкрасться к истине, в обычном распознать необычайное, в неопределенном разглядеть определенное, в тумане различить контуры. Надо было поверить в убийство именно потому, что оно казалось абсурдным, и допустить факт убийства. Рассмотрим имеющиеся данные. Набросаем портрет умершего. Мы знаем о нем мало, знаем лишь со слов нашего симпатичного гостя. Господин Гигакс был генеральным представителем фирмы «Гефестон», выпускающей синтетическую ткань, во все приятные качества каковой, упомянутые нашим милейшим Альфредо, мы охотно верим. Это был человек, смеем заключить, который шел напролом, беспощадно эксплуатировал своих подчиненных, умел обделывать свои дела, хотя часто пользовался при этом средствами более чем сомнительными.
— Точно, — воскликнул восхищенный Трапс, — вылитый портрет этого мошенника!
— Далее мы можем предположить, — продолжал прокурор, — что он любил изображать из себя этакого здоровяка, преуспевающего дельца, всегда стоящего на высоте положения, прошедшего огонь и воду. Вот почему Гигакс — здесь мы опять цитируем Альфредо — скрывал тщательнейшим образом свою тяжелую сердечную болезнь. Ведь эта болезнь, как нам представляется, приводила его чуть ли не в бешенство, она, так сказать, подрывала его личный авторитет.
— Поразительно, — изумился генеральный представитель, — прямо колдовство какое-то, готов держать пари, что Курт был знаком с покойным.
— Замолчите, — прошипел защитник.
— Следует добавить, если мы хотим завершить портрет господина Гигакса, — продолжал прокурор, — что покойный пренебрегал своей женой, которая нам представляется стройной и аппетитной дамочкой, по крайней мере приблизительно так изволил выразиться наш друг. Для Гигакса имел значение лишь успех дела, была важна видимость, фасад, и мы можем с известной вероятностью допустить, что он был убежден в верности своей жены, полагая, будто представляет собой настолько незаурядную личность и экстраординарного мужчину, что у его жены не может возникнуть и мысли о прелюбодеянии. Поэтому для него было бы жестоким ударом узнать, что жена изменила ему с нашим Казановой из «Шлараффии».
Все засмеялись, а Трапс хлопнул себя по ляжкам.
— Так оно и было! — сияя, подтвердил он догадку прокурора. — Это его доконало, когда он узнал.
— Вы спятили, — простонал защитник.
Прокурор поднялся и осчастливленно посмотрел на Трапса, который ковырял ножом кусок тет-де-муана.
— Интересно, как же узнал об этом старый греховодник? — спросил он. — Созналась аппетитная женушка?
— Для этого она была слишком труслива, господин прокурор, — ответил Трапс. — Она жутко боялась старого гангстера.
— Гигакс сам догадался?
— Для этого он был слишком высокого мнения о себе.
— Может, ты сам признался, мой дорогой донжуан?
Трапс покраснел.
— Что ты, Курт, — сказал он, — как ты мог подумать! Это один из его добропорядочных корреспондентов взял да и раскрыл старому мошеннику глаза.
— С какой стати?
— По злобе. Он всегда враждебно относился ко мне.
— Ну и люди! — удивился прокурор. — А как же этот джентльмен узнал о твоей связи?
— Я сам рассказал.
— Сам?
— Ну да, за рюмкой вина. Чего только не расскажешь по пьянке.
— Допустим, — кивнул прокурор. — Но ты ведь только что сказал, что этот корреспондент Гигакса относился к тебе враждебно. Не было ли у тебя с самого начала уверенности, что старый мошенник должен обо всем узнать?
Тут энергично вмешался защитник и даже встал. Он обливался потом, воротник его сюртука намок.
— Я хотел бы обратить внимание Трапса, — заявил он, — что на этот вопрос ему отвечать не следует.
Трапс был иного мнения.
— Почему же? — сказал он. — Вопрос абсолютно невинный. Мне ведь было безразлично, узнает Гигакс или нет. Старый гангстер поступал по отношению ко мне столь бесцеремонно, что мне вовсе незачем было церемониться с ним.
И снова в комнате на мгновение воцарилась тишина, мертвая тишина, сменившаяся озорным гвалтом, гомерическим хохотом, бурей восторга. Лысый молчун обнял Трапса и облобызал его, защитник от смеха потерял пенсне (ну как можно сердиться на такого обвиняемого!), судья и прокурор кружились в танце по комнате, гулко натыкаясь на стены, пожимали друг другу руки, залезали с ногами на стулья, били бутылки, выделывали самые нелепые фортели.
— Обвиняемый снова сознался! — гаркнул прокурор, восседая на спинке стула. — Милейший гость выше всякой похвалы, он играет свою роль превосходнейше. Дело ясно, последнее доказательство получено. — Его фигура на шатающемся стуле напоминала причудливый обветшалый памятник. — Обратимся к нашему дорогому, обожаемому Альфредо! Итак, закабаленный этим гангстером-шефом, он разъезжал на своем «ситроене». Еще год назад! Он мог бы вполне гордиться этим, наш друг, отец четырех ребятишек, сын фабричного рабочего. Во время войны он был торговцем вразнос, даже без патента, бродягой, незаконно торгующим текстильными товарами, мелким спекулянтом, кочующим из деревни в деревню то поездом, то пешком, вышагивая километр за километром проселками, через дремучие леса к отдаленным хуторам, с грязным кожаным мешком за плечами, а то и с корзинкой или полуразвалившимся чемоданом в руке. Но вот дела его пошли лучше, он пристроился к фирме, стал членом либеральной партии в отличие от своего отца-марксиста. Ну кому охота, взобравшись наконец на сук, почивать на нем, если повыше, выражаясь поэтически, виднеются плоды сочнее и краше? Правда, он неплохо зарабатывал, носился в своем «ситроене» от одной текстильной фабрики к другой, машина приличная, но наш милый Альфредо видел на дорогах и здесь и там новые роскошные модели, они мчались ему навстречу, обгоняли его. Благосостояние в стране росло, кому же хотелось отставать?
— Именно так и было, Курт, — просиял Трапс. — В точности.
Прокурор почувствовал себя в родной стихии, он был счастлив, как ребенок, заваленный подарками.
— Но задумать было легче, чем исполнить, — продолжал он, все еще сидя на спинке стула. — Шеф не давал ему продвинуться, он цепко держал его, использовал не щадя и, обнадеживая новыми перспективами, все крепче и безжалостнее опутывал его!
— Совершенно верно! — возмущенно воскликнул генеральный представитель. — Вы не представляете себе, господа, как меня зажимал старый гангстер!
— Оставалось только идти ва-банк, — сказал прокурор.
— Еще бы! — подтвердил Трапс.
Реплики обвиняемого подхлестнули прокурора, теперь он стоял на стуле во весь рост, размахивая, словно флагом, салфеткой, забрызганной вином, на жилете — салат, томатный соус, кусочки мяса.
— Наш любезный друг стал действовать сначала по деловой линии, и тоже не совсем честно, как он сам признает. Вероятно, это происходило следующим образом. Он тайно связался с поставщиками своего шефа, прозондировал их, обещал им лучшие условия, сеял смуту, вел переговоры с другими вояжерами, заключал союзы и одновременно контрсоюзы. А потом ему пришла мысль испробовать еще один путь.
— Еще один? — удивился Трапс.
Прокурор кивнул.
— Этот путь, господа, вел через канапе в гостиной Гигакса прямо в его супружескую постель.
Все засмеялись, и особенно весело Трапс.
— Да, — подтвердил он, — я действительно сыграл со старым гангстером злую шутку. Забавная была ситуация, как помню. По правде говоря, мне до сих пор стыдно в этом признаться — кому охота заглядывать самому себе в душу, идеально чистого белья ведь ни у кого не бывает, но среди таких чутких, понятливых друзей стыдиться как-то смешно, да и не нужно. Странное дело. Я чувствую, что меня понимают, и начинаю сам себя тоже понимать, словно знакомлюсь сам с собой, то есть с человеком, которого я прежде знал только случайно, как генерального представителя, имеющего «студебекер» и еще где-то там жену и детей.
— Мы с удовольствием констатируем, — молвил на это прокурор с теплотой и сердечностью в голосе, — что наш друг начинает прозревать. Да засияет пред ним ясный день откровения. Проследим за мотивами его поступков с усердием веселых археологов, и мы раскопаем сокровищницу погребенных преступлений. Он вступил в любовную связь с госпожой Гигакс. Как это началось? Увидел аппетитную бабенку, нетрудно вообразить. Вероятно, это случилось вечером, может быть, зимой, часов в шесть.
Трапс:
— В семь, Куртхен, в семь!
— Вечерний город, золотистые фонари, залитые светом витрины, кинотеатры, повсюду сверкающие рекламы — зеленые, желтые, все так привлекательно, заманчиво, сладострастно. Он скользил на своем «ситроене» по глянцевым улицам, направляясь в район вилл, где жил его шеф.
Трапс (вдохновенно):
— Да, да, в район вилл!
— Под мышкой папка, заказы, образцы тканей, надо было решить неотложный вопрос. Однако лимузина Гигакса не оказалось на обычном месте, у тротуара. Тем не менее наш приятель прошел по темной аллее к подъезду, позвонил, дверь открыла госпожа Гигакс, ее супруга сегодня не будет дома, а служанка ушла. На госпоже Гигакс вечернее платье, нет, скорее купальный халат. Она сожалеет, но, может быть, господин Трапс выпьет аперитив. Приглашение от всей души, и вот они наедине в гостиной.
Трапс изумился:
— Откуда ты все знаешь, Куртхен? Ну просто колдовство какое-то!
— Практика, — коротко пояснил прокурор. — Все романы начинаются одинаково… Это даже не было обольщением ни со стороны Трапса, ни со стороны дамы, просто удобный случай, которым он воспользовался. Она была одна, скучала, ни о чем таком особенно не думала, была рада с кем-нибудь поболтать, в гостиной тепло, уютно, а под купальным халатом с пестрыми цветами только ночная сорочка. И вот, сидя рядом с женщиной, видя ее белую шейку, глубокий вырез на груди, слушая, как она болтает, сердится на своего мужа, разочарованная (что наш друг, наверное, почувствовал), Трапс вдруг сообразил: вот где надо действовать, хотя действие, собственно, уже началось. Вскоре он узнал о Гигаксе все: его возраст, и как скверно обстоит у него со здоровьем, и что любое сильное волнение для него смертельно, узнал, как он грубо и дурно обращается со своей женой и как непоколебимо убежден в ее верности, — от женщины, которая хочет отомстить своему мужу, можно узнать все. Так он начал эту связь и продолжал ее уже с умыслом: во что бы то ни было, любыми средствами разорить шефа. И вот настал день, когда у него в руках оказалось все: компаньоны, поставщики, нежная белотелая женщина по ночам. Тогда он затянул петлю и вызвал скандал. Умышленно. Обстановка представляется нам вполне конкретно: был, наверно, предвечерний час, опять те же располагающие к задушевной беседе сумерки. Нашего друга мы находим в одном из погребков Старого города, там немного душновато, но зато все добротно, патриотично, солидно, включая цены, маленькие круглые окошки, представительный хозяин…
— В погребке ратуши, Куртхен!
— …то есть дородная хозяйка, прошу прощения, на стенах портреты покойных завсегдатаев погребка. Заглянул продавец газет, прошелся между столиками, вышел. Затем вторглась Армия спасения и спела «Впустите солнышко сюда» — несколько студентов, профессор. На столе два бокала и добрая бутылка — пришлось немного потратиться, — наконец, в углу бледный, жирный, вспотевший, с растегнутым воротничком, парализованный, как жертва, над которой занесен меч, тот самый добропорядочный корреспондент, недоумевающий, что все это значит, с чего это вдруг Трапс пригласил его, он внимательно слушает, узнает из уст Трапса о прелюбодеянии, чтобы потом, несколькими часами позже (как иначе и быть не могло и как это предусмотрел наш Альфредо), поспешить к шефу из чувства долга, дружбы, приличия и с прискорбием поведать об измене.
— Каков подлец! — воскликнул Трапс, не спускавший сияющих округленных глаз с прокурора, завороженно слушавший его, счастливый, что узнал правду, свою гордую, смелую, единственную правду.
— Так наступил роковой, точно рассчитанный миг, — продолжал прокурор, — Гигакс все узнал. Старый гангстер еще нашел в себе силы сесть за руль и поехать домой. Можно вообразить, как он взбешен, уже в машине ему делается плохо, обильный пот, боли в области сердца, дрожащие руки, конечно, свистки раздраженных полицейских (ему не до соблюдения правил уличного движения), из последних сил бредет он от гаража к дверям дома и падает без сознания, вероятно, в прихожей, на глазах у выбежавшей ему навстречу супруги, хорошенькой аппетитной бабенки. Долго это не продолжалось, врач сделал укол морфия, но уже поздно, все, конец, еще один незначительный хрип, два-три всхлипывания супруги. Трапс дома, в кругу родных снимает телефонную трубку: замешательство, внутреннее ликование (наконец-то!), подъем настроения, три месяца спустя — «студебекер».
Снова раздался смех. Добрый Трапс, которого то и дело сбивали с толку, тоже засмеялся, смущенно почесал затылок и одобрительно кивнул прокурору, отнюдь не чувствуя себя несчастным. У него было даже хорошее настроение, и он находил, что вечер удался на славу; правда, он был несколько озадачен тем, что его считали способным на убийство, и впал в задумчивость, но это состояние, однако, нравилось ему, ведь перед ним открылся мир таких высоких понятий, как Справедливость, вина, покаяние, и поверг его в изумление. Он, правда, не забыл чувства страха, которое охватило его в саду и возникало вновь при вспышках веселья за столом, однако сейчас этот страх казался ему неосновательным и смешным. Все было так мило, по-человечески. Он с нетерпением ждал развития событий.
Общество в полном составе, включая спотыкающегося защитника, шатаясь, побрело в гостиную, перегруженную фарфоровыми безделушками и вазами. Подали черный кофе. На стенах огромные гравюры: виды городов, исторические события — клятва на Рютли[39], битва при Лаупене[40], гибель швейцарской гвардии[41], отряд семи стойких[42]; оштукатуренный потолок, в углу рояль, удобные кресла, низкие, просторные, на спинках вышивки с благочестивыми сентенциями: «Счастлив тот, кто праведным путем идет», «Совесть чиста — спокойна душа». Через открытые окна виднелось, вернее, угадывалось шоссе, казавшееся в темноте сказочным, словно погруженным в пучину, с мерцающими огоньками стоп-сигналов и лучами фар изредка (было уже около двух часов ночи) проезжавших автомашин.
Ничего более завлекательного, чем речь дорогуши Куртхена, он еще в жизни не слыхал, сказал Трапс. По существу, добавить почти нечего, кое-какие мелкие поправки, конечно, можно было бы внести. Например, добропорядочный корреспондент, друг шефа, был низеньким, худощавым, ничуть не вспотевшим и с туго накрахмаленным воротничком; госпожа Гигакс принимала его не в купальном халате, а в кимоно с большим декольте, так что ее приглашение от всей души имело и фигуральный смысл — это была одна из острот генерального представителя, образчик его скромного юмора; заслуженный инфаркт у обер-гангстера случился не дома, а на одном складе, во время сильного фона, его еще успели отправить в больницу, а там — разрыв сердца и конец; но это, как он повторяет, несущественно, верно главное, то, что справедливо отметил его закадычный друг, прокурор: он действительно связался с госпожой Гигакс только для того, чтобы погубить старого мошенника, да, теперь он ясно вспоминает, как, лежа в его кровати, с его женой, он, Трапс, смотрел мимо нее на его фотографию, на это несимпатичное толстое лицо с вытаращенными глазами в роговых очках, и как его, Трапса, охватила буйная радость при мысли, что тем, чем он сейчас с таким усердием и наслаждением занимается, он, собственно, доконает своего шефа, окончательно разделается с ним.
Пока Трапс разглагольствовал, все, усевшись в мягких креслах, расшитых нравоучительными изречениями, держали горячие чашечки с кофе, помешивая в них ложечками, и смаковали из больших пузатых рюмок коньяк 1893 года марки «Роффиньяк».
Итак, осталось определить меру наказания, объявил прокурор, сидя поперек громадного вольтеровского кресла и задрав на подлокотник ноги в разных носках (серо-черный в клетку и зеленый). Дорогой Альфредо действовал не dolo indirecto, как если бы смерть последовала случайно, a dolo malo, то есть со злостным умыслом, на что указывают факты: с одной стороны, он сам спровоцировал скандал, а с другой — после смерти обер-гангстера больше не посещал его аппетитную женушку, из чего неизбежно вытекает, что супруга служила лишь орудием в осуществлении его кровавых планов, в некотором роде любовным смертоносным оружием и что, стало быть, налицо факт убийства, совершенного психологическим способом, причем так, что, кроме супружеской измены, ничего противозаконного не случилось, но это, разумеется, только видимость, иллюзия, а поскольку она развеялась после того, как дорогой обвиняемый любезнейшим образом сам сознался, то он, прокурор, завершая на этом свою речь, имеет удовольствие потребовать у высокочтимого судьи смертной казни для Альфредо Трапса в качестве награды за преступление, которое заслуживает удивления, восхищения, уважения и может по праву считаться одним из самых выдающихся преступлений века.
Раздался смех, аплодисменты, и все набросились на торт, который в эту минуту внесла Симона. Для увенчания ужина, как она сказала. За окном взошла, словно для декорации, поздняя луна, узкий серп. Мерно шелестела листва на деревьях, изредка проезжала по шоссе машина да слышались неуверенные шаги какого-нибудь запоздалого гуляки. Генеральный представитель чувствовал себя в безопасности, он сидел рядом с Пиле на мягком, располагающем к беседе канапе, украшенном изречением: «Будь чаще в кругу родных», обняв Молчуна (который лишь время от времени с присвистом выдыхал изумленное «Зз-дорово!») и прижимаясь к флегматично-элегантному палачу. С нежностью. Душевно. Щека к щеке. Отяжелев от вина и миролюбиво настроившись, Трапс наслаждался обществом, где его понимали, где он мог быть искренним, самим собой, ничего не скрывать, ибо в этом уже не было нужды, где его уважали, ценили, относились с сочувствием и любовью; он все больше и больше уверялся в том, что совершил убийство, чувствовал, что оно изменило, преобразило его жизнь, сделало ее сложнее, героичнее, драгоценнее. Он был просто в восторге от самого себя. Как ему теперь представлялось, он задумал и совершил убийство, чтобы добиться успеха, но не какого-нибудь там финансового или в служебной карьере и уж отнюдь не из желания приобрести «студебекер», нет, а чтобы стать более значительным и (вот-вот, именно это!) более глубоким человеком, как ему мнилось сейчас, на пределе его мыслительных способностей, достойным уважения и любви образованных, ученых людей, казавшихся ему сейчас (даже Пиле) древними волшебниками, о которых он когда-то вычитал в «Ридерз дайджест», познавшими не только тайны звезд, но и более того — тайны юстиции (он упивался этим словом), о коей он в своей текстильно-вояжерской жизни был наслышан лишь как о каком-то абстрактном крючкотворстве и которая теперь взошла над его ограниченным горизонтом, словно гигантское непостижимое светило, словно не до конца разгаданная идея, и это приводило его в еще больший трепет и содрогание; и вот, прихлебывая темно-золотистый коньяк, он — поначалу с глубоким удивлением, а потом все более и более возмущаясь — слушал рассуждения толстого защитника, усердно пытавшегося реконструировать его проступок в нечто заурядное, обывательское, будничное.
Он с удовольствием слушал изобретательную речь господина прокурора, сказал господин Куммер, сняв пенсне с красных, набухших мясистых бугров под глазами и включив изящную, геометрически четкую лекторскую жестикуляцию. Верно, старый гангстер мертв, подзащитный немало от него настрадался, буквально ожесточился против него, пытался его свалить — кто это оспаривает, где это не случается, — однако отождествлять смерть сердечнобольного коммерсанта с убийством — это фантазия…
— Но ведь я убил! — запротестовал огорошенный Трапс.
…В противоположность прокурору он, защитник, считает обвиняемого невиновным, даже не способным на преступление…
Трапс (уже с раздражением):
— Но ведь я виновен!
…Генеральный представитель фирмы синтетического волокна «Гефестон», продолжал защитник, весьма типичная фигура. Если он считает своего клиента не способным на преступление, то вовсе не утверждает этим, что подзащитный невинный человек, напротив, Трапс запутался во всевозможных провинностях — он пошаливает с чужими женами, жульничает, порой не без дурного умысла, но нельзя же утверждать, что его жизнь сплошь состоит из прелюбодеяний и надувательств, нет, нет, у него есть и положительные стороны и безусловные добродетели. Дорогой Альфредо старателен, настойчив, верный, надежный друг, делает все возможное, чтобы создать лучшее будущее своим детям, политически благонадежен — таков его облик, если рассматривать в общем и в целом, он лишь чуть подпорчен, тронут грибком неблагопристойности, как это бывает и должно быть у заурядных людей, но вот именно поэтому он-то и не способен на большой, цельный, вдохновенный деликт, на решительное, на явное преступление…
— Клевета, сущая клевета! — вскрикнул Трапс.
…Он не преступник, а жертва эпохи, Запада, цивилизации, которая, увы, все больше и больше утрачивает веру (теряющую свою чистоту), христианский дух, общий смысл и переходит в хаос, где человек остается без путеводной звезды; в итоге — смятение, одичание, кулачное право и отсутствие истинной нравственности. Что же произошло здесь? Этот заурядный человек попал в руки искушенного прокурора, совершенно к тому не подготовленный. Его инстинктивное хозяйничание в текстильном деле, его частную жизнь, все перипетии его бытия, слагавшегося из деловых поездок, борьбы за хлеб насущный и из более или менее безобидных развлечений, — все это подвергли просвечиванию, тщательному исследованию и селекции; не связанные между собой факты связали вместе, контрабандно нанизав на логический стержень, случайные происшествия изобразили как причины действий, которые с таким же успехом могли развернуться в ином направлении, казус перелицевали в умысел, необдуманность — в преднамерение, так что в результате допроса перед нами неизбежно возник убийца, как кролик из цилиндра фокусника…
— Неправда! — возразил Трапс.
…Если рассмотреть случай с Гигаксом трезво, объективно, не поддаваясь мистификации прокурора, то приходишь к заключению, что старый гангстер обязан своей смертью в основном самому себе, своему беспорядочному образу жизни, своей природной конституции. Что такое «менеджерская болезнь», всем хорошо известно: беспокойство, шум, суматоха, расстроенный брак и расшатанные нервы, однако собственно виновником инфаркта был сильный фон, о котором упоминал Трапс, а роль фона при сердечных заболеваниях немаловажна…
— Смешно! — снова возразил Трапс.
…Так что мы явно имеем дело не с чем иным, как с несчастным случаем. Конечно, подзащитный поступил бесцеремонно, но ведь он всего лишь подчинялся законам деловой жизни, как он сам неоднократно подчеркивал. Конечно, ему не раз хотелось убить своего шефа — чего только не подумаешь, чего только не сотворишь в мыслях, но именно в мыслях, а не на деле, фактического же правонарушения нет и не может быть установлено. Предполагать это — абсурд, но еще абсурднее то, что мой клиент внушил себе, будто совершил убийство. Вдобавок к автомобильной аварии он потерпел еще вторую аварию, душевную, и поэтому он предлагает вынести Альфредо Трапсу оправдательный приговор.
Генерального представителя все более и более раздражал этот благожелательный туман, которым окутывали его изящное преступление и в котором оно искажалось, растворялось, становилось нереальным, призрачным, функцией барометрического давления. Он почувствовал себя униженным и, как только адвокат умолк, начал вновь горячо протестовать. Поднявшись (в правой руке тарелка с куском торта, в левой — рюмка «Роффиньяка»), он с возмущением заявил, что хотел бы, прежде чем дело дойдет до приговора, еще раз категорически заявить, что согласен с речью прокурора — тут на глазах у него выступили слезы, — это было убийство, сознательное убийство, теперь ему ясно, но вот речь защитника, напротив, глубоко разочаровала его, даже привела в ужас, ведь именно у защитника он ожидал, смел надеяться встретить понимание, и потому он просит приговора, более того — наказания, не из раболепства, а из вдохновения, ибо этой ночью он впервые понял, что значит жить настоящей жизнью (здесь наш добрый и славный Трапс заговорился), ведь для этого нужны высокие идеи Справедливости, вины и искупления, как нужны химические элементы и соединения, из которых состоит его синтетическая ткань, если взять пример из текстильного дела: поняв это, он как бы вновь родился, во всяком случае (запас слов, не связанных с его профессией, у него скудный) — пусть его извинят, он не умеет выразить то, что думает, — во всяком случае, «родился вновь» кажется ему наиболее подходящим выражением того счастья, которое как ураган подхватило, приподняло и закружило его.
Наконец дошло и до приговора! Под смех, крики, радостные вопли, улюлюканье и попытки петь на тирольский манер (господин Пиле) порядком захмелевший коротышка судья огласил его с невероятными затруднениями, во-первых, потому, что влез на рояль, вернее, в рояль, так как крышку он поднял еще раньше, а во-вторых, потому, что судье никак не давалась сама речь. Он запинался, коверкал и обрубал слова, начинал фразы, с которыми не мог совладать до конца, приплетал к ним другие, забывая смысл уже произнесенных, но нить рассуждений его в общем и целом все же улавливалась. Судья исходил из вопроса: кто прав — прокурор или защитник, совершил Трапс одно из самых выдающихся преступлений века или же он невиновен. Ни с одним из этих мнений он не мог согласиться целиком и полностью. Допрос прокурора действительно, как справедливо считает защитник, оказался не по силам Трапсу, и поэтому подсудимый признался во многом, дело фактически протекало не в такой форме, но убить-то он все-таки убил, разумеется, не с дьявольским умыслом, нет, а только лишь по бездумности, присущей тому миру, в котором ему довелось жить как генеральному представителю фирмы синтетической ткани «Гефестон». Трапс убил потому, что в этом мире он считает вполне естественным прижать кого-нибудь к стенке, действовать, не считаясь ни с чем, а там будь что будет. В мире, в котором он носится на своем «студебекере», с милейшим Альфредо ничего бы не случилось и не могло бы случиться, но вот он любезно заглянул к ним, в их тихую белую виллу (тут судья наконец растрогался и дальше уже не мог говорить без умиленных всхлипов, перемежающихся мощным прочувствованным чиханием, причем его маленькая голова погружалась в широченный носовой платок, что всякий раз вызывало у присутствующих взрыв хохота), заглянул к четырем старичкам, и они посветили в глубь его мира ярким лучом правосудия; правда, у Фемиды странная внешность — он знает, знает, знает это, — Фемида ухмыляется четырьмя сморщенными физиономиями, подмигивает моноклем престарелого прокурора, отражается в пенсне толстяка защитника, хихикает и лепечет беззубым ртом пьяного судьи, вспыхивает алым румянцем на лысине отставного палача…
(Остальные, нетерпеливо прерывая его лирическое отступление:
— Приговор, приговор!)
…это правосудие — гротеск, старая карга, пенсионерка, но даже и в таком виде оно есть как раз то…
(Остальные, скандируя:
— При-го-вор, при-го-вор!)
…именем которого он приговаривает их милейшего, дражайшего Альфредо к смерти…
(Прокурор, защитник, палач и Симона:
— Йю-хо! Йю-хо! Ур-ра!
Трапс, всхлипывая от умиления:
— Спасибо, дорогой судья, спасибо!)
…хотя юридически приговор основан всего-навсего лишь на том, что осужденный сам признал себя виновным. Это, в конце концов, главное. И он рад, что вынес приговор, который беспрекословно принят осужденным (человеческому достоинству не требуется жалости), так пусть их уважаемый, дорогой гость с той же радостью встретит увенчание своего поступка, которое, как он, судья, надеется, последует при не менее приятных обстоятельствах, чем само убийство. То, что у обывателя, у заурядного человека проявляется случайно, при каком-нибудь несчастье или в силу природной неизбежности, как болезнь, закупорка кровеносного сосуда эмболом, злокачественная опухоль, здесь выступает как неизбежный нравственный итог, только здесь логически, подобно произведению искусства, завершается жизнь, только здесь человеческая трагедия становится зримой, озаряется яркой вспышкой, принимает безупречные формы, завершается…
(Возгласы:
— Хватит! Кончайте!)
…да, можно сказать со спокойной душой: только в акте объявления приговора, который превращает обвиняемого в осужденного, воплощен рыцарский обряд правосудия. Нет ничего более возвышенного, чем когда человека приговаривают к смерти! И вот это случилось. Трапс, пожалуй, не совсем законный счастливчик — ведь, в сущности, допускается лишь условная смертная казнь, однако он, судья, отказывается от условности, дабы не разочаровывать их милейшего приятеля, короче, Альфредо своей мастерской игрой заслужил, чтобы его как равного и достойного партнера приняли в их коллегию и т. д.
(Остальные:
— Шампанского!)
Пирушка достигла зенита! Пенилось шампанское, ничто не омрачало веселого, безоблачного настроения и взаимной братской симпатии, которой проникся даже защитник. Свечи догорали, некоторые уже погасли. На улице чуть забрезжило, где-то далеко всходило еще невидимое солнце, поблекли звезды, повеяло свежестью и росой. Разомлевший, умиленный Трапс почувствовал усталость и попросил, чтобы его проводили в его комнату; шатаясь, он валился в объятия то к одному, то к другому, все были пьяны, языки заплетались, в гостиной стоял гвалт, произносились бессвязные монологи, так как никто никого не слушал. От всех пахло красным вином и сыром. Генеральный представитель стоял, как ребенок в кругу дедушек и дядюшек, и его, счастливого, полусонного, гладили по головке, обнимали и целовали. Лысый молчун повел его наверх. С огромным трудом, на четвереньках они начали подъем по лестнице, но на середине марша застряли, запутавшись друг в друге, и повалились, будучи не в силах двигаться дальше. Сверху, из окна, падал серокаменный свет, сумерки смешивались с белизной стен, в дом проникали первые звуки наступающего дня, с далекого вокзальчика донеслись свистки и прочий станционный шум, смутно напомнивший Трапсу о доме, куда он мог вернуться еще вчера. Он был счастлив, он ничего больше не желал, что еще ни разу не бывало с ним в его заурядной жизни. В сознании всплывали неясные картины: лицо мальчика (наверное, его младшего, самого любимого), потом окраина деревни, куда он попал из-за аварии, светлая лента шоссе, перекинувшаяся через небольшой холм, церковь на пригорке, могучий дуб с подпорками и железными обручами, лесистые холмы, а над ними, вокруг, везде, без конца — необъятное сияющее небо. Тут Пиле обессиленно пробормотал: «Хочу спать, спать, устал, устал» — и, уже засыпая, расслышал только, что Трапс пополз дальше наверх.
Через некоторое время, когда раздался грохот упавшего стула, Лысый очнулся — на секунду, не более, — весь во власти снов и воспоминаний о чем-то страшном, кошмарном, и тут же опять забылся, не заметив путаницы ног над собой — остальные коллеги перелезали через него, поднимаясь по лестнице. Перед этим они, кряхтя и повизгивая, нацарапали на листе пергамента смертный приговор, составленный в необычайном хвалебном тоне, с остроумными оборотами, учеными фразами (латынь и древненемецкий), а затем решили отправиться к спящему генеральному представителю и положить свое творение ему на кровать в качестве сувенира о грандиозной попойке, чтобы гость, проснувшись, отдался приятным воспоминаниям. Наступило раннее утро, звонко и нетерпеливо защебетали птицы.
Итак, все трое перебрались через спящего Пиле. Держась друг за друга, они преодолевали ступеньку за ступенькой; лестничный поворот, где неизбежно образовался затор, им удалось преодолеть с нескольких попыток: разбег, бросок, отход и снова бросок. Наконец они очутились перед комнатой гостя. Судья открыл дверь, и вся торжественная делегация — прокурор так и не снял еще салфетки — застыла на пороге: в оконной нише темным неподвижным силуэтом на тусклом серебре неба, в густом запахе роз, висел Трапс, так окончательно и бесспорно, что прокурор, в монокле которого отражался стремительно наступающий день, судорожно глотнул воздух, прежде чем в смятении и скорби о потерянном друге с болью вскричал:
— Альфредо, мой добрый Альфредо! Да что же ты натворил, Господи! Ведь ты испортил нам лучший вечер!
Обещание
Das Versprechen
1
В марте этого года Общество имени Андреаса Дахиндена пригласило меня прочесть у них в Куре доклад об искусстве писать детективные романы. Я приехал поездом совсем под вечер, над городом нависли низкие тучи, сыпал снег, и все обледенело. Заседание проходило в помещении Коммерческого союза, публики было не густо, потому что одновременно в актовом зале гимназии Эмиль Штайгер[43] читал лекцию о позднем Гёте. Я и сам говорил без увлечения и, очевидно, никого не увлек — многие покинули зал до окончания доклада. Обменявшись несколькими словами с членами правления, с двумя-тремя учителями гимназии, которые явно предпочли бы позднего Гёте, а также с филантропической дамой, почетной попечительницей Восточношвейцарского союза домашней прислуги, расписавшись затем за гонорар и путевые расходы, я удалился в гостиницу «Козерог» близ вокзала, где мне отвели номер. Но здесь царила та же тоска. Кроме немецкой экономической газеты и старого номера «Вельтвохе»[44], никакого чтения под рукой. Тишина в гостинице немыслимая, о сне и думать нельзя из страха, что никогда не проснешься. Ночь бесконечная, бредовая. Снег прекратился, все замерло, фонари перестали качаться, ветер утих, на улицах никого, ни человека, ни зверя, только с вокзала что-то отдаленно прогудело разок. Я пошел в бар выпить рюмку виски. Кроме пожилой барменши, я застал там еще одного посетителя. Как только я сел, он поспешил мне представиться. Это оказался доктор X., бывший начальник цюрихской кантональной полиции, высокий, грузный мужчина, одетый по старинке, с золотой цепочкой поперек жилета, что теперь видишь не часто. Несмотря на годы, у него были еще совсем черные волосы бобриком и пушистые усы. Он сидел у стойки на высоком табурете, пил красное вино, курил сигару «Байанос» и барменшу называл по имени. Говорил он громко, размашисто жестикулировал, в равной мере подкупая и отпугивая меня своей грубоватой непринужденностью. Когда время подошло к трем и за первой рюмкой «Джонни Уокера» последовали еще четыре, мой новый знакомый предложил доставить меня в Цюрих в своем «опель-капитане». Я был очень поверхностно знаком с окрестностями Кура и вообще с этой частью Швейцарии, а потому охотно принял приглашение. Доктор X. приехал в Граубюнден в качестве члена какой-то федеральной комиссии и, задержавшись из-за непогоды, пришел послушать мой доклад, но не стал о нем распространяться и только заметил вскользь:
— Вы довольно неопытный оратор.
На следующее утро мы тронулись в путь. Чтобы хоть немножко поспать, я принял на рассвете две таблетки медомина и теперь сидел в полном оцепенении. Уже было позднее утро, но все еще не совсем рассвело, кое-где металлически поблескивал кусочек неба. Тучи расходились не спеша, тяжеловесные, неповоротливые, еще несущие груз снега; казалось, зиме не хочется расставаться с этой частью страны. Город окружен кольцом гор, в которых, однако, нет ни тени величия, они скорее похожи на кучи выбранной земли, как будто здесь рыли гигантскую могилу. Сам город весь каменный, серый, с большими административными зданиями. Даже не верилось, что в здешних местах растет виноград. Мы попытались проникнуть в старые кварталы, но громоздкая машина заблудилась в тесных тупиках и в переулках с односторонним движением; из беспорядочного нагромождения домов пришлось выбираться задним ходом, да еще по обледенелой мостовой. Я ничего толком не разглядел в этой старинной епископской резиденции, и мы были счастливы, когда город остался позади. Наш отъезд был похож на бегство. Я клевал носом, усталый, точно налитый свинцом. Возникая из-за низко нависших туч, как призрачное видение, тянулась заснеженная, оледенелая долина. Тянулась без конца. Потом мы черепашьим шагом проехали большое селение или даже городок, и тут вдруг проглянуло солнце, и все засияло таким ярким, таким ослепительным светом, что начал таять снежный покров, от земли поднялся белый туман, фантастической пеленой навис над снежными полями и опять закрыл от меня долину. Это было как в кошмарном сне, точно кто-то назло не хотел мне показать этот край, эти горы. Снова навалилась усталость, вдобавок еще противно шуршал гравий, которым была посыпана дорога; перед каким-то мостом машину занесло; потом откуда-то взялась воинская автоколонна; ветровое стекло так залепило грязью, что «дворники» не могли его протереть. Господин X. сидел рядом со мною за рулем, насупясь и сосредоточившись на дороге. Я жалел, что принял приглашение, проклинал виски и медомин. Однако мало-помалу все пришло в норму. Долина стала наконец видна, ожила. Повсюду фермы, кое-где мелкие фабрички, все чистенькое, бедноватое; на дороге уже нет ни снега, ни льда, она только блестит от сырости, но вполне безопасна, и можно развить приличную скорость. Горы расступились, отодвинулись, и вскоре мы затормозили у бензозаправочной станции.
Она поражала с первого взгляда — уж очень не похожа она была на свое опрятное швейцарское окружение. Вид у нее был самый жалкий, сырость сочилась из стен, стекала с них ручьями. Половина дома была каменная, а половина попросту сарай, дощатая стена которого, выходившая на шоссе, была заклеена рекламными плакатами; должно быть, их начали клеить очень давно, и теперь наросли целые пласты реклам: Трубочные табаки «Бурус» незаменимы, Пейте сухое «Канадское». Мятные таблетки «Спорт». Витамины. Молочный шоколад Линдта — и так далее. На торцовой стене гигантскими буквами было выведено: Шины Пирелли. Обе бензоколонки находились перед каменной половиной дома на неровной, кое-как вымощенной площадке. Перед нами была картина полного запустения, несмотря на солнце, светившее сейчас ослепительно, даже, можно сказать, яростно.
— Выйдем, — предложил бывший начальник полиции.
И я повиновался, не понимая, зачем ему это нужно, и только радуясь возможности глотнуть свежего воздуха.
Перед открытой дверью на каменной скамье сидел небритый, неопрятный старик, на нем были грязная, заношенная светлая куртка и темные просаленные брюки от смокинга. На ногах — старые шлепанцы. Он смотрел в пространство тупым, бессмысленным взглядом, и я уже издали учуял, как от него разит спиртным. Вокруг скамьи все было усыпано окурками, плававшими в лужах талого снега.
— Добрый день! — поздоровался господин X., как-то вдруг смутившись. — Заправьте, пожалуйста. Высокооктановым. Да, и протрите стекла. — Затем он обратился ко мне: — Войдем внутрь.
Только тут я заметил над единственным в поле моего зрения окошком красную трактирную табличку, а над дверью вывеску: Кафе «Розан». Мы ступили в грязный коридор. Воняло пивом и водкой. Господин X. пошел вперед и открыл дверь — он, по-видимому, не раз бывал здесь. Помещение было убогое и темное; несколько некрашеных столов и скамей, на стенах — портреты кинозвезд, вырезанные из иллюстрированных журналов; австрийское радио передавало для Тироля торговый бюллетень, а за стойкой смутно виднелась тощая женщина в халате. Она курила сигарету и полоскала стаканы.
— Два кофе со сливками, — заказал господин X.
Женщина принялась готовить кофе, а из соседней комнаты вышла замызганная кельнерша на вид лет тридцати.
— Ей всего шестнадцать, — пробурчал господин X.
Девушка подала чашки. На ней были черная юбка и полурасстегнутая блузка, надетая на голое тело. Шея немытая. Волосы светлые, как, должно быть, в прошлом у женщины за стойкой. Голова нечесаная.
— Спасибо, Аннемари, — сказал господин X. и положил деньги на стол.
Девушка ничего не ответила и даже не поблагодарила. Мы пили молча. Кофе был омерзительный. Господин X. закурил свою «Байанос». Диктор австрийского радио сообщал теперь уровень воды, девушка, волоча ноги, удалилась в соседнюю комнату, где мы разглядели что-то беловатое — очевидно, неубранную постель.
— Едем, — решил господин X.
Выйдя из дома, он бросил взгляд на колонку и расплатился. Старик успел накачать бензин и протереть стекла.
— До скорого! — сказал господин X., и я снова заметил в нем какую-то растерянность; старик и тут не произнес ни слова. Он снова уселся на скамью и тупым, угасшим взглядом смотрел в пространство. Но когда мы подошли к нашему «опель-капитану» и оглянулись напоследок, старик сжал руки в кулаки, потряс ими и с просиявшим безграничной верой лицом отрывисто прошептал:
— Я жду, я жду, он придет, придет.
2
— Честно говоря, — начал доктор X., когда мы пытались одолеть Керенцский перевал (шоссе опять обледенело, а под нами неприветливо поблескивало холодное Валенское озеро; добавьте к этому свинцовую тяжесть от медомина, воспоминание о горьковатом привкусе виски и ощущение, будто я куда-то плыву без конца и без цели, как в дурном сне), — честно говоря, я никогда не увлекался детективными романами и сожалею, что вы занялись ими. Бесполезная трата времени. Правда, в вашем вчерашнем докладе были толковые мысли. Конечно, политические деятели показали себя преступно несостоятельными. Кому это знать, как не мне? Я сам из их числа, состою членом Национального совета, вам это, надо полагать, известно.
Мне это не было известно, его голос долетал откуда-то издалека, я был замурован в своей сонливости, но насторожен, как зверь в берлоге.
— …И люди, естественно, надеются, что хотя бы полиция способна навести в мире порядок. Поганая надежда, гаже не придумаешь. Но это что — в детективных историях протаскивают еще и не такую ересь. Я не стану придираться к тому, что ваших преступников неизбежно настигает кара. Допустим, эта прекрасная легенда необходима с точки зрения морали. Это такая же ложь во спасение государственного порядка, как и ханжеская сентенция «преступление не окупается». Чтобы понять, сколько в ней правды, достаточно взглянуть на человеческое общество, однако со всем этим я готов мириться хотя бы из чисто деловых соображений. Согласитесь сами, любая публика, любой налогоплательщик вправе требовать, чтобы им подали героя и хэппи-энд, и поставлять этот товар в равной мере обязаны мы — полиция и вы — писательская братия. Нет, чем я возмущаюсь, так это развитием сюжета в ваших романах. Здесь уже вранье не знает ни удержу, ни стыда. Вы строите сюжет на логической основе, будто это шахматная партия, — вот преступник, вот жертва, вот соучастник, вот подстрекатель. Сыщику достаточно знать правила игры и точно воспроизвести партию, как он уже уличил преступника и помог торжеству правосудия. Меня буквально бесит эта фикция. Одной логикой ключа к действительности не подберешь. Причем, признаюсь откровенно, именно мы, полиция, и вынуждены в своих действиях прибегать к науке и логике. Но непредвиденные помехи то и дело путают нам карты, и, увы, чаще всего нашу победу и наше поражение решают чистая удача и случай. А случай как раз не играет в ваших романах никакой роли, и все, что похоже на случай, сейчас же истолковывается как судьба и предопределение. Вы, писатели, всегда жертвовали истиной на потребу драматургическим канонам. Пошлите наконец к черту все каноны. Происшествие нельзя рассматривать как арифметическую задачу хотя бы потому, что в нашем распоряжении никогда не бывает всех данных, мы располагаем лишь весьма немногими, и то обычно второстепенными. Да и чересчур велика роль случайного, неожиданного, исключительного. Наши законы базируются на вероятии, на статистике, а не на причинности и действительны только в общем, но не в частном. Единичное в расчет не принимается. Наши криминалистические методы очень ограниченны, и чем больше мы их разрабатываем, тем они, в сущности, становятся ограниченнее. Но вас, писателей, это не трогает. Вам неохота возиться с той действительностью, которая постоянно ускользает от нас. Нет, вы предпочитаете построить собственный мир, а потом покорить его. Не спорю, это, конечно, совершенный мир, но он ведь — фикция, ложь. Плюньте на совершенство, перестаньте заниматься стилистическими выкрутасами, иначе вы не сдвинетесь с места и никогда не доберетесь до сути вещей. Не взглянете прямо в глаза действительности, как подобает мужчинам. Но перейдем к делу. За это утро у вас было немало поводов удивляться. В первую очередь, я полагаю, моим речам. Еще бы! Бывшему начальнику цюрихской кантональной полиции следовало бы придерживаться более умеренных взглядов. Но я уже стар и не хочу обманывать себя. Я знаю, сколько в нас всего несовершенного, как мы беспомощны, как часто заблуждаемся. Но тем более должны мы действовать, даже рискуя действовать ошибочно. И еще вас, конечно, удивило, зачем я заезжал на эту убогую заправочную станцию. Так знайте же: жалкий пьянчужка, который заправлял нам машину, в прошлом был моим самым талантливым помощником. Видит Бог, я тоже кое-что смыслил в своем ремесле, но Маттеи был поистине гениален. Ни один из ваших знаменитых сыщиков с ним не сравнится.
Скоро будет девять лет, как произошла эта история, — продолжал свой рассказ господин X., обогнав грузовик нефтяной компании «Шелл». — Маттеи был одним из моих комиссаров или, вернее, обер-лейтенантов — сотрудникам нашей кантональной полиции присваиваются воинские звания. Как и я, он по образованию юрист. Будучи уроженцем Базеля, он окончил Базельский университет. Сперва в той среде, с которой он сталкивался, так сказать, по долгу службы, а потом и у нас его прозвали «Маттеи — каюк злодеям». Он был человек одинокий, всегда тщательно, но не броско одетый, корректный, замкнутый, он не пил и не курил, но в своем деле был суров и беспощаден, пожиная ненависть и успех. Я так до конца в нем и не разобрался. Пожалуй, нравился он мне одному — я вообще люблю цельных людей, хотя и меня зачастую раздражало в нем отсутствие чувства юмора. Ума он был выдающегося, но наша на редкость отлаженная государственная машина убила в нем всякие порывы. Он был великолепным организатором и владел полицейским механизмом, как счетной линейкой. Женат он не был, никогда не говорил о своей частной жизни, да, верно, ее и не существовало. Он ничем не интересовался, кроме своей профессии, и занимался ею с незаурядным знанием дела, однако без малейшего жара. Работал он упорно и неутомимо, но явно скучал, пока одно дело, в которое он волею судьбы вмешался, не всколыхнуло его всего. Надо сказать, что это случилось в момент наивысшего расцвета его карьеры. В департаменте с ним вышла некоторая заминка. Зная, что я собираюсь на пенсию, в Федеральном совете подумывали о моем преемнике. Собственно, речь могла идти только о Маттеи. Но его кандидатура, по всей вероятности, не прошла бы на выборах. Во-первых, он не принадлежал ни к какой партии, а во-вторых, весь личный состав принял бы его в штыки. Но вместе с тем невозможно было и обойти такого дельного работника, вот почему как нельзя кстати пришлась просьба иорданского правительства о командировании в Амман серьезного специалиста для реорганизации тамошней полиции. Цюрих выдвинул кандидатуру Маттеи, и она была принята как Берном, так и Амманом. Все вздохнули с облегчением. Маттеи тоже радовался, что выбор пал на него, и не только со служебной точки зрения. Ему как раз стукнуло пятьдесят — в такие годы неплохо пожить под солнцем пустыни, он радовался отъезду, радовался перелету через Альпы и Средиземное море и, кажется, рассчитывал, что это будет окончательным прощанием: он даже намекал, что переселится потом к сестре в Данию. Она овдовела и осталась жить там. Он уже освобождал свой письменный стол в здании кантональной полиции на Казарменной улице, как вдруг раздался телефонный звонок.
3
Маттеи с трудом разобрался в сбивчивом рассказе одного из своих бывших «клиентов», торговца вразнос по фамилии фон Гунтен, — продолжал повествовать господин X., — тот звонил ему из Мегендорфа, селения близ Цюриха. Маттеи совсем не улыбалось начинать новое дело в последний день своего пребывания на Казарменной улице, тем более что билет на самолет был уже куплен и лететь предстояло через три дня. Но я был в отъезде, на совещании начальников полиции, и меня ожидали из Берна только к вечеру. Действовать надо было очень умело, один неосторожный шаг мог все загубить. Маттеи велел соединить его с полицейским участком в Мегендорфе. Был конец апреля, за окном шумел ливень — фёновая буря добралась наконец до города, но тяжкая, зловредная духота не спадала и не давала людям дышать.
Трубку взял полицейский Ризен.
— В Мегендорфе тоже идет дождь? — сразу же сердито спросил Маттеи, и, хотя ответ был ясен и без того, лицо его помрачнело еще пуще. Затем он дал указание незаметно следить за поведением разносчика в трактире «Олень» и повесил трубку.
— Случилось что-нибудь? — полюбопытствовал Феллер. Он помогал своему начальнику складывать книги: их постепенно набралась целая библиотека.
— В Мегендорфе тоже идет дождь, — заметил полицейский комиссар, — вызовите оперативную группу.
— Убийство?
— Чертов дождь, — пробурчал Маттеи вместо ответа обиженному Феллеру.
Прежде чем сесть в машину, где его нетерпеливо дожидались прокурор и лейтенант Хенци, Маттеи на всякий случай перелистал дело фон Гунтена. У него была судимость за совращение четырнадцатилетней девочки.
4
Первой же ошибкой, которую нельзя было предусмотреть, оказался приказ следить за разносчиком. Мегендорф представлял собою небольшую общину, в основном крестьянскую, хотя кое-кто работал на фабриках внизу, в долине, или по соседству, на кирпичном заводе. Правда, жили здесь и пришлые, «городские», — два-три архитектора, скульптор классического толка, но в деревне они никакой роли не играли. А коренные жители все друг друга знали и по большей части состояли между собой в родстве. С городом деревня конфликтовала не открыто, а исподтишка. Дело было вот в чем: леса вокруг Мегендорфа принадлежали городу, но ни один уважающий себя мегендорфец не желал считаться с этим фактом, что в свое время причинило немало хлопот лесному управлению — оно-то и настояло на том, чтобы в Мегендорфе был создан полицейский участок. К тому же по воскресным дням деревню заполняли толпы горожан, а «Олень» и ночью привлекал посетителей. Принимая во внимание все эти обстоятельства, здесь требовался такой полицейский, который назубок знал бы свое ремесло. А с другой стороны, нужен был и человеческий подход к местным жителям. До этого весьма скоро своим умом дошел нижний полицейский чин Вегмюллер. Сам он был из крестьян, любил выпить и крепко держал своих подопечных в узде, но при этом давал им столько поблажек, что мне бы следовало вмешаться; я считал, однако, что при нехватке персонала на худой конец сойдет и он. Меня не беспокоили, и я его оставил в покое. Зато заместителям Вегмюллера, когда он бывал в отпуске, приходилось несладко. Что бы они ни делали, в глазах мегендорфцев все было плохо. С тех пор как в стране наступило процветание, браконьерство и порубки леса в городских владениях, а также потасовки в самой деревне отошли в прошлое, но огонь исконной вражды против властей продолжал тлеть среди населения. Особенно туго приходилось сейчас Ризену. Он был придурковатый малый, без капли юмора, на все обижался и не находил общего языка с мегендорфцами, любителями пошутить; впрочем, при своей обидчивости он не годился и для спокойных районов. Едва окончив ежедневный обход и проверку, он мигом испарялся из страха перед населением. При таких условиях, конечно, нельзя было незаметно наблюдать за разносчиком. Само появление полицейского в «Олене», куда он обычно боялся сунуться, было равносильно политической акции. Вдобавок Ризен так демонстративно расселся напротив разносчика, что крестьяне замолчали и насторожились.
— Кофе? — предложил хозяин.
— Нет, ничего. Я здесь по служебной надобности, — ответил полицейский.
Крестьяне с любопытством уставились на разносчика.
— Что он натворил? — спросил какой-то старик.
— Это вас не касается.
Помещение было низенькое, прокуренное, не комната, а деревянная нора, духота стояла нестерпимая, и при этом хозяин не зажигал света. Крестьяне сидели за длинным столом, пили не то белое вино, не то пиво и сами вырисовывались как тени на фоне серебристых оконных стекол, по которым снаружи капало и текло. Где-то стучал шарик настольного футбола, где-то звякал и громыхал американский игральный автомат.
Фон Гунтен выпил рюмку вишневки. Ему было страшно. Он забился в угол, оперся локтем на ручку своей корзины, сидел и ждал. Ему казалось, что он уже очень давно сидит так. В этой душной тишине чувствовалась угроза. За окнами посветлело, дождь перестал, и вдруг выглянуло солнце. Только ветер еще завывал, сотрясая стены. Фон Гунтен обрадовался, когда у крыльца наконец затормозили машины.
— Пойдемте, — поднявшись, сказал Ризен.
Оба вышли. Перед «Оленем» дожидались темный лимузин и автобус оперативной группы; санитарный автомобиль подошел вслед за ними. Яркое солнце заливало деревенскую площадь. У колодца стояли двое ребятишек лет пяти-шести — девочка и мальчик, у девочки под мышкой торчала кукла, у мальчика — хлыстик.
— Фон Гунтен, садитесь рядом с шофером! — крикнул Маттеи из окна лимузина, и, когда разносчик, словно почувствовав себя в безопасности, со вздохом облегчения уселся на место, а Ризен влез во вторую машину, полицейский комиссар сказал: — Так! А теперь покажите нам, что вы нашли в лесу.
5
Они пошли прямо по мокрой траве, потому что лесная просека превратилась в сплошное месиво. Среди кустов невдалеке от опушки они увидели детский трупик и окружили его кольцом. Все молчали, деревья шумели на ветру, с них все еще сыпались крупные серебряные капли и сверкали как алмазы. Прокурор бросил сигару «Бриссаго» и смущенно наступил на нее. Хенци смотрел в сторону.
— Сотрудник полиции не смеет отворачиваться, Хенци, — сказал Маттеи.
Полицейские расставляли осветительные приборы.
— После такого ливня нелегко будет отыскать следы, — заметил Маттеи.
Среди полицейских вдруг оказались те же ребятишки — мальчик и девочка; они стояли и глядели во все глаза, девочка все еще с куклой под мышкой, а мальчик — с хлыстиком.
— Уберите детей.
Один из полицейских взял их за руки и отвел на дорогу. Там они остановились как вкопанные.
Из деревни уже бежали люди, хозяин трактира сразу был виден по белому фартуку.
— Оцепить! — распорядился полицейский комиссар.
Несколько агентов заняли посты. Другие принялись обыскивать окрестности. Засверкали блицы.
— Ризен, вы знаете, чья это девочка?
— Нет, господин комиссар.
— В деревне вы ее видели?
— Как будто видел, господин комиссар.
— Сфотографировали ее?
— Сейчас сделаем еще два снимка сверху.
Маттеи подождал.
— Следы есть?
— Никаких. Все затоплено.
— Пуговицы осмотрели? Есть отпечатки пальцев?
— Какое там! После такого ливня!
Маттеи склонился над трупиком.
— Бритвой! — установил он, собрал разбросанное кругом печенье и бережно сложил его в корзиночку. — Крендельки.
Доложили, что кто-то из деревенских хочет поговорить. Маттеи поднялся. Прокурор посмотрел на опушку. Там стоял седой человек с зонтиком, висевшим на левой руке. Хенци оперся о ствол бука. Он был бледен. Разносчик сидел на своей корзине и шепотом твердил:
— Я проходил мимо, случайно, совсем случайно…
— Приведите старика!
Седой человек пробрался сквозь кусты и оцепенел.
— Господи, Господи, — только и мог он пролепетать.
— Позвольте узнать вашу фамилию? — обратился к нему Маттеи.
— Я учитель Лугинбюль, — чуть слышно ответил старик и отвернулся.
— Вы знаете эту девочку?
— Это Гритли Мозер.
— Где живут ее родители?
— «На болотцах».
— Это далеко от деревни?
— Четверть часа ходу.
Маттеи бросил взгляд на убитую, у него одного хватило на это духу. Никто не произнес ни слова.
— Как это случилось? — спросил учитель.
— Преступление на сексуальной почве, — объяснил Маттеи. — Она училась у вас?
— Нет, у фройляйн Крум. В третьем классе.
— У Мозеров есть еще дети?
— Гритли была у них единственным ребенком.
— Кто-нибудь должен сообщить родителям.
Все опять промолчали.
— Может быть, вы, господин учитель? — спросил Маттеи.
Лугинбюль долго не отвечал.
— Не сочтите меня трусом, — запинаясь, сказал он наконец, — я не хочу брать это на себя. Не могу, — шепотом добавил он.
— Понимаю, — согласился Маттеи. — А где господин пастор?
— В городе.
— Хорошо. Можете идти, господин Лугинбюль, — ровным голосом произнес Маттеи.
Учитель прошел обратно на дорогу. Там все прибывал народ из Мегендорфа.
Маттеи взглянул на Хенци. Тот по-прежнему стоял, опершись о ствол бука.
— Пожалуйста, только не я, комиссар, — шепотом попросил Хенци.
Прокурор тоже отрицательно помотал головой. Маттеи еще раз посмотрел на трупик, потом на разорванное красное платьице, которое валялось в кустах, мокрое от крови и дождя.
— Что ж, тогда пойду я, — сказал он и поднял корзинку с крендельками.
6
Дом «На болотцах» стоял в топкой ложбинке близ Мегендорфа. Маттеи оставил служебную машину в деревне и пошел пешком. Ему хотелось выиграть время. Он издалека увидел дом. Но вдруг остановился и обернулся. Ему послышались шаги. Опять те же ребята — мальчик и девочка. Они раскраснелись — верно, бежали напрямик, иначе нельзя было объяснить их появление.
Маттеи пошел дальше. Дом был невысокий — белые стены и темные стропила, на них гонтовая крыша. За домом — плодовые деревья, в саду — вскопанные грядки. Перед домом мужчина колол дрова. Он поднял голову и увидел полицейского комиссара.
— Что вам угодно? — спросил он.
Маттеи мялся в растерянности, наконец назвал себя и спросил лишь бы выиграть время:
— Господин Мозер?
— Это я и есть. Что вам нужно? — повторил мужчина и остановился перед Маттеи, держа топор в руке.
Это был испитой человек лет сорока с изборожденным глубокими складками лицом и серыми глазами, пытливо смотревшими на комиссара полиции. В дверях показалась женщина, на ней тоже было красное платье. Маттеи обдумывал, что сказать. Он давно уже над этим думал и до сих пор ни до чего не додумался. Мозер сам пришел ему на помощь. Он увидел корзиночку в руках Маттеи.
— С Гритли что-нибудь случилось? — спросил он и снова пытливо посмотрел на Маттеи.
— Вы куда-нибудь посылали Гритли? — в свою очередь спросил полицейский комиссар.
— К бабушке, в Ферен, — ответил крестьянин.
Маттеи прикинул: Ферен была соседняя деревня.
— Гритли часто ходила туда? — спросил он.
— Каждую среду и субботу после обеда, — ответил крестьянин и в приливе внезапного страха спросил: — Зачем вам это нужно знать? Отчего вы принесли назад корзиночку?
Маттеи поставил корзинку на пенек, на котором Мозер колол дрова.
— Гритли нашли мертвой в мегендорфском лесу, — сказал он.
Мозер не шелохнулся, не шелохнулась и жена, она все еще стояла на пороге. Тоже в красном платье. Маттеи увидел, как на побелевшем лице Мозера внезапно выступил и ручьями заструился пот. Ему хотелось отвернуться, но взгляд его словно приковался к этому лицу, к этому струящемуся поту, так они и стояли оба, вперив друг в друга глаза.
— Гритли убили, — услышал Маттеи собственный голос, его раздосадовало, что голос звучит безучастно.
— Не может этого быть, не бывают на свете такие изверги, — прошептал Мозер, и рука с топором дрогнула.
— Бывают, господин Мозер, — сказал Маттеи.
Мозер тупо посмотрел на него.
— Я хочу пойти к дочке, — еле слышно выговорил он.
Полицейский комиссар покачал головой:
— Не стоит, господин Мозер. С моей стороны жестоко так говорить. Но послушайте меня: лучше не ходите к вашей Гритли.
Мозер вплотную подошел к комиссару полиции, остановился перед ним лицом к лицу.
— Почему это «лучше»? — выкрикнул он.
Полицейский комиссар промолчал.
Мозер еще мгновение раскачивал в руке топор, как будто собираясь замахнуться им, потом повернулся и пошел к жене, которая все еще стояла в дверях. Все еще без движения, без единого звука. А Маттеи ждал внизу. Он видел все до мельчайших подробностей и вдруг понял, что до конца жизни не забудет этой сцены.
Мозер обеими руками обхватил жену и весь затрясся от беззвучных рыданий. Он спрятал лицо на ее плече, а она все стояла и смотрела в пустоту.
— Завтра вечером вам покажут вашу Гритли. У нее будет такой вид, словно она уснула, — беспомощно прошептал Маттеи.
Тут вдруг заговорила женщина.
— Кто ее убил? — спросила она таким сухим, деловым тоном, что полицейскому комиссару стало страшно.
— Я найду убийцу, госпожа Мозер.
Женщина в первый раз повелительно, с угрозой посмотрела на него.
— Обещаете найти?
— Обещаю, госпожа Мозер, — подтвердил Маттеи. Им сейчас руководило одно желание — поскорее уйти отсюда.
— Поклянитесь спасением своей души.
Маттеи замялся.
— Клянусь спасением моей души, — выговорил он наконец. Больше ему ничего не оставалось.
— Ну так ступайте, — приказала женщина. — Помните, вы поклялись спасением своей души.
Маттеи хотел сказать еще что-то утешительное, но не знал, чем тут можно утешить.
— Я очень вам сочувствую, — пробормотал он. Повернулся и медленно пошел назад той же дорогой. Впереди виднелся Мегендорф, а дальше лес. Над ними небо, теперь уже совсем безоблачное. У обочины топтались те же ребятишки, и, когда он, едва передвигая ноги, прошел мимо них, они засеменили за ним следом. Вдруг сзади, из того дома, раздался звериный вопль. Комиссар не понял, кто это так рыдает — отец или мать. И лишь прибавил шагу.
7
Не успел Маттеи вернуться в Мегендорф, как сразу же возникли первые трудности. Автобус оперативной группы дожидался полицейского комиссара в деревне. Место преступления и ближайшие окрестности были тщательно обысканы, а затем огорожены. Трое полицейских в штатском остались в лесу. Они получили задание скрытно следить за прохожими. Может быть, таким путем удастся напасть на след убийцы. Остальным надлежало вернуться в город. Небо полностью очистилось, но после дождя в воздухе ничуть не посвежело. Фён все еще бушевал над лесами и селениями, налетая мощными теплыми порывами. От необычной удушливой жары люди становились злыми, раздражительными, нетерпеливыми. Хотя до вечера было еще далеко, на улицах горели фонари.
Крестьяне сбежались толпой. Они увидели фон Гунтена. В их глазах убийцей был именно он — разносчики всегда подозрительны. Мегендорфцы думали, что он уже арестован, и окружили автобус оперативной группы. Разносчик не шевелился, скорчившись от страха, сидел он между прямыми, как палки, полицейскими. Крестьяне подступали все ближе, пытались заглянуть внутрь. Полицейские не знали, что делать. Рядом в служебной машине находился прокурор, его тоже не пропускали. В окружение попали и машина представителя судебной медицины, прибывшего из Цюриха, и белый с красным крестом санитарный автомобиль, куда положили маленький трупик. Мужчины напирали молча, но с явной угрозой; женщины жались к домам и тоже молчали. Дети громоздились на закраине деревенского колодца. Ни у кого из крестьян не было определенных намерений, их согнала сюда глухая злоба. Жажда мести и справедливости. Маттеи попытался пробраться к оперативной группе, но это оказалось невозможным. Тогда он решил обратиться к председателю общины и стал расспрашивать, где его найти. Вместо ответа послышались приглушенные угрозы. Маттеи подумал и пошел в трактир. Он не ошибся — председатель сидел у «Оленя». Это был приземистый, оплывший нездоровым жиром толстяк. Он пил вельтлинское стакан за стаканом и в низенькое окошко наблюдал за происходящим.
— Я ничего не могу поделать, — заявил он. — Видите, какой своевольный народ. Не верят в расторопность полиции. Сами желают творить правосудие. А какая была хорошая девочка Гритли! Все мы ее любили, — со вздохом добавил он. На глаза у него навернулись слезы.
— Разносчик не виновен, — сказал Маттеи.
— Тогда незачем было его арестовывать.
— Он и не арестован. Мы его взяли как свидетеля.
Председатель общины хмуро оглядел Маттеи.
— Вы только рады отвертеться. А мы что знаем, то знаем, — произнес он.
— Вам, как председателю общины, прежде всего надлежит обеспечить нам свободный выезд.
Не ответив ни слова, тот осушил еще стакан разливного красного.
— Что вы молчите? — раздраженно спросил Маттеи.
Председатель гнул свою линию.
— Разносчику несдобровать, — пробурчал он.
Комиссар заговорил без обиняков:
— Так легко это дело не пройдет. И отвечать будете вы, как председатель Мегендорфской общины.
— А вы кого отстаиваете? Похотливого убийцу?
— Прежде всего мы отстаиваем законность, а виновен он или нет — это вопрос иной.
Председатель сердито шагал взад-вперед по низенькому трактирному залу. Поскольку за стойкой никого не оказалось, он сам налил себе вина. И выпил так торопливо, что темные струйки побежали у него по рубашке. Толпа на площади все еще вела себя спокойно. Лишь когда шофер попытался запустить мотор полицейской машины, ряды сомкнулись теснее.
Теперь в зал пришел и прокурор. Он с трудом протиснулся сквозь толпу мегендорфцев. Вид у него был довольно помятый. Председатель общины струсил. Появление прокурора не сулило ничего приятного. Для него, как и для любого нормального человека, люди этой профессии были чем-то вроде пугал.
— Господин председатель, — начал прокурор, — ваши мегендорфцы, по-видимому, намерены прибегнуть к суду Линча. Я вижу только один выход — вызвать подкрепление. Это всех вас сразу образумит.
— Давайте попробуем еще раз поговорить с людьми, — предложил Маттеи.
Ткнув председателя указательным пальцем в грудь, прокурор пригрозил:
— Если вы немедленно не заставите их выслушать нас, тогда пеняйте на себя.
А церковные колокола уже били набат. К мегендорфцам со всей округи сбегались на подмогу. Явилась даже пожарная команда и заняла позицию против полицейских. Из толпы раздавались злобные выкрики: «Пакостник! Гад!»
Полицейские приготовились встретить нападение толпы, которая волновалась все сильнее, но сами были растеряны не меньше, чем мегендорфцы. Они привыкли наводить порядок, имея дело с заурядными происшествиями, здесь же они столкнулись с чем-то необычным. Но вдруг крестьяне разом утихли и замерли. Из дверей «Оленя», к которым вела каменная лестница с железными перилами, вышли прокурор с председателем общины и комиссаром полиции.
— Мегендорфцы, — воззвал председатель, — прошу вас, выслушайте господина прокурора Буркхарда.
Толпа никак не отозвалась на этот призыв. Местные жители, крестьяне и рабочие, хранили прежнее грозное молчание. Небо над ними тем временем подернулось отблесками заката; уличные фонари раскачивались вокруг площади, точно бледные диски луны. Мегендорфцы твердо решили заполучить в свои руки того, кто, по их убеждению, был убийцей. Полицейские машины, как громадные темные звери, возвышались над людским приливом, все вновь и вновь пытались высвободиться, но моторы, едва взревев, сейчас же глохли. Все ни к чему. Страшное событие этого дня нависло надо всем гнетущей безысходностью — над темными деревенскими кровлями, над площадью, над скопищем людей, как будто убийство отравило своим ядом весь мир.
— Граждане Мегендорфа, — тихо и нерешительно начал прокурор, но каждое его слово было слышно на всей площади. — Мы потрясены гнусным преступлением. Гритли Мозер убили… Мы не знаем, кто совершил это злодеяние…
Дальше прокурору не дали говорить.
— Выдайте нам его!
Замелькали поднятые кулаки, раздался пронзительный свист.
Маттеи как завороженный смотрел на толпу.
— Скорей звоните по телефону, Маттеи, — приказал прокурор. — Вызывайте подкрепление.
— Убийца — фон Гунтен! — закричал тощий долговязый крестьянин с обветренным, давно не бритым лицом. — Я сам его видел! Никто больше в ложбинку не ходил.
Это был тот крестьянин, который работал в поле.
Маттеи выступил вперед.
— Мегендорфцы, — крикнул он, — я — комиссар полиции Маттеи. Мы согласны выдать вам разносчика!
От неожиданности все замерли.
— Вы спятили, что ли? — не помня себя от волнения, прошипел прокурор.
— В нашей стране издавна повелось так, что приговор преступникам выносит суд. Он осуждает их, когда они виновны, и оправдывает, когда они невиновны, — продолжал Маттеи. — Вы же намерены подменить собою суд. Не станем доискиваться, есть ли у вас такое право, поскольку вы сами присвоили себе это право.
Маттеи говорил просто и внятно. Крестьяне и рабочие слушали внимательно, боясь упустить хотя бы слово. Маттеи уважительно обращался к ним, и они уважительно слушали его.
— Одного только я обязан потребовать от вас, как от всякого суда: справедливости. Мы, понятно, лишь в том случае можем выдать вам разносчика, если будем уверены, что вы хотите справедливости.
— Конечно, хотим! — выкрикнул кто-то.
— Чтобы по праву считать себя справедливым судом, ваш суд обязан выполнить одно условие. Вот оно: ни в коем случае не допустить несправедливости. Это условие вы обязаны соблюсти.
— Согласны! — крикнул рабочий с кирпичного завода.
— Значит, вы должны тщательно проверить, справедливо или несправедливо обвинять фон Гунтена в убийстве. Откуда взялось такое подозрение?
— Он уже раз сидел, — отозвался какой-то крестьянин.
— Конечно, это увеличивает подозрение в его виновности, — признал Маттеи. — Однако еще не доказывает, что он и есть убийца.
— Я его видел в ложбинке, — снова крикнул крестьянин с обветренным, обросшим щетиной лицом.
— Поднимитесь к нам сюда, — предложил полицейский комиссар.
Тот колебался.
— Иди, иди, Хайри. Чего трусишь? — крикнули ему из толпы.
Крестьянин все еще нерешительно поднялся на крыльцо. Прокурор и председатель общины отступили в коридор, так что Маттеи оказался на крыльце один на один с крестьянином.
— Чего вам от меня надо? — спросил тот. — Меня звать Бенц Хайри.
Мегендорфцы во все глаза смотрели на них. Полицейские спрятали резиновые дубинки. Они тоже затаив дыхание следили за происходящим. Деревенские ребята взобрались на лестницу, поставленную почти стоймя на пожарной машине.
— Господин Бенц, вы видели разносчика фон Гунтена в ложбинке, — начал полицейский комиссар. — Он один там был?
— Один.
— А вы чем там занимались, господин Бенц?
— Мы всей семьей сажали картофель.
— И с какого часа?
— С десяти. Мы и обедали в поле всей семьей, — пояснил крестьянин.
— И за все время никого не видели, кроме разносчика?
— Никого. Присягнуть могу — никого, — подтвердил крестьянин.
— Что ты там плетешь, Бенц? — крикнул из толпы рабочий. — Я в два часа проходил мимо твоего картофельного поля.
Еще двое рабочих подали голос. И они в два часа прокатили по ложбинке на велосипедах.
— Да, послушай, ты, олух, я тоже проезжал на возу через ложбинку! — закричал какой-то крестьянин. — А ты, сквалыга, и сам работаешь как проклятый, и семью мытаришь до седьмого пота. Мимо тебя сто голых баб пройдет, так ты все равно головы не подымешь.
Смех в толпе.
— Итак, не один только разносчик побывал в ложбинке, — уточнил Маттеи. — Но давайте разбираться дальше. Параллельно лесу идет шоссе в город. Кто-нибудь проходил по нему?
— Гербер Фриц проезжал, — отозвался кто-то.
— Верно, проезжал, — согласился толстый увалень, сидевший на пожарном насосе. — На возу.
— В котором часу?
— В два.
— От этого шоссе отходит лесная дорога к месту происшествия, — уточнил полицейский комиссар. — Вы кого-нибудь там видели, господин Гербер?
— Нет, — буркнул крестьянин.
— А не заметили, не стоял ли там автомобиль?
Крестьянин растерялся.
— Как будто стоял, — нерешительно промямлил он.
— Вы в этом убеждены?
— Да, что-то там виднелось.
— Может, красный спортивный «мерседес»?
— Очень может быть.
— Или серый «фольксваген»?
— Тоже может быть.
— Ваши ответы в высшей степени неубедительны, — заметил Маттеи.
— Правду сказать, я малость соснул на возу, — признался крестьянин. — Такая жарища всякого сморит.
— Тут я вынужден поставить вам на вид, что на проезжих дорогах спать не полагается, — внушительно заметил Маттеи.
— Лошади сами справляются, — возразил крестьянин.
Все засмеялись.
— Теперь вы наглядно убедились, какие трудности встанут перед вами как перед судьями, — подчеркнул Маттеи. — Преступление не было совершено в безлюдном месте. Всего на расстоянии каких-нибудь пятидесяти метров в поле работала целая семья. Будь члены этой семьи повнимательнее, несчастья могло бы не произойти. Но им даже в голову не приходила возможность такого преступления. Ни девочки, ни других прохожих они не видели. Разносчика они заприметили по чистой случайности. Возьмем теперь господина Гербера. Он дремал у себя на возу и потому не может дать ни одного мало-мальски точного показания. Вот как обстоит дело. Где же тогда улики против разносчика? Задайте себе этот вопрос. И, кстати, не забудьте одного обстоятельства, которое заведомо говорит в его пользу; ведь полицию-то уведомил он. Не знаю, как вы намерены действовать в роли судей, скажу вам только, как бы действовали у нас в полиции.
Полицейский комиссар сделал паузу. Он опять один стоял перед мегендорфцами, Бенц смущенно нырнул в толпу.
— Каждого подозрительного человека, невзирая на его положение, мы подвергли бы тщательнейшей проверке, прояснили бы малейшую улику. Мало того — в случае надобности мы включили бы в дело полицию других стран. Видите, какой у нас под рукой мощный аппарат для того, чтобы доискаться истины. В вашем же распоряжении нет почти ничего. Вот и решайте, как поступать.
Молчание. Мегендорфцы были озадачены.
— А вы и впрямь выдадите нам разносчика? — спросил тот же рабочий.
— Даю честное слово. Если вы все еще настаиваете на его выдаче.
Мегендорфцы колебались. Слова комиссара полиции явно произвели впечатление. Прокурор нервничал. Для него исход был неясен. Но вот и у него отлегло от сердца — какой-то крестьянин выкрикнул: «Берите его с собой». Мегендорфцы безмолвно расступились. Вздохнув с облегчением, прокурор закурил свою «Бриссаго».
— Вы действовали рискованно, Маттеи, — заметил он. — Представьте себе, что вам пришлось бы сдержать слово.
— Я знал, что до этого не дойдет, — небрежно бросил в ответ комиссар полиции.
— Надо надеяться, вы никогда не даете опрометчивых обещаний, которые потом приходится исполнять, — сказал прокурор, вторично поднес к сигаре зажженную спичку, попрощался с председателем общины и поспешил к машине, благо доступ к ней был открыт.
8
Маттеи поехал в город не с прокурором. Он пошел в автобус к разносчику. Полицейские потеснились. В машине было жарко — опустить стекла все еще не решались. Хотя мегендорфцы и дали дорогу, они по-прежнему толпились на площади. Фон Гунтен, съежившись, сидел за спиной шофера. Маттеи устроился рядом.
— Клянусь вам, я не виноват, — прошептал фон Гунтен.
— Конечно, — подтвердил Маттеи.
— Никто мне не верит, — прошептал фон Гунтен. — Полицейские тоже не верят.
Маттеи покачал головой.
— Это вам только кажется.
Но разносчик не унимался:
— Вы тоже не верите мне, господин доктор.
Машина тронулась. Полицейские сидели молча. За окнами было уже совсем темно. Зажженные фонари бросали снаружи золотые отблески на застывшие лица. Маттеи чувствовал у каждого недоверие к разносчику, все нарастающее подозрение. Ему стало жаль беднягу.
— Я вам верю, фон Гунтен, — сказал он и вдруг понял, что и сам убежден не до конца. — Я знаю, вы невиновны.
Навстречу побежали первые городские дома.
— Вас еще поведут на допрос к начальнику, вы наш главный свидетель, фон Гунтен, — предупредил полицейский комиссар.
— Понимаю, и вы тоже мне не верите, — опять прошептал разносчик.
— Ерунда.
Разносчик стоял на своем.
— Я это знаю, — тихо, чуть слышно твердил он, уставясь на красные и зеленые световые рекламы, которые, подобно причудливым созвездиям, сверкали теперь за окнами плавно скользившей машины.
9
Вот те события, о которых мне было доложено на Казарменной улице после того, как я восьмичасовым скорым вернулся из Берна. Это было третье убийство такого рода. За два года до того — в кантоне Швиц, а за пять лет в кантоне Санкт-Галлен тоже были зарезаны бритвой малолетние девочки. В том и в другом случае убийца как в воду канул. Я велел привести разносчика. Это был сорокавосьмилетний обрюзгший человечек, обычно, должно быть, наглый и болтливый, а сейчас насмерть перепуганный. В показаниях он сперва был четок. По его словам, он лежал на опушке, разувшись и поставив корзину с товарами на траву. У него было намерение завернуть в Мегендорф, сбыть там свой товар: щетки, помочи, лезвия, шнурки и прочие предметы; однако дорогой он узнал от почтальона, что Вегмюллер в отпуске и его заменяет Ризен. Это его смутило, и он пока что решил поваляться на траве; ему не впервой было сталкиваться с молодыми полицейскими, у этих молокососов рвение не по разуму. Так он лежал себе и дремал. Ложбинка расположена в лесной тени, мимо пролегает шоссе, неподалеку в поле трудилась крестьянская семья, тут же бегала собака. Обед у «Медведя» в Ферене был чересчур обильный — бернские колбаски и прочее; он вообще любитель вкусно поесть, да и средства позволяют, не смотрите, что он с товаром колесит по стране небритый, неухоженный, обтрепанный — наружность обманчива, торговлей вразнос можно неплохо заработать и даже накопить кое-что. Обед он сдобрил пивом, а уже лежа на травке, закусил двумя плитками линдтовского шоколада. Надвигающаяся буря и порывы ветра совсем его убаюкали, но очень скоро что-то разбудило его, как будто чей-то крик, пронзительный детский крик, и, когда он, еще не совсем очнувшись, бросил взгляд на долину, ему показалось, что и крестьяне в поле с удивлением насторожились, но не прошло и минуты, как они уже опять гнули спину, а собака кружила рядом. Верно, птица какая-нибудь, мелькнуло у него в голове, сова, что ли, кто их там разберет. Такое объяснение вполне его успокоило. Он опять задремал, но вдруг его поразило внезапное затишье в природе — тут он заметил, как потемнело небо, мигом обулся, повесил за спину корзину, при этом снова вспомнил про таинственный птичий крик, и ему стало как-то тревожно, как-то не по себе. Вот тогда он и решил лучше не связываться с Ризеном и махнуть рукой на Мегендорф: от него и всегда-то прибыль была плохая. Он надумал прямо вернуться в город, а чтобы сократить путь к железнодорожной станции, пошел лесной просекой и здесь наткнулся на труп убитой девочки. После чего сразу же опрометью побежал в Мегендорф, к «Оленю», и оттуда известил Маттеи. Крестьянам он не сказал ни слова из страха навлечь подозрение на себя.
Таковы были его показания. Я велел его увести, но пока не отпускать. Правда, прокурор не отдал распоряжения о предварительном заключении, однако у нас не было времени разводить церемонии. Его рассказ показался мне правдивым, но требовал дополнительной проверки, ведь фон Гунтен как-никак уже имел судимость. Я был в прегнусном настроении. Меня не оставляло неприятное чувство, что в этом деле с самого начала допущена фундаментальная ошибка, я не мог бы сказать какая, но просто чуял это профессиональным нюхом, а потому предпочел удалиться в свою «boutique»[45], как я прозвал прокуренную комнатушку рядом с моим служебным кабинетом, велел принести из ресторана близ Сильского моста бутылку «шатонёф-дю-пап» и выпил подряд несколько рюмок. Не скрою, что в этой комнатушке всегда царил вопиющий беспорядок — книги и папки валялись вперемешку; правда, беспорядок был чисто принципиальный. Я считаю, что в нашем строго упорядоченном государстве обязанность каждого — создавать некие островки беспорядка, хотя бы и потайные. Затем я приказал принести снимки. На них было страшно, мучительно смотреть. После этого я принялся изучать карту местности, где произошло убийство. Сам дьявол не мог бы лучше подгадать. Явился ли убийца из Мегендорфа, из окрестных деревень или из города, пришел ли он пешком или приехал поездом — логически это было немыслимо установить. Любой вариант был возможен.
Пришел Маттеи.
— Мне искренне жаль, что вам напоследок пришлось повозиться с этим печальным делом, — сказал я.
— Такова наша профессия, начальник.
— Когда посмотришь на снимки, хочется послать всю эту историю к черту, — заметил я и сунул снимки обратно в конверт.
Я злился и с трудом скрывал свою досаду. Маттеи был моим лучшим комиссаром — видите, я никак не отвыкну от этого звания, оно мне больше по душе. Его отъезд в такую минуту никак меня не устраивал.
Он словно подслушал мои мысли.
— Мне кажется, лучше всего передать это дело Хенци, — заметил он.
Я колебался. Не будь это убийство на сексуальной почве, я бы сразу принял его совет. Любое другое преступление для нас куда легче распутывать; достаточно выяснить побудительные причины — безденежье, ревность, — и круг подозреваемых сам собой ограничится. В случае убийства на сексуальной почве этот метод отпадает. Допустим, отправился такой индивид в служебную поездку, заметил девочку или мальчика, вышел из машины — никто не увидел, не проследил, — а вечером он уже сидит у себя дома, то ли в Лозанне, то ли в Базеле, то ли еще где-нибудь, мы же топчемся на месте и не знаем, за что ухватиться. Я ценил Хенци, считал его толковым работником, но опыта ему, на мой взгляд, не хватало.
Маттеи не разделял моих сомнений.
— Хенци целых три года проработал под моим руководством, — доказывал он, — я сам ознакомил его со спецификой нашего ремесла и лучшего заместителя не могу себе представить. Он будет справляться с заданиями ничуть не хуже, чем я. Впрочем, завтра я еще буду здесь, — добавил Маттеи.
Я вызвал Хенци и приказал ему вместе с вахмистром Тройлером непосредственно заняться расследованием убийства. Он явно обрадовался — это было его первое самостоятельное дело.
— Поблагодарите Маттеи, — проворчал я и спросил, каково настроение рядового состава. Мы форменным образом плавали в этом вопросе, ни за что не могли ухватиться, ничего до сих пор не добились, и было крайне важно, чтобы подчиненные не почувствовали нашей неуверенности.
— Они убеждены, что мы уже поймали убийцу, — заявил Хенци.
— Разносчика?
— Их подозрения не лишены оснований. В конце концов, за фон Гунтеном уже числится преступление против нравственности.
— С четырнадцатилетней, — вставил Маттеи, — это совсем другое…
— Хорошо бы подвергнуть его перекрестному допросу, — предложил Хенци.
— Успеется, — возразил я. — Не думаю, чтобы он имел какое-то отношение к убийству. Просто он внушает антипатию, а отсюда недалеко до подозрения. Но это, господа, не криминалистический, а чисто субъективный довод, и мы не можем безоговорочно принять его.
С этим я отпустил обоих, причем настроение у меня ни на йоту не улучшилось.
10
Мы включили в работу весь наличный состав. В ту же ночь и на следующий день обследовали все гаражи, не обнаружатся ли в какой-нибудь машине следы крови; то же самое было проделано с прачечными. Затем мы установили алиби всех лиц, которые когда-либо привлекались к ответственности по соответствующим статьям. Наши сотрудники побывали с собаками и даже с миноискателем в том лесу под Мегендорфом, где произошло убийство. Они обшарили все мелколесье в поисках следов, а главное — в надежде найти орудие убийства. Они обследовали участок за участком, спускались в глубь ущелья, шарили в ручье. Найденные предметы были собраны, лес прочесан до самого Мегендорфа.
Против обыкновения я сам поехал в Мегендорф, чтобы принять участие в расследовании. Маттеи тоже явно нервничал. Стоял приятнейший весенний день, нежаркий, безветренный, но наше мрачное настроение не рассеивалось. Хенци допрашивал в трактире «Олень» крестьян и заводских рабочих, а мы направились в школу. Чтобы сократить путь, прошли прямо по лужайке с плодовыми деревьями. Некоторые были уже в полном цвету. Из школы доносилось пение: «Возьми мою ты руку и поведи меня». Спортивная площадка перед школой пустовала. Я постучался в дверь того класса, откуда раздавалось пение, и мы вошли.
Хорал пели девочки и мальчики, дети от шести до восьми лет. Три младших класса. Учительница перестала дирижировать, опустила руки и встретила нас настороженным взглядом.
Дети смолкли.
— Фройляйн Крум?
— Чем могу служить?
— Гритли Мозер училась у вас?
— Что вам угодно от меня?
Фройляйн Крум была сухопарая особа лет сорока с большими, полными затаенной горечи глазами.
Я представился и обратился к детям:
— День добрый, детки!
Дети с любопытством уставились на меня.
— Добрый день! — ответили они.
— Красивую песню вы только что пели.
— Мы разучиваем хорал к погребению Гритли, — пояснила учительница.
В ящике с песком был макет острова Робинзона.
По стенам висели детские рисунки.
— Что за ребенок была Гритли? — нерешительно спросил я.
— Мы все ее очень любили, — вместо ответа сказала учительница.
— Умненькая?
— Большая фантазерка.
— Можно мне задать детям несколько вопросов? — все так же нерешительно спросил я.
— Пожалуйста.
Я вышел на середину класса. У большей части девочек были еще косички и пестрые фартучки.
— Вы, верно, слышали, какая беда случилась с Гритли Мозер, — начал я. — Я из полиции, я там начальник, все равно что командир у солдат, и моя обязанность — найти того, кто убил Гритли. Я говорю с вами не как с детьми, а как со взрослыми. Тот, кого мы ищем, — больной человек. Так поступают только больные люди. Болезнь в том и состоит, что они заманивают детей в лес или в погреб, ну, словом, куда-нибудь, где можно спрятаться, и там их мучают. Это случается довольно часто. У нас в кантоне за год было двести таких случаев. Иногда доходит до того, что эти люди замучивают ребенка до смерти. Так оно и было с Гритли. Конечно, таких людей нужно запирать на замок. На свободе они могут причинить много зла. Вы спросите, почему мы не запираем их, чтобы не случилось такого несчастья, как с Гритли. Да потому, что их нельзя распознать. Болезнь у них запрятана внутри, снаружи ее не видно.
Дети слушали затаив дыхание.
— Вы должны мне помочь, — продолжал я. — Нам непременно нужно найти этого человека, иначе он опять убьет какую-нибудь девочку.
Я подошел еще ближе к ребятам.
— Гритли не рассказывала, что кто-то чужой заговаривал с нею?
Дети молчали.
— За последнее время вы ничего не заметили странного в Гритли?
Нет, ничего такого они не заметили.
— Не видели ли вы последнее время у Гритли каких-нибудь вещей, которых раньше у нее не было?
Дети не отвечали.
— Кто был лучшей подругой Гритли?
— Я, — прошептала крохотная девчушка с каштановыми волосами и карими глазами.
— А как тебя зовут? — спросил я.
— Урсула Фельман.
— Значит, вы с Гритли были подружками?
— Мы сидели за одной партой.
Девочка говорила так тихо, что мне пришлось нагнуться к ней.
— Ты тоже ничего особенного не замечала?
— Нет.
— И никто не встречался Гритли?
— Да нет, встречался, — ответила девочка.
— Кто же?
— Только не человек.
Ее ответ озадачил меня.
— Что это значит, Урсула?
— Ей встречался великан, — еле слышно сказала девочка.
— Великан?
— Ну да, — подтвердила девочка.
— Ты хочешь сказать, она встретила очень высокого человека?
— Нет, мой папа тоже высокий, только он не великан.
— Какого же роста был тот человек?
— Как гора, — ответила девочка. — И весь черный.
— А он, великан этот, что-нибудь дарил Гритли? — спросил я.
— Да, — ответила девочка.
— Что же он дарил?
— Ежиков.
— Ежиков? Каких таких ежиков, Урсула? — спросил я, окончательно сбитый с толку.
— Весь великан был набит ежиками, — объяснила девочка.
— Да это же глупости, Урсула, — попытался я возразить, — у великанов не бывает ежиков!
— Этот великан был ежиковый.
Девочка твердо стояла на своем. Я возвратился к кафедре учительницы.
— Вы правы, фройляйн Крум, — сказал я. — По-видимому, Гритли в самом деле была большой фантазеркой.
— У этого ребенка была поэтическая душа, — ответила учительница, устремив печальные глаза куда-то вдаль. — Простите, нам нужно еще прорепетировать хорал к завтрашнему погребению. Дети поют недостаточно стройно.
Она дала тон.
— «Возьми мою ты руку и поведи меня», — снова запели дети.
11
Допрос мегендорфцев в трактире «Олень», где мы сменили Хенци, тоже не дал ничего нового, и под вечер мы возвращались в Цюрих ни с чем. В полном молчании. Я слишком много выкурил сигар и выпил местного вина. А вы ведь знаете свойства этих молодых красных вин! Маттеи, насупившись, сидел рядом со мной в глубине машины, и только когда мы уже спускались к Рёмерхофу, он заговорил:
— Не думаю, что убийца — житель Мегендорфа. Скорее всего, преступления в кантоне Санкт-Галлен и в кантоне Швиц совершены им же. Картина убийства совпадает в точности. Не исключено, что его местожительство — Цюрих.
— Возможно, — согласился я.
— Он либо автомобилист-любитель, либо коммивояжер. Ведь видел же крестьянин Гербер машину, которая стояла в лесу.
— Гербера я сам допрашивал сегодня. Он признался, что спал очень крепко и ничего толком не видел, — заявил я.
Мы снова замолчали.
— Мне очень неприятно покидать вас в самый разгар следствия, — заговорил он неуверенным тоном. — Но я никак не могу нарушить контракт с иорданским правительством.
— Вы летите завтра? — спросил я.
— В три часа дня, через Афины, — ответил он.
— Я вам завидую, Маттеи, — сказал я совершенно искренне. — Я бы тоже предпочел быть начальником полиции у арабов, а не у нас в Цюрихе.
Я высадил его у гостиницы «Урбан», где он проживал с незапамятных времен, а сам отправился в «Кроненхалле», где пообедал под картиной Миро[46]. Это мое обычное место. Я всегда сижу там, и обед мне подвозят на столике.
12
Около десяти вечера я еще раз заглянул на Казарменную улицу и, проходя мимо бывшего кабинета Маттеи, наткнулся в коридоре на Хенци. Он уехал из Мегендорфа еще днем, и мне следовало бы выразить по этому поводу недоумение, но, раз уж я поручил ему дело об убийстве, вмешиваться было не в моих правилах. Хенци — уроженец Берна — был честолюбив, но популярен среди подчиненных. Женившись на девице из семейства Хоттингеров, он перемахнул из социалистической партии к либералам и успешно делал карьеру, кстати, теперь он принадлежит к свободомыслящим.
— Никак не сознается, мерзавец, — сказал он.
— Кто это? — спросил я и остановился. — Кто не сознается?
— Фон Гунтен.
Для меня это было неожиданностью.
— Вот как — конвейер?
— Полдня бьемся. Если понадобится, просидим всю ночь. Сейчас его обрабатывает Тройлер, — пояснил Хенци. — Я вышел на минутку глотнуть свежего воздуха.
— Любопытно взглянуть, что у вас там творится, — заметил я и вошел в бывший кабинет Маттеи.
13
Разносчик сидел на жестком канцелярском табурете, а Тройлер придвинул себе стул к письменному столу, долго служившему Маттеи, и расселся, закинув ногу на ногу, подперев голову рукой. Он курил сигарету. Протокол вел Феллер. Мы с Хенци остановились на пороге. Разносчик сидел к нам спиной и потому не заметил нас.
— Не убивал я, господин вахмистр, — прошептал разносчик.
— Я это и не утверждаю, я только говорю, что это возможно, — возразил Тройлер. — Прав я или нет, будет видно потом. Начнем по порядку. Значит, ты удобно расположился на опушке?
— Так точно, господин вахмистр.
— И заснул?
— Совершенно верно, господин вахмистр.
— Как же так? Ты ведь собирался в Мегендорф.
— Я очень устал, господин вахмистр.
— А зачем ты выспрашивал у почтальона насчет полицейского в Мегендорфе?
— Хотел знать, что к чему, господин вахмистр.
— А для чего?
— У меня просрочен патент. Так я хотел знать, как там обстоит дело с полицией.
— Как же там обстояло дело?
— Я выяснил, что в мегендорфском участке сидит заместитель. И побоялся туда идти.
— Я тоже заместитель, — сухо заметил полицейский. — Значит, меня ты тоже боишься?
— Так точно, господин вахмистр.
— Только из-за этого ты и решил не ходить в деревню?
— Так точно, господин вахмистр.
— Неплохая версия, — похвалил Тройлер, — может, найдется еще другая, получше, а самое главное — правдивее.
— Я сказал правду, господин вахмистр.
— А не хотел ли ты выспросить у почтальона, где находится полицейский — далеко или поблизости?
Разносчик недоверчиво посмотрел на Тройлера.
— Не понимаю, господин вахмистр.
— Ну как же, — благодушно пояснил Тройлер, — тебе нужно было узнать наверняка, что в Роткельской ложбинке нет полиции. Ты ведь поджидал девочку. Так я полагаю.
Разносчик с ужасом уставился на Тройлера.
— Да я никогда ее в глаза не видел, господин вахмистр, — в отчаянии закричал он, — хоть бы и видел, все равно не мог я это сделать. Я же был не один в ложбинке. На поле работали крестьяне. Верьте мне, я не убийца!
— Я тебе верю, — умиротворяюще сказал Тройлер. — Но пойми ты, мне же надо проверить твой рассказ. Ты говорил, что, отдохнувши, собрался вернуться в Цюрих, а сам пошел в лес?
— Буря надвигалась, и я решил сократить путь, господин вахмистр, — объяснил разносчик.
— И при этом наткнулся на труп девочки?
— Да.
— И не притронулся к нему?
— Нет, господин вахмистр.
Тройлер помолчал. Я не видел лица разносчика, но чувствовал его страх. Мне было жаль его. Однако я и сам начал верить в его виновность, может быть, потому, что мне хотелось найти наконец виновного.
— Мы забрали у тебя всю одежду и дали взамен другую. Ты соображаешь, фон Гунтен, для чего мы это сделали? — спросил Тройлер.
— Понятия не имею, господин вахмистр.
— Для бензидиновой пробы. А ты знаешь, что такое бензидиновая проба?
— Нет, господин вахмистр, — растерянно пролепетал разносчик.
— Это химическая проба для обнаружения следов крови, — объяснил Тройлер со зловещей безмятежностью. — Мы обнаружили на твоей куртке следы крови Это кровь убитой девочки.
— Я… я споткнулся о труп, господин вахмистр, — простонал фон Гунтен. — Это было ужасно!
Он закрыл лицо руками.
— Ты умолчал об этом, конечно, только от страха!
— Совершенно верно, господин вахмистр.
— И хочешь, чтобы мы и тут тебе поверили?
— Я не убийца, верьте мне, господин вахмистр, — в отчаянии молил разносчик. — Позовите доктора Маттеи, он знает, что я говорю правду. Прошу вас, позовите его.
— Доктор Маттеи больше не будет заниматься этим делом. Он завтра улетает в Иорданию.
— В Иорданию? Я не знал об этом, — прошептал фон Гунтен.
Он умолк и уставился в пол. В комнате была мертвая тишина, только тикали часы и на улице изредка проезжали машины.
Тут вступил Хенци. Прежде всего он затворил окно, затем уселся за стол, весь благоволение и предупредительность, только настольную лампу подвинул так, чтобы она освещала разносчика.
— Не волнуйтесь, господин фон Гунтен, — до приторности вежливо начал лейтенант, — мы отнюдь не собираемся вас мучить, основное для нас — добиться правды. Поэтому мы вынуждены прибегнуть к вашему содействию. Вы — главный свидетель, и ваш долг помочь нам.
— Конечно, господин доктор, — ответил разносчик, явно приободрившись.
Хенци набил себе трубку.
— Что вы курите, фон Гунтен?
— Сигареты, господин доктор.
— Тройлер, дайте ему сигарету.
Разносчик помотал головой. Он смотрел в пол. Его слепил яркий свет.
— Вам что, мешает лампа? — участливо осведомился Хенци.
— Она мне светит прямо в глаза.
Хенци поправил абажур.
— Так лучше?
— Лучше, — прошептал фон Гунтен. В его голосе прозвучала благодарная нотка.
— Скажите-ка, фон Гунтен, чем вы в основном торгуете? Тряпками для уборки?
— Да, между прочим, и ими, — опасливо ответил разносчик.
Он не понимал, к чему клонится этот вопрос.
— Еще чем?
— Шнурками для ботинок, господин доктор. Зубными щетками. Зубной пастой. Мылом. Кремом для бритья.
— Лезвиями?
— Лезвиями тоже, господин доктор.
— Какой фирмы?
— «Жилетт».
— И больше ничем, фон Гунтен?
— Как будто бы нет, господин доктор.
— Хорошо. Однако мне кажется, вы кое-что забыли, — заметил Хенци и опять занялся трубкой. — Не тянет, да и только! — И продолжал безразличным тоном: — Не смущайтесь, фон Гунтен, можете смело перечислить все свои вещички. Мы и так разворошили вашу корзину до самого дна.
Разносчик молчал.
— Ну, что же вы?
— Кухонными ножами, господин доктор, — покорно прошептал разносчик. Капли пота блестели у него на шее.
Хенци безмятежно попыхивал трубкой — воплощенная приветливость и доброжелательность.
— Дальше, фон Гунтен, чем еще, кроме кухонных ножей?
— Бритвами.
— Почему вы боялись упомянуть про них?
Разносчик молчал. Хенци как бы машинально протянул руку к абажуру. Но, увидев, что фон Гунтен вздрогнул, отвел ее. Вахмистр не спускал с разносчика глаз. Он курил сигарету за сигаретой. Хенци по-прежнему пыхтел трубкой. В комнате решительно нечем было дышать. Мне очень хотелось открыть окно. Но запертые окна входили в метод допроса.
— Девочка зарезана бритвой, — мягко, как бы вскользь заметил Хенци.
Молчание. Разносчик сидел на табурете, весь сникнув, как неживой.
— Поговорим по-мужски, милейший фон Гунтен, — откидываясь на спинку кресла, начал Хенци. — К чему ходить вокруг да около? Я знаю, что убийство совершено вами. Но знаю также, что вы потрясены этим не меньше меня, не меньше всех нас. Что-то на вас накатило, вы не помнили себя, точно зверь набросились на девочку и убили ее. Вас, помимо вашей воли, толкала какая-то неудержимая сила. Когда же вы очнулись, вам стало до смерти страшно. Вы бросились в Мегендорф, чтобы заявить на себя. Но в последнюю минуту у вас не хватило духу на такое признание. Соберитесь же с духом сейчас, фон Гунтен. А мы вам в этом поможем.
Хенци замолчал. Разносчик покачнулся на своем табурете — казалось, он вот-вот рухнет наземь.
— Говорю вам как друг, фон Гунтен, — убеждал Хенци, — не упускайте этой возможности.
— Я устал, — простонал разносчик.
— Все мы устали, — подхватил Хенци. — Вахмистр Тройлер, позаботьтесь, чтобы нам принесли кофе, а немного попозже пива. Разумеется, и для нашего друга фон Гунтена, пусть знает гостеприимство нашей кантональной полиции.
— Я невиновен, комиссар, верьте мне, невиновен, — хрипло прошептал разносчик.
Зазвонил телефон; Хенци снял трубку, назвался, выслушал внимательно, положил трубку на рычаг, ухмыльнулся.
— Скажите-ка, фон Гунтен, что вы ели вчера на обед? — благодушно спросил он.
— Бернские колбаски.
— Так. А еще что?
— На десерт — сыр.
— Какой? Эмментальский? Грюйерский?
— Нет, тильзитский и горгонцолу, — ответил фон Гунтен и отер пот, заливавший ему глаза.
— Неплохо едят торговцы вразнос, — заметил Хенци. — А больше вы ничего не ели?
— Ничего.
— Советую вам как следует подумать, — настаивал Хенци.
— Шоколад, — вспомнил фон Гунтен.
— Видите, вспомнили, — поощрительно кивнул Хенци. — А где вы ели шоколад?
— На опушке, — ответил разносчик и посмотрел на Хенци недоверчивым и усталым взглядом.
Лейтенант погасил настольную лампу. Теперь только верхний свет слабо пробивался сквозь облака табачного дыма.
— Я получил сейчас сведения из института судебной медицины, фон Гунтен, — соболезнующим тоном заявил он. — Вскрытие обнаружило в желудке девочки шоколад.
Теперь уже и я не сомневался в виновности разносчика. Его признание было только вопросом времени. Я кивнул Хенци и вышел из комнаты.
14
Я не ошибся. На следующий день, в субботу, Хенци позвонил мне в семь утра. Разносчик сознался. В восемь я приехал к себе на службу. Хенци все еще находился в бывшем кабинете Маттеи. Он стоял у открытого окна, обернулся ко мне с утомленным видом и поздоровался. Пол был уставлен бутылками из-под пива, пепельницы переполнены. Кроме него, в кабинете ни души.
— Признание со всеми подробностями? — спросил я.
— Это еще впереди. Главное, что он признал убийство на сексуальной почве, — ответил Хенци.
— Надеюсь, ничего противозаконного допущено не было? — пробурчал я.
Допрос длился свыше двадцати часов. Это, конечно, не разрешается, но не могут же сотрудники полиции всегда точно следовать предписаниям.
— Никаких других недозволенных приемов допущено не было, — заверил меня Хенци.
Я пошел в свою «boutique» и приказал привести разносчика. Он едва стоял на ногах, полицейскому пришлось его поддержать, однако он не сел, когда я предложил ему стул.
— Я слышал, фон Гунтен, вы сознались в убийстве Гритли Мозер, — сказал я, и голос мой прозвучал мягче, чем следовало.
— Да, я зарезал девочку, — еле слышно ответил разносчик, глядя в землю. — Оставьте меня теперь в покое.
— Подите выспитесь, фон Гунтен, а потом мы поговорим, — сказал я.
Его увели. В дверях он столкнулся с Маттеи и остановился как вкопанный. С трудом переводя дух, он открыл рот, будто хотел что-то сказать, но промолчал. Только посмотрел на Маттеи, а тот смущенно посторонился.
— Иди, иди, — приказал полицейский и увел фон Гунтена.
Маттеи вошел в мою «boutique» и прикрыл за собой дверь. Я закурил сигару.
— Что вы на это скажете, Маттеи?
— Беднягу допрашивали двадцать часов подряд?
— Этот прием Хенци заимствовал у вас. Вы тоже бывали так настойчивы в допросах, — напомнил я. — Вы не находите, что он недурно справился с первым самостоятельным делом?
Маттеи ничего не ответил.
— Я велел принести две чашки кофе с бриошами.
У нас обоих совесть была нечиста. Горячий кофе не разогнал дурного настроения.
— Мне почему-то кажется, что фон Гунтен отречется от признания, — высказался наконец Маттеи.
— Возможно, — хмуро ответил я, — тогда будем заново обрабатывать его.
— Вы считаете его виновным? — спросил он.
— А вы нет? — в ответ спросил я.
— Да, собственно, я тоже, — не сразу и довольно неуверенно ответил он.
В окно матовым серебром вливался утренний свет. С Сильской набережной долетали городские шумы, из казармы, печатая шаг, вышли солдаты.
Вдруг появился Хенци. Он вошел не постучавшись.
— Фон Гунтен повесился, — доложил он.
15
Камера находилась в конце длинного коридора. Мы бросились туда. Двое полицейских хлопотали возле разносчика. Он лежал на полу. Ему разорвали ворот рубахи. Волосатая грудь была недвижима. На окне еще болтались помочи.
— Сколько ни старайся, ничего не поможет, — сказал один из полицейских. — Он умер.
Я снова разжег погасшую «Байанос», а Хенци закурил сигарету.
— Теперь можно подвести черту под делом об убийстве Гритли Мозер, — заключил я. — А вам, Маттеи, желаю приятного полета в Иорданию. — И усталым шагом направился по нескончаемому коридору к себе в кабинет.
16
Однако, когда Феллер около двух часов дня приехал на служебной машине в «Урбан», чтобы отвезти Маттеи в аэропорт, и когда чемоданы уже были погружены в багажник, тот вдруг заявил, что времени до отлета много и можно сделать крюк через Мегендорф. Феллер послушно поехал лесом. На деревенскую площадь они выбрались в ту минуту, когда погребальная процессия, длинная вереница безмолвных людей, как раз вступала туда. На похороны собралось множество народу из ближайших деревень и даже из города. Газеты уже сообщили о смерти фон Гунтена; у всех отлегло от сердца: как-никак, а справедливость восторжествовала. Маттеи вышел из машины и вместе с Феллером встал в толпе детей у церковной паперти. Увитый белыми розами гроб стоял на колеснице, в которую было впряжено две лошади. За гробом, предводительствуемые учительницей, учителем и пастором, по двое шли мегендорфские детишки, и каждая пара несла венок, все девочки были в белых платьицах. За ними следовали две черные фигуры — родители Гритли Мозер. Мать остановилась и посмотрела на комиссара полиции. Лицо ее словно окаменело, в глазах — пустота.
— Вы сдержали обещание, — произнесла она тихо, но так внятно, что Маттеи расслышал каждое слово. — Благодарю вас. — И пошла дальше, выступая прямо и гордо рядом со сгорбленным, разом состарившимся мужем.
Маттеи подождал, пока мимо него не прошла вся процессия: председатель общины, представители властей, крестьяне, рабочие, матери семейств, девушки — все в самой парадной, праздничной одежде. Все безмолвствовало под лучами предвечернего солнца, замерла и толпа зрителей, только слышались гулкие удары колоколов, громыхание колесницы и топот бесчисленных шагов по булыжной мостовой.
— В Клотен, — бросил Маттеи, снова садясь в машину.
17
Попрощавшись с Феллером и пройдя паспортный контроль, он купил в зале ожидания «Нойе цюрхер цайтунг»[47]. Там была напечатана фотография фон Гунтена как убийцы Гритли Мозер и тут же фото Маттеи с заметкой о его лестном назначении. О нем говорилось как о человеке, достигшем высшей ступени служебной лестницы. Перекинув через руку дождевик, он уже шагал по летному полю, как вдруг заметил, что терраса аэровокзала битком набита детьми. Это были школьники, совершавшие экскурсию по аэропорту. Это были девочки и мальчики в яркой летней одежде; они махали флажками и носовыми платочками, взвизгивая от восторга при виде взлета и посадки гигантских серебристых машин. Маттеи остановился было, но тут же двинулся дальше, к стоявшему наготове самолету компании «Свиссэр»; когда он подошел, остальные пассажиры уже заняли свои места. Стюардесса, проводившая отъезжающих к самолету, протянула руку за билетом Маттеи, но тот обернулся и, не отрываясь, смотрел на ораву детей, радостно и завистливо махавших руками готовой к отлету машине.
— Я не полечу, фройляйн, — сказал он, вернулся в здание аэровокзала, прошел под террасой, набитой детворой, и направился к выходу.
18
Я принял Маттеи только в воскресенье утром, и не в своей «boutique», а в официальном служебном кабинете, откуда открывается столь же казенный вид на Сильскую набережную. Стены увешаны полотнами признанных цюрихских живописцев — Гублера[48], Моргенталера[49], Хунцикера[50]. Я уже получил порцию неприятностей и был донельзя зол — мне звонило из политического департамента сановное лицо, которое изъяснялось не иначе, как по-французски. Иорданское посольство заявило протест, и Федеральный совет сделал запрос, на который я не мог ответить потому, что и сам не понимал поведения своего бывшего подчиненного.
— Садитесь, господин Маттеи, — предложил я.
Официальность моего тона явно огорчила его. Мы сели.
Я не курил и закуривать не собирался. Это встревожило его.
— Федеральное правительство заключило с государством Иордания договор, в соответствии с которым предоставило в его распоряжение специалиста по организации полицейского дела, — начал я. — Вы, доктор Маттеи, в свою очередь заключили с Иорданией соответствующий контракт. Вы не пожелали ехать и тем самым нарушили оба договора. Мы с вами юристы, а посему разъяснения тут излишни.
— Конечно, — подтвердил Маттеи.
— В связи с этим прошу вас возможно скорее отправиться в Иорданию, — заключил я.
— Я не поеду, — ответил Маттеи.
— Почему?
— Убийца Гритли Мозер еще не найден.
— Вы считаете разносчика невиновным?
— Да.
— Но у нас есть его признание.
— Должно быть, у него сдали нервы. Еще бы: непрерывный допрос, безнадежность, чувство отверженности. Есть тут и моя доля вины, — вполголоса продолжал он. — Разносчик обратился ко мне, а я ему не помог. Я торопился в Иорданию.
Странное создалось положение. Еще накануне в наших разговорах царила полная непринужденность. А сейчас мы сидели друг против друга с официальным, чопорным видом, оба в парадных костюмах.
— Прошу вас, господин начальник, передать мне это дело на доследование, — сказал Маттеи.
— На это я не могу согласиться. Ни под каким видом! Вы больше у нас не работаете, доктор Маттеи.
Маттеи в изумлении воззрился на меня.
— Я уволен?
— Вы поступили на службу к иорданскому правительству и, таким образом, ушли от нас, — спокойно пояснил я. — Договор вы нарушили — это ваше дело. Но, зачислив вас снова, мы тем самым косвенно одобрим ваш поступок. Поймите, это невозможно.
— Вот как. Понимаю, — произнес Маттеи.
— И ничего тут поделать нельзя, — заключил я.
Мы помолчали.
— Когда я по дороге в аэропорт завернул в Мегендорф, я увидел там детей.
— И что же?
— За гробом шли дети, много детей.
— Ничего удивительного.
— И на аэродроме тоже были дети, школьники, целыми классами.
— Ну так что же? — я удивленно посмотрел на Маттеи.
— А что, если я прав, что, если убийца Гритли жив, тогда, значит, другим детям грозит такая же опасность? — спросил Маттеи.
— Разумеется, — спокойно подтвердил я.
— А раз такая угроза существует, обязанность полиции защитить детей, пресечь возможность нового преступления, — с жаром закончил Маттеи.
— Так вот почему вы не улетели: чтобы защитить детей, — медленно выговорил я.
— Да, потому, — ответил Маттеи.
Я помолчал. Поведение Маттеи стало мне понятнее. Да, согласился я, вполне возможно, что угроза для детей не устранена. В случае, если его, Маттеи, предположение правильно, остается только надеяться, что настоящий убийца как-то выдаст себя или, на худой конец, в следующий раз оставит такие следы преступления, за которые можно будет уцепиться. Мои слова звучат цинично. Но это не цинизм, а жестокая правда. Власть полиции ограничена — и она должна быть ограничена. Хотя на свете возможно решительно все, даже самое невероятное, исходить надо из вероятия. Мы не можем с полной уверенностью утверждать, что фон Гунтен виновен, впрочем, такой уверенности у нас почти и не бывает. Мы можем говорить только о вероятии его виновности. Если отбросить домыслы о каких-то неведомых преступниках, единственным, на кого падает подозрение, остается разносчик. Он уже был повинен в преступлении против нравственности, при нем найдены бритвы и шоколад, на одежде у него обнаружена кровь, далее — своими торговыми делами он занимался также в кантонах Швиц и Санкт-Галлен, где были совершены два таких же убийства, и, наконец, он сознался сам и покончил с собой. После всего этого проверка его виновности — занятие чисто дилетантское. Здравый человеческий смысл говорит, что убийство совершил фон Гунтен. Конечно, здравый смысл может дать осечку, а мы можем по-человечески заблуждаться. Но такой риск нам часто приходится брать на себя. Убийство Гритли Мозер не единственное преступление, которым мы вынуждены заниматься. Только что оперативная группа выехала в Шлирен. Кроме того, за нынешнюю ночь совершены четыре кражи со взломом. Даже по чисто техническим причинам мы не можем позволить себе роскошь повторного расследования. Что было возможно, мы сделали. А дети всегда под угрозой. За год происходит свыше двухсот преступлений против нравственности. В одном только нашем кантоне. Надо инструктировать родителей, предостерегать детей, мы все это и делаем, но сплести такую частую полицейскую сеть, чтобы не оставить лазейки для преступлений, — это не в наших силах. Преступления совершаются постоянно, и объяснять это следует вовсе не тем, что полицейских мало, а тем, что они вообще есть. В нас не было бы необходимости, не будь преступлений. Вот о чем нам всегда надо помнить. Он, Маттеи, прав, мы должны исполнять свой долг, и первый наш долг — не выходить за положенные нам пределы, иначе мы попросту создадим полицейское государство.
Я замолчал.
С улицы донесся перезвон колоколов.
— Поверьте, я понимаю всю… сложность вашего положения. Вы действительно очутились между двух стульев, — вежливо заметил я, показывая, что разговор окончен.
— Благодарю вас, господин доктор. В первую очередь я займусь делом об убийстве Гритли Мозер. На свой страх и риск.
— Выбросьте вы эту историю из головы, — посоветовал я.
— Ни в коем случае, — возразил он.
Я подавил раздражение.
— Если так, прошу вас больше не докучать нам, — только и сказал я, вставая.
— Как вам будет угодно, — ответил Маттеи.
После чего мы расстались, не подав друг другу руки.
19
Нелегко было Маттеи, покидая пустое здание полиции, пройти мимо своего бывшего кабинета. Табличку на дверях успели сменить, а Феллер, который околачивался здесь по воскресеньям, явно смутился, встретившись с ним, и промямлил что-то невразумительное. У Маттеи было такое чувство, точно он выходец с того света, а главное, его огорчало, что он не может пользоваться служебной машиной. Ему хотелось как можно скорее добраться до Мегендорфа, но выполнить это намерение было не так-то легко: вроде бы и недалеко это местечко, да путь туда довольно сложный. Надо ехать восьмым трамваем, потом пересесть на автобус. В вагоне оказался Тройлер с женой. Они ехали к ее родителям; он вытаращил на полицейского комиссара глаза, но от вопросов воздержался. Вообще Маттеи встретил кучу знакомых, какого-то преподавателя Высшего технического училища, какого-то художника. Он очень туманно объяснял, почему не уехал в Иорданию, и всякий раз возникало ощущение неловкости, тем более что его «повышение» и отъезд были торжественно отпразднованы; и опять он почувствовал себя выходцем с того света.
В Мегендорфе только что отзвонили колокола. Крестьяне в воскресной одежде толкались на деревенской площади или кучками направлялись к «Оленю». В воздухе против предыдущих дней посвежело, с запада наплывали тучи. Возле дома «На болотцах» мальчишки уже играли в футбол; ничто не напоминало о том, что на днях неподалеку от деревни произошло убийство. Все было радостно, где-то пели «У колодца близ ворот». Перед, большим крестьянским домом с высоченной кровлей и стенами из брусьев ребятишки играли в прятки; какой-то мальчуган сосчитал до десяти, и все бросились врассыпную. Маттеи остановился посмотреть на их игру.
— Дядя, — послышался шепот позади него.
Он обернулся. Между поленницей дров и садовой оградой стояла девчушка в голубом платьице. Волосы каштановые, глаза карие. Урсула Фельман.
— Что тебе? — спросил комиссар полиции.
— Стань передо мной, чтобы меня не нашли, — прошептала девочка.
Маттеи послушно встал.
— Урсула, — начал он.
— Не говори так громко. А то услышат, что ты с кем-то разговариваешь, — прошептала девочка.
— Урсула, — прошептал теперь и Маттеи, — про великана я не верю.
— Что ты не веришь?
— Что Гритли Мозер встретился великан ростом с гору.
— А он есть на самом деле.
— Ты его видела?
— Нет, Гритли видела. Замолчи скорей.
Рыжеватый веснушчатый парнишка крался из-за дома.
Он-то и должен был искать остальных. Постояв перед полицейским комиссаром, он так же крадучись огибал теперь дом с другой стороны.
Девочка тихонько хихикнула.
— Не заметил меня.
— Гритли рассказывала тебе сказки, — шептал Маттеи.
— Неправда, великан каждую неделю ждал Гритли, дарил ей ежиков, — отвечала девочка.
— Где он ждал?
— В Роткельской ложбинке. Гритли даже нарисовала его. А ты говоришь, его нет! И ежиков нарисовала.
Маттеи был ошеломлен.
— Нарисовала великана?
— Рисунок висит в классе, — сказала девочка. — Отойди-ка. — И она прошмыгнула между поленницей и Маттеи, подскочила к дому и с торжествующим видом стукнула о дверной косяк, опередив мальчугана, со всех ног бежавшего из-за дома.
20
То, что я узнал в понедельник утром, было непонятно и тревожно. Сначала позвонил председатель мегендорфской общины и пожаловался, что Маттеи проник в школу и похитил рисунок убитой Гритли Мозер; он требует, чтобы кантональная полиция перестала рыскать по деревне и дала им отдохнуть после таких страхов; в заключение он довольно нелюбезно предупредил меня, что натравит на Маттеи цепную собаку, если тот еще раз посмеет сунуться в его деревню. Вслед за тем с жалобой на Маттеи явился Хенци: между ними произошло бурное объяснение, и что неприятнее всего — в «Кроненхалле». Его прежний начальник был при этом явно на взводе, единым духом выпил целый литр из réserve du patron[51], вслед за тем потребовал коньяка и обвинил Хенци в том, что он угробил невиновного; супруга Хенци, урожденная Хоттингер, была до крайности шокирована. Но на этом дело не кончилось. После утреннего рапорта Феллер сообщил мне — и как на грех со слов шпика из городской полиции, — будто Маттеи шляется по барам и живет теперь в гостинице «Рекс». Из другого источника доложили, что Маттеи начал еще и курить. «Парижские». Человека словно подменили, словно он внезапно переродился. Боясь, как бы после такого нервного возбуждения не произошло срыва, я позвонил психиатру, которого мы неоднократно приглашали на экспертизу.
Каково же было мое удивление, когда врач сообщил мне, что Маттеи просил принять его в тот же день к вечеру. Я поспешил рассказать врачу о случившемся.
После всего этого я написал в иорданское посольство, что Маттеи заболел и просит дать ему отпуск, а через два месяца он не преминет прибыть в Амман.
21
Частная психиатрическая клиника находилась довольно далеко от города, близ деревни Рётен. Маттеи поехал поездом и затем порядочный путь прошел пешком. У него не хватило терпения дождаться почтовой машины, которая очень скоро обогнала его, и он с досадой посмотрел ей вслед. Он проходил через крестьянские поселки. У обочины играли ребятишки, в поле работали крестьяне. Небо было серебристо-серое, затянутое тучами. Снова похолодало, температура понизилась, но, к счастью, до нуля не дошла. Маттеи шагал вдоль гряды холмов, а сейчас же за Рётеном свернул на дорогу, ведущую по косогору к больнице. Прежде всего ему бросилось в глаза мрачное желтое строение с высокой дымовой трубой, скорее похожее на заводской цех. Однако дальше картина стала приветливее. Правда, главное здание заслоняли буки и тополя, но среди них Маттеи заметил и кедры, и даже гигантскую веллингтонию. Он вошел в парк, дорога разветвлялась. Маттеи свернул в ту сторону, куда указывала табличка с надписью «Дирекция». Сквозь деревья и кустарник поблескивал пруд, а может, это была полоска тумана. Тишина стояла мертвая. Маттеи слышал только хруст собственных шагов по гравию дорожки. Немного дальше он услышал, как шуршат грабли. На дороге работал молодой парень. Движения его были медленны и методичны. Маттеи остановился в нерешительности. Он не знал, куда повернуть теперь, а другой таблички не было.
— Вы не скажете, где помещается дирекция? — обратился он к молодому человеку.
Тот не ответил ни слова. Он по-прежнему невозмутимо и методично, как автомат, возил граблями по дороге, словно никто с ним не заговаривал, словно никого здесь и не было. Лицо его ничего не выражало, а так как работа явно не соответствовала его незаурядной физической силе, комиссару стало не по себе. Ему показалось, что парень может ни с того ни с сего замахнуться граблями. Чувствуя, что настаивать небезопасно, он нерешительно двинулся дальше и вошел в какой-то двор. За первым двором был второй, побольше. По обе стороны, как в монастыре, тянулись крытые галереи, но замыкало двор здание, напоминающее загородную виллу. Здесь тоже не было ни души, только откуда-то доносился жалобный голос, тонкий и умоляющий; он все время без устали, без перерыва повторял одно и то же слово. Маттеи опять остановился в нерешительности. Его охватила непонятная тоска. Никогда еще не испытывал он такого чувства безнадежности. Он нажал ручку обветшалой парадной двери, растрескавшейся и поцарапанной, но дверь не поддалась. А голос, все тот же голос, повторял свою жалобу. Маттеи, как во сне, побрел по крытому проходу. В больших каменных вазах цвели красные тюльпаны, желтые тюльпаны… Наконец он услышал шаги. Высокий старик шествовал по двору с брезгливым и недоумевающим видом. Его вела сестра.
— Добрый день, — сказал комиссар полиции, — мне нужно к профессору Лохеру.
— Вам назначено? — спросила сестра.
— Меня ожидают.
— Пройдите в приемную. — Сестра указала на двустворчатую дверь. — К вам выйдут.
Она пошла дальше, держа под руку старика, дремавшего на ходу, открыла какую-то дверь и скрылась вместе с ним. Голос все еще доносился откуда-то издали. Маттеи вошел в приемную. Это была просторная комната, обставленная старинной мебелью: вольтеровские кресла, огромный диван, над ним в массивной золоченой раме портрет пожилого мужчины — должно быть, учредителя больницы. Кроме того, на стенах были развешаны пейзажи тропических стран, скорее всего Бразилии. Маттеи как будто узнал окрестности Рио-де-Жанейро. Он подошел к двустворчатым дверям, они вели на террасу. Каменные перила были уставлены огромными кактусами. Но парк уже совсем скрылся за сгустившимся туманом. Маттеи смутно различал волнистый ландшафт, посередине не то статуя, не то надгробный памятник, а рядом грозным призраком стоял серебристый тополь. Полицейский комиссар начал терять терпение, закурил сигарету. Эта новая страсть немного успокоила его. Он вернулся в комнату, к дивану, перед которым стоял старый круглый стол со старыми книгами: Гастон Бонье «История французской, швейцарской и бельгийской флоры». Он полистал их. Тщательно вырисованные таблицы, изображения цветов и трав, наверно, очень красивые и успокаивающие. Но полицейскому комиссару они были ни к чему. Он закурил вторую сигарету. Наконец появилась сестра, низенькая подвижная особа в очках без оправы.
— Господин Маттеи? — спросила она.
— Совершенно верно.
Сестра огляделась по сторонам.
— Вы без вещей?
Маттеи отрицательно покачал головой, удивившись такому вопросу.
— Я хотел бы только задать доктору несколько вопросов, — пояснил он.
— Прошу вас, — сказала сестра и распахнула перед Маттеи маленькую дверцу.
22
Он вошел в маленькую, на удивление убогую комнату. Ничто здесь не напоминало врачебный кабинет. На стенах пейзажи, как в приемной, да еще фотографии ученых мужей, бородатых уродов в очках без оправы, — по-видимому, предшественников доктора Лохера. Письменный стол и стулья были сплошь завалены книгами, кроме одного старого кожаного кресла. Врач сидел, уткнувшись в истории болезней. Это был щуплый, похожий на птицу человечек в белом халате и так же, как сестра и бородатые чучела на стенах, в очках без оправы. Очки без оправы, очевидно, были здесь непременным атрибутом, кто его знает, может быть, даже отличительным признаком какого-то тайного ордена, вроде монашеской тонзуры.
Сестра удалилась. Лохер встал, поздоровался с Маттеи.
— Милости прошу, располагайтесь поудобнее, — смущенно сказал он. — Тут у нас не очень пышно. Мы ведь благотворительное учреждение. И с финансами бывает туговато.
Маттеи сел в кожаное кресло. В комнате было так темно, что врач зажег настольную лампу.
— Разрешите закурить? — спросил Маттеи.
Лохер изумился.
— Пожалуйста, — ответил он и пристально посмотрел на Маттеи поверх своих тусклых очков. — Вы как будто не курили раньше?
— Никогда не курил.
Врач взял лист бумаги и принялся что-то записывать. Должно быть, какие-то данные. Маттеи ждал.
— Вы родились одиннадцатого ноября тысяча девятьсот третьего года. Правильно? — спросил врач, продолжая строчить.
— Ну да.
— По-прежнему проживаете в гостинице «Урбан»?
— Нет, теперь в «Рексе».
— Ага, в «Рексе», на Вайнбергштрассе. Так вы, мой друг, и ютитесь по гостиницам.
— Вас это удивляет?
Врач поднял глаза от бумаг.
— Странный вы человек, Маттеи, — заговорил он. — Тридцать лет постоянно живете в Цюрихе… Другие обзаводятся семьей, растят детей, смотрят в будущее. Неужели у вас вообще нет личной жизни? Простите мой нескромный вопрос.
— Понимаю, — протянул Маттеи, ему сразу стало ясно все, в том числе и вопросы сестры насчет чемоданов. — Значит, шеф опередил меня.
Врач бережно отложил авторучку.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вам поручили обследовать меня, — уточнил Маттеи и потушил сигарету. — Кантональная полиция сомневается в моей… нормальности.
Оба замолчали. Сплошной туман застилал окно и серой слепой мглой вползал в тесную комнату, набитую книгами и папками. А в комнате, и без того промозглой, стоял холод, запах сырости и каких-то лекарств.
Маттеи встал, подошел к двери и распахнул ее. За дверью ожидали, скрестив руки, двое мужчин в белых халатах. Маттеи снова закрыл дверь.
— Два санитара. На случай, если я буду упираться.
Лохера нелегко было вывести из равновесия.
— Послушайте, Маттеи, — сказал он, — я буду говорить с вами как врач.
— Сделайте одолжение, — ответил Маттеи и опустился в кресло.
Ему стало известно, начал Лохер, снова берясь за авторучку, что за последнее время Маттеи совершил ряд поступков, которые решительно выпадают из нормы. Пора наконец поговорить откровенно. У самого Маттеи профессия суровая, которая вынуждает поступать сурово с теми, кто попадет в его орбиту, так пускай же не посетует, если он, Лохер, выскажется начистоту: врачебная профессия тоже приучает к суровости. В самом деле, как это понять? Человек ни с того ни с сего добровольно упускает такой исключительный случай, как назначение в Иорданию. И при этом вбивает себе в голову, что ему нужно искать убийцу, который уже найден. Наконец, эта новая привычка к курению, неожиданное пристрастие к выпивке — в одиночку целый литр из réserve du patron, а следом четыре двойные порции коньяку! Помилуйте, дружище! Старина! Такие резкие перемены в характере положительно смахивают на симптомы серьезного заболевания. Ради его же блага ему, Маттеи, следует подвергнуться тщательному обследованию, чтобы они имели полную, как клиническую, так и психологическую, картину, а посему он, Лохер, предлагает ему пробыть несколько дней в Рётене.
Врач замолчал, опять уткнулся в свои бумаги и принялся что-то строчить.
— У вас бывают периодические повышения температуры?
— Нет.
— Нарушения речи?
— Тоже нет.
— Слуховые галлюцинации?
— Что за чушь?
— Потливость?
Маттеи помотал головой. Темнота и болтовня доктора действовали ему на нервы. Он ощупью искал сигареты. Наконец нашел, и, когда взял зажженную спичку, которую протянул ему доктор, рука у него дрожала. От злости. Уж очень глупое создалось положение, надо было это предвидеть и обратиться к другому психиатру. Но он искренне любил этого доктора и, скорее из личной симпатии, время от времени приглашал его экспертом на Казарменную улицу; он доверял Лохеру, потому что другие врачи отзывались о нем пренебрежительно и потому что он слыл чудаком и фантазером.
— Волнуетесь, — почти что радостно констатировал Лохер. — Позвать сестру? Может, хотите пойти в свою палату?
— И не собираюсь, — ответил Маттеи. — Есть у вас коньяк?
— Лучше я дам вам успокоительного, — предложил врач и поднялся с кресла.
— Не нужно мне ваших успокоительных, мне нужен коньяк! — грубо отрезал Маттеи.
Должно быть, врач нажал кнопку скрытой сигнализации, потому что в дверях появился санитар.
— Принесите из моей квартиры бутылку коньяку и две рюмки, — приказал врач, потирая руки, должно быть, от холода. — Поживее, одним махом.
Санитар исчез.
— Право же, Маттеи, я считаю, что вы должны быть срочно госпитализированы. Иначе вас со дня на день ждет полный душевный и физический крах. А ведь мы хотим его избежать, не так ли? И при некотором старании нам это удастся.
Маттеи ничего не ответил. Замолчал и врач. Только раз зазвонил телефон. Лохер снял трубку и сказал; «Я занят».
За окном была уже полная чернота, так быстро стемнело в этот вечер.
— Зажечь верхний свет? — спросил врач, чтобы нарушить молчание.
— Нет.
Маттеи вполне овладел собой. Когда санитар принес коньяк, он налил себе рюмку, выпил и налил вторую.
— Лохер, — обратился он к врачу. — Бросьте вы эти штучки с «дружищем», «стариной», «одним махом» и всем прочим. Вы — врач. Бывали у вас такие пациенты, чье заболевание вы не могли распознать?
Доктор изумленно посмотрел на Маттеи. Этот вопрос огорошил, встревожил его, непонятно было, к чему он клонит.
— Значительная часть моих больных остается без диагноза, — честно признался он наконец и тут же почувствовал, что не имел права так ответить пациенту, а он все еще смотрел на Маттеи как на пациента.
— Охотно верю, принимая во внимание вашу специальность, — заметил Маттеи с иронией, от которой у врача защемило сердце.
— Вы явились сюда, чтобы задать мне этот вопрос?
— Не только.
— Объясните, Бога ради, что с вами творится? — смущенно спросил врач. — Вы же у нас образец благоразумия.
— Сам не знаю, — неуверенно ответил Маттеи, — все эта убитая девочка.
— Гритли Мозер?
— Она не выходит у меня из головы.
— Этим вы и мучаетесь?
— У вас есть дети? — спросил Маттеи.
— Я ведь тоже не женат, — тихо ответил врач и опять смутился.
— Ах, тоже, — Маттеи угрюмо умолк. — Видите ли, Лохер, — заговорил он опять. — Я смотрел внимательно, а не отворачивался, как мой преемник Хенци, образец нормальности. На палой листве лежал изуродованный труп, не тронуто было только лицо, детское личико. Я смотрел не отрываясь, в кустах валялось красное платьице и печенье. Но и это было не самым страшным.
Маттеи снова замолчал. Словно испугался. Он принадлежал к тем людям, которые никогда не говорят о себе, а сейчас он был вынужден изменить своему правилу, потому что нуждался в этом щуплом, похожем на птицу человечке со смешными очками; в нем одном мог он найти поддержку, но за это надо было открыть ему душу.
— Вас совершенно справедливо удивляет, почему я до сих пор живу в гостинице, — заговорил он наконец. — Мне не хотелось быть на равной ноге с прочим миром, я предпочитал подчинять его своему искусству, а не скорбеть вместе с ним. Я хотел быть выше его и хладнокровно управлять им, как техник управляет машиной. У меня хватило сил не отвести взгляда от девочки, но, когда я столкнулся с родителями, силы вдруг изменили мне, я жаждал только вырваться из этого окаянного дома «На болотцах» и пообещал найти убийцу, поклялся спасением своей души, лишь бы убежать от горя родителей, и не подумал о том, что не смогу сдержать обещание потому, что мне надо лететь в Иорданию. И вот я опять дал волю привычному равнодушию. Какая это гнусность, Лохер! Я не отстаивал разносчика. Я ни против чего не возражал. Я снова превратился в нечто бесстрастное, в «Маттеи — каюк злодеям», как прозвали меня уголовники. Я укрылся за хладнокровием, за превосходством, за буквой закона, за нечеловеческим безразличием. Вдруг я увидел в аэропорту детей.
Врач отодвинул свои записи.
— Я вернулся. Остальное вам известно, — заключил Маттеи.
— А теперь? — спросил врач.
— Теперь я тут. Я не верю в вину разносчика и должен сдержать обещание.
Врач поднялся, подошел к окну.
Появился один санитар, за ним второй.
— Ступайте в свое отделение. Вы мне больше не нужны, — распорядился врач.
Маттеи налил себе коньяку и рассмеялся.
— Недурной «Реми Мартэн».
Врач все еще стоял у окна и смотрел в сад.
— Чем я могу вам помочь? — беспомощно спросил он. — Ведь я же не криминалист. — Он повернулся к Маттеи. — А почему, собственно, вы считаете, что разносчик невиновен?
— Вот, смотрите.
Маттеи положил на стол листок бумаги и бережно развернул его. Это был детский рисунок. Справа внизу неумелым почерком было выведено «Гритли Мозер», а сам рисунок, сделанный цветными карандашами, изображал мужчину. Очень большой мужчина, больше, чем елки, которые, точно диковинные травы, окружали его, был нарисован так, как рисуют дети, — точка, точка, запятая, вышла рожица кривая. Он был в черной шляпе и одет во все черное. Из правой руки (кружок с пятью черточками) как звезды сыпались кружочки, утыканные волосками, на стоявшую внизу малюсенькую девочку, еще меньше елок. На самом верху, уже, собственно, на небе, стоял автомобиль, а рядом — диковинный зверь с какими-то странными рогами.
— Это рисунок Гритли Мозер. Я взял его из класса, — сказал Маттеи.
— Что он должен изображать? — спросил врач, с недоумением разглядывая рисунок.
— Ежикового великана.
— А это что значит?
— Гритли рассказывала, что великан дарил ей в лесу ежиков. Рисунок изображает эту встречу, — разъяснил Маттеи, указывая на кружочки с волосками.
— И вы считаете…
— Я считаю вполне вероятным, что Гритли Мозер в виде ежикового великана изобразила своего убийцу.
— Глупости, Маттеи, — рассердился врач, — этот рисунок просто продукт детского воображения. Не стоит строить на нем никаких надежд.
— Пожалуй, но посмотрите, как точно воспроизведен автомобиль. Если хотите, в нем даже можно узнать американскую машину старого образца. Да и сам великан как будто срисован с натуры.
— Перестаньте рассказывать сказки, великанов в натуре не бывает, — раздраженно отрезал врач.
— Маленькой девочке большой, громоздкий мужчина смело может показаться великаном.
Врач с интересом посмотрел на Маттеи.
— Вы считаете, что убийца — мужчина высокого роста?
— Это, конечно, смутная догадка, — уклончиво ответил комиссар полиции. — Если она правильна, тогда, значит, убийца разъезжает в черной американской машине устарелого образца.
Лохер сдвинул очки на лоб, взял в руки рисунок и внимательно вгляделся в него.
— Но при чем же тут я? — неуверенно спросил он.
— Допустим, этот рисунок — единственная улика, которой я располагаю, — пояснил Маттеи. — Тогда он будет для меня все равно что рентгеновский снимок для профана. Я никак не сумею его истолковать.
Врач покачал головой.
— Этот детский рисунок не дает никакого представления об убийце, — ответил он, откладывая рисунок в сторону. — Вот девочку легко по нему охарактеризовать. Гритли, по всей вероятности, была умненьким, развитым и жизнерадостным ребенком. Ведь дети рисуют не только то, что видят, но и то, что они при этом чувствуют. Фантазия и реальность сливаются воедино. Единственные реальности на этом рисунке — высокий мужчина, автомобиль и девочка; все остальное как будто засекречено: и ежики, и зверь с большими рогами. Сплошные загадки. А ключ к ним Гритли, увы, унесла с собой в могилу. Я медик и не умею вызывать духов. Забирайте свой рисунок. И не глупите, нечего им заниматься.
— Вы просто боитесь заняться.
— Мне противна пустая трата времени.
— То, что вы называете пустой тратой времени, скорее следует назвать старым методом, — возразил Маттеи. — Вы, как ученый, знаете, что такое рабочая гипотеза. Примите мое предположение, что на рисунке изображен убийца, именно как рабочую гипотезу. Давайте вместе разовьем ее и посмотрим, что из этого получится.
Лохер некоторое время задумчиво смотрел на комиссара, потом опять обратился к рисунку.
— Что собой представлял разносчик?
— Внешне невзрачный.
— Умный?
— Неглупый, но ленивый.
— Кажется, однажды он уже судился за преступление против нравственности?
— Что-то там у него было с четырнадцатилетней.
— А как насчет связей с другими женщинами?
— Вы знаете нравы этих бродячих торговцев. В общем, он вел довольно беспутную жизнь, — ответил Маттеи.
Теперь Лохер заинтересовался. Тут явно получалась неувязка.
— Жаль, что этот донжуан сознался и повесился, — проворчал он, — не верится мне, чтобы ему вздумалось совершать убийство на сексуальной почве. Вернемся теперь к вашей гипотезе. Конечно, ежиковый великан на рисунке по типу куда больше подходит для такого рода убийцы. Внешне он большой и грузный. Обычно такие преступления над малолетними совершают люди примитивные, умственно неполноценные, имбециальные и дебильные, говоря врачебным языком, крепкие физически, несдержанные, грубые, а в отношении женщин они либо импотенты, либо страдают комплексом неполноценности.
Он остановился, видимо, его поразила какая-то мысль.
— Непонятно, — пробормотал он.
— Что вам непонятно?
— Дата под рисунком.
— А именно?
— Больше чем за неделю до убийства. Если ваша гипотеза правильна, значит, Гритли встречалась со своим убийцей еще раньше, до рокового дня. И удивительно, что эту встречу она изобразила в виде сказки.
— Чисто по-детски.
Лохер покачал головой.
— Дети тоже ничего не делают без причины, — возразил он. — Очевидно, черный великан запретил Гритли рассказывать об их таинственном знакомстве. Бедняжечка послушалась его и вместо правды рассказала сказку. Расскажи она правду, кто-нибудь всполошился бы и девочка была бы спасена. Да это уж действительно дьявольское коварство. Девочка была изнасилована?
— Нет, — ответил Маттеи.
— А девочки, погибшие несколько лет тому назад в кантонах Санкт-Галлен и Швиц, были убиты так же?
— Точно так же.
— Тоже бритвой?
— Тоже.
Теперь и врач налил себе коньяку.
— По-моему, это не убийство на сексуальной почве, а скорее акт мести, — заявил он. — Кто бы ни был преступник — разносчик или ежиковый великан бедняжки Гритли, убивая, он мстил женщинам.
— Семилетняя девочка — не женщина.
Лохер стоял на своем.
— Неполноценному человеку она может заменить женщину. К женщине преступник не смеет подступиться, а к семилетней девочке смеет. И вместо женщины убивает ее. И конечно, он облюбовал себе определенный тип девочек. Попробуйте проследите: не сомневаюсь, что все жертвы похожи друг на друга. Не забывайте при этом, что убийца — натура примитивная и независимо от того, слабоумен он от рождения или вследствие перенесенной болезни, такой человек не управляет своими импульсами. Способность противостоять своим побуждениям у него болезненно понижена. Какой-нибудь до ужаса ничтожный сдвиг — нарушение обмена, переродившиеся клетки — превращает человека в животное.
— Какова же причина мести?
Врач задумался.
— Возможно, сексуальная неудовлетворенность. Возможно, угнетение и эксплуатация со стороны женщины. Возможно, что у него была богатая жена, а сам он был беден. Возможно, она занимала более высокое общественное положение.
— К разносчику все это не подходит, — отметил Маттеи.
Врач пожал плечами.
— Тогда к нему подойдет что-то другое. Нет такого абсурда, который не был бы возможен в отношениях между мужчиной и женщиной.
— Если разносчик невиновен, значит ли это, что существует угроза новых убийств? — спросил Маттеи.
— Когда произошло убийство в кантоне Санкт-Галлен?
— Пять лет тому назад.
— А в кантоне Швиц?
— Два года назад.
— Промежутки от раза до раза сокращаются, — отметил врач. — Возможно, это указывает на усиление болезни. Сопротивляемость аффектам заметно ослабевает. Если представится удобный случай, больной через несколько месяцев, а то и недель совершит новое убийство.
— Каково будет его поведение в этот промежуток?
— Сперва он должен почувствовать некоторую разрядку, — неуверенно начал врач, — но вскоре ненависть накопится опять и явится новая потребность в мести. Вначале он будет держаться поближе к детям, у школ, в людных местах. Потом опять начнет разъезжать в своей машине и выискивать новую жертву, а как только найдет подходящую девочку, он опять постарается с ней подружиться. А потом — тот же финал.
Лохер умолк.
Маттеи взял рисунок, свернул его, положил во внутренний карман пиджака и долго смотрел в окно, за которым теперь была полная темень.
— Пожелайте мне успеха в поисках ежикового великана, Лохер, — сказал он наконец.
Врач сперва недоумевающе уставился на него, а потом понял.
— Так, значит, для вас ежиковый великан не только рабочая гипотеза, да, Маттеи?
— Он для меня живая действительность, — признал Маттеи. — Я ни секунды не сомневаюсь, что это и есть убийца.
Да ведь все им сказанное было лишь праздным умствованием, беспочвенной игрой ума, принялся доказывать врач в досаде на то, что попал впросак, не разгадав истинных намерений Маттеи. Он ведь только привел один из тысячи возможных вариантов. Таким же способом он берется кого угодно уличить в убийстве, сам Маттеи по опыту знает, как легко сочинить любую нелепицу и даже логически обосновать ее, он же, Лохер, поддержал эту фикцию только по слабости характера. Но теперь довольно! Маттеи должен отбросить это ребячество, все эти гипотезы и увидеть действительность как она есть, он должен взять себя в руки и сдаться на доводы, неоспоримо доказывающие вину разносчика. Пресловутый рисунок — всего-навсего плод детского воображения, в крайнем случае на нем запечатлена встреча девочки с человеком, который не был и не мог быть убийцей.
— Предоставьте мне самому судить, какова мера правдоподобия в ваших рассуждениях, — ответил Маттеи, допивая рюмку.
Врач ответил не сразу. Он уже снова сидел за своим старым письменным столом, обложенный книгами и бумагами, директор безнадежно устаревшей клиники, в которой вечно ощущалась нехватка денег и самого необходимого и на которую он напрасно убивал все силы.
— Вы задумали немыслимое дело, Маттеи, — сказал он, кончая затянувшийся разговор, и в голосе его прозвучали горечь и усталость. — Я не люблю громких слов. Конечно, у каждого есть своя воля, свое честолюбие, своя гордость, и никому не хочется признавать себя побежденным. Все это мне понятно. Но вы-то собираетесь искать убийцу, которого, скорее всего, не существует, а если он и существует, то вы его все равно не найдете, потому что таких, как он, очень много и не убивают они по чистой случайности. Такая затея поневоле наводит на грустные мысли. Я готов признать, что вы поступаете смело, избирая безумие как метод — в наше время крайности импонируют. Но если метод не приведет к цели, боюсь, что на вашу долю останется одно лишь безумие.
— Желаю здравствовать, доктор Лохер, — сказал Маттеи.
23
Подробный отчет об этом разговоре я получил от Лохера. Его бисерный почерк с тонкими, словно выгравированными готическими буковками, как всегда, трудно было разобрать. Я вызвал Хенци, чтобы он тоже ознакомился с этим документом. Сам доктор считает все это беспочвенными домыслами, прочтя донесение, заявил он. Я не мог с ним согласиться, мне казалось, что Лохера пугает собственная смелость. Теперь заколебался и я. В сущности, у нас на руках нет подробных показаний разносчика, которые мы могли бы проверить, а есть только признание в общей форме. К тому же орудие убийства еще не найдено, ни на одной из бритв, находившихся в корзине, не обнаружено следов крови. Это давало новый повод для сомнений. Не то чтобы фон Гунтен тем самым мог быть задним числом признан невиновным — подозрения оставались достаточно весомыми, — но все же я почувствовал известную неуверенность. И действия Маттеи не казались мне теперь такими уж абсурдными. К великой досаде прокурора, я даже приказал еще раз обыскать мегендорфский лес. Опять без всякого результата. Орудие убийства исчезло бесследно. Вероятно, Хенци был прав: оно преспокойно лежало в ущелье.
— Уж больше мы тут ничего не можем сделать, — заявил он, доставая из пачки одну из своих омерзительных надушенных сигарет. — Остается только решить, кто из нас сошел с ума — мы или Маттеи.
Я указал на снимки, которые велел принести. Все три убитые девочки были похожи между собой.
— Еще один довод в пользу версии ежикового великана.
— Почему? — невозмутимо возразил Хенци. — Попросту они отвечают излюбленному типу разносчика. — Он засмеялся. — И зачем это Маттеи заварил такую кашу — понять не могу. Одно скажу: я ему не завидую.
— Вы его недооцениваете, — проворчал я, — он на все способен.
— Даже на то, чтобы найти несуществующего убийцу?
— Возможно, — ответил я и вложил все три снимка в дело. — Знаю только, что Маттеи не сдастся.
И я оказался прав. Первые сведения я получил от начальника городской полиции. После заседания, где в который-то раз решался вопрос о сферах компетенции. Прощаясь, этот нудный субъект заговорил о Маттеи — специально чтобы меня позлить. Я услышал от него, что Маттеи часто видят в зоологическом саду, затем — что он приобрел в гараже близ Эшер-Висовской площади подержанную машину марки «нэш». Вскоре я получил новое донесение. Оно окончательно сбило меня с толку. Дело было в «Кроненхалле», как сейчас помню — в субботу. Вокруг меня собрались все, у кого есть в Цюрихе имя, вес и аппетит, между столиками суетились кельнерши, шел пар от кушаний, и с улицы доносился шум транспорта. Я, как всегда, сидел под Миро, ел суп с фрикадельками из печенки и не чуял беды, и тут меня окликнул представитель крупной фирмы по сбыту горючего и не долго думая уселся за мой столик. Он подвыпил и был настроен на игривый лад, заказал шампанского и, смеясь, сообщил мне, что мой бывший обер-лейтенант переменил профессию: теперь он обслуживает бензозаправочную станцию в Граубюндене близ Кура. Их фирма собиралась ликвидировать эту станцию ввиду полной нерентабельности.
Сперва я не поверил этой новости, настолько она показалась мне несуразной, нелепой, бессмысленной.
Но представитель фирмы стоял на своем. Он даже уверял, что Маттеи и тут оказался на высоте. Заправочная станция процветает. У Маттеи уйма клиентов. Но по большей части таких, с которыми он раньше имел дело, только в другом плане. Должно быть, в определенном кругу распространились слухи, что «Маттеи — каюк злодеям» произведен в сторожа при бензоколонке, и теперь к нему со всех сторон слетаются и съезжаются на своих машинах прежние «питомцы». Там можно увидеть решительно все — от допотопных драндулетов до самых шикарных автомобилей марки «мерседес». Бензоколонка Маттеи превратилась в место паломничества уголовного мира со всей Восточной Швейцарии. Сбыт горючего непрерывно растет. Совсем недавно фирма установила у него вторую колонку для высокооктанового бензина. И предложила ему построить современное здание вместо старой развалины, в которой он теперь живет. Он с благодарностью отклонил предложение и отказался взять помощника. Автомобили и мотоциклы часто выстраиваются в длинную очередь, но никто не выражает нетерпения. Уж очень, по-видимому, лестно сознавать, что тебя обслуживает бывший обер-лейтенант кантональной полиции.
Я не знал, что сказать. Представитель фирмы откланялся, но обед уже не пробуждал во мне аппетита, я поел кое-как и потребовал пива. Позднее, как всегда, явился Хеши с урожденной Хоттингер. Он был мрачен, потому что где-то проголосовали не так, как ему хотелось. Выслушав новость, он заявил, что Маттеи решительно спятил, как он, Хеши, и предсказывал. После этого он сразу повеселел и съел два бифштекса, между тем как Хоттингер безостановочно лопотала о театре. Она там даже кое с кем знакома.
Спустя несколько дней зазвонил телефон. А мы как раз заседали. И конечно, опять с городской полицией. Звонила заведующая сиротским приютом. Старая дева взволнованно сообщила мне, что к ней явился Маттеи в парадном черном костюме, верно для солидности, и спросил, не может ли он взять себе девочку из числа ее подопечных, как она выразилась. Ему нужна вполне определенная девочка. Он, видите ли, всегда мечтал иметь детей, а теперь, когда он один как перст хозяйничает в гараже близ Кура, у него появилась возможность заняться воспитанием ребенка. Она, разумеется, отклонила его просьбу, очень вежливо сославшись на устав приюта, однако мой бывший обер-лейтенант произвел на нее настолько странное впечатление, что она почла своим долгом уведомить меня. Высказав все это, она повесила трубку. Вот уж в самом деле поразительное известие. От расстерянности я усиленно пыхтел своей «Байанос». Но окончательно у нас махнули рукой на Маттеи, когда выяснилась новая подробность его поведения. Нам пришлось как-то вызвать на Казарменную улицу весьма сомнительную личность. Неофициально это был сутенер, официально — дамский парикмахер; он удобнейшим образом проживал в роскошной вилле над озером, посреди неоднократно вдохновлявшего поэтов селения. Такси и частные машины так и сновали туда и сюда. Едва я начал его допрашивать, как он поспешил поддеть меня и козырнул сенсационной новостью, а сам при этом так и сиял от злорадства. Маттеи живет на заправочной станции не один, а с Хеллершей. Я сейчас же связался с Куром, затем с полицейским участком того района — известие подтвердилось. У меня от потрясения отнялся язык. Дамский парикмахер торжествующе восседал у моего письменного стола и жевал резинку. Я капитулировал и велел отпустить старого греховодника с Богом. Он явно обыграл нас.
Факт был вопиющий. Я не знал, что думать. Хенци рвал и метал, прокурор брезгливо морщился, а в Федеральном совете, куда не замедлил дойти слух, прозвучало слово «позор». Хеллер однажды уже была гостьей у нас на Казарменной улице. Ее товарка… ну, в общем, тоже дама с громкой репутацией… была найдена убитой; мы подозревали, что Хеллер известно больше, чем она говорит. Ее тут же выслали из кантона Цюрих, хотя ничего криминального за ней не числилось, если не считать ее ремесла. Но среди начальства всегда найдутся люди с предрассудками. Потому я решил вмешаться, съездить на место действия. Я смутно догадывался, что поведение Маттеи как-то связано с Гритли Мозер, но как — не мог понять.
От этого непонимания я злился и чувствовал себя неуверенным, а ко всему еще примешивалось профессиональное любопытство. И, как человек порядка, я решил выяснить, в чем же здесь дело.
24
Я пустился в путь один на своей машине. День опять был воскресный. И вообще, когда я оглядываюсь назад, мне представляется, что все самое важное в этой истории приходилось именно на воскресные дни. Повсюду колокольный перезвон — казалось, гудит и звенит вся страна. В кантоне Швиц я угодил в какую-то процессию. На шоссе — машина за машиной, по радио — проповедь за проповедью. А позднее в каждой деревне — пальба, треск, свист и грохот возле тира. Кругом царила какая-то дикая, бессмысленная суета — казалось, вся Восточная Швейцария ходит ходуном: где-то были автомобильные гонки, уйма машин понаехала из Западной Швейцарии, целые семьи, целые кланы снялись с мест, и, когда я наконец добрался до знакомой вам заправочной станции, меня уже совсем доконала оглушительная благодать Господнего дня. Я огляделся. Станция тогда еще не была в таком запущенном состоянии, вид у нее был скорее привлекательный, кругом прибрано, на подоконниках герани. Кабачка тоже еще не существовало. Во всем чувствовалась какая-то мещанская основательность. Может быть, такому впечатлению способствовали попадавшиеся повсюду предметы детского обихода — качели, на скамье большой кукольный дом, рядом кукольная коляска, лошадь-качалка. Сам Маттеи как раз обслуживал клиента, который поспешно убрался на своем «фольксвагене», едва я вышел из своего «опеля».
Около Маттеи стояла белобрысая девочка лет семи-восьми с куклой на руках. Одета она была в красное платьице. Девочка показалась мне знакомой, я не мог понять почему, на Хеллершу она ничуть не была похожа.
— Ведь это был Рыжий Майер, — заметил я, указывая на удаляющийся «фольксваген». — Выпущен год назад.
— Бензин? — равнодушно спросил Маттеи. На нем был синий комбинезон.
— Высокооктановый.
Маттеи наполнил бензобак, протер стекло.
— Четырнадцать тридцать.
Я дал ему пятнадцать, он протянул сдачу.
— Не нужно, — сказал я и тут же сам покраснел. — Простите, Маттеи, это у меня вырвалось машинально.
— Ну что вы, я уже привык, — возразил он и спрятал деньги.
Я не знал, что сказать, и снова посмотрел на девочку.
— Славная малышка, — заметил я.
Маттеи открыл дверцу моей машины.
— Желаю вам благополучно доехать.
— Н-да, мне, собственно, хотелось поговорить с вами, — пробормотал я. — Какого черта вы все это затеяли, Маттеи?
— Я обещал больше не беспокоить вас, шеф, по поводу дела Гритли Мозер, ответьте и вы тем же: не беспокойте меня, — заявил он и повернулся ко мне спиной.
— Перестаньте ребячиться, Маттеи.
Он промолчал. Вдруг где-то рядом засвистело, затрещало. Должно быть, и здесь функционировал тир. Было уже около одиннадцати. Я подождал, пока Маттеи обслужил блестящую «альфа-ромео».
— Этот тоже в свое время отбыл три с половиной года, — заметил я, когда машина уже тронулась. — Нельзя ли войти в дом, мне действует на нервы эта несносная пальба. Сил моих больше нет.
Он повел меня в дом. В коридоре мы наткнулись на Хеллершу — она несла из подвала картофель. Она все еще была хороша собой, и я, вспомнив прошлое, почувствовал неловкость и укол совести. Женщина вопросительно посмотрела на нас, как будто немного встревожилась, но затем приветливо со мной поздоровалась и вообще произвела на меня благоприятное впечатление.
— Это ее ребенок? — спросил я после того, как она скрылась на кухне.
Маттеи утвердительно кивнул.
— Где вы ее откопали? — спросил я.
— Тут, поблизости. Она работает на кирпичном заводе.
— А зачем она здесь?
— Кто-то же нужен мне, чтобы вести хозяйство.
Я покачал головой.
— Мне надо поговорить с вами наедине.
— Поди на кухню, Аннемари, — приказал Маттеи.
Девочка вышла.
Комната была обставлена бедновато, но опрятно. Мы сели к столу у окна. Снаружи палили во всю мочь, без передышки.
— Что вы затеяли, Маттеи? — повторил я свой вопрос.
— Ничего особенного, шеф, — ответил мой бывший комиссар. — Я ловлю рыбку.
— Что вы хотите сказать?
— Работаю по специальности.
Я в раздражении закурил «Байанос».
— Я не новичок в этом деле, но тут я ни черта не понимаю.
— Дайте мне такую же.
— Пожалуйста. — Я протянул ему портсигар.
Маттеи поставил графин вишневки. Мы сидели на самом солнце; окно было полуоткрыто; снаружи, за геранями, — теплый июньский денек и непрерывная пальба.
Если подъезжала машина, ее обслуживала Хеллер; впрочем, к середине дня их стало меньше.
— Лохер, конечно, передал вам наш разговор, — сказал Маттеи, сосредоточенно раскуривая сигару.
— Это нам ничего не дало.
— Зато мне дало.
— Что именно?
— Детский рисунок соответствует действительности.
— Вот как! А что означают ежики?
— Этого я еще не знаю, — признался Маттеи. — Зато я додумался, что изображает зверь со странными рогами.
— Что же?
— Козерога, — спокойно заявил Маттеи, затянулся сигарой и выпустил дым под потолок.
— Для этого вы и ходили в зоологический сад?
— Изо дня в день. Мало того, я заставлял детей рисовать козерога. Их рисунки были как две капли воды похожи на зверя Гритли Мозер.
Я все понял.
— Козерог — геральдический зверь Граубюндена, — сказал я. — Герб этого кантона.
Маттеи кивнул.
— Герб на табличке с номером машины привлек внимание Гритли.
Решение было донельзя простое.
— Не грех бы нам и раньше это сообразить, — проворчал я.
Маттеи наблюдал, как нарастает на сигаре пепел, как курится дымок.
— Все мы — вы, Хенци и я — совершили кардинальную ошибку, предположив, что убийца — житель Цюриха, — невозмутимо пояснил он. — На самом деле он из Граубюндена. Я обследовал все места преступлений, и все произошли на трассе Граубюнден — Цюрих.
Я задумался.
— Вы правы, Маттеи, это не случайность, — поневоле признался я.
— Погодите, я не кончил.
— Ну?
— Я встретил рыболовов.
— Рыболовов?
— Точнее, парнишек, которые удили рыбу.
Я недоумевающе уставился на него.
— Дело в том, что после своего открытия я прежде всего поехал в кантон Граубюнден. Это было вполне логично. Но очень скоро я понял, что это глупо. Кантон Граубюнден велик, и довольно мудрено отыскать в-нем человека, о котором известно только одно: что он большого роста и ездит на черной американской машине старого образца. Шутка сказать: свыше семи тысяч квадратных километров и свыше ста тридцати тысяч человек, разбросанных по великому множеству долин! И вот сижу я в один холодный день на берегу Инна, в Энгадине, не знаю, что мне делать, и смотрю на подростков, которые возятся у самой воды. Я уже собрался отвернуться, как вдруг заметил, что парнишки обратили на меня внимание, явно испугались и в нерешительности топчутся на месте. В руках у одного из них была самодельная удочка. «Уди себе на здоровье», — сказал я. Они недоверчиво посмотрели на меня. «Вы из полиции?» — спросил рыжий, веснушчатый мальчонка лет двенадцати. «А что, я похож на полицейского?» — «Кто вас знает!» — заметил он. «Нет, я не из полиции», — уверил я их и стал смотреть, как они закидывают в воду наживку… Их было пятеро подростков, и все были поглощены своим занятием. «Не клюет», — безнадежно сказал немного погодя веснушчатый, взобрался на берег и подошел ко мне. «У вас не найдется сигареты?» — спросил он. «Еще чего! В твои-то годы!» — «А по-моему, вы такой, что дадите», — заметил парнишка. «Что ж, придется дать», — и я протянул ему пачку «Парижских». Веснушчатый поблагодарил, сказал, что спички у него есть, и принялся пускать дым через ноздри. «Хоть как-то утешиться после провала рыбной ловли», — важно изрек он. «Твои приятели, видно, терпеливее тебя, — заметил я. — Они продолжают удить, и у них наверняка что-нибудь клюнет». — «Ничего не клюнет, разве что хариус». — «А тебе подавай щуку?» — поддразнил я его. «Щуки мне ни к чему, — возразил мальчик. — Мне нужны форели. Но это требует денег». — «Как так? — удивился я. — В детстве я их рукой ловил». Он пренебрежительно помотал головой. «Должно быть, молодь. А попробуйте ухватить рукой взрослого хищника! Форель тоже хищная рыба, как щука, только ловить ее труднее. И надо патент выправить, а он стоит денег», — добавил мальчуган. «Ну, вы и без денег устраиваетесь», — засмеялся я. «Вся беда в том, что настоящие места не для нас. Там сидят те, у кого есть патент». — «А что ты называешь настоящими местами?» — полюбопытствовал я. «Ничего вы не смыслите в рыбной ловле!» — заявил мальчуган. «Я и сам это вижу», — согласился я. Оба мы сидели теперь на прибрежном откосе. «Вы что, думаете, закинь удочку куда попало, и все?» Я удивился и спросил: «А разве не так?» — «Типичная ошибка новичка, — изрек веснушчатый и выпустил дым через ноздри. — Чтобы удить, надо найти, во-первых, место, а во-вторых, наживку». Я слушал очень внимательно. «Допустим, вы хотите поймать форель, взрослого хищника, — поучал мальчик. — Прежде всего надо сообразить, где она чаще всего водится. Ну, понятно, в таком месте, где течение сильнее, где проплывает много рыбешек и где сама она может укрыться от течения. Значит, вниз по реке за большим камнем или еще лучше — вниз по реке за устоями моста. А такие места все, понятно, заняты рыболовами с патентом». — «Надо, чтобы течению была поставлена преграда», — сказал я. «Поняли!» — свысока одобрил он. «А наживка?» — спросил я. «Смотря кого вы ловите — хищную рыбу или, скажем, хариуса или угря. Эти — вегетарианцы! Угря можете поймать хоть на ягоду. А хищная рыба — форель или еще окунь, — та ловится только на живую приманку. На комара, на червяка или на мелкую рыбешку». — «На живую приманку, — задумчиво повторил я, вставая. — На, бери, — и я протянул мальчику всю пачку „Парижских“. — Ты их заработал. Теперь я знаю, как ловить мою рыбку. Сперва найти место, а потом приманку».
Маттеи умолк. Я долго не говорил ни слова, потягивал вишневку, поглядывал в окно на ясный июньский денек с непрерывной пальбой, потом снова раскурил потухшую сигару.
— Теперь я понимаю, почему вы сказали, что удите рыбку. Тут, у бензоколонки, благоприятное место, а шоссе — та же река. Правильно?
— Всякий, кто направляется из Граубюндена в Цюрих, неминуемо должен проехать по ней, если не хочет сделать крюк через перевал Оберальп, — невозмутимо ответил он.
— А девочка — это наживка? — спросил я и сам испугался.
— Ее зовут Аннемари, — ответил Маттеи.
— Теперь я понял, на кого она похожа. На убитую Гритли Мозер, — сказал я.
И опять мы оба замолчали. Снаружи потеплело, горы искрились за дымкой испарений, и ни на минуту не утихала пальба — должно быть, где-то был праздник стрелков.
— По-вашему, это не вероломство? — нерешительно выговорил я.
— Пожалуй, — произнес он.
— И вы намерены дожидаться здесь, пока убийца проедет мимо, увидит Аннемари и попадет в ловушку, которую вы ему приготовили? — с тревогой спросил я.
— Убийца непременно проедет мимо, — ответил он.
— Хорошо, допустим, вы правы, такой убийца существует, — подумав, сказал я. — Эта возможность не исключена. В нашем ремесле все возможно. Но не слишком ли рискован ваш метод?
— Другого метода нет, — возразил он и выбросил в окно окурок сигары. — Я ничего не знаю об убийце. Искать его я не могу, значит, мне надо отыскать его будущую жертву и выставить ребенка как наживку.
— Отлично, но свой метод вы заимствовали из рыболовства. Одно отнюдь не перекрывается другим. Не можете же вы постоянно держать девочку как приманку у шоссе, ей надо ходить в школу. И сама она, верно, рада сбежать с вашей проклятой дороги.
— Скоро начнутся летние каникулы, — стоял на своем Маттеи.
Я покачал головой.
— Так недолго свихнуться. Вы собираетесь сидеть здесь и ждать чего-то, что может никогда не случиться. Допустим, все данные за то, что убийца проедет здесь. Но из этого не следует, что он клюнет на вашу приманку, как вы изволите выражаться. А вы будете ждать и ждать.
— Когда удишь рыбу, тоже приходится ждать, — упрямо повторил Маттеи.
Я выглянул в окно и увидел, что Хеллер обслуживает Оберхольцера — шесть лет в Регенсдорфе по совокупности.
— Хеллер знает, зачем вы здесь?
— Нет, я ей просто сказал, что мне нужна домоправительница, — ответил он.
У меня было смутно на душе. Этот человек внушал невольное уважение, столь необычным и дерзновенным был его замысел. Я восхищался им, желал ему успеха, хотя бы ради того, чтобы унизить пошляка Хенци; и вместе с тем я считал, что его план несбыточен, риск слишком велик, а виды на успех слишком малы.
— Слушайте, Маттеи, время еще не упущено, — пытался я образумить его, — должность в Иордании еще за вами, а иначе, того и гляди, из Берна пошлют Шафрота.
— Пусть себе едет.
Я не сдавался.
— Ну а к нам вы не хотели бы вернуться?
— Нет.
— Мы бы для начала заняли вас работой на месте, но условия остались бы прежние.
— Не хочу.
— Можете также перейти в городскую полицию. Тут уж смотрите, что вас больше устроит материально.
— Как владелец бензоколонки я зарабатываю даже больше, чем на государственной службе, — ответил Маттеи. — Но вон подъехал новый клиент, а госпожа Хеллер, должно быть, жарит свинину.
Он поднялся и вышел. Вслед за первым подъехал еще один клиент. Красавчик Лео. Когда Маттеи кончил их обслуживать, я уже сидел в своей машине.
— Я вижу, вас не переупрямишь, Маттеи, — сказал я на прощание.
— Что делать! — ответил он и подал мне знак, что дорога свободна. Рядом с ним стояла девочка в красном платьице, а на порог вышла Хеллер в кухонном переднике, и во взгляде ее я опять прочел недоверие. Я поехал домой.
25
Итак, он ждал. Непреклонно, упорно, страстно. Он обслуживал клиентов, заправлял машины бензином, доливал масло, воду, протирал стекла, выполнял одну и ту же механическую работу. Девочка, возвратившись из школы, вприпрыжку бегала от него к кукольному дому, восхищалась, лопотала про себя или пела, сидя на качелях, а косички и красное платьице развевались на ветру. Он ждал и ждал. Мимо ехали автомобили, машины всех расцветок и всех марок, новые машины, старые машины. Он ждал. Он записывал номера всех автомобилей из Граубюндена, разыскивал в указателе фамилии владельцев, справлялся о них по телефону в общинных канцеляриях. Госпожа Хеллер работала на небольшом заводе, за деревней в сторону гор, и возвращалась к вечеру по склону позади дома с продуктовой сумкой и сеткой, полной хлеба, а ночью, случалось, кто-то шнырял вокруг дома и зазывно свистел, но она не отворяла. Наступило лето, жаркое, нескончаемое, слепящее, душное, с частыми грозами. Так подошли летние каникулы, на которые Маттеи возлагал главные надежды. Аннемари постоянно была возле него, а значит, возле дороги, на виду у каждого проезжающего. Он ждал и ждал. Он забавлял девочку, рассказывал ей сказки, сказки братьев Гримм, всего Андерсена, «Тысячу и одну ночь», сам сочинял, выбивался из сил, лишь бы удержать девочку около себя, у дороги, где она была ему нужна. Она и не уходила, ей нравились забавные истории и сказки. Автомобилисты умилялись, глядя на идиллическую чету — отца и дочку, дарили девочке шоколад, болтали с ней под настороженным взглядом Маттеи. Что, если этот грузный мужчина и есть убийца? Его машина из Граубюндена. Или тот, тощий, долговязый, который сейчас разговаривает с девочкой? По точным сведениям, у него кондитерская в Дисентисе. «Масла добавить? Пожалуйста. Долью еще пол-литра. Двадцать три десять. Счастливо доехать!» Он ждал и ждал. Аннемари к нему привязалась, ей было весело с ним; а он думал только о появлении убийцы. Для него не существовало ничего, кроме веры в появление убийцы, кроме надежды, что исполнится это его страстное желание. Он рисовал себе, как явится вдруг такой мускулистый, угловатый, инфантильный верзила, простодушный и кровожадный, как зачастит к ним на заправочную станцию с ласковой ухмылкой, в парадном костюме, то ли железнодорожник на пенсии, то ли отставной таможенный чиновник; как постепенно приручит девочку, увлечет за собой, как он, Маттеи, крадучись, пригнувшись, последует за ними в лесок позади дома; как выскочит в критическую минуту и дело дойдет до яростной кровавой схватки один на один, до развязки, до избавления; как убийца будет лежать побитый у его ног и, скуля, сознается во всем. Но, опомнившись, Маттеи говорил себе, что всего этого быть не может, уж очень явно он следит за девочкой. Чтобы добиться желанного результата, надо предоставить ей больше свободы. И он разрешал Аннемари уходить с шоссе, но сам тайком шел за ней следом, бросая бензоколонку, перед которой нетерпеливо сигналили машины. Девочка вприпрыжку бежала в деревню, куда было с полчаса ходьбы, играла с ребятишками возле домов или на опушке, но очень скоро возвращалась обратно. Она привыкла к одиночеству и дичилась, а ребятишки в свою очередь сторонились ее. Немного погодя Маттеи менял тактику, придумывал новые игры и новые сказки, чтобы опять привлечь к себе Аннемари. Он ждал и ждал, неотступно, непоколебимо. Без каких-либо объяснений. Хеллер давно подметила, какое исключительное внимание он оказывает ребенку. Она с самого начала не верила, что Маттеи взял ее в домоправительницы из чистого человеколюбия. Ей было ясно, что у него есть какая-то задняя мысль, но, пожалуй, впервые в жизни она обрела прочное пристанище и потому старалась не вдумываться; может, она лелеяла тайные надежды — кто скажет, что творится в душе такой жалкой бабенки; однако с течением времени она уверовала в искреннюю привязанность Маттеи к ее ребенку, хотя иногда в ней брала верх привычная недоверчивость и трезвый взгляд на жизнь.
— Конечно, это не мое дело, но скажите, господин Маттеи, начальник кантональной полиции приезжал сюда из-за меня? — спросила она однажды.
— Да нет же, на что вы ему? — ответил Маттеи.
— В деревне поговаривают на наш счет.
— Какая важность!
— Скажите, господин Маттеи, — не унималась она, — ваше пребывание здесь связано с Аннемари?
— Что за чушь? — рассмеялся он. — Я попросту привязался к ней, госпожа Хеллер.
— Вы очень добры к нам с Аннемари, — ответила она. — Как бы я хотела знать отчего!
Летние каникулы пришли к концу, наступила осень; очертания красного с желтым ландшафта были резки и четки, как под лупой. Маттеи представлялось, что благоприятный случай упущен безвозвратно; и все-таки он ждал. Ждал. Ждал упрямо, упорно. Девочка ходила пешком в школу. В обед и вечером он обычно встречал ее и привозил на своей машине домой. Его планы казались все бессмысленнее, несбыточней, шансы на успех все ничтожней; ему это было ясно; убийца, по всей вероятности, проезжал мимо бензоколонки уже много раз, возможно, каждый день и уж безусловно каждую неделю, а до сих пор ничего не произошло, до сих пор он блуждает в потемках и не за что ухватиться, ни намека на подозрение, автомобилисты приезжают и уезжают, иногда затевают с девочкой безобидный разговор, ничем себя не выдавая. Который же тот, кого он ищет, а может, такого и вообще нет среди них? Возможно, его неуспех объяснялся тем, что многие знали, кем он был раньше; впрочем, этого он не мог и не рассчитывал предотвратить. Несмотря ни на что, он гнул свою линию, он ждал и ждал. Отступать все равно было некуда. Ожидание — единственное, что ему оставалось, пусть временами он чувствовал, что изнемогает, что готов сложить чемоданы и убежать, уехать, хоть в ту же Иорданию, пусть иногда он боялся сойти с ума. Выпадали и такие часы и даже целые дни, когда его одолевало безразличие, апатия, когда, махнув на все рукой, он сидел на скамье перед заправочной станцией, пил рюмку за рюмкой и смотрел в землю, усыпанную окурками сигар. Минутами он встряхивался, но тотчас же еще глубже погружался в дремотное безразличие, растрачивал дни, недели на тупое, бессмысленное, бредовое ожидание. Безнадежно замученный, загубленный человек и все же полный надежды. Однажды он сидел так, небритый, усталый, измазанный маслом, и вдруг вскочил как ужаленный. До его сознания дошло, что Аннемари опоздала из школы. Он бросился ей навстречу пешком. Негудронированная пыльная дорога за домом отлого шла в гору, потом спускалась на выжженную поляну и пересекала лес, с опушки которого была уже видна деревня, старые домики, приземистая церковь, голубой дымок над трубами. Вся дорога, по которой обычно ходила Аннемари, расстилалась как на ладони, но девочки не было и следа. Маттеи снова повернулся к лесу, вмиг стряхнув с себя дремоту и насторожившись. Низенькие елки, кустарник, шуршащая красная и рыжая палая листва, стук дятла где-то в чаще, где высокие ели заслоняют небо, а солнце косыми лучами пробивается между ними. Маттеи сошел с дороги, продираясь сквозь колючки, сквозь низкую поросль, отстраняя бьющие в лицо ветви, достиг прогалины и с удивлением огляделся. Здесь он не бывал ни разу. С другого края леса сюда выходила широкая дорога, по ней, очевидно, свозили из деревни отбросы — целая гора золы наросла на прогалине. С боков валялись консервные банки, мотки ржавой проволоки и прочий хлам, вся эта куча мусора сползла к ручейку, журчавшему посреди прогалины. Тут только Маттеи заметил девочку. Она сидела у серебристого ключа, положив куклу и ранец рядом, на бережок.
— Аннемари, — окликнул ее Маттеи.
— Сейчас иду, — ответила девочка, но не двинулась с места.
Маттеи осторожно перелез через мусорную кучу и остановился перед девочкой.
— Что ты тут делаешь? — спросил он.
— Жду.
— Кого?
— Волшебника.
Голова у нее была забита сказками — как будто в насмешку над его ожиданием она ждала то фею, то волшебника. И на него снова навалилось отчаяние, сознание бесполезности всех его усилий и парализующая волю уверенность, что все-таки надо ждать, что ничего больше сделать нельзя, как только ждать, ждать.
— Пойдем же, — равнодушно сказал он, взял девочку за руку и пошел с ней по лесу к дому, опять сел на скамью и опять уставился в землю. Наступили сумерки, пришла ночь; ему все стало безразлично; он сидел, курил и ждал, ждал, как автомат, упрямо, неумолимо и только временами бессознательно шепотом заклинал: «Приди же, приди, приди, приди»; сидел не шевелясь в бледном лунном свете и вдруг уснул. Весь закоченев, проснулся под утро и поплелся в постель.
На следующий день Аннемари вернулась из школы раньше обычного. Маттеи только встал со скамьи и собрался ее встретить, как она показалась на дороге, тихонько про себя напевая, перепрыгивая с ноги на ногу. Ранец был у нее за плечами, а кукла — в опущенной ручонке, и кукольные ноги волочились по земле.
— Уроки задали? — спросил Маттеи.
Аннемари помотала головой и, продолжая петь «Сидела Мария на камне», вошла в дом. Он не стал ее удерживать — слишком он был растерян, обескуражен, утомлен, чтобы придумывать ей новые сказки, привлекать ее новыми играми.
Но когда Хеллер вернулась домой, она сразу же спросила:
— Аннемари хорошо себя вела?
— Да ведь она была в школе, — ответил Маттеи.
Хеллер удивленно посмотрела на него.
— Как — в школе? У нее сегодня не было занятий. У них там учительская конференция или что-то еще.
Маттеи насторожился. Разочарованности последних дней как не бывало. Он почуял, что близится осуществление его надежд, его безрассудных ожиданий. С великим трудом взял он себя в руки. Перестал расспрашивать Хеллер. Ничего больше не выпытывал у девочки. Однако на следующий день он поехал в деревню и поставил машину в переулке. Ему хотелось тайком понаблюдать за девочкой. Время близилось к четырем. Из окон послышалось пение, потом шум и крик, ребята повалили из школы, подняли возню, мальчишки дрались, швырялись камнями, девочки шли под ручку, но Аннемари не было среди них. Появилась учительница. С неприступным видом строго оглядела Маттеи, сообщила ему, что Аннемари не была в школе, не больна ли она — позавчера после обеда она тоже не приходила и даже записки из дому не принесла. Маттеи ответил, что девочка действительно больна, простился и, не помня себя, помчался на машине в лес. Прежде всего он бросился на прогалину, но никого не нашел. Выбившись из сил, тяжело дыша, исцарапавшись в кровь колючками, он вернулся к машине и поехал назад на заправочную станцию, но, не доехав, увидел, что девочка вприпрыжку бежит домой по обочине. Он затормозил.
— Садись, Аннемари, — ласково позвал он, отворив дверцу.
Маттеи протянул девочке руку, и она взобралась в машину. Он удивился. Ладошка у девочки была липкая. И когда он взглянул на собственную руку, на ней оказались следы шоколада.
— Кто тебе дал шоколад? — спросил он.
— Одна девочка, — ответила Аннемари.
— В школе?
Аннемари кивнула. Маттеи замолчал. Остановил машину у дома. Аннемари вылезла и села на скамью возле бензоколонки. Маттеи не спускал с нее глаз. Девочка положила что-то в рот и принялась жевать. Он медленно подошел к ней.
— Покажи-ка, — потребовал он и осторожно разжал ее кулачок. На ладошке лежал надкусанный колючий шоколадный шарик. Трюфель. — У тебя их много? — спросил Маттеи.
Девочка помотала головой.
Комиссар полиции сунул руку в карман ее юбочки, достал носовой платок, развернул его — там лежало еще два трюфеля.
Девочка молчала.
Маттеи тоже не говорил ни слова. Безмерная радость охватила его. Он сел на скамью рядом с девочкой.
— Аннемари, — начал он наконец дрожащим голосом, бережно держа на ладони оба колючих шоколадных шарика. — Тебе их дал волшебник?
Девочка молчала.
— Он запретил тебе рассказывать о вашей встрече?
Ни звука в ответ.
— И не рассказывай, — ласково согласился Маттеи. — Он хороший волшебник. Пойди к нему завтра опять.
Личико Аннемари мгновенно озарилось огромной радостью. Вся горя от счастья, девочка обняла Маттеи и убежала наверх, в свою комнату.
26
На следующее утро, в восемь часов, не успел я войти в свой служебный кабинет, как Маттеи положил мне на стол шоколадные трюфели; от волнения он чуть не забыл поздороваться. Он был в своем прежнем костюме, но без галстука и небритый. Взяв сигару из ящика, который я ему подвинул, он задымил вовсю.
— На что мне ваш шоколад? — растерянно спросил я.
— Ежики, — произнес Маттеи.
Я в изумлении уставился на него, вертя в руке шоколадные шарики.
— Как это?
— Очень просто! Убийца давал Гритли Мозер трюфели, а в ее воображении они превратились в ежиков. Детский рисунок разгадан до конца.
Я рассмеялся.
— Как вы это докажете?
— То же самое случилось с Аннемари. — И Маттеи принялся докладывать.
Меня сразу же убедило его сообщение. Я вызвал Хенци, Феллера и четырех нижних чинов, дал указания и уведомил прокурора. Затем мы тронулись в путь. На заправочной станции не было ни души. Хеллер отвела дочку в школу, а сама пошла на завод.
— Хеллер знает, что происходит? — спросил я.
Маттеи покачал головой.
— Понятия не имеет.
Мы отправились на прогалину. Обшарили ее всю, но ничего не нашли. После этого мы рассеялись по лесу. Время близилось к полудню. Маттеи вернулся на станцию, чтобы не возбуждать подозрений. День был удачный — четверг, по четвергам после обеда в школе занятий не бывало. Гритли Мозер погибла тоже в четверг, мелькнуло у меня в голове. Это был солнечный, теплый и сухой осенний день, кругом гудели пчелы, шмели, еще какие-то насекомые, гомонили птицы, вдалеке гулко стучал топор. Два часа — явственно прозвонили деревенские колокола, и вскоре показалась девочка, как раз напротив того места, где стоял я; без труда, вприпрыжку, пританцовывая, прошмыгнула сквозь кустарник, уселась со своей куклой у ручейка и блестящими от возбуждения глазами принялась неотступно, пристально смотреть в лес; она явно кого-то ждала, но нас она не видела. Мы притаились за деревьями и кустарником; неслышно ступая, пришел Маттеи и поблизости от меня тоже прижался к стволу дерева.
— Думаю, он явится через полчаса, — еле слышно прошептал Маттеи.
Я молча кивнул.
Все было организовано тщательнейшим образом. Доступ в лес со стороны шоссе находился под наблюдением, там даже установили радиоаппаратуру. Мы все были вооружены револьверами. Девочка сидела у ручейка, почти не шевелясь, в трепетном, восторженном, самозабвенном ожидании; она сидела спиной к мусорной куче, то на солнце, то в тени одной из высоких темных елей; кругом не слышно было ни звука — ничего, кроме жужжания насекомых и птичьего щебета, да девочка время от времени напевала про себя тоненьким голоском: «Сидела Мария на камне», без конца повторяя те же слова того же стиха; а вокруг камня, на котором она сидела, громоздились консервные банки, канистры и проволока; изредка на прогалину налетал внезапный порыв ветра, листва кружилась, шурша, и снова все стихало. Мы ждали. Для нас ничего больше не существовало на свете, кроме околдованного осенними чарами леса и девочки в красном платьице посреди прогалины. Мы ждали убийцу, мы жаждали справедливости, расплаты, кары. Полчаса прошли давным-давно, прошло целых два часа. Мы ждали и ждали, сами ждали теперь так, как Маттеи ждал недели и месяцы. Пробило пять, тени сгустились, стало смеркаться, поблекли, потускнели сочные краски. Девочка убежала вприпрыжку. Никто из нас не проронил ни слова, даже Хенци молчал.
— Завтра придем опять, — решил я. — Переночуем в Куре. В гостинице «Козерог».
Так мы прождали пятницу и субботу. Собственно, мне следовало бы привлечь граубюнденскую полицию. Но нет, это было сугубо наше дело. Я не хотел давать объяснения, терпеть постороннее вмешательство. Прокурор звонил уже в четверг вечером, возмущался, протестовал, грозил, говорил, что все это чушь, бушевал, требовал нашего возвращения. Я не сдавался и только согласился отпустить одного нижнего чина. Мы ждали и ждали. Мы уже не думали ни о девочке, ни об убийстве, мы думали о Маттеи, нам важно было, чтобы он оказался прав и достиг цели, иначе не миновать беды; все мы это понимали, даже Хенци; он не высказывал ни малейших сомнений, в пятницу вечером заявил, что убийца непременно явится в субботу, у нас же есть такие неопровержимые доказательства, как ежики, да и девочка упорно возвращается на то же место и сидит не шевелясь: ясно, что она кого-то ждет. Так мы и стояли часами, притаившись за деревьями и кустарниками, глазели на девочку, на консервные банки, на мотки проволоки, на мусорную кучу, курили, не разговаривали, не двигались и без конца слушали одно и то же: «Сидела Мария на камне». В воскресенье ситуация стала сложнее. Хорошая погода удерживалась, и лес наводнили гуляющие; какой-то смешанный хор с регентом во главе вторгся на прогалину и выстроился там, галдя, потея, скинув пиджаки, потом оглушительно загремело «В движенье мельник жизнь ведет, в движенье…». По счастью, мы торчали за деревьями в штатском. «Небеса возносят предвечному славу… а нам живется чем доле, тем хуже». Затем явилась влюбленная парочка и повела себя весьма вольно, не смущаясь присутствием ребенка; девочка четвертый день подряд просиживала здесь с непостижимым терпением, в необъяснимом ожидании. Мы ждали и ждали. Трое нижних чинов тоже вернулись восвояси вместе с радиоаппаратурой, нас осталось четверо — кроме меня и Маттеи еще Хенци и Феллер, но и это уже было самоуправство: впрочем, строго говоря, только три дня могли идти в счет, в воскресенье обстановка складывалась слишком неблагоприятно для убийцы. В этом Хенци был прав, а потому мы прождали еще понедельник. Во вторник утром Хенци уехал. Надо же было кому-то следить за порядком на Казарменной улице. Однако, и уезжая, Хенци не сомневался в нашем успехе. Мы ждали, ждали и ждали. Караулили и караулили, каждый сам по себе: чтобы правильно организовать слежку, нас осталось слишком мало. Феллер расположился в тени за кустарником и так разомлел от запоздалой летней жары, что разок даже громко всхрапнул, и ветер разнес его храп по прогалине; это случилось в среду. Маттеи стоял на той стороне прогалины, которая ближе к бензоколонке, я же обозревал место действия с другой стороны напротив него. Так мы караулили и караулили, поджидая убийцу, ежикового великана, и вздрагивали от шума каждой машины, проезжавшей по дороге; а посередке между нами сидела девочка, загадочная, точно заколдованная, тупо и упорно каждый день сидела у ручья и пела: «Сидела Мария на камне»; мало-помалу она стала нам противна, ненавистна. Иногда она долго не приходила, слонялась вокруг деревни, волоча за собой куклу, но приблизиться боялась, потому что школу она совсем забросила; кстати, и это не обошлось без затруднений, я был вынужден поговорить наедине с учительницей, дабы пресечь розыски со стороны школы. Я слегка затронул обстоятельства дела, назвал себя и добился довольно нерешительного согласия. Затем девочка бродила вокруг леса, а мы следили за ней в полевые бинокли, но больше всего ее тянуло на прогалину — только не в четверг, весь этот день она, к великому нашему отчаянию, проторчала у бензоколонки. Нам ничего не оставалось, как надеяться на пятницу. Решение было всецело предоставлено мне; Маттеи давно уже ничего не говорил, а на следующий день, в пятницу, снова стоял за деревом, когда девочка в красном платьице, волоча куклу, вприпрыжку прибежала на прогалину и уселась, как в предшествующие дни. Погода по-прежнему была великолепная, сочные краски, прозрачные дали, последняя вспышка сил перед увяданием; но прокурор едва вытерпел полчаса. Он приехал в машине вместе с Хенци около пяти вечера, без предупреждения, свалился как снег на голову; стал рядом со мной, а я маялся с часу дня, переминался с ноги на ногу и, багровея от злости, неотступно смотрел на девочку. «Сидела Мария на камне», — донесся до нас писклявый голосок; я уже давно не мог слышать эту песню, не мог видеть эту девчонку, ее противный щербатый рот, тоненькие косички, безвкусное красное платьице; девчонка казалась мне омерзительной, придурковатой, тупой, я готов был ее удушить, убить, растерзать, лишь бы не слышать этого дурацкого «Сидела Мария на камне». Было от чего рехнуться. Все то же, все так же нелепо, бессмысленно, безнадежно, только что слой палой листвы стал толще, порывы ветра, пожалуй, участились, и солнце ярче золотило идиотскую мусорную кучу; нет, это было уже совсем непереносимо, и вдруг, словно разорвав опутавшие нас чары, прокурор рванулся вперед, пролез через кустарник и зашагал напрямик к девочке, не замечая, что по щиколотку проваливается в золу; увидев, что он подходит к девочке, мы тоже выбежали из-за деревьев — пора было с этим кончать.
— Кого ты ждешь? — заорал прокурор.
Девочка испуганно уставилась на него, прижав к себе куклу.
— Отвечай, мерзкая козявка, кого ты ждешь?
Теперь подоспели все мы и окружили девочку, а она со страхом, с ужасом и недоумением оглядывала нас.
— Аннемари, — начал я дрожащим от злобы голосом, — неделю тому назад тебе дали шоколадки. Ты помнишь, конечно, шоколадки, похожие на ежиков? Тебе их подарил человек в черном костюме?
Девочка не ответила, только посмотрела на меня полными слез глазами.
Тогда Маттеи опустился на колени перед девочкой, обнял ее за плечики принялся ей втолковывать.
— Понимаешь, Аннемари, ты должна рассказать нам, кто тебе дал шоколадки и какой из себя этот человек. Я знал когда-то одну девочку, — он старался говорить как можно убедительнее, понимая, что идет ва-банк, — эта девочка тоже ходила в красном платьице, и высокий человек в черном костюме тоже дарил ей шоколадки. Колючие шарики, какие ела ты. А потом девочка пошла с высоким человеком в лес, и там высокий человек зарезал девочку ножом.
Он замолчал. Девочка, все еще не говоря ни слова, смотрела на него широко раскрытыми глазами.
— Слышишь, Аннемари! — закричал Маттеи. — Скажи правду. Я же боюсь за тебя.
— Ты врешь, — прошептала девочка, — врешь.
Тут прокурор опять вышел из себя.
— Говори, дуреха, сейчас же говори правду! — заорал он, тряся девочку за плечо.
И все мы заорали вслед за ним, бессмысленно и глупо, просто потому, что потеряли над собой власть, мы тоже трясли девочку, а потом принялись ее избивать: мы жестоко, злобно, громко крича, колотили детское тельце, лежавшее среди консервных банок, на мусоре и красной листве.
Девочка терпела наше неистовство молча, долго, целую вечность, которая на самом деле длилась несколько секунд, а потом вдруг закричала таким страшным нечеловеческим голосом, что все мы оцепенели:
— Врешь, врешь, врешь!
Мы в ужасе отшатнулись, отрезвев от ее вопля и содрогаясь от стыда за собственное поведение.
— Мы животные, звери, — прохрипел я.
Девочка побежала через прогалину к опушке леса и при этом таким ужасным голосом кричала: «Врешь, врешь, врешь», что мы испугались, не потеряла ли она рассудок. Но она влетела прямо в объятия матери, которая, в довершение всех бед, как раз появилась на прогалине. Только ее нам недоставало! Ей все было известно. Учительница перехватила ее, когда она шла мимо школы, и проболталась ей — я сразу без расспросов догадался об этом.
Несчастная женщина стояла, прижав к себе рыдающую девочку, и смотрела на нас таким же взглядом, какой недавно был у ее дочери. Разумеется, она знала нас всех в лицо — Феллера, Хенци и, увы, даже прокурора; положение было тягостное, идиотское — мы были смущены и чувствовали себя дураками; вся затея обернулась поганой, неблаговидной комедией.
— Врет, врет, врет, — не умолкая и не помня себя, кричала девочка, — врет, врет, врет.
Тогда Маттеи нерешительно и смиренно приблизился к ним.
— Госпожа Хеллер, — начал он вежливо и даже подобострастно, что уже было совсем ни к чему, надо было только поскорее кончать с этой историей, кончать, кончать навсегда, перечеркнуть все дело, выкинуть из головы хитроумные домыслы, наплевать на то, есть убийца или нет его. — Госпожа Хеллер, я выяснил, что неизвестный человек дарил Аннемари шоколад. У меня есть подозрение, что тот же человек несколько месяцев тому назад с помощью шоколада заманил в лес и убил девочку ее возраста.
Он говорил таким сухим, строго деловым языком, что я едва не прыснул. Хеллер спокойно посмотрела Маттеи в глаза и заговорила ему в тон, сдержанно и корректно.
— Господин доктор Маттеи, — спросила она вполголоса, — вы взяли нас с Аннемари на заправочную станцию только затем, чтобы найти этого человека?
— Другого способа не было, госпожа Хеллер, — ответил комиссар.
— Вы скотина, — невозмутимо, не моргнув глазом, сказала Хеллер, взяла девочку за руку и пошла лесом к заправочной станции.
27
А мы стояли на прогалине, куда уже густо ложились тени, стояли среди пустых консервных банок и мотков ржавой проволоки, ноги тонули в мусоре и палой листве. Все кончилось, из нашего предприятия получилась смехотворная бессмыслица. Провал, катастрофа. Один Маттеи успел овладеть собой. Его фигура в синем комбинезоне являла собой подчеркнутое достоинство. Я не поверил собственным глазам, когда он, чопорно поклонившись прокурору, заявил:
— Господин доктор Буркхард, мы обязаны ждать дальше, другого выхода нет. Только ждать, ждать и опять-таки ждать. Если вы предоставите в мое распоряжение шестерых человек и радиоаппаратуру, я думаю, этого будет достаточно.
Прокурор в испуге воззрился на моего бывшего помощника. Он ожидал чего угодно, только не этого. Он как раз собирался отвести душу, теперь же он несколько раз судорожно глотнул, провел рукой по лбу, круто повернулся и зашагал по сухой листве, а затем вместе с Хенци скрылся в лесу. По моему знаку за ними последовал и Феллер.
Мы с Маттеи остались вдвоем.
— А теперь слушайте, — рявкнул я, твердо решив образумить его и кляня себя за то, что сам поддерживал эту дурацкую затею. — Вы же видите, операция провалилась. Мы прождали больше недели, и никто не явился.
Маттеи не ответил ни слова, только внимательно и настороженно огляделся по сторонам. Потом направился к опушке, обошел всю прогалину и вернулся назад. Я по-прежнему стоял на мусорной куче, по щиколотку в золе.
— Девочка его ждала, — заметил он.
Я отрицательно покачал головой, принялся возражать:
— Девочка приходила сюда, чтобы побыть одной, посидеть с куклой у ручья, помечтать, спеть «Сидела Мария на камне». А мы произвольно истолковали ее поведение как ожидание.
Маттеи внимательно выслушал меня.
— Но от кого-то она получила ежиков, — упрямо настаивал он.
— Верно, Аннемари от кого-то получила шоколадки. Мало ли кто может подарить ребенку шоколад. Но знак равенства между трюфелями и ежиками на рисунке Гритли Мозер тоже ведь поставлен вами, и ничто не доказывает правоту вашего домысла.
Маттеи и на этот раз ничего не ответил. Он опять направился к опушке, обошел всю прогалину, что-то поискал в груде листвы и, очевидно ничего не найдя, вернулся ко мне.
— Как вы не чувствуете, это место просто создано для убийства! Лично я и дальше буду ждать, — заявил он.
— Все это ерунда, — ответил я. Мне стало жутко, противно, меня знобило от усталости.
— Он должен сюда прийти, — повторил Маттеи.
— Вздор! Чушь, идиотский бред! — завопил я, потеряв терпение.
Он даже и не слушал.
— Пойдемте на заправочную станцию, — сказал он.
Я был рад, что можно наконец сбежать с этой злополучной прогалины. Солнце уже садилось, тени вытянулись в длину, необозримая долина пылала червонным золотом, над ней синело небо; но мне все это опостылело, мне казалось, будто меня всадили в гигантскую аляповатую открытку. Дальше началось кантональное шоссе, замелькали автомобили, открытые машины, в них — пестро одетые люди, богатство, которое катило туда-сюда. Все это было донельзя пошло и глупо. Мы подошли к заправочной станции. Возле бензоколонки, дожидаясь меня в моей машине, снова уже дремал Феллер. На качелях сидела Аннемари и снова пела дребезжащим голоском «Сидела Мария на камне», а прислонясь к дверному косяку, стоял парень, должно быть рабочий с кирпичного завода, в расстегнутой на волосатой груди рубахе, с сигаретой во рту и с наглой ухмылкой. Не обратив на него внимания, Маттеи прошел в ту комнату, где мы уже однажды сидели с ним; я поплелся следом. Он поставил на стол водку и наливал себе рюмку за рюмкой, а мне так все опротивело, что я не мог даже пить. Хеллер не появлялась.
— Нелегко мне будет справиться со всем, — начал Маттеи. — Впрочем, до прогалины не так уж далеко… Или вы считаете, что лучше ждать здесь, у бензоколонки?
Я ничего не ответил. Маттеи шагал из угла в угол, не смущаясь моим молчанием.
— Досадно только, что Хеллерша и Аннемари все знают, — заметил он. — Но это как-нибудь утрясется.
Снаружи громыхали машины, плаксивый голосок тянул: «Сидела Мария на камне».
— Я ухожу, Маттеи, — сказал я.
Он продолжал пить, даже не взглянув на меня.
— Буду ждать то здесь, то на прогалине, — решил он.
— Прощайте, — сказал я, вышел из комнаты, из дому, прошел мимо парня, мимо девочки, кивнул Феллеру, он встрепенулся, подъехал ближе и распахнул передо мной дверцу машины.
— На Казарменную, — приказал я.
28
— Вот я и рассказал вам ту часть этой истории, в которой существенную роль играет бедняга Маттеи, — продолжал повествование бывший начальник кантональной полиции.
(Тут прежде всего уместно будет пояснить, что наше путешествие Кур — Цюрих давным-давно окончилось, и теперь мы со стариком сидели в неоднократно им с похвалой помянутой «Кроненхалле» и занимали раз навсегда им облюбованный столик под картиной Гублера, сменившей картину Миро; и обслуживала нас, разумеется, Эмма, и мы уже съели подвезенное на столике мясо по-милански, что, как известно, тоже входило в привычки старика — почему бы их не уважить? — время теперь близилось к четырем часам, и после «кофе с дымком», как окрестил старик свою страстишку курить за черным кофе гаванскую сигару, когда вслед за тем подали réserve du patron, он угостил меня второй порцией яблочного пирога. Далее, писательской честности ради и ремеслу в угоду, следует дать чисто техническую справку: разумеется, я не всегда дословно передавал рассказ старого говоруна; помимо того что и беседовали мы, конечно, на швейцарско-немецком наречии, я еще имею в виду те места его повествования, где он рассказывал не со своей точки зрения и не о пережитом им лично, а объективно излагал события как таковые. Например, в той сцене, когда Маттеи дает свое клятвенное обещание. В таких местах приходилось активно вмешиваться, строить и перестраивать, причем я всячески старался ни на йоту не извращать фактов, а лишь обработать материал старика согласно законам сочинительства, чтобы сделать его пригодным для печати.)
— Конечно, я еще не раз наезжал к Маттеи, — так возобновил он свой рассказ, — и все больше убеждался в том, что он был не прав, считая разносчика невиновным, ибо в последующие месяцы и годы ни одного подобного убийства не произошло. Не буду распространяться, вы сами видели: человек сошел на нет, спился, свихнулся окончательно; ни помочь ему, ни изменить что-либо было невозможно. Парни уже не напрасно бродили и зазывно свистели вокруг заправочной станции — там шел дым коромыслом. Граубюнденская полиция произвела несколько облав. Мне пришлось начистоту поговорить с коллегами в Куре, после чего они стали на все смотреть сквозь пальцы, а то и вовсе закрывали глаза. В догадливости им никогда нельзя было отказать. Так оно и пошло своим роковым путем, а в результатах вы могли удостовериться сами во время нашей поездки. Все это крайне прискорбно, тем более что и девочка, Аннемари, пошла по материнским стопам. Возможно, толчком послужило то, что несколько организаций ретиво занялись ее спасением. Девочку помещали в приюты, а она неизменно убегала оттуда на заправочную станцию, где Хеллерша два года назад открыла этот убогий кабак; черт ее знает, у кого она выманила разрешение; так или иначе, это окончательно решило судьбу девочки. Она пустилась во все тяжкие. Четыре месяца тому назад она отбыла годичный срок в исправительном заведении, но урока из этого не извлекла, как вы могли убедиться. Не стоит об этом и говорить. Однако вы, надо полагать, давно уже недоумеваете, какое отношение мой рассказ имеет к той критике, которой я подверг ваш доклад, и почему я назвал Маттеи гениальным. Оно и понятно. Вы, естественно, скажете, что оригинальная догадка не всегда бывает правильной, а тем более гениальной. И это верно. Я даже представляю себе, как это все оборачивается в ваших писательских мозгах. Лукаво подмигивая, вы мысленно говорите себе, что достаточно доказать правоту Маттеи, устроив так, чтобы он поймал убийцу, и вот уже готов отменный роман или сценарий. Ведь писательская задача в том и состоит, чтобы умелым поворотом прояснить события, — тогда сквозь них забрезжит и станет явственнее высший смысл произведения, мало того: такой поворот в сторону успеха Маттеи сделает моего непутевого детектива не только интересной, но и в некотором роде библейской фигурой, эдаким современным Авраамом по силе веры и надежды, а история о том, как некто, веря в невиновность виноватого, разыскивал несуществующего убийцу, из бессмысленной превратится в историю глубокомысленную; творческий полет мысли сделает виновного разносчика невинным, несуществующего убийцу существующим, и факты, которые осмеивают силы человеческого разума и человеческой веры, возвеличат эти силы; неважно, так ли складывались события на самом деле, в конце концов главное, что такая трактовка происшедшего вполне правдоподобна. Вот как я примерно представляю себе ход ваших мыслей; и даже могу предсказать, что, принимая во внимание положительность и назидательность моего рассказа в этом варианте, он не замедлит выйти в свет то ли как роман, то ли как фильм. В целом вы все перескажете именно так, как это пытался сделать я, но, без сомнения, много лучше, недаром вы профессионал, у вас только в самом конце появится настоящий убийца, исполнится надежда, восторжествует вера, и рассказ станет приемлемым для христианского мира. Вдобавок можно кое-что смягчить. Например, я предложил бы, чтобы Маттеи, едва обнаружив трюфели и поняв, какая опасность нависла над Аннемари, отказался от намерения и в дальнейшем пользоваться девочкой как наживкой то ли из сознательного гуманизма, то ли из отеческой любви к ребенку. После чего он отправил бы Аннемари с матерью в надежное место, а взамен посадил бы у ручейка большую куклу. На закате солнца торжественно и грозно выступил бы из лесу убийца, волшебник из сказки Аннемари, и направился бы к мнимой девочке, сладострастно предвкушая возможность вновь поиграть бритвой; поняв, что его заманили в дьявольскую западню, он пришел бы в бешенство, в неистовство; далее последовала бы схватка с Маттеи и с полицией, а в виде концовки — простите мне сочинительские потуги — душещипательный разговор раненого комиссара полиции с девочкой, всего несколько отрывочных фраз. Девочка для этого могла бы улизнуть от матери навстречу своему возлюбленному волшебнику, навстречу небывалому счастью; после всех ужасов такой светлый блик нежного человеколюбия и самозабвенной неземной поэзии пришелся бы весьма кстати; впрочем, вы, вероятнее всего, состряпаете что-то совсем другое; теперь я вас немного узнал, хотя, положа руку на сердце, Макс Фриш[52] мне понятнее и ближе; вас соблазнит именно бессмыслица ситуации, тот факт, что человек верит в невиновность виновного и разыскивает убийцу, которого нет на свете, как это в достаточной мере точно установлено нами. Вы тут перещеголяете в жестокости саму действительность, просто забавы ради, чтобы окончательно осрамить нас, полицию: у вас Маттеи все-таки найдет убийцу, какого-нибудь из ваших комических праведников, например безобиднейшего сектантского проповедника, на самом деле ни в чем не повинного и попросту не способного творить зло. Но при вашей склонности к сарказму на нем сосредоточатся все подозрения. Маттеи укокошит этого невинного дурачка, все улики сойдутся, после чего удачливого детектива объявят гением и с почестями возьмут к нам обратно. Кстати, это тоже не лишено вероятия. Видите, как я вас раскусил. А вы, надеюсь, не приписываете мою болтовню действию réserve du patron, хотя мы и приканчиваем второй литр, — думаю, вы поняли, что я собираюсь досказывать конец, правда без особой охоты. Не стану скрывать, у этой истории есть развязка, но, увы, до крайности убогая, о чем вы, верно, тоже догадались, до того убогая, что ее никак не приспособишь к порядочному роману или фильму. Она так смехотворно нелепа и пошла, что, готовя рассказ для публикации, следовало бы умолчать о ней. Однако, честно говоря, эта развязка полностью реабилитирует Маттеи, показывает его в настоящем свете как человека поистине гениального, который прозрел скрытые от нас двигательные силы действительности и, пробившись сквозь окружающее нас кольцо гипотез и предпосылок, приблизился к тем, обычно недоступным нам, законам, которые управляют миром. Правда, лишь приблизился. Именно потому, что эта злополучная развязка является чем-то непредусмотренным, если хотите — случайным, вся его гениальность, его замыслы и поступки привели в дальнейшем к абсурду, потерпели еще более жестокий крах, чем в тот момент, когда он, по мнению Казарменной улицы, ступил на ложный путь. Как это страшно, когда гений спотыкается о бессмыслицу! Но в такой коллизии важнее всего, мирится ли гений с той смехотворной нелепостью, на которой он сорвался. Маттеи с этим не мог примириться. Он хотел, чтобы его расчет оправдал себя и в действительности. А значит, ему ничего не оставалось, как опровергнуть действительность и повиснуть в пустоте.
Итак, мой рассказ мог бы кончиться на очень грустной ноте, на самом банальном из всех возможных «решений». Что ж, случается и такое. Самое худшее тоже порой соответствует истине. На то мы и мужчины, чтобы считаться с этим, а главное — понять, что мы лишь тогда не потерпим краха в борьбе с бессмыслицей, которая естественным образом проявляется все явственнее, все сильнее, лишь тогда сможем мало-мальски уютно устроиться на нашей земле, если смиренно включим в наше мышление эту бессмыслицу как фактор, которым нельзя пренебрегать. Наш разум весьма скудно освещает окружающий мир. В сумеречной сфере, у самого его предела, гнездится все сомнительное и парадоксальное. Боже нас упаси воспринимать эти призраки как нечто существующее «в себе», вне пределов человеческого духа, скажу больше: не надо бояться впасть в ересь и посмотреть на эти темные силы как на поправимый изъян, из-за которого мы склонны судить мир с позиций ханжеской морали, ибо иначе это означало бы, что мы пытаемся утвердить понятие непогрешимого разума, а именно его непогрешимое совершенство будет для него пагубной ложью и признаком вопиющей слепоты. На меня же не пеняйте за то, что я свой складный рассказ прервал этими комментариями. Я знаю сам, они небезупречны с философской точки зрения. Но будьте снисходительны к старику, которому хочется осмыслить свой житейский опыт, пускай даже его домыслы покажутся вам наивными; но я, хоть и служил в полиции, все-таки стараюсь быть человеком, а не бараном.
29
Так вот, в прошлом году, и, конечно, опять в воскресенье, мне, по вызову одного католического священника, предстояло посетить кантональную больницу. Это было незадолго до моего выхода на пенсию, я дослуживал последние дни, и делами, собственно, занимался мой преемник, не Хенци — несмотря на свою Хоттингер, он, к счастью, этого не добился, — а человек незаурядный, добросовестный, обладающий отнюдь не казенной человечностью. Только такой и мог быть полезен на этом посту. Мне позвонили прямо домой. Я решил поехать на вызов только потому, что речь шла о каком-то важном сообщении, которое пожелала мне сделать умирающая женщина, — такие случаи нередки в нашей практике. Стоял ясный, но холодный декабрьский день. Все кругом было голо, уныло, тоскливо. Можно завыть, глядя на наш город в такие минуты. А навещать умирающую — совсем уж последнее дело. Неудивительно, что я несколько раз в подавленном состоянии обошел парк вокруг Эшбахеровской арфы, но потом все-таки потащился в больницу. Госпожа Шротт, терапевтическая клиника, частное отделение. Палата выходила окнами в парк. Она была полна цветов — роз, гладиолусов. Гардины были приспущены. Косые солнечные лучи падали на пол. У окна сидел дюжий патер с красным мясистым лицом и нечесаной седой бородой, а в постели лежала старушечка с морщинистым личиком, с реденькими, белыми как лунь волосами, неправдоподобно хрупкая и, судя по обстановке, очень богатая. У кровати стоял какой-то сложный агрегат, по-видимому медицинский прибор, к которому вело множество резиновых трубок, выходивших из-под одеяла. Работа этого аппарата находилась под бдительным надзором сестры милосердия; через определенные промежутки времени сестра молча и с сосредоточенным видом входила в палату и через такие же равномерные интервалы вынуждала нас прерывать разговор. Это обстоятельство не мешает отметить с самого начала.
Я поздоровался. Старушка оглядела меня внимательно и вполне спокойно. Лицо у нее было восковое, как у куклы, но на диво оживленное. Хотя она и держала в желтоватых сморщенных пальцах черную книжечку с золотым обрезом, очевидно молитвенник, все же трудно было поверить, что эта женщина скоро умрет, такой несломленной жизненной силой веяло от нее, невзирая на все трубки, торчавшие из-под одеяла. Патер не встал с места. Столь же величавым, сколь и нескладным жестом он указал мне на стул возле кровати.
— Садитесь, — предложил он.
И когда я сел, его густой бас снова донесся от окна, которое он заслонял своими могучими плечами:
— Госпожа Шротт, расскажите господину начальнику полиции все, о чем вам надобно его уведомить. В одиннадцать мы должны приступить к соборованию.
Госпожа Шротт улыбнулась. Она очень сожалеет, что вынуждена меня беспокоить, жеманно начала она, и голос ее звучал хоть и слабо, но вполне явственно, можно сказать, даже бодро.
— Мне это ничуть не трудно, — солгал я, не сомневаясь теперь, что бабуся порадует меня дарственной на неимущих полицейских или чем-нибудь в этом роде.
То, что она хочет мне сообщить, само по себе дело неважное и безобидное, такие происшествия, конечно, случаются во всех семьях, и притом не раз, поэтому она даже позабыла о нем, но сейчас, когда Богу, по-видимому, угодно прибрать ее, она во время последней исповеди упомянула об этом — чисто случайно, только потому, что как раз перед тем приходила с цветами внучка ее единственного крестника и на ней было красное платьице, а патер Бек вдруг разволновался и потребовал, чтобы она непременно рассказала эту историю мне. Она не понимает для чего, ведь это все давно прошло, но раз его преподобие находит…
— Рассказывайте, госпожа Шротт, — послышался густой голос от окна, — рассказывайте.
В городе колокола зазвонили к проповеди, звуки глухо долетали издалека. Хорошо, она попытается. И старушка, взяв разбег, залопотала опять. Она давно уже ничего не рассказывала, вот только разве Эмилю, своему сыну от первого брака, ну а потом ведь Эмиль умер от чахотки, его никак нельзя было спасти. Он был бы сейчас таких лет, как и я, или, скорее, таких, как патер Бек; но она постарается представить себе, что я ее сын и патер Бек тоже — ведь после Эмиля она родила Марка, но он через три дня умер, преждевременные роды, он появился на свет через шесть месяцев, и доктор Хоблер сказал, что это для бедняжки только к лучшему.
Такая бессвязная болтовня длилась еще довольно долго.
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте, — пробасил патер, неподвижно возвышаясь у окна и лишь изредка, подобно Моисею, поглаживая десницей свою косматую седую бороду, а также распространяя теплые волны своего дыхания, напоенного чесноком. — Вскоре нам пора будет приступать к соборованию.
Тут вдруг она приняла горделивый, поистине аристократический вид, даже приподняла головку и сверкнула глазками. Ее девичья фамилия — Штенцли, заявила она, ее дедом был полковник Штенцли, во время военных действий Зондербунда[53] он командовал отступлением на Эшольцматт, а сестра ее вышла замуж за полковника Штюсси, в первую мировую войну он состоял при Цюрихском главном штабе, был на «ты» с генералом Ульрихом Вилле[54] и лично знаком с кайзером Вильгельмом, что мне, без сомнения, известно…
— Конечно, само собой разумеется, — промямлил я. «Какое мне дело до старика Вилле и до кайзера Вильгельма, — думал я. — Скорей выкладывай про свою дарственную, старушенция!» Хоть бы закурить, маленькая сигара «Суэрдик» была бы очень кстати, хорошо перебить запахом джунглей больничный воздух и аромат чеснока.
А патер упорно, неумолимо гудел свое:
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте…
Да будет мне известно, продолжала престарелая дама, и лицо ее исказилось злобой, даже ненавистью, что во всем виновата ее сестрица со своим полковником Штюсси. Сестра старше ее на десять лет, той теперь девяносто девять; сорок лет, как она овдовела, владеет виллой на Цюрихберге, акциями компании «Браун Бовери», чуть не половина Банхофштрассе[55] у нее в руках; и вдруг из уст умирающей старушки прорвался мутный поток или, вернее, целый водопад непристойных ругательств, которые я не решаюсь повторить. При этом она чуть приподнялась и резво замотала своей белой как лунь головкой, сама упиваясь этим взрывом неистовой ярости. Однако вскоре она утихла, потому что, на счастье, пришла сестра милосердия.
— Ну, ну, госпожа Шротт, нельзя волноваться, надо лежать спокойненько.
Старуха послушалась и только махнула рукой, когда мы остались одни.
Все эти цветы, сказала она, ей посылает сестра лишь для того, чтобы позлить ее: сестрица прекрасно знает, как она ненавидит цветы, она вообще не выносит бесполезных трат; верно, я думаю, что они между собой ссорятся, — нет, ничуть, они всегда были милы и ласковы друг с другом, понятно, из чистой зловредности. Это у них, у Штенцли, фамильная черта, все они друг друга терпеть не могли и всегда были вежливы между собой, но их вежливость — только способ побольнее мучить и терзать друг друга, и на том скажите спасибо, не будь они все такими благовоспитанными, в семействе был бы сущий ад.
— Рассказывайте же, госпожа Шротт, — для разнообразия напомнил патер. — Мы опаздываем с соборованием.
А я мечтал уже не о маленькой «Суэрдик», а о своей большущей «Байанос».
В девяносто пятом году она обвенчалась со своим бесценным покойником Галузером, журчал дальше неиссякаемый словесный поток. Он был доктором медицины в Куре.
Уже и это сестрице с ее полковником пришлось не по нутру, показалось недостаточно аристократичным, она это сразу учуяла, а когда полковник умер от гриппа, вскоре после первой мировой войны, сестрица совсем распоясалась, возвела своего милитариста в какое-то божество.
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте, — бубнил патер, не проявляя ни тени нетерпения, разве что тихую скорбь по поводу такого упорства в заблуждениях, меж тем как я клевал носом и временами вскидывался, как со сна, — вспомните про соборование, рассказывайте, рассказывайте.
Все напрасно. Лежа на смертном одре, старушка стрекотала неутомимо, неумолчно, несмотря на свой слабенький писк и на трубки под одеялом; перескакивала с пятого на десятое.
Поскольку я вообще не способен был думать, я смутно предполагал, что она расскажет пустяковую историю про услужливого полицейского, а затем возвестит дарственную — несколько тысяч франков, — имеющую целью позлить девяностодевятилетнюю сестрицу, я уже заранее заготовил горячую благодарность, мужественно подавил абстрактные мечты о сигарах и, чтобы окончательно не впасть в отчаяние, предвкушал теперь привычный аперитив и традиционный обед с женой и дочерью в «Кроненхалле».
А после смерти первого мужа, покойного Галузера, болтала тем временем старушка, она вышла замуж за Шротта, тоже ныне покойного, он у них служил шофером и садовником — словом, исполнял всю работу, какую в большом барском доме лучше всего исполнять мужчине, к примеру отапливать помещение, чинить ставни и прочее, и хотя сестрица открыто не возражала и даже приехала в Кур на свадьбу, но, понятно, была возмущена этим браком, хотя — опять-таки чтобы позлить ее — даже виду не подала.
Таким-то образом она стала госпожой Шротт.
Она вздохнула. Где-то в коридоре сестры милосердия репетировали предрождественские песнопения.
— Да, у нас поистине гармоничный брак был с дорогим моим покойничком, — продолжала старушка, послушав несколько тактов песнопения. — Впрочем, ему, пожалуй, бывало нелегко, мне трудно судить. Когда мы поженились, Альберту, дорогому моему покойничку, было двадцать три года, он родился как раз в девятисотом, а мне уже минуло пятьдесят пять. Все равно лучшего выхода для него не придумаешь — он ведь был сиротой, мать у него была стыдно выговорить кто, а отца никто и не знал даже по имени. Первый мой муж в свое время взял его в дом шестнадцатилетним подростком, в школе он подвигался туго, особенно у него не ладилось с чтением и письмом. Женитьба все разрешила самым благородным образом — вдове ведь очень трудно уберечься от злословия, хотя у меня с дорогим покойничком Альбертом никогда ничего не было, даже и в супружестве, оно и понятно при такой разнице лет. К тому же наличность у меня невелика, надо было очень рассчитывать, чтобы прожить на доход с домов в Цюрихе и Куре. А дорогой покойничек Альберт разве выдержал бы, при своем скудоумии, суровую борьбу за существование? Он бы неизбежно погиб. Должны же мы помнить наш христианский долг перед ближним. Так мы с ним и жили честь по чести — он возился в доме и в саду. Не могу не похвастать — видный был мужчина, рослый и крепкий, и держался с достоинством, и одет был всегда строго и элегантно. Стыдиться его мне не приходилось, хотя он почти ничего не говорил, кроме как «Хорошо, мамочка, конечно, мамочка», зато слушался меня и мало пил. Вот поесть он любил, особенно лапшу и вообще всякое тесто и шоколад. Шоколад он прямо обожал. А так он был хороший человек и на всю жизнь остался хорошим, куда симпатичнее и послушнее того шофера, за которого четырьмя годами позже вышла моя сестрица, несмотря на своего полковника. Тому шоферу было тоже всего тридцать лет.
— Рассказывайте, госпожа Шротт, — донесся от окна невозмутимо беспощадный голос патера, когда старушка замолчала, все-таки немного утомившись, меж тем как я по-прежнему в простоте сердечной дожидался дарственной на неимущих полицейских.
Госпожа Шротт кивнула.
— Но вот, понимаете, господин начальник, — продолжала она свой рассказ, — в сороковых годах дорогой мой покойничек Альберт начал как-то сдавать. Сама не понимаю, чего ему недоставало, должно быть, у него что-то повредилось в голове. Он становился все молчаливее, все мрачнее. Бывало, уставится в одну точку и слова из него не вытянешь целый день. Работу свою он выполнял исправно, так что выговаривать ему мне не приходилось, только по целым часам где-то разъезжал на велосипеде — может, на него так подействовала война или то, что его не взяли на военную службу. Почем я знаю: для нас, женщин, мужская душа — потемки! К тому же он становился все прожорливей: счастье, что у нас были свои куры и что мы разводили кроликов. Вот тут-то с дорогим моим покойничком Альбертом и приключилось то, о чем мне надо вам рассказать. Первый случай был к концу войны.
Она умолкла, потому что в палату опять вошла сестра с врачом, и оба занялись старушкой и аппаратурой. Доктор был белокурый немец, как из книжки с картинками, веселый бодрячок, в качестве дежурного совершавший воскресный обход. «Как дела, госпожа Шротт, вы совсем молодцом, показатели великолепные. Чудно, чудно, только не падать духом!»
И он проследовал дальше, сестра за ним, а патер потребовал:
— Рассказывайте, госпожа Шротт, рассказывайте, помните, ровно в одиннадцать — соборование.
Эта перспектива, по-видимому, ничуть не волновала старушку.
— Каждую неделю он ездил в Цюрих и возил яйца из-под кур моей милитариста сестрице, — бодро возобновила она свой рассказ, — бедненький мой покойничек привязывал корзинку сзади к велосипеду и непременно возвращался под вечер, выезжал-то он очень рано, часов в шесть, в пять, всегда такой парадный, в черном костюме и котелке. Все ему приветливо кланялись, когда он катил по Куру, а потом дальше за город и все время напевал свою любимую песенку «Я молодой швейцарец, я родину люблю». В тот раз, через два дня после федерального праздника — день был жаркий, как и полагается в разгар лета, — вернулся он уже за полночь. Я слышала, что он долго возится и умывается в ванной, пошла посмотреть и увидела, что все у дорогого моего Альберта в крови, даже и костюм. «Господи, Альберт, душенька, что с тобой стряслось?» — спросила я. Он сперва выпучил на меня глаза, потом сказал: «Несчастный случай, мамочка, не пугайся, ступай спать, мамочка». Я и пошла спать, хотя и была удивлена, потому что никаких ран не заметила. Наутро, когда мы сидели за столом и он кушал яйца всмятку, как всегда четыре зараз, а к ним хлеб с мармеладом, я прочитала в газете, что в кантоне Санкт-Галлен зарезали маленькую девочку, по-видимому, бритвой, и вдруг я вспомнила, что он прошлой ночью мыл в ванной свою бритву, хотя обычно бреется по утрам. Тут меня сразу осенило, я очень строго заговорила с ним. «Альберт, душенька, — сказала я, — ведь это ты зарезал девочку в кантоне Санкт-Галлен». Тут он перестал есть яйца, хлеб с мармеладом и соленые огурцы и сказал: «Да, мамочка, так было суждено, мне был голос свыше» — и снова взялся за еду. Я совсем расстроилась, оттого что он так серьезно болен. Мне было жаль девочку, я даже собралась протелефонировать доктору Зихлеру, не старику, а его сыну, он тоже толковый врач и отзывчивый человек. Но потом вспомнила про свою сестру, как бы она стала злорадствовать, как бы возликовала, и тогда я решила построже, порешительней поговорить с дорогим моим Альбертом и категорически заявила ему, чтобы это никогда, никогда больше не повторялось, и он сказал: «Хорошо, мамочка». — «Как же это получилось?» — спросила я. «Мамочка, — ответил он мне, — девочку в красном платьице с соломенными косичками я встречал всякий раз, как ездил в Цюрих через Ваттвиль. Это большой крюк, но с тех пор, как я увидел девочку у лесочка, голос свыше, мамочка, приказал мне делать этот крюк и еще голос свыше приказал мне поиграть с девочкой, а потом голос выше приказал дать ей шоколадку, а потом уж мне пришлось убить девочку. Я тут ни при чем, мамочка, это все голос свыше. Потом я пошел в ближний лес, пролежал до темноты под кустом и только потом вернулся к тебе, мамочка». — «Альберт, душенька, — сказала я, — больше ты не будешь ездить к моей сестре на велосипеде, яйца можно отправлять посылкой». — «Хорошо, мамочка», — ответил он, густо намазал себе мармеладом еще один ломоть хлеба и пошел во двор. Надо мне сходить к патеру Беку, подумала я, пусть он построже поговорит с Альбертом, но тут я как выглянула в окно, как увидела, до чего усердно он трудится на самом припеке и безропотно, только немного печально латает крольчатник, до чего чисто выметен двор, так я и подумала: «Сделанного не поправишь, Альберт, мой голубчик, очень хороший человек, сердце у него, в сущности, золотое, а это никогда больше не повторится».
В палату снова вошла сестра милосердия, проверила аппаратуру, поправила резиновые трубки, а старуха зарылась в подушку, казалось совсем обессилев. Я боялся дышать, пот градом лил у меня по лицу, но я не замечал этого.
Меня вдруг стало знобить, я сам себе был смешон вдвойне оттого, что ожидал от старухи дарственной, а тут еще эта уйма цветов, белые и красные розы, огненные гладиолусы, астры, циннии, гвоздики — и где их только выкопали? — целая ваза орхидей, нелепых и наглых, и солнце за гардинами, и плечистый истукан патер, и чесночный дух; мне хотелось кричать, буйствовать, арестовать эту старую каргу, но все уже утратило смысл, в одиннадцать часов предстояло соборование, а я в своем парадном костюме восседал здесь декоративной, бесполезной фигурой.
— Рассказывайте дальше, госпожа Шротт, — терпеливо убеждал патер, — рассказывайте дальше.
— Голубчику моему Альберту в самом деле полегчало, — повествовала она ровным кротким голосом, как будто рассказывала двум детям сказку, в которой зло и бессмыслица — такие же чудеса, как и добро. — Он перестал ездить в Цюрих, но, когда кончилась вторая мировая война, мы опять смогли пользоваться нашей машиной, которую я купила в тридцать восьмом году, потому что автомобиль покойного Галузера совсем устарел, и теперь дорогой мой Альберт снова катал меня в нашем «бьюике». Один раз мы отважились и съездили даже в Аскону, и я подумала, раз ему так нравится кататься на машине, он может опять ездить в Цюрих, на «бьюике» это безопасней: тут надо быть внимательным и некогда слушать голос свыше. Вот он и начал ездить к сестре. Добросовестно и аккуратно, как всегда, сдавал яйца из-под кур, а то, случалось, и кролика. Но вот однажды вернулся он опять за полночь. Я сейчас же пошла в гараж, потому что сразу заподозрила недоброе — недаром он последнее время вдруг стал таскать трюфели из бонбоньерки. И в самом деле, я увидела, как он моет машину, а там внутри все полно крови. «Опять ты убил девочку, Альберт, душенька», — строго сказала я. «Успокойся, мамочка, — ответил он, — уже не в кантоне Санкт-Галлен, а в кантоне Швиц, так пожелал голос свыше, а у девочки опять было красное платьице и соломенные косички». Но я не успокоилась, я еще строже обошлась с ним, даже рассердилась на него, запретила ему целую неделю ездить на «бьюике» и совсем собралась идти к его преподобию, патеру Беку, но не решилась — уж очень бы злорадствовала моя сестрица, тогда я стала еще строже следить за дорогим моим Альбертом, и, правда, два года все шло тихо-мирно. Но тут он опять послушался голоса свыше и сам был сокрушен своим поступком, сильно плакал, ну я-то сразу все поняла, оттого что в бонбоньерке опять недоставало трюфелей. Это была девочка в кантоне Цюрих, тоже в красном платьице и со светлыми косичками. Просто удивительно, как это матери могут так неосторожно одевать детей.
— Девочку звали Гритли Мозер? — спросил я.
— Да, ее звали Гритли, а прежних Соня и Эвели, — подтвердила престарелая дама. — Я все имена запомнила. Но бедному моему Альберту становилось все хуже. Он стал рассеянным, приходилось по десять раз повторять ему одно и то же, отчитывать его как мальчишку. И вот, не то в сорок девятом, не то в пятидесятом году, я уж точно не помню, только знаю, что это было через несколько месяцев после Гритли, он опять стал неспокойным, рассеянным, даже не чистил курятника, и куры кудахтали как оглашенные, потому что он спустя рукава готовил им корм, а сам опять по целым дням разъезжал на нашем «бьюике» и говорил, что ездит проветриться, но вдруг я заметила, что в бонбоньерке опять стали убывать трюфели. Тогда я решила его подстеречь, и, когда он прокрался в гостиную, а бритва торчала у него в кармашке как авторучка, я подошла к нему и сказала так: «Альберт, душенька, опять ты нашел такую же девочку?» — «Что поделаешь, мамочка, голос свыше, — ответил он, — отпусти меня в последний раз. Что приказано свыше, того ослушаться нельзя, а у нее тоже красное платьице и соломенные косички». — «Я этого допустить не могу, Альберт, душенька, — строго сказала я, — где эта девочка?» — «Недалеко отсюда, на заправочной станции, — ответил он. — Пожалуйста, ну пожалуйста, мамочка, позволь мне послушаться голоса свыше». Я, однако, решительно воспротивилась. «Не бывать этому, Альберт, душенька, ты сам мне обещал. Немедленно почисти курятник и задай курам корм». Тут мой дорогой покойничек разозлился, впервые за всю нашу супружескую жизнь, которая была такой гармоничной. «Я хожу у тебя в батраках», — заорал он. Видите, как он был болен. Выбежал с трюфелями и с бритвой прямо к «бьюику», а через четверть часа мне позвонили, что он налетел на грузовик и погиб. Тут сразу пришел патер Бек, а потом полицейский вахмистр Бюлер, он был особенно участлив. Вот почему я отписала пять тысяч франков полиции в Куре, еще пять тысяч завещала цюрихской полиции — ведь у меня же здесь есть дома на Фрайештрассе. Ну конечно, сейчас же примчалась моя сестрица со своим шофером, специально чтобы позлить меня. Она мне испортила все похороны.
Я выпучил на старуху глаза. Вот она, долгожданная дарственная!
Казалось, судьбе вздумалось особенно зло насмеяться надо мной.
В эту минуту пришел профессор с ассистентом и двумя сестрами, нас попросили удалиться.
Я попрощался с госпожой Шротт.
— Будьте здоровы, — смущенно сказал я, не думая о том, что говорю, мечтая только поскорее выбраться отсюда.
Она захихикала в ответ, а профессор как-то странно посмотрел на меня, все почувствовали неловкость, а я был счастлив расстаться со старухой, с патером и со всем сборищем и выбраться наконец в коридор.
Отовсюду спешили посетители с цветами и свертками. Пахло больницей. Я торопился уйти. Выход был близко, я уже надеялся, что сейчас выскочу в парк. Как вдруг рослый, плечистый мужчина с круглым детским лицом в парадном черном костюме и в котелке вкатил в кресле на колесиках сморщенную трясущуюся старушонку. Эта древность была закутана в норковую шубу и обеими руками держала гигантские снопы цветов. Вероятно, это была девяностодевятилетняя сестрица со своим шофером. Я оцепенел и в ужасе смотрел им вслед, пока они не исчезли в частном отделении, а потом чуть не бегом бросился вон, пронесся через парк, мимо больных в креслах с колесиками, мимо выздоравливающих, мимо посетителей и хоть немного успокоился только в «Кроненхалле» за супом с фрикадельками из печенки.
30
Прямо из «Кроненхалле» я поехал в Кур. К сожалению, мне пришлось взять с собой жену и дочь. День был воскресный, и я обещал не занимать его делами, а пускаться в объяснения мне не хотелось. Я не произносил ни слова и мчался, развив запретную скорость, в надежде спасти, что еще можно. Но моему семейству недолго пришлось дожидаться в машине перед заправочной станцией. В кабачке стоял форменный содом, Аннемари только что отбыла срок в исправительной колонии, и все помещение кишмя кишело подозрительными молодчиками; Маттеи сидел на скамье, несмотря на холод, в том же синем комбинезоне, с окурком в зубах. От него разило спиртным. Я сел рядом, сжато изложил ему все. Но это было уже ни к чему. Он даже и не слушал меня. Я помедлил в нерешительности, потом вернулся в машину и поехал в Кур, мое семейство проголодалось и роптало.
— Это был Маттеи? — спросила жена, как всегда ни о чем не подозревавшая.
— Да, он.
— А я думала, он в Иордании.
— Он туда не поехал, дорогая.
В Куре мы намучились со стоянкой: кондитерская была полна гостей, главным образом из Цюриха, они потели, набивали себе животы, а детки их кричали и визжали, однако мы все-таки нашли свободное место и заказали чаю с пирожными. Но жена вернула кельнершу.
— Пожалуйста, принесите также двести граммов трюфелей.
Ее немного удивило, почему я не пожелал их есть. Ни за какие блага в мире.
— А теперь делайте с моим рассказом, что хотите. Эмма, счет!
Переворот
Фреду Шертенлайбу
Der Sturz
Из банкетного зала с буфетом холодных закусок, где к водке и шампанскому членам Политсекретариата подавали фаршированные яйца, ветчину и гренки с икрой, Н первым перешел в зал заседаний. После того как его избрали членом высшего руководящего органа партии, он только здесь чувствовал себя в безопасности, несмотря на то что занимал всего лишь пост Министра связи (его выдвинул сам А за приглянувшиеся ему почтовые марки, выпущенные по случаю международной конференции сторонников мира, во всяком случае так поговаривали люди из окружения Г, и Д подтвердил этот слух), ибо при сравнительной малозначительности Министерства связи в системе госаппарата все предшественники Н бесследно исчезли и даже наводить о них справки было делом рискованным, хотя Министр госбезопасности В относился к Н вроде бы неплохо. Предварительно его дважды обыскали; перед банкетным залом это проделал знакомый офицер, по-спортивному подтянутый здоровяк, а перед залом заседаний — блондин, которого Н прежде здесь не встречал (обычно заключительный обыск производился лысым полковником, но, видно, его отправили в отпуск или куда-нибудь перевели, если, конечно, не уволили, разжаловали, а то и вовсе расстреляли). Положив портфель на стол, Н занял свое место. Рядом уселся Л. Зал заседаний был длинным и очень узким, совсем ненамного шире стола. Нижняя половина стены была обшита темным деревом, верхняя половина и потолок оставались белыми. Место А находилось во главе стола. Над его креслом на белой части стены висел партийный стяг. Противоположный торец пустовал, в этом конце зала располагалось единственное окно. Высокое, полукруглое, пятистворчатое, оно никогда не занавешивалось. Справа от А размещались кресла Б, Г, Е, З, К, М, напротив них — В, Д, Ж, И, Л, Н. Самое последнее место, слева от Н, занимал Первый секретарь молодежной организации П, а на последнем месте по другую сторону, справа от М, сидел Министр атомной энергетики О; П и О права голоса не имели и в голосовании не участвовали. Старейшим членом Политсекретариата был Л; раньше, до того как А возглавил партию и государство, Л занимал ту должность, которая перешла от него к Г. Прежде чем стать профессиональным революционером, Л работал кузнецом. Широкий в кости, крупный, но поджарый, он вечно бывал небрит. Лицо и руки у него были грубыми, короткие седые волосы топорщились густым ежиком. Его темный костюм походил на воскресную пару обычного мастерового. Галстук он не носил, зато всегда наглухо застегивал ворот своей белой рубахи. В партии, да и в народе его любили, о его отваге в дни июньского восстания слагались легенды, только все это было давным-давно, теперь же А называл его Монументом. Л слыл человеком исключительной справедливости, а главное, считался народным героем, поэтому с партийного Олимпа его не сбросили, но тем необратимее стал его спуск по иерархическим ступенькам. Он и сам знал, что рано или поздно будет низвергнут окончательно. Подобно обоим маршалам, З и К, он крепко пил, частенько являлся нетрезвым даже на заседания Политсекретариата. Вот и теперь от Л разило водкой и шампанским, однако его хриплый голос звучал уверенно, а водянистые, с покрасневшими белками глаза смотрели насмешливо.
— Нам — крышка! — сказал он, обращаясь к Н. — О не пришел.
Н не отозвался. Он даже бровью не повел, изображая полнейшее равнодушие. Возможно, слух об аресте О окажется обыкновенной уткой, не исключено также, что Л ошибается; если же и нет, то положение у Н далеко не так безнадежно, как у Л, который теперь руководил транспортом. За любую неурядицу в тяжелой промышленности или сельском хозяйстве (а неурядиц там всегда хватает) ответственность легко переложить на Министра транспорта, не говоря уже о самих железнодорожных авариях, задержках, проволочках. Ведь расстояния в стране огромны, за всем не углядишь.
Пришли Заместитель по партии Г и Министр сельского хозяйства И. Заместитель по партии, толстый, умный и властолюбивый, носил, подражая А, китель — одни считали, что Г делает это из раболепия перед вождем, другие усматривали тут тонкую насмешку над ним. И был рыж и тщедушен. Придя к власти, А сделал его Генеральным прокурором. На этом посту И отличался неуемным рвением: при первой же крупной чистке он добился смертной казни для ветеранов революции, однако допустил досадную оплошность. По желанию А он потребовал высшей меры для его зятя, но неожиданно А снова вмешался в дело и простил своего зятя; здесь-то и вышел ляпсус, ибо того поспешили расстрелять; сей ляпсус не просто стоил должности Генеральному прокурору — его немедленно выдвинули в высшее партийное руководство. Теперь И был членом Политсекретариата, то есть всегда находился под рукой, а значит, мог считать себя первоочередником для списка смертников. На новом посту его всегда могли убрать по политическим мотивам, таковые ждать себя не заставят. Тем более если учесть тот самый ляпсус. Впрочем, никто всерьез не верил, будто А действительно решил пощадить зятя. Его ликвидация вполне устраивала вождя (дочь А уже спала к тому времени с П), зато теперь у А появился формальный повод для расправы с И, а поскольку вождь никогда не упускал случая, то считалось, что И человек конченый. И знал, что обречен, но делал вид, будто ни о чем не догадывался, впрочем, выходило у него это неважно. В том числе и сейчас. Слишком уж он силился скрыть неуверенность. И принялся рассказывать Заместителю о новом спектакле Государственного балета. Он заводил речь о балете на каждом заседании, судил о нем вполне профессионально — так и сыпал балетными терминами; с еще большим жаром пускался он в эти разговоры после своего назначения Министром сельского хозяйства, в котором, будучи по образованию юристом, не смыслил ровным счетом ничего. Кстати, сельское хозяйство отличается ничуть не меньшим коварством, чем транспорт, тут мог погореть кто угодно, ибо партия, естественно, не справлялась и с сельским хозяйством. Крестьяне по своей натуре ленивы, своекорыстны, воспитательной работе не поддаются. Н тоже ненавидел крестьянство, не само по себе, а как неразрешимую проблему, с которой плановые органы терпят одну неудачу за другой; каждая неудача опасна, поэтому Н ненавидел крестьян вдвойне; именно из-за этой ненависти он хорошо понимал, почему И любит поболтать о балете — кому охота говорить о крестьянах. Лишь Министр тяжелой промышленности Е, который сам вырос в деревне, где, продолжая дело отца, начал свою трудовую жизнь сельским учителем (далеко не блестящее образование Е с грехом пополам получил в провинциальном пединституте), любил поразглагольствовать на заседаниях Политсекретариата о прелестях сельской жизни; и впрямь смахивающий на мужика, Е рассказывал смешившие только его одного деревенские байки, к месту и не к месту он вставлял непонятные остальным народные пословицы и поговорки; И же, профессиональный юрист, измучившись с мужичьем и отчаявшись образумить этих болванов стоеросовых, вечно талдычил о балете, лишь бы не касаться сельскохозяйственных проблем, он давно уже всем плешь проел своим балетом, особенно вождю, который даже придумал для И новое прозвище — Балерун (раньше А называл его «нашим Ангелом смерти»). Н презирал бывшего Генерального прокурора, чья веснушчатая протокольная физиономия вызывала у него отвращение. А вот выдержкой Заместителя по партии (или Хряка, как прозвал его А) он невольно восхищался. Ведь при всей политической дальновидности и огромном авторитете в партии Хряку было чего бояться, однако он хранил абсолютное спокойствие. Он вообще никогда не терял головы. Присутствие духа не изменяло ему даже перед лицом крайней опасности. Ведь положение Хряка было довольно зыбким. Арест О (если слух о нем не утка, пущенная кем-то, кого встревожила неявка Министра атомной энергетики на заседание Политсекретариата) мог послужить началом атаки на Заместителя, ибо по партийной линии О подчинялся именно ему; но арест О мог быть нацелен и против Главного идеолога Ж, у которого О ходил в любимчиках; разумеется, ликвидация О (если таковая подтвердится) могла быть направлена против Г и Ж одновременно, впрочем, это было маловероятно, хотя и не исключено.
Тем временем Ж, главный идеолог партии, вошел в зал заседаний. Двигался он неуклюже, седую голову держал с эдаким профессорским наклоном; его простые очки без оправы казались, как всегда, пыльными. Некогда он учительствовал в провинциальной гимназии, А называл его Святошей. Ж считался величайшим теоретиком партии. Он не пил, не курил, вел аскетический образ жизни, был тощ, нелюдим, носил сандалии даже зимой и предпочитал рубашки с отложным воротничком. Если Заместитель по партии Г был жизнелюбом, сибаритом и бабником, то Ж под каждый свой шаг подводил теоретическую базу, тем не менее шаги эти нередко отличались сугубой абсурдностью и вели к многочисленным кровавым жертвам. Оба партийных лидера враждовали. Вместо того чтобы взаимодополнять друг друга, они грызлись, подсиживали противника, всячески старались спихнуть его с занимаемого поста; Заместитель по партии противостоял Главному идеологу как практический деятель революционному теоретику. Если Г не брезговал никакими средствами ради упрочения власти, то Ж изо всех сил блюл ее чистоту, ибо власть была для него чем-то вроде стерильного скальпеля в руках безукоризненно четкой доктрины. Хряка поддерживали Министр иностранных дел Б, Министр народного образования М и Министр транспорта Л, в команду Святоши входили Министр сельского хозяйства И, Президент К и Министр тяжелой промышленности Е, по жестокости ничем не уступавший Хряку, однако из неприязни, которую один властный человек испытывает к другому, оказавшийся среди сторонников Святоши, хотя в то же время бывший сельский учитель мучился комплексом неполноценности и ревновал к бывшему учителю гимназии, а потому Е втайне ненавидел Святошу.
Обычно Ж и Г не здоровались. Сегодня же, как испуганно отметил про себя Н, Главный идеолог неожиданно поприветствовал Заместителя — значит, исчезновение О всерьез обеспокоило Святошу, а ответное приветствие Хряка свидетельствовало и о его тревоге. Раз боялись оба, следовательно, О был действительно арестован. С другой стороны, Святоша поздоровался подчеркнуто сердечно, а Хряк лишь вежливо, из чего вытекало, что Главному идеологу грозит большая опасность, нежели Заместителю. При этой мысли Н почувствовал некоторое облегчение. Падение Г обернулось бы бедою и для него, ведь полноправным членом Политсекретариата он стал по рекомендации Хряка, который с тех пор слыл покровителем Н, что теперь могло сулить неприятности, хотя на самом деле Н ни к одной из группировок не принадлежал, да и перед тогдашними выборами в Политсекретариат Главный идеолог рассчитывал, что Хряк выдвинет своего подопечного П, Первого секретаря Союза молодежи, а потому собирался предложить другую кандидатуру — Министра атомной энергетики О, но Хряк сообразил, что нейтральный претендент легче пройдет в Политсекретариат (тем более дочь А к тому времени уже ушла от П и спала с известным литератором, превозносимым партией), поэтому Хряк первоначальную кандидатуру снял и вместо нее предложил Н, чем переиграл Святошу, которому тоже пришлось проголосовать за Н. Наконец, Н отвечал за весьма узкую профессиональную сферу, поэтому ни у того ни у другого вроде бы не вызывал особых опасений. Для вождя же Н был фигурой столь незначительной, что не удостоился даже прозвища.
Кстати, почти такую же малозаметную роль играл в Политсекретариате и Министр внешней торговли Д, который прошел в зал следом за Главным идеологом, чтобы тотчас сесть на свое место, в то время как смущенно улыбающийся Ж еще продолжал стоять рядом с беззаботно похохатывающим Г и, протирая круглые учительские очки, слушать надоедливого Министра сельского хозяйства, который пересказывал свежие сплетни о ведущем солисте Госбалета. Д отличался великосветским лоском и элегантностью, он носил шикарные английские костюмы, из верхнего кармашка которых обычно выглядывал слегка распушенный платочек, и курил американские сигареты. Членом Политсекретариата он сделался случайно; внутрипартийная борьба за власть автоматически выталкивала его наверх, ибо более честолюбивые партийные деятели становились жертвами соперничества, то есть в сущности жертвами собственных устремлений; он же, будучи узким профессионалом, пережил все чистки, за что получил от А кличку Лорд Эвергрин[56]. Если Н игрою случая занял в партийной иерархии тринадцатое место, то Д столь же случайно стал уже пятым по могуществу лидером огромной империи. Путь назад был для них заказан. Малейшая оплошность, любое необдуманное слово могли повлечь за собою арест, допросы, смерть, поэтому Д и Н заискивали перед каждым, кто был сильнее или хотя бы не слабее их. Тут требовались ум, наблюдательность, отменная реакция, чтобы вовремя уйти в тень, сыграть на ошибке соперника. Приходилось унижаться, даже становиться посмешищем.
Это было естественно. Тринадцать членов Политсекретариата обладали колоссальной властью. Они вершили судьбу гигантской империи, отправляли несметное множество людей в лагеря, тюрьмы, на смерть, они распоряжались миллионами человеческих жизней, по решению Политсекретариата депортировались не только отдельные семьи, но целые народы, буквально на пустом месте воздвигались громадные заводы, строились огромные города; по приказу Политсекретариата приходили в движение неисчислимые армии, ибо он решал, быть ли войне или миру; вместе с тем инстинкт самосохранения заставлял членов Политсекретариата относиться друг к другу настороженно, поэтому их взаимные симпатии и антипатии определяли то или иное решение в гораздо большей мере, нежели насущные политические и экономические проблемы страны; власть каждого, а следовательно, и взаимная боязнь были слишком велики, чтобы ограничиваться только сферой политики. И разум был тут бессилен.
Пришли еще два члена Политсекретариата — Министр обороны З и Президент страны К; оба — маршалы, оба — бледные, рыхлые, напыженные, увешанные орденами, одряхлевшие, потные, пропахшие никотином, алкоголем, одеколоном «Данхилл»; два трясущихся от страха бурдюка с жиром и мясом. Ни с кем не здороваясь, они одновременно плюхнулись в соседние кресла. З и К всюду ходили парой. А называл их Джингисханами, намекая на пристрастие обоих к небезызвестному напитку. Маршал К, Президент страны, Герой гражданской войны, сразу же задремал; маршал З (абсолютный бездарь в военном деле, он добился маршальского звания лишь благодаря своей неизменной приверженности курсу партии, а главное, благодаря тому, что подвел всех своих предшественников под обвинение в государственной измене, после чего с благословения А, который делал вид, будто верит этим обвинениям, отправил их одного за другим на тот свет), прежде чем надолго тупо уставиться в одну точку, на миг встрепенулся и гаркнул:
— Смерть предателям в лоне партии!
Этим он хотел, видимо, дать понять, что об аресте О известно уже и ему. Никто не обратил на выкрик ни малейшего внимания. Такое бывало у З с испугу, к этому привыкли. На каждом заседании Политсекретариата З ожидал своего конца, поэтому либо принимался каяться во всяческих грехах, либо разражался яростными нападками, хотя совершенно непонятно, в чей адрес.
Разглядывая Министра обороны, на лбу которого поблескивали капли пота, Н почувствовал, как собственный лоб тоже покрывается испариной. Он вспомнил, что остается должником у Министра тяжелой промышленности, которому до сих пор не смог достать в подарок красное вино. Большим любителем бордо был и Заместитель, поэтому Н, побывавший три недели назад в Париже на международной конференции министров связи, договорился там о посылке нескольких партий вина (взамен Н пообещал своему парижскому коллеге прислать водку, так как тот предпочитал именно ее). Кстати, Н был не единственным поставщиком бордо для могущественного Заместителя. Министр иностранных дел занимался тем же. С тех пор как Н начал оказывать Заместителю эту любезность, сам он в свою очередь стал также получать красное вино в подарок от Министра иностранных дел. Причина была проста: чтобы не прослыть подхалимом, Н принялся выдавать себя за любителя бордо, к которому на самом деле был совершенно равнодушен. Позднее Н проведал, что известный своим пристрастием к водке Министр тяжелой промышленности, которого А прозвал Чистильщиком, страдает диабетом и поэтому врачи порекомендовали ему перейти на красное. Чистильщик тайком последовал этому совету, однако Н долго не решался снабжать вином и его, ибо тот сразу бы догадался, что Н знает о диабете. Но потом Н успокоил себя тем, что о диабете наверняка известно и другим членам Политсекретариата. Ведь сам он услыхал об этом от Министра госбезопасности, который вряд ли скрыл свою новость от остальных. В конце концов Н послал Чистильщику ящик «Лафита-45». Тот не замедлил с ответом. Его подарки славились каверзностью. Забыв о ней, Н неосторожно открыл посылку за семейным столом. Там оказалась кинопленка с фильмом под безобидным названием «Эпизоды Великой французской революции». Все еще не чуя подвоха, Н уступил настоятельным просьбам жены, а также четырех детей и распорядился прокрутить фильм в домашнем кинозале. Фильм был порнографическим. Как впоследствии узнал Н, время от времени и другие члены Политсекретариата получали подобные посылки. Кстати, сам Е отнюдь не увлекался порнографией. Своими подарками он готовил компромат на коллег, всякий раз обставляя дело так, будто адресат и впрямь охоч до «клубнички».
— Ну как? Хороша штучка? — спросил он у Н на следующий день. — Такие вещи не для меня, но вам, знаю, нравится.
Н возражать не осмелился. Он отомстил лишь тем, что послал Министру тяжелой промышленности еще ящик вина.
Так у целомудренного трезвенника Н продолжала расти гора порнофильмов, в то время как сам он метался в поисках бордо, поскольку посылки из Парижа приходили не чаще двух раз в год, а переправлять Чистильщику бутылки, полученные от Министра иностранных дел, он опасался. Правда, Б и Е враждовали, однако все могло перемениться. Сколько раз заклятые враги (если их не разделяла личная обида) неожиданно становились друзьями. Пришлось Министру связи Н посвятить в свою тайну Министра внешней торговли Д. Выяснилось, что и тот одаривал красным вином Хряка с Чистильщиком. Д сумел выручить коллегу, но лишь отчасти. Н догадывался, что и другие делали подношения Заместителю по партии или Министру тяжелой промышленности, от которого получали в свою очередь компрометирующие подарки.
Напротив Н заняла место М по прозвищу Партмуза. Она имела должность Министра народного образования, была женщиной русоволосой, статной. Однажды на заседании Политсекретариата А сострил по поводу ее пышного бюста, что когда-нибудь Г сорвется с этих горных вершин и разобьется вдребезги. В тот день Партмуза явилась на заседание в особенно элегантном платье, и пошлая острота вождя прозвучала для Г скрытой угрозой, поскольку раньше вслух не говорилось о том, что Г был любовником Партмузы. С тех пор М приходила сюда в строгом сером костюме, однако сегодня на ней было черное вечернее платье с глубоким вырезом; это весьма озадачило Н, тем более что к платью она надела еще и драгоценности. На то была какая-то особая причина. Видимо, и ей известно об аресте О. Вопрос лишь в том, служит ли смелый туалет, точнее, независимое поведение намеком на разрыв с Г или же, наоборот, это жест отчаяния, безумное желание открыто заявить о своей связи с ним. Как Н ни приглядывался, Г ничем себя не выдал; казалось, он вообще не замечает Партмузу. Он сидел, углубившись в чтение какого-то документа.
Выбор Партмузой вечернего туалета сделался еще более двусмысленным с появлением Министра тяжелой промышленности, приземистого толстяка Е. Не обращая внимания на окружающих, он сразу же бросился к М и заорал:
— Черт побери, вот это платье! Фантастика, потрясающе! Это вам не партийная тужурка. К дьяволу форму, надоело.
Все уставились на Е, который продолжал орать: для чего, дескать, совершают революцию, для чего истребляют плутократов и кровопийц, для чего вешают мироедов на вишневых деревьях?
— Чтобы дать свободу красоте! — ответил он сам себе, после чего облапил Партмузу, будто деревенскую молодуху, и звонко чмокнул ее. — Вы — наша пролетарская Диор[57]!
Вслед за тем Министр тяжелой промышленности, он же Чистильщик, уселся на свое место между Г и З, которые тут же отодвинулись, подумав, видимо, как и Н, что веселость Е — это юмор висельника, понявшего, что несет с собою исчезновение О и Главному идеологу, и самому Чистильщику, впрочем, может быть, его веселость не была напускной — просто он располагал надежной информацией, скажем, о готовящемся смещении Заместителя по партии.
Вошел Б. (Н только сейчас увидел, что рядом с ним уже сидит его сосед П, Первый секретарь Союза молодежи, бледный, трусоватый очкарик, добросовестный партаппаратчик, прихода которого Н даже не заметил.) Б спокойно направился к своему месту, положил на стол портфель и сел. До сих пор стоявшие Ж и И тоже сели. Министр иностранных дел был человеком, бесспорно, авторитетным, хотя все его ненавидели. Он действительно имел какое-то превосходство над остальными. Вообще-то Н восхищался им. Если отличавшийся недюжинным умом Заместитель по партии был способным организатором, Главный идеолог — теоретиком, а хитрый от природы Министр тяжелой промышленности — практиком, делавшим основную ставку на силу, то роль Министра иностранных дел в высшем органе власти едва ли поддавалась определению. С Д и Н его сближал профессионализм. Он был идеальным Министром иностранных дел. Однако по сравнению с обоими он достиг куда более высокого положения, хотя в отличие от Г и Ж избежал участия во внутрипартийных схватках. Он пользовался авторитетом и вне партии, ибо отдавался работе целиком. Особым вероломством он не отличался, предпочитал ни с кем себя не связывать — даже в личной жизни, поэтому остался холостяком. Ел и пил весьма умеренно, на приемах позволял себе бокал шампанского, не больше. Немецким, английским, французским, русским и итальянским он владел в совершенстве; его книги о Мазарини[58] и древнеиндийских государствах были переведены на множество языков, как и работа о числовой символике у китайцев. Сам же он переводил стихи Стефана Георге и Рильке. Но наибольшую известность снискала его «Теория государственного переворота», благодаря которой он заслужил репутацию «Клаузевица[59] революции». Он был незаменим, за это его и ненавидели, особенно А, прозвавший Министра иностранных дел Евнухом. Прозвищем пользовались охотно, однако никто, даже А, не осмеливался произнести его вслух в присутствии Б. Обычно А называл его «нашим другом», а когда выходил из себя — «нашим гением», Б же неизменно обращался к присутствующим со словами «дамы и господа», словно находился в буржуазном парламенте.
— Дамы и господа! — сказал он и сейчас, едва заняв свое место. (Странным образом на сей раз он изменил своему твердому правилу говорить лишь тогда, когда ему предоставят слово.) — Дамы и господа! Не правда ли любопытно, что Министр атомной энергетики О не явился на сегодняшнее заседание?
Ответом было молчание. Б достал из портфеля бумаги, погрузился в чтение и не произнес больше ни звука, Н прямо-таки кожей почувствовал охвативший всех ужас. Стало быть, слух об аресте О подтвердился. Ничего иного Б не мог иметь в виду. Нарушив тишину, Президент К заявил, что всегда знал: О — предатель, поскольку интеллигент; все интеллигенты — предатели. Маршал З вновь гаркнул:
— Смерть предателям в лоне партии!
Кроме обоих маршалов, никто на замечание Б не откликнулся. Остальные изображали полное безразличие (за исключением Г, который довольно внятно пробормотал: «Идиоты!», однако прочие как бы пропустили мимо ушей и эту реплику). Партмуза, открыв сумочку, начала пудриться, Министр внешней торговли не отрывал глаз от бумаг, Министр сельского хозяйства уставился в какую-то далекую точку. Главный идеолог что-то писал, а Министр транспорта являл собой абсолютное соответствие своему прозвищу — Монумент.
В зал заседаний вошли А и В. Появились они не из тех дверей, что находились за спинами Министра тяжелой промышленности и Министра обороны, а из тех, что были позади Главного идеолога и Министра сельского хозяйства. На В был обычный синий костюм свободного покроя, на А — китель, но без орденов. В сел, А остался стоять возле своего кресла; он принялся сосредоточенно набивать трубку. В начинал карьеру в Союзе молодежи, даже возглавил его, но затем был снят с этого поста, причем отнюдь не по политическим мотивам, провинность носила иной характер. На какое-то время он исчез. Поговаривали, будто его посадили, однако толком никто ничего не знал. Внезапно он вновь вынырнул на поверхность, да еще сразу же — Министром госбезопасности. Ходили слухи о его гомосексуальных наклонностях. Хамоватый А прилюдно именовал его Статс-Дамой, прочие на подобные дерзости не осмеливались. В был высок ростом, лыс, расположен к полноте. Когда-то занимался музыкой, даже концертировал. Если Б считался среди членов Политбюро «грандом», то В слыл богемой. Начало его стремительной партийной карьеры окутывала тайна. Он славился жестокостью, широко практиковал крайние меры репрессий. Многих он погубил, под его руководством органы госбезопасности обрели небывалое могущество, невиданных размеров достигли слежка и доносительство. Одни считали его садистом по натуре, другие утверждали, что у него якобы нет иного выхода. Дескать, А крепко держит его в руках. Если, мол, В проявит непослушание, А вновь отдаст его под суд. Говорили, будто на самом деле Министр госбезопасности — эстет, свою работу он презирает, однако вынужден ею заниматься, дабы спасти жизнь себе и близким. При всей решительности и непреклонности, с какими В исполнял партийный и служебный долг, он все же казался человеком не на своем месте — возможно, именно поэтому он туда и попал.
Зато А был прост. В этой простоте и заключалась его сила. Он вырос в степи, его далекие предки были кочевниками; власть проблемы для него не составляла, насилие представлялось ему чем-то вполне естественным. Он уже много лет жил в скромном, похожем на бункер доме, который прятался в лесу, неподалеку от столицы, и охранялся ротой солдат; стряпала ему старая повариха, его землячка. Он выезжал только на приемы глав иностранных государств или партийных лидеров, на редкие аудиенции, а также на заседания Политсекретариата, проходившие в правительственном дворце, зато каждый член Политсекретариата был обязан поодиночке являться для отчета к А домой, где тот принимал прибывшего летом на веранде с плетеными креслами, а зимой в рабочем кабинете, который был совершенно пуст, если не считать огромных картин, изображавших его родную деревню с фигурками крестьян, и еще более огромного письменного стола; А сидел за этим столом, а посетитель стоял перед ним. А был женат четыре раза. Три жены умерли, о четвертой никто не знал, жива ли она и, если жива, где находится. Кроме дочери, иных детей у него не было. Иногда к нему привозили из города девушек, он встречал их кивком, после чего они всего лишь сидели рядом и часами смотрели вместе с ним американские фильмы. Затем он засыпал в своем кресле, девушек отпускали. Раз в месяц ради него закрывали для публики Государственный музей изобразительных искусств, и он часами бродил по залам один. Современная живопись его не интересовала, зато он подолгу и с большой почтительностью простаивал перед старыми картинами, помпезной батальной живописью, перед портретами суровых властителей, обрекавших на смерть собственных детей, перед полотнами, где изображалась либо гусарская пирушка, либо степь, по которой мчится санная упряжка, а следом за ней — волки. Его музыкальный вкус был также весьма примитивен. Он любил сентиментальные народные песни, и на его день рождения всегда приглашали хор земляков в национальных костюмах.
Попыхивая трубкой, А задумчиво оглядывал сидящих за столом. Н каждый раз удивлялся, до чего невзрачным и тщедушным был А на самом деле, ибо на фотографиях и телеэкране он казался плотным, внушительным. А сел и заговорил — медленно, с запинками, повторами, большой обстоятельностью и занудной логичностью. Начал он с общих рассуждений. Двенадцать остальных членов Политсекретариата и кандидат П сидели неподвижно, они внутренне напряглись, их лица окаменели. Уже начало речи прозвучало для них сигналом тревоги. Они хорошо знали: когда А замышляет что-то особенное, он начинает с пространных рассуждений о революционном процессе. Похоже, ему всегда требовался большой замах, чтобы нанести смертельный удар. Вот и теперь он не без умысла завел свою многословную речь. Дескать, целью партии является изменение общества, тут ее достижения огромны, удалось внедрить в жизнь основные принципы нового строя, правда, пока они еще как бы навязаны людям и непривычны, народ мыслит по-старому, привержен суевериям и предрассудкам, погряз в собственничестве, поэтому снова и снова пытается ради узкоэгоистических целей расшатать устои нового общественного строя; народ еще недостаточно воспитан, революция продолжает оставаться уделом немногих, подлинных революционеров мало, массы не захвачены новыми идеями; хотя массы и вступили на путь революционных преобразований, их еще легко сбить с этого пути. Пока что революция способна утвердиться только силой, для чего нужна диктатура партии, однако и сама партия развалится без железной организации сверху донизу, так что создание Политсекретариата являлось в свое время исторической необходимостью. А сделал паузу и занялся трубкой, вновь разжигая ее. Все, о чем вещает А, подумал Н, — это избитая партийная догма; зачем он превращает заседание в урок политпросвета, вместо того чтобы сразу сказать главное, опасное? Кругом словеса, одни словеса. Все талдычат, как молитву, эти догмы, которыми от имени партии А обосновывает свое единовластие. Тем временем А перешел к делу. От замаха — к удару. Всякий шаг вперед, к конечной цели, прежним тоном продолжал А, оставаясь внешне невозмутимым, требует изменений в партии. Новые формы государственности себя полностью оправдали, сферы компетенции отдельных министров заданы естественным разграничением их деятельности; новое государство прогрессивно по сути, хотя и пользуется методами диктатуры. Это обусловлено практической необходимостью, сложившимися внешними и внутренними условиями; для решения практических задач партия как идеологический инструмент призвана время от времени реформировать государство; оставаясь своего рода константой, государство не способно на революционные преобразования, на них способна только партия, которой поэтому и надлежит контролировать государство. Только она может добиться видоизменения государства для решения революционных задач. Именно по этой причине партия не может не трансформироваться, ее структура должна целиком соответствовать каждому новому этапу революции. Сейчас партийная иерархия излишне строга, все решается наверху; это было уместно в период борьбы, которой руководила партия, но период борьбы завершен, партия победила, она взяла власть в свои руки, следовательно, теперь на очереди — демократизация партии, а затем и демократизация государства; однако для демократизации партии необходимо упразднить Политсекретариат; его полномочия будут переданы более широкому партийному форуму, ибо единственной задачей Политсекретариата было использование партии в качестве смертельного оружия против старого строя; ныне эта задача выполнена, старого строя больше нет, тем самым настало время ликвидировать Политсекретариат.
Н понял, какая на них надвигается опасность. Впрямую она не грозит никому, но косвенно — всем. Мысль А оказалась неожиданной. Ничто не предвещало такого выступления, впрочем, оно вполне соответствовало тактике непредсказуемости, которой пользовался А. Речь его была двусмысленна, зато вполне однозначен замысел. На первый взгляд эта речь следовала определенной логике и была выдержана в традиционно-революционном стиле, отточенном на бесчисленных подпольных сходках и массовых митингах времен революции. Но на самом деле тут крылся один парадокс, в котором и была вся суть; А хотел лишить власти партию путем ее демократизации, а кроме того, ликвидировать Политсекретариат и таким образом утвердить свое единовластие. Новый, якобы более демократичный орган партийного руководства станет лишь ширмой для небывалой концентрации власти в руках одного человека (недаром А отмечал необходимость диктатуры). Впрочем, возможно, дело обойдется без новой чистки. Для упразднения Политсекретариата чистка необязательна. И все же А предпочитал физическую ликвидацию тех, кого подозревал в покушении на единоличную власть или хотя бы считал своим потенциальным противником. Видимо, А полагал, что таковые есть и в нынешнем составе Политсекретариата, доказательством чему служит арест О. Прежде чем Н успел до конца сообразить, считает ли его А опасным для себя или нет и удастся ли сохранить для себя пост Министра связи после упразднения Политсекретариата (среди своих заслуг, на которые можно было бы сослаться, ему в ту минуту вспомнился лишь выпуск серии марок, посвященной международной конференции сторонников мира), случилось нечто совершенно неожиданное.
А выбил свою трубку (обычно это служило знаком того, что заседание Политсекретариата закончено и чьи-либо выступления нежелательны), как вдруг, даже не попросив слова, заговорил Министр транспорта Л. С места он поднялся не без труда. Было заметно, до чего он опьянел. Язык у него заплетался, он дважды начинал фразу и лишь после этого сумел сказать: заседание Политсекретариата не может считаться открытым из-за отсутствия О. Жаль, что пропала блестящая речь А, но порядок есть порядок — даже для революционеров. Все недоуменно глядели на Монумент, а тот, пошатываясь, хотя склонился над столешницей и оперся о нее обеими руками, с вызовом уставился на А; лицо Монумента с седыми кустистыми бровями и щетиной на щеках казалось белой маской. Возражение Л было бессмысленным, но формально справедливым. Бессмысленной была сама запоздалость возражения, ибо А своей пространной речью фактически и открыл заседание, но главное — Л сделал вид, будто не знает об аресте О и не понимает, что следующим может оказаться сам. В еще большее недоумение Н был повергнут тем быстрым взглядом, который А, вновь набивая трубку, бросил на В. Во взгляде сквозило удивление; получалось, будто А — единственный, кому не известно, что все остальные знают об аресте О; естественно, возникал вопрос, не распространен ли слух об аресте самим Министром госбезопасности без ведома А нарочно; с другой стороны, первое сообщение об этом остальные члены Политсекретариата услышали от Министра иностранных дел, следовательно, Б и В либо не успели, либо не сумели предварительно сговориться. Последующие слова А не опровергли такого предположения. А, вновь окутавшись облачком душистого дыма (английский табак фирмы «Tabako Balkan Sobranie Smoking Mixture»), сказал, что совершенно неважно, присутствует О на заседании или по какой бы то ни было причине отсутствует, ибо О все равно права голоса не имеет, а настоящее заседание созвано с одной-единственной целью — рассмотреть вопрос об упразднении Политсекретариата; решение по данному вопросу можно считать состоявшимся, поскольку выступлений против не было.
Как это часто бывает с пьяными, вся смелость и энергия Монумента вдруг разом иссякли, он уже хотел сесть на место, но тут Министр госбезопасности В холодно заметил, что О, видимо, отсутствует по болезни; это было бессовестной ложью, которой (если слух об О действительно распространялся самой госбезопасностью) В решил вновь вывести Л из равновесия, чтобы дать повод для его ареста.
— По болезни? — не удержался Л; опираясь правым кулаком о столешницу, левым он несколько раз стукнул по ней. — По болезни?
— Очевидно, — сухо отозвался В, перебирая бумаги.
Л перестал стучать и, онемев от ярости, плюхнулся в кресло. Через дверь, находившуюся позади Е и З, вошел полковник охраны, что нарушало правило, запрещавшее входить сюда посторонним во время заседаний Политсекретариата. Его появление предвещало нечто чрезвычайное — военный конфликт, стихийное бедствие, экстренное сообщение особой важности. Тем удивительнее, что полковник собирался лишь вызвать Л по срочному личному делу. Л заорал полковнику, чтобы тот убирался вон; полковник нерешительно ретировался, бросив перед уходом вопросительный взгляд на В, как бы ожидая поддержки, но тот продолжал возиться с бумагами. А рассмеялся; похоже, Л опять перепил, грубовато пошутил он, что обычно свидетельствовало о хорошем настроении; он посоветовал Монументу пойти и утрясти свои личные дела, тем более что, скорее всего, его ожидает сообщение о благополучном разрешении от бремени одной из его любовниц. Все захохотали — шутка не ахти, но напряжение было слишком велико, хотелось разрядить его, а кроме того, кое-кто бессознательно попытался этим смехом смягчить участь Л. По переговорному устройству А вызвал полковника. Тот вошел. Что, собственно, там стряслось, поинтересовался А. Жена Министра транспорта находится при смерти, доложил полковник, отдав честь.
— Ладно, ступай, — сказал А. — Иди домой, — проговорил А, обращаясь к Л. — Насчет любовницы я пересолил. Беру свои слова обратно. Я знаю, как ты к жене относишься. Иди, заседание все равно закончено.
Жест А выглядел вполне человечным, однако Министр транспорта был слишком напуган, чтобы поверить этой человечности. В своем пьяном отчаянии он не видел для себя иного выхода, кроме нового наступления. Он — заслуженный революционер, закричал он, снова вскочив, да, его жена лежит в больнице, это всем известно, однако операция прошла успешно, и он не позволит заманить себя в ловушку. Он, дескать, вступил в партию среди самых первых, раньше, чем А, Б и В, ничтожные карьеристы. Он вел партработу еще тогда, когда это было опасно, смертельно опасно. Он сидел по жутким, вонючим тюрьмам, его держали на цепи, как дикого зверя, по его ногам, закованным в кандалы, бегали крысы. Крысы! — надрывался он. Крысы! Он отдал партии все свое здоровье, его приговаривали к смерти.
— Товарищи! — всхлипнул он. — Меня даже выводили на расстрел. Солдаты уже встали напротив.
После побега, продолжал бормотать он, началось подполье, оно продолжалось до самой революции, великой революции, он водил отряд на штурм дворца с наганом в одной руке и с гранатой в другой.
— С наганом и гранатой я вершил историю, — заорал он; его уже нельзя было остановить, в его отчаянии, ярости зазвучало даже что-то величественное; опустившийся, пьяный, он вдруг снова почувствовал себя прежним легендарным революционером. Он жертвовал жизнью в борьбе против продажной верхушки, он сражался против тех, кто обманывал народ, боролся за правду, продолжал он кричать. Он хотел изменить мир, улучшить его, он шел на любые лишения, страдания, пытки и гордился судьбой, ибо знал, что сражается в стане людей бедных, униженных, и был счастлив погибнуть за правое дело, но теперь, когда победа завоевана, партия стала правящей, теперь он оказался на другой стороне, на стороне властей предержащих. — Власть испортила меня, товарищи, — кричал он, — я молчал, когда вокруг творились преступления, я предавал друзей, отдавал их госбезопасности. Так что же, молчать и дальше?
О арестован, пробормотал он, внезапно побледнев, слабым, тихим голосом, это правда, и все об этом знают, поэтому он не уйдет отсюда, так как за порогом его сразу же схватят госбезопасники, а мнимая смерть жены — уловка, чтобы выманить из зала заседаний. Высказав свои подозрения, вряд ли казавшиеся необоснованными и остальным, он рухнул обратно в свое кресло.
Пока бунтовал обезумевший от собственной дерзости Л, хорошо сознававший безнадежность своего положения и, следовательно, бессмысленность всякой осторожности; пока остальные, оцепенев, взирали на фантастическое зрелище, каковым становилось крушение Монумента; пока в каждую паузу между его громогласными тирадами вклинивался маршал З, терзаемый ужасом, что падение Л навлечет погибель и на него, и кричал: «Смерть предателям в лоне партии!»; пока Президент страны маршал К выступал с пространными заверениями в своей неизменной преданности вождю (К вскочил сразу же, как только умолк Л) — на протяжении всего этого времени Н напряженно пытался предугадать, как поведет себя А. Тот спокойно попыхивал трубкой. По его виду ничего нельзя было понять. Но ведь что-то в нем происходило, не могло не происходить. Для Н до сих пор оставалось не вполне ясно, грозят ли вождю нападки Л чем-либо серьезным или нет, зато он чувствовал, что А принимает решение, которое определит на будущее судьбу не только вождя, но и всей партии; назревал поворотный момент, только Н не мог представить себе, каким будет этот поворот, и тем более не брался предсказать, что предпримет А. Вождь был хитроумнейшим тактиком, по неожиданности шахматных комбинаций в борьбе за власть ему не было равных, даже Б вряд ли мог соперничать с ним. Благодаря какому-то особому дару А видел людей насквозь, безошибочно нащупывал и использовал слабость любого противника; как никто другой среди членов Политсекретариата он умел выследить и загнать свою жертву в ловушку, но в открытом противоборстве не был силен, предпочитал бить исподтишка, нападать из засады. Свои ловушки он расставлял в дебрях партаппарата с его бесчисленными отделами и подотделами, секторами и подсекторами, группами и подгруппами; с прямым вызовом на поединок ему не приходилось сталкиваться уже давно. Не лишится ли А обычного хладнокровия, не утратит ли своей осмотрительности, не начнет ли суетиться, признает ли он факт ареста О или нет — на все эти вопросы Н не находил ответа, ибо не знал, как бы поступил на месте А сам; Н не сумел продолжить своих догадок, ибо маршала К, сделавшего небольшую паузу, чтобы перевести дух и с еще большим подъемом заверить вождя в своей преданности, внезапно перебил Е. Собственно, Е перебил не только Президента, но невольно и самого А, который — когда К сделал паузу — вынул изо рта трубку, желая, видимо, что-то наконец возразить Монументу, однако Е, то ли не заметив этого, то ли не пожелав заметить, опередил его. Министр тяжелой промышленности заговорил, даже не успев толком подняться с места, но теперь он уже прочно стоял на ногах — приземистый, толстый, невероятно уродливый, лицо в бородавках, руки сложены на животе, словно у глупого деревенского мужика, — и говорил, говорил… Его наружное спокойствие было обманчивым. Чистильщика ужаснуло выступление Л, он всем нутром предощущал гнев вождя, который обрушится на остальных, после чего последует приказ арестовать весь Политсекретариат. Будучи сыном простого сельского учителя, Чистильщик своими силами выкарабкался из провинции. Он рано вступил в партию, где поначалу терпел насмешки и унижения, никто не принимал его всерьез, все помыкали им, пока он постепенно не поднялся наверх (многим пришлось заплатить за это дорогой ценой) благодаря тому, что начисто был лишен гордости (подобной роскоши он не мог себе позволить), а также тому, что был способен на все — на новом месте у него появилась возможность проявить эти способности. Он не гнушался самыми грязными (кровавыми) делами, повиновался слепо, был готов на любое предательство, прослыл в партии самым страшным человеком — даже страшнее вождя, который при всей ужасности своих злодеяний был все-таки значителен как личность. А не был деформирован ни борьбой за власть, ни самой властью, он оставался таким, каким был всегда, частицей природы, воплощением ее жестких законов, — природы, которая одна лишь формирует себя, и никто иной. Е же был только страшен, больше у него ничего за душой не имелось, он был плебеем по натуре, этого плебейства он не мог от себя отринуть, даже оба Джингисхана казались рядом с ним аристократами; тот же А, которому он был полезен, называл его прилюдно не только Чистильщиком, но еще и Жополизом; именно по всем этим причинам Е перепугался гораздо сильнее остальных. Чего только не делал Е, чтобы выбиться наверх, и вот теперь, когда он находился у цели, идиотская выходка какого-то Монумента могла сделать тщетными все нечеловеческие унижения, могли стать бессмысленными низкопоклонство и бесстыдное заискивание; панический страх был так велик, что Е прямо-таки обезумел и потому не дал говорить (в чем Н уже не сомневался) даже самому вождю, впрочем, Е хотел лишь как можно скорее присоединиться к клятвам верности, в которых рассыпался К, только он собирался сделать это на свой лад, будто в том было его спасение. Он не стал, подобно Президенту, безмерно превозносить вождя, зато с еще большей агрессивностью накинулся на Л. Начал он с обычных пословиц и поговорок, которыми пользовался всегда, неважно — к месту или нет. Он сказал: «Куры кудахчут, пока лиса их не передушит». Он сказал: «Мужик велит жене подмыться, если барин захочет с ней переспать». Он сказал: «Поделом вору и мука». Он сказал: «Оступиться каждый может». Он сказал: «Мужик тискает барыню, а барин мужичку». Затем он заговорил о напряженной обстановке (подразумевалась, естественно, не внутриполитическая напряженность, за которую он, как Министр тяжелой промышленности, нес бы свою долю ответственности, а внешнеполитическая), о том, что Отчизне грозит смертельная опасность; это прозвучало странно, поскольку после конференции сторонников мира наблюдалась определенная разрядка в области внешней политики. По словам Е, мировой капитал вновь готовился лишить революцию ее завоеваний, для чего уже наводнил страну своей агентурой. От внешней политики Е перешел к необходимости повышать дисциплину, от дисциплины — к укреплению взаимного доверия.
— Товарищи, все мы братья, дети единой великой матери — революции! — возгласил он.
Столь нужное всем взаимное доверие, заявил он дальше, совершенно неоправданным образом подорвано Министром транспорта, усомнившимся в том, что О не арестован, а болен; «Монумент, который давно уже следовало бы называть Позорным столбом», дошел, дескать, в своем недоверии до того, что не решается покинуть зал заседаний, чтобы отправиться к умирающей жене; от подобной бесчеловечности содрогается сердце каждого революционера, для которого брак свят (а разве не свят он для всех революционеров без исключения?). Такое недоверие оскорбительно не только для А, это пощечина всему Политсекретариату. (Между прочим, А ничего не говорил о болезни Министра атомной промышленности, мелькнуло в голове у Н. О ней сказал Министр госбезопасности, но Чистильщик приписал эту выдумку вождю, чем окончательно поставил его в неловкое положение; то есть Чистильщик допустил уже вторую серьезную ошибку, что можно объяснить только его смертельным испугом; почти в тот же миг Н подумал: а вдруг О действительно болен и слух об его аресте распустили нарочно, чтобы посеять панику в Политсекретариате? Но свое новое подозрение Н тут же отбросил.) Тем временем Чистильщик, совершенно потерявший голову от безудержного желания обеспечить собственную безопасность, перешел в атаку на своего старого друга Г, посчитав, что падение Министра транспорта повлечет за собою и падение Заместителя по партии, однако он совсем упустил из виду, что Л для всех уже политический труп, Г же продолжает занимать пост, с которого его нельзя убрать без серьезных потрясений в партии и государстве. Впрочем, эти потрясения казались Чистильщику свершившимся фактом, иначе он заметил бы, что во время атаки на Г приумолк даже Министр обороны 3 и не поддержал ее. Е закричал: «Мужик пухнет от голода, а поп — от жира», «Барин деревню готов спалить, чтобы погреться», потом он заявил, что Г предал революцию и ослабил партию, превратив ее в буржуазный клуб. В своей отчаянной храбрости Е пошел еще дальше. Теперь он уже нападал и на соратников Г; он посмеялся над Партмузой, сказав: «Связалась девица с торгашом и сама шлюхой стала»; а к Министру иностранных дел применима, дескать, поговорка: «С кем поведешься, от того и наберешься»; не успел Е привести очередной образчик фольклора, как его перебили. Ко всеобщему изумлению, в зал заседаний — уже во второй раз — вошел русоволосый полковник; отдав честь, он вручил Министру тяжелой промышленности какую-то записку, потом снова отдал честь и, печатая шаг, покинул зал заседаний.
Застигнутый врасплох и испуганный появлением полковника, Е заметно смешался; пробежав глазами записку, он смял ее, сунул в правый карман и пробормотал, что никого не хотел обидеть, после чего сел и — мучимый, как чувствовал Н, тяжкими подозрениями — окончательно замолчал. Остальные хранили полную безучастность. Но слишком уж необычным было второе появление полковника. Похоже, оно было подстроено. Разыгравшийся скандал всех встревожил. М, которая пристально разглядывала Е во время его выступления, попыталась сделать вид, будто ничего особенного не произошло.
Открыв сумочку, она принялась пудриться, чего прежде на заседаниях Политсекретариата делать не смела. А по-прежнему молчал, в ход заседания не вмешивался и оставался ко всему довольно безразличным. Н заметил, что Б и В, сидевшие напротив друг друга в непосредственной близости к А, быстро и вроде бы ненароком переглянулись, при этом Министр иностранных дел погладил свои аккуратно подстриженные усы. Министр госбезопасности, поправив шелковый галстук, сухо сказал, обращаясь к Е: хватит молоть вздор, секретариату надо работать! Н вновь прикинул, не могли ли Б и В тайком сговориться. Они считались врагами, но многое их объединяло — хорошее образование, уверенность в себе, а кроме того, они были выходцами из весьма родовитых семейств. Отец В имел в буржуазном правительстве портфель министра, Б был внебрачным княжеским сыном; кое-кто приписывал и ему гомосексуальные склонности, которые якобы наличествовали у В. Мысль об их тайном сговоре пришла Министру связи во второй раз отнюдь не случайно: упрек В Министру тяжелой промышленности оборачивался поддержкой Министра иностранных дел, впрочем, одновременно оказались поддержаны также Г, М и даже Л. Е, обескураженный своим поражением, поскольку рассчитывал на союзничество с В, пробормотал, что в записке его просят позвонить в министерство; это, конечно, весьма некстати, но дело неотложное, надо срочно принять решение по какому-то чрезвычайному происшествию. А поднялся. Он неспешно подошел к буфету, аккуратно налил себе коньяку, постоял. Затем он сказал, чтобы Е позвонил из приемной, а Л пусть поскорее уходит или хотя бы свяжется с госпиталем; объявляется пятиминутный перерыв, ибо нельзя закрывать заседание после столь смехотворных заявлений и чисто личных выпадов, нельзя нарушать элементарную партийную дисциплину, зато после перерыва пускай больше никто не мешает и вообще… откуда взялся этот идиот полковник? Он замещает ушедшего в отпуск, объяснил Министр госбезопасности и пообещал дать соответствующие инструкции. В вызвал полковника по переговорному устройству. Вновь появившемуся и отдавшему честь блондину он приказал больше не заходить сюда ни при каких обстоятельствах. Полковник вышел. Однако ни Е, ни Л покидать помещение не собирались, оба сидели с таким видом, будто ничего не случилось. Ухмыльнувшись Министру тяжелой промышленности, Г встал, подошел к А, тоже налил себе коньяку и спросил, почему, черт возьми, Е не идет в приемную звонить — уж если его министерство осмелилось побеспокоить Политсекретариат во время заседания, значит, там и впрямь светопреставление; похвально, конечно, что товарищ Е так печется о судьбах государства и революции, но именно поэтому от него сейчас и требуется вспомнить о своих обязанностях, то есть надо срочно связаться с министерством; если с тяжелой промышленностью стрясется сейчас что-то неладное, от этого всем будет худо.
Н призадумался. Важнее всего было, пожалуй, то, что А решил продолжить заседание. Конечно, ссылка на партийную дисциплину — просто фраза, это ясно каждому. До сих пор никаких голосований никогда не проводилось; всякий раз выражалось, так сказать, молчаливое одобрение, ибо ни одна из обеих враждующих группировок внутри Политсекретариата не имела перевеса сил. Кроме того, А располагал возможностью вынести свое предложение на съезд, чтобы таким, вполне гласным способом избавиться от крайне непопулярного Политсекретариата. Следовательно, решение А продиктовано иными соображениями. Вероятно, он понял, что совершил ошибку, планируя одновременно чистку и ликвидацию Секретариата. Надо было сначала провести чистку, а уж потом ликвидацию или сначала ликвидировать Секретариат, а уж потом убрать его членов. Теперь же вождю противостоял единый фронт. Излишне поспешным арестом О он всех насторожил, отказ Л и Е покинуть зал свидетельствовал об их тревоге. На съезде у А были бы развязаны руки, там вождь всемогущ, а тут он раб системы, как и остальные члены Политсекретариата. Если остальные боялись вождя, то и ему приходилось пусть не бояться (страх был ему уже неведом), но хотя бы остерегаться остальных. Для созыва съезда необходимо время, а пока члены Политсекретариата у власти, они способны действовать. Значит, нужно заново проверить, на кого можно положиться, а на кого нет, и только после этого начинать борьбу. Виною в сегодняшней неудаче была излишняя самоуверенность А, его пренебрежительное отношение к остальным. Словесная перепалка грозила перерасти в решающее сражение.
Но пока тянулась пауза. Все замерли. Е не двинулся с места, Л сидел, закрыв лицо руками. Н хотел было стереть пот со лба, но не решился. Его сосед П сложил руки, и казалось, будто он молится о том, чтобы ему удалось уйти отсюда подобру-поздорову, если бы не была дикой сама мысль, что член Политсекретариата может молиться. Наконец Министр внешней торговли закурил американскую сигарету. Маршал З встал, слегка пошатываясь, подошел к буфету, отыскал бутылку джина и встал между А и Б; торжественно подняв бокал, он произнес:
— Да здравствует революция!
Тут он громко икнул и смутился, а от смущения не заметил, что А не обратил на него ни малейшего внимания. М вынула из сумочки золотой портсигар, Г подошел к ней, протянул золотую зажигалку, остался рядом.
— Что, голубки, — безмятежно спросил А, — любовь крутите?
— Раньше крутили, — невозмутимо ответил Г.
А хохотнул; хорошо, когда партийцы сходятся поближе, сказал он и повернулся к Е.
— Иди-ка звонить, Чистильщик, — скомандовал он. — Давай-давай, Холуй.
Е не тронулся с места.
— Никуда я отсюда не пойду, — тихо проговорил он. — Если уж звонить, то только здесь.
А снова рассмеялся. Это был тот ровный, довольный смех, который все и раньше слышали от него, независимо от того, шутил А или угрожал; никто и никогда не мог угадать, что этот смех означает.
— По-моему, у него душа в пятки ушла, — сказал А.
— Верно, — подтвердил Е. — Ушла, я умираю от страха.
Все молча уставились на него, было просто невероятно, что кто-то признавался в своем страхе.
— Тут все боятся, — продолжил Е и твердо взглянул на А, — не только я или Л, все.
— Чепуха! — возразил Главный идеолог, который встал и подошел к окну. — Чепуха, абсолютная чепуха, — повторил он, повернувшись спиной к остальным.
— Тогда выйди отсюда сам, — предложил ему Е.
Главный идеолог обернулся и недоверчиво взглянул на Е.
— А зачем? — спросил он.
— Следовательно, Ж тоже боится, — спокойно констатировал Е. — Ж прекрасно знает, что безопасность ему обеспечена только здесь.
— Чепуха, — вновь возразил Ж. — Абсолютная чепуха.
Е не сдавался.
— Тогда выйди отсюда, — опять предложил он Святоше.
Ж остался стоять у окна.
— Вот видишь, — снова обратился Е к А, — все боятся.
Он сидел в своем кресле выпрямившись, положив руки на стол, и почему-то совсем не казался сейчас безобразным.
— Ты просто идиот, — сказал А; он поставил рюмку на буфет и подошел к столу.
— Разве? — проговорил Е. — Ты уверен?
Он говорил тихо, что было для него необычно.
— Кроме Л, в Политсекретариате не осталось ни одного старого революционера, — сказал он. — Куда же они подевались?
Ровным голосом он начал перечислять всех, кто был ликвидирован; сосредоточенно, медленно он называл имена людей, признанных когда-то героями за заслуги в борьбе против прежнего строя. Первый раз за долгие годы эти имена прозвучали вновь. Н почувствовал озноб. У него вдруг возникло такое ощущение, будто он попал на кладбище.
— Предатели! — заорал Л. — Все они были предателями, сам знаешь, подлый Холуй. — Он замолчал, успокоился, задумчиво посмотрел на Е. — Да и ты такая же сволочь, — добавил он как бы между прочим.
Н сразу же понял, что А допустил новую ошибку. Конечно, упоминание старых революционеров было провокацией, но Е, признав свой страх, объявил себя врагом, и А должен был отнестись к этому всерьез. Он же поддался эмоциям и вместо того, чтобы успокоить его, стал угрожать. Приветливое слово, шутка урезонили бы Чистильщика, но вождь слишком презирал его, а потому недооценивал и вот — проявил легкомыслие. Теперь Чистильщику отступать было некуда. В своем ослеплении он все поставил на карту и, ко всеобщему удивлению, выказал характер. Ему оставалось только продолжать борьбу, поэтому он тут же сделался сторонником Министра транспорта, который, однако, был слишком апатичен, чтобы воспользоваться новым шансом.
— Мы уничтожим каждого, кто идет против революции, — сказал А. — Всех, кто попытается стать на ее пути, ждет неминуемый конец.
— Разве старые революционеры пытались стать на ее пути, — спросил Е, — ведь А сам не верит этой лжи. Погибшие, которых он перечислил, основали партию и совершили революцию. Возможно, они ошибались, даже наверняка ошибались, но предателями не были, как не является предателем и Л.
— Но каждый из них признал свою вину, и суд вынес заслуженный приговор, — возразил А.
— «Признал свою вину», — засмеялся Е. — Только как? Пускай наш Министр госбезопасности расскажет.
А разъярился.
— Революция — дело кровавое, — крикнул он, — ошибающиеся есть и в партии, их ждет суровая кара. Но тот, кто спекулирует на этом, — уже предатель. Впрочем, с Чистильщиком спорить бесполезно, — съязвил он.
Видать, порнографические штучки, которыми Е одаривает товарищей, путая партию с бардаком, повредили его рассудок, поэтому А просит Главного идеолога хорошенько поразмыслить над тем, кого считать своим другом. Выпалив эту совершенно необдуманную угрозу в адрес Святоши (возможно, она объяснялась тем, что тот тоже не осмелился выйти из зала заседаний), А снова занял свое место. Все, кто еще стоял, сели, Ж сел последним.
— Заседание открывается заново, — сказал А.
Месть Святоши последовала незамедлительно. Видимо, он решил, что тоже попал в опалу, а может, его оскорбил незаслуженный упрек вождя. Как всякий критик, сам он критики не выносил. Еще учительствуя в гимназии, Святоша публиковал по мелким провинциальным газетам литературно-критические статьи до того начетнического характера, что А, который презирал едва ли не всех отечественных писателей, считая их буржуазными интеллигентиками, вызвал Святошу к началу второй радикальной чистки в столицу, где доверил ему отдел культуры в редакции правительственной газеты, и Святоша с величайшим усердием за довольно короткий срок уничтожил в стране литературу и театр, следуя простой идеологической схеме, по которой классики несли в себе положительное и здоровое начало, а современные авторы — отрицательное, болезнетворное; при всей примитивности идейной основы его критических статей, по форме они выглядели логичными, даже убедительными; так или иначе, Святоша был в них хитрее своих литературных и политических противников. Он был всемогущ. Тот, кого он критиковал, делался человеком конченым, нередко попадал в лагерь, а то и вовсе исчезал. Сам Ж служил воплощением добропорядочности. Он был счастливым семьянином (и постоянно тыкал это в нос каждому), отцом восьмерых зачатых через равномерные промежутки времени сыновей. В партии его ненавидели, однако великий практик А, любивший окружать себя теоретиками, выдвинул бывшего учителя на еще более влиятельный пост. Он сделал его идеологическим исповедником партии, с этих пор Политсекретариат был обречен на выслушивание многословнейших докладов Святоши; многие подшучивали над ним, как, например, Б, который однажды, после пространного выступления Ж по вопросам внешней политики, сказал, что, разумеется, Главный идеолог обязан заботиться о внешней безукоризненности решений Политсекретариата, но нельзя же требовать от его членов, чтобы они сами еще и верили выдвинутым аргументам. Во всяком случае, недооценивать Ж не стоило. Святоша держался за власть и отстаивал завоеванное положение своими средствами, в чем и предстояло теперь лишний раз убедиться, ибо Ж первым попросил слово у А. Он поблагодарил А за выступление при открытии заседания, отметил, что это выступление проникнуто высокой государственной мудростью. Анализ революционного процесса на современном этапе и рассмотрение положения дел в государстве были блестящими, непреложен вывод о необходимости роспуска Политсекретариата. В качестве Главного идеолога он хотел бы, мол, сделать лишь одно замечание. Как уже показал А, налицо определенный конфликт, который заключается в том, что внешне государству противостоит революция, на самом же деле противостоит не революция, а партия. Ведь, вопреки довольно широко распространенному мнению, партия и революция — это не одно и то же. Революция представляет собою динамический процесс, партия — более статичное образование. Революция изменяет общество, партия устанавливает для него определенную форму государственности. Это внутреннее противоречие проявляется в том, что партия больше тяготеет к государственности, нежели к революции, поэтому та вынуждена вновь и вновь революционизировать партию; можно даже сказать, что движущей силой революции служит именно человеческое несовершенство, которое присуще партии как статичному образованию. Поэтому революции приходится пожирать в первую очередь тех, кто, действуя от имени партии, стали врагами революции. Перечисленные Министром тяжелой промышленности были когда-то подлинными революционерами, это так, тут нет никаких сомнений, однако из-за ошибочного представления, будто революция уже закончена, они превратились в ее врагов и, следовательно, подлежали уничтожению. Вот и сегодня речь идет о том же: Политсекретариат, сконцентрировав у себя всю власть, лишил партию должной значимости в возможности быть движущей силой революции, но и сам Политсекретариат не справляется со своей задачей, поскольку имеет власть, но утратил связь с революцией, отгородился от нее. Ему важнее сохранять власть, а не изменять мир, ибо всякая власть тяготеет к тому, чтобы стабилизировать как государство, которое подчинено Политсекретариату, так и партию, которая ему подконтрольна. Итак, для дальнейшего развития революции ныне необходима борьба против Политсекретариата. И необходимость этой борьбы должна быть осознана Политсекретариатом, ему надлежит принять решение о самороспуске.
— Настоящий революционер сам ликвидирует себя, — заключил он. — Даже страх перед чисткой, охвативший кое-кого в Политсекретариате, лишний раз доказывает, что такая ликвидация неизбежна и что он себя изжил.
Выступление Ж было коварно. Святоша говорил в своей обычной манере, назидательно, скучно, без тени юмора. Постепенно Н разгадал хитроумный замысел выступления, в котором Ж, хотя и пользовался общими фразами, предельно заострил идею вождя, чтобы таким образом вынудить Политсекретариат защищаться. Чистку, которой все так боялись, Святоша представил не только необходимой, но и уже начатой. Он оправдывал ликвидацию старой гвардии, показательные суды, самооговоры, казни, ссылался на политическую необходимость чистки. Но зато решение о масштабах этой чистки как бы передавалось самим ее будущим жертвам, вот тут-то и таилась серьезнейшая опасность для А.
Мельком взглянув на А, Н сразу понял, что тот давно сообразил, в какую ловушку его заманивает Ж. Однако, прежде чем А сумел как-то отреагировать, приключился курьез. Партмуза, сидевшая рядом с Президентом, вдруг вскочила и закричала, что К ведет себя по-свински. Н, сидевший от Президента наискосок, почувствовал, что его ботинки стоят в лужице. Дряхлый, недужный К обмочился. Разозлившись, Президент заорал в ответ: ничего, дескать, особенного не случилось, М — ханжа и дура, а он не такой идиот, чтобы выходить отсюда по малой нужде, если это грозит арестом, и вообще он больше никуда не уйдет из этого зала; он, мол, заслуженный революционер и сражался за дело партии, которая победила; его сын погиб на гражданской войне, зять и все старые друзья обвинены в предательстве и уничтожены. Во всем виноват А, так как это были честные и убежденные революционеры, а нужду он будет справлять, когда захочет и где захочет.
Вспышка гнева, с которым А отнесся к этому нелепому и смехотворному происшествию, удивила Н не столько необузданностью, сколько безрассудством; похоже, А просто решил разрядиться, и ему было совершенно неважно, на кого обрушивать свой гнев — жертвой мог оказаться любой. Совершенно непредсказуемым образом он накинулся не на Е, Ж или К, а на В, которому А был многим обязан — ведь без органов безопасности вождь не сумел бы удержаться у власти. Тем не менее он вдруг обвинил Министра госбезопасности в том, что тот арестовал О самовольно, и приказал немедленно выпустить его, если это еще не поздно. Однако, скорее всего, госбезопасность уже сработала на свой обычный манер и О расстрелян. А даже потребовал от В немедленной отставки. Давно, мол, пора расследовать его темные делишки, тем более что дурные наклонности В хорошо известны.
— Я сейчас прикажу тебя арестовать, — бушевал А.
Он гаркнул в переговорное устройство, вызывая полковника. Ответом была мертвая тишина. В хранил спокойствие. Все ждали. Бежали минуты. Полковник не появлялся.
— Почему он не идет? — зарычал А, обращаясь к В.
— Потому что был приказ не заходить сюда ни при каких обстоятельствах, — невозмутимо ответил тот и выдернул из розетки штепсель переговорного устройства.
— Проклятье, — также невозмутимо проговорил А.
— Ты сам загнал себя в угол, — сказал В, оглаживая рукав прекрасно скроенного пиджака. — Ведь это ты приказал полковнику, чтобы он не мешал.
— Проклятье, — еще раз пробормотал А, после чего снова выбил трубку, хотя она еще дымилась, достал из кармана новую (кривую трубку «Данхилл»), набил ее и закурил. — Извини меня, В, — сказал он.
А походил на привыкшего к сражениям в джунглях тигра, который вдруг очутился в степи, окруженный стадом разъяренных бизонов. Теперь он был безоружен. И беспомощен. Вся его загадочность куда-то улетучилась, Н впервые не видел в нем ни гения, ни сверхчеловека; он был всего лишь выдвиженцем собственного политического окружения. Но для него был создан отечески-простой образ эдакого исполина, портреты которого красовались в каждой магазинной витрине, на стене каждого служебного кабинета, а сам он появлялся в каждом еженедельном киножурнале, на парадах, смотрах, в приюте для стариков и детей, на торжественных открытиях новых фабрик и заводов, пуске плотин, встрече зарубежных государственных деятелей, раздаче орденов и прочих наград. Он стал для народа символом патриотизма, национального суверенитета и величия страны. Он олицетворял всемогущество партии, был мудрым и строгим главою отечества, его труды (которых он никогда не писал) читались всеми и каждым, их заучивали наизусть, их цитировали в каждой печатной статье, в каждом публичном выступлении; а вместе с тем никто не знал, каков он на самом деле. Ему приписывали все мыслимые достоинства и добродетели, но тем самым полностью обезличивали. Его сделали кумиром, ему позволялось все, что заблагорассудится, и он пользовался этой возможностью по своему произволу. Но ситуация изменилась. Те, кто некогда совершил революцию, были индивидуалистами именно потому, что они боролись против индивидуализма. Протест, который поднимал их на борьбу, и надежда, которая их воодушевляла, были неподдельны и предполагали в каждом революционере личность, ведь революционеры — не чиновники, а когда они пытаются стать таковыми, их ждет неминуемый крах. В прошлом они были недоучившимися семинаристами, спившимися экономистами, фанатичными вегетарианцами, исключенными студентами, нелегальными адвокатами, безработными журналистами, они действовали в подполье, подвергались преследованиям, сидели в тюрьмах, устраивали забастовки, организовывали саботаж, покушения, сочиняли листовки и брошюры подрывного характера, заключали тактические союзы с противниками, рвали их, но, едва революция победила, она тут же создала государство гораздо более могущественное, чем любая прежняя форма государственной власти. Революционный порыв поглотила новая бюрократия, революция превратилась в проблему организационного характера, это не могло не обернуться крахом для революционеров именно потому, что они были революционерами. Они были беспомощны перед теми, в ком нуждалось новое время. Революционеры не могли соперничать с технократами. Но именно их крах и давал шанс вождю. Чем больше бюрократия подчиняла себе государство, тем нужнее становился миф о революции; ведь бюрократией народ не вдохновишь, к тому же сама партия стала ее жертвой. Безликий аппарат власти обрел в вожде свое лицо, однако вождь не удовольствовался чисто репрезентативной ролью, он начал уничтожать революционеров именем революции. Прежде всего была перемолота старая гвардия (за исключением К и Л), однако уничтожались не только ветераны революции, но и те, кто следом за ними пришли к власти, в Политсекретариат. А менял даже министров госбезопасности, которых использовал для чистки. Это делало вождя популярным в народе, который жил скудно, ибо не хватало самого необходимого, одежда и обувь были скверными, старые дома ветшали, новостройки тоже. Перед продовольственными магазинами стояли очереди. Жизнь была унылой. Зато партийные функционеры пользовались привилегиями, о которых ходили самые невероятные слухи. Им предоставлялись виллы, персональные машины с шоферами, спецмагазины, где можно было приобрести все вплоть до предметов роскоши. Всего у них было в достатке, кроме уверенности в завтрашнем дне. Иметь власть становилось опасным. Народ пребывал в апатии, он был безвластен, а потому и терять ему было нечего, зато привилегированная верхушка боялась потерять все, ибо ей все и принадлежало. Народ видел, как по милости вождя происходили возвышения и как его гнев оборачивался падениями. Народ становился зрителем кровавого действа, каким ему представала политика. Ведь ни одно ниспровержение не обходилось без показательного суда, искусного и помпезного спектакля, где на сцене царствовало правосудие и каждый обвиняемый торжественно признавал собственную вину. Все, кого казнили, были для народа преступниками, предателями, вредителями; это по их вине, а не по вине системы, народу жилось плохо, поэтому каждая казнь порождала надежды на в который уже раз обещанное лучшее будущее; тем самым народу внушалось, будто под руководством великого, доброго, гениального, однако вновь и вновь обманутого вождя революция продолжается.
Н впервые понял политический механизм, рычагами которого управлял А. Этот механизм только казался сложным, а на самом деле был совсем прост. Власть А зиждилась на подавлении остальных членов Политсекретариата. Борьба против них была предпосылкой власти. Страх за себя вынуждал каждого члена Политсекретариата заискивать перед А и доносить на других. Поэтому возникали группировки, стремящиеся удержаться у власти; они всегда противостояли друг другу, как например, та, что образовалась вокруг Г, и та ультрареволюционная группировка, что сплотилась вокруг Ж; А же намеренно сохранял свою идеологическую позицию неопределенной, чтобы обе группировки полагали, будто пользуются его поддержкой. Тактически А делал ставку на силу, но именно это со временем и расслабило его. Всегда, когда это казалось ему выгодным, он изображал из себя идейного борца, в действительности же его заботило только приумножение личной власти; он умел натравить противников друг на друга и потому считал свое положение неуязвимым. Он забыл, что в Политсекретариате больше не осталось убежденных партийцев, вроде тех, кто прежде, на показательных судебных процессах, брали на себя вымышленные преступления, предпочитая пожертвовать жизнью, нежели верой в революцию. Он забыл, что окружил себя собственными подобиями, для которых идеалы партии служили лишь средством сделать личную карьеру. Он забыл, что обрек себя на полную изоляцию, ибо страх не только разобщает. Страх еще и объединяет, именно это обстоятельство стало для него роковым. Внезапно А как бы превратился в жалкого дилетанта среди мастеров политической интриги. Попытка ликвидировать Политсекретариат ради усиления личной власти несла в себе реальную угрозу для его членов, а нападками на Министра госбезопасности за арест О вождь заполучил себе нового врага. А утратил чутье, помогавшее ему держаться у власти, прежний механизм сработал против самого вождя. Потеря чувства меры мстила за себя, а уж раз час мести пробил, то теперь вождю приходилось платить за все. А был человеком настроения. Он бессмысленно рисковал властью, отдавая оскорбительные приказы и ублажая свои прихоти, которые были не просто нелепыми и дикими, но, главное, свидетельствовали о безграничном презрении к людям, да еще об извращенном чувстве юмора; он любил жестокие розыгрыши, которые никого не веселили, ибо каждый опасался для себя подвоха от очередной шутки. Н невольно вспомнил об одном случае, который не мог не обидеть могущественного Заместителя по партии. Н ждал, что тот рано или поздно отквитается. Г не забывал обид и умел ждать. Видно, теперь настала пора расплаты. Случай был, действительно, невероятным, выходящим из ряда вон. Хряк получил от А странное задание собрать голых музыканток, которые сыграли бы ему октет Шуберта. Г побоялся отклонить идиотское задание и, подавляя бессильную ярость, обратился к Партмузе, которая, в свою очередь перетрусив, велела собрать по консерваториям и музыкальным училищам девушек, не только играющих на соответствующих инструментах, но еще и миловидных, как того потребовал А. Сколько было скандалов, крика, слез, истерик. Одна талантливая виолончелистка покончила с собой; находились такие, которые рвались на сцену, но оказывались слишком некрасивы; наконец октет был собран, не хватало только фаготистки. Хряк и Партмуза пошли совещаться к Статс-Даме. В, недолго думая, распорядился взять из тюрьмы симпатичную, задастую шлюху; та была совершенно лишена слуха, но после немилосердной дрессировки ее все-таки выучили играть партию фагота, да и остальных замучили репетициями чуть не до смерти. В конце концов концерт состоялся; голые оркестрантки, прижимая к себе инструменты, расселись на сцене холодного зала филармонии. В первом ряду партера разместились в шубах Г и М, с каменными лицами они ждали А, но тот так и не пришел. Зато барочный зал филармонии заполнили сотни глухонемых, которые, ничего не понимая, жадно разглядывали голых музыканток с их смычковыми и духовыми инструментами. На очередном заседании Политсекретариата А жестоко высмеял организаторов концерта, назвав Г и М идиотами за то, что они согласились исполнять подобный приказ.
И вот пробил час расплаты. Переворот произошел спокойно, деловито, просто и даже бюрократично. Хряк приказал запереть двери. Монумент тяжело поднялся, сначала запер двери позади Чистильщика и Джингисхана-младшего, затем позади Святоши и Балеруна. Ключ он бросил на стол между Хряком и Лордом Эвергрином. Потом Монумент вернулся на место. Поначалу кое-кто из членов Секретариата вскочил вроде бы для того, чтобы помешать Монументу, однако, так и не решившись что-либо предпринять, они вновь расселись по своим креслам. Все сидели, уставившись на лежащие перед ними портфели. Откинувшись назад, А потягивал трубку и переводил взгляд с одного лица на другое. Его игра была проиграна, он сдался.
— Заседание продолжается, — сказал Хряк. — Хорошо бы все-таки узнать, кто же, собственно, приказал арестовать О.
Министр госбезопасности объяснил, что приказ мог отдать только А самолично, так как в заготовленном списке О не значится; госбезопасность не видит оснований для ареста О, человека безобидного, обычного рассеянного ученого-чудака. О назначен Министром атомной энергетики, поскольку является в этой области специалистом, тут он незаменим, и вообще современному государству нужно побольше хороших ученых и поменьше идеологов. Это давно пора бы понять Святоше. Похоже, только А никогда не сумеет этого понять. Святоша даже глазом не моргнул.
— Покажите список, — сухо отозвался он. — Разберемся.
В открыл портфель, достал лист бумаги, протянул Лорду Эвергрину; тот, бросив на него быстрый взгляд, передал листок Святоше. Ж побледнел.
— Мое имя в списке, — пробормотал он, — мое имя… Но ведь я тверже всех отстаивал линию партии. — Неожиданно он закричал: — Я никогда не был уклонистом, а меня включают в список, словно предателя!
— Линия теперь изменилась, — холодно заметил Г.
Святоша протянул список Балеруну, который, видимо, не обнаружив себя там, сразу же передал его Монументу. Тот долго изучал список, вновь и вновь перечитывал его, потом завыл:
— Меня нету! Нету! Пренебрегает мною, сволочь, даже ликвидировать меня не хочет. Меня, старого партийца!
Н взглянул на список. Его фамилии там не значилось. Он передал листок побледневшему Первому секретарю Союза молодежи. Тот встал и, волнуясь, словно на экзамене, протер очки.
— Меня назначают Генеральным прокурором, — пролепетал он.
Все рассмеялись.
— Садись, малыш, — добродушно буркнул Хряк, а Чистильщик добавил, что никому и в голову не придет хотя бы пальцем тронуть такого паиньку.
П сел и трясущимися руками передал листок Партмузе.
— Есть, — проговорила она, заглянув в список, после чего передала его Джингисхану-старшему, однако тот в данный момент задремал, поэтому список перешел к младшему.
— Маршала К там нет, — сказал он, — а я есть.
Он протянул список Чистильщику.
— И я есть, — сказал Е.
Хряк повторил то же самое.
Последним получил список Евнух.
— Меня нет, — сказал Министр иностранных дел и вернул листок Министру госбезопасности.
Тот аккуратно сложил его и сунул в портфель.
— Министр атомной энергетики в списке, действительно, не значится, — резюмировал Лорд Эвергрин.
— Тогда почему же А приказал арестовать его? — удивился Балерун и недоуменно взглянул на В.
— Почем мне знать, — ответил тот, возможно, О заболел, но вообще-то А всегда поступает, как ему заблагорассудится.
— Я не приказывал арестовывать О, — сказал А.
— Брось врать, — рявкнул Джингисхан-младший, — если бы не приказывал, он был бы сейчас тут.
Все замолчали. А продолжал спокойно посасывать трубку.
— Назад пути нет, — хладнокровно проговорила Партмуза. — Список существует, это факт.
— Список составлен лишь на крайний случай, — пояснил А, отнюдь не пытаясь оправдаться. Он с удовольствием попыхивал трубкой, будто речь не шла о его жизни и смерти. — На тот случай, — добавил он, — если Политсекретариат воспротивится самороспуску.
— Так оно и есть, — сухо заметил Святоша. — Политсекретариат воспротивился.
Евнух рассмеялся. Чистильщик припомнил народную мудрость: дескать, молнии бьют по вершинам. Хряк спросил, не найдутся ли добровольцы. Все уставились на Монумента. Он встал.
— Хотите, чтобы я его прикончил? — спросил он.
— Повесишь на окне, и все, — сказал Хряк.
— Я не палач вроде некоторых, — отозвался Монумент. — Из кузнецов я и дело сделаю по-своему.
Он взял свое кресло, поставил его между задним торцом стола и окном.
— Поди-ка сюда, — негромко позвал он.
А поднялся. Он был, как всегда, невозмутим, самоуверен. По пути он замешкался возле Святоши, который загородил ему проход своим креслом, придвинутым к двери.
— Пардон, — сказал А. — Разрешите пройти.
Святоша отодвинулся к столу, пропуская А, и тот наконец добрался до Монумента.
— Садись! — велел тот.
А сел.
— Эй, Президент, дай-ка ремень! — сказал Монумент.
Джингисхан-старший машинально снял ремень, не понимая, для чего он понадобился. Остальные сидели молча, уставившись в стол, никто не поднимал глаз. Н припомнил последний публичный выход Политсекретариата. Это было на официальной траурной церемонии — на похоронах Неподкупного, одного из вождей революции. После отстранения Монумента Неподкупный занял пост Заместителя по партии. Потом и он впал в немилость. Его оттеснил Хряк. Но А не стал устраивать Неподкупному судебного процесса. С ним поступили более жестоко. А объявил его умалишенным и посадил в психушку, где врачи годами держали Неподкупного в невменяемом состоянии, пока не дали умереть. Тем торжественнее прошли похороны. Весь Политсекретариат, за исключением Партмузы, нес на своих плечах покрытый партийным знаменем гроб по государственному кладбищу мимо заснеженных аляповатых статуй и мраморных надгробий. Двенадцать могущественнейших руководителей партии и государства вышагивали по снегу. Даже Святоша был обут в сапоги. Впереди шли А и Евнух, позади Н и Монумент. С белого неба крупными хлопьями валил снег. Меж могилами, у свежевырытой ямы, сгрудились партаппаратчики в длинных зимних пальто и меховых ушанках. Когда под звуки промерзшего военного оркестра, игравшего партийный гимн, опускали гроб, Монумент прошептал:
— Черт побери, теперь очередь за мной.
Но он ошибся. На очереди оказался А. Монумент накинул на его шею маршальский ремень.
— Готов? — спросил он.
— Еще три затяжки, — спокойно ответил А, трижды пыхнул своей кривой трубкой «Данхилл», положил ее на стол. — Готов.
Монумент потянул за концы ремня. А не издал ни звука, лишь тело его вздыбилось, взметнулись руки, но вскоре он затих с запрокинутою головою и широко открытым ртом; Монумент тянул ремень изо всех сил. Глаза А остекленели. Джингисхан-старший вновь обмочился, однако теперь никто не обратил на это внимания.
— Смерть врагам в лоне партии! Да здравствует наш великий вождь! — выкрикнул маршал З.
Лишь минут через пять Монумент ослабил хватку, после чего положил маршальский ремень на стол рядом с трубкой, затем вернулся на свое место. Мертвый А сидел в кресле у окна, голова запрокинута, руки повисли. Остальные молча глядели на него. Лорд Эвергрин закурил американскую сигарету, потом вторую, затем третью. Так прошло с четверть часа.
Кто-то попытался открыть снаружи дверь за спинами Е и З. Г встал, подошел к А, внимательно осмотрел его, ощупал лицо.
— Мертв! — сказал он и обернулся к Д: — Дай-ка ключ.
Министр внешней торговли молча подал ключ, Г открыл дверь. На пороге возник Министр атомной энергетики О, который тотчас принялся извиняться за опоздание. Он, дескать, перепутал дату. Затем он бросился к своему месту, впопыхах уронил портфель, поднял его, только тут он увидел задушенного А и обмер.
— Теперь я возглавляю Политсекретариат, — сказал Г и вызвал через распахнутую дверь полковника. Вошедший полковник отдал честь, не выразив ни малейшего удивления. Г велел ему убрать А. Полковник вернулся с двумя охранниками, кресло задушенного опустело.
— Заседание Политсекретариата продолжается, — объявил Г. — Приступим к перераспределению мест.
Он занял место А. Рядом с ним уселись Б и В. Возле Б сел Е, а возле В — Д. Рядом с Е заняла кресло М. Затем Г посмотрел на Н и сделал приглашающий жест. Вздрогнув, будто от озноба, Н сел возле Д, он стал седьмым по важности человеком в стране. На улице шел снег.
Комментарии
Судья и его палач
Материальные затруднения вынудили Фридриха Дюрренматта прервать на время работу над книгой «Проблемы театра» и комедией «Брак господина Миссисипи» и взяться за сочинение детективного романа, заказанного журналом «Дер швайцерише беобахтер». Роман писался с середины декабря 1950 г. до конца марта 1951 г. и печатался отдельными фрагментами в журнале. Книжный вариант вышел в 1952 г. в издательстве Бенцигера. В 1976 г. режиссер Максимилиан Шелл снял по роману одноименный фильм (производство ФРГ и Италии). Роль писателя, которого допрашивает комиссар Берлах, сыграл Фридрих Дюрренматт. Написанный ради заработка, роман тем не менее быстро стал одним из самых читаемых произведений Дюрренматта.
«Судья и его палач» — очень швейцарский роман, как по общей тональности, по языковой окраске (обилие бернских диалектизмов), так и по точности воссоздания местности вокруг селения Лигерц на берегу Бильского озера, где в то время жил Дюрренматт.
Подозрение
Впервые роман появился в журнале «Дер швайцерише беобахтер» (с № 17 за 1951 г. по № 4 за 1952 г.). Отдельным изданием вышел в 1953 г. в издательстве Бенцигера.
Авария
Сюжет «Аварии» Дюрренматт использовал в четырех жанровых формах: радиопьесы (1955), повести (1956), сценария телефильма (1957) и комедии (1979). В прозаическом варианте (повесть впервые опубликована в 1956 г. в цюрихском издательстве «Архе») приключения преуспевающего коммивояжера Альфредо Трапса названы «почти правдоподобной историей». Юристы-пенсионеры судят коммивояжера хотя и понарошку, для веселого времяпрепровождения, но достаточно профессионально и за реальные прегрешения. В действиях отставных правоведов можно найти массу натяжек, да и суровый приговор основан только на их предположениях и на признании изрядно подвыпившего обвиняемого. Но, во-первых, Трапс добровольно принял правила игры, не ожидая, что попадет в ловушку, и, во-вторых, во всей этой гротескно-комической истории важна мысль об изначальной греховности, экзистенциальной вине каждого человека. В финале повести «прозревший» коммивояжер осознает необходимость искупления и словно заново рождается — чтобы добровольно уйти из жизни, окончательно испортив старикам их невинную игру. В радиопьесе и в телефильме финал другой: проспавшийся Трапс забывает о ночном приключении и продолжает прежнюю жизнь человека, привыкшего «припирать врага к стенке, идти напролом, не думая о последствиях». А в комедии забытые смертью старички и вовсе отказываются судить Трапса, ибо в мире, где властвует его величество случай, правосудие в принципе невозможно.
Обещание
В 1957 г. Дюрренматту поручили написать сценарий кинофильма о преступлениях против детей, совершаемых на сексуальной почве. Сценарий был написан, фильм под названием «Это случилось среди бела дня» в следующем году вышел на экраны (режиссер Ладислао Вайда, производство «Презенс-фильм», Цюрих). Фильм выполнял свою педагогическую задачу — предостерегал детей и родителей от опасности и в этом качестве устраивал Дюрренматта. Но его не устраивал финал: преступник был найден, зло наказано. В жизни все было не так гладко. «Я снова взялся за эту фабулу и продумал ее, абстрагируясь от педагогического замысла». В результате получился детективный роман, в котором использованный в фильме сюжет (он опирался на реальные события) получил совершенно неожиданное развитие. Дюрренматт пропел «отходную» детективному жанру, поставил под сомнение правомерность его существования: аналитический ум, логические комбинации не способны решить криминалистическую задачу, так как все их усилия в любой момент может разрушить нелепый, абсурдный случай.
Впервые роман опубликован в 1958 г. в цюрихском издательстве «Архе».
Переворот
Замысел повести возник, когда Дюрренматт был в Советском Союзе. «Во время торжественного открытия съезда советских писателей в Большом Кремлевском дворце в нескольких метрах от меня сидело неподвижно, с каменными, серьезными лицами все Политбюро — Брежнев, Косыгин, Подгорный, Суслов и т. д. Вся правящая верхушка располагалась за длинным столом, на фоне огромного профиля Ленина, повсюду комнатные растения, букеты цветов, декорации монументального филистерства». На обратном пути в гостиницу между советскими коллегами в машине возникла оживленная дискуссия о «расположении членов политбюро за столом. Они сидели не так, как обычно, кого-то недоставало… Когда мы выходили из машины, у меня уже созрел замысел „Переворота“», — вспоминал Дюрренматт в книге «Материалы I–III» (1981).
Впервые повесть опубликована в 1971 г. в цюрихском издательстве «Архе».
В. Седельник
Содержание
Судья и его палач. Перевод Е. Кацевой
Подозрение. Перевод Е. Факторовича
*Авария. Перевод Н. Бунина
*Обещание. Перевод Н. Касаткиной
Переворот. Перевод Б. Хлебникова
Комментарии. В. Седельник.
Примечания
1
«Остров мертвых» — написанная в 1880 г. картина швейцарского живописца-неоромантика Арнольда Бёклина (1827–1901); в его полотнах, отличающихся яркостью красок и фантастическими сюжетами, символические мотивы сочетаются с натуралистическим жизнеподобием.
(обратно)2
Траффелет Фриц (1897-?) — швейцарский художник, мастер батальных сцен.
(обратно)3
Остров Петра (точнее, остров Святого Петра) — небольшой остров на Бильском озере; известен тем, что там некоторое время, скрываясь от преследований бернского правительства, жил Жан-Жак Руссо.
(обратно)4
Нойенштадт (или Нойенбург) — немецкое название города Невшателя, столицы одноименного франкоязычного кантона. Все географические названия в романе «Судья и его палач» подлинные.
(обратно)5
По-немецки пишется Gendarmerie. — Прим, перев.
(обратно)6
Убийца (франц.).
(обратно)7
Не был у (франц.).
(обратно)8
Невозможно (франц.).
(обратно)9
Очень богатый господин (франц.).
(обратно)10
Очень благородный (франц.).
(обратно)11
Невеста (франц.).
(обратно)12
По-королевски (франц.).
(обратно)13
Никогда (франц.).
(обратно)14
Очень опасная собака (франц.).
(обратно)15
Битва при Моргартене — сражение, состоявшееся 15 ноября 1315 г. у подножия горного хребта Моргартен, в котором швейцарское ополчение одержало первую победу над австрийскими войсками герцога Леопольда, положив начало освобождению от гнета императорского дома Габсбургов.
(обратно)16
Мануэль Никлаус, по прозванию Дойч (ок. 1484–1530) — швейцарский художник, писатель и государственный деятель эпохи Реформации, автор масленичных драм антипапского направления. В Берне существовала не дошедшая до наших дней галерея картин Мануэля под названием «Пляска смерти»; сами картины и стихотворные подписи к ним отмечены крайне мрачным взглядом на мир и человека, что не могло не привлечь к Мануэлю Дюрренматта, тяготевшего к апокалипсическим сюжетам.
(обратно)17
Агасфер, или Вечный жид — герой средневековой легенды, осужденный Богом на бессмертие и вечные скитания за то, что не позволил Христу отдохнуть по пути на Голгофу.
(обратно)18
в тринадцатом стихе «Послания к коринфянам» — В этом стихе из «Первого послания к коринфянам святого апостола Павла» говорится о силе любви, которая больше веры и надежды, ибо «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине». Полемизируя с этим утверждением, дюрренматтовский Гулливер на первое место ставит надежду.
(обратно)19
Сам Лессинг собирался написать трагедию о Берне, когда ему сообщили об ужасающей смерти бедного Генци. — Самуэль Генци (1701–1749) — швейцарский писатель и политический деятель. Казнен за участие в заговоре, направленном на свержение реакционного патрицианского режима в Берне. Республиканская трагедия Г. Э. Лессинга (1729–1781) осталась фрагментом (1749).
(обратно)20
…как в тысячелетнем рейхе при слове «культура» хватались за револьвер… — Имеются в виду слова персонажа драмы «Шлагетер» (1933), принадлежащей перу одного из бардов «национал-социалистической революции» Ганса Йоста: «Когда я слышу слово „культура“, я спускаю предохранитель моего револьвера». Широкое распространение получило еще одно изречение Йоста, ярого поборника «интуитивного, народно-культового театра»: «Я немец! Следовательно, я хорошо знаю, что жизнь нельзя насиловать разумом».
(обратно)21
…подобно Геркулесу вымести Авгиевы конюшни… — Этот сюжет Дюрренматт использовал позже в радиопьесе «Геркулес и Авгиевы конюшни» (1954).
(обратно)22
…художничек, малевавший открытки… — Имеется в виду Адольф Гитлер, увлекавшийся живописью, но в молодости так и не сумевший поступить в художественную академию.
(обратно)23
Тартар — царство мертвых; согласно греческой мифологии бездна в недрах земли, куда Зевс низверг титанов (ср. выражение «провалиться в тартарары»).
(обратно)24
Вот так (франц.).
(обратно)25
Минотавр — в греческой мифологии чудовище, полубык-получеловек, рожденный женой критского царя Миноса от связи со священным быком бога Посейдона. Минос заключил Минотавра в лабиринт и обязал подвластные ему Афины периодически доставлять для кормления чудовища по семь юношей и девушек. Афинский герой Тесей убил Минотавра. Минотавр в лабиринте — любимый и часто используемый (см. балладу «Минотавр», многочисленные рисунки и картины) образ Дюрренматта, символ погрязшего в жестокости и неразумии человечества, не способного распознавать грозящие ему опасности.
(обратно)26
Аргос — древнегреческий город на острове Пелопоннес, основанный в начале II в. до н. э.; разрушен в III–IV вв. н. э. готами.
(обратно)27
Минос — легендарный царь Кноса, первый законодатель Крита, создавший могущественную морскую державу
(обратно)28
Ходлер Фердинанд (1853–1918) — швейцарский живописец; тяготел к повышенной экспрессивности стиля модерн, отдавал предпочтение монументальным картинам на исторические сюжеты.
(обратно)29
Хотцендорф и Эрнст Давид Хёлле — немецкие юристы, авторы книг по вопросам правоведения.
(обратно)30
Савиньи Фридрих Карл (1779–1861) — немецкий юрист, ведущий представитель исторической школы права в Германии 1-й половины XIX в.
(обратно)31
…процесс Сократа… — Древнегреческого философа Сократа (ок. 470–399 до н. э.) за смелость в поисках истины обвинили в «развращении молодежи» и приговорили к смерти.
(обратно)32
…суд над Иисусом Христом… — Как явствует из дошедших до нас источников, данный суд, продиктованный корыстными интересами определенных социальных групп и трусостью римского наместника Понтия Пилата, тоже был неправым.
(обратно)33
Жанна д'Арк (Орлеанская дева) (1412–1431) — французская девушка, во время Столетней войны возглавившая национальное движение за освобождение Франции от англичан, обвиненная церковью в колдовстве и сожженная на костре. В 1456 г. провозглашена национальной героиней.
(обратно)34
Дрейфус Альфред (1858–1935) — офицер французского генерального штаба, по ложному доносу обвинен в государственной измене и приговорен к пожизненному заключению. Против явно сфабрикованного шовинистическими силами «дела Дейфуса» выступили многие известные деятели науки и культуры, среди них Эмиль Золя, и в 1906 г. Дрейфус был реабилитирован. Во всех случаях, в том числе и в знаменитом деле провокационном поджоге рейхстага в 1933 г., речь идет о попытках нарушения законности и последующем (чаще всего запоздалом) исправлении судебного произвола.
(обратно)35
Шлараффия — сказочная земля обетованная, страна молочных рек и кисельных берегов. Легенда о крае сонных лентяев, которым прямо в рот падают жареные голуби, была известна еще в глубокой древности, но широкое распространение получила после одноименного шванка немецкого мейстерзингера Ганса Сакса.
(обратно)36
Маркиз де Казанова — имеется в виду Казанова Джованни Джакомо (1725–1798), итальянский писатель, авантюрист и сердцеед, автор написанных на французском языке «Мемуаров», в которых запечатлены его многочисленные проделки и любовные приключения.
(обратно)37
Человек, разбирающийся в тонкостях изысканной пищи (франц.).
(обратно)38
Злой умысел (лат.).
(обратно)39
Клятва на Рютли — по преданию, на горной лужайке Рютли, что в кантоне Ури, в 1291 г. был заключен «клятвенный союз» между «первоначальными» кантонами Швиц, Ури и Унтервальден, положивший начало Швейцарской конфедерации.
(обратно)40
Лаупен — городок в кантоне Берн; в битве при Лаупене (21.06.1339) бернцы, руководимые Рудольфом из Эрлаха, разгромили угрожавшие их независимости объединенные войска города Фрибурга и бургундского дворянства.
(обратно)41
…гибель швейцарской гвардии… — Швейцарские наемники, считавшиеся лучшими в Европе солдатами, издавна привлекались для охраны властителей. Во время Французской революции они стояли до последнего, защищая короля. В настоящее время швейцарская гвардия охраняет Ватикан и собор Св. Петра в Риме.
(обратно)42
Отряд семи стойких (другой перевод: отряд семерых отважных) — название новеллы Готфрида Келлера, включенной в сборник «Цюрихские новеллы» (1877) В данном случае речь идет о картине на сюжет келлеровской новеллы.
(обратно)43
Штайгер Эмиль (1908–1987) — швейцарский литературовед-германист, знаток творчества Гёте, один из основателей «школы интерпретации», автор книг «Основные категории поэтики» (1946), «Искусство интерпретации» (1955) и др. В годы учебы Дюрренматта в Цюрихском университете руководил кафедрой германистики. Отношения между профессором и не очень прилежным студентом германистики складывались достаточно трудно.
(обратно)44
«Вельтвохе» — швейцарская еженедельная газета либерального направления, издается на немецком языке в Цюрихе с 1933 г.
(обратно)45
Здесь: контора, лавочка (разг. франц.).
(обратно)46
Миро Хоан (1899–1937) — испанский живописец и художник-декоратор, один из ведущих — наряду с С. Дали — представителей магического сюрреализма.
(обратно)47
«Нойе цюрхер цайтунг» — ведущая швейцарская ежедневная газета на немецком языке, издается с 1780 г.
(обратно)48
Гублер Макс (1897–1973) — швейцарский художник.
(обратно)49
Моргенталер Эрнст (1887–1963) — швейцарский художник, друг писателя Германа Гессе.
(обратно)50
Хунцикер Макс (1901–1976) — швейцарский художник, мастер живописи по стеклу.
(обратно)51
Хозяйские погреба (франц.).
(обратно)52
Фриш Макс (1911–1991) — швейцарский писатель.
(обратно)53
Зондербунд (т. е. Особый союз) — союз католических кантонов, созданный в 1843–1845 гг. с целью противостояния демократическим преобразованиям в Швейцарии; потерпел поражение в гражданской войне с протестантскими кантонами и был распущен.
(обратно)54
Вилле Ульрих (1848–1925) — генерал, главнокомандующий швейцарской армией в годы первой мировой войны.
(обратно)55
Банхофштрассе (Вокзальная улица) — центральная улица в Цюрихе, на которой расположены самые дорогие магазины и другие заведения.
(обратно)56
Лорд Эвергрин — вымышленное имя; английским словом «эвергрин» (вечнозеленый) называют шлягер, годами сохраняющий популярность.
(обратно)57
Диор Кристиан (1905–1957) — французский законодатель мод, создатель салона модной одежды, автор книги «Я творю моду».
(обратно)58
Мазарини Джулио (1602–1661) — французский дипломат и государственный деятель, укреплявший абсолютную власть короля и возглавивший борьбу с Фрондой.
(обратно)59
Клаузевиц Карл (1780–1831) — прусский генерал, военный теоретик и историк, подчеркивавший связь войны с политикой («война есть продолжение политики иными средствами»).
(обратно)


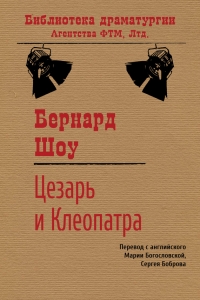

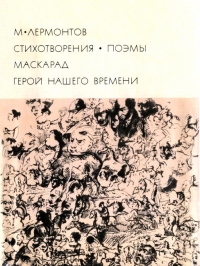
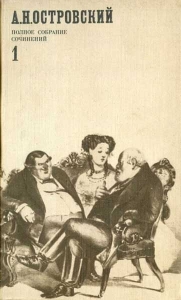
Комментарии к книге «Том 2. Романы и повести», Фридрих Дюрренматт
Всего 0 комментариев