Уильям Батлер Йейтс Пьесы Сборник
Кэтлин, дочь Холиэна 1902
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Питер Гиллейн.
Бриджет Гиллейн, жена Питера.
Майкл Гиллейн, их сын, который собирается жениться.
Делия Кейл, невеста Майкла.
Патрик Гиллейн, брат Майкла, 12 лет.
Нищая старуха.
Соседи.
1798 год. Дом недалеко от Киллалы. Бриджет стоит у стола, возится со свертком. Питер сидит по одну сторону камина, Патрик – по другую.
ПИТЕР. Что это там?
ПАТРИК. Ничего не слышу. (Прислушивается) Вот теперь слышу. Похоже, веселятся. (Подходит к окну и смотрит наружу.) Чего это они веселятся? Я никого не вижу.
ПИТЕР. Может, хоккей[1]?
ПАТРИК. Сегодня нет никакого хоккея. Наверно, в городе.
БРИДЖЕТ. Наверняка парни устроили себе забаву. Иди-ка сюда, Питер, посмотри на свадебный костюм Майкла.
ПИТЕР (подвигает стул к столу). Отличный костюм.
БРИДЖЕТ. У тебя такого не было, когда ты женился на мне, у тебя вообще не было праздничного костюма.
ПИТЕР. Что правда, то правда. Мы даже подумать не могли, что наш сын купит себе такой костюм на свадьбу, не то что приведет жену в приличный дом.
ПАТРИК (все еще стоит возле окна). Cтаруха идет по дороге. Кажется, она идет к нам.
БРИДЖЕТ. Какая-нибудь соседка хочет разузнать о свадьбе Майкла. Ты не видишь, кто это?
ПАТРИК. Она как будто не из наших мест, но идет к нам. Свернула туда, где Мортин с сыновьями стрижет овец. (Поворачивается к Бриджет.) Помнишь, как Винни с перекрестка говорила вчера вечером о странной женщине, которая появляется и ходит повсюду перед войной или каким другим несчастьем?
БРИДЖЕТ. Мало ли что Винни говорила. Лучше открой дверь своему брату. Я слышу его шаги.
ПИТЕР. Будем надеяться, он в целости и сохранности принес деньги Делии, а то, не дай бог, ее родственники передумают, а мне потом все улаживать. Мне и без того нелегко пришлось.
Патрик открывает дверь, и входит Майкл.
БРИДЖЕТ. Что это ты так поздно? Мы уж давно тебя ждем.
МАЙКЛ. Да я заходил к священнику, чтобы он обвенчал нас завтра.
БРИДЖЕТ. И что он сказал?
МАЙКЛ. Сказал, что из нас получится хорошая пара и что никогда еще он так не радовался, венчая кого-то в своем приходе, как будет радоваться, венчая меня и Делию Кейл.
ПИТЕР. Деньги принес?
МАЙКЛ. Принес.
Майкл кладет кошель на стол, идет к камину и прислоняется к боковой стенке камина. Бриджет, которая все это время занималась костюмом, проверяла прочность швов, подкладку карманов и так далее, перекладывает его на другой стол.
ПИТЕР (подходит к столу, берет в руки кошель и выкладывает из него деньги). Что ж, Майкл, неплохое дельце я провернул для тебя. Старый Джон Кейл никак не хотел расставаться с деньгами. «Возьми половину, пока не родится первый сын», – сказал он. А я ответил: «Так не пойдет. Родится сын или не родится, а все сто фунтов должны быть у Майкла, прежде чем он приведет твою дочь в свой дом». Тут за меня вступилась жена, и ему ничего не оставалось, как согласиться.
БРИДЖЕТ. А тебе, Питер, вроде нравится держать деньги в руках.
ПИТЕР. Еще бы не нравилось. Жаль, мне не достались ни сто фунтов, ни двадцать, когда я женился.
БРИДЖЕТ. Это правда, я ничего не принесла, но ничего и не получила. Да и что у тебя было, когда я стала твоей женой, кроме нескольких кур, которых надо было кормить, да овечек, которых ты отвел на базар в Баллину? (Она обижена. Со стуком ставит кувшин на стол.) Если я не принесла тебе богатство, то уж сполна отработала за это. Ведь даже сыночка нашего, Майкла, которым ты теперь гордишься, я на соломе родила, когда картошку копала, а уж нарядов и вовсе никогда не просила, одно только и знала, что работу.
Питер гладит ее по плечу.
ПИТЕР. Твоя правда.
БРИДЖЕТ. Не приставайте ко мне, пока я буду прибирать дом для женщины, которую мой сын приведет сюда завтра.
ПИТЕР. Ты самая замечательная женщина во всей Ирландии, но иметь деньги тоже неплохо. (Кладет деньги обратно в кошель и садится на стул) Вот уж никогда не думал увидеть сразу столько денег в собственном доме. Теперь не грех подумать, как ими распорядиться. Можно купить десять акров земли, которые ждут нас не дождутся после смерти Джэмси Демпси, и пасти там скот. Сходим на ярмарку в Баллину и присмотрим, что получше. Майкл, тебя Делия ничего не просила купить на эти деньги?
МАЙКЛ. Да нет. Ее деньги не интересуют, она и не глядит-то на них.
БРИДЖЕТ. А что удивительного? Зачем ей на деньги глядеть, когда с ней такой красавец рядом? Верно, гордится, что заполучила тебя. Ты парень добрый, степенный и ее деньгами распорядишься, как надо, не то что другие, не растратишь зря и не пропьешь.
ПИТЕР. Похоже, Майкл тоже больше думал о том, какую девчонку берет, чем о деньгах.
МАЙКЛ (подходит к столу). Конечно, приятно, когда рядом красивая жена, с которой не стыдно на улицу выйти. Богатство – дело временное, а жену берешь на всю жизнь.
ПАТРИК (отворачивается от окна). Опять в городе шумят. Может быть, лошадей привезли из Эннискрона? Там всегда кричат, если лошади хорошо перенесли морскую качку.
МАЙКЛ. Какие лошади? Кто их повезет, если до ярмарки еще далеко? Давай, Патрик, сбегай в город и посмотри, что там такое.
ПАТРИК (открывает дверь и медлит на пороге). Как ты думаешь, Делия не забыла, что обещала мне борзого щенка, когда придет к нам жить?
МАЙКЛ. Не забыла.
Патрик уходит, оставляя дверь открытой.
ПИТЕР. Теперь Патрику предстоит искать свое богатство, но ему придется труднее, ведь у него дома-то своего нет.
БРИДЖЕТ. А я вот подумываю, у нас как будто все наладилось, да и с Кейлами мы породнились, так что в приходе не последние люди. У Делии-то родной дядя – священник, так не стать ли и нашему Патрику священником, когда он подрастет? Его к книжкам тянет…
ПИТЕР. Подумаем, подумаем. У тебя, Бриджет, всегда все заранее должно быть расписано.
БРИДЖЕТ. У нас хватит денег, чтобы выучить его, и ему не придется бродить по свету нищим мудрецом, живущим на подачки.
МАЙКЛ. Всё кричат.
Подходит к двери, останавливается на пороге и подносит руку к глазам.
БРИДЖЕТ. Что-нибудь видишь?
МАЙКЛ. Старуха идет по тропинке.
БРИДЖЕТ. Интересно, кто бы это мог быть? Наверное, та самая странная старуха, которую видел Патрик.
МАЙКЛ. Она непохожа на наших соседок, впрочем, лицо у нее закрыто плащом.
БРИДЖЕТ. Какая-нибудь нищенка прослышала о свадьбе и пришла за своей долей.
ПИТЕР. Пожалуй, я спрячу деньги. Не стоит оставлять их на столе, где их может увидеть любой чужак.
Он подходит к большому сундуку, который стоит в углу открывает его, кладет в него кошель и запирает сундук на ключ.
МАЙКЛ. Отец, она уже тут! (Старуха медленно идет мимо окна и, проходя, глядит на Майкла.) Не хотел бы я видеть тут чужих накануне свадбы.
БРИДЖЕТ. Открой дверь, Майкл, не держи бедняжку на улице.
Появляется Старуха. Майкл отступает, пропуская ее.
СТАРУХА. Благослови вас Господь!
ПИТЕР. И тебя тоже.
СТАРУХА. Хороший дом.
ПИТЕР. Будь как дома.
БРИДЖЕТ. Садись поближе к камину и грейся.
СТАРУХА (греет руки). Промозглый ветер сегодня.
Майкл, не отходя от двери, с любопытством смотрит на нее. Питер подходит к столу.
ПИТЕР. Издалека держишь путь?
СТАРУХА. Издалека. Далеко я была, не всякому под силу, и много встретила я таких, что не пожелали впустить меня в свой дом. У одного выросли сильные сыновья, и как будто мы должны были подружиться, но они стригли овец и не захотели даже слушать меня.
ПИТЕР. Тяжело, когда нет своего дома.
СТАРУХА. Ты правильно сказал. Много времени минуло с тех пор, как я отправилась в путь, давно брожу я, неприкаянная.
БРИДЖЕТ. Ты, верно, устала, а по тебе и не скажешь.
СТАРУХА. Иногда у меня болят ноги, и рукам я даю покой, но на сердце у меня неспокойно. Стоит людям увидеть, как я отдыхаю, и они думают, будто старость взяла надо мной верх и ничто меня уж не тревожит. Но когда беда близко, как не поговорить с друзьями?
БРИДЖЕТ. Зачем ты пришла?
СТАРУХА. Слишком много чужаков в доме.
БРИДЖЕТ. И вправду похоже, что у тебя беда.
СТАРУХА. Так и есть.
БРИДЖЕТ. Что же это за беда такая?
СТАРУХА. Землю отобрали у меня.
ПИТЕР. И много у тебя было земли?
СТАРУХА. Четыре прекрасных зеленых поля.
ПИТЕР (говорит Бриджет, чтобы Старуха не слышала). Верно, она вдова Кейси, который жил в Килглассе, ее недавно выгнали из дома.
БРИДЖЕТ. Да нет. Я видела вдову Кейси на базаре в Баллине. Она крепкая и статная.
ПИТЕР (обращается к Старухе). Ты слышала шум, когда поднималась на гору?
СТАРУХА. Мне показалось, я слышала шум, который слышу обычно, когда мои друзья приходят ко мне. (Она поет, не обращая ни на кого внимания.)
Наш рыжий Донохью погиб, И я поплачу со вдовой, Палач надел ему колпак И шею затянул петлей.МАЙКЛ (отходит от двери). О чем это вы поете, госпожа?
СТАРУХА. Пою об одном человеке, о рыжем Донохью, с которым была знакома когда-то, а теперь его повесили. (Она снова поет, но теперь громче.)
С тобой, вдова, поплачу я И косы в горе расплету, Мне не забыть, как он пахал И красную вел борозду, Как строил на горе амбар И камень к камню подбирал; Будь в Эннискроне та тюрьма, Его народ бы отстоял!МАЙКЛ. Почему его казнили?
СТАРУХА. Он умер из любви ко мне: многие мужчины умерли из любви ко мне.
ПИТЕР (обращаясь к Бриджет, чтобы Старуха не слышала). Она сошла с ума от своих бед.
МАЙКЛ. Давно сложена эта песня? Давно он казнен?
СТАРУХА. Недавно. Недавно. Но были и другие, которые, любя меня, умерли давно.
МАЙКЛ. Они были вашими соседями, госпожа?
СТАРУХА. Подойди ко мне, и я расскажу тебе о них. (Майкл садится рядом с ней на скамейку.) Был рыжий муж из северных О’Доннеллов, был муж из южных О’Салливанов, был Брайан, отдавший свою жизнь в Клонтарфе, что стоит на море, и было много других на западе, одни погибли сотни лет назад, другие умрут завтра.
МАЙКЛ. Те, что на западе, погибнут завтра?
СТАРУХА. Садись-ка поближе, поближе ко мне.
БРИДЖЕТ. Думаешь, она не в себе? Или она не из смертных?
ПИТЕР. Болтает невесть что, видно, немало пережила на своем веку.
БРИДЖЕТ. Бедняжка, надо бы с ней помягче.
ПИТЕР. Дай ей молока и овсяных лепешек.
БРИДЖЕТ. Может быть, еще что-нибудь дать? На дорогу. Несколько пенсов или даже шиллинг, у нас теперь много денег?
ПИТЕР. Мне не жалко, если лишнее, но ведь так можно и все сто фунтов пустить на ветер, а уж этого мне никак не хочется.
БРИДЖЕТ. Питер, как тебе не стыдно? Дай ей шиллинг да благослови ее на дорогу, а то не будет нам добра.
Питер идет к сундуку и достает один шиллинг.
БРИДЖЕТ (обращаясь к Старухе). Хотите молока, сударыня?
СТАРУХА. Ни пить, ни есть я не хочу.
ПИТЕР (протягивая ей шиллинг). Вот вам немного.
СТАРУХА. Не надо. Мне не надо денег.
ПИТЕР. Чего же вам надо?
СТАРУХА. Чтобы мне помочь, надо отдать всего себя без остатка.
Питер идет к столу, непонимающим взглядом уставясь на шиллинг, потом останавливается и что-то шепчет Бриджет.
МАЙКЛ. Госпожа, неужели некому позаботиться о вас?
СТАРУХА. Некому. Многие меня любили, но никому не стелила я постель.
МАЙКЛ. Госпожа, не одиноко вам скитаться одной?
СТАРУХА. Со мной мои мысли и надежды.
МАЙКЛ. Какие надежды?
СТАРУХА. Надежда вновь стать хозяйкой моих прекрасных полей и надежда изгнать чужаков из моего дома.
МАЙКЛ. Как же вы это сделаете, госпожа?
СТАРУХА. У меня есть добрые друзья, которые помогут мне. Сейчас они собираются вместе. Я не боюсь. Если их одолеют сегодня, они победят завтра. (Она встает) Мне пора идти к моим друзьям. Они спешат мне на помощь, и я должна встретить их. Должна позвать соседей, чтобы они тоже пришли.
МАЙКЛ. Я иду с вами.
БРИДЖЕТ. Нет, Майкл, сейчас не время встречаться с ее друзьями, потому что тебе нужно встретить девушку, которая придет, чтобы жить в твоем доме. У тебя много дел. Пора позаботиться об угощении. Девушка придет к тебе не с пустыми руками, и она не должна войти в пустой дом. (Обращается к Старухе.) Верно, вы не знаете, сударыня, но у моего сына завтра свадьба.
СТАРУХА. Когда мне нужна помощь, мужчинам не до свадеб.
ПИТЕР (обращаясь к Бриджет). Да кто она такая?
БРИДЖЕТ. Вы не сказали нам, как вас зовут, сударыня.
СТАРУХА. Одни зовут меня Старой Нищенкой, другие – Кэтлин, дочерью Холиэн.
ПИТЕР. Помнится, я когда-то слышал это имя. Не знаю только, кого так звали. Наверно, я слышал его еще мальчишкой. Нет, нет, вспомнил, я слышал его в песне.
СТАРУХА (стоит в дверях). Они не верят, что мне посвящали песни, но ведь таких песен много. Одну мне принес сегодня ветер. (Поет.)
Не плачьте слишком громко, Могилы копая завтра. И белых всадников не кличьте На похороны завтра. Не ставьте столы для бедных, Не будет поминок завтра. И деньги не тратьте на свечи За тех, кто погибнет завтра… Им не нужны свечи, им не нужны молитвы.МАЙКЛ. Я ничего не понял в этой песне, но скажите, что я могу сделать для вас.
ПИТЕР. Майкл, подойди ко мне.
МАЙКЛ. Подожди, отец, послушай ее.
СТАРУХА. Трудная служба достается тем, кто приходит мне на помощь. У многих румяные щеки станут бледными; многие, свободно гулявшие по горам, долам и речным берегам, будут обречены на каменные улицы в далеких странах; у многих будут сломаны судьбы; многим не придется потратить скопленные деньги; многие не увидят своих детей и на крестинах не выберут им имена. У кого сейчас румянец на щеках, у тех щеки станут из-за меня бледными, но они не будут в обиде, а будут думать, что им честно воздано за труды. (Она уходит, и ее пение доносится снаружи.)
Они будут жить всегда, Они пример нам всегда, Они зовут нас всегда, Мы за ними идем всегда.БРИДЖЕТ (обращаясь к Питеру). Ты только посмотри на Майкла, он как будто не в себе. (Говорит громко.) Майкл, погляди на свой свадебный костюм. Вот красота-то! Надо его примерить, не дай бог, завтра окажется, что он тебе мал или велик. Нехорошо, если над тобой будут смеяться. Возьми его, Майкл, и надень в своей комнате.
Она вешает костюм ему на руку.
МАЙКЛ. О какой свадьбе ты говоришь? При чем тут костюм, да еще завтра?
БРИДЖЕТ. В этом костюме ты будешь завтра венчаться с Делией Кейл.
МАЙКЛ. Я совсем забыл.
Он смотрит на костюм, потом направляется к внутренней двери, но останавливается на полдороге, заслышав крики снаружи.
ПИТЕР. Кричат около нашего дома. Что там случилось?
Снаружи толпа соседей, с ними Патрик и Делия.
ПАТРИК. Там корабли. Французы в Киллале!
Питер вынимает трубку изо рта, снимает шляпу и встает. Майкл роняет костюм на пол.
ДЕЛИЯ. Майкл! (Он не обращает на нее внимания.) Майкл! (Он поворачивается к ней.) Почему ты смотришь на меня, как чужой?
Она отпускает его руку. К ней подходит Бриджет
ПАТРИК. Все парни бегут к французам.
ДЕЛИЯ. Майклу незачем бежать к французам.
БРИДЖЕТ (обращаясь к Питеру). Питер, скажи ему, чтобы он остался.
ПИТЕР. Без толку. Он не слышит нас.
БРИДЖЕТ. Постарайся усадить его возле камина.
ДЕЛИЯ. Майкл, Майкл! Не бросай меня! Зачем тебе французы, ведь у нас завтра свадьба?
Она обнимает Майкла, и он поворачивается к ней, как будто сдавшись.
Снаружи слышится пение Старухи.
Они зовут нас всегда, Мы за ними идем всегда.Майкл вырывается из объятий Делии, на мгновение останавливается в дверях, потом бежит на голос Старухи. Бриджет обнимает плачущую Делию.
ПИТЕР (кладет руку на плечо Патрику и спрашивает его). Ты видел на дороге старую женщину?
ПАТРИК. Нет. Но я видел юную девушку, и она шла как КОРОЛЕВА.
КОНЕЦ
На берегу Байле 1904
УИЛЬЯМУ ФЭЮ,
который с удивительной фантазией сыграл роль Дурака
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Дурак.
Слепец.
Кухулин, король Муиртемне.
Конхобар, верховный король Улада.
Юноша, сын Кухулина.
Короли и Поющие Женщины.
Большой дом в Дандилгане, не «большой древний дом Кухулина», а дом собраний, расположенный ближе к морю. На заднем плане большая дверь, и в нее виден туман, похожий на морской туман. На сцене много кресел и длинная скамья. Одно кресло, которое больше других, стоит ближе к авансцене и повернуто к залу. Немного сзади стол, на нем бутыли[2] с элем и рога, из которых пьют. Сбоку небольшая дверь. В дверь на заднем плане входят дурак и слепец, оба в лохмотьях. Маски делают их лица шаржированными и нелепыми. Слепец опирается на палку.
ДУРАК. Ну и умный ты, хоть и слепой! Из тех, у кого оба глаза на месте, нет ни одного умнее тебя. Кто еще догадался бы, что птичница уходит поспать в полдень? Мне бы никогда не удалось ничего стащить, если бы ты не сказал, куда идти. Ну, а уж повар из тебя! Ты взял у меня украденную курицу, сам ощипал ее, сам поставил варить в большом горшке, а я мог идти, куда заблагорассудится, бегать с ведьмами взапуски там, где волны наплывают на берег, и нагуливать себе аппетит. Теперь я нагулял его, и курица подоспела.
СЛЕПЕЦ (тыкает вокруг палкой). Подоспела, подоспела.
ДУРАК (обнимает Слепца одной рукой за шею). Давай, одна ножка мне, другая – тебе, а потом мы загадаем желание и сломаем дужку. Я буду все время хвалить тебя. Буду хвалить, пока мы едим, за то, какой ты умный и как хорошо умеешь кухарить. На земле нет другого такого, как ты, Слепец. Постой-ка, постой. Подожди минутку. Не надо было закрывать дверь. Меня тут кое-кто ищет, и не хотелось бы, чтобы не нашли. Только никому не говори, Слепец. Меня, знаешь ли, преследует сама Боанн из реки и еще Фанд из морской пучины. Ведьмы они, вот и носит их ветер, а они кричат: «Поцелуй меня, Дурак, поцелуй меня». Так прямо и кричат. Вот теперь открыто как надо. Ведьмы могут пожаловать сюда. И еще не хватало, чтобы в дверь и говорили: «Где Дурак? Зачем он заперся тут?» Наверно, они услышат, как булькает похлебка, войдут сюда и сядут на землю. Но мы ничего им не дадим. Пусть идут обратно в море, пусть идут к себе в море.
СЛЕПЕЦ (ощупывая ножки большого кресла). Ах! (Восклицает еще громче, когда ощупывает спинку.) Ах! Ах!..
ДУРАК. Что это ты разахался?
СЛЕПЕЦ. Это кресло мне знакомо. Сегодня сюда приедет верховный король Конхобар. Вот и поставили тут его кресло. Ему хочется стать хозяином Кухулина на веки вечные. За этим он и едет сюда.
ДУРАК. Верно, он великий человек, если хочет стать хозяином Кухулина.
СЛЕПЕЦ. Так оно и есть. Он великий человек. Ему уже подчинились все короли Ирландии, кроме Кухулина.
ДУРАК. Хозяин Кухулина! А я-то думал, Кухулин может делать все, что хочет.
СЛЕПЕЦ. Так все и было, так все и было. Но слишком уж он зарвался, вот Конхобар и приезжает сегодня, чтобы взять с него клятву верности, которая прекратит его вольности и сделает его послушным, не хуже домашней собачонки, чтобы всегда держать его под рукой. Конхобар усядется в это кресло и возьмет с Кухулина клятву верности.
ДУРАК. Думаешь, у него получится?
СЛЕПЕЦ. У тебя совсем нет мозгов, вот ты и не понимаешь. (Слепец садится в кресло.) Он сядет в кресло и скажет: «Дай мне клятву верности, Кухулин. Я требую, чтобы ты поклялся мне в верности. Делай, как я говорю тебе. Твой ум ничто в сравнении с моим, и богатства твои ничто в сравнении с моими. Разве у тебя есть сыновья, чтобы заплатить твои долги и поставить камень на твоей могиле? Дай мне клятву верности, Кухулин. Пора дать клятву».
ДУРАК (ежится и хнычет). Не хочу. Не буду давать клятву верности. Я хочу есть.
СЛЕПЕЦ. Хватит, хватит. Еще не готово.
ДУРАК. А ты говорил, что готово.
СЛЕПЕЦ. Да? Может быть, готово, а может быть, и нет. Крылышки, верно, уже побелели, а ножки еще красные. И мясо от костей не отстает, его зубами не отдерешь. Но ты не сомневайся, Дурак, я уж сварю ее как следует, прежде чем ты вцепишься в нее зубами.
ДУРАК. От голода у меня живот сводит.
СЛЕПЕЦ. А я тебе кое-что расскажу. Ублажу тебя, как ублажают кооролей, пока они ждут обеда. В моем рассказе будут и битва, и герой, и корабль, и сын королевы, который постановил во что бы то ни стало убить того, кто нам с тобой знаком.
ДУРАК. Кто же это? Кто плывет сюда, чтобы убивать?
СЛЕПЕЦ. Да погоди-ка, лучше послушай. Пока ты воровал курицу, я сделал себе нору в песке и, лежа в ней, слышал, как шли трое и все еле ноги волочили, да еще стонали из-за своих ран.
ДУРАК. Ну же! Расскажи о битве.
СЛЕПЕЦ. Битва и вправду была, великая битва, смертельная битва. Юноша высадился на берегу, и тамошние стражи спросили, как его имя, но он отказался им ответить, а потом одного убил, остальных обратил в бегство.
ДУРАК. Хватит тебе. Пора есть курицу. Хорошо бы, она была побольше. Хотя бы с гуся.
СЛЕПЕЦ. Помолчи! Я еще не все тебе рассказал. Тот юноша мне известен. Воины, которые бежали мимо меня, кричали, что у него рыжие волосы и он приплыл из страны Айфе, и он хочет убить Кухулина.
ДУРАК. Да кому же это под силу? (Поет.)
Убивал Кухулин королей, Королей и сынов королей, И драконов, живущих в озерах, И колдуний, летающих в небе, И Банаков, и Бонаков, и лесных людей.СЛЕПЕЦ. Замолчи! Замолчи!
ДУРАК (поет).
Колдуньи крадут молоко, Фоморы крадут детей, У колдуний головы зайцев, У зайцев когти колдуний, Всех Кухулин убивал, Всех, кто на палке скачет верхом(Перестает петь.)
В дальнем краю ледяного черного Севера.СЛЕПЕЦ. Замолчи, говорю тебе!
ДУРАК. А Кухулин знает, что он явился его убить?
СЛЕПЕЦ. Откуда ему знать, если он витает в облаках? Он и думать-то забыл о здешних делах. Ну, вернется он с облаков, а тут кто? Обыкновенный юнец? Вот если бы это была белая лань, которая на заре должна обернуться королевой…
ДУРАК. Хочу курицу. Была бы она величиной со свинью, да с гусиным жиром, да со свиной корочкой.
СЛЕПЕЦ. Не спеши, не спеши. Я знаю, кому юнец приходится сыном. Никому об этом не скажу, а тебе скажу. Такая тайна стоит обеда. Ты же любишь, когда тебе рассказывают чужие тайны.
ДУРАК. Ну, выкладывай.
СЛЕПЕЦ. Этот юноша – сын Айфе. Уверен, он – сын Айфе, я сразу догадался, чей он сын. Помнишь, как я рассказывал тебе об Айфе, великой женщине-воительнице с Севера, которую победил Кухулин?
ДУРАК. Помню, помню. Грозная королева из голодной Шотландии.
СЛЕПЕЦ. А это, точно, ее сын. Я ведь долго жил в стране Айфе.
ДУРАК. До того, как проклял ветер и тебя ослепили?
СЛЕПЕЦ. В ее доме жил мальчишка такой же рыжий, как она, и все говорили, что он подрастет и убьет Кухулина, ведь она ненавидела Кухулина. Она всегда надевала шлем на каменный столб, называла его Кухулином и приказывала мальчишке кидать в него камни. Я слышу чьи-то шаги. Это Кухулин.
Кухулин проходит в тумане мимо большой двери.
ДУРАК. Куда он?
СЛЕПЕЦ. Встречать Конхобара, который требует клятву верности.
ДУРАК. Ах да, Слепец, ты уже говорил о клятве. Но не могу же я помнить все, что ты говоришь. А кто должен дать клятву?
СЛЕПЕЦ. Кухулин должен дать клятву верности Конхобару ведь он теперь верховный король.
ДУРАК. Всё ты путаешь, Слепец! Сначала рассказываешь одно, а теперь заговорил совсем о другом… Как мне понять тебя, если ты с самого начала все запутал? Подожди, дай мне разобраться. Скажем, это Кухулин (он показывает на одну ногу), а это юноша (он показывает на другую ногу), который явился сюда, чтобы убить Кухулина, о чем Кухулин понятия не имеет. А где же Конхобар? (Кладет мешок) Вот Конхобар со всеми его богатствами. Вот Кухулин, вот юноша. Вот Конхобар. А где же Айфе? (Подбрасывает в воздух шапку.) Вот Айфе. Она высоко в горах своей голодной Шотландии. А может быть, все это неправда? Может быть, ты взял и все придумал? Сколько раз ты уже меня обманывал. Ладно, где курица, а то у меня совсем скукожился и заржавел желудок? Хочешь, чтобы он заскрипел, как несмазанные ворота?
СЛЕПЕЦ. Да не обманываю я тебя. Правда все это, одна правда. Ты лучше слушай меня, тогда и о своем желудке забудешь.
ДУРАК. Не забуду.
СЛЕПЕЦ. Да послушай ты. Я знаю, кто отец юноши, но тебе не скажу. Потому что боюсь. Знаешь, Дурак, ты позабыл бы обо всем на свете, если бы узнал, кто его отец.
ДУРАК. Ну и кто? Говори, не то я вытрясу из тебя правду. Давай выкладывай, если не хочешь, чтобы я силой заставил тебя говорить.
Слышится далекий гул голосов.
СЛЕПЕЦ. Подожди, подожди. Кто-то идет сюда… Это Кухулин. Это он возвращается вместе с верховным королем. Пойди и спроси Кухулина. Он тебе скажет. Вот уж не до курицы тебе будет, если ты спросишь Кухулина о…
Cлепец уходит в боковую дверь.
ДУРАК. А я спрошу. Кухулин должен знать. Он был в стране Айфе. (Идет к задней двери.) Спрошу его. (Поворачивается и идет к авансцене) Нет, не буду спрашивать. Страшно. (Идет обратно.) А вот возьму и спрошу. Что в этом плохого? И Слепец сказал, что надо спросить. (Опять идет к авансцене.) Нет. Нет. Не буду спрашивать. Еще убьет меня. Я-то если убивал, то лишь кур, да гусей, да свиней. А он королей убивал. (Подходит почти вплотную к большой двери.) Кто сказал, что мне страшно? Совсем мне не страшно. Я не трус. Спрошу его. Нет, нет, Кухулин, не буду я ни о чем спрашивать тебя.
Убивал Кухулин королей, Королей и сынов королей, И драконов, живущих в озерах, И колдуний, летающих в небе, И Банаков, и Бонаков, и лесных людей.Дурак уходит в боковую дверь, и последние слова говорит уже за кулисами. В большую дверь на заднем плане входят Кухулин и Конхобар. Еще из-за кулис доносится раздраженный голос Кухулина. У него темные волосы, и ему лет сорок с небольшим. Конхобар намного старше, и он опирается на длинный посох, украшенный или искусной резьбой, или золотым набалдашником.
КУХУЛИН.
Я убивал без твоего приказа И награждал без твоего приказа, И, верно, из-за этого решил ты С меня взять клятву верности. Теперь же Ты требуешь совсем другую клятву, Меня почти рабом ты хочешь сделать Из-за юнца, приплывшего от Айфе И стражника убившего.КОНХОБАР.
Он прибыл, Тебя ж не видно было и не слышно. Охотился ты иль плясал с друзьями?КУХУЛИН.
Его прогоним мы, но я свободен. Пляшу, охочусь, ссорюсь я, влюбляюсь, Когда и где мне самому угодно. И если б жидкой кровь твоя не стала, Увы, с годами, ты б меня не трогал.КОНХОБАР.
Я детям сильную страну оставлю.КУХУЛИН.
Ты хочешь, чтоб тебе я подчинился, Чтоб следовал во всем твоей я воле, Бежал к тебе по твоему приказу, Сидел в совете между стариками; И это я, чье имя охраняет Наш край теперь, и, помнится мне, в прошлом Изгнал я Медб, и северных пиратов, И сорхских королей числом до сотни, Да и царей богатого Востока. Зачем же мне, который с трона Тебя не дал согнать, еще и клясться, Как будто я король у свиноводов, Как будто я у очага потею, Как будто я руками лишь рисую Узоры на золе? Неуж и вправду Ленив я так, что без кнута не стану Тебе служить?КОНХОБАР.
При чем тут кнут, воитель? Да нет, сыны меня, как день, так мучат, Мол, никакого с Кухулином сладу И в будущем, как быть с ним, мы не знаем, Коли его не купишь, не сломаешь. Тебя не станет, где искать защиты? Земля горит, где он огнем проходит, Над ним у времени нет власти.КУХУЛИН.
Вот славно! Так что же, подчиняться мне придется Юнцу, коли его посадишь ты на трон, Как будто это ты?КОНХОБАР.
Да уж, наверно. Ведь сын мой королем верховным будет, А ты, хоть пламя в жилах у тебя И твой отец пришел к нам с солнца, ты Один из королей и голос твой Не громче всех других в делах державных И тише, чем у сыновей моих.КУХУЛИН.
Ну что ж, мы честно все обговорили. Когда умрем с тобой, вот будут толки О нас повсюду. Помнишь, молодые, Мы видели, как облако рдяное Парило над землей? Оно исчезло, И мы свершили больше, чем другие, Так будем честны. Конхобар, не любы Мне сыновья твои – нет в них размаха, Нет крепости в костях, им стелют мягко, А мы с тобой довольствовались малым.КОНХОБАР.
Ну да! Что ж ты детьми не обзавелся?КУХУЛИН.
Уж лучше вовсе не иметь потомства, Чем быть отцом иль бледной немочи, Иль дурака, иль жалкого урода В том доме, где я радовался жизни.КОНХОБАР.
Ты врешь, хоть честностью своей хвалился. Нет, всякий муж, владеющий землею, Ее желает завещать потомку, Чтоб имя сохранить свое в веках, И горю нет предела для того, Кто все именье отдает чужому, Как ты отдашь.КУХУЛИН.
Наверно, это правда, Но не для нас. Нас арфы будут славить.КОНХОБАР.
Играешь ты словами, как законник, Не вкладывая в них души. А мысли Твои я знаю, ведь недаром чашу И плащ один делили на двоих. Тебя ли мне не знать? Во сне ты плакал О сыне, правда, помню я, так горько, Что встал я на колени и молился О сыне для тебя.КУХУЛИН.
Тогда ты думал, Что буду я послушен, как другие, Коль стану им подобен; нет, не вышло; Я не такой, и не было резона, Я не хотел свою породу портить, Хоть некогда владыка неба ястреб, Породой поступившись, жизнь мне дал, Зачав меня от смертной.КОНХОБАР.
Так всегда. Насмешничаешь ты над здравым смыслом, Иль всё тебе, иль ничего не надо. Да нет на свете юноши такого, Который всем бы угодил тебе.КУХУЛИН.
Ни дом, ни имя я не завещаю Тому, кто убоится и не выйдет Со мной на поединок.КОНХОБАР.
Что ж, ты быстр, Силен и безразличен к здешним девам, Так почему б тебе не влезть на гору И не поймать небесную красотку, А то на берегу ты подстерег бы Принцессу из морского королевства.КУХУЛИН.
Не богохульник я.КОНХОБАР.
Ты презираешь Ирландских королев и не признаешь Своим ребенка.КУХУЛИН.
Это ты сказал.КОНХОБАР.
А я ведь помню, как ты похвалялся, Когда на празднике напился эля, Что, воинскому делу обучаясь В Шотландии, там королеву встретил С лицом, как камень, белым и, как пламя, Власами рыжими. Других любил ты, Но от нее, воительницы храброй, Лишь от нее вдруг захотел ты сына.КУХУЛИН.
Смеешься над «воительницей храброй», Ведь с прялками тебе привычно знаться, Ты терпишь рядом только тех из женщин, Которые твердят ежеминутно: «Ах, как ты мудр!» — «Не хочешь ли ты кушать?» — «Что мне надеть, чтоб угодить вам, сэр?» Так гомонят они все дни и ночи. Воительница! В этом нет насмешки, Ведь ты ее не видел, Конхобар, Когда, откинув голову назад, Она смеялась, с тетивой на ухе, Когда она серьезно рассуждала, Сев к очагу, и, будто от вина, Взгляд у нее темнел, когда любовной Она пылала страстью… Пусть бездетна, Она прекрасней всех на свете женщин, Она могла бы королей рожать.КОНХОБАР.
Ты помнишь ли, о чем мы говорили? Известна мне та женщина, которой Хвалы теперь возносишь – это Айфе. Возненавидела она тебя И не упустит шанса, чтоб потуже На Кухулине петлю затянуть Иль земли захватить твои, на помощь Призвав все воинства на свете.КУХУЛИН.
Что же, Меня совсем не удивляет это, Ведь для меня любовь, что поцелуй Во время битвы или перемирье Воды и масла, света с темной ночью, Горы с долиной, огненного солнца С холодною, скользящею луной — Короткой передышкою в войне Противников, не знающих покоя В три раза дольше, чем известен край наш.КОНХОБАР.
Послушай, Айфе начала войну, Число врагов становится все больше, Все крепче их удары в наши стены, А ты сердиться вздумал на меня. Едва заговорю, твой разум бьется, Как ласточка, попавшаяся ветру.За дверью на фоне голубого морского тумана появляется множество старых и молодых Королей, среди которых три Женщины, и две из них несут в руках сосуд с огнем, а третья время от времени бросает в огонь благовонные травы, чтобы он ярче горел.
Взгляни, за дверью славные мужи Нас ждут: советники мои седые, И короли из юных, и танцоры, Арфисты тут, с которыми ты кутишь, — И всех их единит одна тревога. Ужели ты не подчинишься долгу И не спасешь страну от жалкой доли? И ты, и я всего лишь половинки — Мне мощь твоя нужна и жар сердечный, Тебе ж расчетливый мой разум нужен.КУХУЛИН (подходит к двери).
О вы, возросшие в гнезде высоком, Вы, ястребы, летавшие со мною, Глядевшие на солнце, снова вместе Мы можем полететь по воле ветра. Король же требует повиновенья, Я речи слушаю его с утра, Но больше не могу. Скорей в конюшню — Пусть колесницы запрягают быстро, Не медля, шлите вестников к арфистам, Найдем поляну где-нибудь в лесу И спляшем там.МОЛОДОЙ КОРОЛЬ.
Дай клятву, Кухулин, Хотим мы, чтоб на верность дал ты клятву.КУХУЛИН.
На верность чтоб поклялся Конхобару?КОРОЛИ.
Да! Да! Да! Да!МОЛОДОЙ КОРОЛЬ.
Дай клятву Конхобару.КОНХОБАР.
Из них никто не хочет беспокойства С тех пор, как стали жить они в достатке.КУХУЛИН.
Так кто ж переменился – я иль вы? И я опасен стал? Да нет, неправда. Теперь другие вы при женах, детях И не хотите следовать за мной, Ведь я, как прежде, словно птичка волен, Хотя пора бы годам кровь разжижить И успокоить буйный нрав. Ну нет! Я тот же Кухулин. Но воля ваша, И я клянусь на верность солнцем, светом, Водой, луной и воздухом. Еще?КОНХОБАР.
Огонь зажжен от наших очагов, Свидетели мои – мужи седые, Твои – младые короли. Пусть жены Огнем очистят все дома, порожки И по обычаю закроют двери, Потом споют нам то, что сочинили Законники былых времен, чтоб выгнать Отсюда всех колдуний, ведь клятвой можно Связать свободу мужа, не жены. Так пусть звучат слова, которыми Прогоним жен, познавших превращенья, Колдуний, взявших ветры в свой полон.Конхобар восходит на трон.
ЖЕНЩИНЫ (после первых нескольких слов они поют совсем тихо, чтобы все прислушались к их словам).
Ты гори, огонь, гори, И колдуний ты гони, Пусть не губят никого И не рушат ничего. Пусть бежит исконный враг От тебя, порог, от тебя, очаг, Вы гоните нечисть прочь, Нецелованную дочь Тех стихий, что для людей Тайна неба и морей. Ведьмы, на погибель королям, Взяв песок и глину пополам, Лепят кукол – в реку опускать И позлее колдовать. Могут в псов они их обратить, Чтобы мучить и убить Из каприза одного. Заколдован если кто, За колдуньями пойдет, Путь-дорогу к ним найдет, Чтобы силу им отдать, Самому бессильным стать. Ведьмы ж умастят себя От макушки до носка, Взяв единорога жир, Чудесной силы эликсир. Трижды будет жалок тот, Немощный, больной урод, Кто к колдуньям в плен попал, Он, считай, уже пропал. Горький и смертельный яд Ласки сладкие таят, И целуют ведьмы, чтоб учить: «Будешь ненависть любить». На любовном колесе Головы теряют все, Но колдуньям мил пожар, Если дан им верхний жар. Все мечи пусть вволю пьют И на землю пусть не льют Эль из древней чаши сей — Клятва будет тем верней, — Чтоб не взял у нас наш враг Наш порог и наш очаг.КУХУЛИН (говорит, пока они еще поют).
Я клятву дам и стану с этих пор, Кем вы желали видеть Кухулина, Птенцы из моего гнезда, однако Не думал я, что немила вам станет Та жизнь, с которой кровь бежит быстрее, Пусть коротка она, да и свободный Вам прежде был приятней дар. Ну что ж. Покончим с прошлым. Слово я сдержу. Негоже требовать назад подарки. Но конь, взбрыкнув, ломает колесницу И получает взбучку. Как быть с клятвой?Две Женщины, продолжая петь, склоняются перед Кухулином, держа сосуд над головой. Он простирает руки над огнем.
Клянусь покорным быть я Конхобару, Клянусь я в верности его сынам.КОНХОБАР.
Теперь едины мы, как это пламя, Тебе принадлежит мой разум, мне же — И сила, и воинственность твоя. Мечи в огонь, чтобы всегда служили Порогу с очагом.Короли полукругом встают на колени перед Женщинами и Кухулином, который опускает меч в огонь. Короли тоже опускают свои мечи в огонь. Третья Женщина стоит в глубине сцены возле большой двери.
КУХУЛИН.
Огонь веселый Возлюбленной милей, жены и друга, Ты закали нам волю, дай надежду И дружбу подари меча!..Песня становится громче, и последние слова слышны совсем ясно. Слышится громкий стук в дверь и крик: «Откройте! Откройте!»
КОНХОБАР.
Наверное, король из опоздавших. Ему откройте дверь, пусть знают все, Что клятву верности дал Кухулин И в подтвержденье пили огнь мечи.Третья Женщина открывает дверь, и входит Юноша, держа в руке обнаженный меч.
ЮНОША.
Из края Айфе я.Короли бросаются к нему, но их опережает Кухулин, который становится между Юношей и Королями.
КУХУЛИН.
Мечей-то сколько! А он один. И Айфе далеко.ЮНОША.
Сюда пришел один я, чтоб скрестить Свой меч с мечом героя Кухулина.КОНХОБАР.
Ты знатен? Ведь простолюдин не может Героя вызывать на поединок, Лишь в общей битве им дано сразиться.ЮНОША.
Я клятву дал и имя не открою, Но знатен я.КОНХОБАР.
Я должен имя знать, Иль ты не смеешь здесь сказать ни слова.ПЕРВЫЙ СТАРЫЙ КОРОЛЬ.
Здесь Дом Собраний. Ты пред Конхобаром!ЮНОША.
Что я не воробей, вам докажу, Как ястреб.(На мгновение он умолкает, потом говорит, обращаясь ко всем.)
Слушайте ж, о короли. Из древнего я рода – в подтвержденье Ношу на коже знаки и в костях.КУХУЛИН.
Довольно ястребиного пера. И благородна речь твоя. Шлем дайте. А я уж думал, будто надоел вам. Подайте меч и пояс. Сразиться рад я. Король Верховный обещал мне мудрость. Но ястреб спит, пока с дубовой ветки Не позовет подруга или сам он Не узрит вражескую тень на солнце. Что в мудрости ему, коль ближе к солнцу Горит сильнее ясный взгляд его?(Пристально смотрит на Юношу, потом сходит вниз по ступеням и крепко хватает его за плечо.)
На свет иди!(Обращается к Конхобару.)
Точь-в-точь похож на ту, О ком я здесь рассказывал тебе. Точь-в-точь такой же.(Обращается к Юноше.)
С Севера ты тоже, Где очень многие рыжеволосы — Темней, светлей, не в этом суть. Приблизься, Я на тебя еще разок взгляну. И впрямь похож: бледны, как камень, щеки. Зачем пришел? Иль не боишься смерти?ЮНОША.
И жизнь, и смерть моя в руках богов.КУХУЛИН.
Слова, слова. Мальчишка ты еще. А я их плуг, и борона, и сила. Рожден союзом жившего на солнце И смертной девы – счастлив был в любви он, Слыхал, он обогнал луну, хотя Бежать за ней был обречен на небе, И он не стал бы дерево ломать, Взращенное на диво. Дай мне руку. Что ж, славные у ней отец и мать, Но все-таки с моей ей не сравниться.ЮНОША.
Смеешься ты? Считаешь недостойным Со мной сразиться в честном поединке?КУХУЛИН.
Нет, не смеюсь, и убери свой меч. Тебе я другом быть хочу. Я вижу, Глаза ясны твои и жарко сердце, Не в этом дело.(Обращается к Конхобару.)
Как она, горяч он. Нет горячее северных красавиц. Он, Конхобар, останется при мне, Пусть будит сладкие воспоминанья В вечерний час. – Ты оставайся с нами, Мы славно поохотимся с тобой На дикого быка или оленя, Когда устанем, разожжем костер На берегу реки иль на холме, Куда слетаются колдуньи утром. Смеется надо мной Король Верховный, Что ни одной из них не взял я в жены. Что голову повесил? Жизнь прекрасна: Поутру гордость наполняет мысли, А вечер нам сулит утехи дружбы, Где белая волна с орехом спорит. На этом мы покончим с славословьем, Теперь ты друг – отныне и навек.КОНХОБАР.
Сюда он прибыл не своею волей, Он королевой Айфе послан был, Чтоб вызвать лучшего из нас на бой.КУХУЛИН.
Так что же?КОНХОБАР.
Неужели ничего? Считаешь легковесною причудой, Мгновенной прихотью ее приказ? Конечно, если нет наследников, Заботиться не надо о наследстве, О том, как уберечься от позора.КУХУЛИН.
Пусть сыновья твои о том пекутся, Окрепнуть им не помешает. – Мальчик, Жалеть не стану для тебя даров, Но кое-что мне дай взамен – браслет твой. Сразимся мы, лишь повзрослей сначала.ЮНОША.
Из всех мужей тебя лишь одного Хотел бы другом я назвать, ведь имя Твое известно всюду, но стану я Предателем для Айфе.КУХУЛИН.
Нет, подарки Такие дам, что будет ясно Айфе — Мои они. (Показывает на плащ.) Отец мне плащ оставил. Пришел он испытать меня поутру, Из хладной тьмы морских глубин поднявшись. На бой меня он вызвал, правда, прежде Чем драться, имя произнес свое, Дал плащ и с тем исчез. В дворце подводном Сей плащ соткали из руна морского. А Айфе скажешь, испугался я, Или придумай что-нибудь еще. Нет, ты скажи ей, будто каркнул ворон На северном пределе, я и струсил.КОНХОБАР.
Туманит голову тебе колдунья.КУХУЛИН.
Нет. Глядя на него, я вспоминаю Возлюбленную Айфе.КОНХОБАР.
Ведьма может Упавший лист напоминаньем сделать. Как оседлают ветер, невидимки, Так ворожат без устали, вредя нам, Ведь учатся они тому с пеленок.КУХУЛИН.
Нет, нет, при чем твое тут колдовство? И ветер ни при чем. – Браслет твой, мальчик.КОРОЛЬ.
Прошу, дозволь на вызов мне ответить.ДРУГОЙ КОРОЛЬ.
Отвечу я, Король Верховный. Айфе Украла у меня рабов.ТРЕТИЙ КОРОЛЬ.
Позволь мне. Без дома и овец остался я.ЧЕТВЕРТЫЙ КОРОЛЬ.
Готов я драться.ОСТАЛЬНЫЕ КОРОЛИ (хором).
Я! Я тоже! Я!КУХУЛИН.
Назад! Назад! И прочь мечи! Никто Отвергнутый мной вызов не получит. Меч в ножны, Лаэгер!ЮНОША.
Да пусть идут! Я сразу встретиться готов с двумя.КУХУЛИН.
В твои года и я таким же был. Но это мой дом. Кто посмеет гостя Здесь тронуть, биться будет тот со мной. Молчите? Не хотите с ним встречаться?(Вынимает меч.)
Вот с этим болтуном и свистуном Белей волны, и с чибисом, и с мышью, Грызущей основание земли? Вот с этим, с этим? – Мальчик, я готов Со всеми драться, будь ты сыном мне. Сын отомстил бы, если бы меня Убил брат, сын, отец иль друг всех тех, Кого убил я ради Конхобара, Когда четыре короля сошлись, Чтоб поквитаться с ним. Нет, мститель Не нужен мне, ведь вместе мы с тобой Их выплеснем, как грязную водицу.ЮНОША.
Отныне рядом будем мы стоять. Порукой мой браслет.КУХУЛИН.
Ты погоди, Сражусь я первым, ведь старше я тебя.(Расстилает плащ.)
Давным-давно в Подводном королевстве Плащ ткали девять королев усердно И вышивкою украшали долго. Отец меня убил бы в поединке, Как я убил бы сына, будь здесь мой сын И я бы с ним сразился. Река бурлит В истоке, но скудеет жар с годами.КОНХОБАР (громко).
Довольно. Этой дружбе не бывать. Уже забыл о клятве, Кухулин? Он не уйдет непобежденным. Я…КУХУЛИН.
По-твоему не быть.КОНХОБАР.
Ты мне перечишь?КУХУЛИН (хватает Конхобара).
Король Верховный, не играй с мечом!КОНХОБАР.
Ты околдован. Потерял рассудок.КОРОЛИ (кричат).
Он околдован!ПЕРВЫЙ СТАРЫЙ КОРОЛЬ.
Потерял рассудок! Ты, Кухулин, в чертах его увидел Черты, которые любил когда-то, И вдруг набросился на Конхобара!КУХУЛИН.
Набросился на Конхобара я?КОНХОБАР.
Под крышей тут устроилась колдунья.КУХУЛИН.
Колдунья! Да, колдунья здесь летает.(Обращается к Юноше.)
Зачем ты так? Заставил кто тебя? Теперь идем! Скрестим свои мечи!ЮНОША.
Нет… Ни при чем тут я.КУХУЛИН.
Идем! Идем!Юноша направляется к выходу, следом идет Кухулин. Короли идут за ними, громко шумя, так что разобрать можно лишь отдельные слова. Кричат: «Скорей, скорей!» – «Кто мешкает у двери?» – «Мы опоздаем!» – «Не начали еще?» – «Вам видно, бой еще не начался?» – и всё в таком же духе. Все кричат, заглушая друг друга. Остаются три Женщины.
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Я знаю! Знаю!ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА.
А кричишь зачем?ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Бессмертные мне даровали знанье.ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА.
Когда и где?ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Сейчас на пепле в чаше.ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА.
Пока ее держала ты в руках?ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА.
Скорей же говори!ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Весь дом в огне, Сгорела крыша, почернели стены.ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА.
Погибнет Кухулин.ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА.
О нет! О нет!ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА.
Кто мог провидеть Кухулина смерть В бою с юнцом безвестным?ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Жизнь проходит Между слепцом и дураком. Конца ж Никто – ни трус и ни герой – не знает.ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА.
Увидим мы героя Кухулина смерть!Первая Женщина и Третья подходят к двери и, плача, останавливаются на пороге.
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА.
Оставим слезы здесь. Черед их будет, Когда все кончится, тогда поплачем.Женщины уходят. Дальше время от времени должен слышаться звон мечей. Входит Дурак, таща Слепца.
ДУРАК. Ты съел ее! Ты съел ее! И оставил мне одни кости!
Швыряет Слепца на пол рядом с троном.
СЛЕПЕЦ. Вот беда так беда! На мне живого места не осталось! Будто меня на части разорвали! Так-то ты платишь мне за мое добро.
ДУРАК. Ты все съел! А мне врал. Надо было сразу понять по тому, как лениво и сонно ты тащился. Теперь лежи тут до прихода королей. Все расскажу про тебя Конхобару и Кухулину и остальным королям.
СЛЕПЕЦ. Да что бы было с тобой, если бы не я, ведь у тебя совсем нет мозгов! Не заботься я о тебе, и ты ходил бы голодный да холодный.
ДУРАК. Ты заботишься обо мне? Да ты сидишь в сторонке, а меня гоняешь на опасные дела. Разве не меня погнал ты на скалу за яйцами чаек, а сам тем временем грел на солнышке свои слепые глаза? И потом один съел все хорошие яйца, а мне оставил то, что уже не яйца и еще не птицы. (Слепец пытается встать, но Дурак толкает его обратно.) Лежи смирно, пока я закрою дверь. Ну и расшумелись там. До того расшумелись, что я сам себя не слышу. (Закрывает дверь.) Почему бы им не помолчать? Почему бы им не помолчать? (Слепец пытается уползти) А! Хочешь удрать? (Идет за Слепцом и возвращает его на прежнее место.) Лежи тут! Лежи тут! Даже и не надейся удрать от меня! Лежи и жди, пока не придут короли. Я все им о тебе расскажу. Все расскажу. Как ты греешься у костра, который меня же заставляешь разжечь, да еще требуешь, чтобы я поддувал пламя. И как заставляешь меня лежать там, где дует ветер, когда дует ветер, и там, где идет дождь, когда идет дождь.
СЛЕПЕЦ. Послушай меня, славный Дурак. Вспомни, как я забочусь о тебе. Я ли не приводил тебя к жаркому очагу, где тебя ждал добрый прием? А ты бежал от него подальше, потому что любишь бродяжничать.
ДУРАК. В последний раз ты меня привел и ты же увел, потому что это ты залез в горшок, когда никто не смотрел. Тихо!
КУХУЛИН (буквально врывается в залу). Ни на земле, ни на небе нет такого колдовства, с которым я бы не справился.
ДУРАК. Кухулин, послушай. Я оставил его следить, как варится курица, а он съел ее. Съел всю курицу, хотя это я украл ее. Ничего мне не оставил, одни перья.
КУХУЛИН. Подай мне рог с элем!
СЛЕПЕЦ. Я оставил ему то, что он любит. Ты даже не представляешь, как наш Дурак любит украшать себя. И больше всего он любит перья.
ДУРАК. Кости и перья – вот все, что мне досталось. Одни перья, а ведь это я украл ее.
КУХУЛИН. Подай мне рог. Не хватало еще ваших препирательств! (Пьет.) Так что же вы не поделили? Выкладывайте!
СЛЕПЕЦ. Что бы сталось с ним без меня? Разве не мне приходится обо всем думать. И о том думать, где бы достать еду для обоих. А когда, кажется, еда есть, то в полнолуние или в прилив с него глаз спускать нельзя, ведь он или кролика в силках оставит, пока тот не зачервивеет, или форель упустит обратно в реку.
В то время, как Слепец говорит, Дурак начинает петь.
ДУРАК (поет).
Был ты желудем на дубе, Юный был орёл я; Ты теперь бревно на срубе, Все еще орёл я.СЛЕПЕЦ. Вы только послушайте его. А ведь мне приходится слушать такое и днем и ночью.
Дурак втыкает перья себе в волосы. Кухулин берет со скамейки, на которой сидит Дурак, перья, вытаскивает перья из волос Дурака и вытирает ими кровь со своего меча.
ДУРАК. Он взял мои перья и вытер ими меч. Вытер кровь на мече.
КУХУЛИН (идет к задней двери и выбрасывает перья). Они стоят возле него. Им не разбудить его, несмотря на все его колдовство.
СЛЕПЕЦ. Он говорит о герое, которого убил. О том самом, что прибыл из страны Айфе.
КУХУЛИН. Он думал спасти себя колдовством.
ДУРАК. А Слепец сказал, будто он убьет тебя, ведь он для этого прибыл из страны Айфе. Слепой Человек сказал, что его там обучили всем хитростям. Но я-то знал, что ты победишь его.
КУХУЛИН (обращается к Слепцу). Тебе он был знаком?
СЛЕПЕЦ. Я видел его, когда еще не ослеп, в стране Айфе.
КУХУЛИН. Ты был в стране Айфе?
СЛЕПЕЦ. Я видел там его и его мать.
КУХУЛИН. Он хотел назвать ее перед смертью.
СЛЕПЕЦ. Он – сын королевы.
КУХУЛИН. Какой королевы? (Хватает Слепца, который к этому времени уже сидит на скамейке) Королевы Скатах? Там было много королев. Ведь там правили только королевы.
СЛЕПЕЦ. Нет, не Скатах.
КУХУЛИН. Королевы Уатах? Да? Отвечай же! Отвечай!
СЛЕПЕЦ. Не могу, ты чуть не задушил меня. (Кухулин отпускает его) Не помню я. Боюсь соврать. Но она была королевой, это точно.
ДУРАК. А мне он сказал сегодня, что тот юноша – сын Айфе.
КУХУЛИН. Айфе? Нет! Нет! Когда я жил там, у нее не было сына.
ДУРАК. Слепец сказал, что она растила его как сына.
КУХУЛИН. Лучше бы он был сыном другой женщины. А кто его отец? Воин из Албы? Горячая была женщина – гордая, белая, горячая женщина.
СЛЕПЕЦ. Никто не знал его отца.
КУХУЛИН. Никто не знал! Неужели и ты не знал, ведь ты любишь подслушивать у дверей?
СЛЕПЕЦ. Нет, нет. Я ничего не знаю.
ДУРАК. А как-то раз он сказал, будто слышал, как Айфе похвалялась, будто у нее был лишь один возлюбленный и он единственный одолел ее в сражении.
Пауза.
СЛЕПЕЦ. Дурак, не ты ли дрожишь? Скамейка трясется. Почему ты дрожишь? Неужели Кухулин убьет нас? Кухулин, это не я сказал тебе о сыне!
ДУРАК. Кухулин дрожит. Кухулин трясет скамейку.
СЛЕПЕЦ. Он убил своего сына.
КУХУЛИН.
Колдуют ведьмы, на ветрах летая. Вы где? Вы где? Мой меч, разгоним их! Да нет, добры ко мне колдуньи были; Им любо пламя вдруг раздуть из пепла, Но если вдруг войну раздуть решили, То будет славная война героев, Но не такая ж. Войны их всегда К напевам гордым арфы пробуждают. Кто виноват? Боитесь? Говорите! Я защитить вас ото всех сумею И щедро награжу. То Дабтах-Майский Жук? Мой старый враг? Да нет, он с Медб сейчас. Иль Лаэгер? Вы почему молчите? А это что за дом? (Пауза.) Я вспомнил всё.Подходит к трону Конхобара и ударяет по нему мечом, как если бы на нем сидел Конхобар.
Ты виноват, Король Верховный, ты Сидел тут с жезлом, словно бы сорока С украденною ложкой. Сорока? Нет! Ты – червь, который пожирает землю! Сбежал ты по-сорочьи торопливо. Куда же ты сбежал?СЛЕПЕЦ. Да тут он, рядом.
КУХУЛИН. Где рядом?
СЛЕПЕЦ. Между домом и прибоем.
КУХУЛИН. Эй, Конхобар, мой меч тебя разыщет!
Кухулин убегает. Пауза. Дурак крадется к двери в глубине сцены, потом смотрит в нее.
ДУРАК. Он бежит к королю Конхобару Все короли еще рядом с юношей. Нет, нет, он остановился. Накатывает большая волна на берег. Он смотрит на нее. Не может быть! Он бежит к морю, но меч держит, как в бою. (Пауза.) Вот удар так удар! Еще раз!
СЛЕПЕЦ. Что он делает?
ДУРАК. Он сражается с волнами!
СЛЕПЕЦ. На каждой он видит корону Конхобара.
ДУРАК. Вот! Ударил большую волну! Сбил с нее корону и пена разлетелась во все стороны. Опять идет большая волна!
СЛЕПЕЦ. А где короли? Что они делают?
ДУРАК. Они кричат и бегут к берегу. Из домов тоже все повыскакивали и бегут туда же.
СЛЕПЕЦ. Говоришь, люди повыскакивали из домов? Значит, в домах никого не осталось. Послушай, Дурак!
ДУРАК. Кухулин упал! Нет, встал опять. Идет туда, где глубже. Какая большая волна. Она накрыла его. Никого не видно. Он убил много королей и великанов, а волны убили его, волны убили его!
СЛЕПЕЦ. Иди сюда, Дурак!
ДУРАК. Волны убили его.
СЛЕПЕЦ. Иди сюда!
ДУРАК. Волны убили его.
СЛЕПЕЦ. Говорю тебе, иди сюда!
ДУРАК (подходит к Слепцу, но оглядывается на дверь). Ну, что тебе?
СЛЕПЕЦ. В домах-то никого. Пойдем быстрее! Должно быть, осталось много еды, и ее никто не стережет. А мы тут как тут. (Они уходят.)
КОНЕЦ
Горшок с похлебкой 1904
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Джон Конили, Старик.
Сибби Конили, молодая или средних лет женщина.
Бродяга.
Действие происходит в кухне. В плите горит огонь; на столе капуста, лук, тарелка с едой и т. д. Дверь полуоткрыта. Входит Бродяга, озирается.
БРОДЯГА. Интересно, что за люди тут живут? Может, и не стоило приходить сюда за обедом? А что в этом большом горшке? (Открывает крышку) Ничего! А в маленьком? (Открывает крышку) Тоже ничего! А в бутылке? (Жадно хватает ее и отпивает глоток.) Молоко! Молоко в бутылке! Неужели у них нет ведра, чтобы в него подоить корову? Боюсь, нищему здесь ничем не разжиться. А что в сундуке? (Встает на колени и пытается поднять крышку сундука) Заперт! (Нюхает замочную скважину) Пахнет вкусно – гонят, видно, где-то рядом.
Поднимается с колен и садится на сундук. Снаружи слышатся шум, крики, шаги, громкое испуганное кудахтанье.
БРОДЯГА. Какого черта там творится? Можно подумать, ирландец Финн вышел на охоту!
ГОЛОС СИББИ. Догони ее, Джон, да догони же ее. Хватай эту крикливую курицу, не орлица она, чтобы летать на крышу!
ГОЛОС ДЖОНА. Не получается, Сибби. Только я к ней, а ее уж и нет!
ГОЛОС СИББИ. Да в саду она! Беги туда. Теперь у нее простора побольше.
БРОДЯГА. Он называет ее Сибби. Не дом ли это Сибби Конили? Если так, пожалуй, уйду я отсюда таким же голодным, как пришел. Ох уж и скряга, эта ничего не упустит, ей не в труд и крыс уморить голодом. Скряга, каких свет не видывал, из блохи и то умудрится сшить себе платье! Не повезло мне, а отсюда до Таббера ни деревни, ни фермы. Не добраться мне туда. (Выкладывает все из карманов на сундук.) Вот трубка, но нет ни щепотки табака! Вот носовой платок, он достался мне на обеде в честь коронации! Вот нож, но он весь стесан. (Вытряхивает все из карманов.) Вот крошки от последнего обеда, и, похоже, до завтра мне рассчитывать не на что. Больше ничего нет, разве что камень, который я подобрал неподалеку, чтобы утихомирить разлаявшегося пса. (Достает камень и подбрасывает его несколько раз.) Миновали времена, когда ни старухи, ни молодухи не отказывали мне в обеде! Помнится, повстречался мне старый священник, и я продал ему его собственных индюков. Тогда моя голова неплохо кормила мой живот, а теперь, боюсь, мозги у меня уже не те после всего, что мне пришлось пережить.
Опять слышатся кудахтанье и крики.
ГОЛОС СИББИ. Лови ее, она за кустом! Суй руки в крапиву, ничего с тобой не будет!
Слышится придушенное кудахтанье, потом долгий крик.
БРОДЯГА. Кого-то они ждут к обеду. А почему бы не меня? Как бы мне ее облапошить? У нее не больше жалости, чем у пса. Да пусть бы даже святые, босиком, встали перед ней, она бы попросила их зайти в другой раз. Надо заставить ее поверить мне, уговорить ее. (Глядит на камень) Придумал! Помнится мне, что сделал с камнем лудильщик, а чем я хуже него? (Он подпрыгивает на сундуке и машет над головой камнем) Ну, Сибби, держись! Если не получится так, я придумаю что-нибудь другое. Ставлю свою голову против всего человечества!
В горшке похлебка для тебя, старик, В горшке похлебка для тебя, старик, Капуста мне, Тебе вода И мясо для слуги. Жду не дождусь, когда умрет старик, Жду не дождусь, когда умрет старик, Жду не дождусь, Когда умрешь И буду я женой слуги.ГОЛОС ДЖОНА (снаружи). Забирай ее, Сибби, неси ее в дом, а то не успеешь сварить обед для священника.
ГОЛОС СИББИ. Не можешь потерпеть, пока я вытащу ее?
Входит Джон.
ДЖОН. Вот уж не знал, что в доме кто-то есть.
БРОДЯГА. Я только что вошел. Устал с дороги, да и не ел с утра.
ДЖОН (перебирает горшки и сковородки). Не могу ничего найти… нет тут ничего… Может быть, в сундуке.
Джон берет ключ из потайного места за очагом, отпирает сундук, вытаскивает бутылку, окорок и начинает резать его, как входит Сибби, держа за шею цыпленка. Джон бросает окорок на лавку.
СИББИ. Поторопись, Джон, ты и так много времени проваландался. Почему ты не поймал старую курицу, когда она скреблась в пыли?
ДЖОН. Да решил, что цыплята будут нежнее на вкус.
СИББИ. Плевать на нежный вкус! Ты только подумай, во сколько она уже обошлась! Моя большая курочка, пять лет я кормила тебя! А теперь настала пора с тобою распрощаться! Мне бы такое и в голову не пришло, не перестань она с Пасхи нестись.
ДЖОН. Я подумал, что мы должны накормить его преподобие повкуснее.
СИББИ. А при чем тут курица или цыпленок? Когда на стол поставишь, курица – она курица и есть. (Садится и принимается ощипывать цыпленка) Почему бы Кернанам, как обычно, не угостить священника обедом? Ну, умер брат их матери, и что из этого? Нет, все дело в расходах.
ДЖОН. У тебя, помнится, еще остался хороший кусок бекона, так свари его вместе с цыпленком.
СИББИ. Не говори чепухи. Высокородным господам, таким как священники, настоящим воспитанным людям нужен дух мяса на кончике ножа, не то что жадинам, которые убирают картошку или жнут хлеб.
ДЖОН. Мне еще не встречались люди, будь они простые или не простые, чтобы, проголодавшись, они не обрадовались хорошему куску мяса.
СИББИ. Отстань. Я покажу Кернанам, как надо потчевать священника. У меня есть кое-что получше бекона, вкусный окорочок, который я хранила в сундуке на всякий случай. (В это мгновение она замечает бродягу) А это кто? Бродяга? Будь добр, убирайся отсюда. У нас ничего нет для тебя. (Она встает и открывает дверь.)
БРОДЯГА (выходит вперед). Вы совершаете ошибку, мэм, не спрашивая о том, кто я есть. Обычно я больше даю, чем беру. Еще не было случая, чтобы меня не звали в дом, в котором я уже побывал.
СИББИ. У вас вид бродяги, но если вы не бродяга, то чем зарабатываете себе на хлеб?
БРОДЯГА. Будь я бродягой, мэм, я пошел бы к простым людям, а не к такой даме, как вы, привычной к беседам лишь с благородными господами.
СИББИ. Ладно, что вам нужно? Если хотите поесть, то у меня ничего нет, потому что я жду гостя, которого должна хорошенько накормить.
БРОДЯГА. Разве я просил у вас еду? (Показывает камень) У меня есть кое-что получше говядины и баранины, кексов с корицей и мешков с мукой.
СИББИ. Что же?
БРОДЯГА (с загадочным видом). Тем, которые мне его дали, не понравилось бы, что я рассказываю о нем направо и налево.
СИББИ (обращаясь к Джону). Думаешь, у него друзья из сидов?
ДЖОН. С тех пор, как сиды помогли Джону Моллою отыскать золото, спрятанное на Лимрикском мосту, ты все время о них говоришь. Я вижу лишь камень.
БРОДЯГА. Что ты можешь видеть, если ни разу не видел, что он делает?
ДЖОН. А что он делает?
БРОДЯГА. Да мало ли что. Вот сейчас, например, я сварю из него на обед похлебку.
СИББИ. И мне бы хотелось иметь камень, из которого можно сварить похлебку.
БРОДЯГА. Лишь у одного человека на земле есть такой камень, мэм, и никакой другой камень на земле не делает то, что делает этот камень, потому что он волшебный. Единственное, что я попрошу у вас, мэм, это горшок с кипящей водой.
СИББИ. Это пожалуйста. Джон, налей воды в маленький горшок.
бродяга (кладет камень в горшок). Ну вот, теперь мне надо поставить горшок на огонь, и у меня вскоре будет много похлебки.
СИББИ. Больше ничего не надо туда класть?
БРОДЯГА. Ничего… разве что, может быть, немножко травки, чтобы волшебство не покинуло мой камень. У вас, мэм, есть сланлус, срезанный ножом с черной ручкой?
СИББИ. Нет, конечно. Я такого в доме не держу.
БРОДЯГА. А фиараван, который собирают, когда дует северный ветер?
СИББИ. И этого нет.
БРОДЯГА. А отростка атар-талава, отца всех трав?
ДЖОН. Этого полно около изгороди. Сейчас принесу.
БРОДЯГА. О, не стоит беспокоиться. Вот тут, рядом со мной, есть листья. Их вполне хватит. (Он берет пригоршнями листья капусты и луковицы и бросает их в горшок.)
СИББИ. А где вы взяли камень?
БРОДЯГА. Вот как это было. Шел я как-то по лесу, и со мной была большая борзая. Она бежала за кроликом, ну, а я за ней и, когда наконец добрался до края гравиевого карьера, где росло несколько почти засохших кустиков, то увидел, что сидит мой пес, весь дрожит, а перед ним сидит старичок и снимает с себя кроличью шкуру. (Он поглядел на окорок.) Одолжите-ка мне шкурку помешать похлебку… (Он берет окорок и кладет его в горшок.)
ДЖОН. Ой! Окорок!
БРОДЯГА. Я сказал не окорок, а кролик.
СИББИ. Придержи язык, Джон, если тебя глухота одолела.
БРОДЯГА. (Он помешивает окороком в похлебке.) Ну, как я уже сказал, сидит старичок, и только я подумал, что он мал, как орех, а его голова уже среди звезд. Ну и испугался я.
СИББИ. Неудивительно. Совсем неудивительно.
БРОДЯГА. Ну вот, достает он из кармана маленький камешек – этот самый – и показывает его мне. «Отзови пса, – говорит он, – и я дам тебе этот камень, а тогда, захочется тебе похлебки, или каши, или даже нашего самогона, положи его в горшок, налей воды и знай себе помешивай понемногу, не успеешь оглянуться, как получишь, что пожелаешь».
СИББИ. Самогон! И его тоже можно?
БРОДЯГА. Да не глядите вы так, мэм. Еще накликаете на себя беду, нельзя ведь смотреть на горшок, когда в нем кипит похлебка. Надо накрыть его крышкой или как-то подкрасить воду. Дайте-ка мне немного того, что на тарелке.
Сибби подает ему тарелку, и он сыплет в горшок пару пригоршней.
ДЖОН. Умный человек!
СИББИ. Хорошо иметь такой камень. (Она закончила щипать цыпленка, и теперь он лежит у нее на коленях.)
БРОДЯГА. У него есть еще одно свойство, мэм. Если камень в руках католика, то положи вы в горшок даже самое белое мясо, какое только есть на свете, оно станет черным-пречерным.
СИББИ. Ну и чудеса. Надо будет рассказать отцу Джону.
БРОДЯГА. А если в другой день положить немножко мяса, ничего плохого не случится, даже наоборот. Смотрите, мэм. Я на минутку положу в горшок маленькую симпатичную курочку, которая лежит у вас на коленях, и вы сами поймете. (Берет цыпленка и кладет в горшок.)
ДЖОН (с сарказмом). Хорошо, что сегодня не пятница!
СИББИ. Придержи язык, Джон, и не перебивай человека, не то получишь по башке, как бабушка короля Лохланна.
ДЖОН. Давай, давай, я больше ничего не скажу.
БРОДЯГА. Если мне придется проходить в ваших местах в пятницу, я прихвачу с собой добрый кусок барана или грудку индюшки, и вы сами убедитесь, что через две минуты в горшке будет вонючая жижа.
СИББИ (встает). Пора вынуть цыпленка.
БРОДЯГА. Я помогу вам, мэм, чтобы вы не ошпарились. Еще минутка, и вы увидите вашу курочку белой, как ваша кожа, на которой лилии и розы сражаются за власть. Вам приходилось слышать, что парни из вашего прихода пели, когда вы вышли замуж, – те из них, которые не онемели от горя и которым не совсем мешали рыдания, или выпившие немного, чтобы успокоиться и не сойти с ума, когда потеряли надежду заполучить вас?
Довольная Сибби вновь усаживается на свое место.
СИББИ. А они пели?
БРОДЯГА. Пели, мэм, еще как пели. Вот так они пели:
Там, где ива плакучая, Песню пела Филомела…Нет, не то – странные штуки вытворяет память!
На танцах у Дермоди Мы повстречались. Нет, нет, не так – вру, вспомнил. Ах, Пейстин Финн – любовь моя, Она с ума свела меня.СИББИ. При чем тут Пейстин?
БРОДЯГА. А как им называть вас? Неужели вашим настоящим именем, когда у вас есть муж, который готов вышибить мозги любому, едва посмотревшему в вашу сторону?
СИББИ. Ну, наверно, нет.
БРОДЯГА. Я стоял рядом, когда парень сочинял песню и записывал ее плотницким огрызком карандаша, а по щекам у него бежали слезы.
Ах, Пейстин Финн – любовь моя, Она с ума свела меня, Ах, в сердце лишь она одна, О чем пою я без конца. Ты верь, ты верь! Вот ночью выломаю дверь.Cибби взяла вилку, чтобы вытащить из горшка цыпленка, но бродяга, жестом удержав ее на месте, продолжал петь.
Для парня нет прибытка в том, Что одинок он день за днем, Вот посидеть бы с ней в пивной И вместе выпить литр-другой. Ты верь, ты верь! Вот ночью выломаю дверь.Сибби вновь привстала, но бродяга взял ее за руку.
БРОДЯГА. Подожди, сейчас уже конец. (Поет.)
Один я девять дней подряд Лежу в кустах и в дождь, и в град; Я думал, что она придет, Свистел, свистел, она ж нейдет. Ты верь, ты верь! Вот ночью выломаю дверь.Бродяга повторяет песню с самого начала, и Сибби поет вместе с ним, отбивая такт вилкой.
СИББИ (обращаясь к Джону). Я всегда знала, что слишком хороша для тебя. (Продолжает напевать.)
ДЖОН. Отлично он обошел бедняжку.
СИББИ (неожиданно очнувшись). Ты еще не вытащил цыпленка?
БРОДЯГА (вытаскивает цыпленка и старательно отжимает его). Все в порядке, мэм. Глядите.
Он кладет цыпленка на стол.
ДЖОН. А как там похлебка?
БРОДЯГА (пробует бульон ложкой). Очень вкусно. И так всегда.
СИББИ. Я тоже хочу попробовать.
БРОДЯГА (cнимает горшок с огня, незаметно вытаскивает из него окорок и прячет за спину). Дайте же во что налить похлебку для этой небесной женщины.
Джон подает ему рюмку для яйца, которую бродяга, заполнив, подвигает Сибби. Джон подает ему кружку, и ее бродяга наполняет для себя, после чего, то выливая содержимое в миску, стоящую на столе, то вновь наполняя кружку, время от времени отпивает из нее. Сибби дует на рюмку для яйца и нюхает ее.
СИББИ. Пахнет-то хорошо. (Пробует.) Вкусно. Ох, я бы все отдала, лишь бы заполучить твой камень!
БРОДЯГА. Мэм, его нельзя купить за все сокровища в мире. Если бы я пожелал его продать, то лорд-наместник уже давно отдал бы мне Дублинский замок со всем его содержимым.
СИББИ. Значит, нам никак не уговорить тебя?
БРОДЯГА (пьет бульон). Никак не уговорить, разве что… (Принимает печальный вид) Если подумать, то лишь одна нужда может заставить меня расстаться с ним.
СИББИ (нетерпеливо). Какая?
БРОДЯГА. Одолевает меня, мэм, нужда каждый раз, когда я хочу сварить похлебку, ведь у меня нет горшка и всегда надо одалживаться у соседей. Как только у меня появляется свой горшок, с ним что-нибудь да происходит. Для начала я попросил горшок у старичка, который дал мне камень. Последний, который я купил, сгорел ночью, когда я помогал другу на винокуренном заводе. Предпоследний я спрятал под кустом, когда на ночь остался в Эннисе, но городские мальчишки разузнали об этом и решили, будто я храню в нем сокровища. Конечно же, они не нашли ничего, кроме яичной скорлупы, но горшок все-таки утащили. Еще один…
СИББИ. Дай мне камень, а я уж позабочусь о горшке… Постойте-ка, у меня есть что предложить вам…
БРОДЯГА (в сторону). Пожалуй, пора уходить, а не то священник заявится. (Встает.) Мэм, боюсь, я засиделся у вас. (Идет к двери, выглядывает, прикрыв глаза, и неожиданно возвращается.) Не могу, мэм, больше терять время, мне пора. (Подходит к столу и берет свою шляпу.) Ну вот, мэм, что вы хотели мне предложить?
ДЖОН. Вы могли бы оставить камень на денек – для пробы?
БРОДЯГА (обращаясь к Джону). Думаю, я сюда больше не приду. (Обращаясь к Сибби) Так вот, мэм, поскольку вы были очень добры ко мне, из-за вашего хорошего отношения я совсем ничего у вас не возьму. Пусть он теперь будет у вас и живите долго, чтобы он долго служил вам! Я возьму лишь малый кусочек на ужин, вряд ли мне успеть в Таббер до ночи. (Он берет цыпленка) Да не пожалейте для меня капельку виски, ведь вы теперь сколько угодно можете его наварить. (Берет бутылку.)
ДЖОН. Ты заслужил ее, вправду заслужил. Ума тебе не занимать. И не забывай о кролике!
БРОДЯГА. Здесь он! (Хлопает себя по карману и уходит. Джон следует за ним.)
СИББИ (глядит на камень, который держит в руке). Он сказал, похлебка, каша, самогон, вино! А еще народ прибежит посмотреть на чудо! Да я разбогатею, как Бидди Эрли.
Возвращается Джон.
СИББИ. Где ты был?
ДЖОН. Проводил его и пожал ему руку. Очень умный человек.
СИББИ. Да уж.
ДЖОН. На холме я видел священника. Он идет к нам обедать. Не пора ли тебе опять положить камень в горшок?
КОНЕЦ
Звездный единорог 1908 В соавторстве с леди Грегори
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Отец Джон.
Томас Хиарн, каретник.
Эндрю Хиарн, его брат.
Мартин Хиарн, его племянник.
Попрошайки:
Джонни Бокач.
Подин.
Бидди Лалли.
Нэнни.
Время – начало ХIX столетия
Акт первый
Место действия – мастерская каретника. Среди частей позолоченной кареты виден орнамент, изображающий льва и единорога. Томас работает с колесом. Отец Джон входит в дверь, ведущую из дома.
ОТЕЦ ДЖОН. Я молился о Мартине. Долго молился, но он по-прежнему недвижим.
ТОМАС. Вы слишком утруждаете себя, отец. Оставьте его, пока мы не получим лекарство. Если ему кто-нибудь и поможет, так это доктор.
ОТЕЦ ДЖОН. Полагаю, на сей раз доктор ему не поможет.
ТОМАС. Поможет, поможет. Доктор хорошо знает свое дело. Если бы Эндрю пошел к нему вовремя и не вернулся снова, чтобы отвезти вас домой, думаю, Мартин не лежал бы теперь в постели. Мне не нравится беспокоить вас, отец Джон, ведь вы все равно не в силах ему помочь. А вот доктор, любой доктор, должен лечить эпилепсию.
ОТЕЦ ДЖОН. Сейчас с ним не совсем то.
ТОМАС. Сначала я подумал, что он заснул. Но потом, когда тряс его и кричал на него, а он все не просыпался, я понял, что это эпилепсия. Поверьте мне, доктор поставит его на ноги своими лекарствами.
ОТЕЦ ДЖОН. Лишь молитва может достичь душу, которая ушла так далеко от нас, как его душа.
ТОМАС. Не хотите же вы сказать, что жизнь покинула его!
ОТЕЦ ДЖОН. Нет, нет! Его жизни не грозит опасность. Но я не могу сказать, где теперь он сам, где его дух, его душа. Нам такое и представить невозможно. Он в трансе.
ТОМАС. В детстве он вел себя странно, спал в поле, а потом приходил и рассказывал о том, как видел белых лошадей и счастливых людей, похожих, наверное, на ангелов. Но с этим я справился. Научил его, как, сделав пару ударов прутом, увидеть за ангелами камни. Меня не возьмешь ни видениями, ни трансом.
ОТЕЦ ДЖОН. У нас, служителей веры, нет права отрицать транс или видения. Они были у святой Елизаветы и у святого Колумсиля. Святая Екатерина из Сиены часто и подолгу лежала, словно мертвая.
ТОМАС. Давно это было, а в наши дни такое не случается. Честным людям приходится много работать, и им не до игр ума. Отчего Мартин Хиарн, мой племянник, впал в транс, пусть будет транс, если он в это время занимался позолотой на льве и единороге и взялся за эту работу, чтобы украсить верх кареты?
ОТЕЦ ДЖОН. (берет в руки деревянных льва и единорога). Похоже, они отправили его в транс. Достаточно сверкания золота, чтобы человек, предрасположенный к отклонениям, впал в транс. Один святой человек – он не принадлежал к нашей Церкви, но написал великую книгу «Mysterium Magnum» – пробыл в трансе семь дней. Истина, открывшаяся ему, пролилась на него, словно сверкающий поток, а ведь он был простым торговцем. Вначале был луч света на оловянной кружке. (Идет к двери и заглядывает в нее.) Он не шевелится. То, что с ним происходит сейчас, может быть и самым прекрасным, и самым ужасным из всего, случающегося с человеком.
ТОМАС. А что такого может быть с человеком, который спит в своей постели?
ОТЕЦ ДЖОН. Я бы сказал так, что для бодрствующих с ним ничего не происходит, но ведь им ничего не ведомо. Он теперь там, куда все уходят за высшей истиной.
ТОМАС (вновь садится и берет в руки инструменты). Что ж, может, оно и так. Однако надо работать, надо делать кареты, а это быстро не получится, если предаваться мечтаниям. Что такое мечты? Тени. И от них никому никакой выгоды. Вот карета – вещь реальная, и она послужит многим поколениям, которые будут пользоваться ею, сколько можно, а потом, может быть, сделают из нее курятник.
ОТЕЦ ДЖОН. Эндрю вроде сказал мне, что этой каретой вы занялись после того, как Мартин рассказал вам о своем сне.
ТОМАС. Во сне ему, кажется, привиделось золото, отчего он захотел сделать что-то золотое, а что лучше для этого, чем карета? Ему все было не с руки, пока он не вложил почти все деньги в эту золотую карету. Но получилось не так плохо, как я ожидал, ведь уже из суда приходили поглядеть на нее, а от судей и адвокатов о ней узнали в Дублинском замке… И потом, ее заказал нам сам лорд-наместник! (Отец Джон кивает.) В конце месяца она должна быть готова и отправлена к нему. Похоже, король Георг собирается в Дублин, и он сам будет ездить в ней.
ОТЕЦ ДЖОН. Знаю, Мартин дни и ночи трудился над ней.
ТОМАС. Такого я еще отродясь не видывал, вправду день и ночь с тех пор, как полгода назад возвратился из Франции.
ОТЕЦ ДЖОН. Никогда не думал, что он будет каретником. Мне казалось, кроме книг, его ничто не интересует.
ТОМАС. Пусть меня благодарит. Любой, кто попадает мне в руки, становится добрым ремесленником, ведь и вещи у меня получаются что надо, будь то карета или коляска, экипаж или повозка, портшез или почтовая карета, колесница на двух колесах или на четырех. У каждой из них форма, которую им придает Томас Хиарн, а форма эта в его руках. И если я могу это делать с железом и деревом, то почему не с плотью и кровью?
ОТЕЦ ДЖОН. Мне известно, Мартин вам многим обязан.
ТОМАС. Всем. Я воспитал его, научил ремеслу, послал в монстырь во Францию, чтобы он выучил французский язык и посмотрел на мир. Но кто мог предвидеть такое, если и вы это не знаете, отец Джон, а я ведь все делал, согласуясь с вашим советом?
ОТЕЦ ДЖОН. Мне казалось, он нуждается в самом лучшем духовном руководстве.
ТОМАС. А я хотел, чтобы он ненадолго уехал отсюда. Слишком тут много не нашедших себе дела парней. Останься он тут, и он мог бы пойти по кривой дорожке, попасть в беду, не дай бог, пойти против правительства, как Джонни Гибонс, ведь он теперь считается преступником и за его голову назначена награда.
ОТЕЦ ДЖОН. Не исключено. Его воображение могло воспламениться, останься он дома. Уж лучше было отослать его к Братьям, чтобы они обратили его к Небесам.
ТОМАС. Скоро он будет настоящим ремесленником, заведет семью, заживет тихо и, может быть, когда-нибудь станет королевским каретником.
ОТЕЦ ДЖОН. (смотрит в окно). Вон Эндрю возвращается от доктора. Остановился. Разговаривает с попрошайками.
ТОМАС. Еще один мой воспитанник. Эндрю не знал узды ни в речах, ни в поведении, был охоч до развлечений и не желал осесть в том месте, где ему довелось родиться. Пришлось прижать его. Сначала оставил его без помощи, чтобы он хлебнул нищеты, а потом приставил к делу. В работе ему с Мартином не сравниться, слишком он любит тратить время на пустые разговоры. И все-таки он многое умеет, да и с покупателями всегда учтив и доброжелателен. Уже лет двадцать, как у меня нет никаких претензий к Эндрю.
Входит Эндрю.
ЭНДРЮ. Попрошайки там идут на Киварскую ярмарку. Говорят, Джонни Гиббонс тайно возвращается из Франции, и королевские солдаты обыскивают все порты.
ТОМАС. Занимайся лучше своими делами. Доктор придет сам или с кем-нибудь пришлет лекарство для Мартина?
ЭНДРЮ. Он не может прийти, потому что его замучил ревматизм. Спрашивал меня, чем лечили Мартина. И у него есть книга, в которой он ищет нужный рецепт, читал мне из нее, но я сказал, что все равно ничего не запомню. Тогда он дал мне книгу, пометив в ней нужные места… Подожди-ка… (Читает.) «Сложные препараты обычно принимают внутрь или используют как примочки; те, что принимаются внутрь, должны быть приготовлены в виде настойки или порошка, а те, что снаружи – в виде мази или отвара, наносимого с помощью губки».
ТОМАС. Почему он ничего не написал? Что толку в книге?
ЭНДРЮ. Наверное, я не то читаю… Вот, это он сам читал… «Лекарства от болезней мозга, головной боли, головокружения, судорог, конвульсий, паралича, кошмаров, апоплексии, эпилепсии».
ТОМАС. Так это я велел, чтобы ты сказал ему об эпилепсии.
ЭНДРЮ (роняет книгу). Ох ты, сколько выпало закладок! Подожди-ка, кое-что я помню из того, что он говорил… Он говорил о пластыре… нет, о нюхательном табаке… А если ничего не поможет, то надо отворить кровь.
ОТЕЦ ДЖОН. Какое это имеет отношение к Мартину? Пустая трата времени.
ЭНДРЮ. Я тоже так подумал, отец. По правде говоря, мне надо было первым делом позвать вас, когда я увидел, как вы спускаетесь с горы, и привести вас сюда, чтобы вы что-нибудь сделали. Мне надо было верить вам, а не доктору. А если бы у вас ничего не вышло, то я сам знаю одно лекарство, слышал о нем от бабушки – упокой, Боже, ее душу! – а она говорила, будто оно ни разу ей не отказало. У больного эпилепсией надо острожно срезать ногти с пальцев и прядь волос с головы, положить на пол, шпилькой засунуть под доски и оставить там. «Эпилептику это уж точно поможет», – говорила она.
ОТЕЦ ДЖОН. (приложив ладонь к уху). Мне пора обратно, обратно пора идти. Но что я должен сделать, то сделаю. Я еще вернусь и еще поборюсь. Все силы приложу, чтобы молитвой вернуть Мартина.
Уходит и закрывает за собой дверь.
ЭНДРЮ. Странный он бывает иногда, наш отец Джон, очень странный. Иногда кажется, будто он совсем ни во что не верит.
ТОМАС. Если тебе нужен священник, почему ты не пошел к нашему приходскому священнику? Он человек здравомыслящий, и его мысли как на ладони. Тебе ведь известно, что епископ недолюбливает отца Джона, если уже много лет держит его в бедном горном приходе, где после последнего голода и выжило-то всего несколько человек. Если такой образованный человек ходит в лохмотьях, значит, на то есть причина.
ЭНДРЮ. Да знал я все, когда его приглашал. Но мне казалось, он сможет сделать больше для Мартина, чем он сделал. Я-то думал, он будет служить мессу а в это время Мартин содрогнется и то ужасное, что поселилось в нем, вылезет и с шумом убежит в открытую дверь.
ТОМАС. А как нам потом жить в нашем доме, ты подумал? Такое сойдет для простого люда. А у нас должна быть хорошая репутация, это наш капитал.
ЭНДРЮ. Если у Мартина дьявольское наваждение, то от него надо избавляться любыми способами. Но, может быть, у мальчика ничего такого нет. Не исключено, он водился за границей с разными компаниями, вот и расшатал свое здоровье. Когда-то и со мной так было.
ТОМАС. Отец Джон говорит, что это похоже на видение или транс, но, по мне, он говорит пустое. Его дело видеть больше, чем видят простые люди, ведь и от меня не укроется трещинка на коже, которую никто другой не приметит.
ЭНДРЮ. Если у него эпилепсия, пусть будет эпилепсия – обыкновенная болезнь, которой наказывали неверующих евреев. Она может поразить одного человека в одной семье и другого – в другой, но не поражает всю семью. Если в семье есть эпилептик, то от остальных требуется лишь не стоять между ним и ветром, или огнем, или водой. А вот ужас-то будет, если это транс, он никого из семьи не обойдет стороной, как холера.
ТОМАС. А я ни в какие трансы не верю. Некоторым людям просто хочется, чтобы о них говорили, как о чуде. Лучше бы они работали поусерднее да не привлекали к себе внимание.
ЭНДРЮ. Чего бы мне не хотелось, так это впасть в транс. Обязательно напишу в завещании, пусть мне в сердце, если я умру без причины, воткнут кол из падуба, чтобы после похорон я лежал как следует и не повернулся лицом вниз. Это ты должен будешь сделать.
ТОМАС. Да хватит тебе, Эндрю, думать о себе, можешь и о деле подумать. Кузнец уже закончил с оглоблями?
ЭНДРЮ. Надо зайти к нему.
ТОМАС. Вот и иди, да посмотри, чтобы все вышло на славу. Оглобли должны быть крепкими да добротными, ведь их придется покрывать золотом.
ЭНДРЮ. И это, и ступеньки, и стеклянные стенки, чтобы люди могли заглядывать внутрь и видеть великолепный атлас, а над всем – лев и единорог. Мартин здорово придумал, жаль, не успел закончить начатое!
ТОМАС. Пожалуй, мне лучше самому сходить к кузнецу. Чтобы все было как надо. А ты пока займись повозкой во дворе, там надо поменять покрышки на колесах – она в самом конце двора. (Они идут к двери.) Ничего там не пропусти и время не теряй, ведь только так и можно делать дело.
Они уходят.
ОТЕЦ ДЖОН. (приносит Мартина). Они ушли, и воздух тут посвежее. Посиди тут немного. Теперь ты совсем очнулся, а ведь ты то ли спал, то ли был в трансе.
МАРТИН. Кто вы? Кто вернул меня обратно?
ОТЕЦ ДЖОН. Я, отец Джон. Долго же мне пришлось молиться, чтобы ты вернулся.
МАРТИН. Отец Джон, зачем вы это сделали? Ах, уйдите, оставьте меня одного!
ОТЕЦ ДЖОН. Ты все еще спишь.
МАРТИН. Я не спал, все было по-настоящему. Неужели вы не чуете запах мятого винограда? Вся комната пропахла им.
ОТЕЦ ДЖОН. Расскажи мне, что ты видел? Где ты был?
МАРТИН. Там были белые кони и белые сияющие всадники. И был один конь без всадника. Кто-то схватил меня и посадил на коня, и мы поскакали наперегонки с ветром, как ветер…
ОТЕЦ ДЖОН. Обычная фантазия. Многие бедняки видят такое.
МАРТИН. Мы скакали и скакали и оказались рядом с пахучим садом. Там были ворота. А вокруг, сколько видно, пшеничные поля и виноградники, какие я видел во Франции, с тяжелыми гроздьями винограда. Я подумал, что нахожусь на Небесах. А потом наши кони превратились в единорогов, которые принялись крушить и топтать виноградники. Я попытался их остановить, но у меня ничего не вышло.
ОТЕЦ ДЖОН. Вот это странно, это странно. Что это может быть? Где-то мне пришлось слышать о monoceros de astri, звездном единороге.
МАРТИН. Они топтали пшеницу, давили ее на камнях, а потом уничтожили, что осталось от виноградников, топтали, ломали, крушили их. Я чуял запах вина, оно лилось отовсюду – но вдруг все стало нечетким. Не помню. Стало тихо. Кони и люди застыли на месте. Мы ждали приказа. А был ли приказ? Мне хотелось услышать его, но кто-то тащил меня, тащил меня прочь. Я уверен, что был приказ и был взрыв хохота. Что это? Что это был за приказ? Вокруг меня все трепетало.
ОТЕЦ ДЖОН. И тогда ты проснулся?
МАРТИН. Как будто нет. Все изменилось – стало ужасным, страшным! Я видел, как топают-топают единороги, но они уже были не в винограднике. Ах, я все забыл! Зачем вы разбудили меня?
ОТЕЦ ДЖОН. Я даже не прикоснулся к тебе. Мне неведомо, чьи руки вытащили тебя обратно. Я молился, вот и все. Правда, я истово молился, чтобы сон покинул тебя. Если бы не мои молитвы, ты, верно, умер бы. Мне неведомо, что все это значит. Единороги – что-то мне говорил французский монах! – означают силу, чистую силу, стремительную, вечную, неугомонную силу.
МАРТИН. Они были сильными. Какой же грохот стоял от их топанья!
ОТЕЦ ДЖОН. А какой смысл в винограднике? Мне приходит на ум псалом: Et calix meus inebrians quam praeclarus est[3]. Странное видение, очень странное видение, очень странное видение.
МАРТИН. Как мне попасть туда опять?
ОТЕЦ ДЖОН. Ты не должен стремиться туда, и не думай об этом. Нет ничего хорошего в жизни с видениями и ожиданиями, в ней больше искушений, чем в обычной жизни. Наверное, тебе было бы лучше остаться в монастыре.
МАРТИН. Там я ничего не видел отчетливо. А тут ко мне видения опять вернулись, ведь тут сияющие люди стояли кругом меня и смеялись, когда я был младенцем в нагрудничке.
ОТЕЦ ДЖОН. Ты не знаешь, а вдруг видение пришло от Царя нашего мира? Никто не знает, если не следует апостольской Церкви. Тебе нужен духовный наставник, и он должен быть ученым человеком. Мне не хватает знаний. Да и кто я? Нищий ссыльный, забывший и то, что когда-то знал. Я и книги-то не беру в руки, так что они все отсырели и покрылись плесенью!
МАРТИН. Пойду-ка я в поле, где ты не сможешь разбудить меня. Еще раз взгляну на тот город. Я услышу приказ. Не могу ждать. Мне надо узнать, что там было, мне надо вспомнить приказ.
ОТЕЦ ДЖОН. (встает между Мартином и дверью). Наберись терпения, подобно нашим святым. У тебя свой путь. Но если приказ был тебе от Господа, жди, пока Он сочтет тебя готовым услышать его.
МАРТИН. Но ведь я могу прожить так и сорок, и пятьдесят лет… постареть, как мои дяди, и не увидеть ничего, кроме обыкновенных вещей, кроме работы… дурацкой работы?
ОТЕЦ ДЖОН. Вон они идут. И мне пора восвояси. Надо подумать и помолиться. Мне неспокойно за тебя. (Обращается к Томасу, когда он и Эндрю входят.) Ну вот, он тут. Постарайтесь быть подобрее к нему, ведь он слаб как младенец. (Уходит.)
ТОМАС. Прошел припадок?
МАРТИН. Это не припадок. Я был далеко – все это время, – нет, вы не поверите, даже если я расскажу.
ЭНДРЮ. Мартин, я поверю тебе. Мне тоже случалось долго спать и видеть очень странные сны.
ТОМАС. Да уж, пока я не вылечил тебя, не взял тебя в руки и не заставил жить по часам. Есть лекарство, которое и тебе поможет, Мартин, разбудит тебя. Отныне тебе придется думать только о твоей золоченой карете, берись за дело и все лишнее выбрось из головы.
МАРТИН. Нет, не сейчас. Мне надо подумать. Я должен вспомнить то, что слышал, что мне было сказано сделать.
ТОМАС. Выбрось это из головы. Если работаешь, то работай, нельзя одновременно думать о двух вещах. Вот в воскресенье или в святой праздник, пожалуйста, делай что хочешь, а в будни, будь добр, чтоб ничего лишнего, иначе можно ставить крест на нашем деле.
МАРТИН. Не думаю, что меня увлекает каретное дело. Не думаю, что мне было приказано делать кареты.
ТОМАС. Поздно говорить об этом, когда ты все, что у тебя есть, вложил в дело. Заканчивай работу, и тогда, может быть, я разрешу тебе отвезти карету в Дублин.
ЭНДРЮ. Вот это да, это будет ему по вкусу. Когда я был молодым, то больше всего на свете хотел побывать в Дублине. Дороги – это здорово, главное, им нет конца. Они все равно что змея, проглотившая свой хвост.
МАРТИН. Нет, я был призван не к путешествиям. Но к чему? К чему?
ТОМАС. Ты призван к тому же, к чему призваны все, у кого нет больших богатств, – к труду. Без труда и жизни бы никакой не было.
МАРТИН. Интересно, так ли уж важно, чтобы эта жизнь продолжалась? Не думаю, что это так уж важно. Как сказал мюнстерский поэт? «Перенаселенный, ненадежный мир, что без колясок ни на шаг». Вряд ли я призван к этой работе.
ЭНДРЮ. Мне тоже лезли в голову такие мысли. Жаль, что семейство Хиарнов вообще должно работать.
ТОМАС. Поднимайся, Мартин, и не повторяй дурацкие слова. Ты задумал золотую карету, ты мне все уши прожужжал ею. Ты сам придумал ее, всю расчертил, не забыл ни об одной мелочи, а теперь, когда конец близок и тебя ждет победа, лошади уже ждут, чтобы везти тебя в Дублинский замок, ты вдруг засыпаешь и потом болтаешь всякий вздор. А нам грозит потеря денег, ведь мы можем и не продать карету. Ну-ка, садись на лавку и принимайся за работу.
МАРТИН (садится). Попробую. Не понимаю, зачем я вообще за нее взялся, всё какой-то дурацкий сон. (Берет колесо.) Какая радость может быть от деревянного колеса? Даже позолота ничего не меняет.
ТОМАС. Начинай. У тебя была какая-то задумка насчет оси, чтобы колесо катилось гладко.
МАРТИН (роняет колесо и хватается за голову). Не получится. (Со злостью.) Зачем вам понадобилось, чтобы священник разбудил меня? Моя душа – это моя душа, и мой разум – мой разум. И где они гуляют – моя забота. У вас нет власти над моими мыслями.
ТОМАС. Нечего так разговаривать со мной. Во главе семейного дела стою я, и, племянник ты или не племянник, я не потерплю, чтобы ты или кто-то другой работал спустя рукава.
МАРТИН. Лучше я пойду. Все равно от меня толку не будет. Я должен – мне надо побыть одному – иначе я забуду, если не буду один. Дай мне, что осталось от моих денег, и я уйду.
ТОМАС (открывает шкаф, достает мешок и бросает его Мартину). Вот все, что осталось от твоих денег! Остальное ты потратил на карету. Если хочешь уйти, уходи, и с этой минуты мне плевать на тебя.
ЭНДРЮ. Послушай меня, ТОМАС. Мальчишка еще дурачится, но скоро это пройдет. Он не в меня, ему твои слова безразличны. Успокойся, оставь его пока, оставь его мне, послушай, я ведь понимаю его.
Он ведет Томаса вон из мастерской, и Мартин со злостью захлопывает за ними дверь, после чего садится и берет в руки льва и единорога.
МАРТИН. Как будто я видел светящееся существо. Что это было?
ЭНДРЮ (открывает дверь и просовывает внутрь голову). Послушай, Мартин.
МАРТИН. Уходи. Не хочу больше разговаривать. Оставь меня одного.
ЭНДРЮ. Да подожди ты. Я понимаю тебя. Томас тебя не понимает, а я понимаю. Разве я не говорил, что когда-то был таким же, как ты?
МАРТИН. Как я? Ты тоже видел то, что не видят другие? То, чего тут нет?
ЭНДРЮ. Видел. В четырех стенах мне плохо. Томас не знает. О нет, он не знает.
МАРТИН. У него не бывает видений.
ЭНДРЮ. Не бывает. В его сердце нет места веселью.
МАРТИН. Он никогда не слышал нездешнюю музыку и нездешний смех.
ЭНДРЮ. Нет. Он не слышит даже мелодию моей флейты. Я прячу ее в соломе, что на крыше.
МАРТИН. С тебя тоже соскальзывает тело, как с меня? Твое окно в вечность открыто?
ЭНДРЮ. Нет такого окна, которое Томас закрыл бы, а я не мог открыть. И ты такой же, как я. Когда я еле двигаюсь по утрам, Томас говорит: «Бедняжка Эндрю стареет». Больше он ничего не хочет знать. Сохранять молодость – значит делать то, что делают молодые. Двадцать лет я ускользал от него, и он ни разу ни о чем не догадался!
МАРТИН. Говорят, это экстаз, но какими словами объяснить, что это значит? Разум как будто освобождается от мыслей. Когда мы облекаем чудо в слова, эти слова так же похожи на чудо, как ежевика на солнце или луну.
ЭНДРЮ. Я понял это в те времена, когда меня считали буяном и все время докучали вопросами, что хорошего я нахожу в картах, женщинах и выпивке.
МАРТИН. Так помоги же мне вспомнить мое видение и разобраться в нем. Я все забыл. Постой, оно возвращается понемногу. Я знаю, что видел топчущихся единорогов, потом появился некто, все время меняющийся и в чем-то сверкающем. Что-то должно было случиться, так мне казалось, или быть сказано, что-то такое, после чего моя жизнь переменилась бы, стала бы сильной и прекрасной, как бег единорогов, а потом, потом…
ГОЛОС ДЖОННИ БОКАЧА (за окном). Бедный я, бедный, нет у меня ни еды, ни работы, ни земли, ни денег, ни друга, ни приятеля, ни надежды, ни здоровья, ни тепла…
ЭНДРЮ (глядит в сторону окна). Те самые попрошайки. Отправляются со своими хитростями и воровством на Кинварскую ярмарку.
МАРТИН (нетерпеливо). Здесь неспокойно… Пойдем в другую комнату. Я пытаюсь вспомнить.
ЭНДРЮ. Вид у них не того. Надо их прогнать, но сначала дам им что-нибудь.
МАРТИН. Прогони их, или пусть они замолчат.
ДРУГОЙ ГОЛОС:
Моей молитвой будет защищен Всяк, кто поможет мне теперь, Его поддержит в среду Рафаил, В четверг накормит Сахиил, Бедою в пятницу займется Хамиил, И Кассиил богатство даст в субботу.Если подадите нам, подадите Самому Богу и укрепите богатство Небес.
ЭНДРЮ. Эй! Он лезет в окно.
Джонни карабкается вверх.
ДЖОННИ. Клянусь своими грехами, тут никого нет.
ПОДИН (снаружи). Прыгай внутрь и посмотри, нельзя ли там что-нибудь взять.
ДЖОННИ (прыгает внутрь). Все мои благословения пусть обратятся в проклятия тем, кто ничего тут не оставил! (Он все переворачивает) Наверно, что-то есть в сундуке, но как его открыть?
Пригнувшись, Эндрю приближается к нему.
НЭННИ (снаружи). Поторопись, хромой краб! Мы не можем стоять тут вечность!
ДЖОННИ (хватает мешок с деньгами и обеими руками поднимает его над головой). Глядите-ка, что я нашел, глядите!
Эндрю подходит сзади и кладет руку ему на плечо.
Мы пропали!
Мешок шумно падает на пол.
МАРТИН (подбегает, хватает его. Головы в окне исчезают). Вот оно! Я вспомнил. Так оно и было. Это приказ. Кто прислал вас сюда?
ДЖОННИ. Несчастье послало меня сюда и голод, трудные пути Господни.
НЭННИ (снаружи). Так оно так, мой бедняжка, мой единственный сыночек. Будь милостив к нему, ведь он лишь сегодня покинул тюрьму.
МАРТИН (обращаясь к Эндрю). Я пытался вспомнить – когда он произнес одно слово, у меня получилось. Я увидел меняющегося некто; он держал сверкающую чашу. (Поднимает руки.) Потом чаша упала и с громким стуком разбилась. И я увидел, как единороги топчут ее. Они разбили наш мир на кусочки – когда я увидел это, то закричал от радости! И услышал приказ: «Разрушай, разрушай, разрушение творит жизнь, разрушай!»
ЭНДРЮ. А с ним что делать? Он же хотел унести твое золото.
МАРТИН. Как я мог забыть или ошибиться? Нет, я все помню. На меня накатило, как волна, как речной поток.
ДЖОННИ (плачет). Голод и жажда привели меня сюда.
МАРТИН. Других посланий у тебя нет? Ты видел единорогов?
ДЖОННИ. Ничего я не видел и ничего не слышал. Я чуть не умер от страха и от тюремных ужасов.
МАРТИН. Надо разрушать все, что стоит между нами и Богом, между нами и блистающей страной. Круши стену, Эндрю, круши все, что между нами! Но с чего начать?…
ЭНДРЮ. О чем ты?
МАРТИН. Этот человек всего лишь начало. Он был послан – бедный, у него ничего нет, поэтому он видит Небо, как мы не можем его видеть. Он и его спутники поймут меня. Но как сделать, чтобы все люди потянулись к нам сердцем и поняли нас?
ДЖОННИ. А ячменный сок на что?
ЭНДРЮ. Ты хочешь возвысить людские сердца? Об этом ты думал все время? Если ты примешь на себя проклятия, я все сделаю. Но ты должен дать мне денег. (Берет мешок.) О, у меня такое же сердце, как у тебя. Мы всех возвысим. К нам отовсюду сбегутся люди. Это будет великий день.
ДЖОННИ. Можно мне пойти с тобой?
МАРТИН. Нет, оставайся тут. Нам нужно о многом подумать и многое сделать.
ДЖОННИ. Мы все погибаем от голода и жажды.
МАРТИН. Так купи себе поесть и выпить, чтобы стать сильным и храбрым. Собери людей. Приведи их сюда. Нам надо совершить нечто великое. Мне надо начать – и я хочу объявить об этом всему свету. Веди сюда всех, всех веди. А я пока приготовлю тут.
Он стоит, глядя вверх, словно в экстазе; Эндрю и Джонни Бокач уходят.
Акт второй
Те же декорации. Мартин расставляет кружки, кладет хлеб и т. д. на стол. Он погружен в свои мысли.
МАРТИН. Входите, входите, все готово. Вот хлеб и мясо, я всем рад.
Не слыша ответ, он оборачивается.
ОТЕЦ ДЖОН. Я вернулся, Мартин. Мне надо кое-что сказать тебе.
МАРТИН. Проходите. Скоро тут будут и другие. Не такие, как вы, но я всех приглашаю.
ОТЕЦ ДЖОН. Мне неожиданно припомнилось кое-что, о чем я читал еще в семинарии.
МАРТИН. У вас усталый вид.
ОТЕЦ ДЖОН. (усаживаясь). Я уже почти подошел к дому, когда вспомнил, и побежал обратно. Это очень важно, ведь там речь шла о таком же трансе. Когда видение приходит с Небес, хоть во сне, хоть не во сне, потом человек помнит все, что видел или слышал. Что-то должно быть, кажется, у святого Фомы. А я знаю, потому что много лет назад читал длинное рассуждение об этом. Но, Мартин, с тобой было другое, скорее, это одержимость или навязчивая идея, когда дьявол входит в тело человека или мрачит его рассудок. Те, которые отдают свое тело вражеской силе, мошенники, ведьмы и им подобные, часто видят то, что происходит в отдалении или должно случиться в будущем, но стоит им очнуться, и они обо всем забывают. Кажется, ты сказал…
МАРТИН. Что ничего не помню.
ОТЕЦ ДЖОН. Нет, что-то ты помнил, но не все. Природа – великая сонливица, и в ее снах обитают опасные злые духи, но Бог выше Природы. Она – тьма, но Он все проясняет, потому что Он – свет.
МАРТИН. Теперь я все вспомнил. По крайней мере, то, что имеет для меня значение. Один бедняк принес мне весть, и теперь я знаю, что должен делать.
ОТЕЦ ДЖОН. А, понятно, весть, вложенную в его уста. Мне приходилось читать о таком. Бог иногда использует обыкновенного человека как вестника.
МАРТИН. Наверняка вы его встретили, ведь он только что ушел отсюда.
ОТЕЦ ДЖОН. Возможно, возможно, так оно и есть. Самого обыкновенного незаметного человека иногда посылают с вестью.
МАРТИН. В моем видении были топчущиеся единороги. Они разрушали наш мир. Я должен быть уничтожен; разрушение – та весть, которую он принес мне.
ОТЕЦ ДЖОН. Разрушение?
МАРТИН. Мы вернем прежнюю благородную жизнь, прежнее блистание.
ОТЕЦ ДЖОН. Ты не первый, кому было дано такое видение. (Поднимается и принимается ходить взад и вперед) Оно давало о себе знать то в одном месте, то в другом, являлось то к одному человеку, то к другому. Это ужасное видение.
МАРТИН. Отец Джон, вы думали о том же.
ОТЕЦ ДЖОН. Люди тогда жили праведной жизнью, и было много святых. Тогда была почтительность, а сейчас лишь работа, да бизнес, да как пожить подольше. Ах, если бы кто мог изменить это все в одночасье, пусть даже войной и силой! Святой Сиаран молился в пещере о возвращении прошлого!
МАРТИН. Не обманывай меня. Вам было веление.
ОТЕЦ ДЖОН. Почему ты спрашиваешь? Ты спрашиваешь меня о таких вещах, о каких известно лишь моему духовнику.
МАРТИН. Мы вместе. Вы и я должны объединить людей.
ОТЕЦ ДЖОН. Я тоже спал, как спал ты, это было давно. И у меня было твое видение.
МАРТИН. И что случилось?
ОТЕЦ ДЖОН. (резко). Ничего, это был конец. Меня послали в дальний приход, где я теперь служу и где нет никого, кого я мог бы повести за собой. С тех пор я там. Мы должны запастись терпением; мир был разрушен водой, и теперь он должен быть истреблен огнем.
МАРТИН. Зачем нам терпение? Чтобы прожить семьдесят лет, чтобы потом пришли другие и тоже прожили семьдесят лет; и так поколение за поколением, а тем временем прежний блеск будет все больше и больше тускнеть.
Снаружи слышится шум. Входит стоявший за дверью Эндрю.
ЭНДРЮ. Мартин говорит правильно и хорошо говорит. Разве это жизнь – строгать доски для телеги или оглоблю? Ну нет. Разве это жизнь, спрашиваю я вас, сидеть за столом и писать письма человеку, который хочет карету, или человеку, который никогда не заплатит за сделанную карету? А тут еще Томас приструнивает: «Эндрю, дорогой Эндрю, как у тебя с покрышкой на колесо?» Разве это жизнь? Это не жизнь. Вот я и спрашиваю всех вас: о чем вы вспомните перед смертью? Сладкую чашу в уголке вдовьей распивочной вы вспомните. Ха, ха, вы только послушайте! Деревенские запомнят это до конца своих дней.
МАРТИН. Почему они кричат? Что ты сказал им?
ЭНДРЮ. Не думай об этом, ведь ты поручил мне сделать храбрыми их сердца, и я сделал. Среди них нет ни одного, у кого голова не горела бы, как бочка со смолой. Что сказал твой приятель-бродяга? Ячменный сок, сказал он.
ОТЕЦ ДЖОН. Проклятый злодей! И ты напоил их!
ЭНДРЮ. Ну нет! Я возвысил их до звезд. Так мне приказал Мартин, и никто не скажет, что я не исполнил его приказ.
Шум за дверью, и Бродяги вталкивают внутрь бочонок. Они кричат: «Ура благородному хозяину!» – и показывают на Эндрю.
ДЖОННИ. Это не он! Вот он!
Показывает на Мартина.
ОТЕЦ ДЖОН. Зачем ты привел сюда это дьявольское отродье? Иди прочь, слышишь? Прочь! И всех забирай с собой!
МАРТИН. Нет, нет, я пригласил их. Нельзя так с ними. Они – мои гости.
ОТЕЦ ДЖОН. Гони их из дома твоего дяди!
МАРТИН. Знаете, отец, будет лучше, если уйдете вы. Возвращайтесь домой. Я исполню веление, а для вас, верно, так лучше, что вы не подчинились ему.
Отец Джон и Мартин выходят.
БИДДИ. Повезло старику, что он не сунулся к нам. Ему кушать надо, но и нам голодать ни к чему! А не то выпотрошили бы его и сшили из его кожи мешки.
НЭННИ. Не слишком ли ты торопишься? Посмотри-ка на себя сначала, у тебя весь кафтан в пятнах, так ты спешил набить карманы! Это ты-то лечишь и предсказываешь судьбу? Голодный пройдоха, вот кто ты!
БИДДИ. А тебя подымут завтра пораньше и поведут на тюремный двор, где твой сыночек топтал землю до сегодняшнего утра!
НЭННИ. У него-то была мать, и он узнал бы меня, коли увидел бы, а твой сын не узнает тебя, даже если встретит на виселице.
ДЖОННИ. Знать-то я тебя знаю, ну и что из того? Что толку мне было шляться с тобой? Что мне доставалось от тебя? Да не видел я от тебя ни днем, ни ночью ничего, кроме твоего вздорного нрава, хотя вечно тащился за тобой, обвешанный твоими мешками.
НЭННИ. Ни дна тебе, ни покрышки! Что ему, видите ли, доставалось от меня! Уж побольше, чем мне доставалось от твоего папаши! Ведь, кроме обид и синяков, я от него ничего не видала.
ДЖОННИ. Так-то оно так, но ведь не бросала же ты его! Всегда ты была вруньей и дурой, такой и останешься даже на краю могилы.
НЭННИ. Вечно я выпрашивала, а потом делилась с тобой, будь ты проклят! Лучше б мне было не знать тебя! Почему не отломала я прут покрепче, чтобы поучить тебя доброте и учтивости, пока ты был еще мал?
ДЖОННИ. Ну вот, теперь о прутьях заговорила! Да не учила ты меня никогда и ничему, кроме воровства, и это с тебя, а не с меня взыщется за мои грехи в Судный день.
ПОДИН. Клянусь честью, у вас лучше получается, чем у Гектора, когда он дрался за свою Трою!
НЭННИ. А ты помолчи! Нам не о драке надо думать, а о том, как набить живот и выспаться вволю. Дай-ка мне немножко табачку набить трубку – может, снимет он с моего сердца усталость от долгой дороги.
Эндрю протягивает ей табак, и Нэнни с жадностью хватает его.
БИДДИ. Мне надо было дать, а не ей. Уже сорок лет, как, закуривая трубку, я не забываю о табачной молитве. А она никогда и не вспоминает ни о чем подобном.
НЭННИ. Смотри не подавись, зарясь на мою долю!
Они не могут поделить табак.
ЭНДРЮ. Ну, ну, ну! Вас хорошо принимают в этом доме, ну и нечего спорить и ругаться. Такие бродяги, как вы, должны смеяться и радоваться жизни. Неужели вы не знаете ни одной песни, которая веселила бы сердца?
ПОДИН. Джонни Бокач хорошо поет. Он всегда пел на ярмарках, да вот в тюрьме охрип немного.
ЭНДРЮ. Ну, так спой хорошую песню, такую, чтоб от нее храбрым стало сердце мужчины.
ДЖОННИ (поет).
Спешите, парни, все ко мне, Послушайте меня, Я курицу тащил с двора, Сержант пальнул в меня. Его помощнички бегом Примчались на подмогу, Связали, словно петуха, Не чую руку-ногу. Судья велел меня сослать, Корабль стоял в порту, Вот, запрягли меня с тех пор Пахать в чужом краю.ЭНДРЮ. Ничего нет хорошего в твоей песне, очень она грустная. Для меня это все равно, что пилить бревно. Вот подождите, я сейчас принесу мою флейту.
Уходит.
ДЖОННИ. Думается мне, здесь не хватает добрых приятелей, а у того, молодого, хватит денег, чтобы приютить нас с нашими пожитками.
ПОДИН. Ты считаешь себя слишком умным, Джонни Бокач. Лучше скажи мне, кто этот человек.
ДЖОННИ. Хороший парень, полагаю, имя которого скоро будут знать на всех дорогах.
ПОДИН. Ты восемь месяцев пробыл в тюрьме и ничего не знаешь о здешних местах. Здешние парни такого хромого бродягу, как ты, не примут к себе. А я знаю. Пару вечеров назад я обдирал козлят для тех ребят, что живут в горах. Это было в каменоломнях за полем – там они обсуждали свои планы. У них на уме дом богатеев на площади. И ты знаешь, кого они ждут?
ДЖОННИ. Откуда мне знать?
ПОДИН (поет).
Ах, Джонни Гиббонс, будь здоров, Пусть далеко за морем ты сейчас!ДЖОННИ (вскакивает). Не может быть, ведь Джонни Гиббонс в бегах!
ПОДИН. Я спросил о нем у старика, с которым мы вместе немножко выпили. «Не задавай вопросов, – сказал он, – и делай, что говорят. Если у парня гордое сердце, у него хватит ума поднять соседей и наложить руку на все, что движется по дороге. Он научился этому во Франции, откуда совсем недавно приехал сюда, а там вино свободно льется по трубам. Лови удачу, – сказал он, – и не медли, а то все раскроется, и тогда уж ничего не будет».
ДЖОННИ. Он приплыл по морю из Франции? Тогда это точно Джонни Гиббонс, но мне показалось, будто его зовут иначе.
ПОДИН. У такого человека может быть сотня имен. Неужели он открылся бы нам, ведь он нас прежде в глаза не видел, да еще при том, что с нами не закрывающие рот женщины? Вот он идет. Погоди и присмотрись, тот ли он человек, о котором я себе думаю.
МАРТИН (входит). Я сделаю флаг, и на нем будет единорог. Дайте-ка мне вон то полотно, а там краска. Мы не будет просить помощь у степенных людей – позовем преступников, лентяев, болтунов, воров.
Принимается за флаг.
БИДДИ. Странное название для армии. Я понимаю – Ленты[4], понимаю Белые Парни, Честные Парни, Молотильщики, Рассвет, но вот об Единорогах что-то не приходилось слышать.
ДЖОННИ. Совсем не странное, а как раз подходящее. (Берет в руки льва и единорога.) В доке такое часто приходится видеть. Вот единорог с одним рогом. А против кого он идет? Против льва конечно же. Когда он победит льва, корона упадет и все закачается. Неужели не понимаешь, что Лига Единорогов – это лига, которая будет сражаться против властей в Англии и короля Георга?
ПОДИН. Мы пойдем под этим флагом, и с нами парни из каменоломни? Неужели его они ждут? Значит, скоро будем брать Квадратный Дом? А там сколько хочешь оружия и богатств хватит на весь мир, целые комнаты забиты гинеями. Мы натрем башмаки воском, а лошадям сделаем серебряные подковы!
МАРТИН (поднимая флаг). Пока нас мало, но армия Единорогов будет большой армией! (Обращается к Джонни.) Почему ты принес весть мне? Ты помнишь еще что-нибудь? Еще что-нибудь было? Ты пил, и облака, мешающие твоему разуму, разошлись… Ты видишь или слышишь что-нибудь неземное?
ДЖОННИ. Нет. Не знаю, что вы хотите от меня услышать.
МАРТИН. Я хочу начать разрушение, но не знаю, откуда начать… Ты слышишь голос?
ДЖОННИ. Нет. Мне нет дела до масонов и ведьм.
ПОДИН. Бидди Лалли колдует. Она часто бросает кружки и говорит, что будет совсем как Колумсиль.
МАРТИН. Ты все знаешь. Скажи, откуда нам лучше начать и чем все закончится?
БИДДИ. Понятия не имею. Давно уж ничем таким не занималась. У меня суставы больные.
МАРТИН. Если ты что-то знаешь, то не имеешь права молчать. Помоги мне, иначе я могу пойти не туда. Мне известно, что я должен разрушать, но, когда я спрашиваю себя, с чего начать, меня берет сомнение.
ПОДИН. Кружки вот, к тому же недопитые.
БИДДИ (берет две кружки и переливает содержимое из одной в другую). Брось белые деньги на четыре стороны.
МАРТИН. Вот! (Бросает монеты.)
БИДДИ. Без серебра ничего не получится. Мне от этого ничего не достанется. Еще и золото придется бросить.
МАРТИН. Вот гинея для тебя. Скажи, что ты видишь.
БИДДИ. О чем ты хочешь узнать?
МАРТИН. С кем я должен сразиться вначале… У меня непомерная задача… Наверное, со всем миром…
БИДДИ (переливает содержимое из одной кружки в другую и смотрит на дно). Ты не думаешь о себе. Ты приехал из-за моря и не очень давно. Впереди тебя ждет лучший день в твоей жизни.
МАРТИН. Что это значит? Что я должен сделать?
БИДДИ. Я вижу много дыма. Пожар… Дым поднимается высоко над головой.
МАРТИН. Значит, мы должны сжечь все из того, что люди соорудили на земле. Они должны начать свою жизнь заново на зеленой пустоши, как это было сразу после Творения.
БИДДИ. Я вижу травки для моих снадобий, большую траву и маленькую травку, а ведь они, точно, берут жизнь из земли.
ДЖОННИ. Кому принадлежала зеленая Ирландия в давние времена? Разве не тем людям, которые жили тут? А кто владеет ею теперь? Те, кто пришли из-за моря. Смысл в том, что надо разрушить большие дома и города, а поля и луга отдать потомкам древней расы.
МАРТИН. Да, да. Ты говоришь другие слова, но это не имеет значения. Впереди битва.
ПОДИН. Вот слова Колумсиль: сначала будут сожжены четыре угла, а потом сгорит середина поля. Я вам говорю, таким было пророчество.
БИДДИ. Я вижу железные наручники, веревку и виселицу, но, наверное, они не для тебя, а для кого-то, хорошо мне знакомого с давних времен.
МАРТИН. Это Закон. Мы должны уничтожить Закон. Вот он – первый грех, первый кусок яблока.
ДЖОННИ. Вот, вот. Теперешний Закон – самое худшее зло. Прежний Закон был всем на пользу, а в Законе англичан один грех.
МАРТИН. Когда не было законов, мужчины воевали друг с другом, а не с машинами, которые делают в городах, как теперь, и они были сильные телом. Они были похожи на Него, Который создал их по Своему подобию, словно еще не было грехопадения. А теперь они хотят спокойной жизни, как будто покой значит больше, чем сердечное веселье, и взгляд у них от страха стал печальным и пристальным. Мы должны победить и уничтожить законы.
ДЖОННИ. Вот и я говорю. Уничтожим законы и выставим вон англичан. Они писали законы для своего блага, а нам ничего не оставили, не больше, чем псу или свинье.
БИДДИ. Я вижу старого священника, одного, в полуразрушенном доме, правда, не скажу, это тот, что был тут, или другой. Чем-то он напуган или расстроен и не находит себе места.
МАРТИН. Так я и думал. Церковь тоже – ее тоже нужно уничтожить. Когда люди боролись со своими страстями и страхами, так называемыми грехами, в одиночку, их души закалялись и крепли. Вот, очистим землю, уничтожим Закон и Церковь, и жизнь станет подобной языку пламени, огненному глазу… О, как мне найти слова… Все, что не настоящая жизнь, исчезнет.
ДЖОННИ. Он говорит о церкви Лютера и о хромой Библии заморского Кальвина. Мы уничтожим ее и положим конец всему.
МАРТИН. Мы выйдем против всего мира и победим его. (Встает.) Мы – армия Звездных Единорогов! Мы разнесем его на кусочки. Мы завоюем мир, мы сожжем его. Отец Джон сказал, что мир уже давно должны были сжечь. Несите огонь.
ЭНДРЮ (обращается к бродягам). Томас идет. Прячьтесь. Вам надо спрятаться.
Все, кроме Мартина, убегают в другую комнату. Входит Томас.
ТОМАС. Мартин, пойдем со мной. В городе творится что-то ужасное! Зло вышло наружу. Происходят непонятные вещи!
МАРТИН. О чем ты говоришь? Что случилось?
ТОМАС. Послушай, надо это остановить. Мы должны позвать всех приличных людей. Похоже, будто сам дьявол промчался тут, как ураган, и пооткрывал все кабаки!
МАРТИН. С чего бы это? Может быть, действует план Эндрю?
ТОМАС. А ты не имеешь никакого отношения к тому, о чем я сказал? В нашем приходе, да и соседских тоже, не осталось ни одного человека, который бы не бросил свою работу, будь то в поле или на мельнице.
МАРТИН. Никто больше не работает? А неплохо Эндрю сообразил.
ТОМАС. Нет ни одного мужчины, который не напился или не собирается напиться! Мои собственные рабочие, да и продавцы тоже, сидят без дела на прилавках и бочках! Клянусь, от тамошней вони, криков и здравиц у меня волосы стали дыбом на голове!
МАРТИН. И все они готовы запрячь все четыре ветра!
ТОМАС (в отчаянии садится). Ты тоже напился. Вот уж никогда не думал, что и тебе это нравится.
МАРТИН. Ты не понимаешь, потому что всю жизнь работал. Ты говорил себе каждое утро: «Что я должен сегодня сделать?» А когда уставал от работы, то думал о том, что будешь делать завтра. Если же давал себе поблажку на часок, потом старался наверстать упущенное. Нет, лишь бросив работу, человек начинает жить.
ТОМАС. Все это от французских вин.
МАРТИН. Я побывал за пределами земли. В Раю, в тамошних счастливых местах, я видел сияющих людей. Они все чем-то занимались, но ни один из них не трудился. Собственно, они так отдыхали, и все их дни заполнены танцем, рожденным тайным неистовством их сердец, или битвой, в которой мечи скрещиваются с шумом, похожим на смех.
ТОМАС. Ты был трезвым, когда мы расстались. Почему никто не присмотрел за тобой?
МАРТИН. Человек не живет, ведь Рай – это бьющая ключом жизнь, если то, к чему он днем прикладывает руки, не ведет его от восторга к восторгу и если в ночной тиши он не возвышается до безрассудных размышлений. То, что получаешь без радости, не получаешь вовсе и лишь омрачаешь этим жизнь, а радость может быть радостью, лишь если тысяча лет кажется мгновением.
ТОМАС. И я-то хотел послать тебя с каретой в Дублин!
МАРТИН (подает флаг Подину). Дай мне лампу. Мы еще не зажгли свет, а мир пора уничтожить!
Идет в дом.
ТОМАС (замечает Эндрю). И ты здесь? А что тут делают бродяги? Почему дверь открыта? Почему ты не следишь за порядком? Я иду за полицейскими!
ЭНДРЮ. Их теперь не найти. Они ведь тоже разбрелись по кабакам, да и почему бы нет?
ТОМАС. И ты напился? Да ты еще хуже Мартина. Позоришь меня!
ЭНДРЮ. Позорю тебя! Ты пришел сюда, чтобы обижать меня, изводить меня, унижать меня! А как насчет того, что это ты сделал из меня ханжу и лицемера?
ТОМАС. О чем ты говоришь?
ЭНДРЮ. Говорю как есть! Разве не ты всегда внушал мне, что я должен быть как все, и работать, и день и ночь обходиться без друзей, и думать лишь о нашем деле? А что мне это дело? Один раз мне привиделось золото фей в горах. Надо было пойти отыскать его и стать богатым, но ведь ты не давал мне шагу ступить.
ТОМАС. Ну и неблагодарное ты существо! Ведь тебе отлично известно, что я заботился о тебе, учил тебя жить честно и достойно.
ЭНДРЮ. Тебе всегда было плевать на старину. Ты пошел в нашу мать, она была слишком мягкой и слишком глупой, и у нее было слишком много английского в крови. А вот Мартин, как я, настоящий Хирн. У него щедрая душа! Мартин не стал бы делать из меня лицемера, чтобы я втайне убегал по ночам и боялся, как бы не прозевать заход Большой Медведицы.
Начинает играть на флейте.
ТОМАС. Вам это так не сойдет с рук, ни тебе, ни твоим грязным бродягам! Я засажу их в тюрьму.
ДЖОННИ. Это я грязный бродяга? Да ты на себя посмотри! Скоро все переменится. У бродяг будет все, а у таких, как ты, ничего.
Все хватают Томаса и поют. Лев слабым станет наконец, И с ним колючая сосна, Но арфу вновь возьмет певец И сладко запоет она.ТОМАС. Отпустите меня, негодяи!
НЭННИ. Старый обманщик, мы сделаем из тебя решето!
БИДДИ. Здорово ты пригрозил нам тюрьмой, да толку от тебя, как от снятого молока ласки.
ДЖОННИ. Мешок болезней! Чертов палач! Ты не умрешь, пока синяя карга не станет твоей женой!
Возвращается МАРТИН с зажженной лампой.
МАРТИН. Отпустите его. (Они отпускают Томаса и отступают.) Разверните флаг. Наступило время начать войну.
ДЖОННИ. Вперед с Единорогом! Убьем Льва! Да здравствует Джонни Гиббонс и все веселые ребята!
МАРТИН. Соберите тут всё в одну кучу. Положите куски кареты один на другой. А вниз подсуньте солому. Этим пожаром я начну разрушение. Природа будет все крушить и смеяться.
ТОМАС. Сначала разбей свою золотую карету!
МАРТИН (опускается перед Томасом на колени). Мне не нравится идти путем, который ты не одобряешь, и не нравится делать вещи, которые ты не одобряешь. Еще когда я был ребенком, я доставлял тебе много хлопот, а теперь и подавно. Но это не моя вина. Я избран. (Поднимается.) Сначала мне нужно освободиться самому и освободить тех, кто мне ближе других. Любовь Бога тяжелая ноша! (Томас пытается остановить его, но ему мешают Бродяги. Мартин берет в руки пучок соломы и поджигает его) Мы уничтожим все, что можно уничтожить! Лишь душа не узнает боли. Душа человека – бессмертная частица звезд!
Он бросает зажженную солому в кучу вещей – и она загорается.
Акт третий
Рассвет еще не наступил. Дикое место в горах. Нэнни и Бидди Лалли сидят на корточках возле костра, вокруг разбросаны дорогие вещи. ПОДИН сидит рядом с Мартином, который лежит, как мертвый, накрытый мешком.
НЭННИ (обращается к Подину). Ну вот, вы – великие герои, великие воины, великие мужи – победили богатеев, вы и крестьяне из каменоломни[5]. Обшарили весь дом и награбили на славу! Смотрите-ка, сколько я унесла шелков, да атласов, да всяких других богатств! А на это посмотрите! (Она показывает бархатное платье) Из него выйдет шикарная жакетка. На ярмарке певцы умолкнут и торговцы забудут о своем скоте, заглядевшись на ленточки и пуговички! Вся моя родня сбежится теперь!
БИДДИ. А золота там было совсем не так много, как говорили. Или ребята из каменоломни опередили нас. Чтоб им пусто было! Это они подбили меня набрать целый мешок подков в кузнице. Сказали, будто они серебряные, из чистого белого серебра, а оказалось, это обыкновенное железо! Чтоб им пусто было! (Отпихивает мешок) Когда я в другой раз пойду грабить большой дом, то уж прослежу, чтобы луна меня не обманула, а то все сияло, словно золото и серебро. А сейчас не сияет совсем.
НЭННИ. А уж какой после нас пожар разгорелся, и вовсе не сказать! От двух домов в одну ночь лишь кучка пепла осталась. Наверняка все служанки на семь миль в округе вскочили со своих постелей и петухи запели зарю, решив, что уже наступил рассвет.
БИДДИ. Благодари вот этого парня, который лежит тут. Никогда еще не бывало такого смелого вожака. Он разбросал сторожей и с факелом в руке побежал по лестницам и крышам, так что можно было подумать, что еще немного и он коснется головой звезд.
НЭННИ. Мне казалось, будто я вижу рядом с ним смерть. А как у него сверкали глаза, и искры летели на восток и на запад. Наверное, его ранили там или один из тамошних парней незаметно стукнул его по голове в пылу драки? Я нашла его, когда парней из каменоломни и след простыл, он лежал возле стены такой слабый, словно сдвинул с места гору. Сколько я ни царапала его, он не просыпался, а когда я подняла его голову, она упала, и мне стало понятно, что в нем нет жизни и он уже не с нами.
БИДДИ. Жаль, ты не оставила его там, где он лежал, и ничего не сказала Подину или своему сыну, так что нам пришлось одним тащить его сюда на носилках из палок и мешков.
НЭННИ. Как же мне было кричать, если он успокоился в темноте и ни одной живой христианской души не было рядом с ним, разве лишь я да Господь Бог?
БИДДИ. На нас падет месть красных солдат, когда они отыщут нас тут, словно пугливых зайцев. Лучше бы нам не отрываться от крестьянских парней.
НЭННИ. Тихо ты! Все с ума посходили из-за него. Если кто услышит, что мы бросили его, не сносить нам головы. Ш-ш-ш!
Входит Джонни Бокач со свечами.
ДЖОННИ (встает рядом с Мартином). Что за зло или зараза такая у нас в воздухе, что погибают один за другим все ирландские герои?
ПОДИН. Хочешь не хочешь, задумаешься о четырех вещах, что нас ждут напоследок, о смерти и Судном дне, о Рае и Аде. Клянусь, сердцем я с ним. Это хорошо, что мне пришлось узнать, какой человек скрывается под его именем и обличьем. (Поет.)
О Джонни Гиббонс, наш герой, Кому оставил ты детей своих?ДЖОННИ. Теперь мы сироты до конца наших дней. Отныне нам не будет покоя, если мы не станем убивать англичан, но где нам взять похожего на него вождя? Давайте положим его, как полагается, на камень, и я оплачу его! (Ставит свечи, подпирая их камнями.)
НЭННИ. Джонни Бокач, ты принес дорогие свечи, чтобы поставить тут? Видно, у тебя густо в карманах, если ты позволяешь себе такую роскошь и не довольствуешься макаными свечами?
ДЖОННИ. Вряд ли я сделаю такое, когда жизнь покинет твое тело. Тебя мне ни к чему провожать с таким почетом, как его.
НЭННИ. Что ж, в доме всегда тихо и грустно, когда умирает кто-то молодой, но много насмешек, и розыгрышей, и беготни, когда умирают старик или СТАРУХА. Стариков никто не жалеет.
ПОДИН. Он должен был сделать ирландцев достойными их предков. Верьте мне, это о нем говорилось во всех пророчествах. Так что не сравнивайте себя с ним.
НЭННИ. Почему это не сравнивать? Ты только подумай, сколько всего мне пришлось преодолеть в этом мире. Какое уж тут сравнение с ним, ведь его сразу вознесли до небес, а он только и сделал, что умер и отправился в рай.
ДЖОННИ. Если ты и отправишься на небеса, то не вернуться тебе оттуда живой! Да нет, ни за что не услыхать тебе, как поют ангелы! Будешь тысячу лет тащить на себе цепи в обличье пса или чудовища. Говорю тебе: он одолеет чистилище быстрее, чем молния – терновый куст.
НЭННИ. Ага, ага. (Вполголоса напевает.)
Следят, чтоб умерла я в срок, Червяк, да дьявол, да сынок, А я порадуюсь, когда Затянет шею им петля!ДЖОННИ. Пять белых свечей. Мне не жалко их для него. Если бы он очнулся и встал живой, то обязательно освободил бы Ирландию!
ПОДИН. Подожди, вот наступит день, и ты посмотришь, как его похоронят. Мы не оставим его здесь. Я кликну двести парней из Ленточников[6], которых он должен был повести на бараки в Оганише. Они отнесут его тело на гору, где будет его могила. Он владел нездешним даром, не знаю уж как, но ему была дана сила, неведомая смертным.
ЭНДРЮ (входит, дрожа). Он подарил нашему селению великую ночь, и ее нескоро тут забудут. Все ополчились против него, это я вам говорю. Сегодня утром никто не запустил мельничный жернов. Ночью никто не пек хлеб. Лошади не кормлены в стойлах, коровы не доены в коровниках. Я не встретил ни одного человека, который имел бы смелость проклясть сегодняшнюю ночь и не проклял бы меня и мальчика, лежащего тут… Есть ли в нем хоть какие-нибудь признаки жизни?
ДЖОННИ. Какие признаки жизни, если жизнь ушла из него уже три часа назад, а то и поболе?
ЭНДРЮ. Вчера он тоже так лежал, а потом взял и проснулся.
НЭННИ. Теперь он не проснется, я-то знаю. Я держала его руку в своей, и его рука холодела, как будто на нее лили холодную воду, и кровь не бежит у него по жилам. Он ушел, это точно, жизнь покинула его.
ЭНДРЮ. Может быть, может быть. Вчера у него щеки были как будто розовые, а сегодня серые, как пепел. Что ж, рано или поздно мы все уйдем. Я любил тебя, белоголовый мальчик, ты возвышался над всеми нами, и вот погублен в самом расцвете. Ты был нежным и искренним, и все любили тебя. У тебя было такое сердце, что ты все отдавал людям и ничего не требовал взамен. Ты сам устроил себе отличные поминки, в одну ночь растратив все, что имел, на пиво и вино для всей округи. Наверное, ты будешь сидеть посреди Рая между Блаженными!
ДЖОННИ. Аминь. Жаль, я не подумал, когда послал за тобой мальчишку, чтобы он позвал священника. В конце нас всегда ждет Всемогущий.
ЭНДРЮ. Я послал его. Живой он или мертвый, я хочу сделать все возможное для лучшего из моего народа и моего поколения.
БИДДИ (вскакивает). Ты приведешь сюда священника? Зачем? Разве мы мало потратились на свечи и все остальное?
ДЖОННИ. Если это тот нищий священник, который непонятно о чем говорил с покойным, похоже, он ничего не потребует за труды. У нас многие священники прячут в груди мятежное сердце.
НЭННИ. Говорю тебе, если ты ни о чем с ним не договорился, он и «Отче Наш» не скажет, пока не увидит полкроны у тебя в руке.
БИДДИ. Нет такого священника, который не был бы грешником. Вот если он любит выпить, то не побоится никаких неприятностей. Он из всего вывернется, как рыбий косяк всегда пройдет сквозь водоросли. Лучше не сердить священника, не противоречить никому из них.
НЭННИ. Не ты ли смирил себя перед священником, стоило тебе заболеть за решеткой и подумать, будто ты умираешь, и разве не приказал он, чтобы ты забыл о вине?
БИДДИ. А, я обманул его. Выздоровел и опять гуляю по дорогам.
НЭННИ. Да ты всех обманываешь, и себя тоже. Не ты ли еще вчера говорил покойнику, что его ждет лучший день в его жизни?
ДЖОННИ. Тихо, вы. Идет священник.
Входит Отец Джон.
ОТЕЦ ДЖОН. Не может быть, чтобы он умер.
ДЖОННИ. Его душа покинула тело около полуночи, и мы принесли его сюда, в укромное место. Пришлось разлучить его с друзьями.
ОТЕЦ ДЖОН. Где он?
ДЖОННИ (берет мешки). Лежит вон там весь холодный и неподвижный. У него очень спокойное лицо, словно он совсем не знал греха и ему не о чем было волноваться.
ОТЕЦ ДЖОН. (опускается на колени и трогает его). Он не умер.
БИДДИ (показывает на Нэнни). Он умер. Если бы он не умер, то он не позволил бы ей обшарить свои карманы и ограбить себя, а она это сделала.
ОТЕЦ ДЖОН. Это похоже на смерть, но все же это не смерть. Он в трансе.
ПОДИН. Откуда же, из рая или из ада, он принесет нам, когда вернется, весть о муках грешников?
БИДДИ. Я и сам думал, что он где-то далеко катается на белых лошадях вместе с другими вольными всадниками.
ДЖОННИ. Он расскажет нам о великих чудесах, когда поднимется со своего каменного ложа. Жаль, на этот раз ему не повести нас против англичан. Ведь те, которые в трансе, обретают новые силы и могут ходить по воде.
ЭНДРЮ. Отец Джон разбудил его вчера, когда он лежал неподвижно, в точности как сейчас. Разве я не говорил вам, зачем позвал его теперь?
БИДДИ. Разбуди его, и пусть они узнают, что в моем предсказании не было вранья. Приметы сказали мне, что ему предстоит лучший день в его жизни.
ПОДИН. Не умер! Через неделю мы пойдем маршем на Дублин. Протрубит рог, и все добрые парни придут к нему. Скорее, отец, будите его.
ОТЕЦ ДЖОН. Я не сделаю это. Незачем возвращать его оттуда, где он теперь.
ДЖОННИ. А сам он когда проснется?
ОТЕЦ ДЖОН. Может быть, сегодня, может быть, завтра, трудно сказать наверняка.
БИДДИ. Если он где-то далеко, то может пробыть там и семь лет. Будет лежать себе, как бревно, не есть и не пить, и никто во всем мире не добьется от него ни слова. Знаю, такое бывает.
ДЖОННИ. Но нам-то нельзя сидеть тут и ждать семь лет. Если начало положено, надо действовать, и немедленно. Мы не можем терять время, потому что правительство успеет собрать нужную информацию. Разбудите его, отец, и многие поколения ирландцев будут благословлять вас.
ОТЕЦ ДЖОН. Я отказываюсь будить его. Господь сам вернет его, когда Ему заблагорассудится. Насколько мне ведомо, он зрит сейчас Божественные тайны.
ДЖОННИ. Но ведь он может навсегда уйти в свой сон. Лучше разбудить его теперь же.
ЭНДРЮ. Разбудите его, отец Джон, ведь я думал, будто он на самом деле умер, и как мне теперь смотреть на Томаса после того, что я наговорил ему? И если бы не эта странная ночь, я бы всю жизнь не знал ничего, кроме одиночества. Всему миру известно, что я пил не из любви к вину, а из любви к людям, которые были со мной! Разбудите его, отец, или я сам разбужу его.
Трясет его.
ОТЕЦ ДЖОН. Не трогай его. Предоставь его самому себе и Господу Богу.
ДЖОННИ. Если вы не хотите разбудить его, то почему бы это не сделать нам? Давайте, для вас же так будет лучше.
ОТЕЦ ДЖОН. Когда я разбудил его вчера, он разозлился. Потому что не хотел подчиняться моему приказу.
ДЖОННИ. Вам, может, и не хотел, а мне подчинился с удовольствием, и весть принял от меня.
ОТЕЦ ДЖОН. Да уж… принял… но откуда мне знать, что не дьявольская весть послала его на дьявольский путь разрушения, пьянства и поджога? Не Бог послал ему эту весть! Я разбудил его, и я помешал ему услышать то, что, возможно, было священным посланием, голосом правды, поэтому, услышав тебя, он поверил в принесенную тобой весть. Ты солгал и воспользовался его ошибкой – ты оставил его без дома и без средств к существованию, а теперь ты изо всех сил стараешься довести свое злое дело до конца. Я не буду помогать тебе. Ему лучше умереть в трансе и предать себя в Божьи руки, чем проснуться и отправиться прямо в ад с такими, как ты, бродягами и преступниками!
ДЖОННИ (поворачивается к Бидди). Ты должна знать, Бидди Лалли, как вернуть такого человека.
БИДДИ. Во власти земли сделать это с помощью трав, а во власти неба – обратив огонь в пламя.
ДЖОННИ. Подымайся, не медли. Иди и нарви травы, которая вернет его, где бы он теперь ни был.
БИДДИ. Какой толк в травах, если у него стиснуты зубы?
ДЖОННИ. Тогда пусть будет огонь, дьявольское пламя, пусть он подогреет ему пятки.
Берет горящую ветку из костра.
ОТЕЦ ДЖОН. Говорю тебе, оставь его в покое!
Отшвыривает ветку.
ДЖОННИ. Не оставлю! Я не позволю ему лежать тут, когда вся страна ждет его!
ОТЕЦ ДЖОН. Я же говорю, что уже будил его! Это я отдал его ворам! И больше я не буду его будить, пусть зло подождет, когда он проснется сам, вот так! Не смейте трогать меня! Вы не можете! Вы не имеете права касаться меня против моей воли!
БИДДИ. Знаешь что, не подводи нас под церковное проклятие.
Джонни отступает. Мартин шевелится.
ОТЕЦ ДЖОН. Господь позаботился о нем. Это Он разбудил его. (Мартин приподнимается и опирается на локоть.) Не трогайте его и не говорите с ним, возможно, он внимает великим тайнам.
МАРТИН. Музыка. Я должен подойти поближе – прекрасная звучная музыка – она громче топанья единорогов; намного громче, хотя горы дрожали, когда они топали. Высокая радостная музыка.
ОТЕЦ ДЖОН. Тише! Он слушает музыку небес!
МАРТИН. Музыканты, где бы вы ни были, возьмите меня к себе! Я приду к вам; ведь я уже слышу вас лучше, а вы играете все радостнее и радостнее; как странно это, очень странно.
ОТЕЦ ДЖОН. Ему открывается какая-то тайна.
МАРТИН. Это райская музыка, правда, кто-то говорил мне об этом. Конечно же это райская музыка. Ах, я слышу, я понимаю. Она состоит из безостановочного звона мечей!
ДЖОННИ. Лучше музыки не может быть. У нас они зазвенят. Мы пойдем с мечами и кирками против штыков красных солдат. Хорошо, что ты восстал из мертвых, чтобы повести нас в бой! Идем же, ну, идем!
МАРТИН. Кто ты? А, помню. Куда же ты хочешь, чтобы я пошел?
ДЖОННИ. Конечно же брать казармы в Оганише. Надо продолжать то, что ты начал этой ночью.
МАРТИН. А что я начал ночью? Ах да, вспоминаю – большой дом – мы сожгли его – но я не понял видения, когда делал это. Я неправильно понял приказ. Не для этого я был послан сюда.
ПОДИН. Встань и скажи, что нам делать. Одно твое имя расчистит перед тобой дорогу. Ты освободишь Ирландию, прежде чем сено будет сметано в копны!
МАРТИН. Послушайте, я всё объясню. Я не туда повел вас. Лишь теперь видение было явлено мне до конца. Пока я лежал тут, мне все стало понятно. Мы обезумели, когда пошли жечь и громить. Что мне делать с чужой армией? Мое дело проникнуть в неведомое сердце времени. Мое дело не реформировать, а открывать.
ДЖОННИ. Если ты хочешь оставить нас теперь, то чем ты лучше предателя, взявшегося за гуж и на полпути объявившего, что он не дюж. Пойди и посмотри в глаза двум сотням мужчин, которых ты вчера повел против власти закона, и расскажи им, почему ты собираешься их бросить.
МАРТИН. Я ошибался, когда пошел против Церкви и закона. Битва, которая нам предстоит, будет в наших головах. Сейчас решительный момент, наверное, такой бывает раз в жизни, и лишь сейчас мы понимаем, что самое главное. В такие моменты выигрываются или проигрываются сражения, потому что в такие мгновения мы принадлежим воинству небесному.
ПОДИН. Неужели ты предаешь нас, как голый висельник, несмотря на все свои обещания и дармовую выпивку? Если ты привел нас сюда, чтобы обмануть нас или изменить нам, считай, что это последний день в твоей жизни!
ДЖОННИ. Проклинаю тебя от всего сердца! Будет только справедливо отправить тебя в ад к изменникам и предателям. Когда я убью тебя, то буду радоваться, идя на виселицу, как если бы я шел домой!
МАРТИН. Отец Джон, отец Джон, вы хоть слышите? И не видите? Неужели вы ослепли? Неужели оглохли?
ОТЕЦ ДЖОН. Что? Что?
МАРТИН. Вон там топчет гору тысяча белых единорогов, тысяча всадников с обнаженными мечами – слышите, как звенят мечи? О, этот звон мечей, звон скрещенных мечей!
Он медленно покидает сцену. Джонни поднимает камень и бросает ему в спину.
ОТЕЦ ДЖОН. (хватает его за руку). Остановись! Не видишь, он уже не здесь?
БИДДИ. Не трогай его, Джонни Бокач. Если он повредился в уме, это дело обычное. У тех, которых силком выводят из транса, с головой всегда не в порядке.
ПОДИН. Если он сошел с ума, то ему самому ни за что не придется расплачиваться.
БИДДИ. Он уже поплатился мозгами. Некоторые в этом состоянии поднимаются высоко и обретают неземную власть. Наверно, он пошел в какое-нибудь тайное место, чтобы получить знание о том, как лечить наш мир, или о том, где в давние времена был спрятан Плуг, Золотой Плуг.
ПОДИН. Похоже, речи у него теперь стали медовые. И глядел он так, как будто ему привиделись великие чудеса. А не пошел ли он к ирландским героям давних времен, чтобы звать их на помощь?
ОТЕЦ ДЖОН. Господь позаботится о нем и охранит его от злых духов и всех заблуждений.
ДЖОННИ. Отец, у нас тут есть свечи. Мы собирались поставить их возле него. Может быть, они прогонят зло отсюда?
ПОДИН. Зажигай свечи, а он помолится о нем, как сделал бы это в своей чистенькой церкви.
Зажигают свечи. Входит Томас.
ТОМАС. Где он? Мне надо предупредить его. Всем уже известно о ночном нападении. Его ищут солдаты и полицейские… двое уже близко… другие всюду… им стало известно, что он на этой горе… где он?
ОТЕЦ ДЖОН. Он ушел.
ТОМАС. Так бегите за ним! Скажите, чтобы он спрятался. Такое нападение, какое он учинил, карается виселицей. Скажите ему, чтобы он спрятался, а когда все стихнет, пришел ко мне… Что бы он ни натворил, я не брошу сына моего брата в беде. Как-нибудь устрою его на корабль, и пусть он плывет во Францию.
ОТЕЦ ДЖОН. Так будет лучше всего. Отправьте его в монастырь, пусть им займутся мудрые епископы. Им по силам распутать этот узел. А я не могу. Мне неведома истина.
ТОМАС. Вот и полицейские. Он увидит их и спрячется. Ничего не говорите. Слава Богу, что его тут нет.
Входят Полицейские.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Где тот парень, которого мы ищем? Люди видели, как он шел сюда вместе с вами. Вы должны отдать его в руки правосудия.
ДЖОННИ. Мы не предадим его. Уходите отсюда, не то пожалеете.
ПОДИН. Мы не боимся ни вас, ни вам подобных.
БИДДИ. Сбросим их с горы!
НЭННИ. Отдадим их воронью!
ВСЕ. Долой правосудие!
ОТЕЦ ДЖОН. Замолчите! Он возвращается. (Обращается к полицейским.) Стойте, стойте – не трогайте его. Он же не убегает, наоборот, сам идет к вам.
ПОДИН. Как же он весь светится! Я неправ, его нельзя называть предателем. Он не из нашего мира. Его место не с нами.
МАРТИН (стоит рядом с горой, на которой зажжены свечи). Et calix meus inebrians quam praeclarus est!
ОТЕЦ ДЖОН. Я должен знать, что он говорит, ведь это не его слова.
МАРТИН. Отец Джон, рай не там, куда мы привыкли его помещать. Там нет покоя, нет музыки, нет пения, но есть битва. Я видел его, я был там. Влюбленный там любит, но с еще большей страстью, всадник скачет на коне, но конь летит, как ветер, и прыгает со скалы на скалу, и везде дерутся, дерутся. В нескончаемой битве радость небес. Я думал, что битва здесь и радость тоже здесь, на земле, и все, что нужно сделать, – это вернуть прежний вольный мир наших сказаний, но нет, это не здесь; нам не дана такая радость и такая битва, пока мы не избавимся от наших чувств, от всего, что можно увидеть и потрогать, вот, как я гашу свечу. (Гасит свечу) Нашего мира не должно быть, как нет этой свечи. (Гасит другую свечу) Мы должны погасить звезды, и солнце, и луну (гасит остальные свечи), пока мы вновь не превратим все в пустоту. Прежде у меня было неправильное видение, но теперь я все понял. Где нет ничего, где нет ничего – там Бог!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Он пойдет с нами!
ДЖОННИ. Мы не отдадим его правосудию!
ПОДИН. Беги! Не бойся погони.
Они дерутся с полицейскими; женщины помогают им; все, не прекращая драки, покидают сцену. Потом слышится выстрел. Мартин шатается и падает. С криками вбегают бродяги.
ДЖОННИ. Мы с ними расправились, больше они не придут за тобой.
ПОДИН. Он лежит на земле!
ОТЕЦ ДЖОН. Ему выстрелили в грудь. Ах, кто же посмел погубить душу, которая в волнении стояла на пороге святости?
ДЖОННИ. Это я выстрелил из ружья, которое было в руках полицейского.
МАРТИН (смотрит на окровавленную руку). Кровь! Я упал на камни. Трудным будет восхождение. Долгим будет восхождение в виноградник Эдема. Помогите. Мне пора. Гора Абьегнос очень высокая… но виноградники… виноградники!
Он опять падает и умирает. Мужчины обнажают головы.
ПОДИН (обращаясь к Бидди). Это ты напророчила ему лучший день в его жизни.
ДЖОННИ. Был он сумасшедшим или не был, а я не оставлю его тело стражам порядка, чтобы они зарыли его, как собаку, или бросили непогребенным, или повесили на дереве. Поднимем его на мешках и отнесем в каменоломню. Там мы похороним его с почестями, когда прискачут туда парни на конях с красными веревками в руках.
Нэнни накрывает Мартина бархатным плащом. Они поднимают его и уносят с пением:
Надежда наша умерла, и на душе темно, Наш вождь оставил нас, и что мы без него?ОТЕЦ ДЖОН. Он ушел, и теперь мы не узнаем, откуда ему было видение. Я уж точно не узнаю, но вот мудрые епископы…
ТОМАС (берет в руки флаг). Всю жизнь я воспитывал парня, а он пошел своей дорогой, непонятной дорогой. Не понимаю я этот мир, каким бы ни сотворил его Господь.
ЭНДРЮ. Беда всегда приходит к тем, кто слишком глуп или слишком умен. Держите про себя, что знаете, и втайне делайте, что хотите. Если вы это запомните, то во всем мире будет тишь да благодать.
КОНЕЦ
Актриса-Королева 1922
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Десима.
Септимус.
Нона.
Королева.
Премьер-министр.
Епископ.
Режиссер.
Буфетчик.
Старый попрошайка.
Старики, Старухи, Горожане,
Крестьяне, Актеры и т. д.
Сцена I: Перекресток трех улиц
Сцена II: Тронная зала
Сцена I
Трехсторонний перекресток. Открытое пространство. Одна из улиц просматривается довольно далеко, она поворачивает, и видна голая стена, освещенная фонарем. На фоне этой стены видны головы и плечи двух Стариков. Они высовываются из верхних окон домов, стоящих напротив друг друга по обе стороны улицы. На них шаржированные маски. Немного ближе к одной из сторон сцены большой камень, с которого садятся на коня. На дверях дверные молотки.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Видишь королевский замок? У тебя глаза получше.
ВТОРОЙ СТАРИК. Только то, что над крышами домов, ведь он стоит на горе.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Уже светает? Башню видишь?
ВТОРОЙ СТАРИК. Башню-то вижу, а вот наши узкие улицы еще долго будут темными. (Пауза.) А ты слышишь что-нибудь? У тебя-то слух получше.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Нет. Все тихо.
ВТОРОЙ СТАРИК. Человек пятьдесят прошло час назад, целая толпа, и шли они торопко.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Ночью было тихо, ни шепотка, ни вздоха.
ВТОРОЙ СТАРИК. И видно никого не было, кроме старого пса буфетчика, который только что вылез из мастерской бочара Малачи.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Тихо. Я слышу шаги людей. Их много. Наверно, идут сюда. (Пауза.) Нет, пошли другой дорогой. Миновало.
ВТОРОЙ СТАРИК. Молодые задумали какое-то озорство – и молодые, и немолодые.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Почему им не лежится в постели? Почему им не поспать семь часов, восемь? Хорошо было, когда я мог спать восемь часов. И они тоже узнают цену сну, когда им стукнет почти девяносто.
ВТОРОЙ СТАРИК. Им так долго не прожить. У них нет нашего здоровья и нашей силы. Они быстро изнашиваются. Все время о чем-то волнуются.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Тихо! Я опять слышу шаги. Они приближаются. Лучше нам убраться. Мир стал злым, и никогда не знаешь, что тебе сделают или скажут.
ВТОРОЙ СТАРИК. Да. Надо закрыть окна и сделать вид, будто мы спим.
Головы стариков исчезают. Вдалеке слышен удар дверного молотка, потом все тихо, потом удар слышен совсем близко. Опять воцаряется тишина. И через некоторое время показывается Септимус, красивый мужчина лет тридцати пяти. Он едва стоит на ногах, так он пьян.
СЕПТИМУС. Отвратительное место, нехристианское место. (Колотит молотком.) Открывайте, открывайте. Я хочу спать.
Третий Старик высовывается в окно, тоже на верхнем этаже.
ТРЕТИЙ СТАРИК . Ты кто? Чего тебе надо?
СЕПТИМУС. Септимус я. Жена у меня плохая, поэтому я хочу, чтобы меня впустили и дали мне поспать.
ТРЕТИЙ СТАРИК. Ты пьян.
СЕПТИМУС. Пьян! И ты бы пил, будь у тебя такая жена.
ТРЕТИЙ СТАРИК . Проваливай.
Он закрывает окно.
СЕПТИМУС. Неужели в этом городе нет ни одной христианской души? (Стучит дверным молотком в дверь Первого Старика, но ответа нет) Никого? Все умерли или тоже напились – из-за плохих жен! Но одна-то христианская душа должна найтись.
Колотит дверным молотком в дверь по другую сторону сцены. Старуха высовывается в окно.
СТАРУХА (визгливо). Кто это там? Чего надобно? Случилось что?
СЕПТИМУС. Да, так и есть. Случилось. Моя жена спряталась, или убежала, или утопилась.
СТАРУХА. Какое мне дело до твоей жены? Ты пьян!
СЕПТИМУС. Ей нет дела до моей жены! А я говорю тебе, что моя жена должна по приказу Премьер-министра в полдень представлять в большом зале Замка, а ее нигде нет.
СТАРУХА. Уходи! Уходи! Говорю тебе, уходи. (Закрывает окно.)
СЕПТИМУС. Так тебе и надо, Септимус, а ведь ты играл перед Кубла-ханом! Септимус! Драматург и поэт! (Старуха опять открывает окно и выливает из кувшина воду на голову Септимусу.) Вода! Я весь мокрый. Придется спать на улице. (Ложится.) Плохая жена… У других тоже плохие жены, но им не приходится спать на улице под открытым небом, да еще облитым холодной водой из кувшина, целым водопадом холодной воды из кувшина, им не приходится дрожать от холода на рассвете, им нечего опасаться, что на них наступят, о них споткнутся, их покусают собаки, и все оттого, что их жены куда-то спрятались.
Появляются двое Мужчин примерно такого же возраста, как Септимус. Они стоят, не шевелясь, и глядят на небо.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА. Знаешь, друг, тот невысокий, со светлыми волосами, – девчонка.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. Никогда не доверяй тем, у кого светлые волосы. Я всегда смотрю, чтоб были каштановые.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА. Слишком долго мы пробыли с ними – с каштановой и белокурой.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. На что ты смотришь?
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА. Смотрю, как первые лучи золотят башню Замка.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. Лишь бы моя жена не узнала.
СЕПТИМУС (cадится). Несите меня, ведите меня, тащите меня, толкайте меня, катите меня, волочите меня, но доставьте меня туда, где я мог бы от души выспаться. Отнесите меня в конюшню – Спасителю понравилось в конюшне.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА. Ты кто? Твое лицо мне незнакомо.
СЕПТИМУС. Септимус я, актер, драматург, на весь мир знаменитый поэт.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. Это имя, сэр, мне незнакомо.
СЕПТИМУС. Незнакомо?
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. А вот мое имя не покажется тебе незнакомым. Меня зовут Питером Белым Пеликаном по самой знаменитой из моих поэм, а моего друга зовут Счастливым Томом. Он тоже поэт.
СЕПТИМУС. Плохие народные поэты.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. Ты бы тоже хотел быть известным, но у тебя не получается.
СЕПТИМУС. Плохие народные поэты.
ПЕРВЫЙ МУЖЧИНА. Лежи, где лежишь, если не желаешь быть вежливым.
СЕПТИМУС. Да плевать мне сейчас на все, кроме Венеры и Адониса, а также других планет на небе.
ВТОРОЙ МУЖЧИНА. Ну и наслаждайся один их обществом.
Мужчины уходят.
СЕПТИМУС. Ограблен, если так можно выразиться, раздет, если так можно выразиться, кровоточу, если так можно выразиться, – а они проходят мимо по другой стороне улицы.
Появляется толпа Горожан и Крестьян. Сначала их немного, потом все больше и больше, пока сцена не заполняется взволнованной толпой.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Вон лежит человек.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Отодвинь его.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Да это актер из труппы, которая живет в Замке. Они вчера приехали.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Пьян, наверно. Первая же телега с молоком его убьет или покалечит.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Отодвиньте его в угол. Если мы и собрались пролить кровь, ему-то погибать ни к чему. Ненужная смерть может навлечь на нас проклятье.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Тогда помоги.
Они пытаются отодвинуть Септимуса поближе к дому.
СЕПТИМУС (бурчит). Не дают поспать! Толкают! Бросили на самых камнях! Нехристи!
Септимус лежит возле самой стены.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Итак, мы друзья? Все согласны?
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Эти люди пришли ночью из деревень. Им почти ничего не известно. Против они не будут, но хотят знать всё.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Так оно и есть. Мы с народом, но мы хотим все знать.
ВТОРОЙ КРЕСТЬЯНИН. Мы хотим знать, но мы с народом.
Раздаются голоса: «Мы хотим все знать, но мы с народом», и проч. Все кричат одновременно.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. А ты, Крестьянин, когда-нибудь видел Королеву?
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Нет.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Наша Королева – ведьма, страшная бессмертная ведьма, и мы больше не хотим, чтобы она была нашей королевой.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. Что-то мне не верится, будто дочь нашего короля могла стать ведьмой.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. А ты видел Королеву, Крестьянин?
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. Нет.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. И никто не видел. Ни один из нас ни разу ее не видел. Семь лет она не показывается из большого черного дома на высокой горе. С того дня, как умер ее отец, она живет за закрытыми дверьми. Но теперь нам известно, почему они закрыты. Темной ночью она водится с нечистью.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. В моей деревне говорят, что она святая и молится за всех нас.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Этот слух распустил Премьер-министр. Он – умный человек и повсюду разослал шпионов, чтобы они распускали нужные ему слухи.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Это правда. Нас, крестьян, всегда обманывают. Мы ведь не обучены грамоте, как городские.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. В Библии сказано, что ведьм надо убивать. На прошлое Сретение я собственными руками убил одну ведьму.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Когда она умрет, мы сделаем королем Премьер-министра.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Нет, нет, он не сын короля.
ВТОРОЙ КРЕСТЬЯНИН. Я бы послал глашатая в другие страны. Говорят, в Аравии много королей.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. Людям не повесишь на язык замок. Если бы нам пришло в голову прятаться или нас нельзя было бы понять, о нас бы тоже плохо говорили. Я не против народа, но я хочу знать.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Ну же, Буфетчик, поднимись на этот камень и расскажи все, что знаешь.
Буфетчик поднимается на камень.
БУФЕТЧИК. Я живу вблизи Замка. Мой сад и другие сады в округе как раз подходят к горе, на которой стоит ее Замок. И у одного из соседей в саду пасется коза.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Бродяга Майкл. Я знаю его.
БУФЕТЧИК. Коза все время куда-нибудь удирает. Однажды Бродяга Майкл поднялся рано утром, чтобы посмотреть птиц в силках, а козы нигде и нет. Он полез на гору, поднимался все выше и выше, пока не оказался у самой стены, и там-то он увидел свою козу, которая была вся в поту и дрожала, словно ее напугали до смерти. Ему послышалось как будто конское ржанье, а потом вроде белый конь пробежал мимо, но только это был не конь, а единорог. С собой Майкл на всякий случай, если вдруг кролик попадется, прихватил ружье, а тут ему померещилось, что единорог бежит прямо на него, и он выстрелил. Единорог исчез, а на большом камне остались пятна крови.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Зная, с кем она якшается после полуночи, не будешь удивляться тому, что она носа к нам не кажет.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. Не верю я этим россказням. Ваш Бродяга Майкл – врун. Единственное, что можно сказать наверняка, так это о ее нежелании появляться на люди. Когда-то я знавал парня, который, когда ему исполнилось двадцать пять лет, отказался вставать с постели. И он не заболел, вот уж нет, просто сказал, что жизнь – юдоль слез, и сорок четыре года пролежал на кровати, пока его не понесли хоронить на церковное кладбище. Кто только ни докучал ему, приходили и священник, и врач, а он всё в ответ: «Жизнь – юдоль слез». Он тоже спрятался от всех, как она, поверьте мне, с тех пор как ее отца не стало, чтобы будить ее по утрам. И кто ее осудит?
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Но ведь так живут ведьмы. И им-то известно, где искать себе товарищей в полночные часы одиноких ночей. Поблизости от меня тоже жила ведьма, которую я убил на Сретенье. У нее жил бесенок, который имел вид рыжей кошки и каждую ночь выпивал три капли крови из ее головы, прежде чем голосил петух. Своей кровью они кормят их, потому что без крови те становятся бесплотными видениями и тенями, а стоит им напиться крови, и они посильнее будут вас или меня.
ТРЕТИЙ КРЕСТЬЯНИН. Мой сосед не был колдуном, просто ему надоело работать. Он сказал: «Жизнь – юдоль слез». И сколько ни донимали его священник и врач, больше он ничего не говорил.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Мы никому не позволим действовать, не имея доказательств, но послушайте Буфетчика, и, когда вы выслушаете его до конца, сами скажете, что ее ни на день больше нельзя оставлять в живых.
БУФЕТЧИК. Мне не по душе рассказывать то, что я знаю, но вы все женатые мужчины. На другое утро после того, как парень полез на гору за своей козой, но еще на час раньше, так что небо было еще темное, он вновь взобрался на гору и пошел вдоль стены среди камней и кустов, как вдруг увидел свет в оконце прямо над своей головой. Стена-то там старая, вся в дырах, где в нее попадали снаряды, вот он и полез наверх, ставя ноги в эти дыры, пока не оказался рядом с окном, заглянул в него, а когда заглянул, то увидел внутри саму Королеву!
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Он рассказал, какая она?
БУФЕТЧИК. Он больше увидел. Он увидел, как она совокупляется с большим белым единорогом.
Толпа начинает шуметь.
ВТОРОЙ КРЕСТЬЯНИН. Не хотелось бы мне, чтобы нами правил сын единорога, хоть вы и скажете мне, что он всего лишь наполовину единорог.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Против народа я не пойду, но я бы не стал ее убивать, если бы Премьер-министр обещал будить ее по утрам и поставил бы стражу, чтобы не допускать к ней единорога.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Я задушил старую ведьму своими руками, а сегодня я задушу молодую ведьму.
СЕПТИМУС (медленно поднимается и влезает на камень, с котороего спрыгнул Буфетчик). Я не ослышался? Тут кто-то сказал, будто единорог нечистое животное? Ну нет, единорог – самое благородное животное, и о нем сказано в Библии. У него молочно-белая кожа, и молочно-белый рог, и молочно-белые копыта, а еще у него голубые глаза, и он танцует на солнце. Никому не позволю ругать его, пока я жив. В «Великом бестиарии Парижа» написано, что единорог – чистое животное, что он – самое чистое животное на всем свете.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Уберите его с камня, он пьян.
СЕПТИМУС. Ну да, я пьян, очень пьян, но это еще не причина, чтобы я разрешил кому-нибудь ругать единорога.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Послушаем его. Все равно нам нечего делать до восхода солнца.
СЕПТИМУС. Никто не должен ругать единорога. Ни мои друзья, ни поэты, никто. Я не против поохотиться на него, если вы так хотите, хотя он настырен и опасен. Поедем вместе на высокие плато Африки, где он живет, и там прострелим ему голову насквозь, но я слова плохого не скажу о нем, и если кто-нибудь заявит, будто единорог нечист, то пусть готовится к поединку со мной, ибо я утверждаю, что его чистота равна его красоте.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Да он совсем пьян.
СЕПТИМУС. Нет, уже не пьян. На меня снизошло вдохновение.
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. Давай, давай. Мы никогда больше не услышим ничего подобного.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Слезай. Хватит с меня. Нам пора за работу.
СЕПТИМУС. Слезай, ты говоришь, а если у меня божественным промыслом распушились перья на груди и раскрылись белые крылья? Ага! Теперь я понял. Вы нашли себе спокойное местечко, чтобы безнаказанно ругать единорога, но вам не повезло, потому что я вам не позволю. (Он спрыгивает с камня и бросается на толпу, которая старательно обходит его) В немилосердном этом городе я защищу благородного, молочно-белого, изменчивого единорога.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Не стой у меня на дороге.
СЕПТИМУС. Почему бы это?
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Никакого насилия – иначе удача отвернется от нас.
Все пытаются оттащить Крестьянина-великана.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Ты убил его.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Может, да, а, может, и нет – пусть себе лежит. Одну ведьму я задушил на Сретенье, другую задушу сегодня. Какое мне дело до него?
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Обойдем город с восточной стороны. Плетельщикам корзин и сит это не понравится.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОРОЖАНИН. Оттуда недалеко до ворот Замка.
Они уходят в одну из боковых улиц, но вскоре, чего-то испугавшись, возвращаются в замешательстве.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Вы и вправду его видели?
ВТОРОЙ ГОРОЖАНИН. С кем же спутаешь страшного старика?
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. Я стоял рядом с ним, когда призрак семь лет назад говорил через него.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Никогда не видел его прежде. В моих краях он не объявлялся, вот я и не знаю, какой он из себя. Но я слышал о нем, от многих я слышал о нем.
ПЕРВЫЙ ГОРОЖАНИН. Глаза у него становятся будто стеклянными, и у него начинается транс, а когда он уже совсем в трансе, душа покидает его. Тогда призрак занимает ее место и говорит его голосом. Мы не знаем, чей это призрак.
ТРЕТИЙ ГОРОЖАНИН. В последний раз, когда я был рядом, старик сказал: «Принеси пук соломы, у меня спина чешется». А потом он вдруг улегся на спину, глаза у него широко открылись, стали стеклянными, и он закричал, как осел. Тогда умер Король и дочь Короля стала Королевой.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Говорят, Иисус въехал в Иерусалим на осле, поэтому ему известен его настоящий король. Он ходит повсюду, и никто не смеет отказать ему в просьбе.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. И мне никто не помешает взять ее за горло. Потом я сожму пальцы посильнее. Он будет лежать на соломе и кричать по-ослиному, и, когда он закричит, она умрет.
ПЕРВЫЙ КРЕСТЬЯНИН. Смотрите! Это он там на горе! Сумасшедший старик!
ВТОРОЙ КРЕСТЬЯНИН. Ни за что на свете не хотелось бы мне оказаться с ним рядом. Пойдемте на рыночную площадь. Она большая, и на ней будет не так страшно.
КРЕСТЬЯНИН-ВЕЛИКАН. Я не боюсь, но я тоже пойду с вами, чтобы своими руками задушить ее.
Уходят все, кроме Септимуса. В это время Септимус уже сидит, его голова в крови. Он трогает окровавленную голову, а потом смотрит на кровь на своих пальцах.
СЕПТИМУС. Нехристи! Сначала меня выкидывают на улицу, а потом чуть было не убивают. А ведь я пьян, значит, нуждаюсь в защите. Все люди, кто бы они ни были, время от времени нуждаются в защите. Даже моя жена была когда-то слабым младенцем, и ей были нужны молоко, улыбка, любовь, как будто она вдруг оказалась посреди реки и, скажем, предстояло утонуть.
Появляется Старый Попрошайка с длинными спутанными волосами и бородой, одетый в лохмотья.
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Хочу солому.
СЕПТИМУС. А всё Счастливый Том и Питер Розовый Пеликан. Они плохие народные поэты, поэтому, возревновав к моей славе, они настроили против меня народ. (Вдруг видит Старого Попрошайку) Я знаю одно лекарство, но, чтобы приготовить его, надо взять чистую камфару, хинную корку, молочай и мандрагору и смешать с двенадцатью унциями растворенных жемчужин и четырьмя унциями золотого масла. Это лекарство вмиг останавливает кровь. Старик, у тебя его нет?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Хочу солому СЕПТИМУС. А может, оно и к лучшему, если я истеку кровью. Но в таком случае, друг мой, чтобы опозорить Счастливого Тома и Питера Розового Пеликана, мне необходимо умереть где-нибудь, где люди подхватят мои последние слова. Следовательно, мне нужна твоя помощь.
Поднявшись на ноги, он, качаясь, подходит к Старому Попрошайке и повисает на нем.
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Ты разве не знаешь меня? И не боишься? Когда на меня находит, у меня чешется спина. Я должен лечь и кататься по соломе, а когда я закричу, сменится владелец короны.
СЕПТИМУС. А! На тебя снисходит вдохновение. Тогда мы с тобой братья. Послушай, я немного отдохну, а потом мы вместе пойдем на гору. Моя спальня в Королевском Замке.
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. А ты дашь мне соломы?
СЕПТИМУС. Асфодели! На самом деле, из классических авторов кто только не писал об асфоделях? Но если кому-то больше нравятся асфодели…
Они уходят, но еще некоторое время слышится голос Септимуса, разглагольствующего об асфоделях. Первый Старик открывает окно и стучит костылем в окно на противоположной стороне улицы. Второй Старик открывает окно.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Все кончилось. Они ушли. Мы можем поговорить.
ВТОРОЙ СТАРИК. Уже весь Замок освещен лучами солнца, да и на улице стало светлее.
ПЕРВЫЙ СТАРИК. Пора старому псу Буфетчика появиться на улице.
ВТОРОЙ СТАРИК. Вчера у него в зубах была кость.
Сцена II
Тронная зала в Замке. Между колоннами позолоченные резные двери, кроме одной стороны, где находится большое окно. Утреннее солнце светит в окно, но между колоннами темно. По мере того, как идет время, свет, поначалу сумеречный, становится более ярким, и тени исчезают. В резные двери видны длинные коридоры, один из которых ведет из Замка на улицу. В конце этого коридора открытая дверь и виден начинающийся солнечный день. Посреди залы на возвышении со ступенями стоит трон.
Премьер-министр, пожилой человек с нетерпеливыми движениями и речами, разговаривает с Актерами, среди которых Нона, красивая, приятная, спокойная женщина лет тридцати пяти, по-видимому, она главная среди Актеров.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Вам не обмануть меня. Пьесу я выбрал сам и помню, что она называется «Трагическая история Ноева потопа», потому что, когда Ной бьет свою жену, чтобы заставить ее войти в ковчег, все всё понимают, все довольны, все узнают своих упрямых жен, любовниц, сестер. А теперь, когда для государства так важно, чтобы все были довольны, пьесу видите ли, нельзя поставить. Ведущая актриса, видите ли, пропала, но вы не приводите ни одного разумного довода, почему ее не может заменить другая актриса. Но я-то знаю, в чем дело – вы не хотите играть пьесу, которую я выбрал. Вам хочется скучную поэтическую пьесу с длинными монологами. Нет, мне нужна моя пьеса – и никакая другая. Репетиция должна начаться немедленно, а представление начнется ровно в полдень.
НОНА. Сэр, мы искали всю ночь и не нашли ее. Кое-кто слышал, как она сказала, что скорее утопится, чем будет играть женщину старше тридцати. А ведь Ноева жена совсем старуха, и мы боимся, как бы она и вправду не утопилась.
ДЕСИМА, очень привлекательная женщина, высовывает голову из-под трона, где она прячется.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Чепуха! Вы просто сговорились. Почему нет режиссера? Он за все отвечает. Можете ему передать, что, если пьеса не будет поставлена, я упрячу его в тюрьму на год, а вас всех вышвырну из страны.
НОНА. Ах, сэр, он ничего не может сделать. Она вертит им, как хочет.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Вертит им, как хочет. Я знаю таких, как она. Весь мир готова разорвать в клочья, лишь бы не уступить мужу или любовнику. Я знаю таких. Пустоголовая нахалка с высохшим горохом вместо мозгов. Конечно же ему с ней не справиться, но мне-то какое до этого дело? (Десима убирает голову) Он пойдет в тюрьму – кому-то ведь надо идти в тюрьму. А теперь идите и кричите всюду ее имя. Зовите нахалку. Громче. Громче. (Актеры уходят, крича: «Где ты, Десима?») Ох, Адам, ну зачем ты заснул в саду? Тебе бы надо было знать, что, пока ты лежишь там и ни о чем не подозреваешь, Старик обязательно сыграет с тобой какую-нибудь шутку.
Входит Королева. Она юна, на лице у нее выражение аскетизма и робости. Одета она в плохо сидящее на ней парадное платье.
КОРОЛЕВА. Я выйду к разгневанному народу и скажу ему, как вы обращаетесь со мной. У меня нет сомнений, что я готова к мученичеству. Всю ночь я провела в молитвах. Да, я почти уверена.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Ах!
КОРОЛЕВА. Мне уже столько же лет, сколько было моей покровительнице, святой Октеме, когда она приняла мученичество в Антиохии. Вы помните, что ее единорог был так доволен ее аскетизмом, что стал крутиться от восторга. Тогда она выпала из седла, и толпа затоптала ее до смерти. Правда, если бы не единорог, толпа убила бы ее еще раньше.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Вы не станете мученицей. У меня есть план. Я могу усмирить их гнев словами. Кто шил это платье?
КОРОЛЕВА. Это платье моей матери. Она надевала его на коронацию. Зачем мне новое? Я не заслужила новых платьев. У меня столько грехов.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Неужели есть грехи у яйца, которое не было снесено и не было согрето?
КОРОЛЕВА. Мне хочется во всем походить на святую Октему.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Ну и платье! Впрочем, уже поздно. Ничего не поделаешь. Некоторым, может быть, даже понравится. Но других надо завоевать очарованием, достоинством, королевскими манерами. Ну, а насчет платья я что-нибудь придумаю, какое-нибудь объяснение. Помните, они никогда не видели ваше лицо, и вы произведете на них плохое впечатление, если выйдете с опущенной, как сейчас, головой.
КОРОЛЕВА. Хотела бы я вернуться к моим молитвам.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Пройдитесь! Позвольте мне, ваше величество, посмотреть на вашу походку. Нет, нет и нет. Вы должны показать, что вы КОРОЛЕВА. Ах! Если бы видели королев, которых видел я – они умели себя подать. Сущие драконихи, но манеры, манеры! У вас должен быть соколиный взор, взор хищницы.
КОРОЛЕВА. Там булыжники. Если бы я могла пройтись там босиком, то была бы благословенная епитимья. Единорогу особое удовольствие доставили окровавленные ступни святой Октемы.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Всё сон Адама! Босиком! Босиком – вы сказали? (Пауза.) Нет времени снимать башмаки и чулки. Если вы выглянете в окно, то увидите, что толпа с каждой минутой теряет терпение. Пошли! (Он подает руку Королеве.)
КОРОЛЕВА. У вас есть план, как справиться с нею, чтобы я не стала мученицей?
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Я открою свой план только перед тобой и ни минутой раньше.
Они уходят. Входит Нона с бутылкой вина и вареным омаром, оставляет их посреди залы на полу. Приложив палец к губам, становится в дверях лицом к зрительному залу.
ДЕСИМА (крадучись, выбирается из своего тайника и напевает).
«Ушел тайком, – так пела мать, — Зазвав в постель меня», — Пока узор вела златой Проворная рука. Она склонялась над шитьем, Сверкавшим златом, В слезах мечтая для меня О короле богатом.Едва она протягивает руку за омаром, как подходит Нона, подавая ей платье и маску жены Ноя, которые прежде висели у нее на левой руке.
НОНА. Слава Богу, ты нашлась! (Становится между Десимой и омаром.) Нет, сначала надень платье и маску. Я тебя отыскала, и больше тебе не убежать.
ДЕСИМА. Хорошо, хорошо, только дай мне поесть.
НОНА. Не дам ничего, пока ты не оденешься для репетиции.
ДЕСИМА. А ты знаешь песню, которую я только что пела?
НОНА. Ты всегда ее поешь. Это песня Септимуса.
ДЕСИМА. Это песня сумасшедшей дочери шлюхи. Ее единственная песня. Отцом девушки был пьяный моряк, ожидавший выхода в море, но она верила, будто мать предсказала ей выйти замуж за короля и стать великой королевой. (Поет.)
«Когда тебя я зачала, Был слышен чайки крик И волны пеною меня Озолотили вмиг». Мне не могла она помочь, Лишь косы заплела И о короне золотой Мечту мне отдала.Минуту назад, когда я лежала там, мне показалось, что я смогла бы сыграть королеву, великую королеву. Единственная роль, которую я могу играть, – это роль великой королевы.
НОНА. Ты – королеву? Не ты ли родилась в придорожной канаве, и не тебя завернули в украденную с плетня простыню?
ДЕСИМА. Королева совсем не может играть, а я смогла бы. Я умею склоняться до земли и умею быть суровой, когда надо. О, я знаю, как изобразить взглядом летний зной и тотчас придать голосу зимний холод.
НОНА. Низкая комедия – вот твое дело.
ДЕСИМА. Как раз когда я это поняла и сказала себе, что рождена сидеть на троне в окружении солдат и придворных, приходишь ты и трясешь у меня перед носом маской и платьем. Да еще говоришь, что мне не положен завтрак, пока я не сыграю старую каргу со сморщенным подбородком и сопливым носом, которую злодей-муж бьет палкой, потому что она не желает лезть вместе со скотиной в его ковчег. (Бросается к омару.)
НОНА. Нет! Не получишь ни кусочка, пока не наденешь платье и маску. Подумай, если ты не сыграешь, Септимуса посадят в тюрьму.
ДЕСИМА. Его будут кормить сухарями?
НОНА. Да.
ДЕСИМА. И поить одной водой?
НОНА. Да.
ДЕСИМА. И спать он будет на соломе?
НОНА. Да. Но, может быть, ему и соломы не дадут.
ДЕСИМА. И будут звенеть железные цепи?
НОНА. Да.
ДЕСИМА. И так целую неделю?
НОНА. Может быть, месяц.
ДЕСИМА. И он скажет тюремщику: «Я здесь из-за моей красивой и жестокой жены, из-за моей красивой и ветреной жены». Так он скажет?
НОНА. Может быть, и нет, если не будет пьян.
ДЕСИМА. Но он будет так думать. И каждый раз, когда он почувствует голод, каждый раз, когда он почувствует жажду, каждый раз, когда он замерзнет на каменном полу, он будет так думать, и с каждым разом я буду казаться ему еще и еще прекраснее.
НОНА. Ну нет. Он возненавидит тебя.
ДЕСИМА. Плохо ты разбираешься в мужской любви. Если Святой Образ в церкви, где ты на Пасху ставишь свечи, так мил и приветлив, почему же ты возвращаешься домой с ободранными коленками?
НОНА (в слезах). Я поняла! Ты жестокая, плохая женщина! Ты не будешь играть эту роль, чтобы Септимуса забрали в тюрьму, а ведь он настоящий гений и не может позаботиться о себе.
Заметив, что Нона заливается слезами, Десима делает еще одну попытку завладеть омаром и почти достигает цели.
НОНА. Нет! Нет! Ничего не получишь! Я разобью бутылку, если ты подойдешь близко. Никакая другая женщина не обходится так с мужчинами, как ты, а ведь ты давала обет в церкви. Да, да, так оно и есть! И молчи! (Десима опять пытается взять омара, но Нона, все еще плача, прячет его в карман) Даже не думай о еде, ничего не получишь. Я никогда не давала брачный обет в церкви, но если бы дала, не стала бы обращаться с мужем, как с ослом лудильщика. Если бы я поклялась перед Богом… Нет, меня хорошо воспитали. Моя мать всегда говорила, что нелегко затащить мужчину в церковь.
ДЕСИМА. Ты влюблена в моего мужа.
НОНА. Только потому, что я забочусь, как бы он не попал в тюрьму, ты решила, будто я влюблена в него. Бессердечной женщине никогда не понять, как можно жалеть мужчину, в которого не влюблена, ведь ты никогда никого не жалела! Я не хочу, чтобы его посадили в тюрьму. И если ты не сыграешь эту роль, ее сыграю я.
ДЕСИМА. Когда я выходила за него замуж, то заставила поклясться, что он не будет играть ни с кем, кроме меня, и ты об этом знаешь.
НОНА. Всего один раз, к тому же в роли, которая никому не может принести славы.
ДЕСИМА. Так всё и начинается. А потом тебе всю жизнь придется произносить слова, которые никто не будет слышать.
НОНА. Один разочек Септимус нарушит клятву а роль я уже выучила.
ДЕСИМА. Ни для кого на свете Септимус не нарушит клятву.
НОНА. Один человек есть, ради которого он это сделает.
ДЕСИМА. Ты имеешь в виду себя?
НОНА. Да, себя.
ДЕСИМА. Ты помешалась.
НОНА. Или у меня есть тайна.
ДЕСИМА. Неужели? Небось утаскивала Септимуса в уголок и нашептывала ему, какая у него плохая жена, а ему только и надо, что поговорить обо мне.
НОНА. Ты думаешь, будто знаешь все его мысли, потому что ты колдунья.
ДЕСИМА. Я колдунья и потому знаю его мысли. Помнишь, как в его песне? Мужчина начинает (поет):
Сбрось маску – золота огонь И изумруды глаз.А женщина отвечает:
Ах, милый, ты меня не тронь, Ведь сердце не узнаешь враз, Хоть гонишь холод вон.НОНА. Ты знаешь все его мысли. Как бы не так! С глаз долой, из сердца вон.
ДЕСИМА. Тогда смотри, что у меня за лифом. Септимус посвятил это мне. Он воспел меня, мою красоту – глаза, волосы, цвет лица, фигуру, талию, ум – всё. А есть и другие стихи. А вот еще одно, коротенькое, которое он дал мне вчера утром. Ведь я прогнала его, и ему пришлось спать одному.
НОНА. Одному?
ДЕСИМА. Он лежал один, не мог заснуть и сочинил песню, в которой желает себе ослепнуть, чтобы не мучаться, глядя на мою красоту. Вот, слушай! (Опять поет.)
Да будь я даже стариком, Бродяжкой придорожной, Слепцом, не знавшим света дня И дружбы бестревожной, Я кем угодно быть готов, Но только не мужчиной, Что в одиночестве ночном Забыть не может милой.НОНА. Конечно же один в постели. Я знаю, это длинное стихотворение, я знаю его от начала до конца, знаю наизусть, хотя не читала из него ни слова. Четыре строчки в каждой строфе, четыре ударения в каждой строчке, всего четырнадцать стихов – будь они прокляты!
ДЕСИМА (достает рукопись из-за лифа). Ты права, четырнадцать строк. Здесь стоят цифры.
НОНА. И там еще одно – из десяти стихов, в каждом из которых по четыре и три стопы.
ДЕСИМА (заглядывает в другой листок). Да, все стихи из четырех и трех стоп. Но откуда ты знаешь? Я никому их не показывала. Это наша тайна, его и моя, и никто не должен о них знать, пока они не полежат у меня на сердце.
НОНА. Они лежат у тебя на сердце, но были сочинены у меня на плече. Ага, и на спине – рано-рано утром. Сколько ударений в строчке, столько раз он пробегал пальцем по позвоночнику.
ДЕСИМА. Бог ты мой!
НОНА. Из-за того, в котором четырнадцать строчек, я не спала два часа, а когда он закончил со стихами, то еще час лежал на спине и махал рукой, сочиняя музыку. Мне он нравится, и я позволила ему думать, будто сплю – и в тот раз, и когда он сочинял другие песни. А когда он сочинял то короткое стихотворение, которое ты пела, он так радовался, что вслух произносил слова о том, как лежит один в своей постели, думая о тебе, и я разозлилась. Я сказала ему: «Неужели я некрасива? Повернись и посмотри на меня». Покончим с этим, ибо даже я могу понравиться мужчине там, где горит одна свечка. (Она берется за ножницы, которые у нее на шее, и принимается кромсать платье Ноевой жены.) Теперь ты понимаешь, почему я могу играть эту роль, как бы ты ни злилась, и тебе не выставить меня со сцены. Держись за своего Септимуса, если хочешь. Мне все равно. Я распорю кое-какие швы, а потом сошью все снова – иголка и нитка у меня наготове.
Входит, звеня колокольчиком, Режиссер. За ним следуют Актеры, одетые разными животными и зверями.
РЕЖИССЕР. Надень маску и платье. Что ты стоишь, как неживая?
НОНА. Мы с Десимой тут потолковали и решили, что играть буду я.
РЕЖИССЕР. Как угодно. Слава Богу, эту роль может сыграть любая актриса. Надо лишь произносить текст каркающим старческим голосом. Кажется, все в сборе, кроме Септимуса. Не будем его ждать. Я прочитаю текст Ноя. Надеюсь, он явится до конца репетиции. Итак, публика вот тут, а ковчег там, и сходни тоже, по которым должны подниматься звери. А пока все собираются возле суфлерской будки. Уберите шляпу и плащ Ноя до прихода Септимуса. Пока идет первая сцена с Ноем и животными, можешь шить.
ДЕСИМА. Нет, сначала выслушайте меня. Мой муж проводил ночи с Ноной, поэтому она режет и шьет с таким тщеславным видом.
НОНА. Она сделала его несчастным, ведь ей известны все способы, как разбить сердце мужчины. Вот он и приходил ко мне со своими несчастьями, а я утешала его, и теперь – к чему отрицать? – мы любовники.
ДЕСИМА. Не тщеславься понапрасну! Я была для него чумой. О, я была и барсучихой, и лаской, и дикообразихой, и хорью, я была всем, потому что он мне смертельно надоел. И вот, слава Богу, она взяла его, и я свободна! Плевать мне на роль, плевать мне на мужа – пусть забирает себе.
РЕЖИССЕР. Мне кажется, это ваше дело, вы и разбирайтесь. Мы тут ни при чем. И не понимаю, почему надо задерживать репетицию.
ДЕСИМА. Никакой репетиции. Какое счастье вновь обрести свободу. Мне непременно нужен кто-нибудь, кто потанцует со мной немного. Ну же! Музыка! (Она берет лютню, лежавшую среди других театральных вещей) Ну же, у вас ведь не только когти и копыта!
РЕЖИССЕР. Остался всего лишь час, а нам нужно прогнать всю пьесу от начала до конца.
НОНА. Эй, она взяла мои ножницы! Она лишь делает вид, будто ей все равно. Поглядите на нее! Она же сумасшедшая! Заберите у нее ножницы! Держите ей руки! Она убьет меня или себя! (Обращается к Режиссеру.) Что вы молчите? Боже мой! Она убьет меня!
ДЕСИМА. Ну же, Питер.
Она режет на груди у Лебедя перья.
НОНА. Она делает это, чтобы сорвать репетицию, из мести. А вы стоите и молчите!
РЕЖИССЕР. Если ты отняла у нее мужа, то могла бы поберечь эту новость до конца представления. Теперь она всех сведет с ума, я вижу это по ее глазам.
ДЕСИМА. Теперь, когда я швырнула ей Септимуса, мне нужно выбрать себе другого мужчину. Может быть, это будешь ты, Индюк, или ты, Подкаменщик?
РЕЖИССЕР. Ничего не поделаешь. А все твоя вина. Если Септимус не может усмирить свою жену, то мне уж и подавно не справиться. (Садится с безнадежным видом.)
ДЕСИМА. Танцуй, Подкаменщик, танцуй… Нет… Нет… Стой. Ты мне не нужен. Слишком ты медленно двигаешься, да и весь ты громоздкий, наверно, ревнивый, и в твоем голосе я слышу печальные ноты. Жуть будет, если я не полюблю тебя, но из-за твоего голоса, который мне нравится, мне придется потягиваться и зевать, словно я люблю! Танцуй, Индюк, танцуй… Нет, стой. И ты мне не нужен, потому что мой любимый должен быть скор на ногу и у него должен быть живой взгляд. Не хочется мне, чтобы ты смотрел на меня своими круглыми глазами, когда я буду спать. Ладно, если мне не все равно, значит, нужно выбрать и покончить с этим! Танцуйте, все танцуйте, чтобы я могла выбрать лучшего танцора. Давайте, давайте! Танцуют все!
Все танцуют вокруг Десимы.
ДЕСИМА (поет).
В кого влюбиться я должна? За Пасифаей вслед – в быка? А то и в лебедя влюбиться — Вслед Леде я могла бы – в птицу. Кружите, прыгайте, пляшите, Как королева Десима, любите.ХОР.
Кружите, прыгайте, пляшите, Как королева Десима, любите.ДЕСИМА.
Седло и шпора, прут и плуг, Летать иль бегать будет друг? Скажите, мех или перо Украсят друга моего?ХОР.
Кружите, прыгайте, пляшите, Как королева Десима, любите.ДЕСИМА.
Влюблюсь и сразу все пойму, Я зверя, птицу обниму, К груди прижмется головой Хоть зверь, хоть птица – милый мой.ХОР.
Кружите, прыгайте, пляшите, Как королева Десима, любите.РЕЖИССЕР. Хватит, хватит. Пришел Септимус.
СЕПТИМУС (у него на лице кровь, но он немного протрезвел). Слушайте меня, ибо я объявляю конец христианской эры и начало нового Божьего Промысла, приход нового Адама, то есть Единорога; но, увы нам, он чист и потому сомневается, сомневается.
РЕЖИССЕР. Сейчас не время рассказывать нам о своей новой пьесе.
СЕПТИМУС. Его нерожденные дети всего лишь образы, и мы играем с образами.
РЕЖИССЕР. Продолжаем репетицию!
СЕПТИМУС. Нет. Пора готовиться к смерти. Толпа лезет на гору. У всех в руках вилы, которыми они хотят продырявить нас, и горящие пучки соломы, которыми они хотят поджечь Замок.
ПЕРВЫЙ АКТЕР (идет к окну). Господи, он говорит правду. Внизу огромная толпа.
ВТОРОЙ АКТЕР. За что они ополчились на нас?
СЕПТИМУС. За то, что мы слуги Единорога.
ТРЕТИЙ АКТЕР (стоит около окна). Боже мой, у них вилы и косы, и они идут сюда. (Многие Актеры подходят к окну.)
СЕПТИМУС (нашел бутылку и пьет из нее). Одни умрут, как Катон, другие – как Цицерон, третьи – как Демосфен, побеждая смерть звучными речами, или как Петроний Арбитр, который рассказывал смешные и дерзкие истории. А я буду говорить, нет, я буду петь, как будто нет никакой толпы. Я взберусь на Единорога, потому что он чистый и целомудренный. Я заставлю его затоптать до смерти всех людей, чтобы на земле воцарилась новая раса. И буду шутить в стихах, чтобы толпа бежала весело, весело, потому что, даже взорвав Замок, толпа остается всего лишь толпой.
На круглом голубом глазу качусь, Проклятье на молочно-белом роге.Надо найти рифму, чтобы была приятна слуху – рвусь, борюсь, гусь, мчусь – Господи, я слишком трезв для рифм! (Он пьет, потом берется за лютню) Надо придумать мелодию, чтобы убийцы запомнили мои последние слова и передали их своим внукам.
Некоторое время он занят подбором мелодии.
Здешние актеры ревнуют. Разве нас не предпочли им, потому что мы самые знаменитые во всем мире? Это они накрутили толпу.
ВТОРОЙ АКТЕР. Они ревнуют ко мне. Им известно, что было в Ксанаду Когда закончилась много раз игранная пьеса «Падение Трои», Кубла-хан послал за мной и сказал, что он отдал бы свое королевство за мой голос и мою стать. На мне был костюм Агамемнона, и я стоял перед ним, как в той великой сцене в конце, в которой я обвиняю Елену в принесенных ею несчастьях.
ПЕРВЫЙ АКТЕР. Боже мой, вы только послушайте его! Да если кто и нужен толпе, так это комедийный актер. Мне приснилось или меня и впрямь вызывали шесть раз? Ответь мне…
ВТОРОЙ АКТЕР. Пусть даже тебя вызывали шестью десять раз! Здешние актеры не ревнуют к аплодисментам толпы. Им тоже аплодируют. Жгучая мысль, мысль, которая рвет им сердце, мысль, которая внушает им убийство, заключается в том, что только я из всех актеров, один я на всем белом свете как равный смотрел в глаза Кубла-хану РЕЖИССЕР. Хватит вам. Лучше послушайте, что творится снаружи. Там кто-то говорит речь, и толпа становится все злее и злее, и не знаю уж, к кому они ревнуют, но, похоже, они сожгут Замок, как когда-то сожгли Трою. Делайте, как я скажу, и, может быть, спасетесь.
ПЕРВЫЙ АКТЕР. Нам остаться в костюмах?
ВТОРОЙ АКТЕР. Нет времени на переодевания, и, кроме того, если гора окружена, мы можем собраться где-нибудь в лещине и будем видны лишь издалека. Пусть они подумают, что мы стадо или стая.
Все уходят, кроме Септимуса, Десимы, Ноны. Нона собирает костюм Ноя – шляпу, плащ – и прочий театральный реквизит. Десима наблюдает за Септимусом.
СЕПТИМУС (пока Актеры уходят). Я буду умирать один? Что ж, правильно. Храбрость есть в красном вине, в белом вине, в пиве, даже в разбавленном пиве, которое продает туповатый парень в разорившейся таверне, но ее нет в человеческом сердце. Когда мой господин Единорог купается в свете Большой Медведицы под стук барабанов, он пьянеет даже от сладкой речной воды. Как же холодно, холодно, ужасно холодно!
НОНА. Этот мешок ты понесешь на спине. Остальное возьму я, и мы спасем все вещи.
Она начинает привязывать большой мешок на спину Септимусу.
СЕПТИМУС. Правильно. Принимаю твой упрек. Необходимо, чтобы мы, последние актеры, так как остальные переметнулись на сторону толпы, спасли образы и принадлежности нашего искусства. Мы должны унести в безопасное место плащ Ноя, высокую шляпу Ноя, маску сестры Ноя. Она утонула, потому что думала, будто ее брат говорит неправду; конечно же, нам надо спасти ее розовые щеки и розовые губы, которые утонули, ее развратные губы.
НОНА. Слава Богу, ты еще можешь стоять на ногах.
СЕПТИМУС. Всё вяжи мне на спину, а я поведаю тебе великую тайну, которая открылась мне со вторым глотком из этой бутылки. Человек ничто, если нет образа. Вот Единорог – и образ, и зверь, поэтому только он может быть новым Адамом. Когда все успокоится, мы отправимся на высокие плато Африки, найдем Единорога и споем свадебную песню. Я встану перед его ужасным голубым глазом.
НОНА. Вот так, вот так, вот так хорошо.
Она принимается за второй тюк для себя, но забывает о маске сестры Ноя, которая лежит рядом с троном.
СЕПТИМУС. Ты напоешь ионическую мелодию – его взгляд будет устремлен на сластолюбивую Азию – дорический камень утвердит его в его чистоте. Одна дорическая нота может погубить нас, но, самое главное, нам ни в коем случае нельзя говорить о Дельфах. Оракул чист.
НОНА. Всё. Пора идти.
СЕПТИМУС. Если нам не удастся пробудить в нем страсть, ему придется умереть. Даже единорогов убивают. Больше всего на свете они боятся удара ножа, обагренного кровью змея, который умер, глядя на изумруд.
Нона и Септимус направляются к выходу, и Нона ведет за собой Септимуса.
ДЕСИМА. Стойте. Дальше ни шагу.
СЕПТИМУС. Прекрасная, как Единорог, но жестокая. ДЕСИМА. Я заперла двери, чтобы мы могли поговорить.
Нона в страхе роняет шляпу Ноя.
СЕПТИМУС. Отлично, отлично. Ты хочешь говорить со мной, потому что сегодня я необыкновенно мудр.
ДЕСИМА. Я не отопру дверь, пока ты не обещаешь мне выгнать ее из труппы.
НОНА. Не слушай ее. Отбери у нее ключ.
СЕПТИМУС. Если бы я не был ее мужем, то мог бы сделать это, а так как я ее муж, она ужасна. Единорог тоже ужасен, если любит.
НОНА. Ты боишься.
СЕПТИМУС. А ты не могла бы сделать это? Она не любит тебя, поэтому не будет так ужасна.
НОНА. Если ты мужчина, ты отберешь у нее ключ.
СЕПТИМУС. Я больше, чем мужчина. Я необыкновенно мудр. И я отберу у нее ключ.
ДЕСИМА. Сделай шаг, и я брошу ключ в дырку в двери.
НОНА (оттаскивает Септимуса). Не подходи к ней. Если она выбросит ключ, нам не удастся сбежать. Толпа найдет и убьет нас.
ДЕСИМА. Я отопру дверь, когда ты поклянешься самой страшной клятвой, что прогонишь ее из труппы, что никогда не будешь разговаривать с ней и глядеть на нее.
СЕПТИМУС. Ты ревнуешь. Ревновать плохо. Обыкновенный мужчина пропал бы, даже я еще недостаточно мудр. (Вновь пьет из бутылки) Все ясно.
ДЕСИМА. Ты был неверен мне.
СЕПТИМУС. Я могу быть неверным, только если трезв. Никогда не доверяй трезвому мужчине. Они-то и предают. Никогда не доверяй мужчине, который не купался в лучах Большой Медведицы. От всего сердца я предостерегаю тебя насчет трезвых мужчин. Сегодня я необыкновенно мудр.
НОНА. Обещай. Ведь это всего лишь обещание. Дай любую клятву, какую она пожелает. Если ты промедлишь, нас всех убьют.
СЕПТИМУС. Я понимаю тебя. Ты хочешь сказать, что клятву можно нарушить, особенно клятву, данную под давлением, но нет, я говорю тебе, нет, я говорю тебе, ни за что. Неужели я похож на трезвых мошенников, насчет которых предостерегал тебя? Неужели я дам ложную клятву на глазах Дельфов, так сказать, на глазах холодного каменного оракула? Если я обещаю, то исполню обещание, поэтому, милая малышка, я ничего не буду обещать.
ДЕСИМА. Тогда подождем тут. Они войдут в эту дверь со своими вилами и горящей соломой. Они подожгут крышу, и мы сгорим.
СЕПТИМУС. Я умру верхом на звере. Настал конец христианской эре, но из-за мошенничества Дельфов он не станет новым Адамом.
ДЕСИМА. Я буду отомщена. Она морила меня голодом, а я убью ее.
НОНА (крадучись, зашла за спину Десимы и выхватила у нее ключ). Ключ у меня! Ключ у меня!
Десима пытается отобрать ключ, но Септимус держит ее.
СЕПТИМУС. Я не давал ложных клятв, поэтому я сильный – жестокое целомудренное существо, как сказано в «Великом бестиарии Парижа».
ДЕСИМА. Ну и уходи. А я останусь и умру.
НОНА. Пойдем. Еще полчаса назад она предлагала себя всем мужчинам в труппе.
ДЕСИМА. Если бы ты был верен мне, Септимус, я бы ни одному мужчине не позволила дотронуться до меня.
СЕПТИМУС. Изменчивая, но прекрасная.
Нона убегает.
СЕПТИМУС. Я последую за прекрасной плохой легкомысленной женщиной, но последую не спеша. И возьму с собою сию благородную шляпу. (С видимым усилием поднимает шляпу.) Нет, это пусть лежит. Что мне делать с утонувшими развратными губами – прекрасными утонувшими неверными губами? Мне нечего с ними делать, а вот благородную шляпу с высокой тульей, принадлежащую Ною, я спасу. Я понесу ее с достоинством. И пойду медленно, чтобы все видели – я не боюсь. (Поет.)
На круглом голубом глазу качусь, Проклятье на молочно-белом роге.Ни слова о Дельфах. Я необыкновенно мудр. (Уходит.)
ДЕСИМА. Предана, предана – и ради ничтожества. Ради женщины, которой любой мужчина может вертеть, как пожелает. Ради женщины, которая всегда мечтала об обыкновенном и богатом мужчине. (Входит Старый Попрошайка.) Старик, ты пришел, чтобы убить меня?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Я ищу солому Скоро мне надо будет лечь и кататься по соломе, а я не могу найти соломы. Заходил в кухню, но меня прогнали. Они даже перекрестили меня, словно я дьявол и должен исчезнуть после этого.
ДЕСИМА. Когда толпа придет убивать меня?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Убивать тебя? При чем тут ты? Они ждут, когда у меня зачешется спина и когда я закричу по-ослиному, чтобы узнать, к кому перешла корона.
ДЕСИМА. Корона? Значит, они хотят убить Королеву?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Ну да, милочка, но она не умрет, пока я не покатаюсь на соломе и не покричу ослом. По секрету я скажу тебе, кто будет кататься на соломе. Это осел, на котором Иисус въехал в Иерусалим, поэтому он такой гордый и поэтому знает час, когда на трон взойдет новый Король или новая Королева.
ДЕСИМА. Ты устал от жизни, старик?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Да, да, потому что, когда я катаюсь и кричу, я сплю. И ничего не знаю, вот жалость-то. И не помню ничего, разве как чесалась спина. Однако хватит болтать, мне надо найти соломы.
ДЕСИМА (берет в руки ножницы). Старик, я собираюсь вонзить их себе в сердце.
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Нет, нет, не делай это. Ты ведь не знаешь, где окажешься, когда умрешь, в чью глотку попадешь, чтобы петь или орать. Однако у тебя вид пророчицы. Кто знает, может быть, ты будешь предрекать смерть королям. Имей в виду, мне не нужны соперники, я не потерплю соперников.
ДЕСИМА. Меня обманул мужчина, выставил меня на посмешище. А мертвые, старик, умеют любить. У них есть верные возлюбленные?
СТАРЫЙ ПОПРОШАЙКА. Я открою тебе еще одну тайну. Что бы люди ни говорили, я не видел еще никого, пришедшего оттуда, кроме старого осла. Может быть, больше никого и нет. Кто знает, не завладел ли он всем для себя одного? Однако спина у меня уже чешется, а я не нашел еще ни клочка соломы.
Уходит. Десима приспосабливает ножницы на ручку трона и собирается броситься на них, как входит Королева.
КОРОЛЕВА (останавливает ее). Нет, нет – это великий грех.
ДЕСИМА. Ваше величество!
КОРОЛЕВА. Я думала, что мне хочется умереть мученицей, но это должно быть иначе, это должно быть во славу Господа. Святая Октема была мученицей.
ДЕСИМА. Я очень несчастна.
КОРОЛЕВА. Я тоже очень несчастна. Когда я увидела множество злых людей и узнала, что они хотят убить меня, то испугалась и убежала, хотя и мечтала стать мученицей.
ДЕСИМА. А я бы не убежала. О нет! Трудно лишь самой убить себя.
КОРОЛЕВА. Они сейчас будут тут, станут стучать в дверь. Как же мне спастись от них?
ДЕСИМА. Если они примут меня за вас, вы спасетесь.
КОРОЛЕВА. Я никому не могу позволить умереть вместо себя. Это неправильно.
ДЕСИМА. Ах, ваше величество, я все равно умру, но если бы я могла на минутку надеть платье из золотой парчи и золотые туфельки, мне было бы легче умереть.
КОРОЛЕВА. Говорят, тот, кто умирает, спасая своего суверена, выказывает истинную добродетель.
ДЕСИМА. Быстро! Платье!
КОРОЛЕВА. Если бы вы убили себя сами, ваша душа погибла бы, а так вы наверняка окажетесь в раю.
ДЕСИМА. Быстрее, я слышу шаги.
Десима надевает платье королевы и ее туфли. На Королеве под платьем что-то вроде монашеской рясы. Следующий монолог Королева произносит, помогая Десиме застегнуть платье и туфли.
КОРОЛЕВА. Всё из-за любви?
Десима кивает головой.
О, это страшный грех. А я никогда не знала любви. И больше всего на свете боялась как раз ее. Святая Октема закрылась в башне на горе, потому что ее полюбил прекрасный принц. Я боялась, как бы он не явился ко мне и не завладел мною. Наверно, это нехорошо. Говорят, люди все сделают ради любви, и она так прекрасна. Но святая Октема тоже боялась ее. Вы спасетесь от всего и попадете к Богу чистой девственницей.
Переодевание завершено.
Прощайте. Я знаю, как могу ускользнуть от них. Меня примут в монастыре. Это не башня, а всего лишь монастырь, но я мечтала попасть туда, чтобы все забыли мое имя и я могла исчезнуть. Сядьте на трон и отвернитесь. Если вы не отвернетесь, то испугаетесь.
Королева уходит. Десима усаживается на троне. Большая толпа собирается по другую сторону двери. Входит Епископ.
ЕПИСКОП. Ваш верный народ, ваше величество, клянется вам в своей преданности. Я склоняюсь перед вами от его имени. Ваша королевская воля, выраженная устами Премьер-министра, наполнила их сердца благодарностью. Всякому непониманию пришел конец благодаря снисходительности, с какой ваше величество подало королевскую руку Премьер-министру. (Обращается к толпе.) Ее величество до сих пор скрывалась от людских глаз, чтобы без помех молиться за свой народ, но отныне она будет показываться ему. (Обращается к Актрисе-королеве.) Такой прекрасной королеве нечего бояться непокорности.
Крики в толпе: «Никогда!»
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР (торопливо входит). Я все объясню, ваше величество… Мне ничего больше не оставалось… Пришлось позвать Епископа, чтобы он соединил нас. (Видит королеву.) Проклятый сон Адама!.. Кто это?
ДЕСИМА. Слишком много эмоций для такого текста. Лучше молчите.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Это… Это…
ДЕСИМА. Я – королева. И я знаю, что значит быть королевой. Стоит мне сказать, что у меня есть враг, и вы убьете его, вы разорвете его на куски?
Крики: «Мы убьем его», «Мы разорвем его на куски», и так далее.
Однако я не требую от вас убийства. Я требую, чтобы вы были покорны моему супругу, которого я возвела на престол. Такова моя воля. Будьте покорны ему, пока я требую от вас покорности.
Толпа ликует. Септимус, который тоже был в толпе, выходит вперед и хватает Премьер-министра за рукав. Люди целуют руку якобы королеве.
СЕПТИМУС. Милорд, это же не королева, это моя недобрая жена.
Десима смотрит на них.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Вы видели? Вы видели дьявольский огонь в ее глазах? Они влюбились в ее прелестное личико, и она знает это. Теперь они не поверят ни одному моему слову. Ничего нельзя поделать, пока они не успокоятся.
ДЕСИМА. Здесь все мои преданные слуги?
ЕПИСКОП. Да, ваше величество.
ДЕСИМА. Все?
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР (низко кланяется). Все, ваше величество.
ДЕСИМА (поет).
Она склонялась над шитьем, Сверкавшим златом.Подайте мне тарелку. Я буду есть и смотреть на моего теперешнего мужа.
Ей подают тарелку и бутылку вина. Слышится крик осла, и в залу втаскивают Старого Попрошайку.
ЕПИСКОП. Наконец-то попался мошенник. Он сумел всех обмануть, ведь его все считали Гласом Божьим. Как будто без его помощи корона не могла быть водружена ни на чью голову. Очевидно, что он заговорщик и был уверен, будто вас убили. И все еще уверен. Посмотрите, какой у него стеклянный взгляд. Однако, как бы он ни подделывался под сумасшедшего, это ему не поможет.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Тащите его в тюрьму, а утром мы его повесим. (Трясет Септимуса) Ты понимаешь, что произошло чудо? Бог или Дьявол сказали свое слово, и теперь корона навсегда ее. Слышал, как судьба орала его глоткой? (Громко.) Мы повесим его утром.
СЕПТИМУС. Она – моя жена.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. У нее на голове корона, и с этим ничего не поделаешь. Клянусь сном Адама, мне придется взять эту женщину в жены. Так повелел оракул.
СЕПТИМУС. Она – моя жена, моя плохая, легкомысленная жена.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Схватите этого человека. Он поносит ее величество. Вышвырните его за пределы королевства и всю его труппу с ним вместе.
ДЕСИМА. И пусть не возвращается под страхом смерти. Он плохо поступил со мной, и я не желаю его видеть.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Уведите его.
ДЕСИМА. Доброе имя мне дороже жизни, но я бы повидала актеров, прежде чем их изгонят из королевства.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Чертов сон Адама! Что еще она задумала? Привести актеров.
ДЕСИМА (играя маской сестры Ноя). Мои верные подданные должны простить меня за то, что я скрою лицо под маской… Оно еще не привыкло к свету дня, мое робкое лицо. Кстати, мне будет приятно, если его святейшество поможет мне надеть маску и завяжет шнурки.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Актеры.
Входят Актеры, все кланяются новой королеве.
ДЕСИМА. Они должны были представить пьесу, но вместо этого пусть попляшут, а потом богато их вознаградите.
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР. Как пожелаете, ваше величество.
ДЕСИМА. Вы будете изгнаны из королевства, и не смейте возвращаться под страхом смерти. Однако из-за этого вы не обеднеете. Я обещаю. Однако у вас теперь нет того, что я не могу вам возместить. Вы потеряли свою актрису. Не тужите о ней. Она плохая, своенравная, злая женщина и себе на погибель ищет мужчину, о котором ничего не знает. Ей вполне подходит эта дурацкая, смеющаяся маска! Ну же, пляшите!
Актеры пляшут, а она время от времени кричит: «Прощайте, прощайте» или «Прощайте навсегда» и бросает им деньги.
КОНЕЦ
Воскрешение 1931
Посвящается Джанзо Сато
Еще не дописав пьесу до конца, я понял, что взятый мною предмет, возможно, сделает ее неподходящей для постановки в большом театре Англии или Ирландии. Поначалу сцена представлялась мне обычной: занавешенные стены, окно, дверь сзади и еще одна, занавешенная, дверь слева. Потом я это изменил и вдобавок написал песни для исполнения во время открытия и закрытия занавеса, так что теперь пьесу можно играть в студии или в гостиной, как мои пьесы для танцоров, или в театре «Пикок» перед особо избранной публикой. Если играть ее в театре «Пикок», то музыканты могут петь первую и заключительную песни, открывая и закрывая занавес на просцениуме; тогда как вся сцена ограничена занавесами с входом-выходом слева. Во время действия музыканты сидят справа от публики, а в театре «Пикок» – на ступеньке, отделяющей сцену от зала, или сбоку на просцениуме.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Иудей.
Сириец.
Грек.
Христос.
Три музыканта.
Песня, исполняемая при открытии и закрытии занавеса
I
Я видел: дева, не склонив чела, Смерть бога Диониса зрела строго, Живое сердце вырвала у бога И на ладони сердце унесла. Кровавой той и страшною порою Шли музы вслед за девой неземной И пели «Магнус Аннус» той весной, Как будто бога смерть была игрою.II
Другая Троя встанет высоко, Вновь будет ворон павшими кормиться, И вновь к заветной цели устремится, Раскрасив гордый нос, другой Арго. И будет Рим имперские бразды В дни мира и войны ронять от страха, Едва из горнего услышит мрака Глас грозной девы и ее Звезды.На сцене Иудей с мечом или с копьем. Музыканты негромко стучат на барабанах или гремят трещотками; слева, из публики, входит Грек.
ИУДЕЙ. Ты разведал, что там за шум?
ГРЕК. Да. Спросил у раввина.
ИУДЕЙ. И тебе не было страшно?
ГРЕК. Откуда ему знать, что я христианин? На мне убор, привезенный из Александрии. Он сказал, что на улицы с трещотками и барабанами вышли приверженцы бога Диониса и что в их городе никогда такого не случалось, поэтому римские власти напуганы и не желают вмешиваться. Дионисийцы уже побывали в поле, разорвали на куски козла, напились его крови и теперь шныряют по улицам, как стая волков. Толпа в ужасе от их жестокости, поэтому бежит от них, или, что больше похоже на правду, так занята охотой на христиан, что на другое у нее нет времени. Я уже повернулся, чтобы уйти, но раввин окликнул меня и спросил, где я живу. А когда я сказал, что за городскими воротами, то он поинтересовался: правда ли, будто мертвые восстали из могил?
ИУДЕЙ. У нас хватит сил на несколько минут задержать толпу, чтобы Одиннадцать успели убежать по крышам. Пока я жив, никто с улицы не ступит на эту узкую лестницу, а потом мое место займешь ты. Куда подевался Сириец?
ГРЕК. Я встретил его возле двери и послал с поручением. Он скоро вернется.
ИУДЕЙ. Троих немного для предстоящего нам дела.
ГРЕК (глядя на проход слева). Что они делают?
ИУДЕЙ. Пока тебя не было, Иаков достал из мешка хлеб, а Нафанаил отыскал мех с вином. То и другое они положили на стол. У них ведь давно не было ни крошки во рту. Потом они стали тихонько разговаривать, и Иоанн вспомнил, как в последний раз ел в этой комнате.
ГРЕК. Тогда их было тринадцать.
ИУДЕЙ. Он рассказал, как Иисус разделил между ними хлеб и вино. Пока Иоанн говорил, все молчали, никто не ел и не пил. Иди сюда, и всех увидишь. Возле окна Петр. Он уже давно стоит там, опустив голову на грудь, и ни разу не пошевелился.
ГРЕК. Это правда, когда солдат спросил Петра, не ученик ли он Иисуса, Петр сказал «нет»?
ИУДЕЙ. Да, правда. Я узнал от Иакова. А ему и другим рассказал сам Петр. Они все испугались тогда. Не мне их винить. Вряд ли я был бы храбрее. Все мы не похожи на псов, потерявших хозяина.
ГРЕК. Что ни говори, а если толпа нападет, мы с тобой умрем, но не пустим ее наверх.
ИУДЕЙ. Ну, это другое дело. Задерну-ка я занавес; не надо, чтобы они слышали. (Задергивает занавес.)
ГРЕК. Понятно, что у тебя на уме.
ИУДЕЙ. Им страшно, потому что они не знают, во что верить. Когда Иисуса увели, они больше не могли думать, что он мессия. Нам проще, ведь у этих одиннадцати всегда или яркий свет, или кромешная тьма.
ГРЕК. Потому что они намного старше нас.
ИУДЕЙ. Нет, нет. Ты только взгляни на их лица и сразу поймешь, что им было предназначено стать святыми. Все остальное не для них. Почему ты смеешься?
ГРЕК. Да вон, в окне. Смотри, куда я показываю. В конце улицы. (Они стоят рядом и смотрят поверх голов публики.)
ИУДЕЙ. Ничего не вижу.
ГРЕК. Там гора.
ИУДЕЙ. Это Голгофа.
ГРЕК. И три креста на вершине. (Он опять смеется.)
ИУДЕЙ. Замолчи. Ты понимаешь, что делаешь? Или ты сошел с ума? Смеешься над Голгофой.
ГРЕК. Нет, нет. Я смеюсь, потому что они думали, будто прибивают к Кресту руки смертного, а на самом деле это был лишь призрак.
ИУДЕЙ. Я видел его погребенным.
ГРЕК. Нас, греков, не проведешь. Никогда ни один бог не был погребен, никогда ни один бог не знал страданий. Христос как будто родился, как будто ел, как будто спал, как будто ходил, как будто умер. Я не хотел об этом говорить, пока у меня не было доказательства.
ИУДЕЙ. Доказательства?
ГРЕК. Я получу его, прежде чем наступит ночь.
ИУДЕЙ. В твоих словах столько же смысла, сколько в вое бродячей собаки на луну.
ГРЕК. Иудеи не понимают.
ИУДЕЙ. Это ты не понимаешь, а я и, кажется, те, кто наверху, начинаем наконец понимать. Он был не более, чем человеком, но самым лучшим человеком, какой когда-либо жил на земле. До него никто так сильно не сокрушался о людских страданиях. И он молился о приходе Мессии, так как думал, что Мессия возьмет эти страдания на себя. Но однажды, когда он очень устал, возможно, после долгой дороги, ему померещилось, будто Мессия – он сам, потому что из всех уделов этот показался ему самым ужасным.
ГРЕК. Как мог человек вообразить себя Мессией?
ИУДЕЙ. Всегда говорили, что он родится от женщины.
ГРЕК. Самое страшное богохульство – утверждать, будто бог мог родиться от смертной женщины, быть выношен в ее чреве, вскормлен ее грудью, обмыт, как другие дети.
ИУДЕЙ. Не будь Мессия рожден женщиной, он не мог бы спасти человека от его грехов. Даже один грех – источник многих страданий, а Мессия все их берет на себя.
ГРЕК. У каждого человека свои грехи, и никто другой не имеет на них права.
ИУДЕЙ. Лишь Мессии под силу взять на себя все людские страдания, словно сложить их под одним зажигательным стеклом.
ГРЕК. Меня в дрожь бросает. Такое ужасное страдание, а вы поклоняетесь ему! Вы обречены, потому что у вас нет статуй.
ИУДЕЙ. Я говорил о том, о чем думал еще три дня назад.
ГРЕК. Поверь, в гробнице никого нет.
ИУДЕЙ. На моих глазах его несли на гору и закрывали в гробнице.
ГРЕК. Я послал Сирийца, чтобы он сам убедился, есть ли там кто-нибудь.
ИУДЕЙ. Ты знал о грозившей нам опасности и ослабил охрану?
ГРЕК. Я подверг риску жизнь апостолов и нашу тоже. Но гораздо важнее то, что Сириец найдет или не найдет в гробнице.
ИУДЕЙ. Сегодня у всех что-то неладное творится с мозгами. Вот и мне не дает покоя одна мысль.
ГРЕК. Не хочешь об этом говорить?
ИУДЕЙ. Я рад, что он не Мессия; а ведь мы могли бы никогда об этом не узнать или узнать, но слишком поздно. Ему пришлось пожертвовать всем, что святое страдание может внушить разуму и душе ради их очищения.
Сначала слышен короткий шум трещоток и барабанов между фразами, но постепенно шум становится более продолжительным.
Надо было отказаться от всего земного знания, от всех стремлений, ничего не делать по собственной воле. Реальностью стало только то, что свято. Он должен был всем своим существом предаться Богу. Наверно, ужасно, когда стареешь и конец не за горами, а ты думаешь о давних стремлениях, возможно даже, много думаешь о женщинах. Я хочу жениться и иметь детей.
ГРЕК (стоит лицом к публике и смотрит поверх голов). Дионисийцы. Они уже под окном. Несколько женщин несут на плечах носилки с ликом мертвого бога. Нет, это не женщины. Это мужчины, переодетые женщинами. В Александрии мне попадались такие. Все молчат, словно чего-то ждут. О Боже! Вот это да! В Александрии бывает, мужчины ярко красят губы, когда желают достичь женского самозабвения во время священного обряда. Вред от этого небольшой – нет, ты посмотри! Иди сюда!
ИУДЕЙ. Не желаю глазеть на сумасшедших.
ГРЕК. Музыки уже не слышно, но мужчины продолжают плясать, а кое-кто уже полосует себя ножом, представляя себя, как я понимаю, одновременно богом и титанами, которые убили его. Немного подальше, прямо посреди улицы, совокупляются мужчина и женщина. Ей кажется, будто она сумеет вернуть бога к жизни, отдаваясь мужчине, в объятия которого ее бросила пляска. Судя по виду и одежде, эти люди из квартала чужеземцев, где живут всякие отбросы, самые невежественные и легко возбудимые из азиатских греков. Им приходится много страдать, и они ищут забвения в чудовищных церемониях. Ага, вот этого они ждали. Толпа расступилась, и появился певец. Девушка? Нет, это не девушка. Это юноша из театра. Я знаю его. Исполнитель женских ролей. Он одет как девушка, только ногти у него покрыты золотой краской и парик из золотых шнуров. Похож на статую из храма. Помнится, что-то вроде этого было в Александрии. Через три дня после полнолуния, мартовского полнолуния, там пели о смерти бога и молились о его воскрешении.
Один из музыкантов поет.
Священное дитя Астреи! Из леса, где идет Титан, Слышны и треск, и шум, и гам! Прочь ото всех, дитя Астреи В глухую даль загнал Титан. Бам, бам, бам.Барабанный бой сопровождает пение.
Без устали шагают жены, Им ждать назначено судьбой И привести его домой. Идут-бредут по миру жены — Их барабанов слышен бой. Бам, бам, бам.По-прежнему барабанный бой.
Его жестокий ждет Титан, Где лес густой непроходим, И он идет к нему один. Руками мощными Титан Рвет божье тело средь осин. Бам, бам, бам.По-прежнему барабанный бой.
Святая дева, о Астрея, Помочь готова ты всегда Тем женам, что зовут тебя, Когда выходит, о Астрея, На небо полная луна. Бам, бам, бам.По-прежнему барабанный бой.
ГРЕК. Не могу поверить, что греки придумали все это угодничество и унижение, пусть даже бог носит греческое имя. Когда богиня во время битвы явилась к Ахиллу, она не стала взывать к его душе, а сразу схватила его за светлые кудри. Лукреций считает, что боги могут являться смертным и днем и ночью, но они безразличны к участи людей, однако римский ритор несколько преувеличил. Они приходят, если их ждать, и от радости кричат, как летучие мыши, когда человек, который ведет себя как герой, предоставляет им то единственное земное тело, которое они жаждут, ведь он вроде бы имитирует их жесты и поступки. А их безразличие кажущееся и не более, чем умение владеть собой. Да и человек не совсем в их власти. В душе он свободен. И бережет свою свободу.
Слышится барабанный бой, как будто стук в дверь.
ИУДЕЙ. Кто-то стучит в дверь, но я не смею открыть, когда на улице такая толпа.
ГРЕК. Не бойся. Толпа уже расходится. (Иудей идет налево в публику) От великих философов я узнал, что бог может сокрушить человека бедами, отнять у него здоровье и богатство, но человек все равно сохранит свою свободу. Если это Сириец, то он уж точно пришел с вестью, которую человечество запомнит навсегда.
ИУДЕЙ (из публики). Сириец. С ним творится неладное. Не то он болен, не то пьян. (Он помогает Сирийцу дойти до сцены.)
СИРИЕЦ. Я и вправду как пьяный. Еле стою на ногах. Случилось неслыханное. Всю дорогу сюда я бежал.
ИУДЕЙ. Ну же?
СИРИЕЦ. Надо немедленно рассказать Одиннадцати. Они еще там? Всем надо рассказать.
ИУДЕЙ. Что случилось? Переведи дух и говори.
СИРИЕЦ. По пути к гробнице я встретил галилеянок, Марию, мать Иисуса, Марию, мать Иакова, и других женщин. Молодые женщины были бледны от волнения и говорили все разом. Я ничего не понял, но Мария, мать Иакова, сказала, будто ранним утром они пришли в гробницу, а она пустая.
ГРЕК. Вот!
ИУДЕЙ. Не может быть. Не верю.
СИРИЕЦ. Возле входа стоял человек, от которого исходило сияние, и он кричал, что Христос восстал из мертвых
Тихо бьют барабаны и гремят трещотки.
Когда женщины сошли с горы, человек неожиданно оказался рядом с ними, и это был сам Христос. Тут они упали на колени и стали целовать ему ноги. А теперь пустите меня. Я должен рассказать Петру, Иакову и Иоанну.
ИУДЕЙ (стоя перед занавешенным входом в заднюю комнату). Я не пущу тебя.
СИРИЕЦ. Ты слышал, что я сказал? Наш учитель восстал из мертвых.
ИУДЕЙ. Я не позволю беспокоить Одиннадцать из-за женских видений.
ГРЕК. Это не было видение. Они сказали правду, и все же этот человек прав. Его дело охранять. Мы должны сначала убедиться сами, а уж потом сообщать Одиннадцати.
СИРИЕЦ. Одиннадцать рассудят лучше нас.
ГРЕК. Пусть мы много моложе, но мир знаем лучше, чем они.
ИУДЕЙ. Если Сириец расскажет им свою историю, они поверят в нее не больше, чем я, а Петр будет страдать еще сильнее. Я знаю его дольше всех и представляю, что будет. Первым делом он вспомнит, что женщины не предали учителя, ни одна из них не отступилась от него, и видение свидетельствует об их любви и преданности. А потом он вспомнит, что сам предал его и отступился, и ему покажется, будто на него смотрит Иоанн. Петр отвернется и закроет лицо руками.
ГРЕК. Я сказал, что прежде надо убедиться самим, но есть еще одна причина, почему не стоит ничего им говорить. Кто-то другой идет сюда. Я уверен, что у Иисуса никогда не было смертного тела, что он – призрак и может проникать сквозь стены, вот и сюда он проникнет, а потом проникнет в другую комнату и сам будет говорить с апостолами.
СИРИЕЦ. Он не призрак. Мы заложили вход в гробницу тяжелым камнем, а женщины сказали, будто камень лежал в стороне.
ИУДЕЙ. Вчера римлян известили, якобы кто-то из наших людей собирается выкрасть тело и повсюду разнести весть о восстании Христа из мертвых, чтобы смыть с нас позор поражения. Возможно, его выкрали этой ночью.
СИРИЕЦ. Римляне поставили стражу возле гробницы. Но когда женщины пришли, стражники спали. Их усыпил Христос, чтобы они не видели, как он отодвигает камень.
ГРЕК. Рукой без плоти и костей нельзя сдвинуть камень с места.
СИРИЕЦ. Потому что это противоречит земному знанию? Другой Арго устремится к цели, другая Троя будет разграблена.
ГРЕК. Над чем ты смеешься?
СИРИЕЦ. Что значит земное знание?
ГРЕК. То знание, благодаря которому дорога отсюда до Персии свободна от разбойников, благодаря которому построены прекрасные города, благодаря которому существует современный мир, тогда как варвары остались в прошлом.
СИРИЕЦ. А если существует такое, что нельзя объяснить, но оно важнее всего остального?
ГРЕК. Ты говоришь так, словно хочешь вернуть варваров обратно.
СИРИЕЦ. А если существует нечто за пределами земного знания и установленного порядка? Если прямо сейчас знание и порядок преподнесут нам какую-нибудь неожиданность? (Смеется.)
ИУДЕЙ. Хватит смеяться.
СИРИЕЦ. А вдруг непостижимое вернется? И опять все пойдет по кругу?
ИУДЕЙ. Хватит! Сначала он смеялся, глядя в окно на Голгофу, теперь ты смеешься.
ГРЕК. Он тоже дал волю своим чувствам.
ИУДЕЙ. Хватит, говорю я вам.
Слышны барабаны и трещотки.
СИРИЕЦ. Я не смеюсь. Это смеются на улице.
ИУДЕЙ. Нет. Там бьют в барабаны и гремят трещотками.
СИРИЕЦ. А я думал, они смеются. Ужасно!
ГРЕК (глядя поверх голов публики). Опять идут дионисийцы. Они спрятали статую мертвого бога и вновь кричат как сумасшедшие: «Бог воскрес! Бог воскрес!» Музыканты, кричавшие: «Бог воскрес!» – умолкают. На всех улицах кричат: «Бог воскрес!» Им ничего не стоит по собственному желанию оживлять или умертвлять бога. Но почему они замолчали? Теперь отплясывают, не произнося ни звука. Все ближе-ближе к нам, но плясать не перестают. Какой-то старинный танец. Ничего подобного я не видел в Александрии. Вот уже они пляшут под нашим окном.
ИУДЕЙ. Они вернулись, чтобы посмеяться над нами, ведь их богу дано воскрешаться каждый год, а наш бог умер навсегда.
ГРЕК. Чем стремительней пляска, тем страшнее они вращают глазами на разрисованных лицах! Пляшут прямо у нас под окном. Почему они остановились? Почему их невидящие глаза устремлены на наш дом? Что такого необычного в нашем доме?
ИУДЕЙ. Кто-то вошел в комнату.
ГРЕК. Где?
ИУДЕЙ. Понятия не имею. Но мне показалось, будто я слышал шаги.
ГРЕК. Я знал, что он придет.
ИУДЕЙ. Никого нет. Закрою-ка нижнюю дверь.
ГРЕК. Там занавес колышется.
ИУДЕЙ. Да нет, он не колышется. К тому же за ним пустая стена.
ГРЕК. Смотри! Смотри!
ИУДЕЙ. Теперь колышется. (Во время того, что происходит следом, он в ужасе пятится в левый угол сцены.)
ГРЕК. Кто-то идет сквозь стену.
Фигура Христа в узнаваемой, но стилизованной маске появляется сквозь занавес. Сириец медленно отдергивает занавес, закрывающий задник, то есть внутреннюю комнату, где находятся апостолы. Трое молодых мужчин стоят на левой стороне сцены, Христос – сзади и правее.
ГРЕК. Призрак нашего учителя. Чего вы испугались? Его распяли и погребли, но это была его видимость, и теперь он вновь среди нас. (Иудей падает на колени.) Его призрак. Мне ведома правда, и потому я не боюсь. Смотрите, сейчас я дотронусь до него. Он может быть твердым, как статуя – я слышал о таком – или моя рука пройдет сквозь него, потому что он не из крови и плоти. (Грек медленно подходит к Христу и протягивает руку) У него бьется сердце! У призрака бьется сердце! (Грек кричит. Христос пересекает сцену и входит во внутреннюю комнату.)
СИРИЕЦ. Он встал между ними. Некоторые напуганы. Он смотрит на Петра, Иакова и Иоанна. Улыбается. Раздвигает на боку одежды. Показывает свой бок. У него на теле большая рана. Фома прикладывает к ней руку. Кладет руку на то место, где находится сердце.
ГРЕК. О Афины, Александрия, Рим, вам грозит разрушение. Бьется сердце призрака. Человек умирает. О Гераклит, теперь твои слова стали понятны. Бог и человек умирают в жизни друг друга и живут в смерти друг друга.
Музыканты встают, один из них или все поют заключительную песню. Если пьеса поставлена в частной комнате или в студии, они открывают и закрывают занавес, как в моих пьесах для танцоров, если она поставлена в театре «Пикок», то они сдвигают занавес на просцениуме.
I
Cтрадая за людей, явился он, Чтоб не был разум пламенный развеян, И родилось бунтарство галилеян, Сгорел в огне великом Вавилон, Окутав мысль безмерной темнотой; Но кровь Христа весь стоицизм Платона, Все строгости дорийского закона — Все сделала нелепою тщетой.II
Что чтил когда-то, все теряешь ты, И удержать распад не в нашей власти, Так плавится любовь в горниле страсти, В работе блекнут мастера мечты; Шагать устал солдат – его шатает, Герольда истощает бравый крик, В огонь, чтобы развеять тьму на миг, Живое сердце человек бросает.КОНЕЦ
Слова на окне 1934
Памяти леди Грегори, в доме которой была написана эта пьеса
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Доктор Тренч.
Мисс Маккенна.
Джон Корбет.
Корнелий Паттерсон.
Абрахам Джонсон.
Миссис Маллет.
Миссис Хендерсон.
Меблированная комната, кресло, перед ним журнальный столик, два стула по левую или правую сторону. Камин и окно. Чайник на каминной полке и чайные чашки с блюдцами на шкафу для посуды. В задней стене немного вправо дверь. В нее виден холл. Слышится стук дверного молотка. Мисс Маккенна проходит через холл, открывает дверь и возвращается в холл с Джоном Корбетом, которому года двадцать два-двадцать три, и доктором Тренчем, которому между шестьюдесятью и семьюдесятью.
ДОКТОР ТРЕНЧ (в холле). Позвольте вам представить Джона Корбета из баллимонийских Корбетов, который в настоящее время является студентом Кембриджского университета. А это мисс Маккенна, наш энергичный секретарь.
Они входят в комнату, снимают пальто.
МИСС МАККЕНА. Я полагала, что лучше мне самой представить вас остальным. Так как у нас здесь почти средневековая жизнь, то нежелательно, чтобы люди судачили о спиритизме. Подайте мне ваши пальто и шляпы, и я унесу их в свою комнату. Она как раз напротив через холл. Присаживайтесь. Верно, ваши часы спешат. Миссис Хендерсон лежит, она всегда лежит перед сеансом. У нас есть еще минут десять. (Она выходит, унося пальто и шляпы.)
ДОКТОР ТРЕНЧ. На мисс Маккенна лежит вся практическая работа в Дублинской спиритической ассоциации. Вместе с миссис Хендерсон она ведет переписку и уговорила владелицу сдать ей эту большую комнату и маленькую комнатку наверху. У нас ведь небогатая ассоциация, и мы ничего не можем гарантировать. Миссис Хендерсон пришлось на свой страх и риск покинуть Лондон. Так как она родилась в Дублине, то ей хочется, чтобы спиритизм здесь прижился. Живет она очень скромно и о большем не мечтает. Но мы помогаем, чем можем. Бедная женщина, у которой святая душа.
ДЖОН КОРБЕТ. Много было сеансов?
ДОКТОР ТРЕНЧ. Пока только три.
ДЖОН КОРБЕТ. Надеюсь, ее не обидит мой скептицизм. Мне довелось заглянуть в «Человеческую личность» Майерса и в безумную книгу Конана Дойла, но они не убедили меня.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Каждый идет к истине своим путем. Лорд Данрэйвен, позднее лорд Адар, представил моего отца знаменитому Дэвиду Хоуму. Помню, отец рассказывал мне, как Дэвид Хоум едва ли не в полдень парил в воздухе, а я не верил ни одному его слову. У меня был свой путь, и, должен заметить, нелегкий. Окончательно убедила меня миссис Пайпер, медиум из Америки, у которой много общего с миссис Хендерсон.
ДЖОН КОРБЕТ. Она впадает в сомнамбулическое состояние, и с ее языка слетают фразы якобы умершего человека?
ДОКТОР ТРЕНЧ. Ну да. Лучше медиума не найти, если хочешь установить, с каким духом общаешься. Однако не ждите слишком многого. Чье-то враждебное влияние мешает нам.
ДЖОН КОРБЕТ. Вы имеете в виду злого духа?
ДОКТОР ТРЕНЧ. Поэт Блейк говорил, что не бывает плохого человека, в котором нельзя найти совсем ничего хорошего. Я сказал, чье-то враждебное влияние, из-за которого пришлось прервать последний сеанс. Не знаю, что уж там произошло, ведь меня не было на сеансах миссис Хендерсон. Вряд ли медиумы-сомнамбулы в состоянии удивить меня чем-то новеньким, и я сказал молодым людям, когда они просили меня стать президентом, что предпочитаю сидеть дома и читать Сведенборга, который может дать мне куда больше любого сеанса.
Слышится стук.
Наверно, Корнелий Паттерсон. Старик думает, будто в другом мире есть скаковые лошади и гончии, так мне говорили, и еще ему очень хочется знать, правильно ли то, что он всегда в высшей степени пунктуален. Несколько минут мисс Маккенна побудет с ним наедине, ведь он сообщает ей сведения, необходимые для скачек
Мисс Маккенна появляется в холле, впускает Корнелия Паттерсона и проводит его в свою комнату.
ДЖОН КОРБЕТ (ходит по комнате). Чудесная комната для меблирашки.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Еще пятьдесят лет назад это было частное владение. К тому же тогда тут был пригород, и на заднем дворе до сих пор осталась большая конюшня. А какие люди тут жили! Наверху родился Граттан; нет-нет, не Граттан, кажется, Курран… Забыл… Но мне наверняка известно, что в начале восемнадцатого столетия дом принадлежал друзьям Джонатана Свифта, нет, как будто Стеллы. Свифт подшучивал над ней в «Журнале Стеллы» из-за денег, правда небольших, которые она проигрывала в карты, возможно, в этой самой комнате. Ванесса появилась позже. А в то время это был загородный дом с парком и садом. Кто-то вырезал на окне стихи, принадлежавшие Стелле… Не исключено, что она сама.
Слышится стук.
Вот они, но вам вряд ли удастся их разглядеть при таком освещении.
Они стоят возле окна. Корбет наклоняется, чтобы лучше видеть. Входят МИСС МАККЕННА и АБРАХАМ ДЖОНСОН и останавливаются возле двери.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. А где миссис Хендерсон?
МИСС МАККЕННА. Наверху. Она всегда отдыхает перед сеансом.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Мне необходимо повидаться с ней до начала. Я знаю, что надо сделать, чтобы избавиться от помех.
МИСС МАККЕННА. Если вы подниметесь к ней, то сеанса не будет вовсе. Она говорит, что опасно даже думать, не то что беседовать об этом.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Тогда я должен поговорить с президентом.
МИСС МАККЕННА. Давайте сначала мы с вами побеседуем в моей комнате. Миссис Хендерсон настаивает на абсолютной гармонии во время сеанса.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Но что-то ведь нужно сделать, не то опять все сорвется, как в прошлый раз.
Слышен стук в дверь.
МИСС МАККЕННА. Наверно, миссис Маллет. Она очень опытный спирит. Пойдемте в мою комнату, там уже собрались и Паттерсон, и остальные. (Она уводит его в свою комнату, потом вновь появляется в холле и впускает миссис Маллет.)
ДЖОН КОРБЕТ. Мне эти строки известны. Они из стихотворения, которое Стелла написала ко дню рождения Свифта, когда ему исполнилось пятьдесят четыре года. До нас дошли всего три ее стихотворения, да еще несколько строчек, которые она прибавила к стихотворению Свифта, однако и этого достаточно, чтобы понять: она была более значительным поэтом, чем Свифт. Да и прочитав эти четыре строчки на окне, я сразу же подумал о поэте семнадцатого века, скажем, о Донне или Крэшоу (Читает.)
Ты юность длить учил меня Познанием добра и зла, Сердечный отдавая жар Глазам усталым в дар.Удивительно, как этот одинокий ученый, к тому же немолодой, умудрился влюбить в себя двух таких женщин! С Ванессой он встретился в Лондоне, когда его политическое влияние было особенно велико, и она последовала за ним в Дублин. Девять лет она любила его, может быть, умерла от любви, но Стелла любила его всю свою жизнь.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Мне приходилось показывать эти строки разным людям, но вы первый знаете, откуда они.
ДЖОН КОРБЕТ. Я ведь в Кембридже и как раз сейчас пишу докторскую диссертацию о Свифте и Стелле. Надеюсь доказать, что во времена Свифта влияние интеллектуалов было самым сильным, да и такого прочного положения в обществе у них больше никогда не было; все, что есть сейчас замечательного в Ирландии и в нашем характере, пришло из того времени, но нам дольше, чем Англии, удалось это сохранить.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Трагическая судьба, ведь Болингброк, Харли, Ормонд, все великие министры, которые были его друзьями, оказались изгнанными и сломленными.
ДЖОН КОРБЕТ. Не думаю, что все можно объяснить таким образом. У его трагедии более глубокие корни. Известно, что его идеалом власти был римский сенат, а идеалом личности – Брут и Катон. Казалось, история повторяется, но он провидел печальный конец – демократия, Руссо, французская революция. Поэтому-то ему стали ненавистны обыкновенные люди. «Ненавижу адвокатов, ненавижу докторов, – говорил он, – хотя люблю доктора такого-то и судью такого-то». Поэтому он написал своего «Гулливера», поэтому он истощил свой разум, поэтому он чувствовал saeva indignato, поэтому он спит теперь под камнем с самой потрясающей для всех времен эпитафией. Помните? По-английски она звучит еще лучше, чем на латыни: «Он ушел туда, где яростное возмущение больше не будет мучать его сердце».
Входит Абрахам Джонсон, за ним – Миссис Маллет и Корнелий Паттерсон.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Что-то надо сделать, доктор Тренч, иначе злые силы и дальше будут мешать нашим сеансам. Мне стоит немалых усилий приезжать сюда каждую неделю. Я из Белфаста. По профессии проповедник и много времени провожу среди бедных и невежественных людей. Пением и проповедью мне удается кое-чего достичь, но не сомневаюсь, что я мог бы достичь большего. У меня есть надежда побеседовать с великим евангелистом Муди. Хочу попросить, чтобы он невидимым постоял рядом со мной, когда я буду петь или говорить, возложив мне на голову руки и передав мне часть своей силы, чтобы мой труд стал благословенным, как был благословен труд Муди и Сэнки.
МИССИС МАЛЛЕТ. То, что мистер Джонсон говорит о враждебных силах, совершенно справедливо. Последние два сеанса совсем не получились. Мне бы хотелось открыть чайный магазин в Фолкстоуне. Вот я и последовала за миссис Хендерсон в Дублин, чтобы получить совет от мужа, однако два духа были так поглощены беседой, что никакому другому духу и слова не дали вставить.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Духи говорили об одном и том же на обоих сеансах, словно разыгрывали одну и ту же сцену?
МИССИС МАЛЛЕТ. Да… Как будто они были персонажами одной ужасной пьесы.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Этого я как раз и боялся.
МИССИС МАЛЛЕТ. Десять лет назад мой муж утонул в море, но постоянно разговаривает со мной через миссис Хендерсон, будто и не умирал вовсе. Он постоянно дает мне советы, что бы я ни делала, и без его советов я как без рук.
КОРНЕЛИЙ ПАТТЕРСОН. Мне никогда не нравились Небеса, как их толкуют в церкви, но когда я от кого-то услышал, что муж миссис Маллет ест, пьет и гуляет со своей любимой собакой, то сказал себе: «Вот что нужно Корни Паттерсону». Я приехал сюда узнать правду и клянусь, как перед Богом, что совсем ничего не знаю о ваших делах.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Прошу вас, доктор Тренч, как президента Дублинской спиритической ассоциации разрешить мне прочитать молитву об изгнании бесов, положенную в таких случаях. После прошлого сеанса я потрудился переписать ее из старой книги, имеющейся в библиотеке Белфастского университета. Она у меня с собой. (Достает из кармана листок бумаги.)
ДОКТОР ТРЕНЧ. Духи – такие же люди, как мы с вами, и мы обращаемся с ними, как с нашими гостями, защищаем их от неучтивости и насилия, а любой экзорсизм является проклятием или угрозой проклятия. Мы не допускаем существования злых духов. Некоторые духи принадлежат земле. Им кажется, будто они до сих пор живые, поэтому они постоянно проигрывают что-то из своей прошлой жизни, как мы постоянно возвращаемся к какой-нибудь волнующей нас мысли, с той лишь разницей, что они считают реальностью свое теперешнее существование. Например, когда дух, умерший насильственной смертью, в первый раз приходит к медиуму, он вновь переживает свой трагический конец.
МИССИС МАЛЛЕТ. Когда мой муж пришел в первый раз, медиум задыхалась и боролась, словно это она тонула. Ужасно было смотреть.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Иногда дух переживает повторно не смерть, а что-нибудь другое – страсть, трагедию. Это описал и объяснил Сведенборг. Подобный случай есть в «Одиссее», и в восточной литературе такое встречается часто; убийца еще раз совершает убийство, грабитель – ограбление, влюбленный поет серенаду, солдат вновь слышит зов трубы. Будь я католиком, наверняка думал бы, что эти духи явились из чистилища. Напрасно мы пишем requiescat in pace на надгробии, потому что они страдают, и мы тоже будем страдать, когда придет наше время, пока на нас не снизойдет покой. Но такие духи не являются во время сеансов, если только сеансы не проходят в доме, где они прежде жили или совершили нечто памятное. Если слова духа нельзя понять и он не отвечает на вопросы, то он как раз принадлежит к такой категории. Чем терпеливее мы будем, тем быстрее он одолеет воспоминания о земной страсти и смирится.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Мне все еще кажется, что дух, помешавший нашему последнему сеансу, был злым духом. Если мне нельзя изгнать его, то я помолюсь, чтобы Господь защитил нас.
ДОКТОР ТРЕНЧ. У Лулу, которая контролирует миссис Хендерсон, достаточно опыта, и она в состоянии защитить и медиума и нас, однако, если вы помолитесь, чтобы дух обрел покой, то, верно, поможете ей.
Абрахам Джонсон садится и молча, но шевеля губами, молится. Миссис Хендерсон входит вместе с мисс Маккенна и остальными. Мисс Маккенна закрывает дверь.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Миссис Хендерсон, позвольте представить вам мистера Корбета, студента Кембриджского университета и скептика, который надеется, что вы сможете переубедить его.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Мы все когда-то были скептиками. Однако от одного сеанса не следует ждать слишком многого. Придется проявить настойчивость.
Она садится в кресло, другие тоже начинают рассаживаться. Мисс Маккенна подходит к Джону Корбету и они единственные продолжают стоять.
МИСС МАККЕННА. Мне нравится, что вы скептик.
ДЖОН КОРБЕТ. Я думал, вы тоже спирит.
МИСС МАККЕННА. Мне довелось присутствовать на многих сеансах, и иногда я думаю, что все это совпадение или телепатия. (Она говорит тихо.) А иногда думаю так же, как доктор Тренч, и в таких случаях чувствую себя, как Иов, вы знаете его слова, и волосы у меня встают дыбом. Дух проходит надо мною.
МИССИС МАЛЛЕТ. Заприте, пожалуйста, дверь, доктор Тренч, чтобы нам никто не помешал.
Доктор Тренч запирает дверь.
Мисс Маккена, садитесь рядом со мной.
МИСС МАККЕННА. Спасибо. Я сяду рядом с мистером Корбетом.
Корбет и мисс Маккенна садятся.
ДЖОН КОРБЕТ. Сегодня вы тоже чувствуете себя, как Иов?
МИСС МАККЕННА. Я чувствую, что должно случиться что-то необычное, поэтому радуюсь вашему скептицизму.
ДЖОН КОРБЕТ. Так вам спокойнее?
МИСС МАККЕННА. Да, спокойнее.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Мне приятно вновь видеть моих старых друзей и приветствовать мистера Корбета, впервые оказавшегося среди нас. Поскольку мистер Корбет прежде не участвовал в сеансах, я должна пояснить, что мы не вызываем духов, но создаем такие условия, что они сами приходят к нам. Мне неведомо, кто хочет явиться к нам сегодня. Иногда таких много, и проводникам приходится выбирать. Проводники стараются прислать такого духа, который был бы интересен всем, но им это не всегда удается. Если у вас есть желание поговорить с близким человеком, который проходит над вами, советую вам не отчаиваться. Пусть ваш друг не смог прийти сегодня, он придет в следующий раз. Мой проводник – милая девочка по имени Лулу Она умерла, когда ей было пять или шесть лет. Обычно она сообщает, какие духи ждут своей очереди и кто из них хочет говорить с нами. Мисс Маккенна, пожалуйста, несколько стихов из псалма, который мы пели в прошлый раз. Поем все вместе.
Они поют псалом 564 из псалмовника Ирландской церкви.
Ты солнце, ты Спаситель мой, Мне ночь неведома, коль ты со мной: И пусть не сможет злая тьма Твой лик укрыть надолго от меня.Миссис Хендерсон, засыпая, откидывается на спинку кресла.
МИСС МАККЕННА (обращается к Джону Корбету). Она всегда храпит, когда вот так отключается.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Лулу очень рада видеть своих друзей.
МИССИС МАЛЛЕТ. И мы очень рады тебе, Лулу.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Лулу рада новому другу.
МИСС МАККЕННА (обращается к Джону Корбету). Она говорит с вами.
ДЖОН КОРБЕТ. Спасибо, Лулу.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Не смейтесь над тем, как я говорю.
ДЖОН КОРБЕТ. Я не смеюсь, Лулу.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Никто не должен смеяться. Лулу старается, но ей трудно произносить длинные слова. Лулу видит высокого мужчину с густой бородой (миссис Хендерсон касается ладонями щек и подбородка), с лысиной (миссис Хендерсон касается ладонями головы), в красном галстуке со странной булавкой.
МИССИС МАЛЛЕТ. Да… Да…
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). С булавкой в виде подковы.
МИССИС МАЛЛЕТ. Это мой муж.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Он хочет что-то сказать.
МИССИС МАЛЛЕТ. Да.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Лулу не слышит. Он слишком далеко. Теперь подошел ближе. Лулу слышит. Он говорит… Он говорит: «Прогоните его!» Он показывает на кого-то, кто находится в углу, вон в том углу. Он говорит: это плохой человек, и это он не дал провести прошлый сеанс. Если его не прогонят, Лулу будет плакать.
МИСС МАККЕННА. Опять этот дух.
АБРАХАМ ДЖОНСОН. В прошлый раз он один говорил.
МИССИС МАЛЛЕТ. И никому не дал вставить ни слова.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Они прогнали его. Лулу видит молодую даму.
МИССИС МАЛЛЕТ. А мой муж?
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Мужчина с необычной булавкой ушел. Пришла молодая дама. Лулу думает, что она с костюмированного бала. У нее необычное платье и прическа вся из локонов. Все стоят, глядя в пол, рядом со стариком в очках.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Я не узнаю ее.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (детским голоском). Плохой человек, плохой человек в углу, он вернулся. Лулу сейчас закричит. о… О… (Говорит мужским голосом.) Как ты посмела писать ей? Как посмела спрашивать, обвенчаны мы или не обвенчаны? Как ты посмела задавать ей вопросы?
ДОКТОР ТРЕНЧ. Дух страдает… Он не видит и не слышит нас.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (она выпрямилась и, очевидно, очень напряжена. Только губы шевелятся. Говорит мужским голосом). Что ты согнулась там? Разве ты не слышишь меня? Как ты посмела спрашивать ее? Я нашел тебя, когда ты была невежественной девчонкой, чуждой тяге к знаниям и моральным устоям. Сколько раз я пренебрегал приглашениями великих людей, сколько раз пренебрегал лордом-казначеем, сколько раз забывал о государственных делах, чтобы вместе с тобой читать Плутарха!
Абрахам Джонсон приподнимается со стула. Доктор Тренч делает ему знак, чтобы он не вставал.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Тихо!
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Но, доктор Тренч…
ДОКТОР ТРЕНЧ. Замолчите… Мы ничего не можем поделать.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (говорит, как прежде). Я учил тебя во всех случаях думать не так, как привыкла думать Эстер Ванхомрай, а как думали Брут или Катон, не говоря уж о том, что ты ведешь себя, словно обычная шлюшка, которая любит подсматривать в замочную скважину.
ДЖОН КОРБЕТ (обращается к мисс Маккенна). Это Свифт, Джонатан Свифт, разговаривает с женщиной, которую он называл Ванессой. Ее настоящее имя, которое ей дали при крещении, было Эстер Ванхомрай.
МИССИС ХЕНДЕРСОН (голосом Ванессы). Я спрашивала ее, Джонатан, потому что люблю тебя. А почему ты позволял мне проводить по многу часов в твоем обществе, если не хотел, чтобы я полюбила тебя? (Голосом Свифта.) Когда я строил Рим в твоей голове, мне казалось, будто я брожу по его улицам. (Голосом Ванессы.) И это все, Джонатан? И я была лишь холстом художника? (Голосом Свифта.) Боже мой, неужели ты полагаешь, что мне было легко? Я был человеком сильных страстей, но я дал обет безбрачия. (Голосом Ванессы.) Если ты не обвенчан с ней, почему нам нельзя было пожениться, подобно всем мужчинам и женщинам? Я полюбила тебя с первой же минуты, едва ты пришел в дом моей матери и стал учить меня. Мне казалось достаточным смотреть на тебя, говорить с тобой, слушать тебя. Пять лет назад я последовала за тобой в Ирландию, но больше мне не выдержать. Мне недостаточно смотреть, говорить, слушать. Джонатан, Джонатан, я ведь женщина, и женщины, которых любили Брут и Катон, были такими же. (Голосом Свифта.) Я не имею права пеередавать свою кровь потомкам. У меня постоянные головокружения, и я делаю вид, будто в этом виновато неумеренное потребление фруктов в детстве. Но они были и в Лондоне тоже… Там я свел знакомство с великим врачом, доктором Арбетнотом, и рассказал ему о своих приступах и еще кое о чем похуже. И он объяснил мне. У Драйдена есть строчка… (Голосом Ванессы.) Да, я знаю. «С великим разумом безумие в союзе». Будь у тебя дети, они взяли бы и мою кровь, Джонатан, и были бы здоровы. Дай мне руку, я положу ее себе на сердце. Кровь Ванхомраев всегда была здоровой. (Миссис Хендерсон медленно поднимает левую руку.) В первый раз, Джонатан, ты прикоснулся ко мне. (Миссис Хендерсон встает, она напряжена. Говорит голосом Свифта.) Ну и что в том, что ты здорова? Что в том, что я тоже мог бы быть здоров? Неужели все дело в том, чтобы умножить число здоровых мошенников и плутов на земле? (Голосом Ванессы.) Джонатан, посмотри на меня. Твой надменный гений разъединяет нас. Дай мне обе руки. Я положу их себе на грудь. (Миссис Хендерсон поднимает правую руку до уровня левой и кладет обе руки себе на грудь.) Ах, какая она белая – белая, как игральные кости – белые кости из слоновьих бивней. Подумай, все нельзя предусмотреть. Может быть, ребенок родится безумным – может быть, мошенником – может быть, плутом – а, может быть, не безумным, не мошенником и не плутом. Кости гения налиты свинцом, а мои кости обыкновенные. (Миссис Хендерсон простирает вперед руки, словно притягивает кого-то к себе.) Моим рукам не под силу привлечь тебя ко мне. У меня слабые руки, и они ничего не могли бы сделать, если бы ты не любил меня, как я люблю тебя. Ты говорил, что тебя сотрясают сильные страсти. Это правда, Джонатан – в Ирландии нет другого столь же страстного мужчины. Вот почему тебе нужна я, вот почему тебе нужны дети, и никому они не нужны больше, чем тебе. Ты стареешь. Нет горше одиночества, чем одиночество бездетного старика. Даже друзья, такие же старики, отворачиваются от него, ибо тянутся к молодым, к своим детям или к детям своих детей. Им нестерпимо общество себе подобных. (Миссис Хендерсон отходит от своего кресла, однако ее движения постепенно становятся конвульсивными.) Пока ты не стар, Джонатан, и можешь рискнуть, но еще несколько лет, и ты превратишься в несчастного бездетного старика. (Голосом Свифта.) О Боже, услышь молитву Джонатана Свифта, своего страдальца, и сделай так, чтобы он дал своим детям лишь разум, который дарован ему небесами. (Голосом Ванессы.) Джонатан, неужели ты со своим умом не провидишь будущее одиночество? (Миссис Хендерсон идет к двери и обнаруживает, что она заперта.) Кости, белые слоновые кости. (Голосом Свифта.) Боже мой, я остался один на один со своим врагом. Кто запер дверь, кто запер меня здесь с моим врагом? (Миссис Хендерсон бьется в дверь, потом опускается на пол и говорит голосом Лулу) Злой старик! Не позволяйте ему приходить. Злой старик не знает, что он умер. Лулу не может отыскать отцов, матерей, сыновей, которые прошли над ней. У Лулу больше нет сил. (Миссис Маллет помогает измученной миссис Хендерсон вернуться к столу и сесть в кресло. Миссис Хендерсон продолжает спать. Вновь говорит голосом Лулу) Еще несколько стихов из псалма. Пусть все поют. Тогода придут хорошие духи.
Все поют.
И если сын несчастный Твой С небесной выси слышит глас святой, О Боже, чудо сотвори, Пусть в прошлом он оставит все грехи.Пока все поют гимн, миссис Хендерсон шепчет: «Стелла», – однако ее голоса почти не слышно. Поющие привлекают внимание друг друга к тому, что она что-то говорит. Пение стихает.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Мне показалось, что она что-то сказала.
МИССИС МАЛЛЕТ. Я видела, как шевелятся ее губы.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Хорошо бы подложить ей подушку, но, боюсь, мы разбудим ее.
МИССИС МАЛЛЕТ. Этого можете не опасаться. Теперь она выйдет из транса, только когда сама пожелает. (Она приносит подушку и вместе с доктором Тренчем усаживает миссис Хендерсон поудобнее.)
МИССИС ХЕНДЕРСОН (голосом Свифта). Стелла.
МИСС МАККЕННА (обращается к Джону Корбету). Вы слышали? Она сказала: «Стелла».
ДЖОН КОРБЕТ. Ванесса ушла, и ее место занимает Стелла.
МИСС МАККЕННА. Вы заметили, как что-то изменилось, пока мы пели? Новый дух появился в комнате?
ДЖОН КОРБЕТ. Мне показалось, что заметил, но не поверил себе.
МИСС МАЛЛЕТ. Тихо!
МИССИС ХЕНДЕРСОН (голосом Свифта). Возлюбленная Стелла, я обидел тебя? Ты несчастлива? У тебя нет детей, нет любовника, нет мужа. У тебя есть лишь крест да стареющий мужчина в роли друга – и больше ничего нет. Нет, не отвечай – ты уже ответила стихотворением, которое подарила мне на прошлый день рождения. С каким презрением ты говоришь в нем об обыкновенном уделе женщин, которым «только и дано»:
Прожив всего лишь тридцать лет, Они не милуют сей свет, Став девой старою и злой Или постылою женой.Эта мысль принадлежит великому Златоусту, который написал знаменитые слова о том, что женщины, которые любят душой, любят, как дано любить святым, дольше сохраняют свою красоту и много счастливее тех женщин, которые любят плотью. Эта мысль утешает меня, однако очень трудно нести ответственность за счастье другого человека. Бывают минуты, когда я сомневаюсь, когда я думаю, что Златоуст мог и ошибаться. Ты обратилась ко мне в таких словах:
Ты юность длить учил меня Познанием добра и зла, Сердечный отдавая жар Глазам усталым в дар; Как, позабыв о седине, Побольше думать об уме, Как чистотою всеблагой Мне кожу сохранить младой.ДЖОН КОРБЕТ. Это слова, написанные на окне!
МИССИС ХЕНДЕРСОН (голосом Свифта). А потом, поняв, что я боюсь стать одиноким, боюсь пережить моих друзей – и себя, – ты утешила меня в последнем стихе – ты перехвалила мою добродетельную природу, когда мысленно одела меня в богатую мантию, но – ах! – как трогательны слова, которыми ты описываешь свою любовь:
Пусть не торопит смерть меня, Оденусь в плащ богатый я, Чтобы печаль достойно снесть, Пока услышу смерти весть.Да, Стелла, ты закроешь мне глаза. О, ты намного переживешь меня, милая Стелла, потому что ты еще очень молода, но ты должна закрыть мне глаза. (Миссис Хендерсон откидывается на спинку кресла и вновь говорит голосом Лулу.) Злой старик ушел. У меня больше нет сил. Лулу больше ничего не может сделать. До свидания, друзья. (Миссис Хендерсон говорит своим голосом.) Иди, иди! (Она просыпается.) Я только что видела его. Он опять все испортил?
МИССИС МАЛЛЕТ. Да, миссис Хендерсон, мой муж пришел, но он прогнал его.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Миссис Хендерсон устала. Мы должны уйти и дать ей отдохнуть. (Обращается к миссис Хендерсон.) Это было замечательно, никто не смог бы сделать больше, чем сделали вы. (Достает деньги.)
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Нет… Нет… Я не могу взять деньги, да еще после такого сеанса.
ДОКТОР ТРЕНЧ. Можете, миссис Хендерсон, даже должны. (Он кладет деньги на стол, и миссис Хендерсон искоса смотрит на них, стараясь определить, сколько их. То же самое она делает каждый раз, когда прочие присутствующие кладут свои деньги на стол.)
МИССИС МАЛЛЕТ. Неудачный сеанс изматывает не меньше, чем удачный, так что вы заработали эти деньги.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Нет… Нет… Пожалуйста, не надо. Это неправильно – брать деньги за неудачу.
Миссис Маллет кладет деньги на стол.
КОРНЕЛИЙ ПАТТЕРСОН. Жокею платят в любом случае, выиграл он скачки или проиграл. (Кладет деньги на стол.)
МИСС МАККЕННА. Этот дух немного напугал меня. (Кладет деньги на стол.)
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Ну если вы настаиваете…
АБРАХАМ ДЖОНСОН. Сегодня вечером я помолюсь за вас. Попрошу Господа благословить и защитить наши сеансы. (Кладет деньги на стол.)
Все, за исключением Джона Корбета и миссис Хендерсон, уходят.
ДЖОН КОРБЕТ. Я понимаю, миссис Хендерсон, что вы устали, но мне необходимо с вами поговорить. Меня необыкновенно взволновало то, что я услышал. Это подтвердит вам, как я доволен, совершенно доволен. (Кладет на стол банкноту.)
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Фунт стерлингов. Еще никто не давал мне больше десяти шиллингов. Да и сеанс был неудачным.
ДЖОН КОРБЕТ (садится рядом с миссис Хендерсон). Когда я говорю, что доволен, это не значит, что вы убедили меня в присутствии духов. Предпочитаю думать, что вы сами все придумали, следовательно, вы замечательный ученый и не менее замечательная актриса. В моей докторской диссертации я исследую все известные объяснения свифтовского безбрачия и доказываю, что выбранное вами объяснение единственно возможное. Но мне надо спросить у вас. Свифт был самым выдающимся человеком своей эпохи, когда самонадеянный разум освободился от всяческих предрассудков. Но он провидел его трагедию. Он провидел Демократию и, по-видимому, боялся будущего. Он не хотел иметь детей из-за этого страха? Или он был душевнобольным? Или его разум был болен?
МИССИС ХЕНДЕРСОН. О ком вы говорите, сэр?
ДЖОН КОРБЕТ. О Свифте, конечно же.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. О Свифте? Но я не знаю никакого Свифта.
ДЖОН КОРБЕТ. Не знаете Джонатана Свифта, чей дух, как я понимаю, посетил нас сегодня?
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Дух? Тот грязный старик?
ДЖОН КОРБЕТ. Он не был ни старым, ни грязным, когда его любили Стелла и Ванесса.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Когда я просыпалась, то видела его очень ясно. На нем была грязная одежда, а все лицо покрывали фурункулы. Из-за какой-то болезни один глаз раздулся и был похож на куриное яйцо.
ДЖОН КОРБЕТ. В старости он действительно стал таким. Стелла к тому времени уже давно умерла. Он обезумел, и друзья покинули его. Человек, который должен был за ним ухаживать, бил его, чтобы держать в повиновении.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Молодость быстро проходит. Не успеешь оглянуться, а старость уже тут. Ужасно, когда разум покидает тело, спаси Господи.
ДОКТОР ТРЕНЧ (стоит в дверях). Пойдемте, Корбет. Миссис Хендерсон устала.
ДЖОН КОРБЕТ. До свидания, миссис Хендерсон. (Выходит вместе с доктором Тренчем.)
Все присутствовавшие на сеансе за исключением мисс Маккенна, которая вернулась в свою комнату, идут к входной двери. Миссис Хендерсон считает деньги, достает из вазы на каминной полке кошелек и кладет в него деньги.
МИССИС ХЕНДЕРСОН. Как же я устала! Пожалуй, надо выпить чаю. (Находит заварочный чайник и ставит на огонь чайник с водой, после чего сидит, ссутулившись, возле очага, но вдруг поднимает вверх руки и считает свои пальцы, говоря голосом Свифта.) Пять великих министров, которые были моими друзьями, ушли в небытие, десять великих министров, которые были моими друзьями, ушли в небытие. Мне не хватит пальцев сосчитать великих министров, которые были моими друзьями и ушли в небытие. (Миссис Хендерсон вздрагивает и просыпается. Говорит своим голосом.) Куда запропастилась чайница? А, вот она. И где-то тут должны быть чашка и блюдце. (Находит блюдце.) А где чашка? (Без толку бродит по сцене и через некоторое время, после того как блюдце падает на пол и разбивается, говорит голосом Свифта.) Да будет проклят день, когда я родился!
КОНЕЦ
Смерть Кухулина 1939
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Кухулин.
Эйтне Ингуба.
Айфе.
Эмер.
Морригу, богиня войны.
Старик.
Слепец.
Слуга.
Певец, Флейтист, Барабанщик.
Сцена. Пустые подмостки без примет какого-то определенного времени. Очень СТАРЫЙ ЧЕЛОВЕК кажется неким мифологическим явлением.
СТАРИК. Меня попросили написать пьесу под названием «Смерть Кухулина», последнюю в серии пьес о его жизни и смерти. Попросили же меня, потому что я допотопный старик и сделан из того же немодного романтического материала, что и эта пьеса. Стар я так, что давно забыл имена отца и матери, если только я в самом деле не сын Тальма, как мне нравится думать. Тальма тоже был стариком, друзья и приятели которого все еще читали Вергилия и Гомера. Когда мне сказали, будто я могу говорить, что мне вздумается, я написал на газетном клочке пару основных положений. Меня бы устроила аудитория в пятьдесят или сто человек, но если вас больше, то прошу не шаркать ногами и не переговариваться, когда актеры будут произносить свои реплики. Так как я писал пьесу для людей, которые мне приятны, уверен, что в наш продажный век таких не может быть больше, чем было на первом представлении «Комуса» Мильтона. Мои зрители наверняка знают старые сказания и пьесы мистера Йейтса на их сюжеты, ведь у этих людей, как бы ни были они бедны, есть свои библиотеки. Если же сегодня пришло больше ста человек, то среди них обязательно найдутся люди, образовывавшие себя в разных книжных и им подобных сообществах, то есть лжеученые, воры-карманники, самонадеянные твари.
Почему карманники? Я объясню, вы поймете.
За сценой слышатся барабан и флейта, потом опять наступает тишина.
Наши музыканты. Я попросил их подать мне знак, если очень разволнуюсь. Доживите до моих лет и тоже станете не в меру чувствительными. Сегодня вечером вы еще услышите их. Наших певца, флейтиста и барабанщика. Они играли и пели на улицах; там я нашел их, всех по отдельности, и теперь буду учить, если не умру, музыке бродяг, то есть музыке Гомера. Обещаю вам и танец. Это мне захотелось ввести танец, потому что, если нет слов, то нельзя ничего испортить. Так как должна танцевать Эмер, то должны быть отрубленные головы – я стар и не могу изменить мифологии – должны быть отрубленные головы, перед которыми она будет танцевать. Поначалу мне пришло на ум вырезать деревянные головы, но потом, нет, чтобы она танцевала правильно, лучше всяких голов будут крашеные деревяшки в виде параллелограммов. Однако в тупик меня поставила другая проблема, как найти хорошую танцовщицу; одну такую я знал, но ее больше нет; а ведь это должна быть трагикомическая танцовщица, трагическая танцовщица, потому что ее рвут на части любовь и ненависть, жизнь и смерть. Три раза я плевался.
Плевался на балерин Дега. Плевался на их короткие туловища, на их скованность, на их пальчики, на которых они крутятся, как волчки, но больше всего на их лица, как у горничных в отелях. Пусть бы на них вовсе не было отпечатка времени, пусть бы они были, как Рамзес Великий, но только не горничными, не служанкой с ее обычной историей. Я плевался! Плевался! Плевался!
Сцена темнеет. Занавес падает. Начинают играть флейта и барабан и играют до тех пор, пока занавес не поднимается над пустой сценой. Проходит полминуты, и появляется Эйтне Ингуба.
ЭЙТНЕ.
Где Кухулин?Из глубины сцены появляется Кухулин.
К тебе я от Эмер. Твоя жена меня к тебе прислала, Чтоб ты забыл о лени, ибо Медб, С собою взяв из Коннахта злодеев, Амбары и дома жжет в Эмайн Маха: Твой дом в Муиртемне уже сгорел. Не думай о причинах этих бед, Скачи на битву, смерти не страшась. Готова сцена, выход за тобой.КУХУЛИН.
Ты опоздала с вестью. Я все знаю, Уже послал гонца собрать людей, Вот жду его. А что там у тебя?ЭЙТНЕ.
Где? Ничего.КУХУЛИН.
Да у тебя в руке.ЭЙТНЕ.
Нет.КУХУЛИН.
Нет? А что тогда в руке ты держишь?ЭЙТНЕ.
Ах, это! Как оно ко мне попало? Я прямо от Эмер. Мы встретились. Поговорили.КУХУЛИН.
От Эмер письмо. В нем о другом. Промедлить, верно, должен До завтра я. На сей раз ждет меня Беда, из коей мне живым не выйти. Наутро ж Конал Кернах будет тут С великим воинством.ЭЙТНЕ.
Не понимаю. Кто и зачем письмо вложил мне в руку?КУХУЛИН.
Что ж понимать? Я до утра промедлить Тут должен; а тебя прислали, чтоб Меня тут задержать. Да нет, не бойся, Написано здесь так. Мне ж по душе, Как сказано тобой, скакать на битву. Немного нас тут, но мы все едины. Победа не всегда бывает легкой.Входит Морригу и становится между ними.
ЭЙТНЕ.
Скажи, кто между нами встал сейчас? Не видно никого.КУХУЛИН.
Нет никого.ЭЙТНЕ.
Кто с птичьей головою из богов?КУХУЛИН.
Ну, голова воронья у Морригу.ЭЙТНЕ (изумленно).
Богиня войн Морригу между нами И черным трогает крылом плечо Мое.Морригу уходит.
Медб на меня наслала сон. Когда юнцом ты, Кухулин, с ней спал, Красива Медб была, как птичка, но Потом другою стала, глаз во лбу У ней.КУХУЛИН.
У ней во лбу сверкает глаз? И у нее воронья голова? Но в той, что в рот тебе слова вложила, Не видел я уродства никакого. Ты не придумала? Ищи себе Того, кто помоложе. Или правда, Что, испугавшись, ты сама решила Меня на смерть послать своим умом? В волненье ж ты забыла о письме, Что у тебя в руке.ЭЙТНЕ.
Проснулась я, Скажу, что Медб не занимать ума. Разве не мне поверит Кухулин?КУХУЛИН.
Я обезумел после смерти сына, Войной пошел на море, и жена Меня вернула к жизни.ЭЙТНЕ.
Много жен Тебе служило, но меня ты выбрал.КУХУЛИН.
Боялась ты, что, если изменилась, Тебя убью, но все меняется В подлунном мире, и урод здесь я, Коль все такой же.ЭЙТНЕ.
Я тебя любила, Ты не прощал предательство тогда И, если мне не веря, ты прощаешь, То, верно, смерть твоя не за горами.КУХУЛИН.
Ты громко говоришь и возле двери; Зачем кричать о смерти, да еще С таким волненьем, ведь не знаешь ты, Кто может нас подслушать из-за двери?ЭЙТНЕ.
Возможно, кто предателя запомнит, В ком страсть еще бурлит для жизни, Кто не торопит смерть. Когда уйдешь, Я всем представлюсь: поварам, гонцам, И оружейникам, и поварятам. Пусть бьют ковшами и ножами режут, На вертел пусть сажают, пусть умру Позорной смертью, что им будет люба, И тень моя между другими встретит Открытым честным взглядом тень твою.КУХУЛИН.
Ах, речи жен, замысливших худое.Входит Слуга.
СЛУГА.
Твой конь готов. И люди ждут приказа.КУХУЛИН.
Сейчас, сейчас. Всего один вопрос. Та женщина, что вне себя от горя, Сказала, будто ложь в ее словах, Так как она предать меня решила И смерть мне уготовить. Что же делать? Как мне спасти ее от чар враждебных?СЛУГА.
Она призналась?КУХУЛИН.
Правда мне известна! Она явилась с вестью от жены.СЛУГА.
А если дать ей макового сока?КУХУЛИН.
Что ж, дай, но береги ее от смерти, Как самого себя. Коль не вернусь, Пусть Конал позаботится о ней, Его ведь любят жены.ЭЙТНЕ.
Вот знать бы, Что та Морригу с головой вороньей Была честна и правду мне сказала О том, что скоро Кухулин умрет.Опять играют флейта и барабан. Сцена ненадолго темнеет. Когда вновь зажигается свет, на сцене пусто. Входит раненый Кухулин. Он пытается привязать себя ремнем к каменной колонне. Входит Айфе, женщина с прямой осанкой и белыми волосами.
АЙФЕ.
Эй, Кухулин, ты узнаешь меня?КУХУЛИН.
Ты меч в руках держала; думал я, Что мы убьем друг друга, но потом Ты ослабела, и я меч забрал.АЙФЕ.
Смотри же, Кухулин! Смотри еще!КУХУЛИН.
Ах, волосы твои белым-белы.АЙФЕ.
Пора забыть о прошлых временах. Мой наступил черед. А ты умрешь.КУХУЛИН.
Где я? Зачем я здесь?АЙФЕ.
Ты всех прогнал, Ведь получил ты шесть смертельных ран, Потом из родника хотел напиться.КУХУЛИН.
На камень я накинул пояс свой, Чтоб крепко привязать себя к нему И стоя умереть, но сил уж нет. Ты пояс затяни.Айфе помогает Кухулину.
Тебя я знаю. Ты – Айфе, и мой сын твоим был сыном. Я помню наш источник Ястребиный И берег Байле, где убил его. Так, значит, чудо сотворила Медб, Чтоб ты могла убить меня по праву.АЙФЕ.
По праву – да, но Медб тут ни при чем, И воины ее меня не знают, Из Маха серый конь, в бою убитый, Вновь появился, выйдя из воды, Живой как будто, обошел три раза Вокруг тебя и камня, а потом Опять ушел под воду, и никто Из всех ни шагу не посмел ступить, Кроме меня.КУХУЛИН.
Ну, у тебя есть право.АЙФЕ.
Старуха я теперь, и, чтоб ты, силы Возвратив себе, не вырвался на волю, Я к камню крепко привяжу тебя Своею шалью.КУХУЛИН.
Не порви ее. Прекрасны твои шали. Помню ту, Что золотом сверкала.АЙФЕ.
Я забыла.Связывает Кухулина шалью.
КУХУЛИН.
Зачем тебе лишаться этой шали? Ведь, много крови потеряв, ослаб я.АЙФЕ.
Боялась я тебя, но вот связала И больше не боюсь… Как бился сын мой?КУХУЛИН.
Со временем он мог бы стать искусней, Но лучше? Нет!АЙФЕ.
Слыхала, ты не знал, Как мальчика зовут, но Айфе он Тебе напомнил, и стать другом ты Хотел ему, да Конхобар был против.КУХУЛИН.
Да, против. Конхобар велел сражаться. В тот день я в верности ему поклялся И клятве изменил, сказал о сходстве, Но кто-то речь завел о колдунах, И я решил, что сходство – их работа, Мы стали драться, я убил его, Потом сошел с ума и с волнами Сражался.АЙФЕ.
Я была непобедима, А ты забрал мой меч, меня же бросил Одну в горах, но я тебя нашла, Я девою легла с тобою рядом И ненависть узнала, как ушел ты, И поклялась убить тебя во сне, Но сына ночью родила меж черных Двух тёрнов.КУХУЛИН.
Я тебя не понимаю.АЙФЕ.
Умрешь ты скоро! Идет к нам кто-то. Селянин, верно. Он тебя увидит И, беззащитный, содрогнется в страхе. А я исчезну, правда, я еще Кое о чем тебя спросить хочу.Айфе уходит. Появляется Слепец из пьесы «На берегу Байле». Он водит вокруг себя палкой, пока не находит камень, тогда кладет палку на землю, наклоняется, касается рукой ноги Кухулина, ощупывает его ноги.
СЛЕПЕЦ.
Ой! Ой!КУХУЛИН.
Я помню, ты – слепой СТАРИК.СЛЕПЕЦ.
Слепой старик, БРОДЯГА. Да. А ты кто?КУХУЛИН.
Я – Кухулин.СЛЕПЕЦ.
Болтают, ранен ты. Когда сражался ты на Байле-бреге, Стоял я между Дураком и морем. Твои запястья связаны по-женски. С утра я тут брожу с моею палкой, Потом услышал голоса, просить стал, Потом узнал, что я в шатре у Медб, Мне приказал, по голосу, верзила, Чтоб Кухулина голову принес В мешке, и мне дадут двенадцать пенсов. Я взял мешок на кухне возле двери, И мне сказали, где тебя искать, Не думал обернуться я до ночи, Ан нет, счастливый выпал мне денек.КУХУЛИН.
Двенадцать пенсов!СЛЕПЕЦ.
Я б не согласился, Не прикажи мне королева Медб.КУХУЛИН.
Двенадцать пенсов! Это ль не причина, Чтобы убить? А нож ты наточил?СЛЕПЕЦ.
Нож острый, им всегда я мясо режу.Кладет мешок на землю, после чего начинает ощупывать тело Кухулина, поднимаясь все выше и выше.
КУХУЛИН.
Тебе, Слепец, должно быть, все известно. То ль мать, то ль няня говорили, будто Слепцы все знают.СЛЕПЕЦ.
Нет. Берут чутьем. Иначе денег не видать бы мне За голову твою.КУХУЛИН.
Летит вон там То нечто, чем я стану, умерев, Моей души первообличье вижу, Пушистое и славное на редкость, И странное для воинской души, Тем более моей.СЛЕПЕЦ.
Ну вот, плечо. Вот шея. Ой! Ой! Как ты, Кухулин?КУХУЛИН.
Как я? Пожалуй, петь охота.На сцене гаснет свет.
СЛЕПЕЦ. Ой! Ой!
Слышится мелодия флейты и барабана. Занавес падает. Музыка стихает по мере того, как поднимается занавес над голой сценой. На ней никого нет, кроме женщины с вороньей головой. Это Морригу. Она стоит ближе к заднику. В руках у нее черный параллелограмм величиной с человеческую голову. Возле задника еще шесть таких параллелограммов.
МОРРИГУ.
Я говорю для мертвых. Мне внемлите! Вот Кухулина голова. Вот шесть Других – тех воинов, что нанесли Ему шесть ран смертельных. Юный воин Его ударил первым, а вторым Любовник королевы Медб последний, Владевший ею лишь однажды. Были Четвертым, третьим сыновья ее — Из храбрых храбрецы. А двое прочих Вниманья нашего не заслужили, Ведь Кухулин уже едва не падал. Всем Конал отомстил. Эмер, твой танец.Появляется Эмер. Морригу кладет голову Кухулина на пол и уходит. Эмер выбегает на середину и начинает танцевать. Она двигается так, что очевидна ее ненависть к тем, кто ранил Кухулина, возможно, она даже как будто ударяет их, делая три круга вокруг голов. Потом она приближается к голове Кухулина, которая может быть, если необходимо, помещена выше остальных на некоем пьедестале. Эмер изображает восхищение, поклонение. Она даже хочет пасть ниц, может быть простирается перед головой Кухулина на полу, потом встает, глядит, как будто прислушивается, в нерешительности останавливается. Застывает на месте. Наступает тишина, которую нарушает еле слышное птичье пение. На сцене медленно гаснет свет. Слышна громкая музыка, но совсем другого рода. Музыка, скажем, современной Ирландской ярмарки. Сцена снова освещена. Но уже нет ни Эмер, ни голов… Есть лишь три музыканта. Они одеты в лохмотья, как уличные музыканты, двое играют на флейте и барабане. Потом перестают играть. Вступает певец.
УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ.
Бродяге как-то шлюха пела. Мне часто видятся они, Наш Конал, Кухулин, иных Времен прекрасные вожди. Троих любила Медб за час, Поверь, так люди говорят, И мне по вкусу твердый шаг, И крепкий торс, и умный взгляд, Но где теперь их взять? Я слышу ржанье лошадей, Я вижу бледный узкий лик И помню, сколько между нами Столетий минуло, как миг. Есть и сегодня, средь живых, Кто платье снять с меня дерзает, Но я люблю и ненавижу Лишь тех, кто мной овладевает.Играют флейта и барабан.
Ужели муж одно лишь знает: Люблю иль ненавижу? Кто рядом с Пирсом и Коннолли Почтамт мятежный защищал?[7] Кто выйдет из горы, когда-то Залитой кровью человечьей? Кто вспомнил Кухулина, прежде Чем встал он с нами в муке вечной? Жене сегодня не родить Богатыря такого, Но лишь старик, смотря назад, Величье признаёт былого. Твореньем Шеппарда навечно Отмечен наш Почтамт мятежный, Твореньем Шеппарда[8] навек, Так пела шлюха побродяжке О том, что может человек.Вновь слышны флейта и барабан.
КОНЕЦ
Примечания
1
Имеется в виду ирландский хоккей на траве.
(обратно)2
Имеются виду большие бутыли со сплюснутыми боками.
(обратно)3
Псалом 106.
(обратно)4
Аллюзия на северо-ирландское тайное католическое общество (Ribbon Society).
(обратно)5
Имеются в виду члены тайной крестьянской организации в Ирландии (Whiteboys).
(обратно)6
Имеется в виду Ribbon Society, упоминавшееся в первом акте.
(обратно)7
Имеется в виду Пасхальное или Дублинское восстание 1916 г.
(обратно)8
На Почтамте стоит статуя Кухулина работы Оливера Шеппарда.
(обратно)



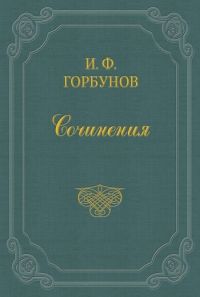


Комментарии к книге «Пьесы», Уильям Батлер Йейтс
Всего 0 комментариев