Андре Руссен Апрельской ночью
Действующие лица
МУЗА.
ПИСАТЕЛЬ.
Стук в дверь.
Писатель. Кто там?
Громкий голос. Твоя муза!
Писатель. С голосом пьяного биндюжника? Приходится верить! Входи!
Входит стройный человек, веселый и жизнерадостный.
я никогда не представлял свою музу в прозрачной кисее, хоть и люблю прозрачные покровы, и особенно то, что сквозь них просвечивает. Поэтому согласен на музу с усами.
Муза (теперь уже нормальным голосом). Хотел бы, наверно, иметь мои, пышные? Я строго слежу, чтобы они совпадали с линией горизонта. На моем лице это как росчерк аристократа. Хорошо, когда нищий выглядит как принц. Я забочусь о своей внешности. Как поживаешь?
Писатель. Что тебя привело?
Муза. Мое любопытное сердце и моя неизлечимая филантропия. Я существо, живущее по ночам, — прогуливаюсь и с угла площади замечаю твое освещенное окно. И думаю: «Этот несчастный пробует засадить себя за работу. Что ему может быть сейчас приятнее всего? Разумеется, чтобы ему помешали!» И, повинуясь милосердному чувству, взбираюсь на пятый этаж.
Писатель. А и твоему милосердию не примешалось некоторое чувство жажды?
Муза. В момент принятия решения — абсолютно нет. Оно было продиктовано чистейшим альтруизмом. Но после крутого подъема, тебе знакомого, если бы у тебя был коньячок… Я бы не поклялся, что…
Писатель. У меня есть что выпить. Естественно! Поскольку я сам не пью. Наливай сколько хочешь. Ты из тех, кому алкоголь придает легкость настроения и оптимизм. Вот почему я тебя и впустил. Мне не хватает оптимизма. Откуда ты шел?
Муза. Оттуда, где пили. Естественно! Поскольку я сам пью.
Писатель. Весело?
Муза. Тоска! Как всюду, где пьют. За исключением твоего кабинета. Ты серьезно трудился?
Писатель. Серьезно? Не знаю. Концепция труда так несостоятельна, а мое представление о нем так несамостоятельно, что я никогда в точности не знаю, работаю или нет. Я снял и обставил эту комнату именно как место работы, но мне случается ловить здесь мух, как все мы это делали в восемь лет, или просто сидеть, бессмысленно уставившись круглым глазом в чистый лист бумаги, подобно курице, перед клювом которой провели мелом черту. И в мозгу моем не шевелится ни слова, ни намека на идею. Если бы ктонибудь застал меня в эти минуты, он вышел бы на цыпочках, приняв меня на Гете, озаренного высшим вдохновением. «Ничто так не похоже на думающего человека, как человек, имеющий этот вид». Это единственная забавная фраза у Сюлли Прюдома. Он подписал ее под собственной фотографией. И точно, когда видишь его огромную голову, кажется, что там роятся миры мыслей. 3а вычетом большой головы, это — мой случай… Мышление — не моя сильная сторона.
Муза. Над чем ты работал?
Писатель. Над пьесой, как и всегда.
Муза. Комедия?
Писатель. Вероятно.
Муза. Теоретически ты прав. Но в конкретный момент — нет. На это смотрят косо.
Писатель. Публика?
Муза. Нет, интеллектуалы. И они ошибаются не всегда.
Писатель. А критики?
Муза. Тоже!
Писатель. Ну и пусть!
Муза. Не «пусть». Они пишут.
Писатель. Ну и что?
Муза. А другие читают. Достаточно, чтобы один дурак написал, что ты идиот, и двести тысяч людей решат, что ты кретин.
Писатель. Я не могу никому помешать иметь такое мнение.
Муза. Можешь! Не пиши комедий. Пиши пьесу о тревоге.
Писатель. Какой?
Муза. Любой. О тревоге жить — во-первых. Ну, это напрашивается само собой. Затем о тревоге — не жить… Нужно время от времени в театре, как в литературе вообще, совершать открытие, что человек смертен. Конечно, все всегда имели об этом более-менее смутно представление… Но привлекателен сам факт открытия. Это ценится очень высоко. Итак, в первом акте: ты открываешь, что ты смертен; во втором акте: ты не понимаешь, как ты можешь быть смертным. Третий акт самый щекотливый: ты принимаешь это или не принимаешь. Я тебе советую, скорее, не принимать. Мы живем в эпоху протеста. И так, третий акт: ты оказываешься признать себя смертным. Эпилог ты умираешь. Я утверждаю, что, если ты напишешь такую пьесу, ты не получишь ни одного отрицательного отзыва! Критики уважают две вещи: тревогу и смерть. Значит, ты должен — при непременном условии ни в какой момент не насмешничать — тяжелым, полным грусти взглядом воззриться на бескрайнее болото человечества, в котором, ты чувствуешь, погрязаешь сам. Ты пробуешь вытащить одну ногу, замечаешь, что другая прогрузилась еще глубже, ты бьешь руками по тине, она забрызгивает тебе лицо, ты крючишься под зловонной грязью и кричишь, что все в этом мире грязь! Грязь! Грязь! Обязательно надо подтвердить, что все грязь, грязь, грязь! (Если чувствуешь прилив красноречия, время от времени вставляй слово «дерьмо») А потом, воздев к небу кулак, ополчись на Судьбу, Рои, мерзость твоего состояния, состояния человека, попавшего в выгребную яму. И чем больше ты орешь, что ты его не принимаешь, тем больше ты погружаешься и тем яростней протестуешь! И даже с полным ртом ты все еще кричишь: гр… rp… гр… Ты погружаешься еще — и вот уже только твой кулак грозит, но постепенно замирает: ты достиг дна. И луч прожектора освещает этот крепкий, неподвижно замерший вечный кулак, который и в самой твоей смерти продолжает говорить смерти «нет». Занавес не падает, потому что занавеса нет. Вот и вся твоя пьеса. Только если где-то подмигнешь — все пропало! Никогда не улыбайся! Это основное условие, чтобы все заговорили о твоем юморе. Я в тебе очень разочаруюсь, если ты этого не усвоишь. Это докажет, что ты думаешь только о деньгах и ни капли не заботишься о своей репутации.
Писатель. Короче говоря, ты «бичуешь пороки времени»?
Муза. Я всегда бичую всяческие пороки. Вот почему я решительно, яростно за театр тревожный, метафизический, протестующий, апокалипсический и сексуальный. Я за театр, который выявляет, изъявляет, объявляет, обличает, подтверждает, пересматривает, ставит вопрос ребром, думает, передумывает, привносит и выносит на обсуждение, воздвигает и выдвигает, шокирует и просвещает. Пойми, я — старый парижанин, я знал еще знаменитую труппу варьете (Ги, Ирэнс, Лавальер, ты знаешь припев), я застал время, ногда люди ходили в театр, как дети в цирк, ради развлечения… но это было в исторический период, протухший от гнилого мещанства. Сегодня, в моем возрасте, я полноправно вхожу в авангард — это единственный способ поддерживать молодость духа. Я же понимаю, что в ваши дни у интеллигентных и культурных людей устремления более благородные, чем у их отцов. Мы живем в эпоху, в которую, я не говорю, что нет рогоносцев, но их удел интереса не вызывает. Рогоносец утратил свое магическое достоинство вызывать смех. Не забывай, что мы расщепили атом! Куда уж тут рогоносцам! Нужно шагать в ногу со временем. И театр тоже должен забросить человека ради сверхчеловека и комическое ради космического. Как называется твоя новая пьеса?
Писатель. «Безюке».
Муза. Ну, горбатого могила… Ты абсолютно по воспринимаешь человека в схватке со своей судьбой. Низко летаешь. «Безюке»! И это о чем?
Писатель. О любви.
Муза. Опять?
Писатель. Разве это скучно?
Муза. Банально. А что происходит?
Писатель. Мужчина любит женщину.
М уза. И дальше?
Писатель. Она его тоже любит.
Муза. Умоляю тебя, не говори мне, что кто-то или чтото препятствует их любви.
Писатель. Вот именно!
Муза. Ну и что?
Писатель. Все.
Муза. Они умирают?
Писатель. Нет.
Муза. Лучше бы уж умерли.
Писатель. Почему?
Муза. Тогда бы ты смог говорить о смерти. Я же тебе повторяю: смерть — это сейчас то, что нужно, отлично, превосходно. И вообще, любовники, которые не умирают, — это рискованно. Можно предположить, что им вместе будет хорошо.
Писатель. Что касается моих, все поймут, что счастье невозможно.
Муза. На это ты способен. Но, в конце концов, ведь не с этим ты попадешь в струю! Кстати, пьеса забавная?
Писатель. Нет.
Муза. Нужно знать, чего хочешь! Если пишешь ради денег, надо писать смешно! А если ради искусства будь любезен, придумай что-то другое!
Писатель. Но любовь-то существует!
Муза. Открыл!
Писатель. Когда мужчина и женщина любят друг друга, это же интересно.
Муза. Хорошо! Но тогда — никакого текста.
Писатель. Один диалог?
Муза. Нет! Без диалога. Во-первых, они у тебя должны быть голые.
Писатель. Кто?
Муза. Твой мужчина и твоя женщина.
Писатель. Почему?
Муза. Потому что ты пожертвуешь частностями ради главного. Голые! Причем оба! Договорись обязательно, чтобы в театре хорошо топили. И потом, все, что ты хочешь, чтобы они сказали, они не должны говорить.
Писатель. А что же они будут делать, голые, молча?
Муза. Самовыражаться.
Писатель. Как?
Муза. Или выражать.
Писатель. Что?
Муза. Все.
Писатель. Танцуя?
Муза. Если тебе угодно. Они могут и танцевать.
Писатель. Но это не балет, это пьеса.
Муза. Что это значит — пьеса! Клянусь, только ты один и остался. Никто не употребляет это давно вышедшее из моды слово. Нужно, чтобы ты «выражаю», и все! Не ищи ничего другого! Добейся того, чтобы без обветшалого диалога, без набивших всем оскомину слов твои персонажи «самовыражались» жестами, движениями плеч — можно и задов, ведь они голые, — криками, вздохами, взглядами.
Писатель. Короче говоря, мимическая пьеса?
Муза. Нет. Тотальный театр. Зрелище, я тебе говорю. Зре-ли-ще. Пьеса? С ними покопчено! Долой пьесы! Зре-ли-ще! Я знаю, о чем говорю! Я знаю, что сейчас делается! я каждый вечер хожу в театр.
Писатель. Я никогда не хожу.
Муза. Поэтому ты и закоснел. Это неизбежно. Театр умep, как мне тебе это втемяшить!
Писатель. Театр всегда умирал. Эсхил изобрел диалог. Беккет любил монолог, но нормальным состоянием театра всегда была агония.
Муза. На этот раз, конечно, он помрет. Ты сам сказал: со времен Эсхила театр говорит.
Писатель. Ну и что?
Муза. Пора уж замолчать! Пять тысяч лет болтовни, ты не находишь, что это перебор?
Писатель. Во всяком случае, это подтверждение в его пользу!
Муза. Пять тысяч лет подтверждений?
Писатель. Лучшее доказательство.
Муза. Настало время изобрести новую формулу.
Писатель. Чтобы лучше понимать друг друга?
Муза. Чтобы самовыражаться.
Писатель. Без слов?
Муза. Без слов.
Писатель. Как дикари вокруг костра — кричат, размахивают руками.
Муза. Вот именно. Будущее в руках тех, кто вновь ощутит чувство ритуала, врожденную дикость и раскроет подспудные страсти примитивного человека.
Писатель. Зачем же тогда была нужна цивилизация?
Муза. Именно затем, чтобы убить в человеке человека! Разве не ясно? Вот почему нужно вдохнуть в него животворящие силы, чтобы, пройдя через культ физического, он снова изобрел метафизику, а обновив свои идеалы, пришел к чувству священного.
Писатель. Ты увлекаешься философией?
Муза. Я тебе говорю о театре!
Писатель. Сначала я хочу узнать, что такое театр сегодня.
Муза. Я тебе о нем и рассказываю. А ты мне отвечаешь только представлениями о театре позавчерашнем.
Писатель. Позавчерашний театр — всегда театр послезавтрашний.
Муза. Мы — типичный пример некоммуникабельности.
Писатель. Ты видишь — мы оба авангард, как господин Журден говорил прозой.
Муза. Я говорю тебе о том, что Должно быть, раз уже наступает то, что будет.
Писатель. Голые люди, которые перестали разговаривать? И которые выражают тревогу, шевеля пальцами ног?
Муза. Почему ног?
Писатель. А почему не ног?
Муза. Ты прав. Нога не хуже слов может выразить протест против общества.
Писатель. Уже тысячи лет, как нога нашла свою форму протеста. Она всем известна: это — пинок под зад.
Муза. Вот именно! Нужно отталкиваться именно от ноги, чтобы совокупность действия и драматического выражения нашего времени стала здоровенным пинком во все предшествовавшие формы мысли и искусства. Ты это понимаешь, ты это чувствуешь, и ты сам это придумал! Я бы только хотел, чтобы ты не ограничился этой гениальной интуицией, но чтобы ты вошел в круг, чтобы ты первый отвесил сам себе огромнейший пинок, так чтобы лязгнули зубы и глаза выскочили из орбит. И если ты сам его себе не влепишь, это сделают другие, но такого эффекта не будет. Нужно уметь пинать самого себя ради спасения искусства и с ним — личного спасения.
Писатель. Видишь, ты сразу же требуешь от меня невозможного.
Муза. Ничего невозможного нет.
Писатель. Есть. Посмотрю я, как ты поддашь самому себе! По своей природе пинок под зад альтруистичен. И себя пинать откажется лучший акробат.
Муза. Ты топишь суть в каламбуре и легковесной шутке, потому что знаешь, что я прав, и это тебе не по нраву. Это противно всему, что для тебя привычно. Однако я верю, что ты поразмыслишь как следует, и то, что я посеял, даст всходы. Ради этого я и приходил. Я выдержал во всем свою роль музы, я взял тебя за руку и наставил на путь, истинный, я попытался снять с твоих глаз шоры… хоть я и не болтун, не знаю, что бы я мог еще добавить… разве что «спасибо» за твой коньяк — он превосходен, я еще заскочу. Но скажи же мне по крайней мере перед уходом, что мои слова не остались для: тебя пустым звуком, что ты чтото понял, что ты сделаешь над собой усилие, хотя бы для того, чтобы тебя немного больше ценили. Для пиcaтeля очень важно чувствовать, что его уважают. Скажи мне хоть слово, обнадежь меня. Теперь, после всех моих речей, как ты поступишь со своими дяденькой и тетенькой?
Писатель. Буду слушать, что они говорят.
Муза. И, конечно, записывать?
Писатель. Конечно.
Муза. И все это по-прежнему будет называться «Безюке»?
Писатель. Это хорошее название.
Муза. Тем хуже для тебя! Я сделал все, что мог! Никогда тебе из этого не выкарабкаться… (Выходит с гримасой отвращения.)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg
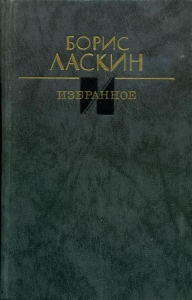
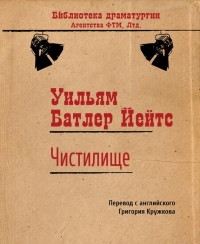


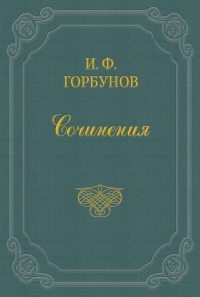
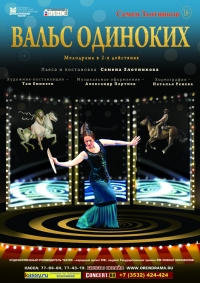

Комментарии к книге «Апрельской ночью», Андре Руссен
Всего 0 комментариев