«В Датском королевстве…»
Датская литература — не только Хaнc Кристиан Андерсен Вступительная статья
Если в российском книжном магазине спросить у покупателя, остановившегося перед полкой с переводной литературой, кто из датских писателей ему известен, он, скорее всего, уверенно произнесет имя Ханса Кристиана Андерсена, а потом, после паузы, — Сёрена Киркегора, Карен Бликсен или Питера Хёга.
Этот перечень — лишь малая часть датской литературы, получившая известность в России. Если присмотреться к литературе маленькой Дании с ее пятимиллионным населением, то окажется, что ей есть что предложить читающему миру.
Составителям этого номера прежде всего хотелось познакомить читателя с литературными жанрами, характерными для современной датской литературы, причем сделать это на примере творчества еще не знакомых российскому читателю авторов.
Номер открывается фрагментами романа Кнуда Ромера «Ничего, кроме страха». В 2006 году известный телеведущий, специалист по рекламе и актер, снимавшийся в фильме Ларса фон Триера «Идиоты», опубликовал свой дебютный роман, который сразу же сделал его знаменитым. Роман Кнуда Ромера, повествующий об истории нескольких поколений одной семьи на фоне исторических событий XX века и удостоенный нескольких престижных премий, переведен на пятнадцать языков.
В рубрике «Литературное наследие» представлен один из самых интересных датских писателей первой половины XIX века. Стена Стенсена Бликера принято считать отцом датской новеллы. Он создал свой собственный художественный мир и оригинальную прозу, которая не укладывается в рамки утвердившегося к двадцатым годам XIX века романтизма. В основе сюжета его произведений — часто необычная ситуация, которая вдобавок разрешается совершенно неожиданным образом. Рассказчик, alter ego автора, становится случайным свидетелем драматических событий, разворачивающихся на фоне унылых ютландских пейзажей, и сопереживает героям, страдающим от несправедливости мироустройства.
Классик датской литературы Клаус Рифбьерг, который за свою долгую творческую жизнь попробовал себя во всех жанрах, представлен в номере небольшой новеллой «Столовые приборы», в центре которой судьба поколения, принимавшего участие в протестных молодежных акциях 1968 года.
Еще об одном классике датской литературы — Карен Бликсен — в рубрике «Портрет в зеркалах» рассказывают такие признанные мастера, как Марио Варгас Льоса, Джон Апдайк и Трумен Капоте.
Бенни Андерсен, известный всей Дании благодаря своим лирическим песням, представлен в номере не только поэзией, но и небольшой новеллой. Как в поэзии, так и в прозе он при внешней простоте изобразительных средств всегда изящен, остроумен и психологичен.
Полные своеобразного юмора и озорства «экзотические» гренландские истории Йорна Риля, путешественника и исследователя, награжденного многими национальными литературными премиями, на первый взгляд стоят особняком в современной литературе, но при более глубоком анализе в них можно усмотреть параллели с книгой Карен Бликсен об Африке.
Поиски новой эстетики привели в 90-х годах XX века к возникновению нового направления в датской литературе — минимализма. Для минималистских произведений, представляющих собой зарисовки из повседневной жизни, характерен упрощенный синтаксис, анонимность стиля и нарочитая удаленность автора. Наиболее ярким представителем этого направления стала Хелле Хелле, с двумя новеллами которой могут познакомиться читатели номера.
Отдельные черты минимализма присутствуют и в творчестве известного прозаика Найи Марие Айдт, новеллы которой, обычно повествующие о каком-нибудь незначительном событии, способном мгновенно перевернуть размеренную жизнь ее героев, написаны простым, незатейливым языком. Некоторые из новелл, завораживающие переплетением реальности и вымысла, вызывают у читателя чувство тревоги и даже страха.
Драматические произведения сегодня зачастую воспринимаются как своего рода приложение к «настоящей» литературе, но в Дании в последние два десятилетия драматургия стала одним из ведущих литературных жанров. Многие критики говорят о «буме 90-х в современной датской драматургии», о «постмодернистском прорыве в драматургии» и даже о «золотом веке театра». В номере представлена пьеса одного из самых известных драматургов Дании Астрид Саальбак, которая в 2012 году была удостоена награды «Лучший драматург Скандинавии» пьесы которой переведены более чем на двадцать языков.
Ну а что касается Андерсена, то он в этом номере представлен как художник, наделенный, по выражению Анри Матисса, «искусством рисовать ножницами».
Мы благодарим всех, кто принимал участие в работе над номером: переводчиков, редакторский коллектив «ИЛ» и коллег из Дании и России, которые на всех этапах работы с готовностью приходили на помощь. Особую благодарность мы выражаем Литературному комитету Государственного совета по искусству Дании.
Елена Краснова, Гаянэ Орлова, составители номера
Кнуд Ромер Ничего, кроме страха Роман © Перевод Елена Краснова
Посвящается Андреа
Я всегда боялся маминого отчима — и ничего, кроме страха, к нему не испытывал. Для меня он всегда был Папа Шнайдер. Носил ли он двойную фамилию, или как его звали по имени, я не знал, да мне все равно никогда бы не пришло в голову называть его по имени. К таким людям по имени не обращаются.
На лице у Папы Шнайдера были длиннющие шрамы, и все — на левой щеке. Это были следы поединков прошлого столетия, он тогда состоял в Schlägerverein[1]. Противники вставали друг против друга и, защищая свою честь, наносили удары по лицу саблями, убрав левую руку за спину.
У него были черные с проседью гладкие волосы, открытый лоб, и всякий раз, встречаясь с ним взглядом, ты чувствовал, что он воспринимает это как вызов: Sie haben mich fixiert, mein Herr[2]. Взгляд его был пронзительным, упорным, и не знаю, существовал ли на свете человек, который с легкостью мог бы его выдержать. Исключением была бабушка. Она умела смотреть Папе Шнайдеру в глаза — у мамы это не получалось. Бабушка была его единственной слабостью, тщательно от всех скрываемой, все остальное в нем было жестким и непроницаемым.
В столовой моих родителей, где над столом висела картина, Папа Шнайдер царил безраздельно. На этой картине в золотой раме была изображена лесная полянка. Папа Шнайдер сидит с книгой на траве, глядя прямо перед собой, рядом бабушка с младенцем на руках, а мама, еще девочка, играет с охотничьей собакой Белло. Книга, ребенок и собака — вот вам и распределение ролей: Папа Шнайдер символизировал духовность и культуру, удел женщины — рожать, а дети ближе всего к природе, и их, как и собак, следует дрессировать.
За столом я всегда сидел, выпрямившись, положив руки на стол и заправив салфетку за воротник, как будто Папа Шнайдер сидел рядом и наблюдал за мной. Если бы я совершил какую-нибудь оплошность, разрезал картофелину ножом или открыл рот, когда меня не спрашивали, он бы воткнул мне в бок вилку — я в этом не сомневался.
Папа Шнайдер был самым суровым из всех известных мне людей, он воплощал в себе все то, что было строгим и суровым и причиняло боль. Он был как застегнутая верхняя пуговица на рубашке, как острые зубья мокрой расчески. Он был разбитыми коленками и страхом опоздания. Нет, я не мог назвать его по имени, да и никто другой не решился бы.
Не думаю, что кто-нибудь вообще знал, как его зовут, или задумывался об этом. Отчим моей мамы хранил в себе свое имя как страшную тайну и как самую безумную надежду. Потому что если бы в один прекрасный день он услышал, как к нему обращаются по имени, он бы точно знал, кто это. Лишь один человек, кроме него самого, знал его имя — и это был Господь Бог.
Иногда зимой становилось по-настоящему холодно, и тогда я понимал, что пора собираться в Германию. В гости к маминой сводной сестре, тете Еве, и ее мужу, дяде Хельмуту, и их троим сыновьям: Акселю, Райнеру и Клаусу. Мама с папой укладывали в машину теплую одежду, чемоданы и подарки, а я запрыгивал на заднее сиденье, за мамой. Папа дважды проверял, закрыта ли входная дверь, закрывал садовую калитку и в последний раз заглядывал в багажник, все ли там в порядке. Надев шляпу и перчатки, он с трудом втискивался на переднее сиденье — у него были слишком длинные ноги, и сидеть за рулем ему было неудобно, потом он поправлял зеркало заднего вида и проверял показания датчика бензина и счетчика километража. Ровно 9874,5 километра, констатировал он и записывал все цифры и время отъезда, по его мнению, мы опаздывали на паром на две минуты. «Паспорта, деньги, документы», — говорили мы хором, отец поворачивал ключ зажигания, мама закуривала свою сигариллу и включала программу, где рассказывали об обстановке на дорогах, и мы, проехав по улице Ханса Дитлевсена, поворачивали за угол и отправлялись в далекое прошлое.
Перед пограничником на пропускном пункте мы замирали и, думаю, начинали походить на фотографии в наших паспортах, даже наши улыбки становилась черно-белыми. И вот контроль позади — и перед нами автострада. Мама прихлебывала беспошлинный алкоголь из крышечки бутылки, мы смеялись и пели, а отец просил ее сделать радио потише и не налегать так на водку — хватит уже! Двадцать лет назад мама из-за отца уехала из Германии, и теперь сидела, погрузившись в воспоминания, и не сводила глаз с проносящихся мимо домов, полей и хуторов, все вокруг подмигивало ей в ответ. Сдерживая дыхание, она тихонько читала названия населенных пунктов на табличках вдоль дороги и, прокладывая путь домой, вела указательным пальцем по карте в мишленовском путеводителе — Гамбург, Ганновер, Гёттинген, Франкфурт-на-Майне, палец сбегал вниз по странице, как слеза, и останавливался в Оберфранкене.
Вдоль автострады появлялось все больше и больше елей, холмы становились выше и превращались в горы, а снег падал тяжелыми, белыми хлопьями, когда мы, свернув с магистрали, оставляли позади последний, мрачный, участок по проселочной дороге и въезжали в Мюнхберг. Мама трясла меня и шептала: wir sind da[3], и я просыпался окруженный конфетными обертками, смотрел в окно и протирал запотевшее стекло рукавом. Мы въезжали в решетчатые ворота, и фары освещали подъезд к большому дому. Он стоял на вершине холма и был похож на замок — с башней, парком и старыми деревьями, и вот здесь, посреди зимнего пейзажа, они и жили: семья Хагенмюллер.
Тетя Ева и дядя Хельмут спускались по главной лестнице и махали нам, а сыновья их выстраивались в ряд: короткие стрижки, светлые волосы, отутюженные костюмчики. Они кланялись, здоровались и подавали руку — как заводные игрушки. «Grüß Gott[4], тетя Хильда, Grüß Gott, дядя Кнут, Grüß dich, Vetter Knüdchen!» [5]. Тетя Ева чмокала меня в щеку и говорила «Na, kleiner Knut, fröhliche Weihnachten»[6], рождественское поздравление разбивалось на маленькие, пронзительные фрагменты. Она здоровалась с отцом и, наконец, поворачивалась к маме: «Schau mal einer an, das Hildemäuschen!»[7]. Мама восклицала «Ach, Evamäuschen!»[8] — и они бросались друг другу в объятия, тихо ненавидя друг друга.
Из них всех мне нравился только дядя Хельмут. Это был маленький, кругленький человечек, который ходил, наклонившись вперед — из-за каких-то проблем со спиной. У него были зеленые глаза, и он носил очки, он щипал меня за щеку и тыкал пальцем в живот, чтобы рассмеялся, так врач просит покашлять, и мне казалось, что он видит меня насквозь и проверяет состояние моего скелета и всех органов. Я хихикал столько, сколько требовалось, и уже чувствовал, может я и в самом деле простудился, но тут дядя Хельмут, внимательно посмотрев на меня и поставив диагноз, доставал из кармана леденец. Леденец пах камфарой, и дядя утверждал, что он помогает почти от всех болезней, и потом мы вместе шли в дом.
Дядя Хельмут был врачом-рентгенологом, он занимался тем, что фотографировал людей и говорил им, что их ожидает: жизнь или смерть. К обеду он возвращался домой, выпивал рюмку водки, а потом отправлялся назад и продолжал делать снимки. Весь город проходил через его клинику, незнакомые и знакомые, друзья и родственники — рано или поздно все оказывались у него. Работа подрывала его здоровье, он все больше бледнел от снимков, показывающих все в истинном свете, и у него все сильнее болела спина, он кашлял и все больше съеживался. После работы и ужина он молча удалялся к себе, карабкаясь на второй этаж по ступенькам и прихватив с собой бутылку вина. Он закрывал за собой дверь и «приступал к занятиям», как это называлось. Никто не знал, что это были за таинственные занятия.
Дядя Хельмут верил в потусторонние силы, и у него для этого были веские основания. В семнадцатилетнем возрасте его отправили на Восточный фронт, и он дошел до Сталинграда, а когда немцы потеряли два миллиона солдат, он отправился назад через русскую зиму, лишившись по пути трех пальцев на ноге и рассудка. Он увидел своих предков на том свете, они охраняли его, оберегали от пуль и морозов, и, хотя он и добрался до Германии, по-настоящему он так никогда и не вернулся домой. Дядя жил в прошлом со своими умершими родственниками и общался с привидениями, которые только ему и являлись, галлюцинации, связанные с войной, его не покидали.
Многие годы дядя Хельмут собирал фамильный антиквариат, да и вообще любые семейные реликвии, расставлял их по углам и по комодам и развешивал по стенам, создавая из дома семейный музей. Музей этот был полон предметов, доставшихся от дедушек, прадедушек и прапрадедушек, а из далекого прошлого у него были доспехи, которые стояли на лестнице и гремели по ночам, когда дядя Хельмут, как сомнамбула, маршировал через вечную зиму. По случаю конфирмации он дарил сыновьям по перстню с печаткой, которые принадлежали их предкам, а потом раскладывал эти же перстни между портретами, доспехами и серебром, там они и хранились, не имея никаких шансов на освобождение — красный сургуч и герб определяли их судьбу.
Я завидовал сыновьям Хельмута, я был обделен семейной историей, но однажды перед самым Рождеством дядя Хельмут пригласил меня подняться в его комнату после ужина, сказав, что меня ожидает нечто лучшее, чем кольцо, и подмигнул мне. Время словно застыло, ужин длился вечно, и десерт тоже никак не кончался и таял на тарелках, но вот он сказал «Mahlzeit»[9], отложил в сторону салфетку, отодвинул стул и встал из-за стола. Взяв с собой бутылку вина, он начал взбираться по лестнице, а поднявшись, захлопнул дверь прямо передо мной. Мне даже не надо было стучать, так громко билось мое сердце. Я сейчас умру, подумал я, но тут дядя Хельмут открыл дверь и сказал: «Добрый вечер».
Комната его была забита бумагами и книгами, вдоль стен стояли книжные полки, и он начал рассказывать мне обо всех этих предметах, что нас окружали, — о мече самурая, который он привез с собой из Японии, об индийских ритуальных колокольчиках, о рогах, висящих на стене. Потом он уселся за письменный стол, на котором лежали церковные книги и старые фотографии. Здесь он проводил ночи, «занимался» и, потягивая вино из бутылки, рисовал генеалогическое древо со все более и более фантастическими ответвлениями. Над столом в застекленной рамке висел венок, на нем был черный бант, и он объяснил, что это коса его бабушки, которая была срезана в день ее смерти в 1894 году, раньше она висела в гостиной его родителей, напоминая о ней. Дядя Хельмут закашлялся, замолчал и посмотрел мне в глаза, я понял, что настал долгожданный момент — он выдвинул ящик стола.
В немецкой армии не было такого понятия — «отвод войск», сказал дядя Хельмут и положил кусочек металла на стол. Он показал мне шрам на предплечье и рассказал, в каком сражении он получил эту рану, и об отступлении из России. Когда надо было добыть провизию, им приходилось посылать передовой отряд, чтобы отвлечь подразделение эсэсовцев, которое охраняло склады от своих солдат. Отряд удерживал СС ровно столько времени, сколько было необходимо роте, чтобы совершить набег и захватить еду, одежду и амуницию. А потом они шли дальше на запад, спасаясь от неминуемой гибели. Дядя Хельмут вздохнул, опустил рукав и протянул мне кусочек металла. Это был осколок русской ручной гранаты, и он был мой.
Дядя Хельмут был весь напичкан осколками гранат, похоже, они регулярно выходили из его тела, и всякий раз при нашей встрече он дарил мне очередной осколок и продолжал рассказывать о войне, и постепенно, осколок за осколком, я собрал все истории воедино. Речь в них шла о том, как выжить, но все они заканчивались смертью, хотя дядя Хельмут и старался каждую историю растянуть подольше. Иногда он, потеряв нить повествования, погружался в детали и принимался описывать какой-нибудь пейзаж или мундир, на котором он пересчитывал пуговицы. Когда я спрашивал, чей это мундир, он отвечал, что тот человек погиб, дарил мне осколок и в тот день больше уже ничего не рассказывал.
Кроме меня, никто дядю Хельмута не любил. Или нет, мама любила его, да и папа, наверное, тоже, но жена дяди Хельмута и его дети были к нему равнодушны. В их доме царила тягостная атмосфера. Тетя Ева вышла за него ради денег, и потому что после войны он был одним из немногих мужчин, за которых можно было выйти замуж, а сыновья бродили по дому с видом побитой собаки и поддакивали ему во всем. А когда они лебезили перед ним, стремились услужить или сидели как пай-мальчики за столом, мне чудилось, что это — механические куклы, которых завели с помощью пощечин, домашних арестов, запугивания, и потому большую часть времени я проводил наедине с самим собой.
Когда Рождество заканчивалось и мы отправлялись домой, для меня это было облегчением, хотелось поскорее уехать от привидений в этом холодном доме, где ты сразу же простужался, стоило лишь кому-нибудь открыть дверь. Мама с папой укладывали вещи в машину, и мы благодарили хозяев и в последний раз выстраивались на террасе. Шел снег, дядя Хельмут размахивал руками и просил нас — тетю Еву, Акселя, Райнера, Клауса, маму, папу и меня — встать поближе к друг к другу. Потом все дружно говорили «cheese», дядя смотрел в камеру и нажимал на спуск, я почему-то кричал и кричал, никак не хотел фотографироваться. Но фотография все равно была сделана, и я знал, что дядя Хельмут сможет на ней увидеть, кому из нас скоро суждено умереть.
Главным в городе был не бургомистр, и даже не полиция, и не директор Торгово-промышленного банка — и вообще не люди. Главными были грачи. Они кружили в воздухе, кричали, прыгали по улицам и собирались на крышах, наблюдая за нами. Грачи опустошали мусорные баки, воровали мясо на скотобойне и слетались стаями к гавани, когда рыбаки возвращались домой. По весне они преследовали сеялку, вытаскивая брошенные в землю семена, а осенью опустошали сады, воруя фрукты. На каждом дереве, на каждом столбе сидел хотя бы один грач, и никому не было от них покоя — они сжирали все, а если ты на некоторое время замирал на месте, они подлетали и клевали тебя.
Их крики были первое, что я слышал по утрам — задолго до пробуждения, — и последнее, что я слышал, перед тем как заснуть. Я лежал, прислушиваясь к грачам, которые подлетали к дому и кружили над крышей, воздух был наполнен их криками, и мне нечем было им противостоять, и я пытался думать о своей комнате, о своих игрушках и напевать любимую песенку «Знаешь, милый жеребенок», но все без толку. Я чувствовал, что растворяюсь в темноте, меня все сильнее охватывал страх, и тут случалось то, чего я больше всего боялся, — грачи прилетали за мной.
Никто не понимал, почему я кричу, когда меня укладывают спать, укладывание спать превращалось в бесконечную борьбу. Я пытался не ложиться как можно дольше, пытался что-то объяснить, но выдавливал из себя лишь какие-то хриплые звуки. Утром грачи улетали, а я размахивал руками во сне, пока мама не начинала трясти меня, приговаривая «Кнут, милый, просыпайся». Однажды я заболел, и у меня поднялась температура. Мама с папой открыли книгу доктора Спока и стали читать про детские болезни, но умнее от этого не стали и позвонили врачу. Пришел врач с черным саквояжем, его звали доктор Конгстад. Он потрогал мой лоб, заглянул в горло и пощупал пульс. Он констатировал у меня коклюш, выписал рецепт, захлопнул саквояж и ушел, а меня стали кормить таблетками и яблоками и поить морсом. Я делал то, что от меня требовали, вовремя принимал лекарство, и, когда в бутылочке не осталось ни одной таблетки, все пришли к выводу, что я пошел на поправку.
После этого случая я понял, что лучше держать свои чувства при себе. Меня отправили в детский сад в группу фрекен Фройхен, и я изо всех сил старался вести себя как все: смеяться, когда они смеются, и участвовать во всех играх. Поначалу я, конечно, артачился и отказывался петь со всеми «Высоко на ветке сидит ворона», но постепенно это прошло, и в школе уже такого не случалось. И я уже не реагировал так на грачей, когда ехал на велосипеде через Западный лес, направляясь на соревнования, которые проводил детский футбольный клуб «В-1921», и слышал их крики в кронах деревьев. Я натягивал голубую футболку, гетры и белые шорты, играл и бегал, как ни в чем не бывало, среди грачей по неровному полю. За игрой, которая проходила с переменным успехом, можно было следить на расстоянии: где взлетали грачи — там и был мяч.
Грачи обитали в лесу, там у них были гнезда, и их помет свешивался с веток длинными сталактитами. В двух шагах располагались кемпинг Фальстера «Оазис в городе возможностей» и киоск, где продавали мороженое. Немецкие туристы в полном отчаянии сидели перед шатровыми палатками и домами-прицепами. Их сюда заманили пригодными для отдыха с детьми пляжами, идиллической природой, уютным провинциальным городком — так было написано в рекламной брошюре, а про колонию грачей никто им не сообщил.
В их долгожданный отпуск врывался шум, который начинался на восходе солнца, а к вечеру грачи собирались большими стаями на полях и, облетев город, брали курс на Западный лес. Тут вот и начиналось самое страшное, с неба начинал сыпаться помет. Продавцы магазинов затаскивали внутрь товары, с улицы приходилось убирать сохнущее белье, а люди раскрывали зонтики и, надев резиновые сапоги, брели по грязи. Большинство жителей сидели дома, качая головой и слушая, как лепешки помета стучат по стеклам, пачкая все вокруг, а туристы собирали вещи и уезжали, куда глаза глядят, — и не было ни одного человека, который не провожал бы их взглядом, сожалея, что не может отправиться с ними. Только с наступлением темноты люди решались выйти на улицу, и жизнь возвращалась в привычную колею, хотя все знали, что это ненадолго. Мы были кормом для птиц — в Нюкёпинге правили грачи.
Папа был ростом под потолок, он был длинным и тощим, и, когда я забирался ему на плечи, мне открывался целый мир за изгородью — до самого горизонта. Папа был слишком большим, чтобы можно было охватить его взглядом, и я знал его только частично — у него был большой нос, большие уши и большие ноги. Он частенько шутил: «Ботинки мне изготовили на судостроительном заводе». В любом месте, куда бы мы ни приходили, будь то ресторан или кинотеатр, он жаловался, что ему не хватает места для ног, и мы тут же уходили. Руки его заканчивались ладонями, которые могли дотянуться куда угодно и при этом держали окружающих на расстоянии, а лоб его становился все выше и выше по мере выпадения волос, и мама считала, что он самый красивый мужчина в мире.
Папа был добрейшим и милейшим человеком, его лицо всегда светилось солнечным светом. Он не курил, не пил, рано ложился спать и рано вставал, и я никогда не слышал от него ни одного грубого слова. Он никогда не опаздывал, добросовестно выполнял свои обязанности и платил налоги, и за сто метров до зеленого сигнала светофора снижал скорость, так что, когда мы подъезжали к перекрестку, уже загорался красный. Он машинально вставал со стула, когда звонил какой-нибудь начальник, и никогда не включал в сеть ни одного электроприбора, не прочитав предварительно инструкцию. Во всем и всегда он был безупречен — совесть его была чиста, как его рубашка, галстук безукоризненно завязан, ботинки вычищены, а костюм мог бы стоять сам по себе.
Папа был страховым агентом, и каждый день он пытался застраховаться от каких-либо происшествий. В половине седьмого звонил будильник, папа вставал, выпивал кофе, съедал булочку и целовал на прощание маму. Всю свою жизнь он проработал на одном месте — в «Датской строительной страховой компании», которая находилась на Рыночной площади, и, приходя на работу, он первым делом спрашивал: «Ничего не случилось?». Все было в порядке, и папа вздыхал с облегчением, шел в свой кабинет, садился за стол красного дерева и продолжал страховать все то, что еще можно было застраховать на Фальстере. Он думал о церкви и Ратуше, людях и животных, домах, машинах и велосипедах — и страховал их от кражи и пожара, повреждения водой, грибка и урагана и от всех возможных на свете несчастий. Опасаясь самого худшего, папа предотвращал несчастные случаи, боролся с катастрофами и не мог успокоиться, пока не предусмотрит всех опасностей. Он удовлетворенно вздыхал, когда по утрам открывал «Ведомости» и не находил информации о катастрофах — все остальное его не интересовало. Жизнь замерла, ничего не происходило, дни сменяли один другой, и ни один лист не падал на землю.
Это была бесконечная работа, отец нес весь мир на своих плечах — всегда было о чем беспокоиться, — и его настроение поднималось или падало вместе с барометром, висевшим на стене в гостиной. Он делал серьезное лицо и постукивал по стеклу барометра, и, если стрелка двигалась в сторону «ясно», лицо у папы светлело, но проходило совсем немного времени — и он снова подходил к барометру, размышляя о низком давлении, дожде и ударах молнии. Он рассказывал об октябрьском урагане 1967 года, как будто это был сюжет из Библии, летом он очень боялся пожаров и надеялся, что лето будет сырым, а зимой он опасался обморожений и снегопадов и в отличие от всех остальных не мечтал о том, чтобы к Рождеству выпал снег. Он говорил «Тс-с-с!», старался не пропустить ни слова и поднимал вверх указательный палец, когда мы доходили до самого важного в новостях — до прогноза погоды.
Отец приходил домой обедать ровно в половине первого, мама готовила ему что-нибудь горячее, а по вечерам я слышал, как он, проехав по улице Ханса Дитлевсена, выключает в гараже двигатель. Потом открывалась входная дверь, отец говорил «Привет», вешал на вешалку шляпу и пальто, мы вместе бежали на кухню к маме, она сияла от счастья и говорила «Ach, Vaterchen!»[10], целовала его в щеку и любила его больше всего на свете. Мы накрывали стол в столовой, все предметы сервировки — фарфоровые тарелки, салфетки, солонка и перечница — занимали свои, предназначенные только им места, и папа неусыпно за всем следил. Когда я открывал ящик буфета, чтобы достать приборы, он тут же подбегал ко мне и спрашивал: «Что тебе тут надо?». Он качал головой и объяснял, что следует делать и каким именно образом: «вилки лежат в верхнем среднем ящике, нет, не здесь, в среднем, у стенки», — и так было всегда. Дома папа продолжал чувствовать себя страховым агентом и вникал во все детали. Сделать что-либо правильно мне с его точки зрения было невозможно, и он постоянно устанавливал время на наших высоких напольных часах, хотя они никогда не отставали и не спешили.
Любая моя попытка что-то сделать превращалась в титаническую борьбу. Он говорил «Осторожно» и останавливал тебя еще до того, как ты что-либо предпринимал, и, если ты спрашивал его о чем-нибудь — неважно о чем, — он всегда отвечал «Нет». Самым страшным для него был сквозняк. Он кричал «Закройте дверь», стоило только ее открыть, а когда мы закрывали ее за собой, он просил закрыть ее снова и как следует. Папе вечно казалось, что где-то что-то приоткрыто. «Дует», — говорил он, пытаясь уловить сквозняк, и проверял окна, опускал занавески, так, чтобы не оставалось ни одной щелочки, и в комнате не было ни ветерка. Полы поскрипывали, двери потрескивали, у стен были уши, а я не спорил с ним и слушался его во всем. Я просто жил в ожидании того дня, когда он перестанет обращать на все это внимание, но этот день так и не наступил.
Папа неусыпно контролировал всех окружающих, как будто если бы он вдруг отвернулся, весь мир исчез бы навсегда. Он только и делал, что искал подтверждения того, что действительность существует, и того, что все на своем месте и происходит в положенное время. И он всегда изрекал самоочевидные истины. В каком-то смысле он не мог говорить, мог только считать, и в любом его рассказе речь шла о ценах, списке покупок или перечислении нашего домашнего имущества — вазы, бронзовые часы, ковры — и сколько они стоили. Об этом он мог говорить бесконечно. Он регистрировал жизнь в буквальном смысле слова и подводил итоги в цифрах. Он садился за стол и делал записи в еженедельнике «Мэйлэнд»: время и место, доходы и расходы, цены на бензин и километраж, время и температура. Он считал дни, складывал их и улыбался всякий раз, когда заканчивался год, после чего еженедельник отправлялся на полку, где хранились отчеты с 1950 года.
Папа заботился о нас ежедневно и ежегодно, и казалось, что, если он на минуту ослабит свой контроль, все рухнет. После ужина он стряхивал крошки со скатерти и убирал столовые приборы назад в буфет. Он пересчитывал вилки и ножи и закрывал ящики на ключ, потом убирал ключ в секретер, который тоже запирал. Он приводил все в порядок, убирал и выключал то, что было включено, и выдергивал провод из розетки на случай короткого замыкания, а серебряный подсвечник на всякий случай убирал в корзину для белья. Он проверял батареи — термостаты должны были стоять ровно на 2,5. Потом он закрывал гараж, калитку в сад, дверь в подвал и двери, ведущие из дома в сарай и гараж, и прятал ключи — теперь никто не проникнет в дом. Когда все было надежнейшим образом закрыто и ему уже нечего было делать, он целовал на ночь маму и меня и отправлялся спать. Главный ключ он прятал в карман пижамы, а потом удовлетворенно натягивал на себя одеяло — ни о чем теперь не надо беспокоиться, а когда гасил лампу на ночном столике, гас последний свет во Вселенной.
Не знаю почему, но я предпочитал бутерброды с ветчиной, их мне и дали с собой в школу — ничего другого я есть не хотел. Но что-то было не так — я сразу это заметил, — все начали перешептываться, смеяться надо мной и не желали сидеть со мной во время перемены. Я не понимал, в чем дело, и изо всех сил старался быть как все, но становилось все хуже и хуже, пока, наконец, один из одноклассников не объяснил мне, в чем дело. Оказалось, что причиной был хлеб, — он был разрезан не вдоль, а поперек, и корочка оказывалась не там, где ей положено быть в Дании.
Мама резала хлеб так, как его резали в Германии, и я не мог заставить себя объяснить ей это. Я ходил в школу с неправильными бутербродами, жевал их во время большой перемены, и через некоторое время вообще перестал доставать их из сумки. Я просто старался не думать о них, а после школы отправлялся на поиски места, где можно их незаметно выбросить.
Это было не так-то легко: либо вокруг было много людей, либо, наоборот, слишком мало. Тогда возникала опасность, что кто-нибудь увидит меня из окна, если я брошу пакет с бутербродами на чей-нибудь участок. Вечно что-то мне мешало, и в конце концов я бросал пакет с бутербродами в первые попавшиеся кусты и ехал домой. Но тут же понимал, что мама может скоро пройти мимо и увидеть их, возвращался и запихивал их в рюкзак.
Уже в гараже меня начинала мучить совесть. Я ставил велосипед, бежал из подвала вверх по лестнице и кричал маме «привет!». Она была на кухне, я смотрел на нее и улыбался во весь рот, боясь, что мою тайну раскроют, угрызения совести прожигали мою школьную сумку. Я шел к себе в комнату, осторожно открывал ящик стола — это было единственное надежное место, ящик можно было запереть. Затаив дыхание, я укладывал бутерброды в ящик и быстро закрывал его, и тут слышал, как мама зовет меня из гостиной: «Knüdchen! Händewaschen, Essen!»[11].
Мама садилась за стол вместе со мной и, пока я ел, выкуривала сигариллу и выпивала бутылку пива. Чаще всего она была на чем-то сосредоточена и почти всегда печальна. Ее поддерживала лишь сила воли, она отгораживалась от всего остального мира и сжимала кулаки. Они были похожи на ручные гранаты, и костяшки пальцев белели. Я был готов отдать жизнь, чтобы как-то порадовать ее, и, бывало, брал ее руку и начинал гладить и рассказывал о прошедшем дне. Мы играли в футбол, меня вызывали к доске, Сусанне поставили на зубы скобку, а близнецы пригласили на день рождения — и все это было враньем. Потому что весь день меня обзывали немецкой свиньей, на переменах я уходил подальше, над моим завтраком, рюкзаком и одеждой и всем остальным смеялись, и даже над ее именем смеялись, коверкая его «Hildegard, Hildegard», дескать, что это за имя! Я не осмеливался рассказать все это маме и изо всех сил старался отвлечь ее — а она смотрела на меня и медленно разжимала кулаки, и я клал ей в ладонь все, что у меня было, надеясь, что это ее порадует.
Мама была совсем одна в чужой стране, это была крайняя степень одиночества. С самого детства она одного за другим теряла всех, кого любила, и ничто — даже бутылка водки в кухонном шкафу — не могла утешить ее. Ее отец, Генрих Фоль, попав в больницу с аппендицитом, умер на операционном столе в 1924 году. Он был врачом-офтальмологом, добрым и веселым человеком, и они с бабушкой по-настоящему любили друг друга. Их фотография в серебряной рамке стояла у нас в гостиной, бабушка была прекрасна, Генрих был в военной форме, они сидели на высоком обрыве и смотрели на долину. Когда началась Первая мировая война, он служил военным врачом и, приехав однажды с фронта в отпуск, рассказал о том, что нашел где-то больного лисенка, а когда лисенок поправился, он выпустил его в лес. После войны он открыл частную практику в Галле, мама играла и бегала по комнатам, примыкающим к кабинету, заглядывала и в кабинет, когда там не было пациентов. Они жили весело, это были светлые дни — и вдруг отца не стало, маме было шесть лет, и это было самым страшным несчастьем на свете.
Они остались одни в квартире, бабушка и мама, и им совсем не на что было бы жить, если бы не та пенсия, которую им назначили врачи, — возможно, они чувствовали угрызения совести, ведь умер Генрих в результате врачебной ошибки. Им выплачивали триста немецких марок в месяц, но инфляция постепенно сжирала эти деньги, они уже ничего не стоили, и, хотя бабушка стала сдавать кабинет, — а потом еще и другие комнаты, — ясно было, что ничего хорошего их не ждет. Им пришлось забиться в самую маленькую из оставшихся комнат, и непонятно было, как дальше жить, и тут бабушка сняла кольцо и согласилась на предложение Папы Шнайдера выйти за него замуж. А однажды она пришла домой в слезах и сообщила, что маму надо на какое-то время отправить к его кузине в Бибрих.
Тетушка Густхен жила вместе со своим сыном, его женой и их двумя дочерьми в маленькой деревушке в пригороде Висбадена. Они были членами Исповедующей церкви, и единственное, что их занимало, — сплетни из приходского совета и вечная война с католиками и архиепископом Майнца. Хотя им принадлежали виноградники у Рейна, они не пили и никогда даже не пробовали вина, и, когда мы раз в год приезжали к ним в гости, я чувствовал себя словно в похоронном бюро.
Сын ее был великаном, сутуловатым и словно придавленным к земле верой, он сидел в комнате с низкими потолками со своей тощей женой, на дочерях были платья с оборками, и иногда дочери украдкой бросали на нас взгляды, быстрые, как воробушки, клюющие крошки со скатерти. Мы усаживались за кофейный столик, складывали руки и произносили молитву в такт бою часов: «Vater, segne diese Speise. Uns zur Kraft und dir zum Preise!»[12]. Религиозная истовость таилась в плюще и вечнозеленых растениях, на стене висел рыдающий Иисус, повсюду были вышитые готическим шрифтом библейские цитаты и распятия. Папа ерзал на стуле, пытаясь получше пристроить свои ноги, и изо всех сил старался соответствовать обстоятельствам, а я смотрел на маму и думал о том, что она пережила в этом доме, и во время молитвы шептал «дьявол» вместо аминь.
Это был холодный, темный и безрадостный дом. Трудно было представить, как себя чувствовала мама, когда в 1926 году, потеряв отца и попрощавшись с матерью, она оказалась тут. Тетушка Густхен укладывала волосы узлом на затылке и прикрывала его сеткой для волос, она носила черные, застегнутые на все пуговицы платья. Никогда в жизни она не была молодой. Ее мать, дочь пробста из Тюрингии, была «одержима дьяволом» — у нее была эпилепсия, и тетушка с детства была богобоязненной. Она как будто жила на краю могилы, молитвенно сложив руки и повесив крест на шею. Вся семья питалась черствым хлебом, экономя на всем, и, хотя они были достаточно состоятельными, никогда ничего не выбрасывали, ведь расточительство есть грех. Тетушка подавляла малейшие попытки чему-либо радоваться, не признавала права на последнее желание, стремление наряжаться считала низким, улыбка казалась ей непристойностью, а смех затеей дьявола, ведь это он искажает лица в гримасах.
Маму отправили в воскресную школу, и там она подхватила вшей, ее длинные, светлые волосы пришлось остричь, с нее сняли платье и обрядили в сорочку — черную, уродливую и колючую. Ей выдали молитвенник — они там все время молились на коленях и соблюдали церковные праздники. Прошел год с рождением Христа, его смертью и воскресением, и еще один год, и мама ждала известий от бабушки и не понимала, почему за ней до сих пор не присылают. Она была уверена, что письма к ней не доходят, их кто-то перехватывает, она мечтала о побеге, а ложась спать, беззвучно плакала, чтобы не разбудить тетушку, которая похрапывала с открытыми глазами рядом с ней.
Мама считала, что весь мир о ней забыл. Когда она, наконец, получила известие от бабушки, ей показалось, что открыли крышку гроба, и к ней проник свет. Маму вызывали в Клайн-Ванцлебен — она поедет к маме и будет жить со своим отчимом! До этого она никогда не видела Папу Шнайдера. Она собрала чемодан и отправилась на вокзал. Высунув голову из окна вагона, она наслаждалась ветром и скоростью — она ехала навстречу маме со скоростью сто километров в час. На станции ее встретила служанка, вдвоем они пошли по улицам городка, потом по проселочной дороге и, наконец, добрались до усадьбы. Она находилась посреди полей: длинные красные флигели, черные фахверковые строения, острые верхушки башенок, а на самой высокой башенке — часы. Они прошли через двор, позвонили в звонок, и Папа Шнайдер открыл дверь, а мама собралась с силами и, широко улыбнувшись этому совершенно незнакомому человеку, сказала: «Guten Tag, Vati»[13].
Отец строил свою жизнь на том, что для него было важнее всего на свете, — на надежности. Он создал для себя дом, где все было в идеальном порядке, в то время как окружающий мир распадался на части. Его брат Иб угодил под суд, сестра Аннелисе сбежала из дома с каким-то мужчиной, и отцу приходилось всем этим заниматься — а кому же еще? Он выступал свидетелем в суде, рассказывая о характере и о жизни Иба, и тот в итоге легко отделался и получил условный срок, он позаботился о том, чтобы Аннелисе вернулась домой, и нашел для младшего брата Лайфа место подмастерья в кожевенной фирме «Баллинг и сыновья». Он ухаживал за матерью, у которой обнаружился ревматический артрит, — никакие средства не снимали ей боли, и помогал отцу, который все больше и больше впадал в отчаяние и не решался выйти на улицу из-за неоплаченных счетов… Утром девятого апреля папа и его брат Иб шли по Вестерскоувай — костюм Иба всегда выглядел донельзя помятым, даже если его только что прогладили, — повсюду раздавались крики: «Немцы! Нас захватили немцы!». Они посмотрели в небо — над городом в северном направлении пронеслись боевые эскадрильи. Иб бросил им вслед камень и спросил: «Что нам теперь делать?». Отец ответил ему: «Пойдем на работу, а что же еще?». В сложных ситуациях отец предпочитал делать вид, что все нормально. Как правило, это помогало. Отец решил игнорировать Вторую мировую войну, чтобы она сама собой перестала существовать.
Люди собрались на Рыночной площади, туда пришли и сотрудники отцовской компании. Все обсуждали последние события, и директор Дамгор сказал, что высадились немецкие войска. Говорили, что сейчас они движутся из Гесера, куда сегодня ночью приплыли на пароме из Варнемюнде. «Может, они еще и билеты на паром покупали?» — пошутил Иб и засмеялся, а отец был недоволен, что тот вмешивается в разговор, и хотел заставить его замолчать, но Иб не слушал его. Он сказал, что паромы надо было уже давно затопить и что немцам, наверное, было совсем нетрудно найти вход в порт, так как они шли на свет маяка, и почему никто не подумал о том, что маяк надо было погасить? «Иб!» — прикрикнул на него отец и хотел уже было извиниться за него перед Дамгором и остальными, но все замолчали, да и что тут можно было сказать? Иб был прав, они это прекрасно понимали.
Дорогу, которая вела с юга на север Фальстера, собирались ремонтировать уже многие годы, только как-то все руки не доходили, да и денег у местной администрации не было, но четыре дня назад ямы залатали, и дорога стала вполне прилично выглядеть. По пути через Гедесбю, Брусеруп и Маребэк оккупационные войска встретили лишь вывески «Сдается комната» и «Продается картофель». Торговцы на Рыночной площади обсуждали, что им делать: то ли закрыть ставни магазинов, то ли выставить на витрины ценники в немецких марках — было уже почти девять часов, и очень скоро немцы должны были оказаться в Нюкёпинге. Говорили, что видели одного немца в Вэгерлёсе и еще нескольких немцев в Хаселё и Линесковен, они шли по улицам Эстегадэ, Нюгадэ и Йернбанегадэ — и тут действительность опередила слухи! Вдали показалась колонна солдат, которая шла вдоль домов, закрывая стены поднятыми винтовками. В полной тишине, не было слышно ни единого звука. Отец с Ибом и остальные собравшиеся разинули рты и впали в столбняк. Они не верили собственным глазам и затаили дыхание в ожидании приближающейся, как гроза, оккупации, солдат теперь уже было слышно, и вот она уже здесь — немецкая армия!
Они прошли через центр города — пехотинцы с оружием, ранцами и касками — бесконечный поток мундиров с обращенными вперед лицами. Позади ехали запряженные лошадьми повозки с хлебом, и больше ничего, никаких танков, никаких «джипов», ни одного моторизованного транспортного средства. Когда последняя повозка грохотала мимо, слесарь с сахарного завода не удержался и, приподняв фуражку, спросил: «А что, хлеб для лошадей?». Солдат покачал головой и ответил: «Nein, für uns»[14], — и колонна направилась дальше по Ланггадэ и повернула направо у Розенвенгет. Через двадцать минут, дружно маршируя, они снова появились на Конгенсгадэ — круг замкнулся.
Нюкёпинг был настоящей ловушкой для туристов, из лабиринта ведущих в никуда улочек с односторонним движением невозможно было выбраться, и немцы заблудились. Командир выхватил карту из рук отчаявшегося адъютанта, заорал на него и стал ругать на чем свет стоит, но никакого толку от этого не было — вторжение закончилось бы, не успев начаться, если бы не отец. Он поднял руку и сказал: «Entschuldigen Sie bitte, — наконец-то ему пригодился немецкий язык, — kann ich Ihnen behilflich sein?»[15]. Люди уставились на него, как будто он сошел с ума, ведь его сейчас пристрелят на месте, но отец неспеша подошел к немцам, вежливо поздоровался и взял в руки карту. Им надо повернуть направо у Медвежьего колодца и Царского дома, пройти мимо Голландской усадьбы, потом по Дворцовой улице до улицы Гобенсе и, не сворачивая на Краухэве, идти дальше до Сюстофте и Тинстеда, и дальше по шоссе номер 2 через Эскильструп, Нёрре Аслев и Гобенсе до моста Сторстрём. Отсюда уже проще простого добраться до Копенгагена. Отец пожелал им «Gute Reise»[16], а все стоящие на площади махали немцам вслед, пока последний солдат не исчез из глаз, и в наступившей тишине стало слышно пение черных дроздов.
Немцы без каких-либо препятствий преодолели сорок километров от Гесера до Маснесунда, и при этом гарнизоны Вординборга и Нэстведа не были подняты по тревоге. За три года до этого здесь построили мост Сторстрём, и никому не пришла в голову мысль взорвать его. В форте Маснедё несли службу два морских пехотинца, и они ничего не понимали в артиллерийских орудиях, немецкие парашютно-десантные войска обеспечили контроль над мостом без боя. На вокзалах Нюкёпинга и позднее Вординборга телеграфисты обратили внимание на продвижение войск, позвонили в центральное управление в Копенгагене и спросили, не надо ли сообщить об этом военным. Им ответили, пусть занимаются своим делом, так они и поступили — так же собирался поступить и мой отец, а вместе с ним и остальные жители Нюкёпинга.
Вторая мировая война прокатилась через город, словно шар, никого не задев и никому не причинив вреда, потому что она не встретила никакого сопротивления, — жители города предоставили другим возможность демонстрировать мужество и отвагу, необходимые для противодействия. Такой оборот дела был очень даже по душе отцу, он мог вернуться к своим обычным делам в компании, опять выезжать на природу с хором и ходить на собрания масонской ложи по средам, как будто все было по-прежнему. Он с облегчением вздохнул, обернулся к Ибу и сказал: «Ну что, пошли на работу?». Но Иб исчез.
Маме разрешили приехать жить в Клайн-Ванцлебен, только когда брак «действительно состоялся», как это тогда называлось, и у бабушки и Папы Шнайдера родилась дочь. Мама с бабушкой обняли друг друга, и бабушка зарыдала. С этого времени мама была дочерью от первого брака и «номером два» после своей сводной сестры Евы. Поделать с этим ничего было нельзя, и мама погладила радостно приветствующую ее собаку Белло, и стала гостьей в богатом прусском доме.
Папе Шнайдеру принадлежала большая часть края: земли, люди и деревни. Он носил сапоги для верховой езды, и у него была самая красивая машина — «даймлер-бенц». А еще лошади в конюшне и слуги. Маме выделили отдельную комнату с большим зеркалом, шкафом для одежды и огромной, мягкой кроватью. Она никогда не забывала первое Рождество в этом доме, обеденный стол, украшенную свечами елку, а сколько всего ей подарили — санки, лыжи, платья и книжки с картинками! Это было все равно что попасть на небеса, говорила мама, и она решила любой ценой добиваться того, чтобы это никуда не исчезло.
Муштра была каждый день, и на все занятия было отведено строго определенное время. В шесть часов утра — урок верховой езды, и ей доставались самые строптивые лошади. Надо было держаться прямо в седле, научиться скакать с книгой на голове, а если книга падала, то маме же было хуже, а потом был французский и английский, и фортепьяно до 13 часов, когда Папа Шнайдер приезжал обедать. Невозможно было опоздать к ужину и невозможно было представить, что он не готов — его посылали по кухонному лифту — дзинь-дзинь, и вот уже ужин в положенное время, — а за едой не говорили и про еду не говорили: ведь едят для того, чтобы жить, а не живут для того, чтобы есть! Потом Папа Шнайдер слушал биржевые котировки по радио, весь дом сидел, затаив дыхание, и все с облегчением вздыхали, когда программа заканчивалась и он надевал пальто и уходил, а мама изо всех сил старалась быть на высоте и весь остаток дня боролась за свое место.
С самого начала ей объяснили, что они с сестрой не «единокровные» и она должна вести себя соответствующим образом, а если что-то будет не так, то она уже перестанет считаться дочерью. Мама должна была делать вдвое больше того, что делали другие. И она это усвоила, и вела разговоры по-французски, и читала английские романы, и целовала Папу Шнайдера в щеку — левую, со шрамами. Она играла на пианино для бабушки и ее гостей, исполняла «Лунную сонату», изо всех сил нажимая на правую педаль, и Папа Шнайдер смотрел, как она неслась галопом и перепрыгивала через канавы, как будто они были на охоте. Но это ее загоняли, как дичь.
Мама играла в теннис и кричала, подавая мяч, и обыгрывала всех, но призы за победу на соревнованиях на самом деле означали ее поражение. Она хотела, чтобы ее обняла мама, а ей дарили пальто, она хотела иметь отца, а доставалась ей только палочная дисциплина, ей приходилось довольствоваться тем, что она получала, и извлекать из этого максимум. Во время отпуска Папа Шнайдер отправлялся ловить рыбу нахлыстом в Гарце, и мама, встав в половине четвертого, плелась за ним и тащила его снасти. Если он случайно забывал шляпу, она выбегала из дома с криком «Hier, Vati!»[17]. А он только и мог, что погладить ее по голове, шутки ради нахлобучить ей на голову шляпу, назвать озорницей и ущипнуть за щеку, так что у нее оставался синяк. Но мама лишь улыбалась и продолжала повторять, что она папина дочка. Ей удалось занять свое место — если не в его сердце, то во всяком случае в его машине, и однажды в воскресенье они отправились на прогулку куда глаза глядят, опустили крышу автомобиля и запели «Wochenend und Sonnenschein»[18]. Ей казалось, что у нее теперь есть семья, и она прижалась к нему, и тут он въехал прямо в идущий впереди автомобиль, и мама вылетела через лобовое стекло.
Все ее лицо было в крови и порезах, — почти, как у него, — и, может быть, именно поэтому Папа Шнайдер окончательно принял ее. Ее лечили лучшие врачи венской университетской клиники, и раны бесследно зажили — лишь около одного глаза остался маленький шрам, мама всегда показывала это место, вот здесь, и я кивал, хотя никаких следов там не видел. Папа Шнайдер стал о ней заботиться, положил в бумажник ее фотографию и словно превратился в другого человека. Мама могла теперь позволить себе почти все — и позволяла, у нее были друзья-мальчишки, и она часто проказничала, а когда она появилась дома с Штихлингом, который был на десять лет ее старше, тоже никто не возражал — Папа Шнайдер прощал ей все. Только она могла утихомирить его, если он выходил из себя, могла уговорить его на что угодно, а если она тратила слишком много денег, он смеялся: «Motto Hilde: Immer druf!»[19].
Папа Шнайдер любил ее больше лошадей и так сильно, насколько он вообще был способен любить. Маму даже изобразили на семейном портрете вместе с его собакой. Они отдыхали на опушке леса, бабушка сидела на траве, держа на руках Еву, Папа Шнайдер читал книгу, а на маме было короткое, почти прозрачное платье, и она была подстрижена «под пажа». Она стояла рядом с Белло и смотрела с картины прямо на меня, когда мы обедали. Мама рассказывала, что картину написал Магнус Целлер. Он был художником-экспрессионистом из объединения «Синий всадник». Папа Шнайдер помогал ему и покупал его картины. Он был меценатом и, кроме него, помогал еще Максу Пештейну и Нольде. Их картины висели в доме до 1937 года, потом они стали «дегенеративным искусством», и их пришлось снять, Папа Шнайдер свернул их в трубочки и спрятал в подвале. Нольде, напуганный, стал в то время рисовать цветы, а Пештейн и Цилле переключились на пейзажи. Два из этих пейзажей в тяжелых позолоченных рамах висели в нашей гостиной. На одном были изображены горы и водопад в Гарце, куда Папа Шнайдер ездил ловить рыбу, а на другом — какие-то мрачные деревья на берегу озера. Остальные картины забрала себе Ева, и не только картины: она забрала все.
Как и в сказках, сводная сестра мамы оказалась злой, и мама выросла рядом со змеей, которая с каждым годом становилась все ядовитее и ядовитее. Ева была рыжей, некрасивой и толстой девочкой, и, хотя от нее ничего не требовали, у нее и мало что получалось. Ее посадили на цирковую лошадь, она упала с нее и больше никогда уже не садилась в седло, она была немузыкальна и спрягала французские глаголы так, что от них ничего не оставалось. Ева была папенькиной дочкой, она любила сидеть у него на коленях, ее всегда и за все хвалили, но и это не помогало. Мама покупала ей красивые платья, придумывала ей прически и брала ее с собой на вечеринки, когда та подросла. Еву никто не приглашал танцевать, а на день рождения к ней пришли одни зануды. Чтобы как-то всех встряхнуть, мама сварила пунш и разлила гостям, и всем полегчало, гости смеялись, танцевали, вели себя буйно и бегали по всему дому. Ева поцеловалась с мальчиком — и тут вечеринка закончилась. Один из гостей упал и потерял сознание, его пришлось отправить в больницу, оказалось, что у него порок сердца. Когда мама готовила пунш, она добавила туда амфетамин, заставив Еву поклясться и побожиться, что та никому об этом не расскажет, но тут-то змея и ужалила.
Маму отправили в ссылку, определив ее в лучшую школу-интернат для девочек — Райнхардсвальдшуле под Касселем. Школа находилась на высоком холме, откуда открывался вид на весь город, и вокруг главного корпуса, посреди парка за высокой стеной, располагались жилые корпуса. Ворота были закрыты на замок. Именно сюда отправляли принцесс, герцогинь и дочерей крупных бизнесменов, чтобы они не путались под ногами. Ее соученицы носили фамилии Сайн-Виттгенштейн, Тюсен, Турн и Таксис. Ректору доставляло особое удовольствие произносить имя моей матери во время утренней переклички, когда она доходила до нее по списку: Хильдегард Лидия… Фоль. Мама по-прежнему носила имя своего отца — Папа Шнайдер так и не удочерил ее, — и это было так же неприятно, как быть незаконнорожденным ребенком. Мама бегала, скакала верхом, прыгала и выигрывала в теннис, играла на пианино и развлекала всех, когда выдавался свободный вечер, это была своего рода компенсация за отсутствие знатной фамилии и титула.
Мир за дверями школы таил в себе опасности, им не разрешалось гулять по городу, а самым страшным были кинотеатры и кафе, не говоря уже о «Танцевальном кафе», где звучала музыка и устраивались танцы, но опаснее всего были мужчины. Мужчины были существами с другой планеты. По субботам раз в две недели девушек возили на автобусе с занавешенными окнами в кондитерскую, которую по этому случаю вообще закрывали для других посетителей. Девушки ели пирожные, пили чай и вели светские беседы, а учительницы, похожие на черных птиц, наблюдали за ними. Музыку в кондитерской включать не разрешалось.
Из школы-интерната мама освободилась в 1939 году и сразу же отправилась в Берлин, чтобы поступить в университет — изучать политические науки и американскую историю. Там она и встретила Хорста Хайльмана и влюбилась в него. Ему было девятнадцать, как и ей, и он называл ее Хильдхен, а она называла его Хорстхен. Мама бросилась в его объятья и открыла ему свое сердце. Они обручились, когда началась война, и Хорст поступил на службу в вермахт, в шифровальный отдел. Мама служила кондуктором трамвая — Studiendienst[20], и ее — молодую и светловолосую — фотографировали в форме для пропагандистских изданий: «Deutsche Mädel stehen überall ihren Mann. Front und Heimat Hand in Hand!»[21]. Она позировала в форме кондуктора для журнала «Зильбершпигель» и изображала гимнастку, сильную и радостную, для журнала «Райхспортблат». Ее фотографию в купальнике в журналах СС развешивали по стенам на всех фронтах, мама завоевала Бельгию, Голландию, Францию и Тунис. Они смеялись над всем этим, Хорст и мама, они доставали все эти журналы и читали их вместе с друзьями Хорста — Кукхофом, который работал в театре, и Харро Шульце-Бойзеном, он работал в университете, был специалистом по международным отношениям, он прикидывался нацистом, хотя в душе был ярым антифашистом. Его жену звали Либертас, она работала в компании «Мэтро-Голдвин-Майер», и они смотрели американские фильмы, в том числе «Унесенные ветром», и слушали радиостанции союзников. По ночам они распространяли листовки и развешивали плакаты «Das Nazi-Paradies. Krieg, Hunger, Lüge, Gestapo. Wie lange noch?»[22] — а Харро носил с собой оружие. Они надеялись на США и Советский Союз и молили Бога, чтобы все это поскорее закончилось, и оно закончилось.
Осенью 1942 года мама отправилась в отпуск со своей подругой Инге Вольф в оккупированный Париж, и, когда она вернулась в Берлин, Хорста дома не оказалось. Она позвонила Харро и Либертас, их номер не отвечал, Кукхоф не отвечал, и ни один из их близких друзей не брал трубку. Мама бросилась к последней из известных ей знакомых Хорста, Лиане, та жила в районе Шёнеберг, на Викториа-Луизе-плац. Лиана была в полном отчаянии. Всех их арестовали: Арвида Харнака и его жену Милдред, Гюнтера Вайсенборна, Джона Грауденца — более сотни человек. У мамы потемнело в глазах, это было как гром среди ясного неба, она побежала домой и стала звонить во все инстанции, чтобы узнать, что случилось с Хорстом, Хорстом Хайльманом, ее любимым Хорстхеном. Никто ничего не мог ей сообщить — там, где он работал, сказали, что он отправился в служебную командировку, а в полиции ей ничего не ответили, но стали расспрашивать, кто она такая и как она связана со всеми этими людьми. В конце концов, она дозвонилась до канцелярии Гиммлера, и, рыдая в трубку, спросила, где же ее Хорст и в чем они все виноваты? Казалось, что на другом конце провода никого не было и что голос звучал в вакууме: «Er ist verhaftet und wird vernommen, Sie haben sich beim Volksgerichtshof einzufinden, und zwar sofort. Heil Hitler!»[23]. Вопреки здравому смыслу мама отправилась туда, взбежала вверх по лестнице, пронеслась по коридорам и увидела человека, которого вели полицейские — это был Хорст! Она произнесла его имя, он посмотрел на нее, на нем были наручники, его протащили мимо — мама ничего не могла сделать, она услышала, как Хорстхен — уже издали — прошептал: «Беги, Хильден, беги куда-нибудь!».
Мама не знала, куда ей бежать, и не решалась возвращаться в пансионат, но все-таки вернулась, и, когда она вошла в свою комнату, там оказался Папа Шнайдер, через руку у него было переброшено пальто, а у ног стоял чемодан. Он сделал все, что от него зависело, чтобы ее встретило не гестапо, но времени терять было нельзя — Хорста Хайльмана обвиняли в государственной измене, ее жизни угрожала опасность, и она должна была немедленно исчезнуть. Он дал ей деньги, необходимые бумаги и конверт с письмом, на случай, если у нее возникнут неприятности, и мама, рыдая, поблагодарила его и отправилась в Грац. Все ее мысли были о бедном Хорсте.
Ко дню рождения у меня было лишь одно пожелание — чтобы у меня вообще не было дня рождения, и накануне я представлял себе, а что, если мы обойдемся без него и никто про него не вспомнит? Но не тут-то было — я вставал, выходил в гостиную, где мама с папой пели «Knüdchen hat Geburtstag, tra-la-la-la-la, Knüdchen hat Geburtstag, heisa-hopsa-sa!»[24]. Торт со свечами — ein Gugelhupf[25], — ириски вокруг моей тарелки, подарки от бабушки и семейства Хагенмюллер, от тетушки Густхен и тетушки Инге, которая жила на Майорке и посылала нежные приветы, а также десять немецких марок. Мама и папа дарили мне все, что только могли подарить: велосипед, швертбот «Оптимист» и мопед, когда мне исполнилось пятнадцать лет — и все это у меня отнимали в течение дня, прокалывали шины, топили или портили. Когда я задувал свечи и открывал последний подарок, у меня была одна мысль — пусть это будет бомба и весь мир погибнет.
Подарков было слишком много, и все они были какими-то не такими. Отец привозил мне велосипед из Германии, покупая его в магазине «Некерман» — «Neckermann macht’s möglich!»[26]. У него были широкие, белые шины, и никто севернее Альп на таких не ездил, но, еще только собираясь сесть на велосипед, оставленный у школы, я уже понимал, что мне прокололи шины, и теперь мне придется тащить его домой, ремонтировать, и что мне будут прокалывать шины до тех пор, пока я не откажусь от этого велосипеда. Я был готов сквозь землю провалиться от стыда, когда поднимался из-за своей парты в школе, потому что на доске было написано «Сегодня день рождения Кнуда», и учительница фрекен Кронов говорила, что сейчас я буду угощать всех сладостями. Полагалось обойти всех и угостить конфетами из коробки, каждый должен был взять пакетик. Мама целую неделю до этого наполняла маленькие целлофановые пакетики лакричными конфетами и мармеладом и завязывала бантики, и, когда я раздавал конфеты, они корчили рожи, а потом, когда пели, весь класс смеялся, и песню заканчивали словами: «Сегодня день рождения Кнуда! Хайса-хопса-са!». Потом наступало самое ужасное, я раздавал остатки конфет на перемене и приглашал к себе на день рождения, а они ели сладости, пока их не начинало тошнить и спрашивали меня, не осталось ли еще.
Я готов был умереть со страха, когда приближался вечер. Они звонили в звонок, и приходили то по одному, то парами, то втроем, и совали мне в дверях пять крон. В классе было 20 человек, и принимать нужно было всех: Пию, Шанэ, Марианну, Георга и Кима, Микаэля и Йеспера, Лисбет и Аннеметте, Йенса-Эрика, Поуля и Иоргена, и уж не помню, как там их всех звали. Они приходили, чтобы поздравить меня с днем рождения, и все приготовились к бесплатному развлечению, чтобы было о чем рассказать потом своим родителям. И они получали то, за чем пришли.
Мама накрывала стол в столовой: белая скатерть, карточки с именами, флажки, воздушные шарики и свечи, а рядом с каждой тарелкой лежал пакетик с подарком — цветные мелки, стеклянные шарики, лото с картинками — она улыбалась и говорила «So, Kinder, nu sætte sig og have rigtig fornøjelse!»[27]. Она подавала горячие вафли и Spritzkuchen og Kartoffelpuffer[28] с яблочным компотом, и они сидели, смотрели на все это и ждали булочек, которых на столе не было, и бананового торта, которого тоже на столе не было, а вместо морса на столе стоял «Несквик». Никто не получал от происходящего никакого удовольствия, они ковырялись в еде, роняли ее на пол, протыкали чем-нибудь острым воздушные шарики, рисовали на скатерти, хихикали и не могли дождаться, когда же мама начнет всех развлекать. Она придумывала разные конкурсы, мы играли в жмурки, в «Wettfischen»[29], «Mäusejagd»[30] и в «Papiertütenlauf»[31], мы кидали мячик в банки, и всем выдавали призы.
Они дурачились, швырялись мячами, маме приходилось бегать и собирать их, а они в это время сметали все со стола и набивали карманы конфетами. Я же старался не обращать никакого внимания на то, как они меня дразнят, как коверкают слова на немецкий манер, вслед за мамой называют меня Кнудхен и с громким хохотом хлопают друг друга по спине. Главное было — пройти через все это, пережить этот день, я все равно не мог предотвратить грядущую катастрофу — это была неизменная традиция, и я с ужасом ждал вечера, когда мама достанет аккордеон. Папа держался где-то в стороне, а все дети выстраивались на улице, и каждому давали длинную палочку, на которой висел бумажный фонарик со свечкой. Разноцветные фонарики, на которых были изображены луна, звезды и всякие рожицы, мы вставали в ряд, и мама начинала играть и петь «Knüdchen hat Geburtstag, tra-la-la-la-la», и мы медленно трогались с места: Пиа и Шанэ, Марианна, Георг, Ким, Микаэль, Йеспер, Лисбет, Аннеметте, Йенс-Эрик, Пойль, Йорген и я, и все остальные. Мы шли по улице Ханса Дитлевсена и по улице Питера Фройхена и по всему кварталу, а мама шла впереди с аккордеоном и пела «Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne»[32], и повсюду люди выходили на улицу и смотрели на наше шествие, выбрасывая правую руку вперед в нацистском приветствии.
Не может быть, чтобы мама не замечала этого — она прекрасно понимала, что происходит, но это ее не останавливало. Воля ее была тверда как сталь и холодна как лед, она светилась в ее холодных, стальных глазах. Она и не такое повидала. И когда мама, повернув за угол, снова оказывалась на улице Ханса Дитлевсена и останавливалась перед нашим домом со своим аккордеоном, а за ней тянулась вереница детей и соседей с горящими фонариками, мама начинала петь все громче и громче, и последний аккорд звучал бесконечно долго, а потом все люди, дома и улицы исчезали, втягиваясь в мехи аккордеона, и мы с мамой и папой оставались одни и праздновали мой день рождения, напевая «хайса-хопса-са».
Телевизора у нас не было — мама с папой называли его «дуроскопом». Мы не ходили в кино, я даже не знал, есть ли в нашем городе кинотеатр. Комиксы тоже не приветствовались, потому что они оглупляют людей. Низкопробный и почти аморальный жанр — не зря их печатают на последних страницах газет: «Поэт и мамочка» в газете «Берлингске», «Фантом» в «Ведомостях Лолланда-Фальстера». Лишь в языке, и в первую очередь в письменном языке, мог проявиться ум и Geist[33], и, когда в библиотеке мне на глаза попадались выложенные на столике журналы с комиксами — «Тинтин», «Счастливчик Люк», «Астерикс», — я не решался открывать их. Я боялся, что стоит мне только открыть их, как со мной произойдут необратимые перемены: я потеряю рассудок, у меня появится заячья губа, и никто меня не узнает. Я брал в библиотеке книги, а так единственным развлечением в нашем доме были карты, да еще настольные игры и игральные кости. По вечерам мы садились за обеденный стол и играли в вист, румми, Mensch Ärgere Dich Nicht[34] и ятци. Тикали высокие напольные часы, и жизнь моих родителей была моей жизнью — своей у меня не было, но все изменилось в одночасье, когда у меня появился собственный радиоприемник.
Это был маленький, серебристый карманный радиоприемник фирмы «Филипс», и, нажав впервые на кнопку «on», я с первой минуты просто прилип к нему. Он работал только на средних и коротких волнах и был не особенно мощным, но сигналы все-таки доходили до улицы Ханса Дитлевсена — и для меня открылся мир. Папа, конечно, сразу же просил меня приглушить звук, что я и делал, но по ночам, затаив дыхание, я слушал в темноте радио. Между тирольскими оркестрами и турецкими дикторами слышался скрип и шуршание, я крутил ручку то в одну, то в другую сторону, и никак не мог наслушаться. Голоса, фрагменты мелодий, сигналы азбуки Морзе и шум сливались в один поток, создавая странную музыку, и на следующий день у меня были темные круги под глазами — выспаться мне не удавалось.
С появлением радио я впервые смог избавиться от неусыпной опеки мамы и папы, смог делать, что хочу, и сам принимать решения. Казалось, радио — это что-то запрещенное. Я залезал под одеяло, чтобы меня никто не мог застигнуть врасплох, и крутил ручку то на коротких, то на средних волнах — исследовал вселенную и подслушивал ее тайны. Из шума вдруг возникали станции «Westdeutscher Rundfunk», «ORF», «Voice of America» и звучало «This is BBC World News». Иностранные программы постоянно наслаивались друг на друга и смешивались. Русские дикторы и какие-то марши сменяли немецкие народные песни и американские новости. Это было море голосов, тонущих друг в друге, и мне казалось, что я иду по следу, что я что-то ищу, но я не знал, что именно, пока на частоте 208 килогерц в мои уши не ворвалось «Радио Люксембург»!
Красивее этого я никогда ничего не слышал, противостоять этому было бесполезно. Я слушал музыку, рекламные сообщения, джинглы и звуковые эффекты, на радио звонили люди из Амстердама и Дюссельдорфа, а диск-жокей Роб Джонс говорил так быстро, что понять его было невозможно, но, когда он объявлял следующий музыкальный фрагмент, речь его становилась плавной и мелодичной. Я слушал группы «Свит», «Слэйд», «Уингз», «Куин» и «Спаркс» и не верил, что такое бывает. Но это было правдой — я покинул девятнадцатый век и оказался в 1974 году. Гармония, блеск и сияние — мир полностью изменился, и я не мог дождаться восьми вечера, когда начинались передачи.
Я думал только о «Радио Люксембург» и жил в другом мире, который существовал только на радио и только по ночам. Это было совсем непохоже на концерт по заявкам из транзисторного приемника на кухне или сообщения об обстановке на дорогах, которыми меня терроризировал отец, когда мы ехали по автобану во Франкфурт за мамой — несколько раз в году она ездила навещать бабушку, — я тогда умирал со скуки и умолял его переключиться на другую станцию. По мере продвижения на юг увеличивались шансы поймать передачи американской армии — AFN, и я впитывал в себя голоса ведущих, музыку и рекламу, словно это кока-кола, в те минуты, когда отец на какое-то время сдавался, а потом, кряхтя, снова вертел ручку, потому что начинались помехи. С этим современным миром мы окончательно прощались, когда к вечеру добирались до района Вестенд во Франкфурте, где между патрицианскими виллами со старинными окнами и балконами росли высокие каштаны — бабушка жила в квартире на Кеттенхофвег, 106, где время остановилось, а может, его разбомбили, искалечили и убили.
Я выпрыгивал из машины, обнимал маму, целовал бабушку, которая, как обычно в таких случаях, рыдала от радости, мы тащили наверх чемоданы и распаковывали их. Потом все садились за стол, и на тарелку мне клали Schinken-Kren — светлый ржаной хлеб с маслом и тонкими, свернутыми ломтиками ветчины с яйцом, маринованными огурцами и протертым хреном — и хрен был таким острым, что из глаз капали слезы. Бабушка протягивала мне свой мокрый носовой платок и улыбалась безгубой улыбкой, ее изуродованные руки были покрыты сплошными рубцами, такими же, как и на лице. Бабушка все еще горела в том военном подвале, а призраки Второй мировой войны — ужас, безумие и стыд — бродили по комнатам и дребезжали стеклянной дверью в прихожей. Когда меня отправляли спать, и я, лежа в кровати, слышал звук приближающегося самолета, мне становилось страшно, а вдруг снова начнется война и начнут падать бомбы? И тогда я искал в приемнике «Радио Люксембург».
Хорошая слышимость — это было великое счастье, ведь нередко случались атмосферные помехи, а иногда стоило мне только найти Люксембург, как ужасный голос вдруг заглушал все. Какая-то женщина читала цифры — без всякого выражения, монотонно — бесконечные ряды цифр. «Achtung, Achtung»[35], — говорила диктор и произносила «1 2 3 4 5 6 7 8 9 0» — «один — два — три» и так далее, а потом звучала австрийская народная музыка, йодль, и снова бесконечный ряд цифр. Я сразу понял, что это такое, и у меня мурашки забегали по телу — это была холодная война, а цифры эти были тайными сообщениями для шпионов.
Такое можно было услышать нередко на коротких и средних волнах — сигналы немецких, английских и русских передатчиков, и можно было услышать одинокий женский голос, который повторял «Папа ноябрь, папа ноябрь», — одно и то же в течение пяти минут на фоне какой-то нервной флейты заклинателя змей, а потом женщина начинала произносить цифры по-немецки: 406, 422, 438, 448, 462. Другие станции назывались «Папа Зулу», «Чарли Ноябрь», «Сьерра Танго», «Фокстрот Браво». У некоторых была своя музыкальная заставка, как, например, у английской, там вначале звучало несколько тактов народной мелодии, а потом женский голос на британском английском произносил ряды числительных, была испанская станция с очень плохой акустикой, где иногда на заднем фоне слышалось пение петуха. Самыми ужасными мне казались звуки музыкальной шкатулки, после которых какая-то девочка начинала произносить цифры на милом, невинном немецком языке.
Что могло заставить использовать ребенка для чтения сообщений, предназначенных для тайных агентов, где это происходило и кто сидел перед радиоприемником в каком-нибудь европейском государстве и записывал числительные? Наверное, среди нас разгуливали женщины, работа которых состояла в том, чтобы из года в год монотонно читать ряды чисел, и они никому не могли признаться в этом. Кто были эти женщины? И зачем все это было надо? Я мог впасть в транс, слушая бесконечные цифры на фоне глушилок и музыки, голоса женщин смешивались с гулом самолета над домом на Кеттенхофвег, со страхом, оставшимся от Второй мировой войны, и со свистом бомбы, которая каждую ночь падала на бабушку, — вот под какие колыбельные песни я засыпал во время холодной войны.
Подав ходатайство о возмещении ущерба, понесенного на территории Восточной Германии, — об Entschädigung[36], Папа Шнайдер вновь завел свое дело, на сей раз в Западной Германии, и они обосновались в Айнбеке.
За Папой Шнайдером закрепилась репутация надежного партнера, и его одним из первых немцев официально пригласили за границу, он уже побывал в Голландии и собирался ехать в Турцию. На всякий случай, он перед поездкой решил удалить камни из желчного пузыря — он ведь был до мозга костей правильным человеком и собирался представлять страну. Операция считалась элементарной, не сложнее чем завязать «виндзорский» узел на галстуке, но врачи где-то ошиблись.
Второй раз в жизни бабушка потеряла мужа на операционном столе. Бабушка надела вуаль, и они пошли в больницу — тетя Густхен и родственники из Бибриха, облаченные в траур, к этому времени уже прибыли на место. Папа Шнайдер лежал на кровати — не более холодный, суровый и неприступный, чем обычно. У всех возникла одна и та же мысль, но никто не решался ее высказать, пришлось маме подойти и потрогать Папу Шнайдера, чтобы проверить, действительно ли он умер.
Она хотела было пощупать пульс, но не решалась прикоснуться к нему. Глаза его были закрыты, и трудно было поверить, что когда-то в груди этого человека билось сердце. Мама наклонилась и прислушалась, а вдруг он дышит? Губы слегка зашевелились, мама резко подняла голову — кончено! Он умер, но успел прошептать ей свое имя, свою тайну, и мама теперь знала, как его зовут. Она посмотрела на бабушку и всех родственников, застывших в дверях, но слова застряли у нее в горле — она ничего не могла выговорить, просто кивнула в ответ на вопрос Густхен: «Tot?»[37]. Может быть, господь Бог так и не позвал Папу Шнайдера, а может быть, и позвал, но в последний момент, теперь это было уже неважно, теперь мама знала его имя.
После похорон мама сняла телефонную трубку и позвонила в банк. Ей сообщили, что, собственно говоря, ни на какие деньги рассчитывать не стоит, они могут претендовать лишь на домашнее имущество в Клайн-Ванцлебене, все остальное — сплошные долги и капиталовложения, так что об этом забудьте. Она не стала говорить бабушке и Еве правду, сообщила лишь, что государственная компенсация скоро будет выплачена, стала искать работу и в итоге нанялась секретарем-машинисткой передвижного машинописного бюро — другую работу ей найти не удалось. Мама научилась печатать всеми пальцами и колесила по разрушенной Германии, бодро постукивая на пишущей машинке — 120 знаков в минуту — в новых скорых поездах «D-Züge». Это была тяжелая работа, да и денег на бабушку и Еву не хватало, к тому же она все время получала недвусмысленные предложения от мужчин. Оказавшись в поезде, они на какое-то время становились ее начальниками и могли ни с того ни с сего продиктовать ей такие фразы, как: «Могу ли я угостить вас чем-нибудь в вагоне-ресторане?» или «В гостинице вы заработаете больше». Некоторые из них становились назойливыми — таких она сразу распознавала по лоснящимся лицам, как только они входили в купе, и ей приходилось звать на помощь проводника. Страшнее всего было ночью на вокзале. Однажды в Гамбурге на нее напал мужчина и, обороняясь от него, она швырнула ему в глаза молотый перец из пакетика — ее единственное оружие — и бросилась наутек.
Когда к ней обратились Тесдорф и директор Арнт-Йенсен из компании «Датские сахарные заводы» — это был просто подарок судьбы. Папа Шнайдер когда-то торговал с датчанами, ведь он успешно занимался производством семян сахарной свеклы. Датчане захотели помочь маме и пригласили ее в Копенгаген. Ее поселили в гостинице и устроили в ее честь ужин в ресторане «Вивекс», директор английского отделения Розе тоже был приглашен. На следующий день она увидела «Маленькую русалочку», смену караула перед дворцом Амалиенборг и побывала в Тиволи. Мигали цветные лампочки, люди смеялись, павлин раскрывал свой хвост в Театре пантомимы, а Пьеро с Арлекином начинали свой спор из-за Коломбины. Мама заглянула в магазины, поднялась на Круглую башню и взглянула оттуда на город. Потрясающее впечатление! Никаких развалин, никаких инвалидов, никаких нищих — полная красок жизнь! В это невозможно было поверить.
Неделю спустя Арндт-Йенсен отвел ее в сторону и сказал, что они готовы помочь ей и могут предложить работу на «Датских сахарных заводах». Мама согласилась, поехала домой и сообщила своим хорошую новость — она нашла работу, а потом плохую новость — работа эта в Дании. Ей придется оставить их на какое-то время, но она сможет каждый месяц посылать им деньги, а датчане — очень милые люди, да и Дания — сказочная страна, там все — игрушечного размера.
Шел 1950 год, и пыль войны еще не улеглась, когда мама на своем мотороллере «Веспа» отправилась в Нюкёпинг. Платок развевался на ветру, и по пути она совсем окоченела. Доехав до Травемюнде, она села на паром, и, стоя на палубе, наблюдала, как исчезает на горизонте материк и как Балтийское море поглощает все то, что она знала и любила и что ей до этого принадлежало. Проснувшись в гостинице религиозной миссионерской организации, она стала собираться на работу — ее определили в лабораторию сахарного завода, но она не представляла, что ее ожидает. Жизнь в Нюкёпинге не была такой сладкой, как производимый там сахар. Люди смотрели на нее с недоверием, не отвечали на ее вопросы, а шеф, господин Мёллер, напротив, становился все милее и милее и готов был помогать ей с колбами, бунзеновскими горелками и таблицами. Однажды он предложил проводить ее до гостиницы, чтобы с ней ничего не случилось, ведь у заводских ворот стояли рабочие, которые смеялись, свистели ей вслед и что-то выкрикивали, но она не пустила его в дом. И тогда господин Мёллер совершенно изменился, в его голосе появились угрожающие нотки, он сказал, что ей надо хорошенько обо всем подумать. Мама, забежав в дом, собрала вещи и, надев пальто, взялась было за ручку чемодана, но вдруг присела на кровать. Она закрыла лицо руками, ее всю трясло, плакать у нее не получалось — казалось, что слез у нее больше не осталось, да что толку плакать? Уехать она все равно не могла.
Это была богом забытая дыра, относились к ней так плохо, что и на улицу было не выйти. Фру Йенсен, муж которой работал в Орупгоре, была одной из немногих, кто принял маму. Мама снимала у них крошечную комнату, где вместо двери была занавеска. Мама стиснула зубы и пошла на сахарный завод, она не сдалась. Мама презирала коренастый, толстый народец и называла их «карликами», и, если бы кто-нибудь сказал ей, что именно в этом городе она встретит великую любовь, она бы засмеялась и сказала: «Какая ерунда!».
Однажды в воскресенье отец шел по Рыночной площади, в руках он держал две утиные грудки, собираясь нанести один из своих обычных визитов. Он был высоким и стройным и сиял, как солнце, — когда я спрашивал маму, почему она влюбилась в него, она всегда отвечала, что он был красавцем и у него были руки и ноги. Большинство мужчин ее поколения или погибли, или стали инвалидами — в Германии остались лишь дети и старики, — и мама решила познакомиться с ним. Это было нелегко, потому что она не могла заговорить с ним на улице — так делали только проститутки, и мама не знала никого, кто мог бы их представить друг другу. Время шло, и горы сахарной свеклы перед заводом уменьшались, из трубы шло все меньше и меньше дыма, сезон сбора и обработки свеклы заканчивался. Ей пора было отправляться домой, и неизвестно, что было бы с ней дальше, но тут их пути пересеклись благодаря счастливой случайности.
На репетицию мужского хора отец отправился вместе с управляющим Орупгора, а мама как раз вышла прогуляться с фру Йенсен, которая была с ним знакома: «Познакомьтесь, это Хильдегар Фоль, она работает в лаборатории». Оказалось, что им по пути, мама и папа заговорили по-немецки, папа был мил и вежлив, и на пальце у него не было обручального кольца. С этого времени они могли здороваться друг с другом на улице, и мама старалась как можно чаще попадаться ему на глаза. Она улыбалась ему, случайно встретившись в магазине или в «Восточном парке», и однажды спросила его, не пригласит ли он ее на праздник страховой компании в гостинице «Балтик».
Мама написала бабушке, что нашла мужчину своей жизни, и бабушка была вне себя от радости и все же разрыдалась над письмом — чужой человек в чужой стране, да еще неизвестно, из какой он семьи! Когда сезон закончился, мама никуда не уехала, а папа пригласил ее к себе домой на улицу Нюброгаде — на кофе и утиную грудку.
У него было чисто и опрятно, он показал купленные на аукционе картины — проселочная дорога, порт, лесной пейзаж. Мама улыбнулась, подошла к роялю и перевернула ноты на первую страницу — это был Моцарт. Нюкёпинг-Фальстер — такой маленький город, что иногда кажется: его просто не существует. Если ты находишься в нем, ты не можешь выбраться из него, если ты находишься вне его, ты не можешь попасть внутрь. Ты проходишь по его улицам, и единственное, что остается от города — это пропитывающий одежду запах — запах удобрений летом и сахарной свеклы зимой. И здесь я родился в 1960 году.
Наш дом, номер 14 по улице Ханса Дитлевсена, был последним в ряду перед полями сахарной свеклы и Западным лесом. На первый взгляд — обычный красный кирпичный дом с изгородью, гаражом и садовой калиткой, но это был не дом, а кошмар и ужас. Входная дверь всегда была заперта, и дверь в подвал тоже, а ключи хранились в кармане у отца. Шторы были опущены, а окна открывались внутрь, надежно защищая нашу семью, которая состояла из мамы, отца и меня — и никого другого, кроме нас.
Мы втроем сидели за обеденным столом — утром, днем и вечером, из года в год, а когда наступало Рождество, мы, встав вокруг елки, с трудом дотягивались друг до друга, а в Новый год мы сидели вместе, пили шампанское, бросали серпантин и поднимали бокалы в двенадцать часов. Мы одни праздновали дни рождения, Пасху, Троицу и День Иоанна Крестителя, издалека смотрели на зажженные костры и слушали, как другие поют «Мы любим нашу страну», а летний отпуск существовал только для нас троих — мамы, папы и меня.
Мы отправлялись на машине в Бётё, или Корселитце, или в Помленакке и гуляли вдоль берега моря среди буковых деревьев. Мы с мамой искали плоские камешки на берегу моря и делали «блинчики». Папа ковырял тростью песок и внезапно замолкал — наверное, считал песчинки. Осенью мы искали в лесу грибы, и папа ударял тростью по сложенным в лесу стволам деревьев, некоторые из них издавали звуки, и можно было сыграть мелодию. Весной мы собирали ветреницу и ландыши. Мама вставляла их в маленькие фарфоровые фигурки — девочка с корзиной цветов или рыбак.
В столовой стояла мебель Папы Шнайдера из темного и блестящего красного дерева: стулья, стол, буфет. Мы пользовались его столовыми приборами, его монограмма была выгравирована на серебре, и, когда нож и вилка лежали с двух сторон от тарелки, получалось две буквы: SS. Мы пользовались его сервизом «Виллеруа и Бох» в обычные дни, а по торжественным случаям — мейсенским фарфором. На нем были нарисованы яркие цветочные узоры, и, казалось, начинали звонить рождественские и новогодние колокола, когда мама доставала сервиз и говорила «Das Meissner». В буфете стопками стояли тарелки для пяти блюд на двенадцать персон, переложенные розовой папиросной бумагой, блюда и супница — и, когда мы доставали их, это было священнодействие. Стол покрывали белой скатертью с вышивкой, ставили хрустальные бокалы, а рядом с каждой тарелкой лежали кольца для салфеток, словно серебряные наручники. А когда мы приступали к трапезе, вилки и ножи звонко звякали, исполняя на тарелках только одну музыкальную тему: до чего страшно разбить фарфор.
Мы жили одни, окружающего мира не существовало, у мамы и папы не было друзей и знакомых и никакой светской жизни. На том месте, где должны были быть бабушки и дедушки — или датские кузены и кузины, дяди и тети — никого не было. Это странно — не иметь никаких родственников. Папа никогда о них не вспоминал, и, если я задавал вопрос, он говорил мне, что все уже быльем поросло — как будто это что-то объясняло. Мама могла сказать, что дедушка был прожектером и все растратил, а папа отвечал, что были тяжелые времена. Никаких других подробностей они не сообщали, но я продолжал спрашивать, и однажды вечером папа положил всему этому конец, резко сказав: «Они порвали с нами». И я представил себе порванные части тел на ковре, и не мог постичь такой жестокости.
Теперь маму должны были звать Ромер Йоргенсен — Хильдегард Лидия Фоль Ромер Йоргенсен, но часть этого имени у нее отняли: ей нельзя было носить фамилию Ромер, и папа ничего с этим не мог поделать — для немцев был введен запрет на смену фамилии. Мама все-таки пыталась называться Ромер, хотя в паспорте у нее эта фамилия и не была записана. Ее паспорт был немецким, и она была немкой. Вторая мировая война так и не закончилась, и если говорить о маме, папе и нашей семье, то Нюкёпинг был по-прежнему оккупирован.
Во время следующего сезона она вернулась на сахарный завод и продолжала работать в лаборатории, а зарплату отдавала папе — так тогда было принято. Он давал ей деньги на хозяйство, двадцать пять крон в неделю. Их надолго не хватало, а для мамы, на которой лежала печать вины, все стоило дороже, чем для всех; так что она уже за свой счет накрывала стол на балконе на улице Нюбро. Она подавала папе суп из омара, бифштексы, рислинг, дыню и пирожные — он ведь был тощим, как жердь, говорила она, целуя его в щеку, а на день рождения она подарила ему настоящий кашемировый шарф. Папа был счастлив, и, когда он рассказывал об этом участникам репетиции хора Браги, те не верили своим ушам и высказывали претензии своим женам, дескать, почему они не в состоянии на те же деньги готовить что-нибудь другое, кроме бесконечной кудрявой капусты.
Все дело в том, что мама к этому времени продала одну из картин из Клайн-Ванцлебена, не сказав об этом папе, и тайно открыла счет в Германии, куда положила свою часть денег — Ева и бабушка тоже получили свои доли. Эти деньги мама использовала, чтобы подсластить ими жизнь и противостоять миру. От этого мира ей приходилось отбиваться, ведь над ней издевались, распространяли всякие слухи. К тому же мама еще отвечала за лабораторный анализ процента сахара. Именно от этого процента зависело, сколько крестьяне получат за свою свеклу, а они жаловались и говорили, что она занижает цифры, но она и на малую долю не соглашалась ничего изменить. Даже руководство завода высказывало недовольство, ведь ее взяли на работу по распоряжению директора Арндта-Йенсена, не согласовав ее кандидатуру с ними.
Трудно было сказать, кто ее больше ненавидел, а она еще больше портила все тем, что «изображала из себя важную даму», как говорили. Когда пришла пора большого летнего пикника с хором Браги, куда приглашали родственников на обед в деревне Виркет, выяснилось, что маму не пригласили, и папа вышел из хора. У него был хороший голос, и он играл на тромбоне, но единственное музыкальное произведение, которое в моей памяти с ним связано, — это пластинка с Певческим хором Браги «Как зелен и свеж был лес». Он всегда ставил ее в новогодний вечер — мы сидели в гостиной, а на елке в последний раз загорались свечи, а когда пластинка заканчивалась и его спрашивали, что бы он еще хотел послушать, он отвечал, что не любит музыку.
«Она — идеальная жена», — сказал он на собрании масонской ложи, когда затронули немецкий вопрос, и потом брел домой в своем фраке, словно с похорон. Мама поинтересовалась, а что же произошло у масонов? Но ему было стыдно рассказывать, и он ничего не ответил, а, переодевшись, с такой силой ударил рукой по шелковой шляпе, что она совершенно сплющилась. Позднее в тот вечер он все рассказал — как же могло быть иначе? Он пытался все объяснить, взвешивал каждое слово, но лучше от этого не становилось. Вопрос стоял так: либо масоны, либо мама — и папа больше никогда не надел шелковую шляпу.
А потом он покинул отделение гражданской обороны и перестал посещать фотокружок. Фотография была его главным увлечением, в письменном столе хранились сотни фотографий: петляющая проселочная дорога, золотистые поля овса, идиллические хутора, прекрасные виды Мёнс Клинт и дворца Ольхольм. Его фотографии были похожи на открытки, только на них не было людей — они постепенно исчезали из его жизни. Папа приглашал на ужин, мама готовила Sülzkoteletten — изящно украшенный маринованными огурцами и морковью свиной студень, гости налегали на еду и начинали подпевать, когда мама садилась к роялю, но никто из них никогда не приглашал родителей с ответным визитом. Круг их общения все больше сужался, отпали даже друзья детства, никто уже больше не хотел встречаться с ними — и мама презрительно пожимала плечами, называя их пролетариями.
Для папы стало страшным потрясением, когда мама заявила, что ему надо уволиться из «Датской строительной страховой компании», это было последним прибежищем отца — и он разрыдался. Вообще-то он никогда не плакал, ни разу в жизни, а тут какие-то странные, глухие звуки. Мама успокаивала его и объясняла, что да, конечно, он работает в фирме, но он всего лишь… обычный служащий, так ведь? Генри Мэйлэнд получил свою должность в результате удачной женитьбы, но работать он не мог. Он бездельничал, сидя в своем кабинете, потому что был зятем Дамгора, а отец тем временем вел все дела компании — и на самом деле директором нужно было быть ему.
Отец уволился — он всегда слушался маму. Прошел месяц, и еще полгода — и тут, наконец, зазвонил телефон. Это был юрист Виктор Ларсен, член правления «Датской строительной страховой компании». Дамгор умер, и они хотели бы снова пригласить отца на работу. Отец был согласен на все, но мама твердо стояла на своем, она даже и слышать не хотела ни о чем другом, кроме должности директора — и, вернувшись домой после совещания в компании, отец сиял. Он никак не мог поверить, что стал директором! Ну, почти — его назначили заместителем директора!
Отцу никогда так и не удалось добиться полного признания в страховой компании, в которой он проработал 49 лет и 8 месяцев — ему пришлось смириться с тем, что он подчиненный бездельника Генри Мэйнлэнда и целовать руку его жены, которую мама терпеть не могла.
Нюкёпинг в моем сознании был связан только со страхом и ни с чем другим. Я не осмеливался ходить по улицам и, как правило, если отправлялся куда-нибудь по делам, делал большой крюк — и всегда опаздывал. Я не мог пойти по Грёнсунсвай, потому что дорога шла мимо «Охотничьего гриля», где собиралась молодежь, тарахтя мопедами: «Puch-3» с высоким рулем и сиденьем предназначался для мальчиков, а «Puch-Maxi» — для девочек. Все носили голубые джинсовые куртки, из карманов которых торчали щетки. Девочки бесконечно причесывались этими щетками, а для мальчиков они были оружием в драке — щетки оставляли на коже полоски, из которых сочилась кровь, — и мне не раз доводилось испытывать это на своей шкуре. Случалось, что мы с отцом, когда мамы не было дома, заходили в «Охотничий гриль», чтобы купить на ужин половину цыпленка-гриль и картофель фри, и Вонючка Джон, Йеспер и Стин, стоя у игрового автомата, громко рассуждали о «немцах-колбасниках» и о том, что тут, дескать, не купишь квашеной капусты, а Стин подходил к нам и толкал меня. А когда папа говорил ему: «Эй, парень, ты что это вытворяешь?», — он лишь смеялся в ответ. Взяв цыпленка в термопакете и лоток с картофелем фри, мы отправлялись домой, но мне кусок в горло не лез. Я поглядывал на отца, мне очень хотелось, чтобы он их убил.
И по улице Биспегадэ я не смел пройти, поэтому пробирался между высокими, красными зданиями Технического училища, боясь, что в любую секунду на меня нападут, особенно зимой, когда выпадал снег. Снежки были твердыми, обжигали кожу и оставляли ссадины, потому что в снег они добавляли песок. Улицы вокруг Школы Эстре были небезопасны, а пользоваться туннелем я боялся. Да, это был самый короткий путь — прямо под рельсами, но там меня и подстерегали, и сбежать от них было невозможно, так что, когда мне надо было попасть в центр города, я держался подальше от вокзала, шел под мостом и по Вестерскоувай.
На Фрисегадэ находился ресторанчик, и Поуль Фискер становился неуправляемым, стоило ему выпить, по субботам там устраивали стриптиз, и по Слотсгадэ я всегда проносился как угорелый, чтобы ни в коем случае не натолкнуться на Томми. Он жил в подсобном помещении магазина вместе с отцом, занимался чисткой пишущих машинок и уже был своим в криминальной среде, он гонял со скоростью 75 километров в час на раздолбанном мопеде с форсированным двигателем. Томми стал главарем, как только появился у нас в шестом классе, девчонки были от него без ума, рисовали сердечки и составляли из цветных букв имя Томми на пеналах. Вместе с Гертом, который заикался и болел псориазом, они водились с рокерами. Про Герта ходил слух, что он однажды в день рождения матери поколотил ее в ванной. На куртках у них были нашиты эмблемы, и их приняли в клуб «Визардс», который находился в подвале на Странгадэ. Вся Южная гавань была опасным районом. Район леса Линнескоу был не лучше, там выстроили новые многоэтажные дома и открыли молодежный клуб. Мальчишки носили прически под Тонни Лендагера[38], курили, пили пиво и слушали группу «Газолин», девочки носили брюки-клеш и сабо и слушали «Волкерс» — и я никогда не показывался на Гесервай.
Когда в Нюкёпинге открыли парк развлечений, его установили на площади под названием «Сементэн». Он был похож на игрушечный магазин — блеск и шум, радиоуправляемые машины, огромные качели, палатки с тиром, игровые автоматы, а еще мороженое в вафельных трубочках и попкорн, запах сосисок, но все это было не для меня. Я лишь раз отважился зайти туда, чтобы послушать «Сэра Генри»[39] на открытой сцене. В тот день там оказались ребята из «Визардс», и, когда Герт узнал меня, он приказал им держать меня, а сам помочился мне на штаны. Даже днем я боялся приближаться к дискотекам — «Алый первоцвет» и «Ранчо Эллен». По пятницам все собирались на вокзале и «разминались» в парке у Сванэдаммен. Так что с наступлением темноты я боялся покидать дом.
Мальчишки играли в футбольном клубе «В-1901», и по субботам проходили соревнования на стадионе, туда я не решался ходить, а отец говорил, что футбол — игра для идиотов. Я покупал в киоске лакричные конфеты и шел в центральный спортивный зал посмотреть, как девочки играют в гандбол, ходил я туда не просто так — я был влюблен в белокурую Сусанну, но мне приходилось прятаться от Вонючки Джона, который занимался там борьбой. Он никогда не стирал свой спортивный костюм, и от него воняло как из выгребной ямы. Помню, что почувствовал запах еще до того, как он ударил меня, и меня чуть не стошнило от удара в живот. Больше я в спортивный зал не ходил.
В детской песенке поется: «Если позже всех пришел, залезай скорей в котел». Когда собирали какую-нибудь команду, меня никогда туда не брали. На уроках плавания меня сталкивали в воду, а мои ботинки и носки воровали из раздевалки. Я не решался ехать со всеми в сад Скоруп воровать яблоки, потому что там стоял сарай, в котором наказывали провинившихся, а летом ни с кем не ездил на пляж. В последний раз, когда я поехал с компанией на пляж, мне устроили западню. Меня обманули, пообещав, что приедет Сусанна, ей, дескать, надо с тобой что-то обсудить, и все отправились к морю, прихватив полотенца и плавки. Дорога шла через лес Линнескоу, мимо просторных полей и лугов, небо было ясным. Мы свернули налево и поехали по извилистой дорожке, ведущей в Тьеребю и Стоубю, а далее — в Мариелюст. Солнце припекало, над волнорезами висело марево, мы переоделись в канаве и наперегонки помчались к воде — и тут я упал в яму, доверху набитую медузами.
Они прикрыли ее сверху, поэтому я ничего и не заметил. Меня отталкивали от края, не давая выбраться, потом им это надоело, и они отправились купаться. Все тело горело, и, прихватив свои вещи, я отправился домой, сделав большой крюк, чтобы объехать ресторан «Кёруп» и главную площадь Мариелюста, где многие из моих обидчиков подрабатывали летом: продавцами мороженого, смотрителями кемпинга или площадки для мини-гольфа. Они завышали цены, смеялись над туристами и радовались всякий раз, когда какого-нибудь немца на надувном матрасе уносило в море. В тот день я доехал до самого Элькенёра, где не было ни души.
Сколько себя помню, я искал возможность уехать из Нюкёпинга и из дома, где вырос. Я никуда не мог пойти, был все время настороже, у меня не было никакой свободы передвижения, я словно шел по канату, улица казалась страшно узкой и вела меня только от нашего гаража до школы и обратно.
Когда начинался сезон обработки сахарной свеклы, из трубы Сахарного завода валил дым. В воздухе стоял сладковатый запах — и снежинки падали на землю, словно леденцы, по вкусу напоминавшие конфеты «Датский король». Я шел, высунув язык, я любил снег и ненавидел его одновременно. Во мне то нарастал, то стихал страх, а город превращался в огромное, белое поле боя, в любой момент на меня могли напасть и поколотить. Снег был у меня в волосах, в ушах и в штанах, и на переменах я ел снег — а когда я возвращался из школы, меня подкарауливали.
Тракторы возили по улицам горы сахарной свеклы. Дети бежали за ними, надеясь, вдруг несколько корнеплодов упадет, и тогда можно будет играть с ними или выручить за них несколько крон, если повезет. Перед заводом собирался народ, и все ходили, принюхиваясь, и повторяли: «Пахнет деньгами». По праздникам, напившись в ресторанчике «Голубой Нюкёпинг», люди распевали: «Я родом с Фальстера, здесь свекла растет, все растет и растет! Растет, растет — растет и растет!». Все в городе крутилось вокруг свеклы.
Однажды мы с мамой зашли в лавку Ольсена. Стоя за прилавком, Ольсен неожиданно схватился за голову и сказал: «Что-то у меня свекла разболелась». Мне вдруг почудилось, что и у всех остальных вместо голов — корнеплоды. Может, только я один до сих пор об этом не догадывался?
Я приглядывался к посетителям булочной на Сольвай, но Сусанна улыбалась, как обычно, потом мы с мамой зашли в маленький магазинчик за сигариллами, и худенькая продавщица тоже вела себя как ни в чем не бывало. Весь оставшийся день я изучал головы в поисках неопровержимых улик — корней, стеблей. Многие головы начинали напоминать свеклу — стоило только присмотреться. Я уже не сомневался в своих предположениях, и мне становилось плохо при виде проезжающего мимо трактора. Мне представлялось, что прицепы наполнены головами, а на полях такие же головы — по горло в земле — еще подрастают, пока не настанет время сбора урожая.
В сугробе у подъезда к нашему дому я вырыл нору и забрался в нее, представляя, что я полярный исследователь, отправившийся в гренландскую экспедицию — улица Петера Фрейхена[40] была от нас неподалеку. Забыв про время, я задремал в наступившей темноте. И вдруг я услышал чей-то смех и выбрался наружу, чтобы посмотреть, кто это смеется. На некотором расстоянии от меня стояла какая-то фигура со светящейся головой — огонь горел в глазах, носу, во рту, — и в окне дома напротив тоже была видна голова в огне. Голова эта с треугольными глазами и злой улыбкой смеялась надо мной, я закричал и побежал, куда глаза глядят, не веря в то, что увидел, — у них были свекольные головы, и внутри них пылал огонь — просто его не было видно днем!
Правда о полях сахарной свеклы становилась все более очевидной — я сделал ужасное открытие. И я старался избегать этих существ и отводить взгляд при встрече. Самого глупого мальчика в классе звали Йеспер. Он жил на хуторе за городом и круглый год ходил в коротких штанишках. У него был стригущий лишай, он был пострижен «под горшок», ел карандаши и ковырял в носу на уроках — и чем больше я за ним наблюдал, тем больше убеждался в том, что он один из этих существ.
Конечно, я очень скоро столкнулся с ним. Он сидел на ступеньках дома на Инихисвай и что-то строгал ножом, а рядом толпились какие-то ребятишки. Он поднял голову и, похоже, что-то сказал мне, но я не услышал его. Я не мог отвести взгляд от того, что он держал в руках, — это был свекольный корень, и он уже вырезал рот и нос. «Что ты уставился?» — спросил он, поднимаясь на ноги, и я воспользовался случаем и сказал: «У тебя глупая свекольная башка» — и тут же припустил со всех ног. Он почти сразу догнал меня и повалил на землю. Со всех сторон набежали дети и стали кричать «Бей его! Бей!», а Йеспер сидел на мне, колотил меня, потом сунул меня лицом в снег и стал давить мне на голову, пока я не стал задыхаться и не попросил пощады.
Йеспер остановился, посмотрел на меня сверху вниз и сказал то, что они обычно говорили: «Немецкая свинья». Он смеялся, и все остальные смеялись вместе с ним. Я спросил, могу ли я уйти, но мне сказали, что сначала я должен хорошенько попросить об этом. Я кивнул и осторожно приподнялся на локтях, и не успел он оглянуться, как я изо всех сил выдохнул ему в рот. Из ушей у него повалил дым, голова упала и покатилась по тротуару. Дети с криком разбежались, я отряхнулся, поднял свекловичный корень, пошел домой и слепил снеговика. Потом водрузил на него корень, радуясь зрелищу. И долго лепил снежок, пока он не стал твердым как камень.
В тот день, когда мне исполнилось пятнадцать лет, отец позвал меня на улицу, и там меня ждал он — черный мопед «Puch» с тремя передачами. У него не было высокого руля и высокой спинки сиденья, и на нем невозможно было ехать больше, чем 30 километров в час, и еще мне обязательно надо было надевать шлем — желтый, в два раза больше моей головы. Я знал, что все будут издеваться надо мной. Я сказал «Большое спасибо», и мама спросила, не хочу ли я прокатиться на нем. Я поставил мопед на заднее колесо и проехал по улице Ханса Дитлевсена и по улице Питера Фрейхена и вернулся, а потом мы пошли в дом завтракать.
Во второй половине дня в дверь позвонили — я вздрогнул, боясь самого страшного, но у дверей стоял дядюшка Хельмут. Он приехал из самого Оберфранкена. Мне он показался совсем маленьким и еще более сгорбленным, чем прежде, он сказал «Добрый день» и «Поздравляю!». Мы пошли в столовую к маме и папе, я видел, что идет он с трудом. «Какой сюрприз!» — сказал отец, а мама налила ему чашечку кофе с коньяком, от пирожного он отказался — ему надо было успеть на паром. Он сразу же перешел к делу и спросил, не можем ли мы на пять минут остаться наедине, и положил кусочек металла на стол. Это был последний осколок ручной гранаты, которая чуть было не убила его. Дядя Хельмут рассказал о Сталинграде, где их окружили русские войска, и о поражении. Он решил дезертировать — уже ясно было, что война проиграна, но все-таки ему и его роте удалось вырваться из окружения, а вся остальная немецкая армия, оставшаяся позади, замерзала.
Хельмут посигналил, отъезжая, и повернул за угол, а я помахал ему — больше я его никогда не видел. Как только он вернулся в Мюнхберг, он пошел в свою клинику, сделал сам себе рентгеновский снимок и увидел на нем то, чего он боялся больше всего на свете, — что скоро умрет. У него обнаружился рак — результат рентгеновского облучения, но он никому об этом не сказал, а как обычно ужинал с Евой и Клаусом. Аксель и Райнер к этому времени уже уехали из дома. Потом он сказал «Mahlzeit» и потащился по лестнице вверх в свою комнату, затворил за собой дверь, открыл бутылку вина и налил себе порцию морфина. Он прихлебывал вино и одновременно делал записи в дневнике — он был уверен, что предки ожидают его на том свете. А когда дядя Хельмут опустошил бокал, то сразу погрузился в сон.
По вечерам я садился на мопед и ехал к берегу, чтобы проверить, на месте ли море. Оно было на месте, и я не знал ничего лучше, чем, бросив все, стоять у берега Балтийского моря, здесь кончался Фальстер и здесь в лицо тебе дул ветер. Я смотрел на белые барашки на отмели и шел вдоль берега, который тянулся насколько хватает глаз, искал ракушки и окаменевших морских ежей и надеялся найти янтарь. Он встречался здесь крайне редко, вместо него попадались лишь кусочки стекла или желтые шарики на водорослях. Пнув песчаный холмик ногой, я отправился на мол. Расставив руки, я махал ими — вверх-вниз, вверх-вниз — и распугал всех чаек, они, наверное, решили, что я хищная птица. И я проклял это место, плюнул против ветра, и плевок попал мне прямо в лицо.
Хотя я и уехал из Нюкёпинга, на самом деле я так никогда и не смог его покинуть, никогда не смог выбраться из дома на улице Ханса Дитлевсена. Родители остались одни и жили, прислушиваясь к тиканью напольных часов, которые убивали время, — часы были единственным, что двигалось в этом доме. Все остальное остановилось. У родителей не было никого, кроме меня, и я по-прежнему был для них маленьким Кнудхеном. Каждое Рождество, каждый Новый год, каждую Пасху и каждый день рождения мы встречались за обеденным столом — все было так, как было всегда.
Последние годы отец ухаживал за мамой, которой неудачно сделали операцию в частной клинике. Ей повредили позвоночник, и она никак не могла поправиться. Мама ходила с палкой, потом с ходунками, мужественно боролась с болезнью и смотрела на меня усталыми и печальными глазами — я ничем не мог ей помочь, утешить ее было невозможно.
Маме становилось все хуже, она жаловалась на боли в спине и на мочевой пузырь — у нее обнаружился цистит, который не поддавался лечению, ей все время надо было в туалет, и пришлось поставить катетер. Гортань была обожжена после облучения — у нее был рак ротовой полости, и она все меньше ела и совсем усохла. Врачи ничего не могли сделать, даже избавить ее от боли — морфин на нее не действовал. Потом она упала и сломала ногу. Ногу зафиксировали металлической шиной, и мама уже не вставала с постели. Еду им приносили. Папа не выходил из дома, казалось, он живет в летающем доме, только он не понимал, где этот дом сейчас находится. Иногда он оказывался в Копенгагене, потом перемещался в Орэховэд или на Нюброгадэ в Нюкёпинге — весь мир сжался до одной-единственной, душной, темной комнаты, где стояли кровати и шкафы из Клайн-Ванцлебена.
Однажды мама позвонила со стоящего у нее в спальне телефона и сообщила, что папу положили в больницу. Я поехал на поезде проведать их, оказалось, что все не так страшно, у него была аритмия, и его положили всего на несколько дней. Чтобы слышать маму ночью, если ей понадобится помощь, я постелил себе постель в своей старой детской, в которой за это время ничего не изменилось, и вдруг мама позвала меня.
«Ach, wie sehe ich aus[41] и как это я оказалась в таком положении?» — спросила она. Я попытался приподнять ее в кровати, подложив ей под спину подушку, потом причесал ее, волосы были редкими и блестели от пота. Я осторожно умыл ее, и она попросила подать ей духи, которые лежали в ящике ночного столика, а потом я почистил яблоко и, нарезав его тонкими дольками, попытался покормить ее. Она даже выпила бутылочку пива, теперь мочеприемник был полон, я сменил его, вылил содержимое в туалет и все убрал.
Я был готов отдать за нее жизнь, но ей ничего не надо было. Она лежала в постели, отказываясь пить и есть. Что бы я ни делал — все было напрасно, и весь оставшийся вечер я кормил ее кисловатыми леденцами, которые немного снимали боль в гортани. Ей нравились лимонные.
Как только я лег спать, она закричала. Вбежав в комнату, я увидел, что она сидит в кровати, ее тошнило, сейчас меня вырвет, говорила она, и я бросился за ведром. Она сетовала: «Ach was seid ihr doch für Menschen[42], ужасная, ужасная страна!» — и таблетки, кусочки яблока и пиво — все вышло наружу. Я несколько раз выносил ведро, потом сел к ней на кровать и сказал: «Мама, ну успокойся, пожалуйста», — а она начала на меня кричать — как она может успокоиться, когда у нее рвота? Я погладил ее по щеке и стал рассказывать ей историю, чтобы она забылась, забыла о боли и своем теле и смогла заснуть.
Помнишь, как мы навещали бабушку и поворачивали за угол к ее дому, улица Кеттенхофвег, номер…108, так? Я специально назвал не тот номер, чтобы отвлечь маму, и она поправила меня, нет, номер 106, а я сказал, да-да, конечно, номер 106! А помнишь, что мы видели у входа — почтовые ящики? Да, конечно, отвечала она. А потом, сказал я, если пройти через проход слева, то дальше была дверь с матовым стеклом, помнишь? А когда мы звонили снизу, раздавался какой-то треск, и бабушка открывала нам дверь, и мы поднимались по лестнице, а как звали ту женщину, еврейку, которая жила на втором этаже?
«Фрау Бадриан», — ответила мама и фыркнула, и я сказал, да, правильно, она была очень милой дамой. А потом мы поднимались еще на один этаж и оказывались у бабушки. Ты помнишь, какой был в квартире запах? Такой надежный, уютный запах в прихожей, и дверь с дребезжащим стеклом в гостиную, красивую гостиную со старинной мебелью, и мы ужинали в гостиной, я обожал бабушкину еду. Помнишь ее крошечную кухню, старые горшки и сковородки, а кастрюле было больше ста лет?
Мама сказала: «Ja, wir haben immer auf unsere Sachen aufgepasst»[43], и я спросил ее, помнит ли она, какой вид открывался с балкона в спальне, это был вид во двор на пансионат «Гёльц», там еще была немецкая овчарка, она все время лаяла, и большой каштан, правда? «Это были съедобные каштаны, — ответила мама, — такие в Дании не растут». Потом я продолжил свою экскурсию и рассказал, что дальше по улице Кеттенхофвег жила одна сумасшедшая, которая собирала всякое барахло и устроила перед домом огромную помойку.
«Да, — ответила мама, — однажды я села рядом с ней в трамвае, от нее так воняло». И я сказал, что она, наверное, не пересела на другое место, так ведь? «Да, не пересела», — ответила она. «А как называлась та большая улица, по которой ходили трамваи, мы там часто проходили?» — спросил я. Она ответила: «Бокенхаймер Ландштрассе», — и я радостно воскликнул, конечно же! Именно так она и называлась. А на другой стороне улицы находилась булочная — я обожал блинчики, а за углом — маленький, темный магазинчик канцелярских товаров, там продавались ручки, тетради и бумага всевозможных цветов. Хозяйкой была молодая женщина, а как называлась та большая улица, которая вела к Опернплац?
«Гётештрассе», — отвечала мама, и я сказал, как же ты все хорошо помнишь! А ты помнишь развалины оперы? Она ответила, что да, помнит развалины, но ведь смогли же ее восстановить. А потом мы отправлялись в «Пальменгартен» — огромный парк, где было озеро, по которому можно было кататься на лодке, я там проводил целый день, как это было здорово! Там была оранжерея, большая, сплошь из стекла, внутри была тропическая жара, влажный воздух и пальмы, и еще там был «колодец желаний», а помнишь детскую площадку?
Мама сказала «да», широко открыла глаза и посмотрела на меня холодным, стальным взглядом, которого я боялся всю жизнь. «И ты помнишь, что там случилось?». — «Да, — ответил я, — я поднялся по лесенке, наверху был самолетик, я летел через океан и не мог приземлиться, пока не долечу до Америки». — «И?» — спросила мама, и, умирая со стыда, я ответил, что ей пришлось долго ждать, а потом у нее было воспаление легких, и она чуть не умерла. «Правильно», — сказала мама и злобно улыбнулась, и я понимал, что уже дошел до конца истории, а она так и не заснула…
Когда она очнулась, в ней жила другая женщина, она смотрела на меня мамиными глазами и, показав на коробку с леденцами на столе, спросила: «Кто положил сюда эти конфеты?». Это было ужасно, у меня перехватило дыхание, и я ответил: «Это я их сюда положил». А она сказала: «Что они тут делают? Унеси их!». Когда я отнес на кухню леденцы и вернулся, она покосилась на столик и спросила: «А где коробка?». — «Какая коробка?» — спросил я, а она зарычала: «Маленькая коробочка с леденцами, где она?!». Тут я все понял и ответил: «Так ведь ты попросила меня ее унести, леденцы растаяли в тепле». — «Где она?» — закричала она, голос у нее был резким, пронзительным, и мне пришлось признаться, что я их выбросил. Она укоризненно посмотрела на меня — потом у нее свело ногу, и она стала кричать, и всю ночь я утешал ее, менял пакет мочеприемника, потому что она просила об этом, хотя он еще и не наполнился, и от меня пахло мочой и рвотой моей матери.
На следующий день я спал урывками, не более чем по десять минут за раз. Мама лежала, прикрыв глаза, и казалось, она скоро умрет. Я помог ей проглотить таблетки. Горло ее пересохло, таблеток было много, и ей было больно. Ей надо было что-то съесть, и я спросил, не хочет ли она мороженого — я вспомнил, как она любила есть мороженое в Любеке. Но она отказалась: «Датское мороженое — это сплошные мерзкие сливки». Уже сама мысль вызывала у нее тошноту, вот итальянский шербет, который можно было купить в Германии — это мороженое! Я сказал, что могу сходить за шербетом, но она заявила, что в Дании и шербет не умеют делать, все равно добавляют туда сливки. А потом она захотела переодеться, и я взял пакет мочеприемника, вылил его в унитаз и заснул на полу.
Она снова закричала, я проснулся и бросился в ее комнату, а она кричала: «Это мой пакет, это мой пузырь!». И дергала за катетер: «Где он, где он? Дай мне его!» Отбросив одеяло, она стала срывать с себя трусы и обнажила то место, где был прикреплен катетер. «Вот он, вот он!» — широко раскрытые глаза светились безумием и злобой. Я умолял ее: «Мама, не надо, перестань, ничего же страшного не произошло, ну, пожалуйста». Она же в ответ кричала мне: «Нет, что ты такое придумал? Это мой пакет! Это мой пузырь! Ты злой, злой мальчик! Du bist ein böser Junge, nein!», — потом она села в кровати, взяла бутылку воды и стакан с ночного столика, налила в стакан воды, и стала пить большими глотками, снова налила и снова выпила, лицо ее исказилось, и я уже больше не мог этого выносить, я выбежал из спальни, бросился в гостиную в страхе, что сейчас мама, ковыляя, настигнет меня и убьет. Я пытался дозвониться до медсестры «неотложной помощи», но там было занято, я оставил сообщение на автоответчике и положил трубку, а мама все время звала меня: «А-а-а! Кнуд! Кнуд!».
Я бросился в спальню, там была страшная вонь, и я сразу же понял, что случилось. Она лежала на кровати скрючившись, в позе эмбриона, и я пощупал пульс. Рука машинально отдернулась, потому что я прикоснулся к самому страшному — к трупу. Мама превратилась в ничто, ее забрала разлагающаяся в ней природа. Рот был приоткрыт, распахнутые, почерневшие глаза смотрели на меня издалека. Я не мог понять, что ее больше нет, взял ее руку, стал гладить по щеке, по волосам. Я говорил с ней так, как будто она все еще была жива: «Süße Mutti, ich hab’ dich so lieb»[44]. Казалось, что губы ее слегка шевелятся, и я наклонился к ней, от нее исходил сладковатый запах смерти — меня охватил ужас, она хочет передать мне то имя, которое когда-то узнала у Папы Шнайдера, она хочет сообщить мне его! Я зажал уши, я не хотел его слышать, и тряс головой, глядя на маму, лицо которой застыло в крике.
Смерть ее не была тихой и мирной, она умерла истерзанной, измученной и несчастной. Я позвонил в полицию, и приехавший врач, констатировав rigor mortis[45], расспросил меня об обстоятельствах — надо было убедиться, что речь не идет о преступлении, — да нет же, идет, сказал я, но это преступление было совершено много лет назад. Потом он стал заполнять свидетельство о смерти. Хильдегард Лидия Фоль Ромер Йоргенсен, сказал я, особенно выделив Ромер. Я попросил его пока не увозить ее какое-то время, он кивнул и ушел, а я всю ночь просидел у ее кровати, разговаривая с ней и с самим собой и давая клятву отомстить.
Утром я позвонил в больницу, рассказал все отцу и съездил за ним — он зашел в комнату к маме, пока я стелил ему постель в комнате для гостей, — и мы сели за обеденный стол. Я пытался взять его за руку, утешить его, поговорить с ним, но его невозможно было успокоить, и с ним невозможно было говорить, он ничего тебе не мог ответить. В какой-то момент я позвонил в похоронное бюро. «Кому ты там звонишь? Что это ты делаешь?» — спросил отец. Я не знал, что сказать, и, чтобы избежать его возражений, стал делать все как можно незаметнее. А потом приехал сотрудник похоронного бюро в черном костюме.
У него дрожали руки, и он волновался. Раскрыл папку с фотографиями гробов — и я показал на гроб без креста. Потом он показал урны — и я выбрал самую простую. Потом он показал тексты объявлений для газеты, и я выбрал самое длинное объявление, но тут все испортил отец. Нет, нет и еще раз нет! Зачем все это нужно? Ничего, дескать, не нужно. И, наконец, я договорился, что они заберут ее как можно позже, это означало в 16 часов.
Остаток дня я провел с отцом, который беспрерывно жаловался: то чай ему казался слишком слабым, то слишком крепким, и почему я унес газету в гостиную? И кто переложил бумаги на столе? «Нет-нет, только не эти тарелки, а что делает серебряный нож в посудомоечной машине?» Нет-нет, ничего не надо готовить, нет, не надо ему никакого пирожного. А потом ровно в назначенное время приехали из похоронного бюро. В гостиную внесли гроб и попросили нас выйти из комнаты, мы отправились в мою детскую, и отец вдруг так странно зарыдал, как будто звук доносился из пустой коробки, это было невыносимо, а они несли в это время ее вниз по лестнице.
В дверь постучали, и мы с отцом спустились в гостиную, где в белом гробу лежала мама. Гроб стоял там, где обычно стояла елка. Я положил ей под голову маленькую подушечку, а отец раздраженно стал тростью выковыривать из ковра комок пыли, а потом показал на стол и спросил: «А это что такое?». Я не понимал, о чем он, и переспросил. «Да вот там, — заворчал он, — что это там лежит, почему это там лежит, кто это туда положил?». На столе лежал пакетик чая, который я случайно оставил, я взял его и встал перед гробом, обнимая отца за плечи, а потом он спросил: «Который теперь час, когда придет священник?». Я ответил: «Послушай папа, они ждут, пока мы скажем им, что можно ее выносить». И я позвал распорядителя похорон, он завинтил крышку гроба, пришел его помощник, и они вынесли гроб к катафалку.
Был ясный, безоблачный день, на небе виднелся месяц, и распорядитель похорон церемонно поклонился. Черный автомобиль с белым гробом медленно отъехал от дома и повернул за угол. Я поднял глаза к небу и пообещал себе, что буду вспоминать ее каждый раз, когда днем на небе будет появляться месяц.
Мы вернулись в дом, где повсюду стоял трупный запах. Я отдернул занавески, открыл окна и двери, чтобы проветрить. Отец начал возражать, я попросил его хотя бы на несколько минут оставить все открытым, но он не соглашался и страшно разозлился. Когда стало легче дышать, я снова закрыл окна и двери, и мы сели за стол. Я спросил его, что он думает об объявлении в газету, но он ответил, что это никого не касается. Я попытался объяснить ему, что иначе получится, как будто ее никогда не было на свете, ни живой ни мертвой, и ничего вообще не было. Но он лишь покачал головой.
Отец всегда говорил «нет», когда я о чем-нибудь просил, и вот теперь он был против того, чтобы поместить в газету объявление со словами «любимая нами», он не хотел, чтобы я использовал слова «любимая» или «дорогая». Что за ерунда, говорил он. Тогда я сделал черновик объявления, где был лишь упомянут факт ее смерти и даты, и показал ему. «Папа, посмотри, ты вот этого хочешь? Она тут никто и ничто, просто одни цифры, словно она умерла, ничего и никого не имея», — сказал я, а он все не соглашался, дескать, зачем все это, и я был готов заплакать.
Наконец, я сдался, решил, что сам все сделаю, не спрашивая его, и стал думать, что же такое мне написать в объявлении. В конце концов, я написал под ее именем и фамилией и датами жизни три коротких слова, которые выражали все: «О süßes Lied»[46]. Это была строчка из «Любовной песни» Рильке, речь там идет о том, что смычок собирает в один звук две струны скрипки и что мы — единое целое в бессмысленной, чистой, прекрасной музыке. Это было просто и ясно, как траурная ленточка на окне, и я отправился к распорядителю похорон и просмотрел с ним вместе объявление, чтобы он не наделал ошибок — мне страшно было представить, что в объявление может закрасться ошибка. Я показал ему на немецкую букву «ß», самую важную и сложную из всех букв в объявлении, и объяснил, что вместо нее иногда используют «sz», спросил, знает ли он, о чем идет речь. Он кивнул, а я еще раз спросил, нет ли у него вопросов, у него их не было, но я все равно еще раз все повторил, чтобы уж точно не возникло недоразумений.
Когда на следующий день принесли «Берлингске Тидене», я сбежал в прихожую, схватил газету и, открыв страницу с объявлениями о смерти, стал искать мамино — «О süßes Lied». Но вместо этого в газете было написано «О Sübes Lied». Слово было написано с большой буквы, и к тому же он сделал ошибку, написав «b» — все-таки он не знал, что такое «ß», и не слушал меня. У меня закружилась голова. Все обречено и лишено всякого смысла, никогда ничего не получится.
И речи не может быть о немецком псалме, заявил священник, к тому же «Я знаю прекрасный сад»[47] вовсе и не псалом. Мне пришлось поговорить с псаломщиком и попросить, чтобы во время прощания звучал рояль, но он засомневался, что такое возможно — ведь рояль придется двигать, а потом настраивать, а стоит это 500 крон. В церкви никого не было, и псалмы играли слишком быстро, чтобы побыстрее закончить, и священник не произнес имени Ромер, хотя я его об этом просил «Хильдегард…. Йоргенсен пережила ужасы войны, и Хильдегард… Йоргенсен приехала в Данию в 1950 году».
Флаг перед Монастырской церковью был приспущен, и распорядитель похорон, ожидавший меня у выхода, протянул мне конверт с открытками, которые были вложены в букеты цветов и венки — я сам их написал. Потом я потащил отца к машине, прикрывая его зонтиком от дождя, а он при этом повторял: «Что ты делаешь?» и «Прекрати!». Мы выехали с территории кладбища, а отец продолжал причитать: «Осторожно, не туда, как ты ездишь, скажи, а куда ты, собственно говоря, собрался?». Проехав вдоль берега, мы оказались на Восточном кладбище и пошли к могиле, где были похоронены бабушка и дедушка. Могильщик опустил мамину урну в могилу, и мы засыпали ее землей.
Отец был против надгробного камня. Дескать, никого это не касается, зачем кому-то знать, кто тут похоронен, какое их дело? Поэтому на могиле ничего не было, только черный и белый песок и табличка с номером. Потом мы вернулись домой, я заварил кофе и нашел в столовой чашки. Мы молчали, я закрыл лицо руками и разрыдался, я плакал и плакал над мамой и папой и над всем тем, что произошло, из-за невосполнимой потери близкого тебе человека, а потом успокоился.
Я пошел к себе в комнату и открыл чемодан. Все было на месте — раковины, морские ежи, старые пакеты с бутербродами, фульгурит и стеклянные шарики. Я стал рыться в поисках осколков гранаты, подаренных мне дядей Хельмутом. Осколок за осколком — и вот уже у меня в руках целая русская ручная граната, как и обещал дядя Хельмут. Я наполнил ее всем, что во мне накопилось: горем, отчаянием и яростью, вставил взрыватель и отправился на мост Хойбро, чтобы в последний раз посмотреть на Нюкёпинг. Потом вытащил чеку, швырнул гранату как можно дальше, закрыл глаза и заткнул пальцами уши.
Астрид Саальбак Потаенный город Пьеса © Перевод Эльвира Крылова
Действующие лица
Метте, 20 лет
Агнете, 74 года
Инга, 63 года
Хелене, 37 лет
Место действия:
Комната персонала в здании бывшей больницы. Стены выкрашены в синий цвет. В комнате одно окно и три двери: одна выходит в кладовую, другая — в бельевую, и третья, что почти всегда открыта, — на лестницу. В комнате письменный стол с телефоном, рядом стул, посреди комнаты стол поменьше, возле него два стула. На стене шкафчик с лекарствами, зеркало и устройство вызова персонала с маленькими синими лампочками, которые загораются, когда кому-нибудь из пациентов нужна помощь. На всем легкий налет упадка.
Время действия: Настоящее или, возможно, недалекое будущее.
Сцена 1
Из темноты доносится хор приглушенных, неразборчиво шепчущих голосов. Трудно даже понять, голоса это или просто вой ветра. По мере того как становится светлее, голоса исчезают. Метте стоит в центре комнаты, словно выросла из-под земли или упала с неба, и ждет. На ней пестрый свитер, голубые джинсы с заплатками сзади и сапоги. Через плечо сумка. Снаружи доносится шум, свидетельствующий о какой-то бурной деятельности и спешке: быстрые шаги по длинному коридору, открывающиеся и закрывающиеся двери, шум бегущей воды, звон ополаскиваемых суден и прочего. Все звуки отдаются негромким эхом. Метте поправляет одежду, вытаскивает из сумки расческу, подходит к зеркалу и причесывается. В зеркале видит отражение Агнете, бесшумно появляющейся в проеме двери за ее спиной. На ней синий узорчатый халат, коричневые чулки и тапки. Метте в испуге оборачивается к ней.
Агнете (вглядывается в Метте). Элис!
Метте. Меня зовут не Элис…
Агнете. Ну иди же, иди же, наконец, сюда, дай мне на тебя посмотреть, прикоснуться к тебе.
Метте. Я не Элис.
Агнете. О, извини… мне просто на секунду показалось… Метте. Меня зовут Метте. Я с сегодняшнего дня буду здесь работать санитаркой. Я жду завотделением.
Агнете. А-а…
Метте. А кто такая Элис?
Агнете. Моя внучка. Она, наверное, в другой раз придет. Не знаю, что со мной. Лица расплываются перед глазами. Каждый раз, когда я вроде узнаю кого-то, оказывается, что это кто-то чужой. Может, это твоя одежда меня сбила с толку.
Метте. Моя одежда?
Агнете (ходит вокруг Метте, разглядывая ее). У Элис точно такая же кофточка. И такие же голубые брюки с заплатками сзади…
В коридоре шум приближающихся шагов.
Метте. Что, очень заметны?
Агнете. Нет-нет. Просто не поворачивайся спиной, и все.
Входит Инга. На ней белый халат и белые сабо. На поясе связка ключей, которые гремят при каждом ее движении.
Инга. Ты, должно быть, новая санитарка. Я — Инга Йорт, завотделением. Добро пожаловать!
Метте. Метте Линдгрен. Спасибо…
Инга. Трудно было нас найти?
Метте. Меня охранник проводил. Боялся, что я заблужусь. Я и не знала, что здесь всего так много. И народу столько живет. Это же целый город.
Инга. Надеюсь, тебе у нас понравится. Здесь есть чем заняться.
Метте. Это как раз то, что мне и нужно.
Инга. У нас сейчас пациентов немного больше, чем обычно, но в это время года так часто бывает. Как будто весна сильных делает сильнее, а из слабых вытряхивает последнее.
Агнете. Весна… сейчас что, весна?
Инга. А ты как будто не знаешь, Агнете? Не заметила, что дерево перед часовней вот-вот распустится? (Идет к окну.) Посмотри, как почки на нем набухли, раздулись все.
Агнете. Как, уже?
Инга. Осталось совсем недолго ждать.
Агнете. У меня что-то голова закружилась.
Инга. Пойди в палату, отдохни.
Агнете уходит.
Инга. Агнете у нас уже давно. Поступила как-то весной, тогда к нам вдруг привезли намного больше людей, чем мы могли принять. Они лежали по всему коридору и в обеих ванных комнатах, прямо как сейчас. Где ты работала до этого?
Метте. Нигде. Это мое первое место.
Инга. Ты что, никогда не работала?
Метте. Год назад я окончила школу и с тех пор где только работу ни искала, но так и не смогла ничего найти. Они в агентстве вас не предупредили?
Инга. Нет, это, должно быть, какая-то ошибка. Они обещали прислать человека постарше и с опытом работы. Того, кто не сбежит через пару недель.
Метте. Я не сбегу, буду работать, пока не выгоните.
Инга. Так все говорят. К тому же больно долго обучать того, кто этим или хотя бы чем-то подобным раньше не занимался.
Метте. Я научусь, я способная.
Инга. Как бы мы ни хотели, некогда нам заниматься твоим обучением. У нас и так много дел.
Метте. Откуда же у меня возьмется опыт работы, если меня не берут на нее из-за его отсутствия?
Инга молчит. Загорается одна из синих ламп.
Инга (встает). Прошу прощения, но меня ждут пациенты. Дел много.
Метте. Некоторый опыт у меня все же есть.
Инга. Какой же?
Хелене входит с халатом, таким же, как у Инги, через руку переброшен ее собственный.
Инга. Я тебя не вызывала. Когда ты это усвоишь?
Хелене. Извините! (Разглядывает Метте и через мгновение снова уходит.).
Инга. Что ты там говорила про твой опыт работы?
Метте. Прошлым летом я участвовала в строительстве стойбища древних людей…
Инга. Стойбище древних людей…
Метте. Это была временная работа. Нам нужно было на пустом месте построить жилище людей каменного века, с хижинами, очагом, помойкой, орудиями, лодками и всем остальным. И мы жили там все лето как первобытные люди.
Еще одна из синих ламп загорается.
Инга. И зачем? Какая от этого польза?
Метте (неуверенно). Не знаю. Люди приходили посмотреть на нас, на то, как жили люди тогда.
Инга. Здесь, конечно, не древнее стойбище, но раз уж ты здесь, и нам некогда ждать кого-то другого, я дам тебе шанс. Можешь остаться на испытательный срок. Метте. Спасибо.
Инга (зовет). Хелене! Принеси халат для нашей новой санитарки. (Снимает ключ со связки и дает Метте.) Вот ключ от двери в конце коридора. Не забывай закрывать ее каждый раз, когда входишь и выходишь.
Метте (берет ключ). Хорошо.
Хелене (входит с таким же халатом, что и в прошлый раз). Вот, примерь, этот подойдет?
Метте снимает свитер. Хелене и Инга надевают на нее халат, застегивают, поправляют воротник и прочее.
Метте (оглядывает себя, радостно). Как раз на меня!
Инга. Ну и хорошо. Тогда начинаем…
Сцена 2
Инга сидит за письменным столом и просматривает истории болезни.
Инга (читает и отмечает в журналах, бормочет себе под нос). …Нормальный… У нее тоже нормальный. У этого не было стула. Уже второй день. Ему надо сделать клизму с микролаксом… Мона тоже не ходила сегодня, но что в этом странного, если она ничего не ест. (Ликует.) Ага! У Йохана снова хороший вязкий стул, и это после шести дней запора…
Входит Метте. Снимает прозрачные одноразовые перчатки.
Инга. У него был стул?
Метте. Да.
Инга. И как? Нормальный?
Метте. Я не знаю…
Инга. Ты что, не посмотрела?
Метте. Нет!
Инга. Надо всегда смотреть. Это лучший способ контроля за работой организма. Я покажу тебе, как это делать. Поставим у него знак вопроса (Отмечает.) И еще тебе нужно тщательнее мыть постояльцев. А то они что-то грязные. Нужно мыть везде — во всех складках и углублениях. Там как раз вся грязь и скапливается.
Метте. Я боюсь сделать им больно. Их кожа такая тонкая и нежная. Почти прозрачная.
Инга. Не такие уж они и хилые, как кажется. А нам положено заботиться об их чистоте. И это самое меньшее, что мы можем для них сделать.
Хелене (входит, снимает перчатки). У Ингеборг нормальный стул.
Инга (отмечает в журнале). Нормальный…
Хелене. Новенькая из второй ванной тужилась четверть часа, а выдавила всего-то два маленьких, почти черных шарика.
Инга (ищет в журналах). Где она тут у нас? А, вот… Вязкий стул. Еще несколько черносливин на завтрак, чтобы отпустило. А как у Принцессы?
Хелене. У нее нормальный.
Инга (отмечает в журнале). Нормальный…
Метте. Принцесса?
Хелене. Ты не обратила на нее внимание? У нее несколько больших опухолей на голове, и они словно образуют корону.
Метте. А-а.
Хелене. Что случилось с Агнете? Она все время ходит взад-вперед по коридору. Ни лечь в постель, ни посидеть в комнате отдыха не соглашается. Обычно ведь она такая тихая и послушная.
Инга. Это новость о том, что весна наступила, так ее взволновала.
Хелене. Из-за нее и другие нервничают.
С улицы доносится звон колоколов.
Инга. Слышите? Звон стал громче. Звучит совсем иначе.
Хелене. Кто бы это мог быть?
Инга. Не знаю. Кто-нибудь из других отделений, наверное…
Хелене (идет к окну). Вон они вносят гроб. Воздух сегодня такой прозрачный. Аж до центра города все видно.
Метте. Здесь так жарко.
Инга. Это для пациентов. С возрастом телу становится труднее сохранять тепло.
Метте. Может, откроем окно? Хотя бы здесь.
Инга. Тогда кондиционер не будет работать.
Метте. У меня щеки горят.
Инга. Привыкнешь.
Хелене. Ну, а вообще тебе как здесь, нравится?
Метте. Да, чувствуешь, что ты нужен, и еще им так легко доставить радость, пациентам. Ничего и делать-то не нужно: поговоришь с ними минутку, и они начинают гладить тебя по щеке и радоваться, словно ты послана небесами.
Хелене. Им вечно надо кого-нибудь пощупать. А хуже всего — женщины. Так и норовят полапать тебя. Ничего и не остается, кроме как дать им по рукам.
Метте. Мне бы никогда такое на ум не пришло!
Инга. Не слушай ты ее. Это она просто так. Один из пациентов шепнул мне во время обхода, что новая санитарка, словно ангел.
Метте, (смеется). Ангел! Я себя им и ощущаю, в этом халате, таком белом и чистом. Только крыльев не хватает.
Одна из синих лампочек загорается.
Хелене. И ведь это каждый раз, стоит только присесть. Как будто они следят за нами.
Метте. Давай я схожу, потренируюсь.
Хелене. Не забудь надеть перчатки, поосторожней там.
Метте берет перчатки и выходит.
Инга. Она нам подойдет. Молоденькая и старается изо всех сил.
Хелене. Молоденькая! А я что, не молоденькая, что ли?
Инга. И ты молоденькая, но не настолько же. Она еще просто ребенок.
Хелене. Сбежит, как и все остальные. На таких, как она, нельзя положиться.
Инга. Не сбежит, знает ведь, что другой работы ей не найти. Она останется, если мы захотим. А мы, я думаю, захотим.
Хелене. И зачем нам она?
Инга. Ты о чем?
Хелене. Нам вдвоем лучше. Только ты и я…
Инга. Мы больше не можем одни ухаживать за всеми этими людьми. Нам нужны еще санитары. А тебе бы порадоваться тому, что тебя разгрузят.
Хелене. Да я рада, но…
Инга. Но что?
Хелене. Ничего.
Инга. Ты как дитя малое.
Хелене. А ты как мамочка.
Инга. Сменим тему.
Хелене. Помнишь, когда я только пришла? Тогда я часто, проходя мимо пациентов-мужчин, позволяла им шлепать меня по заду, чтобы просто доставить им удовольствие. Больше они этого не делают, теперь им нужно молодое тело.
Инга. Такова жизнь.
Хелене. Это невыносимо.
Звонит телефон.
Инга (отвечает на звонок). Отделение 17б, завотделением… нет, не можем, у нас нет мест. Да, но что нам с ней делать? А как в других отделениях? То же самое… Да… да, понятно… Разумеется, мы примем ее. Да, конечно. Спасибо… И вам спасибо. До свидания. (Кладет трубку.) Откуда они берутся, эти несчастные люди? Откуда они все?
Хелене. Еще одна…
Инга. Администрация благодарит нас за сотрудничество.
Хелене. И что же нам с ней делать?
Инга. Пока полежит в помывочной.
Хелене. А если положить в коридоре?
Инга. Тогда тележки с едой не смогут проехать. Но ничего страшного, она к другому и не привыкла. Лежала там у себя дома, одна-одинешенька, в своем собственном дерьме. И так месяцами, без нормальной еды, без мытья. Да она будет нам благодарна уже за чистую постель и трехразовое питание.
Метте входит и снимает перчатки.
ИНГА. Кто это был?
Метте. Тот, тощий, маленький из четвертой палаты, ему нужно было судно подать.
Хелене. А, этот, Тролль. Мы зовем его Троллем, потому что его всего перекосило от подагры.
Метте. У него нормальный…
Инга. Что?
Метте. Стул — нормальный.
Инга. A-а, это только первый, утренний стул нужно смотреть.
Хелене смеется.
Сцена 3
На вешалке висит комплект одежды. Шапка, старое пальто, под ним — платье. На полу под одеждой стоит пара сношенных туфель. Метте пишет именные таблички и прикрепляет их к каждому предмету булавкой. Хелене выносит чистое постельное белье из бельевой, складывает его стопками на столе и пересчитывает.
Метте. Не могу найти ее чулки…
Хелене. 12, 13, 14, 15… На ней их не было… 16, 17… (Продолжает бормотать.).
Метте. Как же она, должно быть, мерзла!
Хелене. Не забудь составить список того, что лежит в карманах. А то они придут потом и будут уверять, что там были деньги.
Метте. Не люблю копаться в чужих карманах.
Хелене. Этого никто не любит, но нам тут не до благородства. (Засовывает руку в карманы пальто и вытаскивает оттуда различные вещи.) Расческа… связка ключей… старая записка… и немного сора…
Метте. Что это у тебя с руками?
Хелене. Экзема. От перчаток. Со временем от них раздражается кожа. Запиши связку ключей, а остальное выброси. У-у, им следовало бы очищать карманы еще до отправки.
Метте. Куда все это?
Хелене. Все это будут хранить на большом складе в подвале или отошлют родственникам, если таковые имеются.
Метте. А что, если ей нужно будет уйти?
Хелене. Уйти? Отсюда никто не уходит.
Метте. Я бы предпочла умереть, чем закончить жизнь здесь, пациентом.
Хелене. Это ты сейчас говоришь. А когда приходит время, все цепляются за жизнь, какой бы скверной она ни была.
Метте. Представляешь, что было бы, если бы их всех выпустили! Отправили обратно в город, и они ходили бы по улицам с белыми лицами и все в одинаковой одежде!
Хелене. Зачем это? Они бы погибли. Блуждали бы повсюду или лежали и умирали на глазах у всех. Скажи спасибо, что Инга не слышит того, что ты говоришь. (Нюхает простыни.) М-м… Возьми, понюхай!
Метте (кашляет). Такое едкое мыло.
Хелене (смеется). У тебя слезы на глазах! Я обожаю этот запах. Иногда, когда все полки в бельевой от потолка до пола заполняют чистым, свежевыглаженным бельем, я иду и закрываюсь там. Все вокруг такое белое. Словно ты в церкви. И еще этот запах. Становится так легко и спокойно…
Инга (входит, вне себя). Вы бы только посмотрели на Ингеборг!
Метте. А что там?
Инга. Как ей только не стыдно! Это ж надо так низко пасть!
Метте. Что она такое делает?
Инга. У нее стыда нет, просто никакого стыда. Жаль остальных, им ведь приходится смотреть на все это свинство.
Хелене. Ну, что там она такое делает?
Инга. Ты и сама все прекрасно знаешь, хватит прикидываться дурочкой. Она… делает то же самое, что когда-то фру Лунд делала.
Хелене. Ей нужен мужчина.
Инга. Дадим ей успокоительного. (Открывает аптечку и достает несколько таблеток.) Весной они все становятся такими беспокойными. Просто сумасшедший дом какой-то. Я захожу в палату, а она лежит на своей кровати и, не стесняясь, занимается этим. А остальные делают вид, что ничего не происходит. Сидят и смотрят в пустоту, как обычно. Ладно слабоумные, те не понимают, что делают. Но Ингеборг! Тут на днях она меня вдруг спрашивает, не могу ли я ее покормить, хотя прекрасно может поесть и сама. Будто мне нечем больше заняться. Просто она у нас несколько подзадержалась. Со временем они все здесь такими становятся: бесстыдными и требовательными.
Хелене. А когда ее моешь, у нее иногда появляется такое странное выражение глаз, будто она наслаждается этим.
Инга. Я ей покажу, как наслаждаться! Хрюшка старая, вот кто она… (Закрывает шкафчик на ключ, берет лекарство и уходит.) Пусть проглотит их без воды…
Метте и Хелене фыркают.
Хелене. Бедная Инга, ей самой бы какого-нибудь мужчину. Не удивлюсь, если она еще хуже, чем Ингеборг. (Берет стопку постельного белья и уходит.).
Метте продолжает прикреплять именные бирки на одежду. В дверях появляется Агнете. Она смотрит на Метте, которая ее не замечает.
Агнете. Элис?
Метте. Меня зовут не Элис.
Агнете. Это, должно быть, одежда новенькой. Я видела, как они ее раздевали. Она никак не хотела расставаться со своими туфлями. Вцепилась в них, словно речь шла о ее жизни.
Метте. Расскажите мне что-нибудь про Элис?
Агнете. Она похожа на меня. Если посмотреть на мою фотографию в молодости, между нами так много сходства, просто одно лицо. Единственное отличие в том, что у меня были длинные волосы. Такие длинные, что я могла сидеть на них. Каждое утро я заплетала их и укладывала венком вокруг головы. Все завидовали моей косе. И только когда ее отрезали, я поняла, какая же она была тяжелая. Голове стало легче и головная боль, что постоянно мучила меня, прошла. Я спрятала отстриженную косу в ящик. Когда Элис была маленькой, она любила играть с ней, прикалывала к своим коротким волосикам и важно расхаживала, словно с нимбом над головой… к чему это я рассказываю? Воспоминания выплывают сами из мрака, неизвестно почему… и для чего. Я думала, ты Элис. Почему ты не можешь быть Элис?
Метте. Это не я решаю. Я уверена, она придет. Однажды, когда вы перестанете ждать ее, именно тогда, как это всегда бывает, она вдруг появится в дверях!
Агнете. Нет, она больше не придет. Она здесь уже однажды была. Сразу после того, как меня сюда перевезли. Она была такая веселая. Сидит, смеется все время, улыбается. А у самой сигарета в руке дрожит. Потом на полу остался тонкий слой пепла. Мы говорили о том о сем. А остальные в палате слушали, хоть и делали вид, что не обращают на нас внимания. И вдруг она разрыдалась, стала просить прощения, снова и снова просила. Я не могла успокоить ее. А потом она ушла. С тех пор я ее больше не видела.
Инга (входит.) Агнете, тебе дали чистый халат?
Агнете. Нет. Мне не нужно. Но все равно, спасибо.
Инга. Всем должны менять белье каждый день. Таковы правила. (Обращается к Метте.) Принеси Агнете чистый халат.
Метте уходит.
Агнете. Вы все стираете, моете, трете нас, драите, пока кожа клочьями не повиснет. И все равно что-нибудь да остается. Полосочка какая-нибудь, которую вам никогда не соскоблить.
Инга (вежливо, помогая сиять халат). Согни руку… вот так…
Агнете (берет халат). Посмотри! От стирки вся краска смылась, рисунка почти не видно.
Метте входит с чистым халатом, таким же, как был на Агнете. Инга кладет грязный халат возле чистого. Агнете стоит почти голая и дрожит от холода. Потом быстро берет один из халатов и начинает надевать его на себя. Останавливается и разглядывает его.
Агнете. Это чистый или грязный?
Инга. Это чистый.
Агнете. А вот здесь жирное пятно…
Инга. Значит, это грязный… (Помогает ей снять халат и надеть другой.).
Агнете. А здесь маленькая дырочка. На том, что я сняла, была такая же.
Инга. Дай-ка мне их оба. (Пытается понять, какой из халатов чистый, а какой — грязный. Вздыхает.) Принеси еще один, чтобы не ошибиться.
Метте выходит.
Агнете. Холодно… Мне холодно…
Метте входит с еще одним халатом.
Инга (помогает Агнете надеть халат). Ну вот, теперь ты чистая и красивая.
Агнете. Да, да, если вам так больше нравится. (Уходит.).
Инга. Дай им волю, они будут месяц ходить в одном и том же, а мыться — раз в неделю.
Тишина.
Метте. Когда я здесь, такое чувство, что внешний мир просто не существует. А когда я иду по улице в городе, кажется, что здесь все ненастоящее. Что мы все это просто придумали.
Инга (смеется). Может, так оно и есть. Задерни шторы, свет сегодня такой резкий.
Метте. Ой, не надо!
Инга. Задерни, говорю. Глаза режет.
Метте задергивает шторы.
Сцена 4
Инга сидит за столом. Входит Хелене, встает в дверях, ведущих в коридор.
Хелене. Где же тележки с едой? Уже на пятнадцать минут опаздывают.
Инга. Никаких сообщений о задержке не было, сейчас приедут.
Хелене. Агнете по-прежнему ходит взад-вперед по коридору. Как она не устает…
Инга. Ее только Метте может успокоить.
Хелене. Как же она меня раздражает.
Инга. Метте? Почему?
Хелене. Она такая старательная, невинная. Ей кажется, что она может научить ходить парализованного, глухого — слышать, а склеротика — помнить.
Инга. И ей это почти удается. Благодаря ей Мона опять начала есть. И еще она умудряется переворачивать новенького в ванной так, что он даже не кричит от боли. Мы с тобой так не умеем. А вчера я слышала, как она разговаривала с Принцессой, которая за все время, что она здесь, никому и слова не сказала.
Хелене. А вот грязные пеленки она бросает на пол в помывочной, а мне потом поднимать. К тому же вчера она оставила под Йоханом судно на целых полчаса, потому что не посмела, видишь ли, отойти от женщины, которой вздумалось рассказывать историю своей жизни. В конце концов, у того все пролилось на постель, и мне пришлось менять белье и переодевать его.
Инга. Она обязательно научится со временем. Надо только немного потерпеть.
Хелене. Вот когда я что-то делаю не так, ты так не говоришь.
Инга. Хелене, что с тобой происходит? (Хелене не отвечает.) Ты была точно такая же в начале.
Хелене. Правда? Это было так давно.
Инга. Мы все когда-то были такими.
Метте (входит). С Марией что-то не так… Мне нужно было ее помыть… у нее глаза открыты, а сама лежит тихо-тихо и не отвечает, когда ее зовешь.
Инга выходит.
Метте. Ты думаешь, она…
Хелене (смотрится в зеркало и поправляет свою прическу). Скорее всего. У тебя есть расческа?
Метте. Расческа?
Хелене. И что такого? А тебе бы хотелось, чтобы мои волосы торчали в разные стороны от скорби по Марии. Я саму-то ее не знала, только тело ее. Мне она никто, тебе или Инге, да и другим, наверняка, тоже. Теперь она упокоилась. Впервые за многие годы у нее появится свое собственное жилье. Однокомнатное, с крышкой! Дай же мне наконец расческу…
Метте дает ей свою расческу, Хелене причесывается.
Метте. Она лежала там, совсем одна.
Хелене. Когда мы заняты, такое случается. Везде не успеешь. Спасибо за расческу.
Метте. Она лежала, странно изогнувшись, словно пыталась достать до кнопки. Остальные должны были бы это заметить. Почему нас не позвали? Не помогли никак?
Хелене. Они ничего не слышат и не видят. И что бы мы могли сделать? Все равно ничего бы не изменилось.
Метте. Что же это здесь за место такое!
Входит Инга.
Метте. Она… умерла?
Инга. Да.
Хелене. Вот почему она последнее время была такая растерянная. Они всегда это предчувствуют.
Инга (смотрит в журнал). И стула в последние три дня у нее не было.
Метте рыдает.
Инга. Ну, ну, не расстраивайся из-за нее. Марии теперь хорошо.
Хелене (вывозит вперед тележку с водой, протягивает Метте перчатки). Пойдем, надо все закончить.
Метте. Что закончить?
Инга. Марию нужно обмыть и собрать, чтобы ее отвезли сначала в подвал, а потом в часовню.
Метте снимает халат.
Инга. Ты что делаешь? Ты куда?
Метте. Я не могу здесь больше оставаться.
Хелене. А я что говорила?!
Инга. Ты не можешь так поступить. Только не сейчас.
Метте. Я здесь всего лишь на испытательном сроке.
Инга. А как же пациенты! Что нам с ними делать?!
Метте. Вы легко найдете другую санитарку.
Инга. И все опять сначала? А мы не хотим другую. Нам нужна ты. У нас никогда не было никого лучше тебя. Ведь правда, Хелене? Ну-ка, надевай опять халат.
Метте. Нет, я этого больше не вынесу… все бессмысленно. Здесь так жарко… Я просто задыхаюсь…
Инга (Хелене). Принеси стакан воды.
Метте. Я больше не хочу работать здесь, отпустите меня.
Инга. А ты не помнишь, как клянчила, умоляла, чтобы я оставила тебя? «Я не сбегу, буду работать, пока не выгоните», — говорила. Я дала тебе шанс, а теперь ты нас предаешь, и это в самый тяжелый момент, когда ты нам действительно очень нужна.
Метте. Я не знала, что все так будет.
Инга. Я ведь предупреждала тебя. А что, ты думаешь, скажут в агентстве, когда услышат об этом? Думаешь, подыщут тебе другую работу? (Метте не отвечает.) Я не могу и не хочу принуждать тебя. Но ты должна остаться ради себя самой. Где и чем ты будешь заниматься? А здесь ты зарплату получаешь, учишься, все тебе рады. Ты слышишь меня?
Метте. Я не знаю, что делать… Ничего не соображаю. Ступор какой-то… может, это все неважно, останусь я или уйду… Без разницы ведь… (Вдруг по-детски чувствительно.) Я останусь, раз вы говорите, что я должна.
Инга. Ну и хорошо. Я знала, что ты одумаешься. (Нежно обнимает ее.) Конечно же, ты испугалась того, что случилось с Марией. В первый раз всегда бывает очень тяжело. А потом привыкаешь.
Метте (закрывает глаза). М-м, твой халат так хорошо пахнет.
Хелене стоит и смотрит на них. Когда терпение ее заканчивается, она протягивает Метте перчатки.
Метте (надевает перчатки). Я раньше никогда до мертвых не дотрагивалась.
Хелене. Не бойся. Разница не такая уж и большая.
Они уходят. Инга идет к аптечке, открывает ее, достает банку с лекарством и высыпает оттуда две таблетки, но одна из них падает.
Агнете (стоит, в дверях). Во-он там она лежит… Когда привезут обед?
Инга. Скоро. Пойди, отдохни немного, тогда время быстро пройдет.
Агнете уходит. Инга глотает таблетки. Звонит телефон.
Инга (берет трубку). Отделение 17б, завотделением. Еще одного? Нет, мы не можем, это невозможно. Что нам с ним делать? Ну да, у нас только что один умер, а другие все еще лежат в коридоре, в ванных комнатах, даже в прачечной… да… конечно… где-то место ему нужно найти, но… Нет, я не оставлю бедного, беззащитного человека в таком положении, но как нам ухаживать за ними, за всеми сразу? Извините. Я не собиралась с вами ругаться… Конечно, мы примем его… Да… Мы сделаем все, что сможем… И вам спасибо… Спасибо… До свидания… Одну минуту! Алло? Я просто хотела спросить, когда привезут обед, они задерживаются уже на полчаса… выехали уже? (Смеется.) Да нет, я и не думала, что они про нас забыли. Спасибо. До свидания. (Кладет трубку.) И как они об этом узнают? Так быстро…
Метте (входит, кладет на стол прозрачный пакет с какими-то вещами). Вот, это вещи Марии.
Инга. И это все?
Метте. Да. Мы забыли простынку, чтобы накрыть труп. (Выходит из комнаты и возвращается с простыней.).
Инга (высыпает все вещи из пакета и разглядывает их. Берет обручальное кольцо и читает надпись). Марии от Кнуда… А теперь я обращаюсь к тебе, Мария. Хочешь ли ты взять в мужья Кнуда, стоящего с тобой рядом? — Да. (Она надевает кольцо на палец и разглядывает свою руку. Затем снова смотрит на вещи. Берет часы и прикладывает к уху.) Ах вы, предатели… (Кладет часы и берет фотографию.) Молодая женщина… и молодой мужчина, обнимает ее… заботливо и гордо… То, как она держит руку… (Кладет руку себе на талию.) Она, должно быть, беременна. Я уверена, она ждет ребенка! (Одна из синих ламп загорается.) Кто же это был: мальчик или девочка? (Задумчиво.) Мальчик или девочка? По мне, лучше девочка, хоть можно понять, что это такое. Выглядит испуганной, типичная Мария… Всегда испугана… (Кладет фотографию, снова берет часы и слушает, приложив к уху.) Предатели… предатели. (Сильно ударяет часами по столу.) Вы можете замолчать? (Снова прикладывает к уху.) Вот так-то лучше. (Кладет часы и берет открытку. Смотрит на нее.) «Здесь мы живем»… с балконом и видом на море. (Переворачивает открытку и читает. Вздыхает.) Обычное пустословие. Почему бы немного не постараться. Если не для кого-то другого, то хотя бы ради меня…
Она кладет открытку и снова смотрит на кольцо на пальце. Подходит к зеркалу и подносит руку к лицу, чтобы увидеть себя с кольцом в зеркале. Загорается еще одна синяя лампа. Она смотрит на нее. Снимает кольцо, кладет все вещи назад в пакет. Поправляет халат, надевает перчатки и выходит.
Сцена 5
Инга сидит за столом и заполняет журнал. За окном звонят церковные колокола.
Инга (читает и отмечает в журнале. Бубнит себе под нос). Слишком плотный кал… две черносливины для размягчения… А тут стула не было, это первый день, понаблюдаем… У этой тоже не было, четвертый день… двойную дозу микролакса… у него не было, это первый день, ну должен же быть хоть кто-то, у кого сегодня утром был хороший, нормальный стул!
Входит Метте, на руке висит упакованная в целлофан старая поношенная женская одежда с именными бирками, в руке — туфли.
Инга. Ты еще не относила все это вниз?
Метте. Относила, только там нет места. Склад переполнен. Они спрашивают, не могли бы мы пока подержать все это у нас.
Инга. У меня мурашки… Повесь вон там. У новенького, что в комнате отдыха, был стул?
Метте. Да.
Инга. Наконец-то, хоть у кого-то был стул!
Метте. Но очень жидкий по консистенции.
Инга. Да? Все равно лучше, чем ничего.
Хелене (входит). Больше нет чистых простыней.
Инга. Я знаю.
Хелене. Кое-кому не меняли уже несколько недель.
Инга. Знаю, знаю.
Хелене. Скоро не останется ни чистых наволочек, ни пододеяльников. В бельевой уже почти все полки пустые.
Инга. И это с тех пор, как мы, устраивая место для вновь прибывших, из комнаты отдыха сделали спальню. Я докладывала об этом в администрацию и просила подвезти еще комплектов белья. Не знаю, почему их до сих пор нет.
Метте. Неприятно, когда пациентов так много, они просто повсюду. Только решишь, что ты наконец одна, и тут же из темноты выплывает чье-либо белое лицо.
Инга. Не надо истерик. В это время года всегда так. Хелене. Такого наплыва никогда еще не было.
Инга. Только когда дерево распустится, нам станет легче. Тогда природа уже отделит сильных от слабых. (Вновь утыкается в журналы.) У Принцессы-то был стул?
Хелене. Да, нормальный.
Инга. Хорошо, на нее всегда можно рассчитывать. (Отмечает в журнале.).
Хелене. У Моны тоже нормальный.
Инга, собираясь отметить это в журнале, роняет карандаш, и тот падает на пол. Хелене быстро поднимает его.
Инга. (отмечает в журнале). Нормальный… (Замечает, что Хелене неотрывно наблюдает за ее рукой.) Что такое?
Хелене. У тебя руки трясутся.
Инга. Я устала.
Хелене (поспешно). Принести тебе чашечку кофе?
Инга. Нет, спасибо. Этот звон колоколов действует мне на нервы. В нем есть что-то триумфальное.
Метте (выглядывает из-за шторы в окно). Это Йохан?
Инга. Да.
Метте. Ни цветов ни венков…
Инга. Некому было заплатить за них.
Метте. Из близких тоже никого.
Одна из синих ламп загорается. Хелене надевает перчатки и уходит.
Инга. Этого Йохан не видит.
Метте. А вон священник, поставил свою сумку на крышку гроба и стоит, улыбаясь, с похоронным агентом разговаривает!
Звон колоколов прекращается.
Инга. Какая тишина.
Метте (опускает штору). Люди отличаются друг от друга, даже после смерти…
Инга (взволнованно). Когда умерла моя мама, я украсила ее гроб белой сиренью. Ее аромат наполнял всю церковь, так что голова кружилась.
Агнете. Там женщина упала с кровати. Та, здоровая толстуха. Лежит на полу и барахтается. Я одна не могу ее поднять.
Инга. Я сейчас приду. (Уходит.).
Агнете (смотрит на висящую в целлофановом пакете одежду). Еще один. Скоро каждый день будут поступать новые. Незаметно нас будет становиться все больше и больше. А когда подумаешь, что еще столько же на всех других этажах и в других отделениях…
Метте. И что тогда?
Агнете. Ничего, ничего такого. Ты видела гроб?
Метте. Да.
Агнете. Кому же это удалось расстаться с этим миром?
Метте. Вы что, хотите умереть?
Агнете. Да.
Метте. Вам не страшно?
Агнете. Конечно, страшно. Но у меня больше нет сил ждать. Должно быть, скоро мой черед. Я уже здесь отбыла свое наказание.
Метте. Что вы имеете в виду?
Агнете. Ты что, не видишь, что это чистилище? Здесь, конечно, нет раскаленных тисков и вечного огня. Наоборот. Это пытка незаметная, усовершенствованная и продолжительная. После нее не остается ни шрамов ни рубцов. Это — пытка самим ожиданием. И ждешь, и ждешь, и ждешь, а в это время все медленно исчезает. Чувства, ощущения, воспоминания, все, пока от тебя не остается ничего, кроме небольшой кучки костей в кожаном мешке. Здесь ты ни живой ни мертвый.
Молчание.
Метте. Вчера кто-то забыл закрыть дверь на лестницу, и она была открыта несколько часов.
Агнете. Я видела.
Метте. Но никто даже не попытался улизнуть, сбежать отсюда!
Агнете. Бегут обычно только слабоумные, но они, наверно, и не заметили этого. А остальные, мы-то немножко соображаем. Да и куда нам идти, если мы даже за собой ухаживать не в состоянии. Поэтому мы и здесь. Кто поможет мне подняться, если голова закружится и я упаду? И кто мне поесть принесет, когда я по улице-то ходить не могу? А кто обнаружит меня, когда я умру? Мне не хотелось бы лежать там и разлагаться до тех пор, пока меня не найдут по запаху. Элис, Элис…
Метте. Меня зовут не Элис!
Агнете. Нет, но сходство просто потрясающее. То же лицо, тело и все движения, такая же короткая прическа. Когда я была как ты, у меня были длинные волосы. Такие длинные, что я могла на них сидеть. Каждое утро я заплетала их и укладывала венком вокруг головы…
Метте (идет к двери). Мне надо идти.
Агнете (идет за ней и быстро говорит). Все так завидовали моей косе. И только когда ее отстригли, я заметила, какая она была тяжелая. Голове полегчало, и головная боль…
Метте. У меня нет времени.
Агнете. Ну еще одну секунду! Осталось не так много! Так вот, постоянная головная боль прошла. Я спрятала отрезанную косу в ящик. А когда Элис была маленькая…
Метте. Я послушаю это как-нибудь в другой раз. (Уходит.).
Агнете. Когда Элис была маленькой, она любила играть с косой, прикалывала к своим коротким волосикам и важно расхаживала, словно у нее нимб над головой… (Растерянно.) Элис, куда ты делась? Почему ты ушла?
Сцена 6
На столе слоеный торт со свечами.
Хелене. Где спички?
Метте. Вот.
Хелене. Так хочется увидеть ее лицо. Это будет для нее сюрпризом…
Из коридора слышен звук приближающихся шагов. Звон ключей.
Метте. Она идет…
Они зажигают свечи на торте. Входит Инга.
Хелене и Метте (поют). «Сегодня у Инги день рождения, ура, ура, ура!»
Инга. Откуда вы узнали? Мы же обычно никогда не…
Хелене. Тут как-то позвонили из администрации, я взяла трубку, а они спросили, знаем ли мы, что у тебя сегодня день рождения. Тогда мы с Метте решили, что это нужно отпраздновать. Ты столько делаешь для других. Если кто и заслуживает праздника, так это ты.
Инга. Вот неожиданность…
Хелене. Мы хотели организовать хор пациентов, чтобы встретить тебя песней, но подумали, что это несправедливо по отношению к лежачим, которые не могут участвовать. Поэтому нас только двое.
Инга. Даже не знаю, что сказать. (Шмыгает носом. Хелене протягивает ей носовой платок.).
Метте. Это Хелене, она встала пораньше и испекла торт.
Хелене. Было еще совсем темно.
Инга. А я как раз утром проснулась, и мне так захотелось, чтобы сегодня хоть кто-нибудь вспомнил, что у меня день рождения. Обычно мне как-то все равно. Я часто сама забывала о нем и только через пару недель или даже месяцев понимала, что стала старше. Но сегодня было иначе. Не знаю почему. Надо же, даже администрация помнит о моем дне рождения. Значит, они мною довольны.
Метте. Может, они назначат вас руководителем целого этажа, а не только одного отделения.
Инга. Никогда не знаешь, что они придумают.
Хелене (передает Инге подарок в красивой упаковке). Вот, поздравляем. Это от нас двоих.
Инга. О-ой, это мне подарки… (В упаковке — платок.) Какой красивый…
Метте. Не хотите примерить?
Инга (накидывает платок на плечи). Мне идет?
Хелене. Прямо твои цвета.
Инга (подходит к зеркалу. Замечает Агнете, стоящую в дверях). Это ты здесь…
Агнете. Я слышала, как вы пели.
Инга. Я же говорила, что нужно сначала стучать. Прямо пугаешься, когда вы вот так бесшумно подкрадываетесь.
Агнете. Я не подкрадывалась! Это тапки такие. Если бы нам разрешили ходить в своей обуви, вы бы нас слышали. (Раздраженно.) А я вовсе и не подкрадывалась!
Инга. Хорошо, пусть так.
Агнете. А у кого день рождения?
Метте. У Инги.
Агнете. Поздравляю.
Инга. Спасибо.
Молчание. Агнете уходит.
Инга (смеется). Иногда кажется, что она смотрит сквозь тебя.
Метте (вручает ей цветы). Вот цветы, они тоже от нас обеих.
Инга (нюхает цветы). М-м-м…
Метте. Мы так надеялись, что дерево распустится к сегодняшнему дню, но почки на нем еще дремлют, а солнце никак их не разбудит.
Инга (держит руки над свечами на торте, чтобы согреться). Однажды, когда я была маленькой, мне вдруг так не захотелось праздновать мой седьмой день рождения.
Метте. Почему?
Инга. Мне хотелось остаться шестилетней и не взрослеть. Тогда мама объяснила, что, независимо от того, хочу я или нет, будем мы праздновать день рождения или не будем, мне все равно исполнится семь лет. А через год — восемь, а еще через год — девять и т. д. Время нельзя остановить. Меня это просто вывело из себя, я не хотела ни спать ни есть. Я не спала ночь за ночью, а мама все время сидела рядом. Когда же она все-таки засыпала, я следила за ее дыханием, смотрела, как равномерно поднималась и опускалась ее грудь, пока она вновь не просыпалась.
Метте. Почему? Что такое случилось?
Инга. Не знаю. Возможно, мне на мгновение открылось нечто большее… открылось то, чего в этом возрасте еще понять не могла… и чего не могла рассказать кому-то другому. Я была с этим один на один… А теперь — нет, я этого уже не помню. Со временем это прошло, и я смирилась с тем, что мне исполнилось восемь, девять и десять лет. А сегодня я с радостью принимаю поздравления!
Загорается одна из синих ламп.
Хелене (выходит и снова возвращается). Перчаток больше не осталось.
Инга. Под раковиной еще одна коробка.
Хелене. Она пуста. Мы ее просто забыли выбросить. Что будем делать?
Инга. Придется потерпеть, пока новые не получим.
Хелене. Не можем же мы… голыми руками!
Инга. Ты хочешь, чтобы они лежали и терпели так долго? Или пусть в постель все льется? Возьми себя в руки и выполняй свои обязанности.
Хелене. Нет, этого я делать не буду.
Инга. Что значит, не будешь?..
Хелене. В случае смерти или если надо убрать за кем, то это всегда нам достается, а ты, как сидела здесь, так и сидишь. Без перчаток я этого делать не буду.
Метте. Давай я пойду, мне все равно.
Хелене. Может, тебе это уже начало нравиться? С некоторыми такое случается. Сначала им кажется это противным, потом привыкают, а в конце концов уже не могут без этого. И тогда стоят, копаются в нем, словно играют в куличики: «Тесто мнем, мнем, мнем, утром тортик испечем…»
Инга. Ну, хватит.
Метте хочет выйти.
Хелене (останавливает ее). Не надо, я сама справлюсь. (Уходит.).
Инга. Вот хорошее настроение и испарилось. (Молчание.) Я тебе говорила, что со следующей недели у тебя будут ночные дежурства?
Метте. И тогда я буду здесь одна?
Инга. Ты боишься темноты?
Метте. Да не-ет.
Инга. Ничего страшного. Если есть чем заняться, то время пройдет быстро, и не успеешь оглянуться, как начнет светать. А если ночь спокойная, то можно посидеть здесь, насладиться тишиной и покоем. Потом сделаешь последний обход, ляжешь на кушетку в кладовке и спишь. Зато когда есть ночные дежурства, то можно уже претендовать и на постоянную работу.
Метте. Это необязательно. Я могу и подождать!
Инга. Нет, нет. Это очень даже справедливо. Я сама позабочусь об этом.
Хелене (входит). Ну, разумеется, у одного из них понос.
Инга. Хелене…
Хелене (смотрит на свои руки). Как это мерзко. И мылом моешь и дезинфицирующим средством обрабатываешь, а чувство такое, что рук больше уже никогда не отмыть. Вот, понюхай! Чувствуешь, как воняют?
Метте. Я ничего не чувствую.
Хелене. Ты тоже не чувствуешь?
Инга. Нет, это самовнушение.
Хелене. Ты думаешь…
Инга. А не разрезать ли нам торт? Я так проголодалась.
Хелене. Да, давайте. (Приносит нож, фыркает.) Знаете, чем он залит? (Метте фыркает.).
Инга. О-о, нет.
Хелене. Извини. Я не могу остановиться. Из головы просто не выходит.
Метте и Хелене еще некоторое время истерично фыркают, затем перестают.
Инга. Садись.
Хелене садится.
Метте (Инге). Не будете задувать свечи?
Инга задувает свечи. На сцене становится темно. Ночь!
Сцена 7
Ночь. Свет слегка голубоватый. В разных местах комнаты висят три комплекта одежды, упакованной в целлофан, с именными бирками на каждой вещи. На полу стоят три пары ботинок. У Метте ночное дежурство. Она сидит за столом и вяжет красный свитер. Перестает на мгновение вязать и прислушивается. Тишина. Снова берется за вязание. Опять перестает и прислушивается. Тихо. Вдруг замечает Агнете, которая ходит взад и вперед по коридору.
Метте (зовет). Агнете?
Агнете появляется в дверях.
Метте. Вы все ходите по коридору, почему не спите?
Агнете. Не могу. Там они все лежат, тяжело дышат и еще стонут во сне. (Хочет уйти.).
Метте. Подождите… зайдите сюда, пожалуйста. (Подходит к Агнете, берет ее за руку и ведет в комнату.) Мне нужна компания. Здесь так тихо. Ночью все совсем по-другому. В голове сразу возникает столько идей и мыслей.
Агнете (идет к окну. Штора отодвинута). Сколько огней в центре города! Я и не знала, что отсюда все так выглядит. Это похоже на праздник… Интересно, а нас они видят?
Метте. Не думаю. Здесь слишком темно.
Агнете. Ну да. Да и зачем им это? Что ты вяжешь?
Метте. Свитер. Скоро закончу.
Агнете. Примерь. Я посмотрю, сколько осталось.
Метте примеряет вязанье прямо со спицами. Агнете держит клубок.
Агнете. Он будет в обтяжку.
Метте. Я так и хотела.
Агнете. Теперь ты похожа на Элис, как никогда. Такая юная и свежая. Тебе не следовало бы находиться в подобном месте. Тебе надо быть там, в городе. На празднике!
Метте. Там нет никакого праздника. Это только отсюда так кажется. (Хочет снять свитер.).
Агнете. Нет, постой, я еще полюбуюсь тобой, еще чуть-чуть… (Гладит Метте по щеке.) Как удивительно, что такая прекрасная, упругая кожа когда-нибудь станет такой же серой и дряблой, как моя…
Метте (смущенно). Да…
Агнете. Ох, если бы я была мужчиной, молодым человеком… (Гладит ее по шее, по плечам, по груди.).
Метте (отталкивает ее от себя. Сердито). Прекратите…
Агнете. Почему? Разве на мне есть хоть одно место, до которого бы ты не дотрагивалась? Разве тебе не знакомо мое тело до самых мельчайших подробностей? Разве я смогу воспротивиться, когда вы завтра утром придете и начнете раздевать меня догола, чтобы помыть? Почему же тогда я не могу один только раз потрогать твое тело? Ощутить твою молодость. Твое тепло.
Метте. Я стесняюсь.
Агнете. Я тоже стеснялась, сначала. (Направляется к выходу.).
Метте. Вы можете не уходить, остаться здесь в комнате, если хотите.
Агнете. Я устала. Теперь, думаю, я смогу заснуть. Спокойной ночи.
Метте. Спокойной ночи… Что такое?
Агнете. Ничего…
Метте. Голова закружилась?
Агнете. Немного.
Метте. Идемте, посидите, пока не пройдет. (Помогает Агнете сесть и сама садится на стулу ее ног.). Вот так. Лучше?
Агнете. Да…
Метте. Я так испугалась. Хотите воды попить?
Агнете. Нет, спасибо.
Метте. Я сожалею о том, что было. Хотите, потрогайте меня сейчас.
Агнете. Нет, нет… Я тебя хорошо понимаю. Не знаю, что это я вдруг. Мне самой потом стало неловко.
Метте. Не надо. Это я такая глупая. Я сама хочу, чтобы вы меня потрогали.
Агнете. Я не могу…
Метте. Дайте вашу руку… (Кладет руку Агнете себе на грудь. Молчание.) Ну, как?
Агнете. Нежная и теплая. Я чувствую, как бьется твое сердце…
Метте. Сильно, да?
Агнете. Да…
Метте (смеется). Представляете, если бы нас кто-нибудь сейчас увидел!
Агнете. Да, чего бы они только не наговорили.
Метте (поднимается и идет к зеркалу). По-вашему, я изменилась, с тех пор как пришла сюда? Я имею в виду мое лицо?
Агнете (бормочет). Элис…
Метте (не слышит этого). Сначала я думала, что стану для вас ангелом-хранителем. Когда шла по коридорам или заходила в палаты, а вы все смотрели на меня и хотели довериться мне, я себя и воспринимала — ангелом-хранителем. (Смеется.) Мне казалось, я смогу заставить парализованного ходить, слепого видеть, а склеротика — помнить. И самое главное, я была уверена в том, что никогда не стану такой же, как Инга и Хелене. А посмотрите на меня сейчас… Вчера одна из новеньких обмочилась, долго лежала, звала нас, но ни у кого не было времени, а когда я подошла, было уже поздно: она сама и все белье насквозь промокли. Пока я раздевала, мыла ее, переодевала в чистую мужскую пижаму, другой ведь не было, она, рыдая, не переставала извиняться и благодарить за помощь. Я пыталась объяснить ей, что это не ее, а наша вина, но она продолжала рыдать, извиняться и благодарить. В какой-то момент я не выдержала… подняла руку… и ударила ее… сильно, прямо по ее нежной, залитой слезами щеке. Самое ужасное… что мне это понравилось. Мне стоило больших усилий, чтобы не ударить еще и еще. Я не понимаю, что здесь происходит с людьми. (Замечает, что Агнете сидит с закрытыми глазами. Улыбается.) Вы же меня совсем не слушаете. Как вы можете так вот сидеть и спать… Агнете? Откройте глаза, посмотрите на меня! Агнете! Нет! Нет! Нет, нет, нет…
Сцена 8
Инга. Вы помыли Агнете, приготовили ее?
Метте. Да, и охранники уже пришли, чтобы отвезти ее в подвал.
Инга. А тележек с едой все еще нет?
Хелене. Нет.
Инга. Уже на час опаздывают.
Хелене. И так практически каждый день.
Инга. Выйди посмотри, не едут ли.
Хелене уходит.
Метте (кладет на стол мешок). Вот ее вещи.
Инга (выкладывает вещи на стол). Немного мусора… и коса. Надо же такое припрятать! Когда я была молодой, у меня тоже были длинные волосы. Такие длинные, что я могла на них сидеть. Каждое утро я заплетала их и укладывала венком вокруг головы. Моей косе все завидовали. И только когда ее отрезали, я поняла, какая она была тяжелая. Голове стало легче, и постоянная слабая головная боль прошла.
Метте чешет руки.
Инга. Прекрати чесать, от этого только еще хуже будет.
Хелене входит.
Ты видела их?
Хелене. Нет…
Инга. С меня хватит. Я им так и сказала. Моему терпению приходит конец. Ни чистой одежды, ни постельного белья, ни перчаток. А теперь еще и еду привозят все позже и позже. И о чем они только там думают, чего добиваются?
Хелене (нервозно). Не так громко…
Инга. Говорю, как хочу. И посмотри — становится грязнее и грязнее… пыль и грязь повсюду. Здесь теперь тоже не убирают. Уборщицы сюда, до верхних этажей, никогда не доходят. Если бы только администрация знала, знала, как все здесь ветшает и зарастает. Не то что раньше, когда тут была больница. Тогда здесь все сверкало и светилось, все функционировало как надо. Я тогда работала в родильном отделении. Родильное кресло стоит сейчас там, в подвале, а большая операционная лампа висит над ним, как мертвое солнце. Не знаю, почему они оставили его в подвале. Как-нибудь покажу его вам.
Молчание.
Хелене. Хотите, я принесу кофе, посидим, отдохнем, пока ждем тележки с едой?
Инга. Это мысль. Заодно и погреемся.
Метте. Вы мерзнете?
Инга. Немного. Тянет откуда-то. Из коридора, наверное…
Метте (закрывает дверь в коридор). Так лучше?
Инга. Да…
Метте опять чешет руки.
Да прекрати же. До дырок расчешешь.
Метте. Теперь я вспомнила его! Тот сон, что приснился мне утром, когда я наконец заснула…
Инга. Расскажи мне его.
Метте. Мне приснилось, что у меня ночное дежурство и что я заснула прямо в перчатках. И как будто я просыпаюсь, оттого что не чувствую своих рук. Я пытаюсь снять перчатки, а они не снимаются. Я их стаскиваю, рву на части и, наконец, мне удается их снять. Но вместе с кожей. И я сижу и смотрю на них. Ничего не чувствую, никакой боли.
Инга. А потом?
Метте. А потом я проснулась, оттого что они чесались.
Хелене (входит с тремя кружками кофе). Это еще ничего по сравнению с тем, когда чешется по-настоящему. Тогда готов сдирать их маленькими кусочками.
Инга (пьет). Он холодный.
Хелене. Должно быть, что-то с машиной.
Инга. Как же мне тогда согреться?
Загорается одна из синих ламп.
Инга. Хелене…
Хелене. О нет! Лучше туда не ходить, пока поесть не привезут. Ты бы видела, как они вцепляются в тебя, прямо рвут на части, чтобы узнать, сколько еще ждать.
Инга. Чем их больше, тем наглее и наглее они становятся. Метте…
Метте. Можно я не пойду? Наверняка, там ничего серьезного.
Инга. Идем-ка, хватит сидеть. Им нельзя показывать, что мы их боимся.
Метте (открывает дверь в коридор. Вдали слышен монотонный шум). Слышите! Они сидят и стучат ложками по пустым тарелкам!
Инга. А что последует за этим… закрой дверь. Никто из нас не выйдет, пока не привезут еду.
Еще одна синяя лампа загорается.
Что же там происходит? Что-то не так, не видите? Не так, как всегда… По-моему, это надо прекратить, остановить немедленно. И все начать сначала… пока не зашло слишком далеко.
Хелене. Это невозможно. Назад дороги нет. Такого еще не было, чтобы кто-то остановился и начал все сначала.
Инга. Это верно. (Беспокойно ходит по комнате.) Мне все это не нравится…
Хелене. Я так люблю тебя. Если бы ты знала, как я тебя люблю… (Хочет обнять Ингу, но та отстраняется. Молчат. Загорается еще одна лампа.).
Инга (смотрит на часы). Ну куда же они подевались?
Метте. Они про нас забыли.
Инга. Ничего они не забыли.
Загорается еще одна ламп.
Пусть зовут, пусть себе зовут, мне все равно. Мне впервые в жизни все равно. Мне все равно, даже если они начнут там пожирать друг друга.
Хелене фыркает.
Что ты фыркаешь?
Хелене. Ничего. Я никогда не слышала, чтоб ты так говорила.
Инга. Значит, пора услышать. Странно, что они не звонят и не сообщают еще об одном новеньком. На них это не похоже. Оставить кровати пустовать, пока они хотя бы остынут. (Немного отдергивает штору и выглядывает на улицу.) Идите посмотрите! Дерево распускается! Нижние листочки уже распрямились…
Хелене. Как, уже…
Метте. Завтра будет все зеленое.
Инга (отворачивается от окна). Какой вид… с каждым годом оно кажется еще красивее, еще величавее, чем раньше.
Вдали слышен слабый стук и громыхание. Они прислушиваются. Звук становится все ближе и ближе. Он нарастает и превращается в адский грохот.
Хелене. Это тележки с едой.
Инга. Наконец-то.
Метте. Значит, они все-таки не забыли про нас.
Сцена 9
Ночь. Инга на дежурстве. Она сидит за своим столом и раскладывает пасьянс. Бормочет под нос, перекладывая карты. Зевает.
Инга. Шестерка треф и дама пик… к королю ее… четверка червей, хм… вниз ее. Бубновая дама… пусть подождет… дама червей… еще одна дама! Странные карты… как я их так перемешала? (Поднимает голову, сидит и прислушивается, прежде чем продолжить.) Этого валета сюда и тогда можно всю эту стопку переложить вот сюда… ха-ха, может, он все-таки сложится… джокер… откуда он взялся… бубновая семерка. (Снова поднимает голову и прислушивается.) Э-э-й? Что это за звук такой… какой-то тихий шелест… словно рой саранчи опустошает поле… (Поднимается.) Откуда он? (Идет к дверям, останавливается в испуге.) Что такое? Вы все встали? Почему вы не спите?.. Чего вы хотите? Что-то случилось? Мона… Как тебе удалось подняться с постели? А ты Ингеборг… И все новенькие? Отвечайте же… скажите же что-нибудь, вместо того чтобы вот так стоять, уставившись… что-то случилось? Я могу чем-то помочь? Почему вы все сбежались сюда? А для чего тогда у нас система вызова персонала, как вы думаете? (Властно.) Если вам нечего сказать, идите по палатам. Сию же минуту. Простудитесь и заболеете, оттого что ходите в пижамах с голыми ногами по коридорам. Вы слышите?.. Нет! Стойте там, где стоите. Не приближайтесь ко мне… что вы хотите… да скажите же, что вам нужно… И прекратите смотреть так на меня. (Всхлипывает.) Что я вам сделала? Это подло, все на одного. Что я вам сделала? Еще один шаг, и я позвоню в охрану, сейчас вызову охрану. (Бежит к телефону.) Алло? Алло? Почему они не отвечают? Где они там все… (Бежит назад к двери.) Ну-ка, вон отсюда… Возвращайтесь… по кроватям, немедленно… вон отсюда, ну-ка, вон… (Захлопывает дверь, закрывает ее на ключ, подпирает ручку двери стулом.) Привидения, вот вы кто… и ничего другого, одни привидения. (Снова садится за стол.) Меня вам не запугать. Я не боюсь ваших бледных жалобных физиономий. (Продолжает раскладывать пасьянс.) …бубновый туз… прибережем… четверка червей. (Ежится.) Как же здесь холодно… двойка бубен…
Метте и Хелене неслышно входят и встают у Инги за спиной. У них букет цветов и подарок, упакованный в бумагу для подарков на день рождения. Инга продолжает раскладывать пасьянс. Они следят, заглядывая через ее плечо. Их лица ничего не выражают или официально вежливы.
Хелене. Сошелся?
Инга. Что? Это вы там стоите? А как вы вошли?
Метте. Поздравляем… (Вручает подарок.) Это от нас обеих.
Инга. Ой, это мне подарки… Но у меня ведь только что был день рождения!
Метте. Время идет быстро.
Инга (распаковывает подарок. Это синий узорчатый халат пациентов. Радостно, удивленно). Это мне? Как мило с вашей стороны.
Метте. Не хотите примерить?
Инга (неуверенно). Думаете, надо примерить?
Метте и Хелене помогают Инге снять свой медицинский халат и надеть халат пациента.
Инга. Мне холодно…
Хелене. Вот так. Очень хорошо.
Инга. Идет мне?
Метте. Да, как раз ваши цвета.
Инга (смотрит вниз на себя). Я не очень понимаю…
Хелене (вручает Инге цветы). Это вам! Тоже от нас обеих…
Инга (снимает с цветов бумагу). О! Сирень! Белая сирень. (Нюхает цветы.) Этот запах, этот сильный сладкий запах… у меня кружится голова…
Метте. Скорее всего, они долго не простоят по такой жаре.
Инга. Жаре… Здесь что, жарко? Я мерзну. Так ужасно мерзну…
Хелене. У нас слишком жарко.
Метте (жалуясь). У меня щеки горят!
Инга. Я мерзну…
Хелене. Не будешь заканчивать пасьянс?
Инга. Буду. Надо посмотреть, сойдется ли он… (Садится и погружается в карты.) Тройка пик… вот сюда. Шестерка червей… полежит пока… Валет треф… что нам с ним делать? У нас нет больше места… Пусть скажет спасибо за помывочную. К чему-то лучшему он, наверняка, и не привык. Четверка треф… и двойка пик в первую ванную. Ого! Опять джокер… шестерка червей… шестерка червей. Вот… валет треф…
Сцена 10
Все чисто и красиво. Шторы отодвинуты, солнце светит в окна. Звон церковных колоколов, чуть позже звук шагов по коридору. Входит Хелене. На ее поясе связка ключей, которые гремят, когда она двигается. В руке стопка журналов, которые она читает на ходу. Она садится за письменный стол, просматривает каждый журнал и что-то отмечает в них.
Хелене (бормочет себе под нос). Нормальный… тоже нормальный… Не было стула. Уже второй день. Попробуем одну клизму с микролаксом. У новенькой малышки из первой ванной тоже не было стула, но что в этом странного, если она ничего не ест. (Ликует.) Ха, ха! У Кристиана стул опять нормальный после шести дней запора…
Метте (входит, снимает перчатки). У фру Нильсен из четвертой палаты нормальный…
Хелене отмечает в журнале.
Метте. У тех двоих, что в помывочной, тоже нормальный…
Хелене. Где они тут у нас… вот. (Отмечает в журнале.).
Метте (выглядывает из окна). А это не Ингеборг?
Хелене. А кто ж еще? Уже ведь три дня как умерла. А как Матрос?
Метте. У него не было.
Хелене. А ты дала ему как следует потужиться?
Метте. Почти четверть часа сидел.
Хелене отмечает в журнале. Инга беззвучно появляется в проеме двери. На ней халат пациента, коричневые чулки и тапки. Останавливается в дверях.
Хелене (вежливо, но не поднимая головы). Чем мы можем тебе помочь?
Инга. Я просто хотела… когда привезут еду?
Хелене. Скоро. Пойди к себе в палату, отдохни, вот время быстро и пройдет.
Инга стоит еще мгновение, потом исчезает. Звонит телефон.
Хелене (отвечает). Отделение 17б, завотделением. Да. Конечно, у нас есть места, только что было два смертных случая… Да, ну тогда мы все подготовим для новенького. Хорошо. И вам спасибо. Спасибо. До свидания.
Метте. Еще одна. И что мы с нею будем делать?
Хелене. С ним. Мы его можем положить в коридор внизу у лестницы или во вторую ванную, там никого нет. У фру Хольм был стул?
Метте. Да, нормальный.
Хелене (отмечает в журнале). Нормальный…
Метте. У Принцессы тоже нормальный…
Хелене. Хорошо. (Отмечает в журнале.).
Метте. И у Бенни нормальный…
Хелене отмечает в журнале.
Вот так-то!
Из современной датской поэзии
Как известно, поэзия в литературах мира древнее прозы, а по своим свойствам — удерживаться в памяти каждого и удерживать вокруг себя, при себе память многих, а то и всех — видимо, воплощает национальную культурную традицию вернее и надежнее. Вряд ли случайно, что датская письменная словесность начинается не только с перевода Библии и латинских исторических хроник, но также с записанных в XVI — не в XVIII или XIX! — веке безымянных народных песен-баллад (они были в 1591 году уже и напечатаны, чем оказались сохранены для потомков). Показательно и то, что в составленном в 2005–2006 годах Датском культурном каноне поэзия занимает почетное место, и, кстати, ряд поэтов, которые публикуются ниже, в этот Канон входят.
Конечно, семь лириков, включенных в нынешний номер, не дают и не в силах дать исчерпывающую панораму датской поэзии последних тридцати-сорока лет. Но, по крайней мере, они представляют три ее поколения, так что самых старших отделяет от самой младшей, ни много ни мало, шесть десятилетий (для обогащения картины любознательные читатели могут обратиться к антологии «Из современной датской поэзии», изданной в Москве, как и аналогичная антология датской малой прозы, в уже довольно далеком 1983 году и знакомившей с поэтами первой половины и середины XX века, — из включенных в нее тогда лишь один Бенни Андерсен вошел и в нашу подборку). К разбросу во времени, а значит — в опыте, в стилистике, присоединяется разница в пространстве — географическом, языковом. Скажем, Катти Фредриксен живет в Гренландии и пишет не только на датском, как остальные поэты, но и на гренландском (а в принципе, к нему можно было бы добавить немецкий и фарерский, на которых в небольшой, по российским меркам, стране тоже и говорят, и пишут; кстати, фарерцы держат вместе с исландцами первое место в мире по количеству новых издаваемых книг, в том числе — переводных, на душу населения). Добавим: кое-кто из авторов номера, не менее известный у себя в стране и в мире стихами (Ингер Кристенсен, Клаус Рифбьерг, Найя Марие Айдт), на этот раз фигурируют как прозаики. И надеемся, что следующие ниже поэтические страницы привлекут читательский интерес, внимание издателей, так что продолжающееся знакомство России с датской поэзией, шире — со словесностью Дании, ее мыслью, пластикой, музыкой не прервется, а, хотелось бы думать, будет углубляться.
Борис Дубин
Кнуд Сёренсен © Перевод Нора Киямова
Дождь пишет у меня на голове по Брайлю
но кожа головы не умеет читать и мои пальцы не осязают шрифт а только его разглаживают. Мои глаза видят лишь что небо исчезло и дождь блуждает между домами как чужак в поисках куда бы приткнуться.Здесь
именно здесь иссякли дома земля поглотила окрестные пашни и ландшафт уже не рукотворен а что называется воссоздан природой но где-то в памяти все еще стоит яблоня с единственным красным яблоком позабывшим упасть в положенный срок и сейчас мои руки словно бы хотят ухватить нечто что может некогда было.Слова молчания
В этом уголке сада время приостановилось легкий ветер развеял дымку в том месте где именно сейчас пожелало стать солнце шмель выполз из своей норки и трава распрямляется по мере того как высыхает роса. А вон на той клумбе справа оказывается уже два или три цветка. Пространство между нами заполняется словами но поскольку мы знаем друг друга знаем вдоль и поперек и насквозь звуки слов излишни они бы даже мешали ведь сейчас мы сведущи и спокойно сидим на скамейке посреди мира и вживаемся в молчание друг друга и толкуем слова молчания самые важные из имеющихся у нас слов.О времени
Это не ветер хлещет траву до бесцветия, это не ветер обрывает сейчас плоды с крайних веток и это не ветер заставляет облака устремляться за горизонт. Нет, ветер тут совсем ни при чем, я прекрасно знаю, что снаружи бушует не он, а время, отпущенное мне время, которое бежит все быстрей и быстрей и убегает все дальше и дальше, я прекрасно знаю, что это оно пробило мой пульс и сейчас вдруг — неожиданно — торжествует, вырвавшись наконец на свободу.Бенни Андерсен © Перевод Нора Киямова
Последнее в мире стихотворенье
Будь это последнее в мире стихотворенье я сделал бы его как можно длиннее длинным-предлинным но на последних строчках замедлил скорость приостановился бы прежде чем его кончить из страха рухнуть в пространство или лег бы на живот и подполз к самой кромке ухватился покрепче за крайние слова и осторожно свесился бы над пропастью в которую срываются все стихи и попробовал заглянуть под стихотворенье воспользовался бы редкой возможностью увидеть стихотворенье с изнанки ведь что если бы оно оказалось первым в мире Тогда бы я стал передвигаться как муха по оборотной стороне поочередно цепляясь слово за слово пока не выучил бы его наизусть а одолев последнюю строчку попробовал снова перекочевать наверх повисел бы дрыгая ногами и слегка отдышавшись подтянулся и взобрался на кромку и объявился в начальной строке или еще где-то Будь это последнее в мире стихотворенье я бы отказался этому верить а может отложил бы его на потом и принялся за другое Будь это последнее в мире стихотворенье я бы отказался его сочинять во всяком случае поскорей бы остановился например здесьЛюбовь
Любовь не растет на деревьях но ты смотришь на них когда тебе ее не хватает как же они справляются если так далеко отстоят друг от друга едва дотягиваются краем листка до ближнего дерева притом дерево это быть может совсем не пара оно даже мешается тем не менее они что ни день то растут ну а ты бродишь по лесу на своих подвижных корнях суешь в карман свои подвижные ветки — ведь мало ли что — и торопишься назад в город.Жизнь в длину и высоту
Спичка вспыхивает в мировом пространстве освещает на миг лицо прежде чем потухнуть. Руки встречаются в темноте соприкасаются на миг прежде чем замереть. Слова произносятся. Из них немногие достигают слуха возможно ненадолго запоминаются. Жизнь коротка в длину зато бесконечна по вертикали дрожащая жилка в простертой мышце смерти. Спеши целовать иначе приложишься к черепу. Скоро ты станешь никем но сейчас у тебя есть губы и спички.Киркегор на велосипеде
Что-то со временем вылетело из памяти многое вряд ли стоило помнить но хотя прошло уже больше недели помню как вчера мне встретился на велосипеде Сёрен Киркегор погодите тогда это наверное было лет 150 назад я еще даже и не родился never mind он ехал по дороге к Оленьему пруду а я ему навстречу тут мы слезли и побеседовали кто-то возразит что велосипед тогда еще не изобрели однако великие умы не смущаются подобными мелочами к тому же он подчас бывал немного рассеян Слегка запыхавшись он начал пояснять на примере что им вложено в понятие Повторение (он произносил это на старый лад то бишь Повторенье): Непрерывно повторяющийся нажим на педали заставляет вращаться колеса стало быть именно повторение приводит в действие весь механизм и усиливает желание попасть в новые места или вновь посетить хорошо знакомые А главное велосипед гениален тем что позволяет разом убить двух зайцев: сидя на одном месте ты с помощью повторения перемещаешь это место вместе с собой таким образом из центра Копенгагена можно доехать хоть до Оленьего пруда и Оленьего заповедника и обозреть по пути множество замечательных мест не покидая при этом своего места Ну да это было задолго до того как появилось ТВ А потом он покатил на своем велосипеде дальше с тех пор я его не видел и до тех пор тоже а может никогда вообще но вот про повторение это я запомнил и хотя о Киркегоре можно сказать многое но черт возьми этот человек знал о чем говорил.Хенрик Норбрандт © Перевод Нора Киямова
Ода старому гвоздю
Ну не жалок ли старый гвоздь, ржавый, согнутый и тупой: павший вестник пропавшей формы. Может статься, он выпал из дома, корабля, повозки, кровати или же из гроба умершего судьи. Тайны, которые он удерживал, целиком съела ржавчина, а кривизна его к ним никак не причастна. Выправить гвоздь и вновь пустить в дело было бы по мне едва не насилием, а сравнивать его одиночество с своим собственным, как бы это ни казалось заманчиво, было бы издевкой над его сущностью, ведь гвоздь крепит все, что ни пожелаешь, и сему верен.Китай, созерцаемый сквозь греческий дождь в кофе по-турецки
мелкий дождик сеется в мой кофе кофе остывает и переливается через край переливается через край и делается прозрачным и на дне чашки проступает рисунок. на рисунке человек с длинною бородою в Китае, возле китайского павильона под дождем, проливным дождем покрывшим штрихами обветренный фасад и лицо человека. под кофе, молоком и тающим сахаром под треснувшей глазурью взгляд его как будто потух а может быть, обращен внутрь к Китаю в фарфоре чашки чашки, в которой медленно убывает кофе и которая наполняется доверху прозрачным дождем. весенний дождь разбивается в пыль о навес таверны фасады по другую сторону улицы напоминают большую стену из растресканного фарфора, поблескивающего в виноградной листве такой же поблекшей что и в чашке. китаец видит, как солнце пронизывает зеленый листок, упавший в чашку чашку, содержимое которой теперь совершенно прозрачно.На пути к Итаке
На пути к Итаке я наконец-то вижу себя самого: образ, бледнеющий с каждым гребнем волны, по мере того как гребцы, наводящие ее синий холодный контур, продвигаясь вперед, от прочих отстают кораблей, погибают во снах или умирают на веслах: их исчезновение мало-помалу приготовляет меня к прибытию, что вечно меня подгоняло: розовые горы в снегу, встающие из лилово-синего моря, растворяют мои черты в своих очертаниях. Я — тот самый никто, в кого меня превратила Итака. Та отражающаяся в море Итака, которую я покинул. Та Итака, по которой, мне мнилось, я тосковал, когда тоску еще можно было облечь в форму и заглушить.Расстояния
Расстояния растут и все дальше отстоят друг от друга листья. Все дальше отстоят друг от друга люди, и все дальше отстоят друга от друга слова. Все дальше отстоят друг от друга чувства. А мертвые листья, мертвые люди и забытые, избитые слова и чувства тихо и незаметно прибывают в числе между еще живыми.Медитирующий верблюд
Белые, покрытые снегом горы вдали, за весенне-зеленой степью, придают степи характер степи, а весенне-зеленая степь, в свою очередь, придает горам характер гор, таким образом, степь становится отграниченной и плоской и потому пригодной, чтобы стоять на ней и созерцать горы, пока на них держится снег.«Если даже бабочки ошибаются…»
Если даже бабочки ошибаются и, ослепленные резким полдневным светом, налетают на скалы, неудивительно, что мы принимаем самих себя за тень огромных крыл, что порой накрывает землю и заставляет умолкнуть даже цикад. В образе окаменелого богомола я сижу внутри глыбы, о которую расшиб голову, и жду, когда же меня выбьет на волю резец.Пиа Тафдруп © Перевод Анастасия Строкина
Разговор с деревьями
Деревья расскажут моему отцу о времени года: белые стволы берез сияют в его сознании, вытянутые, несломленные, нежные на ветру. Без листьев — и, значит, зима, и, значит, лучи сквозь ветки пронзают оконное стекло. Глубокая листва — и, значит, лето, и темно в тени, желтеет — и это непременно осень. Сегодняшний день и такой же день пятьдесят лет назад — не различить. Два часа прошло или две минуты — разве это и вправду что-то значит в надежном укрытии прозрачной детской памяти? Я это или моя мать — там, в кресле, — какая разница? Я здесь или моя сестра — разве это важно в нашем уюте? Растущие тени так далеко, их и не разглядеть. Что нам грядущие тени: мы смотрим на белку — как она с ветки на ветку скачет по вишневому дереву. Березы наполнились весной — и только это важно. Сейчас. Сейчас так тихо, и солнце светит в комнате. Теплеет. Сейчас мы живы… Что будет с нами, когда иссохнут деревья от самых корней, когда их души медленно прорастут к звездам?Впустить собаку
Мой отец всегда оставляет дверь нараспашку, сквозняк врывается в его жизнь, спутывает мысли, играет с белыми лоскутками памяти. Он стоит в дверях, на краю темноты, зовет свою непослушную собаку. Она умерла много лет назад. Выглянешь за дверь — а там мир, настоящая катастрофа, перепутанный мир. Война закончилась, но солдаты все никак не обретут покой на земле. Обыски, обвинения, доносы. Ночью холодно, где же она так долго ходит… Неужели отец Никогда не будет прежним? Приказы, аресты, чрезвычайные положения. Времени все меньше, не заметили, как завтрашний день стал вчерашним. Подземным ходом возвращается собака, и я впускаю ее домой — я ничего не хочу понимать. Я глажу собаку, я даю ей воды.Изгнание из Рая
В корзине — гроздья винограда, спелые ягоды. Вино, которое испил мой отец, было сладко-пьянящим, но его любимая женщина стала ему матерью, а он ей сыном — время жить вместе порознь. В корзине — гроздья винограда, забродившие ягоды. Вино, которое испил мой отец, было терпким и пронзительно горьким. Он знает, что сам он намного сильнее своего тела: оно тащит его в болезнь и угасание. Любовь и гнев отныне одинаково бессильны. В корзине — гроздья винограда, гнилые ягоды. Вино, которое испил мой отец, было прогорклым и кислым. Светит ли солнце в дождь или дождь переливается на солнце — все едино: вода продолжает прибывать, и резкий запах теперь повсюду, и не прогнать его.Сёрен Ульрик Томсен
«Мне утром пришло письмо, а внутри…» © Перевод Нора Киямова
Мне утром пришло письмо, а внутри — письмо, и письмо, и медно-зеленый листок из другого времени года. Нас развеяло по всем осенним темно́там, каждый со своим опытом, со своими тараканами в голове; экосистемы тел синхронно вращаются в постелях с таймером; любовь, которую не может отлучить даже жизнь, блуждает, словно призрак во плоти, и все же световые конусы цветущих каштанов пляшут в цитате из скомканного послания: пути сходятся именно там, где они расходятся на пульсирующем перекрестке души.«Я забылся посреди предложения, и одно за другим…» © Перевод Нора Киямова
Я забылся посреди предложения, и одно за другим слова обморочно выпадают из моего языка, стих, заново крещенный в гашеной извести, обнажает самые большие бездомные слова и обороты: они сшибаются, подобно тяжелым товарным вагонам, невероятное и поразительное беспамятство ощупью отыскивает то место, где душа накрепко припаяна к плоти ! кто посмеет писать, когда земной шар взял и остановился, чтобы те, кто приходят в мир, и те, кто уходят, могли разминуться, не испытывая головокружения?«Давным-давно уже мечта о несбыточном…» © Перевод Нора Киямова
Давным-давно уже мечта о несбыточном капитулировала перед надеждой хотя бы на лучшее, которая теперь должна уступить мольбе, чтобы нас миновало худшее. Мы едва ли не благодарны, когда мелкие беды ставят нас на место в бытии необозримом и знойном, как равнины Испании. Спускается тьма, сухие пальмы шуршат за шторами, и моя белая плоть отсвечивает, как глетчер, в зеркальной столешнице номера 19, когда я наклоняюсь зажечь свечу для незримой души.«Молодой врач направляет луч света…» © Перевод Нора Киямова
Молодой врач направляет луч света мне в ухо, где потрескивает пленка немого фильма. Последнего, кто снимался в нем и кто поручил мне написать титры, я вчера проводил на кладбище, и сирени, лебеди — все, что есть белого в этом мире, отодвинули остальное в тень. Я долго сидел, прислушиваясь, как, шипя, растворялись в воде два кодимагнила. «Это наследственное», — говорит врач, выключая фонарик.«Кому не случается…» © Перевод Нора Киямова
Кому не случается на подходе к пятидесяти, проснувшись в ночном поезде, который неизвестно почему встал, обратиться мыслями к человеку, что мимолетно встретился на пути и исчез. Сидишь ли ты где-то под соломенной шляпой и читаешь в сени яблони? Или, пьяная, валяешься на смятой кровати, а за перегородкой возится крыса? Тут поезд трогается и обрывает стихотворение, прежде чем поэт поддастся соблазну приправить его сентиментальностью и цинизмом.Зубной. Могила. Кольцо © Перевод Анастасия Строкина
Микаэлю Струнге
Пришел я осенью, а уходил от зубного уже зимой. Остановившись перед витриной магазина, во весь рот улыбаюсь собственному отражению: новые золотые зубы сверкают из розового мрака челюстей, придавая мне сходство со старым киношным нацистом. В некрологах писали, что все ведь к тому и шло, но я не хочу соглашаться, будто в твоей смерти есть хоть какой-то смысл: он есть у одной только жизни. Купив розу, отправляюсь на поиски твоей могилы. «Мне тебя не хватает», — сказал, и показалось, будто ты улыбаешься, но, конечно, это все лишь мои фантазии. Вот я — стою тут с первой сединой и мечтами об обручальном кольце. А вон ты, где-то между всем, что слишком земля, и всем, что слишком небо. В моем беспокойном мозгу.Микаэль Струнге Стихи разных лет © Перевод Анастасия Строкина
Апатия
ОНА И ВПРЯМЬ НЕ ЗНАЕТ ДОКУРИТЬ ЛИ ЕЙ СИГАРЕТУ СОКРАТИВ СЕБЕ ЖИЗНЬ НА 10 МИНУТ ИЛИ БРОСИТЬ ЕЕ В ОКНО КРЕПКО ВЦЕПИВШИСЬ В КОНЧИК СОКРАТИТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ НА 50 ЛЕТ. ОНА И ВПРЯМЬ НЕ МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ И ТУШИТ СИГАРЕТУ ОБ РУКУ. ПУСТЬ МИР УВИДИТ: НЕ ОН ОДИН МУЧИТ ЕЕ И ЕЕ ТЕЛО.Пластмассовое солнце
По улицам — толпы слепых детей. Ледяные ветра — в пустой черепушке города. С неба — вещевой ливень: приемники, пузырьки, газеты, мыло, битое стекло. А за городом — опара леса, раздается на ядах и препаратах. Парень идет по тросу, протянутому от башни к башне. Над скопищем глухих домов огромная стая чаек рвется к золотому свету моря. Пластмассовое солнце тлеет зубастым оком, заливает йодом глаза прохожих. В глубокой коме спит асфальт, укрытый синим тряпьём снега с набивным рисунком телеэкранов. Вся музыка сумерек — предсмертный хрип машин. Холодный нейлон ветра живую кутает кожу в тонкую болевую пленку.Край света
Мир кончается прямо у вас под ногами. Он весь как на ладони. Взгляните ввысь — там все ваши возможности: прозрачно-призрачные линии меж точками на черном огромном экране. Или — белые пятна Роршаха на большом голубом ватмане.Представление
Звук лопающегося сосуда. Реки простерты, руки. Города впали в детство: звуки влажных хлопков, раздавленных тел. Боль — с ноготок, не больше.Безмятежное море
Вот он спускается к морю. Вот он заходит в воду. Плывет. И вот ныряет. Ныряет, чтоб не всплыть.Black box
Дверь заперта. Я внутри. Не встаю. Не лежу. Тут светло. Снаружи — тьма. Тут тихо. Все такое настоящее. «Мое лицо как будто настоящий сон». Бессонница / мертвый сон без снов. Тело из тьмы. Не могу думать. Жив. Есть нечто, о чём не удается думать. Но вижу. Черное. Что-то не так. Нет, все вообще не так. Не назовешь. Думаю: любить, быть любимым. Помню хорошее. Не могу забыть плохого. Жив. Иначе не могу. Как мертвый. Но боли нет. Я не могу ее ощутить. Это она ощущает меня.Катти Фредриксен Из книги «Стопроцентный инуит» © Перевод Анастасия Строкина
Ийаайаййаа
Старый охотник здесь больше не живет. Весло его каяка потерялось; место, где он родился, отныне недосягаемо. А было время: он нащупывал путь в тумане, он думал о семье и надежном доме. Когда его незамужняя дочь родила, он назвал ее не-мужа «зятем». Он благодарил небо, как благодарили предки, — за то, что мальчик, за то, что поможет. И он дарил ему игрушки — мастерил их из заготовок для каяка — сухих и полукруглых деревяшек. Они друг с другом ворковали. Ийаайаййаа, благодарный за мальчика. Из тех же деревяшек он выточил фонарь: вместо плафона — пластиковая бутылка. Он чувствовал, как наливается счастьем с каждым шагом этого мальчика. Ийаайаййаа. Однажды ему приснилось, что он перевернулся в своем каяке. С тех пор во сне он часто видел жену. Голос, рожденный болью, звучал и креп — не скрыть его и не укрыться: слишком сильный, чтобы не помнить. Смерть снова их соединит, и никакого другого пути он не нашел. Ийаайаййаа.Моя страна говорит по-гренландски
Да, вот так: мне есть, что рассказать. Да, вот так: я из Гренландии, но с датским паспортом. Да, вот так: я чистокровная инуитка и я не ем сырое мясо. Да, вот так: я верю в шамана-ангаккока и в Христа. Да, вот так: я думаю на родном, а пишу на датском. Да, вот так: я не люблю этот язык. Да, вот так: люблю гренландский. Моя страна и я — мы говорим на этом языке. А на каком вы говорите с моей страной?Когда он стареет
Одиночество беззвучно. Как будто застыла зимняя река. Из движения — только мысли. Каждый шаг замирает. Одиночество безречно. Как будто солнце — осколок айсберга. Ни тело, ни мысли так и не успеют заметить, что стрясалось с душой. Он идет по улице, одинокий — ну и что? Благодарно рассматривает прохожих: ему радостно и не на что жаловаться. Он стареет, становясь невидимым для других. Незаметным, ненужным. Выпил на работе, и вот теперь он посреди улицы, как будто никогда никем не был. И только его возлюбленная земля слышит стук его сердца, ежеминутно с ним, с его слабеющим телом, равнодушная к его месту в обществе: она знает о нем самую правду. Остановился, смотрит издалека, как совсем еще молодые фотографируются в национальных одеждах, разговаривают по-датски. Щелчок фотоаппарата — и все́ — все попрятались по машинам, разъехались. Он никогда не будет с ними. И это ему не грустно. Решил пройтись до центра. Один. Идет легко, считая каждый шаг, благодарный, что все еще жив. В центре он останавливается, как будто не знает, куда дальше. Он здесь родился, и вырос, и стареет. Он стоит и не может понять, где он.«Мне страшно…»
Мне страшно, мне странно, мне хочется пить: на моей коже — морская соль и удары барабанной палочки. Каяки стоят на низкой воде, у берега, рабочие каяки, сел — и в море. Но где охотники и рыбаки? Мне спокойно от страха, он стекает водой по телу. В воде предки видят мое отражение: иначе им меня не разглядеть. Я прошу их: посмотрите, услышьте, научите своему мастерству, дайте свои инструменты. Но это только во сне, когда засыпает кровь. А все же они говорят: не сомневайся, и я верю, я вижу, что принес прилив.Антология рассказа
Хелле Хелле
Фильм © Перевод Борис Жаров
Мы очень ждали этот фильм. Американский, со знаменитыми актерами в главных ролях, фильм о любви, захватывающий, про двух людей, которые случайно знакомятся в бюро путешествий.
Фильм идет около четверти часа, как вдруг на одном из передних рядов поблизости от нас падает в обморок женщина. Зрители начинают кричать, зажигается свет, показ фильма прекращается. Женщину кладут на пол перед экраном, она все еще без сознания, на ней пальто, кто-то снимает с нее пальто и похлопывает по лицу.
Мы сидим в освещенном зале и ждем чего-то, очевидно, приезда машины «Скорой помощи». Мне отсюда видно, как из кармана ее пальто выскользнули пакетики — мармелад и конфеты с лакрицей.
Мой друг говорит мне, что людям со склонностью к тромбозу вообще лучше не ходить в кино. Он учится на ветеринара, сейчас готовится к экзамену по патологии и очень любит сравнивать людей с животными. Он говорит, что женщина на полу напоминает ему таксу из-за коротких ног и высунутого языка. Я прошу его прикусить язычок. Если не считать потерявшей сознание женщины, в зале не меньше ста человек.
Мой друг выходит купить попкорн. Надо же использовать перерыв для чего-то полезного, говорит он. Я делаю несколько глотков из бутылки с водой и ставлю ее под кресло.
Женщина, лежащая на полу, вдруг привстает, поднимает руки и громко кричит. Потом опять падает на пол со стуком. Зрители поднимают шум, дескать, надо что-то делать, и, вообще, почему до сих пор не приехала «скорая помощь». Двое зрителей средних лет рядом со мной спорят, как лежать женщине, по-прежнему на спине или лучше перевернуть ее, разговор идет на повышенных тонах.
Мой друг возвращается с горячим попкорном, он жует, а я рассказываю ему о том, что женщина подняла руки и громко кричала. Он говорит, что не хочет лечить людей, он имеет дело только с животными. Вынимает из сумки книгу, пристраивает ее к спинке переднего кресла и начинает читать, нельзя же попусту тратить время. Я спрашиваю, как он может сосредоточиться и готовиться к экзамену, когда вокруг не меньше ста человек да еще перед экраном женщина, которой плохо, и к тому же включили музыку — звуковую дорожку к одному из фильмов про звездные войны.
Он говорит, что студентом приобрел навык сосредоточиться, однажды он прочитал почти целую книгу, работая с газонокосилкой, на это у него ушло не больше часа. Я спрашиваю, как выглядел после этого газон. Он громко смеется и говорит, что не надо верить каждому его слову.
Группа женщин, явно члены какого-то клуба, всерьез голосуют, не потребовать ли назад деньги за билеты и вместо кино пойти в ближайший увеселительный парк. Сторонники этой идеи побеждают, женщины покидают зал.
Я толкаю моего друга и спрашиваю, не уйти ли нам тоже.
Он считает, что лучше подождать. Ему очень хочется посмотреть этот фильм и к тому же вместе со мной, мы не ходили вместе в кино уже больше года. Он показывает мне рисунок, внутренности козы, я говорю, что никогда не видела ничего более мерзкого.
В какой-то момент пожилая пара поднимается и подходит к женщине на полу, вешает ее пальто на кресло и наклоняется. Это привлекает к ней внимание еще нескольких человек, один мужчина хлопает ее по лицу, другой велит ему это дело прекратить.
Кто-то начинает кричать, что надо остановиться, надо дать ей покой, мы можем принести больше вреда, чем пользы. Сейчас приедет «скорая помощь», нужно только подождать. И отойти от женщины, здесь вам не цирк.
Я мешаю другу читать книгу и спрашиваю, не думает ли он, что тут что-то не так. Мы ждем ужасно долго, я решаюсь пойти и выяснить. Он говорит, что можно пойти, а на обратном пути хорошо бы принести ему чего-нибудь попить.
Везде очереди, у других залов кинотеатра и у киоска, у билетных касс. Я проталкиваюсь сквозь толпу, машу молодому человеку, проверяющему билеты. Кричу, что в первом зале все еще ждут машину «Скорой помощи». Он кричит, что знает это. Я кричу, что так нельзя. Он кричит в ответ, что такое случается часто.
Я прохожу мимо очереди к телефону, прошу того, кто говорит, прервать разговор, ситуация чрезвычайная, нужно помочь больной женщине. Он отвечает, что он в таком же положении, он погибает, все вокруг рушится.
Тогда я встаю в очередь к стойке, покупаю своему другу колу и возвращаюсь в зал.
Он сидит, отложив книгу, и постукивает пальцами в такт музыке из фильма о звездных войнах. Протягиваю ему колу и сажусь.
Мой друг спрашивает, не сыграть ли нам в какую-нибудь игру, чтобы убить время. Он задумал кое-что в этом помещении, а я должна угадать, что это. Я говорю, что не настроена сейчас играть в такого рода игры, он говорит, что жаль. Потому что он задумал кусочек попкорна, который попал в мои волосы, и я бы ни за что не угадала.
Решаю идти домой. Именно домой, а не в кафе, не в другой кинотеатр. Сижу и думаю, как я сейчас скажу ему, что иду домой. Он скажет, что надо сначала распить по бутылочке пива и все обсудить, он так ждал этого вечера. Я отвечу, а как он думает, разве я не ждала, но вечер все равно уже испорчен. Да, испорчен, скажет он, испорчен. И будет мусолить это слово, а я встану и уйду. При других обстоятельствах я в качестве извинения сослалась бы на головную боль или тошноту, но сейчас это почему-то не годится.
Я вижу, что женщина внизу у экрана приходит в себя. Поднимается, хватается одной рукой за кресло. Зрители из первого ряда подбегают помочь ей, но другой рукой она подает знак, чтобы они сели.
Она идет по среднему проходу, опустив глаза. Пожилой мужчина подает ей пальто, которое она забыла. Она берет пальто и покидает зал.
Кто-то кричит, что хватит играть музыку, пора дальше крутить картину, другие смеются.
Когда занавес открывается, публика начинает аплодировать. Смотрю на своего друга, он тоже аплодирует. Шепчет, что надо внимательно слушать музыкальное сопровождение, оно уникально. Я представляю себе колу, которую он только что выпил. Кола попала в его внутренности и булькает там в темноте. Я отодвигаюсь от него. Полчаса спустя слышу звуки, напоминающие сирену «скорой помощи».
Прощание © Перевод Галина Симонова
Лето. Мама договорилась со мной о встрече. Мы увидимся на вокзале в мой обеденный перерыв, она приедет на автобусе чуть позже двенадцати, а у ветеринара ей надо быть только спустя 45 минут. Мама возьмет с собой что-нибудь поесть на нас двоих, а я смогу попрощаться с собакой. Ей уже 14 лет, она не вынесет новых операций, так что ничего не остается, кроме как усыпить ее.
На небе ни облачка. Я в сандалиях и голубом платье, которое уже туго облегает живот, жду на остановке. На улице градусов 30, я вытираю ладонью пот с лица и промокаю руку о платье.
Пахнет разогретым асфальтом. Автомобили подъезжают к вокзалу, люди входят и выходят из здания. Кто-то сидит в тени под козырьком крыши. Какой-то мужчина опускает письма в почтовый ящик.
Когда автобус сворачивает на площадь, мама уже стоит у выхода. Как только открывается дверь, она выходит, ведя за собой собаку. Собака со свисающим изо рта языком медленно спускается за ней.
Выйдя из автобуса, собака сразу же ложится на землю, мама ставит сумку и садится на корточки. Увидев меня, собака виляет хвостом. Мама, покачивая головой, гладит ее по спине.
— Самая ужасная поездка в моей жизни, — говорит мама, не глядя на меня. — И самые долгие двадцать минут.
Ее уложенные волосы немного опали и прилипли к шее.
— Она была такой беспокойной, и я постоянно ругала ее, потому что она все время путалась под ногами. Сначала мне вообще запретили везти ее на рейсовом автобусе, но потом все-таки разрешили. А собака по-прежнему не знает, что ее ждет, думает, это просто небольшая прогулка.
Мама наклоняется к собаке и зарывается лицом в шерсть. Я кладу руку ей на спину, ее блузка пропотела.
— Пойдем, — говорю я. — Найдем место в тени.
— Я забыла взять воды для нее, — говорит мама. — Она так хотела пить, а у меня с собой ничего не было. Не знаю, о чем я только думала.
— Пойдем, — говорю я и помогаю ей подняться. Она немного колеблется, вешает сумку на плечо. Собака тоже встает. Я похлопываю ее, и она снова виляет хвостом.
Мы идем к гриль-бару, чтобы купить воды для собаки. Очередь тянется вдоль тротуара, я становлюсь в самый конец.
— Купи только воды, — говорит мама. — Еда у меня с собой. Да, и салфетку возьми.
Она вытирает лоб.
— Нет, возьми побольше салфеток. У меня с собой даже носовых платков нет. Я просто не могла выйти из дому и собиралась в последний момент, прямо к отправлению автобуса. Который сейчас час?
— Время еще есть, — говорю я. — Вы можете подождать в тени, пока я стою в очереди.
Я показываю на козырек в конце площади. Мама кивает и тянет собаку за собой.
Женщина в очереди передо мной, похоже, покупает еду и для себя, и для своих коллег. Она заказывает сэндвичи с говядиной, сосиски и лимонад. Я беру несколько салфеток из упаковки на прилавке и кладу их в сумку. Оглядываюсь. Мама привязала собаку к столбику, сама сидит рядом и ждет. Собака с трудом стучит хвостом об асфальт.
— Можно мне купить воды для собаки? — спрашиваю я девушку-продавца.
— Простой воды? Из-под крана?
— Да, — говорю я. — Для собаки.
Она наливает воду в стакан и протягивает его мне.
— Это бесплатно, — говорит она.
Я благодарю ее и, стараясь не расплескать воду, иду по площади, мама встречает меня на полпути.
— Слава богу, — говорит она. — Ей же так жарко.
Мама останавливается и закрывает лицо руками. Она всхлипывает, я прижимаю ее к себе одной рукой. Другую, со стаканом, держу у нее за спиной.
— Разве у тебя может быть право только потому, что ты человек? — говорит она. — Право лишить собаку жизни, не дожидаясь ее естественной смерти? Я понимаю, она страдает. Но и ведь нас таких много, а мы все равно продолжаем жить.
Вода плещется в стакане.
— Это все потому, что лето такое, — говорит мама. — Она ходит кругами по дому, и из-за этой жары ей становится только хуже. Она сейчас все время лежит на полу в ванной, а это уже разве жизнь? Ей бы бегать по саду и копать ямки. Ты помнишь, что она всегда копала ямки?
— Помню, конечно.
— А как она однажды разодрала весь диван, помнишь? Так это только потому, что ей было скучно. Она не любила оставаться дома одна, вот и надо было ей что-то сотворить.
— Да, верно.
— Несколько раз она убегала, и мне приходилось искать ее. Я с ума схожу, когда она не слушается. Ведь собака никогда ничего назло не делает. Если она плохо воспитана, то это твоя вина. И все об этом знают. Вот почему человек и не может ненавидеть собаку. Ее можно только любить. Это самая чистая форма любви, которая только существует.
— Я понимаю, о чем ты, — говорю я.
— Вот сейчас она лежит там и через полчаса умрет, но ничего об этом не знает. Я бы хотела, чтобы она сама умерла. И чтобы мне не пришлось принимать это решение.
Она слегка отклоняется от меня. Я нахожу в сумке салфетку, даю ей, она вытирает глаза. Протягиваю ей стакан с водой, и мы идем к собаке. Она лежит на том же месте.
Мама ставит стакан перед ней и обеими руками наклоняет ее голову. Собака пьет воду, медленно, мама выливает остатки воды на асфальт, собака кладет туда язык.
— Хорошо, — говорит мама. — Хорошо, что ты попила этой чудесной воды.
Она сморкается.
— У тебя есть сигареты? — спрашивает она.
— Я больше не курю, — говорю я. — Могу купить тебе несколько штук в киоске.
— Нет, не надо. Обойдусь.
К остановке подъезжает автобус, из него выходит группа орущих молодых людей. Мы стоим и смотрим, как они исчезают в направлении к центру, дурачась и толкаясь.
— Нам же надо еще поесть, — говорит мама. — Хлеб сама пекла.
— Здо́рово.
— Ночью не могла уснуть, встала и испекла хлеб. С семечками подсолнечника.
— Ты что, совсем не спала?
— Совсем.
Она смотрит на собаку.
— Никто из нас не спал.
Она открывает сумку, достает пакет с едой и протягивает его мне.
— Поешь, — говорит она.
— Чуть позже, — говорю я.
— Ты можешь взять пакет с собой на работу. Потом ведь проголодаешься.
— А ты сама не хочешь поесть?
— Мне как-то не до еды сейчас, — говорит она.
Пакет с едой кажется мне тяжелым и теплым, я кладу его в сумку. Мама ослабляет поводок.
— Давай дойдем до набережной, — говорит она. — Разве не чудесно будет постоять и посмотреть на воду?
Собака поднимается, ее глаза полуприкрыты.
— Мне кажется, мы не успеем, — говорю я.
— Думаешь, не успеем?
— Нет, если честно. Это в другую сторону от клиники.
— Может быть, мне позвонить и сказать, что мы немного задержимся?
— Нет, мама, не нужно этого делать. Никому от этого лучше не будет.
— Ты права, — говорит она. — Так и есть.
Она стоит с поводком в руке и смотрит на собаку. Она сжимает и разжимает его, ее пальцы дрожат. Я обнимаю ее, она плачет. Две пожилые женщины проходят мимо и смотрят на нас. Собака снова ложится на землю. Асфальт перед ней немного влажный. Мама делает глубокий вдох и смотрит на меня.
— Представляю, на кого я сейчас похожа, — говорит она. — У меня под глазами тушь размазалась?
— Не сильно, — говорю я.
— Мне нужно зайти в туалет на станции, — говорит мама. — Пойдете со мной?
— Мы можем и здесь подождать, — говорю я.
— Нет, пойдемте вместе, — говорит мама.
Как только мы заходим в туалет, собака ложится на пол. Мама стоит перед зеркалом и вытирает нос. Я сажусь рядом с собакой, похлопываю ее. Она прерывисто дышит, заглатывая воздух.
Мама смотрит на меня в зеркало.
— Ты снова беременна, — говорит она.
Я киваю.
— По тебе сразу видно. Прости, что не радуюсь этому сегодня.
Она открывает кран и начинает смывать потекшую тушь под глазами. Я держу руку над собакой, не касаясь ее. Ощущение такое, будто от нее пар идет. Мама вытирает лицо и поправляет прическу.
— Тебе уже, наверное, пора на работу возвращаться, — говорит она.
Я снова киваю и встаю, помогаю собаке подняться. Протягиваю поводок маме, и мы выходим.
Жаркий воздух ударяет в лицо.
— Я буду мысленно с тобой, — говорю я.
— Знаю. Спасибо, что пришла.
— Ты все правильно делаешь, — говорю я.
Я присела на корточки перед собакой. Она виляет хвостом, немного поскуливая.
— Спасибо, что ты заботилась о ней, — говорю я ей на ухо. — Хорошая собака!
Потом встаю и улыбаюсь маме.
— Вот ты и попрощалась, — говорит она.
— Да, — говорю я. — Прощай.
Клаус Рифбьерг
Столовые приборы © Перевод Елена Гурова
Родом Кристиан Бьернов был из Хорсенса. Этот факт особого значения, конечно, не имел, важен он был только для тех, кто сам родом из Хорсенса. Он был юн, светловолос и настолько удачлив, что разобрался в своих устремлениях как раз тогда, когда остальной мир начинал разбираться в своих. Конец шестидесятых ознаменовался кульминацией молодежного бунта, а поскольку Кристиан как раз в это время переехал туда, где все происходило, ничего странного, что он ощущал себя in medias res[48].
Поначалу его захватил круговорот событий. Дома в Хорсенсе, во время учебы в гимназии, близость перемен ощущалась тоже, делались даже слабые попытки эти перемены осуществить, но то, что творилось в столице, превзошло все его самые смелые ожидания. Все в городе стояло вверх дном. Повсюду проходили демонстрации, протесты слышались если и не на улице, то в университете или Институте кинематографии. К последнему заведению он относился с особой симпатией, ведь продолжать учебу был не намерен, хотя имел отличные оценки, а по датскому языку вообще получил высший балл. Его больше привлекало изображение, и он с восторгом наблюдал, как слова утрачивают свое значение (или становятся все проще и проще), а интерес к изображению и передаваемому им смыслу повсеместно возрастает. Изображение было всем, изображение было самым современным выразительным средством. Поэтому ничего удивительного, что Кристиан устремился в район Кристиансхавн, где находился Институт кинематографии и где он с легкостью обосновался, когда начался захват зданий. Вскоре его знали все — не потому что было известно, кто он и откуда — тогда многих знали в лицо. Встречались, конечно, и знаменитости, которые постоянно попадали в объектив фотокамер, давая интервью прессе и делая абсолютно бескомпромиссные заявления.
Кристиан Бьернов приносил всем кофе, крутил ручку ротатора, доставал анашу, носился как угорелый туда-сюда, и, если у кого-нибудь из самых молодых сквоттеров — обычно у одной из девушек — случалась передозировка и она лежала, сотрясаясь от озноба за какой-нибудь случайно возникшей ширмой, Кристиан с готовностью садился рядом и брал ее за руку. И хотя никто еще не держал его за руку по-настоящему, он поневоле обращал внимание на всех юных и частенько красивых девушек, посвятивших свою жизнь молодежному бунту.
В чем же собственно состоял смысл происходящего — об этом Кристиан имел лишь слабое представление, вдобавок он не был уверен в том, что его соратники точно знают, чего собственно хотят. Просто витало что-то такое в воздухе, некая интонация, ощущение, некое дуновение неукротимой теплоты, направлявшей свои потоки каждому в спину и будто говорящей: «вперед! вперед! нужно действовать! давай!». А еще был такой плакат: «Вперед, товарищ, старый мир наступает на пятки!»
Подобные вещи были, по мнению Кристиана, поистине прекрасны: рисунок и этот призыв: «Вперед!». Мчаться вперед — вот чего ему, а с ним и всем остальным так хотелось. Нужно было лишь начать двигаться, и хотя никто точно не знал куда, но, во всяком случае, ясно было, куда нельзя возвращаться: назад к скуке, назад к тому миру, который оставили им предки, миру, полному обманов и трюкачества, войн и тюрем, двойных стандартов и подавленной сексуальности. Теперь все трахались без разбора, и, наверное, именно об этом мечтали старые авангардисты, отстаивавшие различные свободы, но так и не осуществившие свою мечту. Мечта исполнилась теперь, а если кто-то не верил, то можно было увидеть собственными глазами или полистать выходившие в то время книги, в которых груды молодых обнаженных тел совокуплялись на полу в большом помещении. Все вместе, одновременно. И хотя на лицах нельзя было разглядеть признаков восторга или наслаждения, главное было другое — они это делали.
Кристиан не был уверен, что хотел бы лежать на полу и совокупляться вместе со всеми под объективами фотокамер. Но он восхищался теми, кто на это решался, да и сам был не прочь, в смысле потрахаться, и именно потому, что наступили такие времена, ему не пришлось долго ждать.
Случилось это после всеобщего собрания, на котором было принято решение не идти на компромисс ни по одному вопросу. О каких вопросах шла речь, представлялось не очень понятным. Ясно лишь было то, что управление незамедлительно переходит в руки лидеров, а все, кому за сорок, вынуждены будут сложить полномочия, если не подпишут декларацию и не подчинятся требованиям и постановлениям воцарившейся хунты. Во время собрания слышался то свист, то аплодисменты, а дым в помещении стоял такой, что близорукому могло бы показаться, будто он полностью ослеп. Кристиан стоял в последних рядах, чувствуя, как горячо вздымается грудь — от осознания, что у него на глазах происходят исторические события, а он их свидетель и непосредственный участник. Целая вечность отделяла его от дома в Хорсенсе, где тихие улочки освещались сонными фонарями и раз в четверть часа проезжала машина или мопед.
Девушка, с которой они вместе оказались на улице, когда все разошлись по кабакам, приехала, как и он, из провинции. С первого взгляда это было незаметно. Она была одета как остальные, как тогда было принято: помятая шляпа с большими полями, повязанная вокруг шеи арафатка, длинная юбка, застегнутая на английскую булавку, высокие сапоги. Но как только она заговорила, стало ясно, что она уж точно не из Копенгагена. Оказалось, что из Коринфа, который, как сначала решил Кристиан, находится в Греции, а на самом деле, на датском острове Фюн. Звали ее Бодиль, она так же как и Кристиан, переехала в столицу — так сейчас делали все. Да и как иначе? Оставаться дома было уже невозможно.
Каждый из них говорил на своем диалекте, но язык был общим, и удивительно было, что, хотя они и шли по улицам большого города вместе с теми, кто этому городу принадлежал (в отличие от них), все равно все общались — на одном языке. Между ними не было никакой разницы, никто не обращал внимания на то, что оба они из провинции и не владеют новомодными жаргонными словечками. Им не только разрешили находиться со всеми, их не просто терпели, они сами собой вписались в эту многогранную картину. Что придавало уверенности и вызывало чувство огромного удовлетворения.
Как бы невзначай — такое должно было сложиться впечатление — Кристиан коснулся Бодиль, когда они шли по улице. Но она просто взяла его за руку, а он мысленно произнес: «Конечно, конечно, так и надо». И они стали парой.
С этого момента они сражались бок о бок. Коринф, похоже, во всех отношениях превосходил Хорсенс. Оказалось, что у Бодиль есть квартира — не то чтобы роскошная, но все-таки две комнаты, кухня, туалет и ручной душ. Когда Кристиан, до этого ночевавший где придется, перебрался к Бодиль, эти условия показались ему просто шикарными. Но больше всего ему понравилась кровать, потому что ему разрешили на ней лежать, а рядом лежала Бодиль. Все случилось чересчур уж легко, все шло больно уж гладко, но Кристиан Бьернов торопливо гнал от себя эти мысли. Нельзя же отказываться от счастья только потому, что его принесли на блюдечке с золотой каемочкой, да и как этому счастью было противиться, когда оно было повсюду?
Революция привела к тому, что рабочий день увеличился до двадцати четырех часов в сутки. Никто ни о чем другом и не думал. Работа была в разгаре, когда ты просыпался, и продолжалась, когда ты засыпал. Последнее было делом нехитрым, так как после беготни весь день напролет, а также уймы выпитого пива, поддерживать себя в вертикальном положении не представлялось возможным. Привыкнуть к пиву Кристиану было непросто. В Хорсенсе во время учебы в гимназии он практически ничего не пил. Дома за обедом у них подавали воду, а пиво ему не нравилось. Но поскольку в Копенгагене все пили пиво, он тоже не мог от него отказываться и в конце концов настолько к нему привык, что пил уже не задумываясь. Просто глотал какую-то жидкость, проникающую внутрь, без этого было не обойтись. Как и без многого другого: курева, анаши, музыки, криков демонстрантов, плакатов и лозунгов. И когда хор голосов скандировал «Хо-Хо-Хо-Ши-Мин!» никто не мог определить, родом ли ты из Хорсенса или Копенгагена. Как рыба в воде, вот как ощущал себя Кристиан Бьернов, как рыба в огромном косяке.
В качестве негласной награды за активное участие в захвате Института кинематографии Кристиану разрешили бегать за пивом и быть мальчиком на посылках для тех режиссеров, которые сразу приступили к созданию либо бунтарских, либо новаторских фильмов или же стали излагать историю революции. Иными словами он был помощником режиссера. Денег это никаких не приносило, но и здесь Бодиль открылась с неожиданной стороны. У нее были некоторые представления о порядке, она к нему стремилась и поэтому предложила подыскать новое жилье. Кристиан сперва просто разинул рот. У него совсем не было средств на то, чтобы обзавестись хоть каким-то жильем, к тому же его более чем устраивали те условия, в которых они жили. И, между прочим, разве подобные мысли не попахивают контрреволюцией? Вслух он этого не сказал, но выводы сделал. Однако вскоре переменил свое мнение: стало ясно, что Коринф обладает большей властью, чем положено городу с названием, вызывающим сказочные, иллирийские ассоциации. Ничего не мешает молодой паре взять кредит и купить небольшой домик, а поскольку цены на рынке недвижимости были вполне приемлемыми (так, к удивлению Кристиана, заявила Бодиль), то благодаря помощи ее семьи, вскоре они смогли переехать.
Революция в большом мире шла своим чередом. Кристиан с Бодиль по-прежнему отстаивали ее интересы. В отсутствии энтузиазма их упрекнуть было нельзя. Но, конечно, в протестах, связанных с проведением ежегодной встречи Всемирного банка, Бодиль не могла участвовать так активно, как Кристиан, поскольку в это время она забеременела. Кристиан не совсем был уверен в том, случилось ли это до или после того, как они решили купить дом, но — как он говорил себе, — если уж у них будет ребенок, конечно, лучше жить в доме с собственном садом. Сад был не такой уж большой, но все же Кристиан мог взмахнуть граблями, выпуская в голубое небо красивые клубы дыма от сигар, к которым пристрастился.
И пока он работал граблями и курил, в голове роились разные думы. Собственно говоря, мысли о ребенке поначалу совсем не возникало. Ему было сложно соединить представление о малыше с революцией. Конечно, во время собраний у них под ногами путалось огромное количество ребятни, и он, понятное дело, хорошо знал, что лагеря на островах и идейные общины ими кишат. Однако он никогда не задумывался о том, что эти ребятишки имеют какое-то отношение к тем девушкам, которых он встречал на собраниях, не говоря уже о самой Бодиль. Разумеется, ему было прекрасно известно, что, если имеешь с девушкой интимные отношения, существует вероятность рождения ребенка. Однако это не первое, о чем ты думаешь, когда трахаешься. Во всяком случае, когда он трахался. Или когда они с Бодиль трахались. Или…
Он стоял, в задумчивости сжимая рукоятку грабель. Может, он знал слишком мало. Может, слишком мало беспокоился о мерах предосторожности. Но Бодиль? Разве такая современная женщина не должна о подобном заботиться? Он ведь на то и рассчитывал. Но, выходит, просчитался. Или это была случайность. Или…
Кроме того, он чувствовал, что в мире вокруг наблюдается некоторое ускорение. Правда, революция шла полным ходом, но началась она совсем недавно и как-то внезапно. Когда же он думал об обстоятельствах собственной жизни, то ощущал, что ход событий странным образом ускорился. Он коснулся Бодиль, она взяла его за руку, а теперь он тут машет граблями в саду, который не считает своим собственным, и ждет, что у него родится ребенок, его собственный. Или…
Внезапное головокружение он объяснил тем, что выкурил сигару. А может быть, выпалывая сорняки, он просто слишком резко нагнулся, а потом слишком резко выпрямился. Но когда он сделал несколько шагов, у него возникло странное чувство, будто ноги налились свинцом, что не могло быть связано ни с курением, ни с прополкой. Ощущение было такое, словно вязнешь в песке.
Теперь к ним заходило не так много народу, как в прежние времена, когда они жили в самом центре, но это же и понятно, если учесть транспортные расходы. Хотя поездка от Вандкунстен до Конгенс Нюторв стоила не больше, чем от Монумента освобождению до Тофтегорс Плас. Отчасти все это было связано с самой природой революции. Ей удобнее было разворачиваться в самом центре города, и когда учащиеся Независимой школы пролетариата шли маршем по улицам, то, само собой разумеется, собирались они в центре на Истедгаде, а не на Олекистевай. Но все же иногда к ним домой заскакивали изнуренные товарищи, и их размещали в комнате для гостей (в будущей детской) или укладывали на ковер в гостиной, где они спали вповалку и не спешили уходить с рассветом. И при этом как-то непонятно было, что они тут делают, когда все самодельные свечи уже догорели, а все косяки уже выкурены. Кроме того, Бодиль в своем положении очень плохо переносила дым (сама она давно задвинула чиллум на полку), но больше всего ее раздражали пропахшие дымом занавески. От запаха сигарет ее прямо-таки воротило.
Ребус семейного бюджета не только не поддавался разгадке, он был попросту не доступен пониманию. Доходы Кристиана были несущественны, однако, по-видимому, это было частью какого-то негласного соглашения. На это-то можно было закрыть глаза. Но едва ли на то, откуда вообще берутся деньги. Хотя он прекрасно это знал. Бодиль присылали деньги родители, чтобы она могла учиться в педагогическом училище. О том, что ежемесячная сумма покрывала также расходы на жилье, они не говорили. Таким образом, незначительные средства Кристиана, заработанные то там то сям, шли на карманные расходы, на дополнительные траты, скажем, на сигареты или бутылку вина к ужину. Но что-то в этом было не так. Что-то не давало покоя. Не потому что для Кристиана Бьернова было неприемлемо сидеть на шее у жены. Дело не в том. Среди главных целей революции значилось и экономическое равенство. Однако расходы все увеличивались, и это накладывало на него определенные обязательства. Или, вернее, оставляло ему лишь второстепенную роль.
Ситуация достигла апогея в тот день, когда Бодиль заявила, что им нужны новые столовые приборы. Сначала Кристиан решил, что ослышался, но потом понял, что нет. Родители Бодиль — из Коринфа — сообщили о своем приезде, и Бодиль рассудила, что они не могут сервировать стол теми приборами, которые у них были до сих пор. Эти приборы они купили в лавке скобяных товаров, и до настоящего времени прекрасно ими пользовались, но для данного случая они, оказывается, решительно не годились.
Сначала Кристиан никак не отреагировал, но как-то раз он проходил мимо магазина, где продавался тот набор, о котором говорила Бодиль, увидел цену — и тут ноги у него подкосились. У него дома, в Хорсенсе, никому в голову не приходило покупать такие приборы, и ничего — жили и без них. Рассмотрев набор — самого современного дизайна — он задался вопросом, в чем собственно состоит преимущество поглощения супа рожком для обуви? Что-то в этом было не так.
Не потому что новый мир в его представлениях должен был обходиться без ножей и вилок. Да и жить в небольшом домике с собственным садом он был совсем не против. Малышу там будет хорошо. Но его потрясла до глубины души, во-первых, стоимость приборов, а во-вторых, мысль, что их нужно купить лишь потому, что приезжают тесть с тещей. Впервые он осознал, что так их называет. Раньше он об этом не задумывался и никогда не воспринимал себя в качестве «зятя». С этими людьми он был едва знаком: всякий раз, встречаясь с родителями Бодиль, он приходил к выводу, что они, конечно, очень милые люди, но еще лучше, когда их нет поблизости. Впрочем, про собственных родителей он думал точно так же.
Была и третья причина. Он совсем не собирался всю жизнь сидеть на шее у жены. Ведь во время революции он боролся за равенство, а в его случае никакого равенства не наблюдалось — с новыми приборами уж точно.
В силу своего темперамента — а он был человеком мягким, возможно, даже мягкотелым, что соответствовало передовым веяниям, — он не стал шуметь и возмущаться. Он, конечно, умел орать во весь голос, стоя в толпе демонстрантов перед американским посольством. Но в обычной жизни он голоса не повышал, и окружающие, страдавшие от вечного шума, очень это ценили. Кстати, возможно, именно по этой причине, он оставался в тени и так и не выбился в авангард. Правда, кое-что он все-таки сказал. Как-то вечером во время ужина они сидели друг напротив друга и ели новыми приборами — Бодиль их, конечно же, купила. Улыбаясь и держа двумя пальцами вилку самого современного дизайна, он спросил:
— Тебе кажется, это красиво?
Если представить, что на ее вопрос «Скажи, я красивая?», он ответил бы «Нет», за этим вряд ли последовал бы больший шквал эмоций. Она просто вышла из себя. Взревев, пулей выскочила из-за стола. Хлопнула дверью. Закрылась в туалете.
Какое-то время Кристиан Бьернов просто сидел, по-прежнему держа вилку двумя пальцами. Затем положил ее рядом с тарелкой и достал сигару. Немного посидел, глядя на нее, и тоже отложил в сторону. Честно говоря, он не знал, что делать. Их отношения, как собственно и сама революция, в наименьшей степени зависели от ножей, вилок и ложек. Тесть с тещей тоже не были виноваты в том, что он чувствовал себя в стороне от больших событий. Да и рождения ребенка он ждал с нетерпением. И все же он сознавал, что необходимо что-то сделать. Что конкретно, он не знал, но смутно догадывался, что это как-то связано с деньгами. В конце концов, он пришел к выводу, что нужно найти какую-то настоящую работу, за которую платят зарплату, — это поставит его на один уровень с Бодиль в социальном плане.
Вскоре она вернулась, с покрасневшими глазами и растекшимся макияжем. Рухнула на стул и впилась в него взглядом. На горизонте сгущались грозовые тучи. В тот момент никто из них не мог честно ответить на вопрос: «Любим ли мы друг друга или мы просто знакомые?»
Во всяком случае, Кристиан впервые почувствовал, что между ними пропасть. Словно кто-то — интересно, кто? — проложил рельсы, по которым они мчались в неизведанные дали, с бешеной скоростью, каждый в своем направлении. Он попытался вспомнить, кто она, и к своему ужасу обнаружил, что имеет об этом слабое представление. Единственное, что он знал точно: такой уродливой как сейчас, он ее никогда не видел. Ему придется взять себя в руки, ничего не остается, ведь он не подлец. Несмотря на свою молодость, он знал, насколько беременные ранимы и склонны к перепадам настроения, поэтому сложил оружие и пришел к выводу, что это с ним что-то не так. Он присмирел, можно сказать, выкурил трубку мира. И зажег сигару.
Революция шла своим чередом, один студент захватил кафедру ректора университета, в Германии стали расправляться с банкирами и политиками, а к Бодиль приехали родители. Все прошло как нельзя лучше, Кристиана очень хвалили за то, как он ухаживает за садом. Оба жителя Коринфа сошлись во мнении, что Бодиль прекрасно выглядит и что свободный покрой современной одежды изумительно подходит беременной женщине. Никакого чека выдано не было, но им явственно дали понять, что малыш ни в чем не будет нуждаться, раз уж все зашло так далеко.
После их отъезда Кристиан понял, что ход событий слишком ускорился — и он стал жертвой этого ускорения. Сегодня он в Хорсенсе, завтра уже на Аллее Дага Хаммаршёльда[49], сегодня он наедине со своим половым влечением, завтра у него дом, семья, вилки с ножами и аист на подлете. Наверное, с революциями всегда так: сегодня их нет, а завтра никто ни о чем другом и не говорит. Его попросту «развели как мальчишку» — это модное выражение просочилось даже в газеты. И хотя все, по-видимому, шло к лучшему, его не оставляло ощущение, что его надули, и он начал смотреть на мир другими глазами.
Среди прочего он вдруг заметил, что Бодиль — не единственная девушка на свете. Оказывается, тут возможны самые разнообразные варианты. И поскольку он по-прежнему был ярым сторонником правил, привнесенных (или отмененных!) новым временем, то не чувствовал особой вины, когда увивался за одной или кружил голову другой. Он просто применял на практике те идеи, которые, как уверяли все вокруг, ведут к свободе и счастью. А поскольку Бодиль в своем положении большого интереса к нему не проявляла, он чувствовал, что имеет полное право завязывать отношения на стороне.
В это время он начал зарабатывать деньги. Внезапно к нему пришло понимание, что высший балл за сочинение по датскому языку не был простой случайностью. Он обнаружил, что может писать, а люди с удовольствием за это платят. Это открытие явилось для него полной неожиданностью, но окутанный клубами сигарного дыма он не подал виду. Все, о чем он писал, было перепевом написанного и сказанного в последнее время, однако, поскольку слог его был остроумным и не таким выспренным, как у революционных деятелей, а широкая публика легко узнавала себя в его текстах, газеты оказались тут как тут. Ведь новизна для них не главное — лишь бы позиции были передовыми.
В этой связи изменение революционного курса не имело большого значения, он как-никак менялся повсюду, хотя убежденность an sich[50] в том, что уже наступило тысячелетнее царство, по-прежнему существовала, во всяком случае, среди лидеров революции. Кристиан подобной уверенности не разделял, а когда заговаривал об этом с Бодиль, у него складывалось впечатление, что изменение миропорядка ее давно уже не волнует. Ее, домашний, мир складывался из подгузников, колыбелек, вязаных штанишек и пеленального столика, который можно выдвинуть вперед и задвинуть обратно, поднять вверх и опустить вниз и который проще простого погрузить в небольшой автомобиль, если когда-нибудь они его купят, что вполне реально, ведь Кристиан повсюду мотается, ему машина очень даже нужна. Для работы, конечно. Раз уж у него такая работа.
Великая революция пошла на спад, а трахаться вокруг меньше не стали. Может, даже больше. Демонстрации длились так долго, на них зачастую было так холодно, что многие потенциальные участники, постепенно понимая, что особой пользы от них нет, оставались дома под одеялом. Там хоть более-менее ясно, на что рассчитывать, а предугадать, что получится из всего этого ора, становилось все труднее. Ведь за несколькими исключениями в министерских креслах и директорских кабинетах сидели все те же люди, и что-то в воздушном пространстве подсказывало особо чувствительным натурам, что так будет всегда.
Однако в целом-то у Кристиана, как и у многих других, было ощущение, что недавние бурные события и воплощенные в жизнь замыслы оставят след на долгие годы. Он больше не был маленьким мальчиком из Хорсенса. Он больше не был юнцом, приехавшим в столицу. Он был уверен в том, что идеи, за которые он боролся, пусть они и не повлияли на власть, тоже оставят неизгладимый след. Он чувствовал: то, чего они с товарищами добивались такими усилиями, стало теперь их собственностью — хоть всего и было этой собственности, что несколько мыслей в голове. Да еще образ жизни. Его-то уж никак не изменить! Потому Кристиан и трахался направо и налево, без зазрения совести — правда, без дискриминации и тут не обошлось: он выбирал самых красивых и тех, к кому его особенно влекло. И пока Бодиль раздавалась вширь, он находился в прекрасной форме и летел вперед в новоприобретенном «моррис-мини», зажав в зубах сигару и выпуская в окно клубы дыма.
Нельзя сказать, что все нежные чувства по отношению к Бодиль у него исчезли, да и в безответственности его нельзя было упрекнуть. Но все же они общались друг с другом, стоя каждый на своем конце перрона. Но странное дело — в это самое время он начал сближаться с тестем и тещей. Благодаря своей новой работе Кристиан Бьернов имел в их глазах какой-никакой успех. Резвый молодой человек, пишущий дерзкие и забавные статьи, то есть не слишком дерзкие и относительно забавные, — разумеется, такой не мог не привлечь внимания публики, ведь и коринфяне не лишены проницательности. Он начал ездить к ним по выходным. С тестем, ландшафтным дизайнером, они обсуждали минеральные удобрения и торфяной мох, не забывая дать профессиональную оценку цветнику, разбитому возле большого замка за чертой города, и повосхищаться аристократами, которые, несмотря ни на что — оберегали эстетические ценности, а без них и при новом миропорядке не обойдешься.
В конце концов, голос Кристиана начал меняться. Никакой радикальной перемены не произошло, просто звуки будто бы устремлялись куда-то вверх, к нёбу. Словно рот был чем-то набит, и не все там умещалось. Кроме того, он стал громче смеяться и вставлять в предложения много ненужных слов и восклицаний, вроде «ба!» или «ой-ой-ой!». Словно японец, он втягивал воздух сквозь зубы и слегка наклонял голову набок, когда что-то действительно его изумляло — или он притворялся, что изумляло. Лишь на короткое время, после рождения ребенка, он стал вести себя как прежде, но затем странности вернулись, пожалуй, даже стали заметнее. Он начал по-другому одеваться. Ничего эксцентричного, ведь все вокруг со временем меняли стиль, а арафатки, морские фуражки и ботинки с широкими носами давно уже вышли из моды. Кристиан сделался настоящим щеголем, он стал держать сигару как Маркс Граучо[51] — четыре пальца сверху, большой снизу и пых-пых-пых, — купил кожаную куртку, подстригся и стал смазывать волосы бриллиантином, делать укладку. В это же время он заявил, что все вокруг не так, как кажется. Или, вернее, что все дело в той роли, которую ты играешь, и что внешняя сторона не менее важна, чем внутреннее содержание. Важна вещь сама по себе. Стихотворение было уже не просто стихотворением, но текстом. Выражением. Манифестацией. Как сама жизнь. А она не представляла собой ничего большего, чем была на самом деле. Она просто была. И ничего с этим не поделать. Хотя, конечно, со всем, чем попало, мириться тоже не стоило. Ведь у человека есть еще и определенные запросы, однако лучше бы обойтись без особых ожиданий, а не то впадешь в сентиментальность. Впрочем, встав на позиции релятивизма, необязательно переходящего в холодный скепсис, можно было хоть примерно ответить на вопрос, как пройти свой жизненный путь, не оказавшись в роли проститутки. В этом не было никакого пуританства, просто все было доступно в равной мере: находилось место и для поп-музыки, и для струнных квартетов Бетховена, и для блюзов Тадж Махала[52], и для карибской музыки стальных барабанов, все было одинаково прекрасно, вопрос состоял лишь в том, какие силы ты прикладывал, какие ресурсы привлекал, следуя своим предпочтениям — но так, чтобы не стать посмешищем из-за эпатажного поведения и слишком хорошего вкуса.
К сожалению, новая одежда вскоре стала Кристиану тесновата. От детского жирка он быстро избавился в годы веселья и беззаботности, зато пиво, а после обеды и гулянки в кабаках привели к тому, что новый костюм не сидел, как полагается. Под фалдами пиджака угрожающе выпячивались ягодицы, а когда он повязывал шею шарфом, щеки чуть ли не свешивались поверх шерстяной вязки. К тому же лицо его приобрело пятнисто-багровый оттенок, но, похоже, это совсем не отпугивало Бодиль (и если уж на то пошло, других дам тоже), скорее она стала ему даже ближе, чем когда-либо. Их обоих словно окутал приятный туман, и, как ни странно, благодаря ему стало легче маневрировать в комнатах: они видели друг друга не слишком отчетливо и не резали друг другу глаз. Все каким-то образом сгладилось, казалось даже, крик ребенка звучит приглушеннее, и, в сущности, мысль о том, что можно прийти домой, была Кристиану по душе. Из-за множества дел ему не все удавалось успеть, особенно теперь, когда у него появилась постоянная работа в «Вечерней газете», взявшей установку на отделение овец от козлищ. Правда, подобным отделением занимались всегда, но теперь радикальнее, чем когда-либо. Конечно, для этого нужно было быть в курсе дела, но, если это дело становилось чересчур уж марксистским, приходилось давить на тормоза. Если же сквозь революцию пробивалось нечто развлекательное, интерес «Вечерней газеты» к ней резко падал. В газете мгновенно оценили новый имидж Кристиана, который идеально подходил для того, чтобы выявить махровых марксистов и прикончить их с благословения Ситуационизма и Ролевого Релятивизма. А то, что тем самым он предает старых друзей и, возможно, свои прежние убеждения (если таковые были), К. Б., похоже, совсем не волновало. Ведь у него появилось столько новых друзей. Конечно, о «Вечерней газете» можно было сказать много всего. Но сотрудники были сплочены и гордились своей работой — это уж точно. Никто не выделывался, напротив, все старались прищучить заносчивых позеров, которых развелось вокруг, толстосумов, наложивших лапу не только на экономику, но и на культуру. С них не мешало сбить спесь! Обломать им, к черту, рога! Разве это не революционный поступок?
Бодиль, изначально склонная к полноте, не отставала в этом смысле от Кристиана. Они все раздавались и раздавались вширь, и едва ли не перестали умещаться за обеденным столом — так что возникла мысль о новом жилье. Малышу Вильяму переезд тоже пойдет на пользу, в саду просто нет места, ведь его игры становятся все динамичнее и требуют большего пространства. Он такой живчик, так и норовит куда-нибудь улизнуть. Они приобрели на Транегордсвай заброшенную территорию одной идейной общины, и, когда с помощью тестя там сделали ремонт и благоустроили сад, нельзя было себе и представить, что раньше повсюду бродили безумные люди, строили себе хижины, как в африканском краале, тушили сигареты о паркет, топтали их окованными железом сапогами. Теперь это стало похоже на настоящее жилье. На дом.
Как-то раз Кристиан вернулся домой — слегка навеселе — и, пройдя на застекленную веранду, где сидела Бодиль, поставил перед ней на стол большую коробку. Что там внутри, он не показал. Сперва изложил свой план. Он ясно осознал: пришло время соединить Хорсенс с Коринфом. Да, время пришло. Это нужно было сделать много лет назад, говорил он, размахивая сигарой: он знал! знал! Но ведь так много всего было — и взлетов, и падений (он это признает! признает!). Однако теперь время настало. Теперь они смогут. Это должно коснуться не только их отцов, матерей, братьев и сестер, нет, всего рода, всей родни: двоюродных братьев и сестер, дядюшек и тетушек, племянников и племянниц. И описывая всю грандиозность своего плана, а также подчеркивая, как важно для Вильяма узнать свою родню, он открыл большую коробку и стал доставать небольшие матерчатые свертки, выкладывая их перед Бодиль один за другим. Их было по двенадцать каждого вида: ножей и вилок, ложек и приборов для десерта. Все они были из настоящего, неподдельного, чистейшего серебра самой высшей пробы. Там был даже половник и набор для разделки жаркого. Кристиан пришел в настоящий экстаз, принялся размахивать над головой большой вилкой и заявил, что и рожок для обуви совсем не так плох, но, если уж люди садятся за стал — особенно если люди эти родом из Хорсенса, — столовые приборы должны быть на уровне!
Семейный праздник удался на славу. «Вечерняя газета» сделала о нем небольшой, симпатичный репортаж под названием «Времена меняются». Рядом с заметкой напечатали две фотографии: на одной, снятой еще «тогда», бородатые мужчины и женщины в больших шляпах бродят между индейских вигвамов и курят чиллум; на другом снимке, относившемся к современности, был запечатлен сотрудник газеты, знаменитый репортер и комментатор в окружении «своих близких» (сказано это было в ироническом ключе, так как на фотографии было не менее шестидесяти человек).
Поздним утром, когда праздник уже подходил к концу, Кристиан вошел в спальню. На кровати, похрапывая, лежала Бодиль. Одеяло немного задралось, заметно оголив ее ягодицы. Он стоял и не мог отвести взгляда от этой белеющей плоти. Такой знакомой, и все равно такой чужой. На мгновение ему представилось, как долго будет колыхаться воткнутая вилка, если ее вонзить в этот жир. Но вдруг сердце его переполнилось нежностью, и, почувствовав головокружение, он закрыл глаза.
Может, лучше ему уехать обратно в Ютландию.
Поздно, слишком поздно.
Он открыл глаза. Подошел к кровати и, опустившись на колени, поцеловал оголенную плоть. Подтянул одеяло и прикрыл ее.
Йорн Риль Из цикла «Эмма и другие байки» © Перевод Гаянэ Орлова
Эмма
Мэдс Мэдсен недавно вернулся с вакаций, и оттого долгая зима его не страшила. Чего он только ни повидал в южных краях и теперь сам развлекался воспоминаниями и развлекал своего напарника, Черного Вильяма.
Когда запас его историй иссяк, он, потехи ради, насочинял новых. И вот что забавно: они были даже интереснее и красочнее тех, что произошли в действительности.
Однажды вечером, болтая о том о сем, он вдруг, сам изумившись, выдумал Эмму.
— Вот мы говорили о дамах, — сказал он как бы небрежно, — а тема эта и вдохновляющая, и поучительная. — Мэдс Мэдсен задумчиво пожевал длинный ус. — Ты ведь знаешь, Вильям, что, когда человек попадает во влажный и жаркий южный климат, с ним происходят перемены. Он забывает о главном и начинает интересоваться всякой ерундой, вроде женщин.
Тут Мэдс выдержал паузу, чтобы Вильям успел настроиться на тему. Ведь Мэдс коснулся чего-то не просто редкого, а прямо-таки непостижимого в Северо-Восточной Гренландии, и прекрасно сознавал, сколь деликатного подхода требует сия взрывоопасная материя. В Арктике женщины становятся предметом вожделенных мечтаний, касаясь которых мужчины обычно прибегают к неопределенным, туманным оборотам. Нечасто можно услышать, как, говоря об этих необыкновенных существах, они употребляют грубые или пошлые выражения. Каждый охотник хранит воспоминание о каком-нибудь красивом легком романчике и предпочитает о нем не распространяться. Мэдс Мэдсен вообще-то хотел просто поговорить о женщинах, рассказать о небольшом приключении, которое было приятно пережить и столь же приятно завершить. Но тут на сцену вышла Эмма. Всецело — порождение его фантазии, совершенный образ, который появился на свет Божий еще до того, как сам автор это осознал.
— Эмма, — осторожно, с опаской прошептал он себе под нос.
— Что ты сказал? — Вильям удивленно взглянул на напарника.
— Я сказал, Эмма. — На сей раз голос Мэдса Мэдсена звучал увереннее.
— Какая еще Эмма? — спросил Черный Вильям.
— Какая Эмма? Хм, да разве ее опишешь? — Мэдс Мэдсен озадаченно уставился в закопченный потолок. — Что только о ней не скажешь, все будет мало, — завел он. — Во всех отношениях замечательная женщина, — и Мэдс мечтательно вздохнул и позволил женскому образу окончательно оформиться у него в голове. А затем описал то, что увидел. — Вот слушай. Эмма как будто вся сплошь состоит из пончиков. Повсюду пончики. И грудь, и попка, и щеки — всё-всё. Сплошные пончики, мой мальчик. И среди всего этого великолепия — два небесно-голубых глаза и пухлые розовые губки.
Вильям поднял глаза на черное пятно на потолке, которое разглядывал Мэдс Мэдсен. Он пытался представить себе аппетитную Эмму.
— А ты хорошо знал Эмму, ну, ты понимаешь, о чем я?
— Да, хорошо, — глубоко вздохнул Мэдс Мэдсен. — Я понимаю, о чем ты.
— А где ты с ней познакомился?
Мэдс Мэдсен прищурился и предоставил отвечать Эмме.
— А познакомился я с ней в одном заведении в Ольборге, где эта девица работала стряпкой, — произнес он. Ответ изрядно удивил его самого, поскольку все знакомство Мэдса со славным городом Ольборгом сводилось к дружбе с этикеткой на бутылке шнапса.
— Аа-а… — протянул Вильям. Он еще ни разу не встречал девицы, с тряпкой или без. Вообще-то он до сих пор был знаком только с одним существом женского пола и преданно хранил этот образ в сердце. Звали ее Суфия, жила она в небольшом поселении в нескольких сотнях километров от мыса Томпсон. Эскимоска Суфия с тряпкой не работала, да и девицей не была. Зато отличалась гостеприимством, и Вильям всегда говорил о ней как о своей невесте.
— А она была белой или смуглолицей, как моя невеста? — спросил он. Обделенному воображением Вильяму трудно было представить себе незнакомку.
— Хм, да как сказать? — Мэдс Мэдсен мысленно уставился на порожденную силой его фантазии прекрасную Эмму. — Кожа у нее такая розовенькая, — ответил он. — Да, розовенькая, и упругая, и гладенькая, как у чистенького молочного поросеночка. Хорошо, что ты ее не можешь ясно представить, как вот я, а то сразу бы забыл свою Суфию.
— Ты просто не знаешь Суфию, — вступился Вильям за невесту. Ну, тут он слегка ошибался, ведь и Мэдс Мэдсен, было дело, заглядывал в поселение в районе Гусиного острова.
— А ты не знаешь Эммы, — ответил Мэдс Мэдсен. — Кабы знал, признал бы мою правоту. Внешность у нее — чистый ангел, а что до нутра, тут и говорить нечего.
— А что там? — поинтересовался Вильям.
— Тоже красота, — сообщил Мэдс Мэдсен, — но другого рода, конечно. Вот, например, заговорит она — будто ангелы поют. Голос у нее не похож на мой или, скажем, на твой. Мы ведь как: просто говорим себе — и никакой красоты. А Эмма, она поет, мой друг, а ты сидишь и слушаешь ее песню, и даже смысл слов не всегда понимаешь.
— То же самое с Суфией, — заявил Вильям. — Я вот сижу и просто слушаю ее голос и не понимаю ни слова из того, что она говорит.
— Нечего даже сравнивать Эмму и Суфию, — возразил Мэдс Мэдсен. — А что до смысла слов… ты-то о Суфии ничего сказать не можешь, а я вот знаю: что бы из ротика Эммы ни выходило, все так умно, искренне и понятно простым людям… Этой девочке известно много такого, о чем ты даже представления не имеешь. Чего только ни узнаешь на такой-то работе, доложу я тебе.
— А ты правда с ней был? — удивлялся Вильям.
— Она была со мной, не путай, — Мэдс Мэдсен расправил широкую спину. — Мы с Эммой очень подходим друг другу. Мы, так сказать, гармоничная пара.
— А, вот как, значит, — Вильям смущенно отвел глаза и уставился на дверь.
Он не знал, были ли они с Суфией гармоничной парой.
— Именно так. — Мэдс Мэдсен вытащил нож из ножен и принялся ковырять им в зубах.
— Скажи-ка, Мэдс Мэдсен, а у тебя есть еще право на Эмму? — поинтересовался Вильям.
Мэдс Мэдсен вынул нож изо рта и принялся разглядывать прилипшие к нему волокна мяса.
— Конечно. Эмма — верная душа. Она будет ждать меня, сколько потребуется. Необыкновенная девушка, Вильям.
Сам того не зная, Мэдс Мэдсен растревожил душу Вильяма. Если раньше все помыслы его напарника были направлены на Суфию, то теперь он стал томиться по Эмме. Не слишком увлекаясь, конечно, и втайне. Ему никак не удавалось прогнать мысли о розовокожей Эмме, и, укладываясь спать, Вильям стал брать ее с собой в постель. Там он подолгу наблюдал за предметом своих воздыханий и через какое-то время пришел к выводу, что изучил ее основательно. Он жадно разглядывал аппетитное тело, тысячекратно утопал в голубизне прекрасных глаз. Проведя так с Эммой пару недель в постели, Вильям стал брать ее с собой, когда отправлялся проверять ловушки. Он немного нервничал из-за Мэдса Мэдсена, ведь, как никак, это была его женщина.
Поездки у них получались замечательные. Вильям воображал, что Эмма, в его новой оленьей шубе, сидит на нартах, опершись о стойку, а сам он бежит рядом и изредка щиплет ее за пухлые щечки. Черный Вильям представлял себе и разное другое. На открытом воздухе она принадлежала только ему, здесь они могли вести себя так, как это и свойственно молодым людям. Он совершенно позабыл о Суфии, что было нехорошо с его стороны, но Суфия от этого не страдала. Она давно вышла замуж за своего друга детства и позабыла Вильяма. Но одно Вильям помнил крепко: Эмма была девушкой Мэдса Мэдсена. Он говорил с ней об этом, и они вместе оплакивали свою горькую участь, и вот однажды вечером, вернувшись из поездки к Губбе-фьорду с добычей в мешке — шестью лисами и нерпой, — Вильям решился, наконец, начистоту поговорить с Мэдсом Мэдсеном.
Они поели, выпили чаю с ромом, поиграли в «червей» и уже собрались укладываться, когда Вильям спросил:
— Скажи-ка, Мэдс Мэдсен, эта твоя Эмма, у тебя по-прежнему есть на нее право?
Мэдс Мэдсен выглядел удивленным.
— Эмма? — спросил он. Мэдс Мэдсен давным-давно про все позабыл.
— Да, Эмма, с тряпкой, ну ты знаешь.
— Ах Эмма! — Мэдс Мэдсен лихорадочно рылся в воспоминаниях, пока, наконец, не выудил оттуда туманный образ девушки, которая, возможно, была Эммой. — Ну да, наверное, можно так сказать, — произнес он.
Вильям поерзал на стуле.
— Если так, — произнес он нервно, — и если ты не против, я хочу попросить, чтобы ты уступил мне это право.
— Ни хрена себе! — Мэдс Мэдсен испуганно уставился на юного напарника. — А зачем тебе это?
— Ну, понимаешь, — промямлил Вильям. Мочки его ушей заалели, — понимаешь, у нас с ней отношения, у меня с Эммой. Так уж вышло.
— Ни хрена себе, — Мэдс Мэдсен прикладывал неимоверные усилия, чтобы вспомнить Эмму. Тем не менее ему удалось изобразить оскорбленные чувства. — Ты что, за моей спиной встречаешься с моей девушкой? — пробурчал он зло.
— Так получилось, — проблеял Вильям, — само собой, можно сказать. Отдашь мне свое право, Мэдс Мэдсен?
Тот забарабанил пальцами по столу.
— Это так неожиданно, — проворчал он. — Мне бы хотелось хорошенько все обдумать. Нельзя же так сразу отказаться от своей девушки, понимаешь? — Образ Эммы постепенно начал вырисовываться перед его внутренним взором.
— Я тебе за это свой «Стивенс 30/30» отдам, — легкомысленно пообещал Вильям. — И пять коробок патронов в придачу.
Мэдс Мэдсен уставился на черную дверцу духовки.
— Оба ствола? — пробурчал он.
— И винтовочный, и ружейный, — с готовностью согласился Вильям.
Мэдс Мэдсен завел глаза к потолку.
— Ты сказал, десять коробок патронов?
— Пятнадцать, — поспешил набавить Вильям.
— И к тому еще охотничьи нарты и парус, как я понимаю.
— Конечно, — Вильям тяжело дышал от возбуждения. — Мой новый парус получишь.
Мэдс Мэдсен оперся локтями о стол и, уткнувшись лицом в ладони, принялся ерошить бороду. Вильям напряженно за ним следил. Для возлюбленных момент был решающий.
— Ну что, надумал? — спросил он нетерпеливо.
Мэдс Мэдсен покачал головой.
— Дай мне еще подумать, — произнес он строго и звучно. — Непростое это решение, Вильям.
— Конечно-конечно, — взгляд Вильяма блуждал по комнате в поисках чего-то, что может повлиять на решение напарника. — Давай выпьем, — предложил он. — Знаешь, в голове даже как-то проясняется, когда выпьешь с товарищем.
Они выпили, и как только содержимое бутылки подошло к концу, Мэдс Мэдсен определился.
— Ну что ж, пусть будет по-твоему, — произнес он кротко.
— Как?
— Неси ружье, мой мальчик, со сменными стволами. И захвати двадцать коробок патронов.
— Я сказал пятнадцать.
— Ты сказал двадцать, мой мальчик.
— Вот и нет, — запротестовал Вильям, — я сказал пятнадцать, я точно помню.
Мэдс Мэдсен огорченно покачал головой.
— Как хочешь, я ведь не настаиваю. Если ты считаешь, что Эмма не стоит больше пятнадцать коробок, я не стану торговаться еще из-за пяти. Но тогда уж ей лучше остаться со мной.
— Ну ладно, пусть будет двадцать. — Вильям вскочил и принес вещи. — Я не потому, что хочу сбить цену, — объяснил он, — просто точно помню, что сказал пятнадцать.
— Теперь уж все равно, — ответил Мэдс Мэдсен. — Девчонка, во всяком случае, стоит всех двадцати, — и протянул руки, в которые Вильям и вложил ружье.
— Тонкое, изящное и простое в обращении, — рассмеялся Мэдс Мэдсен. — Прямо как Эмма.
Этим вечером Черный Вильям отправился спать счастливым. Он взял с собой Эмму, и они долго лежали, перешептываясь о том, что произошло, и о том, что ждет их в будущем. Впервые, с тех пор как Вильям повстречал Эмму, он чувствовал себя в своем праве. «Все законно», — пела его душа, и он сделал с Эммой то, что сделал бы на его месте любой влюбленный юноша.
Мэдс Мэдсен совершил прекрасную сделку. Богатая фантазия преподнесла ему почти новый «Стивенс», который хорошо ложился в руку, да еще со сменным стволом в придачу, а потому пригодный для разных целей. Он посвящал новому оружию не меньше времени, чем Вильям — Эмме, и не прошло и недели, как с двадцати шагов уже мог попасть в лоб изображенному на спичечном коробке Торденскьолю[53].
Мэдс Мэдсен немного беспокоился за Вильяма и пообещал себе, как только представится случай, поговорить об Эмме с ближайшим соседом Бьёркеном.
Вильям был счастлив со своей женщиной. Первый месяц они провели в любовном угаре, и Мэдс Мэдсен явно был здесь третьим лишним. Но потом их отношения вошли в более спокойное русло, уступив место привычным повседневным заботам. Теперь Вильям нередко отправлялся на охоту в одиночестве, как встарь, бывало, что он засыпал, не приласкав Эммы. Иногда случалось ему и пожалеть о ружье, но он утешал себя тем, что у него есть право на Эмму, которого не было ни у одного другого мужчины. Так все и шло, пока не появился Бьёркен.
С Бьёркеном происходило что-то неладное. Вильям это сразу заметил. Что-то угнетало долговязого, бледного мужчину, взгляд у него был отсутствующий, ничего не выражающий. А еще Бьёркен не снял исландский свитер, не предприняв ни малейшей попытки продемонстрировать огнедышащего дракона, который красовался на его спине. Вильяма немного сердило, что Мэдс Мэдсен уехал проверять ловушки: не каждый день увидишь Бьёркена в таком состоянии, хотелось поделиться впечатлением с напарником.
— Ты случаем не заболел, Бьёрк? — озабоченно спросил Вильям. — Неважно выглядишь.
Бьёркен ссутулился. Тяжело кивнув, он произнес измученным голосом:
— Можно это и болезнью назвать, если лучше ничего не придумаешь, — и ударил себя в грудь. — Вот здесь оно сидит, Вильям, и не хочет выходить.
— Ну и дела, — Вильям завороженно уставился на гулко отозвавшуюся на удар грудь Бьёркена. — Надо тебе дать чего-нибудь горячительного.
Они приняли горячительного, и оно так здорово помогло Бьёркену, что тот даже расправил плечи. Приняв еще пару стаканчиков, он вывалил свои проблемы на Вильяма.
— Я конченый человек, — признался Бьёркен. — Мне никогда не стать прежним. Если все это меня не убьет, я, наверное, сам себя порешу.
Вильям кивнул.
— Для человека, вроде тебя, это вряд ли возможно, так что, думаю, я знаю, в чем причина твоих страданий.
Бьёркен коротко на него взглянул.
— Что ты имеешь в виду?
— Я думаю, ты влюбился, — ответил Вильям. Он вздохнул, вспомнив о недавних своих переживаниях.
Ответ гостя напомнил так хорошо знакомого ему старого доброго Бьёрка:
— Не будь я уверен, что ты не станешь об этом болтать по всему побережью, ни за что бы не признался. Да, Вильям, я влюбился.
— Вот это да, черт подери, — улыбнулся Вильям. Влюбленный Бьёрк! Небывалое дело.
— Хочешь верь, хочешь не верь, — повесив голову, Бьёркен уставился на грубую поверхность стола, — но получилось так, что я люблю одну девчушку, а она — меня. Больше мне сказать нечего.
— Но это же прекрасно! — Вильям потянулся через стол и хлопнул Бьёркена по плечу. — О чем горевать-то?
Бьёркен покосился в сторону.
— И это говоришь ты, — ответил он с горечью в голосе, — именно от тебя я должен выслушивать это.
— Послушай, Бьёрк, да в чем дело? Что я сказал-то? — Вильям по опыту знал, что влюбленные очень чувствительны.
Вильям занервничал. Положение Бьёркена он сравнил с тем, в котором сам однажды побывал, и спросил:
— А ваши чувства взаимны?
Бьёркен кивнул. Взгляд его принялся блуждать по комнате, избегая останавливаться на Вильяме.
Они посидели молча, погруженные каждый в свои мысли. Внутри у Вильяма все клокотало. Его подозрения пока не переросли в уверенность, а спросить он не решался, боясь, что они подтвердятся. И тут Бьёркен милостиво его добил:
— Я уже несколько недель не сплю, — поведал он шепотом. — Извел совсем Сизого Носа и Малыша Лассе, брожу по ночам, как привидение. Ее пышное тело и розовые губки везде меня преследуют, — он повернулся к Вильяму, и, продемонстрировав полные слез глаза, тихо спросил: — Продашь мне свое право, Вильям?
Мозг Вильяма на мгновение отключился. Но тут же заработал на полную мощь, мысли так и зароились. Вильям был в замешательстве. Эмма его предала. Эмма предпочла этого мучного червя настоящему мужчине. Она была с Бьёркеном и, что еще хуже, любила его. Он представил себе Эмму и ружье, которое отдал Мэдсу Мэдсену, и в его голове замаячила мысль о выгодной сделке.
— Что ты за нее даешь? — спросил он холодно.
— Все, что захочешь, — с надеждой в голосе произнес Бьёркен.
— А что у тебя есть, Бьёрк?
— Ничего, — честно ответил влюбленный. — Шкуры прошлогодние пошли в уплату татуировщику, ружье у меня старое, а собаки у нас с Сизым Носом и Малышом Лассе общие.
— Хмм… — Вильям раздумывал. — Ну что-то же у тебя должно быть, — заявил он, — у всех что-нибудь ценное да есть.
Бьёркен задумчиво стянул исландский свитер и повернулся к Вильяму спиной.
— Вот, — заявил он, — единственная моя ценность. Бери ее, Вильям, а мне уступи право на Эмму.
Вильям уставился на спину Бьёркена. От самых плеч до талии на ней красовался восхитительный огнедышащий дракон. Когда Бьёркен играл мускулами, дракон, казалось, танцевал и извергал из пасти длинные языки красного пламени.
— Но я же не могу его с твоей спины содрать, — произнес Вильям, не в силах глаз оторвать от дракона.
— Не можешь, — ответил Бьёркен. — Он останется на своем месте. Но будет принадлежать тебе. А когда я помру, сделаешь с ним, что захочешь.
Вильям протянул руку и пощупал дракона. Потрясающий дракон, как на вид, так и на ощупь.
— Ну, если у тебя больше ничего нет, — протянул Вильям, — похоже, мне придется довольствоваться чудовищем, — и он слегка ущипнул Бьёркена, чтобы посмотреть, не поменяется ли цвет татуировки. Не поменялся. — Однако помни, Бьёрк, что дракон теперь мой. Не вздумай его без разрешения никому показывать. Не забудь об этом!
— Отныне и вовеки, — торжественно пообещал Бьёркен. — Теперь Эмма моя?
— Твоя, — мрачно подтвердил Вильям.
К тому времени, когда пришел Мэдс Мэдсен, Бьёркен уже уехал. Вильям доложил о том, что случилось, не скрывая, что, по большому счету, остался доволен сделкой. В последнее время Эмма ему поднадоела, а если уж совсем начистоту, избавившись от нее, он испытал облегчение. К тому же все теперь станут его уважать. Еще бы! Не каждый может похвастаться многоцветным огнедышащим драконом, да еще тем, что у него есть кто-то, кто согласился этого дракона на себе носить!
С этим Мэдсу Мэдсену спорить было трудно. Он накрутил на палец клок бороды и почесал себя этим пальцем за ухом.
— Ну и чертовщина, — покачал он головой. Мэдс думал о Бьёркене, который сейчас направляется на север, чтобы обменять свое право на Эмму Лудвигу за отличную подзорную трубу. — Что-то в ней такое было, — кивнул он. — Роскошная все же была баба.
— Шикарная, почти как живая, — вздохнул Вильям, который сидел и думал о своем огнедышащем драконе.
Веселые похороны
Ялле умер первого ноября, что с его стороны было, прямо скажем, свинством. Отчего он помер, Лодвиг не понял, но довольно быстро сообразил, что причина, вероятно, кроется где-то внутри, поскольку снаружи ничего заметно не было. Случилось это перед обедом. Ялле шел к дому, неся на закорках здоровенную ледяную глыбу. В этом месяце настала очередь Ялле дежурить по хозяйству, потому Лодвиг и озверел. Он стоял перед домом, собираясь опробовать свое 89-миллимитровое, на котором накануне вечером подпилил мушку, и вдруг услышал, как Ялле захрипел, увидел, что тот зашатался, а потом и повалился на снег, уронив ледяную глыбу на живот.
— Ну нет, дружочек, так не пойдет, — крикнул Лодвиг. Он проголодался и собирался пообедать. — Вставай-ка, напарник.
Но Ялле не встал. И даже когда Лодвиг пнул его сапогом на деревянной подошве, тот все равно продолжал неподвижно лежать на снегу.
— Ну нет, так не пойдет, — зарычал Лодвиг. — Твоя очередь дежурить, а ты тут кони двинул?
Ялле не ответил. Он находился далеко, за пределами слышимости. Лодвиг схватил его за руки, затащил в дом, в тепло.
— Вот сейчас оттаешь, — приговаривал он, — и займешься обедом. Так себя приличные охотники не ведут, скажу я тебе.
Он уложил Ялле на нижние нары, его, Лодвига, собственные нары, и снял с товарища рукавицы и меховую шапку.
Прождав около получаса, Лодвиг сообразил, что от Ялле теперь обеда не добьешься. Поставил кастрюлю с тюленьим мясом на плиту, затопил. Дожидаясь, пока закипит вода, уселся за стол и принялся честить Ялле.
— Хороший ты охотник, нечего сказать, — произнес он с горечью. — Жрал целый месяц то, что я готовил, а как подошла твоя очередь, сразу дуба дал! Как это называется, а? — он со злостью посмотрел на покойного. — И что теперь прикажешь с тобой делать? Закопать, может? Камни долбить на чертовом морозе прикажешь, да? — он грохнул кулаком об стол. — Хороший ты товарищ, ничего не скажешь. Нашел время ноги протянуть — посреди зимы. Подождать не мог, работать небось не хотелось, хитрый ты лис.
Лодвиг раздраженно забарабанил костяшками пальцев по столу, поглядывая то на Ялле, то на кастрюлю.
— Что за дела, — пробормотал он. — И именно сейчас, когда я только-только снова начал привыкать к напарнику. Вот дерьмо, — и он огорченно покачал головой. — Я всегда говорил: моторы у этих фарерцев никуда не годятся, ведь тут и сомнений никаких нет: именно мотор полетел.
Лодвиг посидел немного, наблюдая за бурлением воды в кастрюле. Мысли у него в голове роились, как пчелы в улье: есть о чем задуматься, когда товарищ вот так взял и приказал долго жить. Через полчаса он снял мясо и закрыл заслонку. Снова уселся за стол и принялся за еду. Время от времени он поглядывал на покойника, с разинутым ртом лежавшего на его нарах.
— Рот разинул, — ворчал Лодвиг. — Думаешь, бифштекс получишь? Как бы не так. Тебе-то хорошо тут лежать, пока я работаю. Не то, чтобы мне в одиночестве было худо, этого себе не воображай, но с тобой-то что делать прикажешь?
Поскольку день в некотором смысле оказался необычным, Лодвиг поднялся и принес из шкафа бутылку с самогоном. Налив стакан до краев, он повернулся к бледному Ялле.
— За тебя вот пью, дружище, за твой уход, — и он выпил, — и за здравие на том свете, — и снова выпил.
Самогон немного смягчил Лодвига. Хоть и скверно, что Ялле ушел в поля вечной охоты, но нельзя не увидеть и некоторых преимуществ создавшегося положения. Теперь он мог в одиночестве употребить восемь литров самогона, оставшихся от их запасов, и никогда больше ему не придется выслушивать рассказы Ялле о маленьких островах на северо-востоке Атлантического океана, откуда тот был родом. К тому же не придется беспокоиться о трех банках свинины, которые Лодвиг припрятал в одном из сарайчиков. И самое главное: теперь Лодвиг мог спокойно пользоваться новым ружьем Ялле, гладкоствольным «Ремингтоном» с оптическим прицелом. В общем, дело осталось за малым: закопать товарища.
— Знаешь, Ялле, — объяснял Лодвиг покойнику, — коль склеил ласты в ноябре, довольствуйся скромными похоронами. И не воображай себе, что я примусь камни долбить под снегом, чтобы тебя засыпать. Мне и о хозяйстве, и о лисах надо думать, не жди от меня ничего особенного. Но поминки уж будут, так полагается, хоть вовремя человек отошел, хоть не вовремя.
И он пододвинул стул к нарам. Взгляд покойника был пустым и, как показалось Лодвигу, довольно глупым.
— Ну, красавцем ты никогда не был, — отметил он почти дружелюбно, нежно поглаживая бутылку, которую из рук так и не выпустил. — И уж после смерти точно краше не стал. Может, и надо тебя немного в порядок привести, перед тем как мы отправимся созывать гостей на поминки.
Ялле не отвечал, но Лодвиг этого и не ждал. Он несколько лет прожил в бухте Росса в одиночестве и привык разговаривать сам с собой.
— Челюсть мы подвяжем, пока ты еще не застыл, — кивнул он, — да и глаза прикроем, чтобы вид был поприятней. — Лодвиг поднялся и принялся за дело. — И надо тебя как следует усадить, иначе сверзишься с саней. Может, есть смысл подержать тебя немного на холоде, посидишь тут рядышком на стуле, будешь в окошко поглядывать, если заскучаешь.
Выпив еще стаканчик, Лодвиг решительно взялся за дело. Но, подвязав челюсть Ялле ремнем от ружья, сразу понял, что чего-то не хватает.
— Ну конечно, трубка. Трубку тебе с собой надо дать, понятное дело.
И он сунул Ялле между зубов трубку, которая выпала у бедолаги изо рта, еще когда тот упал, и снова подвязал челюсть. Вид стал попривычнее. Закрыв покойному глаза, Лодвиг вынес его на воздух и привязал к стулу. Стул стоял в снегу под навесом, так что Ялле мог при желании — и возможности — заглядывать в окно, а Лодвиг — следить, чтобы напарника не съели лисы.
Покончив с хлопотами, Лодвиг вернулся в дом и выпил. Улегся на нары, подумал немного о Ялле, сидящем снаружи. И уснул.
Потом Лодвиг и Ялле отправились в Бьёркенборг. Интересная получилась поездка. Бьёркенборгцы с неподдельным изумлением взирали на сидевшего на возу Ялле, обмотанного веревками, с трубкой во рту и закрытыми глазами. Сизый Нос внимательно посмотрел на него через увеличительное стекло и похвалил Лодвига за проявленную заботу об усопшем товарище.
— Ялле был хорошим человеком, — скромно сказал Лодвиг. — Он фаререц и заслуживает самого лучшего.
— О такой поездке можно только мечтать, когда сам преставишься, — тихо произнес Сизый Нос. — Ялле словно попрощался с нами по-человечески. Сказал последнее прости товарищам, зверью, всей природе. Красиво мыслишь, Лодвиг.
Лодвиг, которого легко было смутить, повернул разговор на другую тему. Такую, чтобы всех заинтересовала.
— Я вот о поминках подумал, — начал он. — Не потому что у меня лишнее в доме завалялось, Ялле ведь меня, как бы это сказать, не предупредил ни о чем, к тому же его жажда сильно мучила, запасы наши долго не стояли. — Он снял шапку и утер ею лицо. — Но если нам всем миром подналечь, может все-таки получится устроить небольшую пирушку. Но все же достойную Ялле.
— Мы дадим пять бутылок крепкого и полбочки пива, — взволнованно закричал Бьёркен.
Разумеется, Ялле надо было проводить как следует. У Херберта обещали поменьше, но зато пожертвовали шестнадцать досок для гроба. Доски должны были пойти на строительство охотничьего домика в Ромдале, но теперь, когда Ялле нуждался в последнем пристанище, сомнений в том, как их использовать, не возникало. Херберт предложил немедленно сколотить гроб и привезти его в бухту Росса еще до похорон.
К Хальвору и Нильсу не поехали, поскольку у многих сложилось впечатление, что в этом году они предпочитали, чтобы их не беспокоили, и потому отправились сразу к Вальфреду и Антону, которые, на счастье, только-только закончили гнать самогон — чтобы хватило на несколько месяцев. Те предоставили для поминок весь запас, затем все вместе поехали к Графу, который пообещал выделить восемь бутылок настоящего вина и пятнадцать литров пива.
Караван саней, сопровождавший Лодвига и Ялле на пути домой, в бухту Росса, был длинным, как мидгардский змей. Мертвый Ялле невозмутимо восседал с трубкой в зубах. Щеки у него побледнели, а у кромки бороды появились следы обморожения. Но в целом он выглядел вполне обычно.
Лодвиг пригласил всех в дом. Мужчины привязали собак, покормили их вяленой рыбой и ввалились внутрь. Ялле остался сидеть на стуле у окна, поскольку гробовых дел мастер еще не прибыл.
Незадолго до полуночи явился Херберт. Из шестнадцати досок он сделал гроб, равного которому еще никто не видывал во всей Северо-Восточной Гренландии. У гроба были необычные, плавные, очертания, и Лодвиг заметил, что он сильно смахивает на плоскодонку, у него раньше была такая. Херберт объяснил, что, по сути дела, это и есть плоскодонка с крышкой, потому что Ялле, возможно, когда-то пойдет на корм собакам, и будет жалко, если шестнадцать хороших досок пропадут. Вальфред прицепился к выпуклой крышке, и Херберт сказал, что сделал ее такой формы сознательно, из-за большого живота Ялле. Все согласились, что у Херберта золотые руки, и пошли к столу.
Ялле принесли с мороза и посадили во главе стола. Так и сидел он с трубкой во рту и льдом в бороде и медленно оттаивал, и капли капали ему на грудь. Он очень устойчиво сидел на стуле. Твердый, прямой, замороженный.
Бьёркен постучал по стакану и встал. Он считал, что как самый крупный жертвователь имеет право произнести надгробную речь. Но не тут-то было. Еще и рта не успел раскрыть, как Лодвиг заорал:
— Подожди пока с проповедями, Бьёрк. Сначала согреемся, Ялле бы это одобрил.
Бьёркен сдался. Лодвиг как-никак был организатором пира и хозяином дома.
Торжественно подняли стаканы, ну чисто как шведы. Сначала все повернулись к трупу, потом друг к другу. Рыгнули, причмокнули, потом крякнули и утерлись. Поглядели на Ялле, у того на лбу проступили капли воды.
— Лучше, наверное, привязать его к стулу, — предложил Черный Вильям. — А то упадет, когда оттает.
— Если наше торжество затянется, а так оно и будет, — произнес Мэдс Мэдсен, окидывая взглядом батарею бутылок, — то лучше его хорошенько просолить. Чтобы не прокис.
Лодвиг облизнулся, смакуя послевкусие.
— Не надо привязывать, — заявил он твердо. — Ялле был моим напарником, не надо его веревкой. Пусть сидит на своем стуле и наслаждается пиром, не надо его ни солить, ни привязывать.
— Но когда он оттает, то упадет на пол, — заметил Черный Вильям. — Сначала на стол упадет, потом — на пол.
— Когда Ялле начнет сползать со стула, отнесем его в снег. Он там замерзнет и окоченеет, что твоя лисья шкура на ветру, — заявил Лодвиг.
На том и порешили.
Шли часы. Сначала погрелись бутылочками Херберта, потом Граф сделал буйабес, — очень вкусный суп, как известно, — затем в ход пошли многочисленные бутылки Бьёркена. Ялле выносили на мороз, когда он начинал сползать со стула, и вносили, когда коченел. Настроение постепенно поднялось, щеки у Мэдса Мэдсена раскраснелись, и он предложил поиграть в карты — занятие, которое, как ему помнилось, Ялле очень уважал.
Но тут Бьёркен решил, что пора произнести надгробную речь. Он снова поднялся и заревел:
— Тишина! Надо уважать усопшего.
Все замолчали. И Бьёркен продолжил уже обычным голосом:
— Я приготовил великолепную речь по этому случаю, но все забыл.
— Слава Богу, — раздалось со всех сторон.
— Ялле был хорошим человеком, и мне надоело смотреть, как его туда-сюда носят. Пора уже уложить Ялле в одноместную кровать с крышкой и оставить в покое.
Заслышав протестующие голоса, Бьёркен снова возвысил голос:
— Похоронить Ялле, я говорю! Притомился он тут сидеть, на вас глядеть, устал и снаружи сидеть мерзнуть. Ялле надо положить в гроб, говорю я, и срочно.
В голосе Бьёркена было нечто, не оставившее у присутствующих сомнений в том, что, если они не послушаются, он заберет у них все, что еще уцелело из его выпивки. И они послушались.
Им повезло. Ялле как раз активно оттаивал, его легко было распрямить и уложить в гроб. Гроб оказался ему впору, он так славно лежал со сложенными на большом животе руками и трубкой, торчащей из бороды. Все согласились, что такого безмятежного покойника свет еще не видывал. Они смотрели на Ялле, преисполнялись благими помышлениями и не решались закрыть крышку.
— Какая же, наверное, темень в этом ящике, — прошептал Малыш Лассе. — Я бы в такой не полез.
Лодвиг с мольбой посмотрел на Бьёркена.
— Это все же праздник Ялле, — сделал он попытку, — трудно понять, чего он сам хочет, говорить-то он не может.
Но Бьёркен был непреклонен.
— Будет лежать, где лежит, — заявил он. — Но если хотите, гвозди можем не забивать. — И он положил крышку гроба немного наискосок, так чтобы на лицо Ялле падала полоска света. — А теперь вернемся к картам.
Они играли в «червей», невинную игру, очень любимую Ялле. Пили и вино, и самогон, и домашнее пиво, разогрелись, настроение снова поднялось. Когда Бьёркен очутился под столом, а произошло это на удивление быстро и объяснялось, очевидно, тем, что он смешивал напитки еще до того, как они попадали к нему в желудок, Ялле снова притащили за стол. Он был почетным гостем и, конечно же, его посадили во главе стола. На сей раз обошлись без глубокой заморозки: прислонили к спинке стула, а ноги поставили так, чтобы те уперлись в ножки стола. Так покойник просидел долго. С друзьями, среди гама и табачного дыма, с трубкой во рту, с умиротворенным лицом. Друзья пили за него, говорили ему, что эти поминки будут помнить до конца света. Они обращались к Ялле как к живому, а через какое-то время никто уже и не помнил, что он умер.
Когда одна нога Ялле соскользнула с ножки стола, и он тихо сполз под стол, окружающие восприняли такое поведение как нормальное. Во время попоек Ялле всегда в какой-то момент оказывался под столом.
— Сдает наш Ялле, — икнул Мэдс Мэдсен. — Старый стал.
— Никуда эти островитяне не годятся, — хихикнул Лодвиг. Сам он еле сидел на стуле, глаза в кучку, и не мог отличить червей от пик.
Пир продолжался всю ночь и весь день. Граф отпал довольно рано. Он отполз от стола и улегся в гробу Ялле, обитом мешковиной и обтянутом хлопковым полотном. Там ему было мягко и хорошо, и он легонько и с достоинством похрапывал. Никто уже не помнил, по какому поводу собрались, да это, впрочем, было и неважно, пока праздник продолжался.
Гроб обнаружил Мэдс Мэдсен.
— Эй, кто-то умер? — крикнул он.
— Кто умер? — завопил Лодвиг.
— Тут гроб стоит, значит, какой-то идиот умер, — установил Мэдс Мэдсен.
— А в гробу кто-то есть? — спросил Херберт.
Мэдс Мэдсен пригляделся.
— Граф умер, — сообщил он народу. — Надо его похоронить, пока не испортился. — Тут Мэдс Мэдсен споткнулся о крышку и положил ее поплотнее на гроб. — Вставайте, алкоголики, — крикнул он. — У нас покойник в доме. Надо уважать усопшего.
Народ вскочил. С большим трудом, топоча и отдуваясь, они вытащили гроб на улицу и поставили в снег. На свежем воздухе дело пошло лучше. Гроб хорошо катился по снегу, и они принялись толкать его к кромке льда. Толкали, тянули, пели и орали, и наконец, благодаря милосердному провидению, добрались до шхер. Тут они остановились, сняли шапки и постояли, поддерживая друг друга, а Сизый Нос бормотал что-то, чего никто не мог разобрать. Выждав, пока Сизый Нос закончит, они объединенными усилиями столкнули гроб в воду и помчались домой, в тепло.
Настал момент, когда выпивка кончилась. Ситуация серьезная: у гостей начало проясняться в голове. Первым очнулся Бьёркен. Проснувшись, он обнаружил, что лежит, уткнувшись головой в руку Ялле.
— Что такое, Ялле не похоронили? — удивился он.
Мэдс Мэдсен, дремлющий за столом, оторвал голову от рук и спросил:
— Ялле? Но ведь умер-то Граф.
Бьёркен снова забрался под стол и осмотрел Ялле.
— Нет, умер Ялле, — сообщил он, — а где гроб?
Лодвиг открыл один глаз. Он лежал на нарах рядом с Вальфредом.
— Где Граф? — спросил Лодвиг.
По дороге к скалам Бьёркен шептал Мэдсу Мэдсену:
— Хороший человек был Граф, приятно было иметь с ним дело. Жаль, что все так получилось.
Мэдс Мэдсен огорченно кивнул.
— Никогда у нас настоящего графа больше не будет. Странно, как мы могли так ошибиться.
Грустной толпой они тащились по льду. Головы раскалывались, руки-ноги ломило, во рту — неприятный привкус. Малыш Лассе, хныча, кружил вокруг, Сизый Нос держал Херберта за ремень, чтобы не потеряться. Наконец, они увидели поднимавшийся над водой пар.
— Плывет, я так и знал, плывет! — внезапно закричал Херберт.
— Что плывет? — пробурчал Мэдс Мэдсен.
— Гроб, идиот, — в восторге захохотал Херберт. И побежал к берегу.
Он плыл. Маленький кораблик с плавными очертаниями, с большой выпуклой крышкой. Мэдс Мэдсен ухватился за форштевень и с помощью остальных вытащил лодку на лед. Они открыли крышку и уставились в гроб.
Граф сел. Прищурился, широко зевнул.
— Доброе утро, — поприветствовал он удивленную толпу. — Веселые были похороны, доложу я вам, господа.
Найя Марие Айдт
Рубцы © Перевод Олег Рождественский
Первый день своего пребывания в городе я, как обычно, трачу на то, чтобы осмотреться. Поселившись в отеле и оставив чемодан в номере, — кстати, номер превзошел все мои ожидания: просторный, с прекрасным видом из окна, отличной кроватью и пушистым зеленым ковром во весь пол, с расположенным на почтительном расстоянии от кровати санузлом, который не воняет и не выглядит совсем уж убогим, — я решаю остаток дня провести на открытом воздухе. В приподнятом настроении от увиденного в гостиничном номере, а также от великолепной погоды, я погружаюсь в запутанный лабиринт извилистых улочек, переулков и лесенок. Этот город, как известно, раскинулся на склоне горы, и я, преодолевая бесконечные спуски и подъемы, восхищаюсь тем, как он меняется, в зависимости от того, с какой высоты на него смотришь. Живописные картины купающегося в солнце и объятого душным маревом города вызывают у меня стойкое, почти осязаемое впечатление, оказывается очень важно, под каким углом зрения и с какого места ты на это смотришь. «Как все бесконечно банально, — думаю я, — но при этом — как важно».
На уличном базаре я покупаю алый платок. Разглядываю кур и уток, покорно дожидающихся в тесных клетках своей участи — скорее всего, быть зарезанными и поджаренными, прожеванными и переваренными, после чего оказаться на земле или в фаянсовой посудине, но уже совсем в ином виде. Я пью чай из маленьких расписных чашечек. Ем медовое печенье. Затем в несколько более цивилизованном месте мне приносят пряную баранину с рисом. В общем и целом, голод утолить удается. Я карабкаюсь по узким лестницам все выше и выше, и спина под тонкой рубашкой покрывается потом. Приближаюсь к большой мечети — возвышающемуся над городом тяжеловесно-строгому и отчасти даже угрюмому монументу, производящему в то же время впечатление эфемерной легкости и свободы. Вид мечети наводит меня на размышления о том, что все мы пытаемся прожить свою жизнь, лавируя между двумя полюсами, двумя разными идеалами бытия. «А мне удается, — думаю я, испытывая при этом чуть ли не эйфорию, и стараюсь поточнее сформулировать внезапно посетившую меня мысль, — соединить эти противоречия в единое целое, что гарантирует мне одновременно и строгий самоконтроль, и свободу». Я без устали подмечаю разнообразные проявления этих крайностей: пряный запах цветов и диких трав, пробивающихся повсюду сквозь булыжник и асфальт; темные лица мужчин с ярко выделяющимися белками глаз, внутри которых прячется разноцветная радужная оболочка; на мгновение показавшаяся из-под вороха закрытых одежд изящная женская рука или нога и толстые стены древних домов. Меня привлекает даже вид откровенной нищеты, поскольку, глядя на нее, я утверждаюсь в некоей мысли, кажущейся мне немаловажной: жизнь у всех складывается по-разному, но это — жизнь. И данное утешение годится и мне — отчасти по причинам личного характера, мне тоже не чуждо чувство вины, а также поскольку мы, живущие в явном достатке, в такой степени страшимся смерти и старости, что это вступает в кричащее противоречие со все увеличивающимися сроками продолжительности жизни и последними достижениями и чудесами медицины. Мысли эти роятся в моей голове, в то время как я, испытывая приятную усталость от обилия новых впечатлений, устраиваюсь с чашечкой чаю на крохотной площади в тени огромной акации. Не ощущается ни малейшего дуновения ветра. В воздухе застыла расслабляющая послеполуденная жара. Несколько ребятишек затеяли игру в шары. Какой-то человек таскает в грузовичок овощи. И хотя я отчасти ощущаю себя объектом наблюдения, ибо находящиеся выше на горе с легкостью могут, сами оставаясь незамеченными, следить за мной, все так долго мучавшие меня беды постепенно как будто отступают на второй план.
Вернувшись в отель поздно вечером, я принимаю освежающую ванну и осторожно обрабатываю рубцы и гематомы на теле. Меняю пластырь на глубоком разрезе на правой руке и переодеваюсь. Затем открываю окна в комнате и несколько мгновений наслаждаюсь ароматами черной, как уголь, ночи, слушаю стрекот цикад и доносящиеся из города незнакомые звуки. Внезапно у меня появляется острое желание выпить.
В баре гостиницы почти пусто; сонный бармен пьет кофе и листает газету, за стойкой одинокая дама средних лет лениво прихлебывает виски и курит тонкую сигарету. Сидящий за одним из столиков молодой человек явно погружен в какие-то свои мысли; взгляд его застыл на большом вентиляторе, висящем под потолком заведения. Вентилятор издает легкое жужжание. Я подсаживаюсь к стойке и заказываю порцию темного рома. Дама окидывает меня оценивающим взглядом, с легкой улыбкой кивает и закуривает очередную сигарету. Бармен наливает мне рома, включает композицию в исполнении Фрэнка Синатры и начинает полировать бокалы. Ром оказывается крепким и вполне приличным. Слушая мягкий, проникновенный голос Синатры, поющего «I did it in my way», я потихоньку улыбаюсь — да, и обо мне можно сказать то же самое: я делаю все на свой манер, по-своему. Однако есть в этом и нечто комичное. В постигших меня несчастьях. Не берусь утверждать, но, вероятно, у сидящей за стойкой дамы — слегка загорелой, с изящно зачесанными волосами, одетой в элегантное короткое платье из черного шелка — создается впечатление, что моя улыбка предназначена ей. Как бы там ни было, но она решает завязать со мной беседу. Она англичанка, живет в Лондоне, точнее, в Кенсингтоне, недавно потеряла мужа. Наслаждаясь ее прекрасным английским, я узнаю, что она приехала сюда, чтобы сменить обстановку и попытаться начать все заново. Мне не остается ничего иного, как подыграть ей, — я тоже ищу здесь перемен и пытаюсь начать все сначала. С улыбкой, в которой сквозит облегчение, она касается своего жемчужного ожерелья. Я говорю, что именно по этим двум причинам все, как правило, и отправляются путешествовать в дальние страны, и она с нервным смешком принимается помешивать в своем стакане синей пластиковой палочкой. Некоторое время мы сидим молча, я допиваю ром, но, когда поднимаюсь, чтобы уйти, она удерживает меня за руку и, глядя на меня ясными влажными глазами, произносит: «Временами мой муж бывал самой настоящей скотиной. Понимаете?! Настоящей скотиной!» Потом она смущенно убирает руку, я благодарю ее за приятную компанию и удаляюсь. Когда я лежу на широкой кровати под белыми простынями и ощущаю, как напряженное нагое тело постепенно полностью расслабляется, меня вдруг разбирает смех. Я стараюсь заглушить его, но ничего не могу с собой поделать, и хохот прорывается наружу. «Понимаете?! Настоящей скотиной!»
Весь следующий день я провожу в гостинице. В цокольном этаже нахожу бассейн, потолок которого расписан под небо, так что, плавая на спине, можно любоваться белыми барашками облаков. Вдоль бортиков длинными живописными рядами расставлены искусственные деревья и цветы, а дно украшено синей мозаикой. Все вместе это выглядит настолько натурально, что создается полная иллюзия настоящего пляжа, где люди принимают солнечные ванны, возлежа в шезлонгах вокруг барной стойки. Довольно долго я сижу в сауне. Затем погружаюсь в лохань с холодной водой. На бедрах проявляются большие красные пятна — для кожи это настоящий шок. Именно то, что мне сейчас нужно. Шок. От тепла и воды рубцы у меня на животе и груди размягчились и побелели. Края разреза на руке припухли. С точки зрения заживления дело, без сомнений, идет хорошо, и я вздыхаю с искренним удовлетворением: скоро все следы исчезнут с моего тела, как капли росы на солнце.
В ресторане я заказываю плотный ланч и выпиваю полбутылки вина. Утирая губы салфеткой, чувствую, как кто-то робко касается моего плеча. Та самая англичаночка. На этот раз в голубом прогулочном костюме. Я приглашаю ее присесть. Она без раздумий принимает приглашение. Мы заказываем кофе. При дневном свете мне удается как следует рассмотреть ее лицо: узкие губы, зеленоватые глаза, веснушчатая кожа, покрытая более густой сеткой морщин, чем мне казалось в сумерках накануне вечером. Она начинает рассказывать о своих дочерях: одна — медсестра, другая — учительница. Показывает мне фотографию внука — крепкого белокурого четырехлетнего мальчугана. «А вы, — спрашивает она, — у вас есть семья?» — «Брат, сестра и море племянников и племянниц», — отвечаю я. Следует короткий мелодичный смешок. «Прекрасно сказано, — говорит она. — Целое море детишек!» Она всплескивает руками, словно собираясь обнять все это море детей, и снова заливается смехом. В глубине рта ее блестит золотой зуб. Затем она предлагает мне составить ей компанию и вместе прогуляться по городу, однако я отказываюсь под тем предлогом, что мне нужно успеть доделать кое-какую работу. С плохо скрываемой досадой она спрашивает, что это за работа, и мне приходит в голову сказать, что я пишу статью, которую необходимо закончить до вечера. «О, — восклицает она, — так вы занимаетесь журналистикой?» Уклоняясь от прямого ответа, я решаю назваться литератором, которому заказан ряд путевых очерков о странах Ближнего Востока и Турции. «Как интересно!» Глаза ее расширяются от восторга. Я улыбаюсь и изо всех сил стараюсь принять польщенный и в то же время застенчивый вид. Она собирает свои вещички и, пожелав мне творческих успехов, удаляется. Однако, уже дойдя до самой двери, разворачивается и возвращается. «Я ведь так и не представилась, — говорит она. — Меня зовут Эллен Паркер». Англичанка протягивает мне свою тонкую руку, и она — легкая, как птенец, и прохладная, как белоснежные простыни в моей постели, — на мгновение застывает в моей руке. Я возвращаюсь в свой номер. Вино меня совсем сморило: я сплю мертвым сном почти целых два часа.
На следующее утро я просыпаюсь очень рано и сразу же ощущаю смутное волнение. Я понимаю, что мне больше не стоит оставаться в этом городе. Не желая лишний раз встречаться с Эллен Паркер, я, не завтракая, выхожу из отеля и несколько часов брожу по улицам. Несмотря на усиливающуюся с каждой минутой жару, в это время дня в воздухе еще чувствуется ночная свежесть. Я наблюдаю за тем, как торговцы мало-помалу начинают открывать свои магазины и лавочки, как солнце на небе постепенно взбирается все выше и выше, как дети с книжками в руках торопятся в школу, как становится громче шум транспортного потока и как усиливается жара. Вид пробуждения города заставляет мозг работать интенсивнее и более целенаправленно. Эмоции, сорвавшие меня с постели и заставившие выйти на улицу, отступают, что позволяет мне наконец трезво оценить создавшуюся ситуацию. С одной стороны, я по-прежнему хочу отдохнуть и набраться сил перед долгой дорогой домой, с другой стороны, возникла самая настоящая проблема в лице Эллен Паркер. И угораздило же меня искушать судьбу, выдумывая все эти лживые истории! Подозреваю, что она еще попытается встретиться со мной и навязать мне общение. Боюсь, она заметила, что я что-то скрываю, и у нее, пусть и неосознанно, возникло желание раскрыть эту тайну. Опасаюсь, что она, как говорится, почуяла меня.
Присаживаюсь на низкий каменный забор и устремляю свой взгляд на раскинувшуюся подо мной долину. Некоторое время размышляю и, наконец, нахожу компромиссное решение: я останусь, но только на один день, не больше, и при этом приложу все силы, чтобы избежать контактов с этой англичанкой.
Возвращаюсь в гостиницу после полудня. Прошу молодого человека за стойкой заказать мне билет на самолет и по лестнице поднимаюсь в свой номер. Окно в комнате слегка приоткрыто, горничная застелила мою постель и поставила в вазу свежие цветы. Я начинаю переодеваться, и внезапно взгляд мой падает на белый конверт, ярко выделяющийся на темно-зеленом ковре. Вероятно, кто-то подсунул его под дверь. Ну, разумеется, послание от Эллен Паркер. Почерк у нее крупный и размашистый. В изысканных выражениях она приглашает меня на обед в «элегантный ресторан», расположенный вблизи мечети. Вздохнув с досадой, я комкаю письмо. Присаживаюсь на край кровати и внезапно понимаю, что нет сил одеться. Я ложусь и закрываю глаза. Провожу рукой по телу, и тут же чувствую острейший прилив желания. Поворачиваюсь на бок и, стараясь успокоиться, долгое время созерцаю занавеску, которая слегка колышется, несмотря на полное отсутствие сколько-нибудь заметного ветра. У Эллен Паркер зеленые глаза и красивые руки. Странно, что это меня так волнует. Может, все из-за того, что уже очень давно мне ни с кем не приходилось разговаривать дольше двух минут. Постепенно мною овладевает дремота, я засыпаю. И разом просыпаюсь от звонка телефона. Первая моя реакция — пусть себе звонит, однако потом мне приходит в голову, что это может быть портье с новостями о заказе билета. Я беру трубку. Это Эллен Паркер. «О, простите, — говорит она, — я вас не разбудила?» Она хочет узнать, принято ли ее приглашение. Я отвечаю, что, к сожалению, не располагаю временем пообедать с ней, ибо возникли кое-какие осложнения и работа затягивается. Однако унять ее не так-то просто: ведь мне все равно надо что-то есть, говорит она, так что мы могли бы встретиться в гостиничном ресторане, и, таким образом, мне не придется тратить время на дорогу до мечети. В восемь часов? Меня устроит? Я говорю, что собираюсь заказать еду себе в номер, она тут же подхватывает мысль и начинает рассуждать, как это замечательно и что раз уж она не может рассчитывать на то, чтобы составить мне компанию на весь сегодняшний вечер, то, как только мы поедим, она сразу же удалится. Ведь она прекрасно понимает, что мне нужно работать, да-да, прекрасно понимает, какими важными вещами я занимаюсь, и она ни в коем случае не хочет мешать, однако есть в одиночестве — жуткая скука. Ей удается-таки настоять на своем. А это худшее из всего, что можно было представить. Эллен Паркер собственной персоной, и не где-то на нейтральной территории, а здесь, прямо в моей комнате, в непосредственной близости от моей кровати. Я сразу же прибираю подальше всякие мелкие вещички. Смотрюсь в зеркало. Выворачиваю голову так, что практически вижу себя в профиль. Затем наполняю ванну. И как раз в тот момент, когда я усаживаюсь в теплую воду, снова раздается телефонный звонок. Это портье. Он сообщает, что все билеты на самолет распроданы. Я прошу его сделать заказ на ближайшее возможное время. Первый подходящий рейс, оказывается, только через четыре дня. Сидя голышом на краешке стула и заливая пол вокруг него стекающей с меня водой, я пытаюсь смириться с тем, что выбраться отсюда сумею лишь через четыре дня. Только когда начинаю замерзать, я встаю и снова возвращаюсь в теплую ванну.
Я прокручиваю в голове разные варианты побега: к примеру, можно было бы переехать в другую гостиницу. Однако вероятность неожиданной встречи с Эллен Паркер в любом другом месте поистине велика, а последствия обещают быть мучительными и в высшей степени драматичными. К тому же в результате телефонных переговоров с портье номер остается за мной еще на четверо суток. А это довольно приличная сумма. Все это злит и действует на меня, мягко говоря, угнетающе. Если прежде ситуация казалась слегка комичной, то теперь она представляется гротескной. И мне вовсе не до смеха.
В дверях моего номера стоит Эллен Паркер. На ней оливкового цвета костюм. На губах играет улыбка. С собой она принесла бутылку «Шабли». В знак приветствия она мимоходом целует меня в обе щеки. Золотые браслеты на ее запястье при этом звякают. Я с демонстративно усталым видом убираю в выдвижной ящик стола стопку листов. Все они чистые. Я звоню в отдел обслуживания номеров и заказываю суп из чечевицы и горячие сэндвичи. Я пытаюсь открыть вино, но — безуспешно. Тогда Эллен отбирает у меня бутылку, заново вкручивает штопор в пробку и без всякого напряжения вытаскивает ее. У меня просто нет слов. Откуда в ней столько сил? Она улыбается и наполняет наши бокалы. Мы смотрим друг другу в глаза и чокаемся. «За вашу работу. Успехов вам!» — говорит она. Мы пробуем вино. Оно холодное и освежающее. Во рту появляется ароматный привкус летних цветов. Меня внезапно охватывает сильнейшее желание оказаться дома. В этот момент появляется молодой человек с заказанной нами едой. Эллен устраивается в кресле, я остаюсь за письменным столом. Поначалу мы стараемся есть, соблюдая все приличия, хотя сидеть и мне, и ей крайне неудобно. В конце концов я откладываю ложку, подношу пиалу с супом ко рту и начинаю пить прямо через край. Какое-то мгновение она молча смотрит на меня сияющим взглядом. Затем разражается хохотом. «О, Боже! О, Боже!» — повторяет она. Я тоже — против собственной воли — начинаю улыбаться. А после того как и она, подражая мне, отпивает глоток супа прямо из пиалы, я хлопаю себя по бедрам и запрокидываю голову в приступе безудержного смеха. Одновременно я ощущаю, как в глубине души начинает подниматься нечто темное. Я полностью утрачиваю контроль над собой. Слышу собственный восторженный вопль, вызванный тем, что Эллен Паркер пролила остатки супа на свой шикарный оливковый костюм. Она замирает с открытым ртом, по подбородку течет слюна. Внезапно на нее накатывает новая волна смеха. Она кладет руку мне на колено и, задыхаясь от хохота, пытается что-то сказать, но не может. Затем она пробует стереть салфеткой пятно с костюма, но и это заставляет нас вести себя, как расшалившиеся дети. Вскоре я уже катаюсь по полу, изо всех сил стараясь подавить в себе прилив безудержного веселья; мускулы живота у меня свело судорогой, из глаз рекой текут слезы. Эллен Паркер ничком лежит на кровати и издает истерические вопли, то и дело взбрыкивая ногами. Одну туфлю она уже потеряла. Проходит по меньшей мере минут десять, прежде чем нам удается взять себя в руки и унять приступ смеха. Растрепанные, с раскрасневшимися щеками, мы начинаем приводить в порядок свою одежду. Эллен Паркер подбирает с пола туфлю, поворачивается ко мне спиной и надевает ее. Я встаю и наполняю водой два стакана, взятые из ванной комнаты. Мы жадно пьем и отрываемся от своих стаканов практически одновременно. Я сижу в кресле, она — на кровати. Эллен Паркер смущенно опускает глаза. «Прошу прощения, — чуть ли не шепотом говорит она. — Не знаю, что на меня нашло».
Я беру ее за руку. «Вам вовсе не за что извиняться, — говорю я и всем телом подаюсь к ней; при этом от внезапного прилива нежности я едва не плачу. — Это все я». Она поднимает на меня взгляд и улыбается. Вид у нее при этом самый лучезарный. «Давно мне не случалось так много смеяться. Вы не представляете, как я вам благодарна». Мы молча едим свои сэндвичи, которые уже совсем остыли. Эллен наливает нам еще вина. «Понимаете, поначалу, когда умер муж, мне пришлось несладко. А потом я стала понимать, что и при его жизни дело обстояло немногим лучше. Мне стыдно в этом признаваться, но для меня остаться одной — это своего рода избавление». Она закуривает одну из своих тонких сигарет и ложится, опершись на локоть. «Я хорошо понимаю, что вы имеете в виду, — говорю я, — да-да, прекрасно понимаю. Тут вовсе нечему стыдиться». Внезапно она поднимается, тушит сигарету и говорит, что ей пора идти, ведь мне нужно работать, а она и так уже отняла у меня уйму времени. Я пожимаю Эллен руку; рука теплая и слегка влажная. Стою в дверях номера и смотрю, как она идет по коридору. Браслеты ее чуть позвякивают. Она оборачивается и машет мне рукой. Вернувшись в комнату, я чувствую запах сигареты, смешанный с ароматом ее духов. Сперва я было собираюсь открыть окна и проветрить, однако в результате так и не делаю этого. Она по-мужски, умело вытащила пробку из бутылки, а смехом заливалась, как маленькая девочка. Я меряю шагами номер, опорожняю ее бокал и чувствую себя будто зверь в клетке.
Следующие дни пролетают как один. Я не помню, в каком порядке все происходит. Однако ночью я оказываюсь в номере Эллен Паркер. Я снимаю с себя всю одежду. Она застывает посреди комнаты и, не в силах шевельнуться, в полумраке во все глаза смотрит на меня. «Я думала… не может быть… — запинаясь, выдавливает из себя она. — Я была уверена, что вы… вы — мужчина». Судорожно сглотнув, она прикасается к своему жемчужному ожерелью. Затем кладет руку на мою плоскую грудь. Осторожно ласкает рубцы. «Мне тоже почти в это поверилось», — шепчу я и опрокидываю ее на кровать. Она дрожит всем телом. Мы долго не в состоянии расстаться.
В оставшееся время мы наслаждаемся прогулками по городу вдвоем. Поднимаемся и спускаемся по узким крутым улочкам и любуемся панорамой с различных ракурсов. Я дарю ей купленный мною на рынке алый платок, она мне — один из своих браслетов. Один раз она спрашивает о том, не тревожат ли меня мои раны. Я не отвечаю. В другой раз осведомляется, как продвигается работа. Я говорю, что она уже давно завершена. Эллен Паркер — поистине горящая свеча во мраке моего существования. Утром в день моего отъезда полная слез процедура прощания. Она долго бежит за увозящим меня такси. С тех пор мы с ней больше не виделись. Год спустя мне довелось побывать в Лондоне. Я отправляюсь прогуляться по Кенсингтону и представляю себе ее жизнь здесь. Дочки и внук. Возможно, благотворительность. Возможно, еще один состоятельный муж. Когда отнимаешь жизнь у ближнего, совсем иными глазами видишь тех, кто продолжает жить. Я, как всегда, внимательно осматриваюсь по сторонам.
Бенни Андерсен
Плащ © Перевод Елена Гурова
Я как раз собирался на почту, когда разразилась гроза. До закрытия оставалось совсем немного, но в тот день был последний срок оплаты по кредиту, так что я отыскал плащ, нахлобучил шляпу и отдал себя на растерзание датской непогоде. Уже по дороге на почту я понял, что это не мой плащ. Он сидел на мне слишком свободно, карманы казались гораздо больше тех, в которые я привык засовывать руки, к тому же они были прямыми, а не косыми, как у меня, а цвет — бежевым, а не серо-голубым. Кроме того, он был каким-то потасканным и изрядно помятым. Короче говоря, совсем другой плащ.
Вернувшись домой, я повесил его в своей комнате на просушку, постелив на пол несколько воскресных газет. Закурил трубку и принялся внимательно его рассматривать. Оказалось, что плащ пропускает воду — теперь он стал темно-бежевым. Так вот он и висел, собирая под собой лужу. Очень просторный, с широкими рукавами, но точно короче, чем мой — штаны у меня ниже колен промокли насквозь, так что по возвращении пришлось переодеваться. Возможно, он принадлежит невысокому, но довольно упитанному человеку. Или коренастому с короткими ногами. Я проверил карманы, заставив себя засунуть руку в холодное, сырое и неизвестное мне углубление, обнаружил смятый чек из пекарни в районе Фредериксберг. 2 кроны 85 эре. Наверное, этот человек очень любит булочки и пирожные, не может прожить без них и дня, все ест и ест, все время толстеет, врачи бьют тревогу, но страсть его безудержна, ему по-прежнему приходится перешивать плащи и другую одежду. С другой стороны, два восемьдесят пять — не так уж и много. Один только крендель с изюмом и цукатами да несколько меренг. А уж если это все покупалось для целой семьи, тогда повода для паники и вовсе не существует. И ведь всего один чек. Вот если бы карман был набит чеками на булочки и пирожные, тогда другое дело. Конечно, можно представить себе пирожнозависимого, эдакого булочкомана, который покупает целую гору косичек с марципановой начинкой и рулетов из миндального теста и сразу же уничтожает все чеки, оставив только один на тот случай, если жене вздумается заглянуть в его карманы. Один-единственный чек на два восемьдесят пять ее успокоит. Вот если бы она нашла чеки на двести крон, то, возможно, упекла бы его в больницу и заставила лечиться от злоупотребления булочками и пирожными. Однако все это было не очень убедительно. Я мог лишь констатировать, что передо мной висит чужой, незнакомый плащ, принадлежность которого мне установить не удавалось. И хотя он не был застегнут на все пуговицы, но почему-то казался совершенно неприступным.
Лотте позвала к столу, я вытряхнул трубку и пошел ужинать.
После ужина я попросил Лотте зайти ко мне в кабинет, где на карнизе для штор по-прежнему висел теперь уже почти сухой плащ. Я ввел ее в курс дела и попросил посодействовать в раскрытии тайны. Она сразу же подошла к нему и принялась осматривать, абсолютно по-женски: сначала снаружи, потом подкладку, фирменный знак, карманы и петельку. Сообщила мне, что петелька оторвана.
— Неужели! — воскликнул я. — И каковы твои выводы?
— Похоже, его кто-то у нас забыл.
На мгновение я застыл: то, с какой быстротой и уверенностью она пришла к подобному умозаключению, хотя обнаружила лишь жалкую оторванную петельку, привело меня в полное оцепенение. Должно быть, она опустила целый ряд промежуточных выводов, не захотела меня утруждать — возможно, посчитала, что у меня хватит умственных способностей сделать их самому, раз уж конечный результат мне известен. А может, Лотте просто строила догадки. Первое ли было верно или второе — сказать трудно, с ней никогда не поймешь.
Я закурил трубку — раз проблема сложная, куда ж без этого.
— Допустим, ты права. Но тогда вопрос: кто его забыл?
— А где он висел?
— На крючке в прихожей.
— Об этом я догадываюсь. На каком крючке?
— На одном из последних, возле телефона, он висел под твоим пальто в полоску, моей замшевой курткой и парочкой шарфов.
— Ну, тогда, по-видимому, он висел там с прошлой осени. Весной там всегда висит осенняя одежда. Кто был у нас прошлой осенью?
— Могу быстренько составить список первых двадцати кандидатов.
— Не утруждайся. По всей видимости, забыл его Эрлинг.
— Вот как.
Я притворился, будто снова зажигаю трубку, чтобы не выдать своего потрясения.
— Значит, Эрлинг. Не будешь ли ты столь любезна объяснить мне, каким образом тебе удалось так быстро прийти к этому выводу?
— Просто-напросто методом исключения. Никто другой этого сделать не мог, остается только Эрлинг.
— И почему, скажи на милость, его не мог забыть кто-нибудь из остальных двадцати-тридцати?
— Потому что на них либо был плащ — либо нет. Те, кто приходили в плаще, уходили тоже в нем. Те, кто приходили без плаща, уходили, естественно, без него. Но Эрлинг относится к тому типу людей, которые вполне могут забыть такую вещь, как плащ.
— Ага. И как же ты понимаешь, что человек относится к данному типу?
— Если он похож на Эрлинга. Ну, такой весь рассеянный. И время совпадает: он заходил к нам как-то осенью. Давай, звони Эрлингу.
И я позвонил Эрлингу.
— Здорово, старина! Как поживаешь? Ты случайно не разыскиваешь плащ?
— Такое вполне возможно, — ответил он, по обыкновению четко выговаривая слова. — Дай-ка подумать… Ну конечно, я забыл его в прошлом году, когда гостил у тетки в Скельскёре, стояла такая отличная погода, что, честно говоря, я просто забыл его взять. Очень хорошо, что ты напомнил, я напишу ей и попрошу выслать, нет, лучше еще раз съежу сам, у нее не так много осталось родственников, я считаю, надо поддерживать отношения со стариками, они часто чувствуют себя одинокими и ненужными…
Я прервал его:
— Ты точно уверен, что забыл его в Скельскёре, а не у нас?
Повисла пауза.
— Вообще-то я был точно уверен, — наконец произнес он, — но после твоего вопроса уже не точно. Мне кажется, что я забыл его в Скельскёре, но не могу исключить, что это случилось тем вечером, когда я был у вас. Мы ведь приняли пару — как ты там говоришь — стопариков.
— Ну так заходи — пропустим еще по одному! Заодно посмотришь на плащ.
— Обязательно зайду. В ближайшее время. К тетке в Скельскёр я все равно скоро поеду. Представляю, как ее развеселит история с плащом, ведь я думал, что забыл его у нее. Старики часто обладают превосходным чувством юмора. Во всяком случае, моя тетка уж точно. Ну так я заскочу как-нибудь. Спасибо, что позвонил.
Наш разговор привел меня почему-то в отличное настроение. Мы очень хорошо относимся к Эрлингу, но он не входит в число наших близких друзей — мы можем хоть целый год не встречаться. Однако общаться с ним очень приятно, хотя он и физик-ядерщик, а я в этом ничего не смыслю. Я — рекламщик. Создаю макеты и тексты: И ВКУСНА, И СЛАДКА КВАКУШКА-ШОКОЛАДКА! Это рекламная кампания для фирмы, которая конкурирует с производителем шоколадных лягушек. Не сомневаюсь, что в скором времени наши квакушки обойдут по продажам их лягушек!
Скорее всего, я просто радовался тому, что мы нашли хозяина плаща. У Лотте после моего рассказа тоже поднялось настроение. Я поцеловал ее, поздравив с мастерским раскрытием дела, и побежал за вином и виски, чтобы отпраздновать это событие. Мы всегда готовы что-нибудь да отпраздновать, и это, несомненно, одна из причин, почему нам так хорошо вместе после вот уже семнадцати лет брака.
Плащ Эрлинга. Старый добрый плащ старины Эрлинга. Плащ ему великоват, но это так на него похоже. Одежда на нем всегда висит, но ему все равно, как он выглядит, лишь бы возиться со своими атомами и тетушками.
Мы повесили плащ Эрлинга на первый крючок в прихожей, выделив для него мою лучшую вешалку: она покрыта слоем пенорезины и обтянута натуральной кожей. Первое, что бросалось в глаза при входе, был этот плащ, и с каждым днем я все больше убеждался в том, как он похож на Эрлинга: такой приветливый, немного неуклюжий, рассеянный, но при этом само воплощение доброты и честности. Сморщенный и измятый воротник напоминал его выражение лица, когда он пытался самыми простыми словами объяснить такому, как я, чем он занимается. Излучающий одаренность, сосредоточенный воротник. И петелька, конечно, оторвана — такие мелочи Эрлинга не интересуют. Я попросил Лотте пришить петельку, чтобы к моменту его прихода плащ стал еще лучше.
Как-то вечером, предвещавшим приближение дождя, появился Эрлинг. Я торжественно помог ему облачиться в плащ, Лотте застегнула пуговицы и разгладила складки, и вот я развернул его к зеркалу:
— Ну, что скажешь?!
Эрлинг долго глядел в зеркало, затем перевел взгляд вниз, приподнял одну из пол плаща, повернулся к нам со смущенной улыбкой и сказал:
— Мне как-то неловко об этом говорить, но на самом деле это не мой плащ. Мой почти кремового цвета. И сшит из менее плотного материала. Да и не такой просторный. Моим он быть просто не может.
— Может, ты плохо помнишь? — спросил я, несколько оскорбившись.
— Да нет, как я мог забыть! Посмотри-ка на рукава, они почти доходят до кончиков пальцев. Должно быть, я забыл свой плащ в Скельскёре, как думал сначала. А этот, по-видимому, забыл кто-то другой.
Когда он ушел, не забрав плаща, Лотте сказала:
— Значит, его забыл кто-то другой.
— Неужели? А ты была уверена, что это его плащ.
— Я и правда так думала!
Она поднесла плащ к свету и стала ощупывать материал.
— А если предположить, что ты хотела меня в этом убедить?
Она резко подняла голову.
— И зачем, интересно, мне это понадобилось?
— Да, мне тоже очень интересно. На кой черт тебе это?
Не проронив ни слова, она швырнула мне плащ и ушла в свою комнату. Я попытался войти, но она заперла за собой дверь.
Я повесил плащ в своей комнате, зацепив вешалку за полку перед письменным столом. Включил настольную лампу и направил ее, словно прожектор, на плащ, так что резко проступили все складки и морщинки. Как же это я раньше не заметил? Было в этом одеянии что-то такое сомнительное, подловатое. Этот потасканный и изрядно помятый воротник источал сильный потный запах нечистой совести. Под таким плащом скрывают низкие намерения. Широкоплечий, коренастый тип, при ходьбе засовывающий руки глубоко в карманы — огромные волосатые похотливые ручищи.
При мысли о том, что я надевал этот плащ, меня бросило в дрожь. Пришлось выпить виски без льда.
Как-то поздним вечером… нет, как правило, по вечерам я дома. Прямо средь бела дня. Почему бы и не утром, как только я уехал на работу в рекламное агентство? Этот плащ способен на все. Вот звонят в дверь, она открывает, помогает снять плащ. Как здорово, что ты пришел, любимый мой. Или милый. Или дорогой. Меня сейчас вырвет. Еще виски. Вешает плащ на один из последних крючков под другую одежду. Чтобы, если этот тип забудет его или впопыхах будет уходить через черный ход, плащ не сразу попался мне на глаза. А потом… А потом…
Еще виски. Достаю нож, чтобы разодрать этот плащишко. Нет. Он же может принадлежать кому-нибудь из наших друзей. Просматриваю список телефонов. Приходится морщить лоб и щурить глаза, чтобы буквы не расплывались: Сёрен, Кудрявый, Сёнергор… нет, размер не подходит. Ладно бы еще кто-то из них!
Еще виски. Ах, Лотте, я был бы только рад за тебя, если бы ты наставила мне рога с кем-то из наших друзей, но почему ты закрутила пошлый роман с этим совершенно незнакомым мне, грубым, смердящим, потным, похрюкивающим, похотливым, похожим на обезьяну кобелем… неужели этого тебе нужно? Тогда зачем ты связала свою судьбу со мной? Просто, чтобы я тебя обеспечивал?
Еще виски. Больше не могу. Рвотные позывы. Хочу сделать шаг и вытошнить все содержимое желудка в эти огромные оттопыренные скотские карманы, поднимаюсь, падаю на пол и засыпаю.
Просыпаюсь на следующее утро и вижу, что Лотте несет мне завтрак на подносе. Не говоря ни слова, она ставит поднос рядом со мной на пол.
В течение двух недель мы практически не разговаривали, обходясь короткими сухими фразами. «Не забудь заплатить за электричество». «На кухне перегорела лампочка». «Звонил твой брат. У него все в порядке». «Передай, пожалуйста, соль». «Я положила чистые носки в ящик комода».
Уходя утром на работу, я вешал плащ на первый крючок. Возвращаясь вечером домой, я обнаруживал, что она перевесила его на четыре крючка дальше. Каждый день на протяжении двух недель.
Зато наша рекламная кампания, продвигающая шоколадных квакушек, достигла значительных успехов. Я сочинил несколько довольно удачных слоганов, например:
Не спеши сесть в легковушку, Съешь скорее ты квакушку!В начинке было немного коньяка, вернее бренди, поэтому у меня получились и такие строчки:
Погоди идти в пивнушку, В рот быстрей отправь квакушку!Но больше всего успехом пользовался такой слоган:
Лучше даже пива кружки Шоколадные квакушки!Рано или поздно нам пришлось бы, конечно, поговорить, но никто не делал первого шага. Я молчал, потому что, наверное, в глубине души боялся узнать всю правду. Она — наверное, потому что не хотела открывать всю правду. Или — у меня была слабая надежда — потому что была невиновна и ждала моих извинений.
Как-то вечером к нам пришла мать Лотте. Всем было неловко. Она сразу заметила, что между нами что-то не так, но тактично сделала вид, что все как обычно. Однако начала тараторить с натужным весельем, что совсем на нее не похоже. Это вогнало нас в полнейшие уныние, и в итоге мы сидели как воды в рот набрав, сверлили ее взглядами и думали только о том, чтобы она поскорее ушла. Наконец, сдавшись, она устало поднялась, устремила на нас полный какой-то безысходности взор и сказала:
— Ну ладно, мне, наверное, пора.
Теперь настала наша очередь играть комедию, не менее мучительно. Лотте спросила:
— Уже? Может, выпьешь чашку чая? Он еще не остыл.
А я сказал:
— Вы ведь только пришли, я совсем не успел рассказать о нашей рекламе шоколадных квакушек.
— Ничего, в другой раз. Я собираюсь в город в середине следующей недели, вот и позвоню вам накануне, узнаю, будете ли вы свободны.
Я проводил ее в коридор и помог надеть пальто. Увидев висящий бежевый плащ, она оживилась:
— Так ты все-таки носишь его?
Лотте тоже вышла в коридор, чтобы подать ей сумку и зонт, когда та наденет пальто. Мы оба застыли на месте.
— Что вы так на меня уставились? — спросила она испуганно. — Я что-то не так сказала?
— Этот плащ, — проговорил я, — вы знаете, чей он?
— Господи, ну конечно же, — ответила она, — это плащ моего брата Карло, вы же знаете, он умер прошлой весной.
— Но как он у нас-то оказался? — спросила Лотте.
— Вы что, действительно все забыли? Похоже, что да. Я принесла его как-то вечером. Мне ведь после Карло достались его вещи, и я подумала, не выбрасывать же этот плащ, такой хороший мужской плащ, его только почистить, но у вас были гости, целая толпа молодых людей, все танцевали.
— Боже, похоже, мы тогда отмечали середину лета! — воскликнула Лотте.
— Очень может быть. Ну и я не хотела мешать, только сказала, что повешу плащ здесь, а Торбен потом померит и решит, нравится ли он ему. Если нет, то можно отдать кому-нибудь другому, его ведь нужно только почистить, а потом я ушла, говорила уже, не хотела мешать, у вас еще и музыка была громкая, а я, вы знаете, люблю более приглушенную.
— У меня в голове начинает что-то проясняться, — проговорил я, — вы заходили сюда на минутку и что-то такое говорили про плащ, да, точно, но остальное… повеселились мы тогда на славу.
— Да, когда я заходила, у вас все уже было в разгаре, — улыбнулась теща. — Конечно, мне стоило заранее позвонить. Но ты, во всяком случае, теперь носишь его, верно?
— М-м — да — один раз я его надевал.
После ее ухода мы с Лотте некоторое время молча стояли, глядя друг на друга. Наконец, я собрался с силами и сказал:
— Извини, что я так себя вел.
— Значит, признаешь, что ты просто ужасный кретин?
— Да.
Она обняла меня и разрыдалась на плече.
— Во всяком случае, ты самый лучший кретин из тех, кого я знаю.
Карло мы не очень хорошо знали. Он был у нас в гостях всего один раз за несколько лет до своей смерти. Теща часто рассказывала, каким он был раньше — до смерти жены — жизнерадостным, забавным и энергичным. Если мы упоминали о каком-нибудь безумстве, например, на спор пропрыгать на одной ноге или пройти на ходулях через всю улицу Стрёгет, она говорила:
— Такое в свое время вполне мог выдумать Карло.
Он был самым известным выпивохой и ловеласом во всей округе, рассказывала она. Наследником одного из самых больших хуторов на полуострове Дюрсланд, однако родители лишили его наследства. Но вот одной темной ноябрьской ночью он сел на лошадь и увез дочку соседей с близлежащего хутора. Она-то его и образумила. И сподвигла на дальнейшую деятельность. Через пять лет он стал одним из ведущих животноводов в стране, позже вложил деньги в акции скотобоен, судоходных компаний, заводов. Он был влиятельным человеком, пока не умерла жена, а затем все пошло прахом.
В тот единственный раз, когда мы его видели, нам с трудом верилось, что ночное похищение — дело рук этого старого, усталого, печального человека, который все сидел, уставившись в одну точку, и не слушал, что говорят другие.
Плащ по-прежнему у меня, но я его не ношу. Время от времени я забываю о его существовании. Но весной или осенью, когда мы меняем сезонную одежду в шкафах и на вешалках, случается так, что он попадается мне на глаза, и я думаю: «а, он еще здесь», или «а, это опять он». Тогда я вешаю его на полку перед письменным столом и погружаюсь в раздумья. Дряхлый, поношенный плащ. Рукава — поникшие и изнуренные. Коричневые пуговицы с грязно-белой полосой, словно бельмо на глазу собаки. Предоставленный самому себе, он висит тут всеми покинутый, одинокий. Сморщенный, выцветший воротник, один кончик производит впечатление полной безнадежности. А обтрепанные петли похожи на смертельно усталые глаза, которые вот-вот закроются навсегда. Нет, я не могу заставить себя его надеть. И никак не соберусь с силами, чтобы отправить в химчистку. С другой стороны, у меня не возникает и мысли о том, что его можно выбросить. Однажды попав сюда, он висит теперь здесь, и здесь ему место. Убираю его подальше в шкаф, на ту половину, где висит моя осенняя и зимняя одежда. Но сейчас лето. Мы с Лотте собираемся в отпуск в Марокко. Пока больше о плаще думать не буду.
Из классики XX века
Кай Мунк
Вступление Бориса Дубина
Через несколько недель после адвентной проповеди накануне 1944 года, когда лютеранский пастор Кай Мунк в кафедральном соборе Копенгагена, храме Богоматери, предал нацистов открытому проклятию и, вопреки настоянию и предложениям друзей, не скрылся потом в подполье или за границей, он был январской ночью арестован гестапо, а наутро его тело обнаружили в придорожной канаве неподалеку от ютландского города Силькеборг (в Ютландии Мунк прослужил викарием двадцать последних лет жизни). На похоронах пастора и литератора собралось несколько тысяч человек, его мученическая смерть всколыхнула страну, дала новый импульс датскому Сопротивлению. И, конечно, заставила другими глазами посмотреть на созданное Мунком-писателем.
Драма «Слово» занимает особое место в наследии автора и в Датском культурном каноне, где она стоит рядом с давно причисленными к классике нравоописательными комедиями Хольберга и сказочной драматической поэмой Эленшлегера. Написанная Мунком по заказу Королевского театра Дании в 1925 году по следам реального события — смерти молодой роженицы в приходе, где Мунк служил, — она была напечатана и с большим успехом поставлена в 1932-м. С тех пор пьеса не сходит со сцен мира (в 2008 году крупный французский режиссер Артюр Носисьель показал ее в литературной обработке Мари Даррьесек на Авиньонском фестивале и в культурном центре Со под Парижем, а на следующий год — в столичном театре Рон-Пуэн). Ее экранизировали в Швеции в 1943-м и Финляндии в 1962-м, но событием мирового значения стал фильм «Слово», созданный в 1955-м на основе драмы великим датским мастером Карлом Дрейером. Картина получила американский «Золотой глобус», венецианского «Золотого льва» и — в трех номинациях — крупнейшую датскую кинопремию «Бодил», она неизменно и на первых позициях входит в самые разные списки лучших фильмов всех стран и времен.
Вероятно, главная особенность драмы Мунка и для его современников, и для нас сегодня в том, что это миракль — гость на театральных сценах XX века достаточно редкий. Тем более если принадлежит современному автору (тут вспоминается разве что Поль Клодель). И еще более — когда перед зрителями шаг за шагом разворачивается скрупулезно реалистическая история из крестьянского быта глухой провинции; евангельский сплав быта и чуда, кухни и храма еще нагляднее и драматичнее представлен в фильме Дрейера, сократившего пьесу на две трети. Отмечу особую, как бы ритуальную замедленность действия драмы и вместе с тем чрезвычайную насыщенность каждой ее сцены живой речью (не зря же она названа «Слово»). Персонажи тут не просто без остановки, без привычных для нас пауз и подтекстом говорят — они, что еще необычнее, беспрерывно слушают, поскольку все время обращены друг к другу. Если резюмировать совсем коротко и общо, тема мунковской драмы — возможность чуда в современном мире, в повседневном течении жизни, вернее, личная способность человека к ожиданию и приходу невероятного, к «адвенту», который ведь и значит «приход».
Если иметь в виду основных участников полемики на сцене (а пьеса Мунка, как всякий миракль, это еще и прение, спор о душе), то их, опять-таки обобщенно говоря, четыре. Это сторонник просветительских идей знаменитого пастора XIX века Николая Грундтвига, свободомысл-хуторянин Миккель Борген, его прямой противник портной-фундаменталист Петерсен, позитивист-доктор (вместе со своим фактическим сторонником, осмотрительным новым пастором местного прихода) и — противостоящий им всем — юродивый сын старика Боргена, его несбывшаяся надежда как хозяина и как верующего Йоханнес. Этот сын (два других — намеренно бледные сценические тени, явные не герои) — своего рода «рыцарь веры», который, прямо-таки по «Страху и трепету» Киркегора, вступил в «несчастное отношение с так называемой действительностью» и потому сочтен сумасшедшим. Ему и предстоит разрешить главную коллизию замечательной мистериальной драмы Кая Мунка — конфликт между привычной жизнью в теплом сообществе верных и собственным абсурдным шагом рискующего индивида навстречу небывалому. Добавлю, что это право на свободу и сомнение Мунк как священник и публицист защищал в деле пастора Отто Ларсена против церкви, слушавшемся в Дании как раз в год публикации и премьеры мунковского «Слова».
Слово Пьеса © Перевод Ирина Куприянова
Нет, его праздничная одежда должна всегда висеть наготове, потому что ведь никогда не знаешь, не придет ли он как-нибудь однажды пасхальным утром.
Здравомыслящая вдова хуторянина из Ведерсё[54].I
Хутор Боргенсгор.
Миккель. До свидания, Ингер.
Ингер. До свидания, Миккель.
Миккель. Посмотрим, как ты справишься.
Ингер. Не волнуйся, я сделаю все, что смогу.
Миккель. Может, я лучше останусь дома и помогу тебе?
Ингер. Ты прекрасно знаешь: если он меня не послушает, что бы вы остальные ни придумали, все равно не поможет.
Миккель. Это верно. Но будь осторожна. Помни о своем положении, женушка!
Ингер. Уф, вечно вы напоминаете о моем положении!
Миккель. Ну, Ингер!
Ингер. Ладно, ладно! Не обращай внимания. Это все, очевидно, из-за моего положения.
Миккель. Андерс вообще не должен был вмешивать тебя. Зря он это сделал.
Ингер. Не начинай теперь винить своего бедного брата, ему и так сейчас…
Миккель. Ты и правда все уладишь. Только бы отец не очень разозлился!
Ингер. Наверняка разозлится. Но я гораздо больше боюсь, что он расстроится. Ты увидишь, Миккель, я все улажу. А теперь отправляйся! И будь осторожен, не провались под лед!
Миккель. Я буду посматривать, не вернулся ли Андерс.
Ингер. Да, последи! Может случиться что-то совсем скверное, и хорошо, чтобы ты был рядом.
Миккель. Прощай, девочка моя.
Ингер. Прощай, мальчик мой. Надо же, можно подумать, мы только-только обручились.
Миккель. Так оно и есть, Ингер.
Ингер. Да уж! Восемь лет как женаты. Черт возьми, кофе закипел!
Миккель. Всего восемь коротких лет!
Ингер. Ну, мне кажется, до золотой свадьбы еще далеко.
Миккель. Совсем недалеко, женушка, недалеко. Ладно, прощай пока. И действуй осторожно.
Ингер. Разве я бываю неосторожной?
Миккель. Нет, так сказать было бы грешно. Удачи!
Ингер. Спасибо, друг мой!
Миккель уходит.
Благодарю тебя, милый Господи. Благодарю за все! Будь же и сегодня мне помощником! Аминь.
Старый Миккель Борген входит.
Борген. Это оттого, что вода просочилась. Но я сейчас заделаю.
Ингер. Ой, дедушка, ты меня напугал! О чем ты говоришь?
Борген. Пятно там наверху, на которое ты стояла и смотрела, это дождевая вода. Крыша протекает около трубы. Кровельщик Кристен все же недотепа, даром что из обращенных. Кобыла еще не встала?
Ингер. Я думаю, она вот-вот встанет.
Борген (в дверях). Катинка, скажи им, чтобы подсыпали кобыле побольше, и пусть работник присмотрит за свиноматкой, пока я не приду.
Ингер. Ты так мало поспал после обеда…
Борген. Проклятая подагра! Погода меняется. И мне лучше, если я на ногах. Что это? Будем пить кофе в такое время?
Ингер. Сегодня так холодно, дедушка.
Борген. Значит, поэтому будем пить кофе?
Ингер. Да, хотя нет, не совсем. Ты трубку ищешь? Вот, пожалуйста.
Борген. Дай-ка мне сегодня длинную. Но ее надо набить. Ты и это можешь?
Ингер. Я все могу, дедушка.
Борген. Только не можешь рожать мальчиков.
Ингер. Не надо так!
Борген. И еще дай спичку. Спасибо! Ах, Ингер, право слово, ты мастерица варить кофе. Не слишком слабый и не слишком крепкий.
Ингер. Я со временем поняла, какой тебе нравится. Ну вот, теперь я посижу здесь в тепле, и мы за кофе немного поговорим, а потом почищу картошку.
Борген. У нас сегодня картошка на ужин?
Ингер. Да, но сейчас надо немного согреться. Подумать только, новый священник еще не побывал здесь, в Боргенсгоре.
Борген. Он же не грундтвигианец[55].
Ингер. Но ведь и не миссионер[56].
Борген. То есть ни рыба ни мясо.
Ингер. Вечно ты недоволен, дедушка.
Борген. Да, Ингер, и горжусь этим, потому что таким был всю жизнь — всегда недовольным тем, что неправильно. Миккель и Андерс, верно, тростник режут?
Ингер. Да… да. Миккель, он пошел туда, как раз когда ты встал. Однако он хорошо говорит с кафедры.
Борген. Священник — да. Поэтому мы в конце концов и остановились на нем. Мне говорили, что он из тех, кого церковное одеяние возвышает.
Ингер. Что делает?
Борген. Что он становится… что исполнение должности придает ему уверенности. Ну да там видно будет.
Йоханнес (просовывает в дверь голову). Мертвое тело в парадной комнате! Мертвое тело в парадной комнате!
Ингер. Что это он говорит?
Борген. Замолчи, Йоханнес, и закрой дверь.
Йоханнес. Мертвое тело в парадной комнате! И так должен мой Отец прославляться?
Борген. Ладно, ладно. (Закрывает дверь.).
Ингер. Что это он сказал?
Борген. Кто обращает внимание на его слова? Ох, Боргенсгор приходит в упадок.
Ингер. Вот увидишь, дедушка, все будет снова хорошо.
Борген. Йоханнес никогда не станет другим.
Ингер. Почем ты знаешь? И…
Борген. Миккель никогда не станет другим.
Ингер. Как тебе только пришло в голову их сравнивать!
Борген. И Андерс… да ладно!
Ингер. Дедушка, иногда я не понимаю вас, грундтвигианцев. Миккеля я еще как-то могу понять. Но вас…
Борген. А кем ты сама себя считаешь?
Ингер. Я… я себя никем не считаю. Ты ведь знаешь, моему отцу никогда не нравилось, как вы все себя называете. И я в последние годы тоже стала задумываться над этим. Потому что вы, грундтвигианцы…
Борген. Что мы?
Ингер. Мне бы хотелось рассказать тебе, что мне сказала стряпуха Сидсе, после того как вы с ней опять разругались. Сначала ты, конечно, рассердишься, но после это может тебя и позабавить.
Борген. Мне все равно что эта мегера говорит. Она ведь болтает о вещах, в которых ничего не смыслит. Поэтому ей всегда есть, о чем болтать.
Ингер. Да, но часто именно такие люди могут случайно сказать что-то важное. Она ведь страшно на тебя разозлилась. Там в посудомойне она и говорит мне: «Ингер, милочка, Грундтвиг-то сам был человек хороший. Я служила у него в доме, так что я знаю. Но когда Господь создавал Грундтвига, Нечистый стоял рядом и просил разрешения помочь. Нет, сказал Господь, его я сам создам, но ты можешь попробовать создать такого же. И черт стал пробовать, но у него никак не получалось сделать похожего; и чем больше он старался, тем меньше было сходства; вот и все грундтвигианцы такие».
Борген. Вот оно как, значит? Можешь кланяться стряпухе Сидсе от меня и скажи, что, когда старая прабабка Нечистого у своих кастрюль дома увидала, что у него ничего не выходит, она кинулась ему на помощь. Но сумела сделать лишь одно: у нее получилась стряпуха.
Ингер. Но ведь в словах Сидсе что-то есть. Потому что в Доме собраний… да, там Бог живет. Но у себя дома вы часто ведете себя так, словно он умер.
Борген. Ты же знаешь, Ингер, что я больше не верю в чудеса. И ты знаешь, когда для меня все рухнуло.
Ингер. Потому что Бог не услышал тебя, когда ты ночами на коленях молился у постели Йоханнеса.
Борген. Нет, ты ошибаешься. Виноват не Бог, Ингер, а я, мы, люди. Я на коленях молился ради самого дорогого для меня в мире, и я точно знаю, что, если бы я мог молиться, искренне веруя, все бы свершилось. Но я молился в сомнении: «Может быть, Бог все же услышит меня? Всегда ведь стоит попытаться». Нет, Ингер, нет, если отец не может молиться, искренне веруя, хотя он молится о самом дорогом для него, о самой страшной беде, значит, чуду нет места в мире.
Ингер. Разве Господь не может все-таки свершить чудо, дедушка? Разве Господь не могущественнее, чем человеческие сомнения?
Борген. Ингер, знала бы ты, как часто я жажду отправиться в Лурд.
Ингер. А что такое Лурд?
Борген. О, это одно место во Франции.
Ингер. А что там?
Борген. Там, Ингер, как говорят католики, случаются чудеса.
Ингер. В газетах иногда пишут о ком-то, кто творит чудеса и у нас.
Борген. Фантазии все это.
Ингер. Ты всегда так говоришь. Но знаешь, что я думаю?
Борген. И что же?
Ингер. Я думаю, что вокруг нас и теперь незаметно происходит много маленьких чудес, что Господь слышит людские молитвы. Но Он совершает это как бы скрытно, чтобы избежать ненужного шума. Мне кажется, будь иначе, мы не могли бы так молиться Ему, как мы молимся. Чудо вполне может случиться и здесь, дедушка.
Борген. Гм.
Ингер. Дедушка!
Борген. Что?
Ингер. Ты не приведешь сегодня Марен и малышку Ингер домой из школы?
Борген. Конечно, приведу.
Ингер. А подагра?
Борген. Плевать я хотел на подагру. Я же еще не полный калека. Это только когда я лежу да погода меняется, тогда она разыгрывается, вражина.
Ингер. Дедушка!
Борген. Что еще?
Ингер. Ты не думаешь, что Анне может стать Андерсу замечательной женой?
Борген. Гм. Значит, поэтому мы кофе пьем?
Ингер. Нет, не поэтому.
Борген. Давай не будем об этой истории.
Ингер. Как ты можешь быть таким…
Борген. Каким это?
Ингер. Хуторская гордость в тебе говорит, уж это ты отрицать не будешь.
Борген. А почему, во имя всего святого, я должен это отрицать? Старый Миккель Борген, хозяин Боргенсгора, разве нет у него права гордиться своим положением и своим домом? Этим хутором владел до меня мой отец, никому не подчиняясь, свободный и независимый, а до него — его отец, а еще раньше — отец того. Я знаю, что я — девятое поколение в роду хозяев хутора, и не стыжусь, что горд этим.
Ингер. Бабушка всегда говорила: у каждой вещи — две стороны, добрая и дурная. Наверно, и гордость бывает двух видов: когда уважают самих себя и все свое и когда презирают других и все, что связано с другими.
Борген. Я уважаю каждого человека в зависимости от его положения и занятий.
Ингер. Значит, в зависимости от касты — как там у них, в жарких странах.
Борген. Равные друг другу лучше всего между собой ладят.
Ингер. Дедушка, единственное, что важно, когда люди женятся, это, что они любят друг друга.
Борген. Любовь приходит с годами.
Ингер. Ах, дедушка, ты говоришь о вещах, в которых ты… Да, дедушка, милый, я думаю, ты разбираешься во всем на свете, только не в любви.
Борген. Так, так.
Ингер. Ты-то сам был хоть когда-нибудь влюблен?
Борген. Ха-ха! Был ли старый Миккель Борген влюблен! Да, старый Миккель Борген был когда-то молодым Миккелем Боргеном и тогда…
Ингер. Ты действительно был тогда влюблен?
Борген. Раз десять, не меньше.
Ингер. Так я и думала.
Борген. Что ты думала?
Ингер. Я так и думала, что ты никогда не был влюблен.
Борген. Раз уж ты так дерзко расспрашиваешь меня, могу ли и я позволить себе дерзость, дамочка, и поинтересоваться, а ты, кроме Миккеля, никогда не заглядывалась на других парней?
Ингер. Никогда, дедушка, никогда. С тех пор как мне исполнилось двенадцать лет, у меня и в мыслях никого другого не было.
Борген. Вот черт!
Ингер. Да, сам видишь — ты в этом ничего не смыслишь. Потому ты и не понимаешь, что это значит, если Андерс любит Анне.
Борген. Ты снова об этом?
Ингер. И я уверена, что Андерс и Анне любят друг друга так же, как мы с Миккелем. Но разве я могу это тебе объяснить, если ты сам никогда любви не знал? Потому что ты и Марен, ведь это была лишь…
Борген. Ну, договаривай?
Ингер. Это была сделка между хуторами. Ты же сам говорил, что Марен не могла разделять твои инте… твои духовные интересы.
Борген. Послушай-ка, Ингер, Марен ты оставь в покое, она с честью лежит в своей могиле. Марен была мне доброй женой, именно такой, какая была мне нужна. Как ты думаешь, что сталось бы с Боргенсгором, если б не она? Когда я разъезжал по собраниям, она оставалась дома и следила за тем, чтобы батраки работали согласно распоряжениям, что я сделал перед отъездом. Когда я притаскивал домой докладчиков, учителей и священников, она встречала нас хорошей едой и дружеской заботой. Никогда я не видел у нее кислой мины, хотя эти люди ей не нравились, и их разговоров она не понимала. Сорок лет мы прожили вместе, оставались во всем разными, но ни единого дурного слова друг другу не сказали. Она любила меня, а я чтил и уважал ее такой, какой она была. Конечно, я хорошо разбирался в одних делах, а она, черт побери, хорошо смыслила в других. Да, иногда мне бывает немного обидно за Марфу: ведь еда была им тоже нужна? Мне кажется, Бог-отец правильно поставил Марфу рядом с Марией, но Бог-сын мог бы воздержаться от порицания[57].
Ингер. Дедушка, ты уже и Им недоволен?
Борген. Честно говоря, Ингер, случаются минуты уныния, когда я недоволен всем и всеми, даже… чуть не сказал, самим Господом.
Ингер. Дедушка, если ты обещаешь порадоваться тому, что Андерс и Анне будут вместе, тогда я обещаю тебе кое-что, чему ты действительно обрадуешься.
Борген. И что же это?
Ингер. В воскресенье ты получишь на обед жареного угря.
Борген. Это, конечно, заманчиво.
Ингер. И… и… тогда на этот раз будет мальчик. Теперь ты доволен? Порадуешься?
Борген. Ха-ха, тебе легко обещать…
Ингер. Так ты согласен?
Борген. Давай не будем больше обсуждать это.
Ингер. Нет, давай обсудим.
Борген. Все эти споры вредны в твоем положении.
Ингер. Ах, и это еще! Нет, как раз ради моего положения мы и должны все обсудить.
Борген. Ты слишком много над этим раздумываешь, Ингер. Перестань. Вот увидишь, Андерс выбросит из головы все глупости, и мы спокойно найдем ему девушку, которая может…
Ингер. Как ты не хочешь понять! Я тебе скажу начистоту: Андерс сейчас вовсе не с Миккелем на льду.
Борген. Андерс не там? Где же он тогда?
Ингер. Он решил… проехаться на велосипеде.
Борген. На велосипеде! Сегодня? Проехаться? В понедельник! Куда же?.. Ах, так!
Ингер. Да, дедушка.
Борген. Вот как. Так, так. Поэтому-то мы и пили кофе.
Ингер. Да, дедушка, поэтому. Послушай, когда он…
Борген. Значит, он уехал на болото?
Ингер. Да, и когда он вернется, ты постараешься казаться радостным, слышишь? И ты возьмешь меня под руку, и мы вдвоем встретим его в дверях и скажем: «Поздравляем, Андерс!», хорошо?
Борген. Гм! Так Петер-Портняжка заполучит сегодня зятя.
Ингер. А старый Миккель Борген получит невестку, милую, добрую, тихую, благочестивую, молодую…
Борген. Я об этом не просил.
Ингер. Дедушка, ты поступишь так, как я сказала, ты пожмешь его руку и скажешь: «Поздравляю, Андерс». Если ты не хочешь сделать это ради своего сына, ради его счастья, ради тебя самого и во имя твоего Бога, сделай это ради меня, слышишь, и ради моего… ради твоего внука, что у меня под сердцем.
Борген. Ничто на свете не заставит старого Миккеля Боргена изменить самому себе. Значит, Андерс поехал… ничего не сказав мне… и ты знала… и смолчала. Сговорились, мои родные дети сговорились, за моей спиной… нет, это уж слишком…
Ингер. Дедушка, куда ты?
Борген. Что, я должен отчитываться? Ведь вы не говорите мне, куда отправляетесь. А я, по-вашему, должен?.. (Выходит.).
Ингер. Дедушка! Из дома! В такой холод! И даже без шарфа! Дедушка, послушай! Дедушка! (Убегает вслед за ним.).
Йоханнес (входит, берет печены, сжимает в горсти, крошит). Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. Ибо здесь нет ничего лишнего… Войдите.
Пастор Банбуль (входит). Да, я только хотел… раз уж я шел мимо…
Йоханнес. Господь да пребудет с тобой.
Пастор. Что вы сказали?
Йоханнес. Господь да пребудет с тобой.
Пастор. Спасибо! Большое спасибо! Вы меня знаете, как я понимаю. Благодарю за то, что вы приветствуете мою деятельность здесь. Спасибо! Но, простите, я ведь вас не знаю.
Йоханнес. Гм! Ты не знаешь меня?
Пастор. Да, простите! Я ведь здесь недавно, еще не побывал во многих домах. Вы здесь, может быть, работаете? Может быть, вы сын хозяина?
Йоханнес. Я — каменщик.
Пастор. Вот как! Это доброе дело — строить дома для людей.
Йоханнес. Но они не хотят в них жить.
Пастор. Не хотят? Ах да, сейчас с деньгами плохо. Я это по себе знаю, а мы ведь живем по-спартански, право же, в самом деле по-спартански — экономно.
Йоханнес. Они хотят сами строить. А строить не умеют. Непостижимо! Если им нужна обувь, они идут к сапожнику, если им нужна одежда, идут к портному. Но если им нужны дома, где жить, они не приходят ко мне — желают строить сами, хотя не умеют. И поэтому одни живут в недостроенных хижинах, другие — в развалинах, а большинство бродит бездомными.
Пастор. Простите, господин… господин Борген, я вас не разумею, я не совсем понимаю. Ваша речь — она так двусмысленна, выбор слов… так странен, что я едва ли понимаю, шутите вы или говорите серьезно.
Йоханнес. Значит, ты, видно, тоже из тех бездомных, из тех, кому нужен дом.
Пастор. Так я и думал! Весь наш разговор — сплошное недоразумение. Значит, вы меня все же не знаете: я — священник, ваш новый священник.
Йоханнес. A-а! Ибо написано: человек живет не хлебом единым, но каждым словом, что исходит из уст Бога.
Пастор. Да… но раз уж я проходил мимо Боргенсгора, то решил заглянуть.
Йоханнес. И еще написано: ты не должен искушать Господа твоего Бога.
Пастор. Что вы хотите этим сказать?
Йоханнес. Отойди от меня, Сатана, ибо написано: «Ты должен поклоняться лишь Господу твоему Богу и служить только Ему».
Пастор. Послушайте! Вы что, издеваетесь надо мной? Прошу вас объясниться, или же, извините, я уйду.
Йоханнес. Видите, все правильно. Тогда оставляет его Дьявол, но… ангелы… Где же ангелы?
Пастор. Кто вы такой? Вы член какой-то секты? Мормоны? Кто же вы? Если вы не уважаете меня как священника, разве нельзя нам поговорить просто как людям? Быть может, вы вовсе не сын хозяина хутора или вы вообще не из этого прихода, тогда простите. Но кто же вы тогда? Мое имя — пастор Банбуль.
Йоханнес. Мое имя — Иисус из Назарета.
Пастор. Нет, послушайте…. или… да, да… ох, нет, нет!
Йоханнес. И если ты трудился и чем-то омрачен, тогда прийди, ибо я дам тебе покой. Если же нет, то иди в мир, и трудись, и возвращайся после.
Пастор. Друг мой, вы ошибаетесь. Вы не Иисус. Вы сын Миккеля Боргена из Боргенсгора.
Йоханнес. Правильно! Так и считали: сын Иосифов, сын Элиев, сын Матфатов, сын Левиин, сын Мелхиев, сын Ианнаев…[58].
Пастор. Вы знаете, что вы безумец?
Йоханнес. Да.
Пастор. Вот как?
Йоханнес. А ты? Ты знаешь, что ты безумец?
Пастор. Нет.
Йоханнес. Вот видишь. Я знаю больше, чем ты. Смотри, твой зонтик у тебя за спиной — я превратил его в змею. А ты даже не обернулся. Ты так упорствуешь в своем неверии, ты, служитель веры. Ты веришь в мои чудеса, сотворенные две тысячи лет тому назад, но не веришь в меня теперешнего. Почему ты веришь в мертвого Христа, но не веришь в живого? Услышав, что ты священник, я принял тебя за Сатану, но ты просто заблудший человек, как все остальные. Ах, со мной случилось то, чего я страшился больше всего: когда Сын Божий возвратился, он не нашел на земле веры.
Пастор. Чем вы докажете, что вы. — И… и… что вы Тот, кем зовете себя?
Йоханнес. И ты служитель веры?! Служитель веры, который просит доказательств?! То, что я Христос, как и тогда, доказывают свидетельства и чудеса.
Пастор. Вы творите чудеса?
Йоханнес. Я превратил твой зонтик в змею, а ты не захотел даже обернуться. Как сделать слепых зрячими, если они зажмуривают глаза?
Пастор. А каковы же свидетельства?
Йоханнес. Те же, что и тогда: что Дух всемогущ, что Отец мой небесный превыше всего.
Пастор. Да, это мы знаем.
Йоханнес. Это и рождает отчаяние: вы просто знаете, а вы должны в это верить. Поэтому я и вернулся. Вы признаёте всемогущество Бога, но вы не верите в Него, из-за этого умирает ваша радость и чахнет ваша молитва.
Пастор. Вы не творите чудес, потому что чудес не происходит. Бог не нарушает данных слов, своего миропорядка, законов природы, своего вечного плана. Так говорится и в Писании: «Бог — Бог порядка, а не хаоса».
Йоханнес. И так говорит моя Церковь на земле! Когда я странствовал здесь в первый раз, я шел от чуда к чуду, чтобы воскресить на глазах у людей всемогущество воспринимаемой любви. Я шел моим путем чудес, чтобы научить вас свободно молиться и смело верить, чтобы достичь жизни во блаженстве. Горе тебе, моя Церковь, тебе, что изменила мне, убила меня моим же именем. Я устал от твоих восхвалений, от твоих поцелуев ценой в тридцать сребреников. И я вижу, какое ничтожное место вы отводите Духу, вы, поколения во прахе. Так называйте же меня безумцем, ибо любовь моя больше моей усталости, вера моя сильнее моих прозрений. Поэтому испросил я у моего Отца позволения еще раз посетить падшую землю. Смотрите, вот я стою, и вновь вы, мои ближние, отвергаете меня. Вы хотите жить в словах, а не в деяниях, в пустых свидетельствах, а не в полноте жизни. Но если вы вновь пригвоздите меня к кресту и на этот раз, то горе вам, горе тебе, ты, Церковь Каифы и Иуды, горе тебе, род, что не видит, даже не смеет испрашивать Знака! Коразин и Вифсаиду[59] постигла в день суда лучшая участь, чем та, что постигнет тебя! (Уходит.).
Пастор. Но это же просто ужасно. Почему они его не запрут?
Миккель (входит). Добрый день, господин пастор, и добро пожаловать в Боргенсгор! Да, я старший сын хозяина хутора, Миккель Борген.
Пастор. Вот как? Спасибо, большое спасибо!
Миккель. Садитесь, пожалуйста. Я был внизу, у фьорда, и резал тростник, когда увидел, что вы входите. А через минуту я заметил, что моя жена и отец вышли через кухонную дверь. Не желаете ли закурить?
Пастор. Большое спасибо.
Миккель. Они пошли в сторону школы, я думаю, за девочками. Вот я и поспешил домой, на случай, если вы никого не застанете. Но на это потребовалось время — ведь я шел от самого фьорда. Надеюсь, вам не пришлось меня долго ждать. Вы кого-нибудь из служанок видели?
Пастор. Служанок — нет, не видел. Зато я видел… это ведь ваш брат?
Миккель. Вы говорили с Йоханнесом? Он вам не нагрубил?
Пастор. Ах нет, собственно, вовсе нет. Это должно быть тяжко для вас, особенно для вашего старика-отца. Он что — с рождения такой… такой слегка…
Миккель. Мы не любим говорить об этом, но вам… вам ведь следует знать… Нет, не с рождения, ему было около двадцати пяти, когда это случилось.
Пастор. Надо же, надо же. Господь испытывает нас, воистину Господь нас испытывает.
Миккель. Да, так говорится.
Пастор. Подумать только, двадцать пять лет! Это что — из-за любви?
Миккель. Нет, из-за Бьёрнсона[60].
Пастор. Что вы говорите?
Миккель. Из-за Бьёрнсона и Сёрена Киркегора. Он ведь изучал теологию, Йоханнес. У него были необыкновенные способности — вот отец и думал… И сначала все шло гладко. Люди сбегались в церковь, когда он еще молоденьким студентом читал проповеди здесь во время каникул. Вам что-то нужно?
Пастор. Да, извините, прошу прощения… но… простите, может быть… пепельницу?
Миккель. Вот, пожалуйста. Простите, господин пастор.
Пастор. Спасибо большое! Благодарю! А потом все переменилось?
Миккель. Он стал часто о чем-то задумываться и словно сомневался в чем-то, после того как начитался этих двоих, особенно «Свыше сил» Бьёрнсона.
Пастор. Просто невероятно! «Свыше сил»! Это устаревшее произведение.
Миккель. Потом он обручился. Отец этому не слишком обрадовался.
Пастор. Не обрадовался?
Миккель. Отец считал, что Йоханнес не так должен добиваться признания.
Пастор. Признания?
Миккель. Да, вы понимаете.
Пастор. Честно говоря, нет. Ах, он должен был добиться признания. Ваш отец, видно, многого ждал от него. И что же сын — добился?
Миккель. Как они были счастливы, эти двое! Должен сказать вам, господин пастор, в нашей семье браки всегда счастливые. Вы бы видели их, когда они во время каникул вместе прогуливались здесь, на хуторе! Казалось, будто слышится пение первого жаворонка. А вы знаете, что бывает потом?
Пастор. Когда потом?
Миккель. Когда запоет первый жаворонок?
Пастор. Да, тогда приходит весна.
Миккель. Нет, господин пастор, приходят снег и морозы, и жаворонки замерзают на лету.
Пастор. А кто… с вашего позволения, чьей дочерью была эта юная дама? Она была из здешних мест?
Миккель. Она была дочерью судьи Гольшёта.
Пастор. Вот как, Гольшёта! Я его знаю. У него была дочь, Агата, которая трагически погибла.
Миккель. Да, это была Агата.
Пастор. Она, я помню, была обручена с каким-то теологом. Подумать только, с вашим братом! Нет, как это интерес… как это ужасно. Подумать только!
Миккель. Они были вместе в театре, который называется «Театр Бетти Нансен» и находится, говорят, на окраине Копенгагена, — я сам там никогда не был. Смотрели они как раз «Свыше сил». И Йоханнес был, видно, не в себе, когда они шли домой. Во всяком случае, он в рассеянности шагнул прямо под автомобиль.
Пастор. И тогда она оттолкнула его. Теперь вспоминаю.
Миккель. И тем спасла его. А сама погибла.
Пастор. И его бедная голова этого не выдержала?! Ужасно! Ужасно!
Миккель. А ночью, когда она уже лежала в гробу, ее родители проснулись, услышав крики. Он стоял там, тряс ее и приказывал ей именем Иисуса восстать. И тогда они… Тихо, кажется, вернулся отец. Так что не стоит… мы сделаем вид…
Борген (входит). Здравствуйте, господин пастор! Добро пожаловать в Боргенсгор!
Пастор. Спасибо, большое спасибо! Да, лучше поздно, чем никогда.
Ингер (входит). Здравствуйте и добро пожаловать! Да, я…
Пастор. Я вас знаю, видел в церкви.
Ингер. Подойдите и поздоровайтесь. Это Марен, ей семь лет, и малышка Ингер, ей пять.
Пастор. Какие милые детки. У вас только эти двое?
Миккель. Пока, да. Но будет…
Ингер. Ну, Миккель!
Пастор. С Божьей помощью будет. Маленькая Ингер еще слишком мала, чтобы ходить в школу. Дети — это истинное благословение, не так ли, Борген?
Борген. Совершенно верно.
Пастор. Я тут поговорил с… я видел вашего другого сына, да, это тяжко. Но для нас, христиан, даже такое несчастье может стать благословением.
Борген. Истинно так.
Пастор. И ведь у вас еще трое, кроме него?
Миккель. Двое.
Пастор. Да, двое, как я и слышал, и оба здоровые. Они ведь вам только радость приносят?
Борген. Именно так.
Пастор. И милые внучки, и преданная невестка.
Борген. Лучше и быть не может.
Пастор. У вас все же есть, за что быть благодарным.
Борген. Да, есть.
Малышка Ингер. Отпусти меня, мама, отпусти!
Ингер. Ну что ты, маленькая, не бойся, чужой человек очень добрый.
Пастор. Это ведь большое счастье жить с такими хорошими и милыми людьми.
Борген. Хутор принадлежит мне.
Пастор. Вам? Ну конечно же, вам! И вы ведь совсем не старый человек.
Борген. Всего семьдесят пять.
Пастор. Да, это ведь не… Всего семьдесят пять… значит, у вас впереди еще много добрых лет.
Ингер. Сейчас будет чашечка кофе, господин пастор.
Пастор. О, спасибо, если позволите, в другой раз. Спасибо большое! Я немного устал и хочу домой.
Миккель. Нельзя же уйти без угощения.
Пастор. А сигара, мой милый, сигара!
Борген. В Боргенсгоре вам всегда рады.
Пастор. Благодарю за добрые слова, Борген. Я воспринимаю их в совершенно буквальном смысле.
Борген. И воспринимайте их в том же духе, в каком они были сказаны.
Пастор. Но это не совсем по-грундтвигиански, хе-хе. Ну, до свидания! Да будет мир Божий над этим хутором!
Борген. Спасибо! Прощайте и спасибо за посещение!
Пастор. Вам спасибо! Прощайте.
Остальные. Прощайте.
Пастор. Прощай, дружок.
Малышка Ингер. Мама!
Ингер. Ну что ты, такая большая девочка! Тебе и правда еще рано ходить в школу, если ты такая трусиха.
Пастор. Со временем мы подружимся.
Миккель. Будем надеяться.
Пастор уходит.
Марен. Какая она трусиха. Его нечего бояться.
Миккель. Какой вежливый и любезный человек.
Борген. Ему государство платит за это пять тысяч в год. Ха! Этакий каплун!
Ингер. Ну, девочки, идите на кухню, там вам приготовлена еда. Глядите-ка, он зонтик раскрыл, а снег-то почти не идет.
Борген. Да, у Иссаи, или еще где-то, сказано, что над всем чтимым должен быть покров. Андерс вернулся?
Миккель. Нет, отец, но, верно, скоро придет.
Борген. Девяносто тысяч — за меньшее я не продам.
Миккель. Что ты такое говоришь?
Ингер. Ах, Миккель, у твоего отца появилась дикая мысль — продать хутор. Из-за Андерса.
Миккель. Отец, я не понимаю, как ты только можешь говорить такую чепуху.
Борген. Чепуху?
Миккель. Наш родовой хутор! И тебе не стыдно давать волю скверному настроению?
Борген. А ты хочешь его получить? Видишь, Ингер, он молчит. И правильно делает. Когда же вы поймете? Когда? Если я потеряю Андерса, то потеряю все. Я не сказал тебе ничего, Миккель, в тот день, когда я по твоим глазам понял, что ты не разделяешь веры своего отца. Что у тебя вообще нет веры. Мне стало так больно, что просто сердце сжалось. Но я промолчал. Я пытался понять. Ты видел, что значит христианство в этом доме: я был занят песнопениями, речами, организацией празднеств, а твоя мать выполняла всю тяжелую, грязную работу… Тогда я думал: «Бог милостив, он изменится, он ведь еще так молод, настанет день…» Но шли годы, а этот день все не наступал, потому что чудес в наше время не бывает. И мне пришлось взглянуть правде в глаза — ты, мой старший сын, ты не будешь хозяином хутора. Я видел, как тебе не по душе притворство, ведь все вокруг думали, что ты — один из наших. И я пообещал себе втайне, что разрешу тете уйти, потому что мы, из Боргенсгора, с давних времен привыкли иметь право быть самими собой.
Миккель. И тогда ты позвонил в Яйтруп и спросил, не продается ли Мёллегорен.
Борген. Так ты знал об этом?! Да, мой мальчик, я сделал это, и он будет продаваться через полтора года.
Миккель. Ты все предусмотрел, отец.
Ингер. Вы хотите выгнать меня из Боргенсгора, вы оба?
Борген. Поэтому мне было так тяжело в тот день, Ингер, так ужасно тяжело в тот день, когда вы с Миккелем пришли и сказали, что обручились.
Ингер. Тяжело?
Борген. Я твой крестный, я знаю тебя с тех пор, когда ты была еще совсем маленькой. Я знал, что ты станешь прекрасной хозяйкой Боргенсгора, ты — Марфа и Мария в одном лице. И ты меня не разочаровала. Ты была лучше, чем Марен, большей хвалы я не могу тебе воздать.
Ингер. Но тогда я не понимаю, почему для тебя таким ужасным несчастьем стало мое обручение с твоим сыном.
Борген. Обручение не с тем моим сыном, Ингер. Ведь теперь унаследовать хутор должен будет Андерс.
Миккель. Гм, гм!
Ингер. Нет, послушай! Ты захотел помочь уже и самому Господу распоряжаться.
Борген. Вот я и наказан. Теперь о хуторе, Миккель. Ты знаешь, говорят, на этом месте в древние времена стоял Королевский замок. И я сделал его духовным Королевским замком нашего прихода, надеясь, что и при тебе он им останется. Этому не суждено было сбыться, и я понял почему, когда увидел способности Йоханнеса. Здесь должен быть духовный Королевский замок не только этого прихода, но всей страны. Здесь должна была вновь воспылать искра в час Божий. Человек, приносящий ром — ты знаешь, я всегда о нем толкую, — должен явиться из Боргенсгора. Такие гордые, исполненные полета мечты были у меня. И вот крылья сломаны! Я надеялся, что он поправится, но этого не будет: времена чудес миновали.
Ингер. Но, дедушка, милый, если Миккель и я не можем остаться здесь навсегда, тогда самое лучшее — чтобы Андерс женился.
Борген. Конечно, Андерс должен жениться, это ясно, как день.
Ингер. И маловероятно, что я овдовею.
Борген. Как вы не понимаете: дело не в том, что Петер — портной, дело вовсе в другом! Думаешь, я не знаю Андерса? Он добрый, слабый, легко поддается влиянию. Ему нужна жена нашей веры, моей, веры моего хутора. Боргенсгор — оплот Грундтвига в этом краю; всю свою жизнь я боролся за дело Грундтвига, сперва четверть века против духовной мертвечины рационализма, потом еще четверть века против пиетизма, презирающего Дух. Моя мечта сохранить этот хутор, как духовный Королевский замок прихода погибла, погибла и моя мечта увидеть его Королевским замком духовной жизни всей Дании. А чтобы он стал Королевским замком поругания Духа, я не желаю. Поэтому я продам Боргенсгор.
Миккель. Отец боится Миссии.
Борген. Боится?
Миккель. И поэтому прибегает к крайним мерам, грозит продажей.
Ингер. Миккель!
Борген. Придержи свой язык, Миккель!
Ингер. Тише, тише! Ты совсем не понял отца, Миккель. Тихо, вы же не хотите… О, Боже, он идет.
Борген. Ну, ты ходил тростник резать?
Андерс (входит). Нет, отец, я был…
Борген. Да, да, там. Что ж, поздравляю.
Андерс. Ооо!
Борген. Что такое? Что ты ревешь?
Андерс. Он сказал «нет», отец, он сказал «нет».
Борген. Кто сказал «нет»?
Миккель. О чем ты?
Ингер. Что случилось, Андерс?
Андерс. Петер-Портной наотрез отказал. Я пробыл там больше часа — его ничем было не убедить. А потом он меня выгнал, потому что… там будет собрание.
Борген. Не понимаю — выгнал? Собрание? Петер-Портной сказал «нет»? Анне не отдадут за тебя?
Андерс. Об этом и речи быть не может.
Борген. И речи быть не может? А ты? Ты это стерпел, ты, сын хозяина Боргенсгора! Приходишь домой и ревешь, как мальчишка, которого выпороли!
Андерс. А что мне было делать, если вы оба не разрешаете? Если это совершенно безнадежно.
Борген. А что сказала Анне?
Андерс. Ей даже не позволили войти.
Борген. Нет, только послушайте! Петер-Портной, тоже мне кузнец Бергтор[61]! И почему, смею спросить? А ты даже не осмелился узнать, почему тебе нельзя на ней жениться?
Андерс. Потому что… потому что я не обращен.
Борген. Вот как. Поэтому, значит. Мы, из Боргенсгора, значит, недостаточно хороши для Петера-Портного. Мы слишком ничтожны, чтобы породниться с ним? Мы недостойны такой высокой чести. Черт подери! Мы, значит, язычники и мусульмане, тут, в Боргенсгоре. Черт побери, говорю! Нами, видите ли, можно в темноте детишек пугать. Так значит. Хотел бы я знать… хотел бы знать, посмел бы этот господин заявить такое мне! Гм, скажи мне, Андерс, у вас с Анне на самом деле все серьезно, вы с Анне хотите пожениться?
Андерс. Разве иначе я позволил бы себя выгнать?
Борген. Ну наконец, хоть какой-то ответ. И все равно это глупо. Значит, у вас все серьезно, Андерс?
Андерс. Да, а что толку?
Борген. Сын хозяина Боргенсгора не спрашивает, что толку? Не бывает безнадежного положения, если человек что-то твердо решил, и то, чего он хочет, — благое дело. Не бывает, понял? Миккель!
Миккель. Да, отец.
Борген. Запрягай гнедых в сани, а ты, Ингер, принеси мою куртку.
Андерс. Отец!
Борген. Положи в сани что-нибудь укрыть ноги и тоже одевайся.
Андерс. Ты самый замечательный отец на свете.
Борген. Напульсники — здесь. Насыпь побольше овса в торбы. Я ему… я ему, черт возьми… Какого дьявола, что он о себе вообразил? Шарф — спасибо! И рукавицы — спасибо. Ты ничего не забудешь, Ингер. Чистый носовой… — спасибо, ты догадываешься прежде, чем я успею сказать, девочка. Ты уже хорошо знаешь Миккеля Боргена. Да, Миккель! Возьмите и порубите солому, что под навесом, у лестницы. Дайте кобыле полведра чуть теплой воды, когда она поднимется. Пусть кто-нибудь посматривает за свиноматкой. И чтоб дома все было в порядке. Ну, с Богом! (Выходит.).
Ингер. И вы еще говорите, что время чудес прошло!
II
Дом Петера-Портного.
В комнате с низким потолком сидят несколько мужчин и женщин.
Петер (стоя у двери, произносит речь). Ибо мы, братья и сестры, искуплены Христом от власти Сатаны и ада. И мы — царственные священнослужители и святые люди, как написано в первом письме Петра. И мы не водимся с неверящими, с детьми суетного мира, ибо они должны жить каждый под своим виноградным кустом, под своим фиговым деревом, как сказано у пророка Михея. И к новому священнику мы не пойдем, друзья, ибо он неверящий человек, в грехе и сомнениях. В прошлое воскресенье он сказал, что не знает, было ли чудо с дочерью Иаира; но в притчах Соломоновых сказано: «Нет мудрости, и нет разума, и нет света вопреки Господу». И пусть все ученые мужи кричат, и вопят, и кривляются сколько угодно, но у Даниила есть словечко о том, как Бог послал своего ангела и запер пасти львам, чтобы они не причинили никому вреда. А мы, чада Божьи, омытые кровью Агнца, знаем, что Господь творит свои чудесные деяния среди нас и по сей день. Разве это не великое чудо, что ты, Метте Мария, можешь сидеть здесь, уверовав в вечное блаженство? Разве это не чудо, кровельщик Кристен, что Господь привел тебя к обращению и ты вручил Ему всю свою волю? Разве это не чудо, что я, заблудший и пропащий грешник, могу стоять здесь как благочестивый человек и свидетельствовать перед вами, братья и сестры, подумать только, что Господь мог сотворить нечто доброе из такого, как я. Разве это не прекрасно, разве не восхитительно, разве не благословенно? Слава и хвала такому Богу, друзья. Так помолимся во имя Иисуса: благодарим Тебя, милый Боже, благодарим за то, что Ты в милосердии своем смирился с тяжкими страданиями Твоего невинного сына, с его смертью на кресте ради нас, грешников. Милый Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сквозь единственные узкие врата Обращения провел нас к спасению. Благодарим Тебя, о Господи, за то, что Ты благославляешь нас, остерегаешь от танцев, сквернословия и карточной игры и от всех поганых игрищ, как сказано у Исаи. Благодарим Тебя, наш Боже, за то, что Ты удостаиваешь нас подвергаться насмешкам и презрению во имя Твое, как подвергался им Ты сам, — это большая честь для нас. За то, что учишь нас печалиться о всех тех, кто движется к зияющей пропасти и к немыслимым мукам ада, коим никогда не будет конца. Веди же нас, милый Боже, из долины скорби здесь, внизу, к золотым престолам в небесах и поставь нас в белых одеяниях и с пальмовыми ветвями в руках пред ликом Твоим среди десятков тысяч признанных Агнцем, и тогда споем мы… Войдите!
Борген (входит). Добрый вечер.
Петер. Добрый вечер, Миккель, и добро пожаловать на наше собрание.
Борген. Я пришел не на ваше собрание. Я пришел поговорить с тобой.
Петер. И это я тоже приветствую. Входи, пожалуйста. Наше маленькое собрание скоро закончится. Ты приехал в санях, Миккель?
Борген. Да, Андерс там с лошадьми.
Петер (выглядывает наружу). Андерс, слушай, Андерс, на гумне есть место, поставь туда лошадей, а сам иди сюда, в тепло. Миккель, сними верхнюю одежду, пожалуйста, и садись.
Борген. Добрый вечер.
Остальные. Добрый вечер, Миккель, добрый вечер.
Петер. Мы только выслушаем напоследок небольшое свидетельство Метте Марии. Пожалуйста, Метте Мария.
Метте Мария. Я только скажу, что хотела бы, чтобы каждый из вас тоже пришел к Господу, как я, потому что это хорошо. Все было по-другому, пока я жила во грехе, потому что тогда я была самым жалким человеком, меня угнетали и тяготили мои грехи. А потом я была обращена, накануне Михайлова дня, когда здесь читал проповедь пастор Захариасен из Тю. Там были слова из Библии: «Умолкни перед лицом Господа Бога, ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать». И теперь я самый счастливый человек на свете и восхваляю и благодарю Господа. Вот это я и хотела сказать.
Петер. Это было хорошее свидетельство. Как было бы чудесно, если бы многие души поступили так же. Споем же номер 13.
Грешник, уши не смей затыкать. Божьему Агнцу ты должен внимать. Он, милосердия полон, взывает: «Приди! Мир и покой обрети У меня на груди!» О! Обратись! Спасенье прими, спеши, к нам приди! Грешник, страшись! Суд Божий ждет впереди! Грешник, отринь злое упрямство свое, Встать супротив Сатаны всех мы зовем. У подножья Креста место тебе найдут. Каждого грешника тут С упованием ждут. Да! Обратись! Спасенье прими, спеши, к нам приди! Грешник, страшись! Суд Божий ждет впереди! Радость мирская — досада и стыд без прикрас. Жизнь вся мирская — пустое «сейчас». Жизни начало — страданье для нас. Жизни конец — расплата: Ужас и мрак ада! Обратись! Обратись! Спасенье прими, спеши, к нам приди! Грешник, страшись! Суд Божий ждет впереди! С Иисусом нам радость — светлое счастье, С Иисусом нам жизнь — святое блаженство. Жизни начало — Его милосердье. Жизни конец земной Мир и вечный покой! Приди! Обратись! С Иисусом нас Суд не страшит. Все собрались, Суда приговор нам спасенье дарит![62]Ну, спокойной ночи, братья и сестры. Мы встретимся снова, во имя Иисуса, если Богу будет угодно, через восемь дней в приюте для бедных. Здравствуй еще раз, Андерс, и добро пожаловать. Садись, пожалуйста. Кристине, ты кофейку сделаешь?
Кристине. Вы подождете пока?
Борген. Можно.
Петер. Ужасный холод, да и ветер.
Кристине. Тогда сейчас приготовлю.
Петер. Ты трубку не набьёшь, Миккель?
Борген. И это можно.
Петер. А ты, Андерс?
Андерс. Спасибо, она еще курится.
Борген. Свинина дорожает, Петер.
Петер. Да, зато яйца вчера упали в цене.
Борген. Правда? У тебя много кур, Петер?
Петер. О да, думаю, столько же, сколько у тебя свиней. Борген. Ты ведь знаешь, Петер, зачем мы пришли.
Петер. Думается, нетрудно догадаться.
Борген. А куда ты Анне подевал? Я видел, она была здесь, на собрании.
Петер. Она, верно, помогает матери на кухне.
Борген. Она ведь придет сюда?
Петер. Не думаю.
Борген. Вот как? И почему же?
Петер. О, я сказал ей, Миккель, чтобы она лучше не приходила. Я думаю, ей легче будет идти путем Господа, если они с Андерсом не будут слишком часто видеться.
Андерс. Вот слышишь, отец.
Борген. Как ни странно, Петер, но тут я с тобой согласен.
Петер. Хе-хе, такое не часто бывает.
Борген. Потому что я тоже всегда знал, что путь Господен их не соединит.
Петер. Ну, это не так уж и странно.
Борген. Почему же?
Петер. Потому что ты — Миккель Борген, а я — Петер-Портной.
Борген. Гм.
Петер. Вот видишь.
Борген. Это различие навряд ли имеет отношение к путям Господним.
Петер. Оно и не имеет. Но, как и следовало ожидать, мне легче его увидеть, чем тебе. А вот и кофе, Миккель.
Кристине. Садитесь, пожалуйста, к столу.
Борген. Если Анне не придет сюда, я не сяду.
Кристине. Она может с вами поздороваться. Анне, иди сюда и поздоровайся.
Анне входит.
Борген. Добрый вечер, Анне.
Анне. Добрый вечер.
Андерс. Добрый вечер, Анне.
Анне. Добрый вечер, Андерс.
Петер. Теперь тебе, наверно, лучше снова уйти.
Борген. Пусть она останется.
Кристине. Иди на кухню, подкинь дров под котлом и жди, пока вода закипит.
Анне. Хорошо. (Выходит.).
Борген. Гм, Андерс, ты можешь попить кофе и на кухне.
Андерс. Да, да, конечно могу… если… если вы не против, Кристине и Петер.
Борген. Ты мог бы обойтись и без их разрешения.
Кристине. Давайте мы втроем выпьем кофе там. Раз уж ты тут распоряжаешься. (Выходит вместе с Андерсом.).
Петер. Ты, кажется, изменил свое мнение о пути Господнем, Миккель.
Борген. Я скажу тебе честно и открыто, Петер, как все случилось. Произошло это меньше двух часов назад. Вначале я был в ярости; разозлился, словно нехристь, когда Андерс вернулся домой и рассказал, как ты с ним обошелся. Разозлился страшно, как и тогда, когда узнал, что он отправился на велосипеде сюда. Но потом, сидя в санях, я все взвесил и попытался взглянуть на это дело и с твоей стороны тоже. И теперь я могу понять, что и тебе придется чем-то пожертвовать. Но давай пойдем на это, Петер. Наши разногласия, твои и мои, не должны сказываться на наших детях. Как христиане, мы должны ведь жертвовать чем-то своим, чтобы радовать других.
Петер. Жертвовать своим — да, Миккель, мы должны. И именно так я и поступаю, говоря «нет». Потому что пожертвовать душой моей дочери я не имею никакого права.
Борген. Пожертвовать душой Анне? Что ты имеешь в виду?
Петер. Будь вы вольнодумцами или язычниками, Миккель, мне было бы легче согласиться. Потому что сбить Анне с пути Господня, было бы не так просто. Но соблазнить человека и ввести в заблуждение — легче.
Борген. Кто же собирается ее соблазнить и ввести в заблуждение?
Петер. Предложи вы ей игры, и танцы, и музыку вместо Господа, она знала бы, что это дело рук Сатаны, и остереглась бы, но вы, предлагая ей все это, позволяете, как вы считаете, сохранить и Господа. Такое может смутить маленькую, добрую… Наверно, мне не следовало бы говорить так о собственном ребенке, но если бы я не знал из Писания, что все люди грешны и не всегда достаточно чтут Бога, и еще не помнил бы про первородный грех, то я поверил бы, что наша Анне чиста, как Божий ангел. Но так думать о собственном ребенке, означает, конечно, впасть в грех гордыни.
Борген. Не знаю, грех ли это.
Петер. Мне кажется, она была так… прекрасна, уже когда родилась, Миккель, а с годами стала еще лучше. Мы ничем не заслужили того, что Господь доверил нам такое сокровище. Кристине не заслужила. Да и я тоже. Разве ты не понимаешь, что если кого-нибудь очень сильно любишь, то не можешь подвергнуть… нет, что пользы в этом разговоре, Миккель, тебе ведь меня не понять.
Борген. А тебе не понять меня.
Петер. Нет, тебя я понять могу, ведь когда-то я сам был таким, как ты.
Борген. Но тебе этого было мало. Ты вооружился и начал действовать.
Петер. Да, Миккель, ты прав: мне этого было мало.
Борген. Ты тоже прав: я вас не понимаю, и чем дольше живу, тем меньше понимаю. Этот приход, этот приход, где свет учения Грундтвига сиял на протяжении нескольких поколений… а вы теперь бежите во мрак Миссии. Нет, Петер, не бойся, я не скажу ничего дурного о Миссии, хотя… хотя… Нет, не скажу.
Петер. Разве смиренное свидетельство Метте Марии не показалось тебе, Миккель, прекрасным и возвышающим душу?
Борген. Я не терплю людей, которые перекатывают имя Божие во рту, словно табачную жвачку. Ну да ладно… ладно! Вы, верно, такие же добрые христиане, как мы, такие же добрые, хотя… но ладно, ладно. Я вынужден уважать ваши взгляды. Но вас самих, черт возьми, терпеть не могу.
Петер. Что же в нас есть такое, чего ты терпеть не можешь, Миккель?
Борген. Все. Все. Миссию и грундтвигианство называют двумя разными направлениями в христианстве, нет, это две разные религии. Для нас Бог — Создатель и Отец, а вы делаете Бога председателем какой-то партии. Вы оскверняете моего Бога, Бога света, и жизни, и многообразия, своими лицами мракобесов, стремлением к смерти и чепухой Обращения.
Петер. Все это совершенно неверно, дорогой Миккель, это показывает, как мало ты о нас знаешь. Мы не делаем Бога председателем партии, он им является; мы не ставим границ, ведь граница существует, граница между добром и злом, между истиной и ложью, между верой и неверием, и мы озарены Духом, поэтому она нам видна.
Борген. Ерунда. Страх Божий не проявляется внешне. Там, где он меньше всего виден, он может быть особенно силен. Как смеете вы, ничтожные, какими вы сами себя называете, судить, если заповедь самого Христа…
Петер. Это я так часто слышал, Миккель, но будем разумными! Различие между Богом и Сатаной — величайшее из существующих в мире, в этом мы с тобой согласны. Но неужели так трудно увидеть, в чем различие между их учениками? Нет, Миккель, ты слишком далеко зашел. Мракобесы! Гм, мы, озаренные Духом! Мы — мракобесы, мы — мрачные святые, а у тебя христианство — радостное. Знаешь, о чем я иногда думаю? В последнее время, Миккель, я часто вижу тебя грустным и усталым. А я, когда сижу здесь на столе и шью штаны и рубахи, то нередко во весь голос пою наши красивые псалмы и духовные песни. И чувствую себя свободным, мне легко, потому что Иисус взял все мои грехи, и упади я замертво тут на столе, я тотчас пойду к нему, спасенный и блаженный.
Борген. А другие? Все другие? Не понимаю, как можно быть счастливым хотя бы один-единственный час на дню, если знать, что друзья и родные, соседи и земляки, да все на свете, кроме тебя самого, обречены на вечные муки в аду, как только умрут! И ведь вы верите в это!
Петер. Нам не ведомо, что происходит с людьми в миг смерти, может быть, Господь дарует им минуту милосердия, чтобы обратиться.
Борген. Это вы так себя оправдываете. Вы верите, что большинство людей в минуту смерти обращается?
Петер. Нет, нет, Миккель, нет. Мы верим, что большинство, большинство людей попадает в ад. Это должно быть так, раз уж Богу пришлось пожертвовать своим собственным сыном. Ты ведь знаешь, что сказано у Матфея в седьмой главе.
Борген. Вовсе я не знаю.
Петер. Широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
Борген. Петер, как вы можете верить в это?
Петер. Можем, потому что мы любим нашего Спасителя, Миккель. Мы любим Его так, что наши сомнения, если они у нас есть, отпадают сами собой, и наш разум замолкает, и мы одобряем все, что Он говорит и делает, — и это великая любовь. Да, может быть, страшно поверить Ему, Миккель, но еще страшнее не поверить Ему. И мы Ему верим.
Борген. Но ведь не обязательно же буквально в рабском страхе…
Петер. Нет, Миккель, у нас бывают счастливые времена, как ни у кого другого. Наша жизнь исполнена великой радости, той, что ожидает нас. Нам нет нужды прибегать к карточной игре, выпивке и танцам и к подобным жалким вещам, чтобы почувствовать радость. А ты хочешь корить нас нашим стремлением к смерти, Миккель! Хочешь корить нас тем, что мы так любим нашего Спасителя, что каждый час на дню стремимся к Нему, стремимся покинуть грешную землю и быть вместе с Ним на небесах!
Борген. И видит Бог, буду корить! Во имя Бога и всего на свете, что это за жалкий Спаситель, который восседает где-то далеко, а ты должен довольствоваться тем, что стремишься к Нему. Мой Спаситель, Он со мной каждый час на дню, как ты говоришь. Он никогда не бывает далек от меня, если только я сам не отдаляюсь от Него, во грехе — с нечистой совестью. Он возвышает мое горе, делает глубже мою радость, Он желает, чтобы моя жизнь была вечным счастьем, а смерть — кратковременной ложью.
Петер. Да, Миккель, слова. Словами ты владеешь, но этого недостаточно… Может, еще капельку в наши наперстки?
Борген. Я не хочу больше кофе.
Петер. Нет, выпей. Обязательно! Кристине! Кристине! Да что она, не слышит что ли? Кристине!
Борген. Ха-ха-ха!
Петер. Чего ты смеешься, Миккель? Да я могу и сам принести…. А, Анне, это ты пришла? Кофейник, девочка моя, ты можешь его принести?
Борген. У тебя жена — генерал, Петер. И еще какой умный генерал. Не потому ли в последнее время у вас в доме прямо военная обстановка?
Петер. Сперва налей Миккелю, девочка.
Борген. Думаешь, я еще должен выпить?
Анне. Да.
Борген. Ну, тогда только полчашки. Разве твоя мать не на кухне?
Анне. Да, она там. Но… Андерс тоже там.
Борген. Наливай, наливай! Пусть даже через край перельется.
Петер. Что вы там делаете?
Анне. Мама читает вслух «Песнь Агнца».
Петер. И ты слушай внимательно, девочка, иди, слушай. Кофейник можешь оставить, на случай, если мы еще захотим.
Анне выходит.
Миккель, ты можешь себе представить, какое впечатление на меня это произвело, когда я услышал про Андерса и Анне? Я беден, очень беден, вот даже от телефона, который мне, как портному, очень нужен, пришлось отказаться со следующего квартала. И вдруг получается так, что я могу стать тестем в Боргенсгоре. Я долго думал: что, если через меня и мою дочь, что, если нам, недостойным, выпала от Господа такая милость — приобщить Боргенсгор к Царству Божию? Да, так я подумал, и голова у меня закружилась. Но потом я понял, что это — грех гордыни, что во мне ожила древняя греховность с ее жаждой власти и роскоши. И Дух Божий напомнил мне, что воля Господа не проявляется в чем-то внешнем, в женитьбах и во всяких других делах, которые мы устраиваем.
Борген. Гм, гм.
Петер. Да, Миккель, нелегко было от всего этого отказаться. Это была жертва, поверь. Но теперь-то ты понимаешь, что иначе было нельзя. Теперь остается лишь, чтобы Господь услышал мои молитвы.
Борген. Твои молитвы?
Петер. Да, Миккель, с того дня, что я покинул тебя и тебе подобных и был обращен, не было вечера, чтобы я не помолился за тебя. Видишь ли, для нас это важно. Ты ведь не молишься за меня, Миккель?
Борген. Не молюсь, но…
Петер. И еще одно. Когда я встречаюсь с другими здешними чадами Божьими и мы приветствуем друг друга святым лобзанием, как велит Писание, поем наши псалмы, читаем наши молитвы и пьем кофе, ведя духовную беседу, я счастлив и исполнен благодарности. А ты, Миккель, когда бываешь на ваших собраниях, чувствуешь ли ты себя, как дома, чувствуешь ли, что все замечательно и прекрасно?
Борген. Да, да, чувствую.
Петер. В самом деле, милый Миккель?
Борген. О чем ты? Почему ты спрашиваешь?
Петер. Если ты так всем доволен, Миккель, почему ты тогда ожидал, что Йоханнес станет… реформатором? Ведь ничего не надо было реформировать, не так ли?
Борген. Ты во многом прав: я когда-то верил и надеялся, что Йоханнес станет человеком, который добавит рома. Этого я не отрицаю. Крепкий, мощный пунш, что заварил для нас Старик[63], и предлагал его слишком многим. Он сам начал в старости разбавлять его, чтобы всем хватило, и чем дальше, тем больше. И теперь во время наших собраний, когда мы встаем, чокаемся и пьем, случается, что питье это кажется мне тепловатой водой. Я поглядываю на других, и думаю: не скрываем ли мы чего-то от самих себя и друг от друга? Ром? Побольше рома! Не принесет ли кто-нибудь рома? Не жаждем ли мы пришествия человека с ромом? Ну да что об этом говорить. Мы поднялись высоко, теперь придется спускаться. Застой означает смерть.
Петер. И значит, грундтвигианство, подкрепленное ромом, призвано помочь?! О, Миккель, приди к нам!
Борген. Этого не будет никогда.
Петер. Не говори так! Помни, мы живем в стране чудес.
Борген. В стране чудес?
Петер. Чудес, которые совершаются в человеческих сердцах. Господь — Бог чудес.
Борген. Ха, еще каких чудес!
Петер. Он могущественен во всем — и в том, чтобы избавить тебя от неверия и заблуждений.
Борген. От неверия и заблуждений?
Петер. Да, Миккель, от неверия и заблуждений, в которых ты прожил свою жизнь.
Борген. Значит, в неверии и заблуждениях?
Петер. Тебе не придется больше пить тепловатую воду, милый Миккель. Сам Господь предлагает тебе чистое словесное молоко.
Борген. Молоко?
Петер. Миккель!
Борген. Неверие и заблуждения, говоришь? Когда я унаследовал хутор, в приходе о живом христианстве никто и знать не знал. Я начал один, никто не поддерживал меня, даже моя жена, только Бог; старик Шёпфе, закоренелый рационалист, упорно громил меня с кафедры, воскресенье за воскресеньем. Но дело двинулось, построили Дом собраний, появилась школа, добавилась школа для молодежи, песнь Господа победно пошла по приходу, в дома, в сердца, люди сходились на собрания. И все это, все, что я почти за пятьдесят лет построил и на что получил Божье благословение, основано на неверии и заблуждениях?
Петер. Ну, если судить по результатам, то за последние двадцать лет как раз миссионерские приходы…
Борген. И сам я… и душа моя, устремленная к звездам… и крестины, когда чудесные персты Божии возложили крест мне на чело, и еще счастье знать, что я, неведомо для меня, был передан в отцовские объятия Бога! И причастие, когда я сам внял слову Божию, и живой Христос явился и унес мои грехи, а я шел домой в сиянии солнца, чувствуя себя невероятно счастливым и радостно распевая! И те тысячи раз, когда молитва согревала меня, дарила новый свет, новую жизнь в часы одиночества или растерянности. И Слово, Слово, услышанное или сказанное мной самим, — все это, все это было неверием и заблуждениями, заблуждениями и неверием? А сам старик, сам Грундтвиг, его жизнь была, видимо, тоже неверием и заблуждением?
Петер. Я его никогда не читал, Миккель, и знаю о нем, собственно, очень мало.
Борген. Не увиливай. Для него, по-твоему, нет спасения?
Петер. Мы, люди, не должны судить, Миккель.
Борген. Хо-хо, значит, не так уж просто увидеть различия между учениками Бога и Сатаны. Или ты боишься ответить мне?
Петер. Чадам Божиим неведом страх, Миккель. Потому что зла причинить нам ничто не может. Грундтвиг — ты и сам знаешь, Миккель, он всю жизнь сомневался и боролся с собой, так что уверенности в своей правоте и мира с Богом — этого он не знал.
Борген. Все ясно.
Петер. И последователи его — они ведь неверящие и не обращенные люди, так что, по моему суждению…
Борген. По твоему суждению?
Петер. Да, Грундтвиг — человек погибший, Миккель.
Борген. По суждению Петера-Портного, Николай Фредерик Северин Грундтвиг находится в аду! Андерс! Андерс!
Андерс (входит). Что отец?
Борген. Эта девушка — как ее зовут? Да, Анне, она будет твоей, разрази меня Нечистый, даже если мне самому придется вытаскивать ее из этой тюрьмы.
Андерс. Но отец…
Кристине. Ты забываешь, Миккель Борген, что должен будешь дать ответ за каждое праздное слово.
Борген. Нам здесь больше нечего делать. Запрягай!
Андерс. Но отец…
Борген. Запрягай! Я прощаюсь, Петер-Портной…
Петер. Миккель, Миккель! Ты еще не повержен. Господь разрушил твои гордые планы насчет Йоханнеса. Не вынуждай же его…
Борген. Я не хочу от тебя ничего слышать об Йоханнесе.
Петер. Не меня ты должен слушать, а Господа. Тебя ждут еще большие испытания. О, я буду молиться за тебя, чтобы Господь не отринул тебя, не поверг совсем, во прах… Что это? Алло, алло… да, я… нет еще… они как раз уезжают. Что? Нет, надо же… Да, я скажу… Пусть поправляется! Доброй ночи.
Борген. Что это? Кому ты желаешь поправиться?
Петер. Как удивительно, Миккель! Воистину мы живем в стране чудес.
Борген. В чем дело?
Петер. Только я сказал, что тебя ждут еще испытания, как звонит твой сын Миккель и говорит, что Ингер очень плохо.
Борген. Ингер заболела? Наверно, это просто…
Петер. Нет, там что-то серьезное, как я понял.
Борген. Тогда нам надо спешить.
Петер. Я искренне, всем сердцем желаю, милый Миккель, чтобы на этот раз ты услышал Господа своим сердцем, какой бы сильный удар он ни нанес тебе.
Борген. Что ты такое говоришь? Похоже, ты, помоги мне, Боже, стоишь тут и желаешь смерти моей невестке.
Петер. Спасение души важнее всего. Если его нельзя достичь иным способом, то я желаю этого, милый Миккель, во имя Иисуса.
Борген. Ты желаешь этого? Желаешь?
Анне. Господи Иисусе, помоги, Господи Иисусе!
Борген. Знаешь ты, как на такое отвечают?
Кристине. Остановись, Миккель Борген!
Анне. Андерс, Андерс, он убьет моего отца!
Петер. Не тронь меня, Миккель!
Андерс. Опомнись, отец!
Борген. Только разок. Вот тебе!
Анне. Нет, нет!
Петер. У меня есть свидетели, Миккель Борген. Хоть ты и большой человек, другие тоже имеют право жить.
Борген. Отправляйся в ад!
Петер. Нет, я не собираюсь тебя опередить. Мы встретимся в суде, хулиган зарвавшийся.
Борген. Поехали!
III
Боргенсгор.
Борген (входит, очень замерзший, сосульки под носом, на бровях и около ушей). Автомобиль доктора, Миккель? А не акушерка?
Миккель. Они здесь оба.
Борген. Что-то с ребенком?
Миккель. Он лежит неправильно.
Борген. Йоханнес тоже так лежал. А вырос самым стройным из вас.
Миккель. Доктор говорит, что мы должны будем радоваться, если удастся спасти мою жену.
Борген. Он так сказал? Что он в этом понимает! Пусть делает, что может. От него не многое зависит. Как ты думаешь, мне пойти туда, наверх?
Миккель. Ингер без сознания.
Борген. Ах так… да… иди туда, мой мальчик, иди.
Андерс (входит). Как дела, отец?
Борген. Все обойдется. Но нам с тобой, Андерс, предстоит неспокойная ночь.
Андерс. Неспокойная?
Борген. Да, мы будем молиться.
Андерс. Да, отец, будем. И за Анне, и за Ингер.
Борген. Больше за Ингер, мой мальчик. Анне — это мы сами уладим.
Андерс. Как же, уладим! Ничего из этого не выйдет.
Борген. Положитесь на Бога, дети мои, и держите порох сухим, как сказал Кромвель своим солдатам, переправлявшимся через реку. Если мы поможем Ему там в вышине, а Он поможет нам, мы со всем справимся. Иди пока к себе, Андерс. Мы тебя позовем, если надо будет.
Андерс. Разве мы не будем молиться вместе, отец?
Борген. Когда дело серьезное, мой мальчик, я предпочитаю молиться в одиночестве.
Андерс. Тогда я тоже помолюсь один.
Борген. Знаю, Андерс, и благодарен Богу за это. А потом ложись в постель, там ведь ледяной холод. И не теряй надежды.
Андерс. Ты имеешь в виду Ингер?
Борген. Да, и остальное тоже. На все ведь Божья воля. Андерс уходит.
Йоханнес (встает). Господь да пребудет с тобой!
Борген. Да, правильно, Йоханнес.
Йоханнес. Редкие гости у нас сегодня вечером, важные гости.
Борген. Да, слава Богу, доктор не часто гостит в Боргенсгоре.
Йоханнес. Здесь Господин и два ангела.
Борген. Это ты доктора Хоуена называешь господином?
Йоханнес. Нет, нет. Сперва пришли два ангела, в женском облике и в мужском.
Борген. Больше никто не приходил, насколько я знаю.
Йоханнес. Потом пришел сам Господин, сам Великий князь, пришел с косой и песочными часами.
Борген. Замолчи, Йоханнес.
Йоханнес. Чего ты боишься, ты, маловерный? Я не взошел еще к Отцу моему.
Борген. Иди в свою комнату! Ложись в постель!
Йоханнес. Но в своем городе не свершил он многих чудес по неверию их.
Миккель (входит). Вот ребенок и появился, отец.
Борген. Ну да! Это мальчик, как она мне обещала?
Миккель. Да, это был мальчик.
Борген. Вот видишь, Миккель, Ингер выполняет свои обещания. И Бог не…
Миккель. Он лежит в лохани, отец. Разрезан на четыре части.
Борген. Миккель!.. А Ингер, что с Ингер?
Миккель. Без сознания.
Борген. Миккель, если бы ты мог молиться!
Миккель. Но ты ведь можешь. (Выходит.).
Борген. Я буду, буду молиться. Боже Всемогущий, Боже Милосердный! Не надо больше! Ради Твоей любви, не надо больше. Ты наполнил мою чашу до краев. И теперь я молю: не дай ей перелиться. Что ты там выделываешь?
Йоханнес. Я приветствую великого вассала Отца моего. Вот он прошел с ребенком. Если бы верили в меня, этого бы не случилось. Теперь я не в силах ничего сделать.
Борген. Андерс! О Господи, он заснул? О Господи, у него ведь свои заботы.
Йоханнес. Сколь велики должны стать твои беды, прежде чем ты падешь и поклонишься мне?
Борген. Йоханнес, если ты хочешь помочь своему старику-отцу, побудь этой ночью в своей комнате.
Йоханнес. А!
Борген. На что ты уставился?
Йоханнес. Ты что, не видишь его? Вон же он стоит.
Борген. Андерс! Андерс! Андерс!
Андерс (входит). Что ты, отец?
Борген. Убери его, убери своего брата! Он сведет меня с ума — меня тоже.
Андерс. Йоханнес, иди сюда, идем ко мне!
Йоханнес. Они ищут виноград на терновнике, проходя мимо виноградника.
Оба выходят.
Марен (входит). Дедушка!
Борген. Ты не спишь, малышка Марен?
Марен. Я спала.
Борген. И что же?
Марен. Но ты так громко кричал, дедушка.
Борген. Ох, я тебя разбудил?
Марен. Да, нас ведь переселили. Мы вон там лежим. И знаешь почему? Потому что появится маленький братец.
Борген. Кто это тебе сказал?
Марен. Мама сказала. Ты думаешь, это хорошо? Вот если бы это была сестренка…
Борген. Ты считаешь, что девочки лучше мальчиков?
Марен. Их даже сравнивать нельзя. Сразу видно, как давно ты в школу ходил. Хотя ты ведь тоже был мальчиком.
Борген. Был, Марен.
Марен. Значит, тогда они не были такими скверными. Теперь от них никакого покоя нет — то за волосы таскают, то книжки рвут, то чернилами мажут.
Борген. Так себя ведут только негодные мальчишки.
Марен. Конечно, можно и так сказать. Но там только негодные и есть! А мама все равно была этому рада. Обидно, что она как раз сейчас заболела.
Борген. Поэтому Господь и решил, что маленький мальчик пока не появится.
Марен. Правда?
Борген. Да, а теперь пойди к себе и помолись дорогому Иисусу, чтобы Он вернул маме здоровье.
Марен. Но он не сделает этого.
Борген. Не сделает?
Марен. Нет, потому что она сегодня ночью умрет.
Борген. Что за глупости ты говоришь, дитя?
Марен. Так сказал дядя. И тогда дядя воскресит ее. Как того человека, про которого ты мне рассказывал. И про девушку. И тогда мы все вместе будем благодарить Бога.
Борген. Марен, малышка, иди к себе и ложись спать. А Ингер тоже там?
Марен. Да, но она спит. Она вообще еще слишком маленькая. Она ничего не понимает.
Борген. Ты пойди теперь туда, к Ингер, хорошенько укройся периной и, прежде чем заснешь, скажи от всего сердца: «Милый Боже, сделай так, чтобы мама снова была здорова! Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь». Ты сможешь попросить об этом от всего сердца?
Марен. Милый Боже, сделай так, чтобы мама снова была здорова, во имя Иисуса. Аминь. Да, я скажу это.
Борген. Но помни только — от всего сердца.
Марен. Да, я так и сделаю. Спокойной ночи, дедушка.
Борген. Спокойной ночи, мое сокровище.
Тихо входит Йоханнес.
Марен (задерживается). Смотри, вон папа идет.
Миккель (входит). Я не в состоянии там оставаться.
Борген. Наберись сил, мой мальчик, наберись сил.
Миккель. Я же понимаю, к чему все идет.
Борген. К чему все идет! Неужели вы не можете ни о чем другом говорить? Вы забыли, что я — тоже человек? Я всего лишь человек, старик.
Миккель. Отец, я не выдержу, если потеряю ее.
Борген. Ты ее не потеряешь, Миккель, послушай меня, Бог не допустит… все будет…
Миккель. Отец, окажи мне услугу: если она умрет, помоги мне, избавь от лишних разговоров о Божиих испытаниях, об отеческом отношении Бога, о том, что «Он, кто всегда помогал», от всего этого. Я слишком уважаю Бога моего отца, чтобы вытерпеть это.
Борген. Миккель, сын мой, сын мой!
Миккель. И еще одно: обещай мне, отец, что ты доживешь до того времени, когда Андерс и Анне поженятся, чтобы Марен и малышка Ингер…
Борген. Боже всемогущий! Она переливается, чаша переливается. Это не должно случиться, Ты не осмелишься на это. Не дай этому случиться, не отнимай у нас Ингер! Миккель, мальчик мой, пойдем вместе наверх?
Миккель. О, какой ты сильный, мой старый отец!
Борген. Да, потому что я держусь за руку Бога, я держусь… идем!
Оба выходят.
Марен. Дядя, скоро ли мама умрет?
Йоханнес. Ты так этого хочешь, девочка?
Марен. Да, ведь ты же тогда ее воскресишь.
Йоханнес. Наверно, из этого ничего не выйдет.
Марен. Почему?
Йоханнес. Другие мне не позволят.
Марен. И что же будет с мамой?
Йоханнес. Тогда твоя мама отправится на небеса.
Марен. Но это мне совсем не нравится.
Йоханнес. Девочка, но ты же не знаешь, что это значит, когда у тебя есть мать на небесах. Вот возьми одеяло, теперь тебе не будет холодно. Давай сядем тут, на скамье, и я объясню тебе, как хорошо, когда у тебя есть мать на небесах.
Марен. Потому что у тебя ведь она есть, дядя. Это была Марен, старая Марен, по которой меня назвали.
Йоханнес. Нет, вообще-то ее звали Мария, но это не важно. Видишь ли, иметь мать на небесах…
Марен. Это лучше, чем иметь ее здесь, на земле?
Йоханнес. Сама посуди. Иметь мать на небесах, это благословение Божие. Тот, у кого она есть, никогда не бывает одинок.
Марен. Не бывает?
Йоханнес. Нет, мы никогда не бываем одиноки. Каждый раз, когда мы делаем доброе дело, она улыбается Господу, а Он приветливо кивает в ответ. Мы сразу чувствуем — сейчас наша мать гордится нами, и нам становится так радостно. Ведь улыбка матери и радость ребенка — это одно и то же. Это ты и сама понимаешь.
Марен. А если мы поступаем плохо, тогда она плачет?
Йоханнес. Тогда она плачет, и ее слезы капают вниз, нам на сердце, это называется раскаянием, но каждой опечаленной матери Бог улыбается. А злой человек, заметив улыбку Бога и слезы матери у себя на сердце, сам начинает плакать. Тогда он смягчается и становится добрым.
Марен. А если мы попали в беду, тогда что?
Йоханнес. Тому ребенку, чья мать на небесах, ничто не может причинить вреда.
Марен. Но Оле, сын кузнеца, сломал же ногу в прошлом году?
Йоханнес. Это всего лишь тело.
Марен. Понятно. А сама мама, разве она не будет скучать без меня — и без Ингер, конечно?
Йоханнес. Она всегда будет с вами, девочка. Каково, по-твоему, ей было бы на небесах, если бы пришлось расстаться с вами? Ведь это же известно: никто не может быть все время с тобой — только твоя мать, которая умерла.
Марен. Даже живая?
Йоханнес. У нее так много других дел.
Марен. Ей надо доить коров, и скрести полы, и посуду мыть. Мертвым этого делать не приходится. Это я и сама понимаю.
Йоханнес. Да, да.
Марен. Но я все-таки хотела бы, чтобы ты ее воскресил, чтобы она осталась с нами.
Йоханнес. Дитя человеческое! Дитя человеческое! А теперь иди спать, девочка.
Марен. Спокойной ночи, дядя. Ты такой добрый!
Йоханнес. Только Бог добр. Вся наша доброта от Него.
Марен. Ты все же лучше воскреси ее.
Йоханнес. Воскрешу, если другие позволят мне.
Марен. Об этом я позабочусь. Ты меня не укроешь?
Йоханнес. Да, укрою и посажу двух ангелов моего Отца присмотреть за тобой нынче ночью.
Они выходят.
Борген (входит). Отец небесный, Ты — свет и жизнь, Ты не можешь ниспослать мрак и смерть, Ты не отнимешь ее у нас. Отче наш, иже еси на небеси, да святится…
Доктор Хоуен (входит). Черт возьми, принесут ли наконец горячую воду?
Борген. Не сюда, доктор, кухня вон там.
Миккель (вбегает и выбегает). Скорее, доктор, скорее!
Борген. Боже всемогущий, Боже милосердный!
Йоханнес (входит). Ты все еще отвергаешь предложение моего Спасителя?
Борген. Оставь меня!
Йоханнес. Горе вам, что душат величие Бога трупным запахом своей веры!
Борген. О Боже! О Боже! О Боже!
Йоханнес. Одно лишь слово. От тебя требуется лишь одно слово.
Борген. Йоханнес, нет, нет, это же безумие. О Боже, что есть безумие? И есть ли в нем какой-нибудь смысл?
Йоханнес. Миккель Борген, ты приближаешься сейчас к Царству Божию. Сделай же последний шаг.
Борген. Не искушай меня…
Доктор Хоуен (входит). Ну, все, Миккель Борген.
Йоханнес выходит.
Борген. Нет, нет, нет, не говорите этого, доктор!
Доктор. Кровотечение остановлено. И сон спокойный. Если за ночь ничего больше не произойдет…
Борген. Боже всемогущий! Хвала, и благодарность, и слава!
Доктор. Да уж, сегодня ночью я проделал большую работу.
Борген. Правда, доктор, огромную. Спасибо, доктор Хоуен, спасибо, спасибо! О нет, я не умею выразить свою благодарность. Бог да благославит вас, Хоуен! Бог да благославит вас, Хоуен!
Доктор. А теперь хорошо бы нам выпить немного кофе.
Борген. Да, конечно, Катинка, Катанка, нам надо… Она поправится, Катинка. Нам надо кофе, понимаешь, кофе, и покрепче. Доктор, можно мне прокрасться наверх?
Доктор. Только тихонько.
Пастор Банбуль (входит). Добрый вечер.
Борген. Добрый вечер. Ах, да это же пастор! Добрый вечер, господин пастор, добро пожаловать снова. Вы знаете?..
Пастор. Да, я знаю и доктора, и его автомобиль. Это и побудило меня зайти. Добрый вечер, господин доктор.
Доктор. Добрый вечер, добрый вечер.
Борген. Это прекрасно, что вы зашли, господин пастор. Спасибо большое. Да, моей невестке было очень плохо. Ребенок мертв, но… но она спасена. Ах, господин пастор, как я счастлив. Но что, во имя всего на свете, заставило вас выйти в такую погоду?
Пастор. Я был в доме пекаря — домашние крестины.
Доктор. Понятно. Как там дела? Все еще судороги?
Пастор. Да, господин доктор. И ребенок такой маленький.
Доктор. Слишком маленький. Ох, уж эти пекари! Эти пекари!
Борген. Снимайте пальто, вы прямо как снеговик! Садитесь. Сейчас принесут кофе.
Пастор. Вообще-то мне надо домой. Уже поздно.
Борген. Вы можете доехать до своей усадьбы с доктором. Ей-бо… конечно, можете.
Доктор. Разумеется, можете. Даже отсюда слышно, какой ветер устрашающий.
Пастор. Спасибо, большое спасибо. Это было бы очень хорошо, господин доктор, большое спасибо. Да, кажется, надвигается буря.
Борген. Я только загляну наверх. Садитесь. (Выходит.).
Доктор. Вас следовало бы довезти сюда в такую погоду.
Пастор. Пожалуй. Но не хочется никого затруднять.
Доктор. Да?
Пастор. И еще я должен платить арендатору за каждый километр пути.
Доктор. Ах так.
Пастор. И к тому же в открытой повозке! Другое дело в закрытом автомобиле, как ваш. Только сможем ли мы проехать?
Доктор. Разумеется, проедем.
Пастор. Да, но снег метет навстречу, господин доктор, и сугробы…
Доктор. Господин пастор, это же «бьюик», а поведу его я.
Пастор. Если вы так считаете… Я только имел в виду…
Доктор. Кстати, вы бы наказали вашим «смотрителям покойных»[64] здешнего прихода, чтобы они правильно заполняли свидетельства. В прошлом месяце в обоих была допущена вопиющая небрежность.
Пастор. Я обязательно это сделаю. Подумать только, вопиющая небрежность!
Доктор. Они же совершенно несведущие люди. Это безобразие, что в наше время сохраняются такие замшелые порядки… Свидетельство о смерти должен всегда выдавать врач.
Пастор. Да, конечно. Но с другой стороны — если люди очень бедны, они так могут сэкономить десять крон.
Доктор. Свидетельство о смерти должно всегда оформляться врачом.
Пастор. Это было бы, безусловно, наиболее надежно.
Доктор. Между прочим, все здесь, и бедные, и богатые, прибегают к услугам этих «смотрителей». А вообще-то труп что бедняка, что богатого, всего лишь труп.
Пастор. Я только хотел сказать… всякая вещь имеет две стороны… приходится уважать…
Доктор. Безобразие, говорю я вам. Я знал одного «смотрителя», который боялся покойников. Он стоял и смотрел на тело сквозь щель в двери: «О Господи, до чего же она мертвая!»
Пастор. Подумать только! Настоящее безобразие! Это совершенно недопустимо.
Борген (входит). Она спит, как ангел Божий! Вот кофе, пожалуйста, пожалуйста! Истинное чудо.
Доктор. В котором я могу усмотреть вполне естественные причины. Простите, мой добрый Миккель Борген, я не хочу ранить ваши религиозные чувства. Но теперь, когда все закончилось так хорошо, я могу, пожалуй, позволить себе вас немного подразнить. Как вы думаете, что больше всего помогло сегодня вечером — ваши молитвы или мои труды?
Борген. Наверно то, что Бог благословил ваши труды благодаря моим молитвам, вот что помогло больше всего, дорогой доктор.
Пастор. Ora et labora[65], говаривали в старину монахи.
Доктор. Вы, может быть, тоже верите в чудеса, господин пастор?
Пастор. Что вы понимаете под «верить»? В принципе, возможность чудес отрицать нельзя, потому что Создатель всегда должен оставаться господином созданного им. Но и с религиозной, и с этической точки зрения, чудеса невозможны. Нарушение законов природы внесло бы беспорядок в Божие мироустройство, а Бог чудесен именно тем, что на Него можно положиться. Проще сказать: Бог, естественно, мог бы творить чудеса, но так же естественно, что Он этого не делает. И мы Ему за это благодарны.
Доктор. А как же чудеса Христа?
Пастор. Да, в переломные и поворотные моменты мировой истории дело обстоит… может обстоять иначе.
Доктор. Вот как? Значит, в решительные моменты наш надежный Бог допускает некоторые отклонения от правил. Нет, мой добрый пастор Банбуль, никогда в этом мире не случалось и не случится ничего, в чем бы знающий и упорный исследователь не увидел естественные причины.
Пастор. Ну, это дело разумения, дело веры. Вы правы по-своему, я — по-своему, и мы можем уважать взгляды друг друга.
Борген. Как странно! Эти доктора всегда верят в то, во что меньше всего стоит верить. Но они ведь помогают людям в мирских бедах и в телесных нуждах, сами совершенно забывая о том, что существуют Дух и вечность.
Доктор. Да, Миккель Борген, мы, врачи, не религиозны, и нас следует за это благодарить.
Пастор. Благодарить?
Доктор. Вам, кажется, было бы лучше, если бы мы, когда нас вызывают к больному, сразу сдавались и говорили, что это Божья кара и помочь тут может только чудо! А не считаете ли вы, господа, что было бы правильнее, если бы мы взялись исследовать пациента, находили бы, в чем беда, определяли причину, назначали лекарство и… Что это?
Борген. А, это Йоханнес пилит.
Пастор. Пилит?
Борген. Да, у него там есть ножовка. Вы ведь знаете, господин пастор, он воображает, что он ремесленник. Вы ведь видели его, да?
Пастор. Простите… я полагаю… вы не думаете… разве не лучше было бы удалить его отсюда?
Борген. Мой мальчик останется со мной, пока я здесь, в Боргенсгоре.
Доктор. Йоханнес, он, черт возьми, должен еще поправиться, надо только оставить его в покое.
Борген. Вот вы слышите, господин пастор, доктор Хоуен тоже верит в чудеса.
Доктор. Да, конечно, иначе я был бы никуда не годным врачом. Я верю в самого себя, в свою науку и в те чудеса, которые она научила меня творить. Я творю чудеса, и они действительно свершаются. Просто надо понимать и принимать фантазии Йоханнеса и дожидаться того момента, когда удастся возвратить его в то состояние, когда он лишился рассудка… И тогда вы увидите.
Борген. Доктор! Доктор!
Пастор. Принимать его фантазии! Доктор, вы же не называете его?..
Доктор. Да, видит Бог, называю! И хотел бы, чтобы и другие поступали так же.
Борген. И хотя именно с доктором Йоханнес никак не может поладить, тот все равно уверен, что поступает правильно.
Доктор. Да, уверен. Дайте только время. Мои методы лечения никогда не обманывают.
Йоханнес (входит). А!
Доктор. Приветствую тебя, Учитель! Твой покой потревожили этой ночью?
Йоханнес. Да, мне не дают уснуть…
Доктор. Что не дает уснуть, Учитель? Пение ангелов в небесах?
Йоханнес. Нет, какой-то осёл ревет на улице.
Доктор. Ах, вот как. Благодарю за кофе. Нам, пожалуй, пора отправляться.
Борген. Доктор, вы ведь не обижаетесь? Вы же сами понимаете…
Доктор. Боже Избави, ни в коем случае. Разумеется.
Пастор. Позволю себе спросить: доктор и эту фантазию готов принять?
Доктор. Какую? Я не расслышал, что он сказал. Ну, я еще поднимусь наверх, взгляну на пациентку. И потом поедем. (Выходит.).
Пастор. Да, спасибо большое. Я готов. Поздравляю, дорогой Борген. Поздравляю с Божиим благословением этой ночью.
Борген. Спасибо, господин пастор! Да, Он слышит молитвы, хоть мы всего лишь прах и пепел.
Пастор. Я могу понять, какие это для вас были тяжкие часы.
Борген. Значит, мне не суждено было избежать того, что пережил. И я не жалею об этом.
Пастор. Это мне тоже понятно.
Борген. И все же. Скажу совершенно откровенно: как бы я ни был счастлив сейчас, прежний Миккель Борген все равно жив во мне.
Пастор. Прежний Миккель?..
Борген. Да, тот, кто знает, что послезавтра или через месяц, когда Ингер встанет и снова будет ходить тут среди нас, он начнет спрашивать себя: а что собственно изменилось? Ингер такая же, как была, и Йоханнес такой же, каким был, и Ми… Все — как раньше. Старый Миккель — тоже такой же, как был… И слова доктора…
Пастор. Но, дорогой Борген!
Борген. Да, я неблагодарный, я грешен перед Богом. А вот и доктор.
Доктор. Она спит, как ей и положено. Вы можете тоже ложиться. Прощайте.
Борген. Спокойной ночи, дорогой доктор. Боргенсгор благодарит вас за эту ночь. На Рождество к доктору отправятся два гуся.
Доктор. Я не ветеринар. Вот увидите, от моего лечения они умрут.
Пастор. Спокойной ночи, Борген. Скорейшего ей выздоровления. И да поможет вам Бог возблагодарить его за все.
Доктор. Не забудьте только — три столовых ложки ежедневно.
Они выходят.
Йоханнес (входит). Ушли, наконец?
Борген. Да, мой мальчик, они ушли, и теперь мы пойдем спать.
Андерс (входит). Как дела, отец?
Борген. Прекрасно, Андерс. Сверх всяких ожиданий.
Йоханнес. Гм! Он еще стоит здесь. Он стоял все время. Это ее он ждет.
Борген. Йоханнес, иди ложись.
Йоханнес. Смотри, он проходит сквозь стену. Старик, мне нужна твоя вера. Иначе я не смогу остановить его.
Борген. Йоханнес, милый Йоханнес, Ингер теперь спит, никакой опасности нет, можешь больше не волноваться.
Йоханнес. Слышите? Это коса, он промахнулся, замахивается снова.
Андерс. Это доктор заводит свой автомобиль. Видишь свет, это он сдает назад.
Йоханнес. Ослепительно белый! Остановись!
Борген. Ах, все то же. Йоханнес, милый!
Миккель (входит). Все! Она мертва.
Борген. Что?
Миккель. Она вдруг вся сникла.
Борген. Ингер? Это неправда, мой мальчик, неправда!
Андерс. Но доктор ведь только что был там.
Миккель. Идемте! Посмотрите сами!
Они выходят.
Йоханнес. Стой! Не хочешь? Именем Отца моего приказываю тебе, отдай мне, отдай мне эту душу! Ты должен! Не хочешь? Тогда ступай! Но я призову тебя снова. Когда настанет час веры, ты принесешь ее мне.
Миккель (входит вместе с Андерсом и Боргеном). Я ведь знал это, отец.
Борген. Господь дал, Господь и взял…
Андерс. Доктор… надо позвонить.
Миккель. Андерс, ты хочешь вызвать доктора, чтобы он помог умершей? Тогда звони.
Йоханнес. Она не умерла, она спит.
Миккель. Ты так думаешь, Йоханнес?
Андерс. Миккель, не надо!
Борген. Господь дал, Господь и взял.
Миккель. Хочешь взглянуть на спящую, братец?
Андерс. Нет, не пускай его, Миккель.
Йоханнес. Покажите мне место, где вы положили ее. Миккель. Почему Йоханнес не должен видеть ее, Андерс? Он ведь страдает меньше нас всех!
Борген. Господь дал, Господь и взял.
Андерс. Никогда не знаешь, что он сделает.
Миккель. Нельзя сделать ничего хуже того, что уже сделано.
Йоханнес. Отец, славлю имя твое!
Все три брата выходят.
Борген. Господь дал, Господь и взял. Господь дал, Господь и взял.
Голос Йоханнеса. Агата!
Братья вносят Йоханнеса.
Борген. Он умер?!
Миккель. Нет, отец, такие не умирают.
Андерс. Он упал, как только увидел ее, но он дышит.
Борген. Даже в этой милости нам отказано. Унесите его! Унесите! Господь дал, Господь и взял. Имя Господне…
IV
Боргенсгор.
Ингер лежит в гробу, девять свечей горят у изголовья. Окна занавешены простынями. Борген стоит, прислонившись к стене, и вглядывается в ее лицо. У него совершенно безжизненный вид, только подбородок вздрагивает.
Миккель (в дверях). Берите, пожалуйста, сигары. (Закрывает за собой дверь.) Там много провожающих, отец.
Борген. Гм.
Миккель. Пастор пришел.
Борген. Значит, скоро надо идти… в церковь?
Миккель. Сперва он должен выпить кофе.
Борген. Гм.
Андерс (входит). Отец, они нашли следы Йоханнеса.
Борген. Где?
Андерс. У Кузнечных холмов. Он прокопал снег до лисьей норы, зажег костер и варил картошку в крышке от старого ведра. И еще там лежала твоя старая накидка.
Борген. А! Значит, он не умер… еще не умер.
Андерс. Подумай, отец, он, возможно, пробыл там все эти пять дней.
Борген. А теперь его там нет?
Андерс. Нет, но есть следы, ведущие в сторону Боргенсгора.
Миккель. Не пора ли открыть дверь, чтобы люди могли посмотреть?
Борген. Миккель, ты меня убьешь.
Миккель. После похорон, отец, ты сможешь… я имею в виду — посадить людей за стол и все такое? Я хотел бы остаться ненадолго на кладбище, когда все уйдут.
Андерс. Миккель, ты ведь не собираешься?..
Миккель. Нет, брат Андерс, ничего такого у меня и в мыслях нет.
Борген. Я все сделаю, Миккель.
Миккель. Спасибо, отец. Да, Ингер, видно, нам пора возложить на твой гроб крышку.
Андерс. Отец! Как мы это выдержим?
Борген. Пусть сначала священник… прочитает молитву — так, Миккель?
Миккель. Да, да, пусть будет полный парад, как принято и положено. Вон пастор идет. Так что кофе он напился.
Пастор (входит вместе с доктором). Итак, вы боялись, что все будет как прежде?
Борген. Мы были слишком уверены…
Пастор. Человек предполагает, но… вот она лежит. Когда я вспоминаю тот день, ее улыбку, когда она предлагала мне кофе! Ах, как это тяжело, как тяжело!
Борген. Возможно, это во благо, господин пастор. Иначе бы это не произошло.
Пастор. Вот слова верующего человека.
Доктор. Помните, молодой Миккель Борген, что даже в страдании есть красота, если мы стоя принимаем удары судьбы подобно великому греческому атлету.
Миккель. А красота, доктор, это ведь важно.
Доктор. Да, важно.
Пастор. Вы слышали, что Йоханнес?..
Доктор. Расскажите мне, как все произошло. Когда он увидел мертвое тело, он выкрикнул имя своей невесты и упал?
Борген. Они уложили его в постель, и, видимо, позднее…
Андерс. Я собирался посидеть около него, но… меня одолели усталость и горе…
Доктор. Иначе говоря, вы заснули. А когда проснулись, его уже не было.
Андерс. Мы искали, расспрашивали всех…
Доктор. То есть вы не говорили с ним после обморока?
Андерс. Никто его не видел.
Доктор. Тогда я хочу сказать вам, Борген, что вы должны быть готовы ко всему.
Борген. Слава Богу, он освободился.
Доктор. Смерть — это не все.
Борген. А возможно, он остался жив, и это во благо.
Миккель. Вот свидетельства, господин пастор.
Пастор. Спасибо! Спасибо, что вспомнили. Сам я легко мог забыть об этом. От суда по делам наследства. Спасибо! И от «смотрителей покойных». Спасибо. Да, все в порядке. Споем теперь псалом?
Миккель. Надо сперва впустить людей.
Пастор. Тогда позвольте я… перед этим… Павел возгласил однажды: «Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?» Все мы, кого Христос привел к вере в бессмертие души, убеждены в этом вместе с апостолом. И так же верно, как то, что жизнь исполнена смысла, верно и то, что смерть — лишь переход, врата, тоннель, ведущий от бренности к вечности, от преддверья жизни — к самой жизни. Эта добрая женщина лишь опередила своих близких на пути туда, где обитает непреходящее. Наша скорбь эгоистична, мы думаем о самих себе и о нашей утрате; ибо покойница пребывает в царстве света, она живет в стране светлой Божией любви. Так будем же стремиться в Царство небесное, чтобы соединиться с дорогими нам. И да напомним друг другу, что скорбь умудряет нас, облагораживает, что свет не может существовать без тени, что то, что кажется не познавшим Бога бессмысленным, имеет глубочайший смысл для нас. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и наши тяжкие страдания, наши горькие утраты — это лишь доказательства Божией любви. Я буду молиться, чтобы эта любовь помогла вам все пережить и научила бы вас быть благодарными за память и надежду, за светлую прекрасную память, что она оставила вам, и за светлую прекрасную надежду на встречу с ней в той жизни, что наступит, в стране, где никогда души, скорбя, не расстаются с другими душами. Давайте же тихо прочтем «Отче наш».
Миккель. Спасибо, господин пастор, за теплые прочувствованные слова.
Пастор. О, вы не должны благодарить.
Петер-Портной (входит). Простите, что я вторгаюсь.
Борген. Петер! Ты пришел сюда?
Петер. Простите, что я вторгаюсь. Но я хотел бы сказать…
Миккель. Я знаю, что у тебя добрые намерения, Петер. Но здесь уже достаточно сказано.
Петер. Миккель, Миккель! Господь трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит. Но ты, старый Миккель Борген! Ты подашь мне руку? Ты простишь меня?
Борген. Ведь это я тебя ударил.
Петер. Да, но это я забыл слова Спасителя и забыл подставить и другую щеку. Теперь я с сердечной искренностью молю Господа простить меня, ради крови Его сына. Ты тоже должен простить, Миккель. Или ты выгонишь меня из твоего дома? Ты в своем праве.
Борген. Все это теперь не имеет значения.
Петер. Нет, имеет, потому что я хочу что-то сказать тебе у этого гроба, что-то, что вы все здесь должны узнать, прежде чем Ингер отсюда унесут. Смотрите, вот она лежит, такая прекрасная и невинная; она была хорошей женщиной, я думаю, она была верующей. Мне кажется, она лежит здесь как жертва за твои грехи, Миккель. Но ты и я — мы равно грешны перед Богом. Поэтому я тоже должен принести жертву.
Миккель. Петер, сейчас…
Петер. Да, да, и я пришел сказать, что место не должно остаться пустым. Господь берет, и Господь дает. Анне, иди-ка сюда.
Борген. Ах, Петер, это так хорошо.
Андерс. Ты привел Анне, Петер? Только Господь сможет вознаградить тебя за это.
Петер. Да, вот она. Господь возложил на меня эту искупительную жертву. Теперь она ваша. У меня остался только мой Спаситель. Его я никогда не отдам.
Андерс. Анне!
Петер. Берегите ее, слышите? Потому что после Него она — самое дорогое для меня, единственное мое земное богатство.
Андерс. Добро пожаловать в Боргенсгор, Анне. Теперь ты станешь нашим общим солнышком, милая Анне.
Анне. Спасибо, Андерс.
Миккель (у гроба). О-о-о!
Борген. Слава Богу, он плачет. Девочки! Позовите их, позовите их! Потому что… пора кончать. Прощай, невестка! Спасибо за все хорошее! Спасибо за все, Ингер, потому что хорошим было все… И — до свидания — в скором времени! Да, Миккель, свидание будет, что бы ты ни говорил, свидание будет, иначе все было бы просто ужасно. Прощай пока, Ингер. Господь да порадует твою душу в Царствии небесном. Малышка Ингер, положи свою руку на мамину. И ты, Марен, тоже! Прощай, мать. О Господи, они ничего не понимают, они слишком маленькие. А мы, остальные, — мы тоже ничего не понимаем, господин пастор! Потому что мы тоже слишком малы.
Андерс. Прощай, Ингер, и спасибо.
Борген. Бери крышку, Андерс.
Миккель. Нет, вы не должны. Не отнимайте ее у меня, вы не можете забрать ее, разлучить нас. О-о-о! Нет, нет!
Андерс. Отец!
Доктор. Борген, пощадите себя! Давайте выйдем отсюда.
Борген. Поддержите меня немного. Вот так! Сейчас это пройдет. Только на мгновение ноги словно бы… Миккель, послушай, Миккель, ее душа — в царстве жизни и света, веришь ты в это или нет. Пусть это утешит тебя, здесь ее нет, ты и сам видишь.
Миккель. Но ее тело, ее тело, я ведь и тело ее любил!
Борген. Твой крестильный завет, Миккель! Наш крестильный завет, слова из уст самого Господа: воскрешение во плоти, слышишь? Соберись с силами, ты же сын Боргенсгора, соберись с силами и попрощайся.
Миккель. Прощай, любимая, прощай, моя любимая, прощай!
Борген. Крышку!
Йоханнес (стоит в дверях). О нет! Не надо крышку!
Борген. Йоханнес! Ты! Ты пришел?
Йоханнес. Да, отец, я пришел.
Борген. Ты сказал «отец»? Йоханнес! Твои глаза! Рассудок вернулся к тебе?
Йоханнес. Рассудок, как вы это называете, вернулся.
Доктор. Вам показалось, что вы видите тело своей невесты, и все погрузилось во мрак. Когда вы очнулись от обморока, разум вернулся. А ваша память тоже вернулась?
Йоханнес. Мало-помалу я все вспомнил.
Доктор. Вот видите, Борген. Что я говорил? Мои методы лечения…
Борген. Нет, доктор, помолчите. Я буду восхвалять только моего Бога, Ему одному честь.
Доктор. Так, значит?
Борген. Да, доктор, да. Ваши методы — они тут, перед нами.
Доктор. Благодарю вас, Миккель Борген. Если все кончается плохо, это я виноват, если хорошо, это заслуга вашего Бога.
Пастор. Тише, дорогие друзья, тише, тише! Что бы ни случилось, не забывайте, что мы стоим у гроба.
Борген. Но Йоханнес, почему ты сбежал? И где ты пропадал? Что с тобой было? Почему ты ничего не сказал?
Йоханнес. Я не мог. Мне был нужен покой, одиночество, природа… собрать тысячи мыслей…
Борген. Мальчик мой, мальчик мой! Рассудок вернулся к тебе. Теперь ты в своем уме.
Йоханнес. Нет, не в своем, а в вашем. Я вернулся к тому, что меня ужасало — стал разумным среди разумных. И мне остается одно: молить Бога вновь лишить меня рассудка.
Борген. Йоханнес, не кощунствуй.
Йоханнес. Нет, это вы кощунствуете. Разве это христианское погребение? Где победная убежденность веры в воскрешение?
Борген. Йоханнес, Йоханнес, мы — маленькие и жалкие люди.
Йоханнес. Это поношение Бога — быть маленькими и жалкими, когда у вас есть такой великий и могущественный Бог. Вот вы стоите, беззащитные перед смертью, подобно нагим птенцам в кошачьих когтях судьбы! Вы цепляетесь за языческие рассуждения и никчемные человеческие утешения. А ведь это ради вас Христос жил, умер и воскрес, для вас он добыл Слово, как когда-то Прометей добыл огонь.
Борген. Все это правда, но это все так трудно.
Йоханнес. Да, трудно. Но даже если в крови вашей не достает христианства, чтобы предвкушать Пасхальное торжество Воскрешения, вы могли бы набраться мужества для молитвы и спросить, нельзя ли, чтобы Он вернул ее вам. Это не пришло в голову ни единому среди вас.
Петер. Но ведь написано: «Ты не должен искушать Господа твоего Бога».
Йоханнес. И все же вы могли спросить, нельзя ли. Смотрите, я спросил, я лежал в одиночестве на снегу и молил, пока не почувствовал тепло и не получил разрешение. И тогда я побежал домой, исполненный ожидания, счастливый, сильный. А теперь я стою здесь, раздавлен вашим горем и сомнением, нет, отречением, стою среди людей, христиан, скованный ледяным бессилием, как и все вы.
Миккель. Зачем все это — стоять и кричать над мертвым телом моей жены?
Йоханнес. Затем, Миккель, брат мой, дорогой, честный, цельный человек, никогда не оскорблявший Бога лицемерной верой в Него, что это плачевно и страшно, Бог добр и могуществен, а земля Его пребывает в небрежении, ибо нет среди верующих ни единого, кто бы верил.
Доктор. Поберегите свои нервы, Йоханнес Борген.
Йоханнес. Да, среди неверующих есть верующие. Ингер, неужели ты должна истлеть, потому что наше время тлетворно? Так пусть же это свершится! Кладите крышку! Оставайтесь в своем полуверии и самодовольстве! И дайте мне вернуться во мрак, во мрак и милосердие ночи. Вот, мрак уже надвигается.
Марен. Ты бы поторопился, дядя.
Йоханнес. Дитя! Величайшее в Царстве небесном! О тебе я забыл. О да, дитя, в тебе спасение. Смотри же на свою мать, девочка. Когда я назову имя Иисуса, она поднимется. Смотри же на нее, дитя! И я приказываю тебе, ты, умершая…
Пастор. Я протестую! Отпустите меня, доктор. Я протестую. Выведите его! Он все еще безумен. Это возмутительно. Чудо не может произойти. И с этической, и с религиозной…
Йоханнес. Лицемер, сам того не ведая, ты в церковном облачении служишь Сатане, ты парализуешь мою силу. Ты всегда преследовал пророков и побивал камнями апостолов. Вон отсюда!
Пастор. Я не отступлюсь. Я нахожусь здесь по долгу службы.
Йоханнес. Ну, ладно. Оставайся здесь по воле государства, только не по воле Бога. Услышь же меня, Отец мой небесный, вручи мне Слово, Слово, что Христос добыл для нас с небес, Слово, созидающее, животворящее, вручи мне его сейчас! Услышь меня, ты, умершая! Во имя Иисуса Христа, разверзающего могилы, по истинной воле Божией, вернись к жизни! Тебе говорю, женщина, встань!
Миккель. Ингер!
Борген. Боже всемогущий!
Ингер. Ребенок? Где он? Он жив?
Миккель. Да, Ингер, да, он живет в доме Божием, но ты живешь со мной, со мной, со мной.
Борген. Господи, прости меня, прости меня, я человек грешный.
Петер. Миккель, это древний Бог, из времен Элии, всегда тот же Бог. Аллилуйя!
Пастор. Да, но это… это физически невозможно. Это не может произойти.
Доктор. Система со «смотрителями покойных» должна быть уничтожена.
Йоханнес. Портвейна! Принесите ей стакан портвейна.
Андерс. Да, да, сейчас.
Борген. Йоханнес! Ты ведь не умрешь, Йоханнес?
Йоханнес. Нет, я только немного устал. Нет, милый отец, только теперь жизнь для нас начинается.
Миккель. Ах, Ингер! Да, жизнь, жизнь!
Борген. Жизнь!
Пение псалма раздается из-за двери, которую Андерс, входя с вином, оставляет открытой.
Ибо поёт, звонко и радостно, Паства Его в каждом городе: «Славен будь Господь в небеси!»И хвалебное песнопение продолжается.
Карен Бликсен: портрет в зеркалах
Марио Варгас Льоса Рассказы баронессы © Перевод с испанского Борис Дубин
Баронесса Карен Бликсен де Рунгстедлунд, выдающаяся писательница, подписывавшая свои книги псевдонимом Исак Динесен, была, судя по всему, женщиной необыкновенной. Есть ее фотография, где она снята в Нью-Йорке вместе с Мэрилин Монро: перед нами осколок личности, буквально изглоданной сифилисом, и вовсе не красавица-актриса, — тем не менее, полные иронии и неуспокоенности огромные глаза, высохшее до костей лицо писательницы целиком перетягивают снимок на себя.
Бликсен родилась в Дании, в поместье на морском берегу между Копенгагеном и Эльсинором, которое сегодня очень похоже на нее, существо мечтательное и непредсказумое, — теперь это островок экзотических растений и птиц. Она появилась на свет в 1885 году, но как будто бы воспитывалась веком раньше, в период, который начался в 1781-м и вместе со Второй империей закончился в 1871-м, — сама Бликсен называла его «последней великой эпохой аристократической культуры». В этом временном промежутке разворачиваются почти все ее истории. По духу она была женщиной XVIII и XIX столетий, хотя друзья — о чем она рассказала в одном из блистательных интервью своих последних лет — измеряли ее возраст «тремя тысячелетиями». Карен Бликсен никогда не посещала школу и получила образование у поразительных воспитательниц, к двенадцати годам научивших ее сочинять эссе о трагедиях Расина и переводить Вальтера Скотта на датский. Ее образование было многоязычным и космополитическим; датчанка, она по большей части писала на английском.
Сказки и истории зачаровывали ее с детства, но призвание писательницы она почувствовала поздно, а вот искательницы приключений — рано. И то и другое досталось Карен от отца, симпатичного капитана Вильгельма Динесена, который, ступив сначала на опасную стезю военного, к середине XIX века влюбился в индейцев и другие племена Северной Америки, так что отправился среди них жить. Индейцы приняли пришельца и дали ему имя Боганис — его он и поставил потом на титульном листе своих мемуаров. Он покончил с собой, повесившись, когда дочери было 10 лет. Как и полагалось баронессам, Карен рано вышла замуж за своего бездельного и больного двоюродного брата, Брора Бликсена. Пара уехала в Африку разводить кофе в кенийской глубинке. Брак не сложился (французской болезнью, пожиравшей Динесен всю оставшуюся жизнь, ее наградил супруг) и закончился разводом. Брор вернулся в Европу, а Карен решила остаться в Африке, в одиночку заправляя плантацией в семьсот акров. И занималась этим четверть века в упрямой борьбе с напастями. Жизнь на африканском континенте, с которым она сроднилась, из чьих людей и просторов ее неукротимая фантазия выстроила совершенно своеобычный мир, замечательно передана в книге «Из Африки» (1938), нежном и улыбчивом воспоминании о тамошних перипетиях и необычайной пр ироде, их обрамлявшей.
Внедряя сельскохозяйственные новинки, борясь с вредителями и наводнениями, руководя своими кофейными плантациями, баронесса Рунгстедлунд не чувствовала потребности сочинять. И ограничивалась тем, что заполняла страницы записных книжек, где уже попадаются зародыши будущих рассказов. Куда больше ее занимали сафари, вылазки в отдаленные регионы, знакомство с обиходом тамошних племен, встречи с природой и дикими животными. Первобытное окружение нисколько не мешало ее тонкой духовной жизни, созданной ею самой и обогащенной книгами, а также общением с несколькими представителями культурной Европы, попадавшими в эти края, наподобие легендарного англичанина Дениса Финч-Хаттона[66], оксфордского питомца, эстета и авантюриста, с которым у Карен Бликсен завязались тесные отношения. Легко представить, как они беседуют об Еврипиде или Шекспире после дневной охоты на львов (неудивительно, что единственным писателем, которым без оговорок восхищался потом Хемингуэй, была именно Динесен). Уединенная жизнь на африканской плантации и узкий круг уехавших из Европы, с которыми писательница в Кении встречалась, во многом объясняют особый тип культуры, так поражающий читателей Карен Бликсен. Это культура, не отражающая свое время, а противостоящая ему, добровольный и намеренный анахронизм, нечто совершенно личное и несовременное, культура, не имеющая ничего общего с основными течениями, интеллектуальными заботами и господствующими эстетическими ценностями эпохи, уникальная переработка идей, образов, редкостей, форм и символов, берущих начало в северном прошлом, семейной традиции, особенностях воспитания, отмеченного интересом к скандинавской истории, английской поэзии, средиземноморскому фольклору, африканской устной словесности, преданиям и сказительским повадкам арабских повествователей. Одной из важнейших для Бликсен книг была «Тысяча и одна ночь», эта чаща взаимосвязанных историй хитроумной Шахерезады, послужившей Динесен образцом. Африка дала ей возможность жить вдалеке от всего постороннего в кругу причудливой, не опирающейся на предшественников культуры, созданной для собственного употребления, ставшей горизонтом и подосновой ее мира, — культурой, которой она обязана неподражаемостью собственных тем, стилем, поэтикой и философией своих рассказов.
Писательское призвание Бликсен тесно связано с ее банкротством предпринимательницы. При всем падении цен на кофе она с характерной непоколебимостью продолжала работу на плантациях вплоть до полного краха. Она потеряла не только африканскую землю, но и свое датское наследство. Именно в этот кризисный период, понимая, что конец ее африканского предприятия близок и неминуем, она, по ее собственному признанию, начала писать. И предавалась этому ночами, спасаясь от тревог и хлопот дня. Так были закончены «Семь готических историй», после отказа нескольких издательств появившиеся на свет в Нью-Йорке и Лондоне. Потом она опубликовала и другие сборники, некоторые — как «Зимние сказки» — высочайшего уровня, но ее имя навсегда остается связано с теми первыми семью рассказами, одним из ослепительных литературных открытий XX века.
Исак Динесен опубликовала и роман (вполне достойные забвения «Милостивые мстители»), но она — как Мопассан, По, Киплинг или Борхес — была прежде всего рассказчиком. Вот где она неповторима. Созданный ею мир — это мир рассказа, наполненный отзвуками разворачивающихся фантазий и детским волшебством слов. Читая ее, невозможно не думать о книге, чье заглавие стало нарицательным: «Сказках тысячи и одной ночи». Как и в арабском сборнике, страсть, владеющая в новеллах Бликсен всеми персонажами, наряду с переодеванием и сменой облика, — это желание слушать и рассказывать истории, спасаться от реальности в миражах воображения. Эта склонность доходит до края в новелле «Дороги вкруг Пизы», когда юная Агнесса делла Герардески (в мужском платье) прерывает схватку между старым принцем Потенциати и Джованни Гастоно, чтобы поведать историю. Этот порок фантазирования придает книге «Семь готических историй», как и повествованиям Шахерезады, форму китайских шкатулок, где одни истории родятся из других и расходятся на новые, среди которых, то прячась, то открываясь в зыбком и неуловимом бале-маскараде, течет одна, главная.
Происходит ли дело в польских аббатствах XVIII века, или в тосканских пансионах девятнадцатого, на сеновале Нордернея, который вот-вот поглотит наводнение, или жаркой ночью на африканском берегу между Ламу и Занзибаром, среди сибаритствующих кардиналов, потерявших голос оперных див или безносых и безухих сказителей, наподобие Мира Йамы в новелле «Сновидцы», рассказы Динесен всегда обманчивы, полны неуловимым и тайным. Никогда не скажешь, где они начинаются и какой историей — среди множества ответвлений, в которых теряется попавший в эти сети читатель, — автор хочет поделиться. Лишь понемногу, исподволь, как бы случайно, проступает она на фоне, расцвеченном новыми и новыми приключениями, которые то предстают простыми попутчицами, то, как в «Сновидцах», благодаря обескураживающему финалу, наконец прорисовываются и сливаются в единую связную историю.
Феерические, блистательные, неожиданные, колдовские, скорее замечательно начинающиеся, чем безупречно законченные, рассказы Динесен прежде всего причудливы. Нелепость, абсурд, гротескная или неправдоподобная деталь то и дело вторгаются в них, временами разрушая драматизм или тонкость эпизода. Эта непобедимая тяга к эксцентричности сильнее ее воли, как у других юмор или мелодраматизм. От рассказов Динесен нужно всегда ждать неожиданностей. В неправдоподобии она видела саму суть литературы. Так говорит кардиналу в новелле «Потоп в Нордернее» извращенная и прельстительная фрекен Малин Нат-ог-Даг, излагая в окружении вод, которые должны их неминуемо поглотить, свою теорию о Боге, предпочитающем истине, «которую он давным-давно знает», маскарад, поскольку «истина хороша для портных и сапожников». Истина литературы для Динесен — в ее обманчивости, обманчивости явной, настолько искусно изготовленной, настолько экзотичной и прелестной, настолько непомерной и притягательной, что ее в конечном счете предпочитают правде. Поучения князя церкви в этой новелле: «Не бойся абсурдного! Не чурайся фантастического!» — могли бы служить девизом искусства Динесен. Однако понятие фантастического тут следует ограничить тем, что в силу своей безмерности и причудливости не умещается в наше привычное представление о реальном, и исключить из фантастического все сверхъестественное: хотя умерший в ее рассказах воскресает и восстает из преисподней, чтобы — как это делает корсар Мортен де Конинк в новелле «Ужин в Эльсиноре» — отужинать с двумя своими сестрами, фантазия у Динесен, при всех излишествах, всегда уходит корнями в реальный мир, как это бывает в театре или в цирке.
К прошлому Динесен притягивала память о детстве, воспитание, аристократическое мировосприятие, но еще и его нереальность. Отодвигая свои истории на век-два назад, она могла ослабить поводья, дать волю воодушевлявшей ее антиреалистической страсти, тяге к гротеску и причуде, не чувствуя себя прикованной к современности. Любопытным образом проза этой писательницы с такой свободной и выбивающейся из рамок фантазией, незадолго до смерти хвалившейся Даниэлю Жиллесу[67], что не испытывает «ни малейшего интереса к социальным вопросам и фрейдистской психологии», а всего лишь «придумывает красивые истории», появилась на свет в тридцатые годы, когда западная словесность маниакально кружила вокруг реалистического описания политических проблем, социальных обстоятельств, психологических сложностей, нравоописательных картин. Поэтому Андре Бретон считал, что над романом тяготеет проклятие реализма, и вовсе изгнал его из литературы. На фоне общего повествовательного реализма встречались и исключения, писатели, шедшие наперекор основному потоку. Одним из них был Валье-Инклан, другим — Исак Динесен. У обоих рассказ, ни в чем не уступая стихам, превращался в сон, сумасшествие, бред, тайну, игру.
Семь фантастических рассказов книги превосходны, но «Обезьяна» лучше других и, если говорить обо всем написанном Бликсен, полнее всего воплощает ее причудливый, утонченный мир изысканного покроя, прихотливой чувственности и неуемной фантазии. В этой восхитительной жемчужине все взаимосвязано и уравновешено, поэтому трудно передать ее содержание в нескольких словах. На нескольких страницах здесь собраны совершенно разные истории, искусно переплетенные друг с другом. Одна из них — глухая борьба двух внушающих страх женщин — элегантной канонисы Седьмого монастыря и юной, диковатой Афины, которую канониса задумала выдать за своего племянника Бориса, используя для этого все законные и незаконные методы, включая любовные зелья, обман и насилие. Но неукротимая канониса сталкивается со столь же неподатливой волей юной великанши Афины, выросшей в суровых лесах Хопбаллехуза, ударом кулака без малейшего смущения выбивающей галантному Борису два зуба и сцепляющейся с ним в смертельной схватке, когда подстрекаемый тетушкой юноша пытается девушку соблазнить.
Мы так и не узнаем, кто из двух женщин одержал в этом поединке верх: история вдруг обрывается, и читатель попадает в неожиданно вклинившийся другой рассказ, который до поры, незаметно как змея, скользил под первым: речь идет о взаимоотношениях канонисы Седьмого монастыря и обезьяны, привезенной ей из Занзибара племянником-адмиралом и во всем подражавшей хозяйке. Яростное вторжение обезьяны (она врывается в комнату, разбив окно и пылая страстью, которую не назовешь иначе как сексуальной) в тот самый момент, когда канониса почти завершила свою военную операцию, заставив Афину согласиться на замужество с Борисом, — один из самых трудных и мастерски решенных эпизодов в мировой литературе. Этот зазор в рассказе — такой же гениальный фокус, как проезд флоберовских Эммы и Леона в фиакре по улицам Руана. Мы догадываемся, что происходит внутри фиакра, но рассказчик не говорит об этом ни слова — он лишь намекает, предоставляя читателю додумывать и подстегивая его воображение красноречивым молчанием. Точно так же утаивает факты, втягивая в свою повествовательную воронку, новелла Бликсен. Хитроумное изложение эпизода изобилует второстепенным и скрывает главное — греховную связь обезьяны и канонисы. Тем самым, эта мерзкая связь молчаливо мерцает и вырисовывается перед читателем с той же или даже еще большей силой, чем перед ошеломленными глазами свидетелей невероятного происшествия, Афины и Бориса. То, что в конце рассказа удовлетворенная обезьяна взбирается на бюст Иммануила Канта, составляет квинтэссенцию головокружительной ювелирики, образцами которой наполнен мир Динесен.
Увлекать, отвлекать, развлекать: многие современные писатели оскорбятся, напомни им кто-то о подобных обязательствах литературы. В годы появления «Семи готических историй» мода диктовала, что писатель должен быть критической совестью общества или испытателем возможностей языка. Долг и эксперимент — вещи, кто спорит, почтенные, но, если история скучна, ее не спасет никакая доктрина. Рассказы Карен Бликсен бывают не во всем совершенными, бывают излишне запутанными, но скучными они не бывают никогда. Ее проза анахронична еще и в этом: рассказать для нее — значит околдовать, помешать зевку любой уловкой — нагнетаемой тревогой, жестоким открытием, внезапным происшествием, разящей деталью, невероятным появлением. Ее неисчерпаемая и эксцентричная фантазия то переплетет историю бесчисленными анекдотами, то направит рассказ по самому неожиданному руслу. Смысл этих рискованных шагов и головоломных трюков — привести читателя в замешательство, и это автору всегда удается. Сюжеты ее рассказов разворачиваются в неопределенной зоне — это уже не физика, но еще не фантастика. Их реальность почерпнута из обеих областей, но не принадлежит ни к одной, как это случалось в лучших новеллах Кортасара.
Одна из констант бликсеновского мира — непрестанные трансформации личности ее героев, существующих под разными именами, в обличье то женщин, то мужчин и ведущих, по меньшей мере, две параллельные жизни. Как будто все человеческие существа поражены у нее вирусом нестабильности бытия, только вещи и природа всегда остаются собой. Так возрожденческого склада кардинал из «Потопа в Нордернее» оказывается в конце рассказа камердинером Каспарсеном, который убил своего хозяина и занял его место. Но апофеоз этого маскарадного танца личностей воплощает Перегрина Леони, она же Люцифера и донья Кихота Ламанчская, чья история проходит сквозь целую мириаду других историй в новелле «Сновидцы». Оперная певица, на представлении моцартовского «Дон Жуана» в миланском театре Ла Скала потерявшая голос от ужаса, когда театр загорелся, она заставила поклонников поверить, что умерла. Помощником в этих замыслах стал ее почитатель и спутник, богатейший еврей Марк Короза, сопровождающий актрису повсюду, но запретивший ей об этом сообщать и скрывающийся от нее, однако всегда находящийся рядом, чтобы в случае необходимости облегчить своей избраннице очередной побег. Перегрина меняет имена, обличья, любовников, страны (Швейцария, Рим, Франция) и занятия (женщина легкого поведения, простая мастерица, революционерка, аристократка, хранящая память о генерале Зумале Карреги) и, в конце концов, умирает в накрытом снежной бурей альпийском монастыре, окруженная четырьмя брошенными ею любовниками, знавшими ее в разных местах и под разными масками, но только теперь, благодаря Марку Корозе, открывающими ее истинную изменчивую личность. Принцип китайской шкатулки — одна история внутри другой и так далее — с впечатляющим мастерством применен в рассказе, где из разных свидетельств, не имеющих, кажется, ничего общего, составляется, как в головоломках, прерывистая и многоликая судьба Перегрины Леони, этого блуждающего огонька, вечной актрисы, созданной, как все персонажи Карен Бликсен, не из плоти и крови, а из снов, фантазий, грации и юмора.
Стилистика Динесен, как ее культура и тематика, не отсылала к образцам эпохи; это был особый случай, гениальная аномалия. При появлении «Семи готических историй» ее проза ошеломила англосаксонских критиков несколько старомодной элегантностью, изыском и вызовом, игрой и дерзостью эрудиции, а также слабой, а то и вовсе никакой, связью с живым английским, которым изъяснялись на улицах. Но еще и юмором, тонкой, улыбающейся ироничностью, с какой в этих новеллах рассказывалось о невероятной жестокости, низости, бессердечии, словно это были повседневные пустяки. Юмор у Динесен — великий амортизатор любых злоупотреблений, которыми переполнен ее мир, будь они плотскими или духовными, крупица, очеловечивающая бесчеловечность и придающая переносимый вид тому, что иначе вызвало бы отвращение или ужас. Чтение ее прозы как мало что другое убеждает: рассказать можно обо всем, если уметь это делать.
Литература для Бликсен была тем, что современных ей писателей только отпугивало: бегством от реальной жизни, занимательной игрой. Сегодня ситуация переменилась, и читатели понимают ее лучше. Делая литературу путешествием в воображаемое, хрупкая баронесса Рунгстедлунд вовсе не уклонялась от моральной ответственности. Напротив, забавляя, привораживая, развлекая, она вносила свой вклад в утоление такой же древней потребности человеческих существ, как потребность в еде и украшениях, — я говорю о жажде ирреального.
Джон Апдайк Шехерезада © Перевод с английского Елена Суриц
Карнавал. Занимательное чтение и посмертные рассказы Исака Динесена. — Юниверсити оф Чикаго пресс. — 338 с.
В интервью, которое Карен Кристенсе Динесен, иначе баронесса Бликсен-Финеке, в 1956 году согласилась дать «Пари-ревю», она объяснила, как пришла к своему, в нашем веке редкостному, мастерству сказительницы: «Собственно, писать я начала до Африки, но думать не думала о писательстве как о профессии. Я опубликовала несколько рассказиков в датских литературных журналах еще двадцатилетней, и даже были поощрительные рецензии, но продолжать не собиралась, ну, я не знаю, какая-то боязнь безотчетная — втянуться, впасть в зависимость… Потом уже, когда стало ясно, что придется продать мою ферму и вернуться в Данию, — тут-то я и стала писать всерьез. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, взялась за сказки. Тогда и написала две из „Семи фантастических историй“. Зато рассказывать я научилась раньше. У меня, понимаете ли, были замечательные слушатели. Белые люди разучились воспринимать сюжет на слух. Ерзают или клюют носом. А туземцы умеют слушать. Вот я им и рассказывала истории, всякие-разные истории».
Но истории Исака Динесена замечательны, конечно, не только дразнящим напряженьем, волнующими поворотами, бесценными при устном сказе. Серебряную нить сюжета ведет чеканность безупречных фраз; величавый разлив пейзажей, вызванных к жизни глазом художника; характеристики, полные странной, отрешенной нежности и философского ума, который свою пронзительность унаследовал от земляка, от Киркегора, но еще больше взял от XVIII века, всегда обуздывавшего коварную игривость, страсть к разрушению иллюзий любовью к равновесию, к покою. Воображенье Карен Бликсен способно, кажется, ее перенести в любой закоулок европейской истории и там найти сюжет, тронутый лоском и подернутый полупрозрачной тенью средневековых аллегорий. Мощь интеллекта и виртуозное владенье ремеслом оживляют и такой материал, из какого в других руках вышла бы разве что костюмная драма, надуманная, ходульная и вялая. В те дни, когда заурядный литератор все, что было до XIX века, жаждет эффектно «освежить», она берет косматую готику, отставные законы романтизма и уверенно вписывает в круг наших, вечных, теперешних людских забот. Датчанка, писавшая по-английски под мужским именем[68], она стояла несколько особняком, кое-кто на нее посматривал с предубеждением, Шведская академия, кстати, ухитрилась так и не дать ей Нобелевской премии (хоть она дожила до почтенных лет и обладала негласным преимуществом как скандинавка), о чем и помянул Хемингуэй в собственной Нобелевской речи.
Творческий путь Исака Динесена целиком отражен в рецензируемом сборнике «Карнавал. Занимательное чтение и посмертные рассказы», объединившем все неопубликованные или, во всяком случае, разрозненные сочинения с 1909-го по 1961 год. Спасибо Чикагскому университету, книга издана достойно: прелестная лиловая обложка, добротный синий переплет, том удобно ложится в руку, и шрифт читается удобно. Не стоило бы упоминать, конечно, об этих мелочах, если бы нынешние издатели то и дело не покупались на небрежно-вычурный дизайн и не поддавались пещерной тяге к томам таких размеров, что распахнуть их вы сможете лишь на постели, зато уж шрифт на страницах обнаружите столь мелкий, что для чтения вам придется тащить с лужайки прожектор. Единственная моя техническая претензия к изданию — библиографические сведения произвольно раскиданы между суперобложкой и форзацем. Супер сообщает, например, что некоторые вещи переведены с датского, одинокое примечаньице перед титульным листом скромно уточняет, какие именно: «Семейство кошачьих», «Дядя Теодор» и «Медведь и поцелуй».
Самый ранний рассказ в сборнике «Семейство кошачьих» впервые был опубликован в 1909 году, когда, нам говорит обложка, автор обнаружил в себе талант, нащупал оригинальные темы, но не обрел еще собственного голоса. Не знаю, по мне так голос вполне прорезался, и притча о голландском процветающем семействе, которому непременно требуется хоть одна паршивая овца, чтобы всем прочим не утратить добродетели, обнаруживает в двадцатичетырехлетней Карен Динесен — как она тогда звалась[69] — многие черты, отличающие ее зрелость: тонкий юмор, вкус к сверхъестественному, расчисленность сюжетов и вдобавок верное социальное чутье, которое подсказывает ей, что изображаемое буржуазное семейство лучше поселить не в датском городе, а отправить за границу. При этом, правда, она дарит Голландии несколько фантастическую элегантность всех своих пейзажей.
Декабрьский день клонился к вечеру, недавно выпал первый снег, тонким покровом лег на улицы, на крыши, палубы и баржи, черные вороны тихо и печально обсели голые деревья вдоль каналов, а небо было бурое, как торфяной дым. Только далеко на западе, светлея, расползалась в небе полоса — цвета лимона или очень-очень старой слоновой кости.
Это перевод с датского, на котором в конце своего семнадцатилетнего пребывания в Кении, Британской колонии, она снова всерьез взялась писать, хоть и благоприобретенный английский ей подчинялся безусловно[70].
Однажды ночью, в полнолуние, в год 1863-й, от Ламу на Занзибар шла шхуна, держась в миле приблизительно от берега… Чем-то страшен был покой беззвучной ночи, как будто мир постигла непонятная беда, как будто кознодейством неких сил вдруг он опрокинулся, перевернулся. Вольный муссон дул из далеких стран, а море катилось, и катилось, и продолжало свой бесконечный путь в дымных лучах луны.
Так начинается рассказ «Сновидцы» из «Семи фантастических историй», но и в более мелких рассказах «Карнавала» мы то и дело встречаем волшебные пассажи, мы будто видим те, нам незнакомые, места, в которых и сама-то Карен Бликсен бывала редко, или вовсе не бывала:
Древний город Бергамо стоит на скале, поднявшейся на пятьдесят футов ввысь и раскинувшейся на три тысячи футов. Отсюда, как ястреб на мышь, смотрит он на Читта-Басса, более новый город торговли и ремесел, припавший далеко внизу, на зеленеющей долине, к дороге, уводящей в неведомый, огромный мир.
Там, в вышине, в сумятице изломанных проулков Читта-Альта еще дышит темное итальянское средневековье… Один знаменитый путешественник сказал когда-то о бергамских аристократах, что все они сплошь ополоумели от похоти и злобы. Души этих островитян застыли, как вулканическая лава, и у них знойная, густая кровь.
Рукописная страница, которую писательница разрешила воспроизвести в «Пари-ревю», обнаруживает почерк крупный, смелый, летающий от края к краю страницы без видимых сомнений, с одной единственной помаркой. Когда здоровье пошатнулась, она стала диктовать. Беглость прорицательских речей, отрешенных, как бормотание Сивиллы, — вот черта ее стиля; другая черта — точнейший вкус. Читая «Желтый Кром» Олдоса Хаксли, она заметила: «Будто надкусываешь какой-то неизвестный, сочный фрукт», а Дороти Кэнфилд[71], представляя американской аудитории неизвестного автора «Семи фантастических историй», по-видимому мужчину, начала так: «Новый незнакомый фрукт всегда надкусываешь с нетерпеньем, сперва не разбирая вкуса». Определенье «вкусно» так и напрашивается, когда смакуешь густые, сочные, атласные абзацы, становясь, по воле автора, разом гурманом и обжорой. Подобно своему городу Бергамо, она глядит, как ястреб; и что ни схватит этот взгляд, делается осязаемо, хоть щупай. Подобно ястребу, она высматривает всегда что-то свое и неизменно падает на ту же жертву.
Из одиннадцати рассказов «Карнавала» три увенчаны поцелуем, а семь — все, кроме двух первых и двух последних, — славят власть юных женщин. Власть эта не основана на плоской сексуальности; нет, героини по большей части вообще невинны. Пятнадцатилетняя героиня «Последнего дня», читая Евангелие умирающему, позволяет ему поцеловать ее в знак прощанья с жизнью. Она отлично понимает, что произошло.
Ее светлые, широко открытые, ястребино зоркие глаза глядели строго, и я даже решил бы, что она на меня сердится, если бы в то же время не прочитал в этих глазах доверия, сочувствия и поощренья. Она все понимала и смеялась над опасностью.
Девятилетнюю героиню «Толстяка» не целуют, ее убивают, но она торжествует над убийцей, являясь ему после смерти. «Все время он слышал у себя за спиной ее неотступные, легкие шажки». В «Гордой даме» пятнадцатилетняя героиня поцелуем убеждает главного палача Парижа оказать на эшафоте ее прабабке, аристократке, подобающие той почести; а в «Дяде Сенеке» и в «Призрачных конях», детективных рассказах, опубликованных когда-то в американских глянцевых журналах для домохозяек, юные девушки завладевают важной тайной. Героине «Призрачных коней» всего шесть лет, но вот как ее описывает автор:
Она встала в своей бумазейной рубашонке, и лицо ее оказалось вровень с его лицом. Какие прелестные глаза, как тонок изгиб бровей, какие буйно-густые были у нее волосы. И какой странной силой дышала вся эта хрупкая фигурка.
Карен Бликсен и сама была хрупкая, и в конце жизни немало дней промаялась на больничной койке — болезнь вела начало от незалеченного сифилиса, которым муж заразил ее в первый год брака. После нескольких несчастливых лет они расстались, и она единолично управляла кенийской кофейной плантацией в шесть тысяч акров, покуда резкое паденье цен на кофе не вынудило ее продать хозяйство и вернуться в Данию, к писательству. Живя на ферме, как свидетельствует автобиографическая книга «Из Африки», она нередко навещала живших в ее владениях сомалиек и вслушивалась в их рассказы. «Была во всех этих рассказах одна общая черта: женщины, целомудренные или нет, всегда одерживали верх над мужчинами и в конце всегда выходили победительницами… В замкнутом женском мире, так сказать, за его бастионами и бойницами, я ощущала дыхание идеала, без которого мой гарнизон не мог держаться так отважно; то была мечта о тысячелетнем царстве, где женщины будут нераздельно править миром». И разве не сквозит эта мечта в слепяще-драгоценных поцелуях, разве не дышут ею все властные своим бессилием отщепенки, бредущие по страницам прозы Карен Бликсен? И разве всю женскую романтическую литературу, и вершину ее «Грозовой перевал»[72], не озаряет та же молния, не питает вера в то, что сила духа, упрятанная за телесной слабостью, преобразит материю и наконец восторжествует в материальном мире, сейчас столь нераздельно управляемом мужчинами? В женском гарнизоне под началом Исака Динесена красота и духовные победы каждой заносятся в анналы, как подвиги бойцов.
Ее черненые ресницы были до того длинны, что ясные карие глаза глядели из-за них, как из засады, и какое бы место ее тела — горло, плечо, стан или колено — вы ни рассекли острой саблей, у вас получился бы равно безупречно круглый срез.
Эти страшноватые почести воздаются одной из четырех героинь заглавной повести — «Карнавал». На протяжении всей повести, действие которой происходит в 1925 году в Копенгагене, группка блестящих юных дам, на часок удрав с костюмированного бала, рискованно шалит и манерно шутит. В конце концов, в разноцветную, сверкающую женскую среду, весь в черном, выкрашенный черной краской, вторгается молодой человек с целью грабежа, но вместо этого попадает в рабство к младшей, по имени Арлекино, девушки «с тем бесстрастным, слегка насмешливым лицом, какое встретишь разве что у японской куклы». При всем своем сверканье, «Карнавал» нам представляется, в общем, чем-то надуманным, невнятным, бессердечным; сперва, свидетельствует предисловие, «он замышлялся, как текст для кукольного представления», и писательница решила его не публиковать, хоть «самые удачные мотивы потом использовала в других произведениях». Даже в посмертном сборнике, куда обычно входят вещи недоработанные, бледные и оттого не удостоившиеся места в прижизненных собраньях, «Карнавал» глядится явным неуспехом — все в нем как-то уж слишком нереально, хоть действие и происходит в наш век и за непрочной декорацией великосветского загула искусительно сквозит жизнь самой Карен Бликсен. Замысловатую задачу — преобразить в литературу пьяный бред и вдохновенье светского веселья — ей так же мало удалось решить, как Скотту Фитцджеральду в романе «Ночь нежна».
Гораздо выразительней другая повесть сборника — пусть неоконченная, пусть скорее сказка — под названьем «Анна». Действие происходит в Ломбардии, примерно век назад, а героиня, Анна, — дочь глухонемой матери и отца-канатоходца. К пятнадцати годам из нее выросла настоящая стойкая амазонка. «Был в юной крестьяночке тихий покой и особенное равновесие, позволявшее ей поднимать ношу с той же легкостью, с какой она ее опускала. Вам могло показаться, что она — ребенок из породы великанов, и в один прекрасный день, как игрушку, поднимет дворец Гаттамелаты[73] вместе со всем скарбом». Сила ее столь очевидна, что позволяет ей быть податливой и мягкой; когда молодой хозяин палаццо ее соблазняет, единственное слово «прохлада» только и выдает тайну этой силы. «Все вокруг и все внутри, как сговорясь, толкало его прижать ее нежное тело к железной своей груди и освежить пылающее, твердое лицо прохладой этих губ и щек». Сделав его мужчиной, она пребывает ему верна и бестревожна посреди той буйной динесеновской вязи, где все смешалось: нежданные наследства, преступленья, мечты о женском царстве. «Как бы ни вихляла, ни ломалась, кажется, линия ее судьбы, сама-то она знала, что прямиком, стрелой, летит к несчастному, непонятому мальчику, который без нее не может жить, чтоб снова ему предаться телом и душой». А дальше уже маячит счастливая развязка, и мы удовлетворенно в нее вглядываемся, покуда баронесса Бликсен-Финеке скрывается в дрожащем мареве волшебной сказки, не удосужась подобрать последние неряшливые нити и написать: «Конец».
Образ линии, прикинувшейся витой и ломкой, а на деле прямой, как стрела, отлично служит метафорой сказительского искусства. Искусство это не вымирает, но еще не скоро явится в такой красе, какой его дарила Карен Бликсен. Высокое рожденье в самом уютном из королевств Европы, сменившись диковатым африканским житьем, открыло ее тем ветрам, какие в западном мире уж давно не веют. У героини самого странного рассказа во всем сборнике — «Медведь и поцелуй» — только и общего с Арлекино и Анной, что женская древняя сила; она — крошечная финка, жена великана-отшельника. «Во всем саамском, в кожаной куртке, в кожаной шапочке, в саамской обувке, она держалась прямо, как пробка в горлышке бутылки, и было непонятно, где у нее талия, положенная всякой женщине, так что им припоминалось выраженье капитана — „баба-с-пальчик“. …Но это, без сомненья, был тот пальчик, который жмет на спусковой крючок». Трое, высадившись на берег поохотиться, набредают на ее уединенный дом, который муж-великан сам построил и украсил затейливой резьбой. Супруги угощают пришельцев крепким кофе и направляют в горы, где живет медведь, известный всей округе. Те возвращаются на склоне дня ни с чем, и крохотная баба-с-пальчик вдруг дарит одному из охотников свой поцелуй. Смысл рассказа, написанного в пятидесятые годы, сперва по-датски, ускользает даже от самих героев, когда те берутся обсуждать случившееся. Быть может, и для автора это не совсем рассказ, скорей идеограмма мира: с одной стороны, медведь, и поцелуй — с другой; пустая охота, но избыточная резьба; а в центре, между всех этих противоположных сил (любовь, жестокость, искусство, авантюра) — провал, бездна, глубокий ров, через который канатоходец-автор не перекинул своего каната, — неприкрашенная пустота, зияние бессмыслия.
Вода, вода морская, «холодный, алчный, извечный враг людей», как доказывается дивным «Потопом в Нордернее»[74], неизменно вдохновляла Исака Динесена — зеленая тень вокруг уснувшей лодки, скалы, заглядевшиеся на свой дрожащий очерк в дремучей черноте, и «благородно распрямленная линия горизонта: светлая на светлом» — волны, волны моря качаются и по рассказам «Карнавала». И наша человеческая жизнь уже кажется нам островом, как островом ведь кажется и Дания, и под давленьем изначальных, древних сил вымыслы, пусть легкие, воздушные, уже не кажутся игрушечными. Сложность их проста, как прост кристалл, и тьма, притаившаяся за первобытным племенным костром, все время нам мерещится за спиной сказителя. «Если сказитель остался верен, неуклонно верен, сказу, здесь, в конце, пусть говорит молчанье».
Трумен Капоте Исак Динесен © Перевод с английского Елена Суриц
Рунгстед — приморский городишко на береговой дороге между Копенгагеном и Эльсинором. Среди путешественников XVIII века это ничем другим не замечательное место славилось услугами своего постоялого двора. Двор, хоть давно не привечает кучеров с их седоками, знаменит по-прежнему: здесь живет первейшая гражданка Рунгстеда, баронесса Бликсен, она же Исак Динесен, она же Пьер Андрезель.
Баронесса, весом с перышко и хрупкая, как украшенье из ракушек, принимает посетителей в изысканно-пустынной гостиной, где сонно посапывают псы, где топится камин и кафельная печь и где хозяйка, словно сойдя со страниц одной из собственных «Фантастических историй», кутается в ощетиненные волчьи шкуры и английский твид, утопив стопы в меху, икры, тонкие, как ножки цапли, обтянув шерстяными рейтузами, а шею, которую можно бы легко продеть в кольцо, обмотав сиреневыми зыбкими косынками. Время ее истончило — живую легенду, прошедшую через такое, что закаленному мужчине впору: в упор стреляла в атакующих львов и разъяренных буйволов, управляла африканской фермой, пролетала над Килиманджаро на опасных, хлипких первых самолетах, врачевала туземцев; время, иссушив, свело ее к самой сути — так виноград становится изюмом, розовым маслом — роза. Мгновенно, даже если вам неизвестно ее досье, вы понимаете, что перед вами la vraie chose[75], подлинная личность. Такое лицо — все складчатое, каждой складкой излучающее гордый ум, всепонимающую жалость, она же мудрость, — кому попало не дается, да и глаза такие — тлеющие угли, глубоко сидящие, как бархатистые зверьки в норе, — вот уж не могут выпасть на долю заурядной женщине.
Если вас пригласили к чаю, то под этой маркой баронесса вас накормит до отвала: сначала херес, потом разгул печений и варений, холодные паштеты, прозрачнейшие блинчики с духом апельсина. Но хозяйка с вами не разделит трапезы, нет, ей нельзя, здоровье не позволяет, она вообще ничего не ест — не пьет, ну, одну устрицу, пожалуй, одну клубничнику, бокал шампанского. Зато она говорит. Как большинство художников и, уж конечно, как все старые красавицы, она настолько сосредоточена на себе самой, что себя предпочитает всем прочим предметам разговора.
Губы, чуть тронутые помадой, скривит несколько паралитичная улыбка, когда на английском с чисто британскими модуляциями она вам скажет, например: «Ах, каких только историй не таит этот старый дом. Он принадлежал моему брату, я у него выкупила; последний взнос уплатила на „Последние рассказы“[76]. Теперь он мой, безраздельно. У меня на него большие посмертные виды. Тут будет птичий двор, и парк, и птичий заповедник[77]. Все годы в Африке, пока управляла своей высокогорной фермой, я думать не думала, что снова осяду в Дании. Когда узнала, увидела, что ферме конец, когда убедилась, что ее потеряла, я стала писать свои истории: чтобы не думать о неотвратимом. И во время войны тоже; дом был перевалочным пунктом для евреев, бежавших в Швецию. Евреи на кухне, наци в саду. Приходилось писать, чтоб не свихнуться, вот я тогда и написала „Милостивых мстителей“[78], вовсе никакую, кстати, не политическую притчу, а ведь многие, многие так решили — просто смешно. Поразительные люди, эти наци. Я с ними часто спорила, очень резко им перечила. О, вы только не подумайте, что я хвастаюсь своей отвагой, я ровно ничем не рисковала; у них была чисто мужская психология — с высокой горы плевать на то, что думает какая-то там женщина. Еще пышечку? Ну пожалуйста. Люблю полакомиться опосредованно. Я все ждала сегодня почтальона, надеялась, он мне доставит новую пачку книг. Я читаю залпом, книг на меня не напасешься. Чего я прежде всего требую от искусства? Воздуха, атмосферы. В нынешней литературе с этим не густо. Книги, которые люблю, мне никогда не надоедают. Могу по двадцать раз их перечитывать — и перечитываю. „Король Лир“. Скажите мне, как человек относится к „Королю Лиру“, и я сразу пойму, как к нему относиться. Конечно, хочется и свеженькой странички; прежде небывалого лица. К дружбе у меня талант, друзья, вот что больше всего меня в жизни тешило: встряхнуться, сдвинуться, встретить новых людей, их привязать к себе».
Время от времени баронесса встряхивается. Опираясь на преданную руку потерянно-веселой мисс Клары Свендсен, давней спутницы-секретаря («Милая Клара. Началось с того, что я наняла ее в качестве кухарки. После трех кошмарных блюд я на нее накинулась: „Милая, вы самозванка. Скажите правду!“ Тут она — в слезы, и призналась, что, учительствуя на севере Дании, она влюбилась в мои книги. Однажды увидела мое объявление в газете, мол требуется девушка на кухне. Вот и заявилась, и пожелала остаться. Поскольку стряпать она не умела, мы решили, что она будет у меня секретарем. До сих пор безумно жалею о своем решении. Клара чудовищный тиран»). Баронесса отправляется в Рим, в Лондон обыкновенно пароходом («Самолетом вы не путешествуете, вас просто отправляют, как посылку»). В прошлом, 1959 году, в январе, она впервые посетила Америку, которой благодарна за первого издателя и первых читателей для ее книг. Прием, какой там ей оказали, можно сравнить разве что с приемом, оказанным Йенни Линд[79]; по крайней мере, такого не сподобилась ни одна литературная знаменитость после Диккенса и Шоу. Телевидение, кинохроника. Единственное публичное чтение, на котором она согласилась выступить, вылилось в гонку за билетами, драку из-за них, овации, вставанье зала, и никого, ей-богу, так не рвали на части, приглашая почетным гостем на несусветное множество мероприятий («Прелесть! Нью-Йорк, ах, вот где жизнь! Обеды, ужины, шампанское, шампанское, и все были так милы. Когда приехала, я весила сорок кило, а домой вернулась еще на пять кило легче; доктора не понимали, как это я еще жива, убеждали меня, что мне бы полагалось умереть, ох, да я и без них давно это знаю. У меня со смертью старинные шашни. Ничего, мы выжили, а Клара — Клара пять кило прибавила»).
Стоицизм, с каким она принимает свой невозможный возраст и все, чем он чреват, не то чтобы неколебим; вдруг да и прорвутся нотки здоровой надежды: «Хочется еще книгу кончить, хочется еще увидеть молодые овощи, и Рим опять увидеть, и Гилгуда в Стратфорде[80], и, может быть, Америку. Ах, если бы. И откуда у меня такая ужасная слабость?» — стонет она, темной, тощей рукой теребя сиреневые зыбкие косынки; и этот стон, подкрепленный боем часов на каминной полке и покашливаньем мисс Свендсен, недвусмысленно намекает гостю, что пора и честь знать, пора дать баронессе возможность прикорнуть на кушетке у камелька.
И гость спешит раскланяться, и ему дарят самую любимую из книг, написанных хозяйкой («Потому что — ведь все это было, было на самом деле»), действительно очаровательную вещь «Из Африки». На подарке надпись: «Je repondrais — Карен Бликсен».
— Je repondrais, — она объясняет, стоя в дверях и на прощанье подставляя щеку для поцелуя, — «я отвечу» — чудный девиз. Я его переняла у семейства Финч-Хаттонов[81]. Мне он потому нравится, что я считаю — каждый из нас в себе несет ответ.
Сама она отвечала жизни «Да», и ее ответ эхом отдается в книгах, и от них кругами, кругами расходится долгое, звучное эхо.
Литературное наследие
Стен Стенсен Бликер Галантерейщик Новелла Перевод Анатолий Чеканский
Милого потерять — Все равно что все горе на свете собрать.
Иной раз, когда я брожу по великой вселенской пустоши, где вокруг меня только лилово-розовый вереск, а надо мной — лишь голубое небо; когда я удираю подальше от людей и памятников их земной суете, что, в сущности, представляют собой всего лишь просто кротовины, которые время или какой-либо мятежный душой Тамерлан когда-нибудь сровняют с землей; когда я воспаряю легким сердцем, гордый своей свободой, точно бедуин, у которого нет ни собственного дома, ни ограниченного забором поля, каковые могли бы привязать его к одному месту, который владеет всем, что видит, и который нигде не проживает, а просто кочует и останавливается там, где захочет, когда мой блуждающий взгляд выхватывает какой-нибудь дом на краю окоема и, к моему неудовольствию, останавливается на нем, меня, бывает, охватывает желание — Господь да простит мне эту мимолетную мысль, — чтобы это людское жилище исчезло с моих глаз! Ведь там тоже обитают изнурительный труд и тяжкое горе, там люди бранятся и ссорятся, деля всё на мое и твое! А эта дарующая счастье пустыня, она и моя, и твоя, она принадлежит всем и никому. А вдруг какой-нибудь лесник захочет разрушить все поселение и посадить лес на полях местных жителей и в их порушенных деревнях? Вот и меня порой посещает эта кощунственная мысль: а что, если бы здесь кругом была поросшая вереском пустошь, та же, что и тысячи лет назад, не возделанная, не тронутая рукой человека. Впрочем, как уже сказано, мысль эта несерьезна. Ибо, когда я, уставший донельзя, измотанный жарою и жаждой, с болезненной тоской мечтаю о восточных шатрах и кофейнях, то благодарю Господа, если вдруг вижу покрытый вереском дом, и пусть даже до него путь неблизкий, но он обещает мне защиту и отдохновение.
Вот так случилось и несколько лет назад, когда тихим теплым сентябрьским днем я оказался в самом центре все той же пустоши, которую я — так же как это сделал бы кочевник — называю своею. На безветрии недвижимы были кустики красновато-синеватого вереска, душный воздух навевал дремоту. Далекие холмы, ограничивавшие окоем, казались мне облаками, что проплывали над громадным степным пространством, принимая самые удивительные формы домов, башен, замков, людей и животных. Но все они имели какие-то неясные, размытые очертания и постоянно сменяли друг друга, словно сновидения: то хижина превращалась в церковь, а та, в свою очередь, в пирамиду, тут возвышался шпиль, а там шпиль вдруг уходил в землю, человек становился лошадью, а та — слоном, здесь раскачивалась на волнах лодка, а там — корабль с поднятыми парусами. И долго я тешил свой взор видами этих фигур — панорамой, каковой имеют возможность наслаждаться лишь моряки да жители пустыни, пока, наконец, усталость и жажда не вынудили меня искать настоящее жилище среди множества воображенных. Я и вправду возжелал обменять все мои великолепные волшебные дворцы на какую-нибудь человечью хижину. Что мне и удалось: вскоре я обнаружил взаправдашнюю усадьбу, чьи очертания становились яснее и четче, по мере того как я приближался к ней, и которая, окруженная кучами торфа, на самом деле была не таких больших размеров, нежели это казалось на расстоянии.
Обитатели ее были мне вовсе не знакомы. Одеты они были по-бедному и пользовались убогой домашней утварью, однако я знал, что житель пустоши зачастую прячет благородный металл в нераскрашенной шкатулке или в неказистом настенном шкафчике, а толстый бумажник — под латаной-перелатаной фуфайкой. И потому когда, войдя в комнату, я сразу же увидел альков, доверху набитый чулками, то тут же правильно предположил, что очутился в доме зажиточного галантерейщика. Попутно в скобках отмечу, что бедных галантерейщиков на моем пути не встречалось.
Пожилой, седовласый, но еще крепкий мужчина поднялся со своего места и протянул мне руку со словами: «Добро пожаловать! С вашего разрешения, наш добрый друг, я желал бы поинтересоваться, из каких краев будете?» Такой бестактный, прямой вопрос немного смутил меня. Крестьянин, живущий в вересковой пустоши, столь же гостеприимен, сколь и шотландские лорды, только вот чуть более любопытен, впрочем, стоит ли обижаться на хозяина, коли ему захотелось узнать, кого он привечает. Выслушав мой рассказ о том, кто я и откуда, он позвал свою жену, и она в мгновение ока принесла на стол все, чем был богат дом, и по доброте душевной взялась уговаривать меня откушать и выпить, хотя терзавшие меня голод и жажда делали ее уговоры излишними.
Я был полностью поглощен едой, а также беседой о политике со своим хозяином, когда в комнату вошла юная и до чрезвычайности миловидная крестьянская девушка, каковую я сразу бы принял за переодетую барышню, бежавшую от жестоких родителей и не милого ее сердцу жениха, если бы ее красные руки и подлинный крестьянский выговор не подсказали мне, что ни о каком переодевании и речи быть не может. Она дружелюбно кивнула, бросила быстрый взгляд под стол, вышла, но вскоре вернулась с миской хлебного крошева, чуть приправленного молоком, и поставила ее под стол со словами: «Вашей собаке, наверно, тоже что-нибудь требуется». Я поблагодарил ее за внимание, впрочем, оно было проявлено не ко мне, а к моему огромному псу, который с жадностью в два счета опустошил миску и теперь решил на свой лад отблагодарить благодетельницу, пытаясь потереться об нее. Но когда она, испугавшись, подняла руку, а бравый охотник неверно истолковал ее жест и заставил вскрикнувшую девушку попятиться к алькову, я отозвал пса и разъяснил ей его добрые намерения. Я привлек внимание читателя к этому банальному эпизоду только для того, чтобы сделать такое вот замечание: красоте все к лицу, ибо, что бы ни говорила и что бы ни предпринимала эта крестьянская девушка, она являла собою природную прелесть, каковую ни в коем случае не запишешь на счет кокетства, если только не обозначать этим словом врожденное свойство, не лишенное очарования.
Когда девушка удалилась, я спросил родителей, не приходится ли она им дочерью. Они ответили утвердительно, добавив, что это их единственный ребенок. «С вами она, видно, надолго не останется», — сказал я. «Боже упаси! Что вы такое говорите?» — воскликнул хозяин, хотя самодовольной улыбкой выдал, что прекрасно меня понял. «Мне представляется, — продолжил я, — что у нее хватает женихов». — «Хм, — пробурчал он, — в женихах у нее и вправду недостатка нет. Только на что годны эти женихи — вот о чем речь. Свататься, похваляясь карманными часами, трубкой с серебряной инкрустацией — так дела не решают. Чтобы телега тронулась с места, мало просто сказать „Но… пошел!“. И вот, — он оперся обоими кулаками о стол и нагнулся, чтобы выглянуть в низкое оконце, — один из них сюда направляется, только что выбрался из вересковых кустов. Ха-ха! Один из тех, что носятся по округе с парой дурацких чулок в коробе. Осел, вздумал свататься к нашей дочери, имея за душой двух волов и две с половиной коровы. Посмотрите-ка на него — ну прямо нищий с котомкой!» Все эти излияния относились не ко мне, а к идущему по вересковой дороге путнику, на котором и сосредоточился потемневший взгляд хозяина. Он находился еще достаточно далеко, и у меня хватило времени расспросить старика о молодом человеке и узнать, что он сын ближайшего соседа, который живет около полумили отсюда, что отец его владеет небольшим хутором и к тому же задолжал галантерейщику две сотни далеров, что сын несколько лет ходит по округе и продает шерстяные изделия и, наконец, что он осмелился посвататься к прекрасной Сесиль, но получил категорический отказ. Пока он рассказывал все это, она вошла в комнату, и по ее озабоченному взгляду, который она переводила с отца на путника за окном и обратно, я догадался, что она не разделяет точку зрения старика. Как только молодой торговец вошел в дверь, она тут же вышла через другую, успев, однако, бросить на него быстрый, но нежный и отчаянный взгляд.
Мой хозяин повернулся к вошедшему, схватился обеими руками за столешницу, точно нуждался в точке опоры, и на приветствие молодого человека «Мир дому сему!» и «Здравствуйте!» ответил сухо: «Добро пожаловать!». Тот какое-то время продолжал стоять, осматриваясь по сторонам, потом достал из внутреннего кармана трубку, а из заднего — кисет, выбил трубку о располагавшуюся рядом с ним изразцовую печь и снова набил ее. Все это он проделал в медленном и словно бы размеренном темпе, тогда как хозяин мой оставался недвижим, в той же самой позе.
Гость оказался красивым парнем, подлинным сыном нашей северной природы, что медленно расцветает, но зато бурно и долго цветет. Он был светловолос, голубоглаз, розовощек, и бритва еще не касалась его слегка опущенного подбородка, хотя ему по всей вероятности уже исполнилось полных двадцать лет. Как и подобает коробейнику, одет он был побогаче обыкновенного крестьянина и даже зажиточного галантерейщика: на нем был плащ, широкие штаны, жилет в красную полоску и нашейный платок из хлопка цвета спелой темной сливы — вот уж никак не назовешь его недостойным поклонником прекрасной Сесилии. Ко всему прочему мне пришлось по вкусу живое открытое лицо Эсбена, свидетельствовавшее, что его обладатель честен, терпелив и вынослив, а ведь это основные черты кимврского национального характера.
Довольно долгое время в доме царило молчание. Но, наконец, хозяин открыл рот и как-то медленно, холодным и равнодушным тоном задал вопрос: «Куда сегодня путь держишь, Эсбен?». Гость поднес огонь к трубке, раскурил ее долгими затяжками и спокойно ответил: «Не сегодня, а завтра, завтра я отправляюсь в Гольштейн». Затем снова возникла пауза, и, пока она длилась, Эсбен оглядел стоявшие в комнате стулья, выбрал один из них и уселся на него. Тем временем в помещении появились мать и дочь. Молодой торговец кивнул в их сторону с таким совершенным спокойствием и ничуть не изменившимся выражением лица, что я бы решил, будто прекрасная Сесилия ему абсолютно безразлична, если бы не ведал, какой горячей может быть любовь в такой груди, сколь бы тихой любовь ни представлялась, — нет, это не пламя, что вспыхивает и скоро превращается в угли, но огонек, что светит ровно и долго. Вздохнув, Сесилия села в торец стола и начала усердно вязать. Мать же, тихим голосом произнеся «Добро пожаловать, Эсбен!», устроилась у прялки.
«Наверное, по торговым делам?» — вновь взял слово хозяин. «Как Богу будет угодно, — ответствовал гость. — Хочу попробовать, как на юге можно зарабатывать. Но вообще-то я желал бы только одного: чтобы вы не слишком побуждали Сесиль к замужеству до моего возвращения — вот тогда мы и увидим, в чем оно, мое счастье». Сесилия покрылась румянцем, но по-прежнему не отводила глаз от своей работы. Мать одной рукой остановила колесо прялки, другую возложила на колени и вперила взгляд в говорившего. А отец, повернувшись ко мне, сказал: «Пока травка подрастет, кобылка глядь помрет! Как можешь ты требовать, чтобы Сесиль ждала тебя? Ты ведь будешь далеко-далеко и, может статься, никогда больше не вернешься сюда». — «В таком случае ваша будет вина, Миккель Крэнсен! — прервал его Эсбен. — Но я говорю вам: если вы вынудите Сесиль выйти за кого-нибудь другого, вы сильно согрешите и против нее, и против меня». С этими словами он поднялся, пожал обоим супругам руки и коротко и сухо попрощался с ними. А своей возлюбленной сказал более мягким и тихим тоном: «Прощай, Сесиль! И спасибо за все хорошее! Если можешь, пожелай мне всего наилучшего! Господь да пребудет с тобой! И со всеми вами! Прощайте!» — Он повернулся к дверям, разложил трубку, кисет и огниво по соответствующим карманам, взял посох и отправился прочь, так ни разу и не обернувшись. Старик улыбнулся, жена же его выдохнула «О Боже!» и снова запустила колесо прялки. А по щекам Сесилии одна за другой покатились слезы.
Вот так и появился у меня удобный повод высказать основные принципы, каковыми обязаны руководствоваться родители, когда их дети вступают в брак. Я мог бы напомнить им, что богатства недостаточно для обретения семейного счастья, что сердце тоже должно иметь право голоса, ведь разум советует смотреть больше на честность, порядочность, усердие, способности, нежели на деньги. Я мог бы упрекнуть отца (ибо мать — по крайней мере внешне — не брала ничью сторону) за то, что он излишне суров по отношению к единственной дочери. Но мне слишком хорошо знакомо простонародье, чтобы попусту тратить слова, углубляясь в эти материи: я знал, что достаток для этого сословия превыше всего, хотя сильно ли в этом смысле отличаются от него другие сословия? К тому же мне знакома твердость крестьянина, переходящая порой в упрямство, и то, что в такого рода спорах с более подготовленным соперником он зачастую только делает вид, будто сдается и принимает доводы противной стороны. И когда его визави, торжествуя, полагает, что убедил его, он остается неколебимо верен своему разумению. Впрочем, существует еще одно соображение, что побуждает меня, в общем-то добровольно, сунуть палец между ножом и разделочной доской, между дверью и косяком, между молотом и наковальней, а именно: а не есть ли богатство и в самом деле самое реальное из всех земных благ? Другие же блага, что немаловажно, по классификации Эпиктета, «находятся вне нашей власти». Не есть ли деньги подмена любых форм сублимации? Непредосудительные заменители еды и питья, одежды и домашнего уюта, уважения и дружбы, да и в какой-то мере самой любви? И, наконец, не открывают ли деньги путь к большинству наслаждений и не обеспечивают ли наибольшую независимость? Не могут ли деньги быть заменой всего? И не является ли бедность той скалой, о которую так часто разбивается и лодка дружбы, и даже лодка любви? «Ясли наши коль пусты, лошадка скоро загрустит», — говорит крестьянин. А что говорят другие, когда хмель любовный испаряется и заканчивается медовый месяц? Желательно, конечно, чтобы Амур и Гименей вечно сопутствовали друг другу, но ведь они зачастую в сговоре с Плутосом.
Прочитав такое суждение, — возможно, более рациональное, чем кто-то ожидал или надеялся услышать от романиста, — легко догадаться, что я не стану описывать роман Эсбена и Сесилии, тем паче, что мой рассказ с самой первой страницы я бы повел не столько о красоте и сердце дочери, сколько о забитом товаром алькове и большом настенном шкафчике отца. И хотя мне было хорошо известно, что чистая любовь не есть сугубо поэтическая выдумка, я уже тогда понимал, что она чаще встречается на страницах книг, а не на страницах жизни. И поэтому, когда красавица Сесилия вышла, — предположительно, чтобы незаметно для всех дать волю чувствам и залиться горькими слезами, — я ограничился только тем, что с сожалением сказал, что юного парнишку можно было бы принять и поласковее, тем паче, что производит он впечатление человека порядочного, да и к девушке относится по-доброму. «И в случае если, — добавил я, — он однажды снова вернется домой, да еще с парой десятков добрых банкнот на руках…» — «Если они будут его собственными, — уточнил старый Миккель, — что ж, тогда дело другое».
И снова я вышел в безлюдную и беззаботную пустошь. Далеко в стороне я еще увидел Эсбена и воспаряющий кверху дымок его трубки. «Вот так, — подумал я, — испарится его горе и его любовь, но что будет с бедняжкой Сесилией?» Я бросил еще один взгляд на усадьбу зажиточного галантерейщика и заметил про себя, что не будь её здесь, гораздо меньше слез пролилось бы в этом мире.
Прошло шесть лет, и вот я снова очутился в этой части пустоши. Стояла точно такая же тихая теплая сентябрьская погода, как и в прошлый раз. Жажда вынудила меня найти какое-нибудь жилье, и вышло так, что ближе всех оказалась одинокая усадьба галантерейщика. Вспомнив доброго Миккеля, я сразу же подумал о прекрасной Сесилии и ее возлюбленном, о том, каков же исход этой идиллии на пустоши, и любопытство погнало меня вперед в не меньшей мере, нежели жажда. В похожих обстоятельствах я весьма склонен предугадывать развитие событий, я представляю себе, как они могли бы и должны были бы происходить, и потом сопоставляю свою картину с той, что создала судьба. Увы и ах, чаще всего мои догадки сильно разнятся с действительным ходом вещей. Так случилось и теперь. Я воображал себе, что Эсбен и Сесилия стали мужем и женой и я увижу ее с малюткой у груди, а отца Сесилии сидящим с одним или двумя малышами постарше на коленях, что молодой муж стал деятельным и удачливым управляющим сильно разросшегося предприятия по торговле щепетильным товаром, однако на самом деле все сложилось совсем по-иному. Войдя в переднюю, я сперва решил, что за стеной мать убаюкивает дитя, тихим голосом напевая колыбельную, однако тон ее был так грустен, что все мои прекрасные ожидания враз потускнели. Я остановился и прислушался: это была печальная песня о безнадежной любви. С очень простыми, но трогающими сердце словами. Впрочем, память моя сохранила лишь повторявшийся после каждого куплета припев:
Милого потерять — Все равно что все горе на свете собрать.Охваченный дурными предчувствиями, я открыл дверь в гостиную.
Пожилая дебелая баба первой бросилась мне в глаза. А пела другая женщина, сидевшая ко мне спиной, она быстро крутила колесо и двигала руками так, будто и вправду пряла. Первая поднялась и пригласила меня войти, но я сразу прошел вперед, чтобы увидеть лицо другой. Это была Сесилия, бледная, но все еще красивая. Однако когда она подняла на меня взгляд, я ахнул: ее тусклые глаза, ее приторно-сладенькая улыбка во все лицо светились безумием. И еще я заметил, что никакой прялки перед нею нет, а та, что она вообразила себе, сделана, по-видимому, из того же материала, что и кинжал Макбета. Она перестала петь, прекратила свою воображаемую работу и живо спросила меня: «Вы из Гольштейна? Вы видели Эсбена? Он скоро приедет?» Я понял, в чем дело, и так же быстро ответил: «Да, теперь он уже не заставит ждать себя так долго, я должен передать тебе привет от него». — «Так я пойду встречу его!» — радостно воскликнула она, вскочила со своего плетеного стула и побежала к дверям. «Погоди немного, Сесиль! — сказала другая женщина и отложила в сторону карды. — Я выйду с тобой!» Подмигнув мне, она покачала головой — впрочем, ее подмигивание было излишним. «Матушка, — громко крикнула она в дверь, ведущую в кухню, — у нас гость. Выйди сюда, потому что мы уходим». И она вслед за душевнобольной выскочила на двор.
Вошла старуха. Сразу я ее не узнал, только предположил, что это была мать несчастной девушки. Предположение мое подтвердилось, просто горе и годы наложили свой отпечаток на ее лицо. Она меня тоже не запомнила с прошлого раза и после «Добро пожаловать! Присаживайтесь!» задала обычный вопрос: «С вашего разрешения я хотела бы узнать, добрый человек, откуда путь держите?» Я объяснил и заодно напомнил ей, что уже побывал у них несколько лет назад. «Господи, Боже мой! — воскликнула она и всплеснула руками. — Это вы? Пожалуйста, садитесь во главе стола, а я пока сделаю бутерброды. Вы, наверное, и пить хотите?» И не дожидаясь ответа, она поспешила в соседнюю комнатушку и вскоре вернулась с едой и питьем.
Я, разумеется, жаждал узнать подробности произошедшего с бедняжкой Сесилией, но почувствовал, что история эта в высшей степени печальная, приглушил свое любопытство и не стал напрямую спрашивать о том, что и желал, и одновременно боялся услышать. «А муж дома?» — первым делом поинтересовался я. «Мой муж? — уточнила она. — Господь забрал его от нас давным-давно. Да, вот так! На день Миккеля будет три года, как я стала вдовой. Еще кусочек? Пожалуйста, не пренебрегайте угощением, это простая крестьянская еда». — «Большое спасибо! — ответил я. — Меня не столько голод томит, сколько жажда… Так, значит, муж ваш вас покинул — это большая потеря, большое горе для вас». — «Да! — вздохнула она, и глаза ее наполнились слезами. — Но не только оно одно постигло меня. Господи Боже, вы видели нашу дочь?» — «Видел, — ответствовал я, — и она показалась мне весьма странной». — «Да, она совсем помешалась умом, — сказала хозяйка и разрыдалась. — Нам приходится держать женщину только для того, чтобы присматривать за дочерью. А на большее ее не хватает, ей ведь вообще-то полагается и ткать, и вязать понемногу, но ничего у нее не получается, ведь ей раз шестнадцать на дню приходится бегать за Сесиль, когда той взбредет в голову мысль об Эсбене». — «А где же сам Эсбен?» — прервал я ее. «В Царстве Божием, — ответила она. — Значит, вы ее об этом не спрашивали? И слава Богу! Смерть его была жуткой. О таком ужасе никто никогда и не слыхивал. А вы не стесняйтесь, ешьте и пейте, сколько пожелаете. Да, немало мне довелось пережить с тех пор, как вы были здесь в последний раз. Еще и времена такие тяжкие настали: с чулками теперь покончено, да и, чтобы следить за хозяйством, приходится людей со стороны нанимать». И тут я почувствовал, что, как бы ни горевала она по прошедшему, как бы ни одолевала ее забота о насущном, она все-таки в состоянии рассказать мне о выпавших на ее долю тяготах, и попросил ее об этом. Она с готовностью согласилась удовлетворить мое желание и поведала мне историю, каковую я — за исключением не относящихся к делу подробностей — и передаю здесь, насколько это в моих силах, в простом и бесхитростном стиле самой рассказчицы.
«Мы с Кьелем Эсбенсеном, — начала она, сперва придвинув к столу стул, усевшись на него и разложив вязание, — соседствовали с тех самых пор, как мы обосновались в усадьбе. Кьелев Эсбен и наша Сесиль стали добрыми друзьями. Но потом кто-то об этом узнал и рассказал мужу. И ему это не понравилось, да и мне тоже, ведь денег у Эсбена было кот наплакал, а у отца его так и вовсе ничего. Но мы все ж надеялись, что девчонка поумнеет и отступится от этого зеленого мальчишки. Да, он коробейничал потихоньку в округе, торговал чулками, галантереей, ну и зарабатывал пару скиллингов, но насколько этого хватало? И тут они пришли свататься, но мой муж, как нетрудно догадаться, ответил отказом, и тогда Эсбен отправился в Гольштейн. Мы, конечно, почуяли, что Сесиль слегка приуныла, да только это нас особо не озаботило. „Забудет она его, наверняка забудет, — сказал наш хозяин, — когда настоящий жених объявится“. И вскоре Мадс Эгелунн — не ведаю, знаком ли он вам? А вообще-то он в паре миль от нас живет — так вот, он посватался, имея при этом не обремененное долгами хозяйство и три тысячи далеров под проценты. Вот это уже было по-деловому. Миккель сразу ответил согласием, но Сесиль — Боже, спаси и сохрани! — Сесиль отвергла его. Муж мой прогневался и решил действовать вопреки ей. Мне казалось, он слишком жесток с нею, но мой благоверный привык поступать по-своему. И тогда они с отцом Мадса пошли к пастору и попросили его огласить в церкви имена своих детей как вступающих в брак. В первые два воскресенья все шло хорошо, но на третий раз, когда пастор спросил „Кто-то возражает против этого?“ — Сесиль поднялась со скамьи и крикнула: „Я возражаю. Наш с Эсбеном брак трижды огласили в раю“. Я шикнула на нее, да было поздно: все прихожане в церкви слышали ее слова и повернулись в сторону нашей скамьи — какой стыд и срам! Я тогда еще не думала, что она лишилась рассудка, но не успел пастор сойти с кафедры, как она снова начала бормотать что-то об Эсбене и рае, о свадебном платье и свадебном ложе — и все об одном и том же, без конца и без начала. И пришлось нам вместе с нею убраться из церкви. Мой благоверный отругал ее конечно и сказал, что она напроказничала. Но видит Бог, она не ради проказы эту блажь затеяла. Она говорила всерьез, дурочкой она была, дурочкой и осталась».
Тут рассказчица положила недовязанный чулок на колени, сняла шерстяной клубок с левого плеча, повернула его несколько раз и осмотрела со всех сторон. Но мысли ее при этом блуждали где-то далеко: отдохнув пару минут, она приблизила клубок сперва к одному глазу, потом к другому, снова повесила его на крючок и торопливо заработала спицами, стараясь, видно, таким образом связать оборванную было нить печальных событий.
«Все ее речи сводились к тому, что она умерла и очутилась в раю, где ей предстояло выйти замуж за Эсбена, как только он тоже умрет. И такие речи она вела и ночью, и при свете дня. Мой дорогой Миккель понял тогда, что случилось. „Это промысел Божий, — сказал он. — Никто не может противостоять ему“. Все, что произошло с дочерью, он принимал близко к сердцу, уж я-то это знаю, я столько часов пролежала в слезах в своей постели, когда все в доме уже почивали. И временами представлялось мне, что было бы лучше, если бы эти двое молодых людей соединили бы свои судьбы. „Может быть, — сказал на это мой муж, — но теперь этому уже не бывать“.
В первые несколько месяцев она была совсем безумной, и столько мы с ней натерпелись. Но потом она чуточку успокоилась, говорила очень мало, зато почти все время вздыхала и плакала. И делать ничего не хотела, ибо, по ее словам, в Царствии Небесном каждый день праздничный.
И так вот прошло полгода, а потом и еще вдвое больше, с тех пор как Эсбен подался на юг, но никто не мог ничего рассказать о нем, ни хорошего ни плохого. Но как-то днем, когда мы, я, мой благоверный Миккель и Сесиль, сидели здесь, в дверях появился Эсбен. Он пришел к нам прямо с дороги, не заходя к себе домой, и не знал, как обстоят у нас дела, пока не увидел дочку. Тут-то уж он наверняка догадался, что с нею произошло. „Ты заставил долго ждать себя, — сказала она. — А брачное ложе давным-давно готово, но скажи мне сперва: ты мертвый или живой?“ — „Господи Боже, Сесиль, — ответил он, — разве ты не видишь, что я живой?!“ — „Жаль, — заметила она, — ибо в таком случае ты не можешь пройти чрез врата рая. Умри же как можно скорее! Ведь Мадс Эгелунн только и ждет возможности оказаться первым“. — „Да, дела не Бог весть какие хорошие. Ах, Миккель, Миккель, какую же беду вы наслали на нас. У меня теперь пять тысяч далеров: брат моей матери умер в Гольштейне, он не был женат, и я наследую все его состояние“. — „Что-что? — спросил наш отец. — Жаль, что мы не знали этого раньше. Но погоди! Девушка наверняка еще придет в себя“. Эсбен покачал головой, подошел к нашей дочери и хотел подать ей руку. „Сесиль, — сказал он, — давай поговорим разумно: мы оба живы, и, когда ты поправишься, твои родители дадут согласие на то, чтобы мы были вместе“. Но она спрятала обе руки за спиной и выкрикнула: „Прочь от меня! Я тебя знать не хочу! Ты человек, а я ангел Божий!“. Потом она отвернулась и залилась горючими слезами. „Боже Всемогущий, что же вы, Миккель Крэнсен сделали с нами, двумя грешными людьми!“ — сказал Эсбен. „Не волнуйся! — ответил наш хозяин. — Все будет хорошо. Оставайся у нас на ночь, а завтра утром поглядим, что она скажет“.
Наступил вечер, и тут разразилась страшная гроза с громом и молнией, ничего более жуткого я в жизни никогда не видала — казалось, мир вот-вот рухнет.
Эсбен внял голосу разума и остался ночевать у нас. Когда стихия успокоилась, он лег спать на втором этаже. Остальные тоже отправились почивать, но я долго слышала через стену, как он вздыхал и плакал и, по-моему, молился Господу на небесах. Наконец, я тоже уснула. Сесиль спала в алькове, прямо напротив нас с Миккелем.
Было, наверное, уже около часа или чуть больше за полночь, когда я проснулась, на дворе стояла тишина, в окно светила луна. Я лежала и думала обо всех тех напастях, что постигли нас. Но меньше всего предполагала, что случится то, о чем я хочу вам теперь поведать. Я вдруг почувствовала, что Сесиль не издает ни звука, даже дыхания ее не доносилось до меня, да и Эсбен совсем затих. Нет, что-то здесь было не так. Я встала с постели, прокралась к алькову Сесиль, заглянула туда, но ее там не обнаружила. Я встревожилась, бросилась в кухню, зажгла свечу и поднялась наверх. О Господи Боже мой, что же я там увидела!? Боже, спаси и сохрани! Она сидела на постели Эсбена, и его голова покоилась у нее на коленях, но тут я разглядела, что он был бледен, точно смерть, и все лицо его и постельное белье стали красными от крови. Я вскрикнула и повалилась на пол. Но Сесиль помахала мне одной рукой, а другой потрепала его по щеке. „Тише, тише, — прошептала она. — Мой возлюбленный спит сладким сном. И как только мы погребем его бренное тело, ангелы вознесут его душу в рай, и вот там мы и справим нашу свадьбу во благости и радости“. Ах, Боже милостивый, Отец наш родной, она перерезала ему горло — окровавленная бритва лежала на полу перед кроватью».
В этом месте несчастная вдова закрыла лицо руками и горько заплакала, ужас и боль стеснили мне грудь. Наконец, она вернулась в прежнее состояние и продолжила свой рассказ:
«Горе и печаль поселились в нашем доме и в доме Эсбена, но ведь сделанного не воротишь. Родители Эсбена думали, что их сын погиб в Гольштейне, и, когда его тело вдруг привезли к ним, там такой крик и вой поднялся, что, казалось, усадьба вот-вот рухнет. Он был дельный парень, а теперь еще и средствами обзавелся, разбогател, и надо же — такую жуткую смерть принял в таком юном возрасте, да еще и от руки своей возлюбленной. Мой благоверный Миккель тоже не мог об этом не думать, он и сам уже был не жилец. Несколько месяцев спустя он заболел и слег, и вскоре Господь забрал его от меня.
В день его погребения Сесиль забылась глубоким сном и проспала трое суток подряд. А когда проснулась, к ней вернулся разум. Я сидела у ее постели и ожидала, что Господь вот-вот приберет ее. Но тут вдруг она глубоко вздохнула, подняла на меня глаза и спросила: „Что произошло? Где я была? Мне привиделся чудной сон, будто бы я была в Раю и Эсбен вместе со мной. Господи, мама, где же Эсбен? Вы ничего не слышали о нем, с тех пор как он отправился в Гольштейн?“ Я даже и не знала, что ей ответить. „Нет, — сказала я, — мы ничего о нем не знаем“». Рассказчица вздохнула. «„А где отец?“ — спросила она. „У твоего отца все хорошо, — ответила я. — Господь взял его к себе“. — „Матушка, я хочу увидеть его!“ — сказала она. „Нельзя, дитя мое, — ответила я. — Он ведь лежит в земле“. — „Боже, спаси и сохрани! — вскричала она. — Сколько же я проспала?“ По ее вопросу я поняла, что она даже не представляет, в каком состоянии находилась. „Это вы разбудили меня? — снова спросила она. — Не надо было, матушка, я так сладко спала, я видела прекрасные сны, и Эсбен приходил ко мне каждую ночь, он навещал меня в своих сверкающих белых одеждах и с красным жемчужным ожерельем на шее“».
Старуха вновь погрузилась в свои горестные мысли, глубоко вздохнула разок-другой и продолжила:
«К бедному моему дитяти вернулся разум, но один Бог знает, лучше ли ей от этого стало. Она никогда не радовалась, все время грустила, говорила, только если ее спрашивали, и усердно работала. Она была ни больна, ни здорова.
Слухи о том, что она поправилась, быстро распространились по соседним усадьбам, и где-то месяца три спустя появился Мадс Эгелунн и снова посватался к ней. Она ни видеть его не захотела, ни поговорить с ним. Теперь-то он понял, что она нисколечко не любит его, озлобился и затаил обиду. И я, и слуги, и работники, все мы постоянно следили, чтобы никто и словом не обмолвился о том, как она в своем безумии лишила жизни бедного Эсбена, да она и сама, наверное, думала, что он либо умер там, на юге, либо женился. И вот однажды Мадс снова оказался у нас и так настойчиво старался вырвать у нее согласие, что она ответила напрямую: она скорее умрет, чем выйдет за него. И тут он сказал: „И зачем я оберегаю девушку, которая перерезала горло своему первому возлюбленному, уж лучше расскажу ей все как было“. Я сидела на кухне, слушала их разговор вполуха, но при этих словах швырнула на стол все, что было в руках, бросилась в комнату и закричала: „Мадс! Мадс, Господи милостивый, что же вы делаете?“ Но было поздно: она сидела на скамье, бледная, точно покрытая известкой стена, с окаменевшим взглядом. „Что я делаю? — спросил он. — Да ничего, только рассказываю ей правду. Пусть она знает все, это лучше, чем держать ее за дурочку и позволять ей ждать своего умершего возлюбленного всю оставшуюся жизнь. Прощайте! Премного вам за все благодарен!“ Он ушел, а она погрузилась в свое прежнее состояние, и вряд ли разум вернется к ней в этой жизни. Вы же сами видите, какой она стала: все время, что не спит, поет эту песенку, она сама ее сложила, когда Эсбен отправился в Гольштейн, да еще представляет, будто делает простыни для брачного ложа. А так она тиха и спокойна, — слава Богу! — даже мухи не обидит. И все же мы не оставляем ее без присмотра. Господи, смилуйся же над нею и прибери поскорее нас обеих!»
Не успела она произнести эти слова, как вернулась несчастная вместе со своей сопровождающей. «Нет, — сказала она, — сегодня он уже не придет, а вот завтра мы его встретим наверняка. Мне надо поторопиться, чтобы успеть с простынями». Она сразу же уселась на свой плетеный стульчик, руки и ноги ее заходили в быстром движении, и снова послышалась ее жалобная песня. И всякий раз перед припевом она делала глубокий вдох, а потом продолжала: «С милым на свете расстаться — / С горше горького горем в душе остаться». Прекрасное бледное лицо ее при этом клонилось к груди, а руки и ноги на миг замирали. Но потом она выпрямлялась, начинала следующий куплет и пускала в ход воображаемую прялку.
Погруженный в мрачные мысли, я побрел обратно в пустошь, и душа моя окрасилась в безрадостные краски. Воображение рисовало Сесилию и картины ее ужасной судьбы. И в каждом видении мнилась мне дочь галантерейщика, как она сидит за вязанием или за прялкой, как всплескивает руками. И в грустной перепевке ржанки, и в монотонных жалобных трелях одинокого жителя пустоши — жаворонка — слышались мне эти исполненные подлинной печали, прочувствованные множеством тысяч израненных сердец слова:
С милым на свете расстаться — С горше горького горем в душе остаться.Статьи, эссе
Ингер Кристенсен Два эссе © Перевод Михаил Горбунов
Бесклассовый язык
Я не посредник.
Я не рассматриваю писателя как посредника. И поэтому не рассматриваю ни каналы, ни рабочие места, ни тюрьмы как нечто, требующее от меня занять определенную позицию. В мои планы не входит быть ни посредником, ни законодателем мнений или идей,
и, если, против моего желания, меня используют в таком качестве — возможно, со злым умыслом, — я предпочту рассматривать это как побочный эффект или неизбежное зло.
Итак, в качестве первоочередной задачи писателя я не рассматриваю влияние на общественное мнение,
я даже не рассматриваю воздействие на разум людей как какую-то особо центральную задачу.
Я хочу влиять на слепоту.
Люди творят Историю в причудливом сочетании разума и слепоты.
Мы знаем, что такое разум, у него есть свои вариации, легко может оказаться, что они станут многочисленными, практически необозримыми, но в принципе разум — это фактор известный.
А влиять всегда стоит на неизвестный фактор.
Но ведь наши поиски истины не могут влиять на слепоту. Ничьи взгляды не могут влиять на случай.
На результат бросания костей влиять вообще нельзя.
А требуется повлиять именно на результат бросания костей.
В качестве задачи писателя я рассматриваю создание кода, который позволяет считывать результат бросания костей.
Изобрести такую систему координат, которая случай делает необходимостью, представить себе такую знаковую систему, которая транслирует слепоту,
короче говоря, в качестве задачи писателя я рассматриваю занятие невозможным, недостижимым, тем, что не здесь,
опыты по использованию языка, который не существует, — пока не существует. Этот несуществующий язык я называю бесклассовым языком. Точно так же, как несуществующее общество многие называют бесклассовым обществом.
Мне снится город
Что сны, что сочинение стихов, что хорошие манеры — сам не замечаешь, а они уже глубоко в тебя въелись и создали множество чрезвычайно живучих клише. Стоит только раз увидеть именно тот сон, какой следует видеть по Фрейду, и начинаешь видеть его раз за разом; стоит единожды увидеть, как что-то повторяется, и видишь это снова и снова — и скоро перестаешь видеть что-либо другое: поэтические нормы приличия, привидение во всей красе.
Среди прочего, сюда относятся и те самые настоящие ветряные мельницы, с которыми вступает в бой всякий писатель, когда критикует свою работу, а тем самым и свою жизнь. Несколько лет назад шведский писатель и критик Йоран Пальм высказал примерно такую мысль: к чему писать о лошадях, когда известно, что у большинства фермеров уже трактора. Впрочем, и тогда, когда лошади еще были, и тогда, когда их уже не стало, многие строили свою поэтическую тактику по сходным рецептам. Многочисленные хромированные части, которые в наши дни сверкают в наших стихах тем же глянцем, как в былые дни лошадиная сбруя, — это вполне естественно. Но почему бы не довести все до логического завершения, не продвинуться дальше и не изменить поэтическую стратегию? Зачем, в сущности, писать о природе, если большинство людей живут в городах?
Если будет позволено, я бы сказала так: разумеется, это все разговоры. Но, конечно, другое дело, что в них есть доля истины.
Когда пару лет назад я жила в Кнебеле, в заповеднике Мольсе, из моего окна я видела деревья, поле и небо. Я вела длинные беседы с этим пейзажем, продолжала их во время долгих прогулок; там всегда можно было подобрать какое-нибудь замечание, оброненное на пляже, на холмах или между прижавшимися друг к другу домами и садами. Беседы, которые велись уже столетиями и которые я более или менее терпеливо продолжала сплетать дальше, — примерно столь же терпеливо, как пашет крестьянин, и неважно, тянет ли его плуг лошадь или трактор. Но однажды этот крестьянин сказал: барыш маловат и едва покрывает расходы; в городах лучше. Это классическое объяснение бегства из деревни в город меня вполне устроило; я уложила свою ручку, бумагу и уехала. И хотя на самом деле все произошло далеко не столь просто, сейчас мне кажется, что все достаточно просто и никакое другое объяснение не подойдет лучше.
Ирония же в том, что теперь, когда я живу в Копенгагене, я вижу в окно все то же самое: деревья, поле и небо. Но вот беседы, которые мы ведем, в силу разных причин далеко не те же самые. Впрочем, главная причина этого для меня одна: здесь слишком много людей.
Эту фразу можно, конечно, понять как немногословное и провинциальное выражение замешательства при виде миллионного города и всего, что с ним связано, клише, выуженное из кармана турагента и лишь слегка измененное, сон об одурманивающем движении и сладости жизни среди толп.
Но ведь не все же сны — клише. Во всяком случае, мне много раз, хоть и не подряд, случалось увидеть сон, который не удалось, или пока не удалось, втиснуть в мой личный наборный ящичек. А уж ему-то не грозит опустеть. В сущности, основные клише оттуда повторяются из раза в раз все точнее, меняются лишь детали. Начинается все, кажется, с того, что я вхожу в ванную, выложенную плиткой и уставленную всякой всячиной. Меня это не удивляет, хотя я совершенно не собиралась туда заходить. Без малейшего удивления я вижу, что это больше не ванная, а пекарня, маслобойня, скотобойня или баня, и в то время, как помещения непринужденно меняются, а я иду через них дальше по длинным коридорам мимо бассейнов, через офисы и покои с дымчатыми стеклами, через комнаты и переходы, ведущие в залы, где заседают члены правительства, через столовые, трамвайные вагоны и т. д., я начинаю понимать, что попала в город тем единственным способом, каким в город можно попасть: изнутри. И когда я, наконец, останавливаюсь и осматриваюсь на площади или в парке, а затем не спеша двигаюсь по зеленым лужайкам, я чувствую себя совершенно счастливой. И не столько даже из-за самого города, сколько из-за тех бесчисленных людей, которые везде, где я прохожу, чем-то заняты, как сейчас они заняты чем-то в этом парке. Некоторых из них я узнаю, потому что в своей жизни когда-то и где-то встречалась с ними, других, большинство, я не знаю, но все время без всякого удивления, совершенно естественно, я вижу, что нет никакой разницы в моем отношении к знакомым, незнакомым или узнанным. Именно это и делает меня счастливой. Огорчает же лишь одно: я не могу разговаривать ни с кем из этих людей. Но я успокаиваю себя: это потому, что они существуют лишь в моем сознании. Тут я просыпаюсь.
Одно, разумеется, сон, другое — действительность, или нет? В действительности мне совершенно ясно, что мое сознание стало чем-то вроде города и барыш от переезда на новое рабочее поле пока многократно превышает расходы. От разумной степени обозримости, вполне определенного количества возможностей столкнуться с чем-то незнакомым и соответствующего этому ровного пульса я свалилась туда, где неотвязно ощущение необозримости, где сознание оторвано от окружающей среды и где самым главным фактом является анонимность.
В этой анонимности мне хочется жить как можно ближе к центру. Я бы хотела жить на Ратушной площади, постоянно имея за окном этот образ города, с которым можно вести беседу. Когда у меня спокойно на душе, я нередко представляю себе город, огромный, как Зеландия. Короче говоря, я бы хотела ощущать, что живу в том массовом обществе, в котором я на самом деле живу. Это и есть то необозримое и анонимное массовое общество, которое я имею в виду, когда заявляю, что писатель может чувствовать обязанность соприкасаться с определенной средой.
Разумеется, этой анонимности боятся, и правильно делают, что боятся. Это равнозначно тому, что сам по себе каждый беззащитен, одинок и никому не нужен, — людей ведь и так слишком много. А если на минуту задуматься о движущих силах, которые все эти люди порождают в своем обществе, то анонимность становится почти ужасающей: одни невиданные прежде товары приводят к появлению других невиданных прежде товаров и т. д. в слепой надежде на то, что все эти многочисленные плоды бесчисленных действий окажутся полезными. Сильнейшее впечатление, производимое подобной анонимностью и, в любом случае, бросающимся в глаза постоянным ускорением работы общественного механизма, может легко перерасти у отдельного индивида в чувство самодостаточности. А стоит этому взгляду на вещи начать утверждаться, как возникает реальная опасность, что массовое общество двинется к массовому уничтожению, физическому или психическому.
Но массовое общество, если исходить в точности из тех же предпосылок, может, наоборот, призывать к участию в судьбах незнакомых людей, будить любопытство и потребность понимать, что же, собственно, происходит. В самом деле, разве это не прекрасное поле деятельности для писателя? Политики делают все, что в их силах, согласуя и связывая то, что происходит, с тем, что должно происходить. Я считаю, что за эту работу следует браться с разных сторон и, не будучи ни слишком амбициозной, ни излишне скромной, думаю, что здесь найдется место и писателю. Я хочу воспользоваться этими размышлениями о жизни в городе — странной среде, где нет того, что образует любую среду, нет границ, — и о доброжелательности к обществу, чтобы под критическим углом взглянуть на писательскую работу.
По-моему, слишком много значения придается самореализации. По-моему, в качестве противовеса к необозримости мира здесь возникает культ индивидуальности и своего рода необозримости индивида. Это попытка восстановить равновесие, но в основе своей она ложная. Если писателю нужно, он всегда может отграничить свою область. Может обратиться к документалистике и тем самым хотя бы на время придать оправданность противоречиям общества. Либо же обратиться к сфере таинственного, ползать по подвалам и канализации, выворачивать душу наизнанку или прятаться на чердаках среди сохнущего белья.
Возможно, иначе и быть не может. Впрочем, не уверена.
Джесс Эрнсбо в последнем номере «Розы ветров» [82] написал, что «литература в стабильном обществе может сохраниться лишь за счет более или менее выдуманных кризисов, конфликтных ситуаций», и далее: «начинает заявлять о себе последняя проблема — отсутствие проблем».
Я так не думаю.
Неужели писателя нужно обязательно подстегивать спровоцированными кризисами, конфликтами и проблемами?
А как тогда быть вот с такой проблемой: в чем, собственно говоря, мы все участвуем? Что такое массовое общество? Что такое этот город — произведение искусства, детская вертушка, строительный материал или что-то еще? Ведь наверняка можно заняться осмыслением этого.
В тот день, когда мы отправим массовое общество в копилку наших клише, мы, вероятно, найдем для него новое имя. Ведь, несмотря ни на что, мы мечтаем о достойном наименовании того, где все вместе живем.
Анне Кнудсен Сделай вид, что ты у себя дома, там и оставайся Глава из книги «Здесь все прекрасно, высылай деньги!» Перевод Максим Тевелев
Если вы живете в Дании и вас вдруг приглашают провести вечер в какой-то большой компании, где вы знакомы разве что с хозяевами, приготовьтесь к тому, что этот вечер, скорее всего, покажется вам скучным. Вам повезет, если прием предполагает ужин, и повезет вдвойне, если будет сервирован стол и ваше место на схеме рассадки гостей заранее обозначено. В этом случае у вас появится шанс познакомиться, по крайней мере, с двумя прежде не знакомыми вам гостями. Можно предположить, что имена их будут, скажем, Петер и Карстен (ну или там, Хелле и Лине, если вы — представитель мужского пола). Вот, собственно, и всё. Если же на следующий день у вас вдруг появится желание или потребность кому-то из них позвонить, вам придется сперва сделать звонок хозяевам вчерашнего приема, чтобы узнать у них фамилии ваших соседей по столу, ибо нормальные датчане свои фамилии в общении никогда не используют. Впрочем, ничего страшного — заодно вы сможете поблагодарить хозяев за вкусный ужин.
А вот если прием предполагает только фуршет, вам не повезло. Весь вечер вы будете молча и с напряженным выражением лица изображать приветливость, наблюдая, как все остальные гости, давно между собой знакомые, веселятся на полную катушку. Нормы социального поведения в Дании позволяют вам общаться лишь с теми из гостей, с кем вы уже знакомы, и не предполагают, что кто-то подойдет к незнакомому гостю, чтобы представить его своим знакомым. Мало кому, если ему еще нет шестидесяти, придет в голову взять по-дружески под локоть кого-то из гостей, подвести его или ее к другому гостю и сказать: «Лине, мне кажется, тебе надо познакомиться с Хелле Ольсен. Хелле биолог, и в компании „Карлсберг“ она занимается генной инженерией, ну а поскольку ты сейчас пишешь работу о сельском хозяйстве в доколумбианских Андах, вам наверняка будет что обсудить. Хелле, позволь мне представить тебе Лине Клаусен. Ее научная тема — каким образом индейцам еще в те далекие времена удавалось получать новые сорта кукурузы. Может, вам было бы интересно сравнить ваши наработки?»
Хотя в Дании и поощряются «неформальные взаимоотношения», но, попадая в незнакомую для себя компанию, вы оказываетесь там предоставленным исключительно самому себе, и объяснять вам, кто есть кто среди приглашенных, никто и не подумает. Предполагается, что оказавшиеся в данной компании «чужаки» должны «внедряться» в нее самостоятельно, при этом делая вид, что чувствуют себя в этой незнакомой компании ну просто «как дома»! Правда, нередко это заканчивается тем, что у «чужаков» вдруг возникает непреодолимое желание очутиться у себя дома, а вовсе не чувствовать себя «как дома».
Отсутствие традиции представлять гостей друг другу нередко усложняет жизнь не только в компаниях и на приемах. На конференциях, всевозможных встречах и вообще на любых мероприятиях с большим количеством участников происходит то же самое: нельзя рассчитывать, что кто-то возьмет на себя миссию объяснить впервые оказавшемуся там участнику, кто здесь кто по профессии или же у кого какой круг интересов. Разбираться в этом придется самостоятельно. А поскольку обращаться за помощью к незнакомым людям считается неприличным, любые подобные собрания часто превращаются в своего рода микрогалактики, состоящие из множества небольших групп уже знакомых между собой участников. Тот же, кто не принадлежит ни к одной из этих групп и, стало быть, нигде себя «как дома» почувствовать не может, никакой информации от тех, кто, в отличие от него, здесь «как дома», в итоге так и не получит.
Почему же датчане поступают в подобных ситуациях столь непрактично? Ведь, казалось бы, совсем несложно поделиться какой-то информацией с тем, кто ею не владеет? Проблема здесь, похоже, в отношении к обладанию определенным знанием. Если кто-то все же берется просветить «новичка» и рассказывает ему о том, кто есть кто и что вообще здесь происходит, он демонстрирует тем самым то неравенство, которое возникает в отношениях между ним — человеком информированным и пребывающим в неведении его собеседником. Этот «кто-то», благодаря тому, что он обладает каким-то конкретным знанием, дает понять новичку, что тот просто-напросто — несведущий бедняга, да и вообще чужак и аутсайдер, пытающийся преодолеть границу, существующую между людьми неинформированными и людьми, с полуслова друг друга понимающими. Быть аутсайдером и чужаком — ощущение уже само по себе не из приятных. И интуиция подсказывает ему, что выставлять себя в таком качестве лучше не стоит. Но если чужак вдруг все-таки захочет что-либо для себя прояснить, он в этом случае сам должен будет задать соответствующие вопросы, как бы давая тем самым свое добро на фиксирование разницы в статусах. То есть предполагается, что именно тот из собеседников, чей статус в данном случае ниже, должен сам дать зеленый свет на обнародование факта существования этих статусов по отношению к обладанию знанием. И это вовсе не какая-то там злая воля, не позволяющая датчанину предоставить информацию о знакомых ему в данной компании людях. Речь идет здесь об элементарной вежливости и ненавязчивости. Человек просто не хочет, чтобы новичок в этой компании потерял свое лицо. Уж пусть лучше он останется в полном неведении. Главное — не подчеркивать социального неравенства, пусть даже такого несущественного, да и действующего ограниченное время.
Проблема заключается в том, что эта преувеличенная деликатность на самом деле закрепляет существующий статус кво. Тот, кто не обладает знанием, продолжает оставаться не информированным, а обладающий знанием, несмотря на то что этот факт он не раскрывает, вовсе при этом не отказывается от своего более высокого статуса. Действительно, неравенство в данном случае не демонстрируется, однако реальное положение вещей, суть которого в том, что одни люди знанием обладают, а другие — нет, от этого не меняется. И подобный деликатный отказ от открытой демонстрации неравенства на самом деле его лишь цементирует.
Если же мы теперь бросим взгляд на другие стороны общественной жизни, где обладание знанием и его отсутствие вступают между собой в аналогичное соприкосновение, мы столкнемся с похожими противоречиями и там. Уже в течение многих десятилетий в Дании ведутся педагогические дебаты, рассматривающие передачу знания как весьма болезненную социальную проблему. С помощью таких формулировок, как «отталкиваться от повседневной жизни ребенка», «использовать собственный опыт детей» или же «ученики должны находиться в естественной для них обстановке» учителя и педагоги-теоретики пытаются описать — и внедрить — такую практику преподавания, которая позволила бы обходить весьма неудобное обстоятельство, заключающееся в том, что у учеников, как правило, отсутствует даже минимальное представление о том, что именно они должны изучать. Понятно, что цель образования — это передача детям и молодежи знаний, которыми на данном этапе они пока не обладают. И изначальные представления ребенка рассматриваются в сегодняшней педагогической теории прежде всего как некий фактор, который следует учитывать в процессе обучения, чтобы облегчить ребенку приобретение нового знания. Индивидуальные задания и групповые проекты, например, составляются таким образом, чтобы в них были учтены биографии учеников, либо они были как-то связаны с конкретным местом их проживания, и быт викингов или же повседневную жизнь индийских крестьян детям предлагается обсуждать, опираясь на их собственные представления и личный опыт[83]. Считается, что новое знание воспринимается лучше, когда оно увязывается с пока ограниченным социальным опытом ученика. Данное предположение вовсе не базируется на каких-либо сравнительных исследованиях. Это предположение обосновывается на самом деле исключительно необходимостью формирования социального климата в классе, или, другими словами, — ценностей уже культурного порядка.
Сложно сказать, кто именно — учитель или дети — испытывает большие затруднения в процессе обучения, если разница в статусе между учителем и учеником, определяемая степенью владения предметом, перестает быть значимой или исчезает вообще. Поразительно, как дети в свободное от школьных занятий время стремятся приобретать знания экзотического и социально малозначимого характера, вовсе не пытаясь связывать их со «своим жизненным опытом». Ни коневодство, ни жизнь звезд шоу-бизнеса, ни вооружение времен Второй мировой войны, ни поединки рыцарей с драконами, ни монстры, обитающие где-то в космосе, не имеют никакого отношения к жизни детей в Дании, и, тем не менее, именно эти области знания оказываются для детей наиболее приоритетными, как только у них возникает возможность самостоятельного выбора. Отсутствие предварительного представления о тех или иных областях знаний нисколько их не смущает, и в большинстве случаев они даже не делают попыток создать для себя какую-то связную картину окружающего мира, привнося эти новые элементы знания в свою повседневную жизнь. Поэтому попытку школы сформировать у детей понимание взаимосвязи в окружающем мире можно рассматривать как некий чисто методический культурный проект, который не только не имеет никакого отношения к потребностям детей, но, напротив, обучает их лишь нормам жизни взрослых.
Поскольку образование ставит своей целью обучить учеников тому, чего они еще не знают, но знает учитель, возражать против обучения их нормам жизни взрослых просто невозможно. Но стоит задуматься, действительно ли задача внедрить в головы детей общекультурное представление о социальных взаимосвязях и их релевантности настолько важна, что ради достижения этой цели следует жертвовать приобретением другого знания.
Существует широко распространенное мнение, что «дети учатся лучше, если они чувствуют себя комфортно». Поэтому проблема психологического комфорта является в педагогической практике высоко приоритетной. В Дании считается нормой, когда ученики на протяжении всего периода школьного обучения остаются в одном и том же классе с одним и тем же классным руководителем, и эта норма рассматривается в качестве средства достижения максимального психологического комфорта[84]. В мире подобная организация учебного процесса является, мягко говоря, необычной, однако в Дании она представляет собой традицию, и именно поэтому здесь никогда не предпринимались попытки подвергнуть эту практику серьезному педагогическому исследованию. Нам неизвестно, действительно ли она способствует приобретению знаний. Мы это лишь предполагаем и не испытываем при этом никаких сомнений просто потому, что социальная стабильность в классе прекрасно вписывается в другие культурные нормы и идеалы, принятые в Дании. Пребывание детей в одной и той же группе в течение девяти лет вырабатывает определенную групповую идентификацию. Понятие «Класс 3-й Б» говорит, например, о какой-то конкретной группе учеников. Класс как бы приобретает свое собственное лицо. Учителя обмениваются мнениями о шумных, беспокойных, прилежных или трудных классах. И на каждого из учеников во всех этих разных классах распространяется частичка соответствующей идентификации. Они становятся «теми самыми» и абсолютно не такими, как «непонятные другие» из параллельного класса. Хотя мы и не знаем, действительно ли дети, постоянно пребывая в «своих классах», именно поэтому лучше пишут, читают и считают, мы можем с уверенностью утверждать, что речь здесь на самом деле идет лишь о том, как, в соответствии с датскими культурными нормами, должна проходить социальная организация образовательного процесса. Социальные группы должны быть стабильными. Каждому надлежит находиться в своей группе вместе с такими же, как он сам. Поэтому смена школы и «выпадание» из своего класса в какой-то другой воспринимается как катастрофа. Негативные последствия здесь бесспорны, особенно если учесть, какое количество детей бывает вынуждено за время школьного обучения менять место своего проживания.
Укрепление социальной сплоченности в классе достигается с помощью средств, которые мы могли наблюдать во время проведения учителями так называемых групповых бесед. В таких беседах обязаны участвовать все ученики, и никому из них не дозволяется говорить, рассказывая о себе, что что-то у него получается лучше, чем у других. Поэтому учитель младших классов без всяких колебаний пресекает любую попытку, которая бы привела к созданию в классе атмосферы соперничества и конкуренции. Цифру «2» все пишут одинаково правильно, все рисунки — одинаково красивые, все высказывания — одинаково верные. Второклассникам, которые рассказывают, что на каникулах они прочитали длинную главу в книге, учительница говорит, что «хвастаться здесь особенно нечем»[85]. Если ученик любой возрастной группы крепко подружится с кем-то из одноклассников, со стороны учителя будет предпринята попытка этой дружбе воспрепятствовать «из соображений нежелательности отрыва от интересов коллектива класса» или же «потому, что кто-то из ребят в этих взаимоотношениях доминирует»[86]. Детям таким образом прививается зависимость от интересов группы, но является ли при этом такая школа еще и школой, где ученики получают необходимые им знания? Правильно ли здесь расставлены приоритеты?
Многое указывает на то, что школьное образование за последние тридцать лет оказалось неспособным вооружить своих учеников «инструментами», нужными им в жизни. Образование в качестве социального лифта, что было характерным для Дании в первой половине XX века, больше, судя по всему, не работает. В 1968 году было начато крупномасштабное социологическое исследование. Были зафиксированы данные обо всех подростках, которым на тот момент исполнилось 14 лет, а затем в течение длительного периода отслеживалось профессиональное развитие каждого из них[87]. Результаты оказались весьма разочаровывающими. Превалирующей моделью стала просто-напросто та, где молодые люди выбирали тот же тип образования и получали те же профессии, что и их родители. Дети родителей с университетским образованием закончили университеты, дети, чьи родители были механиками или столярами, стали механиками или столярами, а дети, родители которых занимались неквалифицированным физическим трудом, и здесь пошли по стопам своих родителей. Из семей, где родители не имели высшего образования, не оказалось ни одного выходца, который поступил бы в высшее учебное заведение. Данное исследование подтвердило, что определяющее значение при выборе профессии имеет социальное наследие. Но каков же все-таки механизм, с помощью которого «социальное наследие» оказывает воздействие на молодых людей в реальной жизни? Каким образом среда, в которой подрастает какой-то одаренный юноша, чей отец работает у станка, сообщает ему, что он не должен стать инженером-химиком? В какой момент дочь парикмахерши приходит к заключению, что аудитором ей не стать? Или же — сформулирую это иначе — что должно произойти, чтобы молодые люди приняли для себя решение получить то образование, которое им позволяют их способности вне зависимости от социального положения родителей?
В любом случае можно констатировать, что система школьного образования, построенная преимущественно на индивидуальном опыте детей и не допускающая критического отношения к социальному опыту, не предлагает практических рекомендаций для выхода за рамки своей социальной группы. Обсуждая преимущества и недостатки частных школ по сравнению с муниципальными, школьные специалисты-предметники, часто утверждают, что хорошие педагогические результаты достигаются там не благодаря педагогике, а из-за более высокого, как правило, образовательного уровня родителей. Но точно также можно говорить и о том, что педагогика, практикуемая в муниципальных школах, ни в малейшей степени не оказывает влияния на те исходные социальные предпосылки, с которыми дети приходят в школу. Более того, можно сказать, что именно этот подход здесь изначально встроен в педагогическую программу, цель которой не противопоставлять чтение глянцевых журналов чтению классической литературы и не давать этим полярным культурным феноменам никаких оценок, дабы не создавать неудобную иерархию знания в условиях социальной однородности класса.
Для определенной части современного общества подобное положение вещей имеет непредсказуемые последствия. У детей иммигрантов еще худший социальный базис, нежели у тех датских детей, родители которых не имеют высшего образования. Причем не только в тех случаях, когда родители-иммигранты не получили вообще никакого образования, а просто по той причине, что они не обладают принятыми в Дании культурными навыками и знаниями, которым школа не обучает, исходя из того, что ученики еще в детстве овладевают ими дома. Дети иммигрантов сталкиваются с серьезными проблемами на этапе обучения в гимназиях как раз потому, что именно владение тонкостями «правильного» культурного общения и культурного знания, которым их не научили в начальной школе и которые они не получили в своих семьях, становится на этой ступени образования уже, по сути, требованием жизни. От них ожидается, что они уже знают, «нутром чувствуют», что Хольберг и «Hair» — не из одной команды, что Бетховен и Принс стоят на весьма разных ступенях культуры, что Йорн Утсон и КАВ между собой никак не связаны, а Янни Спис и Инге Эриксен[88] знамениты каждая по-своему. Датские молодые люди, возможно, тоже не всегда все это хорошо знают, но они хотя бы что-то об этом слышали, в отличие от юношей и девушек из иммигрантских семей, которые могут проучиться в датской школе все девять лет, и никто за все эти годы так и не удосужится обратить их внимание на то, что в обществе, которое их окружает, видят разницу между правильно и неправильно написанной цифрой «2». А также на то, что школьный постулат, утверждающий, что все мы одинаково хорошие — каждый по-своему, в реальной жизни не работает. Что это просто формула, которой можно пользоваться лишь по отношению к какой-то отдельно взятой группе людей, в которую входишь ты сам. И при переходе из одной группы в другую она перестает действовать. Дети-иммигранты к тому же успели уже понять, что им лучше стараться быть вместе с «себе подобными», поскольку именно это правило как раз и составляет существенную часть того знания о социальной организации, которое им привили в школе. А если, обладая какими-то способностями, ты свою жизнь захочешь изменить, шансы твои на успех окажутся невелики.
И в результате, казалось бы, исключительно позитивное качество жизни в Дании, где социальные различия скрываются или камуфлируются, приводит к негативным последствиям. Одно из них выражается в том, что социальная мобильность в датском обществе не столь значительна, как хотелось бы. Люди накрепко привязаны к своим социальным группам, где их объединяет идентичное знание. Существующая система образования не готова давать рекомендации, каким образом можно получить доступ в другие социальные группы. Да, она помогает создать комфортную атмосферу в классе, но как быть с жизнью после школы? Разве отсутствие социальной мобильности не является слишком высокой платой за этот комфорт?
Во всяком случае, нежелание реально оценивать возникшую ситуацию и нежелание считаться с ней базируются на заблуждении. Предполагается, что неравенство исчезнет само по себе, если его просто не замечать. Истина же как раз в обратном. Если делать вид, что реально существующего неравенства в обществе нет, вряд ли будет возможно с этой проблемой справиться. Следствием подобной деликатности становится закрепление неравенства. Тактичность приводит на практике к сохранению классического сословного общества.
К нашим иллюстрациям
Публикуемые здесь работы Андерсена хранятся в музее Андерсена в Оденсе.
Эйнар Стиг Аскгорд Ханс Кристиан Андерсен — художник © Перевод Анастасия Ломагина
Двадцатидевятилетний Винсент Ван Гог 31 октября 1882 года писал в письме своему другу Антонувану Раппарду:
Правда же, сказки Андерсена чудесны? Я уверен, что он хорошо рисует!
Это утверждение великого художника может первоначально вызвать удивление. Ван Гог, восхищаясь сказками Ханса Кристиана Андерсена, предположил, что датский писатель, вооружившись мыслью и пером, создавал произведения не только литературные, но и живописные. Это предположение, однако, вполне закономерно, поскольку сказки Андерсена вызывают зрительные образы. Кажущееся простым и линейным, повествование Андерсена часто раздвигает границы времени и пространства, что является важной особенностью, присущей сказке как жанру. Но, кроме этого, Андерсен никогда не описывает в своих сказках чувства или явления культурно-исторического, этического или личного характера. Слова в его повествовании, разложенные как карты в пасьянсе, в процессе чтения воспламеняются и взрываются калейдоскопом образов. Как выглядит император? А как вы представляете себе чертенка из табакерки или ведьму? А собаку с глазами, как мельничные колеса? Как выглядит старенькая бабушка, бузинная матушка, снежная королева или благословляющее нас солнце? Эти образы мы, если хотим, создаем сами, Андерсен этого не делает. Он рассказывает сказку с таким доверием, словно делится с нами «закрытой» информацией. Так создается сюжет Андерсена, и ему удается нас убедить в том, что великое может оказаться малым, бедные — богатыми, умные — глупыми, и тебя приласкают, если поменяешь лошадь на мешок гнилых яблок. Писателю удается доказать, что гнилые яблоки могут стоить столько золота, сколько они весят. Мы не просто понимаем альтернативную реальность, мы ее видим собственными глазами.
Поэтому едва ли стоит удивляться тому, что поэтический талант Андерсена вдохновил стольких художников. К сожалению, Ван Гог не принадлежит к их числу. Тем не менее, прочитав сказки, он делает вывод, что их автор должен быть одаренным рисовальщиком. Он и был им, но в особом роде.
Зрительные образы стали возникать в голове Андерсена еще в детстве. «Мой отец во всем потакал мне, — писал Андерсен в своем автобиографическом сочинении „Сказка моей жизни“ (1846). — Он обожал меня и жил для меня одного. Все воскресенья он проводил, изготавливая для меня то раёк с картинками, то кукол для театра. Он часто читал что-нибудь из пьес Хольберга или „Тысячи и одной ночи“, и я помню его улыбающимся только во время чтения, ибо ни в личной жизни, ни в работе он счастлив не был».
Однако не один отец пробуждал в мальчике фантазию. Город Оденсе был одним из немногих привилегированных провинциальных городов, где имелся свой постоянный театр. Именно там молодой подмастерье сапожника впервые познакомился с драмой, сначала сидя среди публики, затем — в качестве актера любителя. В доме некой госпожи Бункефлод — вдовы пастора, которая жила на другой стороне улицы, Андерсен узнал о Уильяме Шекспире и греческой трагедии.
Таким образом, с раннего юношества он был настроен на высокие литературные образцы. Первый жанр, с которым соприкоснулся Андерсен, была драма. А его фантазия расцветала во время спектаклей домашнего театра марионеток.
Таким был мир, в котором вырос Андерсен, он предпочитал его даже игре с другими детьми. Больше всего ему нравилось шить костюмы для своих любимых игрушек — театральных кукол.
Андерсен унаследовал от своего отца, умершего в возрасте тридцати трех лет от болезни легких после возвращения с войны в Голштинии, военный дневник. На оставшихся чистых листах этого дневника, к счастью сохранившегося, молодой писатель набросал некоторые идеи 25 пьес и названия нескольких песен. Последние, вероятно, должны были служить музыкальным сопровождением для пьес. По названиям песен видно, что источником вдохновения Андерсену служили постановки, которые в то время шли на сцене театра в Оденсе. Каждый раз, когда Андерсен помогал Педеру Юнкеру расклеивать театральные афиши по городу, тот дарил ему театральные программки и плакаты. Дома он разглядывал изображения на них, программы и афиши окрыляли его фантазию. Возникшие таким образом идеи и образы вдыхали в пьесы Андерсена новую жизнь. С годами его любовь к театру вообще и к кукольному театру, в частности, ничуть не уменьшилась. Вероятно, его склонность выражать идеи с помощью метафоры возникла в результате этого увлечения.
Когда перечитываешь названия поэтических произведений Андерсена, складывается впечатление, что он был очень увлечен взаимодействием зрительного образа и художественных возможностей языка. Его первым произведением, напечатанным в номере «Летучей почты» Хайберга за 1827 год, стало стихотворение под названием «Вечер. (Резьба по дереву)». Несколько лет спустя, Андерсен опубликовал целый ряд стихотворений: «Картинки для ширмы» (1829), «Зарисовки природы» (1830), «Пейзажи западного побережья Ютландии» (1830), «Фантазии и этюды» (1831), «Театр теней» (1831), «Зимний пейзаж пером и тушью» (1831), «Зарисовки к портретам датских поэтов» (1831), «Двенадцать месяцев года. Зарисовки пером и тушью» (1832). И это только несколько примеров из раннего творчества Андерсена, свидетельствующих о том, что использование языковых средств для создания зрительного образа — не новый прием для писателя.
Благодаря знакомству с театром Андерсен научился выражать идеи с помощью образов. Однако он не только пытался визуализировать идеи, используя образные свойства языка, но и пробовал себя в роли художника. Сохранилась довольно большая коллекция его рисунков карандашом и пером, силуэтов из бумаги и коллажей. Особенно интересен самый первый вырезанный Андерсеном силуэт солдата, который наверняка предназначался для театра марионеток. А самый ранний их дошедших до нас рисунков писателя изображает сцену Королевского театра в Копенгагене в 1821 году.
«Силуэты из бумаги — это увертюра к сюжету»[89]. Удивительные силуэты из бумаги, вырезанные Андерсеном, часто являлись для него поводом к общению. В первой же сказке Андерсена «Цветы маленькой Иды» маленькая Ида разговаривает с молодым поэтом-студентом.
Подставка дм цветов
«Она очень любила этого студента — он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезывать презабавные фигурки: сердечки с крошками танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать. Большой забавник был этот студент!» — говорится в истории.
Однако старый скучный советник, «который тоже пришел в гости и сидел на диване», чувствует неприязнь к неуемной фантазии студента: «Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезал затейливые, забавные фигурки вроде человека на виселице и с сердцем в руках — его повесили за то, что он воровал сердца, — или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу».
По собственному свидетельству писателя, записанному им в 1835 году, это занятие было постоянным номером в его репертуаре. В дневниковой записи, датируемой 1833 годом, на пути через Швейцарию в Италию, он рассказывает, как прощался с семейством Урье в местечке Ле-Локль: «В последний момент перед отъездом я вырезал бумажные силуэты для детей и тетушек». Через 15 лет он напишет в автобиографическом романе «Две баронессы»: «Я вырезал из бумаги замечательные вещицы. Этот талант был у меня с детства, и многие семейства до сих пор хранят вырезанные мною фигурки».
В письме к другу детства Генриетте Вульф от 23 декабря 1857 года говорится: «Когда я читаю в твоих письмах о вырезных рождественских украшениях на елку, ты даже не можешь себе представить, как я тоскую по тем далеким-далеким временам, когда мы были почти детьми и ты вырезала для нас фигурки из бумаги в Академии».
Наверное, было любопытно наблюдать за тем, как писатель вырезает свои силуэты. Правда, само по себе, это занятие не было таким уж редким хобби, однако в том, каким образом Андерсен ему предавался, было нечто особенное. У других картинки представляли собой маленькие, изящно вырезанные силуэты. Это мог быть, например, чей-то профиль или пейзаж, всадник и его лошадь, кошка, выгибающая спину, или просто сложный узор. Главное — было достичь максимальной точности при вырезании. Андерсен же изготавливал свои силуэты совершенно иным способом. Они отличаются удивительной фантазией. Это мог быть человек с тремя головами, дама с четырьмя бюстами или девушка, стоящая на крыле мотылька. Многие из этих картинок имеют посередине вертикальный сгиб, так что две половинки зеркально отражают друг друга.
Некоторые картинки делались асимметричными, когда писатель вырезал силуэт только на одной половинке. Если развернуть такую картинку, то видно, что обе половинки представляют собой разные сюжеты. Так, на одном из силуэтов видны очертания двух гнезд. В одном из них высиживает птенцов аист, а в другом стоит на одной ножке балерина, задрав другую высоко вверх.
Мужчины, деревья и лебеди
Дерево с двумя танцовщицами, ангел, гоблин и лебедь
Йозефа Дюрк-Каульбах пишет в своих замечательных воспоминаниях, вышедших в 1921 года, про творческий подход Андерсена к вырезанию силуэтов из бумаги во время визитов в дом художницы в 1860-х годах: «После ужина некурящий поэт переходил с нами, дамами, в салон и просил подать ему ножницы и большую пачку бумаги. Он несколько раз тщательно складывал бумагу мягкими, гибкими пальцами, затем с ловкостью вырезал прелестные вещицы и дарил их нам. При этом он рассказывал нам истории из своей жизни и вдруг, как бы невзначай (так во всяком случае казалось), переносился в сказочный мир, захватив с собой и нас на расправленных крыльях. Он рассказывал, как, бывало, сиживал на берегу моря и глядел в воду. Однажды случилось так, что он дошел до самого конца мола и увидел в воде останки корабля. Маленькие золотые рыбки сновали через его отверстия. И тут писатель понял, что это огромное чудище, которое несло в пасти что-то невероятно ценное. Он присмотрелся и увидел маленькую золотую корону. И вот уже его фантазия разворачивала перед нами одну картину за другой. Мы слушали, затаив дыхание. Кто-то едва сдерживал слезы, поскольку некоторые истории нашего писателя вызывали грустные мысли. А он сидел перед нами и изящными, беспокойными пальцами вырезал балетных танцовщиц. Закончив историю (а может быть, прервав ее на последнем движении ножниц?), он раскрыл для нас целую гирлянду вырезанных балерин. Они держали друг друга за руки, подняв одну ножку вверх. Андерсен был счастлив, что фигурки вышли так хорошо. Наша похвала радовала его больше, чем впечатление, которое произвела на нас его история»[90].
Две канатоходки и двое мужчин
Бумажные силуэты были не просто приятны для глаз. Так, например, его знаменитое объемное кресло-качалка, вырезанное и сложенное из листа бумаги, очевидно задумывалось как мебель для кукольного домика. В произведении Марии Рёрдам «Долгая жизнь. Взгляд в прошлое», опубликованном в 1911 году, можно прочесть: «Приход Андерсена был для нас событием. Он часто вырезал из бумаги удивительнейшие изображения: церкви с высокими колокольнями, танцоров, которые, если на них дунуть, начинали двигаться как будто в танце, дервишей и прочих».
Пират в земном пиджаке
Бумажные силуэты могли восприниматься метафорически. Так, например, мужчина, несущий на подносе силуэт местности, то ли Геркулес, то ли Атлас из греческой мифологии, олицетворял собой выражение «Перевернуть все вверх дном». Ветряная мельница, которая благодаря крыльям в виде рук одновременно являлась и человеческой фигурой тоже, возможно, изображала датское слово «maler», которое обозначает и мельника, и художника. А мотылек, несущий на своих крылышках женскую фигурку, мог символизировать «Психею», которая в древнегреческом обозначает «душу» и тогда изображается в виде девушки. Игровой элемент в бумажных силуэтах Андерсена возникает порой совершенно случайно. Например, он вырезал для Ионы Стампе рождественскую елочную игрушку в виде дервиша. Дело в том, что во время путешествия на восток в 1841 году ему довелось наблюдать религиозный танец дервишей, олицетворяющий движение планет. Это, очевидно, послужило источником вдохновения для создания вариации на тему танца вокруг яркой Вифлеемской звезды.
Лола Звонарёва, Лидия Кудрявцева «Я стал заядлым рисовальщиком…»
До глубокой старости Андерсен рисовал — у писателя, по мнению многих литературоведов и искусствоведов, ощущался явный талант к рисованию. В молодые годы, раз в неделю обедая с театральным хормейстером, Андерсен для его маленького сынишки рисовал книгу «Фантазий и скетчей». Здесь мы встречаем встречаем охотничью сценку, в которой действующие лица вскоре станут героями его новых сказочных историй. Много путешествуя, Андерсен неизменно рисовал новые места, и это помогало ему фиксировать зрительные впечатления для своих новых романов, пьес и сказок.
Корвет «Галатея» в константинопольской гавани
Писатель часто вырезал силуэты из цветной бумаги, наклеивал их на синий или черный фон и дарил знакомым дамам. В «Сказке моей жизни» он вспоминает, как подарил знакомой молодой девушке «какую-то вырезанную из бумаги фигурку». Его вырезки нередко становились подарком детям друзей. Малыши с любопытством наблюдали, как писатель вырезает. Для детей близких друзей Андерсен делал целые рисованные книги. Андерсен с невероятной быстротой и искусством вырезал причудливые фигурки, арабески, цветы, животных и человечков. Особенно удачно получались у него улыбающееся солнце, трубочист, солдат, лебеди, бабочки и танцовщицы, стоявшие на одной ножке.
В сказке «Цветы маленькой Иды» встречаем автобиографический образ студента, который «…умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошечными танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать». В сказочной истории «Альбом крестного» главный герой также наделен автором его собственными талантами: «Мастер был крестный рассказывать… Умел он также вырезать картинки и даже сам рисовал их». Писатель создавал сложные узорные композиции, вплетая туда изображения любимых сказочных героев: танцующих балерин, лебедей, Оле-Лукойе, пастушек, гномов.
Дама в черно-зеленом платье
Пират с шестью сердцами в пиджаке
Иллюстрация к «Гадкому утенку»
Не менее интересны и рисунки, сделанные Андерсеном в путешествиях. Они привлекают легкостью и наблюдательностью. Андерсен рисовал Италию и Саксонию, Грецию и Турцию, Швейцарию и Баварию. Рисунки становились для Андерсена источником воспоминаний и ассоциаций. Вернувшись в Данию из первой поездки в Рим, он привез с собой множество набросков пером. В одном из писем из Италии признавался:
В Мола-ди-Гаэта я видел термы Цицера и рисовал их. Я стал заядлым рисовальщиком, и художники в Риме поощряют меня, так как у меня хороший глаз, во всяком случае, многие мои рисунки (а их готово уже более ста) — это мое сокровище, которое потом, дома, доставит мне радость. Ах, если бы я только учился рисовать! <…> Я, между прочим, стал страстным рисовальщиком, моя папка полна маленьких пейзажей Италии, и я с радостью уложу всю страну в свой карман.
Путевые рисунки соответствовали размеру жилетного кармашка — в нем он носил специально заготовленные листочки бумаги размером 7×9 сантиметров. На этих клочках Андерсену удавалось передать многое, не отказываясь от деталей и интересных планов. Перьевые рисунки писателя экспрессивны, линия подчинена определенному ритму, передает состояние природы или особенности архитектуры. Он часто сравнивает увиденное то с произведениями Рембрандта, то с работами малых голландцев — Поттера, Рейсдаля, Ван Остаде.
Влюбленный в живопись Андерсен постоянно посещал музеи, приходя в полюбившиеся залы снова и снова. В начале «Сказки моей жизни» встречаем имена Рафаэля и Тициана, в картинах которых писателя восхищают «красота, правдивость и свежесть». В 1831 году Андерсен впервые переступил порог Дрезденской галереи, после чего записал в дневнике:
Из всего, что произвело на меня глубочайшее впечатление, я должен в первую очередь упомянуть Мадонну Рафаэля. Я пробежал залы галереи, чтобы найти эту картину, и, когда перед ней остановился, она, к моему удивлению, не ошеломила меня. Передо мной была обыкновенная женщина, не красивее тех, что я так часто видел. «Неужели это та самая знаменитая картина? — подумал я. — От нее я ждал потрясения! Многие мадонны и женские лица в этой галерее гораздо красивее». И я отправился снова к ним. И тут словно покрывало упало с моих глаз! Теперь это были ничем не примечательные лица. Я вернулся к Рафаэлю и почувствовал бесконечную правду и величие… той картины. Здесь не было ничего, что удивляет, ослепляет, но чем внимательнее всматриваешься в лица матери и младенца Христа, тем божественней они становятся. Такого неземного, детского лица нет ни у одной женщины — и все же перед вами абсолютная реальность… Не любовь, а обожание было в этом взгляде!
Этот отзыв Андерсена удивительным образом перекликается с ощущениями В. А. Жуковского, написавшего под впечатлением от этой же картины статью «Рафаэлева мадонна», опубликованную в журнале «Полярная звезда» в 1824 году.
Час, который провел я перед этою Мадонною, — пишет Жуковский, — принадлежит к счастливым часам жизни, я ясно начал ощущать, что душа распространялась, какое-то трогательное чувство величия в нее входило, неизобразимое было для нее изображено, и она была там, где только в лучшие минуты жизни быть может.
Похожий отзыв оставит в мемуарах и иллюстратор сказок Андерсена Мстислав Добужинский:
Я хорошо осмотрел картинную галерею в Цвингере и долго сидел в молитвенной тишине зала перед Сикстинской мадонной, настраивая себя на поклонение «мировому шедевру». Но, к моему конфузу, оставался холодным, как видение, Мадонна мне казалась слишком грузной и земной…
Сборник «Новые сказки», вышедший в конце 1866 года, Андерсен посвятил молодому датскому художнику Карлу Блоку, считая его человеком выдающимся. В «Сказке моей жизни» Андерсен пишет:
Я очень высоко ценил его талант; познакомился я с ним еще в Риме; здесь же сошелся поближе и стал еще больше ценить его как художника и как человека.
В 1869 году Карл Блок написал портрет Андерсена, в эти годы уже достигшего всемирной известности, высоко ценимого королем Дании и зарубежными принцами.
Две руки и одна балерина
В течение всей жизни Андерсен увлекался декупажами — коллажами, виртуозно вырезаемыми им из цветной бумаги. Спустя восемь десятилетий Анри Матисс, в конце жизни увлекшийся этим же занятием, назовет этот вид творчества «искусством рисовать ножницами». В музее Андерсена в Оденсе хранится вырезанный из цветной — синей — бумаги овальный декупаж, в котором красиво закомпанован сложный узор — крест (в центре), головки тюльпанов (по кругу), лебеди с вытянутыми шеями и распахнутыми крыльями. Известно, что эта вырезка была сделана Андерсеном в 1835 году. «Вырезка — это рисунок цвета в чистом виде», — эти слова Матисса мы вспоминаем, когда вглядываемся в прихотливые и сложные декупажи Андерсена. Вырезки наклеивались автором на цветную бумагу. В 1874 году Андерсен сделал большой, сложный декупаж в подарок Дороте Мелхион. Это истинное произведение искусства — таким образом писатель хотел отблагодарить ее за дружбу и заботу. В многофигурной композиции вновь центром является крест, а вокруг — в прихотливом узоре сплелись балерины и танцовщицы, шуты и стражники с саблями, трубочисты и мрачные карнавальные маски. В 1873–1874 годах Андерсен выполнил в коллажной технике ширмы, составив их из четырех двусторонних панелей. Размер каждой из них — около полутора метров. Создавая фантастические образы Германии и Австрии, Франции и Англии, Норвегии и Дании, стилизованный образ Востока, писатель опирался на фрагменты репродукций, гравюр, дагерротипов. Зритель ощущает прикосновение и к еще одной необычной стране — стране Детства. Е. Бобринская так комментирует эти ширмы:
Композиции Андерсена в полной мере воссоздают характерное для коллажа ощущение пространства, в котором нет единой позиции для созерцания, нет линейной перспективы. Пространство представляет собой странную пульсирующую среду: оно может внезапно разворачиваться далеко в глубину и тут же вплотную придвигаться к поверхности; предметы, едва различимые вдали, и предметы, приближенные к самым глазам смотрящего, оказываются в непосредственной близости друг от друга. Человеческие фигуры (а чаще — лишь лица, и притом многие из них — хорошо знакомые современникам) располагаются рядом с фантастическими существами, созданными воображением; памятники архитектуры, моря, горы, леса, города, театральные залы и набережные, известные монументы, животные, птицы сплетаются в единый образ, в котором фантасмагория обладает чертами реальности, рождаясь из смешения знакомых и привычных мотивов.
Коллажи Андерсена высоко оценили европейские художники начала XX столетия. Есть свидетельства, что именно коллажи писателя дали творческий импульс Максу Эрнсту при работе над его дадаистскими и сюрреалистическими коллажами. По мнению Е. Бобринской, Андерсен удачно использовал в ширмах двойной эффект фотографии — правдивость изображения, передающего ощущение непосредственного отпечатка реальности, и присутствие технического устройства-посредника.
Не все декупажи Андерсена предназначались для детей друзей или знакомых дам. Один из них — крупномасштабная продуманная композиция — фигурировал на благотворительном базаре, организованном Союзом студентов в Копенгагене для родственников солдат, погибших в датско-немецкой войне 1864 года. В этой вырезке писатель представил целый мир своей творческой фантазии и писательских мечтаний. В центре композиции Андерсен написал: «Это бумажная вырезка довольно дорогая, / Оцененная в половину рексдалера, / Но это целая вырезанная сказка, / И ваше доброе сердце подскажет вам, сколько заплатить». Этот автограф писателя позволял продавать вырезку в два раза дороже.
В 1875 году, еще при жизни писателя, в честь его семидесятилетнего юбилея в Королевском парке в Копенгагене был установлен монумент скульптора А. Саави — сидящий в небрежно накинутом плаще Андерсен с книгой в руке читает одну из своих сказочных историй, как бы общаясь со зрителями.
Датская литература на страницах ИЛ
1955
Шерфиг Ханс. Судьба печати в Дании [2]
1956
Международная анкета «Иностранной литературы». Отвечают Эйнар Томассен, Ханс Шерфиг [5]
Бидструп Херлуф. Поездка в Китай [8]
Международная анкета «Иностранной литературы». Отвечает Уве Абильгорд [8]
1958
Хорскьер Эрик. Вклад в дело мира [2]
Деятели культуры о совещании на высшем уровне: Ханс Шерфиг [3]
Международная анкета «Иностранной литературы». Отвечают Херлуф Бидструп, Ханс Кирк [6]
Международная анкета «Иностранной литературы». Отвечают Ханс Браннер, Ханс Шерфиг [7]
Бидструп Херлуф. Смех — мое оружие [11]
1959
Браннер Ханс Кристиан. Две минуты молчания. Новелла. Перевод Н. Крымовой. Власть денег. Новелла. Перевод Ю. Яхниной [6]
Вульф Хильмар. Сватовство. Новелла. Перевод С. Лялиной [6]
Йенсен Свен. Солидарность. Новелла. Перевод К. Телятникова [6]
Кирк Ханс. Три пальца. Новелла. Перевод Ю. Яхниной 6]
Шерфиг Ханс. Верный шанс мистера Уайта. Новелла. Перевод М. Коссого [6]
Шерфиг Ханс. Они возвращаются… Статья [9]
1960
Мы думаем, что… Высказывания деятелей культуры о молодежи, ее стремлениях и чаяниях: Ханс Шерфиг [10]
1963
Даниэльсен Эрик. Роман здравствует и процветает. Письмо из Копенгагена [4]
1964
Шерфиг Ханс. Наш друг Ханс Кирк [11]
1966
Даниэльсен Эрик. Торжество рассказа. Письмо из Дании [3]
1967
Даниэльсен Эрик. Народная комедия Эрнста Бруна Ольсена [4]
1969
Андерсен-Нексё Мартин. Из статьи «Пролетариат и искусство» [6]
1972
Шерфиг Ханс. Страна утренней зари. Перевод Н. Крымовой [12]
1974
Из датской поэзии. Вильям Хейнесен, Тове Дитлевсен, Отто Гельстед. Переводы Евгения Винокурова, Надежды Григорьевой. Предисловие Н. Крымовой [3]
1977
Брайнхольст Вилли. Улыбки Дании. Рассказы. Перевод Марины Тюриной [3]
1982
Брайнхольст Вилли. Рассказы. Перевод Норы Киямовой [2]
Фредриксен Томас. Дневник гренландца. Перевод Л. Горлиной [4]
1989
На анкету «ИЛ» отвечают зарубежные русисты: Айгиль Стеффенсен [8]
1991
Бликсен Карен. Поэт. Новелла. Перевод Е. Суриц [5]
2003
Херманн Иселин К. Par avion. Переписка, изданная Жан-Люком Форёром. Роман. Перевод Татьяны Доброницкой [6]
2005
Андерсен Ханс Кристиан. Сказки и истории. Переводы Н. Федоровой, Н. Киямовой, А. Афиногеновой. Вступление А. В. Сергеева и А. Н. Чеканского [7]
2006
Себерг Петер. Крошка песик. Рассказ. Перевод Е. Суриц [1]
2007
Андерсен Ханс Кристиан. Базар поэта. Путевые заметки 1826–1872 гг. В Швеции. Главы из книг. Перевод Норы Киямовой [12]
2010
Кристенсен Ингер. Стихотворение о смерти. Перевод Алёши Прокопьева [3]
Айдт Найя. Марие Рассказы. Перевод Яны Палеховой. Вступление Ольги Дробот [7]
Примечания
1
Фехтовальный клуб (нем.). (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)2
Вы так упорно на меня смотрите, молодой человек (нем.).
(обратно)3
Приехали (нем.).
(обратно)4
Здравствуйте (нем.).
(обратно)5
Здравствуй, кузен Кнут (нем.).
(обратно)6
Ну, малыш Кнут, с Рождеством (нем.).
(обратно)7
Смотрите, кто к нам приехал, Хильда, милочка! (нем.).
(обратно)8
Ах, милая моя Ева! (нем.).
(обратно)9
Приятного аппетита (нем.).
(обратно)10
О, папочка! (нем.).
(обратно)11
Кнудхен! Мыть руки! Обедать! (нем.).
(обратно)12
«Отче наш, благослови эту пищу, чтобы она дала нам силы и во славу твою!» (нем.).
(обратно)13
«Добрый день, папочка» (нем.).
(обратно)14
«Нет, для нас» (нем.).
(обратно)15
«Извините, пожалуйста… Я могу вам чем-то помочь?» (нем.).
(обратно)16
«Счастливого пути» (нем.).
(обратно)17
«Вот, папочка!» (нем.).
(обратно)18
«Воскресный солнечный день» (нем.). Популярная песня 30-х гг.
(обратно)19
«Девиз Хильды: „Иди напролом“!» (нем.).
(обратно)20
Студенческая повинность (нем.).
(обратно)21
«Немецкие девушки всегда в авангарде. Фронт и тыл вместе!» (нем.).
(обратно)22
«Нацистский рай. Война, голод, ложь, гестапо. Сколько еще терпеть?» (нем.).
(обратно)23
«Он арестован и его допрашивают. Вам нужно немедленно явиться в Народный суд. Хайль Гитлер!» (нем.).
(обратно)24
«У Кнудхена день рождения, тра-ла-ла-ла-ла, у Кнудхена день рождения, хайса-хопса-са!» (нем.).
(обратно)25
Кекс с изюмом (нем.).
(обратно)26
«В „Некермане“ это возможно» (нем.).
(обратно)27
Ну что, дети, теперь садиться и угощаться! (нем., дат.).
(обратно)28
Пончики и картофельные оладьи (нем.).
(обратно)29
«Поймай рыбку» (нем.).
(обратно)30
«Кошки-мышки» (нем.).
(обратно)31
«Бег с бумажными пакетами» (нем.).
(обратно)32
«Фонарик, фонарик, солнце, месяц и звезда» (нем.).
(обратно)33
Дух, духовность (нем.).
(обратно)34
Букв. «Не сердись, дружок» (нем.). Немецкая настольная игра.
(обратно)35
«Внимание, внимание» (нем.).
(обратно)36
Репарация (нем.).
(обратно)37
«Мертв?» (нем.).
(обратно)38
Тонни Лендагер (р. 1951) — датский музыкант.
(обратно)39
Датская рок-группа.
(обратно)40
Петер Фрейхен (1886–1957) — датский полярный исследователь и писатель.
(обратно)41
«Как я выгляжу» (нем.).
(обратно)42
«Ну что вы за люди» (нем.).
(обратно)43
«Да, мы всегда берегли наши вещи» (нем.).
(обратно)44
«Милая мамочка, я тебя так люблю» (нем.).
(обратно)45
Трупное окоченение (лат..).
(обратно)46
«Как песнь сладка» (нем.). Перевод В. Летучего.
(обратно)47
Мелодия написана немецким композитором М. Вульпиусом (1570–1615), текст — датским автором К. Буде (1836–1902).
(обратно)48
In medias res — в середине дела (лат.). (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)49
Там находится Посольство США, перед которым происходили протесты против войны во Вьетнаме.
(обратно)50
Здесь: как таковой (нем.).
(обратно)51
Граучо Маркс — американский актер и комик; один из трех братьев Марксов.
(обратно)52
Тадж Махал — американский музыкант, один из выдающихся исполнителей блюза конца XX в.
(обратно)53
Петер Вессель Торденскьоль (или Петер Торденшельд) (1691–1720) — адмирал, герой военно-морских сражений времен Северной войны. (Прим. перев.).
(обратно)54
Ведерсё — селение на северо-западном побережье Ютландии, где Кай Мунк был приходским священником с 1924 г. Фразу, взятую Мунком в качестве эпиграфа, как утверждают исследователи, он услышал от своей прихожанки. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)55
Приверженец Грундтвига. Н. Ф. С. Грундтвиг (1781–1872) — религиозный деятель и просветитель. Ратовал за приоритет «живого слова» над церковными догматами. Вдохновитель создания так называемых высших народных школ, целью которых было приобщение крестьян к национальной культуре.
(обратно)56
Сторонник «Внутренней миссии», религиозной секты, исповедовавшей веру в «карающего бога», отрицавшей все «мирские» радости и активно стремившейся «обращать» людей в свою веру.
(обратно)57
Имеется в виду упоминаемая в Евангелии история о пребывании Иисуса в доме двух сестер. Мария благоговейно слушала Христа, в то время как Марфа заботилась об угощении, за что Иисус упрекнул ее.
(обратно)58
Согласно Евангелию, каждого из этих людей приписывали Христу в качестве отца.
(обратно)59
Израильские города, жителей которых Христос, согласно Евангелию, корил за нежелание раскаяться и которым предрек печальный конец.
(обратно)60
Бьёрнстьерне Бьёрнсон (1832–1910) — норвежский поэт, прозаик, драматург. В его драме «Свыше сил» (1883) поднимается вопрос о возможности христианского чуда.
(обратно)61
Персонаж драмы Адама Готлоба Эленшлегера (1779–1850), датского писателя-романтика, «Ярл Хакон», который прячет своих дочерей, чтобы уберечь от притязаний ярла.
(обратно)62
Перевод псалмов К. Артамоновой.
(обратно)63
Имеется в виду Грундтвиг.
(обратно)64
В Дании существовала система, согласно которой, при отсутствии поблизости врача, осмотр мертвого тела и выдача свидетельства о смерти осуществлялись двумя специально избранными местными жителями.
(обратно)65
Молись и трудись (лат.).
(обратно)66
Денис Джордж Финч-Хаттон (1887–1931) — английский граф, охотник, погиб вместе со слугой-кикуйю при катастрофе своего биплана в Кении. В фильме Сидни Поллака по автобиографическому роману Бликсен «Из Африки» (1985) его роль сыграл Роберт Редфорд. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)67
Даниэль Жиллес, барон де Пелиши (1917–1981) — бельгийский писатель, автор биографий Л. Толстого, А. Чехова, Д. Г. Лоуренса.
(обратно)68
Странное заблуждение некоторых недатчан, в основном американцев, которое переводчику довелось обсуждать с датскими коллегами на конференции, посвященной Карен Бликсен (в 1995 г., у нее в наследственной усадьбе Рунгстедлунд, превращенной теперь в музей): в Дании имя Карен Бликсен знает каждый ребенок, этим именем называют улицы и рестораны, все от мала до велика ее читают на родном, датском, языке, ее портрет был одно время на пятидесятикроновой купюре, он есть на почтовых марках, — а о Динесене почти никто не слышал. Кстати, немцы и вовсе называют ее исключительно Таня Бликсен, одним из домашних ее имен, и никак иначе. (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)69
Рассказ был тогда опубликован под псевдонимом Оцеола.
(обратно)70
Точнее это — авторский перевод. Карен Бликсен в зрелые годы писала всегда то по-английски, то по-датски и неизменно сама себя, соответственно, переводила. Как Сэмюэл Беккет.
(обратно)71
Дороти Кэнфилд (1879–1958) — американская писательница, в том числе детская, и поборница реформ образования.
(обратно)72
Единственный роман Эмили Бронте (1818–1848), написанный в 1847 г.
(обратно)73
Эразмо да Нарни, по прозвищу Гаттамелата (1370–1443) — итальянский кондотьер. В Падуе ему поставлен памятник — десятиметровая конная статуя работы Донателло.
(обратно)74
Одна из «Семи фантастических историй».
(обратно)75
Нечто настоящее (франц.). (Здесь и далее — прим. перев.).
(обратно)76
To есть в 1957 г.
(обратно)77
Там теперь и могила Карен Бликсен, простая плоская плита под могучим деревом.
(обратно)78
Роман, опубликованный в 1946 г.
(обратно)79
Йенни Линд (1820–1887) — шведская оперная певица, прозванная «скандинавским соловьем».
(обратно)80
Сэр Джон Гилгуд (1904–2000) — английский актер театра и кино, прославившийся главным образом шекспировскими ролями: Гамлет, король Лир, Просперо и др.
(обратно)81
Это на самолете Дениса Финча-Хаттона Карен Бликсен летала над Килиманджаро, это с ним она охотилась на буйволов и львов. Он погиб в авиакатастрофе, Карен Бликсен написала о нем в книге «Из Африки» и поставила на его могиле высокий обелиск.
(обратно)82
«Роза ветров» — влиятельный датский литературный журнал, который в 1954–1973 гг. издавали писатели Вилли Сёренсен и Клаус Рифбьерг. Джесс Эрнсбо (р. 1932) — датский поэт, прозаик, драматург. (Прим. перев.).
(обратно)83
Vagn Oluf Nielsen. Folkeskolen i 90’erne — loven og samfundet. — Kebenhavn: Kroghs Forlag, 1995. (Здесь и далее, кроме особо оговоренного случая, — прим. автора.).
(обратно)84
Салли Андерсен сделала на основе опыта работы в копенгагенской муниципальной школе ряд аналитических наблюдений, которые я здесь привожу. — Sally Anderson. Chronic proximity. — København: Specialerækken, IA 1995.
(обратно)85
Опыт подсказывает мне, что учителя станут оспаривать актуальность данной информации, поэтому дословно привожу здесь высказывание классного руководителя второго класса школы «Селина» в городе Ольборге в начале 1995 учебного года.
(обратно)86
Kirsten Reisby. Pigekultur i skolen // Dansk pædagogisk tidsskriftnr, 1991, 1.
(обратно)87
Erik Jørgen Hansen. En generation blev voksen. — København: Socialforskningsinstituttet, 1995.
(обратно)88
Людвиг Хольберг (1684–1754) — датский писатель и драматург. «Волосы» — название популярного американского мюзикла 1979 г. Рожерс Нелсон Принс (р. 1958) — американский певец, исполнитель блюзов. Йорн Утсон (1918–2008) — датский архитектор. КАВ — крупная риэлтерская фирма в Копенгагене, специализирующаяся в том числе на аренде и администрировании жилья. Янни Спис — в 80 и 90-е гг. владелица крупной турфирмы, доставшейся ей в возрасте 22 лет после смерти мужа-миллионера Симона Списа. В 80-е гг. ее портреты постоянно украшали обложки глянцевых журналов. Инге Эриксен — датская писательница. (Прим. перев.).
(обратно)89
Из письма Ханса Кристиана Андерсена Доротее Мельхиор от 21 июля 1867 г.
(обратно)90
Йозефа Дюрк-Каульбах. Воспоминания о Вильхельме фон Каульбахе и его доме. — Мюнхен, 1921, с. 108.
(обратно)


![Повесы [=На всю катушку, =Приди и протруби в свой рог]](https://www.4italka.su/images/articles/498532/primary-medium.jpg)

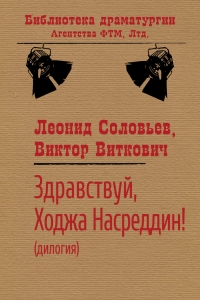
Комментарии к книге ««В Датском королевстве…»», Джон Апдайк
Всего 0 комментариев