Ольга Вайнштейн Денди. Мода, литература, стиль жизни
Гламур и грамматика: предисловие
Эта книга – об истории дендизма, ее главный герой – денди, харизматический модник со всеми своими причудами и обыкновениями. Территория поиска – мода, литература и стиль жизни. Пространства не столь уж раздельные, как может показаться на первый взгляд, – в них то и дело проступают неожиданные связи. Скажем, слово «гламур» происходит от слова… «грамматика». Дело в том, что в Средние века ученые, владевшие премудростями грамматики, считались чуть ли не чародеями, волшебниками, как доктор Фаустус. В XVIII веке в Шотландии «grammar» стали произносить как «glamour», и так возникло новое слово, означающее магическое заклинание, чудо, таинственную силу[1]. И отсюда уже пошел современный смысл гламура – пленительный шик, дивное сияние шарма. Но чтобы понять секреты великих денди, полезно проделать обратный путь: расшифровать исходную грамматику, скрытую за модным блеском. А тогда для начала придется спросить: откуда брать достоверные сведения об этом эфемерном и притягательном мире?
Самые ценные и редкие источники для изучения истории моды – документальные. К ним относятся костюмные коллекции, портновские трактаты, журналы мод, дневники денди, альбомы модников и модниц. Особенно любопытны специальные альбомы, в которых хранились образцы тканей и фиксировались варианты туалета. Раньше это был достаточно распространенный жанр, гибрид дневника и хозяйственной книги. В музее Виктории и Альберта сохранился альбом Барбары Джонсон, относящийся ко второй половине XVIII века. Эта дама наклеивала в свой альбом лоскутки тканей, кратко отмечая фасон платья, расход материала и стоимость шитья, а попутно записывала туда и события своей жизни[2]. Текст здесь с легкостью перетекаетв текстиль – кстати, еще одна неслучайная пара, хитросплетение слов и нитей[3]… Есть упоминания об альбоме князя Куракина, щеголя екатерининского времени. В нем на каждой странице имелись образцы материй, из которых были сшиты его великолепные наряды, и к ним прилагались описания удачных ансамблей, включающих шпагу, пряжки, перстень и табакерку[4]. Куракин использовал альбом для того, чтобы добиться максимально эффектного сочетания костюма и аксессуаров, это был своего рода рабочий инструмент для его изощренного вкуса, учебник гламурной грамматики.
Особый случай – трактаты о моде. Порой это чисто технические руководства для портных с выкройками и указаниями, как снимать мерки[5], порой обстоятельные наставления, как завязывать шейный платок, написанные в приятном игровом ключе[6]. Но нередко эти трактаты создавались с глобальным размахом – как универсальная энциклопедия для желающих хорошо выглядеть. Типичный пример – английский трактат 1830 года «The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion», написанный неким кавалерийским офицером. Его полное название звучит весьма внушительно:
«Всеобщее искусство одеваться, или Путь к элегантности и моде, с колоссальной скидкой 30 %. Трактат о существенном и необходимом атрибуте современности – костюме джентльмена. Посредством превосходных иллюстраций четко определяет самые подходящие сочетания цветов, многообразные стили формальной и неформальной одежды; изъясняет, что носить людям разных возрастов и различного цвета лица, чтобы представить фигуру наиболее симметрической и приятной для глаза. Советы по приобретению разнообразных предметов одежды, сопровождаемые рекомендациями по туалету, содержащими ценные и оригинальные рецепты, а также указания, как исправить недостатки внешности и осанки. С прибавлением рассуждения о форменной одежде и о выборе изящного платья[7]».
Такие трактаты, по сути, во многом представляют собой очерки нравов и позволяют в полной мере ощутить атмосферу эпохи. Еще больше этот оттенок субъективности чувствуется в биографиях, письмах и мемуарах, дневниках и путевых заметках: мы полагаемся на них, хотя тут неизбежна авторская пристрастность. Сплошь и рядом основу текста составляет молва, зафиксированная внимательным современником. Иной раз срабатывает эффект многократного повторения, создающий иллюзию фактической точности. Вот, допустим, дотошный исследователь Питер Макнил, изучая историю макарони, английских щеголей XVIII столетия, долго старался установить местоположение их клуба, о котором упоминают источники того времени. В итоге он выяснил, что этот гипотетический клуб – или ироническое название реального клуба Олмакс, или, что скорее всего, просто обозначение модного сообщества[8]. Апокрифический статус отличает и некоторые дендистские легенды. Вполне вероятно, что история о трех портных, шивших одну перчатку, – вымысел. Но разве это означает, что к этому рассказу надо относиться пренебрежительно?
Городские легенды составляют существенный слой тонкой материи культурного жизнетворчества. Филологи научились анализировать их как разновидность фольклорных текстов[9]. Филологические методы оказываются особенно полезными, если вдобавок вспомнить о литературной родословной дендизма. Известно, что многие писатели были денди: Байрон, Бульвер-Литтон и Оскар Уайльд в Англии; Пушкин и Лермонтов в России; Стендаль, Бальзак, Барбе д’Оревильи, Шарль Бодлер, Гюисманс, Марсель Пруст во Франции. Они изображали героев-денди в своих романах (классика жанра – «Наоборот» Гюисманса и «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда); сочиняли прочувствованные трактаты о дендизме (особенно отличились на этом поприще Бальзак, Барбе д’Оревильи и Бодлер) и, наконец, сами любили блеснуть импозантными туалетами. И оттого желающим разобраться в дендизме практически невозможно обойтись без литературных материалов.
Так расширяется диапазон наших источников, закономерно захватывая и художественную словесность. В свое время М.М. Бахтин назвал смешение литературы с жизнью в иных критических трудах «наивным реализмом», но он же заметил, что некоторым людским судьбам свойственна «завершенность», роднящая их с литературным произведением… И уж лучше, на наш взгляд, занять позицию сознательного простодушия, чем пройти мимо романных денди или выразительных деталей в описаниях костюмов, которые тонко передают теплоту и прелесть пестрых живых вещей. Порою эффект возвеличивания просто удивителен: предмет, запечатленный в слове, весом и роскошен, а когда видишь ту же вещь в музее, рискуешь невзначай разочароваться.
Противоположный вариант – сатирические образы денди. Как только не издевались над любителями щегольнуть затейливыми одежками! Издавали иронические поэмы[10], высмеивали в романах, рисовали безжалостные шаржи. Ведь и сейчас о моде «денди-бабочка» мы судим во многом по гравюрам Д. Крукшенка, точно так же как о наших стилягах – по карикатурам в журнале «Крокодил». К счастью, обычно находятся и другие источники, помогающие сохранить баланс: те же стиляги пока еще могут рассказать о своих приключениях в юности.
Дендистской культурной традиции посвящено немало критических работ как научного, так и популярного плана, однако далеко не все модники удостоились должного внимания. Явно недооцененным персонажем остается граф Робер де Монтескью, парадоксальным образом не хватает специальных трудов по теории дендизма.
В заключение мне хотелось бы выразить сердечную благодарность всем, кто нашел время прочесть фрагменты текста и сделать ценные поправки и дополнения: моей маме – А.Ю. Нурок; друзьям и коллегам Р.М. Кирсановой, С.Ю. Неклюдову, Л.А. Алябьевой, С.Н. Зенкину, Д.А. Архипову, И.Г. Добродомову. Большую помощь мне оказали редактор книги В.М. Гаспаров, художница И.В. Тарханова, редакция журнала «Пинакотека», И.Д. Прохорова и сотрудники издательства «Новое литературное обозрение».
И, наконец, эта книга была бы невозможна без моего мужа Айдына Джебраилова, автора работ о Шекспире, современной живописи, коллекционера старинного текстиля и ковров. Именно Айдыну я обязана замыслом книги и удовольствием стимулирующих споров. В наших беседах концептуальный хамелеон дендизма приобрел очертания книги.
I. Денди: слово и понятие
Холодная харизма
Не волноваться: нетерпенье – роскошь. Я постепенно скорость разовью, Холодным шагом выйдем на дорожку, Я сохранил дистанцию мою. О. МандельштамКакие ассоциации может вызвать сейчас слово «денди»? Воображение сразу рисует картинку: элегантный мужчина, безупречный костюм, возможно, смокинг, галстук – бабочка, дорогая курительная трубка, ленивые отточенные движения, презрительная улыбка… Но что стоит за этим знакомым фантомом и почему понятие «дендизм» до сих пор сохраняет неизъяснимый оттенок таинственного шарма, а сами денди предстают эксцентричными эстетами, творцами гениальных причуд?
Классический словарь Larousse дает следующее определение денди: «Элегантный щеголь, главное занятие которого – блистать своими туалетами»[11]. Звучит весьма гламурно, но неужели дендизм – всего лишь мода, поза и стиль изысканной жизни?
Старинный словарь Ф.Г. Толля разъясняет не столь поэтично, но зато с деловитой конкретностью: «Денди – мужчина, одевающийся постоянно по моде, порядочного происхождения, имеющий достаточный доход и обладающий хорошим вкусом»[12]. С этим трудно не согласиться, особенно насчет вкуса и «порядочного происхождения»: ведь среди денди немало аристократов – граф д’Орсе, Робер де Монтескью, принц Уэльский (будущий Эдуард VIII), но были и богемные художники, и безвестные уличные пижоны, рискнувшие в свое время нетривиально одеться, несказанно удивив прохожих.
Однако денди не просто одевается «постоянно по моде», он во многом ее создает, будучи лидером моды. Его манеры подчинены особому кодексу поведения, его костюмы – лишь часть общей продуманной системы. И в этом его отличие от бесчисленных подражателей – это предельно структурная личность, светский лев, сноб, держащий дистанцию: каждое его движение – знак артистического превосходства.
Золотой век дендизма – XIX столетие. Именно в это время в Англии, а затем и во Франции дендизм сложился как культурный канон, включающий в себя и искусство одеваться, и манеру поведения, и особую жизненную философию. Как и полагается каждой почтенной традиции, у истоков стоит отец-основатель: первым и самым знаменитым денди был англичанин Джордж Браммелл (1778–1840). Он имел прозвище Beau, что означает «щеголь», «красавчик». Именно ему чаще всего посвящали свои трактаты и романы наши литераторы. Браммелл считался британским «премьер-министром элегантности», но, вероятно, главная тайна его магнетического влияния заключалась в том, что он отличался особой холодной харизмой, охотно играя в обществе роль иронического садиста. Его язвительно-остроумные ответы мгновенно превращались в анекдоты. Однажды герцог Бедфордский спросил его мнение о своем новом фраке. «Вы думаете, это называется фраком?» – удивился Браммелл. Герцог молча пошел домой переодеваться – ведь мнение Браммелла как арбитра элегантности считалось законом, и публично обижаться было не принято.
Мужской костюм в 1830 г.
Иронию великого денди терпел даже принц Уэльский, будущий король Георг IV, – в молодости Браммелл виртуозно умел общаться с сильными мира сего, сохраняя тон непринужденной фамильярности и ни на йоту не поступаясь собственным достоинством.
Биография Браммелла – фаворит принца, светский лев, затем изгнание и безумие – пример романтического сценария судьбы, первый и недвусмысленный намек на внутреннее родство дендизма и романтической эстетики начала XIX века. По сути, денди – идеальный адепт жизнетворчества: и автор, и персонаж в одном лице, воплощенная романтическая идея всевластия личной воли. Во многих героях Байрона, Пушкина и Лермонтова проступают узнаваемые черты денди.
Как раз в период романтизма в Англии был создан кодекс дендистского поведения, не утративший силы и поныне: гордость под маской вежливого цинизма, отточенная холодность обращения, саркастические реплики по поводу вульгарных манер или безвкусных нарядов. Квинтэссенция светского поведения денди – три знаменитых правила: «Ничему не удивлятьс я»; «Сох ран яя бесс трас тие, пор ажать нео жид анн ос тью»; «Удал яться, как только достигнуто впечатление». В этих правилах сформулирован особый «закон сохранения энергии»: экономия выразительных средств, принцип минимализма. Этот принцип – самое главное в дендизме. Он универсален и распространяется не только на манеру поведения, но и на искусство одеваться, и на стиль речи. Лаконизм реплик денди – экономический эквивалент его продуманно – кратких появлений в свете и сдержанного стиля в одежде.
Дендистский костюм отличается прежде всего минимализмом, благородной сдержанностью, что в свое время было полным новаторством: «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие»; «В манере одеваться самое изысканное – изящная скромность», – гласят заповеди дендизма. Это прямая противоположность ставке на роскошь – ведь еще в конце XVIII века мужской костюм богато украшался и шился из ярких цветных тканей.
Но денди отказались от внешнего шика или, вернее, придумали новые законы вкуса, которые поначалу воспринимались как эзотерический кодекс для посвященных. В историю вошел язвительный афоризм Браммелла, произнесенный в ответ на комплимент некоего лица, о котором, судя по всему, денди был весьма нелестного мнения: «I cannot be elegant, since you noticed me». Вот так: «Коль Вы меня хвалите, значит, я не так уж и элегантен»!
Суммарный эффект дендистского стиля никоим образом не должен быть резким или кричащим. Весь вид подлинного денди подчинен принципу «conspiсuous inconspicuousness», что приблизительно можно перевести как «заметная незаметность»: костюм не должен привлекать внимание посторонних, но в своем кругу его сразу оценят по достоинству.
Принцип «заметной незаметности» или значимости для своих предвосхитил наступившую в середине XIX века эпоху готового платья и больших универсальных магазинов, когда любой человек со средним достатком мог позволить себе купить стандартный костюм и тем самым раствориться в толпе, стать невидимым. При этом для избирательного воздействия на своих требуется уже двойной код, усилие личного вкуса, остроумное словцо на фоне нейтральной речи.
Французский критик и философ Ролан Барт заметил, что подобным приемом является тонко акцентируемая деталь: «Различительные функции костюма всецело взяла на себя деталь (“пустячок”, “незнаю что”, “манера” и т. д.). Отныне достаточными обозначениями тончайших социальных различий сделались узел галстука, ткань сорочки, жилетные пуговицы, туфельные пряжки»[13].
Действительно, чем более стабилизировался базовый силуэт мужского костюма, тем большая символическая нагрузка ложилась на неприметные мелочи: настоящий дизайнерский пиджак и сейчас отличает такая деталь, как настоящие, а не ложные петли на рукаве, которые можно реально расстегивать.
В стилистике внешности денди мелочи вроде изящно повязанного платка имели огромное значение. Истинный денди узнавался по чистым перчаткам: он менял их несколько раз в день. Верхом неприличия было протянуть для пожатия руку в несвежей перчатке. Аналогичной чистотой отличались сапожки: согласно Шарлю Бодлеру, в начищенных до блеска сапожках должны отражаться светлые перчатки.
Что же касается манеры носить вещи, то «заметная незаметность» срабатывала и здесь: «Самое вульгарное – педантическая тщательность». Недопустимым считалось появиться на людях в новеньком, с иголочки, костюме. Опытные денди порой предварительно чистили его мелким песком, чтобы придать ткани несколько потертый вид, а иногда давали разнашивать новый фрак слуге. Можно было потратить умопомрачительное количество времени и денег на туалет, но лишь с тем условием, чтобы потом об этом забыть и полностью расслабиться, отдаться непринужденной иронии, проявить изысканную небрежность. Напряженность поз и озабоченные жесты прихорашивания сразу выдают новичка – напротив, истинный щеголь, как правило, внешне спокоен, холоден и даже бесстрастен, что дало повод Бодлеру в одном из очерков сравнить дендизм со стоицизмом.
Эта сбалансированность, несуетливость, владение собой производили впечатление «good grooming», что означало не просто хорошее воспитание, но еще и выхоленность, подтянутость, светскую легкость в обращении.
«Выхоленность» имела и вполне буквальное значение – безупречная личная гигиена, каждодневные ванны, причем порой денди купались на манер персидских красавиц в молоке, что оказывало благоприятное воздействие на кожу. (Для сравнения заметим, что, по данным некоторых историков, знаменитый Людовик XIV, «король-солнце», никогда не мылся.)
Чистое тело, естественно, требовало чистого белья, которое ежедневно менялось. Вплоть до середины XIX века модники носили корсет, что не только обеспечивало мужчинам статность осанки, но и нередко помогало скрывать полноту. Но в идеале настоящий денди, конечно, должен был отличаться стройной комплекцией, иначе оказалось бы невозможно носить узкие панталоны в обтяжку из оленьей кожи и добиваться, чтобы фрак идеально облегал фигуру. Тучность была трагедией для многих денди – такова анекдотическая полнота Бальзака, а Теофиль Готье даже посвятил этой проблеме специальный очерк.
Главный предмет гардероба – фрак – шили из хорошего качественного сукна, а цвет зависел от времени суток: темный (чаще всего синий) для вечера, светлый – для дневных выходов. Впрочем, денди отнюдь не были консерваторами в отношении фраков: известен случай, когда благородный лорд Спенсер ненароком вздремнул у камина в клубе и проснулся от запаха паленого, поскольку фалды его фрака попали в огонь. Находчивый англичанин отрезал обгоревшие фалды, и так возник фасон «спенсер», который затем в виде укороченного приталенного жакета перекочевал в дамский гардероб.
Другой авангардный эксперимент был продиктован дендистским пристрастием к тонким, чуть ли не прозрачным материалам: фрак протирали наждачной шкуркой или, согласно одной легенде, куском остро отточенного стекла. Тем самым достигался эффект «антикварной» поношенной ткани, что в некотором роде напоминает современную моду на специально порванные или stone-washed джинсы.
Особую роль в туалете щеголя играли жилеты: их надо было чрезвычайно тщательно подбирать и по расцветке (которая могла быть достаточно необычной), и по фактуре. При всей изменчивости вкусов в течение XIX века мода на мужские жилеты оказалась устойчивой и от романтиков благополучно дошла до декадентов: Оскар Уайльд в молодости отличался настоящей «жилетоманией» и был обладателем солидной коллекции жилетов в самых смелых тонах.
Под жилет одевалась белая сорочка с широким жестким воротничком, подпиравшим вздернутый подбородок, что придавало его владельцу слегка высокомерный вид. Завершал костюм элегантно повязанный шейный платок из муслина.
Но в этом безупречном костюме еще нужно было уметь элегантно двигаться, чувствовать себя свободно – только тогда возникал эффект непринужденной грации, – итальянцы называют эту волшебную легкость la Sprezzatura.
Графическая завершенность дендистских жестов возникала во многом благодаря умелому обращению с аксессуарами. Тросточкой можно было небрежно поигрывать на прогулке, но если предполагалась поездка верхом, требовалось виртуозно владеть искусством верховой езды – сидеть на лошади прямо, не выпуская из рук трость, держа ее вертикально перед собой, как пику.
Приметой модного человека было, как и в нынешние времена, пристрастие к дорогим сигарам и коллекционирование разнообразных курительных принадлежностей – табакерок или, как во Франции в 1830-е годы, курительных трубок. Иногда коллекционирование распространялось и на более крупные предметы: так, знаменитый денди, писатель и моряк Пьер Лоти коллекционировал вещи в восточном вкусе и для фотографий обычно позировал на фоне своих ковров, кальянов и арабских манускриптов, а у себя дома устроил своего родаимпровизированную мечеть. Но это – скорее исключение, дань романтическому ориентализму. Обычно денди были весьма экономны в выборе эстетических средств и предпочитали для своих портретов одну выразительную деталь: так, на знаменитом портрете Болдини светский щеголь конца XIX века граф Робер де Монтескью изображен с тростью, причем зрителю бросается в глаза синий лазуритовый набалдашник – единственный яркий штрих на фоне сдержанной палитры костюма.
На портретах денди обычно выглядят непроницаемо-любезно, напоминая неподвижные манекены. Однако в жизни уверенные в себе щеголи нередко балансировали на грани публичного скандала, допуская весьма рискованные ситуации: они обожали розыгрыши и эпатаж. Пользуясь своей ролью законодателей вкусов, они безжалостно высмеивали неудачные костюмы. Вытянув ноги в кресле, денди мог «нечаянно» порвать шпорой подол дамского платья.
Провокативное поведение на публике, иронический цинизм, маниакальная сосредоточенность на стиле и фигуре, холодность, эстетские позы, деланая небрежность, легкая «скользящая» эрудиция, андрогинные игры – все эти черты удивительно современны… Не случайно в последние годы резко возрос интерес к дендизму – наша культура постмодерна признала в денди своих прародителей. Сейчас слово «денди» почти сравнялось по смыслу с «cool» («стильный», но с ощутимым исходным значением «холодный»).
Недавно Британский совет организовал выставку «Денди XXI века», которая триумфально гастролировала в Москве, Токио, Мадриде и Риме. В 2002 году в Англии вышел новый перевод знаменитого трактата Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845). Член парламента сэр Джордж Уолден написал обширное предисловие[14], придирчиво разбирая современных наследников дендизма. Энди Уорхол, музыкант Джарвис Кокер, художница-авангардистка Трэйси Эмин – таков его список «кандидатов», и этот перечень легко продолжить: претендентам на сие гордое звание несть числа. За этим симптоматичным увлечением просматривается, однако, своя историческая логика.
Интерес к дендизму – знак переходных эпох, настроений fin de siècle. Недаром в Англии дендизм оформляется в конце XVIII века, возрождается в последние десятилетия XIX века и вновь – уже в наши дни, на рубеже нового тысячелетия. В эти периоды возникает особое стилистическое напряжение, связанное с поиском идентичности: люди вновь задают себе вопросы: «Кто Я?», «Каким меня воспринимают окружающие?» Дендизм привлекает как отработанная система светских манер и саморепрезентации, которую можно назвать «виртуальным аристократизмом»: искусство проявлять свой вкус в продуманных мелочах и жестах, не выделяясь в толпе.
Человеку, пребывающему в поисках собственного стиля, дендизм предлагает надежный, но нестандартизованный вариант для экспериментального оформления своей персоны – удобную культурнуюроль, которая оставляет достаточно свободы, чтобы без риска для репутации испытывать на прочность как социальные условности, так и костюмные каноны.
В России нарождающийся средний класс пока испытывает дефицит таких изощренных моделей успешного поведения, за которыми стоит не прямолинейно-американский прагматизм, а благородный дух европейской традиции. Именно этот культурный потенциал содержат британская мода и дендизм как кодекс мужского поведения. Для наших модников, которые не хотят выглядеть ни как богемные тусовщики, ни как успешные бизнесмены, открывается возможность наконец-то найти верный тон: золотую середину между авангардным радикализмом и респектабельным консерватизмом. Дело за малым: перестать суетиться, позволить себе толику небрежности и холодный внимательный взгляд.
Денди: история слова
Происхождение слова «денди» не вполне понятно. Английские этимологические словари обычно дают отсылку к выражению «jack-adandy» – «красавчик», что мало проясняет дело. Впервые это выражение было зафиксировано в 1632 году в Шотландии. «Jack» – нарицательное обозначение мужчины, парня, а «dandy» считается производным от «Andy», уменьшительного от имени Andrew (Андрей). Может быть, существовал когда-то некий шотландский щеголь Энди, имя которого стало нарицательным для всех молодых людей, неравнодушных к собственной внешности, – но этого сейчас уже никто точно не узнает.
Если заглядывать еще назад, то имя «Андрей» восходит к греческому «andreios» – «мужской». А в современном английском слово «dandy» как прилагательное, помимо первого значения «щегольской», также имеет второе – «превосходный», «отличный», «первоклассный».
Другие этимологические версии, напротив, акцентировали негативно-неодобрительный оттенок в смысловом поле «dandy». Например, это слово возводили к названию мелкой разменной монеты XVI века «dandiprat», равной трем с половиной пенсам, что в переносном плане означало «ничтожный человек, козявка». Сходное толкование «dandiprat – паренек, уличный мальчишка» дает прославленный лексикограф доктор Джонсон в своем словаре[15], но само слово «dandy» у него отсутствует – оно появилось позднее. Другие исследователи обращали внимание на возможное родство слов «dandy» и «dandelion» – «одуванчик», причем занятно, что в названии этого цветка присутствует также слово «лев» («lion»), ставшее в XIX столетии синонимом светского щеголя во французском языке.
В некоторых случаях подобных приблизительных этимологий трудно даже установить исходный язык – источник заимствования. Ведь английское слово «dandelion» идет от французского названия одуванчика «dent-de-lion» (буквально – «зуб льва»), и таких галлицизмов в английском языке достаточно: история обоих языков хранит память о многочисленных контактах, начиная с Нормандского завоевания Англии в 1066 году.
Французы, признавая очевидный факт заимствования из английского, пытались подыскать свои собственные этимологические объяснения слова «dandy». Популярная версия (ее отстаивал, среди прочих, Барбе д’Оревильи) отсылает к старофранцузскому слову «dandin» – «маленький колокольчик»; отсюда переносные значения «пустозвон», «болтун», «балбес», «шалопай», что опять-таки характеризует денди не с лучшей стороны. Буквальный физический смысл просвечивает и в глаголе «dandiner» – «болтаться из стороны в сторону», «ходить вразвалку». Сходный спектр значений содержит английский глагол «to dandle» – «качать», «укачивать на руках ребенка», но у этого слова есть и другие смыслы – «ласкать, баловать, нежить, холить, играть, забавляться».
«Dandin» также выступает в качестве фамилии, причем в истории литературы она чаще всего служит знаком юридической профессии. Судья Dandin фигурирует у Рабле, в драме Расина «Сутяги» и у Лафонтена. Но самый знаменитый персонаж с фамилией Dandin – это, конечно же, герой комедии Мольера «Жорж Данден, или Одураченный муж» (1668). Мольеровский Жорж Данден с его хрестоматийной фразой «Ты этого хотел, Жорж Данден» представлен как явно сатирический характер.
Аналогичные интонации насмешки звучат в известной песенке «Yankee Doodle Dandy», ставшей популярной во время войны за независимость в Америке. Предметом насмешки здесь служила форма солдат американской армии, особенно нарядные костюмы Джорджа Вашингтона, который появлялся на боевых позициях напудренный, в парадном сюртуке, в парике и цилиндре.
Так или иначе, какую версию ни предпочесть прочим, очевидно, что слово «денди» изначально было эмоционально маркированным и открытым для прямо противоположных оценок. Денди никого не оставляли равнодушным.
Слово «dandy» в смысле «щеголь» или «франт» начинает циркулировать примерно в первое десятилетие XIX века. Байрон впервые употребляет его 25 июля 1813 года в письме к Томасу Муру, описывая клубный бал денди: «The season has closed with a dandy ball» («Сезон завершился балом денди»). В том же году слово «денди» входит в лексикон мадам де Сталь[16].
В качестве синонимов в английском языке в это время употреблялись слова «fop», «coxcomb», «puppy», «buck», «Beau», «lion», «exclusive». Они все имели те или иные смысловые и оценочные оттенки – например, «puppy» было явно пренебрежительным прозвищем, – но их объединяло значение «щеголь, франт».
Во французском языке на протяжении XIX века использовались слова «Beau», «muguet», «mirliflore», «gandin», «élégant», «lion», «fashionable» и – к великому прискорбию самих французов – прочно закрепилось английское слово «dandy», которое, правда, произносили с ударением на втором слоге.
В русском языке щегольская лексика развивалась очень интенсивно начиная с XVIII века[17]. Согласно С.Л. Иванову[18], основное ядро этой лексической группы составляют наиболее часто употребляемые слова «щеголь», «франт», «модник». Из них самое древнее – «щеголь», появившееся в XVI–XVII веках. Его возможными предшественниками были ныне окончательно устаревшие слова «щап», «беляк» и «чистяк», указывающие на первостепенную важность гигиены как отличительного признака щеголя.
В XVIII столетии активно используются галлицизмы «петиметр» (от французского «petit maître» – щеголь, «господинчик»), «галант», «кокетка»; в сатирической литературе появляются пренебрежительные именования «вертопрах» (человек, который пускает пыль в глаза), «ветрогон». На рубеже XVIII–XIX веков возникают слова «ферт», «фертик»[19] и «шематон»[20]. Как только не называли у нас любителей модно одеться – словарь Даля к слову «денди» дает ряд: «модный франт, хват, чистяк, модник, щеголь, лев, гоголь, щеголек большого света». В разное время в этом ряду фигурировали также «хлыщ», «козырь», «пшют», «фат», «фешенебль», «форсун», «хлыст», «хрипун», и уже в XX столетии – «стиляга», «пижон».
Слово «дэнди» вошло в русскую культуру конца 10-х – начала 20-х годов XIX века и первоначально употреблялось по-английски («dandy»), что дало правописание «дэнди». В «Евгении Онегине» Пушкин еще использует английский вариант. Но уже к середине XIX века это слово попадает в словари русского языка и начинает функционировать в привычном нам смысле. В 1910 году в Москве даже существовал журнал «Дэнди», посвященный мужской моде. В современном правописании слова «денди» вместо «э» оборотного употребляется буква «е».
Обратимся далее от слов к понятиям. Как же отличить подлинного денди среди обширного щегольского сословия? По ходу рассказа нам придется еще не раз уточнять характеристики этого историко-культурного типа, а сейчас введем первое простое определение: денди – это лидер моды.
О.Верне. Инкройябль. 1811 г.
Лидер моды: искусство дистанции
Первое и главное отличие денди от обычных щеголей состоит в том, что денди не гонится за модой: наоборот, мода гонится за ним, ибо он ее устанавливает. Денди – лидер моды, предчувствующий и опережающий ее развитие. Обычные модники стараются ему подражать, но он всегда умудряется опережать их, сохраняя дистанцию. Своими костюмами он демонстрирует, что его личный вкус – высшая инстанция, и это дает ему право диктовать моду. В этом духе Ю.М. Лотман замечал, что «П.Я. Чаадаев может быть примером утонченной моды. Его дендизм заключается не в стремлении гнаться за модой, а в твердой уверенности, что ему принадлежит ее установление»[21]. Так было в XIX веке, но что происходит сейчас?
Посмотрим, от кого зависит распространение современной моды. Схема вроде известна. Кутюрье предлагают новый стиль, их идеи растолковывают публике журналисты, пишущие о моде. От мнения прессы порой может зависеть судьба коллекции – недаром редакторам модных журналов устроители показов всегда отводят почетные места в первом ряду. Ну а для конкретных магазинов отбирают одежду байеры – оптовые закупщики, которые должны тонко чувствовать, что приобретет реальный покупатель из предлагаемого ассортимента.
Однако вся эта налаженная система мигом даст сбой, если позабыть о лидерах моды. Им принадлежит совершенно особая роль: они первые «запускают» моду, и оттого французы даже придумали для них специальное словечко «lanceur» – «лансёр» (от глагола «lancer» – запускать, вводить, кидать). «Лансёр» – лидер моды, придающий холодной стилистической идее теплоту и личный блеск. Его харизматическое обаяние включает важнейший для моды механизм подражания, пробуждая интерес и покупательское желание.
Кто же они, лансёры? Больше всего на виду, конечно, представители элиты, актеры и музыканты. Но отнюдь не каждый из них может претендовать на амплуа лидера моды, а только личность, обладающая тонким вкусом, уверенностью в себе, «звездным» характером. Для американской политической элиты долгое время безусловным лидером была Жаклин Кеннеди, рискнувшая не только поменять всю обстановку Белого дома, но и навязать свой стиль как американским, так и европейским модницам: все они увлеченно копировали ее пилотки, черные очки и элегантные костюмчики с рукавами три четверти, придуманные ее дизайнером Олегом Кассини.
Живой рекламой всякого модельера являются знаменитые клиенты, особенно люди из артистического мира. Так, в 1960-е годы актриса Одри Хепберн стала «лицом» Дома Живанши. Ее стиль «gamine» – юная девушка, еще как бы не осознающая свою сексуальную привлекательность, – мгновенно стал предметом для подражания: миллионы поклонниц начали густо накрашивать ресницы, делать короткую стрижку с челкой, носить черные свитера, туфли-лодочки на плоском каблуке и серьги в форме больших колец. Сходным образом и сейчас актриса Катрин Денёв остается верной поклонницей Дома Ив Сен-Лоран, а певица Мадонна – Дома Версаче.
Менее известны публике богатые клиенты, которые своими покупками экономически поддерживают существование Домов моды, но мало способствуют рекламе, поскольку их репутация ограничена узким кругом аристократической элиты и очень состоятельных людей. Ливанская миллионерша Муна Аюб прославилась тем, что, постоянно покупая платья у парижских кутюрье, ни один наряд не надела дважды. Зато в будущем она планирует создать музей из своего личного гардероба.
Помимо очень богатых и знаменитых, наиболее охотно подхватывают новую моду еще несколько категорий людей: молодежь, дежурные посетители ночных клубов или дискотек; лица, подчеркивающие свою сексуальность, и, конечно, постоянные участники светских раутов, чье положение обязывает часто бывать на публике. Они составляют отряд самых активных проводников моды, рискуют первыми носить еще непривычные вещи, внедряя новый стиль в своем кругу.
За ними идет отряд конформистов, которые никогда не осмелятся быть первыми, но всегда следят за тем, что сейчас принято носить, чтобы поддержать свой статус. Они тщательно наблюдают, во что одевается лидер их компании, выспрашивают у стильных друзей, где они приобрели ту или иную вещь. Они вряд ли станут появляться в экстравагантных нарядах, но вы не увидите на них вещи прошлого сезона. Не будучи уверенными в собственном вкусе, они нередко добросовестно следуют советам модных журналов, а в магазинах покупают ансамбли по совету продавцов или по образцам на манекенах.
Наконец, существуют группы поклонников классики, которые из года в год приобретают вещи известных консервативных марок типа «Берберри» или «Ральф Лорен» (если речь идет о состоятельных бизнесменах) или просто воспроизводят в своем гардеробе несколько устоявшихся моделей одежды, будь то пестрые шотландские свитера Fair Isle или юбки в цветочек Лоры Эшли. Они самодостаточны в своих вкусах и копируют когда-то давно усвоенные стилистические клише, не претендуя ни на что особенное.
Кроме них, все остальные любители моды, каждый на своем уровне, охвачены массовым гипнозом подражания лансёрам. Для них лидер – воплощение успеха, предмет эротических грез, а одежда, которая соприкасается с его дивным телом, принимает на себя частьего энергетики, его личную «ману». Лансёр, можно сказать, сообщает одежде чувственный заряд, частицу своей харизмы, «запуская» механизм наших желаний. Одежда, которую можно купить, – самый надежный способ чувственной идентификации с лидером, фетишистское присвоение себе его стиля, вкуса в форме самой конкретной, близкой к телу оболочки.
Самый простой способ выражения этого одежного «фетишизма» – майки с портретами музыкальных звезд, утеха преданных фанатов. Столь же прозрачно по смыслу «присвоение» одежды любимого человека, что может быть и забавой, и средством преодоления тоски, ежели объект желаний исчез с горизонта. И даже если прямой контекст магического отождествления с кумиром через одежду отсутствует, многие женщины бессознательно надеются хоть в чем-то стать похожими на известных красавиц, делая прическу а-ля Лиз Харли или покупая крем от морщин «Л’Ореаль» в надежде выглядеть как Клаудиа Шиффер.
В зависимости от эпохи меняется социальный состав модной элиты. Манекенщицы, например, стали предметом общественного внимания и светскими знаменитостями только начиная с 1960-х годов. Одной из первых известных моделей этого времени была Джин Шримптон по прозвищу «Креветка». Ее популярности во многом способствовал фотограф Дэвид Бейли, снимавший Шримптон в подчеркнуто эротическом ключе.
В конце XIX века самыми активными энтузиастками новых веяний были дамы полусвета, актрисы и кокотки. Они одевались значительно моднее аристократок, которые, напротив, подчеркивали в своих туалетах намеренную консервативность. Излишнее пристрастие к моде трактовалось тогда как синоним легкомысленности. Даже румяна и помада вызывали подозрение у суровых благопристойных дам.
Правда, уже ранее у первого профессионального кутюрье Чарльза Ворта среди клиенток были и императрица Евгения, для которой он придумал кринолин, и знаменитые драматические актрисы Сара Бернар и Элеонора Дузе. А первой дамой из общества, рискнувшей продефилировать перед гостями, исключительно чтобы показать наряд, была жена модельера Поля Пуаре – Дениз. После роскошных приемов Пуаре ревнители буржуазной морали смягчились и стало возможно демонстрировать моды, не слишком опасаясь за репутацию: лансёры вздохнули свободнее.
Но тут возникает вопрос: как же могли проявлять себя лидеры моды раньше, когда еще не сложилась современная система? Проще всего было лансёрам с высоким положением в обществе. Герцог Филипп Бургундский постриг волосы во время болезни, после чего короткая стрижка сразу стала популярна среди его подданных в качестве знака лояльности. «Нам известно, как в далекие времена каприз или особая потребность отдельных лиц создавали моду, – пишет Георг Зиммель, – юбки на обручах <возникли> вследствие желания задающей тон дамы скрыть свою беременность»[22].
В классической литературе XIX века подобное подражание вышестоящим уже изображается писателями с очевидной иронией. У Стендаля один из персонажей романа «Красное и черное» кавалер де Бовуази «немного заикался потому только, что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдающим этим недостатком»[23].
Однако не все лидеры моды обязательно отличались высоким положением – нередко всё определяла сила характера: мнения и вкусы лансёра становились законом, если он демонстрировал особую напористость и был во всех остальных отношениях авторитетной фигурой в своем кругу.
Одним из первых вошедших в историю «лансёров» был знаменитый древнегреческий полководец и щеголь Алкивиад. Еще мальчиком он отказался исполнять мелодии на флейте, так как ему не нравилось, что игра на флейте искажает черты его лица. Кроме того, он говорил, что флейта закрывает рот, делая невозможной беседу. Он даже ссылался на богов: Афина забросила флейту, а Аполлон содрал кожу с флейтиста Марсия. «Таким образом, – заключает его биограф Плутарх, – соединяя серьезные доводы с шуткой, Алкивиад перестал заниматься этой наукой, а за ним и другие, так как между детьми быстро распространяется мнение, что Алкивиад справедливо осуждает игру на флейте и высмеивает тех, кто учится играть на ней. С этих пор флейта была совершенно исключена из числа занятий благородных людей и стала считаться достойной всяческого презрения»[24].
Обстоятельный рассказ Плутарха демонстрирует, как авторитет лидера позволяет успешно и быстро канонизировать индивидуальные причуды, придавая им оттенок престижности. Ведь хитроумные аргументы Алкивиада искушенные в софистике греки могли легко опровергнуть в дискуссии, но решающим фактором тут оказалось харизматическое обаяние личности, а не формальная правота.
Для успеха индивидуальных причуд вкуса надо было, помимо всего прочего, иметь шарм и смелость, дающие возможность не только время от времени пренебрегать существующими в обществе гласными и негласными правилами, но и держаться после своих эскапад как ни в чем не бывало.
Вот, допустим, в романе Джейн Остен «Эмма» (1816) денди Фрэнк Черчилл совершает экстравагантный поступок: отправляется из провинциального городка в Лондон единственно для того, чтобы подстричь волосы. Его поведение воспринимается окружающими как верх легкомыслия, но более всего замечательны манеры Черчилла после этой акции: «Он приехал и в самом деле подстриженный, очень добродушно над собою же подсмеиваясь, но как будто ничуть не пристыженный тем, что выкинул подобную штуку. Ему не было причиныпечалиться о длинных волосах, за которыми можно спрятать смущение, или причины горевать о потраченных деньгах, когда он и без них был в превосходном настроении. Так же весело и смело, как прежде, глядели его глаза…»[25]
Современные психологи наверняка определили бы стиль поведения Фрэнка Черчилла как «ассертивный», то есть утвердительный: человек повсюду утверждает свое право оставаться самим собой, никого не обижая и в то же время не уступая своих интересов. «Ассертивному» характеру свойственна ровная, прямая манера общения, он создает впечатление сдержанной силы.
Уверенность в себе Фрэнка Черчилла довольно быстро приносит свои плоды, поскольку строгая девица Эмма, ранее безусловно осуждавшая его, в итоге сбита с толку и начинает резонировать уже в оправдательном ключе: «Не знаю, хорошо ли это, но глупость уже не выглядит глупо, когда ее без стыда, на виду у всех, совершает неглупый человек… Неправда, что он пуст и ничтожен. Когда бы так, он бы это проделал по-другому. Он бы тогда выказывал бахвальство завзятого хлыща или же увертливость души, слишком слабой, чтобы постоять за себя в своем тщеславии… Нет, не пустой он человек и не ничтожный, я уверена»[26].
В реакции Фрэнка Эмма довольно точно выделяет отсутствие двух крайностей, которых как раз избегает ассертивный человек: агрессия («бахвальство завзятого хлыща») и пассивность, мелкие уловки завзятого неудачника («увертливость души, слишком слабой, чтобы постоять за себя»). А если ассертивность сочетается у модника с ярко выраженным обаянием, то можно говорить о личной харизме.
Значит, оптимальное сочетание качеств для успешного «лансёра» – ассертивный характер, желательно – личная харизма плюс высокое положение в обществе. Тогда подражание обеспечено, даже если новшества мотивируются исключительно субъективным вкусом.
Классическим «лансёром», наделенным как раз всеми указанными свойствами, была мадам де Помпадур, фаворитка Людовика XV. Обладая безупречным эстетическим инстинктом и смелостью, она вводила новые фасоны платьев, которые сразу же копировались придворными дамами. Ее вкусы в мебели породили декоративный стиль, который так и назвали «помпадур». Она первая придумала маски для лица с вяжущими компонентами, сужающими поры.
Во многом, заметим, ее привычки шли вразрез с обыкновениями эпохи. Хотя в то время была принята «сухая чистка» (тело не мыли, лицо и кисти рук протирали ароматическими салфетками), мадам де Помпадур была сторонницей частых купаний и никогда не использовала духи, чтобы замаскировать запах грязного тела. При этом она очень любила духи, и благодаря ее влиянию цветочные плантации в Грассе и парфюмерное дело во Франции переживали небывалый подъем. Именно при ней двор Людовика XV приобрел репутацию «парфюмерного двора». Она тратила миллионы франков на ароматическиекурильницы и, не довольствуясь естественными запахами, опрыскивала духами фарфоровые цветы, украшавшие ее покои. Позднее еще более гротескные орнаментальные жесты во славу искусственности практиковал Оскар Уайльд, впадавший в восторженный транс перед китайскими вазами. Он как раз представлял собой классический типаж денди – лидера моды.
Итак, денди выделяется среди собратьев-щеголей лансёрскими качествами. В наибольшей степени понятия «денди» и «лидер моды» пересекаются в XIX веке. Но, разумеется, смысловое поле второго понятия значительно шире: лидерами моды могут быть и мужчины, и женщины, и кокетки, и светские дамы. Типичный портрет «лидера моды» набросан в известном романе Теофиля Готье «Мадемуазель Мопен»: «Госпожа де Темин теперь в моде; она в высшей степени наделена всеми смешными слабостями, которые в ходу сегодня, и некоторыми из тех, что войдут в обыкновение завтра, но никогда не грешит вчерашними: она прекрасно осведомлена. Все будут носить то, что носит она, но сама она не одевается так, как до нее одевались другие. Вдобавок она богачка, экипажи у нее отменные. Она не умна, но язык у нее подвешен хорошо; вкусы у нее самые смелые, но она холодна, как камень»[27].
В чем же секрет неоспоримого превосходства лансёра? Только ли в диктатуре вкуса и характера? Не только: в пользу зрелого лансёра работает накатанная инерция, или эффект «логического круга»: он моден, потому что ему подражают, и ему подражают, потому что он моден. Когда репутация уже сложилась, лансёр может стать настоящим тираном, садистом, который позволяет себе любые рискованные номера. Отсюда проистекают многие «откровения» романных денди, прототипом для которых послужил Браммелл. У Бульвера-Литтона мистер Раслтон повествует о своей тактике обращения с влиятельными светскими персонами: «Я открою вам этот нехитрый секрет, мистер Пелэм: я попирал их ногами, вот почему они, словно растоптанная трава, в ответ с благодарностью курили мне фимиам»[28].
Для того чтобы обрести преимущество на старте, лансёру надо выделиться. Тут в ход могут идти любые средства, даже банальный скандал в рекламных целях, лишь бы заставить заговорить о себе. Начинающая звезда должна всеми средствами демонстрировать: «Я есть нечто особенное, уникальное». Но на следующем этапе грамотная PR-стратегия состоит в том, чтобы дать понять публике: «Ничто человеческое мне не чуждо», иначе идентификация зрителя со своим кумиром забуксует.
Так, Мадонна начинала с шока, используя эпатажные костюмы от Жана-Поля Готье, а сейчас, став миллионершей, в интервью мило рассуждает о своих комплексах и застенчивости; она даже признается в любви к конкурентке Бритни Спирс, говоря, что спит в майке с ее портретом: это-де приносит удачу. (Мощный маркетинговый ход: частично оттянуть на себя молодежную аудиторию Бритни Спирс.) Напротив, Майкл Джексон растерял свой черный «электорат» из-за многочисленных косметических операций и в результате не вышел на новый виток карьеры: для его поклонников постмодернистский имидж создал непреодолимые препятствия для отождествления.
Коко Шанель – лидер моды и дизайнер. 1935 г.
Настоящий лидер моды в совершенстве владеет искусством дистанции. Он должен демонстрировать недоступность, но весь вопрос заключается в умелой дозировке. Высокомерный денди может быть в порядке исключения приятным и простым с избранными персонами, что будет восприниматься как особая милость. Испытанное оружие денди в дистанцированном общении – маска снобизма[29]. И хотя претензии сноба вовсе не обязательно относятся к сфере светской жизни, эта разновидность пренебрежительного тщеславия весьма в ходу у опытных денди.
В современной моде дистанцирование особенно важно для молодых красавиц, использующих свой sex-appeal.Увы, известно, что они теряют многих поклонников, выйдя замуж. Лишаясь ореола мифологической чистоты, они утрачивают эротический потенциал «ничейного», а потому и универсального символа привлекательности. Синди Кроуфорд не удалось возобновить контакт с компанией «Ревлон» после рождения ребенка, зато девушки, подвизающиеся в амплуа «вечная невеста», как правило, процветают и всегда задействованы в рекламе. Помимо этого навыка постоянной игры с аудиторией, лансёру очень важно обладать одним специальным качеством: ощущать движение моды во времени. Не оттого ли Мадонна проявила особую настойчивость, добиваясь роли Эвиты в фильме Алана Паркера? Как раз тогда начиналась мода на ретро, и после фильма костюмы и безделушки в стиле 40-х годов стали пользоваться феноменальным успехом.
Удивительной лансёрской интуицией может похвастаться, к примеру, Изабелла Блоу, редактор моды в журнале «Tattler» и покровительница молодых талантов. В свое время она «открыла» дизайнера шляп Филипа Трейси и начала постоянно делать ему заказы. Изабелла появлялась на всех вечеринках и показах мод в экстравагантных шляпках от Филипа, и вскоре у Трейси уже не было отбою от клиентов. В 2002 году в лондонском музее дизайна состоялась выставка «When Philip met Isabella», посвященная их творческому альянсу. Экспозиция включала шляпы Филипа Трейси из коллекции Изабеллы и ее фотопортреты в этих шляпах. Следующей «находкой» Изабеллы Блоу стал никому не известный молодой дизайнер Александр Маккуин. Изабелла купила целиком всю его первую коллекцию и помогла найти спонсоров для следующей. А дальше карьера Маккуина пошла в гору, но это уже другая история.
Идеальный лансёр наделен особым инстинктом моды. Это свойство превосходно описал И.А. Гончаров, набрасывая портрет светского льва: «Ни у кого нет такого тонкого чутья в выборе того или иного покроя, тех или иных вещей; он не только первый замечает, но издали предчувствует появление модной новости, модного обычая, потому что всегда носит в себе потребность моды и новизны. Эта тонкость чутья, этот нежно изощренный вкус во всем, что относится до изящного образа жизни, и есть качество и достоинство льва»[30].
Модный инстинкт льва подкрепляется чувством времени и дистанции. Светский лев всегда держит дистанцию – ему надо уловить самые первые мгновения моды, «когда другой не поспел и не посмел и подумать подчиниться капризу ее, и охладеть, когда другие только что покорятся ей»[31].
Этот же инстинкт дистанции проявляется не только в выборе стильных вещей, но и в способности совершать непредсказуемые поступки, иными словами, всегда быть неожиданным, опровергать стереотипы. В романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» дан портрет герцогини Германтской, которая выступает как безусловный лидер моды в аристократическом кругу. В свете только и цитируют остроумные парадоксы и bon mot герцогини, говорят о «последнем номере» Орианы – то она уезжает в разгар бального сезона смотреть норвежские фьорды, то приходит к самому началу пьесы в театр (в то время как вся светская публика появляется к последнему действию) и вместо того, чтобы болтать в ложе принцессы, скромно сидит «в кресле одна, в черном платье, в малюсенькой шапочке»[32]. Подражающие герцогине не могут повторить ее жестов – в их исполнении они сразу стали бы банальными и повседневными, утратилась бы оригинальность. В этом и заключается весь фокус.
Сохраняя дистанцию, лидер моды, по сути, оберегает свое первенство. Дистанция обеспечивает свободу маневра и власть – призрачную, но более чем реальную.
II. Модники былых времен
Расскажем для начала о модниках мужского пола, красавцах и баловнях судьбы. Их было немало в истории. Что объединяло их при всех различиях – страсть к моде… характер… или нечто большее, какое-то неуловимое сочетание качеств?
Алкивиад: протоденди
Знаменитый герой древности Алкивиад[33] – один из первых модников в истории. Афинский полководец, прославленный любовник, он служил моделью счастливого единства различных добродетелей. Байрон веско заметил: «И все же несомненно, что из всех имен античности ни одно не окружено таким обаянием, как имя Алкивиада»[34]. Бодлер включил его в свой перечень предшественников дендизма – «Цезарь, Катилина, Алкивиад…». Друг Бодлера Арсен Уссе видел в Алкивиаде греческого Дон Жуана, проводившего вечера в оргиях.
Юпитер. Рисунок Т.Хоупа. 1812 г.
Плутарх рассказывает, что Алкивиад отличался редкой красотой, причем «она оставалась цветущей и в детстве, и в юношестве, и в зрелом возрасте, словом – всю его жизнь, делая его любимым и приятным для всех»[35]. Красота и обаяние Алкивиада действовали на всех магически, и он умело пользовался своим преимуществом, покоряя как мужчин, так и женщин. Его имя стало символом андрогинной красоты, и много столетий спустя миф об Алкивиаде как о дивном универсальном любовнике не утратил своей силы. Оттого писатель-романтик XIX века Барбе д’Оревильи мог позволить себе завершить свой трактат «О дендизме и Джордже Браммелле» многозначительной фразой о денди: «Это натуры двойственные и многоликие, неопределенного духовного пола, грация которых еще более проявляется в силе, а сила опять-таки в грации; это андрогины, двуполые существа; но уже не из Сказки, а из Истории, и Алкивиад был лучшим их представителем у прекраснейшего в мире народа»[36].
Современники, однако, как это нередко бывает, не были склонны видеть в Алкивиаде воплощение всех земных совершенств и порой упрекали его в излишней женственности, в экстравагантности и в пристрастии к роскоши. Он, например, пользовался для своих трапез золотой и серебряной посудой, принадлежащей городу, демонстративно выбирал себе лучших наложниц. И все же его любили, даже у врагов он пользовался уважением, а простой народ желал сделать его единовластным правителем-тираном, презрев хваленую афинскую демократию.
Хотя он немного картавил, считалось, «что даже это ему шло, придавая его речи убедительность и грацию»[37]. Если недостаток превращается в достоинство – это сигнал, что перед нами сильная харизматическая личность; и действительно, во всех историях об Алкивиаде проглядывает прежде всего незаурядная натура, основной страстью которой Плутарх считает честолюбие и стремление к первенству. Мальчиком он был готов рискнуть жизнью, только чтобы настоять на своем: когда возница хотел проехать по той части улицы, где он с приятелями играл в кости, Алкивиад «бросился лицом вниз на землю перед повозкой и велел вознице ехать, если он хочет. Тот, испугавшись, осадил лошадей…»[38]. Вкус к победе – будь то военное сражение или риторический поединок, политическая интрига или конные соревнования (колесницы Алкивиада не раз выигрывали на Олимпийских играх) – по этому алгоритму строилась вся его жизнь. Но, гонясь за успехом, он отнюдь не подчинял свои действия жестким нормам общественного поведения. Наоборот, Алкивиад не раз нарушал их, оскорбляя именитых граждан, пародируя религиозные культы (даже священнейшие для греков Элевсинские мистерии), и все это до поры до времени сходило ему с рук. Но больше всего пищу молве давали модные привычки любимца публики: «Алкивиад вел роскошную жизнь, злоупотреблял напитками и любовными похождениями, носил, точно женщина, пурпурные одеяния, волоча их по рыночной площади, и щеголял своей расточительностью; он вырезывал части палубы на триерах, чтобы было спать мягче, т. е. чтобы постель его висела на ремнях, а не лежала на палубных досках»[39].
Зная, что каждый его шаг становится предметом для пересудов, Алкивиад умел без труда манипулировать мнением толпы. Самыйяркий пример – как он отрубил хвост своей красивой собаке, за которую заплатил немалые деньги, и с улыбкой заметил: «Мне хотелось, чтобы афиняне болтали об этом и не говорили обо мне чего-нибудь худшего»[40]. Говоря языком нашей эпохи, можно сказать, что Алкивиад успешно конструировал собственный имидж, но дело не только в этом. Он знал цену своему имиджу, своему имени и своей репутации. В характере Алкивиада проскальзывает подозрительно современная черта – умение извлекать экономическую выгоду из символических ценностей, манипулировать престижностью в своих интересах.
Очень показательна такая история. Один метэк[41], желая завоевать расположение Алкивиада, продал все свое имущество и предложил ему вырученные деньги. Фактически это был знак, что он признает Алкивиада своим покровителем. Алкивиад «улыбнулся и довольный пригласил его к ужину. Угостив и радушно приняв его, он вернул деньги»[42], после чего решил ответить жестом на жест, продемонстрировав своему протеже, как можно заработать, имея такого покровителя. Он подвиг его на финансовую аферу и выступил его поручителем, что было необычно по отношению к лишенному гражданских прав чужеземцу. «Приведенный в замешательство метэк уже отступал, когда Алкивиад крикнул архонтам издалека: “Пишите мое имя, это мой друг, я его поручитель”»[43]. Хотя метэк испугался задуманной спекуляции (практически речь шла об искусственном повышении цен при сделках на афинских публичных торгах – прообразе современной биржи), Алкивиад заставил его рискнуть, после чего тот получил существенную прибыль (вдобавок к первоначальной сумме, возвращенной Алкивиадом). Таким образом афинянин элегантно показывает своему подопечному, что можно сделать, имея гарантией имя Алкивиада, и приобщает его к искусству делать деньги «из воздуха». Сам Алкивиад, несомненно, четко осознавал, что символический капитал ничуть не менее важен, чем экономический, а при случае они взаимообратимы.
Существуют аналогичные истории о знаменитых денди XIX века. Позднее мы расскажем, как граф д’Орсе, чье имя было синонимом тонкого вкуса и престижа, пользуясь собственной репутацией, обеспечил обширную клиентуру торговцу спичками. Подобные рекламные акции не раз осуществлял и основоположник дендизма Джордж Браммелл.
Но вернемся к образу Алкивиада в исторических и литературных источниках. В диалоге Платона «Пир» Алкивиад выступает одним из собеседников и произносит пылкую речь – панегирик Сократу. Интересно, что у Платона он появляется «в каком-то пышном венке из плюща и фиалок и с великим множеством лент на голове»[44]. Первая реплика Алкивиада – как раз по поводу этих лент: «Я пришел, и на голове у меня ленты, но я сейчас их сниму и украшу голову самого… мудрого и красивого»[45]. Далее Алкивиад наделяет ими своего друга Агафона, а затем, заметив Сократа, передает часть лент ему, то есть выступает как арбитр, присуждающий приз и поощряющий (здесь-то как раз и кроется философская интрига) не только красоту, но и мудрость. Его речь, собственно, и посвящена обоснованию этого двойного стандарта, и он восхваляет Сократа, сравнивая его с полым изваянием уродливого силена, внутри которого скрыта статуя бога.
Платон особо останавливается на довольно необычном для застольной беседы эпизоде. Алкивиад подробно рассказывает присутствующим, как Сократ отверг его любовные притязания: «Он одержал верх, пренебрег цветущей моей красотой, посмеялся над ней… Проспав с Сократом всю ночь, я встал точно таким же, как если бы спал с отцом или старшим братом»[46]. Для того чтобы с полным самообладанием и для забавы присутствующих рассказать о собственном фиаско, надо обладать поразительной уверенностью в себе и умением любое происшествие обращать себе на пользу. Подобными качествами впоследствии будут блистать многие денди XIX столетия. Герой Бульвера-Литтона Пелэм, дабы завоевать репутацию незаурядного человека, первый раз появляясь в парижском салоне, в деталях повествует о том, как он свалился в канаву и, стоя по пояс в грязи, вопил о помощи. Как и Алкивиад, он рискует, идет ва-банк и выигрывает – на него сразу обращают внимание.
В поведении Алкивиада на пиру есть еще один нюанс: он приходит навеселе и тотчас ставит вопрос ребром: «Э, друзья, да вы, кажется, трезвы. Это не годится, надо пить, такой уж у нас уговор. Пока вы как следует не напьетесь, распорядителем пира буду я»[47]. Эта роль тоже типична для денди: «распорядитель пира», присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты беседы, гастрономического удовольствия. Эффект достигается не столько за счет горячительных напитков, сколько за счет личности «распорядителя пира» – его чувственной энергии, катализирующей остальных участников.
Для европейцев последующих веков из всех греческих героев именно Алкивиад служил образцом светского и галантного человека. Особо выделяли его способность без усилий менять внешность и манеры и оставаться исключительным при любых обстоятельствах. Эти свойства делали его желанным гостем как среди образованных мужчин, так и среди самых красивых женщин своего времени. Плутарх особо отмечал, что «Алкивиад… мог подражать в равной мере как хорошим, так и плохим обычаям. Так, в Спарте он занимался гимнастикой, был прост и серьезен, в Ионии – изнежен, предан удовольствиям и легкомыслию, во Фракии – пьянствовал и занимался верховой ездой; при дворе сатрапа Тиссаферна – превосходил своей пышностью и расточительностью даже персидскую роскошь»[48].
В этом месте у Плутарха дан еще один очень интересный попутный комментарий: «Наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам иобразу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого… Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской»[49].
По сути, речь идет об универсальной общежительности модника, о его метаморфности, способности менять маски по собственному усмотрению. Это «хамелеонство» чрезвычайно важно: порой оно может восприниматься как деликатность и светская предусмотрительность, а порой – как бесхарактерность, беспринципность или даже самый изощренный цинизм, о чем у нас еще будет случай подумать на других примерах.
Позднее, уже в Новое время, денди именно из-за этой самой черты всегда будут подозревать в неискренности, появятся метафоры вечной игры, вечного лицедейства; но пока Плутарх великодушно оправдывает своего героя, объясняя все его галантностью.
Отметим также еще одну «тотемическую» черту Алкивиада, которая, как нам кажется, отразилась в его последователях-денди. Алкивиада часто сравнивали с львом. Началось все с того, что один раз в схватке, чувствуя, что противник его одолевает, Алкивиад укусил его и в ответ на упрек, что он кусается, как женщина, возразил: «Вовсе нет, как львы»[50]. Образ льва закрепился за ним как эмблема силы и благородства, что к тому же подкреплялось изяществом его телесной пластики. На «львиность» также ссылались, когда имели в виду его властное своеволие:
К чему было в Афинах льва воспитывать? А вырос он – так угождать по норову[51].
Вероятно, не случайно слово «лев» стало синонимом светского «щеголя» в Европе XIX века, во многом обгоняя по популярности термин «денди».
Итак, мы видим, что образ Алкивиада как мужчины-модника, предшественника денди, содержит вполне определенный пучок свойств:
– «распорядитель пира» и желанный гость повсюду;
– человек с огромной уверенностью в себе, намеренно идущий на риск, создающий ситуации на грани фола и, вероятно, получающий от этого особое наслаждение;
– тотемический лев;
– «арбитр элегантности», судья красоты, с чьими вердиктами не спорят, даже если они кому-либо обидны;
– «хамелеон», умеющий меняться в зависимости от обстоятельств, общаться в разных стилях.
– андрогин, персонаж «неопределенного духовного пола».
Все эти черты будут в дальнейшем преломляться в образе денди, но важно заметить, что они всегда выступают в связке, как комбинация свойств.
Мужчины-модники: исторические типы
Человек, чье единственное ремесло – быть элегантным, во все времена резко выделяется среди других.
Ш. БодлерГлавное отличие модника – приоритетное внимание к собственной внешности и одежде. Красоту облика он ценит больше комфорта, что в принципе для мужчин достаточно необычно. Соблазн моды оказывался неодолимым даже для интеллектуалов: классик итальянской поэзии Франческо Петрарка в молодости являл собой тип «fashion victim» – жертвы, или даже мученика моды. «Ты помнишь, – пишет он брату в 1349 году о днях юности, – что это была за мания одевания и переодевания, ежеутренне и ежевечерне повторявшийся труд; что это был за страх, как бы прядка волос не выбилась из приданной ей формы, как бы порыв ветерка не спутал прилизанные и причесанные кудри; что это было за шараханье от встречных и настигающих четвероногих, чтобы случайные брызги не попали на чистую и надушенную тогу, чтобы не утратила она от толчков оттиснутые на ней складки…
Что скажу о сапогах? По видимости защищая ноги, какой частой и непрестанной они теснили их войной! Мои, честно сказать, они вовсе бы вывели из употребления, не решись я под давлением крайней необходимости лучше оскорбить немножечко чужие взоры, чем терзать собственные жилы и суставы.
К.Верне. Инкройябль. 1797 г.
А щипцы для завивки и заботы о прическе? Сколько раз боль прерывала наш сон, и без того отложенный ради этих трудов! Какая пиратская пытка мучила бы нас жесточе, чем мы себя мучили собственными руками? Сколько раз, глядя поутру в зеркало, мы видели ночные рубцы на воспламененном лбу и, собравшись блеснуть волосами, вынуждены были теперь прятать лицо! Не говоря уж об этих мелочах, сколько трудов, сколько бессонных ночей мы с тобой положили на то, чтобы безумие наше стало широко известно и мы сделались бы притчей во языцех для многих людей!»[52] Петрарка здесь вспоминает о грехе юношеского тщеславия, но описание «слабостей» певца Лауры и автора поздней проникновенной «Книги о презрении к миру» столь заразительно, что наверняка вызовет симпатию у современного неравнодушного читателя.
В Англии мужчины-модники обратили на себя внимание в эпоху Реставрации. После возвращения Карла II[53] из Франции пуританские обычаи при дворе смягчились и воцарилась весьма вольная атмосфера, благоприятствующая расцвету моды и свободе нравов. Именно в XVII веке сформировался особый тип щеголя – красавца (Beau)[54]. При дворе блистали «красавцы» Джон Рочестер, Джордж Хьюитт, Роберт Филдинг. Они не только отличались изысканными нарядами, но и преуспевали в светской жизни и в политических интригах. «Грация вступила в Англию при реставрации Карла II под руку с распущенностью»[55], – писал Барбе д’Оревильи, имея в виду влияние либертинов. «Придворные Карла II, испив в бокалах с французским шампанским сок лотоса, даровавший им забвение мрачных религиозных обычаев родины»[56], заложили традицию английского щегольства.
Красавец Нэш: батский щеголь
В XVIII веке самым знаменитым «красавцем» в Англии слыл Ричард Нэш (1674–1761). Ареной его деятельности был курортный городок Бат, славившийся своими горячими источниками. Нэш приехал в Бат в 1705 году, и в первые же дни ему улыбнулась фортуна: он сразу выиграл в карты крупную сумму и решил остаться на сезон, устроившись в качестве помощника тамошнего распорядителя балов. Нэш и раньше был известен своими талантами в сфере общественных увеселений: в юности он столь удачно организовал карнавал в честь короля Вильгельма III, что монарх хотел пожаловать его в рыцари. Но Нэш был вынужден отказаться от предложенной чести, поскольку неминуемые финансовые расходы, связанные с титулом, были для него в тот момент непосильны.
Вскоре элегантность и знание светской жизни сделали Нэша любимцем курортной публики, и он получил место «мастера церемоний». В этой должности он сразу принялся за реформы. Щеголь поставил перед собой задачу превратить маленький провинциальный городок в модное место. Прежде всего Нэш решил способствовать «смягчению нравов» батской публики. Он издал ряд постановлений, регулирующих поведение и костюм на курорте. Во-первых, он запретил аристократам ношение шпаг – от этого в городе резко уменьшилось количество дуэлей. Но благодаря указу против забияк неожиданно выиграли и дамы: ведь болтающиеся на поясе клинки нередко рвали женские платья во время танцев. В то время на курорте было немало зажиточных сельских джентльменов, которые повсюду ходили в тяжелых сапогах, а их жены на танцах появлялись в белых фартуках. Нэш развернул целуюкампанию против сапог и фартуков и даже устроил специальное представление кукольного театра, где неотесанный Панч заваливался спать, не снимая сапог. Сатира возымела действие, и на балы публика стала наряжаться более цивильно. Последней мерой мастера церемоний стал запрет на ругательства в общественных местах. Новые правила поведения были развешаны повсюду и не замедлили сказаться на внешнем облике и манерах горожан.
В результате реформ образовалось пространство новой вежливости и общежительности: снизилось число конфликтов, самые явные знаки социальных различий в костюме были устранены – заезжие аристократы и сельские жители теперь уже не столь разительно отличались друг от друга. Сословные различия, разумеется, никто не отменял, но на время пребывания на курорте они как будто в известной степени нивелировались: люди легче знакомились, вокруг царила атмосфера праздника и развлечений.
Ричард Нэш
Нэш как мог поддерживал этот новый дух курортной общежительности не только официальными распоряжениями, но и неформальными методами: он умело гасил в зародыше споры, возникающие за карточным столом, тактично останавливал чересчур азартных игроков, удерживая их от неминуемых проигрышей, и даже успевал следить за развитием любовных романов среди отдыхающих – словом, вникал во все тайные пружины батских интриг. Он неизменно помогал бедным (вероятно, памятуя о своей безденежной юности), собирал деньги по подписке для неимущих и с редким искусством раздобывал фонды на благотворительные проекты: его самым крупным достижением было строительство больницы для бедняков.
При всей этой бурной общественной деятельности он не упускал возможность и самому сесть за карточный стол или повеселиться на балу. Нэш неизменно привлекал внимание изяществом своего костюма: он носил пышный черный парик и кремовую треуголку, лихо заломленную набок, богато расшитый коричневый сюртук и белую сорочку с кружевным жабо. Мастер церемоний разъезжал по городу в запряженной шестерней карете, а лакей на запятках оповещал о его приближении звуком французского рожка. Элегантность «красавца» служила камертоном соревнования для батских щеголей.
Благодаря Нэшу Бат довольно быстро стал модным курортом, сюда каждый сезон съезжались не только англичане, но и иностранцы. День начинался с купания в бассейне со знаменитыми горячими водами. Дамы заходили в него в закрытых купальных костюмах, с париками на голове, а к руке у них была привязана ленточкой небольшая деревянная подставка, на которой лежали носовой платок, табакерка или цветок.
Описания подобных костюмов можно найти в романе Смоллетта: «Под самыми окнами галереи минеральных вод находится Королевский бассейн – громадный водоем, где вы можете наблюдать больных, погруженных по самую шею в горячую воду. На леди надеты коричневые полотняные кофты и юбки и плетеные шляпы, в которые они прячут носовой платок, чтобы утирать пот с лица…»[57] Эти водные процедуры прописывались в лечебных целях, но можно представить себе, насколько утомительно было купаться в таких одеяниях. После обеда прогуливались, вечером шли на бал или с визитами.
Приезжие обычно снимали комнаты у местных жителей, и здесь Нэш также навел порядок: установил систему тарифов на жилье, существенно снизив цены за неудобные помещения. Его стараниями было построено новое красивое здание Ассамблеи, а улицы каждый день тщательно подметались. Не обошел вниманием мастер церемоний и культурную жизнь Бата: пригласил из Лондона хороших музыкантов, которые играли не только на балах, но и каждый день у бассейна. Даниэль Дефо, посетив Бат, заметил: «Нэш – распорядитель удовольствий повсюду в городе. Его очень почитают, а его приказам подчиняются с наслаждением, поскольку его меры по украшению и порядку в городе снискали ему величайшее уважение».
Когда Нэш оставил свой пост, он жил достаточно скромно, а в старости за ним ухаживала одна дама, его бывшая возлюбленная. Его последователи продолжили его курортные реформы, в Бате продолжали строить красивые здания в палладианском стиле по проекту архитектора Джона Вуда.
На примере Нэша мы видим удивительно удачный образчик деятельности щеголя в качестве профессионального администратора, фактически мэра города. Моднику удалось сделать модным целый город, привлечь туда разборчивую столичную публику. Провести сезон в Бате стало престижным. Щеголь выступил как тонкий знаток нравов – корректируя этикет, он изменил всю атмосферу в городе. Начав с реформы костюма, Нэш создал в Бате новое пространство – престижное, праздничное, светское и в то же время вполне демократичное, отчасти нивелирующее социальные различия. Преобразования «арбитра элегантности» имели далеко идущие последствия. Фактически он предвосхитил в Бате модель городской буржуазной социальности XIX века, открывающую большие возможности для способных людей незнатного происхождения. Этот вектор общежительности впоследствии оказался очень существенным для развития европейского дендизма.
«Нет сомнения, щеголи еще не денди, а лишь их предшественники. Дендизм уже скрывается под этой маской, но пока еще не открывает лица»[58], – обобщал Барбе д’Оревильи.
Макарони
На протяжении XVIII века традиция щегольской культуры в Англии породила еще один модный тип – макарони. «Макарони» («macaroni») – английские франты 1760–1770-х годов, в правление Георга III. Стиль макарони возник изначально среди молодых лондонских аристократов, но затем распространился среди щеголей среднего сословия в Йорке и в Бате. Макарони подражали итальянским[59] и французским стилям: отсюда и их прозвище (на манер современного «макаронники»). Как и во времена Карла II, новый всплеск мужской моды возник благодаря взаимодействию с романской модой, более цветистой и прихотливой, чем сдержанная британская одежда.
Возвращение из заграничной поездки: «Боже мой! Неужели это мой сын Том?» Том одет по моде макарони
Английские сторонники итальянской моды в XVIII веке увлекались пастельными тонами в одежде и смело сочетали разные типы орнамента. Они также стали использовать для повседневных выходов такие атрибуты придворного костюма, как шпаги у пояса, высокие надушенные парики, открытые жилеты и перчатки с отворотами, красные каблуки[60]. Все это скандализировало городскую публику, непривычную к подобной экстравагантности в общественных местах. Среди макарони было немало знатных людей – лорд Скарборо, лорд Эффингем; в Австрии этим стилем увлекался князь Кауниц.
Макарони нередко упрекали в утрированной женственности облика за их пристрастие к помадам, румянам, мушкам и зубочисткам – последняя деталь была исключена из джентльменского обихода вплоть до начала XIX века. Макарони также отличались манерным и претенциозным поведением, среди них было немало геев.
Современники-традиционалисты, наблюдая за их стилем и поведением, оставили нам дотошные описания макарони, проникнутые духом неприязненного любопытства: «Они и впрямь представляют из себя смехотворное зрелище! Представьте себе шляпу с полями величиной в дюйм, которая не покрывает голову, а еле держится на макушке; два фунта фальшивых волос, забранных сзади в длинный “пучок” (“club”), свисающий по плечам, белый, как мешок булочника[61]. Полы фрака спускаются до первой пуговицы штанов, а сами укороченные штаны (“breeches”) – или коричневые в полоску, или белые широкие, как у голландцев. Рукава фрака так узки, что руки с трудом проходят в них, а манжеты шириной около дюйма. Рукава рубашки без складок, отделаны кружевом “тролли”[62]. Чулки на ногах могут быть самых немыслимых оттенков радуги, не исключая телесного цвета или чулок зеленого шелка. Туфли – небольшие лодочки, а пряжки – на расстоянии дюйма от носка. Увидев такого модника, надушенного и напомаженного, с пышным кружевным жабо под подбородком, обычный прохожий порой затрудняется определить его пол. Бывало, ничего не подозревающий уличный носильщик говорил “Проходите, мадам”, не желая при этом никого обидеть»[63]. Как видим, макарони, акцентируя андрогинный элемент в своих нарядах, вполне успели зарекомендовать себя как «жертвы моды». Неудивительно, что они стали героями множества карикатур и литературных пародий[64]. Стиль макарони упоминается даже в детской песенке «Янки Дудль», которая стала американским национальным гимном:
Янки Дудль к нам верхом Приезжал на пони; Шляпу круглую с пером Звал он макарони[65].Макарони были последними представителями старой шегольской культуры в Англии. Их женственный и пышный стиль на следующем витке развития моды требовал антитезиса – сурового мужского пуризма. Этот антитезис смогли обеспечить британские денди на рубеже XVIII–XIX веков. Но прежде, чем подробно говорить о них, посмотрим, что происходило во Франции.
Модники эпохи Великой французской революции
В 1790-е годы на улицах Парижа появились странные модники. Они настолько выделялись из толпы, что их прозвали «невероятными» («les incroyables»). «Невероятные» носили узкие бутылочно-зеленые или коричневые сюртуки с огромными лацканами и высоченными воротниками, шейный платок нередко закрывал подбородок. Под сюртук поддевался короткий жилет, а то и сразу два – один под другой. Панталоны в начале десятилетия были облегающими, а затем в моду вошли довольно широкие, с завышенной, вплоть до подмышек, талией. На поясе болтались гигантские монокли и лорнеты. Прическа «собачьи уши» («oreilles de chien») отличалась нарочитой растрепанностью, причем сзади волосы коротко стригли, а по бокам, напротив, отпускали. Наряд завершала шляпа-двууголка, которую часто держали в руке или под мышкой.
Экстравагантный костюм «невероятных» намекал на их роялистские взгляды. Зеленые сюртуки были нарочитым подражанием младшему брату короля – графу д’Артуа, а черный воротник символизировал траур по казненному королю Людовику XVI. Ближайшие предшественники «невероятных» получили прозвище «мюскадены», так как они любили душиться мускусом, который был в моде при дворе до революционных потрясений. Хотя общее количество щеголей было невелико – от двух до трех тысяч, после 9 Термидора Конвент вполне мог положиться на их лояльность и даже рассчитывать на них в качестве защиты. Как видно, консервативные настроения после якобинского террора нашли непосредственное выражение в уличной моде[66].
Три игрока за карточным столом. Увеличенные лацканы – характерная черта костюма инкройяблей. 1798 г.
«Мюскадены» и «невероятные» представляли сословие «золотой молодежи» («Jeunesse Dorée») – многие из них происходили из среднего класса или из семей разбогатевших буржуа. В эпоху Директории они не скрывали своих монархических симпатий и открыто противостояли якобинцам. Завидев красный фригийский колпак санкюлота, они нередко начинали уличную драку, главным оружием в которой им служила мощная суковатая палка.
Подруги «невероятных» звались «изумительными» («les merveilleuses»). Они предпочитали «нагую моду» – полупрозрачные туники в античном стиле[67]. Нарочитый эротизм их нарядов эпатировал публику, впрочем, отвечая давно подмеченной историками костюма закономерности: женская мода становится более вызывающей и сексуальной после больших исторических потрясений, когда необходимо восполнить людские потери за счет повышения рождаемости.
«Невероятные» и «изумительные» веселились на «балах жертв», куда допускались только родственники казненных во время террора. Мужчины приходили с короткими стрижками à la Titus, а женщины собирали волосы наверх в стиле à la victime, имитируя прическу приговоренных к гильотине. Дамы даже повязывали на шею узкую красную ленточку, а во время танцев отчаянно мотали головой во все стороны, как будто голова вот-вот скатится с плеч, – разыгрывался коллективный перформанс на тему смертной казни.
Чтобы еще более подчеркнуть свое отличие от окружающих, модники изобрели особую манеру произносить слова – они картавили, не выговаривая звук «р». Одни историки костюма связывают это арго с подражанием английскому произношению, другие указывают на выговор популярного певца Гара, но стоит отметить, что эти щеголи уже не ограничивались оригинальностью костюма, а чувствовали потребность создать свое тайное наречие, которое объединяло бы их, позволяя знаково отделиться от чужих. Впоследствии многие денди будут прибегать к этому приему – акцентировать те или иные особенности выговора, нарочно заикаться или даже имитировать лицевой тик. Семиотическая зона моды в этот момент требовала расширения, захватывая и речь, и жесты, и тело.
К концу XVIII века мода уже стала важным культурным институтом европейского города – началось издание первых модных журналов, заметно ускорились ритмы новых тенденций. Между Англией и Францией все время шел обмен культурной информацией по моде. Подобно тому как на Британию периодически накатывали волны континентальной моды (чему пример – макарони), так и во Франции в зависимости от политической обстановки наступали эпохи «англомании». Носителями британской моды выступали путешественники, странствующие торговцы и аристократия. Два самых явных пика англомании пришлись на 1763–1769 (после окончания Семилетней войны) и 1784–1789 годы.
В основном влияние британской моды выражалось в упрощении мужского платья, во временном преобладании удобных и практичных фасонов. «Англичане одеваются просто, – замечал путешественник Сезар де Соссюр в 1760 году, – у них редко увидишь отделку золотой тесьмой или галунами; они предпочитают укороченные сюртуки, которые они называют “фраками”, – без заложенных складок, без воротника и украшений. Они носят маленькие парики, в руке – трость вместо шпаги; шерстяные и льняные ткани – высочайшего качества. Подобный наряд можно увидеть и на зажиточных торговцах, и на богатых джентльменах, и на знатных лордах…»[68] Склонность к сдержанному стилю, выступающая как императив хорошего вкуса, присутствовала в английской традиции со времен Возрождения. Еще у Шекспира можно встретить наставления в этом духе[69]:
Шей платье по возможности дороже, Но без затей – богато, но не броско[70].Этот типично английский простой и универсальный стиль окончательно одержал победу в мужской моде к концу XVIII века. Но для закрепления его в качестве базовой модели мужского костюма требовалась благоприятная историческая ситуация. Появление на арене денди было событием большего масштаба, нежели просто пришествие еще одного типа мужчины-модника. Дендизм знаменовал смену крупных культурных парадигм, утверждение новых моделей телесности и новых стереотипов поведения.
Дендизм и романтизм
Известно, что дендизм – специфически английский феномен. Но почему именно в Британии на рубеже XVIII–XIX веков утверждается тип денди? Изначально дендизм возникает как особая модификация английских традиций щегольства и джентльменства, а с 1820-х годов становится общеевропейской модой, сохраняя, впрочем, исходный набор таких национальных черт, как сдержанный минималистский стиль в одежде, спортивность, клубная культура, джентльменский кодекс поведения.
Появлению на светской арене нового типа мужчины-модника в значительной мере способствовала высокая репутация Лондона как столицы роскоши. Счастливо избегнув революционных и военных потрясений, Лондон на рубеже XVIII–XIX веков уверенно обгоняет Париж по части моды. Именно в это время происходит расцвет портновского ремесла: непревзойденной репутацией пользуются Швейцер и Дэвидсон, а также Вестон и Мейер, позднее лидером становится Стульц. Самый модный район в Лондоне – Вест-Энд. Здесь сосредоточены основные дендистские маршруты: на Сэвил Роу расположены портновские мастерские; на Бонд-стрит – продавцы чулок, духов и галантереи, на Сент-Джеймс-стрит – знаменитые клубы, а также винные и табачные магазины[71]. Берлингтонская аркада, находящаяся в центре Вест-Энда, всегда являлась излюбленным местом прогулок лондонских денди.
Полная панорама городских развлечений была представлена широкой публике в 1821 году, когда вышла известная книжка Пирса Эгана «Жизнь в Лондоне»[72]. Три приятеля – Том, Джерри и Боб Лоджик – посещают все интересные места Лондона и исследуют на личном опыте модные столичные удовольствия. Лондон раскрывается перед ними как «полная энциклопедия, где каждый человек, независимо от веры и нравов, может найти нечто приятное сообразно своему вкусу и кошельку, чтобы расширить свои взгляды, наслаждаться счастьем и комфортом»[73]. Среди знакомых отважной троицы, разумеется, мелькают и «денди – сын Тщеславия и Аффектации, потомок макарони и петиметров», и «накрахмаленный щеголь… пользующийся услугами лучших портных, башмачников и шляпников, дабы хладнокровно поразить общество своей элегантностью»[74].
Денди как городской тип появляется в тот период, когда на рубеже XVIII–XIX веков начинает складываться парадигма европейского модерна[75]. Социальную базу дендизма составляли аристократия и представители среднего класса. Благодаря демократическим завоеваниям Французской революции третье сословие в Европе получило возможность проявлять инициативу во всех сферах деятельности. А в Англии, стране со старейшей демократической традицией, где к тому же еще раньше произошла промышленная революция, сложились наиболее благоприятные условия для развития свободного самовыражения буржуазного индивида. Человек мог выделиться независимо от социального происхождения что, собственно, и подтверждает пример знаменитого денди Браммелла. Однако для подобного продвижения требовались незаурядная воля, харизма, сильный характер и (что немаловажно) предрасположенность общества оценить эти качества по достоинству.
Эту предрасположенность обеспечивала культурная ситуация рубежа XVIII–XIX веков, когда воцарилась романтическая эстетика. Именно романтизм возвел на пьедестал свободную творческую личность и санкционировал ее право диктовать свою волю толпе. Недаром многие герои поэм Байрона так охотно изображал и дендистское высокомерие, а персонажи Колриджа и Гёльдерлина не только обладали колоссальной энергией, но и осмеливались идти против большинства, веря в свою правоту. Культ оригинальности, апологетика индивидуальной свободы нередко ставили этих мечтателей на грань экзистенциального бунта, и первоначальный энтузиазм нередко завершался разочарованием – отсюда мотив «мировой скорби», выразительно представленный в творчестве великого пессимиста Джакомо Леопарди и в философии Артура Шопенгауэра.
Д.Г. Байрон. Гравюра по портрету Дж. Харлоу 1815 г.
«Мировая скорбь» предполагала не только отказ от просветительских идей относительно разумной и доброй природы человека, но и интенсивное исследование ранее недооцененных эмоциональных ресурсов – всего диапазона тончайших переживаний от просветленной печали и «снов наяву» до отчаяния и скептицизма[76]. Душевная жизнь героев Шатобриана, Мюссе, Констана демонстрирует бесконечные варианты этого «воспитания чувств». Благодаря романтизму созерцательная меланхолия становится знаком внутренней зрелости личности – и, как следствие, модники охотно разыгрывают ее в качестве новой «интересной» позы. Но существенно, что излияние эмоций у романтиков отнюдь не исключает установки на жесткую саморефлексию. Вот характерный фрагмент из записных книжек молодого Стендаля: 1805 год, он страстно влюблен в актрису Мелани Гильбер.
«В двенадцать часов дня, одеваясь, чтобы идти к Мелани, я почти не помнил себя, до того я был взволнован. Звоню – никто не отвечает. Иду в Пале-Рояль, провожу там полчаса, быть может, самые мучительные в моей жизни; единственным развлечением было наблюдение за собственным состоянием, и, право же, это немалое развлечение. Прибегнуть к этому способу утешения, если мне когда-нибудь случится утешать умного человека»[77]. Подобная способность дистанцироваться и как бы со стороны следить за своими переживаниями уже предполагает сложную автономию внешне сдержанного субъекта, который культивирует собственные эмоции, не теряя при этом аналитического контроля. Это стремление подняться над страданием – первичный тренинг невозмутимости, школа владения собой. Парадоксальные «правила» дендистского поведения «ничему не удивляться», «сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью» во многом вытекают из этой науки романтического самопознания.
В предельном развитии поза мировой скорби дает образ «демонической натуры» – человека, проникнутого разочарованием, бросающего вызов не только высшим силам (байроновские герои Манфред, Каин), но и всем людям. Апофеоз этой линии – демонический циник, этакий денди – Мефистофель в безупречном фраке (нередкий типаж в творчестве Теофиля Готье, Фредерика Сулье и Барбе д’Оревильи). Не случайно наиболее сильно тема «цветов зла» разрабатывается у Бодлера, создавшего последовательную теорию дендизма. Более сниженный, «бытовой» вариант «демонической натуры» – рефлектирующий фат, роковой соблазнитель (Дон Жуан, Печорин, Адольф), чье тщеславие нередко базируется на особой «теории успеха»[78].
Сознание собственной исключительности у романтического героя диктует изощренные формы косвенного выражения своего превосходства: среди них – ирония и сарказм; жизнетворчество (включающее, между прочим, и стилистику внешности); критика дурного вкуса. «Повсюду мы находим теперь громадную массу пошлости, вполне сложившейся и оформленной, проникшей более или менее во все искусства и науки. Такова толпа; господствующий принцип человеческих дел в настоящее время, всем управляющий и все решающий, – это польза и барыш и опять-таки польза и барыш», – писал один из главных теоретиков романтизма Фридрих Шлегель[79]. Эта презрительная интонация разоблачения меркантилизма берется на вооружение денди: романтический протест против пошлости массового вкуса оборачивается эстетской позой «арбитра элегантности»: таким образом лидер моды дистанцируется от неумелых подражателей и филистеров. Романтическая ирония, эта «трансцендентальная буффонада» и «самая свободная из всех вольностей», становится способом сохранения личного достоинства и даже порой оружием нападения перед лицом «гармонической банальности»[80]. Наконец, великолепная вера романтиков во всевластие человеческого духа проецируется на сферу жизнетворчества: «Все случаи нашейжизни – это материалы, из которых мы можем делать, что хотим. Кто богат духом, тот делает много из своей жизни. Всякое знакомство, всякое происшествие было бы для всецело вдохновенного человека первым звеном бесконечной вереницы, началом бесконечного романа»[81]. Не в последнюю очередь романтики задумывались и о роли костюма: недаром во фрагментах Новалиса попадаются многозначительные записи: «Об одежде как символе»[82].
Итак, дендизм роднит с романтической эстетикой культ сильного индивида (включая комплекс мировой скорби и демонизм), программа жизнетворчества и установка на иронию. Основные различия между дендизмом и романтизмом состоят в том, что, во-первых, денди, будучи поклонником городской культуры, не разделяет романтического восхищения природой (противоположность естественного и искусственного), и, во-вторых, денди не склонен к лирическому излиянию чувств, предпочитая контролировать свои эмоции или разбавлять их холодной рефлексией. Впрочем, начало подобной раздвоенности уже было заложено в самом романтизме, как видно по стендалевским записным книжкам.
Резюмируем: дендизм оформляется на рубеже XVIII–XIX веков в Англии благодаря трем факторам:
– расцвет Лондона как столицы моды;
– демократизация общества и выдвижение среднего класса после буржуазных революций;
– апология личности и индивидуальной свободы в эстетике европейского романтизма.
III. В начале был Джордж Браммелл: легенда и биография
Легенда
Самый знаменитый денди всех времен и народов англичанин Джордж Брайан Браммелл (1778–1840) имел прозвище Beau, что означает «щеголь, красавчик». Браммелл был современником романтиков и кумиром самого лорда Байрона, который говорил: «В XIX веке есть три великих человека – Браммелл, Наполеон и я».
Байрон был неодинок в своем преклонении перед харизматической персоной Браммелла – каждый второй молодой аристократ тогда всеми силами подражал Браммеллу. Нам сейчас не столь трудно понять, чему обязаны своей славой Байрон и Наполеон. Однако репутация Браммелла в свое время была столь же высокой и завидной, и это явно требует объяснений. Ведь множество франтов, блиставших в светских кругах, никогда не подымались до таких вершин известности, а впоследствии и вовсе были благополучно забыты. «Браммелл сохранил только имя, светящееся таинственным отблеском во всех мемуарах его эпохи», – писал Барбе д’Оревильи[83]. Что же реально нам осталось от Браммелла, кроме имени и красивой легенды?
Д.Б. Браммелл. Гравюра Д. Тестевида
Как сейчас ясно, следы влияния Браммелла по крайней мере в одном отношении были долговечны и осязаемо материальны: он определил историю мужской одежды на два века вперед, создав современный вариант классического костюма. Программа Браммелла отличалась поразительной близостью к современным принципам мужского гардероба.
Первым и решающим новшеством были непривычные для начала XIX века гигиенические стандарты. Браммелл ввел в моду аккуратно подстриженные и чисто вымытые волосы, в то время как раньше их было принято отпускать, завивать, пудрить или носить напудренный парик. Сорочки Браммелл отсылал в стирку каждый день, чисто выбритый подбородок упирался в воротничок идеальной белизны. По утрам денди принимал ванны из молока, не забывал «о красе ногтей» – словом, при знакомстве сразу возникало общее ощущение чистоты и свежести, «good grooming», пусть даже оно и не вполне осознавалось зрителями.
Д. Холмс. Портрет Д.Б. Браммелла
Второе отчетливое впечатление – безукоризненный покрой фрака. «Мыслящее тело», «неземное совершенство» – так отзывались современники о костюмах Браммелла. «Изысканная правильность» («exquisite propriety»), – говорил о его стиле лорд Байрон. Фрак Браммелла отличался идеальным кроем, что достигалось многочасовыми «бдениями» с лучшими портными. Сукно для фрака Браммелл выбирал лично, обычно предпочитая батское. Он также ввел в моду узкие длинные панталоны («inexpressibles»)[84].
Завершали ансамбль до блеска начищенные гессенские сапожки, легенда гласит, что Браммелл чистил их шампанским.
Принцип смены одежды соблюдался неукоснительно. Утренний фрак должен был быть светлее вечернего, а вечером после оперы Браммелл обязательно заглядывал домой, чтобы сменить шейный платок перед визитом в гости или светским приемом, надеть узконосые бальные туфли. Перчатки в идеале полагалось менять шесть раз в день, чтобы они всегда при рукопожатии были свежими.
Тщательный подбор мелочей и аксессуаров окончательно закреплял впечатление уникальности при знакомстве с денди. Как гласила молва, у Браммелла перчатки были специального, особо удобного кроя. Их шили несколько портных: один – ладонь, второй – большой палец, третий – остальные четыре пальца.
Особым изыском браммелловского костюма был шейный платок. Искусство завязывания шейного платка у Браммелла стало темой для многочисленных легенд. Одна из них гласит, что для того, чтобы добиться совершенной формы узла, Браммеллу приходилось порой тратить несколько часов. Как-то раз к нему в неурочный час пришел посетитель и застал хозяина перед зеркалом во время примерки очередного платка. Весь пол комнаты устилали смятые и отброшенные в порыве досады платки. Лакей, заметив изумление гостя, указал на них живописным жестом и пояснил: «These are our failures» («Это наши неудачи»).
Забракованные платки могут напомнить скомканные черновики писателей, которые летят на пол, когда автор усердно работает над стилем. Но принципиальная новизна усилий Браммелла состояла не только в поиске той единственной формы узла, которая сочетала в себе элегантность и небрежность, но и в умении фиксировать находку: он первый додумался, что можно придать платку твердость контура благодаря подкрахмаливанию. Это был его фирменный секрет, который он тщательно хранил и, как гласит легенда, раскрыл друзьям только перед отъездом из Англии, оставив им записку с одним-единственным словом: «Starch» (крахмал).
Но если бы можно было стать денди, зная несколько «технических» секретов! Денди отличается от рядового франта именно тем, что модный костюм – лишь один из элементов его индивидуального стиля.
Более тонкий и неуловимый аспект феномена Браммелла связан с жизнетворчеством – особой дендистской стратегией «public relations», с жесткой личной властью над светским обществом.
Прежде всего он умел извлечь максимум из своих внешних данных. Уильям Джессе оставил нам его портрет времен юности: «Природа щедро наделила его своими дарами. Он обладал фигурой и пропорциями Аполлона, особенно красивы были его руки – при желании он мог бы с легкостью позировать как натурщик художникам, изображая античных героев. Лицо его было продолговатой формы, высокий лоб, выразительные брови, волосы – светло-каштанового цвета, бакенбарды – песочного оттенка… Черты лица обнаруживали незаурядный ум, в изгибе рта чувствовалась наклонность к саркастическому юмору. Даже если он произносил вежливые комплименты, в глубине его серых глаз появлялось странное выражение, заставляющее усомниться в его искренности. Выразительная мимика придавала его рассказам дополнительный эффект. Голос его был чрезвычайно приятным»[85].
Но располагающая к себе внешность «срабатывала» постольку, поскольку денди виртуозно владел искусством светского поведения. В этой сфере ему не было равных. Манеры Браммелла строились на искусном соединении сухости и непринужденности, почтительности и остроумного цинизма; самыми же главными компонентами, очевидно, были безупречный вкус, исключающий вульгарность в обращении или в облике, наряду с редкой способностью оживлять всякую компанию, шутить и вести легкий и изящный разговор с любым собеседником.
Однако он всегда умел тонко парировать, если ему задавали «неправильные», с его точки зрения, вопросы. Однажды после поездки по Озерному краю[86] его спросили, какое озеро вызвало у него наибольшее восхищение. Браммелл счел уместным переадресовать вопрос своему лакею: «Робинсон, какое озеро вызвало у меня наибольшее восхищение?» – «Уиндермирское, сэр», – подсказал лакей. «Ах да, Уиндермирское, совершенно верно», – лениво повторил Браммелл, обозначив тем самым без особых усилий свое отношение к банальным туристическим восторгам[87].
Каждый второй молодой аристократ тогда числил себя подражателем Браммелла. Самым именитым его поклонником был принц Уэльский – приведем весьма поэтическую версию их встречи из уст Барбе д’Оревильи: «Он был представлен принцу на знаменитой Виндзорской террасе в присутствии самого взыскательного светского общества. Там он выказал все то, что принц Уэльский должен был ценить больше всего на свете: цветущую юность наряду с уверенностью человека, который знает жизнь и может быть ее господином; самое тонкое и смелое сочетание дерзости и почтительности; наконец, гениальное умение одеваться, удачно сочетавшееся с находчивостью и остроумием»[88]. С этого момента Браммелл вошел в узкий круг ближайших друзей принца и, в частности, стал постоянно давать ему советы по моде. Восторженные воспоминания сохранились и о первом светском триумфе Браммелла в Лондоне на балу, который давала герцогиня Джорджиана Девонширская. Там он с легкостью очаровал всех присутствующих, в первую очередь дам, после чего стал получать многочисленные приглашения на аристократические рауты.
Вскоре ни один существенный прием не обходился без его участия. В газетных отчетах его имя всегда стояло первым в списке нетитулованных гостей.
Браммелл с такой легкостью вошел в светское общество не только из-за покровительства принца Уэльского, но и благодаря дружеским связям времен Итона – уже в колледже он стал приятельствовать с юными лордами Робертом и Чарльзом Маннерсами, и эти близкие отношения продолжались всю жизнь, а в дальнейшем его друзьями стали герцогиня Джорджиана Девонширская, герцог и герцогиня Йоркские, лорд Алванли, герцог Ратланд и другие видные аристократы.
Иногда, впрочем, дружба с денди могла быть довольно рискованной: мамаши специально предупреждали дочерей, чтобы они осторожно вели себя с мистером Браммеллом – заслужить от него саркастическую реплику в свой адрес нередко означало конец светской репутации. Когда герцогиня Ратландская появилась на балу в неудачном, с точки зрения Браммелла, наряде, он рекомендовал ей немедленно удалиться, причем не как-нибудь, а (дабы не оскорблять взоры присутствующих) пятясь назад. О леди Мэри он сказал толькоодну вещь: «Она ела капусту», и все присутствующие мгновенно зачислили несчастную в разряд вульгарных созданий, ибо есть овощи считалось простонародной привычкой. Сам Браммелл на вопрос, неужели он никогда не ел овощей, ответил с достоинством: «Да, как-то раз я случайно проглотил одну горошину».
Прославленная французская писательница мадам де Сталь, посетившая Лондон, считала «величайшим несчастьем» («malheur») то, что Браммелл не удостоил ее одобрением. (Впрочем, ей еще повезло, что Браммелл ничего не сказал по поводу ее нарядов – по свидетельству многих очевидцев, мадам де Сталь не отличалась особым вкусом в одежде.)
По приведенным историям можно подумать, что жертвами Браммелла были в основном дамы, но в реальности его разящее остроумие распространялось и на мужчин.
Самая известная, не раз цитировавшаяся саркастическая реплика была обращена в адрес герцога Бедфордского. Поскольку Браммелл пользовался репутацией несравненного знатока, к нему нередко обращались за советом по поводу костюма. Однажды один из его друзей, герцог Бедфордский, спросил мнение Браммелла о своем новом фраке. Как гласит легенда, великий денди помолчал, пощупал ткань, подумал, велел герцогу повернуться для кругового обзора и затем медленно, растягивая слова, сказал: «My dear Bedford, do you call this thing a coat?»: «Мой дорогой Бедфорд, Вы это называете фраком?» Герцог молча повернулся и пошел домой снимать фрак.
Аналогичным образом денди не пощадил и родного брата Уильяма, когда тот приехал в Лондон. Когда Браммелла спросили, пригласит ли он своего брата в клуб Брукс, он ответил: «Да, через денекдругой; пока он еще не получил заказанный костюм, и ему лучше не появляться в центре». Стоит ли говорить, что Уильям не испытывал к своему младшему брату особой приязни и после этого случая они практически не общались.
Клуб, куда так и не суждено было попасть злосчастному Уильяму, на самом деле был одним из самых престижных светских заведений в Лондоне. Вскоре после своего воцарения в столице Браммелл стал его членом. Это было очень почетно, поскольку в Бруксе состояли и Фокс, и Шеридан, и герцог Девонширский, и некогда известный остроумец Джордж Селвин[89].
Другой важной ареной светской жизни для него был оперный театр – в то время все щеголи непременно держали ложи в Хеймаркете, Ковент-Гардене или Друри Лейн. Герцог Бедфордский (тот самый, чей фрак стал в результате дендистской «экспертизы» притчей во языцех) в специальной записке уведомлял Браммелла, что двери его оперной ложи всегда для него открыты[90].
По уик-эндам, а то и целыми неделями Браммелл был желанным гостем в поместьях своих знатных друзей. Наиболее теплые отношения у него сложились с семейством герцога Йоркского, роднымбратом наследника престола. Очаровательная Фредерика, герцогиня Йоркская, не мыслила своих вечеров без Браммелла. Обычно в пятницу за гостями посылали в Лондон специальный экипаж, в котором избранная компания добиралась до поместья Оутлэндс, где для каждого уже была приготовлена своя комната. Среди завсегдатаев Оутлэндса были лорд Ярмут, лорд Фоли, приятель Браммелла «Кенгуру» Кук, «Монах» Льюис (получивший эту кличку как автор знаменитого одноименного готического романа). Фредерика, отличавшаяся, по словам Томаса Райкса, «замечательным чувством здравого смысла и точными суждениями»[91], любила устраивать домашние праздники. На Рождество традиционно наряжали большую елку, герцогиня дарила гостям небольшие подарки; по замыслу, они должны были быть подчеркнуто скромными – вышитый кошелек, кожаный ремешок. Браммелл, правда, один раз явно нарушил это правило, презентовав хозяйке платье из брюссельских кружев, что по тем временам было очень изысканным даром.
Фредерика, герцогиня Йоркская Гравюра по портрету Э. Виже – Лебрен 1806 г.
Развлечения в Оутлэндсе сводились к прогулкам по великолепному парку с гротом. Герцогиня обожала животных, и в поместье содержались собаки, мартышки, страусы и кенгуру. Браммелл, также неравнодушный к братьям нашим меньшим, охотно поддерживал разговоры о животных и писал стихи на смерть любимой герцогской собаки.
В принципе подобный стиль времяпрепровождения – обеды, беседы, прогулки по парку – как нельзя более устраивал его. Дело в том, что в других поместьях, куда его приглашали, для джентльменов считалось обязательным участие в охоте, особенно на лис, что требовало ранних пробуждений и многочасовой скачки по полям и лесам.
Подобные традиционные спортивные забавы, составлявшие главное развлечение британских джентльменов[92], были совсем не по душе нашему денди, который предпочитал нежиться в уютной гостиной и шутить с дамами. Порой, проделав часть пути, он отделялся от компании охотников и сворачивал на ферму, где всегда можно было угоститься деревенским хлебом и сыром, после чего спокойно возвращался домой и присоединялся к дамам.
Главный мотив его отвращения к охоте был прост – боязнь запачкать свои безукоризненные сапожки и светлые панталоны, а также нелюбовь к грубости и грязи. Его гигиенические стандарты были столь высоки, что он отказывался поддерживать знакомство, если подозревал, что данный человек недостаточно аккуратен. Эта страсть к чистоте в сочетании с заботой о костюме породила многочисленные легенды.
Рискуя навлечь на себя упреки в излишней женственности, Браммелл всячески подчеркивал свою изнеженность. Он сам порой рассказывал о себе гиперболические истории чисто художественного плана. Так, однажды подхватив простуду, он объяснил присутствующим, что ему «случайно пришлось в пути ночевать в одной комнате с человеком, который чрезвычайно промок». В другой раз он ушиб ногу, и когда ему заметили, что, мол, скоро пройдет, сразу возразил: «Да, но это моя любимая нога!»[93] Впоследствии подобная утрированная изнеженность у многих денди превратилась в инструмент эффектной саморекламы. Например, Оскар Уайльд действовал абсолютно в браммелловском стиле, когда на заботливый вопрос одной поклонницы, отчего он выглядит столь утомленным, ответил, что безумно устал, поливая цветок.
Надо сказать, что на фоне мужественных охотников и спортсменов такие городские неженки-денди были в меньшинстве, но тем поразительнее то, что им удалось создать устойчивый образец поведения, которому многие стали подражать.
Вероятно, этому немало способствовала отточенность манер и костюма, изящество реплик – все, что на самом деле является личным стилем, производным от вкуса и харизмы. Браммелл во многом был «паркетным» кавалером, преуспевавшим в искусстве легкой риторической галантности. В дошедших до нас записях разговоров он неизменно обращается к собеседнику «мой дорогой сэр» и даже свои колкости неизменно преподносит в оболочке изысканной любезности. «В его обращении не было ни намека на претенциозность или аффектацию, – пишет Джессе, – скорее чувствовался оттенок формальности, о которой говорят “старая школа”. Его осанка отличалась редким благородством, движения были исполнены изящества и достоинства, однако без малейшего налета нарочитости. Его внешность и манера держать себя были настолько поразительными, что, когда он шел по Сент-Джеймс-стрит, прохожие всегда обращали на него внимание, думая, что это принц Уэльский»[94].
Денди умел блистать в самых обыденных мизансценах, каждый жест его отличался театральной эффектностью.
Браммелл был знаменит своей коллекцией табакерок, выставлявшихся на столике в гостиной для посетителей. Выбор табакерки составлял последний завершающий момент его туалета перед выходом в свет. Нюханье табака он также превращал в мини-перформанс. Онстоял в особой позе, держа табакерку в левой руке и демонстрируя четкую линию жилета. Открывая табакерку мгновенным щелчком большого пальца, он доставал щепотку правой рукой настолько отточенным жестом, что зрители успевали заметить и золотое кольцо, и изящно расшитый батистовый носовой платок, выглядывающий из рукава сюртука, и манжеты его сорочки, торчащие ровно настолько, насколько требовал его безукоризненный вкус. Неудивительно, что его жестам пытались подражать не только начинающие щеголи, но и принц Уэльский; впрочем, как раз с ним у Браммелла отношения разладились.
Браммелл был постоянным президентом клуба Ватье и диктовал там моду во всем, будь то одежда, манеры или табакерки. Ватье имел репутацию самого дендистского клуба. Байрон был принят в Ватье и окрестил его «клуб денди». Именно там в июле 1813 года проходил знаменитый «бал денди», который решили устроить четверо отцов-основателей после крупного выигрыша в карты. Поскольку Браммелл и сэр Генри Майлдмей уже к тому времени успели поссориться с принцем, было не вполне ясно, стоит ли приглашать его. После долгой дискуссии Браммелл и Майлдмей по-джентльменски решили пожертвовать личными чувствами во имя всеобщего блага, и принцу отправили приглашение, подписанное четырьмя денди.
Устроители бала по традиции должны были стоять у входа, приветствуя почетных гостей. Зная все обстоятельства, многие любопытные заранее занимали там места, чтобы посмотреть, как будет вести себя принц. Тот, увы, не преминул воспользоваться случаем, чтобы выказать свое пренебрежительное отношение к бывшим приятелям. Приехав, он вежливо раскланялся с Пьерпойнтом и Алванли и, отвернувшись от Браммелла и Майлдмея, прошествовал мимо. Это было грубое нарушение правил этикета, и Браммелл отплатил ему тем же.
Согласно капитану Джессе, он не проводил принца к карете, что сразу заметили все присутствующие, и сам принц на следующий день сказал: «Если бы Браммелл благодушно смирился с тем, как я его “подколол” (в оригинале – “cut”), я бы возобновил с ним дружбу»[95]. Но из-за ответного жеста справедливо считавшего себя оскорбленным Браммелла теперь ни о каком возобновлении отношений не могло быть и речи.
По другим версиям, именно в тот критический момент, когда принц проигнорировал его, денди бросил свою знаменитую реплику: «В наступившей тишине отчетливо прозвенел резкий холодный голос Браммелла: “Алванли, кто этот толстяк, Ваш приятель?” (“Who is your fat friend?”) Принц, услышав вопрос, заметно изменился в лице»[96]. После этой истории репутация принца как безупречного джентльмена была ощутимо подпорчена, а слава Браммелла, напротив, только возросла. Во всяком случае, на память об этой истории потомкам остался иронический эскиз памятника великому денди – Браммелл, не удосужившись повернуть головы, беззаботно показывает на конную статую Георга, вопрошая: «Кто этот толстяк?»
Денди был настолько уверен в своем могуществе, что всем рассказывал, будто он сам первый порвал с принцем и теперь накажет его: «Я сотворил его в нынешнем виде, и я же развенчаю его». Однако в реальности его противостоянию с принцем не было суждено завершиться – дальнейшая судьба Браммелла по-настоящему решалась не на светских раутах, а за карточным столом.
Эскиз памятника Джорджу Браммеллу: «Кто этот толстяк, ваш приятель?» Карикатура из журнала «Панч»
Когда Браммелл начинал играть в карты по-крупному, фортуна на первых порах благоволила ему. У него был личный талисман – монетка в шесть пенсов с дырочкой, которую он нашел на улице и с тех пор постоянно носил на цепочке. Однажды его выигрыш составил двадцать шесть тысяч фунтов. Друзья советовали ему положить деньги в банк, поскольку на ежегодные проценты от такой суммы можно было роскошно жить. Но Браммелл предпочел вариант славной легенды об азартном игроке, спускающем свой выигрыш. Ему была чужда буржуазная психология рантье – он действовал по аристократическому кодексу поведения, предписывающему благородный азарт, волнение крови и высокий уровень расходов, и через несколько дней проиграл всю эту сумму. Браммеллу пришлось взять из банка свои последние деньги, чтобы отыграться, но фортуна окончательно отвернулась от него, и он был разорен. Последним знаком несчастья стала потеря его талисмана – счастливого шестипенсовика с дыркой. «Видно, его подобрал негодяй Ротшильд», – шутил Браммелл.
Вероятно, впоследствии, испытывая финансовые затруднения, денди не раз вспоминал об этом случае.
Его денежные дела заметно ухудшились после того, как заимодателям стало известно, что он лишился покровительства принца Уэльского. Но, даже потеряв привилегии фаворита (в число которых входил практически безграничный кредит у поставщиков), он еще несколько лет успешно держался на плаву, хотя жил явно не по средствам. Наконец 16 мая 1816 года был сыгран финальный акт драмы.
В этот день денди в одиночку пообедал в клубе Ватье холодным цыпленком с кларетом, затем посетил оперу. Не дождавшись конца представления, он покинул ложу: его уже поджидал экипаж, нанятый Томасом Райксом. За ночь доехав до Дувра, на следующий день он уже был на французском берегу, где и прожил тихо и незаметно отпущенные ему годы вплоть до своей смерти в 1840 году. В Англию он больше никогда не вернулся. Поклонники сравнивали его исчезновение с падением Наполеона, а мы бы сказали, что легенда Браммелла завершилась побегом в лучших традициях авантюрного романа. Но даже в этот последний день он действовал согласно незыблемым правилам дендизма: «Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью»; «Оставайтесь в свете, пока Вы не произвели впечатление. Как только впечатление достигнуто, удалитесь».
Семейная история
Джордж Брайан Браммелл никогда не скрывал своего незнатного происхождения. «Мой дедушка, – говаривал он, – всю жизнь был камердинером, причем превосходным». Старший Браммелл, дед нашего героя, и впрямь долгое время служил в семье лорда Чарльза Монсона. Но денди при этом несколько сгущал краски, забывая упомянуть, что дед вскоре накопил приличное состояние, позволившее ему приобрести дом в центре Лондона, на углу Джермин-стрит и Бери-стрит. Именно в этом доме он сдал комнаты молодому политику, члену парламента Чарльзу Дженкинсону – решение, впоследствии повлиявшее на судьбу нескольких поколений семьи Браммеллов.
Дженкинсон был сухим, лишенным чувства юмора педантом, но он подружился с семьей хозяина дома и особенно полюбил старшего сына, Уильяма. Когда мальчик подрос, Дженкинсон в 1763 году устроил его на работу младшим клерком в казначейство, а увидев, что юноша проявил прилежание, рекомендовал его своему коллеге лорду Норту.
Лорд Норт, известный политик[97], быстро оценил деловые способности молодого человека, сделав его своим личным секретарем. В этой должности Уильям Браммелл стал пользоваться большим влиянием: от него во многом зависело распределение выгодных должностей и теплых местечек; он был своего рода серым кардиналом при премьер-министре. Через него осуществлялось давление, нередко в форме прямого подкупа, на членов парламента[98], не брезговал он и взятками, что в то время было вполне обычным делом.
Уильям Браммелл лично участвовал в принятии многих важных государственных решений, как, например, реорганизация Ост-Индской компании – крупнейшей английской торговой фирмы, или назначение генерал-губернатора Калькутты: благодаря его протекции эту должность получил его приятель Джон Макферсон.
Проза жизни
В результате к моменту отставки в 1783 году его доход равнялся 2500 фунтов – такими показателями в то время могли похвастаться только 600 богатейших семейств Англии. Он обеспечил себе на оставшиеся годы несколько выгодных синекур, приобрел поместье в Беркшире и впоследствии стал шерифом этого графства.
Помимо материальных благ, за время работы Уильям Браммелл обзавелся множеством влиятельных друзей, причем среди них были такие знаменитости, как виг Чарльз Джеймс Фокс, занимавший пост секретаря казначейства драматург Ричард Бринсли Шеридан, известный живописец Бенджамин Уэст, президент Королевской академии художеств сэр Джошуа Рейнольдс. Именно сэру Джошуа Браммелл заказал портрет своих сыновей – Джорджа и Уильяма.
Младшему, Джорджу, родившемуся в 1778 году, и суждено было стать прославленным денди. На портрете он изображен с длинными кудрями и ангельским личиком, рядом с детьми играют две собачки – одна из них треплет развязавшийся конец банта платья будущего щеголя.
Джордж рос в атмосфере достаточно светской – слушая разговоры о политике и шутки Шеридана, рассказы о последних джентльменских розыгрышах – как остроумец Шеридан убедил девицу Сару Уайт, что ей хочет сделать предложение Том Харрис, владелец театра Ковент-Гарден (о чем тот и не помышлял). Несчастная Сара, одевшись пасторальной красоткой, целый день просидела у пруда, ожидая любовного признания, и только к вечеру поняла все коварство Шеридана.
В семейной хронике Браммеллов фигурирует такой персонаж, как тетушка Браун, отличавшаяся своим умением превосходно печь пироги со сливами. Маленькому Джорджу так нравились тетушкины пироги, что он каждый раз уходил от нее со слезами. Но интересно другое: у тетушки Браун была внучка Фанни, а в нее позднее влюбился не кто иной, как поэт Джон Китс. Занятное совпадение для историков культуры: кузина денди в роли романтической музы.
Денди: годы учения
В 1786 году, когда Джорджу было 8 лет, отец послал обоих сыновей на учебу в Итон[99]. Это был, конечно, достойный финал его карьеры: внуки лакея смогли получить образование вместе с детьми из старинных аристократических семейств. Обучение в столь престижном заведении, как Итон, определяло круг знакомств и друзей на всю жизнь: для будущих успехов юного Джорджа Браммелла в избранном светском обществе был своевременно заложен надежный фундамент.
Программа занятий в Итоне включала основы латинской и греческой грамматики, изучение Священного Писания, но эпицентром школьной жизни были спортивные забавы – крикет, футбол, плаванье, игра в мраморные шарики и петушиные бои. Смельчакам удавалось пробираться даже на скачки в Аскоте, однако риск попасться на глаза тьютору заставлял быть осторожными: в Итоне практиковались телесные наказания, бывшие в то время обычным средством воспитания молодого поколения. Даже дети короля, принц Уэльский и герцог Йоркский, не могли избежать этой участи. Однако юный Браммелл отличался достаточной хитростью и никогда не подвергался порке, что было редким исключением. Он был всеобщим любимцем, «умным, праздным и прямодушным» мальчиком, как позднее вспоминал его соученик. Тягостный для многих ритуал, традиционный fagging[100], он умел обратить в удовольствие: столь непринужденно делал вкусные тосты с сыром своему «начальнику» из старшего класса, что тот полюбил его и стал делиться едой. Позднее, когда Браммеллу уже самому полагался младший мальчик для услуг, он обращался с ним подчеркнуто добродушно.
Его чувство юмора и умение ловко улаживать конфликты проявились водном известном случае: итонские школьники враждовали с моряками, сплавляющими баржи по Темзе, и один из этих моряков попался им в руки. Они уже собирались, задав ему хорошую взбучку, бросить в реку, когда подошел Браммелл и обратился к разгоряченным участникам драки: «Друзья, – сказал он, – этот несчастный сильно вспотел, и если он сейчас окажется в холодной воде, то наверняка серьезно простудится». Столь неожиданные соображения заставили присутствующих рассмеяться, и счастливчик был отпущен с миром. Эта реплика вошла в анналы как первый анекдот о Джордже Браммелле.
В школьные годы Браммелл числился среди лучших в сочинении латинских стихов и уже тогда обращал на себя внимание исключительным умением завязывать шейный платок, а также особой аккуратностью и тщательностью в туалете и личной гигиене. Если на улице шел дождь, он по дороге всеми силами избегал луж, чтобы не запачкать обувь и костюм.
В 1794 году умер отец, оставив троим детям в наследство 60 000 фунтов. Джордж Браммелл, окончив Итон, должен был далее учиться в Ориэл-колледже в Оксфорде, но, проучившись только один семестр, предпочел иное поприще: военную карьеру. По протекции старого отцовского друга Джона Макферсона (того самого генерал-губернатора Калькутты) он был произведен в корнеты 10-го драгунского полка (light Dragoons).
Военная форма драгун включала обязательный парик с локонами на висках и хвостиком на затылке; парик мазали жиром и посыпали мукой. Ношение парика не слишком нравилось Браммеллу, но в целом драгунская форма была довольно нарядной и выгодно подчеркивала его стройную фигуру.
Браммелл не слишком утруждал себя военной подготовкой: часто пропуская занятия, он узнавал свой полк по одному солдату, отличавшемуся особой приметой: гигантским синим носом. Однажды он привычно занял место в строю за синеносым, но капитан закричал, что он ошибся частью, – выяснилось, что синеносого накануне перевели в другой полк…
Нос самого Браммелла, кстати, тоже пострадал в этот период. Во время парада в Брайтоне Браммелл упал с лошади и сломал нос. Горбинка, оставшаяся после этого происшествия, несколько нарушила классические черты лица, но ничуть не повлияла на самоуверенность молодого щеголя.
Уже на военной службе Браммелл поражал товарищей экстравагантностью: как-то раз он приехал в казарму в карете, запряженной четверней, и в ответ на изумленные расспросы ответил, что это все причуды его кучера – тому, мол, больше по нраву править четверкой лошадей… Подобные причуды, впрочем, вполне вписывались в светскую жизнь: большинство драгун было из аристократических семейств, и по вечерам после учений они ходили в оперу, на балы и званые вечера. А полк, в котором служил Браммелл, был к тому же на особом счету, поскольку полковником там числился принц Уэльский, будущий король Георг IV.
О принце Уэльском придется рассказать немного подробнее, поскольку он сыграл значительную роль в судьбе Браммелла.
«Принц китов» [101]: вставная новелла
Принц был старшим сыном короля Георга III, но отношения с родителями у него были сложные – он не любил их и проводил юность в кутежах с приятелями-аристократами. В пику отцу он покровительствовал вигам и, в частности, дружески общался с Ч.Д.Фоксом. Георг III, в свою очередь, не выносил сына и даже требовал убрать его изображение с семейных портретов.
Король Георг IV в фаэтоне
Наставник принца епископ Ричард Херд в свое время проницательно сказал о его характере: «Из мальчика может выйти самый элегантный джентльмен Европы или самый отъявленный негодяй; возможно, и то и другое одновременно». Прогноз в точности подтвердился, причем именно в последнем варианте «одновременно»: сразу после первого выхода в свет принц завоевал репутацию модника, а его «негодяйство» довелось испытать на себе в первую очередь его любовницам: в 16 лет он «выкупил» себе юную и прелестную актрису Мэри Робинсон, увидев ее на сцене в роли Пердиты[102]. Через год он бросил ее, а затем его «донжуанский список» пополнили Мария Фицхерберт[103], леди Джерси и леди Хертфорд, причем все дамы были старше его по возрасту.
Брайтонский павильон
В 1794 году принц познакомился с Браммеллом и сразу проникся к нему симпатией. Ему в то время было 32, а Браммеллу – 16. Браммелл мгновенно сделался его фаворитом. Об обстоятельствах их встречи сложилось немало легенд – суровые фактографы считают, что Браммелл был представлен принцу все тем же Джоном Макферсоном, который выхлопотал Браммеллу вакансию в драгунском полку[104], капитан Гроноу упоминает некую тетушку, которая познакомила его с принцем на прогулке в Грин-парке.
Принц знал толк в жизненных удовольствиях. Он любил устраивать великолепные пиры в брайтонском павильоне и в своей резиденции Карлтон-Хаусе. Имея репутацию «первого джентльмена Европы», он появлялся на придворных балах в богатых костюмах: розовый шелковый камзол с пуговицами из драгоценных камней, на шляпе пять тысяч металлических блесток, туфли украшены пряжками шириной в пять дюймов – собственным изобретением принца. В другой раз на нем был шелковый камзол бутылочно-зеленого цвета с темно-красными полосками, жилет из серебристой материи с вышивкой, отвороты камзола из той же ткани, что и жилет. Весь костюм, включая панталоны, был украшен блестками и вышивкой, эполеты и шпага были отделаны бриллиантами. Это был барочный стиль поздних макарони, любивших яркие цвета и необычные сочетания, но и личный вкус принца, конечно, был ориентирован на броскую роскошь. Браммелл усмотрел в подобной манере одеваться непростительную вульгарность и стал понемногу «перевоспитывать» принца, приучая его к более лаконичным и простым нарядам. Под его влиянием принц постепенно отказался от своего барочного стиля. Но пристрастие к избыточной декоративности, будучи подавленным в одежде, все же прорвалось в архитектурных начинаниях принца: по его заказу в Брайтоне был выстроен роскошный павильон в китайском стиле, который до сих пор фигурирует во всех книгах как пример ориентализма в английской архитектуре.
Браммелл был желанным гостем как в Карлтон-Хаусе, так и в брайтонском павильоне. Но долгое время поддерживать столь близкие отношения с принцем было непросто, поскольку его характер был достаточно своеобразен. По словам капитана Гроноу, принц обладал особой мелкой королевской гордостью. «Он предпочитал держаться просто и дружелюбно со своим портным, нежели любезно обращаться с самыми именитыми аристократами Англии; он охотно шутил с Браммеллом, но не доверял Норфолку или Сомерсету»[105].
На свои туалеты принц действительно не жалел ни времени, ни денег. Однажды он продержал три часа в передней скульптора Росси, пришедшего делать его бюст, поскольку принимал своих портных и примерял сорок пар обуви.
Страсть к моде и роскошной жизни требовала солидных расходов, и в результате бюджет принца трещал по швам. Когда долги его приняли угрожающие размеры, он решил официально жениться, чтобы поправить свое финансовое положение: в этом случае парламент выделял на его содержание 138 тысяч фунтов. Ему подыскали подходящую невесту – немецкую принцессу Каролину Брауншвейгскую. Та не отличалась ни особой красотой, ни даже опрятностью, но принц отнюдь не рассчитывал на долговременные брачные отношения. Тем не менее, когда принцессу привезли в Англию, ее встретил почетный драгунский эскорт, который возглавлял не кто иной, как Браммелл. Он был назначен придворным кавалером принца во время свадьбы и присутствовал при его туалете наутро после брачной ночи. И хотя Браммелл галантно засвидетельствовал, что «супруги казались полностью довольными друг другом», женитьба принца продолжалась недолго – уже на следующий год он фактически отказался от совместной жизни с Каролиной, отослал ее за границу[106]и стал вести обычную разгульную жизнь, меняя любовниц.
Тем временем у отца принца, короля Георга III, участились приступы наследственной болезни: он страдал периодическим помрачением рассудка. Во время одного из приступов он вышел из кареты и торжественно «обменялся рукопожатием» с веткой дуба, вообразив, что перед ним – австрийский посланник. Ввиду этих обстоятельств парламент был вынужден назначить принца Уэльского регентом, и 1810–1820-е годы вошли в историю как эпоха Регентства. В 1820 году Георг III скончался, принц был коронован и взошел на английский престол как Георг IV.
Увы, новый монарх не был популярен среди своих подданных и удостоился «чести» быть объектом многочисленных весьма язвительных карикатур Крукшенка.
Теккерей неоднократно издевался над ним в очерках о «Четырех Георгах» и в «Книге Снобов».
Даже современные авторы такого сухого издания, как «Словарь Британской истории», отзываются о принце нелицеприятно: «Умный, ленивый, эгоистичный и лживый, Георг был модником и отличался экстравагантным художественным вкусом, сомнительной сексуальной моралью и, в зрелом возрасте, телесной полнотой»[107].
Д. Гиллрэй. Ужасы пищеварения. Карикатура на Георга IV. 1792 г.
Денди: светские триумфы
Но вернемся к нашему герою. Годы учения и военной службы стремительно заканчивались. 10-й драгунский полк, где служил Браммелл, в 1798 году должны были перевести в Манчестер для усмирения голодных бунтов. Эта перспектива, как и само пребывание в провинциальном промышленном городе, совершенно не устраивала привыкшего к светским развлечениям денди, и он, уже дослужившись к тому моменту до капитана, решил уйти в отставку. С этой целью он поутру навестил принца Уэльского и недвусмысленно намекнул принцу о своих намерениях: «Я слышал, Ваше Высочество, что наш полк переводят в Манчестер. Представьте себе, как мне это неприятно. Подумайте, Ваше Высочество, Манчестер! И, помимо всего прочего, Вас там не будет… Я, с Вашего разрешения, подаю в отставку». – «Разумеется, Браммелл, – сказал польщенный принц, – делайте, как Вам угодно»[108].
Получив благословение принца, Браммелл вышел в отставку и вскоре снял прекрасный дом на Честерфилд-стрит в фешенебельном лондонском квартале. Незадолго до Браммелла на этой же улице жил щеголь Джордж Селвин, завсегдатай клуба Брукс.
Часть отцовского наследства пошла на то, чтобы обставить особняк изысканной мебелью в стиле «буль»[109] и обзавестись коллекцией редкостных табакерок, заказать лучшие вина и прочие мелочи приятной жизни. Заметим, что Браммелл не захотел положить основной капитал в банк и жить на проценты, хотя ренты в 2000 фунтов в год ему вполне хватило бы для средних расходов. В тот момент ему, вероятно, казалось, что повсюду для него открыт безграничный кредит – портные и все прочие коммерсанты и впрямь не могли ни в чем отказать фавориту принца.
Принц часто навещал Браммелла в его особняке на Честерфилдстрит. Как свидетельствует Томас Райкс, «принц приходил по утрам, чтобы понаблюдать, как одевается Браммелл, и нередко настолько задерживался, что отсылал лошадей и просил у Браммелла разрешения остаться на обед, что обычно завершалось обильными возлияниями»[110].
Будущий английский монарх мог часами просиживать в доме Браммелла, наблюдая за его туалетом и выслушивая его рассуждения о моде. Дружба с Браммеллом существенно изменила вкусы и взгляды царственного модника. Заметим, что эта ситуация в перевернутом варианте воспроизводит классический ритуал утреннего туалета короля, на котором присутствуют придворные (petit lever). Только здесь некоронованным королем моды являлся Браммелл.
Истинную иерархию в этой области превосходно демонстрирует отношение портных к обоим щеголям. И принц, и Браммелл шили свои костюмы у одних и тех же мастеров: сначала – у Швейцера и Дэвидсона, а затем у Гатри на Корк-стрит; позднее – у Вестона и Мейера на Кондит-стрит. Однажды один клиент спросил Швейцера, какую ткань лучше взять на костюм, и получил такой ответ: «Ну, сэр, принц предпочитает тонкое сукно, а мистер Браммелл – батское, Вы можете выбрать любое. Но я бы посоветовал, сэр, все-таки батское – мне кажется, вкус мистера Браммелла чуть-чуть предпочтительнее».
Тесные дружеские отношения между принцем и Браммеллом и их последующий разрыв не раз становились темой многочисленных легенд. Одна из них, явно не слишком достоверная, гласит, что ссора между принцем и Браммеллом произошла из-за неподобающей фамильярности, которую позволил себе денди. Во время бурной пирушки понадобилось вызвать слугу, и Браммелл, особо не церемонясь, приказал принцу: «Уэльский, звони!» («Wales, ring the bell!») Такая реплика даже в самых непринужденных обстоятельствах была грубейшим нарушением этикета. Но, зная знаменитый такт и чувство меры Браммелла, можно с уверенностью предположить в этой истории изрядную долю преувеличения.
Более реальные причины разрыва с принцем кроются, вероятно, в его насмешках над полнотой Георга. В Карлтон-Хаусе служил привратник Бен, известный своей тучностью. Браммелл, недолюбливая миссис Фицхерберт, морганатическую супругу принца, один раз шутя назвал любящую чету «Бен и Бенина»[111]. Этот каламбур осложнил его отношения не только с принцем, но и, естественно, с миссис Фицхерберт. Последовавший вскоре исторический вопрос «Who is your fat friend?» можно считать логическим завершением этой темы. Эта колкость оказалась роковой для дальнейшей светской карьеры знаменитого денди. Судьба отомстила Браммеллу в столь же остроумном стиле, пошутив над ним на прощание устами его приятеля Скропа Дэвиса.
Когда долги денди достигли астрономической суммы и кредиторы уже стояли у дверей, он попробовал напоследок мелкую финальную хитрость, уже ни на что особенно не надеясь. Браммелл решил еще раз взять в долг и обратился к своему приятелю Скропу Дэвису с просьбой о займе. В последний вечер, когда решалась его судьба, он в отчаянии послал записку Скропу: «Дорогой Скроп, одолжите мне 200 фунтов; банки уже закрыты, а все мои деньги – в трехпроцентных бумагах. Я верну Вам долг завтра». На это Скроп (прекрасно осведомленный о финансовом крахе денди[112]) немедленно ответил в столь же лаконичном стиле: «Дорогой Джордж, по несчастному совпадению, мои деньги тоже все в трехпроцентных бумагах»[113].
Дальнейшее известно: обдуманное бегство, разыгранное по эффектному сценарию «Последний день денди в Англии»: медленные повседневные ритуалы – обед, поход в оперу – на фоне предстоящего отъезда приобретали оттенок стоического героизма.
Побег сделал Браммелла в последний раз светским newsmaker’ом. Через несколько дней после его отъезда в Лондоне был объявлен аукцион имущества «модника, уехавшего на континент»[114]. На аукционе распродавались его вещи, коллекции предметов искусства, фарфора и табакерок, предметы обстановки, запасы хороших вин. Всеобщее внимание привлекла одна чрезвычайно изящная и дорогая табакерка. Когда аукционист открыл ее, внутри оказалась записка: «Эту табакерку я предназначал в подарок моему другу Георгу, если бы он был более галантен со мной». Это была прощальная колкость денди в адрес принца.
Впрочем, самые ценные и любимые вещицы Браммелл, разумеется, прихватил с собой. Многие из лотов были выкуплены друзьями Браммелла и потом переправлены ему во Францию.
К моменту отъезда долги денди достигли внушительной суммы в 50 000 фунтов. Последние годы в Лондоне он фактически жил в кредит, но умудрялся, существенно урезав свои траты, сохранить репутацию безупречного щеголя. Известная светская красавица Хэрриет Уилсон писала сестре, что «все в недоумении, как ему удалось так долго держаться на плаву».
Любопытно заметить, что бегство Браммелла отнюдь не было расценено современниками как бесчестный поступок, обман заимодавцев. Лорд Алванли, к примеру, назвал его отъезд соломоновым решением. Все понимали, что его кредиторам денег уже никто никогда не вернет, но это мало кого смущало: аристократы сплошь и рядом не рассчитывались со своими поставщиками, не платить портному годами было в порядке вещей. Для сохранения публичного «лица» в свете было существенно аккуратно рассчитываться с равными по положению – платить карточные долги, например. Таков был аристократический кодекс поведения[115], но эпоха, когда жил Браммелл, уже была иной: буржуазный средний класс становился реальной общественной силой, и слишком долго играть по старым правилам было весьма рискованно.
После отъезда Браммелла во Францию дружеская дендистская компания довольно быстро распалась. Сэр Джон Лейд и сэр Ламли Скеффингтон попали в долговую тюрьму. Джордж Хэнгер стал вести уединенный образ жизни, лорд Барримор уехал из Англии. Но старые друзья старались по мере сил облегчить участь знаменитого денди в изгнании. Лорд Алванли, герцог и герцогиня Йоркские, лорды Чарльз и Роберт Маннерсы периодически навещали его, рассказывали последние лондонские новости. Во время поездок на континент каждый из них считал своим долгом не просто нанести визит старому приятелю, но обязательно пригласить его на обед, безвозмездно подкинуть ему средства, позволяющие вести привычный образ жизни. Ему были возвращены многие личные вещи, выкупленные на аукционе. Друзья препятствовали распространению злорадных сплетен о Браммелле в английском светском обществе и старались как можно чаще подбадривать его теплыми письмами.
Браммелл во Франции: les illusions perdues
Первые годы в изгнании были вполне терпимыми. Браммелл быстро сделался местной знаменитостью, французские аристократы охотно приглашали его на балы и обеды и с восхищением выслушивали истории о его светских триумфах. По-прежнему он утром уделял четыре часа своему туалету и днем прогуливался в центре города. Но, увы, провинциальность Кале и впоследствии Кана давала о себе знать. Местное общество не могло сравниться по блеску с лондонским высшим светом, и далеко не все могли оценить остроумие Браммелла и продуманность его туалета. Он скоро завоевал почетное прозвище «Король Кале» и старался поддерживать свое реноме, обставив свое новое жилище со вкусом.
Он приобрел мебель «буль», бронзовые статуэтки, севрский фарфор. Сервиз был украшен портретами знаменитых красавиц – фавориток Людовика XIV и Людовика XV. На отдельном столике были выставлены ценные безделушки – табакерки, специально заказанные в Париже, мраморное пресс-папье, ранее принадлежавшее Наполеону, миниатюры, альбомы и ножи. Столик был покрыт скатертью, присланной в подарок герцогиней Йоркской, которую она собственноручно вышивала для старого друга. От герцогини было также доставлено удобное мягкое кресло, в котором Браммелл охотно отдыхал после обеда.
В качестве ответного дара Фредерике Йоркской Браммелл готовил особый «экран» – большое панно из плотной бумаги размером 1 м 62 см на 3 м 66 см. Эта работа затянулась на несколько лет и заполняла его часы досуга, одновременно являясь неиссякаемой темой для светских бесед с друзьями. Браммелл вырезал портреты известных личностей и мифологических персонажей и приклеивал на панно, выстраивая сложную многофигурную композицию. Коллаж украшали изображения граций, муз, нимфы Калипсо, Купидона, Телемаха, различных зверей, аккуратно подобранные с аллегорическим смыслом; были там и портреты знаменитостей – Байрона, Наполеона, Чарльза Джеймса Фокса среди прочих – и, конечно же, друзей Браммелла. Возможно, там были и рисунки самого денди, – известно, что он хорошо писал акварелью, – но точно установить это уже невозможно, поскольку, когда герцогиня Йоркская скончалась, он прекратил работу. Панно осталось незавершенным, и когда Браммелл уезжал из Кале, он продал его в счет долгов, а впоследствии оно затерялось.
Во Франции Браммелл поначалу не изменял своим привычкам в одежде, разве что стал предпочитать иную цветовую гамму. Его костюм состоял из сюртука табачного цвета с бархатным воротничком на один тон темнее и кашемирового жилета. Жилет был отменнейшего качества и, вероятно, стоил не меньше сотни гиней. Хотя Браммелл много лет регулярно отдавал его в стирку, он не утратил своего качества, а его белый цвет сохранялся отчасти потому, что сюртук застегивался доверху на пуговицы. Завершали наряд темно-синие панталоны, ботинки с острыми носами, шейная косынка несравненной белизны, черная шляпа и лимонно-желтые лайковые перчатки[116].
Финансы Браммелла в первые годы во Франции вполне позволяли ему приобретать роскошные вещи: помимо того, что он увез небольшой остаток сбережений, на его имя регулярно поступали довольно крупные пожертвования от друзей. Так, один раз, по свидетельству Джессе, некий доброжелатель прислал ему 1000 фунтов. Однако постепенно, не имея постоянных источников дохода, денди был вынужден снижать уровень своих привычных запросов. Он отказался от личного повара, заказывая обед в гостинице или принимая приглашения на ужины.
Со временем пришлось пойти на уступки и в плане внешнего облика. Первым зловещим симптомом стал парик: с годами шевелюра Браммелла поредела, и он заказал парик, который периодически расчесывал и смазывал маслом. Великий реформатор, который когда-то первый ввел в моду аккуратно подстриженные волосы и вынудил высший свет отказаться от париков, теперь появлялся на людях в парике.
Вторым грозным признаком был отказ от белых накрахмаленных шейных платков. Это произошло уже в период настоящей бедности, когда пришлось экономить на ежедневной стирке. Тогда Браммелл заменил белый батистовый платок на черный шелковый, и все из старых друзей, кто видел его в черном платке, говорили, что это означает конец денди.
В 1821 году Георг IV был проездом в Кале. Для небольшого городка это было целое событие, и все гадали, как пройдет встреча двух бывших друзей. Однако ожидаемого многими эффектного примирения не произошло.
Ни король, ни денди не сделали явных шагов к сближению – видимо, ситуация была слишком щепетильной. Георг IV остановился в лучшем отеле Кале. Когда он подъезжал к отелю, Браммелл стоял в толпе, и король заметил его. «Боже мой, Браммелл!» – воскликнул он. Но вечером, когда в отеле был устроен парадный ужин, он не пригласил к себе старого фаворита, хотя знал, что тот тоже присутствует в зале – Браммелл внес свое имя в список гостей. Был момент, когда, казалось, представился благоприятный повод для возобновления отношений: вечером в театре у короля кончился табак, и обратились к Браммеллу, чтобы одолжить его табачную смесь, поскольку только он умел смешивать табак на английский манер. Король понюхал смесь и сразу воскликнул: «Откуда эта смесь? Только один человек умеет ее делать!» Но даже и в этих обстоятельствах он не послал за бывшим другом. Покидая город на следующий день, он, как гласит легенда, промолвил: «Я уезжаю из Кале, не повидав Браммелла»[117].
С. Кларк. Д. Браммелл
Георга IV еще ни один биограф не заподозрил в избытке великодушия – вспомним еще раз справедливые слова капитана Гроноу об «особой мелкой королевской гордости». Но в данном случае речь уже не шла о соревновании двух самолюбивых светских щеголей, как раньше. Георг IV отлично знал, что Браммелл нуждается, и королю ничего не стоило помочь ему, назначив на какой-либо пост во Франции.
Несмотря на этот упущенный шанс, друзья денди не оставляли попыток выхлопотать ему приличное место с постоянным жалованьем. Однако в царствование Георга IV это было практически нереально, несмотря на все усилия родного брата короля – герцога Йоркского. Но Браммелл не упал духом и нашел новое применение своим силам: он серьезно занялся историей моды и в 1822 году завершил труд под названием «Мужской и женский костюм».
Эта рукопись не была напечатана при жизни денди и впервые увидела свет только в 1932 году[118]. Американская исследовательница Элеанор Паркер приобрела рукопись в книжном магазине Брентано в Нью-Йорке, провела тщательную экспертизу по почерку, по типу бумаги и водяным знакам и наконец собрала ряд свидетельств, что в эти годы Браммелл действительно занимался написанием этого труда.
У знаменитого денди дома была хорошая библиотека, и он пользовался консультациями своего друга Томаса Хоупа, эксперта по античному костюму. Просматривая книги по истории костюма, Браммелл вырезал подходящие иллюстрации и вклеивал в свою рукопись. Он применял метод коллажа, к которому привык во время работы над панно для герцогини Йоркской. Черно-белые гравюры сам раскрашивал акварелью. Метод коллажа частично распространялся и на содержание рукописи: Браммелл включал в текст обширные выдержки из других авторов (правда, каждый раз честно ссылаясь на источник и тщательно закавычивая цитаты).
Браммелл в 1838 г.
Однако «Мужской и женский костюм» нельзя считать компиляцией. Если читать книгу внимательно, то позиция автора достаточно ясна – и в подборе материала, и в комментариях, и в обобщающих рассуждениях. Прежде всего бросается в глаза, что автору импонирует минимализм – он осуждает чересчур пышные одежды, косметику и парики как излишества. Его эстетический идеал в истории костюма – свободно драпированные одеяния, спадающие с плеч красивыми складками на античный манер. Такие наряды, во-первых, удобны и не стесняют движений и, во-вторых, смотрятся приятно для глаза: «Свободное платье всегда можно задрапировать величественно или прекрасно, в то время как узкое платье во всех случаях безобразно и смешно»[119]. Любопытно отметить, что очень похожие идеи высказывал позднее Оскар Уайльд, тоже восхваляя красоту складок и удобство свободных одеяний. Очевидно, между взглядами двух денди существовало глубинное, неслучайное сходство.
В своих воззрениях Браммелл исходит из того, что мода – это искусство и, следовательно, ее развитие подчиняется общим законам эстетики. Он выводит основной эстетический закон костюма: «Все объекты, объемные в верхней части и узкие в нижней, подобно перевернутой пирамиде, производят впечатление легкости. Расширенный вверху силуэт кажется легким. Обратное строение, напротив, создает впечатление тяжести – небольшой головной убор и массивная юбка с шлейфом указывают на важную даму, в то время как обладательница крупной шляпы и укороченного платья кажется юной веселой девушкой»[120].
В конце второго тома о женском костюме Браммелл подробно объясняет принципы сочетания цветов и дает практические советы дамам: в костюме должен быть один основной цвет, который гармонически сочетается с дополнительными; нельзя допускать резкого цветового контраста между разными частями силуэта; цвета должны быть искусно подобраны по тону[121]. Далее даже приводятся конкретные рекомендации, как, к примеру, верно выбрать материю в зависимости от цвета лица: свежая кожа допускает яркие краски; желтоватая требует более спокойных нейтральных оттенков. К книге должна была прилагаться таблица сочетания цветов, но она, к сожалению, не уцелела.
В завершающей главе о мужском костюме автор скромно предлагает организовать «Костюмный клуб», в который должны приниматься исключительно знатоки римского и греческого костюма. Надо думать, первыми членами такого клуба были бы сам Браммелл и его друг Томас Хоуп.
Вполне очевидно, что в этом труде Браммелл отнюдь не ставил себе целью создать дендистскую автобиографию или высказать свое кредо «во весь голос». Пожалуй, только один раз он прямо высказывается от первого лица: в мужском костюме XIX века Браммелл всячески восхваляет изобретение штанов со штрипками – между тем он сам придумал эту новацию, которая потом стала предметом многочисленных подражаний. Тем не менее в большинстве случаев в тексте можно найти косвенное отражение его позиции: рассматривая разные эпохи, он ненавязчиво акцентирует преимущества минимализма и пытается научно обосновать эволюцию костюма как отражение базовых законов эстетики. Неизвестно, почему денди не опубликовал свой труд при жизни: возможно, не нашел издателя или просто остыл к своему детищу, завершив рукопись, – такое тоже бывает.
В 1830 году Георг IV скончался и на престол взошел Вильгельм IV. Только тогда благодаря ходатайству герцога Веллингтонского Браммелла все-таки назначили английским консулом в Кане.
К этому времени денди был уже опять по горло в долгах, и ему удалось выехать из Кале, только дав расписки своим кредиторам в счет будущего консульского жалованья. Прибыв в Кан, он сразу остановился в лучшем отеле и немедленно потребовал там «лучшую комнату, лучший обед, лучшее вино». Вновь наступил недолгий период благоденствия, когда вся местная аристократия наперебой приглашала новоиспеченного консула на приемы и ему повсюду был открыт кредит.
Он подружился с несколькими семьями английских эмигрантов в Кане. Самым верным его другом оказался Чарльз Армстронг, который опекал стареющего денди, улаживал все его дела и трогательно заботился о нем до последнего дня. Другой интересный персонажсреди его доверенных лиц – четырнадцатилетняя девочка, дочь хозяйки. Браммелл давал мадемуазель Эмабль уроки английского и писал ей виртуозно-куртуазные эпистолы, в которых рассказывал обо всех повседневных радостях и огорчениях, осведомлялся о здоровье домашней любимицы кошки Урики, сочинял стихи и даже делал рисунки. Удивительная сентиментальность, сквозящая в этих письмах, может напомнить сюжет набоковской «Лолиты», хотя в чисто платоническом варианте. Холодный и язвительный денди, разбивавший сердца британских дам в эпоху своих светских триумфов, на старости лет стал галантным кавалером французской девочки и страшно переживал, если их уроки отменялись из-за ее простуды.
Дальнейшие события заставляют задуматься о том, насколько в жизни все так или иначе предопределено характером и насколько каждый из нас действительно сам пишет программу собственной судьбы. В мае 1832 года в ответ на официальный запрос английского правительства о состоянии консульских дел в Кане Браммелл написал достаточно странное письмо, в котором прямо заявлял, что консульство в Кане практически бесполезно. Это было правдой: Браммелл мало что делал в качестве консула, но обычно такую «правду» никто не пишет в официальных отчетах, особенно учитывая, что данная синекура была фактически специально создана для него ценой многолетних хлопот. Лорд Пальмерстон, тогдашний министр иностранных дел, среагировал быстро: он охотно упразднил пост британского консула в Кане, и Браммелл в очередной раз оказался без средств к существованию.
Когда денди писал это письмо, он, конечно, надеялся, что в награду за откровенность ему предложат другой, более авантажный пост – в глубине души он рассчитывал на перевод в Италию. Как минимум при ликвидации канского консульства он мог бы рассчитывать на пенсию, но для всего этого надо было быть в Англии, держать нос по ветру и хлопотать, чтобы о его нуждах не забыли. Вместо этого Браммелл сделал бессмысленный жест, попробовав заговорить с лордом Пальмерстоном как с человеком своего круга: я-де буду с Вами откровенен, чтобы сократить расходы английской короны, а в ответ рассчитываю, что и Вы не забудете о моих заслугах. Это был стиль общения, усвоенный им во времена дружбы с Георгом, язык старинного аристократического кодекса чести. Презумпция этого стиля общения такова: существует некое меньшинство, узкий круг избранных, и для нас интересы Англии – не пустой звук, а личное дело. Между собой мы говорим просто и по существу. Но Браммелл не учел, во-первых, что благородное братство аристократов, управляющих державами, – политическая утопия из далекого прошлого; и, во-вторых, что он имеет дело не лично с лордом Пальмерстоном, а с огромной бюрократической машиной, предназначенной подавлять любые личные интересы во имя общей целесообразности.
Однако было бы ошибкой видеть за этим жестом Браммелла только плод неудачного расчета человека, оторванного от практики политических игр. Представляется, что его пером в тот момент руководила более глубокая, хотя, возможно, и не осознаваемая им самим необходимость. Это был зов Танатоса, шаг навстречу трагическому концу, потребность испытать судьбу. Аналогичный внешне абсурдный жест совершает Оскар Уайльд, когда как будто сам «напрашивается» на неприятности: сначала первый пишет роковое письмо маркизу Куинсберри, отцу лорда Альфреда Дугласа, что становится причиной судебного процесса. Но и затем, когда у него есть последний шанс оправдаться, он произносит свою знаменитую речь в суде, где цитирует Платона и фактически признает гомосексуальные отношения с Альфредом Дугласом.
Это романтический сценарий судьбы, требующий противостояния героя и толпы, жертвоприношения и трагического конца. Очевидно, дендизм немыслим без романтического индивидуализма, часто дающего о себе знать в самый неподходящий момент. Недаром Альбер Камю считал денди «человеком бунтующим»: «Денди – оппозиционер по своему предназначению. Он держится только благодаря тому, что бросает вызов… Денди добивается целостности и выковывает свою целостность благодаря все той же силе отказа»[122]. И тут же Камю проницательно пишет о культе позы в романтическом индивидуализме как единственном приеме, спасающем достоинство денди: «Поза собирает в некую эстетическую целостность человека, отданного во власть случая и разрушаемого божественным насилием. Обреченное на смерть существо блистает хотя бы перед исчезновением, и этот блеск – его оправдание. Поза – его точка опоры, поза – единственное, что можно противопоставить богу…»[123]
Однако нередко, как всем известно, от трагического до смешного – один шаг. Подчеркнутая дендистская поза у Браммелла, когда он уже физически не мог поддерживать тонус, необходимый для щегольства, порой приводила к двусмысленным, почти фарсовым ситуациям.
Молодой Браммелл, виртуозно владевший своим телом в эпоху лондонских триумфов, слыл образцом дендистской ловкости и учтивости. Но в последний период жизни все его достоинства как будто обращаются в свою противоположность, он попадает в мир зазеркалья. Вот уже постаревший Браммелл сидит за столиком в обществе одной знакомой дамы и пьет кофе. Неловким движением он опрокидывает чашку на скатерть. Приходит официант, и денди, не моргнув глазом, объясняет ему, что кофе разлила дама, и просит сменить скатерть[124].
Почему же Браммелл так грубо нарушает элементарные правила учтивости? Он действует, можно сказать, согласно силлогизму:
Я – денди.
Денди не проливают кофе на скатерть.
Значит, это сделал не я, а другой человек.
Д. Масгрейв. Комната, где умер Браммелл. 1855 г.
Подобные импульсы отчуждения указывают на крайне проблемную самоидентификацию Браммелла во французский период жизни. Его дендистская идеология не позволяет ему принять свое неловкое старое бедное тело. Он должен временно «выскочить» из него, обеспечить себе алиби, чтобы честно заявить «Это был не я». Думается, в тот момент он сам верил тому, что говорил. Но чтобы сохранить свое реноме, он вынужден обидеть даму, тем самым нарушая правила галантности: конфликт не разрешен, а переведен в другую плоскость. Правда, после этого эпизода Браммелл немедленно приносит даме извинения, но его решающий аргумент звучит, по крайней мере, странно. «Было бы в высшей степени неприлично, если бы все узнали, что это я повинен в подобной оплошности», – говорит «невольник» дендистской позы[125].
Дальнейший сюжет жизни Браммелла развивался точно по канонам романтического сценария судьбы: денди из последних сил пытался разыгрывать позу аристократа. Его, как и Оскара Уайльда, ждала трагическая развязка – тюрьма, а затем болезнь и безумие.
Денежные затруднения продолжались, но Браммелл принципиально не желал прибегнуть к последнему средству поправить свои дела: продать издателю имеющиеся у него письма друзей. Публикация была бы сенсационной, но Браммелл не хотел скомпрометировать несколько знатных семей и воздерживался от этого шага. Кодекс чести был для него важнее материальных обстоятельств.
После упразднения поста консула он какое-то время вел прежний образ жизни, давал уроки английского девицам и писал им сентиментальные письма; но постепенно кредиторы добились его ареста за неуплату долгов, и в мае 1835 года Браммелл был препровожден в тюрьму. Там он провел три томительных месяца, жестоко страдая от отсутствия привычных удобств. «Хлеб из отрубей и солома», – суммировал он новую ситуацию. Однако его друзья и тут старались облегчить его участь. Благодаря их хлопотам он делил камеру не с уголовниками, а с политическим узником, редактором газеты Годфруа, и ему регулярно делали мелкие поблажки. Тем не менее повидать жизнь в неприкрашенном виде ему все же пришлось – в тюрьме случился пожар, и он чуть не погиб, не сумев выбраться из здания. Браммелл общался с другими заключенными, записывал их жизненные истории; между прочим, вместе с ним в тюрьме как раз в эти месяцы сидел знаменитый преступник Пьер Ривьер, который убил свою мать, брата и сестру[126].
Пьер Ривьер был приговорен к смертной казни (на что он и рассчитывал, давая показания), но после психиатрической экспертизы приговор был смягчен и заменен на пожизненное заключение. Ривьера отправили в дом для умалишенных Bon Saveur, где он в 1840 году покончил с собой. В том же году туда поступил и его бывший товарищ по заключению Браммелл, страдавший к тому времени явным помутнением рассудка. Он устраивал воображаемые приемы, по очереди разыгрывая в лицах всех персонажей: выкликал имена знатных гостей, объявлял о прибытии герцогини Девонширской и герцогини Йоркской, затем вскакивал и отвешивал изящный поклон, увеселял своих гостей-призраков отборнейшими остротами; весь вечер он беседовал с призраками, а под конец «падал в кресло и заливался слезами». Браммелл скончался 30 марта 1840 года и был похоронен на городском кладбище в Кане.
Лейтмотивы дендистского сценария
По отношению к судьбе мудрец всегда должен находиться enétat d’épigramme[127].
Фридрих ШлегельЛегенда о Браммелле и его реальная биография отнюдь не всегда совпадают. Создание жизненного сценария – сфера совместного творчества и главного героя, и окружающих. Браммелл сначала сам активно творил свою дендистскую легенду, а затем постарались его биографы. Разделить это трудно, но возможно – в нашей книге мы сначала решили изложить «легенду», а затем дать более широкий реальный контекст «прозы жизни». Но при этом остается открытым самый интересный вопрос: каковы механизмы запуска сценария, как «сырая» реальность превращается в мифологическую историю? Попробуем подумать над этими бесконечно интригующими вопросами, выделив в жизненном сценарии Браммелла несколько ключевых мотивов, которые пунктиром проходят через всю его биографию.
1. Как делается легенда
Жизнь Браммелла всегда привлекала внимание и светских сплетников, и мемуаристов, и серьезных биографов. Всем было легко и приятно писать об английском периоде – эпохе светских триумфов. Но далее сразу начинались проблемы. Пребывание денди во Франции, длившееся 24 года, поставило его биографов в затруднительную ситуацию. Капитан Джессе, который был знаком с Браммеллом только во Франции, основную часть своего двухтомного труда посвящает именно этому периоду, что вполне естественно. Он познакомился с Браммеллом в феврале 1832 года в Кане, когда тот еще был консулом. И хотя он честно делает попытки собрать все доступные ему свидетельства о жизни Браммелла в Англии, объем этого материала все же заметно меньше. Интонация Джессе-биографа весьма противоречива: он с восхищением пересказывает истории о светских триумфах своего героя в Лондоне, аккуратно фиксирует все слова и действия самого Браммелла, занимая при нем пост официального летописца, как Эккерман при Гете. Однако нельзя не заметить, что в его тщательных описаниях промахов стареющего денди звучит злорадство, а в заключительной главе своей биографии Джессе пытается сделать моралистические выводы в духе викторианского осуждения тщеславия. Более того, он даже предсказывает своему герою забвение: «Весьма вероятны опасения, что в анналах истории в будущем Джорджу Брайану Браммеллу не будет уделено ни строчки»[128].
Д. Кук. Д.Б. Браммелл. 1819 г.
Благодаря новой когорте французских поклонников Браммелла во главе с Барбе д’Оревильи в середине века английского щеголя не только не забывают, но и возводят на пьедестал: история его жизни окончательно становится эстетическим манифестом дендизма. Еще в 1830 году Бальзак в «Трактате об элегантной жизни» создает канонический образ Браммелла как учителя всех франтов. Барбе в своей книге (1845) выводит из биографии Браммелла философию стиля, и этот трактат остается по сей день самым авторитетным и красиво написанным текстом о дендизме. Показательно, что он уделяет очень мало внимания французскому периоду в жизни Браммелла, справедливо полагая, что лучше изучать феномен дендизма по фазе расцвета. Именно благодаря трактату Барбе легенда о Браммелле становится фактом европейской культуры. Эту линию затем подхватит Бодлер, рассуждая о дендизме в своих очерках «Художник современной жизни» в 1863 году (правда, он имеет в виду не конкретно Браммелла, а дендизм в целом). Под его пером денди превращается в героя современной городской цивилизации, стоика и циника.
Далее уже в 1896 году Макс Бирбом в своем очерке «Денди и дендизм» в присущей ему остроумной манере пишет о Браммелле, сравнивая его с графом д’Орсе. Вирджиния Вулф в 1935 году посвящает Браммеллу эссе[129] и, пересказывая биографию денди, пытается быть объективной, удерживая баланс между английскими триумфами и французским «процессом дезинтеграции». В XX веке появляются первые научные биографии Браммелла[130], и – что немаловажно – о нем с интервалом в 30 лет снимают два фильма. Первый фильм «Beau Brummell»1924 года, в роли Браммелла – Джон Барримор; режиссер Харри Бьюмонт. Второй – голливудский фильм с тем же названием «Beau Brummell» – снят в 1954 году режиссером Кертисом Бернхардтом. Браммелла играет Стюарт Грейнджер, принца Уэльского – Питер Устинов, в роли леди Патриции – Элизабет Тэйлор. В фильмах Браммелл был представлен как романтический герой с роковыми страстями, жертва коварных интриг. Это уже было преломление образа денди в массовой культуре.
В дореволюционной России Браммелла знали по переводу трактата Барбе[131]; очевидно, рассказы о денди и впоследствии циркулировали среди интеллигенции. Имя его оставалось нарицательным[132]. В советское время легенда о Браммелле бытовала среди питерских стиляг (возможно, под влиянием трофейных американских фильмов). В начале 1960-х годов они сочинили жестокий романс, в котором фигурировал «знаменитый обормот» Жора Бремель, носивший леопардовый жилет и распивавший зубровку с королем Георгом[133]. Это уже был настоящий городской фольклор.
Как же зарождалась легенда о денди? Ведь традиция романтического восприятия Браммелла до сих пор процветает, несмотря на обилие научных трудов о дендизме. Сам Браммелл был первым автором собственной биографической легенды. Часто играя на публику, он, разумеется, понимал, что многие его остроты циркулируют в обществе, но в некоторых случаях он был не в состоянии опровергнуть очередную историю, если она не соответствовала действительности. Так произошло с эпизодом, когда он якобы приказал принцу позвать слугу («Wales, ring the bell!»). Сам Браммелл всегда отрицал этот анекдот. Тем не менее эта шутка вошла в разряд хрестоматийных и даже стала прозвищем Браммелла, которое следовало за ним по пятам даже за пределами Англии.
Если сравнить эту легенду с его другими остротами, то разница и впрямь очевидна: классический браммелловский юмор обычно строится на неожиданном переносе, гротеске, преувеличении. Например, однажды некто спросил его, случалось ли на его памяти столь холодное лето, как нынешнее. Браммелл ответил: «Да, прошлой зимой». Вот это типичный образчик его остроумия, по сравнению с которым история «Wales, ring the bell!» явно грубовата.
Во многих его хрестоматийных шутках эффект возникает в результате форсированного переименования. Вспомним ранний этюд «По-вашему, это называется фрак?» или аналогичный разящий вопрос: «Разве это туфли? Скорее это домашние тапки». Браммелл фактически без конца варьировал одну и ту же тему – узнавания/признавания, это был его жизненный метасюжет. Вероятно, он как лидер моды был абсолютно уверен в своей привилегии давать правильные имена, видеть или не видеть по своему усмотрению, устанавливать культурные правила и категории[134]. Он непрерывно ведет борьбу за собственную дендистскую идентичность, и все, что не вписывается в четко выверенный модный универсум, просто не признается. Этим предметам отказывается в праве на существование, и точно так же Браммелл отодвигает от себя любое происшествие, не укладывающееся в прокрустово ложе дендистской легенды: случайное кофейное пятно на скатерти, поклон знакомого вульгарного горожанина, пребывание в неподходящем месте – бедном районе или больнице.
Несмотря на «цензорские» усилия самого Браммелла, народная молва о нем разрасталась. Еще при жизни денди один предприимчивый издатель выпустил в свет явно апокрифический сборник его изречений под названием «Книга моды: краткий перечень принципов знаменитого Джозефа Браммелла»[135]. Уже одна ошибка в имени денди красноречиво свидетельствует об уровне этой книги.
Легенды, однако, формируются по своей собственной логике. В построении жизнетворческих сценариев есть своя жесткая формальная поэтика, и трагедия Браммелла, собственно, как раз и состояла в том, что он стал невольным заложником этой поэтики, осуществляя своей жизнью не им придуманную фабулу, которая подчинена достаточно четким законам.
Эти законы давно исследованы – фольклор разных народов можно описать через типологические формулы, и легенды о браммелловских шутках тоже представляют собой особый, хотя и вполне традиционный, жанр городского фольклора. Структура анекдота подразумевает столкновение двух миров, юмор возникает на стыке несовместимых сознаний. Герой анекдота, если брать отечественную традицию, – чукча, Чапаев, Чебурашка, новый русский – абсолютно естественен в своей «природной» простоте, он «дикий», отсталый и потому смешон с точки зрения «продвинутого» носителя более сложной логики.
В анекдотах о Браммелле все окружающие его почитатели выступают в роли простодушных чебурашек, не понимающих причуд мэтра, но в то же время чувствующих его неоспоримое превосходство. Браммелл же, напротив, предстает как практик нового вкуса, у которого решительно всё – глаз, тело, мозг – устроены по-другому, более тонко. Он отвечает на вопросы с позиций своей все усложняющей требовательности к внешности, костюму, гигиене.
При явном типологическом сходстве легенд о Браммелле и обычных анекдотов существует одно, довольно важное, различие. Оно кроется в точке зрения повествователя. Главный эффект легенды – возвышение Браммелла, а вовсе не принижение незадачливых простаков, как то происходит в традиционном анекдоте. Интонация повествователя – изумление и почтительное восхищение, он – ученик, поклонник, папарацци, пытающийся зафиксировать и понять иную, неожиданную систему принципов.
Эта новая система на самом деле была предвестием современного подхода к саморепрезентации знаменитостей: умелая смесь эпатажа и предсказуемости, главный принцип – не дать забыть о себе. Браммелл, действующий в эпоху, когда о грядущем могуществе массмедиа еще невозможно было догадаться, понял основной закон publicity: не имеет значения, позитивно или негативно окрашена информация, важно только периодически становиться героем дня.
Поведение Браммелла, можно сказать, строится сугубо по законам современного news-maker’ства. Он – источник легенд, он заинтересован в распространении информации о своей оригинальности, скандальности и таинственности. Но кто выступает в роли зрителя? Сначала, конечно, это широкий круг – друзья, поклонники, лондонский высший свет. Потом круг сужается и остается один главный зритель: будущий биограф.
2. Взгляд биографа: Браммелл перед зеркалом
Книга капитана Джессе остается базовым источником для всех авторов, пишущих о Браммелле. И уже в ней заложен рабочий алгоритм дендистской легенды. Попробуем проанализировать на примере одного эпизода, как этот первый биограф смотрит на своего героя. Джессе наблюдает Браммелла за туалетом: «Когда я навещал его утром, дверь его спальни обычно оставалась приоткрытой, чтобы можно было вести разговор. Таким образом я мог для собственного развлечения наблюдать тайны его туалетного столика благодаря зеркалу над каминной доской в гостиной. Так и представляю сейчас, как он стоит без парика в нижних панталонах перед зеркалом, растирая кожу щеткой…»[136] В данной ситуации Браммелл выступает в роли травестийного монарха, а Джессе – придворного, который присутствует во время туалета царственной особы. Однако наблюдателю не дозволено впрямую «ассистировать» при туалете, и он вынужден довольствоваться позицией собеседника, его держат в соседней комнате, и разговор ведется через приоткрытую дверь. Когда-то, как мы помним, Браммелл давал «мастер-класс» принцу Уэльскому, допуская его при этом в свою спальню, чтобы принц мог из первых рук получить наставления, как следует ухаживать за собственным телом. Джессе не допущен до прямого созерцания, и он пользуется приемами косвенного наблюдения, рассматривая отражение Браммелла в зеркале. При этом вполне вероятно, что временами капитан видел двойное отражение – образ Браммелла в зеркале его туалетного столика, отраженный в зеркале в гостиной.
Такой прием многократных отражений, кстати, был популярен в романтической эстетике: в литературе он создавал возможность бесконечных вставных повестей и новелл внутри романа, игры точек зрения, а в живописи – эффектных оптических иллюзий, расширения пространства, чем очень любили пользоваться, например, немецкие романтики, а еще раньше художники фламандской школы или Веласкес («Менины»). Джессе, используя прием многократных отражений, применяет его и как повествователь: в своей биографии Браммелла он без конца приводит свидетельства очевидцев, друзей и знакомых денди, порой опровергающие, порой дополняющие друг друга.
И все же собственная позиция наблюдателя временами казалась капитану весьма уязвимой. Ведь порой ему открывались сцены, явно не предназначенные для стороннего взора: «Если бы Браммелл знал, что я видел его без парика, ему бы сделалось дурно и он жестоко высмеял бы меня при следующей встрече; ему не нравилось, когда его заставали не в наилучшей форме, без должного блеска. И все же мое любопытство, а также страх потерять столь забавного приятеля замкнули мне уста, и я никому не рассказывал о виденном»[137]. Игра здесь явно идет по двойным правилам с обеих сторон. Джессе, хранящий при себе свои наблюдения при жизни Браммелла, затем спокойно публикует их посмертно в своей книге. Тем самым он приобщается к традиции «раскрывания дендистских секретов» опять-таки в травестийном варианте, ибо читателю достается не ценный технологический секрет элегантности, а жалкие сплетни об уловках стареющего и обнищавшего денди. Но и Браммелл в данной ситуации вряд ли был настолько простодушен, чтобы оказаться легкомысленной жертвой шпионажа. Скорее всего, он догадывался о наблюдении и провоцировал Джессе на подглядывание, выступая как эксгибиционист перед вуайеристом. Такая роль была ему знакома – так в свое время он сознательно подставлялся взглядам прохожих, сидя в эркерном окошке клуба Уайтс. Чужие взгляды, особенно тайные, упоенные, нужны денди для поддержания собственного энергетического баланса: «Денди может представить себя, лишь представая перед кем-то. Он убеждается в собственном существовании только благодаря тому, что видит его отражение на лицах других людей. Они для него – зеркало.
Правда, зеркало быстро тускнеющее, поскольку способность к вниманию у человека ограниченна. Поэтому необходимо то и дело будить внимание, пришпоривая его провокациями…»[138] Так к нашей системе многократных отражений добавляется еще одно «тускнеющее зеркало» – взгляд самого Джессе, составляющий, возможно, наибольшую ценность для Браммелла: взгляд биографа таит в себе будущее повествование, и его и впрямь надо подстегивать, поддерживая плодотворное любопытство.
Браммелл и раньше всегда мастерски стимулировал любопытство поклонников, афишируя, что он владеет особыми «секретами» стиля. Фактически его тайны – это рецепты дендистской «заботы о себе», но преподнесенные под маской поэзии и недоступности.
Браммелл – первый консьюмерист, но он еще владеет «секретами». Секреты нередко трактуются как чисто женская сфера, орудие кокетства и тайна очарования. Однако у Браммелла не кокетство, а ироническое обнаружение секрета, ставящее слушающего в весьма двусмысленное положение. Можно вообразить, как гадали поклонники: неужели и впрямь мэтр чистит ботинки пеной шампанского? Разве можно привлечь пять портных для шитья одной перчатки? Ведь время «больших магазинов» еще не пришло, пока царит исключительно индивидуальный подход даже в самом технологически-ремесленном смысле: каждый секрет – указание на сугубо домашнее, штучное изобретение: накрахмаливание шейного платка, штрипки на панталонах… Каждая находка поэтична и уникальна. Это еще эпоха кустарного, по-своему героического консьюмеризма – период одиночек, чьи случайные «изобретения» сейчас воспринимаются как давно запрограммированные открытия в моде.
3. Новации Браммелла в костюме
Тело предшествует одежде, и оттого вначале скажем в двух словах о реформе Браммелла в сфере гигиены[139]. Введенный им стиль мужского костюма, безусловно, предполагал чистое тело и чистое белье, что в то время было далеко не общепринято даже среди джентльменов. Браммелл всегда бравировал своими затяжными «утренними ритуалами», до блеска чистил зубы особым порошком, состав которого, разумеется, хранил в тайне. В отличие от своих современников, которые заглушали духами запах немытого тела, Браммелл ежедневно принимал ванну и не душился вовсе. Аккуратная стрижка, заменяющая парик, ежедневное бритье и тщательные омовения – все эти телесные техники были основой его личного стиля.
Как же одевался знаменитый денди? Биограф Браммелла капитан Джессе оставил нам подробное описание его костюма: «В первую половину дня он носил, как и другие джентльмены, гессенские сапожкии панталоны или высокие сапоги с отворотами и штаны из оленьей кожи; синий фрак со светлым или бежево-коричневым жилетом. Этот костюм был безукоризненно подогнан по лучшей в Англии фигуре. Его вечерний ансамбль состоял из синего фрака, белого жилета, черных панталон с тугими застежками на пуговицах у колена, полосатых шелковых чулок и складного цилиндра. Он был всегда очень аккуратно одет, но никогда раболепно не следовал моде»[140]. Единственными украшениями служили латунные пуговицы фрака, простое кольцо на руке и золотая цепочка для часов.
Подобный костюм при внешней строгости подразумевал частую смену предметов одежды и аксессуаров: «Элегантному человеку требуется в неделю 20 рубашек, 24 карманных платка, 9 или 10 пар летних панталон, 30 шейных платков (если только он не носит черные шейные платки), дюжина жилетов и чулки по усмотрению»[141]. Это был новый кодекс джентльменского консьюмеризма, достаточно изощренный, но не демонстративный.
Главными принципами дендистского стиля, согласно Браммеллу, были простота и сдержанность. «Никаких духов, тончайшее белье, побольше наилучших рубашек, стирка только за городом»[142]– таковы были принципы денди.
«Если Джон Буль[143] обернется вслед Вам, то Вы плохо одеты – или слишком формально, или чересчур модно», – любил повторять Браммелл. В другой раз он сформулировал эту идею еще жестче: «При виде хорошо одетого человека не должны говорить: “Какой у него прекрасный костюм!” Пусть лучше скажут: “Какой джентльмен!”» – этот принцип Браммелла по-прежнему актуален для всех современных любителей моды.
Английский эссеист и критик Макс Бирбом справедливо назвал Браммелла «отцом современного костюма»: «Браммелл заложил основы мужской моды XIX века. Это спокойный, разумный и, как мне кажется, очень красивый стиль; начисто лишенный причуд или нарочитости, изысканно упорядоченный; пластичный, суровый и экономичный… Постепенная эволюция костюма вряд ли уведет нас от общих принципов одежного кодекса мистера Браммелла. Напротив, прогресс демократии только укрепит эти принципы»[144].
Предложенный Браммеллом вариант мужского костюма был счастливым компромиссом между декоративным стилем макарони и традиционной суровой одеждой британских сельских джентльменов[145]. По сути, денди разработал универсальный буржуазный костюм, пригодный для всех ситуаций. Но этот ансамбль не был скучным, поскольку владелец имел возможность продемонстрировать индивидуальный вкус в деталях. У Браммелла такими личными «пуантами» костюма были красивый жилет и шейный платок.
Со времен Браммелла искусство завязывания шейного платка приобрело статус особого дендистского хобби: недаром он мог посвящать этому занятию по несколько часов в день. Это знаковое увлечение разделяли многие начинающие денди. Молодой Бальзак, начинавший свою карьеру в журнале «Мода», выпустил трактат о галстуках. Хитро завязанный шейный платок и позднее оставался приметой изощренного вкуса.
Менее известна другая радикальная новация Браммелла в моде – панталоны со штрипками. В 1810-е годы короткие облегающие штаны до колена постепенно вытеснялись панталонами – прототипом современных брюк. Солдаты Наполеона одними из первых испробовали их преимущества в условиях походной жизни, да и в гражданской жизни прочие европейцы тоже оценили удобство длинных штанов.
Начали их носить и в Англии, хотя при этом сразу наметилось «жанровое разделение»: более свободные длинные штаны предпочитали надевать днем, а для вечерних приемов были обязательны традиционные короткие штаны до колен с чулками. В истории костюма часто бывает, что в праздничной одежде этикет закрепляет более старинные, даже архаичные формы – происходит их консервация, как позднее в случае с фраком и смокингом.
Однако проблема с панталонами для дневных выходов состояла в том, что из-за свободного кроя на материи появлялись складки, что придавало штанам неэстетичный вид. Браммелл с его тонким вкусом, конечно, не мог вынести таких погрешностей и проводил долгие часы с портными, обсуждая возможные фасоны. Наконец он предложил специальную систему пуговиц внизу штанин и штрипки[146], которые были полностью скрыты высокими гессенскими сапожками. В результате Браммелл приобрел репутацию человека с немнущимися панталонами, и некоторое время никто не мог понять тайну этого замечательного эффекта.
Р. Дайтон.
Д.Б. Браммелл. 1805 г.
Но безупречная натяжка панталон, помимо общей приятности для взыскательного взгляда, имела еще одно преимущество: мужчина вновь получал возможность демонстрировать форму ноги, что придавало ему sex-appeal и эротическое обаяние.
«Это уж точно денди». 1816 г.
Это роднит новации денди с эстетикой ампира: кавалер в облегающих панталонах прекрасно смотрелся рядом с красавицей в тунике: благодаря чистоте очертаний как бы «нагих» тел и дамы и мужчины возникала неоклассическая гармония.
По существу, Браммелл все время решал одну и ту же проблему: и с шейными платками, и с панталонами он добивался ликвидации лишних, ненужных объемов, акцентируя сугубо «технические» детали конструкции. Это была стратегия минимализма, которая успешно срабатывала в каждом конкретном случае. Изобретение штрипок, таким образом, функционально подобно накрахмаленным платкам: хотя крахмал подчеркивал складки, а штрипки, напротив, их убирали, в обоих случаях фиксировалась графическая линия. В костюме создавался сбалансированный приятный для глаза контраст: гладкость в нижней части фигуры уравновешивалась умеренными, контролируемыми складками сверху.
После того как секрет был раскрыт, модники стали повсеместно использовать крахмал и, как это часто бывает с неофитами, переусердствовали. Если Браммелл слегка подкрахмаливал свои платки, то его последователи настолько злоупотребляли новым средством, что при высоко завязанном платке было невозможно повернуть голову. Один молодой человек в подобном положении, вместо того чтобы просто повернуться, был вынужден закидывать голову назад: однажды он чуть не вывернул шею, пытаясь позвать лакея. Другой любитель крахмала порезал ухо о край своего сверхжесткого платка. Третий обжег себе подбородок, пытаясь догладить уголки платка уже после того, как он был завязан, поскольку не хотел портить удачный узел.
Карикатуристы беспощадно высмеивали опасности, подстерегающие усердных модников[147]. Да и сам Браммелл, имея дело с «перекрахмаленными» щеголями, не упускал случая отпустить пару саркастических замечаний в их адрес. Будучи лидером моды, он презирал тех, кто, следуя последним тенденциям, жертвовал собственным комфортом и выставлял себя на посмешище. Созданный им костюм, будучи вначале необычным и модным, стал затем общепринятым именно потому, что в нем отсутствовали декоративные излишества и он не стеснял свободу движений.
4. Виртуальный аристократизм Браммелла
Дендизм есть не что иное, как честь, выродившаяся в дело чести.
Альбер КамюУспех Браммелла в высшем обществе был тем более поразителен, что английские аристократические круги того времени традиционно были настроены очень консервативно по отношению к чужакам. Этикет санкционировал «запрет на профессии». Знатные люди обычно почти никогда не приглашали в гости докторов, юристов, военных, не говоря уж о представителях торгового сословия. Существовали строгие правила, кого и когда можно принимать у себя[148]. Обойти эти препоны мог человек только исключительных личных способностей, причем заручившись для начала поддержкой хотя бы одного влиятельного аристократического лица.
Томас Райкс, современник Браммелла и проницательный мемуарист, объяснял хитрую систему «фильтров» в английском высшем обществе следующим образом: «Перед кем закрываются двери в общество? Вовсе не перед теми, кому недостает титулов и положения, а перед теми, кому недостает образования, хороших манер и умения держать себя в свете; скромный простой человек скорее будет принят, нежели надменный богатей, чьи миллионы никогда не купят ему доступ в те круги, куда все мечтают попасть. Пример Браммелла как раз показывает, насколько незначительную роль играют титул и богатство для вхождения в высшее общество, если джентльмен наделен хорошим вкусом, умеет нравиться и отличается изысканным воспитанием. Браммелл не обладал ни титулом, ни состоянием, но благодаря своим талантам и такту он достиг исключительного влияния в высшем обществе»[149].
В чем же заключался секрет неоспоримого влияния Браммелла на светское общество? Оригинальную гипотезу по этому поводу выдвигает далее все тот же Томас Райкс: «Он был идолом всех женщин, которые задавали тон в светском обществе; как счастлива была хозяйка оперной ложи, где он просидел час, или дама, у которой он пообедал или провел вечер! Почему же? А потому, что он не только сам умел превосходно развеселить компанию своими шутками и насмешками, но это еще и привлекало других мужчин, которые спешили присоединиться к нему»[150]. Таким образом, по мнению Райкса, Браммелл успешно собирал вокруг дам мужское общество (в Англии это и впрямь было проблемой – британские мужчины то и дело предпочитали улизнуть подальше от своих женщин в клубы, куда дамам был вход воспрещен). Однако, на наш взгляд, все же дело было прежде всего в нем самом – в его харизме, изяществе, шутках, а кроме того, конечно, он автоматически привлекал внимание к своим протеже, сиявшим отраженным светом его блеска. По словам Барбе д’Оревильи, «он обладал той фамильярностью, очаровательной и редкой, которая затрагивает все, ничего не опошляя. Он держался как равный со всеми могущественными и выдающимися людьми той эпохи, своей непринужденностью возвышаясь до их уровня»[151].
Браммелл прекрасно отдавал себе отчет, что своими успехами он обязан прежде всего самому себе. Общаясь с аристократами, Браммелл нисколько не скрывал свое простое происхождение, наоборот, он даже всячески подчеркивал его, повторяя историю о дедушке-камердинере. Но однажды он презрительно отозвался относительно одного полковника: «Да слышал ли кто-либо имя его отца!», на что леди Хестер Станоп резонно возразила: «А известно кому-либо имя отца Джорджа Б.?» – «Ах, леди Хестер, – возразил он шутя, – и впрямь, кто бы знал отца Джорджа Б., да и его самого Джорджа Б., если бы он не оставался самим собой? Дорогая леди Хестер, мои причуды делают мне имя. Если бы я не смущал герцогинь своими дерзкими взглядами и не кивал небрежно принцу, меня бы забыли через неделю, и если мир столь глуп, что восхищается моими безрассудствами, то мы с Вами это понимаем, но разве от этого что-либо меняется?»[152]
В практической жизни Браммелл действовал, исходя из этой морали сильного одиночки, который держит толпу в повиновении силой своей воли. Вращаясь в высшем обществе, он перехватил и присвоил аристократический стиль общения, усилил и довел до абсурда многие аристократические манеры. Его репутация поначалу строилась на двух краеугольных камнях: безупречный вкус и умение поддерживать приятную оживленную атмосферу в компании. Первое создало ему славу арбитра элегантности, второе обеспечило друзей среди знатных лордов, страдающих от скуки. Именно среди них Браммелл оттачивал свои «аристократические» причуды, проверяя по их реакции границы дозволительных вольностей.
Его первые пробы строились на разыгрывании роли знатного дворянина, который вращается лишь среди сливок общества и не может даже в мыслях допустить, чтобы его видели с нижестоящими. Однажды один из незнатных, но состоятельных молодых людей, начинающих светскую карьеру, пригласил Браммелла и его друзей к себе. После приема Браммелл спросил, не сможет ли кто-нибудь подвезти его к леди Джерси (которая в то время была одной из самых известных знатных дам), и хозяин предложил ему поехать с ним, надеясь тем самым быть представленным знаменитости. «Но как же Вы поедете? – спросил Браммелл. – Вы же не станете путешествовать на запятках? Вам это не пристало, так же как мне не пристало ездить с Вами в одном экипаже»[153]. Любопытно, что хозяин, которого столь немилосердно выставили на посмешище, добродушно хохочет вместе со всеми: общий контекст веселой шутки подавляет унизительность обиды: ведь Браммелл, вдруг решивший продемонстрировать свое высокомерие, на самом деле является его гостем и, более того, сам просит о любезности.
В этой истории пока всем вполне очевидны иронические обертоны, и шутка Браммелла здесь, собственно, состоит в намеренном преувеличении, с одной стороны, своей чопорности и, с другой стороны, недоступности леди Джерси.
Как видно из этих случаев, денди отнюдь не отказывается в реальной жизни от предложений воспользоваться чужим экипажем или от приглашений на вкусные обеды. Но «виртуально» он должен быть «в белых перчатках», разыгрывать роль недоступного аристократа. Только форсированное исполнение этой роли создавало ироническую дистанцию, помогающую отличить лицо от маски.
Браммелл в совершенстве владел техникой «эксклюзивизма». Эксклюзивизм (exclusivism) – позиция превосходства, умение на каждом шагу подчеркивать свои отличия и преимущества перед другими. Члены «избранного общества» практикуют эксклюзивизм буквально во всем – и в стиле жизни, и в политических взглядах, и в этикете, акцентируя собственные элитарные правила в противовес обычаям и взглядам большинства.
Начнем с социальной географии: в XIX столетии все лондонское светское общество вращалось в Вест-Энде. Основные клубы были сосредоточены в районе улиц Сент-Джеймс и Пэл-Мэл, неподалеку располагались Парламент и Букингемский дворец – центры политической и королевской власти. В Вест-Энде пролегали маршруты светских променадов, модники выезжали на конные прогулки в Гайд-парк. Аристократы, конечно, посещали по различным делам и другие районы города, но показаться там было не слишком престижно.
Браммелл намеренно утрировал эту черту, делая вид, будто он даже не знает, где расположены эти «ужасные» отдаленные места. Однажды экс-секретарь Адмиралтейства пригласил его к себе в гости на обед, а жил он как раз не слишком близко. Браммелл с притворным недоумением осведомился, где же тогда менять лошадей – а для такого расстояния этого, конечно, не требовалось. Его хорошо разыгранный «наивный» вопрос сразу стал циркулировать как удачная шутка.
И все же Браммеллу не всегда удавалось с блеском поддерживать свое аристократическое реноме за счет географического эксклюзивизма: один раз красавца-денди «застукал» в непрестижной части города драматург Ричард Бринсли Шеридан. Браммеллу пришлось оправдываться: «Шерри, приятель, не говори никому, что застал меня в этом грязном районе. Хотя, впрочем, возможно, я излишне суров – ведь где-то здесь живет его милость герцог Нортумберлендский. Дело в том, приятель, что мне надо было сходить в банк в район Сити. Хорошо бы Сити перенесли в Вест-Энд – так неохота попадать в такие кварталы»[154]. «Шерри» не внял просьбе и сделал достоянием молвы позорный факт, что 20 марта 1803 года встретил Браммелла в неподходящем месте (хотя можно поинтересоваться, что он сам там делал!).
Мир эксклюзивизма имел не только пространственные границы – светское время тоже строго регламентировалось. Лондонский сезонобычно начинался к Рождеству и заканчивался в середине августа. Временные рамки задавались работой парламента, а начало парламентских сессий, как уже упоминалось, было связано с завершением охотничьего сезона. С наступлением холодов благородные лорды переключались со спортивных забав на политические дела и перебирались из сельских резиденций в город[155].
Разгар сезона – май, июнь, июль, когда проводились балы и кипела клубная жизнь, а затем общество выезжало за город на скачки в Аскот. Быть в Лондоне после 12 августа означало «утрату лица», и не имеющие своих загородных поместий старались устроиться пожить в гостях. Если по каким-либо причинам отъезд был невозможен, приходилось изобретать самые невероятные оправдания. Подобные хитрости описаны, например, в романе «Белинда» (1801). «Понимая, что ее пребывание в городе в неурочный сезон покажется странным светским знакомым, леди Делакур придумала замечательное объяснение: она заявила, что лишь новизна может доставить ей наслаждение, а остаться на лето в городе будет для нее новейшим неизведанным опытом. Друзья, знавшие ее капризы, решили, что это последняя шутка, свидетельствующая об ее оригинальности»[156]. В Париже в аналогичных ситуациях рекомендовалось, если уж человек не смог вовремя выехать за город, днем отсиживаться дома и распускать через слуг слухи о своем отъезде, а появляться на улицах лишь ночью.
Дневной распорядок денди в разгар светского сезона был строго регламентирован. Журналисты не раз потешались над обыкновениями столичных модников: «Как же живут приверженцы высшего общества? Они умело растрачивают жизнь в удовольствиях. В два часа они одеваются, в пять у них утренняя прогулка, они катаются верхом или шествуют по Бонд-стрит. Обедают деликатесами, не оплачивая счетов. К вечеру, наряженные и надушенные по последней моде, едут в театр, в оперу, на бал или в гости, а потом их можно видеть в клубе или в игорном доме. Закусывают вечером часа в три или четыре, и назавтра – все снова»[157].
Социальная техника эксклюзивизма заключалась в том, чтобы придерживаться строго очерченного круга знакомых. Благородное происхождение желательно, но не обязательно, главное – «хороший тон», отсутствие вульгарности. Слава или успех тоже помогали преодолеть строгости этикета. Так, знаменитый писатель или художник, политический оратор имели шанс быть приглашенными в великосветскую гостиную, но лавочник – никогда.
Браммелл, как мы уже говорили, хотя сам не был из родовитой семьи, вращался среди знати и любил афишировать свои аристократические знакомства. Имена герцогини Йоркской и прелестной Джорджианы, герцогини Девонширской, не сходили у него с уст. Но на самом деле он не брезговал и приглашениями на обед от известных зажиточных коммерсантов, правда, обставляя это с присущим ему остроумием. «С удовольствием, если Вы честно обещаете об этом не рассказывать» («With pleasure, if you promise faithfully not to tell»[158]), – обычно говорил он в ответ. Такой репликой Браммелл как бы вовлекал собеседника в некий игровой заговор, намекая, что ради него он делает исключение из правил, преступает законы эксклюзивизма. Эта игра позволяла обоим участникам осуществить свои цели: Браммеллу – пообедать, не утратив свой престиж, и одновременно намекнуть, что он этим престижем даже не столь уж и дорожит. В конце концов, он как законодатель вкусов тонко чувствовал, в какой мере и с кем можно нарушать правила. А возможно, это нарушение даже доставляло ему тайное удовольствие, и обед на стороне в веселой компании казался вкуснее, чем в благопристойном светском обществе. Коммерсант же, в свою очередь, был доволен, что удалось залучить домой знаменитость, пусть даже за счет своего ущемленного самолюбия. Когда Браммелл, уже разорившись, жил во Франции, он продолжал играть в эту игру, но, увы, уже без былого веселого блеска.
История сохранила эпизод его неудачной импровизации в сходных обстоятельствах, когда в Кале его навестил его старый приятель лорд Сефтон. Они с лордом прогуливались под руку по улице, и «им повстречался чрезвычайно вульгарно выглядящий англичанин, который фамильярно поклонился Браммеллу. “Кто это Вам кланяется, Сефтон?” – надменно спросил денди, чтобы отвести от себя подозрения в компрометантном знакомстве. Лорд Сефтон ответил, что, вероятно, это ошибка, поскольку он никого не знает в Кале. Но трюк Браммелла вскоре был разоблачен: тот же тип, проходя второй раз мимо них, сказал: “Не забывай, Брам, в четыре – обед с гусем!”»[159]
Пожилой Браммелл в Кане
В этом эпизоде Браммелл любой ценой и со всей присущей ему находчивостью пытается спасти свое достоинство, но в результате только попадает в неловкое положение: нарушение принципов эксклюзивизма сразу мстит за себя. Алгоритм его поведения строится как будто согласно следующему силлогизму:
Я = денди.
Этот человек явно не дендистского круга.
Значит, это не мой знакомый, а Сефтона.
Инсценируя этот ход мыслей, он тщится провести свой старый фирменный прием: с полнейшим хладнокровием первым атаковать партнера, вместо того чтобы защищаться. Но утрачено главное: легкость, игровое подмигивание; взамен – драматическая серьезность, аффектация, за которой стоит реальная бедность. Жесткое отрицание всего, что не укладывается в схему правильного поведения, оборачивается против него же. Денди попался, зрителям смешно, и Браммелл здесь поневоле превращается в персонажа Чарли Чаплина: вместо холодной язвительной наглости получился гэг. Вульгарный гусь испортил красоту репризы «Кто это Вам кланяется, Сефтон?».
Почему же Браммелл допускал такие странные «промахи»? Дело ведь не только в ухудшении его материального положения и потере былого блеска. В 20–30-е годы XIX века границы между социальными группами становятся более прозрачными: происходит сближение старой аристократической элиты и новой, буржуазной. Во Франции на одном балу в паре могли танцевать сапожник и знатная дама[160]. Браммелл получил воспитание в тот период, когда такое сближение только начиналось, – его собственный успех в обществе считался исключительным. Эксклюзивизм, процветавший в первые десятилетия XIX века, начал сдавать свои позиции. Браммелл, живя во Франции эпохи Реставрации, уже действует по новым правилам, но пытается хотя бы соблюсти внешние приличия, перед лицом старых знакомых следуя принципам своей юности.
А эти принципы подразумевали достаточно жесткую идеологию – например, они обязывали к совершенно определенным политическим взглядам. Аристократы в большинстве своем были монархистами, что в Англии XIX века было естественно и понятно. Но во Франции после революции аристократы составляли политическое меньшинство. Браммелл здесь примкнул к легитимистам и поддерживал Карла Х, но Луи Филиппа считал выскочкой и не пошел на бал в честь его коронации. Когда его спросили, был ли он на балу, он сказал, что послал туда своего слугу и вообще не знает такого короля – «Вы имеете в виду герцога Орлеанского?»[161].
Другое жесткое требование, вытекающее из аристократического статуса, – беспечность в отношении денег. Аристократ, владеющий землей или другими фамильными ресурсами, может позволить себе точно не знать, что сколько стоит, и уж, конечно, не станет в своем кругу обсуждать цены на вещи. Молчаливо предполагается, что выбирается все самое хорошее и дорогое. В браммелловском исполнении эта черта опять-таки утрируется: в пору своего расцвета денди как-то раз притворно изумился, когда нищий на улице попросил у него полпенни. «Бедняга, – сказал Браммелл, – я слышал о такой монетке, но никогда ее не видел», после чего дал нищему шиллинг (что равнялось двенадцати пенсам). Это показное пренебрежение «мелочью» позднее станет одним из условий вхождения в свет молодых щеголей буржуазного происхождения: роскошь станет символическим аналогом благородства.
Непосредственным предметом подражания этих щеголей являются статусные траты придворного аристократа: костюм, экипаж, слуги. Значительные расходы подкрепляли престиж имени, а экономить значило бы ронять его. Известна история, как «31 декабря 1786 года маршал де Ришелье навестил своего внука в коллеже дю Плесси. Подросток гордо объявил деду, что не дотронулся до кошелька с 50 луидорами, полученного три месяца назад в подарок к празднику. Маршал, если верить анекдоту, тотчас вышвырнул кошелек, о котором шла речь, во двор, где его с благодарностью подобрал дворник, а затем прочел школяру нотацию: “В Вашем возрасте, да еще нося имя Ришелье, человек не имеет права хранить деньги в кармане без всякого употребления”»[162]. Этот сюжет не случайно цитировался на страницах журнала «Мода» в 1832 году: требовалось объяснить дендистские привычки сорить деньгами ссылкой на аристократические обыкновения.
Разумеется, и в то время существовали руководства по моде, где давались советы, как прилично одеваться, избегая излишних трат. Автор английского трактата 1830 года, скрывшийся за псевдонимом «кавалерийский офицер», давал подробные рекомендации, как сшить хороший костюм всего за 480 фунтов[163] (в то время как обычная цена составляла 730 фунтов). Однако подобные расчеты были скорее ориентированы на молодых людей буржуазного происхождения; аристократический подход был иной.
Наконец, надо упомянуть еще один несомненный стандарт аристократического поведения, который тоже был канонизирован в дендистском кодексе: умение владеть своим телом. Физическая ловкость развивалась благодаря обязательным урокам танцев и практике светских приемов, а для мужчин – еще и участием в спортивных играх. Денди, виртуозно владеющий техникой элегантных жестов, по определению не может быть неуклюжим (вспомним историю с чашкой кофе!). Изящество его манер имеет физический эквивалент – точность движений. «Мыслящее и прозрачное» тело имел знаменитый щеголь граф д’Орсе: его манера ездить на лошади считалась образцовой, равно как и умение держать себя в гостиных[164].
Как правило, именно аристократическая культура служила объектом подражания, источником этикетных норм.
Мысль об эстетическом превосходстве аристократов высказывает в письме героиня Бульвера-Литтона леди Фрэнсес Пелэм: «Чем выше положение человека, тем менее он претенциозен… Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них – искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Самобытная вычурность иногда бывает хорошего тона; подражательная – всегда дурного»[165]. Но благодаря дендизму сословные границы аристократической культуры существенно расширились – как выяснилось, элегантность не обязательно напрямую связана со знатным происхождением. В этом состоит «double bind»[166] дендизма – демократизация и в то же время ставка на элитарность. Естественность манер служила знаком избранности, постулируя новые нормы поведения, которые непосвященным могли показаться в высшей степени искусственными.
Резюмируя, можно сказать, что в дендистской культуре был создан кодекс виртуального аристократизма, который могли брать на вооружение все начинающие щеголи вне зависимости от родословной, желающие войти в светское общество. Герои Бальзака и Стендаля – Эжен де Растиньяк и Люсьен де Рюбампре, Жюльен Сорель и Люсьен Левен – все они действуют согласно этому своду правил.
5. Бабочка, душа, Психея…
Один из странных скрытых лейтмотивов биографии Браммелла – образ бабочки. Эта тема впервые возникает, когда Браммелл пишет довольно большое стихотворение «Похороны бабочки» («The Butterfly’s funeral»). Стихотворение предназначалось для альбома и представляет собой типичный образчик салонной поэзии тех лет. В нем повествуется о том, как друзья-насекомые оплакивают умершую бабочку. Оно было напечатано в 1804 году тиражом три тысячи экземпляров и быстро стало детской классикой типа нашей «Мухи-Цокотухи». Авторство Браммелла засвидетельствовано его издателем.
Элегия – иронический парафраз стихотворения эсквайра В. Роско «Бал бабочки». Галантная поэзия этого рода была очень популярна в начале XIX века: «Праздник кузнечика» В. Роско был положен на музыку по просьбе принцессы Мэри и часто исполнялся во дворце. Стихотворение Браммелла изначально было вписано в его собственный альбом – знаменитый альбом in quarto из веленевой бумаги с позолоченными застежками в обложке из синего бархата. Впоследствии эта реликвия досталась Уильяму Джессе и стала основой его биографических разысканий и публикаций.
В этот альбом нередко писали свои стихи герцогиня Девонширская и ее кумир премьер-министр Чарльз Джеймс Фокс. Он, в частности, сочинил и внес туда стихотворение на смерть ее любимой собачки под пышным названием: «На смерть Фэддла, любимого спаниеля Джорджианы, герцогини Девонширской, который погиб, принеся себя в жертву любви; его отец, Фэддл-старший, погиб той же смертью». Такие стихотворения представляли собой пародию на модный в английской литературе XVIII века жанр «кладбищенской» поэзии. Шуточный характер подобных эпитафий не лишал их сентиментальности, и элегия «Похороны бабочки» отмечена той же интонацией. Процитируем первую строфу:
Oh ye! who so lately were blythesome and gay, At the Butterfly’ banquet carousing away; Your feasts and your revels of pleasure are fed, For the soul of the banquet, the Butterfly’s dead!На похороны собираются мухи, пчелы, комары, шелковичный червь прядет саван, а светлячок освещает собрание. Стихотворение завершалось эпитафией, которую сочинил книжный жучок:
At this solemn spot, where the green rushes wave, Here sadly we bent o’er the Butterfly’s grave; ‘Twas here we to beauty our obsequies paid, And hallowed the mound which her ashes had made. And here shall the daisy and the violet blow, And the lily discover her bosom of snow; While under the leaf, in the evening of spring, Still mourning his friend, shall the Grasshopper sing.Подруги бабочки слетаются на похороны в элегантных траурных вуалях и в шалях – «in weepers and scarves», а сама она обрисована в первую очередь как «красавица» и «душа праздника». Бабочка – это своего рода денди среди насекомых, олицетворение изящества и непринужденного веселья.
Этим трогательным галантным стихотворением Браммелл явно гордился и несколько раз переписывал в подарок друзьям; уже совсем пожилой и больной во Франции он послал его в подарок мадемуазель Эмабль, приписав при этом, что рука у него ныне дрожит, «как тростник на ветру» – «green rushes wave». Образ хрупкого и красивого мотылька сопутствовал ему всю жизнь. Вероятно, он в чем-то отождествлял себя с бабочкой, размышляя о своей горестной судьбе – украшать чужие пиры и затем зябнуть в одиночестве на чужбине.
Для Браммелла бабочка могла стать личным символом еще и оттого, что он, любитель каламбуров и анаграмм, придавал большое значение буквенным совпадениям – а начальное «В» в слове «butterfly» совпадало с его инициалами. Аналогичная игра с двойными инициалами на «В» присутствует и в другом его автобиографическом рисунке «The broken Bow (Beau)». Вероятно, Браммелл отождествлял себя с мотыльком на бессознательном уровне: по крайней мере, есть свидетельства, что во время болезни в бреду он неоднократно говорил «о зеленых полях и бабочках»[167]. Бабочка возникает как изобразительный мотив на панно, которое он расписывал в последние годы жизни для герцогини Йоркской. Она расположена рядом с фигурой Чарльза Джеймса Фокса. Поскольку стихотворение «Похороны бабочки» изначально соседствовало в альбоме Браммелла с поэтическими опытами Фокса, это расположение вряд ли случайно.
Можно ли как-то объяснить дендистское пристрастие к бабочкам? Бабочка – древний символ эфемерности. Издавна бабочка ассоциировалась с метаморфозой и служила эмблемой переменчивой души, будучи атрибутом Психеи. Кроме того, благодаря своей пестроте и хрупкости бабочка воспринималась как намек на непостоянство красоты, суетность и тщетность земных радостей. Легкомысленность мотылька сродни беззаботности стрекозы в знаменитой басне Лафонтена. Эти значения во многом совпадают с традиционной метафорикой моды как прелестной и недолговечной приманки и легко проецируются на образ красавца-денди. Денди младшего поколения, предпочитавшие более пышные и броские наряды, сделали бабочку своим символом, отчего их называли «Butterfly dandy». Самым ярким представителем этого типа слыл граф д’Орсе. Можно вспомнить и серию сатирических гравюр Джорджа Крукшенка, где денди изображены в качестве гротескных насекомых[168].
…Вероятно, мы уже никогда не узнаем «настоящего» Браммелла, настолько тесно переплетались в его биографии легенды и факты. Ряд вопросов останется без окончательного ответа – почему он сам подорвал свое положение, сначала надерзив принцу и затем написав письмо о ненужности консульства в Кане. Возможно, по сходным мотивам Оскар Уайльд первым ввязался в роковой для себя судебный процесс, а Теофиль Готье решил подразнить буржуа своим розовым жилетом на премьере «Эрнани»[169]… Но не в этом ли одна из разгадок тайного очарования дендизма – в гибельном блеске бабочек, летящих в огонь?
IV. Дендизм и неоклассическая мода
Аполлоны в двубортных сюртуках: генеалогия дендистского стиля
Родословная классического костюма неизбежно приводит нас к началу XIX века в Англии. Действительно, именно британским денди удалось создать достаточно жесткий канон мужской элегантности, во многом не утративший силу и поныне. Между тем в свое время их стиль воспринимался как радикальный разрыв с традицией. Чем же этот канон столь разительно отличался от вкусов предшествующей эпохи?
Ответ на этот вопрос надо искать в истории европейской одежды. Предшественником дендистского стиля был мужской костюм конца XVII века. В это время появился свободный сюртук на пуговицах в качестве универсальной верхней одежды, на что указывает даже буквальный смысл самого слова: по-французски «sur tout» – «поверх всего». Под сюртук надевались короткие пышные штаны с чулками, а камзол[170], который было принято носить полурасстегнутым, скрывал линию талии. Мягкий воротник рубашки давал возможность носить шейный платок – прототип галстука[171]. Так закладывалась базовая модель мужского костюма – ансамбль «сюртук – жилет – рубашка – галстук – панталоны».
Р. Боннар
Герцог Бургундский
1695 г.
Самыми броскими искусственными элементами в облике кавалера XVII–XVIII веков оставались каблуки и парик. Они отражали дух «прекрасной эпохи», культуры прециозности и рококо. Однако, по существу, наиболее консервативным и далеким от современности аспектом стиля был так называемый «грушевидный» силуэт, господствовавший в мужской моде до 1780 года. Сюртуки шили с зауженными плечами и порой без воротника, поскольку тот неизбежно пачкался от пудры и помады[172] с париков. Книзу силуэт, напротив, заметно увеличивался за счет расходящихся кругом сюртучных пол, в которые вставляли незаметный каркас из тонкой проволоки.
Композиционным центром силуэта поневоле оказывался живот, нависающий над низким поясом штанов. Горизонтальная подколенная линия, образуемая на стыке пышных штанов с чулками и подчеркнутая бантом или пряжкой, зрительно делила абрис ноги пополам, укорачивая самую рослую фигуру. В итоге любой мужчина в подобном костюме автоматически приобретал грушевидную форму, санкционировавшую наличие небольшого брюшка (что, разумеется, весьма устраивало полных господ).
И все же к концу XVIII века «грушевидный» силуэт сдает позиции под натиском новой дендистской моды, которая возникает, аккумулируя несколько тенденций. Одной из них был протестантский костюм – простое и суровое платье английских пуритан. После эпохи Реформации и буржуазной революции в Англии клерикальная эстетика внешности служила знаком лояльности по отношению к новому режиму, и даже в высших светских кругах пользовались успехом франты в глухих темных нарядах, на фоне которых эффектно выделялся белый воротник рубашки.
Постепенно подобная мода приобретала все больше сторонников, и к началу XIX века уже обозначился феномен «великого мужского отказа»[173], описанный исследователем Джоном Карлом Флюгелем. Суть этого явления – унификация и упрощение мужского костюма, исчезновение ярких цветов, роскошных материалов и прочих «излишеств». Мужчины «отказываются» от претензий на броскую внешнюю красоту, выдвигая взамен иные добродетели: хороший вкус, полезность, рациональность[174]. Причины этих перемен кроются, согласно Флюгелю, прежде всего в политических факторах: отходит в прошлое аристократическая эстетика, требовавшая, чтобы костюм четко символизировал благородство и статус; демократизация общества – плод революционных процессов в Европе – подразумевает устранение внешних признаков социальных различий. Развитие промышленного капитализма способствует оформлению современного урбанистического уклада, развивается сфера услуг, становится все больше рабочих мест для чиновников и служащих – необходимость простого универсального темного костюма уже реально назрела.
Другим и, пожалуй, не менее важным параметром был традиционный стиль британских сельских джентльменов, любителей псовой охоты и прочих спортивных забав на вольном воздухе. За городом английские джентльмены передвигались не в карете, а верхом, чем объясняются многие новации в сфере костюма. Например, фрак изначально служил одеждой для верховой езды, являясь упрощенной версией сюртука без передних пол, что было удобно для всадника. Жизнь на природе также диктовала гамму естественных цветов – зеленоватые, коричневые, серые и бежевые тона, а самыми оптимальными материалами являлись шерсть, лен и кожа. Особенные преимущества представляла работа с шерстью – классическим английским продуктом.
Шерсть являлась идеальной тканью для нового костюма, поскольку могла растягиваться и принимать желаемую форму, долго носиться, не утрачивая вида. Британские портные, веками имевшие дело с шерстью, изобрели множество тонких приемов: они обрабатывали ее под паром, виртуозно делали практически невидимые вытачки, вставляли подогнанные по фигуре толщинки, так что материя сидела как литая. «Фрак должен легко спускаться с плеч, облегая фигуру и не образуя складок», – писали в модных трактатах[175]. Для сравнения заметим, что предыдущая мода эпохи рококо не только допускала мелкие морщинки на поверхности одежды, но и усматривала в этом особый эстетический эффект: сеть подвижных морщинок на поверхности бархата или шелка воспринималась как мерцающая рябь, световая игра, подчеркивающая переливы ткани, облегающей тело.
Принцип нового дендистского стиля совершенно иной: гладкая, неброская материя и свободно прилегающий крой создают всего лишь фон, а на первый план выступает сама фундаментальная структура, строение силуэта, фасон, которые акцентируются за счет видимых швов и сбалансированных пропорций при отсутствии ярких цветов и украшений. Обнаженная базовая конструкция приоритетнее орнаментальной поверхности – подобная логика лежит в основе многих направлений современного искусства – вспомним хотя бы черно-белую фотографию, конструктивистскую архитектуру, кубизм в живописи, американский минимализм 1950-х годов. В истории костюма именно в дендистской моде конца XVIII – начала XIX века была серьезно заявлена современная минималистская эстетика.
Откуда же взялся этот новый канон, столь радикальномодернистский для своего времени? Как это ни парадоксально, но его главный источник – в античной классике. Во второй половине XVIII столетия, после раскопок в Помпеях и в Геркулануме, Европа переживала настоящий античный бум. Если раньше признанными образцами считались статуи Аполлона Бельведерского и Лаокоона в ватиканских коллекциях, то теперь миру были явлены новые шедевры. В 1806 году колоссальные скульптуры, ранее украшавшие фриз Парфенона, были привезены в Англию лордом Элджином, и целое поколение молодых британцев, глядя на них, усваивало модели греческой телесности[176]. Во Франции античное наследие адаптировалось в работах архитектора К. – Н. Леду, в живописи Ж. – Л. Давида, «декоратора» Французской революции, и в театральном творчестве Тальма. Так начиная со второй половины XVIII века складывался неоклассический[177]канон, притязавший, как всегда в переломные эпохи, на новейшее выражение общегуманистических ценностей.
Очень существенными для восприятия античности в то время были работы Винкельмана. Он особо подчеркивал ценность контурной линии, усматривая в ее совершенстве отличительную особенность классической пластики: «Благородный контур в греческих фигурах объединяет или очерчивает все части прекраснейшей натуры и идеальной красоты, или, можно сказать, он – высшее понятие в обеих»[178]. По этой же причине Винкельман недолюбливал барочное искусство, где выразительность возникает скорее за счет массы и обилия деталей. Его толкование было очень авторитетным: речь шла не только об ином восприятии классического наследия, но и прежде всего о перенастройке культурного зрения.
Правильный контур фигуры стал расцениваться как новый критерий совершенства: это не замедлило сказаться и в развитии моды. Напрашивается вывод: приоритет четкого контура в античной пластике прямо соответствовал первостепенному значению силуэта и конструкции в дендистском костюме. К мужской моде начала XIX века можно с полным правом отнести слова Вельфлина, сказанные о греческой скульптуре: «Классическая пластика устремляет свой взор на границы: в ней нет формы, которая не нашла бы свое выражение с помощью линейного мотива, нет фигуры, о которой нельзя сказать, по какому плану она задумана… Силуэт здесь нечто большее, чем случайная граница видимой формы: наряду с фигурой он претендует на известную самостоятельность – именно потому, что является чем-то в себе законченным»[179]. Рискнем продолжить и заключить: неоклассический акцентированный силуэт стал важнейшей чертой, определившей развитие мужского костюма на два столетия вперед. Недаром Джим, обозреватель старинного российского журнала «Дэнди», проницательно замечал: «Когда-то, в пышные времена наших прадедов, пестрые цвета, драгоценные камни, кружево и плюмажи создавали красоту мужского костюма; теперь только одна линия играет роль в мужской моде, только линия своим изысканным изгибом создает красоту современного денди»[180].
Эстетика античной скульптуры прямо влияла на представления об идеале красоты. Уподобление мужского тела скульптуре числилось среди ходовых сравнений эпохи. «Он в виду толпы: на него смотрят, как на классическую статую», – писал русский литератор о светском льве[181]. В греческом искусстве традиционно мужчина изображался обнаженным. Античный юноша обладал гармонично развитым спортивным телом с ясно очерченными мускулами, особо акцентировались в фигуре грудь и плечевой пояс. Очень узнаваемой была и характерная сбалансированная поза – хиазм: «В спокойном положении, когда человек на одну ногу опирается, а другая свободна, последняя отступает назад лишь настолько, насколько нужно, чтобы вывести фигуру из вертикального положения»[182]. Эта поза копировалась и на портретах, и на гравюрах в модных журналах. Быть похожим на греческих богов или героев считалось высшим признаком мужской красоты. Двое самых влиятельных денди могли похвастаться сходством с Аполлоном: говорили, что Байрон напоминает Аполлона чертами лица, а Джордж Браммелл – фигурой.
Благодаря культу античности в моде сложилась уникальная ситуация: представления об идеальном греческом теле диктовали новый силуэт костюму. Винкельман, восхваляя благородную линию, особо подчеркивал красоту телесного контура: «В греческих фигурах мастерский контур господствует даже под одеждой, являя главное намерение художника, который даже сквозь мрамор, как сквозь складки косского платья, показывает прекрасное строение тела»[183].
Античная модель телесности действовала как платоновская идея, форма форм. Идеальное тело воспринималось как зримая абстракция, требовавшая конкретного современного воплощения. Неоклассический стиль ставил совершенно новые задачи: костюм должен был обрисовать «греческое» тело, а не замаскировать или деформировать его. Иными словами, одежда должна была стать визуальным аналогом наготы, но наготы совершенно определенных – аполлоновских – пропорций.
Как же решалась эта парадоксальная проблема? Щеголи оказались вынуждены как бы «примерять» на себя античное тело. Старый костюм буквально затрещал по швам, как будто его пытались натянуть на классическую статую. Новое тело требовало иных пропорций одежды, оно давило и распирало ткань. Узкие плечи грушевидного силуэта расправились, сквозь облегающий рукав проступили бицепсы, требуя дополнительного объема. Мощный торс раздвинул двойной ряд хрупких застежек, прежний силуэт с брюшком теперь невыносимо резал глаз.
Мода на античную фигуру послужила сильнейшим импульсом для развития дендистского стиля. Новый костюм для начала существенно уменьшился в объеме: сузились широкие полы сюртука, исчезли крупные накладные карманы и обшлага. Этот новый силуэт проницательно подметил Н.И. Греч: «Платье гладкое без складок, прилипает к телу, но не отличается никаким богатством; белье его чистоты ослепительной»[184]. Одновременно резко увеличивается верхняя часть фигуры, чтобы передать античные пропорции торса. Подложенные плечи и припуск в верхней части рукава, имитирующий выпуклые мышцы, недвусмысленно намекают на атлетическое телосложение.
Выкройка сюртука. Ил. из трактата Д.Уатт «Дружественные наставления портному». 1822 г.
За основу берется сюртук сельского джентльмена – единственная модель с воротником, но и он нуждается в конструктивной переработке. Воротник делается выше, чтобы оттенить «героическую» шею и гордую посадку головы. Кстати, голову денди отныне украшает уже не напудренный парик, а элегантная стрижкаà la Titus[185] – как на бюсте римского императора Тита. Грудь кажется более внушительной, так как окончательно закрепляется двубортный фасон и сюртука и жилета. Если грушевидный силуэт составлял равнобедренный треугольник, то теперь линии лацканов образуют перевернутый треугольник, который смотрит вершиной вниз. Эта невидимая точка указывает на новый немаловажный пункт в костюме – средоточие мужского достоинства. Раньше «фиговым листочком» служили складки пышных штанов и длинные полы жилета, дендистский же костюм возрождает более откровенную моду времен Ренессанса, когда кавалеры носили обтягивающие лосины.
Благодаря узким цельным панталонам, укороченной линии жилета на талии и отсутствию передних пол у фрака дендистский фасон подчеркивал сексуальный шарм мужчины. Красота мужских ног высоко ценилась в обществе: это нередко служило темой для сравнений и комментариев, а для дам это был приятный повод безбоязненно сделать комплимент мужчине. Непрерывная плавная линия панталон светлого цвета создавала эффект длинных, стройных ног, что, правда, также требовало худощавой фигуры. «Излишняя полнота – это настоящий физический недостаток», – писал Орас Рэссон, автор многочисленных трактатов о моде[186]. В итоге подобный ансамбль успешно поддерживал иллюзию «греческих» пропорций, оставаясь видимым и невидимым одновременно, риторически обнажая и героизируя своего владельца.
Современные франты продолжают пожинать плоды неоклассического момента в моде. И хотя сравнение с Аполлоном сейчас, возможно, вызовет лишь ироническую улыбку, вариации дендистского стиля постоянно возникают в коллекциях ведущих дизайнеров, вновь и вновь подтверждая жизнеспособность классики.
О шейных платках
Дендистский костюм начала XIX века акцентировал одну деталь, которая с тех пор играет важную декоративную роль в мужском гардеробе. Это шейный платок[187], который позднее превратился в галстук – любимый аксессуар эстетов. Джордж Браммелл, как мы помним, мог завязывать шейную косынку 6 часов в день, так что его лакей сетовал: «Это наши неудачи», глядя на смятые платки, разбросанные по комнате. Чтобы надежнее зафиксировать результаты удачных экспериментов, Браммелл придумал использовать крахмал, чем добивался не только гармоничных, но и устойчивых комбинаций.
Техника завязывания сама по себе была весьма остроумна: «Для начала Браммелл поднимал воротник сорочки, который был настолько большим, что в расправленном виде закрывал ему голову и лицо. Накрахмаленный шейный платок при этом торчал спереди по крайней мере на фут широким концом вниз. Затем следовал первый coup d’archet[188]: сложив воротник, он задирал голову вверх и, стоя перед зеркалом, медленно и постепенно опускал подбородок, чтобы на платке образовались естественные складки. Когда платок таким образом достигал требуемой формы, он совершенствовал его складки, поправляя рубашку, и, наконец, заключительным быстрым движением делал узел из узких концов»[189].
О. Домье. Кокетство. 1839 г. Литография.
Изящные твердые складки дендистского шейного платка – единственное, что осталось у аполлонов XIX столетия от великолепных развевающихся материй, украшающих античные мужские торсы. Ведь на скульптурах греческих богов или героев, как правило, можно видеть накидку (хламиду), небрежно наброшенную на руку. Ниспадающие складки ткани контрастно оттеняют каноническую мужскую наготу Аполлона Бельведерского; аналогичный пример – статуя Мелеагра в Ватикане[190].
Ритм и направление складок в античных скульптурах создавали иллюзию поступательного движения, подчеркивая жест модели и контуры тела. Совсем иной эффект возникал в культуре барокко, где массивные складки ткани на скульптурах и в живописи плотно укутывали и маскировали тело. Мраморные складки одеяний статуй Бернини или гофрированные покрывала на полотнах Сурбарана живут своей особой жизнью, указывая на возвышенность события. «Мрамор отображает и улавливает складки, направленные к бесконечности, и выражают они уже не тело, а некое духовное приключение», – пишет Жиль Делез о Бернини[191]. По мысли французского философа, «освобождение» барочных складок объясняется тем, что между телом и одеждой действует третий элемент – стихии: ветер, воздух, свет, вода. Именно стихии радикально размывают контур тела, символически вписывая его в систему более абстрактных и динамичных координат: «Складки одеяний обретают самостоятельность и масштабность, – и не по причине простого украшательства, а ради выражения духовной силы, воздействующей на тело либо для того, чтобы его опрокинуть, либо чтобы его поднять или вознести, – но всегда перестраивая его и формируя в нем интериорность»[192].
Пышность барочных костюмов подтверждает наблюдения Жиля Делеза: развевающиеся плащи, широкие панталоны «рейнграф», бриджи с многочисленными сборками, пышные рукава с кружевными манжетами – все эти элементы давали богатую и самодостаточную игру складок на поверхности, скрывая силуэт тела. Костюм превращался в насыщенную смыслом эмблему или власти, или святости, или богатства – в зависимости от обстоятельств, но декоративные и подвижные складки всегда зрительно увеличивали фигуру, подчеркивая ее монументальность.
Описанная система представляет из себя полный антитезис дендистской эстетике внешности. Напомним: отталкиваясь от барочной пышности складок, денди стали добиваться чистоты линии. Неоклассицизм, возрождавший классическую античность в искусстве конца XVIII–XIX века, требовал замкнутого и определенного контура каждой детали и фигуры. «Произнося суждение о пластике барокко, Винкельман насмешливо восклицает: “Что за контур!” Он рассматривает замкнутую в себе, красноречиво говорящую контурную линию как существенный момент всякой пластики и отворачивается, когда контур ему ничего не дает. Барокко отрицает контур: не в том смысле, что впечатления силуэтности вообще исключались бы, – просто фигура не поддается фиксированию с помощью определенного силуэта»[193].
Мужской костюм, повторяющий контуры античного тела, – плод неоклассической культуры, реабилитирующей четкий силуэт и красоту чистых линий. Все, что осталось от барочной поэтики складок, локализовано в шейном платке, но он существенно изменился.
Накрахмаленный шейный платок – единственно возможный в неоклассицизме вариант складки. Это остановленный, зафиксированный контур удачного движения: барочная игра стихий более не влияет на пластический рисунок и не символизирует духовный порыв. Стихии укрощены и подчинены эстетической воле денди-минималиста. Расчетливо уложенные складки напоминают не столько о «счастливой случайности», сколько о продуманной необходимости, о техническом умении. Этот неоклассический рационализм исключает вмешательство стихийных «элементов»: ветер никогда не будет играть с браммелловским платком, это не входит в замысел.
До изобретения Браммелла мужской платок частенько неаккуратно болтался или кое-как свисал с шеи владельца, а форме узла особо никто не придавал значения. После того как Браммелл ввел в моду свои изящные узлы и складки, все стали ему подражать и прилежно изучать разные типы узлов на платках. Молодой Бальзак даже написал небольшой трактат о 39 способах завязывать галстук[194]. Книгоиздатель Стокдейл, чутко уловив требования модной конъюнктуры, выпустил брошюру «Neckclothitania, or Tietania». Несмотря на игровой слог, брошюра реально содержала подробное описание и схемы завязки базовых узлов[195].
На фронтисписе были схематически изображены базовые типы узлов: «Ориентальный, Математический, Осбальдестон, Наполеон, Американский, Почтовая карета, Трон любви, Ирландский, Бальная комната, Конский Хомут, Охотничий, Махараджа, Гордиев узел, узел “Бочка”»[196].
Каждый из этих узлов имел свои особенности в сочетании с определенной тканью и цветом. Так, Ориентальный рекомендовался «для очень жестких материй, в нем не должны были быть видны складки. Математический менее суров, в нем допустимы три складки. К нему лучше всего подходит цвет “бедра испуганной нимфы”»[197]. Трон любви хорошо накрахмален с одной горизонтальной складкой по центру, оптимальный цвет – «Глаза девушки в экстазе». Бальная комната представлял собой комбинацию Математического и Ирландского и наилучшим образом выглядел в цвете «девственной белизны». А «Почтовая карета, узел для извозчиков, годился для шерстяных тканей; один конец платка выпускался вниз и затыкался за пояс»[198].
Накрахмаленный шейный платок, тщательно завязанный серией выверенных жестов, – самая неоклассическая и статуарная деталь дендистского туалета. Браммелл, постепенно опуская подбородок, чтобы добиться «естественных» складок, действовал как скульптор, работающий с мрамором. Недаром лорд Байрон при всей своей любви к дендизму отвергал именно накрахмаленные шейные платки и на портретах чаще всего изображался с расстегнутым воротником и обнаженной шеей. Будучи романтиком, он как раз не прочь подставить лицо буйным порывам ветра и всячески акцентировать естественность и эмоциональность поз. Это был визуальный аналог сильных страстей и переживаний его героев. Но, заметим, байроновские герои не претерпевают больших «духовных приключений», как барочные персонажи, этого им как раз недостает, что и знаменует романтический сплин. Сходным образом байроновский герой обычно вписан в природу: пейзаж соответствует его настроению, в то время как истинный денди – человек городской и искусственный, от природы принципиально далекий.
Типы узлов. Ил. из трактата «Neckclothitania». 1818 г.
Галстучные узлы. Ил. из трактата «Искусство завязывать галстук».1828 г.
Самое, наверное, яркое проявление искусственности в костюме – невидимые механические приспособления. Возьмем для примера «машинку» для завязывания правильного узла на шейном платке, популярную в первые десятилетия XIX века. Для достижения желаемого эффекта использовались хитроумные штучки, кажущиеся сейчас весьма странными, – например, особый проволочный каркас для галстучного узла. Ю.К. Арнольд пишет о российских модниках: «Но что всей фигуре петиметра придавало особенное aplomb и важность, соединялось в воротнике рубахи, в галстуке и в прическе. Основание галстука образовала тоненькая “машинка” (иного выражения я ныне подобрать не могу), составленная из целого ряда бесчисленных узких спиралей тончайшей медной проволоки, покрытого коленкором и окаймленного тонкой козьей или заячьей кожей. Эта машинка, шириною до трех вершков, весьма аккуратно, но плотно завертывалась в слабонакрахмаленный, тщательно выглаженный платок из тончайшего батиста и в таком виде представляла галстук, которым имела украситься шея петиметра. Эта несколько массивная повязка прикладывалась серединою своею к передней части шеи, покрытой широким, кверху торчащим, крепко накрахмаленным и до самых ушей доходящим батистовым же воротником рубахи, и, обвив довольно плотно всю шею, завязывалась спереди в виде широкого банта, концы которого украшались иногда весьма искусною вышивкою. Таким образом, голова, волею-неволею, принимала почти ненарушимую важную позу, а лицо получало вид полноты и цветущего здоровья»[199]. Однако напомним, что элегантно завязанный дендистский платок подразумевал еще и некоторую долю небрежности (или, по крайней мере, иллюзию небрежности), что порой исключалось вследствие чрезмерной тщательности туалета и «ненарушимых поз» российских франтов.
Подобные «машинки» нередко использовались в туалете европейских щеголей, которые любили изобретать сложные узлы для своих шейных платков. Люсьен Шардон, главный герой бальзаковского романа «Утраченные иллюзии», страдает из-за отсутствия подобного приспособления: «А ведь он мог высоко держать голову, будь у него галстук на подкладке из эластичного китового уса; его же галстук не оказывал ни малейшего сопротивления, и Люсьенова унылая голова клонилась, не встречая препятствий»[200]. Здесь уже вместо основы из проволоки фигурирует подкладка из китового уса, но суть остается той же. Время действия «Утраченных иллюзий» – 1823 год, и точность описания деталей костюма, как всегда у Бальзака, сочетается с повышенной символической нагрузкой. Высоко поднятая голова денди – знак его социального достоинства, а Люсьен, только-только приехав в Париж, чувствует себя безнадежно отставшим от моды провинциалом.
После того как Браммелл ввел моду крахмалить ткань, стало возможным фиксировать складки платка, и «машинка», которая была в почете у российских петиметров, была дополнительной гарантией для тех, кто сам не мог создать красивую форму[201].
Резюмируем: накрахмаленный шейный платок – остановленная и рационализированная складка. Она неподвижна и не подразумевает вмешательства стихий, соответствуя общей статуарности денди. Это локальная, ограниченная область игры, которая символизирует прихотливую небрежность, но реально происходит по четко продуманному плану, как интрига в драме классицизма. Накрахмаленный шейный платок функционально равнозначен драпировке, оттеняющей наготу античных мужских торсов. Если теперь мы припомним сказанное ранее о соотношении дендистского костюма и обнаженного тела, то увидим повторение эстетической закономерности: «дендистский костюм + шейный платок» эквивалентно «мужской торс статуи + оттеняющие драпировки».
Эта же формула действует в неоклассических скульптурах начала XIX века, как, например, «Персей, держащий голову Медузы» А. Кановы[202]. И хотя Анна Холландер замечает по поводу этой статуи, что материя, свисающая с руки Персея, смотрится как купальная простыня и не имеет отношения к реальным греческим хламидам по способудрапировки[203], важен сам принцип: Канова воспроизводит классический канон, актуальный в его время (игнорируя, допустим, римские статуи в тогах).
Шейный платок: психологический комментарий
С точки зрения психолога, безусловно, заслуживают особого комментария излюбленные манипуляции денди с шейными платками. Многочасовое завязывание шейного платка в дендистской практике и важная декоративная роль этого аксессуара в туалете щеголя явно акцентируют область горла и передней части шеи.
В современной психологии есть интересные исследования (группа Елены Петровой[204]), позволяющие установить определенные соответствия между акцентированным участком тела и эмоциональным состоянием. Каждый участок тела символически связан с тем или иным типом высказываний и переживаний. Горло и передняя часть шеи «ответственны» за выброс негативных эмоций, резких оценочных высказываний, центрированных на конкретном объекте. Не случайно при состояниях морального дискомфорта мужчины инстинктивно часто начинают крутить шеей, пытаясь ослабить воротничок, или трогают узел галстука, как будто чтобы освободить горло.
Если вспомнить дендистскую склонность к едким ироническим репликам или уничижительным замечаниям в адрес присутствующих, то все сходится: акцент на горле как раз и предполагает такой «вредный» настрой по отношению к отдельно взятым лицам или предметам одежды. Взять хотя бы эпизод, когда Браммелл вежливо попросил даму удалиться из бальной залы пятясь, поскольку ему не понравился вид ее платья сзади.
Еще раньше на зону горла и шеи обратил внимание ученик Фрейда Вильгельм Райх. Он сформулировал концепцию «мышечного панциря», то есть зон мускульного напряжения, которые изначально функционировали как защитная броня. Телесный панцирь – проекция психологического панциря: мышечные зажимы препятствуют выходу напряжения и блокируют эмоциональную разрядку.
Зона шеи и горла относится у Райха к третьему панцирному сегменту. Вот его характеристика: «Для того чтобы ощутить действие третьего сегмента, достаточно представить себе ощущения, возникающие при сдерживании гнева или слез. Спастические сокращения шейного сегмента включают также и язык. Это легко понять, поскольку мышцы языка прикреплены в основном к шейной структуре. Таким образом, спазмы мускулатуры языка находятся в функциональной связи с подавлением адамова яблока и контрактурой глубокой и поверхностной мускулатуры шеи. Движения адамова яблока ясно показывают, как импульс гнева или плача, без осознания этого пациентом, буквально «проглатывается»[205].
Можно предположить, что работа по несколько часов в день с шейным платком – символический признак активности этого третьего сегмента. Без конца завязывая и перевязывая платок, денди тренируется в расслаблении и напряжении мышечного панциря, что соответствует разрядке и контролю столь сильных эмоций, как гнев и плач. Завершение узла – визуальный аналог владения собой. Знаменитая бесстрастность денди, восходящая к стоической и джентльменской невозмутимости, – признак подавления эмоций и телесного зажима. Напротив, такие проявления дендистского темперамента, как саркастические реплики или спонтанное остроумие, свидетельствуют о свободном эмоциональном импульсе. Однако сдержанность и обуздывание сильных реакций типа гнева или слез все же доминируют. Зафиксированная крахмальная складка браммелловского шейного платка красноречиво повествует о покоренной материи, а продуманная небрежность узла словно намекает на возможность дозированного проявления чувств.
Галстучные узлы. Ил. из трактата «Искусство завязывать галстук». 1828 г.
Туника и кринолин: модели телесности в женском костюме XIX века
Когда Психея-жизнь спускается к теням…
О. МандельштамКаролина де ла Мотт Фуке, немецкая писательница эпохи романтизма и супруга барона Фридриха де ла Мотт Фуке, автора «Ундины», на склоне лет решила запечатлеть для потомков нравы и вкусы своей юности: так в 1829–1830 годах появилась одна из первых книг по истории моды. Немалое внимание в ней уделяется поистине удивительному феномену конца XVIII – начала XIX века – «нагой моде»: «Дамы носили греческие одеяния с плотным поясом под грудью. Из-под него вниз струились мягкие пышные складки, руки выше локтя были открыты, волосы стянуты на затылке в узел… Женщины походили на античные статуи, чудом попавшие из классики в современность»[206].
Это свободное светлое платье с рукавами-фонариками, шитое из тонкого муслина или газовой ткани, получило название «туники». Классический образ поддерживался и за счет прическиà la greque, и стильной обуви – легких плетеных сандалий, и аксессуаров – камей, браслетов, головных обручей. Сверху для тепла позволялось накинуть тонкую кашемировую шаль. При отсутствии карманов мелочь можно было положить в тогда же изобретенную плетеную сумочку – ридикюль[207]. В целом силуэт получался обтекаемый, плавный и в то же время лаконично-строгий. Низкий вырез декольтированной туники, обнаженные плечи и руки, полуприкрытая грудь и, главное, отсутствие корсета составляли разительный контраст по сравнению с дамскими нарядами предшествующих десятилетий: «нагая» мода действительно позволяла красавицам безбоязненно демонстрировать свои формы.
Туника a la victime эпохи Французской революции. Диагональные ленты напоминали о связанных перед казнью узниках
Впервые в культуре Нового времени пластика женского тела оказалась нестесненной и самодостаточной. «Естественная грация движений, – пишет Каролина де ла Мотт Фуке, – развивалась сама собой. Исчезло вечное беспокойство, что платье сомнется, потеряет форму или разойдутся складки… Теперь в движениях, в зависимости от большей или меньшей гармонии тела, свободно проявлялись душа и характер. Вся сущность женщины стала непроизвольнее… теплее и живее»[208]. Непосредственность и спонтанность здесь прочитываются сразу на всех возможных уровнях: одежда – жест – душа – сущность.
И все же при всей внешней непроизвольности реабилитация женской телесности шла сквозь призму античности – ведь «нагая мода» являлась вариантом неоклассического стиля в женском костюме. Благодаря опоре на греческую пластику искусство вернулось к античным пропорциям фигуры, акцентируя обрисованные груди и ягодицы, движения от плеча, скульптурные лодыжки и босые ступни. В живописи Боровиковского (портрет М. Лопухиной), Давида (портрет мадам Рекамье), а также в эскизах Блейка, Флаксмана и Фюсли одежда прежде всего подчеркивает графические формы эстетизированного тела.
Тело проступает сквозь одежду, как предмет – сквозь плетеный ридикюль, но это еще не последняя градация прозрачности: в пределе теоретическое «умное» зрение проникает сквозь внешние покровы и прозревает внутреннюю структуру тела. На ярмарках в больших европейских городах особой популярностью пользуются «анатомические Венеры» – муляжи женских тел, наглядно и натуралистично иллюстрирующие расположение внутренних органов. Не случайно именно в эту эпоху даже в медицине появляется особая концепция – «медицинский взгляд», как его назвал Мишель Фуко[209], желая обозначить решающий момент диагноза, когда доктор, осматривая пациента, как бы видит его «насквозь», прозревая истинную причину недуга на грани видимого и невидимого и удовлетворяя свое libido sciendi[210].
Руссоистский культ естественности, античные идеалы Французской революции и просветительская медицина не могли не изменить представлений о женской красоте. Отныне она связывается с раскрепощенной телесностью, во многом шокирующей пуританскую публику: общеизвестен скандал вокруг «Люцинды» Фридриха Шлегеля, но, пожалуй, более показательно и трогательно смущение английского поэта С.Т. Колриджа, когда он впервые в Германии увидел, как танцуют вальс.
Новая эротичность облика достигалась в первую очередь благодаря игре просвечивающих поверхностей в «нагой моде»: нижнее белье заменялось трико телесного цвета, а порой прозрачные газовые туалеты надевались прямо на обнаженное тело. Чтобы создать эффект «мокрой ткани», женщины слегка увлажняли наряды перед балом, так что прилипающая к телу туника ясно обрисовывала фигуру, как у Ники Самофракийской. Подобный прием, по свидетельству Винкельмана, был в ходу у античных скульпторов: «Греческая драпировка выполнялась в большинстве случаев с тонких и влажных одеяний, которые, следовательно, как известно художникам, плотно облегают кожу и тело и позволяют видеть его наготу»[211]. В Новое время эти рискованные игры, разумеется, давали повод для сравнительных рассуждений о нравах. «Спартанские женщины были более надежно защищены от нескромных взоров общественным мнением, чем некоторые английские леди, облаченные в мокрые одежды», – замечает проницательный мистер Персиваль, герой романа «Белинда» (1801)[212]. В странах с прохладным климатом, например в России, подобные дамские экзерсисы нередко приводили к простудам даже со смертельным исходом, но страсть к новой моде оказалась сильнее: «Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете»[213].
Особое значение для эстетического восприятия имел тот факт, что туника была практически лишена отделки: «подол оторачивали простой каймой, не допускалось ни бахромы, ни развевающихся концов пояса, ни богатой вышивки»[214]. Как замечает А.Холландер, белое платье не только создавало иллюзию классической чистоты, но и дышало интенсивной эротикой[215]. Светлые оттенки и четкая графичность формы позволяли зрителю сосредоточиться на красоте фигуры и индивидуальности женщины, что подчеркивалось к тому же естественной вольностью манер. В толпе психей даму сердца выбирали не по тунике – напротив, туника как бы становилась невидимой, а наружу выступала та самая «непроизвольная, живая и теплая» сущность женщины, отмеченная Каролиной де ла Мотт Фуке.
В мужской моде в тот период прослеживаются аналогичные тенденции: появляются панталоны в обтяжку, обрисовывающие ноги и создающие удлиненный силуэт взамен грушевидного, исчезают парики – под знаком возрождения классики телесность обретает новые права в культуре.
Общая ориентация эпохи на античность, однако, была в значительной мере условной. Это было подражание тому эстетическому образу античности, который сформировался после раскопок Помпеи и Геркуланума и статей Винкельмана[216]. Реальная же античная одежда, как теперь известно, была несколько иной, нежели то представлялось любительницам «нагой моды». Она, во-первых, была преимущественно бесшовной, и оттого ценилось искусство красиво задрапироваться, заколов на плече материю пряжкой-фибулой; и, во-вторых, античные туники вовсе не обязательно были белыми, какими при раскопках выходили на свет божий статуи, столетиями пролежавшие в земле. Так что женщины XVIII–XIX веков подражали не настоящим древним гречанкам или римлянкам, а именно статуям.
Именно статуарность эстетически обеспечивала легкость идеализации женских образов, их богатый аллегорический потенциал: дама в тунике могла олицетворять и Свободу, и поэтическую Музу, и трагическую Любовь, будучи универсальным символом Возвышенного.
Однако уже в эпоху романтизма наметился конфликт между двумя эстетическими полюсами – Возвышенным и Готикой[217]. Их конфликт породил две конкурентные модели телесности, которые, конечно же, сказались в двойственной символике женской красоты – налет холодной абстрактности в образе женщины-статуи в контрасте с эротической теплотой. Это нашло свое отражение в мотиве оживающей статуи, очень распространенном в литературе того времени, – вспомним лишь «Венеру Илльскую» Мериме или «Мраморную статую» Эйхендорфа[218]. Такой мотив, порой трактуемый как пробуждение языческой чувственности под покровом повседневного рационализма, приобрел отчетливые готические обертоны в позднем романтизме. Антитеза смертного холода и жизненного тепла позволяет возвести его к архетипическому сюжету о «ночном госте»[219]: в мерцающей полупрозрачности женских форм культура начинает различать призрак смерти и суеверно принимать предосторожности против опасности.
Эволюция женского платья в первую половину XIX века протекает как будто всецело под знаком желания закрыть женское тело, отбросить смутные соблазны «нагой моды». Наращиваются и раздуваются рукава, все платье становится длиннее и массивнее. Талия постепенно спускается вниз и затягивается в поясе, в конце 1820-х годов постепенно возвращаются корсеты и силуэт-рюмочка, юбка приобретает форму колокола, причем под нее для придания пышности поддевается несколько нижних юбок. Сама материя платья утяжеляется: в моду входят бархат, плотный шелк, жесткие простежки. В подол платья со второй половины 1830-х годов принято подшивать «руло» – жгут из толстой ткани или валик, набитый ватой, чтобы платье стремилось к земле, – «легкокрылым» романтическим Психеям теперь уже не воспарить…
Шляпки также обнаруживают тенденцию к увеличению объема. Поля расширяются и начинают свисать, ограничивая поле зрения: что характерно, этот момент в моде совпадает с появлением «руло». Весь силуэт тянется вниз, женское тело как будто сникает, не в силах справиться с жизненными тяготами. Единственная часть тела, которой позволено фигурировать обнаженной, – плечи – тоже отмечена этим вектором земной гравитации: красивыми считаются покатые плечи. Их одобрительно сравнивают с бутылкой из-под шампанского.
Историки искусства заметили, что на протяжении XIX века идеал женской красоты развивался во многом под знаком возрастных изменений. В 1830-е годы это тип девочки-подростка, затем девушки и молодой женщины, и, наконец, в последние десятилетия на арене появляется зрелая, высокая, уверенная в себе дама[220]. Иногда применительно к английской моде подобную трансформацию связывают с взрослением и старением королевы Виктории, но, очевидно, существуют и более весомые причины – ведь образы статных уверенных дам становятся популярны после успешного старта движения суфражисток и кампании за всеобщее доступное образование для девушек. Столь же симптоматичны инфантильные, несчастные героини, как крошка Доррит, крошка Нелл и Флоренс Домби у Диккенса, возникшие в культуре раннего викторианства. Они воплощали витавшие в атмосфере идеи: женщина по природе слаба и беспомощна, как ребенок, и нуждается в поддержке и опеке.
В области моды эти более чем спорные убеждения подкреплялись даже «медицинскими» аргументами. Считалось, например, что женский позвоночник настолько слаб, что просто не в состоянии держать спину, и оттого необходимы корсеты. Девочек приучали носить корсет с трех-четырех лет. Понадобились десятилетия, чтобы сторонники рационального платья доказали с цифрами в руках вредоносность этих приспособлений для здоровья. Между тем именно корсеты, затрудняющие дыхание, были первопричиной многочисленных обмороков, воспетых в литературе как признак особой женской чувствительности и утонченности (в прямом и переносном смысле). Затянутый корсет считался верным свидетельством моральной чистоты и строгих нравов. Существовала даже поговорка «loose dress – loose morals» (свободное платье – свободные нравы), что, кстати, вполне адекватно семантике русского слова «распущенность». Вместе с тем тугой корсет имел, несомненно, и сексуальные коннотации, а расшнуровка корсета числилась среди эротических забав эпохи.
Другим столь же двойственным по символике изобретением является знаменитый кринолин, введенный в моду в середине XIX века англичанином Чарльзом Вортом. Ворт одевал императрицу Евгению, супругу Наполеона III, и был, по сути, первым профессиональным дизайнером одежды в современном понимании. Именно он не только взял в свои руки весь технологический процесс изготовления женского платья, но и стал активно влиять на курс моды, консультируя своих клиенток на всех этапах – от подбора ткани до определения фасона и конечного имиджа. Понять глубину этого переворота можно, лишь осознав, что до этого веками женское платье шили исключительно женщины, а мужчины, как правило, не только не допускались на примерки, но и вообще имели весьма туманное представление о конкретике изготовления дамских нарядов.
Что же представлял из себя «фирменный» продукт Ворта – кринолин? Слово это происходит от лат. crinum – волос и linum – полотняная ткань. Реальный кринолин XIX века – это хитроумный каркас для пышной юбки, многоярусная конструкция из параллельных соединенных обручей. Металлические обручи расширялись по мере приближения к подолу, а на уровне колен привязывались к ногам тесемкой, что, естественно, создавало немало затруднений при ходьбе, но зато, по замыслу Ворта, обеспечивало плавное колебание кринолина. Кринолин требовал особой семенящей походки, чтобы создавался эффект скольжения по полу. «Естественная грация движений» в тунике, о которой с такой радостью писала раньше Каролина де ла Мотт Фуке, в подобном скафандре была просто немыслима. Для того чтобы ткань юбки была натянута, в подол зашивали специальные грузики – более позднюю и увесистую модификацию руло.
Широкий размах кринолинов причинял много неудобств, допустим, при необходимости войти в узкую дверь или сесть в карету (кринолин мог достигать в ширину до двух метров), что был вынужден признать даже такой энтузиаст новой моды, как Теофиль Готье: «Более серьезное возражение против кринолина – его несовместимость с современной архитектурой и меблировкой. В ту пору, когда женщины носили фижмы, гостиные были просторными, двери – двустворчатыми, кресла – широкими; кареты без труда вмещали даму в самой пышной юбке, а театральные ложи не напоминали, как нынче, ящики комода. Ну что ж! Придется расширить наши гостиные, изменить форму мебели и экипажей, разрушить театры!»[221]
Столь радикальные меры, впрочем, не потребовались, поскольку хитроумный Ворт вскоре придумал особую пружинку, позволяющую сокращать диаметр обручей кринолина. «Рычаг управления» находился на уровне бедра, и, таким образом, хозяйка кринолина могла незаметно регулировать размеры своего туалета. Аналогичные механические устройства, как отмечает Р.М. Кирсанова, функционировали в пышных беретных рукавах, а в мужском костюме – в складном цилиндре «шапокляк»[222].
Таким образом, в культуре середины XIX века женское тело оказалось закованным в настоящую механизированную клетку: античные статуи превратились в готические автоматы. Гофмановская кукла Олимпия пришла на место Психеи: сбылись романтические «ночные» страхи. Закрытая механизированная одежда являлась идеальной проекцией мужских садомазохистских желаний, обозначая страх перед смертью и одновременно запретное наслаждение. Не случайно культура этого времени изобилует образами мертвых женщин – и в качестве объектов эротического вожделения (новеллы Э.По), и как тема для эстетизированного созерцания (прерафаэлиты), и даже как китч (популярные гипсовые маски «неизвестной утопленницы из Сены»)[223].
Живое женское тело внушало викторианцам неподдельный мистический ужас – менструации, например, были не только непроизносимым словом, но и воспринимались как тяжелое и таинственное недомогание. Даже в просвещенных кругах некоторые детали женского тела были чем-то загадочным и жутким: известный критик Джон Рескин, как гласит предание, упал в обморок во время первой брачной ночи, увидев лобковые волосы на теле своей невесты. Женщины практически не получали врачебной помощи во время родов, смертность от которых была очень высока[224]. «Медицинский» взгляд и утопия прозрачности сменились полной непроницаемостью: женская плоть была таинственна, непознаваема и опасна и потому требовала надежных многослойных покровов.
В полном облачении викторианская дама напоминала тяжело вооруженного рыцаря – вес ее туалета составлял примерно 17 килограммов. Шляпы с цветами, накидки, зонтик, жакеты, не говоря уж о кринолине, – все это составляло весьма громоздкий антураж. Однако внешняя часть наряда была еще относительно несложной по сравнению с тем, что поддевалось под нее. Помимо корсета и кринолина женщины носили шелковые рубашки, чулки, несколько нижних юбок и особые раздвоенные, не сшитые между собой полоски материи на бедрах[225].
Пикантность ситуации состояла в том, что обычных дамских панталон просто не существовало, и таким образом забронированная со всех сторон викторианская женщина парадоксально оказывалась уязвимой как для насилия, так и для простуды. Закрытые панталоны под юбкой считались верхом неприличия, поскольку символически это означало бы узурпацию предметов мужского туалета. Облегающие панталоны, обеспечивающие свободу движений, оставались привилегией сильного пола, и такое положение продолжалось вплоть до 1880-х годов, когда дамы-спортсменки сели за руль велосипеда и появились первые образцы «рационального» платья[226].
В таком контексте нас не должно удивить, что самой непристойной частью женского тела в викторианской культуре считались… ноги. Упаси боже было ненароком увидеть лодыжки красавицы! Кринолин как раз и служил защитной мерой предосторожности для чувствительных викторианских джентльменов. Для обозначения ног использовались разнообразные эвфемизмы – так, в светском обществе было принято говорить «конечности» (limbs). В целях охраны общественной нравственности во время музыкальных концертов драпировались ножки рояля, чтобы у слушателей не возникало неприличных мыслей.
Благодаря столь гипертрофированному вниманию наиболее табуированная часть женской фигуры одновременно внешне оказывалась наиболее акцентированной и даже вызывающей. В костюме это выражалось в визуальном увеличении объема дамских юбок. Помимо кринолина для этого служили турнюры – подушечки, подкладываемые ниже спины, создававшие характерный горбик, украшенный всевозможными бантами, рюшами и складками материи. Кульминация этой тенденции – более поздний фасон юбки «фру-фру», названный так в подражание звуку шуршащего подола, который состоял из ряда оборок и воланов, образующих сзади живописные волны на дамском платье. В результате костюм семиотически функционировал и как рекламная упаковка дамской стыдливости, и как тайная проекция мужских страхов и желаний.
Как видим, кринолин в культуре XIX века выступает как идеологическая противоположность туники. Туника и кринолин представляют две антиномические модели в истории европейского костюма и женской телесности XIX столетия.
V. Дендистская телесность
Телесный канон XIX века
Подлинный дендизм – продукт сочетания артистического темперамента и прекрасного тела в границах моды.
Сэр Макс БирбомАнглийский эссеист и критик Уильям Хэзлитт в своем очерке «On the look of a gentleman» (1821) дает весьма любопытное, можно сказать, культурно-антропологическое описание внешних физических признаков джентльмена: «Привычное самообладание определяет наружность джентльмена. Он должен полностью управлять не только выражением лица, но и своими телодвижениями. Иными словами, в его виде и манере держаться должно ощущаться свободное владение всем телом, которое каждым изгибом подчиняется его воле. Пускай будет ясно, что он выглядит и поступает так, как хочет, без всякого стеснения, смущения или неловкости. Он, собственно говоря, сам себе господин… и распоряжается собой по своему усмотрению и удовольствию…»[227] Описанный Хэзлиттом канон – идеал XIX столетия. Тело джентльмена, по Хэзлитту, – послушный инструмент, которым он владеет как профессионал: непринужденно и с приятностью. Но далее Хэзлитт, чувствуя, что это эффектное, но слишком общее определение, еще вносит дополнительные разграничения.
«Дело тут не только в легкости и в личном достоинстве. Требуется добавить retenuе[228], элемент обдуманного декора к первому и некоторую «фамильярность взгляда, гасящую внешнюю строгость»[229] ко второму, чтобы соответствовать нашему пониманию джентльмена. Вероятно, благопристойность (propriety) – самое точное слово применительно к манерам джентльмена; элегантность необходима утонченному джентльмену; достоинство – знатному человеку, а величие – королям»[230]. В этих афористических характеристиках Хэзлитта легко уловить, как он различает тип денди и джентльмена: денди у него соответствует «утонченному джентльмену», которому свойственна элегантность.
Пример подобной элегантности для Хэзлитта – лорд Уэллесли. Он поясняет: «Элегантность – нечто большее, чем отсутствие нескладности или стеснения. Она подразумевает четкость (precision), блеск и изысканность манер, что создает эффект живости и воодушевления, не нарушая учтивости»[231]. Как видим, общее впечатление от внешности джентльмена неразрывно связано с манерами, костюмом и умением преподнести себя. Поэтому практически невозможно говорить о красоте и владении телом в отрыве от историко-культурного контекста.
Элегантность и подвижность
В любую эпоху немаловажное значение для элегантности имел тип одежды, определявший допустимую меру телесной подвижности. Напомним, что исторически каждый костюм подразумевал определенную серию жестов, ограничивая одни движения и санкционируя другие. Так, дамские панье[232] XVIII века не позволяли опустить руки, и подобное ограничение принималось как норма. Только к концу XIX века появилось первое «реформированное» платье, в котором можно было кататься на велосипеде, но даже в 20-е годы XX столетия Коко Шанель приходилось спорить с мужчинами-кутюрье, на полном серьезе недоумевавшими, зачем делать свободные проймы: неужели женщине надо поднимать руки?
Мера телесной свободы зависела и от тесноты костюма, и от эластичности тканей: например, в английском костюме первых десятилетий XVII века отказываются от старых каркасных форм и начинают использовать новые эластичные материалы, что приводит к совершенно новой манере держаться: «Дворянин теперь в общении с окружающими не только не стоял “столбом”, но, слегка наклонившись и немного выдвинув вперед правую ногу, “держал корпус” едва уловимым легким движением, которое позволяло, не задерживая разговор, лишь перекинуться несколькими словами с кем-либо из окружающих. Этот новый облик английского аристократа, простой и непринужденный, возник потому, что… промышленность здесь была уже настолько совершенна, что появилось много тканей, обладающих большой степенью эластичности»[233]. В этом дотошном описании, принадлежащем перу М.Н. Мерцаловой, схвачен тонкий алгоритм: мужская элегантность начинает ассоциироваться с телесной подвижностью. Этот бином ложится в основу идеала светского человека, который обладает особой ловкостью, позволяющей в любой ситуации сохранять отточенность жестов.
О. Верне. Щеголь. 1811 г.
Так, в романе «У Германтов» Пруст рисует портрет молодого денди-аристократа Сен-Лу. В ресторане Сен-Лу выбирает кратчайший путь между столиками и двигается, балансируя, по спинке скамьи, чтобы передать Марселю теплый плащ. По пути он перепрыгивает через электрические провода «так же ловко, как скаковая лошадь перескакивает через барьер». Все посетители ресторана застывают в восхищении перед его искусной вольтижировкой. Марсель видит в этой грациозной пробежке проявление аристократической телесности; с его точки зрения, бессознательное физическое изящество – следствие благородного происхождения. Эта врожденная гибкость делает тело Сен-Лу «мыслящим и прозрачным», сообщает «легкой пробежке Сен-Лу загадочную прелесть, какой отличаются позы всадников на фризе»[234]. Тело Сен-Лу как квинтэссенция аристократизма даже более важно для Марселя, чем душевные качества приятеля. В его манерах он усматривает «остатки древнего величия» предков: простоту, непринужденность, пренебрежение к материальным ценностям. С этой трактовкой согласен и Мераб Мамардашвили. «Прыгающий Сен-Лу есть спиритуализированная игрушка идеи аристократа, если я рассматриваю эту идею как прозрачное тело», – говорил он в своих лекциях о Прусте[235]. Здесь перед нами уже не просто красивое тело, а сословно-красивое тело. Это особый концепт, мистический фантом прекрасного и благородного аристократизма.
На самом деле светская элегантность и телесная ловкость Сен-Лу были, разумеется, не врожденными качествами, а достигались за счет интенсивных тренировок. Не говоря уж о том, что Сен-Лу по сюжету – военный и владеет искусством верховой езды, он наверняка обучался танцам.
В ряду светских умений танцы стояли на первом месте, оптимально сочетая в себе как физические упражнения, так и развитие музыкальных способностей и чувства ритма. Мальчики и девочки в обязательном порядке учились танцевать, а это на всю жизнь закладывало навыки прямо держаться и грациозно двигаться. Как справедливо замечает Р.М. Кирсанова[236], позы людей на старых портретах часто восходят к танцевальным навыкам: умение держать спину, прямаяпосадка головы, разведенные в стороны локти, балетная «выворотность» ног – все это предписывалось учебниками танцев. Красивая осанка считалась первейшим педагогическим требованием и приравнивалась к моральной добродетели: считалось, что человек с прямой спиной уж точно имеет внутри твердый «нравственный стержень». Именно по этим тонким признакам узнавался человек благородного происхождения. Отсюда и неуловимое сходство портретов знатных людей одной эпохи. «Изящество поз в повседневной жизни становилось своеобразным знаком сословной принадлежности, более точным признаком “подлинности”, нежели костюм или прическа», – пишет Р.М. Кирсанова. Не случайно в российской живописи «сцепленные пальцы рук или сутулые плечи можно встретить только у художников второй половины XIX столетия, когда моделью живописцу стали служить люди, не имевшие должной школы (некоторые герои Крамского, Перова или Ярошенко)»[237].
Светская дисциплина обязывала человека владеть набором определенных навыков. Решающий внешний признак, как мы уже говорили, – осанка. Но помимо умения держать спину он должен непринужденно обращаться с мелочами – тростью, шляпой, табакеркой, чашкой кофе, изящно носить костюм, ловко двигаться в компании. «Когда все были уже в столовой, ко мне подошла герцогиня Германтская, – ей хотелось, чтобы я повел ее к столу, и я не ощутил ни малейшей робости, хотя, подойдя к ней не с той стороны, с какой требовалось по этикету, вполне мог бы оробеть, если бы эта охотница, своей неподдельной грацией обязанная врожденной гибкости мускулов, заметив мою оплошность, не рассчитала оборот вокруг меня до того верно, что я почувствовал, как движение ее руки, которая легла на мою, совершенно безошибочно определило ритм последующих движений герцогини, изящных и точных. Мне тем легче было им подчиниться, что Германты не кичились своей грациозностью, как не кичится образованный человек своей образованностью, и потому в его обществе вы не так робеете, как в обществе невежды»[238]. «Незаметность» грациозности герцогини Германтской – аналог дендистского принципа «заметной незаметности» в костюме.
Типичное описание аристократических талантов можно найти у Бальзака, когда он рисует портрет денди Анри де Марсе (прототипом этого героя был граф д’Орсе): «Этот молодой человек с юношески свежим лицом и с детскими глазами обладал храбростью льва и ловкостью обезьяны. На расстоянии десяти шагов, стреляя в лезвие ножа, он разрезал пулю пополам; верхом на лошади воплощал легендарного кентавра; с изяществом правил экипажем, запряженным цугом; был проворен, как Керубино[239]; был тих, как ягненок, но свалил бы любого парня из рабочего предместья в жестокой борьбе “сават” или на дубинках; играл на фортепьяно так, что в случае нужды мог бы выступать как музыкант, и обладал голосом, который у Барбаха приносил бы ему пятьдесят тысяч франков в сезон»[240].
Подобный универсализм светского человека преподносится Бальзаком как редкое исключение: не будем забывать, что Анри де Марсе – прежде всего денди-аристократ, наделенный уникальной красотой. В первые декады XIX века дендистское владение телом подкреплялось солидной спортивной подготовкой. Многие денди прошли через армейскую школу, что обеспечивало как минимум осанку, умение носить мундир и ездить верхом. Как мы помним, Браммелл в юности служил в драгунском полку, а его близкий приятель-остроумец лорд Алванли был гвардейским офицером и участвовал в малоудачной Уолчеренской экспедиции с целью отбить Антверпен у французов в 1809 году.
В XIX веке были очень популярны соревнования по ходьбе, бегу и верховой езде. Чаще всего они проводились на спор, под немалые денежные залоги. Лорд Алванли в 1808 году пробежал милю меньше чем за 6 минут по Эджвэрской дороге и выиграл 50 гиней. Это был еще довольно скромный выигрыш: в сентябре 1807 года один офицер выиграл на пари 1000 гиней, проскакав на лошади от Ипсвича до Лондона за 4 часа 50 минут расстояние в 70 миль.
Другие рекорды отличались нестандартной постановкой задачи: в марте 1808 года ученик шляпника 19 раз обежал ограду вокруг собора Святого Павла в Лондоне, но сумма пари была невелика: 20 гиней. А капитан Баркли прошел 1000 миль за тысячу часов, что заняло у него 42 дня, и получил 100 000 фунтов. Спорт, как и карточные игры, был азартным развлечением и нередко способствовал обогащению.
Знаменитым спортсменом эпохи Регентства в Англии был Джон Джексон, владелец гимназии на Олд Бонд-стрит. Сам лорд Байрон брал у него уроки бокса. «Джентльмен Джон», как его все называли, был атлетом-универсалом: он бегал на короткие дистанции, занимался прыжками и борьбой. Джексон передвигался по Лондону (это замерялось!) со скоростью пять с половиной миль в час. Во время его показательных выступлений наибольшим успехом пользовался следующий номер: Джон подвешивал груз в 84 фунта (около 37 килограмм) к мизинцу и писал свое имя. Он, однако, не зарабатывал денег за счет пари. Его представления часто имели благотворительный характер: в 1811 году сборы пошли на помощь пострадавшим от войны с Португалией, в 1812 году – в поддержку английских солдат, попавших в плен во время Наполеоновских войн. 15 июня 1814 года Джон боксировал на спортивном празднике в честь российского императора Александра I и прусского фельдмаршала Блюхера. Во время коронации Георга IV он возглавлял спортивный парад, участники которого были одеты в костюмы королевских пажей.
Тело Джона Джексона вызывало всеобщее восхищение. Современники называли этого спортсмена «the finest formed man in Europe» – «мужчиной с самым лучшим телосложением в Европе». При росте 183 сантиметра он весил 89 килограммов, у него был «благородный разворот плечей, тонкая талия, сильные икры, округлые колени и маленькие, изящные кисти рук»[241].
Сознавая свою красоту, Джексон одевался подчеркнуто театрально, предпочитая нарочито броские цвета. Он носил ярко-красный сюртук, отделанный золотой вышивкой, рубашку с кружевными оборками, голубую атласную жилетку, шляпу с широкой черной лентой, короткие штаны до колен из буйволовой кожи, полосатые белые шелковые чулки и туфли-лодочки со стразами на пряжках. Костюм этот сразу обращал на себя внимание не только своей декоративной пестротой, но и нарочитым архаизмом: это был утрированный стиль XVIII столетия, что, очевидно, призвано было подчеркнуть уникальность известного спортсмена. Он не хотел сливаться с толпой и позиционировал себя как человек прошлого, великан – Гулливер среди лилипутов. По свидетельствам современников, когда он шел по улице, мужчины смотрели на него с завистью, а женщины с восхищением. Хотя в свое время Джон Джексон был кумиром, ныне он мало кому известен, и оттого нам было тем более приятно рассказать о нем.
Охотничий костюм французского денди. 1833 г.
Денди-спортсмены
В британском дендизме изначально конкурировали два течения: «спортсмены» и «красавцы» (щеголи). «Спортсмен» именовался «Buck» (парень), а «красавец» – «Beau» (букв. «красивый» – заимствование из французского), он являл собой в начале XIX века модернизированный вариант прежнего типа щеголя. Эти два типа, хотя частенько сосуществовали в светской жизни, на самом деле были очень непохожи друг на друга. «Красавцы» не отличались особой любовью к спорту и с презрением относились к «парням». Они уделяли много времени моде и уходу за собой, стараясь быть эстетами до кончиков ногтей. Лучшим развлечением для них был неторопливый променад в городе, посещение любимого антикварного магазина или визитк портному. Денди-красавцы презирали «грубые» сельские развлечения вроде охоты на лис или скачек с препятствиями. (Вспомним, что чистюля Бо Браммелл даже пытался вносить поправки в устав клуба Ватье, чтобы запретить вход в клуб сельским джентльменам, пахнущим конюшней.)
Денди-спортсмены, напротив, увлекались лошадьми, охотой, боксом. В то время многие лорды имели «своих» боксеров, которые выступали под их патронажем. Аристократы спонсировали этих спортсменов и сами брали уроки бокса, как Байрон. Спортивные щеголи проводили время между конюшней и боксерскими залами – кстати, самый известный в Лондоне зал на Олд Бонд-стрит как раз принадлежал нашему старому знакомому – атлету Джону Джексону.
Конан Дойль в романе «Родни Стоун» упоминает обычаи этого круга: «В те времена, если джентльмен хотел прослыть покровителем спорта, он время от времени давал ужин любителям; такой вот ужин и устроил дядя в конце первой недели моего пребывания в Лондоне. Он пригласил не только самых в ту пору знаменитых боксеров, но и великосветских любителей бокса… В клубах уже знали, что на ужине будет присутствовать принц, и все жаждали получить приглашение»[242].
Подобный ужин – лишь мелкий штрих к портрету британских денди-спортсменов.
В уже упоминавшейся книжке Пирса Эгана[243] были подробно описаны и балы, и игорные дома, и увеселительные парки, и занятия боксом, и аукционы лошадей. Многие из тогдашних развлечений могут показаться странными современному читателю. Так, среди излюбленных забав начала XIX века были популярны «gentleman coaching» – скоростные поездки в конных экипажах. Многие молодые модники обожали лично управлять экипажем, и для них это было главным жизненным увлечением, престижным хобби. Денди-спортсмены, специализирующиеся на «gentleman coaching», имели прозвище «Whips» («кнуты»). Район их передвижений не ограничивался элитарным Вест-Эндом – напротив, они лихо разъезжали по всему Лондону и были любителями породистых лошадей и хороших экипажей. Будучи городскими жителями, «Bucks» тем не менее проповедовали ценности сельских джентльменов: главным для них было разбираться в конских и собачьих породах, лихо водить экипаж и при случае уметь дать сдачи.
Типичный день денди-спортсмена описан Кристианом Геде: «Он встает не раньше одиннадцати, после легкого завтрака надевает редингот и идет на конюшню. Там он беседует по всем каждодневным вопросам со своим грумом и кучером и отдает им сотни приказаний. Затем щеголь едет прогуляться или верхом, или в собственном экипаже с двумя грумами, катается по всем модным улицам и по Гайдпарку, посещает магазины поставщиков седел и лошадиной сбруи. Непременный пункт маршрута – заезд в Таттерселл[244], где он встречается с друзьями и обсуждает сравнительные достоинства разных лошадей… около трех он направляется в модный отель на ланч и к пяти прибывает домой. Его уже ждет камердинер с приготовленным костюмом, он приводит себя в порядок, одевается и к семи часам едет на обед. В девять он в опере, однако отнюдь не для того, чтобы смотреть спектакль, а чтобы показать себя и флиртовать с леди, сидящими в ложах. После оперы – два-три светских раута, и к четырем часам он возвращается домой, совершенно изможденный»[245].
Правя экипажами, щеголи изощрялись в искусной езде по узким лондонским улочкам. Модными экипажами были низкий «Tilbury» и «Dennett», подходившие для повседневных поездок. Для парадных же выездов применяли фаэтон, запряженный четверней. Принц Уэльский ездил в экипаже с шестеркой лошадей.
Особым шиком считалось подражание кучерским манерам: уметь ругаться, как извозчик, и сплевывать сквозь зубы. Иные денди даже специально удаляли себе один из передних зубов, чтобы плеваться, как профессионалы. Один энтузиаст по имени мистер Акерс не только удалил себе зуб, но и заплатил затем 50 гиней известному кучеру Дику-Исчадью-Ада, чтобы он обучил его заправски плеваться жевательным табаком. Весьма высоко котировалось и умение непринужденно изъясняться на жаргоне лондонских кокни.
Денди-спортсмены объединялись в специальные клубы: «Barouche club», «Defiance club», «Tandem club». Особенно популярны были клубы «Четверка» и «Кнут» («Four in hand», «Whip club»). Члены этих клубов имели специальную униформу: они носили однобортный темно-зеленый редингот с удлиненной талией и с желтыми пуговицами, жилеты в желтую или синюю полоску, белые бриджи, короткие сапожки и остроконечную шляпу с широкими полями. В петличку заправляли букетик мирта или герани[246]. Некоторые «кнуты» считали особым шиком одеться в тон лошадиной упряжи, так чтобы кучер с экипажем составляли ансамбль. Самым знаменитым из этих клубов был «Four in hand». Как свидетельствует Джон Тимбс, «экипажи членов клуба “Четверка” отличались элегантностью и были легче, чем почтовые. В них запрягали самых красивых и породистых лошадей, которых только можно было сыскать. Владелец, знатный джентльмен высокого положения, обычно сам управлял экипажем, одеваясь для этого выезда как кучер почтовой кареты. Согласно уставу, все члены клуба выезжали в полдень в город, направляясь от Пикадилли к Виндзорской дороге, а лакеи на запятках трубили в серебряные рожки»[247]. «Намеренно нарушая классовые роли… клубы типа “Четверки” функционировали на границе дендизма, спорта и театральной культуры», – замечает Майкл Геймер[248].
Знатные аристократы почитали за честь, если их принимали за кучеров. Как объяснить этот парадоксальный факт? Рискуя модернизировать материал, мы можем предположить, что игры с намеренным подражанием низшим классам и увлечение скоростью в чем-то предвосхищают субкультуру байкеров и гонки «Ангелов ада» в XX веке. Скорость всегда связана с ореолом престижности и опасности – быстрая езда в каретах представляла в то время единственно возможный в городской обстановке экстрим.
Кроме того, тут стоит вспомнить о повсеместной популярности конного спорта в Англии: ведь именно в XVIII столетии умелая верховая езда приобретает статус публичного зрелища. В 1768 году в Лондоне бывший кавалерист Филип Эстли создает первый конный цирк на базе собственной школы верховой езды[249], а его конкурент Чарльз Дибдин в 1780 году открывает «Королевский цирк». Поход в цирк становится любимым развлечением горожан. Конный номер обеспечивает аншлаг даже в театре – в лондонском Ковент-Гардене в спектакле «Синяя борода» (1811) была введена специальная конная сцена, где участвовали 20 лошадей, – это резко повысило сборы.
Однако эти факторы еще не полностью объясняют, почему аристократы не боялись опрокидывать сословную иерархию, подражая кучерам и в костюме, и в манерах. Ответ на этот вопрос надо искать в расстановке классовых акцентов в английском обществе эпохи Регентства. Знатные лорды были настроены явно антибуржуазно – коммерсантам и банкирам был закрыт вход в элитарные клубы и светские салоны. Но в то же время они не брезговали общаться с простыми людьми, по примеру сельских джентльменов, знающих в лицо всех работников и слуг своего поместья. А если этот «простой человек» (кстати, дежурный герой поэтов-романтиков, не устоявших перед его обаянием) к тому же обладал полезными навыками – спортивностью, умением водить экипаж и разбираться в породах лошадей и собак, то игровое «заимствование» его стиля приобретало характер социальной бравады[250].
В начале XIX века аристократы привечали, как мы помним, не только кучеров, но и боксеров. Ужин для боксеров, о котором говорилось в начале, устраивается в простонародном кабаке: «Заведение “Карета и кони” было хорошо известно любителям спорта, его держал бывший боксер-профессионал. Этот низкопробный трактир мог удовлетворить только самым богемным вкусам. Люди, пресыщенные роскошью и всяческими удовольствиями, находили особую прелесть в возможности спуститься в самые низы, так что в Ковент-Гардене или на Хеймаркет под закопченными потолками ночных кабаков и игорных домов зачастую собиралось весьма изысканное общество – это был один из многих тогдашних обычаев, которые теперь уже вышли из моды. Изнеженным сибаритам нравилось иной раз махнуть рукой на кухню Ватье, Уда, на французские вина и пообедать в портерной грубым бифштексом, запивая его пинтой эля из оловянной кружки, – это вносило разнообразие в их жизнь»[251]– таковы нравы Регентства в изложении Конан Дойля.
В уже цитированном романе «Родни Стоун» описывается состязание между двумя лордами – великосветскими кучерами. Один из них – сэр Джон Лейд, о котором говорится, что, «окажись он в трактире, среди настоящих кучеров, он вполне сошел бы там за своего, и никто бы не догадался, что это один из богатейших землевладельцев Англии»[252]. Сэр Джон женился на дочери разбойника Летти (вот еще один пример «социалистических» настроений!), которая разделяла его хобби – обожала быструю езду и умела ругаться отборнейшей бранью. Его соперником в романе выступает изысканный денди сэр Чарльз Треджеллис, обладатель великолепной коляски «с двумя крепкими, запряженными цугом лошадьми, шерсть которых блестела и переливалась на солнце». Сэр Чарльз не бранится последними словами – он изображен как изысканный денди, чистюля и конкурент Браммелла в вопросах моды. Он выигрывает гонки, строго следуя законам джентльменской чести, в то время как леди-разбойница пытается нарушить правила, и в результате рискованного маневра ее лошадь получает ранение. Здесь мы видим важнейший критерий, разделяющий аристократов, подражающих «кучерам», и простонародных любителей скачек: кодекс джентльменской чести.
Денди – спортсмен
Многое объясняет в этой сфере история знаменитого Жокей-клуба. Традиционно скачки проводились в Ньюмаркете, здесь со времен Иакова I (начало XVII века) на местном ипподроме проводились бега, и все делали ставки[253]. Ньюмаркет был чрезвычайно популярен как среди бедных, так и богатых, ставивших порой очень крупные суммы; но, увы, на скачках процветало мошенничество, твердых правил не существовало. С этой ситуацией пытались бороться даже с помощью парламентских биллей, но и они оказались неэффективными – жулики ловко обходили все попытки контроля. Наконец в 1752 году в Нью-маркете был создан Жокей-клуб, объединивший самых влиятельных аристократов, чьи лошади регулярно участвовали в бегах. В те времена владельцы сами выступали на скачках – наемные профессиональные жокеи появились немного позднее. Именно это лобби знатных коневладельцев сумело переломить ход событий и учредило ряд строгих правил – от взвешивания жокеев до порядка приема ставок. Тем самым была продемонстрирована важная закономерность: «Жокей-клуб показал, что даже в столь подверженном коррупции спорте, как бега, самым действенным методом контроля выступает произвольное управление группы людей, чей авторитет непререкаем, поскольку подкрепляется их социальным статусом и богатством. Это делает их вердикты справедливыми и беспристрастными, в то время как закон и полиция бессильны»[254]. В итоге неофициальный контроль лобби уважаемых людей оказался наилучшим способом наведения порядка.
Свод правил для скачек, введенных аристократами, стал работать как спортивный кодекс чести, объединяющий джентльменов. Жокей-клуб долго не публиковал списки своих членов, но всем было известно, что в его ряды входят самые влиятельные английские лорды во главе с членами королевской семьи. Это способствовало расцвету скачек как важнейшего светского развлечения: в 1780 году двенадцатый граф Дерби учреждает прославленные бега, носящие его имя.
К концу XVIII века аристократы все чаще стали нанимать профессиональных жокеев для участия в скачках, и тем самым утвердился еще один существенный принцип, действующий до сих пор: «Профессионалы должны выступать под контролем известных любителей с незапятнанной репутацией – эта модель легла в основу управления спортом, сначала на национальном уровне, а потом и на международном»[255].
Аристократы были патронами скачек точно так же, как леди-патронессы управляли клубом Олмакс[256]. Они строго следили за надлежащим исполнением правил и, если замечали малейшие проявления нечестности, сразу изгоняли провинившихся. Жертвой их строгости пал даже принц Уэльский. В 1791 году его лошадь Escape была снята с соревнований после громкого скандала со ставками, в котором фигурировал жокей принца Сэм Чифни. После этого расстроенный принц продал всех своих скаковых лошадей и отказался от дальнейшего участия в скачках.
Со временем популярность Жокей-клуба росла: члены клуба выкупили территорию ипподрома в Ньюмаркете, так что их неформальная власть получила четкое экономическое подкрепление. Были учреждены престижные бега «Две тысячи гиней» и «Тысяча гиней». Жокей-клуб выпускал «Календарь скачек» и «Племенную книгу лошадей» – эти издания изучались от корки до корки в каждом аристократическом доме.
Престижность конного спорта к концу XVIII столетия была уже столь высока, что Жокей-клуб сделался своего рода культурной эмблемой Англии. Костюм для верховой езды существенно повлиял на мужскую моду – британский riding coat превратился в универсальный французский «редингот». Жокейские сапожки и светлые панталоны прочно закрепились в мужской моде не только в Англии, но и во Франции, где в середине 1790-х годов наблюдается новый всплеск англомании в мужском костюме. На известном портрете Пьера Серизиа кисти Давида (1795) отчетливо видно влияние британского стиля: на месье Серизиа – темно-зеленый редингот и светлые замшевые панталоны, а в руке он держит хлыстик для верховой езды.
В 1834 году, когда Францию накрыла следующая волна англомании, в Париже был наконец-то создан свой Жокей-клуб[257]. Среди его основателей был известный знаток конного спорта лорд Сеймур, которого называли «отцом французского ипподрома». Во многом благодаря его деятельности в это десятилетие во Франции возникла мода на все английское, и среди парижских денди стало считаться шиком разбираться в лошадях. «Чтобы стать львом или денди, необходимо, среди прочего, быть членом Жокей-клуба и сломать себе одно или несколько ребер на скачках с препятствиями. Между тем на практике многие из членов клуба никогда не участвовали ни в каких скачках и довольствовались тем, что уделяли большое место лошадям… в разговорах»[258]. Так что среди французов настоящих денди-спортсменов оказалось не так уж много. Ну а в Англии денди-красавцы принципиально не стремились заниматься конным спортом, воспринимая лошадь скорее как модный аксессуар. В лучшем случае они неспешно катались по лондонским улицам в небольшом удобном фаэтоне «визави» или делали ставки на скачках. Рисковать своей красотой отнюдь не входило в их планы.
Разделение на два типа денди отчетливо работает в британской культуре начала XIX века. Но не стоит забывать, что оба типа – красавцы и спортсмены – исторически менялись. Родословная «красавцев» восходит к традиции английского щегольства XVII–XVIII столетий, а к концу XIX века «красавец» превратился в денди-эстета. Были, естественно, и блистательные исключения: знаменитый денди середины столетия граф д’Орсе счастливо сочетал в себе обе ипостаси – и красавца, и спортсмена.
Дендистские жесты и гангстерский стиль
Пластика танцевальных поз обеспечивает самодостаточную замкнутость денди. Телесный канон дендизма – гладкая защитная скорлупа элегантных жестов, экономия самовыражения – отсюда логически вытекает и отчужденность, и непредсказуемость, провозглашенная в правиле «сохраняя спокойствие, поражать неожиданностью».
Жесты подлинного денди отличаются минимализмом, но за скупостью рисунка здесь проступает особая смысловая нагрузка. Бо Браммелл величественно кивал своим знакомым, сидя у окна клуба Уайтс. Из этой же серии демонстративных жестов – открывание табакерки виртуозно выверенными движениями, так чтобы показать изящные манжеты.
Трактаты по элегантности того времени категорически не советовали своим читателям размахивать руками, задирать руки над головой, засовывать их в карманы[259]. Рекомендовалось занять руки какой-нибудь изящной мелочью – тростью, табакеркой или моноклем. По экономной эффективности жестов денди можно сравнить с гангстером, щелчком пальцев решающим судьбу человека. Ролан Барт, анализировавший гангстерскую поэтику непринужденности, заметил, чтоза подобными лаконичными жестами стоит солидная культурная традиция, «начиная с античных богов, решавших человеческие судьбы кивком головы, и кончая волшебной палочкой в руках феи или фокусника»[260]. Смысловая наполненность скупых гангстерских жестов объясняется тем, что они прямо указывают на действие, часто минуя инстанцию слов. «Но чтобы в жесте обозначилась полная слиянность с поступком, – продолжает Ролан Барт, – необходимо сгладить в нем полную эмфазу, истончить его почти до полной незаметности, чтобы по своему объему он был не более чем связью между причиной и следствием»[261].
Экономика дендистского жеста работает по тем же законам, и подобная «истонченность» – одно из проявлений общего принципа «заметной незаметности», когда информация считывается по деталям. Внимание к знаковой детали, но не в одежде, а в сфере телесности – это и есть основа восприятия минималистского жеста. Перформативность дендистского взгляда, значимость визуальных жестов отсылает все к той же тенденции.
Наконец, минимализм дендистских жестов структурно подобен лаконизму дендистского слова. Денди никогда не будет повторять дважды или надоедать занудным многословием. Излюбленный жанр высказываний денди – краткая остроумная реплика, которая порой прямо увязана с жестом: «Я вел его под руку всю дорогу от клуба Уайтс до Ватье» – жест символической заботы о молодом человеке.
Итак, дендистские жесты – идеальное воплощение принципа экономии, намеренного минимализма в сфере телесности.
Непроницаемое лицо
В учебниках танцев подробно описывалось выражение лица, приличествующее благородному человеку: чуть приподнятый подбородок, прямой взгляд, означающий «приятную веселость», полуулыбка, при которой зубы остаются закрытыми. Самый интересный эффект такого канонического изображения – таинственность мерцающего взгляда на портретах XVIII века, что связано с известным приемом следящего зрачка.
Имеет смысл сопоставить эти наблюдения с типологией лица джентльмена, которую дает все тот же Уильям Хэзлитт: «Выражение лица джентльмена или хорошо воспитанного светского человека отличается не столько утонченностью, сколько подвижностью; чувствительностью или энтузиазмом в той же мере, сколь и равнодушием: оно скорее свидетельствует о присутствии духа, чем об интеллектуальном усилии (enlargement of ideas). В этом смысле оно несходно с лицом героя или философа. Вместо сосредоточенности и целеустремленности ввиду великого события оно рассеивается и распадается на бесчисленное множество мимолетных выражений, приличествующих различным незначительным ситуациям: вместо отпечатка общей идеи или работы мысли, Вы видите мелкие, банальные, осторожные, подвижные черты, выдающие осознанное, но скрытое самодовольство»[262]. В этом пассаже интересна отмеченная Хэзлиттом игра выражений на лице: это очень тонкое наблюдение с богатым будущим в философии нашего века.
Из этой же серии – «фамильярность взгляда, гасящая внешнюю строгость»: выражение лица светского человека все время «бликует», мерцает, по нему пробегают и сталкиваются мгновенные, парадоксально противоречивые выражения. Сам Хэзлитт называет описанный феномен «telegraphic[263] machinery of polite expression» – «быстрой машинерией вежливых выражений»[264].
Суммарный эффект светского лица – непроницаемость. Это динамичное, но совершенно закрытое для интерпретации лицо. Непроницаемость дает позицию власти, поскольку не позволяет догадываться об истинных намерениях человека. Это твердая исходная нейтральность, позволяющая разыгрывать множество комбинаций в зависимости от ситуации.
Полная непроницаемость лица, однако, невозможна просто физически. Согласно известному психологу Эрику Берну, «нервная система человека сконструирована так, что визуальное воздействие движения лицевых мускулов гораздо сильнее, чем кинетическое. Например, маленькие мускулы вокруг рта могут сдвинуться только на пару миллиметров, причем сам человек порой даже этого не заметит, однако окружающие могут воспринять такое выражение рта как какой-то определенный знак»[265]. Обычно человек не осознает, насколько подвижность лицевых мускулов отражает его душевное состояние, и оттого по выражению лица, особенно в первые секунды общения, можно считать гораздо больше информации, чем полагает собеседник. Маленькие дети, которые безбоязненно «глазеют», нередко абсолютно безошибочно чувствуют и настроение, и намерения человека. И более того, как считает Эрик Берн, лицо непроизвольно «излучает» и гораздо более существенную информацию – о жизненном сценарии, типе характера и силе личности. «Сам того не сознавая, человек подает сценарные сигналы. Окружающие в основном реагируют именно на них, а не на его “персону” или на его представление о самом себе. В результате сценарий может разворачиваться независимо от его желаний»[266].
Именно выражение лица во многом определяет наше «первое впечатление» о человеке. Открытое естественное выражение лица спонтанно раскрывает характер личности и ее излюбленный сценарий в общении. Неподконтрольность лица можно сравнить с непокорной природой, а непроницаемость лица, вырабатываемую путем опыта и тренировок, – с культурой. Денди, отстаивающие во всем принцип искусственного, победу культуры над природой, разумеется, всеми силами пытались добиться эффекта непроницаемого лица. Вот, к примеру, в романе Бульвера-Литтона описан небольшой и в высшей степени типичный светский поединок: «И тут он опять испытующе посмотрел мне в лицо. Глупец! Не с его проницательностью можно прочесть что-либо в cor inscrutabile[267]человека, с детских лет воспитанного в правилах хорошего тона, предписывающих самым тщательным образом скрывать свои чувства и переживания»[268].
Дендистский канон «неподвижного лица» нацелен на непроницаемость и внутреннюю и внешнюю, равным образом как и правила «ничему не удивляться» и «медленно двигаться». Если на лице внимательный взгляд наблюдателя мог прочитать ту или иную эмоцию – это поражение: обладатель «читаемого» лица – потенциальная жертва критического или классифицирующего взгляда, готовый объект для саркастической реплики или сплетни. Напротив, дендистский взгляд, то острый, то рассеянно-невидящий, как раз обеспечивал позицию власти. Главное при такой позиции – не дать выглянуть внутреннему «ребенку», не обнаружить свои непосредственные переживания, надеть на лицо невидимую маску.
Заметим, что для достижения эффекта «непроницаемого» лица существовали и другие средства. Женщины середины XIX века обожали использовать рисовую пудру, которая придавала лицу сходство с греческой статуей, стирая индивидуальность во имя абстракции, архетипа. Шарль Бодлер замечал: «пудра создает видимость единства в фактуре и цвете кожи; благодаря ей кожа приобретает однородность, как будто она обтянута балетным трико»[269]. Похвала косметике, которая выходила из-под пера не только Бодлера, но и Теофиля Готье и позднее Макса Бирбома, полностью укладывается в эту философию, поощряющую искусственность и самообладание.
Многие денди также не пренебрегали косметическими средствами для ухода за кожей, рискуя навлечь на себя упреки в женственности. В трактате «Искусство одеваться» (1830) анонимный автор, скрывшийся под псевдонимом «офицер кавалерии», рекомендует джентльменам делать маски для лица из овсянки и умывать лицо исключительно теплой водой с мылом «brown Windsor», так как обычное мыло – слишком грубое. Для смягчения кожи рук он советует применять воск и оливковое масло: «состояние рук – показатель джентльмена»[270].
Пелэм, главный герой романа Бульвера-Литтона, пользуется миндальным кремом для лица и прилежно душится одеколоном. Персонаж романа Джейн Остен «Доводы рассудка» баронет сэр Уолтер уделяет своему туалету немало времени, проявляя осведомленность во всем, что касается косметики и средств ухода за телом. Своей дочери Энн он рекомендует пользоваться косметическим кремом для кожи «Гауленд», который в то время активно рекламировался в газете «Хроника Бата»[271].
Впрочем, в XIX веке большинство денди были вынуждены ограничиваться кремами против морщин, не рискуя прибегать к декоративной косметике. Мода на румяна уходит вместе со стилем макарони – ведь по мере складывания буржуазного предпринимательства идеология среднего класса начинает предъявлять иные требования к канону мужской внешности. Естественность и неприкрашенность облика воспринимается теперь как эмблема порядочности, символическая порука честного бизнеса. Косметика и тем более грим становятся в глазах обывателя аналогом маски, скрывающей истинные намерения. Активно продолжают использовать грим только лица нетрадиционной сексуальной ориентации[272], а в арсенале обычных мужчин остаются бритвенные принадлежности, краска для волос, скрывающая седину, бриолин, одеколоны и тальковая пудра. Эта эволюция аналогична процессам в парфюмерной культуре, когда в середине XIX века резко сокращается гамма допустимых мужских запахов и утверждается нейтральная ольфакторная норма[273].
Лорнет
Однако дендистская изобретательность не знала границ. Разнообразные оптические приборы – очки, лорнет, монокль и бинокль – также служили своего рода средством модной маскировки. Позволяя рассматривать всех вокруг, они в то же время закрывали часть лица, обеспечивая преимущество наблюдателя. Кроме того, ношение некоторых зрительных приборов, например монокля, требовало определенной мимики: чтобы удерживать монокль в глазу, нужна была немалая ловкость и привычка. Лорнет тоже подразумевал особую мимику – прищуривание, поднятие брови. Подобная мимика сама по себе могла служить особой приметой светской личности, метонимией наблюдателя. Вальтер Беньямин приводит слова человека, который с гордостью сообщает, что он изобрел лицевой тик: «Именно я изобрел тик. Сейчас тик заменил лорнет. Чтобы получился тик, надо закрыть глаз, одновременно опуская уголки глаз и поправляя сюртук. Лицо элегантного человека всегда должно быть несколько раздраженным и конвульсивным. Эти мимические движения можно объяснять демонической природой, игрой страстей или чем угодно»[274].
Лицевой тик в итоге создает непроницаемую маску, хотя этот вариант, конечно, противоположен дендистской «неподвижности лица». Это скорее «динамическая», подвижная мимическая маска. Однако обе крайности – намеренный тик и стоическую невозмутимость – объединяет ставка на искусственность и всевластие индивидуальной воли. В XX веке появились черные очки, также создающие эффект непроницаемости. Черные очки – атрибут, выявляющий типологическую близость денди и шпиона (или детектива). Современные любители темных очков, например дизайнер Карл Лагерфельд, успешно эксплуатируют этот прием, добиваясь одновременно и зловещей шпионской загадочности облика, и дендистской элегантности.
Роликовые коньки. 1790 г.
Гигиена денди: чистое и грязное в XIX веке
Все элегантное эфемерно, стерильно и тленно.
Жан-Поль СартрПокупая новый шампунь или принимая душ, мало кто вдруг задумается, когда сложились современные гигиенические нормы. Наши привычки кажутся нам настолько естественными, что трудно поверить, будто подобная культура тела сложилась относительно недавно – в начале XIX века. Именно тогда среди английских денди впервые появилась мода на «смехотворные мелочи» туалета – ежедневную ванну, бритье, мытье головы, уход за кожей.
Городская цивилизация в то время была весьма далека от современных гигиенических установок. Париж XIX столетия особенно шокировал наблюдателей своей вонью и грязью. Л. – С. Мерсье еще несколькими десятилетиями раньше недоумевал, как можно жить среди гнилостных испарений[275], а неустанный летописец парижской жизни Бальзак неоднократно фиксировал: «Дом обслуживался узкой лестницей… на каждой площадке стоял бак для нечистот – одна из самых омерзительных особенностей Парижа»[276]. Бальзак усматривал в парижской грязи симптом «нравственного разложения» парижских властей и с негодованием писал: «Если воздух домов, где живет большинство горожан, заразен, если улица изрыгает страшные миазмы, проникающие через лавки в жилые помещения при них, где и без того нечем дышать, – знайте, что, помимо всего этого, сорок тысяч домов великого города постоянно омываются страшными нечистотами у самого своего основания, ибо власти до сих пор не додумались заключить эти нечистоты в трубы, помешать зловонной грязи просачиваться сквозь почву, отравлять колодцы, так что под землей город до сих пор подтверждает справедливость знаменитого своего имени – Лютеции[277]. Половина Парижа живет среди гнилых испарений дворов, улиц, помойных ям»[278].
Как показали авторитетные историки Жорж Вигарелло[279] и Ален Корбен[280], в Европе XVII–XVIII столетий общей практикой была так называемая «сухая чистка»: при дворе Людовика XIV лицо и кисти рук протирали надушенными салфетками, об общей гигиене особо беспокоиться было не принято, а на блестящих балах в воздухе царил устойчивый запах немытого тела.
В первой половине XIX века мытье было достаточно затруднительной процедурой и в силу технических причин, поскольку приходилось нагревать большой бак с водой. Большинство семей со средним доходом могли позволить себе только общую ванну самое частое раз в неделю по субботам, что воспринималось как особое ритуальное событие. А в бедных семьях и это было немыслимой роскошью. Стирка также была утомительным занятием: в обеспеченных домах нанимали прачку, которая кипятила огромное количество воды, вручную подсинивала и крахмалила одежду и затем гладила[281]. Бедняки ходили стирать свои вещи к реке или ближайшему водоему.
Несессер. При открывании крышки начинала звучать мелодия. 1810 г.
При всех прочих равных условиях англичане традиционно «резко выделялись на фоне остальных континентальных наций по гигиеническим стандартам: “британцы полагают, что мыло – это цивилизация”»[282]. В Лондоне система канализации была гораздо лучше, чем в Париже, поскольку уже с начала XIX века были проложены деревянные трубы (сделанные из вяза), а в начале 1840-х годов их заменили на металлические.
Аккуратное отношение к собственному телу у англичан подкреплялось старинными традициями джентльменства. Хосе Ортега-и-Гассет по этому поводу замечал: «Потребность ежедневно менять рубашки, соблюдать чистоту, принимать ванну (со времен древних римлян[283]такой причуды на западе не было ни у кого) – этим обычаям джентльмен следует неукоснительно. Прошу меня извинить, но я вынужден здесь напомнить, что даже water-closet пришел к нам из Англии»[284]. Для джентльмена собственное достоинство начиналось с облагораживания своих самых элементарных телесных потребностей. Джентльменская чистоплотность была не только усвоена, но и доведена до совершенства британскими денди. Репутация англичан как чистюль в Европе XIX столетия во многом складывалась именно под влиянием дендизма.
Мы уже говорили, что английский денди Джордж Браммелл, без участия которого не обходился ни один прием в начале XIX века, вошел в историю как создатель современного канона мужской элегантности в костюме. Однако этот канон также подразумевал новую модель телесности, и прежде всего отношения к личной гигиене. Браммелл был известен своей аккуратностью и выделялся в своем кругу редкими привычками. Знаменитый денди менял рубашки три раза на дню и, если замечал мельчайшее пятнышко, тотчас отсылал сорочку опять к прачке[285]. Счета за стирку составляли значительную рубрику его расходов.
Он сделал правилом ежедневную смену белья и утренние ванны. Его чистоплотность стала предметом для бесчисленных сплетен и анекдотов, поскольку подобные обыкновения были весьма далеки от общепринятых норм того времени. Большинство его аристократических друзей очень редко прибегали к ваннам, но зато обильно пользовались духами, чтобы заглушить запах грязной кожи и пота. Браммелл первый отказался от регулярного применения духов, так как они ему просто не требовались для этой функции.
Его утренний туалет включал несколько стадий. Сначала денди тщательно брился, используя серебряную чашку для бритья. Заметим, что именно он в те годы ввел в моду чисто выбритый подбородок как атрибут мужской красоты. Далее часа два уходило на омовения в тазу, причем на заключительном этапе Браммелл купался в молоке, как Клеопатра[286]. Молоко затем опять нередко пускали в продажу, и многие лондонцы, зная это, брезговали пить его, опасаясь, что им уже успел попользоваться красавчик денди.
Браммелл располагал целым арсеналом или, как писал его биограф, «батареей» особых туалетных принадлежностей, «batterie de toilette» (в этом выражении чувствуется военное прошлое капитана Уильяма Джессе). Из его любимых вещей стоит отметить изумительный кувшин темно-синего стекла с узором из экзотических птиц, серебряную плевательницу, по поводу которой он шутил, что «невозможно плевать в глину», а также большой удобный таз, который Браммелл возил с собой в путешествиях.
После купания приходил черед косметических процедур: Браммелл вооружался щеткой и тщательно растирал себя выше пояса, так что после этого массажа его кожа была багрового цвета. Затем, вооружившись зеркальцем на длинной ручке, на манер того, что применяется в зубоврачебной практике, он удалял пинцетом все оставшиеся лишние волоски на лице. Весь туалет обычно занимал около трех часов и, что более всего удивляло его современников, имел место каждый день[287]. Даже верный Джессе, и тот не переставал забавляться и изумляться, описывая детали дендистской гигиены: «Подумайте только, этими смехотворными мелочами он занимался ежедневно, даже в возрасте пятидесяти лет, в здравом уме и твердой памяти!»[288]
Когда Браммелл был вынужден эмигрировать во Францию и там попал в тюрьму из-за долгов, он даже в заточении продолжал исполнять свои гигиенические ритуалы. В письме к своему другу Армстронгу он настоятельно требовал, чтобы ему присылали по три чистых полотенца каждый день, а также просил, чтобы особо позаботились об его драгоценных вещах, оставшихся в гостинице, – большом тазе и кувшине для воды: «Let the large basin and water-jug be taken great care of»[289].
Через некоторое время Браммеллу удалось добиться, чтобы ему доставили в камеру все его любимые туалетные принадлежности – и таз, и кувшин, и зубоврачебное зеркальце, и пинцет, и серебряную чашку для бритья, и плевательницу. Он не успокоился также, пока не обрел полностью свои «припасы» («comеstibles») – мыло, помады, одеколон и целый дорожный несессер с косметическими баночками и бутылочками. Тогда, благодаря покровительству начальника тюрьмы, он смог возобновить свои трехчасовые гигиенические сессии во всех деталях. Ему доставляли от 12 до 14 литров воды для ванны и два литра молока, причем его слуга с досадой прикидывал, что вместо этих двух литров молока за ту же цену можно купить стакан водки[290]. Тем не менее, когда этот слуга впоследствии узнал о кончине Браммелла[291], он искренне прослезился.
Чистоплотность Браммелла казалась в свое время столь исключительной и странной, что вскоре стала отличительной эмблемой дендистского стиля; многие писатели в романах о денди непременно подчеркивали нарциссизм героя, изображая его пристрастие к долгим и роскошным купаниям. Пелэм, герой одноименной книги Бульвера-Литтона (1828), считался образцовым франтом: «В те времена я был сибаритом; в моих апартаментах была ванна, устроенная по плану, который я сам начертил; поверх нее были укреплены два небольших пюпитра – на один из них слуга клал мне утреннюю газету, на другой – ставил все, что нужно для завтрака, и я ежедневно по меньшей мере час предавался трем наслаждениям одновременно: читал, вкушал пищу и нежился в теплой воде»[292].
Д. Маклис. Э.Д. Бульвер – Литтон перед зеркалом. 1830 г.
Многих читателей шокировали подобные прихоти героя. Однако как раз те эпизоды, которые смущали английских пуристов, были восприняты как программные черты дендистского стиля во Франции, где в середине века оформился свой философский вариант дендизма.
Французские последователи Браммелла и Пелэма целиком усвоили их эстетские манеры, сделали принципом частую смену белья и рубашек и, в частности, переняли гигиенические привычки. Бальзаковский герой Анри де Марсе во всем подражает Браммеллу: «Лакей принес своему барину столько различных туалетных принадлежностей и приборов и столько разных прелестных вещиц, что Поль не удержался, чтобы не сказать:
– Да ты провозишься добрых два часа!
– Нет, – поправил его Анри, – два с половиной»[293].
Как видим, Анри стремится «дотянуть» до браммелловской нормы – 3 часа на туалет. Его друг Поль, не столь искушенный в тонкостях дендизма, недоумевает: «Зачем наводить на себя лоск битых два с половиной часа, когда достаточно принять пятнадцатиминутную ванну, быстро причесаться и одеться»[294]. Тогда Анри, «которому в это время при помощи мягкой щетки натирали ноги английским мылом», объясняет ему, что истинный денди – это прежде всего фат, а успех у дам во многом зависит от опрятности: «Женщины помешаны на чистоплотности. Укажи мне хоть на одну женщину, которая воспылала бы страстью к мужчине-замарашке, будь он самым исключительным человеком! И сколько я видел исключительно интересных людей, отвергнутых женщинами за нерадивое отношение к собственной особе»[295].
В этом примере наглядно проявляется разница между французскими и английскими денди. Французу важнее всего эротическая функция гигиены: возможность непринужденно раздеться, не стесняясь собственного тела. Для него тело – конечное назначение взгляда, а одежда – лишь временный покров. Позднее аналогичные принципы «заботы о себе» будут исповедовать преемницы денди – знаменитые парижские куртизанки.
Если француз печется о своей репутации фата, то британский денди чистится и прихорашивается прежде всего ради собственной персоны. Чистое тело замыкает контур его внутреннего «Я», сообщает ему непроницаемость скорлупы. Кстати, Браммелл не был фатом, хотя среди его друзей было немало знатных дам. Он устраивал свои гигиенические сессии ради самоуважения, которое, в свою очередь, давало ему уверенность в обществе и позволяло играть роль светского диктатора.
Известно, что мнения Браммелла очень боялись и модницы, и щеголи. При оценке людей аккуратность была решающим критерием. Однажды он ночевал в загородном доме у знакомых, и на следующий день приятель спросил о его впечатлениях. «Не спрашивай, дорогой мой, – ответил денди, – представь, наутро я обнаружил паутину в своем ночном сосуде!»[296] Неприхотливость и простота нравов, издавна вполне совместимые с традициями английской аристократии, уже казались этому городскому неженке непереносимыми.
Как уже говорилось, став членом привилегированного клуба Ватье, он возражал против приема сельских джентльменов, мотивируя это именно тем, что от них якобы пахнет лошадьми и навозом. Сам Браммелл ненавидел запах конюшни, хотя в молодости служил в армии и немало ездил верхом. Однако, выйдя в отставку, он предпочитал выезжать в экипаже, а в дождливые дни и вовсе оставался дома, чтобы не замызгать свои свеженачищенные сапожки. Своему слуге он приказывал натирать даже подошвы ботинок, и когда слуга в первый раз, смущенный столь необычным приказом, не знал, как приняться за дело, денди собственноручно показал ему всю технику чистки.
Когда Браммелл жил во Франции, он столкнулся с проблемой грязных улиц. Не имея экипажа, он был вынужден в ненастную погоду ходить пешком и разработал специальный стиль передвижения: «Он ставил ногу только на возвышающиеся камни брусчатки и настолько ловко прыгал по ним на цыпочках, что умудрялся пройти всю улицу, не посадив ни одного пятнышка на ботинки»[297]. В то время ввиду уличной грязи многие носили башмаки с деревянной подошвой, но денди никогда не надевал их в дневное время, чтобы не испортить свой стиль. Он позволял себе прибегнуть к этому, только когда возвращался домой ночью и никто из знакомых не мог его увидеть. Это было максимально допустимой для него уступкой обстоятельствам.
На случай дождя он имел зонт, который убирался в идеально облегающий шелковый футляр. Рукоятка зонта была украшена резной головой Георга IV, и, говорят, Браммелл очень ценил в ней портретное сходство с оригиналом. Если он гулял с приятелем в сырую погоду, то Браммелл непременно приказывал своему спутнику «держать дистанцию», чтобы тот его ненароком не забрызгал.
Еще одна кардинальная новация в дендистском туалете состояла в изменении прически. Браммелл отказался от ношения париков и одним из первых ввел в моду аккуратную короткую стрижку. В то время это имело недвусмысленные либеральные коннотации. Исторически в Англии парик был символом политического традиционализма, все консервативно настроенные деятели носили обильно напудренные парики[298]. В 1795 году появился указ премьер-министра Уильяма Питта, предписывающий брать налог за пудру для париков. (Пудру тогда делали из муки, а позднее, когда случился дефицит пшеницы, из конского каштана.) Первый публичный протест против нового налога произошел, по иронии судьбы, в специальном помещении длянапудривания париков в Вобурнском аббатстве. Несколько знатных молодых людей под предводительством герцога Френсиса Бедфорда «торжественно отринули парики, вымыли головы, подстригли и вычесали (combed out) волосы»[299]. Глагол «comb out» в данном контексте означает, по всей видимости, вычесывание колтунов и насекомых, типичных для владельцев париков.
Однако их акция не смогла изменить курс европейской моды – для этого потребовалось еще несколько лет и авторитет Браммелла как trend-setter’a. До того господство париков как в женской, так и мужской моде было непререкаемым. Парики было принято носить подолгу, порой один и тот же использовался десятилетиями, а если конструкция прически с накладными волосами была достаточно сложной, то ее оставляли на ночь. Луи-Себастьян Мерсье красноречиво описывал проистекающие из этого неудобства, которые терпели французские красавицы: «Женщины предпочитают переносить неприятный зуд, чем отказаться от модных причесок. Они успокаивают этот зуд при помощи особого скребка. Кровь приливает им к голове, глаза краснеют, но все равно они не могут не водрузить себе на голову обожаемую постройку. Помимо фальшивых волос в прическу входит еще громадная подушка, набитая конским волосом, и целый лес шпилек длиной от семи до восьми дюймов, упирающихся концами в кожу, а также большое количество пудры и помады, в состав которых входят едкие ароматические вещества, раздражающие кожу. Свободное выделение испарины на голове прекращается, а в этой части тела это очень опасно… Перед сном все эти фальшивые волосы, шпильки, красящие и душистые вещества стягиваются тройной повязкой. Распаленная и закутанная таким образом голова, сделавшись втрое больше нормальной, опускается на подушки. Болезни глаз, воспаление кожи, вшивость являются следствием этого преувеличенного пристрастия к дикой прическе, с которой не расстаются даже в часы ночного отдыха. А подушечку, служащую основанием всего сооружения, меняют только тогда, когда материя уже совершенно истлеет (осмелюсь ли сказать!) от вонючей жирной грязи, которая таится под блестящей диадемой… Здоровье разрушается; женщины сознательно сокращают свою жизнь, они теряют то небольшое количество волос, которое имели, подвергают себя частым флюсам, зубным болям, болезням ушей, кожи»[300].
Туалет помощника прокурора. 1778 г. Сидящий одет в пудермантель и держит маску
Помимо описанного ущерба для здоровья, пристрастие к парикам порой таило в себе и прямой риск для жизни: через парик нередко передавалась смертельная инфекция, поскольку голову аристократки могли украшать волосы бедняка, который страдал инфекционными заболеваниями. К тому же для изготовления париков сплошь и рядом употребляли волосы мертвецов, что было особенно опасно при эпидемиях чумы. Был известный случай, когда доктор, пользовавший больных оспой, заразил собственную дочь через парик. В 1778 году оспа «приехала» из Лондона в Плимут опять-таки на докторском парике[301]. Ношение париков, таким образом, было весьма рискованным занятием, но если для докторов и судей парики были старинным атрибутом профессии, то для многих аристократов и их подражателей это было скорее вопросом моды, причем очевидные неудобства компенсировались престижностью прически. Между тем простые люди в эту эпоху не были связаны жесткими социальными нормами в отношении париков и спокойно обходились своими волосами. Тот же Мерсье с явным удовлетворением отмечал: «А тем временем простолюдинка, крестьянка, которая держит голову в чистоте, носит чистое, старательно выстиранное белье и употребляет простую помаду и пудру, не содержащие в себе душистых веществ, не испытывает ни единой из этих неприятностей, сохраняет волосы до глубокой старости, выставляет их напоказ своим правнукам, причем седина вызывает к ней еще большее уважение»[302].
Другой источник, относящийся к первой трети XVIII века, дает абсолютно сходную картину социальной дистрибуции «чистого» и «грязного»: в одной карете путешествует молодая женщина из квакерских кругов «во всей элегантности чистоты», белизна ее рук оттеняется опрятным темным платьем, и неряшливый знатный франт в спутанном засаленном парике и в старом сюртуке, плечи которого обсыпаны пудрой[303]. Противопоставление здесь идет сразу по нескольким линиям: пол, возраст, конфессия, социальная принадлежность и, наконец, как решающий пункт, аккуратность. Обратим внимание, что особенно ярко контраст между чистым и грязным выступает именно при сравнении: пока люди остаются в пределах своего социального круга, вряд ли можно ожидать резкого оценочного осуждения личных гигиенических привычек. Другое дело, когда включается взгляд со стороны, и особенно обостряется ситуация, если этот взгляд принадлежит реформатору моды. Тогда чистое/грязное сразу принимает на себя повышенную семиотическую нагрузку.
Свой новаторский кодекс дендистского туалета Браммелл строил, в основном отталкиваясь от аристократической моды, поклонником которой был его монархический приятель. Проповедуя принципы безупречной гигиены, Браммелл пытался привить при дворе сугубобуржуазный и пуританский стиль суровой сдержанности в одежде и тщательного ухода за собственным телом. Поэтому в то время эпитет «грязный» в его устах служил презрительным клеймом для консервативной знати.
Интересно сравнить фигуру Браммелла в этом отношении с другим великим реформатором, Коко Шанель, во многом определившей лицо женской моды XX века. Шанель по своему социальному происхождению принадлежала к малообеспеченным буржуазным кругам. Благодаря личной незаурядности она быстро обзавелась друзьями среди аристократов: среди ее поклонников был Этьен Бальсан и англичанин Бой Кейпел; позднее за ней ухаживал герцог Вестминстерский.
Отношение к знатным дамам у Шанель, однако, было весьма презрительным. В мемуарной литературе зафиксированы повторяющиеся выпады Коко против «грязных» аристократок, которые весьма напоминают браммелловские инвективы против английских лордов. Она не стеснялась публично клеймить светских модниц «с птичьими перьями, в накладных волосах, с платьями, волочащимися по земле и собирающими грязь»[304]. Антипод знатных дам для Шанель – французские кокотки. Почему? «Я любила кокоток. Они были чистые»[305]. «Я вовсе не считала их, этих кокоток, такими безобразными. Я находила их очень красивыми в этих шляпах, более широких, чем плечи, с огромными глазами, ярким макияжем. Они были роскошны. Я восхищалась ими гораздо больше, чем светскими дамами. Они были чистыми и выхоленными; те, другие, были грязные»[306].
Как видим, чистое и грязное в данном контексте – удобный способ маркировать своих и чужих. В высказываниях Шанель, конечно, ощутима социальная подоплека. Хотя она сама никогда не была профессиональной кокоткой, но достаточно хорошо знала их жизнь (проведя несколько лет под одной крышей с Эмильен д’Алансон) и, вероятно, чувствовала своего рода солидарность именно с красавицами полусвета, актрисами, парижской богемой – женщинами буржуазного происхождения, культивирующими свободу и собственное тело.
Именно кокотки конца XIX века были первыми потребительницами новейших усовершенствований в области гигиены. Они унаследовали традиции денди и фатов и отличались аккуратностью, желая нравиться. Отмеченная Шанель «выхоленность» проистекала из того, что они реально тратили немалые средства на приобретение гигиенических средств и установку в доме ванн последней конструкции. Бальзак не случайно замечает о своей героине Эстер: «Она принимала ванну, потом тщательно совершала обряд туалета, незнакомый большинству парижских женщин, ибо он требует чересчур много времени и соблюдается лишь куртизанками, лоретками или знатными дамами, проводящими свой век в праздности. Едва Эстер успевала окончить туалет, как являлся Люсьен, и она встречала его свежая, как только что распустившийся цветок»[307].
Нана, прославленная куртизанка из романа Э. Золя, презирает буржуазных дам за неаккуратность. Она греется обнаженная у камина в присутствии своего любовника и рассуждает: «Да они неряхи, ваши порядочные женщины! Да, да, неряхи! Кто из ваших порядочных женщин осмелится показаться вот так, как я сейчас? Найди-ка такую»[308]. Нана нередко принимает гостей сразу после ванной, а в ее роскошном особняке центральное место – туалетная комната: «Сквозь никогда не запиравшиеся двери виднелась туалетная комната, вся в мраморе и зеркалах, с белой ванной, с серебряными тазами и кувшинами, с целым набором туалетных принадлежностей из хрусталя и слоновой кости»[309]. Обаяние кокотки связано с образом ухоженного и чувственного тела: «Нана, словно ее застигли врасплох с еще влажной после ванной кожей, ежилась, запахивала то и дело расходившиеся полы пеньюара, улыбалась, испуганно выглядывая из кружевных оборок»[310]. Эротизм влажного тела становится устойчивым топосом женской красоты, и не случайно на полотнах Эдгара Дега 1880-х годов появляется целая серия обнаженных купальщиц.
Однако обычай регулярно принимать ванну на протяжении XIX века был отнюдь не общепринятым. Напротив, существовал целый ряд предрассудков относительно употребления горячей воды: считалось, что теплая ванна расслабляет и способствует нервным расстройствам, потере тонуса. Влажность ассоциировалась со слабостью: «Не следует принимать ванну чаще чем раз в месяц, – рекомендовали воспитатели, – долгое сидение в ванне развивает праздность и расслабленность, не подобающие молодой девушке»[311]. Частые горячие ванны, по мнению врачей, могли привести к снижению работоспособности – Бальзак, будучи по-дендистски чистоплотным, в период интенсивного писания прекращал принимать ванны, опасаясь утратить творческий настрой.
К мылу тоже относились с некоторым подозрением, опасаясь его «искусственности» и раздражающего действия на кожу. В медицинских трактатах 1840-х годов советовали мыться просто водой комнатной температуры, исключая при этом голову. Старинная максима «Saepe manus, raro pedes, nunquam caput»[312] все еще считалась золотым правилом. «Мытье волос часто является причиной головной и зубной боли», – предупреждали медики[313]. Предпочтение отдавали старинным методам: хорошенько расчесать волосы частым свинцовым гребешком, смазать жиром и затем посыпать отрубями или крахмальной пудрой. Так что жирный блеск причесок европейских красавиц середины XIX столетия имел прочную бытовую основу.
В подобных установках вполне различимы следы древнейших мифологических представлений. Голова издавна считалась неприкосновенной и табуировалась как особо священная часть тела; необходимость помыть или постричь волосы всегда обставлялась всяческими магическими предосторожностями[314]. Аналогичным образом можно усмотреть мифологическую основу в распространенном убежденииевропейцев XIX века, согласно которому женщине не рекомендовалось часто принимать ванну, ибо это могло роковым образом сказаться на ее способности иметь детей. Тут стоит отметить корреляцию между женским, грязным и плодовитостью, характерную для многих культур[315].
В общественном сознании того времени существовал еще целый ряд соображений по поводу мытья не столько внешне медицинского, сколько откровенно морального свойства. Оставлять наедине с самим собой в ванне молодого человека означало подвергнуть серьезному испытанию его добродетель. Интерес к собственному обнаженному телу почти автоматически подразумевал следующий шаг – искушение заняться самоудовлетворением. А это для пуританских воспитателей юношества был страшный грех. Поэтому в школах мальчиков обычно водили купаться в реке, теплые же ванны в порядке исключения разрешали больным. Относительно девочек моралистические опасения заходили так далеко, что вообще полагалось мыться в сорочке. Наибольший риск связывали с необходимостью гигиены детородных органов и в интересах скромности рекомендовали проводить весь процесс мытья и вытирания с закрытыми глазами. Для молодых людей, страдающих «тайными пороками», выпускали специальные ортопедические бандажи[316].
Подобная паническая сосредоточенность на эротизированной телесности была оборотной стороной ригористического морализма. Гигиенические процедуры, окруженные флером избыточной чувственности, могли быть реабилитированы в глазах общественности только строго научной необходимостью.
Развитие позитивизма и биологии в XIX веке сделало это возможным. На помощь пришли фундаментальные открытия: работы Луи Пастера и Джозефа Листера 1860-х годов сформировали научные представления о вирусах и микробах, а в 1880-е годы уже были идентифицированы бациллы тифа, холеры и туберкулеза. Пастер опроверг прежнюю теорию самозарождения микроорганизмов[317] и разработал методы асептики и антисептики. Однако его учение завоевало признание не сразу. В музее Пастера в Париже часть экспозиции посвящена полемике и дискуссиям по поводу его открытий. Свой институт микробиологии Пастеру удалось создать лишь в 1888 году.
У. Хит. Чудовищная жидкость: вода из Темзы. 1828 г.
Эта революция в медицине вызвала постепенный переворот во взглядах на личную и общественную гигиену. К концу века уже были приняты меры по дезинфекции городских церквей, библиотек, питьевых фонтанчиков. Но самое главное – изменилось отношение к телесной гигиене. На смену видимой телесной грязи пришло понятие незримой инфекции. Были проделаны специальные замеры количества микробов в воде до и после принятия ванны. После серии опытов П. Ремлингер пришел к выводу, что мытье значительно сокращает количество бактерий на человеческой коже. Отныне вода стала восприниматься как союзник в борьбе против инфекционных болезней. Регулярные ванны теперь пропагандировались как оздоровительное и профилактическое средство. Это был кардинальный сдвиг в истории европейской гигиены.
Анатомия человеческого тела была пересмотрена с точки зрения новых представлений. «Невидимые враги» – микробы – требовали иной бдительности[318]. Соблюдение чистоты, согласно этим трактовкам, усиливало защитные силы организма и повышало иммунитет. Особое внимание стали уделять новым телесным зонам, о которых раньше крайне редко упоминали в печати: например, появились специальные инструкции, как чистить зубы, чтобы остатки пищи не застревали в промежутках между зубами. Удаление грязи из-под ногтей также воспринималось как борьба с микробами в труднодоступной зоне. Родители стали приучать детей к повседневной гигиене половых органов, к частому мытью рук; в школах запрещали перелистывать страницы, послюнив палец.
Но и в этом, казалось бы, объективном триумфе позитивистского знания вскоре проступили сугубо социальные аспекты. После открытий Пастера внимание публики вскоре обратилось на потенциальные источники инфекции. Гигиеническая пропаганда быстро создала образ врага – люди, занимающиеся физическим трудом, представлялись разносчиками заразы. В домах бедняков, как умудрились подсчитать въедливые исследователи, в 50 раз больше микробов, чем в канализационных трубах. Грязные руки рабочих стали притчей во языцех. Преследуемые страхом дегенерации, буржуазные семьи сторонились «зловонных» трущоб и их обитателей[319].
Английский искусствовед Адриан Форти усматривает в подобных проявлениях тенденциозности буржуазные классовые предрассудки, обусловленные доминирующей ролью пролетариата в Европе XIX столетия. «Можно допустить, что средний класс насаждал новые стандарты чистоты, чтобы сопротивляться общественным переворотам и обеспечить себе психологическую безопасность… Помимо общего гуманного импульса, средний класс был материально заинтересован в гигиене пролетариата, поскольку сокращение болезней и смертей среди рабочих позволило бы им больше трудиться и приумножило богатство буржуазии»[320]. Хотя аргументы Форти явно грешат марксистской прямолинейностью, нельзя и впрямь не отметить социальный вектор в гигиеническом движении. Просветительская работа была действительно ориентирована в основном на малообразованные массы. В этот период печатаются многочисленные инструкции для бедных по обучению азам гигиены. Технологические изобретения также развивались в этом русле.
В середине века наименее обеспеченные слои – беднота, солдаты, студенты – мылись в общественных банях, однако эта система требовала значительного расхода воды на каждого, и количество клиентов было не столь уж велико. Назрела настоятельная необходимость охватить гигиеническими процедурами как можно большее число неимущих людей, сократив при этом расход воды. Эта задача стимулировала эксперименты со струйной подачей воды и в итоге привела к изобретению такого популярного сегодня способа мытья, как душ. Первые шаги в этом направлении были предприняты во французской армии и в тюрьмах.
В 1857 году в 33-м марсельском полку впервые был опробован новый метод: «Солдаты входят в помещение раздетые, по трое, каждый имеет при себе кусок мыла. За три минуты группа моется под вертикальной водяной струей, затем их сменяет следующая группа…»[321] Эксперимент оказался удачным, поскольку он соответствовал армейскому духу строевой дисциплины, хотя были и недостатки: при мытье за столь короткое время солдаты вынужденно толкали друг друга, чтобы успеть попасть под душ.
Дальнейшие усовершенствования шли в двух направлениях: установка распылителя, что способствовало более рациональному распределению воды, и конструкция душевых кабин, иногда поначалу заменяемых занавесками. Подача воды теперь регулировалась армейским офицером, стоящим сверху на лестнице и направляющим струю.
В окончательном виде система коллективного душа закрепилась позднее в тюрьмах. В 1876 году в руанской тюрьме заключенные мылись в восьми душевых отсеках, куда они заходили шеренгами и где подача воды контролировалась надзирателем. Этот способ явно устраивал тюремное начальство своей экономичностью: «В течение часа моются от 96 до 120 заключенных, при этом расходуется от 1500 до 1800 литров воды, что соответствует 6–8 ваннам»[322].
Возможность управлять струей воды обусловила специфический «репрессивный» характер душа. Направленная струя холодной воды также использовалась в психиатрических лечебницах, чтобы «вразумить» непокорных больных. Мишель Фуко, анализируя порядки в клинике для душевнобольных Пинеля, отмечал: «У Пинеля душ используется в откровенно карательных, судебных целях; это обычное наказание, налагаемое постоянно заседающим в лечебнице общегражданским судом»[323]. Сходные методы позднее практиковал в Сальпетриерской больнице известный психиатр Ж.М. Шарко[324].
Коллективно-тоталитарный характер мытья в душе исторически сложился как антитеза приватности и комфорту ванных комнат. К 1880-м годам ванная комната стала местом уединения, где совершался интимный ритуал «заботы о себе», что шло вразрез с традиционными обычаями, когда слуги ассистировали хозяевам на всехэтапах туалета. В это время наличие отдельной ванной являлось исключительно статусным атрибутом состоятельных буржуазных домов. В рабочих семьях ванные комнаты были редкостной экзотикой вплоть до 1920-х годов.
Дизайн ванной вначале мало чем отличался от других помещений. Это была обыкновенная комната с диваном, ковром, креслами и чайным столиком. Чугунную ванну обшивали по внешней стороне деревом благородных пород, так что она мало чем отличалась от обычного предмета мебели. Ванная мыслилась как частный кабинет или небольшая гостиная, пространство для уединенных мечтаний. В этом смысле характерно жанровое полотно Альфреда Стивенса «В ванне»: женщина с задумчивым видом принимает ванну, в руке у нее цветок, рядом лежит книга. Роскошь неторопливого сибаритского времяпрепровождения в ванной, ранее бывшая привилегией кокоток, стала достоянием среднего класса.
В свете новых представлений о грязи и инфекции дизайн ванных на рубеже веков претерпел радикальные изменения, резко приблизившись к современной модели. Под влиянием гигиенических требований ванну освободили от деревянной обшивки и добавили ножки, чтобы можно было бороться с пылью под ванной. Все помещение стали отделывать кафелем, причем белый цвет повсеместно вытеснил каштановую гамму. Традиционная мебель исчезла, ей на смену пришли функциональные аксессуары: полочки в стенных нишах, подставки для мыла и губок, вешалки для полотенец. Декор ванной комнаты составлял единый ансамбль. Все должно было сверкать чистотой; светлый цвет кафеля подчеркивал малейшее пятнышко. При проектировании домов ваннам стали отводить место по соседству с хозяйской спальной: «это означало расширение частной сферы в буржуазном образе жизни»[325].
Чистота теперь создавала особый привлекательный имидж буржуазного жилища и фактически воспринималась как синоним здоровья. Согласно рекомендациям дизайнеров-гигиенистов, предпочтение отдавалось простым формам мебели и посуды. Во многих семьях стали отказываться от тяжелых декоративных тканей для занавесок и пологов на кроватях, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха и избавиться от лишней пыли. Заметим, что эта тенденция шла абсолютно вразрез с давней традицией убранства буржуазного интерьера. Раньше стремились сократить количество голых поверхностей, застелить все салфеточками, ковриками, заставить пустые углы ширмами, комодами, горками. Дом в итоге приобретал вид уютного лабиринта, комфортного и обволакивающего пространства. В гендерных терминах подобный тип жилья возможно трактовать как проявление «womb-complex» – подсознательного стремления вернуться «назад», в материнскую утробу (если частично воспользоваться концепцией «травмы рождения» Отто Ранка), в мягкое, округлое пристанище.
Если продолжить эту антиномию, то новая эстетика, напротив, тяготеет к мужскому типу структурирования пространства. Контрастные тона, обнаженные поверхности, острые линии, увлечение стеклом и металлом – всем этим приметам было суждено в полной мере развиться в технократических стилях XX века. Функциональность предметов, легкость уборки, обилие света, прозрачность и просматриваемость помещения стали основными требованиями конструктивизма Ле Корбюзье в начале 1920-х годов.
Чистота здесь встраивается в ряд приемов минималистской эстетики, но семиотически гигиена при таком раскладе нередко начинает увязываться с образами идеального порядка, что в конечном счете может привести к идеологии тотальной власти и государственного надзора. Легкий оттенок «тоталитарности», уже обозначившийся в семантике душа, без труда развивается по метафорической шкале от частного тела к социальному, от физической чистоты – к благонамеренности. Подобные мотивы уже начинают мелькать и в конце XIX столетия на страницах литературных утопий. У Жюля Верна в утопическом городе Франквиле «дети настолько приучены к чистоте, что приходят в ужас от малейшего пятна на одежде. Индивидуальная и коллективная чистота – главная забота основателей Франквиля. Чистить, чистить безостановочно, чтобы уничтожить грязь, проистекающую от огромного количества людей, – такова основная работа центральной власти»[326]. Сходные пассажи можно найти во многих классических утопиях и антиутопиях нашего века[327].
Однако для нас прежде всего важен тот факт, что решающий сдвиг в массовых представлениях о чистом и грязном, подготовивший современное восприятие, произошел именно в 80–90-е годы XIX века. В этот период оформилась привычная для нас модель телесности и окончательно закрепились базовые гендерные стереотипы. Дендистская гигиена, создавшая образ мужчины-чистюли, была одним из векторов в этом увлекательном процессе, во многом изменившем структуры повседневного опыта.
VI. Дендистский кодекс общения
Денди и джентльмен
«Что образует джентльмена? Легкость, владение собой, вежливость, умение вести беседу, способность никогда не причинять боль, возвышенные принципы, тонкость суждений, красноречие, вкус, уважение к приличиям, благородство и терпимость, искренность и осмотрительность, честность» – так описывал джентльмена британский проповедник середины XIX века доктор Джон Генри Ньюмен[328]. Это широкое и в принципе открытое определение джентльмена как светского человека, подразумевающее и образованность, и знание этикета, и некоторый личный шарм. Получается, будто любой мужчина может претендовать на почетное звание джентльмена, обладая подобными приятными качествами. Так ли это?
История понятия «джентльмен» убеждает в обратном: изначально эта категория имела достаточно жесткий социальный смысл. В средневековой Англии было принято считать, что истинный джентльмен должен быть человеком благородного происхождения и принадлежать к аристократическому сословию. Согласно Британской энциклопедии, в XV столетии «джентльмен» понимался как «generosus» или «generosi filius» – человек благородного рождения или сын благороднорожденного. Знатное происхождение подтверждалось наличием генеалогического древа и обеспечивало право ношения герба.
Другое не менее важное социальное отличие джентльмена – он должен владеть землей или ценным имуществом: это освобождает его от необходимости трудиться, чтобы заработать себе на жизнь. Таковы были исторически четкие и недвусмысленные критерии, позволяющие сразу отличить джентльмена. Однако со временем они стали размываться, и на первый план выходят косвенные признаки: воспитание и образование, сопровождающие знатное происхождение и владение собственностью. Особый акцент делается на кодексе чести и этикете, манерах и стиле времяпрепровождения. По мере демократизации европейского общества после буржуазных революций в Европе эти вторичные параметры становятся доминирующими, вытесняя исходные принципы.
П. Гаварни. Гравюра Far Niente. (Праздность)
Владение собственностью, к примеру, рассматривается как гарант финансовой независимости, а она, в свою очередь, переосмысляется как основа независимого характера, отличительные свойства которого – уверенность в себе и «врожденное» чувство собственного достоинства, спокойное самоуважение.
Имея средства к существованию, подлинный джентльмен-землевладелец изначально презирал профессионалов и во всех своих занятиях акцентировал оттенок любительства. Именно этот нюанс стал решающим в Новое время: всяческие хобби, разведение собак и лошадей, коллекционирование, изучение для собственного удовольствия древних языков или истории – вот достойные джентльмена занятия. Как следствие, поощрялись способности к импровизации, экспериментам и нетривиальным решениям в любой ситуации, демонстрирующие незаурядный характер и свободный ум. В пределе джентльмен-любитель мог легко эволюционировать в тип экстравагантного чудака, комического в своей серьезности. Самый яркий пример подобного типа в английской литературе – бессмертный мистер Пиквик у Диккенса.
В XIX веке, когда многим джентльменам приходится так или иначе работать, установка на любительство расшатывается и общество признает необходимые исключения из правил. Из солидных занятий для джентльменов котируются управление государством или дипломатическая служба, религиозное призвание, военная карьера и спорт. Коммерция начисто исключалась. Писательство считалось занятием, достойным только для часов досуга, а жить на литературные гонорары было и вовсе неприличным: именно по этой причине многие прославленные авторы, такие как Вальтер Скотт, долгое время печатались под псевдонимом, а лорд Байрон почти ничего не получал за свои поэмы. Викторианцы были уверены, что джентльмен принципиально не может зарабатывать себе на жизнь ручным трудом, – по этой причине в Англии долгое время не допускались в хорошее общество хирурги и дантисты.
При всей эволюции общественных норм менее всего, пожалуй, изменился джентльменский кодекс чести: не добивать слабого, галантно опекать женщин, вызывать за оскорбление на дуэль, не жульничать в карточной игре, верить равному по происхождению на слово. Такие представления о чести восходят еще к рыцарским временам и во многом отражают галантный и куртуазный комплекс требований к мужскому достоинству. Но если в Средние века это было нормой среди людей благородного происхождения, то сейчас кодекс чести сам посебе воспринимается как главное определение джентльмена. А ведь вначале это имело характер чисто сословных привилегий – допустим, джентльмена в суде освобождали от принесения присяги, поскольку верили слову чести.
Стоит заметить, что требования чести соблюдались в первую очередь по отношению к людям своего круга – аристократ не мог, например, вызвать на дуэль лавочника, даже если тот оскорбил его. При этом невыполнение обязательств по отношению к людям низшего сословия могло даже служить предметом бравады. Джентльмен постоянно имел кредиторов среди поставщиков провизии, прачек, портных, торговцев табаком. Порукой служил его титул, владение недвижимостью и – в некоторых особых случаях – королевское покровительство.
В личных отношениях с нижестоящими людьми идеалом было ровное, сдержанное обращение, исключающее как высокомерие, так и панибратство. Критерием истинной леди, к примеру, считался стиль ее поведения с прислугой: если для нее правила вежливости существуют только в своем кругу – дело плохо.
Равным образом джентльмен не делает различий в обращении с женой дома и на публике. Его спокойный тон исключает и грубость, и сюсюканье. Перемена тона в зависимости от присутствия посторонних недопустима, жена всегда может рассчитывать на ровное уважительное обращение. А если джентльмен поддерживает близкие отношения с замужней дамой, он, конечно, не будет всуе упоминать ее имя, чтобы потешить собственное тщеславие.
Традиционно в кодекс добродетелей британского джентльмена входила спортивная закалка, приобретаемая путем долгих упражнений в элитарных школах, где воспитанники зимой жили в едва-едва отапливаемых помещениях. Вряд ли случайно, разумеется, что стоическое отношение к превратностям погоды культивировалось именно в Англии, известной неблагоприятным климатом.
Способность терпеть холод, жару и всяческие телесные лишения запечатлена в рассказах капитана Джессе. Он повествует о том, как два приятеля пошли на охоту и после долгих блужданий по полям более молодой остановился, вытер пот со лба и пожаловался, что он очень хочет пить. На что старший с негодованием заметил: «Вам хочется пить? Да будет Вам известно, молодой человек, что джентльмен никогда не испытывает жажды!»[329] После чего он сорвал сухой стебелек ромашки и пожевал его, рекомендуя как отличное средство от жажды. Подобная суровая закалка отличает джентльмена от изнеженного денди.
Сходный пример суровой закалки являл собой другой джентльмен старой школы, который, проживая в Кане, ежедневно прогуливался по улице в нарядном сюртуке, но без плаща. Причиной его стоического поведения была элементарная бедность, поскольку у него не было средств приобрести теплый плащ, однако он превратил это обстоятельство в повод для ежедневных тренировок силы воли. Как-то раз он неторопливо шествовал по улице в разгар непогоды, и ему повстречался англичанин, который кутался в шубу и бежал, замерзая, в гостиницу. Пораженный безмятежным видом старого джентльмена, он полюбопытствовал, неужели тому не холодно. «Холодно, месье? – удивился почтенный стоик. – Человек хорошего тона холода не ощущает» («Un homme comme-il-faut n’a jamais froid»).
Рассказывая эти истории, Джессе не связывает их конкретно с дендистскими наклонностями Браммелла, который, напротив, отличался изысканной изнеженностью и прихотливостью вкуса и вовсе не желал переносить лишения ради демонстрации стоического характера. В характере Браммелла скорее бросался в глаза другой элемент воспитания, унаследованный от джентльменов XVIII века: старомодная формальная вежливость, оттенок холодной почтительности в обращении. Эффект многих анекдотов о Браммелле строится на контрасте между неторопливым величавым началом реплики «Простите, сэр» и последующим быстрым язвительным выпадом.
Обратим внимание на один компонент джентльменского кодекса, который непосредственно перекочевал в дендизм: это требование невозмутимости. Дендистская заповедь «nil mirari» – «ничему не удивляться» перекликается с императивом самообладания джентльмена в любых обстоятельствах, лишь несколько заостряя его. «Истинный джентльмен, тренируя волю, не должен проявлять свои чувства, особенно смущение или изумление. Его отличает немногословие и недоверие к слишком эмоциональным оценкам. «Неплохо» – такова его высшая похвала. После тяжелейшей аварии он в лучшем случае обмолвится о «паре царапин». Принято считать, что такая сдержанность – признак английского национального характера и соответствующей речевой манеры, традиционно называемой «understatement»: склонность к недооценке, приуменьшению или даже умолчанию. Но, как справедливо заметил в свое время Г.К.Честертон, это скорее идеал сословный, аристократический, нежели национальный[330]. Так или иначе, этот стереотип неизменно присутствует в романах о светской жизни, когда речь идет о характере джентльмена.
Императив «сдержанности» настоятельно предписывает умолчание, когда речь идет о финансах. Особая щепетильность в денежных вопросах как пункт джентльменского этикета носила программно антибуржуазный характер. В разговорах с людьми своего круга джентльмен никогда не называет точную стоимость своих приобретений и не осведомляется о цене вещей, имеющихся у его знакомых. Он вообще предпочитает по возможности поменьше афишировать все бюджетные детали, и ему претит вульгарная финансовая откровенность, нередко свойственная как нуворишам, так и беднякам. Спрашивать точные цифры бестактно, и даже при прямом вопросе джентльмен всегда найдет способ элегантно уклониться от ответа.
Вполне возможно, что именно этот момент, связанный с императивом аристократической «забывчивости» в денежных делах, послужил причиной финансового краха многих знаменитых денди. Ни Браммелл, ни граф д’Орсе так до конца жизни не могли и не хотели научиться считать деньги – если они появлялись, их сразу спускали, приобретая какие-нибудь роскошные вещи (мебель буль, к примеру). Накопление средств отнюдь не входило в число дендистских добродетелей. Напротив, денди всегда бравировали расточительностью.
Но самое, пожалуй, главное, что роднит денди и джентльмена, – установка на игру, восходящая к аристократическому кодексу поведения. Хосе Ортега-и-Гассет в своих «Размышлениях о технике» писал: «В джентльмене мы наблюдаем тип поведения, который обыкновенно вырабатывается человеком в краткие моменты существования, когда его не гнетут тяжести и скорби жизни, и, чтобы как-то отвлечься, он предается игре, воспринимая в ее ключе все остальное, иначе говоря, все трудное и серьезное… Душа наслаждается свойственной ей гибкостью и позволяет себе роскошь играть по правилам, честно, то есть вести “fair play”, иначе говоря – быть справедливой, защищая свои права и одновременно признавая права ближнего, никогда не прибегая к обману»[331]. Отсюда проистекает джентльменская страсть к игре – будь то карты, скачки, бильярд или поло. Серьезность в игре подкрепляется правилами чести; основательная эрудиция и опытность в игре – одно из основных светских достоинств джентльмена.
Такое отношение к действительности свойственно и денди, и джентльмену – в идеале они ведут себя во всех жизненных обстоятельствах как благородные игроки на спортивном поле, не допуская уловок. Однако денди в большей степени, чем джентльмен, склонен порой нарушать правила игры. Денди охотно осваивает экстремальный полюс игрового сознания розыгрыши, «практические шутки» («practical jokes») и «подколки»[332], а в этой рискованной сфере о правилах чести нередко забывают, забавляясь за счет ближнего. Для многих денди это было излюбленным развлечением. Вспомним современного юного денди Бертрама Вустера из романов Вудхауса, который непрерывно страдает от розыгрышей коварных друзей.
Кредо и джентльмена, и денди – самореализация личности, что подразумевает позитивную философию прижизненного успеха. Но эта самореализация, не исключающая, кстати, известного гедонизма в случае денди, базируется на ощущении личной свободы. «Главная стихия джентльменства, – продолжает Хосе Ортега-и-Гассет, – пронизана чувством жизненной свободы, основана на переизбытке власти над обстоятельствами. И наоборот, как только подобная радость жизни сходит на нет, с ней исчезает последний шанс стать истинным джентльменом. Вот почему человек, желающий претворить свое существование в спорт и игру, являет собой полную противоположность мечтателю»[333].
По этой же причине, добавим мы, наиболее философски настроенные романтические писатели (Колридж и Вордсворт в Англии или Новалис, братья Шлегели, Гофман – в Германии) никогда не были денди. Способность грезить равным образом бесполезна и в дендизме, и в джентльменских играх.
А каковы вкусы джентльмена в одежде? Джентльмен пренебрегает сиюминутной модой: он – приверженец традиционных вещей, адепт устоявшегося. До сих пор респектабельные английские джентльмены предпочитают классический стиль Берберри или неизменные модели шотландских свитеров Fair Isle и шьют костюмы на Сэвил Роу в Лондоне или у Бриони в Италии. В гардеробе джентльмена всегда найдется место и вощеной куртке Барбур, и старым добрым оксфордским ботинкам, и плоской твидовой кепке. А на отдыхе джентльмен наденет синий блейзер с серыми фланелевыми брюками или – в неформальной обстановке – джинсы «Ливайс 501» и свитер поло.
Классический канон тем не менее не отменяет права на экстравагантность, особенно если речь идет о собственном комфорте. У каждого джентльмена есть любимая вещь, которая носится годами, и чем явственнее на ней следы времени, тем ценнее она в глазах хозяина. Поэтому на аристократических сборищах порой можно увидеть джентльменов в протертых чуть ли не до дыр твидовых пиджаках или в залатанных брюках. Обладателем таких антикварных штанов был, если верить преданиям, премьер-министр Англии Гарольд Макмиллан.
Подобное нарочитое пренебрежение модой отличает джентльмена от денди, который, как правило, не позволяет себе настолько расслабиться. Так, замечательный философ Бертран Расселл как-то сказал о политике-консерваторе Энтони Идене, что тот «слишком хорошо одевается, чтобы быть джентльменом».
По этим же причинам иногда некоторые джентльмены не проявляют особо тщательной заботы о своей внешности. Скорее тут даже может идти речь о некоторой неухоженности, ненавязчиво подчеркивающей мужественность. Джеймс Бонд с трехдневной щетиной на лице – современное завершение этой тенденции. И именно здесь мы видим важное отличие джентльмена от денди, который придает внешности исключительное значение.
В известном романе Джейн Остен «Эмма» (1816) очень ярко обрисованы контрастные типы джентльмена и денди как раз в этом аспекте. Когда легкомысленный денди Фрэнк Черчилл специально едет в Лондон из провинциального Хайбери, чтобы подстричь волосы у столичного парикмахера, этот поступок сильно подрывает его репутацию в глазах главной героини: «Он не вязался с тем здравомыслием в планах, умеренностью в требованиях и даже тем бескорыстием в движениях души, которые, верилось ей, она в нем разглядела накануне. Суетное тщеславие, невоздержанность, страсть к переменам, непрестанный зуд чем-то занять себя, не важно, дурным или хорошим, неумение подумать, приятно ли это будет отцу и миссис Уэстон, безразличие к тому, как будет выглядеть такое поведение в глазах людей, – вот обвинения, которые ей казались применимы к нему теперь»[334]. Добропорядочные соседи Эммы тоже разделяют эти утрированные подозрения, поскольку в их глазах «puppyism» (щегольство) – символ тщеславия и неблагоразумия, а съездить в город, только чтобы подстричься, – несомненное проявление подобных качеств. Манеры столичного денди осуждаются провинциальным обществом.
Сам Фрэнк Черчилл непринужденно и элегантно отвергает все упреки в свой адрес: «Я лишь тогда люблю видеться с друзьями, когда знаю, что сам являюсь перед ними в надлежащем виде»[335]. Эмма вынуждена по ходу романа простить Фрэнку излишнюю заботу о прическе, поскольку этот недостаток в ее глазах искупается другими достоинствами: он демонстрирует умение поддержать разговор, веселость и галантность, легкость, неизменно бодрое расположение духа – словом, отточенные светские манеры. Однако именно совершенство его манер вызывает критику консервативной части общества: он слишком искусно кланяется и слишком часто улыбается, предлагает для развлечения играть в каламбуры и загадки. Больше всех Фрэнка осуждает мистер Найтли, который ревнует его к Эмме. «Пустой, ничтожный малый»[336] – так он реагирует на поездку к парикмахеру, а в дальнейшем Фрэнку заочно достается за чересчур мелкий почерк, похожий на женский, якобы свидетельствующий о слабости характера: идет традиционная критика дендизма как «женственной» культуры в противовес джентльменству «настоящих мужчин».
Сам мистер Найтли в романе предстает как образец истинно английского джентльменства – разумный, сдержанный, спортивный, предпочитающий прогулки пешком в любую погоду и принципиально избегающий любых модных ухищрений. Его семейный дом выстроен по старинке, без причуд, вкусы в одежде – самые неприхотливые. Он всегда готов прийти на выручку дамам: приглашает на танец Гарриет, которой нарочито пренебрегает другой кавалер на балу, предоставляет свой экипаж гувернантке и корит Эмму за грубость в адрес бедной и нелепой мисс Бейтс. И очень важна его манера речи: он изъясняется «прямо, непринужденно, по-джентльменски» («in plain, unaffected, gentleman-like English»)[337] – оценим по достоинству высокий статус этого комплимента от такой писательницы, как Джейн Остен, которая сама предпочитала прозрачный простой стиль.
Естественность речи мистера Найтли – антитеза языковому маньеризму Фрэнка Черчилла: недаром последний любит каламбуры и загадки. Аналогичную страсть к лингвистическим играм обнаруживает в романе другой «неблагонадежный» герой – мистер Элтон, чья стихотворная шарада вводит в заблуждение Эмму относительно предмета его ухаживаний. Именно мистер Элтон впоследствии на балу нарушает элементарные правила джентльменства, игнорируя Гарриет, которую галантно выручает мистер Найтли.
Оба персонажа – и мистер Элтон, и Фрэнк Черчилл – не выдерживают «теста» на джентльменство и по такому уже нам известному параметру, как спортивная закалка, позволяющая «не замечать» погоду. Только они в романе теряют самообладание от жары и публично жалуются на утомление от ходьбы по жаре, а Фрэнк на почве перегрева даже на время утрачивает свои светские манеры и становится «тупым и молчаливым»: «Он говорил неинтересно – он смотрел и не видел – восхищался плоско – отвечал невпопад. Он был попросту скучен…»[338] Дендистская изнеженность, как видим, оказывает ему в данном случае плохую услугу.
Окончательное развенчание Фрэнка Черчилла происходит, когда выясняется, что он длительное время скрывал свою помолвку и морочил все светское общество. Эмма горько разочарована в своем приятеле из-за его притворства и, что симптоматично, сразу принимается судить о нем по меркам джентльменства: «Таков ли должен быть мужчина? Где прямота и цельность, неукоснительная приверженность принципам и правде, где презренье к мелкому надувательству, которые надлежит всегда и во всем выказывать настоящему мужчине?»[339] Хотя светское лицемерие простительно денди, оно не пристало британскому джентльмену.
Итак, в романе проводится последовательное противопоставление типов денди и джентльмена. Можно суммировать признаки, по которым у Джейн Остен денди отличается от джентльмена: приверженность к моде/традиционализм; изнеженность/ закалка; болтливость/ сдержанность; поверхностные светские манеры/подлинная вежливость; лицемерие/правдивость; языковая манерность/простота речи; некоторая женственность/подчеркнутая мужественность.
Эти антитезы описывают характеры, но за ними стоят и социальные реалии. Напомним главное, что отличает денди от джентльмена, – непременное знатное происхождение последнего. Для денди аристократическая родословная необязательна, он скорее вписан в буржуазную систему отношений.
Несмотря на эти существенные различия, денди и джентльмен как социальные типы совпадают по внешнему контуру, когда речь идет о вертикальной структуре английского общества этого периода. Оба они противопоставляются, с одной стороны, менее обеспеченным группам, а с другой стороны, нуворишам, занимая по доходам примерно среднюю позицию между ними.
В романе Джейн Остен низшую общественную ступень занимает фермер Роберт Мартин. Уж как ему достается от ревнительницы джентльменства Эммы! Он, с ее точки зрения, «столь неотесан, столь безнадежно непрезентабелен»[340]. Его манерам недостает любезности и мягкости, он груб и неловок, необразован (улика: забыл приобрести рекомендованную Эммой книжку!) и даже чисто внешне не внушает симпатию: «и нескладная фигура, и угловатые движения, и этот резкий голос…»[341]
Стоит ли говорить, что этот пристрастно-недоброжелательный портрет возникает только при сопоставлении с образом истинного джентльмена и самыми большими недостатками Роберта Мартина на самом деле являются низкое рождение и скромные средства?
Другой типаж, оттеняющий по контрасту благородство джентльмена и светское изящество денди, – нувориш. В романе он представлен богатым торговцем мистером Коулом. Несмотря на солидное состояние, Эмма считает его семейство настолько ниже по статусу, что вначале не хочет принять от них приглашение на бал и обдумывает, как сформулировать отказ, чтобы поставить их на место.
Суть инвективы в их адрес весьма характерна: вульгарность. Это постоянное обвинение в адрес богатых людей без должной родословной с позиций джентльмена (такова подоплека и мнения Эммы) и дежурный повод для презрительных комментариев со стороны любого щеголя, да и просто человека со вкусом. А уж для денди вульгарный человек – не только мишень для остроумных издевательств, но и, можно сказать, идеологический противник.
В высоком лондонском кругу зовется «vulgar»… Об исторических смыслах вульгарности
В восьмой главе «Евгения Онегина» Пушкин говорит о Татьяне:
Никто бы в ней найти не мог Того, что модой самовластной В высоком лондонском кругу Зовется «vulgar». (Не могу… Люблю я очень это слово, Но не могу перевести; Оно у нас покамест ново, И вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме…)[342]Известная неуловимость смысла слова «vulgar» во многом сохранилась и после Пушкина. Действительно, как точнее определить вульгарность? Ведь это понятие старинное и исторически изменчивое. Словарь Даля объясняет слово «вульгарный» как пошлый, тривиальный, простой, грубоватый, дурного вкуса[343]. Современный английский словарь-тезаурус Роже дает на «vulgarity» следующие толкования: plebeianism, ill-breeding, indelicacy, mauvais ton (fr.), bad taste, mauvais gout(fr.), Phistinism, barbarity, provincialism, ostentation. К слову «vulgar» приводятся синонимы unrefined, coarse, gaudy, inelegant, rough[344] и т. д. Как видим, доминируют весьма негативные оценочные значения.
Между тем изначальный смысл вульгарности – доступность, что вытекает из этимологии: латинское прилагательное «vulgaris» означает обычный, повседневный, общедоступный, простой, простонародный; существительное «vulgus» – народ, масса, множество, стадо, толпа, простонародье. Буквальный смысл «vulgaris» – доступный для масс. Vulgata – так назывался «доступный» перевод Библии на латынь, выполненный Иеронимом (404 год) и впоследствии ставший каноническим вариантом для римской католической церкви (1592–1605). Вульгарная латынь – народный вариант латыни, бытовавший и в древности, и в Средние века. Публичность, популярность, массовость – таковы исконные и вовсе не отрицательные трактовки «vulgaris».
В шекспировской драме «Гамлет» мы находим в наставлениях Полония Лаэрту знаменательную строчку, демонстрирующую употребление слова «vulgar» в то время:
«Be thou familiar, but by no means vulgar»[345].
(Акт I, сцена 3)«Будь прост с людьми, но не запанибрата»[346].
(Перевод Б. Пастернака)В шекспировскую эпоху «vulgar» не обозначало «пошлый» в современном понимании: глоссарий Онионса дает значения «of the common people», «commonly known or experienced», «ordinary», «public»[347].
Негативные оттенки в концепции «вульгарности», более близкие к современному толкованию, складываются в XVIII веке, когда в период буржуазных революций в Европе аристократия утрачивает доминирующие позиции и на сцене появляются новые претенденты на социальное лидерство – выходцы из низов, состоятельные буржуа. Это «другие», которые не владеют азбукой светского поведения и, будучи «common», тем не менее желают казаться сливками общества. Вот тогда понятие «вульгарности» приобретает оскорбительный смысл – аристократы вкладывают в него весь сарказм в адрес незваных конкурентов.
Так складывается емкая смысловая оппозиция аристократического и буржуазного кода поведения. В более опосредованной, мягкой форме она бытует как противопоставление светских и вульгарных манер, что необязательно каждый раз прямо увязывается с благородным или простым происхождением.
Этот базовый смысл вульгарности, сложившийся в культуре XVIII века, варьируется в разнообразных очерках дурных манер. Довольно подробное описание вульгарного поведения можно найти у лорда Честерфилда. Вульгарность для него – продукт дурного воспитания. Благородное происхождение само по себе – еще не гарантия от вульгарности: вульгарные манеры молодые люди могут перенять в школе или от слуг.
Лорд Честерфилд достаточно подробно перечисляет ряд черт вульгарного человека:
– «Человек вульгарный придирчив и ревнив, он выходит из себя по пустякам, которым придает слишком много значения…» Напротив, человек светский выше мелочей, «он никогда не принимает их близко к сердцу и не приходит из-за них в ярость, если же где-нибудь и сталкивается с ними, то готов скорее уступить, чем из-за них пререкаться»[348].
– Вульгарному человеку всегда «кажется, что его третируют, о чем бы люди ни разговаривали, он убежден, что разговор идет непременно о нем: если присутствующие над чем-то смеются, он уверен, что они смеются над ним». Эта сосредоточенность на собственной персоне приводит к тому, что «больше всего он любит говорить о своих домашних делах, о слугах, о том, какой у него заведен дома порядок, и рассказывать всякие анекдоты о соседях, причем привык обо всем этом говорить с пафосом, как о чем-то необычайно важном. Это кумушка, только мужского пола»[349].
– «Еще один характерный признак дурного общества и дурного воспитания – вульгарность речи. Человек светский всеми силами старается ее избежать. Пословицы и всякого рода избитые выражения – вот цветы красноречия человека вульгарного. Сказав, что у людей различные вкусы, он захочет подтвердить и украсить свое мнение какой-нибудь хорошей старинной пословицей, как он это почтительно называет, – например, “На вкус и цвет товарища нет”… У него всегда есть какое-то одно облюбованное словечко, которое он употребляет на каждом шагу… он говорит, например, ужасно сердитый, ужасно добрый, ужасно красивый и ужасно безобразный»[350]. Сюда же можно отнести пристрастие вульгарных людей к иностранным словам, с помощью которых они стремятся блеснуть своей ученостью, но, как правило, безнадежно путаются в заимствованиях.
– Вульгарный человек не умеет вести себя в светском обществе и отличается особой неуклюжестью в обращении с самыми простыми вещами – тростью, шляпой, чашкой кофе. Он даже не умеет изящно носить собственный костюм. «Сама одежда, принятая в светском обществе, тяжела и затруднительна для человека вульгарного… Платье настолько плохо сидит на нем и так стесняет его движения, что он больше похож на пленника его, нежели на владельца»[351].
Итак, вульгарного человека, по Честерфилду, отличает:
1) скандальность, раздражительность, неуступчивость в мелочах;
2) эгоцентризм, выпячивание собственного «Я» и привычка с пафосом говорить о себе;
3) пристрастие к пословицам, избитым выражениям и иностранным словам в речи;
4) неуклюжесть, неумение элегантно носить одежду.
Если искать общее в перечисленных признаках, то легко заметить, что этот персонаж стремится произвести выгодное впечатление слишком грубыми и прямыми, общедоступными средствами. Отсюда и пристрастие к заемной мудрости, и пафосный рассказ о своих домашних делах. У вульгарного человека отсутствует культура дистанции, косвенного, опосредованного высказывания. Это самая трудная часть этикета, требующая дисциплины чувств и мыслей: именно поэтому вульгарный персонаж нетерпим и не умеет сдерживаться, дает волю своим эмоциям. Это прямо противоречит классической заповеди дендистской невозмутимости, восходящей к джентльменскому кодексу чести.
Вульгарный человек не чувствует нюансы в отношениях с другими людьми, а как раз именно это свойство – решающее для джентльмена: способность встать на место Другого. Известный английский проповедник Джон Генри Ньюмен даже давал такое лаконичное определение джентльмена: «Тот, кто никогда не причиняет боль другим»[352]. Аналогичным образом вульгарный человек не ощущает не только границы этического свойства, но и физического, не умея оптимально расположить свое тело в пространстве: как следствие – нелады с одеждой и с вещами.
Замечательный портрет вульгарного человека дан в романе Эжена Сю «Парижские тайны» (1842–1843). Это герцог де Люсене, о котором говорится: «Я не знаю человека более несносного, чем он. Поройон держится так вульгарно, так громогласно хохочет над своими глупыми анекдотами, поднимает такой шум, что у собеседника голова идет кругом; если у вас имеется флакон или веер, которыми вы дорожите, смело защищайте их от его посягательств, ибо он ломает все, к чему ни прикоснется, и делает это с видом бесшабашным и самодовольным»[353]. Поведение герцога де Люсене на балу полностью оправдывает эту характеристику. За сравнительно небольшой отрезок времени он успевает сделать кучу несообразных вещей: помять свою шляпу, свалить на себя декоративное растение, развинтить флакон с духами у собеседницы и сказать «комплимент» даме: «Сегодня вечером на Вас тюрбан, похожий на старую форму для торта, изъеденную ярь-медянкой»[354].
Интересно, что окружающие сносят все эти эпатажные выходки достаточно терпимо, поскольку герцог принадлежит к старинному знатному роду и его аристократическое происхождение якобы дает ему право на скандальные жесты. Но оно не спасает его от обвинений в вульгарности. Ведь дело не сводится к факту нарушения светского этикета. Денди тоже не раз нарушали этикетные условности, разница заключается в стиле. Про непонравившийся фасон шляпы истинный денди тоже мог бы сказать нечто нелицеприятное, но остроумно и элегантно. Физическая неловкость герцога – коррелят неловкости моральной – живой пример, подтверждающий честерфилдовские наблюдения относительно неуклюжести в обращении с вещами. Наконец, шутки герцога де Люсене поражают повторяемостью и барочной избыточностью – его «слишком много», что тоже немыслимо для денди, точно дозирующего свое присутствие в светском обществе и свои «bons mots».
Герцог де Люсене вульгарен в силу своего несносного характера и дурного нрава, то есть причин субъективных, но существуют и объективные параметры вульгарного поведения. Они связаны в первую очередь с социальными сдвигами в обществе – с уже упоминавшимся противостоянием аристократии и буржуазии. В XIX веке оно смягчилось, происходило скорее слияние двух элит и понятие «вульгарности» наиболее эффектно маркировало нарушения кодекса светских манер буржуазными парвеню.
С точки зрения аристократа, вульгарный человек – выскочка, стремящийся повысить свой социальный статус. Но, проникая в ранее недоступные круги светского общества, выскочки обречены на подражание, чтобы влиться в ряды «своих». А этот форсированный подражательный импульс как раз и выдает в них чужаков: они слишком стараются и частенько перегибают палку, утрачивая в результате естественность манер.
Английский эссеист Уильям Хэзлитт в 1821 году определял вульгарность именно через этот признак: «Суть вульгарности состоит в заимствовании готовых манер, поступков, слов, мнений непосредственно от других, не прислушиваясь к собственным чувствам и не взвешивая достоинства в каждом отдельном случае»[355].
Почти слово в слово повторяет эту мысль Бульвер-Литтон в своем романе «Пелэм». Его героиня-аристократка тоже видит главный признак вульгарности в подражательности и, как следствие, искусственности манер: «Вот основная причина того, что у нас манеры лучше, чем у этих людей; у нас они более естественны, потому что мы никому не подражаем; у них – искусственны, потому что они силятся подражать нам; а все то, что явно заимствовано, становится вульгарным. Самобытная вычурность иногда бывает хорошего тона; подражательная – всегда дурного»[356].
Рисунок У. Теккерея
Леди Пелэм также предостерегает сына от чрезмерного увлечения в речи французскими выражениями (когда он возвращается в Англию из Парижа), что совпадает с честерфилдовским предупреждением против пристрастия к пословицам и иностранным словам. Вариант сходного речевого поведения – эвфемизмы, сложные описательные фигуры вместо простых выражений.
Вычурность речи имеет прямой аналог в стиле одежды. Вульгарный человек часто обнаруживает склонность перегружать костюм украшениями, деталями, соединяя в своем туалете все «самое лучшее» и не замечая суммарного эффекта несообразности[357]. Он всегда старается быть одетым по последней (в его понимании) моде, причем так, чтобы это обязательно заметили окружающие. Вульгарный франт увлекается яркими, кричащими тонами в костюме, броскими или явно дорогими аксессуарами. Но за этим стоит скрытая неуверенность в собственном статусе среди людей, на которых он хочет произвести впечатление.
Подлинный денди, напротив, всегда более чем уверен в своих правах светского лидера, и его костюм, как правило, отличается экономностью выразительных средств, изящной простотой, что создает эффект «заметной незаметности» (conspicuous inconspicuousness). Это антипод вульгарности решительно во всем. «Денди никогда не может быть вульгарным», – гласит известное изречение Бодлера[358].
Подражательная вычурность как синоним вульгарности легко прослеживается и на уровне манер. Преувеличенная мимика и жестикуляция, форсированные выражения удивления, ужаса или восторга традиционно служили мишенью для сатириков – достаточно вспомнить многие карикатуры Джорджа Крукшенка. И не случайно тот же Хэзлитт, обладавший весьма язвительным складом ума, связывал вульгарность с аффектацией (affectation – жеманность, вычурность, неестественность, искусственность, притворство, неискренность)[359].
Именно «аффектации» начисто лишена пушкинская Татьяна:
Она была не тороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притязаний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей… Все тихо, просто было в ней, Она казалась верный снимок Du comme il faut… (Шишков, прости: Не знаю, как перевести.)[360]Хороший тон, «comme il faut», которым обладает пушкинская героиня, порождает удивительный парадокс: при полном соблюдении светских условностей человек кажется максимально естественным. Это и есть вернейший признак отсутствия вульгарности (с той или иной поправкой на историческую изменчивость культурных правил).
Но от чего же зависит та тончайшая мера естественности, которая расценивается в том или ином кругу как нормативная? Ведь после трудов Норберта Элиаса мы уже не можем говорить о неких неизменных этикетных нормах даже в отношении простейшего регулирования телесных функций[361]. Предположим, что, по сути, «естественность» – это адекватность реакций в данном месте и в данное время. Подобная адекватность и будет благожелательно восприниматься окружающими как отсутствие «аффектации». А на самом деле за этим скрывается чисто этикетная условность, которая действует внутри данной социальной группы. Тогда знание этой меры – вопрос культурного опыта и ситуативного чутья.
Сошлемся на рассуждения Марселя Пруста, который неоднократно писал об аристократических манерах и, в частности, об особой естественности светских людей. «Благодаря верности вкуса – не в области прекрасного, а в области поведения, человек светский в самых непредвиденных обстоятельствах мгновенно улавливает, подобно музыканту, которого просят сыграть незнакомую ему вещь, какие чувства нужно сейчас выразить, с помощью каких движений, и безошибочно выбирает и применяет технические приемы; кроме того, верность вкуса дает светскому человеку возможность проявлять его, не руководствуясь посторонними соображениями, а ведь именно эти соображения сковывают стольких молодых буржуа, во-первых, потому что они боятся, как бы их не подняли на смех за несоблюдение приличий, а во-вторых, потому, что им не хочется показаться своим друзьям чересчур уж угодливыми»[362].
В прустовском романе не боится показаться чересчур угодливым, к примеру, отчаянный денди Сен-Лу, элегантно пробегающий по спинке скамьи через весь ресторан единственно для того, чтобы укутать своего друга Марселя в теплый плащ. А «верность вкуса» в трактовке Пруста, получается, и есть эквивалент аристократической «естественности», интуитивного ежесекундного знания, что лучше всего делать при данных обстоятельствах.
Возьмем теперь другие аспекты вульгарности – этический и эстетический. Они, как ни странно, довольно непосредственно связаны, что блестяще продемонстрировал английский критик и искусствовед середины XIX века Джон Рескин. В лекциях «Сезам и лилии» (1865) он говорил: «Сущность вульгарности определяется как недостаток впечатлительности. Простая, наивная вульгарность – только тупость душевных и телесных восприятий, обусловленная отсутствием образования и развития; но настоящая, врожденная вульгарность подразумевает ужасающую бесчувственность, которая становится источником всевозможных животных привычек, делает человека способным совершить преступление без страха, без удовольствия и без сострадания. Тупость физическая и душевная мертвенность, низкое поведение и грубая совесть – вот что делает человека вульгарным; вульгарность его всегда соразмеряется с неспособностью к сочувствию, к быстрому пониманию, к тому, что совершенно правильно принято называть “тактом”, осязательной способностью души и тела…»[363] Подобной тонкостью ощущений, с точки зрения Рескина, в наибольшей степени обладает чувствительная женщина.
В этом определении вульгарности, с одной стороны, развиваются идеи Честерфилда и Джона Генри Ньюмена об умении этически чувствовать других людей, но, с другой стороны, уже проставлены несколько иные акценты. Рескин – теоретик эстетизма, учитель прерафаэлитов, и для него важна именно впечатлительность. Впечатлительность универсально позитивна: в интеллектуальном измерении она дает «быстрое понимание», в этическом – такт, в эстетическом – способность переживать нюансы Прекрасного.
Этот последний смысл оказался наиболее востребованным в культуре конца века. Проблема заключалась, собственно, в том, чтобы удержать единство трех сфер впечатлительности. Дез Эссент Гюисманса и Дориан Грей Оскара Уайльда эстетически впечатлительны и оттого обрисованы как идеальные денди, противостоящие вульгарным расхожим вкусам.
Увы, Дориан Грей соответствовал и тому типу людей, которые, по проницательному замечанию Рескина, получают удовольствие от преступления. Потому-то джентльмены в клубе стали его сторониться, когда прошел слух о его сомнительных похождениях: недостаток моральной впечатлительности не укладывался в джентльменский кодекс чести. Денди, но не джентльмен – формула характера Дориана Грея.
Именно в этот период, в 1895 году, сатирический журнал «Панч» язвительно писал, пародируя эстетов: «It’s worse than wicked, my dear, it’s vulgar» («Это хуже, чем порок, дорогой, это вульгарность»). Приводившиеся выше характеристики вульгарного человека во многом не утратили своей актуальности и поныне. Стремление быстро возвыситься в глазах окружающих в наши дни приводит к нарочитому перечислению в разговоре высокопоставленных знакомых, престижных мест отдыха или марок одежды и автомобилей с непременным упоминанием цен. Сюда можно добавить и чрезмерное любопытство к финансовым делам других, любовь к сплетням и, если речь идет о знаменитостях, жгучий интерес к их частной жизни, а также раболепное копирование их вкусов. К современным модификациям вульгарности можно отнести и злоупотребление кричащими цветами в одежде, и заемное остроумие – анекдоты или афоризмы на любые случаи жизни, обнаруживающие отсутствие личного суждения.
Наконец, как и встарь, вульгарный человек больше всего любит рассказывать о себе и своих достижениях, не подозревая, что искусство светской беседы требует нейтральных тем, а оптимальным считается обсуждение изящных предметов – старинных ковров, способов ухода за редкими растениями, литературных новинок. Не зря же Альфонс Доде заметил, что истинно светским человеком можно считать того, кто умеет серьезно говорить о мелочах и легко – о важных вещах. В Англии в этом плане даже существует своеобразный запрет на профессиональные разговоры в хорошем обществе: можно провести целый вечер, обсуждая достоинства породистых собак, и только потом узнать, что вашим собеседником был видный политик или ученый.
Вероятно, здесь можно говорить и о более общих историко-культурных закономерностях. По существу, вульгарный человек все время совершает на разных уровнях только одну ошибку: дает прямое сообщение там, где следует дать косвенное. Вместо прямого указания на свой высокий социальный статус можно проявить, допустим, тонкий вкус или осведомленность в престижных видах досуга. Вместо роскошного костюма позволить себе одну выразительную деталь. Вместо содержания конюшни скаковых лошадей – обсуждать со знанием дела достоинства и недостатки конских пород. Иными словами, лучше уметь пользоваться символическими играми обмена, не прибегая к лобовым приемам.
Можно попытаться метафорически определить вульгарность как особый неэкономный способ работы с личностной энергией. В английской культуре мы отмечали такое понятие, исторически сопутствующее «вульгарности», как «affectation» (аффектация, претенциозность). Его современная модификация – «ostentation» (нарочитость, выставление напоказ, хвастовство). В обоих случаях речь идет о наигранном афишировании каких-либо свойств или действий. Это неэкономная модель расходования внутренней энергии, форсированный выброс, который не подкрепляется внутренними солидными ресурсами и оттого всегда связан с риском разоблачения и комизма.
Прямо противоположная модель – экономия энергии. Это культура «сдержанности», «understatement», минимализма, тайной дисциплины в проявлении чувств. В самом общем смысле на этой модели экономного расходования энергии строится джентльменский кодекс чести, светский аристократический этикет и дендистский стиль костюма. Если человек владеет культурой экономного расходования энергии, то он оставляет особое впечатление приятной «соразмерности» и «адекватности», что, впрочем, вовсе не делает его незапоминающимся: напротив, одновременно возникает ощущение скрытой силы, властной тайны его личного обаяния, эротического шарма.
Итак, в социальном плане вульгарность связана с незнанием кода поведения определенной группы. Знание этого кода сообщает манерам естественность и, более того, позволяет чувствовать допустимую меру в нарушении приличий (чем и пользовались денди). Незнание, напротив, обрекает человека на подражательность и неловкость, искусственность, превышение меры во всем, что и трактуется как вульгарность.
«Храмы вежливости и комфорта»: клубная жизнь в Англии XIX века
Английский клуб – традиционное светское пространство XIX века. Каждый уважающий себя джентльмен был членом того или иного клуба. Клубная жизнь предполагала особое поведение, подчиненное определенному, подчас довольно жесткому этикету. «Храмом вежливости и комфорта» называет английские клубы исследователь этикета Жак Карре[364]. Для денди клуб представлял блестящую возможность показать себя в кругу избранных единомышленников, а если устраивался бал, клуб превращался в театрализованную арену светской жизни.
Самые знаменитые клубы эпохи Регентства – Олмакс, Уайтс, Брукс, Ватье – были сугубо элитарными заведениями закрытого типа, устав которых был специально сформулирован так, чтобы отсеять нуворишей.
Клуб Уайтс располагался в самом центре Вест-Энда на улице СентДжеймс, номер 37–38. Здание сохранилось до сих пор. Изначально с 1693 года на этом месте находились кондитерская и кафе, принадлежавшие Фрэнсису Уайту, торговцу шоколадом. Однако многие джентльмены приходили туда отнюдь не за сладостями, а чтобы провести время за картами. В кафе имелся специальный зал для карточных игр «Hell» («Ад»). В то время так назывались многие дешевые игорные дома.
Именно в «Аду», словно оправдывая его название, в 1711 году разгорелся пожар, разрушивший большую часть здания. После реконструкции вдова Уайта Элизабет разрешила некоему джентльмену по имени Хайдеггер использовать помещение для балов и маскарадов, и в «Аду» возобновилась игра. В 1736 году Уайтс стал функционировать как частный клуб, членами которого могли стать только мужчины. Эта традиция – не пускать женщин в клуб – сохранялась долгое время.
Сначала число членов было невелико – 82 человека, но среди них было много знаменитостей: герцог Девонширский, граф Честерфилд, граф Рокингем, драматург Колли Сиббер. Их имена придавали блеск заведению, и уже к концу XVIII века клуб насчитывал около 400 членов. Чтобы стать членом клуба, требовались рекомендации, годовой взнос составлял около 10 гиней. В клубе можно было пообедать, причем, согласно уставу клуба, обед подавался в шесть часов, а в девять приносили счет на 10 шиллингов и 6 пенсов с каждого, что было не так уж дорого.
Члены клуба любили развлекаться тем, что спорили и бились об заклад. Для этого все ставки и условия записывались в специальную Закладную книгу (Betting book). Поводом для пари могло стать все: у кого скорее родится наследник или удастся ли члену клуба обольстить молодую леди. Однажды во время проливного дождя лорд Арлингтон держал пари на три тысячи фунтов, поспорив, какая из двух дождевых капель быстрее стечет по стеклу до подоконника. А известный аристократ и писатель Уолпол зафиксировал в Закладной книге 21 марта 1755 года другой выразительный эпизод: «Случайный прохожий упал без чувств у двери клуба; его внесли в помещение, и члены клуба стали немедленно биться об заклад, выживет он или скончается на месте. Когда доктор предложил пустить ему кровь, спорщики воспротивились, говоря, что медицинская помощь нарушит чистоту условий пари»[365].
В период Регентства Уайтс стал наиболее элитарным и престижным клубом, куда отчаянно стремились попасть все известные политики, аристократы и светские люди. Вопрос о членстве решался голосованием в клубном совете, и черный шар при отрицательном решении для многих был равнозначен смертельной пуле. Для денди прием в Уайтс символизировал вершину успеха. Дизраэли считал членство в Уайтс высшей честью, сравнимой только с орденом Подвязки. (Он, кстати, так и не удостоился этой чести, даже став премьер-министром.) Благодаря строгим процедурам отбора виртуозно осуществлялась практика дистанцирования, светского отказа, чем умело пользовались денди для поддержания своей репутации членов элитарной касты избранных.
Хотя первоначально Уайтс создавался как клуб тори, постепенно он утратил политическую окраску, и на первый план вышла социальная жизнь. В клубе регулярно устраивали балы и праздники – роскошный прием был организован в честь победы над Наполеоном.
Карточные игры, особенно вист и макао, были самым популярным занятием в клубе. Игроки облачались в специальные костюмы: надевали накидки из грубой ворсистой ткани и кожаные митенки, чтобы уберечь чистые накрахмаленные белые манжеты. На голову натягивали соломенные шляпы с большими полями, которые одновременно защищали глаза от яркого света и помогали скрыть выражение лица (что было весьма полезно, учитывая, что в клубе порой за ночь переходили из рук в руки целые состояния).
Приведем историю одного крупного выигрыша со слов очевидца капитана Гроноу. «Генерал Скотт, тесть Джорджа Каннинга и герцога Портландского, был известен тем, что выиграл в клубе Уайтс двести тысяч фунтов благодаря своей замечательной трезвости и тонкому знанию виста. У генерала было большое преимущество над остальными, поскольку он не предавался за карточным столом тем излишествам, что затуманивают мозги прочим игрокам. За обедом он, как правило, ограничивался вареным цыпленком, гренками и чистой водой. После подобной трапезы он садился за игру с чистой головой и, обладая уникальной памятью, холодным умом и рассудительностью, умудрился честно выиграть 200 000 фунтов»[366]. Как видим, феноменальный успех был достигнут за счет трезвости и расчета, что было редким исключением на фоне клубных привычек.
Браммелл был одним из основателей клуба Ватье наряду с лордом Алванли, Майлдмеем и Пьерпойнтом. Как гласит легенда, эти джентльмены как-то раз пожаловались принцу-регенту на однообразие еды в клубах Уайтс и Брукс. «Вечно бифштексы и отварная курица в устричном соусе да пироги с яблоками, вот наше неизменное клубное меню, сэр»[367]. Тогда принц сразу предложил создать новый клуб, а кухню в нем поручить своему шеф-повару, французу Жану-Батисту Ватье. Так возник этот клуб, получивший имя талантливого кулинара.
Лорд Байрон был завсегдатаем сразу нескольких клубов, в том числе знаменитого Ватье. В своих дневниках он подробно описывает клубную атмосферу карточной игры, раскрывая ее романтически-философскую сторону: «Мне представляется, что игроки должны быть довольно счастливы – они постоянно возбуждены. Женщины, вино, слава, чревоугодие и даже честолюбие по временам пресыщают; а у игрока интерес к жизни возобновляется всякий раз, когда он выбрасывает карты или кости; игру можно продлить в десять раз дольше, чем любое другое занятие. В юности я очень любил игру, т. е. именно азартную игру, но все другие карточные игры ненавижу, даже фараон. Когда в моду вошел макао… я все это оставил; мне недоставало стука выбрасываемых костей и волнующей неизвестности – ожидания, не только выигрыша или проигрыша, но судьбы вообще, потому что для ее решения кости надо бросать часто. Мне случалось выигрывать до четырнадцати ставок подряд и забирать со стола всю наличность, но мне не хватало хладнокровия и расчетливости. Во всем этом мне нравилось возбуждение. В общем я кончал игру вовремя, без большого проигрыша или выигрыша. После двадцати одного года я играл мало и никогда не делал ставок больше, чем на сто, двести или триста»[368].
Р. Дайтон. Лорд Алванли направляется в клуб Уайтс
Слева направо: маркиз Лондондерри, Кенгуру Кук, Капитан Гроноу, лорд Аллен, граф д'Орсе
В этом отрывке в сжатой форме представлены все основные мотивы романтической трактовки игры: карты и кости как фатум и рок, лихорадочное возбуждение, антитеза азарта и холодного расчета. Эти мотивы неоднократно всплывали в литературе XIX века от Гофмана и Пушкина до Достоевского и Стефана Цвейга[369].
В отличие от игорных домов низкого разряда (которые по традиции продолжали именоваться «Ад»), где шулерство было обычным делом, в клубах делались крупные ставки, но не было принято жульничать. Существует предание, как отец одного молодого человека публично обвинил Браммелла в том, что он приучил его к игре. Денди в ответ с негодованием воскликнул: «Я сделал все, что мог, для Вашего сына – я прошел с ним под руку от клуба Уайтс до Ватье»[370]. Браммелл имел в виду не только престижность публичной прогулки с ним под руку: проведя молодого человека по маршруту между двумя элитарными клубами, он тем самым уберег его от соблазна свернуть в дешевый игорный дом, где тот мог запросто стать жертвой аферистов.
Принципы игры в клубах опирались на джентльменский кодекс взаимоотношений: честность и вера на слово, полнейшее хладнокровие и уважение к сопернику. Но она также требовала джентльменской стоической выдержки. Современники долго вспоминали беспрецедентное карточное сражение между Харви Комбом и сэром Джоном Малькольмом, которое продолжалось с понедельника до среды. Игроки были вынуждены прерваться, поскольку Харви Комб должен был идти на похороны своего друга. К этому моменту он выиграл тридцать тысяч фунтов и весело сказал: «Ну, сэр Джон, Вы сможете отыграться в любой момент, когда Вам будет удобно». На что сэр Джон мрачно ответил: «Благодарю, но еще одна партия в этом духе – и мне придется отправиться в Индию»[371].
Джордж Рэггет, владелец клуба Уайтс с 1812 года, рассказывал, что разбогател благодаря тому, что лично прислуживал лордам во время затяжных карточных баталий. Он получал от счастливых победителей щедрое вознаграждение, порой до нескольких сот фунтов, а кроме того, подметая в зале после бурной ночи, нередко находил под карточным столом денежные банкноты.
Купюры, как правило, валялись вперемешку с картами, поскольку в клубах было принято начинать каждую новую игру со свежей колодой. Использованные один раз карты бросали прямо под стол. По словам самого Браммелла, к утру играющие сидели, утопая «по колено в картах».
В особых случаях игра могла длиться несколько дней и ночей. Как гласит легенда, именно при таких обстоятельствах Джон Монтегю, четвертый граф Сэндвич (умер в 1792 г.), изобрел свой знаменитый бутерброд. Не в силах оторваться от карт, он просто приказал положить для него куски холодной телятины между ломтями хлеба[372]. Это оказалось настолько удобной едой, что остроумный граф вошел в историю, а последующие поколения были обречены на поедание сэндвичей.
Во Франции для заядлых игроков было придумано еще одно остроумное техническое новшество. «В Лионе изобретательный хозяин каретной мастерской по имени Шабрэ сконструировал экипаж, быстро завоевавший популярность. Названный “дормезом”, он был снабжен кроватью и специально предназначен для игроков в фараон, которые после бессонной ночи за карточным столом могли несколько часов отдохнуть прямо в карете, не возвращаясь домой»[373].
Надо отметить, что и вист, и фараон долгое время были распространены только в высших кругах общества. Известной любительницей игры в фараон была Джорджиана, герцогиня Девонширская. Она проводила за этим занятием часы досуга и порой проигрывала значительные суммы. А первый секретарь английского посольства в Париже специально засылал своих шпионов на карточные баталии и уведомлял: «Агенты и впредь будут постоянно участвовать в партиях фараона здесь в столице Франции. Ведь нигде, кроме этих собраний, нельзя лицезреть столь великолепное общество иностранных дам и господ, представляющих правящие круги своих государств, в чьих руках сосредоточены судьбы не только Европы, но и мира»[374].
В Англии особенно славились приверженностью к картам виги во главе с Чарльзом Джеймсом Фоксом. Виги собирались в клубе Брукс. Завсегдатаями Брукса были помимо Фокса знаменитый денди Джордж Селвин, лорд Карлайль[375], лорд Роберт Спенсер (тот самый, который отрезал сгоревшие фалды фрака и таким образом нечаянно изобрел новый фасон, названный по его имени), генерал Фицпатрик и другие.
Сильные страсти всегда порождают легенды, и неудивительно, что вокруг карточных баталий тоже сложился особый фольклор. Частый мотив этих историй – отношение к крупному выигрышу. Тут возможны два варианта, но они рассказываются с различной интонацией. Положительно оценивается игрок, который, выиграв, не останавливается: он – настоящий адепт азарта. Со слов очевидца в мемуарах описана сцена, когда Фокс возвращается за полночь домой весь растерзанный и в необычайном возбуждении: он выиграл и назавтра хочет вернуть все долги. Но на следующий день, как можно догадаться, он снова идет играть и спускает деньги[376]. Это – классический эпизод в биографии почти каждого настоящего азартного игрока.
Противоположный случай – история, когда благоразумие в итоге одерживает верх. Лорд Роберт Спенсер однажды проиграл все, что у него было, и в этом отчаянном положении прибег к помощи генерала Фицпатрика. Вдвоем они одолжили деньги и держали банк в фараоне, в результате чего лорд Роберт получил сто тысяч фунтов. Но примечателен комментарий мемуариста к развязке этой истории: «Он удалился, странно сказать, оставив гнилостную атмосферу, с деньгами в кармане и больше никогда не играл»[377]. «Странно сказать» здесь красноречивее иных многословных объяснений.
Клуб Брукс в эпоху Регентства
В этом смысле поражает прагматизмом ранее приводившееся высказывание Байрона о картах: «Я кончал игру вовремя, без большого проигрыша или выигрыша»[378]. Оно не вяжется ни с репутацией самого Байрона как человека страсти, ни с демонически-фатальными аспектами игры, которые поэт прекрасно чувствовал. Скорее оно демонстрирует то расхождение между реальным, вполне рационалистически настроенным Байроном и его романтизированным образом, которое засвидетельствовали многие разочарованные поклонники, искавшие встречи со своим кумиром[379].
С карточной игрой в клубах связаны драматические страницы в биографии Джорджа Браммелла. В молодости он проводил время в основном за светскими развлечениями в компании принца Уэльского и мало посещал клубы. После ссоры с принцем он, напротив, стал клубным завсегдатаем.
В анналах истории азартных игр сохранились эпизоды карточных баталий Браммелла и обмена ироническими замечаниями по ходу и в конце партии. Соперники награждали друг друга ритуальными оскорблениями или саркастическими поздравлениями. Удачная остроумная реплика могла обеспечить моральную победу при проигрыше или, наоборот, эффектно подчеркнуть победу. Турнир в карты или в кости сопровождался риторическим поединком, точно так же как к мазурке полагалась легкая мазурочная болтовня. Приведем один из сюжетов такого рода о Браммелле. «Однажды вечером, когда он сидел в Бруксе за партией в хазард, его противником оказался пивовар Комб, заядлый игрок, о котором говорили, что половину своих доходов он получает от продажи пива, а вторую – от азартных игр. Когда наступила очередь Браммелла метать кости, тот обратился к Комбу со словами: “Ну, пивная бочка, что ставишь на кон?” – “Поставлю ‘пони’”, – отвечал Комб («пони» на игровом жаргоне означало сумму в 25 гиней, что составляет приблизительно 70 долларов). “Я сейчас загоню твоих пони в свою конюшню двадцать пять раз подряд”, – высокомерно заявил Браммелл. И если верить истории, он двадцать пять раз подряд выбросил выигрышную комбинацию. Сгребая деньги, он поклонился Комбу и ехидно произнес: “Благодарю, Олдерман. Отныне из всех сортов пива я буду пить лишь твой портер”. – “Мне было бы гораздо приятнее услышать подобные слова от всех до единого мерзавцев Лондона”, – проворчал Комб»[380].
Если подобный «обмен любезностями» сравнительно безобиден, то иной раз игроки бывали на волосок от смерти, поскольку при конфликте дело могло завершиться дуэлью, а самоубийство считалось отличным способом спасти при проигрыше свою честь. Особым риторическим приемом считалось поймать соперника на слове: Браммелл чуть было не попал в такую ловушку однажды, когда играл за одним столом с неким весьма неуравновешенным мистером Блаем. В тот вечер Браммелл «проиграл 1000 гиней и в порыве притворного отчаяния обратился к официанту: "Послушай, любезный, принеси мне зажженную свечу и пистолет". На что Блай, сидя прямо напротив Браммелла, не говоря ни слова, достал из карманов сюртука два заряженных пистолета и положил их на стол. "Мистер Браммелл, – произнес он, – если Вы в самом деле жаждете поставить точку в конце своего жизненного пути, я с радостью готов предложить Вам все необходимое для исполнения Вашего желания. И не стоит лишний раз беспокоить прислугу"»[381].
К сожалению, история не сохранила ответной реплики Браммелла, но, судя по его дальнейшим приключениям, ему удалось как – то отказаться от вежливого предложения Блая. Его проигрыши пока чередовались с победами, и он был на вершине светского успеха. В этот период Браммелл не раз проявлял благородство по отношению к неопытным игрокам. В воспоминаниях Томаса Райкса сохранилась занятная история о том, как Браммелл однажды выручил Тома Шеридана, сына известного драматурга Ричарда Бринсли Шеридана. Том был женат и имел семерых детей, а его финансовое положение было совершенно отчаянным: он должен был заплатить 1000 фунтов, чтобы не попасть в тюрьму. В последней надежде изыскать хоть какие-то средства он, будучи в клубе Ватье, сел играть в макао и поставил несколько фунтов, но сразу начал проигрывать. В этот момент появился Браммелл. Хорошо представляя положение Тома и будучи близким приятелем его отца, он предложил Тому войти в долю и сыграть за него. Он добавил к десяти фунтам Тома свои две тысячи, чем сразу резко повысил ставки. Вскоре удача ему улыбнулась, и через несколько минут он выиграл 1500 фунтов. Браммелл сразу благоразумно вышел из-за стола и честно разделил выигранную сумму пополам, вручив Тому его долю – 750 фунтов. При этом он наставительно сказал: «Теперь, Том, иди домой, пусть твоя жена и дети сегодня поужинают на славу, и больше никогда не играй». Этот жест, как комментирует Райкс, «был типичен для того времени, для нравов его круга и Браммелла, который умел демонстрировать щедрость к старому другу таким образом, что отказаться было невозможно»[382].
Для того чтобы подстраховать друг друга, некоторые игроки создавали фонды взаимовыручки, своего рода общую кассу, откуда можно было брать средства при острой необходимости. Браммелл участвовал в таком фонде и не раз пользовался им, что помогало ему продержаться даже в периоды невезения. Но в 1814–1815 годах ситуация в лондонских клубах изменилась из-за появления большого числа иностранцев после завершения Наполеоновских войн и Венского конгресса. Прусский фельдмаршал Блюхер был очень популярен не только в военных, но и в светских кругах. Солдаты и генералы активно включились в клубные игры, и ставки быстро начали расти. Игра шла покрупному; как раз в этот период Браммелл окончательно разорился и был вынужден уехать из Лондона.
В викторианскую эпоху число клубов в Лондоне продолжало расти. Они по-прежнему группировались в квартале улиц Сент-Джеймс и Пэл-Мэл, прозванном «clubland» – «клубным районом». Эта часть Лондона входила в фешенебельный Вест-Энд, издавна отличавшийся престижностью и зажиточностью. Географическая близость к парламенту, с одной стороны, и к Сент-Джеймскому дворцу – с другой, поддерживала ауру власти и аристократизма.
Клубная архитектура, как правило, была выдержана в стиле неоклассицизма или неопалладианства. При входе в здание в глаза бросалась парадная лестница, предназначенная для торжественного прохода гостей в дни балов или приемов. Внутренняя структура клуба обычно включала несколько помещений: 1) «morning room»– просторная гостиная с кожаными креслами, где можно было сидеть весь день за чтением газет; 2) столовая, причем перед едой надо было обязательно переодеваться; 3) «dirty room» – для тех, кто не переоделся к обеду; 4) библиотека, располагающая богатым собранием книг по темам, интересующим членов клуба; 5) зал для карточных игр; 6) комната для гостей, позднее трансформировавшаяся в «салон для дам»; 7) курительная.
Клубная жизнь регулировалась строгими правилами, часто касавшимися сущих мелочей. Например, в библиотеке не возбранялось вздремнуть, но категорически запрещалось при этом храпеть. В курительной ни в коем случае нельзя было ничего есть. Известен случай, когда один член клуба «Реформа» заказал яйцо, сваренное в мешочек, и лакей принес его в курительную. Поднялся страшный скандал, в результате которого пострадал и злополучный член клуба, и лакей, которого просто выгнали. Особенные строгости проявлялись по отношению к гостям. В клуб тори «Карлтон» вообще не полагалось приводить визитеров, в других клубах для этого выделялся один день, но в любом случае прием гостей осуществлялся только в специально предназначенной для этого комнате.
Постепенно изменялась функция клубов. Если раньше сюда приходили прежде всего ради игры (а в XVIII веке еще и ради пари), то в XIX столетии на первый план вышла роль клуба как места спокойного досуга, причем отнюдь не обязательно подразумевающего общение. Разумеется, любители карт общались в процессе игры, но большинство клубов в первую очередь теперь стремилось обеспечить условия для отдыха в одиночку, культивируя «privacy» – настрой на частное, личное.
Вот как описывает лондонский клуб Флора Тристан: «Каждый новоприбывший входит в комнату, не снимая головного убора, никого не замечая и не приветствуя. Весьма забавно наблюдать сотню мужчин, сидящих в зале неподвижно, как мебель. Один, восседая в кресле, читает новую брошюру, другой что-то пишет, не обращая никакого внимания на соседа, четвертый дремлет, пристроившись на диване, пятый сосредоточенно прогуливается взад и вперед по залу; в углу шепотом беседуют, чтобы не нарушить гробовую тишину, как в церкви»[383]. Добавим к этой впечатляющей картине, что даже в столовой питание осуществлялось за отдельными столиками, рассчитанными на одного человека. Искусство одиночества в толпе как особый жанр было доведено англичанами до виртуозности.
Принц Эстерхази, лорд Файф, Хью Болл, лорд Уиттон
Аналогичный изоляционизм, но уже в иронически-гротескной манере описан в новелле Конан Дойля «Случай с переводчиком». Там фигурирует клуб «Диоген», учредителем которого является брат Шерлока Холмса Майкрофт. Это клуб молчунов: «В Лондоне, знаете, немало таких людей, кто из робости, а кто по мизантропии – избегают общества себе подобных. Но при том они не прочь посидеть в покойном кресле и просмотреть свежие газеты и журналы. Для их удобства и создан был в свое время клуб “Диоген”. И сейчас он объединяет в себе самых необщительных, самых “антиклубных” людей нашего города. Членам клуба не дозволяется обращать друг на друга хоть какое-то внимание. Кроме как в комнате для посторонних посетителей, в клубе ни под каким видом не допускаются никакие разговоры, и после трех нарушений этого правила, если о них донесено в клубный комитет, болтун подлежит исключению»[384]. Далее Ватсон в сопровождении Холмса заходит в клуб «Диоген» и видит нечто уже нам знакомое: «Сквозь стеклянную дверь моим глазам открылся на мгновение большой и роскошный зал, где сидели, читая газеты, какие-то мужчины, каждый в своем обособленном уголке»[385].
В такой системе заключается явный парадокс: ведь, казалось бы, зачем тогда приходить в клуб – частную жизнь никто не мешает вести дома. Однако он имеет свое объяснение: особенности английской системы воспитания и образования мальчиков ориентированы на жизнь в коллективе – во всех школах огромное значение придается командному духу. Вплоть до колледжа юноша нередко не имеет своей отдельной комнаты. Отсюда происходит небесполезное умение отгородиться от окружающих внутренним барьером, искусство горделивого одиночества в толпе. Вероятно, навык психологической самозащиты одновременно с установкой на жизнь в коллективе и породил этот странный стиль клубного досуга, когда человек испытывает потребность в чисто формальном обществе себе подобных, не вступая с ними в более тесный контакт.
Атмосфера клубной жизни позволяла джентльмену побыть, не напрягаясь, самим собой. В пределе клуб узаконивал право на эксцентричность, а клубное сообщество представляло собой коллективного чудака. Правила порой являлись воплощением эксцентрики – в некоторых клубах было принято проглаживать горячим утюгом страницы газеты «Таймс», чтобы типографская краска не пачкала пальцы, а в другом мыли монеты, уплаченные должниками. В клубах старались поддерживать хороший уровень ресторанной кухни и охотно использовали всяческие технические новшества: вентиляцию, центральное отопление (которое до сих пор есть отнюдь не в каждом английском доме), а в одном клубе даже был паровой подъемник для подачи блюд из кухни в столовый зал. По словам А. Троллопа, типичный клуб – это место, где джентльмены обедали, курили, играли в бильярд и притворялись, что читают.
В целом викторианский клуб предлагал максимально комфортную модель социальности – считалось, что джентльмен находится среди равных и ему не нужно доказывать на каждом шагу свои права и достоинства. Противоположную модель общения можно видеть в светском салоне, где собиралось смешанное общество и каждый должен был чем-нибудь блеснуть, завоевать репутацию и затем ее тщательно поддерживать. Разумеется, переходя из салона в клуб и обратно, человек должен был проявлять известную гибкость обращения, выстраивая свое поведение по принятым в данном месте правилам. Этому как раз способствовало дендистское «хамелеонство» – умение адекватно вести себя в разных обстоятельствах[386]. В эпоху Регентства денди непринужденно вращался и в салонах, и в клубах, но в дальнейшем модель салонной социальности начинает все более отличаться от клубной.
При такой поляризации денди – человек скорее салона, нежели клуба, его трудно представить себе среди молчунов, ему нужна пряная беседа, приправленная остроумными шутками и пикантными историями, напряжение любопытных и оценивающих взглядов, азарт, балы, интриги. Все это было в клубах эпохи Регентства, но в 1820-е годы атмосфера начинает существенно меняться.
В викторианскую эпоху уже происходит процесс слияния двух элит – старой, аристократической, и новой, буржуазной. Представители новой элиты – банкиры, журналисты, театральные деятели – тоже претендовали на светскую жизнь. Старинное понятие «джентльмен» оказалось для них универсальным объединительным принципом: достаточно было иметь незапятнанную репутацию и хорошие связи, чтобы быть признанным своим. Во Франции в это же время аналогичным образом формируется новое общество смешанного социального состава – «Весь Париж», а эпицентром модной жизни становится Бульвар[387].
Средний класс нуждается в своих клубах: писатели, выпускники университетов, армейские офицеры стали вносить деньги на их строительство. Они желали, чтобы здание прозводило впечатление респектабельности, имело торжественный и солидный вид, отражающий их самоуважение и социальные ожидания. Соответственно клуб специально проектировался не как частный особняк, а как общественное здание, что объясняет такие архитектурные детали, как фриз с барельефами процессии на здании Атенеума или портик с коринфскими колоннами офицерского клуба «Юнайтед Сервис».
В 30-е годы появляется много клубов «по интересам», абсорбирующих новую элиту и средний класс: «Оксфорд» и «Кембридж» – для выпускников этих университетов; «Гаррик» – для литераторов и актеров; «Реформа» – политический клуб для сторонников реформ; «Путешественник» – для любителей дальних странствий. Число желающих попасть в некоторые клубы было так велико, что создавались длинные списки «ожидающих», или даже устраивали филиал – «дочерний» клуб с тем же названием, но куда менее престижный.
Наиболее известным в этой категории клубов для среднего класса был Атенеум, объединявший в своих рядах литераторов, историков, епископов и ученых. Он был образован в 1824 году. Его членами были писатели сэр Вальтер Скотт, Томас Мур, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Т.Б. Маколей, А. Троллоп, а из ученых – Ч. Дарвин, Ч. Лилль. Именно в Атенеуме произошла знаменитая ссора Диккенса и Теккерея, а Троллоп решил изменить концовку «Барчестерских башен», случайно подслушав критический отзыв о романе в клубной библиотеке. Томас Уолкер, главный редактор журнала «Оригинал», с восхищением описывал Атенеум: «Единственный клуб, в котором я состою, – это Атенеум, среди его 1200 членов очень много известных в стране людей… Каждый член клуба имеет в своем распоряжении превосходную библиотеку, в которой есть географические карты, ежедневные газеты, английские и иностранные журналы, материалы для письма и обслуживающий персонал. Здание напоминает дворец и содержится в таком же порядке, как и частный дом. Каждый член клуба – хозяин этого дома, однако без хозяйских забот: он может приходить, когда захочет, и оставаться, сколько захочет; его будут беспрекословно обслуживать, и ему не надо будет платить за это или отдавать общие распоряжения; он может заказать еду или напитки в любое время, и ему все мгновенно подадут, как дома. Он выбирает меню, руководствуясь только собственными желаниями. Короче, невозможно представить себе большую степень свободы в образе жизни»[388].
Некоторые клубы вели политику «открытых дверей» и охотно принимали в свои члены известных людей независимо от происхождения; другие все же старались сохранить чистоту рядов. Потомственные аристократы по традиции предпочитали старые клубы, основанные еще в XVIII веке, такие как Уайтс, Будлс и Брукс. Последний, например, объединял вигов и был очень популярен среди денди эпохи Регентства. Среди его членов были Браммелл, Райкс, по прозвищу «Аполлон», и Бинг, прозванный «Пуделем» из-за кудрявых волос.
Граница, отделяющая элитарный закрытый клуб от среднего клуба «по интересам», была очень ощутима. Вспомним понятие «еxclusivism» – исключительность, принадлежность к модному кругу. Денди, конечно же, входили в это избранное общество. Они были признанными королями светской жизни, а их мнение часто было решающим для репутации новичка, что определяло впоследствии, войдет ли он в круг «избранных».
Самым «эксклюзивным» клубом эпохи считался Олмакс, располагавшийся на Кинг-стрит. Он возник еще в 1765 году. В XIX веке его называли «седьмым небом модного мира». Олмакс был призван решить очень важную задачу: вхождение в свет нового поколения подающих надежды молодых людей. Поэтому в отличие от закрытых мужских клубов, где процветали карточные игры, в Олмаксе[389] устраивали балы и туда допускали женщин. Более того, женщины, собственно, и заправляли всем в Олмаксе. В клубный совет входили 10 дам-патронесс (их сравнивали с венецианским «Советом десяти»), которые безжалостно отсекали неподходящие кандидатуры.
В 1827 году вышел роман о клубной жизни, который назывался «Олмакс». Неизвестный автор посвятил его дамам-патронессам. Полный текст посвящения гласил: «Самому блистательному и деспотичному СОВЕТУ, в который входят их Величества Дамы-патронессы балов в Олмаксе, законодательницы мод и арбитры вкуса, знатоки хорошего тона и изящных манер, чье первенство в лондонской светской жизни давно признано всеми; чьи вердикты – законы, а суждения – приговор, не подлежащий обжалованию»[390].
Д. Крукшенк. Долгота и широта Санкт-Петербурга
Танцующая дама – графиня Ливен. 1813 г.
Среди патронесс были не только самые влиятельные британские леди, но и две дамы иностранного происхождения – австрийская принцесса Эстерхази и графиня Ливен, супруга русского посла в Англии.
Дарья (Доротея) Христофоровна Ливен, урожденная Бенкендорф, была весьма примечательной личностью – приехав в Лондон, она сразу умудрилась вникнуть во все тонкости светской жизни и вошла в круг особ, приближенных к Георгу IV. Коньком графини[391] была дипломатия – она неплохо разбиралась в политических интригах и влюблялась исключительно в политиков самого высокого ранга, открыто заявляя: «Обожаю первых министров»[392]. Она была хозяйкой популярного политического салона, и среди ее любовников были сначала Меттерних, а затем Гизо.
Как же решали леди-патронессы вопрос о допуске в Олмакс? Преимущество имели лица знатного происхождения, но это не было решающим критерием. Главное состояло в том, чтобы кандидат отличался «хорошим тоном». Этому весьма расплывчатому требованию мог отвечать, к примеру, поэт Томас Мур, исполнявший ирландские песни в светских салонах, и Мура приняли в Олмакс, чем он чрезвычайно гордился. «Хорошим тоном» не обладали, с точки зрения дам-патронесс, богачи, особенно нувориши – их считали вульгарными. Никакие капиталы не могли помочь дочке банкира попасть на заветный бал по средам в Олмаксе. Военных также допускали очень выборочно. Из трехсот офицеров гвардейской пехоты только шестеро были вхожи в Олмакс. Среди них был и капитан Гроноу, оставивший любопытные мемуары о светской жизни.
Однажды лорда Джерси вызвал на дуэль капитан королевской гвардии, так как леди Джерси, возглавлявшая совет патронесс, отказала в билете его жене. Но лорд Джерси не принял вызов, заявив, что иначе ему придется драться на дуэли каждые несколько дней.
Заветный билет на бал стоил недорого, но просто так купить его было нельзя – они распространялись только среди членов клуба. Член клуба имел право привести одного гостя, но и кандидатуры гостей тоже тщательно отфильтровывались дамами-патронессами. Членство в клубе на один сезон продолжительностью 12 недель стоило 10 гиней, и в эту стоимость входило посещение бала раз в неделю по средам и ужин. Закуска была скромная – чай, причем не высшего сорта, лимонад, сухие бисквитики и тонкие кусочки черного хлеба, намазанные маслом. Как сказано у Бульвера-Литтона, при основании Олмакса «целью ставили не допускать богатых простолюдинов в клуб, где должен был господствовать самый аристократический тон. Для этого руководство поручили дамам-патронессам, назначили исключительно низкий членский взнос и решили не продавать в буфете особо дорогих напитков»[393].
Это был подчеркнутый вызов старой аристократической элиты новым апологетам буржуазной роскоши. Ведь основная цель дам-патронесс состояла в том, чтобы избежать «ostentation» – выставления напоказ, афиширования богатства. Т. Веблен в конце XIX века придумает целую «Теорию праздного класса», доказывая, что именно «потребление напоказ» – признак буржуазного мышления, но эти социальные механизмы, как мы видим, были прекрасно известны и раньше.
Попавшие на бал оказывались в центре кипучей жизни: для молодых девушек это был шанс познакомиться с будущими женихами, принадлежащими к «модному» обществу, пожилые дамы активно занимались интригами, а мужчины обсуждали светские и политические новости. Браммелл часто появлялся в Олмаксе, и мамаши специально наставляли по такому случаю своих дочерей: «Ты видишь того джентльмена у двери? – сказала опытная дама своей дочери, которую она в первый раз привела на арену Олмакса. – Он сейчас беседует с лордом N». – «Да, вижу, – легкомысленно ответила простодушная девица, – а кто он?» – «Этот джентльмен, вероятно, подойдет к нам и заговорит; в беседе будь осмотрительна и непременно постарайся произвести на него хорошее впечатление. Ведь это, – тут она понизила голос до шепота, – сам прославленный мистер Браммелл»[394]. Мнения Браммелла боялись, поскольку его склонность к саркастическим репликам была общеизвестна, и при встрече с дебютантками он оценивал не только способность поддерживать разговор, но и наряд.
Именно Браммелл ввел в моду костюм, ставший обязательным для мужчин, посещающих вечера в Олмаксе. Джентльмену полагалось носить фрак, белый шейный платок, складную шляпу-треуголку (которую обычно держали под мышкой), черные штаны-бриджи до колен с шелковыми полосатыми чулками и бальные туфли-лодочки. Категорически воспрещалось появляться в обычных длинных панталонах – они считались неформальной одеждой, и шутники изощрялись в каламбурах, говоря, что такие брюки им напоминают названия французских городов Тулона и Тулузы: «Too-long и Too-loose» – «слишком длинные» и «слишком свободные»[395]. Если мужчина появлялся «в неуставном виде», его не пускали на бал, и несколько знатных лордов пали жертвой этого запрета.
Правила Олмакса отличались, как можно видеть, подчеркнутой строгостью – недаром в цитированном посвящении вердикты и суждения патронесс сравнивались с законами и приговорами! Дамы-патронессы лично следили за неукоснительным соблюдением правил. Например, вход на бал прекращался ровно в 11 часов, когда подавали ужин, и ни минутой позже. Иногда у порога Олмакса разыгрывались драматические сцены. Однажды герцог Веллингтонский, знаменитый полководец, победитель Наполеона, решил заглянуть в Олмакс, но опоздал и пришел в семь минут двенадцатого. Он попросил разрешения войти, и его просьбу передали патронессе леди Саре Джерси. Она осведомилась: «Который час?» – «Семь минут двенадцатого». Тогда леди Джерси сказала: «Мне очень приятно отказать именно герцогу Веллингтонскому, поскольку после этого случая уже никто другой не сможет пожаловаться, когда в дальнейшем будет строго применяться это правило. Передайте ему, что вход закрыт»[396].
Предметом особого попечения леди-патронесс были танцы. Ведь от этого во многом зависели тонкие возможности ухаживания, общения и сближения между молодыми людьми на балах. Леди-патронессы самолично назначали партнера для первого танца дебютантки. Составленный ими список танцующих воспринимался как скрижали судьбы, что обыгрывалось в стихотворении Латтрелла «Совет Юлии»: «Все зависит от этого волшебного списка – слава, фортуна, мода, друзья и любовники. В нем – награда или обида для всех независимо от возраста, пола и ранга. Если ты – член Олмакса, ты – монарх, тебе дозволено всё; но если не попадешь туда в заветную среду, ты, клянусь Юпитером, лишаешься всего»[397].
Обучение бальным танцам входило в норму воспитания. Обычными танцами в то время были шотландский рил (хороводный танец) и английский контрданс. В 1815 году леди Сара Джерси путешествовала во Франции и там выучила фигуры французской кадрили. Танец ей понравился, и, вернувшись в Лондон, она ввела кадриль в моду. Первое исполнение кадрили в Олмаксе было таким запоминающимсясобытием, что мемуарист капитан Гроноу даже перечисляет по именам первых исполнителей: дамы – леди Джерси, леди Хэрриет Батлер, леди Сьюзан Райд, мисс Монтгомери; кавалеры – граф Сент-Олдегонд, мистер Монтгомери, мистер Монтегю и Чарльз Стэндиш[398].
Новые танцы требовали «контроля», поскольку некоторые из них поначалу считались нескромными. Вальс в 1814 году еще воспринимался с большим подозрением, потому что в нем резко сокращалась привычная дистанция между партнерами. Байрон считал вальс непристойным танцем, но, с другой стороны, заявлял, что это единственный танец, который учит девушек думать. Галантный лорд, вероятно, имел в виду необходимость придерживаться такта и соблюдать шаги. Иным дамам вальс давался трудно, и по утрам во многих модных лондонских домах проводили уроки танцев, чтобы специально отработать фигуры вальса. В Олмаксе вальс был привит не кем иным, как графиней Ливен, а ее постоянным партнером по вальсу был лорд Пальмерстон.
Во Франции этот танец с энтузиазмом воспевали Виктор Гюго, Альфред Мюссе, Альфред де Виньи. Приведем небольшое стихотворение той эпохи «Заповеди вальса» – юмористическую инструкцию кавалеру: «Выверни хорошенько ноги наружу, держи высоко и грациозно голову. Правой рукой обнимай свою даму и поддерживай ее. Твои ноги должны плавно скользить в веселом и радостном вальсе, но отнюдь не бегай и не скачи, как безумный. Вальсируя, ты должен придерживаться трех ритмических тактов. С левой ноги ты должен начинать, а затем медленно и плавно подвигать правую. Пусть твоя дама будет рабой такта и ни на один миг не выбивается из него. Когда же вальс окончится, не забудь поблагодарить ее за танец»[399].
Поскольку в этом наставлении идет речь о танце с незамужней девушкой, оно, очевидно, относится к 30-м годам, когда вальс окончательно и повсеместно вошел в моду. Раньше, во Франции эпохи Империи, вальс полагалось танцевать только замужним дамам. Несмотря на популярность вальса, его все-таки запретили при дворе из соображений приличия. Еще более непристойным считался испанский танец качуча, исполнявшийся в откровенно чувственной манере. Даже замужним дамам не разрешалось танцевать качучу[400]. Веселый полонез тоже заслужил моралистическое порицание англичан за то, что «в него введен променад по спальням и коридорам наших загородных имений, на стенах которых трясутся портреты почтенных предков – да, трясутся от негодования, глядя на подобные шумные процессии»[401].
Танцы на балу в Олмаксе. 1805 г.
В 1820–1830-е годы происходит постепенный переход от чинных коллективных придворных танцев к индивидуальным и более вольным. Денди как лидеры моды периодически берут на себя роль новаторов и в танцевальном искусстве. В романе «Годольфин» Э. БульвераЛиттона главный герой, денди, прототипом для которого послужил граф д’Орсе, танцует на балу вальс: «Был объявлен иностранный танец, в то время мало кому известный в Англии; его умели исполнять лишь те, кто побывал за границей. Но так как движения требовали особой грациозности, многие отказались продемонстрировать свое умение из скромности. Именно на этот танец Годольфин пригласил леди Маргарет. Все столпились вокруг исполнителей и, пока они кружились, обменивались замечаниями по поводу изящества, неуклюжести или непристойности танца. Однако когда выступил Годольфин, шум голосов стих. Плавный благородный ритм превосходно отвечал его личному темпераменту и стилю. Леди Маргарет по крайней мере хорошо знала шаги; в целом пара настолько превосходила других танцующих, что они, как будто чувствуя это, выходили из круга, и когда Годольфин, поняв, что больше никого нет, остановился, зрители захлопали гораздо громче, чем это принято в подобных случаях»[402].
Очевидно, что мастерски исполненный рискованный танец – орудие светского триумфа, блестящий дендистский ход. Но обратим внимание: автор специально оговаривает, что «плавный благородный такт» идеально подходил по стилю нашему денди. Дело в том, что денди, как правило, избегали быстрых танцев типа польки, мазурки или галопа – они или совсем не танцевали, сохраняя за собой позицию наблюдателя, или отдавали предпочтение медленным танцам, соответствующим их горделивому достоинству и пластической статуарности.
Быстрый танец предполагал суету, беготню – а денди принципиально предпочитают медленные движения. Бальзак в своем «Трактате о походке» рекомендовал щеголям двигаться исключительно плавно: именно поэтому денди для тренировки в медленности шага брали с собой на прогулку черепашек[403].
Позднее в дендистской среде был придуман новый компромиссный вариант для желающих танцевать, не теряя романтической позы разочарования и пресыщенности. Денди ввели в моду намеренно небрежный стиль танца, всем видом показывая, что делают большое одолжение партнерше. Ю.М. Лотман отмечал: «Французская “светская” и “любезная” манера мазурки в 1820-е годы сменяется английской, связанной с дендизмом. Последняя требовала от кавалера томных, ленивых движений, подчеркивавших, что ему скучно танцевать и он это делает против воли. Кавалер отказывался от мазурочной болтовни и во время танца угрюмо молчал… В воспоминаниях Смирновой-Россет рассказан эпизод ее первой встречи с Пушкиным: еще институткой она пригласила его на мазурку. Пушкин молча и лениво прошелся с ней по залу»[404]. Поскольку каждый тип танца требовал галантного разговора с партнершей, молчание, безусловно, трактовалось как явное нарушение норм светского общения.
Ленивый стиль танца можно сравнить с дендистским принципом одеваться с деланой небрежностью – отказом носить новенькие, с иголочки, вещи; введением одной намеренно несогласованной детали костюма. В обоих случаях налицо демонстрация собственной независимости, акцентированное пренебрежение к мнению окружающих. Следуя старинному принципу «la Spezzatura», денди показывает, что он может все – и отлично танцевать, и одеваться комильфо, но ему недосуг всерьез заниматься такими мелочами. С легкой руки денди танцевальная виртуозность вскоре выходит из моды.
Уже в романе «Пелэм» мы слышим такие диалоги: «Вы не танцевали еще ни одного тура? – Что вы, Смит! Клянусь честью – нет! – ответил мистер Ритсон. – Такая сверхъестественная духота! и вообще ни один фешенебельный кавалер сейчас не танцует, это не полагается! – …Вот как? Но ведь танцуют же в Олмэкском клубе, не правда ли? – Нет! Клянусь честью, нет! – пробормотал мистер Ритсон. – Нет, разве что пройдутся в кадрили или повертятся в вальсе, как выражается мой приятель, лорд Бодабоб, только и всего; нет, к черту танцы, это уж очень вульгарно!»[405] Хотя мистер Ритсон и обрисован в романе с явной авторской иронией, его рассуждения по поводу танцев вполне демонстрируют перемену умонастроения во второй половине 20-х, когда писался «Пелэм».
Аналогичный сдвиг фиксирует А. Мартен-Фюжье во Франции конца 20-х – начала 30-х годов, когда туда дошли британские веяния. Теперь эту новую манеру подхватили и дамы: «К 1833 году, по свидетельству Софи Гэ, женщина, которая “слишком хорошо танцует”, сделалась предметом насмешек. Если женщина молода, пишет Софи Гэ, то по увлечению танцами можно догадаться, что она совсем недавно покинула стены пансиона; если молодой ее не назовешь, то умением танцевать она выдает принадлежность к эпохе, когда это умение еще было в цене, иначе говоря – свой возраст»[406].
Мода на те или иные светские умения и привычки менялась приблизительно каждые 5–7 лет. Во Франции и в Англии существовали свои, часто несовпадающие нормы поведения на балах. Когда Браммелл переехал во Францию, ему пришлось освоить новый для себя бальный этикет. К примеру, процедура приглашения партнерши во Франции 20-х годов была более формальной в сравнении с английской. Вот как описывает этот ритуал капитан Джессе: «Каждая из молодых девушек держит в руках книжечку микроскопических размеров, стараясь напустить на себя серьезный и важный вид, насколько им это позволяла природная живость и элегантный наряд. Мужчины, также вооруженные маленькими книжечками, проворно движутся перед ними, кланяясь, шаркая, быстро записывая, скрипя перьями и перебегая с одной стороны зала на другую. Какое столпотворение, волнение и суета! “Имею честь”, – обращается один кавалер, доставая свою украшенную драгоценностями книжку с карандашиком. “Пардон, мадам!” – восклицает другой, наступив первому на изящную бальную туфлю, обтянутую шелком, своими грубыми ботинками на толстой подошве. А девицы с безумной скоростью строчат в своих книжечках и бойко подсчитывают число партнеров, бормоча про себя, как если бы они читали молитвы “Pater noster” или “Ave Maria”. Глядя на них, новичок на балу, незнакомый с французскими обычаями, решил бы, что они делают ставки, а они на самом деле расписывают очередность партнеров на целый вечер – таков неизменный ритуал в начале бала»[407]. На британских балах, заключает Джессе, нет таких формальностей в отношениях с дамами, и оттого больше возможностей для легкого флирта: «Удовольствия и преимущества балов у нас сильнее»[408].
Оставляя оценочные суждения на совести капитана Джессе, нельзя не заметить существенную разницу в культурных традициях двух стран. Клубная жизнь развивалась во Франции совсем иначе, чем в Англии. Во Франции не было старинных клубов, ведущих свою родословную от XVII века, типа Уайтса. В период Великой французской революции было много политических клубов (например, «Женский патриотический клуб»), но светская жизнь протекала преимущественно в салонах. Только в 30-е годы XIX века на волне англомании во Франции появился первый мужской клуб, и он был связан с модой на скачки. Английский дендизм был импортирован во Францию в своем самом спортивном варианте.
Престижность этого вида спорта возникла не случайно. В эпоху Реставрации, когда многие французские аристократы-эмигранты вернулись из Англии, они привезли с собой увлечение всем британским – боксом, лошадьми, стрельбой. Так возникла ассоциативная связка «лошади – аристократия – англомания». Но французские денди этого периода, увлекаясь верховыми прогулками, сильно отставали от англичан по частиконного спорта. Как рассказывает АннаМартен-Фюжье, «в 1826 году жил в Париже англичанин по имени Томас Брайен, который, видя, что молодые французские модники совсем не разбираются в лошадях, решил извлечь из этого выгоду. Он организовал Общество любителей скачек и в 1827 году составил небольшой учебник, содержавший британские правила их проведения, что позволяло элегантным господам говорить о модном спорте со знанием дела»[409].
Тот же Томас Брайен позднее, в 1832 году, открыл в саду Тиволи тир, где стали собираться светские люди, и именно там через год было учреждено Общество соревнователей улучшения конных пород во Франции. Президента общества лорда Сеймура называли «отцом французского ипподрома». В число основателей общества входил граф Анатолий Демидов, русский меценат, женившийся в 1841 году на принцессе Матильде. Среди членов общества было немало завзятых англоманов, как герцог де Гиш, зять графа д’Орсе.
Спортивный денди. 1832 г. Клетчатые панталоны в 1830-е годы – признак спортивного стиля
На базе общества и был организован в 1834 году первый французский клуб в собственном смысле слова: Жокей-клуб. (Для сравнения – английский Жокей-клуб появился в 1752 году в Ньюмаркете.) Вначале в клуб входило 60 членов, но затем их число стало быстро расти. Чтобы попасть в члены клуба, надо было иметь три рекомендации, при голосовании один черный шар означал провал кандидата. Писателю Альфреду де Мюссе отказали в приеме под предлогом того, что он не ездит верхом, а вот Эжен Сю, напротив, был членом клуба с момента его основания, но был принят туда прежде всего как известный денди.
Главным требованием к новичку была светскость: «Громкое имя, блестящая жизнь, любовь к лошадям и мотовство»[410]. Быть денди в тот момент означало разбираться в лошадях, сломать себе одно или два ребра на скачках и числиться в Жокей-клубе. Если искать аналогии в современности, то по престижности это сравнимо с нынешним увлечением светских людей поло.
Однако довольно скоро некоторые денди разобрались, что для того, чтобы поддерживать личную репутацию, вовсе не обязательно рисковать своими ребрами. Они придумали хитрую вещь: сделали конный спорт предметом модной беседы, манкируя реальным участием в скачках. Этот трюк настолько возмутил основателя клуба лорда Сеймура, что он сложил с себя обязанности президента и вышел из членов клуба.
Главными развлечениями в клубной жизни остались безвредные для здоровья карточные игры, бильярд и походы в театр. Поскольку Жокейский клуб находился по соседству со зданием Оперы, члены клуба проникали туда прямо через артистический вход и имели немало знакомых среди танцовщиц. Клуб постоянно абонировал в Опере двенадцатиместную ложу, которую называли «Адской» за то, что сидящие в ней денди, если им не нравился спектакль, поднимали адский шум. Из привилегий для членов Жокейского клуба следует упомянуть вкусный ужин по умеренным расценкам (на него надо было записаться с утра) и возможность беспрепятственно играть в карты, что стало особенно цениться после официального закрытия всех игорных домов в Париже 31 декабря 1836 года. Клубный этикет запрещал шулерство во время карточной игры среди своих, как и в английских благородных клубах. Также правилами клуба возбранялись политические споры.
Жокейский клуб долгие годы оставался самым модным и дендистским из всех французских клубов. С социальной точки зрения он иллюстрировал очень характерную для дендизма тенденцию: размывание классовых границ в русле условной светскости. Согласно мнению Анны Мартен-Фюжье, «при Июльской монархии эволюция от высшего общества к полусвету и Бульвару ярче всего проявлялась в Жокей-клубе»[411].
Единственным по существу аристократическим клубом был «Союз», образованный в 1825 году, в который входили дворяне и члены дипломатического корпуса. Другие французские клубы в 30-е годы все больше объединяли людей по интересам – в Сельскохозяйственном клубе читали лекции по экономическим вопросам, а в «Малом кружке» собирались литераторы.
Сравнивая английские и французские клубы, надо отметить одно существенное отличие. Даже подражая англичанам, французы не практиковали в своих клубах искусство одинокого досуга среди себе подобных, для жизнерадостной французской натуры это было бы немыслимой и абсурдной жертвой – прийти в клуб и лишить себя удовольствия общения. Здесь сходная ситуация «одиночества в толпе» разыгрывалась в других жанрах городской жизни – в кафе и во время фланирования. Но это уже немного другая история.
А что же современные английские клубы? Время, конечно, берет свое, появляются новые модные и демократичные заведения, но и традиционные старинные клубы по-прежнему существуют. Приведем свежий пример из клубной жизни: «Недавно испанский посол, которого пригласил в Уайтс на ланч сэр Рональд Линдсей, рассказал такую историю. С ним за столом сидел герцог Веллингтонский; по стечению обстоятельств он оказался прямо под портретом своего предка. За соседним столом в это время обедал герцог Мальборо. На испанского посла это произвело впечатление: “Такое случается не каждый день!”»[412]
Денди – хамелеон: метафорика изменчивости в европейской культуре
Знаменитый полководец древности красавец Алкивиад обладал, среди прочих замечательных свойств, одним весьма интересным качеством: он мог менять свой облик и манеры, и оттого его нередко сравнивали с хамелеоном[413]. Напомним характеристику Плутарха: «Наряду с прочими дарованиями он обладал величайшим искусством пленять людей, применяясь к их привычкам и образу жизни, чтобы стать похожим на них; в искусстве менять свой облик он превосходил даже хамелеона, который, по общепринятому мнению, не может принять только одного цвета – белого… Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской»[414].
Это описание часто цитировалось и стало настолько каноническим, что в позднейшее время его то и дело пересказывали, порой без ссылки на автора, как общеизвестный классический текст. Так поступает знаток древности Мишель Монтень, который, перефразируя Плутарха, писал об Алкивиаде: «Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада, который с такой легкостью умел приспособляться без всякого ущерба для своего здоровья к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов – лакедемонян, то поражая всех своим целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии»[415].
Сходным образом, не ссылаясь на Плутарха, в конце XVIII века лорд Честерфилд в наставлениях к сыну специально комментирует как раз эту черту Алкивиада. Но его интересует уже не столько телесное приспособление к разным физическим условиям, сколько психологическая гибкость – залог светского искусства нравиться. «Чем можно вернее расположить к себе людей, как не радостным и непринужденным подчинением их привычкам, нравам и даже слабостям, – молодому человеку, как говорится, все идет впрок. Ему следует быть ради благих целей тем, чем Алкивиад обычно бывал ради дурных, – Протеем, с легкостью принимающим любые обличья и легко и весело привыкающим к ним. Жар, холод, сладострастие, воздержание, серьезность, веселье, церемонность, непринужденность, ученость, легкомыслие, дела и удовольствия – все это он должен уметь принимать, откладывать, когда нужно, в сторону, изменяя себе так же легко и просто, как он надел бы или положил в сторону шляпу. А приобретается это только привычкой к светской жизни и знанием света, общением с множеством людей, тщательным изучением каждого в отдельности и умением хорошо разглядеть своих разнообразных знакомых, добившись близости с ними»[416].
У Честерфилда уже звучат почти цинические нотки: «изменяя себе так же легко и просто, как он надел бы или положил в сторону шляпу». Заметим на будущее, что эмблемой незатруднительных трансформаций выступает головной убор[417]. Но для Честерфилда такая внутренняя подвижность сугубо позитивна и не сопровождается моралистическими коннотациями. Скорее она означает восприимчивость, открытость, способность обучаться и подкрепляется солидной философской базой. Честерфилд был сторонником концепции Локка об отсутствии врожденных идей. Из этого следовало, что в становлении личности все решает воспитание и образование, а происхождение не столь уж важно. Эта просветительская позиция была в XVIII веке достаточно популярна и обеспечивала идеологическую платформу нового восходящего класса – буржуазии.
Метафора хамелеона устойчиво сопровождает культуру европейского дендизма XIX столетия. Это обусловлено как эстетическими, так и социальными факторами. В эстетическом аспекте дендизм прежде всего предполагает хороший вкус и тонкую восприимчивость ко всему прекрасному, способность быстро сориентироваться, уловить модные тенденции. Это базовое свойство денди, который задает тон в обществе. И.А. Гончаров, характеризуя тип светского льва, отметил как раз эти качества: «В этой-то быстроте и навыке соображения, что выбрать, надеть, что отбросить, где и как обедать, что завтракать, с кем видеться, говорить и о чем, как распределить порядок утра, дня и вечера так, чтобы этим произвести эффект, – и состоит задача льва. Он обречен вечному хамелеонству; вкус его в беспрерывном движении; он играет у него роль часовой стрелки, и все проверяют вкус по ней, как часы по одному какому-нибудь регулятору, но все несколько отстают: льва догнать нельзя, в противном случае он не лев»[418].
Для Гончарова светский лев практически аналогичен типу европейского денди. Изощренный вкус денди обязывает к чуткости и чувствительности, но – обратим внимание – это касается собственных интуиций относительно моды. Хамелеонство денди отнюдь не означает, что он подражает другим, напротив, ему как лидеру моды подражают. Поэтому хамелеонская восприимчивость к эстетическим нюансам для него – просто способ быть в форме.
В плане светского поведения для денди принцип хамелеонства означал свободу быть самим собой и вместе с тем искусно варьировать свой облик и манеры в зависимости от обстоятельств. Человек выступает режиссером своих собственных жизненных ролей и ведет себя согласно продуманному сценарию. Сценарий может быть рассчитанна эпатаж или на конформистское поведение, но существенно, что он задается не извне, а самой личностью.
Вот Пелэм, классический денди, герой одноименного романа Бульвера-Литтона (1828), обдумывает план своего первого появления во французском светском салоне. «Прибыв в Париж, я тотчас решил избрать определенное “амплуа” и строго держаться его, ибо меня всегда снедало честолюбие и я стремился во всем отличаться от людского стада. Поразмыслив как следует над тем, какая роль мне лучше всего подходит, я понял, что выделиться среди мужчин, а следовательно, очаровывать женщин я легче сумею, если буду изображать отчаянного фата. Поэтому я сделал прическу с локонами в виде штопоров, оделся нарочито просто, без вычур (к слову сказать, человек несветский поступил бы как раз наоборот) и, приняв чрезвычайно томный вид, явился к лорду Беннингтону»[419].
Такая стратегия приносит незамедлительный успех – Пелэм сразу выделяется как денди и далее, строго соблюдая свое амплуа фата, очаровывает мадам д’Анвиль. Выбор маски «фата» тоже закономерен – именно в Париже фатовство воспринималось как коррелят тщеславия и считалось сугубо дендистским качеством: недаром Барбе д’Оревильи свой трактат «О дендизме и Джордже Браммелле» открывает посвящением «О фате, фат для фатов» и в самом тексте непрерывно восхваляет «высшее фатовство».
Совсем другую технику Пелэм применяет, когда приезжает в небольшой провинциальный английский городок Челтенхэм. «Ну, – сказал я себе, став перед зеркалом, – должен ли я просто понравиться “фешенебельному” кругу Челтенхэма или же вызвать восторженное изумление? Да что там! Второй способ слишком вульгарен. Байрон опошлил его. Не доставайте цепочку, Бедо; я надену черный фрак, черный жилет, длинные панталоны. Причешите меня гладко, постарайтесь, чтобы не было и следа локонов; сделайте так, чтобы tout l’ensemble[420] имел вид изящно-небрежный»[421].
В этот раз Пелэм уже не намерен разыгрывать фата, и поэтому он отказывается от локонов. Для провинциального общества можно ограничиться умеренным вариантом – общепринятым конформистским черным фраком. «Восторженное изумление» требовалось Пелэму в Париже, а теперь он поминает Байрона в отрицательном смысле, как синоним легкомысленного донжуанства. Даже традиционный для денди аксессуар, цепочка, отвергается – ради кого стараться? Последующее описание бала подтверждает правильность решения Пелэма – все персонажи провинциального бомонда представлены в карикатурно-ироническом свете как напыщенные пошляки, так что костюм оказался адекватным.
Пелэм варьирует свой стиль в полном соответствии с правилами дендизма. Среди его изречений о моде находим следующую максиму: «Уметь хорошо одеваться – значит быть человеком тончайшего расчета. Нельзя одеваться одинаково, отправляясь к министру или к любовнице, к скупому дядюшке или к хлыщеватому кузену: именно в манере одеваться проявляется самая тонкая дипломатичность»[422].
У Пелэма в романе есть наставники, которые преподают ему практическую науку одеваться. Среди них – и мистер Раслтон, прототипом которого был Браммелл, и мать героя леди Фрэнсес Пелэм. Инструктируя своего сына в письмах, как лорд Честерфилд, она обучает его тонким приемам производить нужное впечатление: «Дорогой Генри! Пожалуйста, когда поедешь к леди Розвил, не надевай черного галстука, а выбери очень тонкий батистовый, тогда у тебя будет скорее хрупкий, чем болезненный вид»[423].
Итак, искусство одеваться согласно обстановке и желаемому сценарию обеспечивает запланированный эффект и отвечает принципу дендистского хамелеонства. Одежда выступает как съемная личина, удобная маска, якобы обнаруживающая характер. На самом же деле опытный денди с помощью костюма умело манипулирует мнениями, в глубине души посмеиваясь над легковерными «интерпретаторами» его облика.
Почему, например, леди Фрэнсес рекомендует сыну надеть тонкий батистовый платок, чтобы иметь хрупкий, но не болезненный вид? Потому, что хрупкий вид в конце двадцатых годов был модной позой, и Пелэм всеми силами старался производить именно такое впечатление и в других случаях, подчеркивая свою неспортивность и изнеженность, выражая презрение в адрес мужественных, но грубоватых охотников и любителей собак. Болезненный же вид в эту эпоху уже считался перегибом, он был моден раньше, пять лет назад, что засвидетельствовал Шатобриан: «В 1822 году щеголю полагалось иметь вид несчастный и болезненный; непременными атрибутами его почитались: некоторая небрежность в одежде, длинные ногти, неухоженная бородка, выросшая как бы сама собой, по забывчивости скорбящего мученика; прядь волос, развевающаяся по ветру, проникновенный, возвышенный, блуждающий и обреченный взгляд, губы, кривящиеся от презрения к роду человеческому, байроническое сердце, томящееся скукой, исполненное отвращения к миру и ищущее разгадки бытия»[424].
Пелэм, отбрасывая позу болезненного денди-меланхолика, напротив, тщательно следит за собой: он пользуется миндальным кремом для лица, подолгу принимает ванну, носит кольца на руках и отнюдь не против таких радостей жизни, как, допустим, гурманское угощение. Однако, если на людях он всячески акцентирует свою «хрупкость», это вовсе не означает, что он на самом деле изнежен и не приспособлен для физических испытаний, – просто это для него подходящая на данный момент модная поза. Эту позу он выдерживает стоически, даже когда навлекает на себя упреки в женственности, – ведь хамелеонство в гендерном отношении, разумеется, женское качество. Если же в других обстоятельствах такая поза неуместна, он легко и с нескрываемым удовольствием демонстрирует, что это всего лишь маска. Когда его вызывают на бой дубинками, он сначала дает присутствующим заранее порадоваться, что «сейчас денди получит хорошую трепку». Для этого он говорит громко, растягивая слова и «самым манерным тоном», демонстративно опасаясь, как бы дубинка не повредила ему костяшки пальцев, и держится нарочито неумело и неуклюже. Но, поскольку на самом деле Пелэм прекрасно физически подготовлен к такого рода боям, он без труда побеждает своего соперника, после чего уже резко меняет тон, давая понять, что все предшествующее поведение было не более чем игрой: «Я принимал поздравления зрителей с совершенно иным, чем раньше, естественным видом, приведшим их в восхищение»[425].
Жизнетворчество Пелэма не ограничивается переключением различных дендистских амплуа. Можно уверенно сказать, что все щегольство в целом для него является комедией, которую он прилежно разыгрывает, но время от времени перед друзьями, которых он уважает, Пелэм приподнимает маску, как бы намекая, что его теперешняя манера поведения – всего лишь временная тактика.
В общении с лордом Винсентом, знатоком древности, изъясняющимся сплошь цитатами из античных авторов, Пелэм невзначай ссылается на Цицерона, чем приводит своего друга в экстаз: «– Heus Domine! – воскликнул Винсент. – С каких это пор Вы стали читать Цицерона и рассуждать о мышлении? – О, – ответил я, – быть может, я менее невежествен, нежели стараюсь казаться; сейчас (курсив автора. – О.В.) я стремлюсь быть законченным денди; со временем, возможно, мне взбредет на ум стать оратором, или острословом, или ученым, или вторым Винсентом. Вы еще увидите, много раз в своей жизни я четверть, а то и полчаса проводил не так бесполезно, как Вы думаете»[426].
Реакция лорда Винсента на это признание воистину патетична: «Винсент, видимо сильно взволнованный, встал, но тотчас снова уселся и в течение нескольких минут не сводил с меня темных сверкающих глаз, а выражение его лица было так благородно и серьезно, как никогда. “Пелэм, – молвил он наконец, – вот ради таких минут, как эта, когда Ваше подлинное, лучшее ‘Я’ прорывается наружу, я искал общения и дружбы с Вами”»[427].
Однако прав ли лорд Винсент, считая, что наконец-то открыл «подлинного» Пелэма? Увы, только частично, и наш герой сразу дает ему понять, что расслабляться и ликовать преждевременно. На пылкую речь Винсента он отвечает в привычном дендистском стиле, «снова впадая в обычный свой тон томной аффектации», и говорит, что будет слишком занят, чтобы подготовиться к парламентской сессии, поскольку все время уйдет на посещение модных портных.
Таким образом Пелэм, ускользая от очередного определения («Не денди, а ценитель мудрости»), опять опровергает стереотипное восприятие собственной персоны. Он наслаждается этой игрой, позволяющей ему всегда иметь превосходство над доверчивыми зрителями, и получает удовольствие от самого процесса. Его философия – свобода выбора жизненного амплуа в зависимости от момента и собственного настроения. Поддаться чужим дефинициям для него равнозначно попаданию в ловушку. В этом смысле он подобен автору романтической пьесы, который порой намеренно разрушает сценическую иллюзию, чтобы лишний раз напомнить публике, что он – хозяин положения и что все происходящее на сцене подвластно только его творческой воле[428].
Известный философ-романтик Фридрих Шлегель концептуализировал этот эстетический принцип в своем знаменитом 108-м Атенейском фрагменте, назвав его иронией и усмотрев в ней высшее проявление человеческой свободы: «Она самая свободная из всех вольностей, ибо благодаря ей можно возвыситься над самим собой, и в то же время самая закономерная, ибо она безусловно необходима. Весьма хороший знак, что гармоническая банальность не знает, как ей отнестись к этому постоянному самопародированию, когда вновь и вновь нужно то верить, то не верить, пока у нее не закружится голова и она не станет принимать шутку всерьез, а серьезное считать шуткой»[429].
Это известное определение иронии весьма неожиданно перекликается с дендистскими правилами поведения. Ведь денди всегда старается о важном говорить легкомысленным тоном и, наоборот, серьезно о пустяках. Держать собеседника в состоянии неуверенности, действительно ли серьезен в данный момент тон разговора, – настоящее дендистское искусство парадокса, требующее не меньшей пластичности и выдержки, чем в случаях холодной наглости или издевательской вежливости. Разговор Пелэма с лордом Винсентом о Цицероне и незамедлительное переключение его на «томный тон» – типичный пример таких маневров. Аналогичным образом строит свое поведение Кларенс Херви, герой романа Марии Эджворт «Белинда» (1801). Он получил блестящее образование в Оксфорде, но больше всего на свете боялся прослыть педантом, и «когда ему случалось быть в компании праздных и невежественных людей, он великолепно скрывал свои познания. Его хамелеонский характер, казалось, отсвечивал по-разному в зависимости от обстоятельств и ситуаций»[430]. Заметим, что скрывать тяжеловесную эрудицию требовало и искусство светской беседы: необходимость развлекательного тона в салонном разговоре сообщала даже серьезным высказываниям флер легкомысленности.
Денди-ироник и себя не исключает из сферы иронии. Для него это – императив постоянного внутреннего тренинга – надо уметь переключаться. В интеллектуальном смысле это требование владеть всеми регистрами знаний: «Подлинно свободный и образованный человек должен бы по желанию уметь настраиваться на философский или филологический лад, критический или поэтический, исторический или риторический, античный или современный, совершенно произвольно, подобно тому как настраиваются инструменты – в любое время и на любой тон»[431].
Этот идеал владения собой предполагает одновременно как некоторую инструментальность, взгляд на себя как на объект, так и горделивое самосознание субъекта, лично изобретающего и разыгрывающего свои жизненные роли. Романтическая ирония, фиксируя неизбежное противоречие между бесконечными творческими интенциями субъекта и его ограниченными исполнительскими возможностями, все же обеспечивает временами позицию вненаходимости или, по крайней мере, иллюзию этого. «С внутренней стороны – это настроение, оглядывающее все с высоты и бесконечно возвышающееся над всем обусловленным, в том числе и над собственным искусством, добродетелью или гениальностью»[432]. Эта «трансцендентальная буффонада», по выражению Фридриха Шлегеля, предполагает постоянный самоконтроль и органично подразумевает некоторую долю цинизма, поскольку мораль оказывается при таком раскладе только одной из возможных систем, одним цветовым решением для универсального ироника-хамелеона.
Сходные размышления по поводу внутренней «хамелеонской» пластичности были заявлены немецкими романтиками и в сфере поэтики. Свобода настройки поэтического зрения как выражение внутренней пластичности была декларирована Новалисом как программный признак нового романтического стиля: «Искусство приятным образом делать вещи странными, делать их чужими и в то же время знакомыми и притягательными – в этом и состоит романтическая поэтика»[433] (позднее в несколько ином контексте этот принцип назвали «остранением»).
Новое видение было продумано Новалисом как особая техника тотального «романтизирования» мира: «Мир должен быть романтизирован… Эта операция еще совсем неизвестна. Таким образом я придаю низкому смысл возвышенного, привычному – облик таинственного, известному – достоинство неизвестного, конечному – видимость бесконечного: так я романтизирую. Обратная операция для возвышенного, неизвестного, мистического, бесконечного…»[434] В идее внутреннего переключения (или, точнее, перенастройки) парадоксально сходятся позиции денди, романтического ироника и поэта.
В английской эстетике начала XIX века этот принцип сперва был также осмыслен как произвольное переключение поэтических точек зрения. Первый и самый знаменитый «эксперимент» в этой области провели Колридж и Вордсворт, когда, задумывая «Лирические баллады», они предварительно договорились о разделении труда. «Мистер Вордсворт должен был избрать своим предметом и заставить блеснуть новизной вещи повседневные и вызвать чувства, аналогичные восприятию сверхъестественного»[435]. Колридж, напротив, согласно уговору, должен был изобразить фантастические предметы в самом достоверном виде: «Я возьмусь за персонажи и характеры сверхъестественные или, во всяком случае, романтические с таким, однако, расчетом, чтобы эти тени, отбрасываемые воображением, вызывали в душе живой интерес, а некоторое подобие реальности на какое-то мгновение порождало в нас желание поверить в них, в чем и состоит поэтическая правда»[436]. Этот невероятный договор, начисто исключавший традиционный миф о спонтанности вдохновения поэта, дал, конечно, повод для обвинений в излишней расчетливости: страшно подумать, стихи писались для доказательства изначально заданной идеи! Так в литературной критике варьировались всегдашние упреки хамелеонам в цинизме. Но уровень текстов «Лирических баллад» (упомянем лишь «Сказание о старом Мореходе» Колриджа) был таков, что даже самым взыскательным судьям стало ясно: речь идет о новом принципе поэтики, аналогичном новалисовскому «романтизированию мира».
Наиболее радикальный вариант этой «хамелеонской» установки подводил к мысли о том, что подлинный поэт должен быть в идеале безличным, чтобы быть в состоянии отразить малейшие нюансы, откликнуться на любые импульсы. Отсюда такие метафоры, как Эолова арфа у Колриджа или сравнение поэта со спокойным озером, по поверхности которого идет рябь от дуновения ветерка.
Джон Китс довел эти интуиции до логического предела, провозгласив себя поэтом-хамелеоном, который абсолютно лишен идентичности: «Что касается поэтической индивидуальности (в оригинале Сharacter – характер. – О.В.) как таковой… то ее не существует – она безымянна – она все и ничто – у нее отсутствуют характерные признаки – она радуется свету и тьме – она живет порывами, дурными и прекрасными, возвышенными и низменными, полнокровными и скудными, злобными и благородными, она с равным наслаждением дает жизнь Яго и Имогене. То, что оскорбляет вкус почтенного философа, восхищает поэта-хамелеона. Увлечение последнего теневыми сторонами действительности не более предосудительно, чем его пристрастие к светлому началу: и то и другое вызывает на размышления. Поэт – самое непоэтическое из всех созданий, ибо он лишен своего лица (у Китса – has no identity, у него нет идентичности. – О.В.); он вечно стремится заполнить собой инородное тело… Поэт – безличен. Сомнений быть не может, поэт – прозаичнейшее из всех созданий творца… Стыдно признаться, но ни одно мое слово не может быть принято на веру как выражение моего собственного “я”. Да и как иначе, если у меня нет моего собственного “я”»[437].
Этот принцип безличности «поэта – хамелеона» Китс окрестил «негативной способностью» («negative capability»). «Негативная способность» позволяет отождествиться с любой точкой зрения и создать любой образ. Поначалу это может показаться странным – какой же «поэт-романтик» вдруг добровольно расстанется с презумпцией собственного оригинального взгляда на вещи? Но если посмотреть внимательнее, то принцип эстетического хамелеонства, в сущности, очень близок понятию романтической иронии, ведь не случайно воинствующий индивидуалист Фридрих Шлегель тоже писал о необходимости «пустого места» («Leerstelle») в душе.
Однако вернемся к подзабытому нами на время герою БульвераЛиттона. Насколько Пелэма с его непрерывным переключением ролей можно считать практиком романтической иронии? Представляется, что «Я» Пелэма – нечто большее, чем серия авторских решений относительно драматургии своих ролей. Сумма его реальных поступков не позволяет легко поверить в его безграничную переменчивость или «безличность». На протяжении романа читателю предлагаются по меньшей мере три серьезные мотивировки его действий: желание сделать политическую карьеру; любовь к Эллен; дружеские чувства к Гленвиллу. И, что самое замечательное, эти отнюдь не совпадающие цели превосходно сочетаются с дендизмом, который оказывается оптимальной техникой общения и универсальным способом подать себя. Хамелеонская пластичность денди позволяет ему насытить свои манеры всякий раз новым содержанием.
Возьмем только один из перечисленных аспектов – политическую карьеру. Через год после разговора с Винсентом Пелэм фиксирует изменения в собственных установках: «Я был не меньшим фатом, чем прежде, не меньшим волокитой, не меньше внимания уделял своим лошадям и своей одежде, но теперь я все эти предметы видел совершенно в другом свете: под напускной беспечностью таился ум скрытный, деятельный, а личиной светской ветрености и развязностью манер я прикрывал безмерное честолюбие и непреклонную решимость ради достижения своей цели действовать так дерзко, как это потребуется»[438].
Если не знать, какому герою принадлежит это программное высказывание, его бы можно было спокойно приписать Эжену Растиньяку, Жюльену Сорелю или Люсьену Левену – бальзаковским или стендалевским честолюбцам. Пелэм действительно во многом предвосхищает этих персонажей, и очень важно, что для них путь к карьере тоже, как правило, ведет через усвоение дендистских заповедей хладнокровного лицемерия и рассчитанного хамелеонства.
Дендизм оказывается условной и легко узнаваемой маской светского человека. Ведь за невозмутимостью денди могут скрываться самые разные цели и социальные ожидания. Критический момент в этих играх наступает, когда герой-хамелеон перестает сам устанавливать пределы метаморфозы и включается механизм автоматического приспособления к среде. У Стендаля и Бальзака это, собственно, и составляет романный сюжет: Жюльен Сорель губит себя, стреляя в мадам де Реналь, в то время как Эжен Растиньяк становится законченным карьеристом.
Классический дендизм в лице Браммелла или Байрона при подобных дилеммах, безусловно, сохранял центральность личности и допускал метаморфозы только до определенных границ. Внутренняя стабильность при внешней пластичности – такова была каноническая традиция со времен Алкивиада (вспомним еще раз уже цитированное место у Плутарха: «Дело обстояло, однако, не так, чтобы он легко переходил от одной склонности к другой, меняясь при этом и внутренне, но, не желая оскорблять своим природным обликом тех, с кем ему приходилось иметь дело, он принимал облик, подобный им, скрываясь под этой маской»).
Пелэм пока еще сохраняет эту традицию личной центральности. На протяжении всего романа он, перебирая маски, ни разу не допускает, чтобы одна из них приросла к лицу. Наиболее четко это проявляется в эпизоде с переодеванием, когда герою-денди приходится облачиться в одежду священника и соответствующим образом загримироваться. Для него это тяжкое испытание: «Я снял свое собственное одеяние и, горестно вздыхая при мысли о том, какой безобразный вид сейчас приму, постепенно облекся в ризы, подобающие духовному лицу. Они оказались слишком широки для меня и вдобавок коротковаты… Затем мой хозяин открыл большую оловянную шкатулку и извлек из нее всевозможные коробочки с пудрой и красками и флаконы с жидкостями. Только мое пламенное дружеское чувство к Гленвиллу могло заставить меня перенести ту операцию, которой мне пришлось подвергнуться. “Ну, – подумал я со слезами на глазах, – теперь у меня уже никогда не будет приличного цвета лица!”»[439]Завершающий этап – «Джонсон отхватил мои роскошные кудри» – недвусмысленно намекает на символическую кастрацию щеголя.
Поскольку для денди костюм и внешность наиболее связаны с «идентичностью», внутренней самотождественностью личности, то подобное перевоплощение, разумеется, переживается достаточно болезненно. Но самое ужасное при этом для Пелэма – даже не эстетические страдания, связанные с ношением «слишком широких и вдобавок коротковатых одеяний», а страх утраты идентичности. После всех манипуляций герой смотрит на себя в зеркало и видит чужого человека: «Гляди я на свое отражение хоть целую вечность, я так и не узнал бы ни фигуры своей, ни лица. Можно было подумать, что моя душа подлинно переселилась в какое-то другое тело, не перенеся в него ни частицы первоначального»[440].
Здесь, конечно, присутствует типичный для романтической эстетики мотив двойничества и страха потерять свою душу, который может оформляться через такие варианты, как утрата тени, зеркального отражения, встреча с «черным человеком», сделка с Мефистофелем и т. д. Дендистский вариант этого мотива – утрата фигуры, лица и особенно личного костюма, который традиционно выступает как заместитель души.
После того как Пелэм доблестно проходит через все авантюрные испытания, перед ним встает проблема обратного перевоплощения. Но разгримироваться оказывается не так-то просто, и опять его охватывает экзистенциальный ужас – краска не сходит. «Господи, сохрани и помилуй! – вскричал я, охваченный паническим страхом. – А чем же, во имя неба, можно ее смыть? Что ж, я должен, еще не достигнув и двадцати трех лет, выглядеть как методистский пастор за сорок, негодяй вы этакий?»[441] К счастью, после применения особой мази – типичный атрибут сказочного превращения! – герой обретает свой первоначальный вид, и страх утратить свою внешность и свою идентичность покидает его.
При всех хамелеонских метаморфозах Пелэму помогают сохранить личную центральность императив мужской дружбы и любовь к женщине, не говоря уж о традиционном нарциссизме любого денди. Следующее поколение, денди второй половины XIX века, опять оказывается перед искусом хамелеонства и экзистенциальными проблемами утраты себя в новых условиях и дает свой, весьма драматический вариант этой метафорики.
Во многом эти поздние денди подхватывают тенденции, уже намеченные в романтической эстетике, и предельно развертывают их. Так, Оскар Уайльд выступает как прямой наследник радикальных концепций Джона Китса относительно полной безличности поэта-хамелеона, отсутствия у него собственного характера и идентичности. Устами своего героя Оскар Уайльд рассуждает на уже знакомые нам темы хамелеонства и уверенно постулирует целую теорию притворства: «Разве притворство – такой уж великий грех? Вряд ли. Оно – только способ придать многообразие человеческой личности. Так, по крайней мере, думал Дориан Грей. Его поражала ограниченность тех, кто представляет себе наше “Я” как нечто простое, неизменное, надежное и однородное в своей сущности. Дориан видел в человеке существо с мириадом жизней и мириадом ощущений, существо сложное и многообразное, в котором заложено непостижимое наследие мыслей и страстей, и даже плоть его заражена чудовищными недугами умерших предков»[442].
В такой теории принцип хамелеонства становится универсальным свойством человеческой природы и дополнительно аргументируется через модные в конце XIX столетия идеи наследственности и дегенерации[443]. Теории дегенерации, в частности, подчеркивали причинную связь между аристократизмом и болезнями, указывая на обыденность браков между близкими родственниками в знатных семьях, что придавало «чудовищным недугам» модный оттенок.
Хамелеонство Дориана Грея – уже качественно иное по сравнению с романтическим дендизмом Пелэма. Множественность личности в романе Оскара Уайльда лишается внутреннего скрепляющего центра, и оттого ничто не мешает маске (а в данном случае это портрет) зажить самостоятельной жизнью, а самому денди – испытать до последнего предела возможности разных метаморфоз. Дориан Грей преступает ту границу, на которой останавливается Пелэм, и, не боясь утратить свое «Я», действует как абсолютно разные личности. Он совмещает походы по сомнительным притонам в бедных районах Лондона со светским времяпрепровождением в клубах и салонах, чем постепенно всех восстанавливает против себя.
Мировоззренческая основа подобной практики – философия нового гедонизма, согласно которой в жизни надо все попробовать, все испытать, в том числе и сомнительные с точки зрения традиционной морали вещи. Если гончаровский светский лев просто и честно старался держать нос по ветру, вынюхивая модные новинки, то здесь уже речь идет о более сложных вещах. Обычные удовольствия для денди-эстета очень скоро начинают казаться пресными, и изощренная хамелеонская чувственность на следующей стадии начинает находить наслаждение в дозированных инъекциях гнилого, грязного, безобразного. Они необходимы, чтобы поддержать уровень и расширить гамму его жизненного гурманства за счет контрастности ощущений. Такого денди можно сравнить с любителем сыра, который всем сортам предпочитает рокфор с зеленой плесенью, или с породистой собакой, которую неудержимо тянет к отбросам.
М. Эшер. Звезды. 1948 г.
В центре структуры – два хамелеона
Романтическая тема оживших подобий (ранее выразительно развитая у Шамиссо, Гофмана, Гоголя и Эдгара По) получает у Оскара Уайльда свое завершающее развитие. Экзистенциальный страх утраты своего «Я», неизбежный при столь далеко зашедшем хамелеонстве, для Дориана целиком концентрируется на портрете, и момент гибели для него – единственный способ обрести потерянную идентичность, уничтожив ожившее подобие. В «Дориане Грее» предельно развернуты все элементы дендистского хамелеонства – множественность «Я», мотив масок и метаморфоз, эстетская чувственность.
Раздвоение личности Дориана демонстрирует важную тенденцию в дендизме второй половины XIX века – дендизм окончательно теряет фиксированное социальное «лицо» и становится просто удобной универсальной маской. Это делает возможным выделение полярных амплуа денди-сыщика и денди-преступника. Уже «Пелэм» содержал детективную интригу: как мы видели, герою приходится прибегнуть к переодеванию и посетить самые мрачные лондонские притоны, чтобы спасти честь своего друга Гленвилла. Тот же стереотип поведения воспроизводит Пол Клиффорд, герой следующего романа БульвераЛиттона (1830), действующий по законам зарождающегося детективного жанра. Потенциальный авантюризм героев далее порождает полноценные типажи денди-сыщика и денди-преступника. В одном из первых по-настоящему успешных коммерческих романов «Парижские тайны» (1842–1843) Эжена Сю использован прием двойной жизни героя: днем Родольф – безупречный денди, а по ночам он исследует парижское «дно». Но если мотивы и действия Родольфа благородны, то его более поздние литературные родственники уже отнюдь не брезгуют пойти на преступление: Дориан Грей – один из типажей в этой обширной галерее. Таковы и многие герои новелл Конан Дойля, а за ними идет вереница аристократов в белых перчатках и с криминальными наклонностями из современных детективов.
Оформление модернистской парадигмы и городской культуры XIX века позволило выработать и более мягкий модус социальных переключений. Это буржуазный универсализм, требующий быстроты маневра в зависимости от возможности заработать тем или иным способом, четкого разграничения служебной сферы и дома как особого приватного пространства, умения играть разные роли, владения разными информационными потоками[444]. Как показали многие исследования, в это время происходит смешение старой аристократической и новой буржуазной элиты, хотя символические границы еще были весьма отчетливы[445].
Денди достаточно легко встроились в эту новую систему, требующую максимума внутренней пластичности: они уже заранее натренировались в «трансцендентальной буффонаде». Благодаря своей отработанной технике иронической смены ролей им удалось сделать невероятную вещь: создать виртуальный слепок аристократического кодекса манер и дать его на вооружение любому начинающему честолюбцу. Хамелеонство денди во многом соответствует тому, что сейчас принято называть «upward mobility» – «продвижение наверх», способность расти в деловом и социальном смысле, делать карьеру. Можно сказать, что дендизм – это удобная универсальная маска, позволяющая буржуа проникнуть в элитарные круги, если выдерживается условный код поведения и костюма. Скрывая социальное происхождение под маской приятных манер и внешней невозмутимости, дендизм обеспечивает непроницаемость для любопытных или потенциально недоброжелательных аналитиков. Стратегия саркастических реплик позволяет отбивать нападения и самому переходить в атаку, а тщательно выдерживаемая поза бесчувственности спасает даже от эмоциональных выпадов.
Дендизм поддерживает эффект замкнутого личного контура, гладкой оболочки, с одной стороны, не позволяющей проникнуть в душу владельца, а с другой – обеспечивающей обтекаемость при социальных маневрах (что очень важно для парвеню, лавирующего в поисках полезных контактов). Потенциал «продвижения наверх» метаморфного хамелеона огромен, и не в последнюю очередь этому способствует дендистский костюм.
Присмотримся ненадолго к первоначальному светскому тренингу Жюльена Сореля. Уроки «хамелеонства» ему преподает всесильный маркиз де Ла Моль. Он велит своему молодому секретарю являться к нему утром для служебных дел в черном фраке, а вечером для задушевных бесед – в синем. Цвет фрака выступает как жанровый переключатель и недвусмысленно намекает на предписываемую смену роли: «“Разрешите мне, дорогой мой Сорель, – сказал он, – поднести Вам в подарок синий фрак. Когда Вам вздумается надеть его и зайти ко мне, я буду считать, что Вы младший брат графа де Рец, то есть сын моего друга, старого герцога”. Жюльен не совсем понял, что, собственно, это должно означать, но в тот же вечер явился к маркизу в синем фраке. Маркиз держался с ним как с равным. Жюльен обладал душой, способной оценить истинную вежливость, но не имел ни малейшего представления об ее оттенках»[446]. Синий фрак включает этикетную парадигму аристократического общения, то есть маркиз начинает видеть в Жюльене человека своего круга и своих убеждений. По-прежнему опекая Жюльена, он символически занимает позицию лорда Честерфилда, преподающего своему сыну уроки хороших манер. Благодаря «костюмной» подсказке Жюльен учится различать «оттенки вежливости» и не путать различные жанры общения. В то же время он получает весьма циничный урок – менять светские роли так же легко, как и менять фраки! Фактически это школа светского лицемерия – недаром прототипом образа маркиза де Ла Моль был не кто иной, как Талейран. Вспомним, кстати, уже цитированное сравнение из уст лорда Честерфилда – «изменяя себе так же легко и просто, как он надел бы или положил в сторону шляпу». Вместо шляпы здесь выступает фрак, но сути дела это не меняет – речь идет все о тех же необходимых хамелеонских способностях (причем на этот раз вполне буквально – в плане перемены цвета).
Цвет фрака для данного распределения жанров выбран далеко не случайно. Дело в том, что к моменту написания «Красного и черного» (1831) цветовая гамма европейского мужского костюма уже начала стремительно темнеть – именно в тридцатые годы черный фрак окончательно утвердился как основной вариант для деловых выходов, новая буржуазная униформа[447]. Синий фрак, напротив, напоминал роялисту-маркизу о ностальгических временах монархии. А первыми ввели в моду черный фрак английские денди эпохи Регентства: они носили его в сочетании с узкими панталонами, белой рубашкой, шелковым жилетом и накрахмаленным шейным платком.
Главный эстетический эффект дендистского стиля в том, что элегантность перестала ассоциироваться с суетностью. К тридцатым годам XIX столетия, когда на основе дендистского ансамбля сформировался повседневный темный костюм, хорошо одетый мужчина уже не вызывал подозрений в легкомысленности или излишнем тщеславии. Был достигнут сложнейший синтез между элегантностью и деловитостью. «Незаметный» костюм свидетельствовал о серьезности намерений владельца и, образуя внешнюю нейтральную рамку, давал возможность для решающего броска в ту или иную сферу. Отсутствие четких знаков, свидетельствующих о профессиональной или социальной принадлежности, и составляло стилистическую базу потенциальной мобильности. Костюм был визуальным символом исходногоравенства возможностей для способных людей в буржуазном демократическом обществе. Если продолжить традиционную метафору «одежда-душа», то незаметный универсальный костюм будет соответствовать тому самому центральному ядру характера хамелеона, которое остается нерушимым при всех превращениях – его верности себе и способности меняться по обстановке.
Возможность дальнейших метаморфоз внешнего облика на базе универсального костюма обеспечивает дополнительная система знаков – аксессуары и детали: сорочка, шейный платок, перчатки. Ведь опытный глаз без труда отличит дорогие часы от дешевых или определит качество сукна. Современный мужской костюм наследует эту систему резервных превращений за счет возможной смены галстуков и рубашек, стилистических различий между брендами. Но стабильность базового силуэта и принцип ансамбля при этом сохраняются.
Мы видим, что от Алкивиада до лорда Честерфилда европейская культура непрерывно варьирует метафору хамелеона как мотив приспособления к разным физическим условиям и психологической гибкости – залог светского искусства нравиться. Хамелеонство – императив вежливости, требование этикета в культуре Нового времени. Восприимчивость человека со вкусом к меняющимся нюансам моды – исходная необходимая предпосылка щегольского хамелеонства. Дендизм включает в себя хамелеонское поведение как технику светского успеха, и это развивает изначально канонизированный в образе Алкивиада принцип варьирования ситуативных масок в зависимости от обстоятельств. Театрализация собственной личности в эпоху романтизма приобретает характер постоянных стилистических переключений, а в эстетическом плане это подкрепляется теорией романтической иронии, во многом коррелирующей с принципом хамелеонства. Во второй половине XIX века денди-хамелеон как персонаж окончательно теряет внутреннюю «центральность», что делает возможным появление полярных типов денди-сыщика и денди-преступника. Темы внутренней множественности, отчуждения и оживших подобий, предельно развернутые в конце века, дают «эстетский» вариант хамелеона.
В социальном смысле хамелеонство служит залогом «продвижения наверх». Универсальный мужской костюм, ведущий свою родословную от дендизма начала XIX века, выступает как материальный аналог хамелеонства в качестве нейтральной внешней рамки для различных амплуа, синтезируя элегантность и деловитость. Наконец, дендистское владение собой и требование адекватного поведения в разных жизненных обстоятельствах оказывается оптимальной карьерной техникой в условиях зарождающейся «modernity».
В положительном смысле «хамелеонство» и поныне – минимальное требование к современному человеку, особенно если профессия предполагает частые поездки в разные страны. Умение применяться к чужим обычаям – например, искусство есть палочкамив китайском ресторане – служит приметой опытного и просвещенного путешественника. До сих пор актуально изречение св. Амброзия: «Si fueris Rоmae, Romanо vivito more; Si fueri alibi, vivito sicut ibi» – «Когда ты в Риме, живи как римляне; если ты в другом месте, живи так, как там принято».
Дендистские манеры: из истории светского поведения
То, что гибнет всего бесследнее, та сторона быта, от которой менее всего остается обломков, – аромат слишком тонкий, чтобы быть устойчивым, – это манеры, непередаваемые манеры, сделавшие Браммелла властителем своего времени.
Барбе д’Оревильи«Что создает из человека денди?» – спрашивал биограф Браммелла Барбе д’Оревильи: «Дендизм – это вся манера жить, а живут ведь не одной только материально видимой стороной»[448]. Манеры складываются из практического выполнения теоретических принципов поведения – например, из следования джентльменскому стилю или кодексу рыцарской чести. Как правило, манеры достаточно трудно поддаются культурной реконструкции, но отлично читаются как показатель адекватности того или иного члена социальной группы. Денди с блеском практиковали светские манеры и во многом создавали нормы элегантного поведения.
Наиболее явственно норма выявляется при ее нарушении. Луи-Себастьян Мерсье, тонкий знаток и летописец парижских нравов XVIII столетия, описывает как раз такой случай. Речь идет о возвращении Вольтера из Ферне, где тот провел двадцать семь лет: «Когда в 1778 году господин де Вольтер приехал в Париж, люди высшего света, опытные в этих делах, заметили, что за время своего отсутствия в столице знаменитый писатель утратил способность верно определять, когда нужно быть порывистым, когда сдержанным, когда сосредоточенным и когда веселым, нужно ли молчать или говорить, хвалить или шутить. Он потерял равновесие и то поднимался чересчур высоко, то опускался чересчур низко, и при этом все время испытывал определенное желание казаться остроумным. В каждой его фразе чувствовалось усилие, и это усилие переходило в какую-то манию»[449].
Именно те качества, которые утратил Вольтер – легкость светского обращения и чувство меры, понимание ситуативной адекватности, – входили в репертуар дендистских манер.
На первый взгляд дендистское поведение – сплошная гладкая оболочка текучей вежливости, непринужденного изящества, расцвеченного вспышками остроумия. Но на самом деле за внешней гладкостью скрывались тысячи нюансов, порой тонкие и неприятные намеки или скрытые «подколки», порой истинно галантные жесты или «скорая помощь» попавшему в неприятное положение другу. Толкование многих эпизодов сейчас затруднительно, да и в свое время, вероятно, было доступно только людям, преуспевшим в науке светской жизни.
Камертон к дендистским манерам – уже встречавшееся нам раньше понятие «La sprezzatura». Впервые его стал употреблять Б. Кастильоне в XVI веке для характеристики идеального придворного, который отличается восхитительной непринужденностью во всем, что он делает.
Виртуозное владение «La sprezzatura» создает у окружающих впечатление особой легкости и одновременно совершенства – мастерство, достигнутое ценой большой работы, тщательно скрывается. Возникает обманчивое ощущение, что перед нами – одаренный дилетант, который презирает свои способности и избегает любых усилий; однако, если бы он более серьезно относился к своему делу, он, уж наверное, достиг бы непревзойденных результатов[450].
Императив «La sprezzatura» диктует программное легкомыслие. Художник должен делать вид, что творит исключительно по вдохновению: таким прекрасным дилетантом и впрямь всю жизнь оставался граф д’Орсе. Старинный девиз «ars est celare artem» (искусство в том, чтобы скрывать искусство) полностью применим и к другим видам деятельности. Если речь идет о светском человеке, он всеми силами будет скрывать свои серьезные занятия, будь то научные исследования или государственные дела, или держаться так, как будто не придает им ни малейшего значения.
Подобный стиль кажущейся небрежности в ведении дел практиковал премьер-министр лорд Мельбурн: «Когда он принимал делегацию, он даже не старался придать этому торжественность. Достойные представители мыловаров или Общества борьбы со смертной казнью бывали смущены и обескуражены, когда в середине речи премьер-министр вдруг с увлечением начинал продувать перо или внезапно отпускал неуместную шутку. Ну как могли они поверить, что он всю прошедшую ночь тщательно разбирался в тонкостях дела?»[451]
Такие установки во многом восходят к кодексу аристократического поведения, строго предписывающему праздность. В модифицированном виде это отражается в принципе любительства у английских джентльменов, которые могут увлекаться любыми хобби, но предпочтительно не должны работать.
У денди «La sprezzatura» проявляется прежде всего в общем стиле легкого и непринужденного обращения, культе досуга и изысканных развлечений. Из них на первом месте – салонная беседа, в которой денди касается понемножку всех злободневных тем, демонстрируя свою эрудицию, но в меру: упаси боже проявить занудный педантизм! Даже если познания или мнения денди по какому-либо предмету окажутся весьма основательны, они должны быть упакованы в форму занимательных историй или остроумных парадоксов.
В дендистском костюме «La sprezzatura» дает о себе знать в нарочито небрежных деталях: расстегнутая нижняя пуговица жилета, легкая поношенность одежды, как бы случайно и наспех завязанный шейный платок… Весь внешний вид призван свидетельствовать о том, что весь ансамбль сложился сам собой, без особых усилий. Реально стоящие за этим многочасовые консультации с портными, сессии перед зеркалом, тренировки по завязыванию узлов на шейном платке или личные уроки слуге по чистке ботинок – все это должно оставаться за кадром. Надев костюм, денди забывает о нем и держится в высшей степени свободно и естественно.
В его движениях сквозит легкость и грациозность, в беседе – отточенная гладкость, профессиональное скольжение от одной темы к другой. В каждом жесте – легкость, закругленность, изящество. Но порой эта ставка на кажущуюся беспечность маскировала реальную беспечность в житейских делах. Многие денди долго скрывали финансовую неустроенность, но правила игры требовали держаться до конца. Так Браммелл, не в силах расплатиться с кредиторами, в свой последний вечер сходил ненадолго в оперу, пообедал по полной программе, написал записки друзьям, после чего сел в карету и покинул Англию навсегда.
Подобная развязка – драматический финал, разыгранный опытным актером, ситуация, когда надо поставить изящную точку в повествовании.
По свидетельству современника, «манеры денди были сами по себе очаровательны. Денди отличались приятным стилем речи и безукоризненным языком. Многие из них обладали высокими дарованиями и преуспевали во всем, что они делали; менее талантливые, если им что-то не удавалось, умели вовремя остановиться, без особых иллюзий или энтузиазма. Они демонстрировали джентльменскую выучку – щедрость и великодушие. Эфемерные, как молодость и духи, они все же имели одну постоянную черту – верность в дружбе, несмотря на позднейшее соперничество»[452]. Как видим, в этом явно восторженном и слегка романтическом описании манеры денди воспринимаются как вариант джентльменского поведения, что с некоторыми оговорками можно принять за исходную посылку.
В идеале дендистские манеры – это искусство демонстрировать ежеминутную «гибкость переходов», соединять сухость и аффектацию, высокомерие и почтительность. Однако за внешней легкостью и грацией денди стоят весьма жесткие принципы. Вся жизнь настоящего денди регламентируется изощренной системой правил поведения.
Первое правило гласит: «Nil admirari» – «ничему не удивляйся», сохраняй бесстрастие при любых обстоятельствах. Эта заповедь, возводящая в абсолют традиционную британскую невозмутимость, даже дала повод Бодлеру сравнивать дендизм со стоицизмом, видеть в нем «род религии»[453]. Но, пожалуй, более близок к изначальному романтическому пониманию этого девиза Барбе д’Оревильи, толкующий дендизм как «позу духа, увлекавшегося многими идеями и слишком пресыщенного, чтобы воодушевляться»[454]. Пресыщенность – симптом романтической мировой скорби – здесь соединяется с философским идеалом полного владения собой, замыкая в неустойчивом синтезе два амплуа: мудреца-аскета, роняющего презрительные максимы, и умелого светского авантюриста, всегда готового на новые эскапады.
Этот авантюрно-динамичный аспект дендизма воплощен во втором правиле, дополняющем первое: «сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью». Задача состоит в том, чтобы «ум, привыкший к игу правил, не мог, рассуждая логически, этого предвидеть»[455]. Более того, идеологи дендизма советуют воздерживаться от банальных, предсказуемых жестов, преодолевая примитивное желание нравиться: необходимо прежде всего удивлять, чтобы тебя запомнили. Этому правилу прилежно следует, к примеру, Пелэм, герой классического романа Бульвера-Литтона. При появлении в светском обществе он сразу шокирует блестящую публику дерзкими парадоксами: «Затем мисс Поуллинг обратилась ко мне: – Скажите, мистер Пелэм, а Вы уже купили часы у Бреге? – Часы? – переспросил я. – Неужели Вы полагаете, что я стал бы носить часы? У меня нет таких плебейских привычек. К чему, скажите на милость, человеку точно знать время, если он не делец, девять часов в сутки проводящий за своей конторкой и лишь один час – за обедом? Чтобы вовремя прийти туда, куда он приглашен? – скажете Вы; согласен, но, – прибавил я, небрежно играя самым прелестным из моих завитков, – если человек достоин того, чтобы его пригласить, он, разумеется, достоин и того, чтобы его подождать»[456]. Этой тирадой он убивает сразу трех зайцев: ставит на место самодовольных владельцев дорогих брегетов; подчеркивает свою аристократическую привычку к праздности и, наконец, нахально заявляет собственное право опаздывать, что обычно считается прерогативой только знаменитостей.
Добившись изумления пораженных собеседников, Пелэм ушел раньше всех, поскольку он знал третье золотое правило дендизма, которое гласит: «Оставайтесь в свете, пока Вы не произвели впечатление; лишь только оно достигнуто, удалитесь».
Для истинного денди очень важно соблюдать это правило, ибо главный стилистический прием дендизма – максимальная экономия выразительных средств. Денди никогда не может быть навязчив, зануден или утомителен: он лаконичен, его импровизации мгновенны, его коронный жанр – афоризм. Поэтому дендизм в обществе наиболее эффективен в малых дозах: его ценят как пикантную приправу к пресным повседневным блюдам.
Браммелл в высшей степени владел этим искусством дозированного остроумия и продуманной дерзости. «Он смешивал в равных долях страх и любезность и составлял из них магическое зелье своего обаяния», – писал о нем Барбе д’Оревильи, как будто речь шла о некой алхимической формуле. Посмотрим, как же реализовалась эта формула в практике светского поведения.
VII. Нарушители конвенций
Тонкое искусство благородного скандала
Невозможно понять дендизм, не учитывая, насколько рискованную игру вели многие щеголи с общественными условностями XIX столетия. Светское поведение в то время было достаточно нормативным, однако денди разрабатывают свою систему, которая во многом противоречит этикетным правилам. Мы уже знаем, что дендистский кодекс можно свести к трем главным принципам: «Ничему не удивляться», «Сохраняя бесстрастие, поражать неожиданностью», «Удаляться, как только достигнуто впечатление». И вот как раз второе правило предоставляло денди обширные возможности для импровизаций и нарушения общественного этикета. Весь вопрос состоял исключительно в чувстве меры, и оттого денди часто приходилось виртуозно балансировать на грани допустимого.
Л.Л. Буальи. Гримаса. 1823 г.
Задумаемся, однако: что нужно для того, чтобы получился эффектный захватывающий скандал? Тонкое искусство благородного скандала требует, во-первых, наличия внятных правил поведения (чтобы было что нарушать!) и, во-вторых, хотя бы минимального разделения ролей в публичном пространстве – например, по принципу «действующие лица/зрители» или «свои/чужие», «старшие/младшие». Если подобное разделение отсутствует, предпосылки для скандала отсутствуют – все улаживается даже при самых буйных эксцессах. Приведем пример ситуаций, когда скандала нет, поскольку дело происходит в замкнутом коллективе «своих» и о каких-либо правилах вряд ли можно вести речь.
Вольность нравов традиционно процветала в молодежных мужских компаниях. Атмосфера там была гораздо более разгульной, нежели галантное и легкомысленное веселье бала. В таких компаниях изнеженные денди обычно не были на первых ролях, на шумных пирах были другие лидеры. Особенно отличался неуемным нравом и пристрастием к развлечениям приятель Браммелла и Байрона Скроп Дэвис[457]. Вот история, рассказанная Байроном. «Однажды в игорном доме (это было еще до моего совершеннолетия) Скроп Дэвис напился, что обычно бывало с ним к полуночи, и проигрался, но друзья, чуть менее пьяные, чем он, не могли уговорить его идти домой. Пришлось предоставить его самому себе и демонам игры. На следующий день, около двух часов пополудни, проснувшись с жестокой головной болью и пустыми карманами, друзья Скропа (которые расстались с ним часов в пять утра, когда он был в проигрыше) застали его крепко спящим, без ночного колпака и вообще без всякой одежды; подле него стоял ночной горшок, доверху полный… банкнотами! Скроп не помнил, как он их выиграл и как туда засунул, но их там было на несколько тысяч фунтов»[458]. Неизвестно, как распорядился Скроп Дэвис своим выигрышем, но, вероятно, для него и других «эфесцев» это был не последний бурный вечер[459]. Во всяком случае, следующая запись у Байрона повествует об еще более драматическом эпизоде:
«Итак, у нас было двадцать гиней, и мы их проиграли и вернулись домой в прескверном расположении духа. Купер отправился домой, а Скроп, Хобхауз и я пошли купаться в море (дело было летом); те, кто умел плавать (Скроп и я), с полчаса плавали, а затем, облачившись в халаты, мы решили распить дома пару бутылок шампанского или белого рейнского. Пока мы решали, что именно мы будем пить, возникли разногласия. Скроп схватил Хобхауза за горло; Хобхауз, боясь, что тот его задушит, стал обороняться ножом и пырнул Скропа в плечо. Скроп упал, обливаясь кровью и вином, – падая, он повалил бутылку – вдребезги пьяный от игры, ночного купания и дополнительного шампанского. Все произошло так мгновенно, что я не успел вмешаться. Разумеется, я прочел им наставление о пагубности азартных игр –
Pugnare Thracum est
(Фракийцы воинственны) –
а затем осмотрел рану Скропа, которая оказалась широким и длинным, но не глубоким и не опасным порезом. Скроп был в бешенстве. Сперва он пожелал драться на дуэли, затем – немедленно уехать, а затем выразил намерение застрелиться; последнее я одобрил, требуятолько, чтобы он не воспользовался для этого моими пистолетами, которые в случаях самоубийства конфискуются в пользу короля. Наконец, с большим трудом и многочисленными проклятиями, его удалось уложить в постель. Утром явился врач, и отрезвляющее раздумье, потеря крови и липкий пластырь уняли и жар в ране, и пыл ссоры (затеянной Скропом), и мы снова были друзьями, как были ими многие годы…»[460]
В этих историях, как видим, скандал не происходит, несмотря на все крайности поведения. Только в один момент на горизонте маячит призрак светского скандала – когда Скроп желает драться на дуэли: здесь он обращается к нормам светского поведения. Но как раз в этом случае конфликт был бы вынесен за рамки «своих», что, к счастью, удается предотвратить Байрону. Поэтому эскапады Скропа до скандала явно не дотягивают: он буйствует, так сказать, на специально отведенной для этого площадке.
Гораздо более сложные и тонкие варианты скандального поведения возникали в практике денди, которые бросали вызов условностям, оставаясь в светском пространстве. «Дендизм издевается над правилами и все же их соблюдает, – писал Барбе д’Оревильи в своем трактате. – Он страдает от их ига и мстит, не переставая им подчиняться; взывает к ним в то время, как от них ускользает; попеременно господствует сам и терпит над собой их господство: двойственный и переменчивый характер! Для этой игры надо располагать всей той гибкостью, из которой слагается грация, подобно тому как из сочетания оттенков спектра рождается игра опала»[461].
Герцогиня Ратландская. Гравюра по портрету Д. Рейнольдса
Именно такой счастливой гибкостью был наделен Джордж Браммелл, который, будучи принят в самом изысканном обществе, виртуозно умел играть в опасные игры. По словам Барбе д’Оревильи, «ему сходило с рук то, что погубило бы любого ловкача. Его смелость оборачивалась верным расчетом. Он мог безнаказанно хвататься за лезвие топора»[462]. В светской жизни любого щеголя обязательным ритуалом было гостеприимство[463]. Гостеприимство – одна из ключевых ситуаций в этикетных ритуалах и благодаря своей традиционности представляет очень хорошую тему для анализа. Денди был постоянным посетителем балов и приемов и нередко сам принимал у себя гостей. Каковы же специфические дендистские особенности гостеприимства?
Всем было известно, что Браммелл охотно пользовался гостеприимством своих аристократических друзей: «В Бельвуаре его принимали на правах друга семьи, а в Чивли, замке герцога Ратланда, его комнаты считались священными, и если кто-либо из джентльменов временно занимал их, его просили освободить помещение, когда неожиданно приезжал Браммелл»[464].
Знаменитый денди был завсегдатаем балов и званых обедов. Его имя числилось первым в списке нетитулованных гостей. Со своей стороны, он также устраивал для друзей великолепные обеды в узком кругу у себя дома на Честерфилд-стрит. Частым гостем у него был принц Уэльский, будущий британский король Георг IV. Браммелл всегда был душой компании и за столом развлекал собравшихся забавными историями, так что обед сопровождался взрывами хохота.
Некоторые из его шуток, однако, могли напомнить игру с огнем. Особенно ему нравилось испытывать на прочность общественные условности, искусно нарушая правила вежливости и гостеприимства. Однажды, например, он пришел на бал и, потанцевав с самой красивой дамой, осведомился: «Что это за уродец стоит возле камина?» – «Но как же, Вы должны быть с ним знакомы – ведь это хозяин дома», – ответила дама. «Вовсе нет, – беззаботно сказал денди, – ведь я явился на бал без приглашения»[465]. Судя по таким историям, Браммелл отличался ироническим складом ума и умел сохранять редкое самообладание во время своих рискованных выходок – ведь по идее владельцы модных домов могли спокойно указать ему на дверь.
В другой раз, когда он опять пришел без приглашения на прием некой миссис Томпсон, хозяйка потребовала предъявить пригласительный билет. Браммелл долго обыскивал все свои карманы и наконец извлек пригласительный билет на другой прием, устраиваемый миссис Джонсон. Когда рассерженная хозяйка указала ему на ошибку, он холодно сказал: «Боже мой, какая незадача! Миссис Джонс… Томпсон, я очень сожалею, но, видите ли, Джонсон и Томпсон, Томпсон и Джонсон – звучит настолько похоже… Желаю Вам приятного вечера!» И, элегантно поклонившись, он неторопливо покинул комнату, под шепот и смешки знакомых, оставив хозяйку весьма разгневанной[466].
Подобное демонстративное поведение имело свои скрытые мотивы: на балу у миссис Томпсон должен был появиться принц Уэльский, с которым Браммелл был к тому времени в ссоре, и все знали о нежелании принца встречаться с ним где-либо. Затягивая время в поисках несуществующего билета, Браммелл тем самым увеличивал вероятность светского скандала. Одновременно ему удалось публично унизить хозяйку, акцентируя ее простую «незапоминающуюся» фамилию, указывающую на незнатное происхождение (о чем свидетельствовало и обращение «миссис», а не «леди»).
Браммелл и герцогиня Ратландская в клубе Олмакс. 1815 г.
В таких случаях налицо нарушение обычных правил поведения гостя. Это своего рода искусно рассчитанная провокация, виртуозно исполненная благодаря специфической холодной наглости, чрезвычайно типичной для дендистского стиля.
На фоне дендистских провокаций в амплуа как гостя, так и хозяина возникает вопрос: можно ли вообще говорить о гостеприимстве применительно к денди? На этот вопрос не столь просто ответить однозначно, и, возможно, здесь нам могут помочь размышления современного французского философа Жака Деррида. Деррида выделяет особую «апорию»[467] гостеприимства. С одной стороны, существует безусловный Закон гостеприимства, согласно которому «надо принимать в свой дом любого гостя и предоставлять ему все, что имеешь, ни о чем не спрашивая и ничего не требуя взамен»[468]. С другой стороны, этот «категорический императив гостеприимства» реализуется в условных, частных законах, представляющих бесконечное эмпирическое многообразие конкретных форм. И собственно «апория» заключается в том, что между двумя полюсами антиномии отсутствует симметрия – взамен действует особая иерархия, ставящая основной Закон над частными законами. При этом главный Закон допускает и противоречащие и угрожающие ему формы, полностью его опровергающие, – множественность разнообразных вариантов лишь подтверждает и оттеняет его единственность и совершенство[469].
Если мы примем логику рассуждений Деррида, то для дендистских нарушений основного Закона гостеприимства выстраивается метафизическое пространство, санкционирующее саму возможность бесконечных вариантов «подколок», «наглости» и т. п. Ведь дендистские провокационные жесты относятся как раз к подобным способам подрыва основного Закона, диалектически необходимым для его осуществления: «Это искажение Закона существенно, необходимо и неустранимо. Такой ценой покупается способность к совершенствованию Закона. И отсюда историчность отдельных вариантов»[470]. Временная развертка как конкретных форм гостеприимства, так и способов его нарушения обеспечивает историзм частных законов, и дендистские скандалы, безусловно, во многом объясняются спецификой исторического момента.
Каковы же были причины необычайной терпимости в обществе по отношению к скандальным выходкам денди? Очевидно, в Англии в период Регентства аристократия, напуганная событиями во Франции, демонстрировала особое почтительно-мазохистское отношение к выходцам из простых семей, вращающимся в светских кругах и обладающим, как Браммелл, высоким уровнем самооценки. Таким выдающимся личностям общество позволяло играть роль диктаторов-садистов, все пересказывали друг другу последние дендистские колкости, все спрашивали: «Вы слышали о последней выходке Браммелла?» Так складывался замкнутый круг садомазохистских отношений, когда люди порой невольно сами провоцировали Браммелла на резкие ответы, спрашивая его мнение по поводу собственной одежды, ставя себя тем самым в заведомо уязвимое положение.
В тонком искусстве благородно допустимого скандала Браммелл «специализировался» в свете на колких замечаниях по поводу нарядов, поскольку в качестве общепризнанного арбитра элегантности пользовался привилегией публично критиковать костюмы окружающих: такова уже цитировавшаяся история с неудачным платьем герцогини Ратландской. Порой мишенью для его юмора был социальный статус той или иной персоны: так, однажды он якобы случайно обмолвился в адрес миссис Фицхерберт «мистресс Фицхерберт», намекая на ее положение фаворитки[471].
В подобных остротах проявлялась присущая Браммеллу особая дендистская дерзость: «Его слова распинали, а дерзость была слишком необъятна, чтобы уместиться в эпиграммах. Выразив колкими словами, он затем переносил ее на все свои действия, манеры, жесты, самый звук своего голоса. Наконец, он применял ее с тем неоспоримым превосходством, которое одно делает ее терпимой среди людей порядочных; ибо дерзость граничит с грубостью, подобно тому как возвышенное граничит со смешным, и, утратив тонкость выражения, она гибнет»[472].
Жертвами остроумия Браммелла становились и аристократы, и незнатные люди. При этом социальное происхождение самого Браммелла, как мы помним, было довольно скромным, но благодаря итонскому образованию он с юности был вхож в аристократические круги. В высшее общество в то время стремились попасть многие весьма состоятельные дельцы, буржуазные банкиры – это способствовало престижности. Однако именно по отношению к ним знать была настроена отрицательно, считая их выскочками, пошлыми и вульгарными людьми[473]. Устав многих элитарных клубов был составлен специально так, чтобы отсеять нуворишей. Многие жертвы Браммелла относились к категории богатых парвеню, которые всеми силами пытались завоевать его дружбу. И вот как раз по отношению к этим людям сарказмы Браммелла получали негласное одобрение светского общества.
Нередко дендистские сарказмы были направлены на конкретные вещи, символизировавшие вкус хозяина: в одной из историй речь идет о шампанском. Браммелл обедал в доме, где подавали плохое шампанское. Он дождался паузы в разговоре, поднял бокал и громко приказал лакею: «Джон, плесни мне еще этого сидра»[474]. Публичное осуждение шампанского, разумеется, воспринимается как оскорбление хозяина дома, однако репутация денди как тонкого ценителя служит ему защитой. Перед нами опять образчик намеренного нарушения правил гостеприимства.
Порой, однако, Браммелл использовал свой авторитет для собственной коммерческой выгоды. Один раз он аналогичным образом в лавке торговца табаком раскритиковал лучший сорт табака, из-за чего продавец был вынужден резко сбавить цену. Тогда Браммелл почти сразу купил большую партию этого сорта за гроши, после чего торговец немедленно поднял цену, ссылаясь на его покупку в качестве рекламы своему товару[475].
Точно так же он мог успешно использовать в своих интересах возможности гостеприимства. Как-то раз, когда Браммелл служил в армии, он умудрился опоздать на парад, в котором принимал участие его полк, и командующий был в ярости. Но Браммелл быстро нашел выход из положения: он тут же сказал генералу, что герцог Ратландский приглашает его на обед. Генерал смягчился, конфликт был потушен. Но Браммеллу пришлось при первой возможности срочно мчаться к герцогу, чтобы предупредить его о нежданном госте – ведь спасительная идея с приглашением была чистой импровизацией[476].
В этом примере гостеприимство пускается в ход как разменная монета: приглашение на обед обеспечивает послабление в службе. Подобные игры обмена наиболее типичны для прагматического буржуазного стиля отношений: все символические ценности, включая престижные знакомства с аристократическими семьями, легко приобретают меновую стоимость, потенциально способствуя социальному возвышению. В отдельных случаях этот символический капитал может функционировать даже в качестве платежного средства. Так, Браммелл нередко использовал собственную репутацию, чтобы уклониться от уплаты долгов.
Итак, мы убедились, что приглашения, взгляды, комплименты, рекомендации и прочие нематериальные «авансы» могут функционировать в качестве новых единиц обмена как знаки символического престижа в складывающейся системе буржуазного общества. Эти процессы указывают на важнейшие перемены, связанные с формированием новой урбанистической культуры современного общества на уровне этикета и гостеприимства. И дендистское искусство элегантного нарушения светских правил – симптом этих перемен.
Наглость как вид изящных искусств
Sois insolent, c’est la seule chance!
Будь наглым – это единственный шанс!
М. БланшоНаглость как особая форма поведения может иметь разный культурный смысл. Морис Бланшо в эссе «О наглости как виде изящных искусств» писал: «Наглость – отнюдь не бесполезное искусство. Это средство оставаться верным себе и превосходить других во всех обстоятельствах, когда они имеют иные преимущества. Это также волевое желание отвергать общепринятые, привычные стереотипы»[477]. Дендистское правило «удивлять неожиданностью», ориентированное именно на ломку стереотипов, создавало благоприятную почву для особой формы наглости. Денди как лидеры моды, казалось, дерзко состязались между собой, испытывая на прочность общественные условности.
В дендистских манерах нередко чувствовался специфичный алгоритм – джентльменская вежливость в сочетании с холодной наглостью. Браммелл был мастером этого иронического стиля – избыточной любезности, за которой сквозило скрытое высокомерие или даже презрение. Демонстрируя изощренный риторический эквилибр, он смущал собеседников, заставляя их покраснеть или прикусить язык. Все знаменитые остроты Браммелла выдержаны именно в этом стиле: «Вы это называете фрак?» (в ответ на вопрос о качестве фрака) или «Я не могу считаться элегантным, раз Вы отмечаете это» (после комплимента в свой адрес).
В разговоре преувеличенно-саркастическая любезность производила деструктивный эффект – сомнения и дискомфорта. «Изысканная вежливость таила в себе еле заметные негативные знаки, образуя смешанное послание», – пишет Домна Стантон об этом сложном искусстве[478]. Тот, к кому обращались, пребывал в недоумении, не понимая, то ли над ним издеваются, то ли говорят серьезно. Реагировать на это было гораздо сложнее, чем на элементарную грубость, поскольку ирония была неожиданной и тонкой.
Вот Пелэм, денди из романа Бульвера-Литтона, беседует с вульгарной светской дамой:
«– Вы ездили в Бат прошлой зимой, мистер Пелэм?
– Нет, леди Бэбелтон, к сожалению, я был в менее аристократическом месте.
– А где именно?
– В Париже.
– В самом деле? А вот я никогда не бывала за границей. Я считаю, что лицам высокого звания незачем уезжать из Англии, они должны оставаться там и поощрять промышленность нашей страны.
– Ах! – воскликнул я, дотрагиваясь до шали леди Бэбелтон. – Какой миленький манчестерский узор!
– Манчестерский узор! – в ужасе вскричала вдова пэра Англии. – Да что Вы, это самая что ни на есть настоящая индийская шаль; неужели, мистер Пелэм, Вы всерьез думаете, что я ношу вещи, изготовленные в Англии?
– Тысячу раз прошу прощения, миледи! Я ничего не смыслю в нарядах; но, возвращаясь к тому же вопросу, я вполне разделяю Ваше убеждение, что мы должны поощрять нашу промышленность и не ездить за границу…»[479]
В этом «невинном» разговоре леди Бэбелтон два раза попадает в ловушку дендистской иронии: по поводу «менее аристократического» Парижа и в связи с «непатриотичной» индийской шалью. В каждом случае сарказм облечен в форму изысканной вежливости, так что не понимающий издевки может и впрямь подумать, что, к примеру, Пелэм «ничего не смыслит в нарядах» и искренне призывает поощрять английскую текстильную промышленность. Но дама, к счастью для себя, так глупа, что не понимает своего проигрыша.
Эффект дендистской издевательской вежливости усиливался благодаря позе холодного равнодушия, проистекающей из правила «ничему не удивляться». Сочетание наглости и апатии создает впечатление ленивого превосходства, подкрепленного умело-небрежной расслабленностью в стиле «La Sprezzatura». Непроницаемое выражение лица тоже способствовало этому ощущению власти, тотального контроля ситуации. Такие приемы визуальной тактики, как рассматривание человека в лорнет или, напротив, «незамечание» в упор, также относятся к этому смысловому полю.
Барбе д’Оревильи, анализируя характер Браммелла, неоднократно отмечает особую присущую ему дерзость. Это и есть разновидность той дендистской наглости, о которой мы ведем речь. «Для того, кто ею обладает, дерзость – наилучшая защита, какую только можно найти против столь часто враждебного нам тщеславия других, и она же самый элегантный плащ, скрывающий недостатки, которые мы сами в себе находим»[480].
Однако подлинно дендистская дерзость, по мнению Барбе д’Оревильи, возможна только на фоне грации или изысканной любезности. Они оттеняют друг друга, только выигрывая в сочетании: «Без Дерзости Грация походила бы на бесцветную блондинку, а Дерзость без Грации может показаться слишком знойной брюнеткой»[481]. Браммелл в высшей степени владел этим искусством дозированного остроумия и продуманной дерзости. «Он смешивал в равных долях страх и любезность и составлял из них магическое зелье своего обаяния», – писал о нем Барбе д’Оревильи, как будто речь шла о некой алхимической формуле.
Если пропорция нарушается, то мы имеем дело совсем с другим качеством – грубостью: «Дерзость граничит с грубостью подобно тому, как возвышенное граничит со смешным, и, утратив тонкость выражения, она гибнет»[482].
Это важный нюанс: ведь иногда в светских манерах проскальзывала откровенная грубость. Сошлемся на роман Бульвера-Литтона «Годольфин», в котором дается беспристрастная картина светских нравов. Главная героиня, Констанс, описывается прежде всего как лидер моды. «Власть моды! Эту таинственную и возвышенную силу она умела направить по своему желанию. Ее интуитивное знание людских характеров, такт и изящество были именно теми качествами, которые требовались для моды, и она сосредоточилась на этой сфере. Грубость, искусно чередуемая с обворожительной мягкостью и простотой обращения, только усиливала эффект. Она заставляла робеть и обеспечивала победу. И грубость вскоре даже прибавила ей популярности, поскольку она всегда была направлена на тех, чьим унижениям другие были в глубине души рады. Она никогда не высмеивала скромность или гордость, подкрепленную достоинством. Но зато ей нравилось унижать высокомерных глупых герцогинь или разбогатевших простолюдинов»[483].
Как видим, романист одобряет грубость Констанс, что может показаться странным. Но он делает важную оговорку: адресаты грубых реплик – «высокомерные герцогини и разбогатевшие простолюдины», явно не заслуживающие авторских симпатий. Да и сама Констанс, что очень существенно для понимания ее стратегии, по происхождению не принадлежит к знатным кругам. Она берет на вооружение «плебейскую» грубость, пренебрегая основным правилом аристократического воспитания: разговаривать со всеми ровно и вежливо независимо от социального статуса человека.
Обратимся к эпизоду, где грубость Констанс обрисована на практике: дело происходит на балу, и к героине обращается ее недоброжелательница, герцогиня Уинстон: «“Как поживаете, мисс Вернон? Вы прекрасно выглядите. Насколько можно верить слухам о Вас?” – и герцогиня показала зубы, что означало улыбку. – “Какие слухи имеет в виду Ваша светлость?” – “Ну, я полагаю, лорд Эрфингам должен быть в курсе, и я желала бы ради Вас обоих, чтобы эти слухи оправдались”. – “Дожидаться, чтобы герцогиня Уинстон что-либо сказала членораздельно, было бы пустой тратой времени для всех”, – произнесла надменная Констанс с той грубостью, которую она тогда обожала и которая сделала ее знаменитой». Когда же наконец герцогиня, не смутившись, все-таки делится с ней якобы услышанными где-то сплетнями по поводу предстоящего замужества Констанс, она получает еще более резкий отпор. «Я думала до сих пор, – сказала Констанс, – что люди, передающие чужие сплетни, достойны презрения. Но теперь я понимаю, что наиболее отвратительны те, кто сами изобретают сплетни»[484].
Подобный «обмен любезностями» – типичный случай из истории этикета, когда вежливость превращается в свою противоположностьи более уверенный в себе из конкурентов побеждает за счет грубости или неприкрытого цинизма. Герцогиня в нашем примере, желая поиздеваться над Констанс, все же не нарушала внешних приличий, что как раз, не задумываясь, делает Констанс. Однако она оправдывает свое поведение мотивами «мести» за погибшего отца, которым пренебрегли его аристократические друзья, и сочувствие читателя остается на ее стороне.
Совсем другой случай представляет из себя ироническая грубость как проявление мизантропии и несносного характера. В романе Эжена Сю «Парижские тайны» (1842–1843) выведен герцог де Люсене, поведение которого все окружающие воспринимают как образец вульгарности. Его любимый прием – приписывать людям нелепые болезни или немыслимые увечья и затем во всеуслышанье выражать свое сочувствие. Увидев одного господина, он публично осведомляется: «Боже мой, боже мой, Вы так и не смогли отделаться от своих утренних рвот?»[485]
Подобный розыгрыш – лишь малая часть светских промахов герцога. Его манеры не укладываются прежде всего в обычный кодекс чисто физического поведения. Он «развалился на диване рядом с маркизой, после чего закинул левую ногу на правую и схватился рукой за свой башмак», далее он ударяет по своей шляпе, «как по баскскому барабану», и отрывает стебли у вьющегося растения. В обществе он говорит «крикливым, пронзительным голосом», ломает веера и флаконы с духами у дам, а свою неприязнь выражает ничуть не чинясь: «Как мне хочется сбросить тюрбан с этой противной жеманницы!»[486]
В чем отличие его поведения от дендистских розыгрышей и намеренных скандалов? Денди, как талантливый актер, в совершенстве владеет искусством мгновенной смены ролей: язвительный укол лишь оттеняет его холодную любезность, его розыгрыши – пикантная приправа к обычной светской галантности. А герцог де Люсене по-другому вести себя не может, просто потому, что таков его нрав; он всегда играет единственную роль – самого себя, и оттого его воспринимают как персонажа комедии, неприятного клоуна.
Не исключено, что такая форма поведения восходит к традиции шутовской вседозволенности: средневековое общество, к примеру, санкционировало шутовское поведение как особый жанр, уместный в определенных ситуациях, когда в карнавальной манере низвергались авторитеты и опрокидывались социальные иерархии. Вольное обращение с особами любого ранга, развязные оскорбления, вызывающие жесты считались в этом контексте нормальными. Но подобный тип шутовской наглости как узаконенного нарушения конвенций характерен именно для традиционной культуры.
Три инкройябля. 1803 г.
В Новое время примитивная шутовская грубость сразу обеспечивает светской личности испорченную репутацию. В романе Марии Эджворт «Белинда» (1801) выведен весьма негативный образ Харриет Фреке, прямолинейной феминистки и любительницы рискованных розыгрышей. «Самоуверенность Харриет превосходила все известные примеры среди мужчин и женщин. Она была откровенно наглой, но ее наглость была наивысшей пробы – как коринфская латунь[487]. Именно она ввела в моду манеры в духе «harum scarum»»[488]. Развязные манеры Харриет отталкивают от нее положительных героев, она вечно попадает в нелепые ситуации и, устраивая всевозможные козни, сама же нередко становится их жертвой. Неудивительно, что просвещенные и рациональные персонажи не устают потешаться над ней. Такой вариант совсем «сырой», природной бесцеремонности – полный антипод дендистской холодной наглости, наиболее удаленная от нее точка: это два полюса, противопоставленные по принципу «естественность» и «искусственность».
Конечно, порой сугубо избирательную грубость берут на вооружение и денди, однако здесь все решают нюансы. Она может быть направлена против неприятного человека или представителя «вульгарного сословия», однако существенно, что эта грубость, или, точнее, дерзость, отрефлектированная, искусственная и всегда преподносится в упаковке издевательской вежливости. Если искать исторических предшественников денди именно в плане дерзости, то самым близким источником будет, очевидно, особый вариант аристократической наглости: старинное «искусство нравиться не нравясь» («l’art de plaire en déplaisant») – система хитрых приемов общения, которая сложилась во французской придворной культуре XVII–XVIII веков.
Владеющий этим тонким искусством намеренно стирал границы между понятиями «нравиться» и «не нравиться». Между оскорбленным и обидчиком возникало сложное чувство взаимной зависимости, как у партнеров, играющих в одну тайную игру. Это подспудное напряжение поддерживало их интерес друг к другу, привлекая и отталкивая одновременно.
Признанным мастером «искусства нравиться не нравясь» был знаменитый герцог де Лозен[489]. История его отношений с Мадемуазель[490] известна по мемуарам Сен-Симона. Одна из самых знатных и состоятельных дам при дворе Людовика XIV, принцесса Анна-Мария-Луиза Орлеанская, уже в зрелом возрасте полюбила герцога де Лозена, который своим холодным обращением долго испытывал ее терпение, и даже когда она призналась ему в своем чувстве, отвечал ей лишь галантной вежливостью.
Именно эта тактика восхитила Барбе д’Оревильи. Он подробно описал реакции Лозена в своем трактате «Денди – предшественники дендизма». Мадемуазель уже почти сделала признание – «и здесь начинается восхитительная комедия, комедия любви. Она желает, чтобы он понял, а он, прекрасно все понимая, этого отнюдь не желает. Она сама расколола лед между ними, но он отказывается сломать его до конца. Это уже и не лед, а только прозрачная, слабая пленка, однако Лозен не хочет порвать ее. Он даже не дотрагивается до нее пальцем, а ведь одного его прикосновения хватило бы, чтобы она растаяла. Лозен становится наилюбезнейшим Тартюфом, демонстрируя чудеса почтительности, чем доводит даму до белого каления. Поведение этого человека – шедевр. Из него можно выводить аксиомы и афоризмы “как влюбить в себя принцессу”»[491]. Современные аналитики назвали бы действия Лозена техникой «негативного контроля», а на языке придворной культуры XVII–XVIII столетий это называлось «отказ от любви»[492].
Тактика Лозена дала свои плоды. Мадемуазель испросила согласия короля на свадьбу, но свадьба была отложена, поскольку (как истинный денди!) «Лозен хотел подготовить красивые наряды и добиться, чтобы венчание состоялось во время королевской мессы»[493]. Однако этой отсрочкой воспользовались противники герцога и уговорили короля отменить свое согласие на свадьбу. Дальнейшая биография Лозена слишком богата событиями для краткого пересказа – после ряда приключений, побывав в тюрьме, он все же заключил тайный брак с Мадемуазель, которая героически вызволила его из заключения, хотя для этого ей пришлось уступить половину своих земельных владений. Впрочем, в браке он проявлял все ту же дендистскую наглость. Но и принцесса постепенно поняла, как надо действовать, чтобы «нравиться не нравясь». Как-то раз, убедившись, что Лозен ей изменяет, она согласилась простить его при одном условии: она стояла в конце длинного коридора, а он должен был проползти все расстояние к ней на коленях – что и было исполнено.
При дворе Лозен был виртуозным кавалером, но проявлял жестокость по отношению к своим врагам, не щадил и женщин. Принцесса Монако имела несчастье навлечь на себя его гнев, и он отомстил ей с изощренным садизмом: «В один из летних дней он приехал в Сен-Клу; Мадам и ее придворные дамы в поисках прохлады сидели на каменном полу, а принцесса Монако полулежала, откинув руку. Лозен принялся любезничать с дамами, обернулся, да так ловко, что наступил каблуком принцессе Монако на ладонь, крутанулся и вышел. У принцессы Монако достало сил не вскрикнуть и промолчать»[494]. В этом эпизоде поражают два момента: дополнительный поворот на каблуке, чтобы сделать больнее, и реакция принцессы – ее сдержанность, по силе симметричная продуманной жестокости герцога.
Эта особая садистская дерзость в обращении с женщинами не раз проявлялась в позднейшем дендизме – от колких замечаний Браммелла по поводу неудачных дамских нарядов до язвительных реплик Бодлера в мизогинистском духе. Холодная наглость как верное средство обратить на себя внимание долгое время оставалась в арсенале денди.
Сахарный парик и светящийся кролик: розыгрыши как джентльменская традиция
Непреодолимое стремление к оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых условностей.
Ш. БодлерВ дендистском поведении, как мы уже видели, отчасти присутствовали элементы шутовской манеры. Но в чем именно состояла ее специфика? Браммелл, по свидетельствам современников, имел счастливый талант представлять самые обычные обстоятельства в комическом свете и никогда не отказывался от возможности посмешить друзей»[495]. Порой его приглашали на обеды специально ради застольного веселья.
В традициях отечественной семиотики шутовские манеры порой именуют «антиповедением»[496], однако применительно к денди следует скорее говорить об особой культурной форме антиповедения – розыгрышах, колких шутках, нацеленных в адрес конкретного лица. В английском это называется «сutting», то есть буквально резкость, язвительность (сходный смысл просвечивает в русском выражении «подколоть, подрезать кого-либо»). Холодные, наглые «подколки» были в моде в дендистских кругах. Нередко жертвами подобных сарказмов становились люди простого происхождения, которые ошибочно считали, что стать «своими» среди денди довольно просто.
Вспомним, как один из знакомых Браммелла, незнатный мистер Р., желая обратить на себя внимание знаменитого денди, устроил в его честь обед и даже предоставил ему право позвать сотрапезников по собственному вкусу. Браммелл пригласил своих друзей, они отлично отобедали, однако единственным поводом для недовольства денди стал тот факт, что «мистер Р. осмелился сесть с нами за один стол и тоже пообедать!»[497]. Здесь уже идет полное выворачивание наизнанку роли хозяина: гость нагло узурпирует его права и третирует хозяина как человека второго сорта.
Вполне возможно, что в таких историях мы также имеем дело с перифразом известных эпизодов из биографии знаменитого афинского красавца Алкивиада, позволявшего себе надменное отношение к заискивающим перед ним людям. Так, например, он неприязненно относился к некоему Аниту, сыну Антемиона. «Тот любил Алкивиада и однажды, ожидая к ужину несколько иностранных друзей, пригласил и его. Алкивиад отказался от приглашения и, напившись допьяна с товарищами у себя дома, вторгся с толпой товарищей к Аниту; остановившись в дверях мужской комнаты и увидев столы, на которых стояло очень много золотой и серебряной посуды, приказал рабам взять половину и нести к себе домой; совершив это, он удалился, не удостоив войти. Некоторые из приглашенных, возмущенные, стали говорить о том, как нагло и высокомерно вел себя Алкивиад. “Напротив, – сказал им Анит, – он был снисходительным и гуманным: ему никто не мешал забрать все, а он нам часть оставил”»[498].
Браммелл, безусловно, знал биографию Алкивиада – ведь ее изучали в английских колледжах, а Алкивиад был одним из самых популярных античных героев именно в XIX веке (Байрон так вообще ценил его больше всех). Конечно, нельзя на сто процентов утверждать, что это сознательный перифраз, но сходство моделей поведения лежит на поверхности[499].
В обоих случаях бросается в глаза наглость: у Браммелла – утонченная и холодная, а у Алкивиада – прямая и брутальная, не прикрытая иронической дендистской вежливостью. Алкивиад берет посуду по праву знатного и сильного (и любящий его Анит признает за ним это право). Браммелл же как будто имитирует эту аристократическую спесь, но уже по-игровому, отстраненно, легко. «Денди – человек дерзающий, но в дерзании знающий меру и умеющий вовремя остановиться», – замечал Барбе д’Оревильи[500].
Обоих щеголей роднит готовность нарушить общественные условности. Порою Алкивиад не стесняясь сразу дает выход своему темпераменту. «Алкивиад пришел к учителю и попросил книгу Гомера. Когда тот ответил, что никаких сочинений Гомера у него нет, он ударил его кулаком и вышел»[501]. Алкивиад готов оскорбить человека и просто на спор, дабы показать, что ничто ему не помеха: «Он дал пощечину Гиппонику, отцу Каллия, имевшему большую славу и влияние, благодаря как богатству, так и происхождению, – не в гневе и не из-за какой-либо ссоры, а просто для смеха, уговорившись с приятелями»[502].
Здесь оскорбление направлено уже на знатного гражданина по принципу «чем крупнее дичь, тем больше триумф охотника». И если смиренный Анит так и остался среди разграбленного пиршества, то перед Гиппоником Алкивиад на следующий день идет извиняться и проявляет гипертрофированное раскаяние: «На другой день утром Алкивиад пришел к дому Гиппоника; постучавшись в дверь, он вошел и, сняв гиматий, отдался во власть хозяина, прося, чтобы тот наказал его плетью. Гиппоник простил его, перестал гневаться и впоследствии отдал за него свою дочь Гиппарету»[503]. Как видно, дерзость молодого человека все же уравновешивается раскаянием и в целом прочитывается в контексте аристократического кода поведения: Гиппоник, как это ни парадоксально, видит в нем «своего».
Сравним эту историю с эскападой Браммелла, когда он решил поиздеваться над известным ученым, членом Королевского общества Снодграссом. Опять же на спор с приятелями он постучал в окно ученого в три часа утра, и когда тот в панике высунулся в ночной рубашке на мороз, решив, что в доме пожар, Браммелл вежливо спросил его: «Простите, сэр, Вас зовут Снодграсс?» Ученый опешил и кивнул, после чего Браммелл задумчиво протянул: «Снодграсс, Снодграсс – какое чудное имя, клянусь, в высшей степени чудное, ну что же, мистер Снодграсс, доброе утро!»[504]
Браммелловские шутки, пожалуй, более гуманны, чем выходки Алкивиада (все же, если сравнивать чисто физический ущерб, заставить жертву высунуться на холод в три утра лучше, чем дать пощечину). Они уязвляют скорее морально, превращая человека в посмешище. Но все совершается в игровом ключе, сценично и порой с размахом. И делается это в рамках почтенной культурной традиции. В Англии традиция таких шуток именуется «practical jokes» – розыгрыши. Классический пример розыгрыша – история с париком одного французского маркиза-эмигранта. Браммелл с друзьями посыпали парик маркиза вместо обычной пудры сахарной, так что он оказался «bien sucré». За завтраком на парик маркиза слетелось целое полчище мух. Бедняга сначала отмахивался, затем стал энергично трясти головой, пытаясь отогнать непрошеных пришельцев; сладкие липкие струйки потекли у него по лбу. Наконец, весь облепленный мухами, он, схватившись за голову, стремглав выбежал из комнаты. Браммелл, естественно, больше всех недоумевал, за что мухи невзлюбили несчастного маркиза[505].
Если сопоставить розыгрыши (practical jokes) c подколками (cuttings), то отличие будет вполне очевидно: розыгрыши смешны именно как действие, перформанс, в то время как эффект «подколки» базируется на остроумной реплике. Шутка с мистером Снодграссом – розыгрыш, но благодаря пожеланию доброго утра эта история уже тянет на «подколку». Кроме того, подколка часто направлена на разоблачение завышенных социальных претензий, развенчание высокомерия или угодливости; розыгрыш может быть просто чистым искусством, забавой, как в случае с насахаренным париком. При этом он иногда бывает довольно грубым и даже физически болезненным для жертвы.
Подобные розыгрыши были популярны в среде английских щеголей – как предшественников, так и современников Браммелла. Ими увлекался патриарх всех франтов Джордж Селвин, которого Браммелл очень уважал. Но здесь важно не упустить из виду историческое различие. В XVIII веке розыгрыши были тесно связаны с просветительской традицией и нередко имели аллегорический смысл: автор розыгрыша как театральный режиссер желал таким образом преподнести и участникам, и свидетелям действа совершенно конкретный моралистический или образовательный «урок». А позднее, к началу XIX столетия, такие шутки уже теряют этот ясный дидактический замысел и чаще всего осуществляются просто как эксцентричная забава, «just fun». Строго различить эти два полюса, конечно, возможно не во всех случаях, но хотя бы заметим тенденцию.
Джозеф Аддисон в «Зрителе» повествует о шутниках из Бата. Один из них специализировался на дидактических розыгрышах.
Он приглашал к себе на обед компанию людей, объединенных по принципу общего недостатка. Один раз он собрал у себя говорунов, склонных к паразитическим оборотам в речи: они непрерывно вставляли в любую фразу выражения типа «итак, сэр», «послушайте», «то есть», «видите ли» и т. д. Когда завязался общий разговор, каждый обратил внимание на раздражающий дефект в речи своего собеседника, но через некоторое время понял, что сам страдает аналогичным недостатком. Осознав это, члены компании стали изъясняться без излюбленных оборотов и вскоре избавились от вредной привычки насовсем[506].
В другой раз были собраны любители ругаться. После второй бутылки, когда у приглашенных развязался язык и посыпались крепкие выражения, хозяин приказал слуге, спрятанному за ширмой, записывать услышанное. Общий текст записи составил десять страниц, из них восемь составляла отборная брань. Последующее чтение, когда участники обеда протрезвели, как и следовало ожидать, также возымело нравоучительное действие на адептов сквернословия. А хозяин даже поделился с присутствующими полезной мыслью, что хорошо бы ввести налог на брань – глядишь, и казна пополнилась бы![507]
Аналогичным образом «пробудились от многолетней летаргии» словоохотливые любители рассказывать длинные истории, когда были вынуждены подолгу выслушивать друг друга. Собственно, тактика устроителя этих показательных сборищ состояла в том, чтобы люди взглянули на себя со стороны и вдруг поняли, что принадлежат к определенному типу. А уж дальше открывалась заманчивая перспектива прогресса просвещения и смягчения нравов.
Это была совершенно классическая для той эпохи установка: нужно просто создать подходящие условия, чтобы сработал разум, заложенный в каждом. И если получится еще при этом и смешно, то тем лучше. В этом плане осознание собственной неуникальности – то есть принадлежности к определенному типу – замечательно облегчает задачу. «Тип» рассматривался как в моральном, так и в физиологическом аспекте: в XVIII веке были популярны всяческие классификации лиц, характеров, физиогномические исследования – вспомним хотя бы изыскания известного художника У. Хоггарта[508] в Англии, Шарля Лебрена во Франции и Лафатера в Швейцарии.
В этом контексте нас уже не столь удивит другой розыгрыш шутника из Бата. Однажды он собрал у себя за столом людей, отличавшихся особо длинными подбородками. У каждого из гостей «рот находился в центре лица». Вначале никто не догадывался, что свело их вместе, но затем, присмотревшись друг к другу, они оценили замысел хозяина и восприняли это «с доброжелательным юмором». Такая «тема» розыгрыша – демонстрация любопытства по отношению к разнообразию «человеческой природы», жест сродни коллекционированию редкостей (кстати, кунсткамеры – тоже культурный продукт этого времени). Но здесь подчеркнута и юмористическая составляющая розыгрыша – приглашены люди, «имеющие в лице нечто бурлескное и забавное»[509].
Эстетические теории XVIII – начала XIX века недвусмысленно акцентировали, что юмор подразумевает именно несколько абстрактный взгляд на человека как проявление коллективной сущности: «Для юмора не существует отдельной глупости и отдельных глупцов, а существует только Глупость и безумный мир», – писал Жан Поль[510]. И ему вторит Зольгер: «В юмористическом изображении целью художника ни при каких обстоятельствах не может являться только единичное… но всегда общее и целое»[511].
Можно, конечно, посмотреть на розыгрыши и с другой стороны – а каково было подопытным кроликам? Они не всегда относились к происходящему «с доброжелательным юмором», иногда обижались. Так было, когда все тот же остроумец собрал у себя заик и велел слуге записывать их высказывания. За первым блюдом было произнесено в общей сложности 20 слов, за вторым один гость четверть часа пытался сообщить, что утка и аспарагус удались на славу, а второй еще столько же времени потратил на то, чтобы выразить свое полное согласие с этой точкой зрения. В итоге один из приглашенных понял замысел даже до оглашения текста записи, оскорбился и ушел, а потом написал письмо обидчику с вызовом на дуэль. Дело едва удалось замять стараниями друзей[512]. Но все же в большинстве случаев невольные участники воспринимали розыгрыши достаточно терпимо: например, обладатели длинных подбородков после описанного вечера даже подружились и впредь жили в «полном согласии». Юмористическая традиция процветала в Англии и в XIX веке, причем со временем все яснее обозначалась чисто развлекательная суть розыгрыша, а дидактизм, наоборот, становился все менее актуальным. Это нашло выражение в понятии «эксцентрики». В эпоху Регентства существовал клуб эксцентриков, членами которого были Фокс, Шеридан, лорд Питершем, Броуэм и Теодор Хук. Они специализировались на розыгрышах.
Член клуба эксцентриков, драматург Р.Б. Шеридан, написавший «Школу злословия», однажды подстроил такую «практическую шутку»: его приятель Тикелл погнался за ним по темному коридору, в котором на полу были расставлены тарелки. Для себя Шеридан благоразумно оставил узкую тропинку среди тарелок, а Тикелл бежал, не разбирая дороги, несколько раз спотыкался, падал, разбивая тарелки, и в результате сильно порезался осколками. Потом, когда он лежал и поправлялся, его навестил лорд Таунсхенд и после формальных соболезнований не удержался и сказал по поводу хитрости Шеридана: «Да, но как замечательно все было подстроено!»[513] Вот так: восхитился красотой розыгрыша как эстет, невзирая на страдания друга.
Самым, пожалуй, знаменитым шутником в эпоху Регентства слыл Теодор Хук (1788–1841). Про него говорили, что «он превосходилвсех по способности развлекать» (was much more entertaining). Хук был блестящим светским остроумцем – в Англии этот тип называют «society wit». Он мог с ходу сочинить изящный каламбур, импровизировать песенки, сидя за роялем в салоне. Записные остроумцы – Хук, Сидни Смит, Сэмюэл Роджерс, Генри Латтрелл – составляли особую категорию посетителей светских обедов – их всегда приглашали вне зависимости от знатности и богатства. Их ценили за «conversational powers» – умение рассказывать занимательные истории и шутить. В этом плане они были похожи на денди, которых тоже принимали в высшем обществе за вкус и элегантность, а не благодаря аристократическому происхождению. Таланты денди и остроумца часто сочетались в одной личности, но не обязательно. Браммелл счастливо соединял в себе обе ипостаси, равным образом как и его приятель лорд Алванли. А вот Теодор Хук отличался именно в амплуа остроумца, но не денди.
Однажды он обратился с вопросом к случайному прохожему, который привлек его внимание необычайно пышным костюмом: «Ради бога, простите, но Вы представляете из себя нечто особенное?» Это был вопрос в духе Браммелла, нацеленный на критику неумеренно разряженных франтов. Его шутки часто строились на каламбурах. По поводу похорон своего знакомого театрала он сказал: «I met him in his private box going to the pit»[514] – вполне в традиции британского черного юмора.
Хук зарабатывал на жизнь литературным трудом, издавая журналы «Джон Буль» и «Новое ежемесячное обозрение», а в 1812 году даже был назначен главным казначеем острова Маврикий; там он, правда, продержался не так уж долго и, вернувшись в Англию, вновь стал посещать светские обеды в качестве главного юмориста. Теккерей запечатлел его эксцентричный характер в лице одного из персонажей «Ярмарки тщеславия», а в романе Дизраэли «Вивиан Грей» он фигурирует как Станислав Хоукс. Характерная деталь, типичная для любителей розыгрышей: Хук коллекционировал вывески[515], дверные молотки, шнурки от звонков и даже умудрился стянуть на аркане фигуру орла, красовавшуюся на крыше гостиницы. В его собрании числились даже деревянные гномики, которых в Англии нередко ставят у входа в паб.
Д. Маклис. Портрет Теодора Хука
Д. Гиллрэй. Три чудака. 1791 г. Слева направо – Генри, граф Барримор (Hellgate), Ричард, граф Барримор (Newgate), Август Барримор (Cripplegate)
Хук обожал проводить время в гостях. Однажды они с приятелем так засиделись, что утомленный хозяин не выдержал и пошел спать, а наутро спросил у слуги, в котором часу ушли гости. Но в ответ услышал: «Ушли, сэр? Они только что потребовали кофе!»
Розыгрыши Теодора Хука вошли в историю английского юмора, причем он периодически выступал в своей коронной роли светского гостя. Как-то раз Хук шел по улице вместе со своим приятелем Дэниэлом Терри, актером. Они проходили мимо шикарного особняка, куда как раз съезжались на обед гости. Это зрелище привлекло внимание, и Хук тут же заключил пари с Терри, что он явится в этот дом, как будто бы его тоже пригласили, и пробудет там ровно 5 часов. Если Терри, придя вечером, застанет его там, то Хук выиграл пари. Далее Хук спокойно вошел в особняк наряду с другими гостями; он назвался слугам вымышленным именем, и его провели в столовую, где он извинился за опоздание и сразу приступил к супу. Одновременно он увеселял собеседников шутками, так что с того конца, где он сидел, то и дело раздавались взрывы хохота. Наконец хозяин, долго не понимавший, в чем дело, оправился от изумления и, воспользовавшись паузой в разговоре, осторожно осведомился, как зовут гостя. Он предварительно извинился за свой бесцеремонный вопрос, сославшись на небрежность слуг, якобы перепутавших имя гостя. «Не стоит извинений, ради бога, – любезно ответил Хук, – мое имя – Смит, и, как Вы верно заметили, слуги вечно допускают самые нелепые промахи. Вот, к примеру…» И тут Хук пустился рассказывать смешные истории об ошибках слуг. Хозяину опять пришлось выждать, прежде чем он смог сказать, что не ждал к обеду джентльмена по фамилии Смит. В ответ на это означенный джентльмен изобразил страшное смущение и спросил, разве он не находится в гостях у мистера Томпсона, куда он был приглашен к четырем часам, хотя, правда, опоздал и пришел к пяти… Хозяин ответил, что это ошибка, поскольку он находится в доме Джоунза[516]. Тут Теодор Хук совсем расстроился: «Что же Вы в таком случае должны обо мне думать, я немедленно уйду, это непростительно, ведь я мало того что опоздал, но еще и перепутал адрес и вдобавок заказал свой экипаж сюда только к десяти вечера!» Но гостеприимный хозяин теперь, когда все выяснилось, не согласился так просто отпустить веселого гостя и возразил: «Вы все равно уже опоздали на тот обед, куда были приглашены к четырем часам. Оставайтесь у нас!» И несмотря на риторические протесты Теодора Хука, его таки уговорили остаться. В итоге Хук развлекал все общество до девяти часов, пока наконец не пришел его приятель Дэниэл Терри, с которым он заключил пари. Тогда он встал и продекламировал тут же сочиненный стишок:
I am very much pleased with your fare, Your cellar is as prime as your cook; My friend Mr. Terry, the player, And I am Mr. Theodore Hook. Я очень доволен Вашим столом, Вкусным обедом, отменным вином. Познакомьтесь: актер мистер Терри, мой друг, И к Вашим услугам – мистер Теодор Хук.Таким образом Теодор Хук «снял маску», и все присутствующие, и в первую очередь гостеприимный хозяин, поняли, что стали жертвой розыгрыша. Эту ситуацию можно, конечно, расценить как нарушение всех правил со стороны гостя-самозванца: он проникает в дом под чужим именем, ест-пьет, тянет время и, добившись хитростью разрешения остаться, в благодарность выставляет на всеобщее осмеяние хозяина, то есть ведет себя как настоящий трикстер. С другой стороны, если посмотреть внимательно, Теодор Хук, хотя и в травестийном варианте, неплохо исполнил роль гостя – он честно развлекал компанию за столом, вокруг него все смеялись, а в заключение он воздал хвалу хозяйскому угощению, похвалил повара и вино. Его эффектный розыгрыш удался благодаря его риторическому искусству, и, надо думать, никто, включая хозяина, в итоге особо не обиделся, поскольку все англичане знают, что розыгрыш, и особенно розыгрыш на пари, – дело святое и на спор и не такие вещи проделывают. Рассказанная история – мелкая и вполне безобидная «практическая шутка». Теодор Хук умел устраивать гораздо более масштабные (и порой весьма жестокие) проделки. В анналы жанра вошел его классический розыгрыш «Бернер-стрит».
Розыгрыш «Бернер-стрит»
Некая пожилая дама по имени миссис Тоттенхем имела несчастье вызвать неудовольствие мистера Теодора Хука, и он решил ее проучить. Теодор Хук и два помощника, леди и джентльмен, разослали 4000 (!) писем, содержащих приглашение разным лицам под тем или иным предлогом явиться в определенный час по адресу Бернер-стрит, дом 54, и обратиться к миссис Тоттенхем. Далее приводим хронику событий этого знаменательного дня.
Едва занялся рассвет, как вся округа огласилась криками «Чистим трубы!» – в 5 утра под окнами дома № 54 собралась целая толпа трубочистов. Под шум перебранки трубочистов с разъяренной служанкой на улице появились тяжелые подводы с углем. Они заблокировали проезд, мешая друг другу – ведь все направлялись к одному и тому же дому № 54; угольщики разразились отборными проклятиями. Сквозь образовавшийся затор с трудом пробирались кондитеры в белых фартуках, они аккуратно несли огромные свадебные торты, за ними следовали портные, сапожники, обойщики, ломовые извозчики с бочонками пива. Только-только разъехались громоздкие подводы с углем, как на Бернер-стрит появилась дюжина парадно украшенных экипажей для свадебной процессии, причем все возницы интересовались: «Где же счастливые молодожены?» За ними последовал целый отряд хирургов, вооруженных скальпелями и инструментами для ампутации конечностей; далее на улицу вступили адвокаты, призванные для оформления наследства; священники, собирающиеся совершать богослужение, и, наконец, живописцы, которым некто заказал множество портретов. В полдень к дому подтянулись 40 торговцев рыбой, они несли треску и крабов, а затем сквозь галдящую толпу стали мужественно пробиваться мясники – им было заказано 40 бараньих ног. Когда всеобщее смятение и ажиотаж достигли невообразимого масштаба, а бедная миссис Тоттенхем пребывала на грани безумия, к дому подъехал лорд-мэр собственной персоной, в роскошной карете, на запятках которой красовались лакеи в шелковых чулках, шляпах с плюмажем и в париках.
Однако Хук для своей затеи планировал привлечь и других, более высокопоставленных лиц. Вслед за лорд-мэром пожаловал президент Английского банка[517]: он прибыл, поскольку получил письмо, в котором говорилось, что только лично ему при условии строжайшей секретности миссис Тоттенхем раскроет тайную схему мошеннических подлогов, придуманную младшими клерками с улицы Треднидл[518]. Аналогичным письмом был вызван президент Ост-Индской компании[519]; наконец, на Бернер-стрит явилась особа из королевской семьи – герцог Глостерский. Ему сообщили, что умирающая старушка, бывшая фрейлина матери Его Королевского Высочества, желает перед кончиной конфиденциально поведать ему важную семейную тайну.
Суммарный ущерб от розыгрыша на Бернер-стрит был настолько велик, что было возбуждено специальное расследование. Наибольшие убытки понесли торговцы, честно исполнявшие ложные заказы. Однако заговорщики действовали столь аккуратно, что на след так и не напали, хотя все подозревали, что автором такого сценария мог быть только Теодор Хук. Однако на время разбирательства Хук предусмотрительно уехал из Англии. Много позже он признался в своем авторстве на страницах романа «Гилберт Герни». Он оценил свой розыгрыш без ложной скромности: «По оригинальности замысла и исполнения это было совершенством»[520].
Вся эта гротескная эскапада, как легко заметить, во многом строится по законам литературного произведения: мы имеем дело с городской легендой – это розыгрыш, который уже прошел стадию текстуализации. Отсюда идет повторение чисел – 4000 писем, 40 торговцев рыбой, 40 бараньих ног. Злосчастная Бернер-стрит выступает как топос всемирного столпотворения, сценическая площадка для вселенского карнавала, когда весь мир переворачивается вверх тормашками, а в эпицентре – дом номер № 54. Сценарий появления непрошеных гостей имеет свою подспудную логику – шествие открывают трубочисты, мифологическая роль которых – посланники преисподней, первые нарушители замкнутых границ дома[521]. За ними следуют подводы с углем, звучит брань – для жертвы начинается символический «ад».
Жертва розыгрыша, как Гаргантюа или английский фольклорный персонаж Робин-Бобин, поглощает тонны провизии и пьет пиво бочонками. Она наделяется гротескным карнавальным телом, для лечения которого требуется «целый отряд хирургов».
Миссис Тоттенхем волей шутников превращается в гиперболического потребителя услуг на все случаи жизни: от свадьбы до оформления наследства, предсмертной исповеди и кончины – в сценарии представлены все основные жизненные циклы. Ее обслуживают адвокаты, священники, врачи; она общается с представителями власти, банкирами и членами королевской семьи. Участие высокопоставленных лиц, разумеется, придает дополнительную значимость розыгрышу. Фактически пожилой даме насильно предлагается множество социальных ролей – от заказчика портретов или пациента хирурга до королевской фрейлины, и она вынуждена каждый раз отрекаться от очередного навязанного амплуа.
Общим знаменателем для всех этих разнообразных ролей является роль негостеприимной хозяйки, в дом которой стучатся гости, а она их прогоняет (хотя по древним законам даже незваного гостя надо по-доброму встретить). Негостеприимство в мифах обычно наказывается несчастьями космического масштаба[522], и происходящее вокруг дома № 54 на Бернер-стрит претендует на мировую катастрофу. Рискнем предположить, что поводом для столь грандиозного возмездия был отказ в гостеприимстве по отношению к Теодору Хуку, – тогда ответная акция строится по симметричной логике.
Но не слишком ли тяжелая артиллерия в таком случае направлена против старушки? Что было с ней потом? Ответы на эти вопросы нам неизвестны, но ясно одно: она вошла в историю благодаря тому, чтона нее обратил внимание остроумец. Жестокое обращение с жертвой здесь парадоксальным образом возвышает ее, делает ее участником Игры. Описанный случай, конечно, не совсем типичен в силу своих эпических масштабов, поскольку классический розыгрыш предполагает некое исходное равенство участников, их включенность в одну – достаточно узкую – компанию или социальную группу. Весьма существенно для понимания «правил» розыгрыша, что жертва не имеет права обижаться, иначе она принижает себя, не поддерживая игру, т. е. отказывается от презумпции исходного равенства игроков. Идеальный ответ жертвы – или ответный розыгрыш, или джентльменская невозмутимость. Собственно, настоящий розыгрыш и является тестом на способность адекватно реагировать, поэтому демонстрировать обиду равносильно поражению в игре. Поэтому после розыгрышей не бывает дуэлей (если речь идет о джентльменах) и обманутые предпочитают «верить» в обман, в чем мы убедимся сейчас на примере с «размягченной» черепахой.
В «Автобиографии» прославленного философа лорда Бертрана Рассела приводится эпизод, когда его бабушка «гостила в Нэуортском замке одновременно с Берн-Джонсом[523], чей кисет напоминал по форме черепаху. А в замке жила и настоящая черепаха, и в один прекрасный день она забрела в библиотеку. Это навело молодое поколение на мысль подшутить над старшими. Кисет Берн-Джонса был водворен в гостиной рядом с камином, куда после обеда перешли дамы, которые стали возмущаться тем, что от черепахи теперь нет покоя и в гостиной. Одна из них подняла кисет с пола и тут же закричала, что черепаха «размягчилась»! Лорд Карлайль тотчас принес из библиотеки соответствующий том энциклопедии и сделал вид, будто зачитывает то место, где говорится, что от сильного жара с черепахами такое случается. Бабушка проявила живейший интерес к этому естественно-историческому явлению и при случае охотно его вспоминала; а много лет спустя в пылу спора по поводу гомруля леди Карлайль, по столь ей свойственной сердечной доброте, выложила матери всю правду о тогдашнем розыгрыше. Но бабушка отрезала: «Можешь думать обо мне что угодно, но я не дура и не верю тебе!»[524]
Наиболее благоприятная среда для розыгрышей – сообщество свободных людей со средствами, обладающих досугом и чувством юмора. Сказанное не означает, что розыгрыши невозможны среди бедняков или талантливых авантюристов (вспомним бессмертного Остапа Бендера или неистощимого на выдумки Ходжу Насреддина!), но здесь речь идет об особом типе шуток, понимаемых как чистое искусство, театрализованная забава без всякого материального интереса. Розыгрыш достигает жанровой чистоты в замкнутом социуме, живущем по своим строго определенным правилам. Это ритуал, позволяющий нарушать ритуалы, или, по сути, приемлемый для большинства способ дать выход социальной агрессии в безопасной форме. Из сходных приемов можно назвать грубость в светском обществе, намеренные скандалы, различные формы эпатажа, в том числе через альтернативную одежду. В XX веке подобные приемы были канонизированы художниками и поэтами, устраивавшими перформансы и акции с целью привлечь к себе внимание.
В Англии розыгрыши особенно процветали, поскольку подкреплялись национальной традицией юмора – вспомним знаменитый британский черный юмор, лимерики, современные комические фильмы типа «Летающий цирк Монти Пайтона» (Monty Python’s flying Circus), всегдашние карикатуры на политиков[525]. Сильные позиции юмора в британской культуре, вероятно, – уравновешивающая реакция на господство «здравого смысла», «common sense». (Сходным образом в современной английской моде извечный консервативно-добротный «твидовый» стиль естественно дополняется сильным влиянием авангарда в дизайне одежды – взять хотя бы вещи Джона Гальяно и Александра Маккуина.)
Культура розыгрышей и «практических шуток» продолжалась в Англии и на протяжении XX века. Замечательный пример этой неувядаемой традиции – поведение героев английского писателя Пелэма Вудхауса. Молодой балбес-аристократ Бертрам Вустер собирается отомстить своему приятелю Тяпе Глоссопу за один розыгрыш: «Тяпа, позабыв о долгих годах дружбы, в течение которых он ел мои хлеб-соль, однажды вечером в “Трутне” заключил со мной пари, что я не смогу перебраться на другую сторону бассейна по кольцам, свисавшим с потолка, а затем поступил как настоящий предатель, зацепив последнее кольцо за крюк в стене и тем самым вынудив меня прыгнуть в воду и испортить один из самых удачно сшитых фраков во всей метрополии»[526].
Сразу обратим внимание, что здесь присутствуют ключевые мотивы розыгрыша – «забвение» дружбы и гостеприимства, пари и коварная «подстава». После плавания в бассейне в своем лучшем фраке Бертрам, разумеется, ставит перед собой задачу отомстить Тяпе при первом же удобном случае. Для встречи с Тяпой он готовит водяной пистолет – чтобы тот тоже испытал прелести мокрого костюма – и главное «спецоружие» – светящегося кролика: «О светящемся Кролике я слышал лестные отзывы со всех сторон. Его надо завести и подкинуть ночью в чью-нибудь спальню, где он будет прыгать и светиться в темноте, издавая странные звуки. Надеюсь, Тяпа будет долго заикаться»[527].
Очевидно детский характер игрушек и плана мести не должен никого смущать – в любом розыгрыше есть элементы детских игр. Но детскость розыгрыша, придавая ему невинно-трогательный характер, не исключает жестокости.
Также бросается в глаза, что Вустер выступает на страницах романа как пародийный денди – ведь при падении в бассейн он прежде всего сожалеет, что погиб «один из самых удачно сшитых фраков во всей метрополии». Но, увы, его вкус отнюдь не безупречен, и мудрому дворецкому Дживзу приходится нарочно прожечь утюгом дыру на беломклубном пиджаке Бертрама, только чтобы хозяин прекратил носить его на потеху окружающим. При комическом обмене ролями получается, что дворецкий присваивает себе дендистскую прерогативу хорошего вкуса и иронии, продолжая на свой лад традицию сметливого слуги в духе Сэма Уэллера из «Записок Пиквикского клуба».
В разделе об английском джентльменстве мы уже говорили, что и денди, и джентльмена объединяет любовь к игре, восходящая к аристократическим моделям поведения. Напомним высказывание Хосе Ортеги-и-Гассета из его «Размышлений о технике»: «Игра – роскошь жизни и предполагает заранее обретенную власть над низшими уровнями существования…»[528] Джентльмен может позволить себе игры и розыгрыши, поскольку «он чувствует себя абсолютно уверенным и обеспеченным по отношению к элементарным жизненным требованиям»[529].
Соответственно, джентльмена отличает установка на игру, восходящая к аристократическому стилю жизни. И розыгрыши для любого человека (вовсе необязательно благородного происхождения) – это, по сути, приобщение к этой роскоши, культуре свободных игр свободных людей.
Культура джентльменства также содержит принцип, который является дополнительным по отношению к игре: это требование невозмутимости, о котором мы уже мельком упоминали. Именно это требование невозмутимости канонизировали денди. Денди как подлинный джентльмен должен соблюдать спокойствие, демонстрируя «understatement», сдержанность. Розыгрыш для автора шутки – тренировка в игровой изобретательности, а для жертвы – в невозмутимости. Невозмутимость предполагает и, с другой стороны, уравновешивает игровую энергию.
Однако другой конструктивный принцип джентльменства – требование «честной игры» (fair play) – далеко не всегда применим в традиции розыгрышей. Ведь сплошь и рядом случаются и «нечестные» розыгрыши – внимательный читатель сразу вспомнит и безвинно пострадавшего Снодграсса, и французского маркиза в засахаренном парике. Но все же, на наш взгляд, мелкая «нечестность» розыгрышей покрывается более крупной парадигмой джентльменских игр, не нарушая ее базовых установок. Это нарушение, которое только подтверждает правило[530]. Мелкая «нечестность» – переключатель стилевого регистра, маркер перехода от серьезности к игре: она означает, что на сцене появился трикстер. Это нарушение конвенций на старте, которое входит в условия розыгрыша, воспринимаясь участниками как аксиома, сигнал к последующим игровым действиям. Подобная «нечестность», которую устраивает джентльмен в роли трикстера, может стать прелюдией к сценарию «мировой катастрофы» местного уровня, как хаос на Бернер-стрит.
Но чтобы далее розыгрыш по-настоящему сработал, существенно соблюдение нескольких условий. Итак, каковы же признаки классического розыгрыша?
1) Участники розыгрыша должны входить в один круг, компанию или хотя бы принадлежать к одной социальной группе. Тогда обеспечено дружеское взаимопонимание. Розыгрыш достигает жанровой чистоты в замкнутом социуме, живущем по своим строго определенным правилам. И напротив, если розыгрыш выходит за пределы этого замкнутого круга, риск непонимания и обид возрастает.
2) Розыгрыш должен быть хорошо подготовлен, даже если это требует значительных усилий. Розыгрыш на Бернер-стрит в этом смысле – классика, но дорожка среди аккуратно расставленных тарелок тоже требует тщательной подготовки[531].
3) Розыгрыш не должен затрагивать жизненно важных интересов или наносить существенный ущерб здоровью, и тут, конечно, всегда есть тонкая грань, которая должна ощущаться автором шутки[532].
Если эта грань не нарушена, то энергия розыгрыша беспрепятственно реализуется в этикетном поле, получая подзарядку от конструктивного противоречия двух взаимодополнительных принципов – «невозмутимости» и «игры».
Как видим, денди успешно пользуются техникой розыгрышей, опираясь на базовый код джентльменства, что косвенно подтверждает его жизнеспособность как авторитетной культурной парадигмы.
Постскриптум: российские розыгрыши
В заключение отметим, что и в российской жизни розыгрыши бытуют не только первого апреля[533]. Признанными мастерами розыгрышей в свое время считались композитор Никита Богословский, Фаина Раневская, Аркадий Райкин, Марк Бернес. В 1960-е годы своими розыгрышами прославился Леонид Алахвердов, член ансамбля «Дружба», в котором пела Эдита Пьеха. Алахвердов осуществлял розыгрыши, которые сейчас, когда все боятся потенциального терроризма, кажутся немыслимыми: инсценировал захват самолета, вел «переговоры» с диспетчером по радио, за что сразу попал в соответствующие органы, и друзья еле вызволили его. Впрочем, в розыгрышах Алахвердова ощутима ирония как раз над самим фактом запуганности людей:
«В одной из центральных московских гостиниц поздно вечером, сидя в уютном номере со своими друзьями, Алахвердов намекнул им о полной радиофикации стен. Заключив с кем-то пари, он подошел к вентиляционной решетке и громко попросил принести им шампанского (взгляд на часы) через десять минут. Четко в срок – стук в дверь. Официант при полной амуниции с поклоном вносит бутылку с фужерами и молча удаляется. Все присутствующие в шоке (речь идет о временах ранней эпохи застоя). Леонид, заблаговременно оплативший официанту этот заказ на 23.00, с удовольствием пересчитывает выигрыш, а проигравший лезет на стену в прямом смысле, к решетке. Открутив шурупы, он нашел там микрофон с проводом, на конце которого болталась записка: «Не там ищешь»[534].
У. Теккерей. Портрет Сиднея Смита
VIII. Гендерные игры
Денди и женщина: метафизика пола
Невозможно понять внутреннее напряжение дендизма, исключив гендерные аспекты. В дендизме очень часто происходит размягчение культурных границ женского и мужского, бесконечное двоение и игровое присвоение эмблематических свойств противоположного пола. Денди не боятся иронически акцентировать свою женственность, даже если это может свидетельствовать об изнеженности или слабости. А изысканность нарядов, тщательный уход за собой и длительное время, отводимое на туалет, разумеется, давали повод для всяческих насмешек и намеков… Даже у Пушкина сказано об Онегине:
Он три часа по крайней мере Пред зеркалами проводил И из уборной выходил Подобный ветреной Венере, Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в маскарад[535].Впрочем, сравнению с ветреной Венерой порадовались бы далеко не все денди. Некоторые из них весьма жестоко третировали светских женщин, критикуя их наряды, а порой денди позволяли себе издеваться и над учеными дамами. Лорд Байрон, к примеру, вспоминал, как денди разыграли мадам де Сталь, которая гостила в Англии и, кстати, очень боялась неодобрения Браммелла по поводу своего внешнего вида. «Они уверили мадам де Сталь, что Алванли имеет сто тысяч фунтов годового дохода и т. п., а она стала в глаза хвалить его красоту! и ловить его в мужья для Альбертины (“Либертины”, как окрестил ее Браммелл, хотя бедняжка была и осталась примерной, как только может быть девушка или женщина, и к тому же очень милой)»[536].
Марлен Дитрих. 1932 г.
Пожалуй, единственный тип женщин, который они признавали достойным своей компании, – женщины андрогинного плана, способные к перевоплощениям. Идеальный пример такой женщины – Сара Бернар, преуспевавшая в мужских ролях. Из современных образцов подобного типа можно вспомнить Марлен Дитрих, в чьей красоте ощутим андрогинный оттенок. Режиссер Джозеф фон Штернберг, создавший экранный имидж Дитрих, проницательно замечал: «На всех фотографиях она выглядит как некто, переодетый женщиной»[537].
Традиционные дамы, будь то куртизанка или синий чулок, нередко удостаивались весьма нелестных отзывов. Так, Бодлер писал, что женщина вульгарна и потому составляет полную противоположность денди. В этих заявлениях, правда, явно проглядывает несколько искусственный надрыв, что вполне объяснимо: уж слишком дорого обходились самому поэту его отношения с женщинами. Любопытно, однако, что в своих экспериментах с феминизацией внешности Бодлер порой заходил дальше других: носил длинные кудри, розовые перчатки, отращивал ногти. По мнению Сартра, в образе Бодлера совершается незаметный переход от мужественного дендизма к женскому кокетству. А если сформулировать это различие в историческом плане, то это скорее переход от пуристского неоклассицизма английских денди первого периода с их акцентом на мужественность и традиционное джентльменство, к традициям более эстетского и игривого щегольства середины века, от которого уже тянется ниточка к элитарно-дерзкому декадансу fin de siècle, жаждущему познать всю гамму пряных чувственных наслаждений.
Если искать примеры дендистской эротической раскованности, то сразу на ум приходит история графа д’Орсе. Он был знаменит не только как один из наиболее элегантных людей своего времени, но и благодаря двусмысленным отношениям, которые связывали его с семейством лорда и леди Блессингтон[538]. Многие видевшие графа д’Орсе отмечали пикантную женственность его облика: волнистые каштановые волосы, яркие тона в одежде, выделявшиеся на фоне общей темной гаммы мужского костюма, любовь к длинным золотым цепочкам, белые французские перчатки и, наконец, «невидимые панталоны “inexpressibles“ телесного цвета, облегающие как перчатка». Мужчины осуждали его костюм как чересчур откровенный и дамский, однако сами дамы были без ума от графа д’Орсе.
Толика женственности в идеальном мужском образе, очевидно, была необходимой составляющей дендистского шарма. Привкус «иного» (даже не столь существенно, в каком именно аспекте) всегда будоражил воображение. Так, если взять эффект «иного» в национальной культуре, то здесь в дендизме срабатывает очень сходная логика. Для того чтобы прослыть настоящим щеголем, во Франции требовалось иметь репутацию англомана, а в Англии, наоборот, самым верным рецептом хорошего тона нередко считалась абсолютная приверженность ко всему французскому.
Можно привести примеры, когда женственность выходила в телесном облике денди на первый план. Капитан Гроноу описывает известного щеголя эпохи Регентства сэра Ламли Скеффингтона, который до конца своих дней следовал моде макарони и «так любил раскрасить свое лицо, что выглядел как французская куколка; он одевался а-ля Робеспьер и совершал прочие глупости… Скеффингтон славился своими вежливыми изысканными манерами; его повсюду приглашали, причем особенно его привечали дамы. О его приближении всегда можно было догадаться по витающим в воздухесладким запахам; а когда он подходил ближе, казалось, что Вы очутились в парфюмерном магазине»[539].
Эта манера одеваться и душиться характерна скорее для щеголей XVIII века и в эпоху романтизма воспринималась уже иронически, недаром Байрон в «Английских бардах и шотландских обозревателях» рисует саркастический портрет Скеффингтона, недвусмысленно намекая на его «голубые» склонности. Однако, исходя из отдельных примеров, опасно делать широкие обобщения. Многие денди оставались холостяками, что, впрочем, еще не дает оснований для поспешных выводов об их поголовном гомосексуализме.
А что же можно сказать об отношении к женщинам основоположника дендизма?
Все знавшие Браммелла отмечали его удивительную холодность в отношениях с женским полом. Он мог быть светски любезным, остроумным, писать галантные послания в стихах, но никто никогда не видел его в роли пылко влюбленного. Одно время ходили слухи о его помолвке, но Браммелл вскоре рассеял это заблуждение, объявив, что не может вынести вульгарности предполагаемой невесты, поскольку она слишком любит капустную похлебку.
Для многих денди завести роман считалось чуть ли не обязательным атрибутом светского времяпрепровождения. Однако мистер Требек, герой романа Листера, прототипом которого послужил Браммелл, признавался: «К сожалению, в моем случае скорее уместно слово “равнодушие”. Это действительно мой недостаток… Я могу вести беседу, смеяться и волочиться за дамами, занимаясь легкомысленными шутками и бесчисленными милыми пустячками, принятыми в обществе. Но это просто по привычке или от праздности, а на самом деле дамы не возбуждают во мне никакого интереса, и они, кажется, чувствуют это…»[540]
Браммелл и впрямь оставался в стороне от амурных интриг, и даже самой известной светской куртизанке Хэрриет Уилсон не удалось привлечь его своим кокетством. Позднее в письмах она с негодованием отзывалась о «равнодушии» Браммелла, да и многие другие дамы отмечали его холодность, ледяную вежливость, предотвращающую любые намеки на флирт. Биограф Браммелла капитан Джессе резюмировал: «Он слишком любил себя, чтобы любить других».
Барбе д’Оревильи, сравнивая его с маршалом Ришелье, фиксировал контраст между ними: «Ришелье слишком похож на татарских завоевателей, которые делали себе ложе из сплетенных женских тел. Браммелл никогда не гнался за подобными трофеями; его тщеславие не было закалено в горячей крови… И его тщеславие не страдало от этого; напротив! Оно никогда не сталкивалось с иной страстью, которая бы ему мешала или уравновешивала его; оно царило в одиночестве и было тем могущественнее: любить, даже в наименее возвышенном смысле этого слова – желать – всегда значит зависеть и быть рабом своего желания. Самые нежные объятия – все же оковы, и будь Вы Ришелье, будь Вы даже самим Дон-Жуаном – знайте: разрывая столь нежные объятия, Вы рвете лишь одно звено своих оков. Вот рабство, которого избежал Браммелл»[541].
Барбе здесь подчеркивает очень важное отличие: денди превыше всего ставит собственную независимость, и потому лавры Дон Жуана вовсе не всегда ему к лицу. Не все денди так четко воплощают это стремление к самодостаточности – Браммелл в этом смысле просто самый чистый образец. Другие же, как, например, Бодлер или бальзаковский герой Анри Де Марсе, превосходно сочетают обе линии, покоряя женские сердца и не утрачивая дендистского нарциссизма. Особенно легко возникает естественное соединение этих качеств, когда мы имеем дело с денди-эстетом. Впечатляющий портрет денди-эстета XX века дан в романе Лоренса Даррелла «Бальтазар» (1958).
«Амариль был большой оригинал и, ко всему, в некотором роде денди. Серебряные дуэльные пистолеты, гравированные визитные карточки в изысканном футляре, костюм – верх элегантности в сочетании с последним писком моды. Дом его был полон свечей, а писал он по преимуществу белыми чернилами на черной бумаге. Наивысшим из возможных наслаждений для него было: обладать изысканной женщиной, призовой борзой или же парой непобедимых бойцовых петухов. Но человек он был при всем том вполне сносный, не лишен был интуиции как диагност и терапевт, так что о маленьких его романтических причудах можно было и забыть. Главной его страсти, страсти к женщинам, трудно было не заметить: он одевался для них»[542]. Как видим, это не просто денди-эстет, но еще и вдобавок дендидонжуан! Женщины для него выступают и как объект завоевания, и как зеркало его эстетических совершенств.
Леонид Геллер в статье «Печоринское либертинство» проводит сравнение между денди и либертином. Либертин – эротическийавантюрист XVIII века, проповедующий циническую мораль вседозволенности: самый яркий пример либертинской литературы – роман Шодерло де Лакло «Опасные связи».
«Эти две модели поведения часто сочетаются, но тем не менее они не совпадают. Основа и того и другого – стремление к личной свободе. Говоря грубо, оба они, опираясь на те же принципы, реализуют их по-разному… Первый принцип – удовольствия, удовлетворения желаний как цель жизни; но либертинство может быть коллективным, оргиастическим (пример: утопия Фурье); дендизм же только индивидуален, он воплощает эготизм (термин Стендаля) – нарциссизм, культ себя как цель жизни. Второй принцип устанавливает эквивалентную взаимосвязь внешнего (одежда, жесты) и внутреннего (поведения кода отличия). Но денди может и в лохмотьях сохранять изящество, сохраняя свое превосходство; либертин же необязательно отмечает свое отличие вне любовной ситуации… Наконец, третий принцип: свобода от светских условностей для утверждения себя; но денди самодостаточен: это обожествление индивида для самого себя, объективация себя, тогда как либертин не может обойтись и не может утвердить себя вне отношений власти: он должен обладать другим, т. е. подчинить своей власти»[543].
Тут следует оговорить, что для денди светская власть ничуть не менее важна, чем для либертина – эротические победы. Власть денди менее физически конкретна, но не менее жестка. Но оба для достижения своих целей готовы идти на цинические манипуляции окружающими. В отличиях денди от либертина конкретизируются антиномии Барбе д’Оревильи: нарциссизм денди действительно во многом исключает для него целый ряд любовных приключений; для настоящего денди они – просто лишние утомительные хлопоты, отвлекающие от «заботы о себе».
Какие женские типы в таком случае лучше всего соответствуют денди, вписываются в дендистское пространство? Вероятно, это должна быть спокойная, уравновешенная женщина, партнер по светскому времяпрепровождению, однако не провоцирующая на эротические эскапады. Для Браммелла подобными женщинами-друзьями были герцогиня Девонширская и особенно герцогиня Йоркская, которая больше всех помогала ему в изгнании и для которой он во Франции расписывал экран.
В российском журнале «Дэнди» в 1910 году появилась любопытная статья под заголовком «Дама», принадлежащая перу Г. фон Больё[544]. В ней дан характерологический очерк «дамы» в сравнении с «женщиной». Дама консервативна и настроена в антифеминистическом духе. В противоположность «женщине» она довольствуется традиционной моделью семейных отношений и не собирается отстаивать свои особые права. Но, парадоксальным образом, ее позиция базируется на чувстве незыблемого превосходства над мужчинами – по сути дела, она их ни в грош не ставит. Не скрывая собственной иронии, автор живописует даму: «Признавая пользу мужчины в качестве слуги, работающего на нее, дама все-таки презирает его… Работа делает его таким грубым и неизящным! Ей непонятна его серьезность, его стремление к разрешению неразрешимых проблем, ее отталкивает страстность его чувств. Отношения между полами всегда полны отчужденности и непонимания… но у дамы совершенно отсутствует склонность к патетическим примирениям с врагом, всякое стремление к духовному сближению. Мужчина всегда ей чужд и антипатичен. Она нисколько не стремится понять его и не требует, чтобы он понимал ее. Поэтому она так хорошо уживается с мужем, так как в их жизни отсутствует трагический элемент, портящий семейные отношения»[545].
Весьма примечательно, что столь уничижительный для мужского пола опус появился на страницах журнала «Дэнди». Ведь «дама» – партнер денди по светской жизни. Во всяком случае, все приятельницы Браммелла, с которыми он любил мило болтать (порой ради этого покидая общество джентльменов-охотников), – именно дамы: герцогиня Йоркская или леди Бессборо. Третирование мужчины как предмета – это уже, конечно, черта буржуазной дамы-обывательницы. Но ведь и сами денди приложили руку к превращению мужчины в вещь – просто к XX столетию эта «предметность» уже выступает как чистая функция материального обеспечения семьи.
Джорджиана, герцогиня Девонширская: лидер моды
Джорджиана, герцогиня Девонширская, урожденная Спенсер, была одной из самых знаменитых женщин своей эпохи[546]. Она родилась 9 июня 1757 года в семье графа Джона Спенсера. Из этого же рода, кстати, происходят и другие известные красавицы – леди Каролина Лэм, принцесса Диана[547] и модель Стелла Теннант.
В возрасте 17 лет Джорджиана вышла замуж за герцога Девонширского и начала вести светский образ жизни. Благодаря редкому обаянию и вкусу она вскоре стала образцом элегантности, настоящим лидером моды, и все новинки стиля, которые молодая герцогиня демонстрировала в своих нарядах, – туники, плюмажи – называли ее именем. Даже цвет ее экипажа послужил для названия нового оттенка – «девонширский коричневый»[548].
Джорджиана принадлежала к особой породе женщин – смелых, эксцентричных, благородных, которые не боятся рисковать и брать от жизни все, при этом щедро делясь с окружающими. Такие личности обычно привлекают прежде всего за счет своей харизмы, а уж если к тому же они наделены безукоризненным вкусом, то имеют все шансы попасть в историю моды. В мемуарах их имена всегда мелькают особенно часто, мерцая таинственным светом. Их любят писать художники, вокруг них всегда собирается кружок интеллектуалов. Вероятно, подобный характер подразумевает особую пропорцию шарма, ума, стиля и самоотверженности, но высчитать ее еще никому не удавалось. В XIX веке такую репутацию имели, к примеру, мадам Рекамье, изображенная на знаменитых портретах Жерара и Давида, а на рубеже XIX–XX веков – Лу Андреас-Саломе и Мися Серт.
Джорджиана, герцогиня Девонширская. Гравюра по портрету Т. Гейнсборо
В народе Джорджиану называли «красавица-герцогиня», хотя близко знавшие ее люди говорили, что магический эффект ее внешности возникает в первую очередь благодаря ее личному обаянию. «Где бы она ни была, мужчины и женщины становятся ее верными рабами» – вот типичный отзыв о Джорджиане. Согласно лорду Роксаллу, «герцогиня Девонширская не претендовала на всеобщее восхищение, но это лишь усиливало ее привлекательность. Ее красота не сводилась к правильным чертам лица или к безукоризненной фигуре; она заключалась в ее любезности и грации, в ее прелестных манерах и очаровательном обхождении. Ее волосы отливали красновато-рыжими тонами, у нее было довольно приятное лицо, но если бы в нем не отражался ее живой ум, ее внешность можно было бы счесть заурядной»[549]. Герцогиня позировала для портретов двум самым знаменитым живописцам своей эпохи – сэру Джошуа Рейнольдсу и Томасу Гейнсборо, а миниатюрные гравюры и медальоны с ее изображением были необычайно популярны как среди мужчин, так и женщин.
Ее слава и любезное обращение привлекали в девонширское поместье толпы поклонников и гостей, и тамошние балы всегда были видными светскими событиями[550]. Среди постоянных посетителей были предводитель вигов Чарльз Фокс, философ Эдмунд Берк, щеголь-остроумец Джордж Селвин, драматург Р.Б. Шеридан, денди Джордж Браммелл и другие знаменитости. Но за чашкой чая нередко обсуждались не только светские новости, но и ключевые решения в политике вигов.
Многие поэты посвящали ей галантные строчки, специальные «стихотворения на случай» писались по поводу ее новых нарядов или домашних собачек. Когда она придумала высокий головной убор, изящно украшенный перьями, художник Д. Хоппнер немедленно запечатлел ее с этой новинкой, а лорд Карлайль сочинил остроумную оду, в которой обыгрывал мифологическую символику перьев:
When on your head I see those fluttering things, I think, that love is there, and claps his wings. Feathers helped Jove to fan his amorous flame, Cupid has feathers, angels wear the same. Since then from heaven their origin we trace, Preserve the fashion, it becomes your Grace[551]. Когда я вижу на Вашей головке эти прелестные перья, Я думаю, что это крылья самой любви. Перья помогли Юпитеру разжечь любовное томленье, Купидон и ангелы носят оперенье. И поныне перья означают небесный полет, Сохраните эту моду – она Вам идет.Все новинки стиля Джорджианы немедленно становились предметом подражания. После того как герцогиня обзавелась страусовым пером длиной в 4 фута, конкуренткам пришлось прибегнуть к экстраординарным мерам: «Но где же достать перья такой длины? Соперницы Джорджианы тщетно рыщут по всему городу, покуда им не удается уговорить владельца похоронной конторы продать им громадные колышущиеся плюмажи с верхушки его катафалка»[552]. Зато потом счастливым обладательницам длинных перьев приходилось соблюдать немало предосторожностей: ездить в каретах без сиденья, примостившись на полу (иначе головной убор не помещался в карете), а на балах держаться подальше от канделябров, чтобы перья не загорелись.
В другой раз Джорджиана появилась в опере в открытом платье из тонкого муслина с кружевной отделкой, которое подарила ей королева Франции Мария-Антуанетта. Все дамы из светского общества тут же стали копировать этот фасон. Так в 1784 году в Англии возникла мода на неоклассические туники, которая продержалась довольно долго – еще три десятилетия.
Поводом для подражания становились не только наряды герцогини, но даже ее манера говорить. В ее доме существовал особый семейный жаргон – «slanguage», который модники окрестили «Devonshire drawl»: например, слово «yellow» произносилось «yaller». Почти все члены семейства имели свои прозвища: герцога прозвали Canis за любовь к собакам, старшую дочь – Little G, а младшую Hary-O.
Во время парламентских выборов 1784 года Джорджиана активно агитировала за своего друга Чарльза Фокса, за что получила прозвище «герцогиня Фокса». Она разъезжала с сестрой в своем великолепном экипаже по самым бедным районам Лондона.
Здесь с ней случилась история, давшая повод для множества пересудов. Мясник с Ньюпортского рынка попросил позволения поцеловать ее, и она согласилась. Чего не сделаешь в пылу предвыборной кампании! Пуристы-тори, конечно, осуждали вольность герцогини, но виги во главе с Фоксом с энтузиазмом восприняли ее поступок, ссылаясь на примеры героических женщин античности. Позднее Барбе д’Оревильи с тайным восхищением писал об «увлекающейся и странной герцогине Девонширской, которая писала стихи на трех языках и не брезговала целовать своими патрицианскими губами лондонских мясников, чтобы привлечь лишние голоса на сторону Фокса»[553].
Во время этих «вылазок в народ» она пожинала плоды своей славы – ведь даже простые люди мгновенно узнавали ее по миниатюрным портретам, которые в то время продавались повсюду. Блеск ее глаз привел в восторг угольщика, который сказал, что от ее огненного взора можно разжечь трубку. Этот комплимент Джорджиана считала самым лучшим в своей жизни.
Герцогиня была образованной дамой и свободно говорила на нескольких европейских языках, писала стихи по-французски и поитальянски, переводила сонеты Петрарки. Ее стихотворения выходят за рамки традиционной салонной поэзии – недаром ими восхищался крупнейший поэт английского романтизма С.Т. Колридж и даже посвятил ей в 1799 году оду, написанную в ответ на ее стихотворение «Переход через Сен-Готар». А аббат Делиль, автор «Садов», перевел этот текст Джорджианы на французский.
Другой общеизвестной чертой герцогини была ее склонность к благотворительности. Она покровительствовала одаренным людям – в ее доме несколько лет жила романистка Шарлотта Смит[554], которую она приютила после того, как муж Шарлотты обанкротился и попал в тюрьму за долги. Аналогичным образом она помогала многим нуждающимся талантам.
Семейная жизнь Джорджианы долгое время служила поводом для досужих догадок. Вероятно, герцог, будучи по природе очень холодным человеком, не мог удовлетворить ее потребность в любви. Молва приписывала Джорджиане связь с графом Чарльзом Греем, однако биографы не располагают никакими достоверными фактами на сей счет. Тайной покрыты и ее отношения с леди Элизабет Фостер – светской дамой, которую герцогиня повстречала в Бате. Леди Элизабет, или Бесс, как ее называли, вскоре стала ближайшей подругой Джорджианы и членом семьи в Девонширском поместье. Став любовницей герцога, она не утратила дружеского расположения Джорджианы, и этот своеобразный ménage à trois продолжался 25 лет. В 1789 году приятельницы вместе посетили Париж как раз в разгар революционных событий.
Было бы в высшей степени некорректно делать здесь скоропалительные заключения; скажем лишь, что примеры подобных нетривиальных союзов известны – достаточно вспомнить о семейном треугольнике лорда и леди Блессингтон и графа д’Орсе. Очевидно, Джорджиана с ее удивительным тактом сумела так построить отношения, что не потеряла ни мужа, ни подруги. Дети Джорджианы и Бесс воспитывались вместе.
У Джорджианы было двое детей, и она сама занималась их воспитанием, не доверяя их попечению нянек и кормилиц, как в то время было принято в знатных домах. Публика считала это очередной экстравагантной причудой герцогини, но тот же Колридж, который был многодетным отцом, писал о материнских чувствах Джорджианы с пониманием и одобрением.
Последний штрих к портрету Джорджианы – увлечение карточными играми: она особенно любила фараон и могла сидеть за картами вечерами напролет, делая крупные ставки. Герцог оплачивал все ее карточные долги, хотя они составляли немалые суммы.
С годами здоровье Джорджианы резко ухудшилось, она почти ослепла на один глаз, и ее пытались лечить по медицинским правилам того времени очень жестокими методами – электрошоком.
Умерла она в возрасте 49 лет 30 марта 1806 года. Овдовев, герцог женился на леди Элизабет – такова была посмертная воля Джорджианы. Так она сама захотела.
Ил. из книги Д. Браммелла «Мужской и женский костюм»
Дамы-денди: освоение стилевых приемов
Зинаида Гиппиус
Зинаиду Гиппиус называли «декадентской мадонной», «дерзкой сатанессой» и даже «ведьмой». Это весьма почтенные женские амплуа, но по стилю ее жизнетворчества видно, что она также умело пользовалась стилевыми приемами денди для создания запоминающегося образа.
В мемуарах современников запечатлена ее дендистская манера пользоваться лорнеткой: Гиппиус была близорука и часто шокировала публику тем, что прикладывала к глазам лорнетку и бесцеремонно в упор разглядывала собеседника. Поэтесса Ирина Одоевцева вспоминает эпизод своего первого знакомства с Гиппиус: «Она, улыбаясь, подает мне правую руку, а в левой держит лорнет и в упор разглядывает нас через него – попеременно – то меня, то Георгия Иванова. Я ежусь. Под ее пристальным, изучающим взглядом я чувствую себя жучком или мухой под микроскопом – очень неуютно»[555]. Дискомфорт, который испытывает мемуаристка, типичен для жертв дендистских визуальных игр – денди умели смутить взглядом[556].
Валерий Брюсов был поражен попыткой Гиппиус воспроизвести старинный жанр приема во время одевания (petit lever). «Я, согласно с письмом, явился к ним в 12 часов. Вхожу и первое, что вижу, – раздетой Зинаиду Николаевну. Разумеется, я постучался, получил “Войдите”, но зеркало так поставлено в углу, что в нем отражается вся спальня. “Ах, мы не одеты, но садитесь”. Поговорили из комнаты в комнату, потом Зиночка (это, кажется, ее единственное общепринятое имя) вышла. – “Я причесываться не буду. Вы не рассердитесь?” На самом деле, если бы она и не причесывалась, то все же собрала свои волосы искусно à la chinoise[557]…» В этом эпизоде Брюсов невольно оказывается в роли капитана Джессе, подглядывающего за туалетом Браммелла в зеркало. Деланая небрежность Гиппиус – типично дендистская манера; впрочем, и при полном туалете эта дама заботилась о том, чтобы не остаться незамеченной: «Вечером мы были у Соловьевых… Зиночка была опять в белом и с диадемой на голове; причем на лоб приходился бриллиант… „Я не знаю Ваших московских обычаев. Можно ли всюду бывать в белых платьях? Я иначе не могу. У меня иного цвета как-то кожа не переносит. В Петербурге так все меня уже знают. Мы из-за этого в театр не ходим, все на меня указывают“»[558]. Не комментируя восхитительный тон наигранной наивности, заметим лишь, что белые платья и диадема на голове – отсылка к ампирной моде, которая в начале XX века как раз переживала второе рождение.
Модная иллюстрация 1920-х годов. Андрогинный стиль
Наиболее ярко дендистский образ поэтессы был реализован в знаменитом портрете кисти Бакста (1906), для которого она позировала в кюлотах и батистовой манишке щеголя XVIII века, с пышной прической и надменным выражением лица. Этот портрет всем казался в те годы «фантастически неприличным и скандальным»[559], и дело здесь было не столько в костюме, открывающем ноги, сколько в самом факте переодевания женщины в мужское платье. Гиппиус удалось тонко задействовать весь потенциал культурного шока, заложенный в дендистской андрогинности, причем если мужчин-денди обычно обвиняли в излишней женственности, то здесь, напротив, женщина как будто «присвоила» себе символические атрибуты мужественности – и свободный костюм, и раскованную позу, и высокомерный взгляд. Однако в этом у Гиппиус были предшественники и последователи – Жорж Санд любила прогуливаться по Парижу в мужском платье, а в 1930-е годы Марлен Дитрих ввела моду на брючные костюмы.
Денди и Мадемуазель
Легенда приписывает Мадемуазель Шанель славу изобретения короткой стрижки для женщин в 1917 году. Все произошло, конечно же, чисто случайно: «Она должна была поехать в Оперу… Ее газовая колонка взорвалась. Она отделалась несколькими подпаленными прядями. Сначала Коко подумала отказаться от приглашения, но потом, взяв большие ножницы, обрезала свои косы. Оставалось только помыть голову… В Опере немедленно заметили, что она подстриглась»[560]. Этот случай весьма напоминает происшествие, благодаря которому на свет появился укороченный фрак спенсер, – находчивый лорд решительно отрезал фалды, после того как одна обгорела в камине.
Поразительное сходство обеих романтических историй наводит на мысль о глубинном сходстве дендистских новаций и реформаторских жестов Шанель. Она, пожалуй, и впрямь единственная фигура в истории моды, которую можно адекватно сравнить с Браммеллом.
Их сближает не только тот факт, что оба усиленно занимались жизнетворчеством и способствовали мифологизации собственной жизни, но прежде всего удивительная стилевая интуиция. Они чувствовали, что будущее – за простым, экономным силуэтом, что современный костюм должен быть универсальным для разных ситуаций и достаточно комфортным.
Знаменитый костюм Шанель возник во многом благодаря влиянию английской мужской моды. Великая Мадемуазель впервые использовала плотный трикотаж джерси и адаптировала свободный фасон спортивных пуловеров для женской одежды. Получился лаконичный костюм, строгий, но не стесняющий движений. Этот костюм фактически нивелировал социальные различия.
И про Браммелла, и про Шанель говорили, что они навязали миру «снобизм мнимой бедности». Но суть кроется в том, что Шанель, как и английский денди, пропагандировала сдержанный стиль, развивая принцип «conspiсuous inconspiсuousness». Только на языке моды XX века это стало называться «understatement», сдержанная манера (кстати, она до сих пор считается типической чертой национального английского характера).
В женской одежде идеальный образец «сдержанности» – прославленное «маленькое черное платье» Шанель, которая во многом действовала под влиянием английской мужской моды. Именно Шанель давала своим состоятельным клиенткам совет одеваться как служанки. В этом известном афоризме кроется софистический парадокс: для того, чтобы создать впечатление «изысканной простоты», надо иметь немалые средства и для начала иметь служанок.
В том же духе Шанель рекомендовала делать ставку на бижутерию, а если у дамы имеются настоящие драгоценности, то носить их так, как если бы они были бижутерией, – небрежно и вперемешку. Этот образ стал популярен в 1930-е годы, во времена Великой депрессии в США. Аналогичный прием потом стал использоваться людьми среднего сословия, желающими показать, что они просто «не хотят» выряжаться.
Шанель говорила: «Нужно, чтобы поняли, что драгоценности – это орнамент, а не состояние, которое носят с собой»[561]. Драгоценности, таким образом, перестают быть знаком богатства, а функционируют в чисто декоративных целях. Здесь Шанель и Браммелл расходятся: для Браммелла золотая цепочка от карманных часов была непременным атрибутом джентльмена, а в его коллекции табакерок преобладали экземпляры из самых драгоценных материалов, крышки были порой украшены бриллиантами. Владение настоящими драгоценностями, подлинными антикварными вещами подкрепляло его светский статус и делало его своим в кругах британских аристократов.
И Браммелл, и Шанель по своему социальному происхождению принадлежали к малообеспеченным буржуазным кругам. Оба благодаря личной незаурядности вошли в среду знати, но в то же время презирали аристократов за безвкусицу туалетов и, что весьма характерно, за то, что они якобы «грязные». «Меня спросили, что я думаю о Полин де Сен-Совер. Я сказала: “Она выглядит злой, жестокой и грязной. У нее в волосах рисовая пудра. И такой грубый, резкий профиль…”»[562]
Повторяющиеся тирады Коко против «грязных» аристократок весьма напоминают браммелловские выпады против гигиенических привычек английских лордов XVIII века (даже упоминание рисовой пудры в этом контексте симптоматично – оба ненавидели пудру и парики). И Браммелл, и Шанель нередко наносили своим жертвам публичные оскорбления. Даже стиль подобных обличений поражает сходной интонацией расчетливой агрессивности. Это тон людей, обнаруживших, что в светском обществе немало мазохистов, готовых аплодировать своим мучителям. А если садист к тому же играет на разнице в социальном статусе, то взаимное удовольствие только возрастает.
В центре садомазохистских отношений – проблема власти, а для людей, диктующих моду, это прежде всего власть над светской толпой. «Мы сидели в ложе, – вспоминает Шанель. – В ту пору цвета туалетов были отвратительными. Посмотрев на зал, я, смеясь, сказала Фламану: “Это невозможно! Все эти цвета ужасны, они уродуют женщин. Я думаю, надо одеть их в черное”»[563]. Коко выполнила свое намерение: с ее легкой руки уже со следующего сезона в модных нарядах начал доминировать черный цвет, который теперь потерял традиционное значение траура и стал восприниматься как элегантный цвет благородной сдержанности.
Однако в мужском костюме аналогичная революция произошла веком раньше, и провозгласил ее, как мы знаем, Джордж Браммелл. Именно он давно настойчиво советовал Георгу IV отказаться от цветных фраков для вечерних приемов. Влияние его идей со временем повсеместно распространилось и на повседневный костюм. Постепенно «заметная незаметность» как принцип экономии восторжествовала в мужской моде – в итоге парадный аристократический костюм XVIII века в XIX резко меняет свою социальную функцию и становится уделом лакеев[564]. Для женщин в моде только великая Мадемуазель веком позже сделала то, что для мужчин – великий денди Браммелл.
Жаклин Кеннеди
В 1960-е годы сердца публики завоевала женщина, которую по праву можно назвать денди нашего времени. Это Жаклин Кеннеди. Жаклин появлялась в элегантных костюмах-двойках, состоящих из платья с круглым вырезом и приталенного жакета с рукавами в три четверти, в туфлях на невысоком каблуке и с узкими носками. Она коллекционировала черные очки и дизайнерские сумочки, а ее знаменитая прическа от Баттелля и пилотки от Халстона стали знакамиее личного стиля. Своему модельеру Олегу Кассини она запрещала повторять сшитые для нее платья, чтобы всегда сохранять оригинальность: «Я не хочу, чтобы какая-нибудь низкорослая толстушка разгуливала в копиях моих костюмов».
Жаклин всегда особо заботилась о своем имидже и не позволяла фотографировать себя беременной или с сигаретой. Она была возмущена, когда Дом Диор без ее ведома нанял актрису Барбару Рейнольдс, во всем на нее похожую (ее нашли через агентство двойников), и использовал ее для своей рекламной кампании. Жаклин удалось выиграть судебный процесс, настояв на собственной неповторимой индивидуальности. В ее имидже доминировали спокойный шарм, достоинство, приветливость в сочетании с легкой отчужденностью, не говоря уж о безусловном личном обаянии. В своей незаконченной автобиографии Жаклин пыталась особо подчеркнуть свое аристократическое происхождение, хотя ее претензии были не вполне документально обоснованными.
Эстетические пристрастия Жаклин обнаруживали серьезный дендистский уклон – ее привлекали Бодлер и Оскар Уайльд, Дягилев. Став хозяйкой Белого дома, она коренным образом поменяла обстановку и внутренний дизайн резиденции, внеся в традиционную американскую безликую роскошь европейскую утонченность.
Особый случай – женские переодевания в мужские костюмы. За этим стилевым приемом могут, однако, скрываться разные культурные смыслы. В XIX веке мужской костюм давал возможность женщине освоить недоступные ей пространства и роли: авантюристке Ирен Адлер, героине Конан Дойля, удалось обмануть самого Шерлока Холмса благодаря умелому переодеванию в мужское платье, а Сара Бернар успешно играла Гамлета в элегантном черном костюме. В Англии большой известностью пользовалась актриса Веста Тилли (1864–1952). Она выступала на сцене мюзик-холла в мужском костюме и имела бурный успех.
Жозефина Бейкер в мужском костюме
В XX столетии символические игры с мужским костюмом активно продолжили художницы. Ромэн Брукс предстает в образе денди на своем знаменитом автопортрете (1923), и в той же стилистике выдержан портрет Уны, леди Троубридж (1924). Очевидные лесбийские контексты творчества Ромэн Брукс, вероятно, прочитывались внимательными зрителями: женский образ в искусстве обрел дразнящий привкус андрогинизма. Этот прием – переодевание в изящный мужской костюм – позднее эффектно использовала Марлен Дитрих: дендистский потенциал андрогинной эстетики оказался востребованным в полной мере[565].
IX. Дендизм и стратегии модерна
Дендистское зрение: оптические игры
Je me voyais vu.
Я видел, что на меня смотрят.
Барбе д’ОревильиКультура модерна[566] подразумевает особые визуальные стратегии. Взгляд денди имел очевидное для современников смысловое и ценностное наполнение, и разобраться в этих эфемерных играх давно минувших дней – увлекательная задача для культуролога. Денди как влиятельная светская персона нередко изъяснялся на языке взглядов. Приветственный взор знаменитого денди котировался столь высоко, что Джордж Браммелл мог позволить себе такие шутки: однажды один из его кредиторов напомнил ему про долг, на что денди ответил, что долг давно уплачен. «Но когда?» – «Когда, сидя у окна клуба Уайтс, я кивнул Вам и сказал: “Как поживаете, Джимми?”»[567] Быть замеченным Браммеллом составляло такую честь, что заикаться об оплате долга после этого было попросту бестактно.
Однако полностью понять весь смысл этого эпизода невозможно, не зная, какова была роль клуба Уайтс в ту эпоху[568]. Напомним, что этот престижный клуб располагался в зданиина Сент-Джеймс-стрит, № 37–38; в 1811 году фасад клуба был украшен эркером, и позиция у эркерного окна на первом этаже предоставляла великолепные возможности для обзора улицы. Именно у этого окна любил сидеть в своем любимом кресле Джордж Браммелл, кивая знакомым, наблюдая прохожих и отпуская язвительные замечания насчет их костюмов. Говорили, что посетитель клуба скорее рискнет занять трон в палате лордов, чем кресло Браммелла у окна. Вокруг него неизменно собиралась компания друзей – лорд Алванли, лорд Сефтон, лорд Ворчестер, герцог Аргайл и «Пудель» Бинг. Они на ходу подхватывали любую реплику Браммелла, чтобы затем пересказать светским знакомым. Но на самом деле круг участников этой визуальной игры был еще шире. Зная о том, что в определенные часы Браммелл занимает позицию у клубного окна, многие лондонские щеголи специально шли прогуляться именно по СентДжеймс-стрит, чтобы представить свой костюм на суд всеми признанного арбитра и потом окольными путями разузнать его мнение. Тем самым они как бы удостаивались аудиенции некоронованного короля моды, что само по себе, даже в случае безжалостной критики, содержало момент престижной сопричастности.
Зоотроп. 1835 г.
Другой занятный момент ситуации заключался в том, что Браммелл, благодаря структуре эркерного окна, был сам прекрасно виден с улицы. Он смотрел – но и на него смотрели. Он был, говоря словами Шекспира, «the observed of all observers»[569]. Все проходящие мимо в неспешном ритме могли разглядеть детали его туалета и сверить свой наряд с образцом, оценить последние новации в костюме первого денди. И Браммелл, разумеется, тоже это учитывал, сознательно «подставляясь» изучающим взглядам, с профессиональным удовольствием играя роль модели.
Сильнейший побудительный мотив в визуальных играх – желание быть замеченным, желание небезразличного взгляда. Для щеголей это было особенно важно: один денди признавался, что выходит в Гайд-парк посмотреть на прогуливающихся дам, но «прежде всего, чтобы показать себя, чтобы вызвать восхищение»[570].
Остроумный и остроглазый Браммелл, сидящий вполоборота возле клубного окна, вполне возможно, воспринимался с улицы наподобие манекена в витрине, хотя в начале XIX века манекенов в современном смысле еще не было. (Они появились несколько позже, когда возникли большие универсальные магазины, а в период Регентства источником информации о моде чаще служили картинки в журналах или рисунки с костюмов знатных особ.)
Зрительное желание создавало в зоне перед окном чрезвычайно интенсивное пространство молниеносных обменов взглядами, двустороннюю оптическую плоскость, где мгновенно стирались различия между субъектами и объектами созерцания, наблюдателями и наблюдаемыми. Возникало поле уникальной визуальной напряженности, в котором замыкались и разряжались друг на друге мощные сублимированные влечения – вуайеризм и эксгибиционизм.
В этой игре перекрестных взглядов происходит многослойное вызревание видения: «Надо, чтобы смотрящий сам не был бы чужд миру, который он созерцает. Необходимо, чтобы видение дублировалось дополнительным видением или другим зрением: чтобы на меня самого смотрел Другой, располагающийся извне, в центре зримого мира, который он также в состоянии рассматривать как определенное место»[571]. И Браммелл, и его партнеры-фланеры смотрелись друг в друга, как в зеркала, наслаждаясь и убеждаясь в весомости, реальности собственного тела как видимой вещи. Только в пространстве взаимных взглядов зрение могло функционировать как гриф желания, вектор виртуальной эротики.
«Зрение – это прикосновение взглядом», – писал Морис МерлоПонти[572]. Инициативно-оценочный взгляд Браммелла в данной ситуации, безусловно, воспринимался как сугубо «мужской»: колкий, быстрый, внешне небрежный, пронизывающий, острый, активный, фаллический… А взгляд дефилирующих перед ним, напротив, скорее «женский» – робкий, скользящий, обнаруживающий зависимость от авторитетного мнения, желание нравиться и подражать. Даже когда они пытались на ходу рассмотреть костюм Браммелла, то не могли этого сделать столь же открыто, прицельно и проницательно.
Другой важный метафорический подтекст – взгляд Браммелла как критическая стрела. Отточенный взгляд, за которым следует острое замечание, служил идеальной эмблемой критического ума. Учитывая, что роль критики в эпоху романтизма была необычайно велика (обозреватели из толстых журналов могли создавать и уничтожать репутации – вспомним хрестоматийное «this will never do!» Джеффри по отношению к Вордсворту), нет ничего удивительного в том, что денди фактически играл роль главного критика по моде: язвительный арбитр элегантности, от пристального взгляда которого невозможно укрыться. Не случайно в то время даже литературная критика осмысляла себя через зрительные метафоры: критик-обозреватель, наблюдатель (observer, reviewer).
Генри Латтрелл, известный своими сатирическими стихами, обыграл образ «критической стрелы, выпущенной из Божественного лука в Уайтсе, поражающей с убийственной точностью
Невинных прохожих, Чьи плащи на дюйм слишком длинны или коротки, Не умеющих верно подобрать шляпу, ботинки, панталоны и шейный платок»[573].Аналогия с луком и критическими стрелами подкреплялась очевидной языковой игрой: английское слово «bow» означает «лук», а «bowwindow» – «эркерное окно»[574]. Так что «Heavenly Bow at White’s» удачно прочитывалось сразу в двух смыслах. К тому же по произношению «bow» похоже на прозвище Браммелла «красавчик» – Beau. Сам Браммелл в поздние годы даже сделал рисунок по мотивам этого каламбура, где с горькой иронией изобразил амура со сломанным луком и подписал: «the broken /beau/ bow!» (слово beau в надписи зачеркнуто) – сломанный лук = сломленный красавчик.
О взгляде Браммелла ходили легенды. Знавшие Браммелла всегда отмечали, что он обладал особенным взором: «Пристальный взгляд небольших серых глаз, который мгновенно засекал и оценивал все особенности внешности, костюма и манер собеседника, сразу обнаруживая недостатки». Уильям Хэзлитт назвал его взгляд «тонким и различающим»[575].
Сломанный лук
Рисунок Браммелла
Однако порой этот взгляд мог служить орудием «подколки», и тогда он становился, согласно У. Джессе, «предельно странным»: «Выражение его глаз заставляло усомниться в искренности его слов»[576]. В романе «Грэнби» Т. Листера детально описан взгляд денди в такой момент: «спокойный, рассеянный взор, как бы бессознательно блуждающий вокруг намеченной жертвы; ни на ком не задерживающийся и не поддающийся перехвату, этот взгляд не устремлен ни в пространство, ни на кого в отдельности. Сосредоточенный, хотя и не отвлеченный, такой взгляд, возможно, извиняет Вас в глазах лица, над которым Вы подшутили, но все же препятствует дальнейшему контакту»[577]. Кстати, прототипом главного героя романа был, разумеется, Джордж Браммелл. Другие параметры дендистского поведения, сопутствующие этому взгляду, – «неподвижность лица» и медленный шаг при фланировании, деланая небрежность в жестах и в костюме: это манифестация расслабленности при полной готовности к мгновенному действию.
Быстрая фокусировка зрения происходила при саркастическом выпаде; если же речь шла не просто об иронической «подколке», но об открытом противостоянии, денди могли устроить настоящую оптическую дуэль. Таков был поединок взглядов, когда Браммелл столкнулся в театральном фойе с принцем Уэльским уже после их ссоры. Толпа зажала обоих, денди обернулся и увидел, что в футе от него стоит принц. «Браммелл нисколько не изменился в лице, не шевельнул головой, они поглядели друг другу в зрачки; у принца был явно изумленный и разгневанный вид. Браммелл, однако, не опустил глаз под взглядом принца и не выказал ни малейшего смущения. Он спокойно отступал, шаг за шагом, не спуская ни на мгновение глаз с принца, пока их не разделила толпа… Невозможно описать впечатление, произведенное этой сценой на окружающих. В его манерах не было ничего надменного или оскорбительного: отступая, не повернувшись спиной к принцу, он выказал почтение к его сану, однако не извинился за вынужденную неловкость. Его обращение с принцем, как мужчины с мужчиной, было бескомпромиссным и враждебным»[578]. Обмен взглядами здесь подобен обмену фехтовальными уколами, или, вернее будет сказать, Браммелл обнажает оружие, но не применяет; отступая, продолжает угрожать; не спуская взгляда с принца, он как бы держит соперника на мушке.
Подобные микропоединки, хотя, наверное, и не в столь развернутом формате, регулярно случались в любых светских гостиных. Вот Пелэм, герой романа Бульвера-Литтона, вступает в оптическую дуэль с Гленвилом: «Взгляд мой случайно упал на Гленвила. Он поднял глаза и слегка покраснел, когда они встретились с моими. Но он не отвел взгляда: упорно, пристально смотрели мы друг на друга, пока Эллен, внезапно обернувшись, не заметила странного выражения наших глаз и не положила, словно охваченная каким-то страхом, свою руку на руку брата…»[579] Визуальный поединок строится по традиционной модели (прямой взгляд в зрачки = оскорбление), но его прерывает женщина, инстинктивно чувствующая опасность сдерживаемой агрессии.
Дендистское искусство манипулировать взглядом включало в себя и такой антиприем, как намеренная слепота, педалированное пренебрежение, зрение как презрение. Браммелл умел демонстративно не видеть, если предмет для рассмотрения оказывался «недостойным» взгляда, то есть неадекватным его принципам. Целая серия анекдотов держится на одном и том же мотиве: денди отказывается не только назвать, но и разглядеть негодную вещь, она для него попросту не существует. Вспомним, как Браммелл не признал фрак герцога Бедфорда за фрак, а в другой раз сходным образом отреагировал на чьи-то туфли, обозвав их домашними тапками.
Неузнавание человека на светском рауте являлось самым серьезным негативным приемом в визуальных играх денди. Знаменитая история, когда Браммелл на балу «не узнал» своего бывшего приятеля принца Уэльского, спросив его соседа: «Что это за толстяк стоит рядом с Вами?», развивает этот алгоритм, хотя к «неузнаванию» тут как бы нечаянно добавляется и нелестная характеристика фигуры. Из более мягких средств – забывание имени; еще более грубое нарушение этикета – намеренное неназывание титула[580].
Подобная избирательность зрения автоматически постулирует свою систему критериев, заключая целый ряд вещей в невидимые кавычки, увеличивая их или уменьшая в размерах или вовсе изничтожая по своему усмотрению.
Можно сказать, что взгляд Браммелла перформативен – в лингвистике «перформативным» называют высказывание, которое при произнесении априори содержит в себе социальное действие: «Я открываю конференцию», «Мы объявляем Вам войну».
Денди присваивают себе прерогативу культурного, просвещенного зрения и выстраивают свой мир, тщательно проверяя сканирующим взглядом кондиционность окружающих. Подобная зрительная проверка – обязательный ритуал в начале светского мероприятия. Пелэм приходит на званый обед по приглашению, – казалось бы, можно расслабиться! – но нет, хозяин, «обмениваясь со мной рукопожатием, оглядел меня с головы до ног, дабы удостовериться, что я оправдываю его милостивое снисхождение»[581].
Хорошо, что Пелэм как опытный щеголь без труда проходит испытательное «сканирование»; более известны, увы, скандальные случаи «провалов» в аналогичных обстоятельствах – как уже цитированное происшествие с герцогиней Ратландской, которой Браммелл приказал выйти из зала, пятясь, дабы не оскорблять его взоры. Денди как повелитель собственного королевства, где действуют установленные им лично нормы нового вкуса, ведет себя как тиран и может позволить себе некорректное, жестокое обращение с людьми, которые иначе смотрят на вещи. Взглядом можно уничтожить человека, можно прицельно уколоть, можно выставить на посмешище. Это колкий цепляющий взгляд, аналогичный по функции остроумной реплике в адрес конкретного лица.
Важно заметить, что дендистский «проверочный» взгляд открыт; смотрящий не считает нужным наблюдать украдкой, как бы незаметно: напротив, открытый оценочный взгляд – проявление светской власти лидера моды, и объект подобного взгляда, как правило, ощущает его почти физически как неприятное прикосновение. Это привилегия социального лидера, остальным членам общества правила вежливости предписывают беглый оценочный, по возможности незаметный взгляд на одежду окружающих, если только рассматривание не сопровождается ритуальными комплиментами.
Дендистский взгляд тактилен и гиперболичен: он обладает способностью символически увеличивать недостатки. Аналогично устроен взгляд редактора, или особенно корректора, который автоматически отмечает любую мелкую ошибку в тексте. Кажется, что в зрачок вставлена лупа, или увеличительное стекло, или из глаза вдруг выдвигается окуляр, нацеленный в определенную точку. Не случайно среди символических атрибутов денди так часто фигурируют лорнет и монокль – в пределе взгляд превращается в самое изощренное орудие дендистской власти, ее прозрачный жезл.
Особого разговора заслуживают дендистские оптические приборы. Денди культивировали прищуренный взгляд, близорукость считалась модным недостатком, и оттого монокль и лорнет были необходимыми аксессуарами. Пойти в оперу без хорошего бинокля было недопустимо, и в Париже был популярен оптик Шевалье, продававший театральные бинокли с 32-кратным увеличением. Лорнет использовали и в романтических целях, чтобы завязать отношения с дамой: «Допустим, Вы желаете засвидетельствовать даме свое восхищение ее прелестями… Когда Вы берете свой лорнет, дама понимает, что произвела на Вас благоприятное впечатление. Она обращает на Вас внимание. Тогда Вы делаете ей знак глазами, что придает Вам интригующий вид. Скажут, что благодаря лорнету Вы оценили каждую деталь и внимательно разглядели силуэт под одеждой»[582].
Российские щеголи XIX столетия также подражали западным манерам: «Волокиты того времени ходили с завитыми волосами, в очках и еще с лорнетом, а также и с моноклем; жилет непременно был расстегнут, а грудь – в батистовых брыжжах»[583].
Рассматривать публику сквозь лорнет или монокль было излюбленной привычкой каждого уважающего себя денди. Леди Морган описывает поведение в салоне английского денди:
«Я была в гостях у княгини Волконской, когда один из этих новомодных щеголей, недавно появившихся в Париже, возник в дверях, гордо выступая в своем наряде и высокомерно оглядывая публику в монокль. Меня представили ему, он приблизился и, зевнув, пробормотал какую-то дежурную фразу, ответа на которую он, впрочем, не стал дожидаться, повернув сразу к более интересовавшему его лицу»[584]. Наглость бесцеремонного взгляда, вооруженного моноклем, здесь сочетается с пренебрежительными манерами – в очередной раз приходится фиксировать, как роль вежливого гостя трещит по швам, стоит только на сцене появиться денди.
И. Крукшенк. Шеголь. 1791 г.
Подобные приемы брали на вооружение и российские модники или, вернее, модницы: пристрастием к моноклям отличалась Зинаида Гиппиус, причем она использовала их именно по-дендистски, как лидер моды. Ирина Одоевцева вспоминает о первом знакомстве с прославленной поэтессой: «Я смотрю на Зинаиду Николаевну. Она все еще время от времени наводит на меня стекла своей лорнетки. Я знаю, что она очень близорука, но меня все же удивляет это бесцеремонное разглядывание. Удивляет и смущает, но не обижает. Обижаться было бы неуместно. Обижаться не полагается»[585].
Позднее, когда Одоевцева ближе знакомится с поэтессой, она понимает уникальность лорнетки Гиппиус: «У ее лорнетки не два, как полагается, а только одно стекло… это не лорнетка, а единственный в своем роде предмет – монокль на ручке, должно быть, сделанный по особому заказу. В те далекие годы монокли были еще в ходу – их носили изящные старики и снобистские молодые люди. Но, конечно, не дамы. Дама в монокле или с моноклем была совершенно немыслима. Но, как почти всегда, действительность оказалась более фантастичной, чем фантазия. Зинаида Николаевна носила монокль. Правда, она носила его исключительно на улице, вставляя его в левый глаз перед зеркалом, в прихожей, перед тем, как надеть перчатки»[586].
Дама со зрительной трубкой
С гравюры XIX века
Среди оптических приборов первых десятилетий XIX века стоит специально отметить особую игрушку, популярную среди денди, – монокль, вмонтированный в рукоятку трости. Усовершенствованная таким образом трость применялась на прогулках и, безусловно, воспринималась как особый шик, «gadget», редкостная и престижная техническая игрушка. М.И. Пыляев, рассказывая о визите в Лондон казака Зеленухина, упоминает, что принц-регент подарил ему среди прочих вещей «трость с выдвигающейся зрительной трубкой»[587].
Трость с моноклем – метафора властного дендистского зрения, это трость-указка и «наглядный» фаллический символ. Она изображена на некоторых рисунках XIX века: прогуливающиеся модники задирают трости и прилежно смотрят в монокли, что производит весьма забавное впечатление. Очевидно, современникам тоже бросалась в глаза комичность такой жестикуляции. Не зря же в мемуарах капитана Джессе фигурирует некий «немецкий князь, который носил трость с моноклем на рукоятке. Он постоянно держал ее на уровне носа, что придавало ему чрезвычайно комичный вид»[588]. Однако осмелимся предположить, что самому князю эта трость была насущно необходима: так одни женщины не могут выйти из дома без макияжа, другие – не надев любимые украшения. Аксессуары как бы срастаются с телом, образуя его символическое продолжение, в котором акцентированы наиболее важные зоны или органы (в данном случае – глаз).
Визуальные игры были существенно связаны с дендистской модой. Мы уже говорили, что Браммелл первый изобрел чрезвычайно современный по духу принцип «заметной незаметности» (conspiсuous inconspiсuousness) в одежде. Это означало, что костюм должен быть элегантным, но не привлекать к себе внимания.
«Незаметная» одежда во многом обеспечивала денди позицию власти: невидимый наблюдатель, следящий за поведением легкомысленно выставивших себя напоказ. Но, с другой стороны, этот принцип базировался на новой буржуазной идеологии изначального равенства стартовых возможностей: скромный костюм был направлен против аристократической тактики демонстрировать знатность и богатство через роскошную одежду.
Однажды, когда один приятель похвалил костюм Браммелла, тот ответил: «Раз Вы обратили на меня внимание, значит, я не столь уж элегантен», – очевидно, денди был не слишком высокого мнения о вкусе этого знакомого. Принцип «заметной незаметности», таким образом, подразумевал избирательную видимость – не для всех и не во всем, риторические фигуры намеренной слепоты и частичной «включенности» зрения.
Это симптом очень важных культурных перемен: дендистские визуальные приемы характерны для формирующегося как раз в этот период общества модерна. Как замечает автор книги по истории оптической техники Джонатан Крэри, «между 1810 и 1840 годами… происходит полная переоценка визуального опыта: зрение приобретает беспрецедентную мобильность и способность к обменным отношениям (exchangeability), более не связанные с каким-либо реальным основанием или референтом»[589].
Символом классической модели зрения, господствовавшей на протяжении XVII–XVIII веков, для Крэри является камера-обскура. Этот оптический прибор четко позиционировал наблюдателя извне и позволял геометрически выстроить ландшафт[590]. Главный признак наступающих перемен – зрение осознается как физиологическое, телесное, зависимое от культурных установок наблюдателя и акцентирующее субъективность: «В 1820–1830-е годы наблюдатель перемещается, он выходит за установленные границы внутреннего и внешнего в camera obscura на неразмеченную территорию, где различие между внутренними ощущениями и внешними знаками утрачено. Именно в этот период впервые происходит “освобождение” (liberation) зрения в XIX веке. Одновременно возникает множество способов перекодировать активность взгляда, организовать ее, сделать более интенсивной и менее рассеянной. Так императивы капиталистической модернизации, разрушая поле классического зрения, создавали особую технику для того, чтобы повысить зрительное внимание, рационализировать ощущения и управлять восприятием»[591].
В качестве примеров такой особой модернистской оптической техники[592] у Крэри выступают широко распространенные в XIX веке зрительные игрушки – калейдоскопы, стереоскопы, волшебные фонари и фантаскопы.
Каждый из этих приборов имел свою историю и легенду. Так, фантаскоп был изобретен бельгийцем Этьеном Гаспаром Робертсоном (1763–1837). Невозможно не процитировать здесь одну старинную книгу: «Известный физик и воздухоплаватель Робертсон… давал представления появления духов, приводившие в изумление весь мир. Долгое время никто не мог доискаться, какие средства употреблялись при этом, и прошел целый ряд лет, прежде чем тайна открылась, к сожалению, не путем догадки, но благодаря предательству. Это было не что иное, как волшебный фонарь с некоторыми механическими и театральными прибавлениями, названный Робертсоном “фантаскопом”»[593]. Робертсон триумфально гастролировал по всей Европе с уникальным шоу: он проецировал изображения духов на невидимый для зрителей экран из прозрачной кисеи, причем сам фантаскоп был установлен в отдельном помещении и снабжен особыми линзами «кошачий глаз», которые позволяли менять яркость изображения. Размер картинки модулировался за счет передвижений волшебного фонаря: когда проектор откатывали назад, изображение увеличивалось – это был прообраз функции «zoom» в современной фототехнике. Иногда вместо кисейного экрана использовалась дымовая завеса – тогда эффект мистической достоверности был максимальным. «Подходящая музыка, искусственный гром, буря или дождь служат для усиления впечатления. Чтобы устранить всякий шум и не мешать иллюзии, аппарат бесшумно перекатывается с одного места на другое на колесах, покрытых сукном»[594]. Публика валом валила на сеансы Робертсона, во время представления из зала доносились вопли ужаса. Долгое время никто не мог догадаться, каким образом достигались фантасмагорические чудеса, но в итоге Робертсона предал его ученик, разгласивший тайну хитроумного устройства.
Оптические игрушки были популярным салонным развлечением как в Европе, так и в России. Теофиль Готье, запечатлевший аристократический быт Петербурга в 1858 году, вспоминал: «После обеда гости расходятся по гостиным… Крутящиеся стереоскопы предлагают свое развлечение – посмотреть на движущиеся картины… Все это служит поддержкой смущенным или вообще стеснительным по натуре людям»[595]. А когда Готье попадает на роскошный императорский бал в Зимнем дворце, ему в голову опять приходят метафоры, связанные с оптическими игрушками: «Калейдоскоп с его бесконечно движущимися сыпучими частичками, хроматоскоп с его расширениями и сужениями, где кусок простого холста на вращающемся валике становится цветком, затем меняет свои лепестки на зубцы короны и в конце концов солнцем кружится вокруг бриллиантового центра, переходя от рубина к изумруду, от топаза к аметисту, – только эти два аппарата и могут, увеличенные в миллионы раз, дать представление об этом зале в драгоценных камнях и цветах, в бесконечном движении, меняющем свои сверкающие арабески»[596]. Эти развернутые метафоры были понятны современникам Готье – и французским, и русским читателям: сама сфера зрения была настолько символически насыщена, что служила естественным источником для бесконечных сравнений и наблюдений. Придворный бал уподобляется оптическим игрушкам, которые, будучи, по идее, всего лишь средством, позволяющим детально рассмотреть зрелище, тем не менее уверенно становятся самоценной моделью восприятия[597].
Лондонская диорама 1823 г.
Из наиболее масштабных зрелищ эпохи следует назвать панорамы, которые устанавливались во всех крупнейших городах. В Париже были знамениты панорамы Прево, в Нью-Йорке – Джона Вандерлина. В многофигурных композициях благодаря правильному использованию законов перспективы достигалась полная иллюзия реальности: зритель оказывался в центре кругового пейзажа. А в 1822 году в Париже была установлена диорама Ш. – М. Бутона и Л.М.Ж. Дагерра – будущего изобретателя фотографии, имевшая невероятный успех у современников благодаря транспарантной живописи и постепенно меняющемуся освещению. Так в разных жанрах – от камерных развлечений до публичных шоу – конструировалось новое идеальное пространство, в котором зритель имел возможность испытать пределы «очевидности» воспринимаемого. Новый субъект, концептуально заявленный еще Кантом и Фихте, осторожно пробовал себя, играя – развлекаясь оптическими игрушками.
Наиболее полно риски и преимущества новой зрительской субъективности были отрефлектированы в культуре романтизма. Волшебный мир фантасмагорий, двойников, бесконечных метаморфоз и видений был отыгран романтическими авторами по максимуму – достаточно вспомнить литературные тексты Гофмана[598], Колриджа, Жерара де Нерваля. Явленное зрелище перестало быть свидетельством достоверности – наоборот, оно приглашало к размышлениям о собственной сконструированности. Не случайно оптические мотивы в романтических текстах служат нарративным механизмом, переключая точки зрения в повествовании или демонстрируя неисчерпаемые возможности субъективности героя.
Визуальная натренированность в оптических играх исподволь подготавливала важные перемены в восприятии мира и на повседневном уровне: санкционировалось право смотрящего на иллюзию. Отношение к зрительной информации как будто заранее подразумевало некоторую долю иллюзорности картинки или, во всяком случае, готовность к новым неожиданным ракурсам. «Освобожденное» зрение быстро пресыщалось статичными и понятными видами, для полноты восприятия требовалась игра, предчувствие новых ощущений и желаний.
В сфере одежды такая игра потенциальных желаний и сопутствующая ей перенастройка глаза знакомы каждому на повседневном уровне: модная деталь приковывает к себе взгляд, а остальная, более консервативная часть костюма как бы временно исчезает из виду, воспринимается периферийным зрением. Вышедший из моды наряд начинает «резать» взгляд, а новое платье, отвечающее духу времени, напротив, манит взоры и кажется невероятно привлекательным, даже если вчера такой фасон поражал своей непривычностью.
Подобный настрой естественно удовлетворяется в современной моде за счет сезонной смены коллекций, не говоря уже о более глубоких фундаментальных сдвигах, случающихся раз в несколько лет, когда кардинально меняется силуэт: к примеру, плечи становятся более массивными или, наоборот, узкими, прилегающими.
Новая мода всегда провоцирует смену имиджа: увидев необычный фасон в магазине, покупатель бессознательно совершает мгновенную мысленную примерку, пытаясь представить себя в этой вещи хотя бы по принципу «мое/не мое». Если есть малейшая зацепка, воображение сразу подсказывает другие детали нового имиджа – включается машина желаний, человек видит себя Другим. И этот другой образ тоже потенциально видит себя Другим. В «Рождении трагедии из духа музыки» Ницше писал о таких удовольствиях: «Охваченный этими чарами, дионисический мечтатель видит себя сатиром и затем, как сатир, видит бога, т. е. в своем превращении зрит новое видение вне себя, как аполлоническое восполнение своего состояния»[599].
Фенакистископ 1830-е годы
Фигуры, символизирующие портновские мерки. Ил. из трактата Д. Уатт. Дружественные наставления портному. 1822 г.
Модернистская парадигма, поощряя моду (тавтология здесь отнюдь не случайна!), вносит в одежду вектор времени и тем самым нарушает стабильность личной идентификации. «Освобожденное зрение» работает в динамичном поле желаний – оно идеально обслуживает человека в буржуазном мире, где на каждом шагу подворачиваются новые возможности самореализации, а новые товары выступают как символы будущего и технического прогресса. Описываемые перемены в работе зрения отражают кардинальный перелом, который произошел в системе означивания на стыке XVIII–XIX веков, особенно во всем, что касается внешности. В традиционной культуре каждый человек должен был носить тот костюм, который отражал его социальный статус: ремесленник одевался согласно своей профессии, дворянин – согласно аристократической моде. Нарушение этих норм регулировалось так называемыми «законами о роскоши», которые четко предписывали количество украшений и ценность тканей в костюме каждого сословия. Буржуазные революции во многом опрокинули существовавшую веками иерархию сословий: отныне по одежде нельзя было с первого взгляда определить положение и достаток человека. В обществе модерна резко возросла социальная мобильность, появилось огромное количество лиц, пробовавших себя на новом профессиональном поприще, молодые люди из провинций устремились в города делать карьеру. Нарушилась «великая цепь бытия»[600].
Эти факторы привели к расшатыванию традиционных отношений между означаемым и означающим в семантике внешности и костюма: исчезла жесткая привязка к времени и пространству, четкое различие между оригиналом и копией, взамен начинает функционировать новый, более сложный и отточенный семиотический механизм. Он подразумевает непривычные ранее формы символического обмена, непрямую или отложенную связь между означаемым и означающим: проблематизация зрения шла одновременно с развитием новых технических средств.
Появление фотографии в конце 30-х годов XIX столетия; производство готового платья и изобретение швейной машинки, телеграфа; распространение массовой культуры – все это знаменует иные принципы обработки визуальной информации. Напомним, что в 1825 году в Англии была пущена первая линия железной дороги – современная городская цивилизация набирала свой темп. Первоначально дешевые романы были предназначены именно для чтения в дороге, и во Франции они даже так и назывались – «железнодорожными» («de chemin de fer»). Они стоили 3 франка 50 сантимов. Это была упакованная и точно рассчитанная доза читательского удовольствия на определенный отрезок времени в пути.
Стандартизация оказалась удобной в век повышения скорости: повсеместное распространение массовой литературы в Европе совпало с появлением готовой одежды, и это далеко не случайность. Уже в тридцатые годы XIX века портные стали оперировать системой костюмных размеров взамен индивидуальных мерок: вычисление стандартных телесных пропорций оказалось удобным, позволяя экономить рабочее время[601]. В 1851 году была изобретена швейная машинка: отныне любая хозяйка могла шить платье на дому. Производство готовой одежды вскоре значительно унифицировало зрелище городской толпы – как представители среднего класса, так и подающие надежды парвеню стали носить стандартные темные костюмы. В этот переломный момент городская цивилизация перестраивает свой семиотический код, требуя более тонкого чтения визуальных знаков, дополнительных приемов рефлексии.
Таблица размеров. Ил. из трактата
Д. Уатт. Дружественные наставления портному. 1822 г.
Подобная «расшатанность», когда устанавливаются новые правила игры на стыке двух культурных эпох, очень симптоматично проявляется в эстетике дендизма. Денди-наблюдатель уже во многом действует по законам новой модернистской парадигмы. Аналитический взгляд Браммелла – предвестник новой эпохи модерна, первая проба пера. В период Регентства одиночка, арбитр красоты, устанавливал свои правила, пользуясь привилегиями лидера моды. В середине же века эти правила стали достоянием масс, точно так же как из «незаметного» и в свое время дерзкого дендистского костюма позднее получился типовой темный мужской костюм, который с небольшими изменениями дошел до наших дней.
Критический взгляд Браммелла, ставя под сомнение старые каноны элегантности, уже подразумевал внушаемость зрителя. Поклонники денди – взять хотя бы его клубных компаньонов по наблюдениям у эркерного окна – были готовы вслед за ним реально увидеть эстетические преимущества строгого стиля; их взоры уже оскорбляла разряженность нуворишей. Освобожденное зрение в сфере моды сотворило «бархатную» революцию: это был беспрецедентный коллективный визуальный опыт, который способствовал формированию нового информационного поля.
Поколение 30-х годов XIX века уже знало, на что обращать внимание, читая внешность, а что игнорировать. Этот процесс можно сравнить с тем, как наш современный взгляд в повседневной жизни запросто отсекает не востребованную в данный момент визуальную информацию: работающий за компьютером человек переключает клавиатуру на латиницу и просто перестает видеть кириллицу (если, конечно, он не печатает вслепую).
Оптические игры у окна клуба Уайтс можно считать тренингом модернистского зрения, его рабочей настройкой в разных диапазонах. Результаты этой «настройки» не заставили долго ждать. Последователи Браммелла уже знали, как использовать свой визуальный опыт. В 1829 году молодой парижский журналист Орас Рэссон[602] выпускает «Кодекс туалета»[603] – один из многочисленных трактатов в жанре «физиологии». Интересна его мотивация: «Сегодня все классы общества носят похожие костюмы, и только манера их носить помогает установить внешние различия – настал подходящий момент опубликовать “Кодекс туалета”». Наряду с рассуждениями об элегантности в этом ученом труде имеются занятные советы, как распознать профессию человека по направлению его взгляда: если он осматривает платье, перед Вами – портной; если сосредотачивается на обуви – это сапожник[604].
Во вторую половину XIX века наблюдательный взгляд из эркерного окошка окончательно обретет эту важную функцию: опознание прохожего, определение его социального статуса и всех возможных жизненных обстоятельств по деталям костюма. Это метод Шерлока Холмса, но у знаменитого сыщика чтение одежды сугубо прагматично – это уже не развлечение и не светская игра, а наука, профессионализм. У Конан Дойля в рассказе «Случай с переводчиком» есть очень примечательная сцена: Шерлок Холмс вместе с братом Майкрофтом сидят в клубе у эркерного окна и для разминки, перед тем как поговорить о деле, дают мгновенный экспресс-анализ внешности случайного прохожего:
«Они сели рядом в фонаре окна.
– Самое подходящее место для всякого, кто захочет изучать человека, – сказал Майкрофт. – Посмотри, какие великолепные типы! Вот, например, эти двое, идущие прямо на нас.
– Маркер и тот другой, что с ним?
– Именно. Кто, по-твоему, второй?
Двое прохожих остановились напротив окна. Следы мела над жилетным карманом у одного были единственным, на мой взгляд, что наводило на мысль о бильярде. Второй был небольшого роста смуглый человек в съехавшей на затылок шляпе и с кучей свертков под мышкой.
– Бывший военный, как я погляжу, – сказал Шерлок.
– И очень недавно оставивший службу, – заметил брат.
– Служил он, я вижу, в Индии.
– Офицер по выслуге, ниже лейтенанта.
– Я думаю, артиллерист, – сказал Шерлок.
– И вдовец.
– Но имеет ребенка.
– Детей, мой мальчик, детей.
– Постойте, – рассмеялся я, – для меня это многовато.
– Ведь нетрудно же понять, – ответил Холмс, – что мужчина с такой выправкой, властным выражением лица и такой загорелый – солдат, что он не рядовой и недавно из Индии.
– Что службу он оставил лишь недавно, показывают его, как их называют, “амуничные” башмаки, – заметил Майкрофт.
– Походка не кавалерийская, а пробковый шлем он все же носил надвинутый на бровь, о чем говорит более светлый загар с одной стороны лба. Сапером он быть не мог – слишком тяжел. Значит, артиллерист.
Далее, глубокий траур показывает, конечно, что он недавно потерял близкого человека. Тот факт, что он сам делает закупки, позволяет думать, что умерла жена. А накупил он, как видите, массу детских вещей. В том числе погремушку, откуда видно, что один из детей – грудной младенец. Возможно, мать умерла родами. Из того, что он держит под мышкой книжку с картинками, заключаем, что есть и второй ребенок»[605].
Стереоскоп. 1870-е годы.
По ситуации здесь явная отсылка к клубным играм эпохи Регентства (наблюдатель у эркерного окна клуба), но господствует уже совсем другая поэтика – азарт распознавания жизненных обстоятельств, чтения любой случайной внешности как доказательство профессиональной выучки. Если Браммелл, сидя на своем любимом месте у окна, оценивал фланирующих собратьев-аристократов, вступая с каждым в мгновенный визуальный контакт, то Шерлок и Майкрофт вылавливают из уличной толпы самые разные социальные типы и мастерски определяют историю первого встречного. Перед ними не стоит задача модной критической оценки, в их взглядах нет ни соревновательности, ни высокомерия, они не арбитры элегантности, а детективы или в более общем смысле – исследователи современного им общества, «натуралисты» в урбанистике[606].
Итальянский исследователь Карло Гинзбург, сравнивая труды Конан Дойля, искусствоведа Морелли и Фрейда, приходит к выводу, что к концу XIX века, «точнее говоря, между 1870 и 1880 годами», начинает утверждаться новая парадигма, выдвигающая на передний план незначительные подробности, побочные факты, знаковые детали. Он назвал этот феномен «уликовой парадигмой»[607]. Дешифровка «следов», согласно К. Гинзбургу, выразилась в изобретении различных научных методов – от антропометрического метода Альфонса Бертийона и классификации преступников Ломброзо до опознания по отпечаткам пальцев Ф. Гальтона и атрибуции картин Морелли. Все эти дисциплины объединяет сходная установка: «Даже если реальность[608] и непрозрачна, существуют привилегированные участки – приметы, улики, позволяющие дешифровать реальность». А дешифровка совершается за счет перенастройки глаза.
Т. Рауландсон. Гравюра «Взгляд на газовое освещение на улице Пэлл-Мэлл»
Михаил Ямпольский в своей книге «Наблюдатель», анализируя перипетии оформления новой визуальности, выделяет несколько фигур, берущих на себя культурное бремя дешифровки: денди, фланер, старьевщик, детектив, хулиган, шпион. Все эти типы замещают художника и наделены «сверхзрением», которое позволяет им ориентироваться в условиях разрушающейся старой культурной иерархии. Глубинные процессы, стоящие за этим, – «борьба за вакантное место аристократии в символической парадигме»; «художник, вырабатывая для себя театрализованную культуру богемы или дендизма, принимает роль травестированного аристократа, тем самым включаясь во всеобщий социальный театр»[609]. Опираясь на концепцию Вальтера Беньямина, Ямпольский подчеркивает, что новая роль денди/художника/детектива/старьевщика заключается в чтении микрознаков, в критике тотальной травестии: они способны почувствовать ауру «аллегории», которая сопровождает обыденные вещи после разрыва с органическим историческим контекстом.
Добавим, что эти важные концептуальные сдвиги были бы невозможны без одной принципиальной перемены в бытовой жизни XIX столетия: кардинального улучшения освещения. Если в начале века дома освещались главным образом восковыми свечами (или сальными в бедных семьях) и масляными лампами, то появление газового освещения в Лондоне в 1810-е годы радикально изменило ситуацию. В центре города с наступлением темноты не прекращались ночные развлечения, по вечерам люди гуляли, заходили в пабы, делали покупки. В 1817 году газовое освещение стали применять в лондонских театрах, а владельцы текстильных фабрик ввели у себя ночную смену. В других европейских городах газовое освещение было введено позднее: в Париже в частных домах с 1825 года, а в Риме газовое освещение на улицах было введено в 1846 году специальным указом папы Пия IX.
Газовое освещение создавало особые фантасмагорические эффекты на улицах: «Лучи газовых фонарей, вначале слабые в борьбе с умирающим днем, наконец одержали верх и залили все судорожным и вульгарным блеском. Все было темно и при этом великолепно, наподобие эбена, с которым сравнивали стиль Тертуллиана. Бредовые эффекты освещения захватили меня, и я начал изучать отдельные лица…»[610] Эта причудливая игра света настолько увлекает рассказчика в новелле Эдгара По, что он пускается вслед за одним незнакомцем, привлекшим его внимание, и всю ночь проводит в странствиях, пытаясь разгадать тайну «человека толпы».
Благодаря улучшению освещения в повседневной жизни стало возможным рассмотрение мелких деталей, которые ранее часто оставались незамеченными. Это повлияло и на уровень медицинских осмотров и операций, и на гигиенические стандарты: «темные углы» в доме теперь тоже подвергались тщательной уборке. Кроме того, в середине столетия началось массовое производство очков, и стекло как материал стало все больше входить в моду. Для любителей рассматривать «мелочи жизни» сложились достаточно благоприятные условия.
Изощренный дендистский взгляд, натренированный по принципу «заметной незаметности», выделяет в одежде свои привилегированные участки – знаковые детали. «Сверхзрение» денди позволяет ему различать микрознаки в костюме. Опознание своих совершается по мелким, но информационно-емким признакам: «Качество вещи становится признаком “благородства”. Когда цвет ткани приглушен, важнее делается ее качество и то, как пришиты пуговицы. Еще один признак – качество кожи на ботинках. Завязывание галстука превращается в тонкую науку; галстучный узел подтверждает законность притязаний на “благородство” владельца, сам же по себе галстук – просто неприметная ткань. Когда отделка карманных часов сделалась проще, стало важно, из какого металла они сделаны. Знание всех этих тонкостей составляло науку ненавязчивого намека, ибо кто кричит о том, что он джентльмен, таковым не является…»[611] В стихии новой городской театральности совершенствуются навыки актеров, но и взгляд наблюдателя фокусируется на мелочах[612], работает на микроуровне. На первый план выходит различительная функция детали. Этот символический код мода сохранила и поныне: петли на рукаве пиджака дадут опытному взгляду достаточно информации о вкусах и доходах владельца.
Парадигма дендистского зрения изначально ориентирована на подрыв существующих иерархий и жестких правил, причем в ход пускаются такие приемы, как пристальное рассматривание или, напротив, демонстративное «незамечание», а в предельном случае дендистский взгляд может выступать как оружие в оптической дуэли. Использование лорнетов и моноклей в сочетании с «незаметной» одеждой обеспечивает наблюдателю позицию власти. Его критический взгляд утверждал новые законы перформативного зрения, а визуальное «сканирование» по костюму служило пропуском на светские рауты. И если с помощью лорнета или монокля светский франт мог бесцеремонно разглядывать красавиц, то Браммелл благодаря своему «различающему» взгляду столь же решительно разоблачал социальные претензии нуворишей, желающих быть принятыми в высшее общество.
Но если раньше чтение тонко акцентируемых деталей было прерогативой денди, то теперь этой техникой постепенно овладевает всеболее широкий круг наблюдателей. В обществе модерна становится необходимой более сложная и тонкая система опознания и селекции «своих» – по костюму, по манерам, по знаковым деталям. Это и подготавливает вторжение «уликовой парадигмы».
В «уликовой парадигме» как одной из составляющих модерна акцент делается на достоверность информации, на классификацию и опознание по существенным деталям. Привилегированный объект для чтения – знаковая поверхность. Наблюдателю не нужно углубляться в бездны субъективности: ведь в последней записке Браммелла было только одно слово «starch» – «крахмал». Это был секрет его безукоризненных шейных платков.
Без особых преувеличений можно сказать, чтозрение денди – визуальная лаборатория модерна. Денди всегда умели вовремя остановиться – они не стали, как романтики, исследовать соблазны и гибельность иллюзий: дендистский монокль нельзя путать с «волшебным стеклом» для чтения мыслей в гофмановской повести «Повелитель блох». Поверхностно скользящий или аналитическиклассификаторский дендистский взгляд был противоположностью романтического стремления к бессознательному и мистическому[613]. Но и в дендистской оптике был свой полюс субъективности – своеволие лидера моды, устанавливающего новые нормы вкуса. Дендизм санкционирует предельную мобильность зрения, возможность как сфокусироваться на отдельных частностях, так и отключиться совсем.
Модель визуальности, разработанная в дендизме, развивалась на протяжении всего XIX столетия. Зрительная парадигма зрелого модерна к концу века дает новый выразительный вариант – импрессионизм в живописи и эстетизм в литературе. Оскар Уайльд в эссе «Упадок лжи» 1891 года довел до логического предела дендистский принцип избирательного зрения: «Вещи существуют потому, что мы их видим, а что мы видим и как мы видим – это уже зависит от искусств, оказавших на нас влияние. Смотреть на вещь – совсем не то, что видеть вещь. Мы не видим вещи, покуда не видим ее красоты. Тогда, и только тогда эта вещь начинает существовать. В настоящее время люди видят туманы не потому, что они существуют, но потому, что поэты и живописцы показали им таинственную прелесть подобных эффектов»[614]. По сути, Уайльд в этом рассуждении провозглашает абсолютную приоритетность эстетического взгляда: здесь уже ощутимы неоромантические обертона… И если ранее в середине века денди, равно как и фланер, и детектив, замещал фигуру художника, то теперь «сверхзрение» – явная прерогатива «поэтов и живописцев». Как писал наследник романтиков Рильке, «мы – пчелы невидимого. Мы исступленно собираем мед видимого, чтобы наполнить им золотой улей невидимого»[615].
Дендистские прогулки, или О прелестях фланирования
Он любил город и праздность.
О. МандельштамФранцузское слово «flaneur» – свободный прохожий, любитель праздных прогулок – вошло в обиход начиная с 30-х годов XIX века, когда стали складываться современные формы городского досуга. Фланирование или привычка к бесцельным прогулкам – устойчивый атрибут жизни дендистской молодежи и парижской литературной элиты[616]. Альфред де Мюссе, Теофиль Готье, Бодлер, Барбе д‘Оревильи, Стендаль, Бальзак, Пьер Лоти прославились не только как писатели, но и как завзятые денди, регулярно совершающие моцион в самых изысканных туалетах, чтобы, как говорится, себя показать и других посмотреть. Фланер становится модным типом, а философия фланирования настолько захватывает лучшие умы эпохи, что знаменитый писатель и денди Оноре де Бальзак в 1833 году решает досконально исследовать «теорию походки». Для этого он, как и полагается при написании настоящих трактатов, предварительно изучил существующую научную литературу, однако самые ценные наблюдения ему удалось почерпнуть, когда он наконец собрался на Гентский бульвар (ныне бульвар Итальянцев), сел на стул и стал изучать походку всех проходивших мимо парижан. «В этот день, – признается Бальзак, – я сделал самые глубокие и любопытные наблюдения за всю мою жизнь. Я вернулся, сгибаясь под тяжестью моих открытий… Мне показалось, что опубликовать “Теорию походки” можно не иначе как в десяти или двенадцати томах, сопроводив ее тысячей семьюстами гравюрами»[617]. В манере ходить Бальзак сумел разглядеть «стиль тела», метафору характера и подробно описал особый стиль дендистского фланирования, при котором идущий должен «держаться прямо, ставить ноги по одной линии, не уклоняться слишком сильно ни вправо, ни влево, незаметно вовлекать в движение все тело, легонько покачиваться, наклонять голову…». Подобной соразмерной походкой обладал король Людовик XIV (свои монархические симпатии Бальзак никогда не скрывал!).
О. Бердслей. Бальзак. 1900 г.
В итоге романист суммировал свои размышления о походке в серии классических афоризмов: «Все в нас принимает участие в движении; при этом ни одна часть тела не должна выделяться»; «Когда тело находится в движении, лицо должно сохранять неподвижность»; «Всякое лишнее движение есть верх расточительности». Идеал походки, согласно Бальзаку, подразумевает разумную согласованность и экономию движений. Особую роль в идеальной походке играет плавность: «Медленное движение по сути своей величественно», «Экономия движений есть средство придать походке и благородство, и грацию». Итак, фланирование не может быть поспешным, его красота не в последнюю очередь базируется на физиологической экономии движений. Конструктивный принцип дендизма – «ничего лишнего» – в данном случае вполне непосредственно проецируется на нравственные и интеллектуальные свойства личности.
Особую роль в тонком искусстве дендистского фланирования играет плавность, коль скоро медленное движение, как считали в то время, настраивает на возвышенный лад. Мимический аналог медленной походки – «неподвижность лица», акцентирующая благородное достоинство фланёра. Медленное фланирование с неподвижным лицом – условие незаинтересованного созерцания, эстетизм как телесная и жизненная программа.
Итак, красота дендистской прогулки во многом базируется на конструктивном принципе экономии движений, что имеет как чисто физиологическую, так и эстетическую подоплеку. Согласно Бальзаку, медлительная походка – атрибут мудреца, философа и в целом светского человека: «плавность движений для походки то же, что и простота в костюме». Лаконизм выразительных средств в одежде, как видим, прямо соотносится с благородством скупого жеста и статикой отточенных поз.
Прямая противоположность дендистской медлительности – манера мельтешить, для которой Бальзак припас старофранцузский глагол «virvoucher», означающий «бегать взад-вперед, крутиться у кого-то под ногами, все трогать, вскакивать и снова садиться, суетиться, за все хвататься, делать массу движений, не имеющих цели, быть назойливым, как муха». Вспомним, кстати, что как раз эти черты являются знаком вульгарности – подобным «вирвушизмом» отличался герцог де Люсене из романа «Парижские тайны», а одно из принципиальных определений дендизма – антивульгарность. Быстрая походка, механические, словно заводные, движения, озабоченное выражение лица – приметы глубоко антипатичного персонажа, объекта бальзаковского презрения: «Он отдается ходьбе, как солдат, выступивший в поход. Обыкновенно он словоохотлив, говорит громко, увлекается, возмущается, обращается к отсутствующему противнику, выдвигает неопровержимые доводы, размахивает руками, огорчается, радуется…» Невозмутимый денди воплощает обратную тенденцию – статуарность наблюдателя, невозмутимость джентльмена.
Вероятно, как своего рода специальную тренировку в горделивой медленности походки можно расценить особо модный ритуал, сложившийся в середине века среди парижских щеголей: прогулки с домашними черепашками. Денди, неторопливо выгуливающий черепаху в Люксембургском саду, демонстрирует воистину стоическую невозмутимость и величественную самодостаточность. Однако за его почти анекдотическим спокойствием здесь скрывается нежелание подчиниться все ускоряющимся ритмам городской жизни, сопротивление индустриальному прогрессу, эстетизированная ностальгия по буколическим временам. Нарочитая неспешность денди с черепашкой также акцентирует один существенный момент – принципиальную праздность фланирования, нежелание не просто бежать, а бежать по делам или двигаться как автомат у станка. Праздность фланера символически связана с позой беззаботного аристократа, для которого заботы о хлебе насущном исключены по определению, и даже серьезные занятия маскируются под «хобби». Бежать по улице для него немыслимо. «Бежал! – повторил я. – Совсем как простолюдин – разве кто-либо когда-либо видел меня или Вас бегущим?» – говорит юный денди-аристократ Пелэм своему другу[618].
Буржуа[619], который старательно играет роль неторопливого денди-фланера, на самом деле частенько испытывает угрызения совести – ведь столько времени уходит впустую, на «праздные» прогулки! Этой отрефлексированной несуетной праздности оставалось не так уж много времени в истории. Ведь уже в начале XX века изобретатель конвейера Тэйлор выдвинет лозунг «Долой лодырей!», а в России не кто иной, как Мейерхольд, использует «тэйлоризированную манеру ходить» как художественный прием в своих постановках. Печальный прогноз судьбы фланера дал проницательный Роберт Музиль: в первом же эпизоде его модернистского романа «Человек без свойств» последний фланер гибнет на улицах Вены под колесами грузовика.
Пока же, в XIX столетии, дендистское фланирование еще воспринимается почти как аналог чистого искусства – свободной незаинтересованной деятельности во имя совершенной формы. В этом смысле легендарный розовый жилет Теофиля Готье и его изящные поэтические «Эмали и камеи» – абсолютно равнозначные и логически увязанные культурные факты. Во время прогулки фланер занимается наблюдениями и его избыточно острое зрение работает как взгляд «художника современной жизни», фиксируя мелочи и отмечая детали. Фланер наслаждается собственной свободой, это одиночка в толпе, который удерживает дистанцию, необходимую для созерцания.
Куда же направится красиво шагающий денди? Его маршрут сплошь и рядом выясняется только в пути, ибо фланера ведет случайная прихоть. Городское пространство – карта его желаний, непрерывная знаковая поверхность, топографическая развертка его потока сознания. Он читает карту собственным телом, размечая шагами пунктиры своих произвольных маршрутов. Классическое пространство для праздной прогулки в городе – «островки природы»: парки, городские сады, бульвары, «pleasure gardens». Они напоминают об изначальной сентиментальной идиллии сельской прогулки, и регулярные прогулки в парках – пешком, верхом или в экипаже – долгое время оставались обязательным ритуалом светской жизни. Однако настоящий фланер-горожанин середины XIX века скорее предпочтет оживленную улицу, дающую пищу для его наблюдательного ума.
Для фланера-писателя город подобен открытой книге, которая снабжает его интереснейшими сюжетами и служит источником вдохновения. Ведь единственное достойное занятие наблюдателя на прогулке – определять, что из себя представляет человек по внешнему виду и по походке. Фланеры создали особую науку рассматривать людей. Это практика мгновенного определения уличных типажей по внешности, быстрого чтения «dress codes». Английский эссеист первой трети XIX века Уильям Хэзлитт был любителем подобных аналитических наблюдений, отчасти предвосхищая тем самым дедуктивный метод Шерлока Холмса. Так, он даже сумел описать особый алгоритм лондонской походки:
«Все лондонские прохожие (или пешеходы в других крупных городах) вырабатывают особый стиль походки, отличающий их от чужестранцев: проворная гибкость движений, ловкие маневры, уверенный и твердый шаг, целеустремленный вид, говорящий, что надо двигаться во что бы то ни стало; но все же в такой местной походке нет особого величия или грации. Вы видите, что перед вами – не сельский житель, но в то же время и не герой, и не мудрец – скорее всего, это просто кокни»[620].
Многие писатели, безусловно, находили своих будущих героев среди уличных типажей. Особенно увлекался этим Бальзак, причем он не пренебрегал городскими наблюдениями, даже когда требовалось всего лишь подобрать имя для персонажа.
Леон Гозлан вспоминает занятный случай, когда Бальзак обратился к нему за помощью в поисках подходящего имени для героя новеллы и тот предложил ему воспользоваться нетривиальным методом: пройтись по Парижу и высматривать подходящее колоритное имя на уличных вывесках. Бальзак с восторгом принял эту идею, поскольку она абсолютно соответствовала его фланерскому настрою, но затем настолько увлекся поисками, что буквально загнал бедного Гозлана, уже сожалевшего о своем неосторожном совете. Наконец, когда Гозлан уже падал от многочасовых блужданий и чтения вывесок, на улице Жюсьен произошло долгожданное событие: «На последнем отрезке этой улицы (не забуду этого до конца моих дней!) Бальзак взглянул поверх маленькой, слабо обозначенной на стене двери… внезапно изменился в лице, вздрогнул так, что моя рука, подсунутая под его локоть, ощутила толчок, и закричал: – Вот оно! Вот! Вот! Читайте! Читайте! Читайте! – голос его прерывался от волнения.
И я прочитал: МАРКАС!»[621] Этим именем, как известно, Бальзак озаглавил свою новеллу «З. Маркас».
Город для литератора в данном эпизоде предстает как огромный словарь имен, развернутый в пространстве. Фланируя, Бальзак и Гозлан листают его страницы, и ритм походки размечает зигзаг читающего взгляда. Тем самым реализуется древняя метафора города-книги, а фланирование как разновидность прогулки обнаруживает сходство с определенным типом чтения: вольным перелистыванием словаря по принципу ассоциаций, небрежным листанием или гаданием по книге. Нельзя упустить из виду, впрочем, что заветное имя ищется именно на вывеске – где оно «выставлено» в коммерческих целях, рекламируя занятие владельца. Ведь текст, который читают Бальзак и Гозлан, – это отчасти перечень рекламных сообщений.
Но если в этом примере поиск все же имеет конкретную цель, то в романтической литературе чаще всего встречается тип фланера, который выходит на прогулку, подчиняясь властным, но абсолютно неопределенным импульсам. Романтический фланер существует в интимнейшем симбиозе с городом и в пределе во время прогулки впадает в полунаркотический транс, отдаваясь потоку мимолетных желаний и наблюдений, задавая вопросы и не ожидая ответов, проживая городское пространство как абсолютно личное время, как интенсивную медитацию. В таком случае фланирование приобретает оттенок навязчивого транса на грани безумия. Д’Альбер, герой романа «Мадемуазель де Мопен» (1835) Теофиля Готье, вскакивает на рассвете, второпях одевается и отправляется бродить по городу: «Я сам не знаю, куда пойду, но чувствую, что должен идти, а если я останусь дома – я погиб. Мне чудится, что меня зовут с улицы, что судьба моя в эту самую минуту проходит мимо и главный вопрос моей жизни вот-вот разрешится. Я спускаюсь, растерянный и смятенный, платье мое в беспорядке, волосы всклокочены; люди при виде меня оборачиваются и смеются; они принимают меня за юного повесу, который провел ночь в таверне или в ином злачном месте. Я и в самом деле пьян, хотя и не пил ни капли, и даже походкой напоминаю пьяницу: то плетусь, то почти бегу. Я слоняюсь по улицам, как пес, потерявший хозяина, рыскаю тут и там, меня снедает тревога, я все время настороже, оборачиваюсь на малейший шум, проталкиваюсь сквозь всякую толпу, не придавая значения грубым отповедям тех, кого задеваю, и гляжу вокруг так остро, как обыкновенно у меня не бывает. Потом внезапно мне делается ясно, что я ошибся: это не здесь, надо идти дальше, на другой конец города, понятия не имею куда. И я бросаюсь прочь, словно черт наступает мне на пятки. Я лечу, почти не касаясь земли, и вешу не больше унции. Наверное, я в самом деле выгляжу чудаком: лицо искажено заботой и гневом, руки жестикулируют, с губ срываются бессвязные восклицания. Глядя на себя со стороны, я готов расхохотаться себе в лицо, но уверяю тебя, это не мешает мне при первом удобном случае вновь приняться за старое.
Если бы меня спросили, почему я так бегу, я б наверняка весьма затруднился бы ответить. Нельзя сказать, что я спешу добраться до места: ведь я никуда не направляюсь. И не то что боюсь опоздать: ведь я не слежу за временем. Никто меня не ждет, у меня нет никаких причин для спешки.
Быть может, я безотчетно, подгоняемый смутным инстинктом, ищу предмет, достойный любви, приключение, женщину, удачу, что-то такое, чего недостает мне в жизни? Быть может, мое существование жаждет полноты? Быть может, меня гонит желание вырваться из своих четырех стен, из своего Я, и мой удел наскучил мне, и я томлюсь по чему-то другому? Пожалуй, одно из этих объяснений придется впору, а то и все они вместе»[622].
В цитированном пассаже очевидно, что мы уже имеем дело с «клиникой» – фланирование описано как мания, особая душевная болезнь, которой одержим герой. Налицо чисто физические симптомы недуга: «лицо искажено заботой или гневом, руки жестикулируют, с губ срываются бессвязные восклицания». Его влечет на улицу властный зов, зрение обостряется, как у охотника, и он не может регулировать ни свои маршруты, ни свой внешний вид. Подобный транс в чем-то сродни наркотическому состоянию: недаром сам Д‘Альбер говорит, что «это судорожное возбуждение, которое обычно сменяется полнейшим упадком сил»[623].
Это явно полюс, противоположный дендизму с его медленными ритуальными прогулками и тщательно подобранными костюмами. Скорее здесь просматриваются мотивы священного безумия, одержимости, вплоть до связи с нечистой силой. Д’Альбер в славных традициях романтической литературы, конечно, не забывает упомянуть «черта, наступающего ему на пятки», что роднит его с такими хрестоматийными скитальцами, как Фауст, Петер Шлемиль, Чичиков и др. Однако демоническая подкладка «искушения» в этом контексте – не главное. Основное заключается в том, что блуждания по городу – пространственная метафора экзистенциального поиска, который должен осуществиться в городском пейзаже, как раньше в романе воспитания герою обязательно полагалось путешествие в дальние страны. Чисто интуитивный поиск пути в пространстве становится залогом самоосуществления, полноты самореализации. А это, согласно законам романтической иронии, заведомо невозможно, поскольку бесконечность творящего субъекта всегда превосходит границы созданного. Поэтому фланирование Д’Альбера – по сути, фантазматическая погоня за истиной или идеалом, в которой шансы на успех невелики: «Мне часто мерещится, что, выйди я на час раньше или шагай быстрее, я бы поспел вовремя; что, пока я спешил по вот этой улице, на соседней промелькнуло то, что я ищу, и если бы не затор среди экипажей, я бы не упустил то, за чем гонюсь наудачу уже столько времени»[624]. Истина, скрытая в теле города, рано или поздно материализуется в женском образе: «Я надеюсь увидать прелестнуюженщину; я не знаю ее, и она меня не знает…»[625] Но встреча с прелестной незнакомкой по законам жанра чревата разочарованием: чем заканчиваются подобные мечты, российский читатель знает на примере приключений художника Пискарева и поручика Пирогова из повести Гоголя «Невский проспект». Эстет всегда окажется в проигрыше, но это его не останавливает: ведь фланирование как страсть требует новых жертвоприношений, пусть даже на грани безумия.
Сопротивление прагматике, будь то жесткая ориентация на законы светского успеха в обществе или бытовой меркантилизм, роднит фланера с поэтом, адептом эстетических экспериментов. И разве можно считать случайным совпадением, что величайший французский поэт-символист XIX века Шарль Бодлер был страстным фланером, а целый ряд стихотворений в его знаменитых «Цветах зла» содержит зарисовки городской жизни и парижских типажей.
О Бодлере-денди стоит поговорить подробнее, поскольку он много времени посвящал фланированию и за этим стояла особая жизненная философия.
Шарль Бодлер. 1863 г.
Бодлер относился к фланированию как к особому жанру перформанса и, конечно же, тщательно наряжался перед выходом. В мемуарах современников сохранился портрет Бодлера на прогулке: «Медленными шагами, несколько развинченной, слегка женской походкой Бодлер шел по земляной насыпи возле Намюрских ворот, старательно обходя грязные места и, если шел дождь, припрыгивая в своих лакированных штиблетах, в которых с удовольствием наблюдал свое отражение. Свежевыбритый, с волнистыми волосами, откинутыми за уши, в безупречно белой рубашке с мягким воротом, видневшимся из-под воротника его длинного плаща, он походил и на священника, и на актера»[626]. В этом описании сконцентрированы ключевые моменты фланирования: театральность, медленные шаги, внимание к своему внешнему виду и, в частности, к обуви. Бодлер, между прочим, специально оговаривал, что в свежевычищенных сапожках должны отражаться белые перчатки.
Сходство со священником или с актером напоминает и о непростых отношениях с толпой – о публике, ради которой разыгрывается сей спектакль или жертвенное служение. В очерке «Художник современной жизни» Бодлер замечал, что толпа необходима фланеру, как воздух – птице и водяная стихия – рыбе. Искусство слиться с толпой – это профессия и страсть фланера. Растворение в городской суете сулит «лихорадочные наслаждения», смену масок, удовлетворение зрительного голода и исследовательского любопытства. «Толпа – это вуаль, сквозь которую привычная городская среда подмигивает фланеру как фантасмагория»[627]. И все же, как мы увидим дальше, взаимоотношения гуляющего денди и толпы не лишены известного драматизма.
Благодаря Бодлеру фланер обнаруживает еще одну ипостась: вуайеризм. Отныне событийная канва прогулки разворачивается в сфере зрения. Фланер-наблюдатель подобен принцу, вышедшему на прогулку инкогнито, – тайная власть над толпой создает иллюзию вненаходимости, однако повышенный риск заставляет его трепетать от страха разоблачения: король может с легкостью занять место шута. Но чего же бояться фланирующему денди?
Жан-Поль Сартр, посвятивший целую книгу Бодлеру[628], видит разгадку в тирании посторонних взглядов: «Эти глаза повсюду, и в них таятся чужие сознания. Все эти сознания видят его, молча завладевают им и пожирают его; он пребывает в недрах чужих душ, где его классифицировали, упаковали и наклеили сверху этикетку, а какую – он не знает. Вот, например, этот прохожий на улице, скользнувший по Бодлеру равнодушным взглядом, – ему, наверное, ничего не известно о знаменитой бодлеровской „непохожести“, и он принимает его за обычного буржуа, подобного всем прочим. Поскольку же эта непохожесть, чтобы существовать объективно, нуждается в признании со стороны другого, то равнодушный прохожий разрушает ее уже одним своим взглядом»[629].
Страх перед насилием чужих оценок, равнодушных классификаций и этикеток, пусть даже выраженных в мимолетном взгляде, – отражение извечного ужаса субъекта перед овеществлением, объективацией, лишающими его преимуществ созерцательной свободы. Но парадокс состоит в том, что реальность и уникальность наблюдателя тоже нуждаются в подтверждении; контур фигуры фланера создается только в визуальном пространстве возвращенного взгляда. Гуляющий денди катастрофически нуждается в толпе – Бодлер обречен вновь и вновь искать зрителей для своих одиноких прогулок.
Феномен взаимодействия с Другим – вот в чем детективный сюжет и фантасмагория фланирования. Сомнамбулический транс фланера в любую минуту может быть нарушен, и лунатик падает с отвесного края, как только нарушат его сновидение. Перехват взгляда смертелен: если фланера случайно застигнут за созерцанием, происходит мгновенное переключение ролей: наблюдатель превращается в наблюдаемого, охотник – в дичь. Мирная прогулка в экзистенциальном срезе оказывается непрерывной серией оптических микродуэлей, мгновенных визуальных уколов: «тысяча биноклей на оси», как сказано у Пастернака.
Единственный подлинно дендистский метод самозащиты в подобных ситуациях – отчаянная экстравагантность костюма. Тем самым Бодлер пытается взять под контроль чужие взоры: агрессивный наряд заранее предвосхищает чужую реакцию, направляя ее в предсказуемое русло и предотвращая спонтанный (и потому опасный) обмен оценочными взглядами: «Агрессивность его одеяния едва ли не равна поступку, а вызывающий вид – бесшабашному взгляду; насмешник, который на него смотрит, чувствует, что с помощью этой экстравагантности он сам уже предвосхищен и взят на прицел; он шокирован, и причина в том, что из складок одеяния смотрит на него пронзительная мысль, выкрикивающая: “А я знала, что ты будешь смеяться!”»[630] Королевское достоинство фланера благодаря этому мысленному пируэту вновь спасено и победно маскируется шутовской смелостью костюма.
Заметим, что в эскападах Бодлера уже проступает во многом декадентский, истерический надрыв в жизнетворчестве. Как-то раз, например, он явился в гости к своему приятелю Максиму Дю Каму, предварительно окрасив волосы в зеленый цвет. Современные панки, вероятно, радостно приняли бы его в свои объятия, но в то время критерии были более строгие. Презрительное ледяное молчание Максима было единственной критической реакцией, которой удостоился поэт. Ведь здесь налицо явное отступление от дендистского стиля и, в частности, от принципа «заметной незаметности» и экономии изобразительных средств. Вероятно, эта обдуманная провокация – следствие особой бодлеровской чувствительности к «тирании посторонних взглядов», вызов и самозащита одновременно. Для пуристского дендизма в браммелловском варианте подобные радикальные жесты, конечно, немыслимы, это скорее отсылка к маньеризму макарони XVIII века и предвосхищение эпатажных причесок XX столетия. Зато дерзость и загадочная амбивалентность парадоксалиста Бодлера придают особый дразняще-модернистский колорит его фигуре.
В европейской культуре к концу XIX века не исчезли, конечно, и классические варианты фланирования. Спокойная прогулка в медленном темпе долго оставалась модным способом досуга, особенно для дендистской молодежи. Вот характерное признание нашего соотечественника:
«Я снова превратился в какого-то легкомысленного бездельника, жаждущего отведать всяких удовольствий и склонного без толку убивать время… Одним из характерных проявлений этого моего тогдашнего “поглупения”, или возвращения в состояние Flegeljahre, было то, что я пристрастился к фланированию, к бессмысленным бесцельным прогулкам. И происходило это фланирование всегда вдоль набережной Невы – от Дворцового моста до Летнего сада и обратно. Некоторым моим извинением могло служить то, что стояла ровная, изумительно мягкая и теплая погода, что никогда еще с таким величием Нева не несла свои волны, никогда на ее просторе не дышалось так легко. Особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами, а также от зрелища прекрасной архитектуры дворцов; никогда я с таким любопытством не всматривался в лица встречных гуляющих или тех, кто в элегантных экипажах неслись мимо по торцовой мостовой…»[631]
Так Александр Бенуа вспоминал о своих днях юности.
В этом отрывке обращают на себя внимание два обстоятельства. Во-первых, рассказчик испытывает угрызения совести из-за того, что предается фланированию, это воспринимается им как слабость, попустительство праздности и даже «поглупение». Это связано с уже упоминавшимся комплексом буржуазной вины за впустую растраченное время, и оттого ему приходится ссылаться в качестве «извинения» на хорошую погоду. Во-вторых, в процессе фланирования он испытывает разнообразные сенсуальные удовольствия – зрительные, тактильные («особое наслаждение я испытывал от одного ощущения гранитных плит под ногами»), вплоть до приятного «легкого» дыхания. Эти удовольствия предстают как сублимированное эротическое чувство, растворенное в любовании городским пейзажем. Повествователь не скрывает, что во многом его ведет любопытство – он пребывает в состоянии затянувшегося несфокусированного поиска, как бы плывет на волне случайных наблюдений, поэтому только закономерно, что в конце концов его взгляд находит искомое: «Среди постоянно встречавшихся меня особенно заинтересовала одна скромно одетая девица…»[632] И хотя в дальнейшем этот «воображаемый роман» ни к чему не привел, его необходимость была жестко задана законами жанра фланирования. Ведь, в сущности тот же алгоритм желания был описан и у Гоголя, и у Теофиля Готье – город приводит к женщине: хотя и в другом, более напряженно-драматическом ключе.
Мы не случайно до сих пор вели речь только о мужчинах-фланерах. Причина в том, что женщина-flaneuse оставалась в городском пейзаже практически невидимой: в XIX веке порядочные женщины не выходили на прогулку в одиночку, это считалось неприличным; обычно дамы из благородных семейств прогуливались в сопровождении членов семьи или в экипажах[633]. Именно поэтому такая эмансипированная свободолюбивая женщина, как Жорж Санд, была вынуждена прибегнуть к переодеванию в мужское платье, чтобы спокойно фланировать по парижским улицам. Мужской костюм давал ей возможность наблюдать городскую жизнь, не привлекая к себе внимания. Напротив, одинокая девушка всегда невольно обращала на себя внимание мужчин, становясь предметом эротических грез. Возможно, этот простой исторический факт во многом объясняет, почему фланирование неизбежно связано с эротическими мечтаниями, особым состоянием наподобие day-dream, «снов наяву»[634].
Тут, пожалуй, будет нелишне припомнить одну современную трактовку интеллектуального фланирования: знаменитый французский критик Ролан Барт сравнивает читательское восприятие текста с впечатлениями прогуливающегося человека, который свободно отдается потоку ассоциаций и ощущений. Интерпретируя Барта, Сергей Зенкин замечает: «Структуру бартовской прогулки можно сопоставить… c техникой эротического поиска, которая по-французски обозначается словом drague. Словечко это трудно для перевода, и употребляемое в русском переводе "Фрагментов…" слово "волокитство" лишь отчасти передает его семантику. Английские комментаторы Барта пользуются словом cruising – "крейсирование", "свободная охота", что несколько ближе к этимологическому смыслу "траления", "ловли рыбы волочильной сетью"; они также уместно сопоставляют данное понятие с понятием "фланирования", введенным во французскую культуру Бодлером и позднее проанализированным Вальтером Беньямином…»
Далее С.Н. Зенкин цитирует очень важное высказывание Барта по поводу понятия drague: «Это, конечно, грубое слово, из разговорного, любовно-эротического языка. Я потому несколько раз воспользовался им, что в моем восприятии оно отсылает именно к состоянию желания, это очень важное состояние – оно заключается, скажем, в том, чтобы нацеливаться, направляться, как бы выступать; очарование от первой случайной встречи – будь то, конечно, встреча с партнерами по любви или же встреча со словами, с текстами, – очарование оттого, что это словно впервые, от абсолютной новизны, от неведомого, которое мгновенно и полностью избавляет Вас от гнета повторов, от стереотипов…»[635]«Итак, – заключает С.Н. Зенкин, – есть основание считать drague, „фланирование“, „волокитство“, „свободный поиск“ метафорой Текста»[636].
П.Гаварни. Два денди
Фигура слева – Жорж Санд, справа – А. де Мюссе. 1835 г.
Расфокусированное желание, романтическое томление, лишенное цели и замкнутое в городском пространстве, метафорически приводит нас через тело к Тексту. Фланирование запускает повествовательный механизм, порождая определенный тип повествования и сюжета. Жанры «фланерского» текста могут быть различны – это и авантюрный роман («Парижские тайны» Э. Сю), и детектив («Записки Шерлок Холмса» Конан Дойля), и любовная новелла («Златоокая девушка» Бальзака). Но идеальный жанр, в котором фланер выступает не как действующий герой, а в своей коронной роли наблюдателя, – набор очерков, бессвязные ассоциативные заметки, набросанные в кафе на салфетках, записки о приключениях, которые ничем не завершаются, как в новелле «Человек толпы»[637] (1840) Эдгара По. Главным героем здесь оказывается странный старик, за которым любопытствующий наблюдатель следует всю ночь, надеясь разгадать его тайну. Но тайны нет, старик просто «отказывается быть один. Он – человек толпы». Сюжет обрывается, однако жанровый каркас заявлен предельно четко: на первом плане – наблюдатель, наделенный «избытком» видения, и мелькающие «объекты». Наблюдатель легко превращается в преследователя-детектива, а «объект» – в «олицетворенный дух преступления». Видение наблюдателя с самого начала описывается как эйфорическая активность: «обнаружил себя в счастливом настроении, прямо противоположном скуке, – в состоянии острейшей восприимчивости, когда с умственного взора спадает пелена… и разум, будучи наэлектризован, превосходит… свои обыденные свойства»[638]. Эта наркотическая избыточность видения и есть основная черта поэтики фланирования, drague XIX века: удержание взвешенного состояния, искусство дистанцированного наблюдения. Смотрящий дает волю своему воображению, сочиняя истории и судьбы своим персонажам, мгновенно строя гипотезы и столь же быстро отбрасывая их.
Архетипический текст в этой традиции – последняя новелла Гофмана «Угловое окно» (1822), в которой парализованный рассказчик целыми днями наблюдает жизнь толпы на рыночной площади. Он прикован к инвалидному креслу, но игра воображения открывает перед ним фантасмагорические картины. Характерно, что самое первое впечатление у гостя, который глядит сквозь угловое окно на рынок, сходно с состоянием транса: «Зрелище то, правда, довольно занятно, но в конце концов утомительно, а у человека особенно восприимчивого может даже вызвать легкое головокружение, которое немного напоминает предшествующее сну полузабытье, не лишенное, впрочем, приятности»[639]. Именно это эйфорическое состояние транса зафиксирует в дальнейшем рассказчик Эдгара По, а у Гофмана оно описывается как особое «умение видеть». Гофмановский герой дает в руки гостю лорнет и приглашает его полюбоваться мизансценами обыденной жизни, на ходу комментируя и импровизируя, благодаря чему ему даже удается «разглядеть» чертенка, подпиливающего ножки стула, на котором восседает торговка. Это видение еще допускает линзу воображения, романтический «серапионовский принцип», но гофмановский герой уже заявляет: «Я должен отказаться от той действенной творческой жизни, источник которой во мне самом, она же, воплощаясь в новые формы, роднится со всем миром»[640].
Эти новые формы, которые проницательно предчувствовал Гофман, уже начинали свою работу в городской повседневности. «Угловое окно» было опубликовано в 1822 году, а «большая часть парижскихпассажей, – отмечает Вальтер Беньямин, – возникла за полтора десятилетия после 1822 года»[641]. Вскоре романтические «угловые окна», лорнеты и монокли дополняются еще одной важной метафорой творческого видения – это стендалевское определение романа как «зеркала на большой дороге». Всепоглощающее универсальное зрение становится авторским «всезнанием» поэта или художника. Изучение людей на улице уже рассматривается не просто как тренинг наблюдательности, а скорее как особый вид гедонизма, способность подзаряжаться коллективной энергией масс. Очень хорошо об этом сказано в очерках Бодлера: «Тот, кто движим любовью к жизни мира, проникает в толпу, словно в исполинскую электрическую батарею. Он подобен зеркалу, такому же огромному, как эта толпа; он подобен наделенному сознанием калейдоскопу, в каждом узоре которого отражается многообразие жизни и изменчивая красота всех ее элементов. Это “Я”, которое ненасытно жаждет “не-Я” и ежеминутно воплощает его в образах более живых, чем сама непостоянная и мимолетная жизнь»[642]. Серия сравнений в этом небольшом фрагменте Бодлера в высшей степени показательна: фланер заряжается энергией от толпы, как от большой электрической батареи, он действует как фантастический прибор, мыслящее зеркало-калейдоскоп, которое не только отражает, но и само создает новые узоры, комбинации образов.
Фланер как культурный герой, таким образом, воплощает особый тип видения – он зрительно взаимодействует с толпой, но не до конца сливается с нею, всегда оставляя за собой право на дистанцию, особую комбинаторику впечатлений. И оттого его ближайшие «родственники» – денди, детектив, шпион, бретер, хулиган, старьевщик – фигуры, наделенные прерогативой тайного умысла и особого зрения, умеющие читать незаметные для других знаки.
Аналогичный алгоритм работает и в визуальных стратегиях дендизма. Денди – опытный и ироничный читатель дресс-кодов, и в то же время он сам представляет из себя идеальный объект для созерцания. Фланер наследует от него непростое искусство выдерживать чужие взгляды и предаваться собственным наблюдениям. Но если денди статуарен, весь структурирован и собран, то в фигуре фланера порой явственно проступает «текучесть», он слишком склонен предаваться «drague», наркотическому трансу бесцельных прогулок и мимолетных взглядов, желаний. Предельный полюс этой свободной охоты – романтическое безумие Д’Альбера. Происходит «рассасывание» или «рассеивание» личности, фланер становится, по словам Сартра, «воплощением сугубо созерцательной свободы». Вуайеризм и «рассеивание», неполнота присутствия фланера – один из важных признаков новой модернистской «чувствительности», требующей беспрестанных переключений[643], каскада быстрых впечатлений, не требующих драматически тяжелой сосредоточенности (поэтому, кстати, женщина, которую замечает фланер, должна по сюжету «мелькать» и оставаться неуловимой).
Фланер. Ил. из трактата Л. Харт. Физиология фланера. 1841 г.
Эта поэтика беспрестанного поиска и краткой новизны уже в середине XIX столетия предвосхищает апофеоз моды как культурного института (отсюда похвала косметике под пером Бодлера, Теофиля Готье и позднее Макса Бирбома) и указывает на новую складывающуюся как раз в тот период парадигму «современности», «модерна». Фланирование – один из симптомов этих наступающих перемен. Зрение фланера, настроенное на восприятие фигуры в движении, уже имплицитно содержит вектор времени.
Женская мода во второй половине XIX века, подчиняясь тем же законам, становится более динамичной: новые скорости диктуют изменения фасонов. Перелом происходит в 1870-е годы, когда затрудняющие движения кринолины уступают место юбкам с турнюрами, а ближе к концу столетия дамы уже осваивают велосипед. «Силуэты их платьев и причесок были как будто рассчитаны на взгляд в профиль, поскольку идущего мимо и исчезающего прохожего видно именно в профиль. Платье становится образом быстрого движения, уносящего весь мир»[644].
Это наблюдение Шарля Блана[645] приводит один из наиболее интересных философов нашего века, теоретик «Модерна» Вальтер Беньямин, человек трагической судьбы, оставивший незавершенным свое последнее гигантское сочинение – «Труд о пассажах»[646]. В этой книге Париж обрисован как «столица XIX столетия», урбанистической цивилизации, наследницей которой является наша культура. На фоне парижских пейзажей Беньямин исследует городские типы: старьевщик, коллекционер, человек-сэндвич, обвешанный рекламными плакатами, проститутка, детектив, фланер… У Бодлера Беньямин проницательно фиксирует «взгляд аллегорического поэта, направленный на город, – скорее взгляд отчужденного человека. Это взгляд фланера, чей образ жизни еще окружает будущее безотрадное существование жителя мегаполиса примиряющим ореолом»[647]. Благодаря этому взгляду магазины роскоши и новинок, производство готового платья поначалу еще сохраняют свою романтическую ауру, хотя позднее в романах Золя («Дамское счастье») уже разоблачается механика коммерческого апофеоза.
Пассажи, крытые торговые ряды под стеклянными сводами, стали для Беньямина прообразом современных форм городской жизни. Будучи гибридом улицы и магазина, пассажи сохраняют внутри черты городской архитектуры (что до сих пор видно в нашем ГУМе, имеющем центральную площадь с фонтаном), но в то же время отличаются безопасностью для пешеходов и особой зрелищностью витрин и реклам. Это идеальное пространство для фланера, искусственный рай и одновременно место консюмеристских искушений. Именно в обманчивом пограничном переходе-пассаже свершается роковая метаморфоза фланера: он становится прежде всего потребителем, утрачивая бальзаковскую «неподвижность лица». Личное городское пространство и непредсказуемые маршруты превращаются в коммерчески запрограммированные траектории. Вольные дендистские прогулки незаметно подменяет суетливый шопинг, медленный шаг фланера и философские медитации – автоматизм навязанных желаний, безотрадный глянец ненужных покупок; словом, торжествует стихия «virvoucher».
Фланер. Иллюстрация из трактата Л.Харт. Физиология фланера. 1841 г.
Современная модификация старинных пассажей – громадные шопинг-моллы, менеджеры которых пытаются создать в своих универмагах атмосферу детского праздника, чтобы каждый покупатель ощутил себя ребенком, получающим подарки, или, на худой конец, посетителем парка аттракционов. Тут можно назначить свидание, пообедать, провести деловую встречу и поплавать в бассейне. Универмаг стилизуется под природный ландшафт, в котором происходит смена времен года (сезонные распродажи); остров сокровищ, райский сад, феерический город изобилия, становясь в пределе моделью будущей цивилизации.
Но в этой утопии уже нет места фланеру – он не терпит суеты. Где же тогда искать их, современных адептов свободных прогулок? Ответ ясен: они все ушли в Интернет и там фланируют вволю, удовлетворяя свое любопытство и реализуя дендистский идеал экономных движений в лабиринте электронных пространств.
Историческая ароматика: о парфюмерном дендизме
Lecteur as-tu quelquefois respiré Avec ivresse et lente gourmandise Ce grain d’incens qui remplit une église Ou d’un sachet le musc inveteré! Ch. Baudelaire Случалось ли, мой друг читатель, вам Блаженствовать и томно длить мгновенья, Безумно, долго, до самозабвенья Вдыхая мускус или фимиам. Ш. Бодлер [648]Нередко образы прошлого нам кажутся плоскими, сухими и скучными – слишком много тонких и нежных нюансов безвозвратно разрушается со временем. Исчезают объем и дыхание, динамика живого жеста, лучшие книжки по истории костюма не могут передать сопутствующую одежде звуковую гамму: так пропадает загадочный шелест юбки фру-фру, столь волновавший людей конца XIX века. Шорох шелковой оборки тогда воспринимался как сигнал и секрет женского очарования – теперь это ощущение восстановить, наверное, невозможно. Очень часто такой утраченной культурной ассоциацией оказывается запах. Знаковый эффект аромата – самый мощный и одновременно самый хрупкий компонент, составляющий и в буквальном, и в переносном смысле атмосферу эпохи. Именно в этом потерянном измерении скрыты мегабайты значимой информации, поскольку именно запахи интимно связаны с человеческим телом, с работой интуиции, памяти и воображения. Запах – испаряющаяся аура тела и вещи, ее вибрирующий контур, первый подвижный пограничный слой между оболочкой и внешней средой. Наслаждение ароматом – метафора владения материальным миром в его самой эфемерной, летучей субстанции, на грани перехода в небытие.
Не оттого ли наиболее изощренные писатели всегда старались найти верные слова, чтобы хоть как-то уловить дразнящую прелесть запахов? Бальзак, Бодлер, Гюисманс[649], Оскар Уайльд, Пруст, наш современник Патрик Зюскинд посвятили благовониям прочувствованные страницы, а в романе «Наоборот» появляется образ денди-парфюмера дез Эссента, который сам синтезирует запахи, экспериментируя с ароматическими веществами как вольный художник. Исторические смыслы парфюмерии очень подвижны. Запах как предельно эластичная культурная модель каждый раз получает новое символическое наполнение в зависимости от требований момента, с легкостью воплощая наше желание быть другими, меняться и играть. Это идеальный знак, столь же чувственно-конкретный по форме, сколь и прозрачный, абсолютно пустой по содержанию. Если спросить, существуют ли приятные и неприятные запахи сами по себе, то ответ культуролога будет отрицательным: эмоциональная аура запаха целиком зависит от момента и контекста, нет и не может быть объективной оценки запаха. При том, что обоняние физиологично, «расшифровка» запаха регулируется культурными установками.
Знаменитый парфюмер Эдмон Рудницка[650]писал: «Запах, или собственно обонятельное (ольфакторное) впечатление, – это феномен сознания, вызванный действием определенного материала (натуральной эссенции или синтетического продукта)». Эта схема предполагает несколько этапов: действие пахучего вещества – возбуждение обонятельных рецепторов – выработка «ольфакторного послания» – обонятельное впечатление. Из них для нас наиболее интересна стадия оформления «послания», поскольку именно в этот момент активно подключается смысловое поле культуры: «возбуждение, чтобы вызвать общую реакцию, сначала переводится и кодируется», а затем уже передается через нервные импульсы в головной мозг, где этот сигнал соотносится с другой информацией, то есть попадает в знаковое поле и расшифровывается как приятный или неприятный, опасный или, может быть, расслабляющий. Далее уже следует реакция на уровне поведения и социальных императивов – таков самый условный алгоритм обонятельного впечатления: это траектория, ведущая от природы к культуре.
Грамматика ароматов редко становится объектом рефлексии, но ее законы достойны внимания: интересно изучать историю запахов как особую часть культуры. Попробуем для начала разобраться в исторической символике запахов на одном конкретном примере.
Современному человеку вряд ли понравится запах пачулей, скромного растения из семейства мятных, – он скорее воспринимается как резкий и малоприятный. «Пачули, не знавшие себе равных по едкости затхлого и ржавого запаха в необработанном виде», – писал о них Гюисманс[651]. А вот в эпоху Наполеоновской империи пачули были в моде, и ни одна красавица не мыслила выхода в свет без их теплого смолистого аромата. Причина популярности пачулей скрывалась в индийских шалях: дамы носили неоклассические туники и, чтобы не замерзнуть, кутались в кашемировые шали. А на Востоке такие шали издавна прокладывали сухими пачулями, чтобы уберечь ткань от моли. Так землисто-древесный запах пачулей стал прочно ассоциироваться с красивыми шалями и превратился в символ модной экзотики. Дамы настолько обожали его, что парфюмерам пришлось срочно выпускать духи, настоянные на пачулях. Если представить себе женские образы на полотнах Энгра и Давида, то от этих портретов должно веять пачулями.
К середине XIX века этот аромат, однако, уже утратил свою магнетическую привлекательность – прошла мода на Восток, и ориентализм временно отступил на задний план. Пачули стали неуместны в обонятельном пейзаже второй половины XIX века и воспринимались как символ дурного вкуса. «Чем это Вы надушились, Пыльников? – спрашивают мальчика в романе «Мелкий бес». – Пачкулями, что ли?»[652] Реабилитировала пачули только в 1937 году модельер-сюрреалистка Эльза Скьяпарелли, придумав духи «Shocking». А еще позднее, в 60-е годы, пачулями увлеклись хиппи, проповедовавшие восточную мудрость и flower power[653]: на волне возрождения ориентализма к нам вернулись и пачули.
Итак, история с пачулями подтверждает, что «прочтение» запаха целиком зависит от культурного контекста. Но как складывается тот или иной контекст? Это не просто механический срез исторических обстоятельств, текущей ситуации в искусстве и в науке. Порой все решают почти незаметные тонкие условности вкуса и этикета: в свое время они были очевидными и необсуждаемыми аксиомами, а сейчас они уже непонятны. И, конечно, отношение к аромату во многом задает парфюмерная мода, а ее движущие силы – новизна и престиж.
Приглядимся – или принюхаемся – к истории всем знакомого одеколона. Родословная «Кельнской воды» связана с итальянским семейством Феминис, владевшим старинным монастырским рецептом Aqua Admirabilis, в состав которого входили бергамот, лаванда, розмарин, настоянные на виноградном спирту. Точные пропорции держались, разумеется, в тайне от посторонних. В 1709 году глава рода Джан Паоло Феминис переехал в Кельн и вызвал туда на помощь племянника Джованни Марию Фарину, который обнаружил незаурядные способности, как мы бы сейчас сказали, менеджера и очень удачно стал продвигать продукт на рынке.
В период Семилетней войны (1756–1763) французские солдаты, побывав в Кельне, привезли оттуда одеколон. Это была удивительная новинка, немедленно породившая спрос в Париже; тогда же возникло французское название «Eau de Cologne» – «Кельнская вода». Новизна и редкость одеколона обусловили его дороговизну в Европе. Очевидно, что изначальный престиж одеколона был также связан с его недоступностью, иностранным происхождением и тайной аромата. Самые известные личности стали увлекаться одеколоном: большой его поклонницей была мадам Дюбарри[654].
Император Наполеон даже во время военных кампаний всегда имел при себе бутылочку с «Кельнской водой», причем для него изготовили флакон специальной формы в виде валика, который можно было носить за отворотом сапога. Наполеон расходовал до двух флаконов в день[655], причем он не только душился одеколоном, но и капал его на сахар, в воду для ванны, для полоскания, считая, что одеколон в принципе полезен и стимулирует работу мозга.
Это пристрастие императора служило мощной дополнительной рекламой: каждый любитель одеколона чувствовал себя причастным к вкусам наполеоновского двора. «Кельнская вода» в то время уже продавалась и в Париже, где в 1806 году был открыт парфюмерныймагазин Фарины. Три первых десятилетия XIX века одеколон пользовался успехом и слыл элитарным запахом, однако его репутации роковым образом повредил… технический прогресс в парфюмерии.
В 1830 году был изобретен метод экстракции растворителями, позволяющий выделять душистости из эфирных масел. Так был получен ментол из мятного масла и гераниол из цитронеллового масла. Это позволило удешевить производство некоторых марок духов. Если раньше настоящие духи все-таки были предметом роскоши, то теперь ряд ароматов стал доступен по ценам для широкой публики и соответственно утратил оттенок престижности.
Эта судьба постигла и одеколон. Массовое производство лишило самую известную туалетную воду элитарности. Одеколон стал окончательно считаться дешевым запахом после того, как его полюбили младшие клерки. Средний класс в то же время начал пользоваться им исключительно в гигиенических целях. Благодаря снижению цен одеколон довольно быстро превратился в популярную и дешевую марку, и в 1863 году в Кельне насчитывалось уже 63 парфюмерных магазина, торгующих одеколоном, причем все владельцы претендовали на родство с семейством Феминис-Фарины.
Этот случай показывает, как безжалостно губит престиж аромата «downward mobility», способность спускаться вниз по социальной лестнице. Нельзя сказать, впрочем, что никто не пытался вернуть одеколону утраченную элитарность и имперскую ауру. В 1853 году парфюмер Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен создал марку «Императорский одеколон» специально для императрицы Евгении, супруги Наполеона III. В оформлении флакона использовался орнаментальный мотив пчел и сот – деталь герба Наполеона. Эти соты, кстати сказать, украшают и флакон туалетной воды «Aqua Аllegoria» Герлен.
Как видно из истории одеколона, на протяжении XIX века одеколоном пользовались как дамы, так и кавалеры – разделения духов на мужские и женские еще не существовало. Принц Уэльский, будущий Георг IV, как-то раз «унюхал» приятный запах одной дамы на балу и с тех пор пользовался этими духами. Наполеоновское пристрастие к одеколону разделяли его придворные обоего пола[656]. Перемены в сфере мужских и женских запахов пока еще только зрели.
В целом эпоха Директории и первой Империи была ориентирована на интенсивную чувственность. Желая получить наслаждение от жизни, в средствах не стеснялись. Легендарная мадам Тальен[657] принимала ванны из молока, разбавленного малиновым и клубничным ароматизированными маслами. В парфюмерии то же стремление выражалось в пристрастии к животным и интенсивным цветочным запахам типа пачулей и роз.
Супруга Наполеона Жозефина тоже в свое время отдала дань моде на пачули. Но ее любимыми запахами были розы (в дворцовых садах Мальмезона цвели все виды роз) и мускус[658]. В начале XIX столетия ароматы, в которых доминировали животные элементы – мускус, амбра[659], цибетин[660],– пользовались небывалым спросом и про Жозефину говорили: «Без ума от мускуса». Наполеон же, напротив, мускуса не переносил. Когда их брак с Наполеоном был расторгнут, Жозефина в отместку бывшему супругу надушила дворцовые апартаменты мускусом. Этот запах не выветривался, по свидетельству мемуаристов, десятилетиями и чувствовался еще в конце века.
Однако в 30-е годы положение меняется. Период Реставрации завершается окончательным переходом от животных ароматов к легким цветочным[661]. Мускус, амбра, цибетин вытесняются лавандой, розмарином, флёрдоранжем, акацией, фиалкой и туберозой. Теперь считается, что резкие животные запахи могут послужить причиной неврозов, меланхолии и позднее – истерии у женщин. Ароматы животного происхождения остаются на долю куртизанок, а благопристойным буржуазным дамам рекомендуется палитра из легких цветочных запахов. Это соответствует новой риторике любовного кокетства: надо уметь возбудить желание, не нарушая внешних канонов скромности, вскружить голову кавалеру, не давая недвусмысленных авансов.
Женщине предписывается слабость, утонченность, деликатность чувств и поэтичность натуры. Поэтому оптимальная метафорика женского образа – флоральная: женщина ассоциируется с цветком, невинным, слабым и прекрасным. Отсюда – мода украшать наряд цветами, увлечение оранжереями и зимними садами. Светские героини из романа Эжена Сю «Парижские тайны» устраивают у себя дома роскошные зимние сады и украшают свои бальные наряды живыми цветами: «В тот вечер на маркизе было платье из белого крепа, украшенное веточкой камелии, в чашечке которой сверкали, наподобие капель росы, полускрытые в ней бриллианты; венок таких же цветов осенял ее чистый белый лоб»[662].
Изменяются и правила использования косметики: отброшены пудра, румяна и белила, столь популярные в XVIII веке. Отныне врачи говорят, что кожа должна дышать, поры – оставаться открытыми, поэтому следует больше применять очищающие лосьоны, ополаскивать лицо мыльным раствором и увлажнять миндальным кремом. Хотя для вечерних выходов по-прежнему используется пудра, позволяющая достичь эффекта «жемчужной кожи», и черная подводка для глаз, в целом потребление косметики и духов сокращается.
Благодаря новым химическим методам цветочные духи стали доступны для широкой публики. Теперь любая дама с самыми скромными средствами могла приобщиться к новым удовольствиям. В 1833 году в лондонском парке Воксхолл было вывешено рекламное объявление парфюмерной лавки:
Эй, леди-дендизетки, любительницы нежных духов, Вас ждут дистиллированные ароматы всех цветов В наших склянках и коробочках, ротондах и комнатах, Все сладкие запахи всего за шиллинг! Ye Dandyzette ladies, who love soft perfumes, The scent of all flowers distilling, In our bottles and boxes, rotundas and rooms, You'll find all their sweets for a shilling.Новые манеры требуют иного обращения с духами: теперь духи нельзя наносить прямо на кожу, как раньше. Полагается душить отдельные предметы туалета: носовые платки, веер, перчатки и митенки, кружева, окаймляющие бальный букетик цветов. Белье в доме должно благоухать свежим запахом лаванды.
За этими меняющимися канонами парфюмерного этикета стоят крупные сдвиги в жизни общества, и прежде всего – оформление среднего класса как активной социальной силы. Новый класс хочет маркировать свой статус через особое отношение к телу, чему весьма способствует развернувшаяся как раз в этот период санитарная реформа[663]. Забота о гигиене позволяет прежде всего отделить себя от «грязной» бедноты, выдвигая идеал стерильного буржуазного уклада. Но другой точкой отталкивания является прежняя аристократия, употреблявшая раньше слишком тяжелые животные ароматы. В поисках своего гигиенического стандарта средний класс снижает потребление духов, поскольку теперь уже не надо заглушать духами запах немытого тела, и открывает для себя преимущества частых купаний. Духи, напротив, начинают рассматриваться как нечто вредное, забивающее поры чистой кожи.
Описанный сдвиг в смысловой символике парфюмерии аналогичен происходившей в то же время революции в мужском костюме. Из мужского костюма уходит цвет: взамен ярких синих, зеленых, коричневых оттенков воцаряется унылый черный. Черный фрак и сюртук становятся универсальной мужской униформой: столетие предпочитает облачиться в траур, как говорит Бодлер.
Еще один признак из той же серии подспудных перемен – изменения в диете. Блюда с большим количеством пряностей в 1830-е годы становятся немодными. Они ждут своего часа до новой волны увлечения Востоком ближе к концу века, пока же средний класс опасается экзотики. По сходной логике буржуа-завоеватель колоний относит экзотические ароматы к признакам «низшей» колониальной культуры. Это лишний раз показывает, насколько в культуре все взаимосвязано: существенные изменения срабатывают комплексно, в нескольких сферах сразу.
Одновременно меняется отношение к сексу, что особенно заметно в Англии: пресловутая викторианская чопорность диктует подчеркнутую скромность, а животные ароматы читаются как «нескромные». Буржуазная стыдливость подразумевает повышенную бдительность в отношении женского тела: мода на кринолины в середине века окончательно скрывает естественные очертания женской фигуры.
Все, что связано с телесным низом, – сексуальные удовольствия, менструации, роды – становится абсолютным табу в обществе.
Не случайно именно в этот период происходит решающая перемена в нормативных представлениях о женских и мужских запахах в парфюмерии: появляется потребность провести четкую символическую границу, чтобы исключить любые недоразумения. Счастливые заимствования понравившихся запахов (случай с принцем Уэльским) или универсальность одеколона теперь уже отнюдь не приветствуются.
С 1830-х годов традиция унисексных духов полностью отступает и духи начинают отчетливо подразделяться на мужские и женские. В Англии, а потом и в других странах, мужчины перестают пользоваться животными и цветочными ароматами. На их долю остаются «лесные» запахи – сосна, кедр, дубовый мох, отражающие метафорику охоты, потом к ним добавляется запах кожи, на что позднее делает ставку фирма Гермес. Другие допустимые мужские запахи – аромат благородных сигар и табака, запах чистого тела и виски. Основные парфюмерные дома середины XIX века – Убиган, Любен, Пивер – практически не выпускают специальных духов для мужчин. Отсутствие искусственного запаха у мужчин маркируется как новая культурная норма, символическая проекция честности, прямодушия, порядочности.
Эта ситуация начнет потихоньку меняться только к концу XIX века, когда эстетика европейского декаданса санкционировала в образе идеального мужчины толику женственности или по крайней мере утонченной чувствительности. В 1889 году Эме Герлен выпускает духи «Jicky», в которых цибетин, лаванда и бергамот сочетались с синтетическими кумарином, ванилином и линалолом. «Jicky» считается первым образцом современной парфюмерии.
Эме Герлен назвал духи в честь племянника Жака, которого домашние звали Jicky; другая легенда гласит, что «музой» Эме была его подруга англичанка Jicky. Гендерная неопределенность, заложенная в названии, отразилась в спорах об адресате духов. По одной версии, этот сложный аромат изначально предназначался для дам[664], а некоторые завзятые франты «перехватили» его и ввели в моду среди мужчин. Был даже зафиксирован случай отравления духами «Jicky», причем жертвой оказался один никому не известный юный денди. Однако существует и прямо противоположная версия: духи создавались для мужчин, а в итоге попали в арсенал женской парфюмерии.
В 1904 году Герлен делает специальные мужские духи (на этот раз неопределенность адресата исключалась с самого начала!) с программным названием «Mouchoir de Monsieur» – для модников, любителей надушенных носовых платков. Затем уже другая фирма выступила с мужскими духами «Chevalier D’Orsay» (названными в честь известного денди графа д’Орсе), и далее это стало обычным: табу было снято. Но оформление флакона духов для мужчин принципиально отличалось от женских своими прямоугольными очертаниями и сравнительной простотой украшений.
(Небольшое отступление на эту же тему. 70-е годы XX века отмечены расцветом феминизма: на сцене появляется энергичная, самостоятельная женщина. Как реагирует рынок парфюмерии? В 1973 году компания Ревлон запускает духи «Charlie», пользующиеся феноменальным успехом. Реклама «Charlie» акцентировала образ идеальной активной клиентки, которая носит брючный костюм в офисе, делает карьеру и сама приглашает мужчин на танец в клубах. Через 10 лет сходную стратегию применила фирма Jockey, специализировавшаяся на мужском белье. Она предложила линию женского белья «Jockey for Her» из хлопка, без традиционных кружев и сразу побила все рекорды продаж, ориентируясь на уже выявленную категорию потребителей – деловых дам.)
Но вернемся к культурным переменам в середине XIX века. Царство тонких цветочных ароматов теперь – привилегия слабого пола. Развитое обоняние начинает ассоциироваться с такими женскими способностями, как интуиция, чувствительность, аккуратность. Напротив, чисто «мужской» орган восприятия – зрение, осмысляемое как умозрение, теоретическое познание, ведущее к практическому освоению нового пространства, – взгляд исследователя и завоевателя. «С одной стороны – географические карты, микроскопы и деньги; с другой – сосуды для благовоний, еда и духи»[665].
После утверждения нового стандарта буржуазной мужской нейтральности запах начинает восприниматься как отклонение от нормы, признак «Другого». Носители запахов маркируются в общественном сознании как маргиналы. Среди представителей маргинальных категорий – дикарь, «savage» («другой» с имперской точки зрения); бедняк («грязные нищие, рабочие»), ребенок; куртизанка, использующая резкие запахи-афродизиаки; лица нетрадиционной сексуальной ориентации («другие» в рамках официальной морали) и, наконец, богема, вольные художники без определенных занятий.
Вытеснение на идеологическую периферию определенных запахов – восточных благовоний, тяжелых животных ароматов, человеческого тела – означало, что они получают явную негативную маркировку в культуре. А там, где есть табу, есть и возможность эффектно его нарушить, чем не преминули воспользоваться хитроумные литераторы. Описание неприемлемых запахов развернулось в подробные «обонятельные» пейзажи у романистов и поэтов: Бальзак, Виктор Гюго, Бодлер, Малларме, Эмиль Золя использовали запах как прием для выражения оппозиционных настроений, для шокирования благонамеренной публики. Именно поэтому позднее у Оскара Уайльда, Гюисманса, Рильке и Мачадо[666]запах с такой легкостью приобрел коннотации греха, соблазна, чувственного вызова. Amor-Aroma – этот палиндром может послужить тайным шифром таких эстетических настроений.
В 1855 году Бодлер пишет свой знаменитый сонет «Соответствия» (четвертый в сборнике «Цветы зла»). В нем запахи предстают ключевым символом вселенской гармонии («Соответствия» были навеяны чтением Сведенборга[667]):
Есть запах чистоты. Он зелен, точно сад, Как плоть ребенка свеж, как зов свирели нежен. Другие – царственны, в них роскошь и разврат, Для них границы нет, их зыбкий мир безбрежен, Так мускус и бензой, так нард и фимиам Восторг ума и чувств дают изведать нам[668].Царство запахов для поэта – территория эстетизма, тайный код сенсуальных наслаждений. Вероятно, оттого Бодлер и спрашивал читателя, случалось ли ему блаженствовать, вдыхая мускус и фимиам, – эти два полярных запаха, животный и растительный, аромат страсти и аромат святости, обозначали для него символический диапазон обоняния, к которому должен быть подключен идеальный читатель. Но такие воззрения в тот период были далеко не общеприняты. Как известно, сборник «Цветы зла» вскоре после публикации был осужден цензурой.
Бодлер все время играл на соединении двух табуированных мотивов: эротическое тело и интенсивный запах[669]. Вряд ли можно считать случайностью, что тексты наиболее выразительных и откровенных стихотворений сборника изобилуют упоминаниями экзотических и телесных ароматов – тут и «острый запах» нагого тела, ассоциирующийся с восточными благовониями, и «душистые юбки» возлюбленной, и аромат ее волос, «отягченный волною истомы»… Интересно, что нередко аромат упоминается в последней строчке стихотворения, текст как будто оставляет читателю заключительный ароматический аккорд – так завершается, к примеру, стихотворение «Кошка»:
И соблазнительный, опасный аромат Исходит, как дурман, ни с чем другим не схожий, От смуглой и блестящей кожи[670].По поэзии Бодлера и впрямь можно изучать чуть ли не весь ассортимент запахов эпохи, причем границы ольфакторного пейзажа как раз тогда были существенно расширены. Во-первых, на волне увлечения «колониальными товарами» в европейских странах на рынках понемногу появились восточные благовония. Ими стала увлекаться артистическая богема, создавшая моду на ориентализм. Во-вторых, на помощь эстетам пришла технологическая революция в парфюмерии. Самый значительный прорыв произошел в 1868 году, когда английский химик Уильям Перкин создал первый синтетический запах: кумарин, душистое вещество ячменника, был получен из салициловой кислоты. Далее были синтезированы мускус (1888), ваниль (1890), фиалка (1893) и камфора (1896). Кумарин[671], имеющий запах свежескошенного сена, был использован в 1882 году в духах Поля Парке из Дома Убиган, а затем в знаменитом «Jicky» (1889) Герлена, открывающем эру модернизма в парфюмерии.
Синтетические ароматы окончательно придали парфюмерии статус особого ремесла, наполовину науки, наполовину искусства. В 1867 году на Всемирной выставке был предусмотрен особый отдел для лекарств, мыла и духов. Многие парфюмеры, однако, отказались участвовать в этом мероприятии, потому что Наполеон III, патронировавший выставку, потребовал, чтобы парфюмеры писали на этикетке формулу духов, как аптекари – перечень ингредиентов в составе лекарства. Но раскрыть формулу для парфюмеров означало поделиться с посторонними своими драгоценными секретами, чего они испокон веков избегали. Сопротивление новейшему коммерческому духу подчеркнуло эзотеризм, присущий парфюмерному ремеслу.
С середины века происходит профессионализация парфюмерного дела, выделение его из смежных специальностей. Так, фирма Герлен была создана в 1828 году, и вначале в ее каталоге числились и жир канадского медведя, и восточная пудра для полировки ногтей, и нюхательные соли, и белила для кожи[672]. Лишь позднее, в 1840 году, Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен[673]открыл бутик на Рю де ла Пэ и стал специализироваться на духах. Он составил персональную туалетную воду для Оноре де Бальзака, а затем для императрицы Евгении, благодаря чему получил титул императорского поставщика. В дальнейшем фирма Герлен долго сохраняла свою уникальность, оставаясь семейным делом и специализируясь только на парфюмерии. Еще недавно фирму возглавлял Жан-Поль Герлен.
Итак, перечислим еще раз, какие главные обстоятельства определяли ольфакторную цивилизацию в середине XIX века: 1) профессионализация ремесла парфюмера и вытекающий отсюда эзотеризм; 2) утверждение нейтральной нормы буржуазных мужских запахов; 3) альтернативная эстетика чувственных запахов в литературе.
Все эти факторы привели к возникновению особого феномена: «парфюмерного» дендизма. Это был новый вариант эстетизма, характерный для второй половины XIX века. Денди стали культивировать занятия парфюмерией как особую разновидность эстетского досуга. Они коллекционировали духи, размышляли о философии обоняния, соревновались в исследовании редких и экзотических ароматов. Это было эзотерическое братство ценителей запахов, разработавшее свои теории и ритуалы. Адепты считали парфюмерию высшим искусством, наподобие алхимии или – позднее – «Игры в бисер» у Гессе. Напомним, что в романтической культуре самым символически насыщенным кодом считалась музыка. Как метаискусство музыка давала метафорический язык для описания других сфер. След этого влияния – такие музыкальные термины в парфюмерии, как «нота запаха», «аккорд», «гармонизация аромата».
Среди денди-эстетов, увлеченных поиском аналогий между запахами и звуками, большой популярностью пользовалась знаменитая книга Септимуса Пиесса о запахах, первое издание которой появилось в Лондоне в 1855 году[674]. Пиесс разрабатывал своего рода парфюмерно-музыкальный инструмент, который он назвал «одофон». Приведем его описание по энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Различные природные ароматы действуют различно, смотря по их летучести, летучесть же подобна амплитуде звуковых колебаний, ибо чем меньше амплитуда, тем ниже звук и тем он продолжительнее действует на ухо, и чем меньше летучесть, тем слабее аромат и тем дольше он действует на обоняние; чем больше амплитуда, тем выше звук и тем интенсивнее и более кратковременно его действие, – так и в запахе сила обусловлена, как сказано, краткостью действия. Пиесс расположил все ароматические вещества по хроматической гамме, по которой гармонические аккорды будут образовывать приятные букеты. Вот пример духов аккорда: сандалу, герани, акации, флер д’оранжу и камфоры в виде эссенций, в равных количествах – это духи аккорда до»[675].
На одной из иллюстраций в книге Пиесса изображен автор: седовласый маэстро в белом лабораторном халате вдохновенно играет на одофоне, который нарисован как фантастическое пианино, и под проворными пальцами маэстро рождаются не звуки, а запахи. Возможно, именно книга Пиесса стала одним из источников для бодлеровских «Соответствий» – ведь «Цветы зла» были опубликованы как раз в 1855 году, и Бодлер читал по-английски. Добавим, что классификация Пиесса до сих пор в ходу у парфюмеров-любителей как средство «гармонизации» ароматического букета.
Эстетские парфюмерные увлечения воспринимались добропорядочной филистерской публикой весьма подозрительно: это нарушало базовую «нейтральную» норму среднего класса. Но дело заключалось еще и в том, что настоящие хорошие духи были дороги. Постоянные траты на парфюмерию вызывали моральное неодобрение буржуа – для них это значило в буквальном смысле «пускать деньги на ветер», проявлять легкомыслие и фривольность. Эфемерность запахов слишком контрастировала с буржуазными пристрастиями ко всему солидному, тяжелому, основательному. Даже покупка дорогих женских духов с целью «потребления напоказ» могла быть оценена по достоинству не наверняка, а только если попадался просвещенный любитель с развитым чувством обоняния.
Кто же реально может претендовать на звание денди-парфюмера? Прежде всего – профессиональные парфюмеры, которым был не чужд дендистский стиль. Достаточно посмотреть на фотографии знаменитых мастеров – и Эме Герлену, и Эрнесту Бо, и Эдмону Рудницка, и Жану Керлео свойственны особая сдержанная элегантность, старомодная щеголеватость. Кажется, будто они представляют особую касту эстетов-алхимиков.
Многие денди XIX века действительно увлекались парфюмерией. Бо Браммелл упражнялся в изготовлении сухих духов, которые он затем дарил своим знакомым дамам. Граф д’Орсе был, пожалуй, болеедругих увлечен парфюмерными экспериментами: у него была собственная лаборатория, в которой он изготовлял духи. Его самый знаменитый аромат – «L’eau de Bouquet». Вот как описывает один из биографов графа д’Орсе его парфюмерные занятия: «Подобно Филиппу Орлеанскому в XVIII столетии, граф д’Орсе страстно любил работать в лаборатории. В каждом из своих жилищ он оборудовал специальное помещение, тщательно охраняемое от посторонних, где находились пробирки, реторты и перегонные кубы. Там он часами дистиллирует, фильтрует, отмеряет препараты. Но, в противоположность Регенту, он не занимается ни алхимическими опытами по трансмутации металлов, ни исследованиями тонких ядов. Нет, влюбленный денди трудится ради прелестных дам, свивая для них невидимую душистую гирлянду, в которой сплетаются наилучшие цветочные запахи. Она будет называться “L’eau de Bouquet”, и все красавицы отныне желают благоухать “Водой букета”. Ее нежный романтический аромат переживет и XIX век, и графа д’Орсе»[676].
Дальнейшая судьба парфюмерных экспериментов графа и впрямь была завидной: в 1908 году была создана фирма «Parfums d’Оrsay». Президентом фирмы стала мадам де Герэн. Она одна из первых стала заказывать для духов флаконы Baccarat и Lalique. В архиве графа нашлись его записи, которые были использованы для производства духов «L’eau de Bouquet». В 1908 году их переименовали в «Etiquette Bleu», а в 1911-м фирма выпустила парфюм «Chevalier d’Orsay», пользовавшийся феноменальным спросом. За ним последовали в 1922 году духи «Le dandy» – дендистская традиция в парфюмерии получила успешное коммерческое продолжение[677].
Самый яркий образ денди-парфюмера в литературе был создан Ж.К. Гюисмансом в романе «Наоборот» (1884). Прототипом эстета-декадента дез Эссента был граф Робер де Монтескью (он же впоследствии был увековечен в образе барона де Шарлю в романе Пруста «В поисках утраченного времени»).
Рекламный плакат духов «Денди» компании д’Орсе. 1922 г.
«Парфюмерному дендизму» в романе посвящена отдельная глава, где подробно описывается увлечение героя запахами. «Дез Эссент уже долгие годы целенаправленно занимался наукой запахов. Обоняние, как ему казалось, могло приносить ничуть не меньшее наслаждение, чем слух и зрение, – все эти чувства, в зависимости от образованности и способности человека, были способны рождать новые впечатления, умножать их, комбинировать между собой и слагать в то целое, которое, как правило, именуют произведением искусства. И почему бы, собственно, не существовать искусству, которое берет начало от запахов?»[678]
Обратим внимание, что для настоящих занятий этим искусством требуется «образованность», или, как сказано дальше, «выучка»: тут дело не сводится к чувственному различению запахов – автора скорее занимают профессиональные аспекты парфюмерного ремесла. Напомним: роман был написан уже после того, как Перкин получил кумарин, и уже были известны мирбан (искусственное миндальное масло, нитробензин), грушевая, яблочная и ананасовая эссенции. Вскоре после 1884 года были открыты синтетические мускус, ваниль и фиалка. Видимо, Гюисманс был серьезно увлечен новейшими тенденциями в парфюмерии: недаром в тексте вскоре возникает искусственный аромат свежескошенного сена – это как раз запах кумарина. И далее дез Эссент рассуждает о том, что «любое благоухание… может быть передано посредством искусного сочетания спиртов и солей»[679].
В технологических процессах парфюмерии – в экстракции растворителями, мацерации, анфлераже и химическом синтезе – он усматривает таинство абстракции, сравнимое со свободой художника, вольно изменяющего природные формы. Для него самое ценное – несходство изначальных элементов с окончательной композицией: «В парфюмерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природой запаха, который берется за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранится драгоценный камень»[680]. Эта логика приводит к нарочито заостренному парадоксу: «В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала дез Эссента больше всего»[681]. «Неестественность» парфюмерии, таким образом, становится аналогом символического искусства, отказывающегося от простого воспроизведения жизненных фактов. Эстетика декаданса, провозгласившая апологию культуры в противовес природе, довела этот тезис до логического предела.
Кроме того, ставка на «неестественность» приводит к отказу от установки исключительно на «красивые» ароматы в парфюмерии: эстет ценит современные – и необязательно приятные – запахи. Он синтезирует «запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий. Опыты дез Эссента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стиракса[682], и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарциссас вонью гуттаперчи и угольного масла»[683]. Так возникает объемная, расположенная в пространстве картина индустриальной окраины.
Этот обонятельный пейзаж – плод современной городской культуры, уже сформировавшей к концу XIX века особое умонастроение в стиле модерн. Оно подразумевает, в числе прочего, два элемента. Во-первых, апофеоз техницизма, преклонение перед индустриальными чудесами (синтетические ароматы, косметика, грядущий переход от газа к электрическому освещению и культ автомобиля в начале XX века). Во-вторых, удовольствие от ощущений, традиционно считавшихся неприятными, – дурных запахов, боли, зрелища разложения («Цветы зла» Бодлера, «Венера в мехах» Л. фон Захер-Мазоха). «Нездоровый» запах фабричной краски объединяет оба элемента.
Через восемь лет после написания «Наоборот» Гюисманс становится католиком-траппистом. В предисловии к изданию 1903 года он делает обзор романа уже с религиозных позиций и, в частности, опять обращается к теме запахов. Довольно забавно читать, как поздний Гюисманс упрекает дез Эссента за то, что он был занят лишь мирской стороной запахов – духами, парфюмерными комбинациями. «Он мог бы взяться за церковные благовония – ладан, миро и тот таинственный фимиам, который упоминается в Библии…»[684] – благочестиво сокрушается Гюисманс. Но тут в нем все же пробуждается денди-парфюмер времен его молодости, и он на всякий случай подсказывает своему герою рецепт фимиама из Книги Исхода. Правда, есть закавыка – в состав его входит мускул, закрывающий раковину таинственного моллюска. Отсюда печальный вывод: «нелегко, если не сказать невозможно, – ввиду неточного описания моллюска и мест его обитания – приготовить настоящий фимиам»[685]. Задача оказывается сколь возвышенной, столь и неисполнимой, и в итоге мускул мифологического моллюска становится залогом мировой гармонии – торжествует романтическая ирония.
Роман Гюисманса оказал огромное влияние на Оскара Уайльда. Он называл его «Кораном декаданса», и не случайно в «Портрете Дориана Грея» главный герой увлеченно читает «желтую книгу», которую дарит ему лорд Генри, – это и есть «Наоборот». Эстетические теории Уайльда частично восходят к Гюисмансу. Идея неестественности культурного восприятия, высказанная в «Наоборот», была подробно развита Уайльдом в статьях «Упадок лжи», «Критик как художник».
Уайльдовский Дориан Грей во многом подражает эстетическим вкусам дез Эссента и тоже отдает дань парфюмерному дендизму. Даже описание его увлечения парфюмерией строится по аналогичной схеме: «Он принялся изучать действие различных запахов, секреты изготовления ароматических веществ. Перегонял благовонные масла, жег душистые смолы Востока. Он приходил к заключению, что всякое душевное настроение человека связано с какими-то чувственными восприятиями, и задался целью открыть их истинные соотношения. Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будит воспоминания об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак[686] развращает воображение? Мечтая создать науку о психологическом влиянии запахов, Дориан изучал действие разных пахучих корней и трав, душистых цветов в пору созревания их пыльцы, ароматных бальзамов, редких сортов душистого дерева, нарда, который расслабляет, ховении[687], от запаха которой можно обезуметь, алоэ, который, как говорят, исцеляет душу от меланхолии»[688].
Мотивы рассуждения, как легко заметить, примерно те же: мифология и символика запахов, связь физического и духовного; однако заметны и некоторые новые акценты. Ведь в этом пассаже, по сути, Уайльд развивает свою теорию «нового гедонизма», предписывающую расширять сферу чувственных наслаждений. Герою не терпится доискаться до сути психологического воздействия запаха. Но его вариант «парфюмерного дендизма» больше ориентирован на научно-позитивистский подход. В своих экспериментах Дориан Грей руководствуется позитивистской философией конца века. Его привлекают материалистические концепции Фохта[689]и Бюхнера[690], которые пытались привить на немецкой почве учение Дарвина.
Очень скоро, в 1899 году, через 8 лет после публикации романа Уайльда, этот же путь мысли в британской культуре будет развернуто представлен у Хевлока Эллиса[691]. В своем известном труде «Психология секса» он размышлял, почему неврастеники болезненно чувствительны к ароматам, как возникает иллюзия «запаха святости», отчего бывают обонятельные галлюцинации. Эти же проблемы занимали в то время и известного французского врача Шарко. Он ставил опыты, пытаясь понять воздействие запахов на пациентов под гипнозом. А его ученик Фрейд вообще считал, что чувствительность к запахам – атавизм, симптом заторможенности в психическом развитии. Логическое завершение эти идеи получили у Макса Нордау[692], усматривавшего в увлечении запахами признак дегенерации.
Перечисляя эти концепции, мы не имеем в виду, что Уайльд буквально следовал тем или иным теориям, тем более что многие были сформулированы уже после выхода романа в свет. Скорее эти концепции составляли общую атмосферу эпохи, которую Уайльд превосходно ощущал. В этой атмосфере символизм теснейшим образом переплетался с натурализмом, поиск материалистических основ эмоций – с самыми запредельными мистическими переживаниями.
Квинтэссенция этих настроений – драма «Саломея», написанная Уайльдом по-французски в 1893 году. История библейской героини – популярный сюжет во второй половине XIX столетия: его использовал и Флобер, и Малларме, о Саломее философствует Дез Эссент в романе Гюисманса. Уайльдовский текст был переведен на английский лордом Альфредом Дугласом, и в том же году в Лондоне должна была состояться премьера. На роль Саломеи была приглашена Сара Бернар, которой в тот момент было 48 лет, но это ничуть не смущало автора: он доверял артистическому таланту «этой змеи древнего Нила». Сара Бернар хотела сама исполнять танец Семи покрывал и была так увлечена идеей, что во многом субсидировала постановку.
В оформлении спектакля все строилось на запахах. Представление замысливалось как синкретическое зрелище, где вместо музыки использовались ароматы. В оркестровой яме планировалось установить гигантские курильницы, испускающие по ходу представления различные благовония. Каждое действие и каждый герой имели свой ароматический камертон. Экзотические запахи должны были даже заменить занавес, отмечая начало и конец каждого акта. Саломея носила серьги в виде миниатюрных фиалов с благовониями, капающими ей на плечи. И, разумеется, ароматическая кульминация приходилась на танец Семи покрывал, которым соответствовали семь слоев запаха.
Подобная оркестровка запахами, помимо всего прочего, была призвана установить особый контакт между залом и сценой: после представления насквозь пропитанная благовониями публика, выходя на улицу, оказывалась рекламным сообщником режиссера. Уайльд задумывал коллективный перформанс, в котором через запахи публика вовлекалась в своеобразный ароматический заговор, поневоле превращаясь в массовку. Нечто похожее уже было проделано за год до этого на премьере его пьесы «Веер леди Уиндермир», когда сам автор и его друзья явились в театр с зеленой гвоздикой в петлице.
К сожалению, этому великолепному замыслу было не суждено осуществиться. Сначала сопротивлялась дирекция театра из противопожарных соображений, а потом постановка «Саломеи» была и вовсе запрещена цензурой, усмотревшей в пьесе непристойные мотивы. Только в 1896 году «Саломею» поставили в Париже, но Уайльд уже не смог насладиться этим зрелищем, поскольку в это время отбывал свой срок заключения.
В заключение этой главы – немного о самых знаменитых духах XX столетия: «Шанель № 5». Их можно по праву считать самым ярким проявлением парфюмерного дендизма. Габриэль Шанель не любила традиционные цветочные запахи, считая их приметой буржуазного стиля. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Неумеренное потребление духов было во многом вынужденным, поскольку большинство ароматов были нестойкими и быстро выдыхались.
Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках того времени. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным.
Но главной технологической новинкой, использованной Шанель, были альдегиды – синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом, и вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить. Воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо, до этого работавший в фирме Ралле.
Его творческая смелость позволила совершить существенный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный «нос» не мог вычленить главные компоненты. При первой пробе обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг[693], но все перекрывают альдегиды. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю – ландыш и жасмин, а нижнюю – ветивер[694]и сандаловое дерево. Абстрактный оттенок аромата можно сравнить по эстетическому эффекту с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и Х. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае – использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику «Шанель № 5». Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а «антиприродность», в свою очередь, делала необязательным узнавание.
Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию, и окончательный результат был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как Эрнест Бо предоставил Шанель несколько проб, и она выбрала одну, считая пятый номер для себя благоприятным. Как видим, «счастливый случай» был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок парфюмера и, во-вторых, был сознательно отобран на последнем этапе самой Шанель.
Сухое цифровое название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады XX века, выводившего на первый план функциональную геометрию формы. Представители конструктивизма – архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Эль Лисицкий – стремились к чистой выразительной целесообразности, избавляясь от декоративных элементов[695].
Из всех вариантов европейского конструктивизма, вероятно, Шанель был наиболее близок французский. Во Франции в 1918–1925 годах был популярен «пуризм»[696]. Духи «Шанель № 5» появились в 1921 году и во многом отражали пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики XX века, и не случайно сейчас флакон «Шанель № 5» выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке.
Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка – все выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое – драгоценную ароматическую жидкость.
Очистив его от лишних украшений, Шанель нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. По замыслу дизайнеров, прямоугольный контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные очертания знаменитой парижской площади Плас Вандом[697]. Но для современников подобная форма флакона для дамских духов была непривычной, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно делались в более фантазийном стиле.
Однако Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одна из первых женщин начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в опере с короткой стрижкой (чему потом все бросились подражать). «Узурпация» мужской формы флакона шла в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле.
Можно без особых натяжек сказать, что «Шанель № 5» – парфюмерный аналог маленького черного платья: тот же универсальный минимализм и чистый контур, обеспечивающий постоянную востребованность стиля. Эти же особенности полностью присущи дендистской эстетике в одежде начиная с Браммелла. Таким образом, Габриэль Шанель, уже на новом историческом витке, реализовала принципы дендизма XIX столетия.
X. Дендизм и литература
Поэтика дендизма
Денди – это поэт одежды.
Томас КарлайльВнимательный читатель, должно быть, уже заметил одну странную особенность этой книги: рассуждая о денди, автор то и дело ссылается на литературных персонажей, как если бы те были реальными людьми. Объяснение здесь может быть только одно: особые отношения между дендизмом и литературной традицией. Ведь классический модник – потомок славного семейства сочинителей-денди XIX века: достаточно назвать уже нам знакомые имена Байрона, Э.Бульвера-Литтона, Дизраэли, молодого Диккенса, Оскара Уайльда и сэра Макса Бирбома – из англичан; Бальзака, Стендаля, Барбе д’Оревильи, Бодлера, Пьера Лоти, Гюисманса и Марселя Пруста – из французов[698]. И естественно, что в своем творчестве они создали богатейшую галерею дендистских образов, тщательно описывая щегольские костюмы и нравы.
Дендизм непрерывно взаимодействует с литературой, подпитываясь от нее и, в свою очередь, обогащая ее. Эти тонкие энергетические связи между реальностью и сферой культуры весьма приблизительно обозначаются терминами «жизнетворчество», «жизнестроение» или, в английском варианте, «self-fashioning»[699] («самомоделирование»).
Д. Маклис. Э.Д. Бульвер-Литтон курит трубку. 1830 г.
Как же осуществляется жизнетворчество? Литература фактически предлагает бесконечные возможности упорядочения духовного и житейского опыта – от умозрительной картины мира до стратегии практического поведения. Можно говорить о сложившемся жизненном стиле, если образ мыслей и чувств соответствует образу жизни. Совершенный однажды выбор сообщает осмысленность и единство всем поступкам даже на уровне жестов и интонаций, что делает жизнь личности открытой для интерпретаций и литературного запечатления. Возникающий на этой основе художественный образ вновь возвращается в жизнь, воплощаясь в «книжном» поведении того или иного человека, а это потенциально составляет новый сюжет для произведения – так непрерывно совершается плодотворный обмен между жизнью и культурой.
Мы уже отчасти пытались рассуждать о романтическом сценарии дендистского жизнетворчества, анализируя биографию Джорджа Браммелла и наблюдая, как еще при жизни Браммелла из отдельных историй и анекдотов вовсю творилась легенда о нем. Сейчас основные источники для изучения первого денди – мемуары современников (воспоминания У. Джессе и Р. Гроноу, Т. Райкса), философские очерки о дендизме (трактат Барбе д’Оревильи, эссе Макса Бирбома, Вирджинии Вулф), но не меньшую роль играют и многочисленные художественные произведения. Отзвуки байроновского восхищения Браммеллом чувствуются в образе Чайльд Гарольда; Браммелл был прототипом мистера Раслтона в романе Э. Бульвера-Литтона «Пелэм» (1828), а в «Грэнби» Т.Х. Листера (1826) он фигурирует как Требек. Сам Браммелл написал единственный труд «Мужской и женский костюм», не считая многочисленных галантных стихотворений.
Гораздо чаще денди объединяет автора и героя в одном лице. Хрестоматийный пример подобного «синтеза» – лорд Байрон. В юности поэт был близок дендистским кругам и даже прославился как модник: изобрел особый покрой широких штанов. Он состоял членом клуба Ватье, среди основателей которого были лорд Алванли, Браммелл, Майлдмей, Пьерпойнт – все известные щеголи. Байрон впервые назвал это заведение «клубом денди», что и закрепилось в истории.
В «Разрозненных мыслях» он вспоминал о своем дендистском прошлом: «Я любил денди: они всегда были со мной любезны, хотя вообще недолюбливали литераторов и всячески изводили мадам де Сталь, Льюиса, Хорэйса Твисса и прочих… По правде говоря, хотя я рано с этим покончил, в юности мне был присущ налет дендизма, и в двадцать четыре года я сохранил его, вероятно, достаточно, чтобы снискать расположение их светил. Я играл, пил и сдал экзамены на большинство пороков; я не отличался педантством или высокомерием, и мы мирно с ними уживались. Я был более или менее знаком с ними всеми, и они избрали меня в члены Ватье (в ту пору это был великолепный клуб), где я был единственным писателем (не считая еще двоих, Мура и Спенсера, людей светских)»[700].
Именно Байрон стоит у истоков дендистской литературной традиции. Дендизм оформляется в русле романтической эстетики, культивировавшей образ одинокого разочарованного индивидуалиста, обремененного комплексом «мировой скорби». В этой позе сказался европейский пессимизм – влиятельная философская тенденция, отмеченная позднее именами Леопарди и Шопенгауэра. Дендистская «скука» и пресыщенность – вариант этих настроений в тот период, когда живописный байронический сплин оказался заразительным для тысяч молодых людей. Вспомним, как пушкинская Татьяна, почитав книги в онегинском кабинете, приходит к печальной истине, охлаждающей ее страсть:
Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный призрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, Чужих причуд истолкованье, Слов модных полный лексикон?.. Уж не пародия ли он?[701]Рукопись Байрона: последняя строфа из поэмы «Странствие Чайльд Гарольда»
Сам Байрон при жизни успел превратиться в ходячую легенду не только в качестве популярного автора. Уникальная красота его лица послужила темой для множества изображений, начиная с миниатюр и кончая парадными изваяниями. Разумеется, дело не обошлось без античных аллюзий: общепризнанным считалось сходство Байрона с Аполлоном Бельведерским, да и самому поэту больше нравились собственные портреты, скорректированные именно в этом духе. Пренебрегая обязательным шейным платком, он позировал с расстегнутым воротником (как на портрете Харлоу), ибо все женщины Европы обмирали при виде его стройной шеи. Врожденный недостаток – хромоту – Байрон преодолевал за счет атлетизма фигуры, совершенствуясь в доступных ему видах спорта – боксе, плаванье и скачках. Когда он стал набирать вес, ему пришлось сесть на жесткую диету, которой он неукоснительно придерживался многие годы. Очевидно, навыки самодисциплины, присущие многим денди, сослужили ему хорошую службу.
Внешнее совершенство облика было в глазах поклонников непременным атрибутом кумира, и Байрон благодаря своей красоте оправдывал культурные ожидания публики. Но, как бы подтверждая известный тезис романтической эстетики, гласящий, что одухотворенная красота неизбежно связана с легкой деформацией пропорций, Байрон сочетал в своей внешности аполлоническую красоту лица и тайный телесный недостаток – хромоту, мифологический символ родства со хтоническими[702]силами. Это соответствовало и его двойственной славе – героя и антигероя одновременно, демонической натуры и полубога. Его гибель в Миссолунги довершила образ мученика свободы, облегчив канонизацию образа поэта. Если с 1816 года, после изгнания из Англии в связи с разводом, он был окутан сомнительным ореолом злодейства и роковой тайны, то после смерти демонический спектр его харизмы переменился: красота и жертвенность естественно объединились в итоговом образе светлого Эвфориона, каким мы видим Байрона в «Фаусте» Гете.
Разумеется, не только Байрон, но и другие писатели романтической эпохи способствовали моде на дендизм. Персонажи-денди встречаются на страницах Джейн Остен, Уильяма Хэзлитта, Шатобриана и мадам де Сталь. Однако увлечение дендизмом начинает приобретать по-настоящему массовый характер несколько позже благодаря оформлению особого романного жанра. В 1820-е годы в английской литературе с легкой руки издателя Генри Коулберна начинает процветать жанр «модного» романа (fashionable novel). Эпитет «модный» в данном случае имел двойной смысл: главный герой, как правило, увлекался модой и представлял из себя тип светского денди. Но благодаря занимательному сюжету из жизни высшего общества и сами книги, как рассчитывал издатель, должны были привлечь внимание и стать модными в читательских кругах.
Коулберн проницательно оценил социальную ситуацию: к 1825 году в Англии уже сложилось сословие богатых буржуа, которые жаждали приобщиться к тайнам аристократического обращения. Истинная аристократия, напротив, брезговала общаться с банкирами и толстосумами-промышленниками, вменяя им в вину вульгарность манер. Как мы помним, буржуазным дельцам был закрыт вход в элитные лондонские клубы[703]. Будучи талантливым бизнесменом, Коулберн понял, что существует не только социальный, но и информационный заслон между нуворишами и аристократами, и это создает идеальную рыночную нишу для «модного» романа.
Отныне все желающие могли «виртуально» побывать в Олмаксе или узнать, о чем толкуют в великосветских гостиных, купив заветную книжку. Литературная формула «модного» романа включала описания клубных балов, вечеров за картами, когда проигрывались целые состояния, любовных интриг, скачек и, конечно же, изысканных дамских нарядов и дендистских костюмов. Упоминались даже реальные адреса модных портных, у которых можно было заказать подходящие туалеты[704].
Принципы «модного» романа были достаточно продуманны и нередко четко проговаривались прямо в тексте. У Бульвера-Литтона героиня-аристократка даже дает инструкции будущим авторам: «Умный писатель, желающий изобразить высший свет, должен следовать одному лишь обязательному правилу. Оно заключается в следующем: пусть он примет во внимание, что герцоги, лорды и высокородные принцы едят, пьют, разговаривают, ходят совершенно так же, как прочие люди из других классов цивилизованного общества, более того, – и предметы разговора большей частью совершенно те же, что в других общественных кругах. Только, может быть, мы говорим обо всем даже более просто и непринужденно, чем люди низших классов, воображающие, что чем выше человек по положению, тем напыщеннее он держится и что государственные дела обсуждаются торжественно, словно в трагедии, что мы все время обращаемся друг к другу “милорд” да ”миледи”, что мы насмехаемся над простыми людьми и даже для папильоток вырываем страницы из Дебреттовой[705] “Родословной пэров”»[706]. Такие «демократичные» установки создавали иллюзию отсутствия дистанции и позволяли читателю отождествляться с героями, не испытывая чувства социального унижения.
Особый талант Коулберна состоял в организации рекламной кампании вокруг нового романа – как мы бы сейчас сказали, он был мастером public relations. Будучи совладельцем основных литературных журналов той эпохи, он обладал неограниченными возможностями манипулировать прессой. Подписывая с автором контракт, Коулберн одновременно заказывал хвалебную рецензию на роман – нередко тому же самому автору под псевдонимом. Чтобы внушить публике веру в правдивость деталей, Коулберн прибегал к хитроумной тактике: он заранее распускал слухи, что автор романа – знатное лицо, пожелавшее остаться анонимным. Читатели таким образом вовлекались в азартную игру отгадывания, кто скрывается за маской, не говоря уж о том, что многие действующие лица романов представляли из себя портреты известных аристократов под прозрачными псевдонимами. Иногда к роману для вящего удовлетворения любопытства прикладывался «ключ» в виде таблицы персонажей по принципу «кто есть кто» (хотя порой и «ключ» изобиловал намеренными неточностями).
Аристократы также не пренебрегали чтением «модных» романов, и в этом случае игра узнавания приобретала особый характер: по мельчайшим деталям вычисляли, кто из «своих» мог оказаться анонимным автором, выставившим на широкое обозрение зарисовки нравов и иронические шаржи знатных особ. Коулберн, правда, не поощрял уж слишком сатирические картинки, чтобы сохранить почтительный интерес публики к аристократическому сословию. Подобная стратегия позднее вызвала обратную реакцию – тогда появился Теккерей со своими язвительными «Записками Желтоплюша» (1840) и «Книгой снобов» (1847).
Первый громкий успех в жанре «модного» романа имел «Тремэн» (1825) Р.П. Уорда. Это была история денди, и в ней впервые были детально описаны все изящные мелочи туалета, стиль жизни, а также техника светского успеха. Очевидный прототип Тремэна – Джордж Браммелл: недаром главный герой романа любит сидеть возле окошка клуба Уайтс и иронизировать по поводу костюмов прохожих. Совпадают и другие знаковые детали – Тремэн отвергает невесту за то, что она пользуется столовым ножом, когда подают горошек.
Роберту Уорду к моменту публикации романа было уже шестьдесят лет, и он был поистине ошеломлен неожиданным успехом романа. Уорд был вхож в светские и политические круги и, чтобы не ставить под удар свою карьеру, благоразумно воспользовался псевдонимом. При этом он настолько заботился о своем инкогнито, что даже вездесущий Коулберн не знал его истинного имени. Текст романа переписывали две дочери Уорда, чтобы нельзя было узнать настоящий авторский почерк. Все контакты с издателем осуществлялись через личного адвоката Уорда Бенжамина Остена и его жену Сару. Они же передавали ему письма читателей и отзывы коллег-литераторов – в его адрес, к примеру, направили одобрительные послания Генри Маккензи и Роберт Саути.
Но наибольшее удовольствие Уорду доставляла такая игра: по вечерам он направлялся на светские вечеринки и там охотно поддерживал разговоры о том, кто же мог быть автором скандального романа, высказывая самые невероятные предположения. Попутно он участвовал в спорах о вероятных прототипах, пользуясь возможностями тонко отомстить своим недоброжелателям. Так, одной даме, считавшей роман вульгарным, он намекнул через третьих лиц, что якобы слышал, будто с нее списан характер самого неприятного персонажа в книге – леди Гертруды.
Другой сенсацией стало появление в издательстве Коулберна романа Б. Дизраэли «Вивиан Грей» (1826)[707]. Публикации содействовала та же Сара Остен, которая была посредницей между Коулберном и Уордом. «Раскрутка» велась по уже налаженной схеме: намеки, рецензии, ключ персонажей. Роман был также издан анонимно, однако на этот раз авторское инкогнито было раскрыто довольно быстро. После того как журналисты дознались, что автор – мало кому известный юноша из еврейской семьи, возникло недоумение, откуда он мог так хорошо знать нравы высшего общества. В некоторых критических статьях намекали, будто Дизраэли украл дневники Уорда и списал из них характеристики знаменитых светских персонажей. Подобное обвинение можно объяснить тем, что в тот момент «Тремэн» был, в сущности, единственным образцом «модного» романа и все публиковавшееся позже невольно сравнивалось с этой книгой. Но на самом деле Дизраэли сам сочинил свой текст, и Уорд одобрительно отзывался о его романе, увидев в нем признаки блестящего дарования начинающего автора – тогда еще никто не мог догадываться, что настоящие амбиции молодого человека простираются далеко за пределы литературы.
Б. Дизраэли. Конец 1820-х годов
По сюжету Вивиан Грей – циник, который делает ставку на политическую карьеру и плетет интриги, чтобы заручиться поддержкой влиятельных лордов и попасть в парламент. Такой герой для Дизраэли оказался своего рода пробным камнем: будущий премьер-министр Англии (Дизраэли получил этот пост в 1867 году) размышлял о моральной цене политического успеха.
Главный герой романа демонстрировал в лучших дендистских традициях холодную наглость в сочетании с изысканной вежливостью: опоздав наблестящийобед, онпренебрегаетсвободным местом с краю стола и, пользуясь благосклонностью хозяйки дома, занимает лучшую позицию в центре рядом с ней. Но для этого приходится подвинуть все остальные кресла, в результате чего у прочих гостей оказываются перепутанными тарелки, и мисс Гассет, которая собралась полакомиться фруктовым желе, по ошибке берет целую ложку жгучего соуса карри с тарелки своего соседа, словом, происходит полный переполох. «Now, that is what I call a sensible arrangement; what should go off better», – хладнокровно реагирует Вивиан Грей («Ну, вот это разумное расположение, что может быть лучше»[708]).
Дендизм Вивиана Грея насквозь автобиографичен: молодой Дизраэли запомнился современникам не в последнюю очередь экстравагантными костюмами. Генри Бульвер, брат писателя Бульвера-Литтона, вспоминает, что на светском обеде Дизраэли был одет в «зеленые бархатные шаровары, канареечного цвета жилет, открытые туфли с серебряными пряжками, рубашку, отделанную кружевами, ниспадавшими на кисти рук»[709]. Дизраэли сознательно использовал дендистский стиль в утрированном варианте, чтобы произвести впечатление на дам, выделиться и запомниться. Эта стратегия саморекламы входила в арсенал дендистских приемов, и Дизраэли не отказался от нее даже позднее. Уже будучи видным политическим деятелем партии тори, он любил появляться в панталонах пурпурного цвета, отделанных золотым шнуром вдоль шва, продолжал носить перстни с бриллиантамиповерхбелыхперчаток и множество золотых цепочек. Он добился членства в Олмаксе благодаря рекомендации леди Танкервилль, был посетителем салона леди Блессингтон и подружился с королем лондонских денди того времени графом д’Орсе.
На публике Дизраэли порой нарочно разыгрывал особые дендистские мини-перформансы, изображая из себя модный типаж женственного, изнеженного молодого человека. Однажды он наблюдал за игрой в теннис, и мяч залетел в зрительские ряды прямо ему к ногам. Дизраэли поднял мяч, но, вместо того чтобы закинуть его обратно на корт, попросил это сделать соседа, мотивируя свою просьбу тем, что никогда в жизни не бросал мяч. На следующий день об этой истории говорил весь Лондон.
Д. Маклис. Портрет Бенджамина Дизраэли. 1833 г.
Третьим и самым знаменитым «модным» романом в серии Коулберна после стал «Пелэм» (1828) Бульвера-Литтона. Собственно, только «Пелэму» и суждено было пережить свое время и остаться в культурной традиции в качестве библии дендизма.
Главный герой романа, молодой аристократ Генри Пелэм, изображен прежде всего как отчаянный щеголь. Он делает изысканные прически с локонами, пользуется миндальным кремом для лица, любуется своими перстнями и, что немаловажно для денди, тщательно соблюдает личную гигиену. Роман изобилует такими пассажами: «Я проснулся около двух часов пополудни, оделся, неспешно выпил свой шоколад и только начал прикидывать, как бы поэффектнее надеть шляпу, как мне принесли записку…»[710]
Современникам показались странными преувеличенное внимание к внешности и дендистская изнеженность героя: в этом усмотрели нечто женственное, неприличное. Против Бульвера-Литтона выступил Карлайль, посвятивший денди сатирическую главу в своем романе «Sartor Resartus», а также критики из журнала «Fraser’s magazine». Среди них был и Теккерей, который в статье «Люди и костюмы» 1841 года недвусмысленно намекал на некоего писателя, который имеет привычку сочинять свои романы в халате из дамасского шелка и марокканских домашних туфлях: вот если бы он носил обычный сюртук, то и стиль был бы другим: прямым, мужественным, честным.
Под неблагоприятным влиянием подобных статей Бульвер-Литтон внес существенную правку во второе издание романа, и в результате из текста были вымараны многие самые интересные места, которые как раз были посвящены туалету денди. К примеру, в первом издании в доме у приятеля Пелэма лорда Гленвилла фигурировала роскошная ванная комната: «Эта комната была декорирована в нежно-розовых тонах. Ванна белого мрамора была искуснейшим образом сделана в форме раковины, поддерживаемой двумя тритонами. Как мне объяснил потом Гленвилл, в этой комнате была установлена машина, которая постоянно испускала изысканный приятный аромат, и легкие занавески колебались от душистого ветерка»[711].
После немилосердной и несправедливой критики автор заменил в последующих изданиях эту ванную комнату на гостиную, где висят полотна старинных мастеров. Но изначальное описание намного интереснее: такие пассажи было бы неудивительно встретить у поздних эстетов – Оскара Уайльда или Гюисманса, а ведь первое издание «Пелэма» вышло в 1828 году! К счастью для поклонников дендизма, Бульвер-Литтон сохранил в книге свои знаменитые правила «Искусства одеваться» – вот некоторые из них:
Искусство одеваться
«Совершая свой туалет, старайтесь, чтобы дух ваш не волновали слишком сильные переживания. Для успеха совершенно необходима философическая ясность духа».
«Мы обязаны заботиться о внешнем впечатлении – ради других и об опрятности ради самих себя». «В манере одеваться самое изысканное – изящная скромность, самое вульгарное – педантическая тщательность».
«Одевайтесь так, чтобы о Вас говорили не: “Как он хорошо одет!”, но “Какой джентльмен!”» «Избегайте пестроты и старайтесь, выбрав один основной спокойный цвет, смягчить благодаря ему все прочие. Апеллес пользовался всего четырьмя красками и всегда приглушал наиболее яркие тона, употребляя для этого темный лак».
«Изобретая какое-либо новшество в одежде, надо следовать Аддисонову определению хорошего стиля в литературе и “стремиться к той изысканности, которая естественна и не бросается в глаза”» [712].
В последней максиме литературные критерии беспрепятственно переносятся на одежду: вот приятный дополнительный повод задуматься о близком родстве дендизма и изящной словесности. Перечисленные заповеди дендистского стиля составлены, на первый взгляд, из изящных парадоксов. Тем не менее, если присмотреться повнимательнее, в них можно выделить лейтмотив – это принцип так называемой «заметной незаметности» (conspiсuous inconspiсuousness), который лег в основу современной эстетики мужского костюма. Первым придумал эту идею неброской элегантности, разумеется, Джордж Браммелл.
Портрет Э.Д. Бульвера-Литтона
Второй принцип, который также восходит к Браммеллу, – продуманная небрежность. Можно потратить уйму времени на туалет, но далее необходимо держаться так, как будто в костюме все сложилось само собой, в порядке случайной импровизации. «Педантическая тщательность» вульгарна, ибо не скрывает предварительного напряжения и, следовательно, выдает новичка, который, потея, постигает науку прилично одеваться. Не оттого ли умение завязать элегантно-небрежный узел на шейном платке стало высоко котироваться именно в эту эпоху?
В идеале оба принципа создают эффект естественности облика, которая исключает разные мелкие ухищрения, заставляющие человека держаться скованно. Ведь когда Пелэм заказывает себе фрак, он строжайшим образом запрещает портному подкладывать вату, хотя ему настойчиво предлагают «дать надлежащий рельеф груди, прибавить дюйма два в плечах… капельку поуже стянуть в талии»[713].
Печальные последствия обратной стратегии Бульвер-Литтон рисует, не скупясь на жестокий сарказм: «Возле герцогини стоял сэр Генри Миллингтон, весь накладной, втиснутый в модный фрак и жилет. Несомненно, во всей Европе не найти человека, который был бы так искусно подбит ватой… бедняга был не приспособлен в тот вечер к тому, чтобы сидеть, – на нем был такой фрак, в котором можно было только стоять!»[714]
Подобная картина поистине ужасна для взгляда настоящего щеголя, поскольку дендистская мода в тот период, напротив, ориентировалась на самоуважение свободной личности, что подразумевало не только незатянутую фигуру, но и непринужденные манеры (в том числе исключающие чрезмерные опасения, как бы не испортить одежду). За этими условностями стоял, однако, достаточно жесткий социальный подтекст – аристократический кодекс поведения. Он диктовал презрение ко всем гиперболическим формам, акцентируя благородную простоту манер.
В романе Пелэм не раз пробует анализировать отличительные признаки светского этикета, которые и были закреплены в дендизме: «Я неоднократно наблюдал, что отличительной чертой людей, вращающихся в светском обществе, является ледяное, несокрушимое спокойствие, которым проникнуты все их действия и привычки, от самых существенных до самых ничтожных: они спокойно едят, спокойно двигаются, спокойно живут, спокойно переносят утрату своих жен и даже своих денег, тогда как люди низшего круга не могут донести до рта ложку или снести оскорбление, не поднимая при этом неистового шума»[715].
Аристократическое спокойствие имело под собой незыблемое внутреннее достоинство и подкреплялось суровыми стоическими принципами воспитания британского джентльмена, что и обеспечивало в итоге знаменитую «неподвижность лица». Но у денди внешнее самообладание превращается в императив «ничему не удивляться» и представляет из себя своего рода постоянный внутренний тренинг, позволяющий скрывать свои эмоции и эффективно манипулировать людьми, занимая в общении позицию сильного.
Это новый персонаж, который лишен простодушия и свежести чувств, скорее ориентирован на прагматику социального успеха. В дендистском романе герой, как правило, прекрасно владеет собой, и только закономерно, что и Пелэм, и Вивиан Грей делают политическую карьеру. «Manage yourself and you will manage the world» – вот их кредо. Более того, даже дамы, возлюбленные денди, обучены не демонстрировать публично чувства и, закусив губу, умеют изобразить душевное равновесие при полном его отсутствии.
Для автора «модного» романа невозмутимость героев, как можно легко догадаться, создает дополнительные сложности – ему приходится пускаться в подобные комментарии от первого или третьего лица, и оттого дендистский роман в своем первоначальном варианте насыщен интроспекцией. Другой выход – взамен «исповеди» героя безлично обрисовать его действия, что уже ведет нас к поэтике середины XIX века. Посмотрим, что же происходило с «модными» романами после первого читательского успеха.
Их ждала географическая экспансия успеха. Вскоре они пересекли Ла-Манш – во Франции почти сразу стали переводить новинки издательства Коулберна. В 1830 году уже были напечатаны на французском «Тремэн» Уорда, «Грэнби» Листера, «Да и нет» лорда Норманбая, книги Теодора Хука и Дизраэли. «Пелэм» Бульвера-Литтона вообще появился по-английски в 1828 году одновременно во Франции и в Англии, а французский перевод вышел в 1832 году и неоднократно переиздавался. Кроме того, «модные» романы были доступны французским читателям в библиотеках, их цитировали в литературных журналах, обсуждали в кафе и в светских салонах. Как раз в 30-е годы французская лексика пережила настоящую экспансию английских словечек, которые уцелели в языке до сих пор. Даже писатели иронизировали по поводу сложившейся парадоксальной ситуации. «High life: cette expression bien française se traduit en anglais par fashionable people» (High life: это вполне французское выражение переводится на английский как fashionable people), – говорил позднее Аполлинер.
Неудивительно, что французские денди 30-x годов немало почерпнули для своего обихода именно из английских «модных» романов. Они читали их как учебники дендизма. Особую роль здесь сыграли, конечно, «Пелэм», а затем «Трактат об элегантной жизни» (1830) Бальзака и эссе Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845).
Все три сочинения роднит тот факт, что в них на сцену выведен «отец» британского дендизма Джордж Браммелл. В «Пелэме» он фигурирует в образе мистера Раслтона, который проживает в изгнании во Франции, а в трактатах Бальзака и Барбе д’Оревильи действует под своим именем. Во всех трех текстах он выступает как arbiter elegantiarum и служит ходячим образчиком хорошего вкуса. Но у Бульвера-Литтона мистер Раслтон изображен в саркастических тонах во всем, что касается его манеры жестоко третировать друзей, не дотягивающих до его модных стандартов. Сам Браммелл уже в пожилом возрасте читал «Пелэма» и, в свою очередь, увидел в романе грубую карикатуру на собственную персону. В мемуарах его биографа капитана Джессе есть эпизод, когда он рассказывает о реакции Браммелла на его костюм, состоящий из черного фрака, белой сорочки и белого жилета: «Мой дорогой Джессе, я с прискорбием догадываюсь, что Вы, должно быть, читали роман “Пелэм”; и все же, прошу прощения, Ваш наряд весьма напоминает сороку»[716]. Подобная полемика оригинала с копией в нашем случае лишний раз свидетельствует об удивительно непреложном воздействии литературы: ведь Браммелл, по сути, протестует против стиля, который его приятель усвоил из книжки, оказавшей большее влияние на умы, нежели сам живой классик дендизма!
Джессе не был одинок в своем пристрастии к литературным образцам. Кругообращение энергии в сферах изящной словесности и моды шло постоянно: ведь многие писатели даже брались за издание женских журналов. Такой эксперимент отважно провел Стефан Малларме, в одиночку выпускавший в течение 1874 года дамский журнал «Последняя мода» («La dernière mode»). Скрываясь под разнообразными псевдонимами и национальными масками – Мадам Маргерит де Понти, дама-креолка, владелица бретонского замка, мулатка Зизи, негритянка Олимпия, дама из Эльзаса, – он профессионально и дотошно вел многочисленные рубрики журнала, сообщая о последних новинках моды[717].
С этим подвигом можно сопоставить только аналогичный опыт Оскара Уайльда, который взялся в 1887 году быть главным редактором журнала «Мир женщины» («The woman’s world»). Но он, в отличие от Малларме, не тянул воз в одиночку – ему удалось залучить в число авторов знаменитых беллетристок Марию Корелли, Уиду, поэта и критика Артура Саймонса, а также королеву Румынии. Правда, королева Виктория и Сара Бернар отказались, но это не смутило Уайльда – он всегда был готов отважно заполнить лакуны собственными текстами. Саре Бернар, к примеру, он предлагал только подписаться под «Историей моего чайного платья», сочиненной им лично.
Может возникнуть естественный вопрос: почему этих писателей так влекло к миру дамских мод? Осмелимся предположить, что это подразумевало особый вид чувственности. Для литератора владение лексикой дамской моды символизировало обладание миром женской телесности, «the woman’s world» в буквально-физическом смысле. Знание тайн женского туалета в эпоху раздельных гардеробов традиционно отождествлялось с мужскими победами, с донжуанской опытностью или, по крайней мере, могло свидетельствовать о статусе посвященного, завсегдатая дамского будуара.
Подробности женских мод для автора-эстета также служили метонимией чувственного мира во всех своих тончайших оттенках – запахах, цветах, звуках, прикосновениях. В эстетских дендистских романах «Дориан Грей» и «Наоборот» необычайно существенны описания материальной прелести вещей – объектов страстного коллекционирования – старинных инструментов, восточных ковров, одеяний, драгоценностей и минералов. И Гюисманс, и Оскар Уайльд увлекаются, казалось бы, чисто барочным приемом поэтики – списками, подробными перечислениями вещей, каталогизируя подвластные им источники наслаждения. «В течение целого года Дориан коллекционировал самые лучшие, какие только можно было найти, вышивки и ткани. У него были образцы чудесной индийской кисеи из Дели, затканной красивым узором из золотых пальмовых листьев и радужных крылышек скарабеев; газ из Дакки, за свою прозрачность получивший на Востоке названия “ткань из воздуха”, “водяная струя”, “вечерняя роса”; причудливо разрисованные ткани с Явы, желтые китайские драпировки тончайшей работы; книги в переплетах из атласа цвета корицы или красивого синего шелка, затканного лилиями, цветком французских королей, птицами и всякими другими рисунками; вуали из венгерского кружева, сицилийская парча и жесткий испанский бархат, грузинские изделия с золотыми цехинами и японские “фукусас” золотисто-зеленых тонов с вышитыми по ним птицами чудесной окраски»[718].
Портрет Ж.К. Гюисманса
Пышные названия, отражающие все чувственное великолепие предметного мира, были призваны взволновать самого пресыщенного читателя. Тактильность описаний (ведь известно, что ткани «смотрят», как правило, руками) давала ощутимый эстетический эффект: текст, оправдывая свой этимологический смысл, буквально воспринимался как переливающееся переплетение ткани, тонкий текстиль.
Литературные эксперименты в этом духе очень любил французский писатель Теофиль Готье. Готье вообще был неравнодушен к моде и в молодости прославился своим розовым (по некоторым версиям – красным) шелковым жилетом, которым эпатировал консервативную публику на премьере «Эрнани». Персонажи его книг всегда носят роскошные костюмы, стимулирующие эротическое воображение. Главная героиня его самого знаменитого романа «Мадемуазель де Мопен» (1835), прелестная женщина, путешествует в мужском костюме, и влюбленный в нее кавалер окончательно распознает ее пол, только когда она появляется в женском платье, играя шекспировскую Розалинду. «Ее платье было из переливчатой материи, на свету лазурной, а в тени – золотистой; легкий полусапожок, очень узкий, плотно облегал ногу, которая и без того была чересчур миниатюрна, а ярко-алые чулки ласково обтягивали идеально-округлые и дразнящие икры; руки были обнажены до локтя и выглядывали из присборенных кружев – круглые, полные и белые, сияющие, словно полированное серебро, и невообразимо нежно очерченные; пальцы, унизанные кольцами и перстнями, слегка поигрывали веером из разноцветных перьев необычных оттенков: этот веер был похож на маленькую карманную радугу»[719]. В этом описании одежда неотделима от тела, что, собственно, и создает зрелище красоты: подвижная граница между телом и предметом, их взаимная оптическая необходимость. У Готье женский наряд не только творит женщину как соблазн для мужского взора, но и позволяет ей самой получить настоящее любовное наслаждение.
В 1858 году Теофиль Готье опубликовал небольшую статью «О моде», свидетельствующую о его тонком понимании костюма. Сторонник «чистого искусства», он здесь стал теоретиком одежд и тканей, усмотрев в этих донельзя конкретных материях симптомы жизненно важных для XIX века перемен. Продолжая традицию Бальзака и Барбе д’Оревильи и предвосхищая бодлеровские очерки о денди, Готье размышляет о том, как модный туалет служит одновременно и для сходства, и для различия между людьми. Но как позднего романтика его не радует воцарение черного цвета в мужском костюме. Ностальгируя по разноцветным одеждам минувших лет, он видит в черном фраке символ траура и унылой монотонности, триумф униформы.
В женских модах Готье, напротив, заметил интересную игру эстетических возможностей. Дамские вечерние декольтированные туалеты для него – скрытая отсылка к классике, к «древнему олимпийскому этикету», когда богини изображались с обнаженными плечами и открытой грудью. Кринолины тоже, по мнению Готье, могут восприниматься как пьедесталы к античным статуям, как поясное изображение красавицы. В этом желании вновь вернуть и ощутить «нагую моду» начала века он стремится исподволь возродить романтическое переживание телесности. И хотя нагота для него абстрактна и универсальна, в самой форме современного обнаженного тела он проницательно чувствует следы снятой одежды – об этой исторической изменчивости наготы сейчас написаны интереснейшие работы[720].
«L’habit est la forme visible de l’homme» («Костюм – это видимая форма человека»), – сказано в тексте Готье. Пожалуй, Готье удалось сделать очень трудную вещь – разглядеть и не исказить смысл этих «видимых форм».
Так какой же литературный жанр наиболее адекватен дендизму в культурной традиции? – может справедливо спросить под конец взыскательный читатель. Мы уже говорили и о поэмах Байрона, и о «модном» романе, и о философских трактатах, и об опытах известных писателей в дамской журналистике. Но до сих пор ни слова не было сказано о малом жанре – афоризме. А между тем его по праву можно назвать классическим дендистским жанром. Краткость афоризма идеально соответствует принципу экономии в одежде и минималистской эстетике, недаром Оскар Уайльд оставил нам замечательные сентенции об искусстве, а на страницах бальзаковского трактата «Об элегантной жизни» читатель обнаруживает целую россыпь афоризмов об искусстве одеваться.
Отточенный лаконичный стиль налицо и в трактате «О дендизме и Джордже Браммелле» Барбе д’Оревильи, и в очерках «Художник современной жизни» Бодлера. И все, кто сейчас пишет о дендизме, вынуждены так или иначе считаться с этой традицией, играть по предложенным правилам или же противодействовать им сознательным усилием воли – вот только игнорировать их никак невозможно. Неброская агрессивность дендистского стиля оказывается столь же заразительной для современных авторов, как и байронический сплин – для романтических натур начала XIX века.
XI. Французские денди
Мода на рандеву с литературой
Тесная связь костюма и литературы – давняя традиция во Франции. В стилистике одежд первой половины XIX века культурные и политические аллюзии непременно присутствовали в качестве читаемых знаков: «Маскарад отвечал духу времени. Со времен революции французы привыкли выражать политические взгляды и литературные вкусы через костюмы и модные позы: с самого начала республиканцы были санкюлотами. В эту эпоху для любого мнения и позиции имелся свой вариант стиля. Сторонники “ультра” предпочитали бриджи до колен и антикварные табакерки; либералы носили серые шляпы, а бонапартисты – имперские сюртуки с золотыми пуговицами. Феминистки ходили в мужских костюмахà la Жорж Санд; ученые дамы – в тюрбанах à la мадам де Сталь. Обожатели лорда Байрона отличались нарочитой бледностью и буйными шевелюрами. Любители романов Вальтера Скотта покупали себе шотландские вещи, своим детям – клетчатые юбки, а женам – ткани “Диана Вернон” и шали “Ламмермур”. Почитатели Дюма носили бархатные береты и шпаги в средневековом духе, а поклонники и поклонницы Готье и Гюго – камзолы в стиле Ван Дейка, женские платья “полонез à brandebourg” и живописные венгерские рединготы. Пылкого сторонника “Молодой Франции” можно было сразу узнать по знаменитому красному жилету, в то время как его противники, классицисты, выбирали более приглушенные тона: это было противостояние ярких и тусклых цветов»[721].
О. Домье. Портрет Эжена Растиньяка
В атмосфере, столь насыщенной культурными реминисценциями, французский дендизм быстро оформляется как самостоятельная эстетика и философия жизни. Это не только состязание вкусов, но и стихия театральности, готовность к костюмированной игре в повседневных ситуациях. Рефлексией по поводу одежды и внешнего вида заняты лучшие умы эпохи. Поэтому нас не должна особо удивлять такая закономерность: многие французские литераторы писали для модных журналов. В начале своей карьеры Барбе д’Оревильи сочинял статьи в журнал «Moniteur de la mode» под дамским псевдонимом Максимильенн де Сирен (Maximilienne de Syrène). Сходные опыты в журналистике молодого Бальзака занимают немалое место в его раннем творчестве. Сотрудничая сразу в нескольких изданиях своего приятеля Эмиля де Жирардена, он регулярно выпускал такие очерки, как «Изучение нравов по перчаткам», «Физиология сигары», «О галстуке, рассмотренном в связи с обществом», «Новая теория завтрака».
В конце 1820-х годов во Франции стал популярен особый жанр трактатов о моде. В 1829 году был напечатан «Кодекс туалета» О. Рэссона[722], а вскоре – «Учебник щеголя» Э. Ронтейкса. Бальзак участвовал в написании некоторых трактатов Рэссона[723], но, как это было принято в журналах того времени, скрывал свое авторство. Большинство своих ранних статей он публиковал под псевдонимом «Александр де Б.» или анонимно. В том же духе и его «Трактат об элегантной жизни» печатался без подписи в журнале «Мода» осенью 1830 года.
Это издание объединяло прогрессивных журналистов, составлявших интеллектуальную оппозицию правительству. В его редколлегию входили Эжен Сю (тогда еще только-только начинавший свою литературную карьеру), Эмиль де Жирарден, Ипполит Ожье и Сен-Шарль Лотур-Мезере – знаменитый светский лев, прославившийся своим пристрастием к камелиям. Особый интерес к теме моды со стороны этих блестящих молодых людей диктовался не в последнюю очередь политическими обстоятельствами того времени.
После Июльской революции 1830 года на французский престол взошел «король-буржуа» Луи-Филипп. Старая система социальных различий в результате была во многом пересмотрена: на авансцену выдвинулась новая буржуазная элита, к которой старая аристократия относилась более чем презрительно. Однако разбогатевшие дельцы желали утвердиться не только в своих экономических правах, но и в сфере светской жизни. Возникла необходимость заново выстроить культурный этикет – подданным буржуазной монархии требовался новый кодекс для благоприобретенной светскости. Именно эту задачу решает «Трактат об элегантной жизни» Бальзака. «Социальные различия стираются и сходят на нет, но есть сила, создающая новые разграничения; сила эта – общественное мнение: ведь мода всегда была не чем иным, как общественным мнением в области костюма»[724].
В 1830 году Бальзак видит в обществе три социальные группы: «люди, которые трудятся»; «люди, которые мыслят»; «люди, которые ничего не делают». Им соответствуют три образа жизни: трудовой, богемный и элегантный. Получается, что мода – удел праздных натур («l’oisif»). Это и создает изначальную коллизию всего трактата: ведь Бальзак, сам будучи сугубо «богемным» автором, тем не менее взялся описывать мир праздных щеголей, желая проникнуть в законы «метафизики вещного мира». Поэтому исходное определение «элегантной жизни», коль скоро речь идет о праздности, – «искусство одухотворять досуг».
Цель Бальзака – установить принципы модного этикета для «новой аристократии»: «элегантная жизнь есть не что иное, как школа хороших манер»[725]. Решающим признаком здесь становится не богатство, а умение тратить деньги на «правильные» вещи и верно вести себя в свете. Для Бальзака концепция элегантности, можно сказать, связана с исходным этимологическим значением самого слова, восходящего к идее осознанного выбора[726]: его задача – научить человека осмысленно и со вкусом выбирать себе туалеты и интерьер. Правда, такое обучение в пределе заведомо обречено на фиаско, поскольку, согласно Бальзаку, эстетический вкус – почти всегда врожденное чувство, но все же тут задействованы и привычки, а это уже сфера воспитания.
Для будущих адептов моды Бальзак сочиняет серию определений элегантности:
«Изящество во всем, что находится в нас и вокруг нас»;
«Наука, которая учит нас делать все не так, как другие, оставаясь при этом похожими на других»;
«Искусство по-умному тратить деньги»;
«Благородство, которое человек сообщает вещам».
Подобные максимы задают общий настрой, однако если пытаться вывести из трактата внятную систему, то правила элегантной жизни, по Бальзаку, вряд ли могут составить конкретное руководство:
«Элегантность состоит в первую очередь в том, чтобы не показывать, за счет чего она создается»;
«Ум человека проявляется в том, как он держит трость»;
«Скупец – враг элегантности»;
«Человек, который редко бывает в Париже, никогда не будет до конца элегантным»;
«Человек элегантный готов принять гостей в любую минуту. Он semper paratus, всегда готов, всегда одинаков»;
«Слишком дорогие украшения не производят должного впечатления»;
«Небрежность в одежде равносильна нравственному самоубийству»;
«Дело не в костюме, а в умении его носить».
Бальзаковские принципы элегантности в трактате оформлены как философские постулаты, пронумерованные в лучших традициях строгих картезианских рассуждений. Внимательный читатель, вероятно, все же сумеет ощутить налет иронии, намекающий, что автор не вполне серьезен в своей риторической дидактике. Чтобы свести концы с концами в многочисленных наставлениях, Бальзак апеллирует к верховному авторитету в моде – на помощь энтузиастам приходит не кто иной, как знаменитый денди Джордж Браммелл. Именно к нему решают обратиться за советом, и для этой цели члены редколлегии даже совершают воображаемое путешествие в Булонь[727]. В то время Браммелл был по-прежнему легендарной фигурой, и его взгляды на искусство одеваться неоднократно излагались на страницах «Моды». Некоторые из афоризмов бальзаковского трактата безусловно восходят к Браммеллу: «Если народ глазеет на Вас, значит, вы одеты скверно – слишком хорошо, то есть слишком изысканно либо слишком вычурно»[728]. «Пестрота неизменно ведет к безвкусице»[729] – это вариации на тему «заметной незаметности».
Хотя Браммелл и выступает на страницах трактата в роли «магистра элегантности», тем не менее отношение Бальзака к дендизму далеко не однозначно. Вот его рассуждения: «Дендизм – ересь, вкравшаяся в царство элегантности. В самом деле, дендизм – это подчеркнутое следование моде. Становясь денди, человек превращает себя в часть обстановки собственного будуара, в виртуозно выполненный манекен, который умеет ездить верхом и полулежать на кушетке, который покусывает или посасывает набалдашник своей тросточки; но можно ли назвать такого человека мыслящим существом? Ни в коем случае! Человек, не видящий в моде ничего, кроме моды, – просто глупец»[730]. Бальзак здесь толкует дендизм в очень узком смысле слова, как карикатурное следование последней моде, и, разумеется, портрет такого денди оказывается крайне малосимпатичным. Такая интерпретация противоречит реальным принципам дендизма эпохи Регентства, которые как раз предостерегали от поспешной погони за модой; да и сам Браммелл неоднократно высмеивал ситуации, когда человек становится «манекеном» и, к примеру, не может повернуть голову из-за жесткого воротничка или свободно двигаться в тесном фраке. Как объяснить это явное противоречие?
Разгадка кроется в том, что в 1830 году, когда Бальзак писал свой трактат, Франция переживала очередную волну англомании. Увлечение всем английским – клубами, жокеями, лошадьми – приводило к неумелому подражанию британскому стилю. Это вызывало у многих естественную реакцию отторжения, и слово «денди» употреблялось в саркастическом ключе для обозначения тех, кто переусердствовал. Настоящих щеголей, умеющих одеваться со вкусом, французы называли в 1830 году вовсе не «денди», а «львами» («Lion») или «модниками» («fashionables»). Леди Морган очень точно засвидетельствовала в своих путевых заметках именно этот курьезный момент: «Несмотря на тщательные ежедневные заботы о своем туалете, парижский денди всегда выглядит слишком нарядным, так как все детали его облика – от узла шейного платка до шнурков на ботинках – кажутся утрированными»[731].
Эти эксцентричные ассоциации к слову «денди» подкреплялись переводными «модными» романами, в которых жизнь английского высшего света описывалась достаточно подробно, но сами денди нередко были выведены в пародийном духе. Напомним, что к 1830 году во Франции уже были переведены «Грэнби» Листера, «Тремэн» Уорда, а в 1832 году – знаменитый «Пелэм» Бульвера-Литтона. Неудивительно, что литературная инерция образа денди на некоторое время опередила реальное восприятие феномена британского дендизма. Жокей-клуб появился во Франции только в 1834 году, и понятие «денди» со всеми его серьезными смысловыми обертонами прижилось во Франции через несколько лет.
Умелый щеголь, согласно Бальзаку, вовсе не пытается буквально следовать моде, а, напротив, понимает элегантность в расширительном смысле. «Элегантность не только не исключает ума и познаний, но, напротив, освящает их. Она учит проводить время не только с удовольствием, но и как можно более возвышенно»[732]. Фактически бальзаковская идея «элегантной жизни», изложенная в трактате, и была попыткой размышления о сущности дендизма, хотя сам автор в то время не смешивал эти понятия. Но достаточно сравнить его максимы по поводу элегантности, например, с правилами «Искусства одеваться» из романа Бульвера-Литтона «Пелэм», как сходство бросается в глаза[733]. Так что в итоге присутствие Браммелла на страницах трактата имеет и скрытые символические мотивировки, отсылая знатоков к роману Бульвера-Литтона.
П. Гаварни. Бальзак в монашеском платье. 1840 г.
Рисуя денди в поздних романах, Бальзак уже изображает своих героев в более благожелательном ключе, предвосхищая концептуальную трактовку дендизма у Барбе д’Оревильи и Бодлера. В портретах денди в «Утраченных иллюзиях» еще чувствуются отзвуки англомании: «Этот, разговаривая с женщиной, гнул в руках чудесный хлыст; и по его широким сборчатым панталонам, чуть забрызганным грязью, по звенящим шпорам, по короткому облегающему сюртуку можно было догадаться, что он готов опять сесть в седло; неподалеку крохотный тигр[734] держал под уздцы двух оседланных коней»[735]. Многие щеголи в романах Бальзака описываются как умелые наездники – например, Анри де Марсе. Только в культурном контексте англомании можно понять такой странно звучащий для современного уха афоризм из трактата: «Единственный полноправный носитель элегантности – кентавр, человек в тильбюри»[736].
В «Человеческой комедии» немало персонажей-денди. Это и Максим дю Трай, и Люсьен Шардон, и Эжен де Растиньяк, и Шарль Гранде, не говоря уж об Анри де Марсе. Герои Бальзака используют модные туалеты прежде всего как средство эффектно подать себя. По приезде в Париж Люсьен Шардон видит «изящных, жеманных молодых франтов из знати Сен-Жерменского предместья, точно созданных в одной манере, схожих тонкостью линий, благородством осанки, выражением лица, и все же не схожих по той причине, что каждый из них выбирал оправу по своему вкусу, желая выгоднее себя осветить. Все оттеняли свои достоинства неким подобием театрального приема; молодые парижане были искушены в том не менее женщин… Один играл тростью прелестной отделки, другой оправлял манжеты с обворожительными золотыми запонками. А тот вынул из жилетного кармана часы, плоские, как пятифранковая монета, и озабоченно посмотрел, который час: он или опоздал на свидание, или пришел слишком рано…»[737]. В этой сцене Люсьен взирает на столичных щеголей глазами восхищенного провинциала. Однако уже вскоре он, пройдя школу выживания в Париже, постигает на собственном опыте секреты элегантной жизни и, в свою очередь, поражает светское общество дендистским шиком: «Согласно моде того времени, по милости которой старинные короткие бальные панталоны были заменены безобразными современными брюками, Люсьен явился в черных панталонах в обтяжку. В ту пору мужчины еще подчеркивали свои формы, к великому огорчению людей тощих и дурного сложения, а Люсьен был сложен, как Аполлон. Ажурные серые шелковые чулки, бальные туфли, черный атласный жилет, галстук – все было безупречно и точно бы отлито на нем. Густые и волнистые белокурые волосы оттеняли белизну лба изысканной прелестью разметавшихся кудрей. Гордостью светились его глаза. Перчатки такдивно обтягивали его маленькие руки, что было жаль их снимать. В манере держаться он подражал де Марсе, знаменитому парижскому денди: в одной руке у него была трость и шляпа, с которыми он не расставался, и время от времени он изящным жестом свободной руки подкреплял свои слова»[738].
Описания одежды в романах Бальзака даны с детальной точностью. Действие «Утраченных иллюзий» происходит в 1823 году, и подобные костюмы можно видеть на картинках в модных журналах этого периода. Герои Бальзака с толком используют свое знание элегантной жизни, делая политическую карьеру. Анри де Марсе в итоге получает пост премьер-министра, а Эжен де Растиньяк становится министром юстиции и пэром Франции. Именно таких персонажей имел в виду Бальзак, говоря с подчеркнутым благоговением в своем трактате об «избранниках судьбы, которые умеют с удовольствием пускать на ветер свое состояние и добиваться у народа прощения за свою удачную карьеру, оказывая ему разнообразные благодеяния»[739].
Был ли Бальзак денди?
Насколько работает концепция «элегантной жизни» в биографии самого Бальзака? Сразу скажем: на наш взгляд, Бальзак вовсе не являлся настоящим денди. Обрисованная им модель элегантности входила в противоречие с его повседневной жизненной практикой. Согласно собственной классификации, Бальзак относился к представителям богемы. Богемный художник «живет как хочет, или… как может»[740], «Он то элегантен, то небрежен в одежде; он добровольно надевает робу пахаря, но знает толк во фраках, которые носят щеголи»[741] – эта характеристика дает ключ к удивительно сбивчивым и странным попыткам Бальзака прослыть франтом.
В период финансового благополучия Бальзак держал модные экипажи – кабриолет и тильбюри. У него был специальный грум-«тигр» по имени Леклерк. Бальзак любил шикарно одеваться – его обшивал модный портной Бюиссон, чье имя он постоянно упоминал в своих романах (в благодарность или, возможно, в порядке рекламы). Бюиссон соглашался работать на Бальзака даже в долг, хотя заказы были немаленькие: сохранились счета, свидетельствующие, что за один раз писатель заказал 31 жилет – и это был только первый шаг к его честолюбивой мечте иметь 365 жилетов, по одному на каждый день года. За месяц среди его обновок фигурируют и коричневый редингот, и черный жилет, и серые панталоны. К концу 1830 года, как раз когда создавался «Трактат об элегантной жизни», Бальзак был должен Бюиссону 904 франка, а сапожнику – 200 франков: эта сумма в два раза превышала его бюджет на жилище и еду (поэтому его определение элегантной жизни как искусства «по-умному тратить деньги», без сомнения, было выстрадано на личном опыте).
Вести дендистский образ жизни и удержаться в разумных финансовых рамках в то время было практически невозможно, поскольку расходы носили статусный характер. Анна Мартен-Фюжье приводит перечень расходов парижского денди, ссылаясь на французский журнал «Антракт» 1839 года. Ежегодный бюджет денди оценивается в 94 500 франков. «14 000 франков нужны для того, чтобы нанять квартиру в модном квартале (на улицах Риволи, Мон-Табор или Мондови) с конюшней, роскошной каретой, службами и угодьями. 20 000 франков уходит на покупку и содержание (упряжь, сено, солома и овес) лошадей: трех караковых жеребцов для вечерних прогулок и одной лошади для вечерних прогулок в карете. 18 000 франков поступают в карман ювелира: на них приобретаются часы, цепочки, камеи, кольца, портсигары, запонки; 5000 берет портной за фраки, рединготы и накидки, не говоря уже о костюмах для верховой езды и для охоты; такую же сумму требует сапожник за сапоги, башмаки и чистку обуви; 4000 уходит на сорочки, 3000 – на шляпы, 1500 – на перчатки (денди ежедневно требуются две пары новых перчаток), 800 – на духи, наконец, 1000 франков – на покупку тростей и хлыстов, которые вдобавок приходится сдавать в гардеробы театров и каретных залов, и тоже за деньги. Слуги обходятся в 7500 франков: 3000 денди платит камердинеру, который бреет и завивает его, 2500 – кучеру, который также исполняет обязанности егеря, и 2000 – мальчику-груму, который сопровождает хозяина во время поездок в город. 4000 франков денди тратит на еду, 3000 – на посещение театров, 1200 – на цветы. На карточные проигрыши, пари и чаевые следует положить никак не менее 6000 франков. Кроме того, 500 франков тратятся на писчебумажные принадлежности, 200 франков – на “мелочи, без которых в Париже не обойтись”, вроде лорнетов и зрительных трубок»[742].
Несмотря на внушительный характер статусных расходов, Бальзак все же не оставлял надежды блеснуть в роли денди. Отчаянно пытаясь подражать своему элегантному другу Лотур-Мезере, Бальзак не экономил на дорогих туалетах. Но, увы, он не очень-то умел правильно сочетать вещи и мог, к примеру, спокойно поддеть черный жилет под синий сюртук – подобная цветовая комбинация шокировала художника Эжена Делакруа. Да и другие знакомые Бальзака вспоминали, что костюмы великого писателя были отнюдь не безупречными: он обожал роскошь, но старался приодеться только при визитах в великосветские салоны. Дома он работал в своем излюбленном халате, а когда выбирался подышать воздухом, то нередко прогуливался по улицам Парижа в достаточно небрежном виде: «Темно-коричневое пальто, застегнутое до подбородка и носящее неизгладимые следы его прогулок по задворкам; черные панталоны, едва доходящие ему до лодыжек и не скрывающие ужасных синих чулок; грубые башмаки, кое-как зашнурованные на щиколотке, башмаки и низ панталон забрызганы грязью; на короткую толстую шею накручен вместо галстука зелено-красный шерстяной шнур; на подбородке по меньшей мере восьмидневная щетина; длинные нечесаные черные волосы свисают на широкие плечи; на голове шляпа из настоящего тонкого фетра, но поношенная, с низкой тульей и широкими полями; перчаток вовсе нет – те, что были на нем во время нашего странствия, надеть оказалось невозможно»[743].
Подобными одеяниями Бальзак порой отпугивал многих при первом знакомстве, однако затем личное обаяние писателя все равно перевешивало первое неприятное впечатление. Госпожа де Поммерель, к примеру, когда ей представили Бальзака, вначале ужаснулась из-за его «прескверной» шляпы, но вскоре прониклась симпатией к романисту: «Во всем его облике, жестах, манере говорить, держаться чувствовалось столько доверчивости, столько доброты, столько наивности, столько искренности, что, узнав, его невозможно было не полюбить»[744]. Действительно, судя по многочисленным свидетельствам, Бальзак во многих житейских обстоятельствах вел себя как большой ребенок – взять хотя бы его бесчисленные прожекты быстрого обогащения. Мемуаристы часто отмечают, что красивые вещи являлись для Бальзака своего рода игрушками, и он никогда не мог удержаться от покупки понравившейся штучки.
Одной из его любимых «игрушек» была знаменитая трость, которая стала предметом пересудов среди его знакомых. Сам Бальзак писал о ней в 1834 году Эвелине Ганской: «Что до моих радостей, то они невинны. Меня тешит мое новое кресло в комнате, трость, о которой говорит весь Париж, дивный лорнет – его… сделал оптик Обсерватории, да еще золотые пуговицы на моем синем фраке, изготовленные руками феи, ибо не может человек, обладающий в XIX веке тростью, достойной Людовика XIV, удовлетвориться отвратительными пуговицами из накладного золота. Все это невинные причуды, но благодаря им я слыву миллионером. Я основал в мире щеголей секту тростелюбов, и меня считают человеком легкомысленным»[745].
В то время модными материалами для тростей были черное дерево, кость, рог; набалдашники заказывались известным ювелирам и делались из драгоценных камней. На портретах известных денди они часто изображались с тростью в руках; на переднем плане – элегантный набалдашник. Таковы портреты Робера де Монтескью (художник Болдини, 1897) и Уолфорда Робертсона кисти Сарджента (1894). Трость Робертсона снабжена набалдашником из зеленоватого камня, очевидно нефрита или жадеита, а лазуритовый набалдашник у трости Монтескью продуманно оттеняет его знаменитый серый костюм.
Трость Бальзака была выполнена из камыша, а набалдашник – из золота, украшенного бирюзой. Она поражала своими массивными размерами, гигантским набалдашником, что создавало особенно комический эффект из-за низкого роста владельца.
Странная на первый взгляд диспропорциональность трости имела свое объяснение: это была трость с секретом. «Теперь известно, что в рукоять трости была искусно вмонтирована маленькая крепящаяся на шарнирах крышечка, скрывающая небольшой тайник, ныне пустой. Вероятнее всего, когда-то в нем хранился миниатюрный портрет Эвелины (Евы) Ганской (утверждают, что, следуя традиции, Ева была изображена в своем естественном виде) или прядь ее волос»[746].
Современники, не знавшие секрета трости, сравнивали ее со скипетром, с маршальским жезлом, с тростью от статуи Вольтера. Журналист из дамской Модной газеты уподобляет Бальзака с тростью Наполеону, прогуливающемуся с Вандомской колонной в руках. Бальзак становится объектом карикатур в газетах и журналах, а скульптор Дантан даже сделал гипсовую статуэтку-шарж. На известном рисунке «Апофеоз Бальзака» (1835–1836) Гранвиль изобразил его как великана среди созданных им героев, которыми он управляет царственным жезлом – своей тростью. Трость на этом рисунке является одновременно пером, которое автор может макнуть в рядом стоящую огромную чернильницу.
В романе «Трость господина де Бальзака» (1836) Дельфина де Жирарден описывает сенсационное появление Бальзака в Опере с этой тростью, вопрошая: «По какой причине господин де Бальзак вооружился этой дубиной?» Далее она проницательно замечает: «Умный человек просто так не делает себя смешным»[747].
Выбирая подобную несоразмерную трость, Бальзак явно шел поперек моды своего времени, когда все денди носили тонкие изящные тросточки. Однако этим жестом он умело привлек внимание к собственной персоне, использовав эпатаж как средство рекламы. Подобные приемы, разумеется, прибавляли ему популярности как романисту, хотя и дискредитировали его как щеголя.
Эта диспропорция весьма символична: в конечном счете Бальзака всегда больше интересует не эстетика формы, а человеческие отношения, структура общества. Характеры денди в его романах прописаны тонко и со знанием дела, но одежда выступает в одной главной функции – как знак социального положения и намерений. Самое захватывающее для Бальзака – это толкование костюма как системы улик, «таможенный досмотр»[748], а мода – всего лишь удобный способ анализировать людей, и, заметим, именно на это были направлены все его титанические усилия. Не случайно в «Трактате об элегантной жизни», по существу, нет положительного героя-модника. Ведь Бальзак, высмеяв карикатурного денди-англомана, далее противопоставляет ему вовсе не человека со вкусом или умелого щеголя, а некоего таинственного персонажа, владеющего секретами «магнетического воздействия» на людей: «он полон обаяния, мелодичный голос придает его речам неотразимую прелесть… он заботится о собеседнике и избирает для разговора лишь самые уместные темы; он всегда удачно подбирает слова; язык его чист, насмешки беззлобны, а замечания безобидны… он наделен неким необъяснимым могуществом…»[749]
Этот человек, о чьем отношении к моде не сказано ни слова, скорее подан как старинный идеал «honnêtte homme», виртуоз светского общения. Его характер и впрямь во всем противоположен тщеславному скептику-денди, но о его гардеробе или каких-либо внешних приметах элегантности читателю ничего узнать не суждено! Подобный ход только на первый взгляд кажется неожиданным – однако здесь Бальзак как раз проявляет свой подлинный интерес: исследовать человеческую природу. Отсюда и его увлечение теорией Лафатера[750], и амбициозный проект всеобъемлющей классификации человеческих типов, и восхищение идеями Сент-Илера[751], и апология силы воли. В итоге рассуждения о моде у него сплошь и рядом подменяются аналитикой характеров. В этом плане Бальзак абсолютно не похож на Теофиля Готье или Оскара Уайльда, которые любят давать прелестные описания одежды в своих текстах ради чувственного словесного наслаждения.
Эти же особенности Бальзака позволяют понять, почему он не мог быть денди в жизни, – вся его творческая энергия уходила в литературу, и созданные его фантазией типы романных денди гораздо убедительнее, чем его попытки личного дендизма. Возможно, этот колоссальный зазор между теорией и жизненной практикой, действуя как конструктивное противоречие, оказался в высшей степени плодотворен для его художественного творчества. Недаром Игорь Северянин писал о Бальзаке:
В пронизывающие холода Людских сердец и снежных зим суровых Мы ищем согревающих, здоровых Старинных книг, кончая день труда… Невероятных призраков не счесть… Но «вероятная невероятность» есть В глубинных книгах легкого француза, Чей ласков дар, как вкрадчивый Барзак, И это имя – Оноре Бальзак — Напоминанье нежного союза…[752]Стендаль: дендизм в «Красном и черном»
В том же 1830 году, когда выходит бальзаковский «Трактат об элегантной жизни», Стендаль печатает «Красное и черное». В этом романе тема дендизма возникает постоянно. Главный герой являет собой классический тип молодого человека, желающего выдвинуться в обществе. Неопытный в науке светской жизни Жюльен Сорель обладает тем не менее базовыми качествами денди – естественностью и чувством собственного достоинства. Это позволяет ему с блеском выходить из ситуаций, которые могли бы поставить в тупик неискушенного новичка. Так, когда Жюльен первый раз едет кататься верхом, он падает с лошади, но не пытается это скрыть, а, наоборот, превращает это происшествие в повод для занимательного рассказа. «“Господин граф… распорядился дать мне самую смирную и самую красивую лошадку, но в конце концов не мог же он привязать меня к ней, и вот из-за отсутствия этой предосторожности я и свалился как раз посреди этой длинной улицы, перед самым мостом”. Мадемуазель Матильда, несмотря на свое старание удержаться, прыснула со смеху, а затем без всякого стеснения стала расспрашивать о подробностях. Жюльен все рассказал с необычайной простотой, и это у него вышло очень мило, хотя он это и не подозревал. “А из этого аббатика будет прок, – сказал маркиз академику. – Провинциал, который держится так просто при подобных обстоятельствах, да это что-то невиданное, и нигде этого и нельзя увидать! Да мало того, он еще и рассказывает об этом своем происшествии в присутствии дам!”»[753]
Неожиданный светский успех при рассказе о собственном фиаско может показаться парадоксальным – однако тут все дело заключается в непринужденном тоне: Жюльен интуитивно превращает свой промах в анекдот и проявляет аристократическую простоту, не стараясь как-то замаскировать происшедшее. Таков классический дендистский рецепт – не скрывать свои слабости, а превращать их в достоинства.
Этот эпизод можно сопоставить со сходным случаем, произошедшим с Пелэмом, героем одноименного романа Бульвера-Литтона (1828). При появлении в первый раз в парижском светском обществе Пелэм, не смущаясь, подробно описывает, как в первый день пребывания в Париже угодил в сточную канаву и чуть не погиб: «“Я свалился в бурный поток, который вы именуете сточной канавой, а я – бурной речкой. Как вы думаете, мистер Абертон, что я предпринял в этом затруднительном и крайне опасном положении?” – “Ну что ж, вы, наверное, постарались как можно скорее выкарабкаться”, – сказал достойный своего звания атташе. “Вовсе нет: я был слишком испуган. Я стоял в воде, не двигаясь, и вопил о помощи”. Мадам д’Анвиль была в восторге, мисс Поулдинг – в недоумении. Мистер Абертон шепнул жирному, глупому лорду Лескомбу: “Что за несносный щенок!” – И все, даже старуха де Г., стали присматриваться ко мне гораздо внимательнее»[754].
Самоуверенность тона рассказчика акцентирует намеренное нарушение условностей светской тематики для беседы, и эта стратегия блестяще срабатывает – не боясь шокировать публику, денди сразу производит сильное впечатление. Пелэм здесь одним махом опровергает сразу три стереотипа: 1) сточные канавы – неподходящий предмет для беседы в обществе; 2) мужчина должен быть сильным и сам выпутываться из неприятностей (точка зрения атташе); 3) о подобных конфузах, если уж они произошли, лучше молчать. Но главное, что все это преподносится как ни в чем не бывало победительным тоном, что окончательно покоряет завсегдатаев салона[755].
Типологическое сходство двух эпизодов налицо, причем Стендаль, скорее всего, был знаком с текстом романа Бульвера-Литтона в период написания «Красного и черного». Однако, повторим, искусно разыгранная интермедия Пелэма – из арсенала профессионального денди, а Жюльен только-только становится на этот путь.
Полный курс дендистских наук он проходит, когда маркиз посылает его в Лондон. Однако там, как это ни парадоксально, не англичане, а молодые русские дворяне-дипломаты посвящают Сореля во все тайны «высокого фатовства». Они объясняют ему два основных правила: 1) не выдавать своих истинных чувств, сохранять холодный вид в любых обстоятельствах; 2) «Делайте всегда обратное тому, что от Вас ожидают», – говорит ему князь Коразов, главный наставник Жюльена в дендизме. «Не будьте ни глупцом, ни притворщиком, ибо тогда от Вас будут ждать то ли глупостей, то ли притворства, и заповедь будет нарушена»[756].
В выполнении этих правил – завязка одной из главных коллизий романа: конфликта между непосредственной натурой Жюльена и необходимостью сдерживать свои эмоции для успешной карьеры. Душа Жюльена «структурирована по-итальянски, то есть движима не расчетом, не лицемерием, а страстью»[757], и оттого правила дендизма предлагают ему удачный компромисс между необходимостью скрывать свои чувства и возможностью периодически всех удивлять бурными вспышками страстей. Его отношения и с женщинами, и со своими покровителями подчиняются этому пульсирующему алгоритму сдержанности и «итальянской» откровенности.
Позднее по ходу романа Жюльен опять встречает Коразова и восхищается им. «Вот счастливый характер! – думал он. – Какие у него замечательные рейтузы! А волосы как хорошо подстрижены!»[758] Князь опять дает Жюльену ценные советы, но на этот раз относительно «науки страсти нежной», и снабжает в придачу готовыми любовными письмами, которые сочинил другой русский – Калисский. При этом сам Коразов, как сказано в тексте, «был в восторге, никогда еще ни один француз не слушал его так долго. „Ну вот я, наконец, и добился, – ликовал про себя князь, – мои учителя слушают меня и учатся у меня“»[759].
На первый взгляд получается, будто русские превосходят французов в дендизме – однако в романе все не столь однозначно. Ведь фигура Коразова подана у Стендаля с ощутимой авторской иронией. Страницей раньше Стендаль ехидно вставляет: «Русские старательно копируют французские нравы, только с опозданием лет на пятьдесят»[760]. Впрочем, стендалевская ирония распространяется и на образы французских денди. Самый яркий пример шаржированного дендизма в романе – кавалер де Бовуази: «высокий молодой человек, разодетый, словно куколка… Его необычайно узкая голова былаувенчана пирамидой прекрасных белокурых волос. Они были завиты с невероятной тщательностью, ни один волосок не отделялся от другого… Пестрый шлафрок, утренние панталоны – все, вплоть до вышитых туфлей, свидетельствовало об исключительном тщании хозяина»[761]. Во время объяснения по поводу предстоящей дуэли кавалер, разумеется, оценивает костюм собеседника, что непосредственно влияет на его обращение с ним. «Г-н Шарль де Бовуази после зрелого размышления в общем остался удовлетворен покроем черного костюма Жюльена. “Это от Штоуба, совершенно ясно, – говорил он себе, слушая его рассказ. – Жилет с большим вкусом и ботинки недурны, но, с другой стороны, – черный костюм с раннего утра! Ах да, это чтобы не быть мишенью для пули!” – наконец догадался кавалер де Бовуази. Едва только он нашел это объяснение, он стал отменно вежлив и держал себя с Жюльеном почти как равный с равным»[762].
Стендалевская ирония тут очевидна: во-первых, костюм Жюльена не мог быть от Штоуба, ибо сын плотника вряд ли заказывал одежду у прославленного портного, обшивающего высшее общество. Во-вторых, безрассудному Жюльену чужды соображения о личной безопасности, он печется о своей задетой чести. В-третьих, к моменту этого рандеву Жюльен еще не настолько денди, чтобы знать, что черный костюм принято носить только вечером. Матильда еще ранее по ходу романа, анализируя общее впечатление от Жюльена, относит к безусловным минусам «его неизменный черный костюм»[763].
Для провинциала, ищущего модель для подражания, кавалер де Бовуази представляет безусловный образец парижского шика. Жюльена восхищает его серьезность с оттенком легкой кичливости, манера шутить на церковные темы, но более всего – «смесь самоуважения и какой-то таинственной важности и фатовства»[764]. Однако Стендаль недвусмысленно подчеркивает, что это – восторги молодого провинциала, и безжалостно развенчивает кавалера де Бовуази попутной авторской ремаркой: «кавалер немного заикался потому только, что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдавшим этим недостатком»[765].
Путь Жюльена в романе – от неопытного и простоватого молодого человека до изощренного денди, знающего толк и в изящных костюмах, и в умении властвовать. Если в начале службы маркиз де Ла Моль, узнав, что его секретарь запасся двумя белыми сорочками, приказывает ему заказать еще двадцать две, то уже скоро Жюльен использует дендизм как удобную защитную маску. При конспиративной поездке в Англию он без труда разыгрывает легкомысленного франта, и при обыске в его чемодане обнаруживаются «сплошь одно белье, помада да всякие пустячки», что отводит от него подозрения. В финальной сцене на суде Жюльен «одет очень просто, но с отменным изяществом» и держится превосходно. На казнь он идет с подлинно дендистским самообладанием – игра, сыгранная не на жизнь, а на смерть, заканчивается.
Бодлер
В 1863 году Бодлер публикует в газете «Ле Фигаро» серию очерков «Художник современной жизни». Они посвящены другу Бодлера художнику Константину Гису. Это эссе превосходно выражает позицию французских денди второго поколения, пытавшихся извлечь из дендизма философию жизни и эстетику современного городского стиля.
Шарль Бодлер Фото Э. Каржа.1861 г.
Концепцию дендизма у Бодлера можно свести к трем основным тезисам.
1) Поэт во многом отождествляет дендизм с любезным его сердцу эстетизмом, который он сам практиковал в поэзии (знаменитый сборник «Цветы зла», 1857). Денди для него – прежде всего эстет, проповедник хорошего вкуса, борец с вульгарностью. Но он создает не произведения искусства, а свою собственную жизнь, подчиняя ее творческому императиву оригинальности. Денди превращает себя в адепта эстетической чувствительности: «Единственное назначение этих существ – культивировать в самих себе утонченность, удовлетворять свои желания, размышлять и чувствовать»[766].
Суть денди – «непреодолимое стремление к оригинальности, доводящее человека до крайнего предела принятых условностей. Это нечто вроде культа собственной личности, способного возобладать над стремлением обрести счастье в другом, например в женщине; возобладать даже над тем, что именуется иллюзией» (с. 304).
Эстетизм, с точки зрения Бодлера, противоположен вульгарности: «Главное – денди никогда не может быть вульгарным» (с. 304). Борьба с вульгарностью составляет внутреннее призвание денди и служит основой его «профессиональной» гордости: «Как бы ни назывались эти люди – щеголями, франтами, светскими львами или денди, – все они сходны по своей сути. Все они воплощают в себе наилучшую сторону человеческой гордости – очень редкую в наши дни потребность сражаться с пошлостью и искоренять ее. В этом источник кастового высокомерия денди, вызывающего даже в своей холодности» (с. 305).
Но денди, сражающийся против пошлости, содержит в себе потенциальный аморализм, ставя красоту превыше всего, в том числе добра. «Совершив преступление, он может не пасть в собственных глазах, но, если мотив преступления окажется низким и пошлым, бесчестье непоправимо» (с. 304). В этом тезисе уже заключается в зародыше вся фабула «Дориана Грея».
2) Следование доктрине эстетизма требует от адептов самоограничения и в этом смысле приводит к стоицизму. «В некотором смысле дендизм граничит со спиритуализмом и со стоицизмом… Для тех, кто являются одновременно и жрецами этого бога, и его жертвами, все труднодостижимые внешние условия, которые они вменяют себе в долг, – от безукоризненности одежды до спортивных подвигов – всего лишь гимнастика, закаляющая волю и дисциплинирующая душу. В сущности, я не так уж далек от истины, рассматривая дендизм как род религии» (с. 304). Как видим, дендизм для Бодлера – перформанс и аскеза, тренинг в дисциплине и трудолюбии.
Самоограничение денди выражается в трех основных принципах. Во-первых, это необходимость быть в хорошей физической форме – иметь тренированное тело, соблюдать гигиену. Вспомним, как Байрон изнурял себя диетами, когда начал полнеть! Во-вторых, это табу на внешнюю выспреннюю роскошь: здесь Бодлер неукоснительно следует за Браммеллом, который, отстаивая идею «заметной незаметности», проповедовал сдержанный стиль. «Неразумно также сводить дендизм к преувеличенному пристрастию к нарядам и внешней элегантности. Для истинного денди все эти материальные атрибуты – лишь символ аристократического превосходства его духа. Таким образом, в его глазах, ценящих прежде всего изысканность, совершенство одежды заключается в идеальной простоте, которая и в самом деле есть наивысшая изысканность» (с. 304).
3) Наконец, третий принцип самоограничения – пожалуй, самый трудный, и ему-то Бодлер как раз и уделяет больше всего внимания. Речь идет об искусстве сдерживать свои чувства: «Обаяние денди таится главным образом в его невозмутимости, которая порождена твердой решимостью не давать власти никаким чувствам; в них угадывается скрытый огонь, который мог бы, но не хочет излучать свет» (c. 306). Бодлер сравнивает дисциплину дендизма с духовной практикой иезуитов, ссылаясь на изречение Игнасио Лойолы «Будь подобен трупу»: «Эта доктрина элегантности и оригинальности, которая так же грозно приказывает своим честолюбивым и смиренным приверженцам, людям большей частью страстным, мужественным, кипучим, исполненным сдержанной силы: “Perinde ad cadaver!”» (с. 304–305).
Интересно, что из всех «запретных» чувств на первом месте стоит удивление: «Это горделивое удовольствие удивлять, никогда не выказывая удивления. Денди может быть пресыщен, может быть болен, но и в этом последнем случае он будет улыбаться, как маленький спартанец, в то время как лисенок грыз его внутренности» (с. 304). На первый взгляд, что особо дурного в чувстве удивления? Не мудрее ли бороться с другими суетными страстями – тщеславием, гордостью, завистью?
На самом деле этот принцип восходит к древней античной максиме «nil mirari» – «ничему не удивляйся» или в более полной форме «niladmirari» – «ничем не восхищайся». Классическую формулировку этого принципа можно прочесть у Горация:
Nil admirari prope res et una, Numici, Solaque quae possit facere et servare beatum. Сделать, Нумиций, счастливым себя и таким оставаться Средство, пожалуй, одно только есть: «Ничему не дивиться». (Перевод Н.Гинцбурга) [767]Как комментируют это изречение Н.Т. Бабичев и Я.М. Боровский, «“Nil admirari” – “Ничему не дивиться” – значит при любых обстоятельствах сохранять ясное спокойствие духа, высшее благо, согласно этическому учению обеих философских школ, определивших мировоззрение Горация, – эпикурейской и стоической, и не искать внешних жизненных благ – богатства, почестей и т. п. Это правило выдвигали многие философы древности: Пифагор, Демокрит, Эпикур, стоик Зенон»[768].
В рамках античной мудрости удивление, как видим, предполагает восхищение, и оба значения присутствуют в русском глаголе «дивиться». Готовность удивиться-восхититься подразумевает открытость по отношению ко всем жизненным удовольствиям и приманкам и, следовательно, несамодостаточность. Пуристский вариант дендизма, восходящий к Браммеллу и близкий Бодлеру, напротив, был ориентирован на закрытость, программную избирательность вкуса, страхующую эстета от потенциальной вульгарности.
Удивление при таком толковании становится в ряд с такими категориями, как «женское», «детское», «природное», «вульгарное», «непосредственность», «теплота». А дендизм как раз возводит на пьедестал прямо противоположные свойства: «мужское», «взрослое», «культура», «эстетизм», «искусственное», «сдержанность», «холодность», «закрытость». Поэтому ясно, что удивление/ восхищение – совсем не дендистская добродетель, по крайней мере в системе Бодлера, которая во многом опирается на неоклассический минимализм Браммелла.
Однако подобный вывод не работает применительно к другим вариантам дендизма: граф д’Орсе явно исповедовал совсем иные принципы – его приветливость и теплота обращения, жизненный гедонизм, барочная избыточность облика скорее излучали теплоту и непосредственность, готовность удивиться и восхититься, растопляя холодность окружающих. Но он по крайней мере следовал первой половине правила: удивлял собственной персоной. Или взять другое ответвление дендизма, генеалогически восходящее к Бодлеру: эстетизм конца века Уайльда и Гюисманса. Здесь намечается иная крайность: на фоне прежнего культа всего искусственного – погоня за любыми эмоциями, включая шок безобразия, чтобы по контрасту сильнее ощутить прелесть прекрасного. Удивление оказывается востребованным опять, но уже в опосредованном, прошедшем через отрицание, сублимированном варианте зрелого декадентского вкуса.
Но вернемся к бодлеровской аналитике страстей. Гордость, как мы уже видели, целиком санкционирована Бодлером и объявлена своего рода героикой: это абсолютно закономерно, ибо еще Барбе д’Оревильи в трактате «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845) сложил прочувствованный панегирик тщеславию как основе дендистского характера. «Горделивое удовольствие удивлять» или «кастовое высокомерие, вызывающее даже в своей холодности» явно отмечены позитивно в контексте эссе как аристократические добродетели. А это уже связано с последним тезисом Бодлера.
3) Бодлер очень проницательно определяет социальные предпосылки возникновения дендизма: «Дендизм появляется преимущественно в переходные эпохи, когда демократия еще не достигла подлинного могущества, а аристократия лишь отчасти утратила достоинство и почву под ногами. В смутной атмосфере таких эпох немногие оторвавшиеся от своего сословия одиночки, праздные и полные отвращения ко всему, но духовно одаренные, могут замыслить создание новой аристократии; эту новую аристократию будет трудно истребить, поскольку ее основу составляют самые ценные и неискоренимые свойства души и те божественные дарования, которых не дадут ни труд, ни деньги. Дендизм – последний взлет героики на фоне всеобщего упадка» (с. 305).
В этом пассаже Бодлер сначала говорит о реальной аристократии, утрачивающей свое влияние в эпоху буржуазных революций, но затем «поручает» денди достаточно сложную задачу – создать «новую аристократию», которая бы развивала аристократические ценности в области искусства. Надо полагать, имеются в виду все та же борьба с вульгарностью и эстетизм, но уже без социальной базы знати – родовитости. Однако тут таятся противоречия: с одной стороны, Бодлер превозносит «божественные дарования, которых не дадут ни труд, ни деньги», то есть делает выпад сразу против и «вульгарных» накопителей буржуа, и работяг-пролетариев, равным образом далеких от высокого искусства. Но, с другой стороны, его рассуждения о дендизме начинаются горькой истиной, в которой сам Бодлер имел случай не раз убедиться: денди должен располагать «неограниченным досугом и денежным достатком, без которых фантазия, сведенная к мимолетной прихоти, не может воплотиться в действие» (с. 303).
На долю бодлеровского денди остаются внешние признаки аристократического воспитания без фиксированной социально-материальной базы. Дендизм берет на вооружение аристократический кодекс поведения – праздность, холодность, надменность, подчеркнутая простота обращения, страсть к прекрасному, – но снимает императив родовитости. Получается несколько амбивалентная поза форсированной уверенности в себе для «немногих оторвавшихся от своего сословия одиночек». Итак, под пером Бодлера денди становится эстетом, своего рода виртуальным аристократом.
Финальный вывод эссе варьирует тот же мотив двойственности: «И когда мы встречаемся с одним из этих избранных существ, так таинственно сочетающих в себе привлекательность и неприступность, то именно изящество его движений, манера носить одежду и ездить верхом, уверенность в себе, спокойная властность и хладнокровие, свидетельствующее о скрытой силе, заставляют нас думать: «"Как видно, это человек со средствами, но скорее всего – Геракл, обреченный на бездействие"» (с. 306). Этот образ, судя по всему, рисует аристократа, который всеми силами поддерживает формальные признаки благородства, но уже без надежного фундамента уверенного положения в обществе.
Бодлеровские идеи по поводу аристократизма были подхвачены в культуре европейского декаданса. Фридрих Ницше в сочинении «По ту сторону добра и зла» (1886) развивает сходные темы, рассуждая об аристократической морали. Но в его философии тенденции, намеченные у Бодлера, будут предельно абсолютизированы и, по сути, станут наброском к образу сверхчеловека. «Люди знатной породы чувствуют себя мерилом ценностей, они не нуждаются в одобрении… Знатный человек чтит в себе человека мощного, а также такого, который властвует над самим собой, который умеет говорить и безмолвствовать, который охотно проявляет строгость и суровость по отношению к самому себе…»[769] Аристократизм у Ницше, следовательно, также требует владения своими страстями, опираясь на аскетический императив «nil mirari»: «Жить, сохраняя чудовищное и гордое спокойствие; всегда по ту сторону. – По произволу иметь свои аффекты, свои “за” и “против”, или не иметь их, снисходить до них на время»[770]. Однако подобное самообладание в пределе оборачивается закрытостью и недоверием к людям: «Вера в самого себя, гордость самим собою, глубокая враждебность и ирония по отношению к „бескорыстию“ столь же несомненно относятся к морали знатных, как легкое презрение и осторожность по отношению к сочувствию и „сердечной теплоте“»[771].
Осуждаемая Ницше «сердечная теплота» была еще в полной мере представлена у Бальзака. Бодлер уже смещает акценты в сторону холодности, санкционируя табу на удивление. Это полюс холодного высокомерного дендизма, который в равной мере противоположен как бальзаковскому идеалу «подвижника элегантности», представляющего собой на самом деле тип теплого и мудрого человека, так и солнечному гедонизму графа д’Орсе.
Во французской традиции дендизм интересен прежде всего как особый тип эстетического сознания, интеллектуальная поза. Теоретической базой для идеологии французского дендизма в эпоху Реставрации являлась теория способностей, выдвинутая Гизо: каждый человек наделен способностью мыслить, что позволяет ему участвовать в политической жизни государства. Аналогично и «дендизм представляет из себя светский вариант понятия способности»[772], исходя из предположения, что каждый человек при определенном стечении обстоятельств может освоить азы элегантности.
П. Гаварни. Портрет А. де Мюссе
Формализация канона началась с «Трактата об элегантной жизни» (1830) Бальзака и продолжилась эссе Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845). В этих текстах «острый галльский смысл» уже отчеканил основные постулаты новой эстетики, но оставалось совершить последний шаг. Его сделал Бодлер, набросавший в известных очерках «Художник современной жизни» (1863) свою аналитику дендизма.
Бодлера подкупала фигура денди как человека-вещи, превратившего свой образ в произведение искусства. В эпоху оформления общества модерна денди как завершенный типаж тоже мог смотреться как идеальный товар для визуального потребления, удачный опыт предметной объективации личности.
И, наконец, стоит повторить, что дендизм во Франции достиг такой эстетической завершенности благодаря особой черте французской культуры – неповторимой синтетической связи между литературой и модой.
О дендизме и Барбе д’Оревильи
В 1832 году в Кане судьба свела четырех человек, без которых книга «О дендизме и Джордже Браммелле» («Du dandysme et de George Brummell») не могла бы появиться на свет. Ее будущий автор, молодой Барбе д’Оревильи, был студентом в Канском университете. Его родители, почтенные нормандские католики, надеялись, что изучение права отвлечет сына от республиканских настроений и легкомысленных парижских вкусов: к несчастью, молодой человек не на шутку увлекался литературой и модой. Однако даже в тихом Кане Барбе быстро нашел родственную душу – начинающего литератора Гийома Станисласа Требютьена, который затем на долгие годы стал его другом, верным слушателем и помощником.
Именно Требютьен познакомился однажды на обеде с англичанином капитаном Уильямом Джессе, приехавшим из Индии и мечтавшим о славе. А тот уже, в свою очередь, сумел завоевать доверие живой легенды дендизма Джорджа Браммелла, нашедшего приют во Франции, после того как ему пришлось покинуть Англию из-за долгов в 1817 году. Браммелл был британским консулом в Кане, но к моменту знаменательной встречи его лучшие дни уже миновали.
Капитан Джессе решил написать биографию своего кумира и, пользуясь дружеским расположением Браммелла, стал играть при нем роль собеседника-секретаря, подобно Эккерману при Гете. Он отнесся к своему проекту весьма тщательно и долгие годы, уже после смерти Браммелла, собирал воспоминания о нем и всевозможные документы. Тем временем Барбе д’Оревильи, не преуспев на юридическом поприще, вскоре вернулся в Париж и там стал вести дендистский образ жизни. Он заказывал костюмы у лучших портных, которые шили по его точным указаниям, охотно посещал светские рауты, но недолюбливал скачки и модный в то время жокей-клуб. Однако скромное наследство, на которое он жил, скоро истощилось, и чтобы пополнить бюджет, Барбе начал сочинять статьи в журнал «Moniteur de la mode» под дамским псевдонимом. И вот тут-то, в 1843 году, в поисках темы для очередной статьи Барбе вспомнил рассказы Требютьена о великом денди и его прилежном биографе и срочно написал Требютьену в Кан, прося разыскать Джессе и прислать хоть какие-нибудь материалы.
Его запрос попал на благодатную почву: Джессе как раз уже готовил к печати жизнеописание Браммелла, скончавшегося три года назад, и охотно согласился поделиться имеющимися сведениями – ему льстило, что клуб поклонников Браммелла расширяется. Через посредничество Требютьена завязалась интенсивная трехсторонняя переписка. Барбе задавал Джессе всевозможные вопросы о Браммелле, а тот великодушно снабжал его подробной информацией, прилагая даже список дополнительной литературы. В качестве заключительного подарка Джессе выслал весной 1844 года только что опубликованные два тома своего труда. Из них Барбе почерпнул всю фактическую основу своего трактата – историю британских щеголей (beaux), биографию Браммелла, детали английского быта. На этом, однако, сходство между двумя книгами кончается.
С благодарностью упоминая «изысканную любезность» и «терпение любознательного ангела» Джессе, Барбе тем не менее называет его работу «робкой хроникой» и упрекает автора в том, что он «недостаточно забывчив». Дело в том, что Джессе подошел к своей задаче с добросовестностью историка и 2/3 своего текста посвятил последним десятилетиям жизни Браммелла, когда тот бедствовал, болел и кончил безумием. Подобное распределение материала, разумеется, должно было играть на руку викторианским пуристам, усматривающим в несчастьях Браммелла нравственный урок. «Слава, венчающая легкомыслие, оскорбляет этих тяжеловесных слуг суровой морали», – комментировал Барбе[773]; сам он, напротив, все внимание посвятил годам светского расцвета молодого Браммелла, практически обойдя молчанием его последний период. «Laissons cela» («Оставим это»), – величественно бросил он, как будто опуская театральный занавес перед заключительным актом дендистской драмы.
Портрет Браммелла, нарисованный Барбе, возвышен и харизматичен. «Браммелл не был годен ни на что большее и ни на что меньшее, как быть величайшим Денди своего времени и всех времен. Он был им во всей точности, во всей чистоте, во всей наивности…» – многочисленные фразы в этом духе, разбросанные по трактату, свидетельствуют о метафизическом пафосе Барбе. Для него Браммелл ценен прежде всего как реализация Идеи Дендизма, и название трактата абсолютно буквально отражает авторский замысел: «Я хочу описать и определить дендизм, я покажу его героев, я создам его законы и, наконец, завершу все человеком, который воплощает его в наивысшей степени, во всем абсурдном великолепии», – писал Барбе Требютьену[774].
Подобный замысел заранее обрекал Барбе на довольно схематичную обрисовку браммелловского характера. Браммелл как абстрактная персонификация дендизма неизбежно терял конкретные исторические черты, превращаясь в ходячую иллюстрацию заданных свойств. Под «дымящимся пером» Барбе испарялись живая индивидуальность, телесность Браммелла, чьи мельчайшие привычки мгновенно становились темой для анекдотов.
Метафизический подход Барбе был отчасти вынужденным, поскольку в ряде случаев ему элементарно не хватало фактических деталей. Справедливо полагая, что молва должна была сохранитьтерпкие остроты блистательного ирониста, Барбе умолял Джессе сообщить ему «драгоценные афоризмы» Браммелла, однако как раз здесь, как назло, капитан подкачал, и Барбе был вынужден сочинить целый пассаж о том, что «Браммелл властвовал всем своим обликом более, нежели словами»; «Молчание Браммелла было лишь еще одним средством произвести впечатление» и т. д.
Вероятно, молчащий Браммелл в чем-то больше устраивал автора, так как «взгляды, жесты, сквозящие намерения и молчание» нуждаются в интерпретации, и эта роль герменевта, посвященного, толкующего тайные смыслы для профанов, весьма импонировала самолюбивому Барбе. Между тем из других источников известно довольно много примеров браммелловских шуток, что могло бы существенно поколебать концепцию Барбе[775].
Барбе д'Оревильи
Аналогичный образчик философской логики Барбе касается часто цитируемой концовки, где говорится, что денди – это андрогины, «существа неопределенного духовного пола». А ведь Барбе вначале спрашивал Джессе об отношениях Браммелла с женщинами и, получив отрицательный ответ и насчет брака, и насчет любовниц, придумал объяснение: «Самые нежные объятия – все же цепи… вот рабство, которого избежал Браммелл». Будь Браммелл донжуаном, он бы с блеском оправдал эпиграф «О фате, фат для фатов», и не пришлось бы бедному автору пускаться в расширительные толкования: «Бывают фаты всякого рода: фаты рождения, состояния, честолюбия, учености» (о разных оттенках слова «фат» разговор еще впереди). И тем не менее надо отдать должное Барбе: ведь в своей трактовке он интуитивно предвосхитил всю пряную эстетику андрогинизма эпохи декаданса[776].
Какова же была судьба трактата Барбе сразу после завершения? Вначале он намеревался предложить рукопись влиятельному обозрению «Revue des deux Mondes» или в журнал «Débats», однако, получив отказ в обоих местах, решил издать книгу за свой счет в Кане. Преданный Требютьен опять пришел на помощь, и друзья задумали сделать настоящее эстетское издание тиражом в 30 экземпляров как подлинную библиофильскую редкость. Барбе настаивал, что книга о дендизме должна выглядеть по-дендистски и быть элегантной не только по содержанию, но и по форме. В письмах к Требютьену он давал скрупулезные указания относительно формата, титула, обложки, шрифта и переплета. Книжка и впрямь получилась изысканной, эстетской, да и авторский стиль был ориентирован на знатоков, ценителей: загадочный эпиграф, прихотливая вязь сносок, перетекающих со страницы на страницу, экспрессивный сжатый слог и отточенные парадоксы в лучших традициях французских афористов.
Барбе д'Оревильи
Эффект появления книги в 1845 году был неожиданным. Из-за малого тиража Барбе собственноручно раздаривал изящно переплетенные экземпляры светским львам и влиятельным критикам. Львы откликнулись, а критики – нет: книга осталась незамеченной в прессе, но аристократыСен-Жерменскогопредместья обратили на сочинителя благосклонные взоры. «Меня завалили приглашениями на великосветские обеды», – писал Барбе в восторге Требютьену. В аристократических салонах автор трактата о дендизме стремился произвести соответствующее впечатление и вскоре получил прозвище «Браммелл II». Эту репутацию денди Барбе сохранил до старости, появляясь на публике в широкополой шляпе, закрытом черном фраке, в шелковых панталонах и ярко-красных перчатках.
Переиздание трактата гораздо более крупным тиражом состоялось через 16 лет, в 1861 году. К этому времени Барбе был уже маститым литератором и критиком, причем больше всего он был известен как католический автор. Обращение Барбе произошло в 1846 году, через год после публикации трактата о дендизме. Он стал членом «Католического общества» и регулярно печатался в журналах соответствующей ориентации. Однако католицизм Барбе носил достаточно радикальный оттенок: его коронной темой был сатанизм, могущество зла в мире, преступления во имя плотской любви. Это центральные мотивы его самого знаменитого сборника «Дьявольские повести» (1874).
Именно тонкое понимание чувственной эстетики зла позволило ему разглядеть в начинающем поэте Шарле Бодлере уникальное дарование. В то время как большинство критиков с агрессивным недоумением восприняли творчество Бодлера, а прокуратура возбудила против него судебное дело, Барбе проницательно оценил всю бездну, раскрывающуюся перед автором «Цветов зла» (1857), и предложил ему ставшую потом знаменитой альтернативу: «После такой книги автору остается одно из двух: либо застрелиться, либо уверовать». Этот же совет Барбе повторил в адрес своего младшего друга Ж.К. Гюисманса, рецензируя его роман «Наоборот» (1884).
В отличие от Бодлера, Гюисманс и впрямь нашел утешение в вере (он стал католиком-траппистом) и с благодарностью процитировал пророческие слова Барбе в предисловии к изданию «Наоборот» 1903 года. Любопытно, что главный герой романа Дез Эссент, денди, удалившийся от суетного света, читает в уединении… книги Барбе д’Оревильи, хвалит его «пестрый и неровный слог», кстати примечает, что в «Дьявольских повестях» возникает «садизм, побочный плод веры», и нежится в «атмосфере перезрелости и сладкого тлена».
Портрет денди в раннем трактате Барбе еще вполне романтичен, однако в нем уже сквозят интонации fin de siècle, когда говорится о силе, холодной жестокости и властности денди. Местами кажется, что денди – ницшеанский сверхчеловек, презирающий мораль как изобретение слабых натур. Даже лексика Барбе в описании дендистской власти над обществом изобилует военно-политическими метафорами: «счастливая и смелая диктатура», «приговоры властелина», «личным авторитетом устанавливают иные правила», «самодержец мнений», «тирания, не повлекшая за собой восстание», «властвовал всем своим обликом», «независима и царственна эта власть». Бросается в глаза подчеркнутая мужественность денди-воителя, тирана, культ его силы и влияния.
Если сосредоточиться на этом мотиве, может создаться впечатление, что дендизм – особый вид авторитарности, рассчитанная агрессия, хотя сейчас, с точки зрения Барбе, на фронте военных действий денди вынуждены вести скорее оборонительную стратегию: «В наши дни Пуританизм, с которым Дендизм стрелами своей легкой насмешки вел парфянскую войну, скорее укрываясь от него, чем нападая с фронта, – раненый Пуританизм поднимается и перевязывает свои раны».
Этой метафорике силы противостоит другой ряд тропов, ориентированных на понятия света, энергии, эфемерности и неуловимости. Тогда сущность дендизма описывается как «исчезновение метеора», «электрический заряд», «игра опала, рождающаяся из сочетания и оттенков спектра». Более весомо и буквально метафорика чувственной энергии работает в жидкостных тропах, что восходит к древней теории гуморов, управляющих темпераментом, и в тексте присутствуют образы именно в этом ключе: «Лимфа, эта стоячая вода, пенящаяся лишь под хлыстом тщеславия, – вот физиологическая основа Денди».
В той же серии жидкостных метафор вокруг дендизма мелькает странный для современного глаза мотив «любезной фантазии, бросающей в небо струю своей благоухающей розовой эссенцией крови» – здесь чисто барочный троп «кровь фантазии» уже разбавлен искусственной «розовой эссенцией» декаданса – до Оскара Уайльда уже рукой подать.
Однако самое важное для Барбе понятие, определяющее дендизм, – «грация». Оно также выступает как специфическая жидкость, «магическое зелье обаяния», но, очевидно, это эликсир достаточно крепкий, ибо упоминается «растворяющее, смягчающее могущество грации».
Французское слово «grâce» несет в себе два несовпадающих значения: 1) «прелесть, изящество, приятность» как светские добродетели и 2) «благодать, милость», в религиозном смысле. Для Барбе дендистская грация – с одной стороны, «подвижность», «вся гибкость переходов» светского обращения, в ней есть нечто женское, недаром она сравнивается с «бесцветной блондинкой». С другой стороны, Барбе не отказывается и от сакрального понимания грации как благодати, милости божьей[777]. Дендистские легкость и изящество, получается, тоже – дар небес, озаренность божественным светом, непостижимые человеческим разумением, и поэтому Барбе так настойчиво акцентирует, что дендизм – сугубо врожденный дар: «Браммелл дал себе единственный труд – родиться»; «Браммеллом сделаться нельзя».
Во многом подобная двойственная трактовка аналогична уже упоминавшемуся ранее понятию «La sprezzatura» (легкость, непринужденность), которое, в сущности, представляет из себя светский эквивалент благодати. Ведь щеголь, чьи жесты отмечены магической «La sprezzatura», как будто бы получил ее свыше, и все его манеры свидетельствуют о беззаботности, отсутствии усилий. Другое дело, что это впечатление легкости порой нелегко поддержать, но все усилия должны быть, безусловно, скрыты.
Обе метафорические линии – силы и грации – проходят через весь трактат, объединяясь в заключительной фразе: «Это натуры двойственные и сложные, грация которых еще более проявляется в силе, а сила опять-таки в грации; это андрогины». В конце мужские и женские полюса дендизма сливаются, и возникает образ прославленного героя древности Алкивиада, афинского полководца и красавца, который в платоновском «Пире» произносит речь о любви к Сократу.
Как видим, толкуя дендизм, Барбе все время работает с антиномиями, балансирует на грани парадокса. Его рассуждения сопровождаются непрерывными ламентациями по поводу «невыразимой гармонии», «темной загадки», «дара, ускользающего от понимания» и «ароматов слишком тонких, чтобы сохраниться». Это классическая топика ритора, жалующегося на недостаточность слов, и она во многом объяснима упоминавшейся трактовкой грации как благодати. Но Барбе, даже прибегая к известному эстетическому клише «je ne sais quoi» (не знаю что)[778], все же не упускает из виду и вполне конкретную технологию светского успеха денди.
C прилежностью неофита он перечисляет кодекс дендистских правил – «сохранять невозмутимость», «поступать всегда неожиданно», «одеваться элегантно, но незаметно», «стремиться более удивлять, чем нравиться», но по-настоящему его занимают более тонкие вещи. В письме к Требютьену он ясно обрисовал свою цель: «Я старался понять механизм влияния, что необходимо, чтобы осуществить влияние». Его теория влияния базируется на идее символического договора между денди и публикой. Барбе старается понять, как и почему лондонский свет потребляет таланты Браммелла – вкус, элегантность, юмор. Происходит своего рода «обмен дарами», заключается негласное соглашение: денди развлекает людей, избавляет их от скуки, отучает от вульгарности, а за эти функции общество должно содержать его, как политическая партия содержит своего оратора. Подтверждение подобного «экономического» обмена он находит в том, что друзья продолжали материально помогать Браммеллу и после его отъезда из Англии, выражая «признательность за испытанное наслаждение, как если бы это была оказанная услуга».
Нетрудно заметить, что, по существу, эта схема отводит денди роль умного шута или лицедея при королевском дворе, однако Барбе, чтобы предупредить такой ход мысли, всячески подчеркивает надменную дерзость и гипертрофированное чувство достоинства у денди, заставляющие его «держаться чересчур прямо». Более того, квинтэссенцию дендизма он усматривает в чувстве тщеславия.
Перефразируя классическое изречение «Habent sua fata libelli» («Книги имеют свою судьбу»), он берется исследовать в трактате судьбу чувства и в итоге создает апологию тщеславия, «этой беспокойной погони за людским одобрением». Современному читателю может показаться странным это настойчивое стремление толковать дендизм как реабилитированное тщеславие, однако в контексте христианской культуры увлечение модой традиционно считалось проявлением тщеславного характера. Само слово настолько обросло негативными коннотациями, что автор фактически вынужден предварительно договориться с читателем о нейтральном языке общения: «Научимся произносить без ужаса это слово – “инстинкт тщеславия”».
Отстаивая позитивный смысл тщеславия, Барбе приходится учитывать также очень авторитетную критику тщеславия в трудах французских философов XVII–XVIII веков Паскаля, Вовенарга, Шамфора, Ларошфуко, выстроивших в своих афоризмах изощренную аналитику человеческих страстей[779]. Отсюда у него антиномии тщеславия и гордости, манера персонификации понятий и стиль логических теорем: «Когда тщеславие удовлетворено и не скрывает этого, оно становится фатовством».
Старинное словечко «фатовство», столь часто мелькающее у Барбе, ведет свою родословную от XVII века. Оно всегда входило в семантическое поле «тщеславия», а «фат» противопоставлялся «порядочному человеку» («honnête homme»)[780] и служил любимым объектом моралистических инвектив: «Что останется от фата, если отнять самомнение? Оторвите бабочке крылья – получите безобразную гусеницу», – писал Шамфор[781].
К XIX веку, впрочем, фатовство начинает восприниматься более положительно, как атрибут байронического героя. Оно уже не означает только успех у женщин и жизнь напоказ, а ассоциируется со светской общительностью, модными кругами, властью и престижем и тогда становится органичным элементом дендизма. Недаром Люсьен Левен у Стендаля – завзятый фат, а Жюльен Сорель должен поехать в Лондон, чтобы там обучиться «высшему фатовству».
Барбе с восхищением ссылался на сочинение Стендаля «О любви» (1822) как на жанровый образец анализа чувства. И все же его собственный текст в итоге получился скорее штудией дендистского характера, этюдом по истории нравов. Частично его трактат выполнен в духе модного в середине века «физиологического» очерка – как, скажем, популярной во Франции «Физиологии льва» Феликса Дерьежа[782]. К тому же сам Барбе, конечно, считал, что пишет не просто очерк о денди, а исследование английского национального характера (хотя в Англии никогда не был). Увы, именно эта часть его рассуждений сегодня воспринимается как наименее адекватная[783], хотя, возможно, и забавная.
Современный читатель, пожалуй, рискует заскучать и во всем, что касается риторической персонификации страстей – наследия французских моралистов. Но зато он явно должен оживиться, читая некоторые авторские примечания к трактату. В них, как это часто бывает, кроется самое интересное.
Основной корпус примечаний Барбе написал ко второму изданию книги 1861 года. Внимательный взгляд без труда заметит, что эти маргиналии и впрямь как будто принадлежат другому автору – более зрелому, более чувствительному к «модернистским» нюансам дендизма. К примеру, сноска о дендистской невозмутимости и пресыщенности непосредственно подготавливает и бодлеровские заметки о денди, и более позднее эссе Альбера Камю. Показательно, что именно примечания к трактату сейчас чаще всего цитируются критиками и исследователями.
Сам Барбе считал маргиналии особым жанром, вроде стихотворения в прозе, и без ложной скромности сравнивал их с «ониксами и камеями, вырезанными самым искусным мастером», а в другом письме к Требютьену – с «золотыми гвоздями, скрепляющими страницы текста». Впрочем, порой сноски настолько самодостаточны, что даже не скрепляют, а скорее опровергают отдельные положения трактата. Так, хотя автор считает дендизм чисто английским феноменом, он в сноске подробно рассказывает об австрийском денди князе Каунице. Аналогично примечание об удивительных перчатках, изготовленных четырьмя портными, «тремя для кисти руки и одним для большого пальца», парадоксальным образом призвано иллюстрировать тезис о том, что в дендизме модные штучки – вовсе не главное.
Самая, наверное, любопытная маргиналия в тексте – рассказ о том, как денди «вздумали, прежде чем надеть фрак, протирать его на всем протяжении, пока он не станет своего рода кружевом или облаком. Они хотели ходить в облаке, эти боги. Работа была очень тонкая, долгая, и для выполнения ее служил кусок отточенного стекла. Вот настоящий пример Дендизма! Одежда тут ни при чем. Ее даже почти не существует больше». Начать с того, что никаких свидетельств о таких манипуляциях не сохранилось, и, скорее всего, Барбе сам сочинил эту апокрифическую историю. Есть, правда, рассказы о том, как денди протирали костюм наждаком, чтобы придать ему потертый вид, или давали разнашивать новый фрак лакею. Появиться в новом, с иголочки, костюме у них считалось признаком дурного вкуса[784].
Но даже если цитированный сюжет – плод авторского вымысла, тем показательнее его непреднамеренные «модернистские» обертоны: пикантный образ тела в почти несуществующей одежде и опасный кусок остро отточенного стекла автоматически запускают садомазохистские ассоциации в натренированном воображении современного читателя. А сюрреалистическая картина денди-богов, шагающих в облаке, может показаться и вовсе фантазией курильщика опиума. Тем не менее она полностью структурно подготовлена логикой текста.
Раз мелькнувший мотив стекла обеспечивает двойной код. Стекло выступает не только как острое лезвие, но и в качестве традиционного символа трансценденции, претворения. С помощью стеклянного осколка после «тонкой, долгой работы» достигается прозрачность материи, и так начинается целая серия оптических игр, порождающих удивительные иллюзии.
Барбе как будто направляет на денди различные преломляющие стекла и волшебные линзы, добиваясь полной метаморфозы. Не раз настаивая на парадоксе, что денди, позирующий для чужих взоров, содержит в себе «нечто, что выше вещей видимого мира», автор совершает хитроумный концептуальный пируэт. Сначала он уверяет читателя, что все дело не во фраке, а в манере носить фрак, то есть переводит внимание на уровень телесности. При таком ракурсе костюм исчезает, как у опытного фокусника, владеющего искусством отвлекать взгляд: «Одежда тут ни при чем. Ее даже почти не существует больше». Тогда нам остается прекрасное дендистское тело в невидимой одежде.
Но далее, рассуждая о манерах как сплаве движений души и тела, он незаметно демонстрирует, что и тут дело не просто в телесном совершенстве: Браммелл «блистал гораздо более выражением лица, нежели правильностью черт»; «его манера держать голову была красивее его лица». Взгляд воображаемого зрителя постепенно фокусируется все более внутрь, как бы проникая сквозь слоистые оболочки дендистского образа. Само тело становится прозрачным.
Следующий естественный виток мысли – трансценденция уже не только одежды, но и тела: Барбе настойчиво говорит о Браммелле, что красота его была по преимуществу духовной и что «божественный луч играл вокруг его телесного облика». И вот кульминация: «Они хотели ходить в облаке, эти боги» – «Ils voulaient marcher dans leur nuée, ces dieux!». В этих эфирных, воздушных созданиях и чудится Барбе высшая сущность дендизма, осененность благодатной грацией.
Было бы прямолинейной натяжкой видеть в этом образе перо Барбе-католика, который, кстати, в 1860-е годы успешно воплощал в жизни оригинальную роль денди-священника. Но нельзя не отметить, что в эстетическом плане Барбе, возможно, одним из первых в XIX веке почувствовал вкус к исчезающему, испаряющемуся объекту, чья прелесть – в вибрирующем контуре, в нежном мерцании формы на грани бытия и небытия. Наш век только довел до конца этот игровой нигилизм, придумав после Ницше деконструктивизм в философии и небрежно-рваный шик авангардной богемы. От поношенных фраков мода сравнительно быстро пришла к потертым джинсам, чтобы потом достичь кульминации в стиле grunge, где живописные прорехи в одежде – синдром иронического нонконформизма.
Но пока здесь у Барбе одежда еще послушна и прозрачна. Фрак волшебным образом повторяет линии фигуры, перчатки облегают руки, как мокрая кисея, принимая очертания ногтей. И, между прочим, на сей раз это не фантастическая метафора: на заре XIX века, как раз в период расцвета Браммелла, в Европе царила так называемая «нагая мода». Современницы денди носили просвечивающие туники из тонкого муслина в античном стиле и, чтобы подчеркнуть изящество фигуры, смело увлажняли платье перед балом (эффект «мокрой кисеи»), добиваясь сходства с Никой Самофракийской[785].
Первое издание трактата особо не проясняло роль женщин в дендизме. Дамы выступали в основном как мишень для язвительных дендистских острот, но при этом и в самих денди Барбе настойчиво фиксировал нечто женское – страсть к нарядам, капризность, переменчивость натуры.
К одному из последних прижизненных изданий трактата Барбе добавляет пространный постскриптум, новеллу «Un dandy d’avant les dandys», которая, к сожалению, не вошла в русский перевод 1912 года. Сюжет новеллы составляет история любви при дворе Людовика XIV между Мадемуазель де Монпансье и герцогом де Лозеном. На первый взгляд это классическая повесть о жестокосердом денди-герцоге, отвергающем брачные притязания Мадемуазель де Монпансье. Однако и тут Барбе удается сделать неожиданный парадоксальный ход, заявляя, что подлинным денди в этой истории была женщина, Мадемуазель де Монпансье, написавшая позднее свои замечательные «Мемуары». Ее великодушное восхищение холодным герцогом и тончайший анализ чувств заставляет Барбе в восторге воскликнуть: «Она угадала современный дендизм, эта женщина!» Именно Мадемуазель де Монпансье и есть та таинственная «принцесса», о которой Барбе собирался подробно написать всю жизнь, – эпиграф из этого ненаписанного трактата открывает текст о Браммелле, заранее интригуя и мистифицируя читателей.
В поздней прозе Барбе д’ Оревильи постоянно действуют персонажи-денди, причем автор рисует их в полном соответствии со своим трактатом. Щеголи из его «Дьявольских повестей» (1874) отличаются тщеславной элегантностью и хладнокровием, склонностью к сарказму и высокомерным презрением к окружающим. Граф Равила из новеллы «Прекраснейшая любовь Дон Жуана» описывается как красавец в духе Алкивиада, об аристократе из повести «Счастливые преступники» прямо говорится, что он «выглядел как истый денди в понимании Браммелла, то есть отнюдь не бросался в глаза, привлекая внимание лишь сам по себе»[786]. Мистеру Каркоэлу, герою «Изнанки карт или партии в вист», автор великодушно дарит «перчатки, безукоризненностью своей напоминавшие знаменитые перчатки Брайена Браммелла»[787]. Не отказывает он себе и в удовольствии набросать портрет денди в полный рост, и хотя раньше в трактате Барбе утверждал, что дендизм – это прежде всего интеллектуальная поза, главный рассказчик «Обедни безбожников» Менильгран привлекает внимание в первую очередь благодаря лаконичной дендистской элегантности: «Он выбрал великолепный черный сюртук и по тогдашней моде вместо галстука обмотал шею белым сероватого оттенка фуляром, усеянным неприметными, вышитыми вручную золотыми звездочками… Из-под открытого сюртука от Штауба выглядывали прюнелевые панталоны оттенка полевой астры и простой жилет из черного шалевого казимира[788] без золотой часовой цепочки, потому что в тот день на Менильгране не было никаких драгоценностей, кроме дорогой античной камеи, изображавшей голову Александра и удерживающей на груди широкие складки не завязанного в узел фуляра…»[789]
Карикатура на Барбе д' Оревильи в галстуке-бабочке. 1843 г.
В заключение – немного об истории русского издания трактата. Впервые перевод увидел свет в модномжурнале «Дэнди», которыйпечатался в 1910 году в Москве; в 1912 году вышел отдельной книгой в издательстве «Альциона»[790], предисловие написал Михаил Кузмин.
Культура русского Серебряного века не раз проявляет серьезное заинтересованное отношение к творчеству Барбе. Его охотно переводили[791], цитировали, Бердяев видел в нем серьезного католического мыслителя и не раз сочувственно упоминал его в своем сочинении «Смысл творчества». Максимилиан Волошин посвятил ему три статьи для петербургского издания 1908 года, причем, в отличие от Кузмина, ни Бердяев, ни Волошин отнюдь не считали Барбе «детски простой фигурой», «несколько смешным» или «наивным».
Волошин видел в нем «подземного классика» французской литературы: «из всех уединенных умов он остался, может быть, наименее оцененным»[792]. Для него Барбе – трагический индивидуалист, запоздалый романтик, «поэтому на печати своей он написал слова гордые и грустные: “Too late” – “Слишком поздно”»[793]. Однако на самом деле трактат Барбе о дендизме был создан как раз в подходящий момент, не «слишком поздно», и при всей его неповторимости он абсолютно вписывается в логику развития культуры XIX века.
Его можно сравнить с аналогичными пристрастными исследованиями, посвященными авторам-романтикам. Эти труды появились, когда первоначальный романтизм уже отошел в тень, но его верные адепты описывали, несколько сгущая краски, родственные души первооткрывателей и учителей, как бы специально сохраняя их для читателей эпохи символизма и декаданса. Таковы «История романтизма» Т. Готье; прочувствованные ссылки Эдгара По на Колриджа; переложение в бодлеровском тексте «Искусственный рай» книги Томаса Де Квинси «Признания английского курильщика опиума»; биографический очерк Карлайля о Новалисе.
В этом ряду трактат Барбе д’Оревильи о Браммелле – тоже своего рода эстафетная палочка, связующая два поколения европейских денди. В Англии похожую роль сыграл жанр «fashionable novel», и прежде всего роман Бульвера-Литтона «Пелэм». Во Франции дендизм ретранслировался через бальзаковский «Трактат об элегантной жизни» и бодлеровский цикл «Поэт современной жизни». Благодаря литераторам середины века дендизм был сохранен в интеллектуальном обиходе XIX столетия, чтобы позднее вновь возродиться и как стиль жизни, и как тематика у Оскара Уайльда, сэра Макса Бирбома и Ж.К. Гюисманса, Робера де Монтескью и Марселя Пруста.
Харизма графа д’Орсе
Заратустра-танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно-легко-готовый…
Ф.Ницше. Рождение трагедии из духа музыки.Юстас Тилли. Рисунок Р. Ирвина для журнала «Нью-Йоркер» 1925 г.
Граф Альфред д’Орсе родился в 1801 году, в семье наполеоновского генерала. Будучи французом, он большую часть жизни провел в Англии, застав царствование Георга IV, Вильгельма IV и королевы Виктории. Последние годы он жил во Франции, где Наполеон III предложил ему пост министра культуры, но сделать на этом посту д’Орсе ничего особенно не успел – он умер в 1852 году.
После Браммелла, которого называли «английским премьер-министром элегантности», граф д’Орсе считается вторым по знаменитости денди[794]. Его называли «королем всех денди», но они с Браммеллом не конкурировали, поскольку хронологически не пересекались: Браммелл уехал из Англии в 1816 году, а д’Орсе царил в Лондоне на протяжении 30–40-х годов XIX века.
Граф д’Орсе был удивительно хорош собой: он обладал атлетической фигурой и греческим профилем, каштановые кудри и вьющаяся бородка обрамляли его лицо с выразительными голубыми глазами (он был первым, кто ввел в Англии моду на бороду). Лицо, как отмечали многие, имело правильные женские черты. Он был необычайно высоким для своего времени – его рост составлял метр девяносто пять сантиметров. Единственным недостатком его внешности были не очень хорошие, широко расставленные зубы.
Д. Маклис. Граф д'Орсе. 1834 г.
По мотивам этого рисунка художник Р. Ирвин в 1925 г. создал своего знаменитого персонажа Юстаса Тилли, который стал эмблемой журнала «Нью – Йоркер». См. обложку "Нью-Йоркера" 1925 г. на цветном вкладыше
В своих костюмах этот щеголь предпочитал насыщенный, пряный дендистский стиль «бабочка» (butterfly). Как типичный француз, он любил яркие цвета, смело сочетал их, придумывал новые фасоны. На фоне темной гаммы мужской одежды 1830–1940-х годов его голубые фраки и желтые жилеты резко выделялись. Он носил золотые цепочки, надевал перстни поверх белых перчаток. К тому же его костюмы, безусловно, были достаточно эротичны – обтягивающие панталоны телесного цвета шокировали пуритански настроенную публику.
Граф д’Орсе был настоящим денди, лидером моды с ярко выраженным индивидуальным вкусом, чьим новациям всегда подражали. Самые отважные пытались носить вслед за ним открытый фрак, жилеты фантастических расцветок, облегающие панталоны, высокий цилиндр, но им недоставало раскованности манер. Он пользовался безусловным авторитетом в среде лондонских щеголей, за что его прозвали «король всех денди». Молодому графу Честерфилду он заметил, что тому идут вещи только синего цвета, и послушный граф с тех пор одевался с головы до пят только в синее. А Бенджамин Дизраэли, подражая д’Орсе, стал носить драгоценные перстни поверх белых перчаток.
Многие из предметов его гардероба копировались щеголями всей Европы и были названы в его честь. Имя д’Орсе закрепилось и за пальто, и за высоким цилиндром с изогнутыми полями, и за комнатными туфлями без задника, и даже за закрытой четырехколесной каретой с двумя дверцами.
Необыкновенная привлекательность графа д‘Орсе как лидера моды имела, как сказали бы сейчас, огромный рекламный потенциал. В то время рекламы в современных масштабах, разумеется, еще не было, но некоторые ее прообразы уже существовали. Знатный щеголь-клиент был лицом фирмы, производящей модные новинки. Такое случалось и раньше: знаменитые денди пытались пустить в ход свое имя для личной выгоды – вспомним хотя бы браммелловские фокусы с табаком «Мартиник».
Будучи известным модником, граф оказался находкой для поставщиков одежды, которые успешно рекламировали через него свой товар. Достаточно было сослаться на то, что данная вещь имеется в гардеробе графа д’Орсе, чтобы обеспечить успешный сбыт. Многие коммерсанты бесплатно присылали ему свои изделия для рекламы – так, из Швейцарии графу доставили дюжину перчаток горчичного цвета, и вскоре вслед за ним все денди стали заказывать такие перчатки. Некоторые торговцы вкладывали в свои посылки денежные банкноты, а портные клали купюры в карманы сшитых для него сюртуков. Если подобных вложений не оказывалось, граф сердился и частенько отсылал вещи обратно.
Д’Орсе широко пользовался своей репутацией лидера моды не только в личных интересах, но иногда просто для благотворительных целей. Однажды на прогулке в Гайд-парке к нему подошел мальчик и предложил купить спички. Граф купил его незатейливый товар и, поговорив с ним, проникся симпатией к юному коммерсанту и решил поспособствовать ему. Д’Орсе велел пареньку прийти в парк завтра в 12 часов, когда он будет гулять с друзьями, подойти и вновь предложить свой товар. Тот так и сделал. Граф д’Орсе взял у него спички и громогласно объявил всем присутствующим: «Я всегда покупаю спички только у этого мальчика. У него самый лучший товар в Лондоне». После этой рекламы все накинулись на спички и мигом разобрали весь запас.
О популярности д’Орсе говорит тот факт, что многие литераторы выводили его в качестве персонажа в своих произведениях. Ему посвящен роман «Годольфин» Бульвера-Литтона, он появляется на страницах «Генриетты Темпл» Дизраэли в образе графа Алкивиада де Мирабеля (выбор имени античного красавца здесь говорит сам за себя), и, наконец, он послужил прототипом для бальзаковского героя-денди Анри де Марсе (Бальзак сохранил фонетическое созвучие имен).
Лейтмотивом отзывов о графе была идея божественности его красоты. Его часто сравнивали с Аполлоном, а Байрон назвал его «большим Купидоном». Красота д’Орсе пленяла равным образом как мужчин, так и женщин – и те и другие охотно покупали медальоны с его портретом. Аналогичной популярностью в свое время пользовалась Джорджиана, герцогиня Девонширская, которой тоже была уготована участь знаменитости для широких масс.
Благодаря своему характеру граф незамедлительно располагал к себе: «образец благородства и юношеской искренности, сердечной веселости и бодрости ума, он распространял вокруг себя ощущение счастья»[795] – таков типичный отзыв о д’Орсе одного из тех, кому посчастливилось некоторое время побыть с ним рядом. Граф д’Орсе всех пленял своими манерами. Как писал Барбе д’Оревильи, «манеры – сплав движений души и тела, а движения нельзя запечатлеть»[796]. И тем не менее именно манеры графа больше всего остались в памяти его друзей.
Барбе д’Оревильи даже не хотел называть графа д’Орсе «денди»: «Д’Орсе – светский лев, обладавший красотой львов Атласа, – не был денди. В нем ошиблись. То была натура бесконечно более сложная, широкая, человечная, чем это английское изобретение»[797]. Хотя мы все же называем д’Орсе денди, трактуя дендизм более широко, нельзя не согласиться с Барбе по поводу уникальности натуры графа.
Все общавшиеся с д’Орсе отмечали его энергичное рукопожатие, громкий, заразительный смех и особую манеру непринужденно-задушевного обращения даже с малознакомыми людьми. Многие вспоминали его приветливый возглас при встрече: «A-ha, mon ami!» Он очаровывал с первых минут знакомства даже предубежденных против него людей.
Наблюдатели отмечали, что обаяние графа распространяется на всех независимо от сословий. Лорд Ламингтон констатировал, что простые люди смотрели на проезжавшего мимо д’Орсе как на высшее существо. В Париже во время революции 1830 года толпа окружила графа и, узнав его, приветствовала криками «Да здравствует граф д’Орсе!». Харизма графа д’Орсе, как видно, и впрямь была впечатляющим и универсально действующим феноменом. И наш дальнейший рассказ о графе будет попыткой понять секрет его дендистской харизмы. В какой-то момент ведь становится понятно, что все дело заключается не в одежде, а в людях, которые носят эту одежду, в их личной харизме. Но что же такое харизма?
Присмотримся к этимологии этого необычного понятия[798]– ведь порой история слова может подсказать больше, чем самые пространные рассуждения. Греческое слово «kharisma» означает «милость», «дар», отсюда христианское понимание харизмы – благодать, божий дар, например дар целительства или дар слова; «евхаристия» – причащение, буквально «благой дар». На более глубинном уровне «харизма» восходит к древнему индоевропейскому корню «gher», который дает весьма интересный пучок смыслов в разных языках. Он проявляется в английском «уеагп» (желать), «hungry» (голодный) и «greedy» (жадный) и в немецком «gern» (охотно) с общим значением «лично хотеть чего-то конкретного, чувственно определенного». Вариант «ghr-ta» лежит в основе латинского глагола «hortari» (поощрять, ободрять), отсюда же английские «hortative» (поучительный) и «exhort» (призывать, побуждать), то есть это уже интеллектуальное желание, распространяющееся на других, побуждение к действию или мысли. Наконец, в греческих «kharis» (милость, любезность) и «khairein» (наслаждаться) проступает изначальный момент универсальной радости, удовольствия как для себя, так и для других.
Итак, этимология фиксирует для нас смысловое поле «дар – желание – побуждение – радость», причем желание может осуществляться как в прямом чувственном плане, так и переносном, через других людей, в социальной сфере. Харизматический субъект живет желанием, он желает, но и сам желанен, он одарен и сам дарует, он ответственен за интенсивный кругооборот энергии, при котором выделяется жизненное тепло – радость, признак полноценного контакта с реальностью.
В светской культуре Нового времени харизма сохраняет в себе эту подспудную семантику. Человек, наделенный харизмой, обладает уникальной внутренней уверенностью в себе, в своем даре, и, как следствие, неотразимым магнетическим обаянием для окружающих. Макс Вебер, анализируя харизматическое воздействие, говорит о «мягких формах эйфории, которые переживаются либо как мистическое состояние, подобное сну, либо более активно в качестве этического обращения»[799].
Можно полагать, что общение с графом д’Орсе большинство переживало именно как «мягкую форму эйфории» – иначе чем объяснить безудержные восторги и похвалы в отзывах о нем самых разных людей?
Теккерей: «Любезный и без меры великодушный, он всем нравится благодаря безграничной доброте и умению сочувствовать»; Теннисон: «Граф д’Орсе – мой личный друг»; Дизраэли: «Мой друг, самый лучший и добрейший из людей»; Эжен Сю: «Это мужественное и горячее сердце, он был настолько щедр с теми, кого любил»; Макреди: «Дорогой граф д’Орсе… каждый, кто знал его, не мог не любить его»[800].
Не только писатели-викторианцы, но и знатные лорды считали графа д’Орсе «своим» и охотно приглашали его на любые празднества, скачки, охоту. Граф был членом многих престижных клубов. Уникальность его харизмы заключалась в ее универсальности, хотя при первом впечатлении граф скорее просто поражал неординарной внешностью.
Многие видевшие д’Орсе отмечали пикантную женственность его облика. Иные осуждали его костюм как чересчур откровенный и дамский, однако толика женственности в идеальном мужском образе, очевидно, как раз составляла необходимый ингредиент в его личной харизме. Привкус «иного», даже не столь существенно, в каком именно аспекте, всегда будоражил воображение.
Если взять эффект «иного» в контексте национальной культуры, то здесь в дендизме срабатывает очень сходная логика. Для того чтобы прослыть настоящим щеголем, во Франции требовалось иметь репутацию англомана, а в Англии, наоборот, самым верным рецептом хорошего тона считалась абсолютная приверженность ко всему французскому. Граф д’Орсе, француз, проживший большую часть жизни в Англии, представлял как раз идеальный образец именно в этом отношении.
Серж Московичи в своей известной книге «Машина, творящая богов» подметил, что носители харизмы часто являются иностранцами: «Они приходят из другого региона или страны: Кальвин из Пикардии, Наполеон с Корсики. Они не принадлежат к господствующему этносу. Сталин – грузин, Маркс – еврей, а папа Иоанн-Павел II – поляк. Другие отличаются какой-нибудь особой чертой – заикание Моисея, паралич Рузвельта, маленький рост Наполеона»[801] (хромота Байрона, родимое пятно Горбачева – добавим мы).
Судьба графа д’Орсе во многом подтверждает логику этих рассуждений. Бросим взгляд на его биографию. Первый светский успех графа д’Орсе связан с приездом в Лондон в 1821 году. Он появился там вместе со своей сестрой Идой, которая была редкостной красавицей и вышла замуж за герцога де Гиша. Отец де Гиша, герцог де Грамон, получил пост французского посланника в Англии, и таким образом Альфреду д’Орсе были открыты двери в самые лучшие дома Лондона. Его принимали как знатного иностранца. На новом месте юный граф быстро сделался звездой среди британских денди: он покорил всех превосходным знанием лошадей и умением держаться в седле, великолепными костюмами и утонченной французской вежливостью.
Как-то раз на одном из обедов его соседкой оказалась леди Холланд, известная своим высокомерным нравом. Ей захотелось испытать новичка, и она уронила салфетку, Альфред незамедлительно поднял ее; за салфеткой последовал веер, затем вилка и ложка. Каждый раз, подняв очередной предмет, он любезно улыбался и продолжал как ни в чем не бывало беседу. Когда она уронила бокал, Граф невозмутимо обратился к слуге: «Переложите мой прибор и тарелку со стола на пол. Я завершу обед, сидя на полу, поскольку леди так будет удобнее»[802].
Остроумие и обходительность графа д’Орсе обеспечили ему самый широкий круг общения среди аристократии. Но самым важным знакомством для его последующей судьбы оказалась дружба с семейством Блессингтон. Леди Блессингтон была знаменитой красавицей своего времени: ее портрет кисти сэра Томаса Лоуренса пользовался большой известностью (1820). Она была на двенадцать лет старше графа д’Орсе. Лорд и леди Блессингтон отличалась легким нравом, образованностью и любовью к изящным искусствам. Эта эмансипированная чета сразу прониклась симпатией к молодому денди и пригласила его в качестве компаньона в путешествие по Европе. Альфред путешествовал с ними на правах члена семьи[803].
Об отношениях внутри этого треугольника ходило много самых невероятных слухов, но ни один из них не имеет документального подтверждения. Досужие языки утверждали, что молодой граф был любовником одновременно и лорда, и леди Блессингтон, но подобные гипотезы слишком грешат бульварной сенсационностью[804]. Так или иначе, лорд Блессингтон составил завещание, согласно которому графу полагалась половина семейного состояния Блессингтонов, если он женится на одной из их дочерей. В 1826 году Альфред, который не имел собственных источников дохода, женился на дочери леди Блессингтон Харриет. Однако поскольку этот брак был продиктован чисто деловыми соображениями, он оказался неудачным, и через пять лет они развелись.
В 1822–1828 годах граф д’Орсе путешествует по Европе с семейством Блессингтон. Они останавливаются надолго в Париже, где ведут интенсивную светскую жизнь, затем едут в Италию и в 1823 году встречаются с Байроном в Генуе. Леди Блессингтон вначале ожидает увидеть рокового странника, сумрачного Чайльд Гарольда, но на самом деле Байрон оказывается общительным и любезным хозяином, остроумным и живым собеседником без малейших признаков романтической меланхолии. Его отношения с Блессингтонами вскоре перерастают в дружбу, они часто навещают друг друга и совершают верховые прогулки, что заставляет ревновать Терезу Гвиччиоли.
Граф д’Орсе уже на второй день знакомства дает Байрону почитать свой английский дневник. Поэт возвращает его с комплиментами по поводу верных наблюдений из жизни британского светского общества: «Самое удивительное, как он в возрасте двадцати двух лет понял не факт, а саму тайну английской ennui»[805] (скуки. – О.В.) и рекомендует попробовать напечатать текст. Д’Орсе восхищен – Байроном и делает его портрет. Позднее Жан Кокто, в свою очередь, воссоздает этот эпизод в своем рисунке графа и снабжает его надписью:
«На берегу Женевского озера граф д’Орсе рисует профиль лорда Байрона. Аромат того утра долетел и до нас»[806]. Следуя логике борхесовской новеллы «Сон Колриджа», теперь кто-нибудь должен подхватить эстафету и изобразить Жана Кокто, рисующего портрет графа д’Орсе.
В письмах весной 1823 года Байрон хвалит своего нового друга: «умный, оригинальный, без претензий», «не желает казаться тем, кем не является на самом деле». Можно усмотреть в этой приязни своего рода благословение молодого щеголя стареющим поэтом-денди. Когда через два месяца наступает момент расставания, Байрон дарит д’Орсе перстень из лавы с пояснением, что «лава выдержит пламень его лет и характера».
Граф д'Орсе Рисунок Жана Кокто. 1943 г.
Леди Блессингтон Байрон подарил свою книжку армянской грамматики с пометами на полях. Остается добавить, что на этом «дарообмен» не завершается – Байрон покупает у леди Блессингтон ее коня Мамелюка и продает лорду Блессингтону свою знаменитую яхту «Боливар» за 300 фунтов, хотя роскошная яхта с бархатными кушетками и мраморными ваннами стоила гораздо дороже. На следующий день после прощания Байрон отплывает в Грецию и там погибает 19 апреля 1824 года.
В 1832 году леди Блессингтон, которая к тому времени была автором уже многих книг, выпустила в свет «Разговоры с лордом Байроном». Фронтиспис этого издания украшал портрет поэта работы д’Орсе. В этом томе объемом в четыреста страниц формата octavo воспроизведены и пересказаны все беседы, которые они вели во время своего генуэзского знакомства. Эта книга считается самой серьезной и значительной работой леди Блессингтон. «Разговоры» вошли в историю литературы, в отличие от других ее произведений – путевых заметок по Италии и Франции и многочисленных развлекательных романов («Гувернантка», «Жертвы общества», «Мемуары горничной», «Красавица сезона» и многие другие).
Взяться за перо леди Блессингтон во многом заставила нужда. После смерти лорда Блессингтона они с Альфредом вернулись в Лондон и сняли дом. После развода Альфред потерял все, что имел, и вновь оказался без средств. Будучи азартным игроком и постоянно приобретая новые предметы роскоши, он фактически жил на средства леди Блессингтон. Она писала каждую свободную минуту, но по-настоящему ей принесли успех альманахи «Книга красоты» и «Кипсек»[807]: сборники советов по моде и хорошему тону, которые она регулярно издавала. Для участия в альманахах она все время привлекала своих друзей-литераторов – так, первый номер «Книги красоты» украшали «Воображаемые разговоры» У.С. Лэндора. Кроме того, они с графом на пару вели раздел моды в «Дэйли ньюс» и имели много читателей не только в Англии, но и в Америке.
Обладая прекрасным вкусом, граф д’Орсе помогал леди Блессингтон в издании ее альманахов для дам. Он и сам выпустил в Америке одну книгу: «Этикет: руководство по светским манерам с приложением о дурных привычках» (1843). Отметим, что альманахи и подобные книжки по этикету имели наибольший рынок не в Англии, а в Америке и в британских колониях.
Особым увлечением графа была парфюмерия. Он мог, как подлинный алхимик, часами экспериментировать с перегонными кубами и эссенциями, составляя ароматические композиции. Возможно, действие магических ароматов каким-то образом связано с удивительной харизмой графа, но на этот счет нам остается только строить догадки. Во всяком случае, его самые знаменитые духи «Вода букета» пользовались необычайной популярностью среди дам, а специально для леди Блессингтон он создал цветочные духи, поскольку ей не нравился запах мускуса. Впоследствии потомки графа основали парфюмерную фирму, использовав тайные рецепты духов графа д’Орсе[808].
Другим хобби графа был дизайн интерьеров. Каждый раз, когда покупался или снимался новый дом – Сеймур-Плейс, а затем Гор Хаус в Лондоне, – граф брался за обстановку. Поскольку леди Блессингтон во время путешествий по Италии приобрела большую коллекцию древностей, они с помощью этих раритетов успешно создавали благородный классический стиль: гостиная-библиотека была украшена большими вазами из севрского фарфора, великолепными канделябрами, принадлежавшими ранее Марии Антуанетте, консолями, отделанными черепаховыми пластинами. В нишах гостиной стояли античные статуи и бюсты. На столике с книгами покоилась мраморная копия кисти руки леди Блессингтон в натуральную величину. В отдельных шкафчиках размещалась коллекция безделушек и диковин.
Во время своих путешествий по Европе леди Блессингтон собрала также уникальную коллекцию вещей, ранее принадлежавших знаменитым людям. Эта коллекция была выставлена в гостиной ее лондонского особняка Сеймур-Плейс и служила не только для декоративных целей, но и как повод для бесед с гостями. Приведем описание некоторых вещей из этого любопытного собрания. «Здесь размещались золотой игольник, отделанный агатами и бриллиантами, и флакончик из горного хрусталя, принадлежавшие мадам де Севинье; подушечка для булавок мадам Ментенон в оправе в форме сердца из золота и эмали. Как записала леди Блессингтон в дневнике, купив эту подушечку, «она утыкана булавками, как сердца протестантов – шипами после отмены Нантского Эдикта». Неподалеку лежали старинный дамский столовый прибор работы итальянских мастеров, отделанный бирюзой; ножницы мадам дю Деффан; ларчик для мушек Нинон де Ланкло, табакерка, украшенная бриллиантами, которая некогда стояла на столе у Маркиза в Отеле Рамбуйе. На столике со стеклянной крышкой среди дорогих безделушек располагались часы с портретом мадам Помпадур на циферблате, причем на лбу у мадам то вспыхивала, то гасла, подчиняясь внутреннему механизму, эмалевая звезда. Сбоку стояли две табакерки, у одной крышка была украшена изумрудами – это был подарок Людовика XIV адмиралу Турвилю; другая была из сердолика, оправлена в золото и инкрустирована брильянтами и аметистами»[809].
По перечню бывших владельцев этих вещей очевидно, что леди Блессингтон интересовалась эпохой XVII–XVIII веков и, возможно, отождествляла себя с известными красавицами и влиятельными людьми… Через обладание этими предметами она незримо включалась в круг знаменитостей, как бы заряжаясь их энергетикой через соприкосновение с личными вещами.
Заметим, что вещи выставлены на всеобщее обозрение не только как экспозиция частных сокровищ и талисманов, но и с целью создать настроение и помочь завязать беседу. Во многом это было данью салонной моде, согласно которой в гостиных ставили специальные этажерки для занимательных вещиц. Но этот обычай имел и свое прагматическое объяснение: «Настоящий мастер беседы должен иметь возможность двигаться и жестикулировать. По этой причине Дельфина де Жирарден осуждает моду на “дюнкерочки” – этажерки для безделушек, – загромождающие салоны, но, с другой стороны, напоминает о том, как важно предоставить в распоряжение гостя какие-нибудь мелкие предметы, которые он сможет машинально взять в руки в ходе разговора и с которыми потом уже не расстанется: “Самый занятой политик проведет в Вашем доме много часов подряд, разговаривая, смеясь, пускаясь в самые очаровательные рассуждения, если Вы догадаетесь положить на стол неподалеку от него перочинный ножик или ножницы”»[810]. Вот такие мелкие хитрости применяли опытные хозяйки салона в XIX столетии.
Дом графа д’Орсе и леди Блессингтон вскоре приобрел репутацию одного из самых блестящих лондонских литературных салонов 1830-х годов. Завсегдатаями салона были Эдвард Бульвер-Литтон и его брат Генри, У.С. Лэндор, Чарльз Диккенс, Э. Трелони, Дизраэли, У. Теккерей. Кроме того, двери салона были всегда открыты для заезжих знаменитостей: там побывали Альфред де Виньи, Франц Лист, Берлиоз, Эжен Сю, Гюстав Доре, Гаварни. Самым именитым гостем был Луи-Наполеон, который скрывался в Англии и нашел приют у графа д’Орсе как бонапартиста.
В салоне царила леди Блессингтон – другие женщины не допускались, среди гостей были только мужчины. Исключением был визит знаменитой актрисы Рашель и приезд в Лондон Терезы Гвиччиоли. Отсутствие почтенных английских светских дам, которые игнорировали салон леди Блессингтон, считая, что ее репутация безнадежно испорчена, позитивно сказывалось на темах разговора. Можно было обсуждать решительно все – литературные новинки, путешествия, оккультизм, но сплетни, лесть, жеманство и пуританские экивоки были начисто исключены.
Леди Блессингтон умела задать тон беседы, причем у нее в салоне царил совершенно особый, очень современный стиль разговора. Ценилась способность говорить серьезно о пустяках и, наоборот, легкомысленно – о важных материях. Были в чести каламбуры. Порой разговор напоминал фейерверк острот: собеседники быстро перескакивали с одной темы на другую, подхватывая мысль и мгновенно развивая ее, доводя до абсурда. Один раз зашла речь о восприятии романов Бульвера-Литтона в Америке и ему было предложено поехать туда в маске, чтобы собрать беспристрастные мнения. Другой вариант действий – выставить Бульвера в качестве редкого экспоната – современного литератора, а смотрителем аттракциона будет, разумеется, леди Блессингтон. В другой раз У.С. Лэндор в споре раскритиковал поэтические достоинства библейских псалмов, после чего леди Блессингтон, улыбаясь, сразу обратилась к нему с просьбой: «Напишите что-нибудь получше, мистер Лэндор!»[811]
Атмосфера в этом литературном салоне мало напоминала обычные светские собрания, скорее она была близка по духу романтическим кружкам в Германии конца XVIII – начала XIX века, в которых участвовали братья Шлегель, Новалис, Каролина, Доротея, Людвиг Тик и с энтузиазмом обсуждались новейшие философские идеи и самые фантастические проекты.
В непринужденных беседах в Гор-Хаусе культивировались иронические реплики, юмор, рискованные эротические сюжеты, пикантные анекдоты. Вместе с тем по отношению друг к другу участники салона проявляли предупредительность и вдумчивую вежливость и оказывали реальную поддержку в житейских трудностях. БульверЛиттон, уезжая, всегда подробно и откровенно писал леди Блессингтон о своих делах, и он же помог ей начать печататься.
Какую же роль играл среди писателей и интеллектуалов граф д’Орсе? Во-первых, его присутствие всегда придавало живость, блеск и французский шарм разговору – граф был мастером легких шуток и быстрых ответов. Во-вторых, среди людей творческих он не терялся, так как сам имел отношение к искусству – успешно рисовал и писал маслом, делал скульптурные портреты. Сохранилось немало его авторских работ – герцог Веллингтонский, к примеру, считал свое скульптурное изображение работы д’Орсе самым лучшим. Большойизвестностью пользовался также бронзовый бюст Ламартина, выполненный графом в Париже.
Но самым главным свойством д’Орсе как светского человека и денди была феноменальная способность радоваться жизни. Салон леди Блессингтон благодаря ему был надежно застрахован от любых признаков скуки и высокомерного занудства. Он обладал талантом устраивать веселые вечера, вовлекать людей в свои планы, придумывать игры и развлечения, между делом улаживать тонкие проблемы сердечного общения. Именно в этом амплуа он был выведен на страницах романа «Генриетта Темпл» Дизраэли как deus ex machina, появляющийся в конце, чтобы чудесным образом разрешить запутанную любовную интригу и соединить главных героев.
«Граф стоял перед ним, человек, лучше всех одевавшийся в Лондоне, свежий и веселый, как птица, ни единая тень не омрачала его чело, в его глазах светилось дружелюбие… Он не знал Заботы, он побеждал Время, Недомогания были ему незнакомы. Он никогда не болел за всю свою жизнь, даже пяти минут. Фердинанд был по-настоящему рад его видеть; одно присутствие графа Мирабеля приводило всех в хорошее настроение. Его легкомыслие передавалось всем. Меланхолия была фарсом, когда он улыбался; никакие неприятности в мире не могли противостоять его добродушным и блистательным шуткам. В тот момент Фердинанд не жаловался на судьбу и мог поддержать общение с графом на должном уровне; легкий занимательный разговор длился около часа»[812].
Чтобы у читателей не было ни малейших сомнений относительно прототипа графа Мирабеля, Дизраэли предпослал роману посвящение: графу Альфреду д’Орсе «от преданного друга», а в середине книги вставил в качестве иллюстрации портрет графа д’Орсе. Лейтмотив образа «Алкивиада Великолепного» – французский гедонизм, joie de vivre. С его уст не сходит восклицание «bêtise!» по отношению к неразумным меланхоликам. «Представьте себе человека в плохом настроении, – сказал граф Мирабель. – Жизнь слишком коротка для таких bêtises. Самый несчастный бедняк бессознательно догадывается, что лучше все-таки жить, чем умереть. У него уже есть преимущество. Существование – это наслаждение, причем величайшее. Мир не может нас лишить его. А если жить лучше, чем умереть, то лучше жить в хорошем настроении, чем в плохом. Тот, кто чувствует, что для него всегда открыт источник наслаждения, не должен быть несчастен. Солнце светит всем; каждому доступен сон; если Вы не можете прокатиться на хорошей лошади, просто полюбуйтесь на нее; если Вам недоступен роскошный обед, насладитесь хлебом с ломтиком Грюйера. Ощутите легкость, не задумывайтесь, не стройте планов, поменьше размышляйте. Все зависит от кровообращения; позаботьтесь о нем. Принимайте мир таким, какой он есть. Наслаждайтесь всем. Да здравствуют пустяки! Vive la bagatelle!»[813]
Этот «программный» монолог графа Мирабеля выражает (конечно, в несколько утрированной, заостренной форме) эпикурейский солнечный лик дендизма. Это и впрямь дендизм «passionné», по выражению французского биографа д’Орсе[814]. Сплошной чувственный контакт с реальностью, без которого невозможно ни гурманство, ни удовольствие от красивой одежды, ярчайшим образом представлен в д’Орсе. Приверженность к чувственным удовольствиям была свойственна, как помним, и Браммеллу – уже совсем нищий и больной во Франции он продолжал ходить в кондитерскую, где его по старой памяти угощали его любимыми реймсскими бисквитами.
Однако гедонизм графа д’Орсе был особого плана: не только индивидуальным, а и заразительным: это редчайшая способность наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях, начиная с простых удовольствий и кончая более сложными. В компании графа еда как будто становилась вкуснее, развлечения – интереснее, а когда он входил в игорный зал, ставки сразу взлетали. Он был тем необходимым ферментом, который обеспечивал химическую реакцию азарта и удовольствия для целой компании.
Один человек проникся безоговорочной симпатией к графу д‘Орсе за то, что тот на его глазах необычайно «вкусно» ел бифштексы, так нахваливая мясо, что во всех присутствующих проснулся зверский аппетит. В отношении еды он был подлинным gourmet – тонким ценителем[815].
Теккерей, регулярно писавший сатирические очерки о денди в журнале «Панч», после первого посещения салона леди Блессингтон проникся искренней симпатией к графу и попал в число завсегдатаев салона. Тон его статей в это время, кстати, существенно смягчился. После разорения леди Блессингтон он один из немногих купил на аукционе несколько ее личных вещей и отослал ей во Францию. Он даже представил своего нового приятеля Мэггину, редактору журнала «Fraser's Magazine», и вскоре д’Орсе был запечатлен на известном рисунке в узком кругу друзей редакции. Этот триумф был особенно впечатляющим, если учесть, что «Fraser's Magazine» вел последовательную борьбу против дендизма и, в частности, буквально смешал с грязью Бульвера-Литтона. Пары визитов графа в редакцию хватило, чтобы в журнале поместили его портрет, пригласили печататься и зачислили во «всеобщие любимцы»: «The beloved of all who knew him».
Этот парадокс лишний раз напоминает, насколько важна сила личности в любую эпоху: ведь и Диккенс, и Теккерей, и прежде всего Мэггин больше всего способствовали дискредитации дендизма Регентства, и по идее именно д’Орсе должен был быть мишенью их сатиры. Однако харизма графа оказалась сильнее конъюнктурных раскладов. Другой знаменитый идеологический противник дендизма, Томас Карлайль, тоже попал под обаяние графа. Супруга Карлайля Джейн оставила в своих мемуарах описание визита графа д’Орсе: «Точно звук вихря пронесся по улице, это гарцевали кони, и ливрейный лакей соскочил с подножки: перед нашими дверьми остановился великолепный экипаж в небесно-лазурных и серебряных тонах. Сквозь занавеску он казался частью процессии в честь Коронации. Из него вышел граф д’Орсе!.. Эффект от этого зрелища был подобен концу света, когда лев и ягненок и все ранее несопоставимые существа оказываются вместе. Карлайль в своем сером клетчатом костюме, сидящий в глубоком кресле и вежливо смотрящий на Короля всех Денди; и Король всех Денди, любезно глядевший на него, сидя на стуле напротив, весь блестящий, как жук-долгоносик. Д’Орсе действительно красивый человек, но это понимаешь, только поговорив с ним и оценив его остроумие и здравый смысл; а на первый взгляд его красота кажется довольно отталкивающего свойства, бесполой, что обычно приписывают гениям. Этому впечатлению немало способствует фантастическая роскошь его наряда: небесно-голубой атласный галстук, ярды золотых цепочек, белые французские перчатки, легкое желто-коричневое пальто, отделанное бархатом того же оттенка, почти невидимые панталоны телесного цвета и облегающие как перчатка, и т. д. Все это, как говорит Джон, “очень абсурдно”, но он отличается простыми и мужественными манерами, и, несомненно, он дьявольски умен. Глядя на бюст Шелли, он сказал: “Мне он совсем не нравится; есть такие лица, которые как будто силятся проглотить собственный подбородок, и это как раз такой случай”»[816].
В этом детально записанном воспоминании прослеживается типологический сюжет восприятия графа д’Орсе современниками. Первое впечатление – мифологическое великолепие внешнего облика: напрашивающиеся аналогии – королевский выезд, явление божества, конец света. При попытке более внимательно приглядеться к ослепительному денди Джейн в первую очередь фиксирует его полную противоположность своему мужу, Томасу Карлайлю. Это столкновение интеллектуала и щеголя, которые пока с трудом находят общий язык, хотя граф приехал с визитом после того, как они уже познакомились и прониклись симпатией друг к другу в салоне леди Блессингтон.
Джейн как умная и эрудированная дама может принять человека, только если тот проявляет незаурядный ум, – тогда она готова благожелательно оценить его красоту, которая до того кажется ей неприятной. Эротическая составляющая облика денди явно тревожит ее пуританскую совесть. Но после общей беседы даже одного мелкого замечания о бюсте Шелли достаточно, чтобы расположить ее в пользу графа и записать эту реплику как нетривиальное суждение. Финальный вывод – «отличается простыми и мужественными манерами… несомненно, дьявольски умен» – свидетельствует о том, что граф и на сей раз одержал победу, причем над предубежденным оппонентом.
Алгоритм «завоевания» здесь строится на непрерывном преодолении стереотипов, динамическом опровержении предрассудков. Как правило, первая реакция на броскую красоту – «он хорош собой, но, наверное, глуповат». Однако с графом д’Орсе подобное утешение умников, судящих всех с высот своего интеллекта, не срабатывает – он оказывается более многомерной личностью и проявляет себя в данном случае как равный в беседе с известным философом. Тогда активизируется подозрение, что у него «что-то не то» по линии общепринятой морали – но светские непринужденные манеры свидетельствуют о полной уверенности в себе салонной знаменитости.
Сходную игру по преодолению стереотипов граф каждый раз триумфально вел и в общении с британскими лордами: они вначале воспринимали его как иностранца (он ведь всегда говорил по-английски с акцентом), но очень скоро убеждались, что этот француз разбирается в лошадях получше, чем иные англичане. Думали, что д’Орсе – новичок в британских светских кругах, а он, оказывается, давно состоит членом самых привилегированных клубов и на короткой ноге с самыми именитыми аристократами.
И все же итогом всех этих побед графа д’Орсе над клишированными представлениями могло стать отчуждение – ведь что остается тогда ошибившемуся в своих предположениях? Чувство собственной неполноценности: «Он красив, умен, вхож всюду, это невозможное сочетание совершенств, он – полубог, а что же я?» Но именно в этот критический момент своего торжества полубог подает вам руку и объявляет своим другом! Зарождающуюся неприязнь сменяет «мягкая эйфория», восторг от того, что вас приблизили и признали равным, удостоили дружбы. Сразу возникает естественное желание хвастать этой дружбой, подражать графу во всем, аттестовать себя его приятелем.
Таков был, как нам представляется, механизм уникального харизматического воздействия графа д’Орсе на людей. Кроме счастливого характера, привлекавшего к нему поклонников, нельзя не отметить другое важное свойство графа: эстетическую завершенность его облика, придававшую ему сходство с произведением искусства. Американец Уиллис, впервые посетивший салон леди Блессингтон, особо записал одно из своих самых сильных впечатлений: граф д’Орсе, беззаботно раскинувшийся на оттоманке, – чисто пластическая картинка грациозно отточенной позы молодого тигра. Многие наблюдатели при встрече с графом просто восхищались им издалека – это было бескорыстное эстетическое наслаждение.
Зимой 1829/1830 года в Париже выпал обильный снег, и граф не смог отказать себе в удовольствии заказать специальные сани. Как записано в дневнике леди Блессингтон, «наши друзья, разъезжая на санях, представляли собой прекраснейшее зрелище. Сани графа д’Орсе были в виде дракона; снаряжение и лошадь великолепны: сбруя из алого сафьяна, расшитого золотом… Дракон графа д’Орсе ночью выглядел фантастически. Казалось, его глаза и рот изрыгают красное пламя; лошадь была покрыта тигровой шкурой, оставлявшей открытой только гриву и хвост, к упряжке был привязан двойной ряд серебряных колокольчиков, чей звон был необычайно мелодичным и веселым»[817].
Леди Блессингтон, конечно же, заинтересованный и пристрастный наблюдатель, однако она добавляет, что все парижане тоже наслаждаются этим зрелищем. По той же схеме – расширение круга восхищенных поклонников – построено описание прогулки с графом в записках лорда Ламингтона. «Мы с графом д’Орсе часто ездили верхом в Ричмонд. Его персона поражала всех: синий фрак с позолоченными пуговицами, расстегнутый и оставляющий для обозрения белоснежную рубашку и желтый жилет; узкие кожаные штаны и ослепительно начищенные сапожки; кудрявые бакенбарды и красивое лицо; широкополая глянцевая шляпа, безукоризненные белые перчатки. Он был настоящим щеголем, лидером моды. Когда мы ехали через Кенсингтон и Бромптон, он возбуждал всеобщее внимание»[818].
Идеальная завершенность подобного зрелища наводит на мысль о денди-предмете, чье основное предназначение – быть вещью, выставленной на всеобщее обозрение, служить приманкой для взглядов. Это явление чудесного в повседневном – признак новой экономики и складывающейся культуры «современности» (modernity), в рамках которой денди отведена особая роль – довести до логического конца овнешнение и отчуждение индивидуальности, стать всеобщим фетишем, возбуждающим любопытство и желание[819].
Но каковы же были материальные обстоятельства этого человека-фетиша? В 1840-е годы у графа начинаются финансовые проблемы. После окончательного оформления развода он теряет права на наследство лорда Блессингтона, а предполагаемая продажа ирландского имения затягивается. Сразу выясняется, что до этого он жил не по средствам, и общая сумма его долгов становится известной всем поставщикам, которые прекращают кредит. Литературных заработков леди Блессингтон хватает лишь на текущие расходы.
В то время в Англии действовал закон, согласно которому кредиторы могли взыскать долг только в будние дни и при свете дня, если они встретят нерадивого должника лицом к лицу. При этом вторгаться в частный дом силой они не имели права. Поэтому, оказавшись перед неприятной перспективой попасть в долговую тюрьму, граф д’Орсе прибег к тактике «мой дом – моя крепость»: он выходил из дома только вечером в будние дни и днем – в выходные, а остальное время проводил у себя в мастерской и в саду, где занимался ручными голубями. Для друзей и клиентов, с которых граф писал портреты, была установлена условная система звонков, а остальным вход был запрещен. По вечерам граф по-прежнему выбирался в клубы, но популярность его, конечно, существенно пострадала из-за подобного вынужденно замкнутого образа жизни.
В 1845 году, как раз в этот период, граф нанес второй визит Карлайлю. Джейн Карлайль с обычной для нее дотошностью записала в дневнике: «Сегодня, и что самое занятное, именно в тот момент, когда я перечитывала "Философию одежды" Карлайля, к нам зашел граф д’Орсе. Я не видела его уже лет пять. Прошлый раз он был весь в чем-то ярком, как колибри. Сейчас, пять лет спустя, в его одежде доминировали черные и коричневые тона – черный атласный галстук, коричневый бархатный жилет, коричневый фрак, на тон темнее, чем жилет, и отделанный бархатом другого оттенка, почти черные панталоны, булавка для галстука, состоящая из грушевидной жемчужины в оправе из бриллиантов, одна-единственная золотая цепочка на груди с великолепным кулоном из бирюзы. Да! Этот человек понимал свое дело! Даже если это дело – дендизм, никто не сможет отрицать, что он в совершенстве владеет им и одевается с редким искусством! Неразборчивый модник не изменил бы свой стиль за пять лет, но граф тонко почувствовал, насколько лучше его теперешний наряд подходит к его слегка располневшей фигуре и чуть поблекшему лицу, чем цвета колибри пять лет назад. Бедный д’Орсе! Он был рожден для более высокого предназначения, чем быть королем денди. По сравнению с предыдущим визитом он сказал вдвое меньше умных вещей. Его остроумие, я полагаю, проистекает скорее из жизнерадостности, нежели из реального гения, а его жизнерадостность сильно уменьшилась. Единственное, что он сказал сегодня достойное запоминания – описание маски Чарльза Фокса – "вся сморщенная и сплющенная, как будто он спал в книге"»[820].
Как видим, Джейн воспринимает графа с явной симпатией. Она отмечает более сдержанную гамму его одежды и, сочувствуя его бедственному положению (о котором знал весь Лондон), находит уместным отказ от ярких цветов. Сделать вывод об уменьшении жизнерадостности было в свете этих обстоятельств не так уж трудно: остывание харизмы – процесс заметный для наблюдательного глаза. Но по-прежнему решающим критерием для нее остается остроумие, и она фиксирует, как математик, сократившееся количество нетривиальных реплик[821]. Домашнее заточение д’Орсе длилось целых семь лет, и все это время граф строил планы, как заработать деньги, чтобы рассчитаться с кредиторами. Кое-какие средства он получал за счет продажи рисунков и скульптур, но этого было мало. Пару раз он выступал с инженерными прожектами: например, предлагал испанскому правительству оборудовать железнодорожные поезда особой сигнальной системой для аварийного торможения из любого вагона – нечто вроде современного стоп-крана, только у д’Орсе через все вагоны к машинисту должен был быть протянут шнур, а на крыше последнего вагона сидел дозорный, который наблюдал за всем составом.
Леди Блессингтон непрерывно обращалась с письмами ко всем своим влиятельным друзьям, прося найти для графа дипломатический пост, который или гарантировал бы ему иммунитет, или позволил бы уехать из Англии. Большие надежды возлагались на Генри Бульвера, который работал в английском посольстве во Франции, а потом в Испании, но тот ничего не смог сделать. Просто эмигрировать во Францию, как Браммелл, граф не мог, поскольку там его знали как бонапартиста и друга Луи-Наполеона, что при Луи-Филиппе было совсем нехорошо.
Увы, даже придя к власти после февральской революции в Париже в 1848 году, Луи-Наполеон не оправдал надежд, которые возлагал на него старый приятель, приютивший его у себя после побега. ЛуиНаполеон, которому ничего не стоило вернуть долг благодарности, подыскав графу приличный пост, медлил и не отвечал на письма с вежливыми просьбами и напоминаниями. Это оказалось фатальным для судьбы графа д’Орсе и леди Блессингтон.
В апреле 1849 года в двери Гор-Хауса постучал посыльный от кондитера: он принес поднос с заказанными пирожными. Его впустили на кухню, но оттуда он без спросу пошел прямиком к графу и предъявил ему ордер на арест: на самом деле он был представителем шерифа. Враг проник в осажденную крепость. Дело было в субботу, во второй половине дня, и граф любезно предложил мнимому посыльному присесть и подождать, пока он будет готов к выходу. Поглядывая на солнце, которое клонилось к закату, граф начал свой дендистский туалет. Полтора часа он в лучших браммелловских традициях одевался и завязывал шейный платок, затем поправлял сорочку и чистил ботинки. Когда солнце закатилось, незваный гость был вынужден уйти, непосредственная опасность миновала, но ордер на арест был уже вручен, и отныне граф не мог беспрепятственно укрываться в доме.
К счастью, оставалось еще воскресенье. Обсудив ситуацию с леди Блессингтон, он решил немедленно уехать во Францию и после непродолжительных сборов в три часа ночи отбыл, захватив с собой минимум вещей. Вечером в воскресенье он уже был в Париже, а леди Блессингтон осталась, чтобы руководить распродажей имущества. 7 мая 1849 года объявили аукцион, и вся обстановка Гор-Хауса была выставлена на торги. Леди Блессингтон сделала все необходимые распоряжения относительно распродажи, позаботилась о том, чтобы обеспечить преданных слуг, написала прощальные письма друзьям и уехала, чтобы не видеть тяжелого зрелища.
Давние соперницы, чопорные и родовитые английские леди, ревностно следившие за ее светскими успехами, теперь торжествовали. Они с удовольствием осматривали вещи перед распродажей, злорадно комментируя финансовый крах хозяйки модного салона. На аукционе некоторые из друзей дома выкупили отдельные сокровища леди Блессингтон, а затем послали их ей в подарок. Бульвер-Литтон приобрел раритетный трехтомник Байрона, переплетенный самой леди Блессингтон, и отправил ей в Париж. Теккерей оставил в дневнике грустную запись о посещении разоренной гостиной, где он провел столько приятных часов.
Повторилась интересная закономерность, которая уже имела место на аукционе Christie’s при распродаже личных вещей Браммелла: за мелкие безделушки платили большие деньги, а крупные и ценные лоты уходили за сравнительно скромные суммы. Компактные мемориальные безделушки, вероятно, оказались притягательнее в силу своей концентрированной символической насыщенности.
Аналогично разыгрывался сюжет с драгоценными вещицами, ранее принадлежавшими знаменитым француженкам: игольник мадам де Севинье, подушечка для булавок мадам де Ментенон и часы с портретом мадам Помпадур были приобретены в свое время леди Блессингтон в Париже, а теперь перешли к новым хозяевам. Портрет леди Блессингтон кисти Лоуренса всего за 336 фунтов был куплен лордом Хертфордом и впоследствии передан в музей. Тем не менее после аукциона выяснилось, что вырученных денег достаточно, чтобы расплатиться со всеми кредиторами.
Однако после всех хлопот и волнений здоровье леди Блессингтон было серьезно подорвано. Переехав в Париж, она прожила там очень недолго и 5 июня 1849 года скончалась от сердечного приступа. Граф д’Орсе был поражен скорбью и долго не мог прийти в себя после смерти «дорогой матушки». По его проекту для захоронения был построен мавзолей в виде пирамиды, английскую эпитафию сочинил Барри Корнуэлл, а латинскую – У.С. Лэндор.
Граф д’Орсе в Париже снял мастерскую – единственное, что было ему по средствам – и жил два последних года, делая портреты и скульптуры. Буквально за несколько месяцев до его смерти Луи-Наполеон наконец вспомнил о нем и назначил его министром культуры. Но эта милость запоздала – граф был уже тяжело болен.
Фортуна отвернулась от него, и это сказалось прежде всего в хронометраже повседневности: все события в его жизни стали происходить не вовремя, в неправильный момент и в неправильном месте, начиная с его домашнего заключения и вплоть до запоздавшей милости Луи-Наполеона. Синдром «не вовремя» – признак утраты харизмы, когда человек перестает быть в ладу с самим собой и с миром.
Один из героев романа «Годольфин», явным прототипом которого был д’Орсе, говорит: «Я стал знаменитостью – и это погубило меня. Они не могли ни пообедать, ни поужинать без меня, в мое отсутствие вино не пьянило, забавы не веселили. Что им было до того, что я, подвластный их развлечениям, неумолимо залезал в долги, идя навстречу будущим несчастьям, позору, покалеченной судьбе и ранней гибели?.. Моя жизнь делится на две эпохи – сначала меня использовали и превозносили, а потом выбросили на улицу помирать с голоду»[822].
Возникает естественный вопрос: почему же харизма графа д’Орсе не выручила его в критический период его жизни? Почему даже друзья не смогли помочь или просто отвернулись, когда у графа начались финансовые проблемы? Ведь дендистская гордая поза, как мы знаем, вовсе не сводится к наличию денег, и до определенного момента можно даже бравировать их отсутствием. Как замечает Серж Московичи, «харизма – это "власть анти-экономического типа", отказывающаяся от всякого компромисса с повседневной необходимостью и ее выгодами»[823]. Романтически-сакральная сущность харизмы требует регулярного подтверждения демонстративными действиями, смелыми эскападами, «чудесами», и если это невозможно в силу неблагоприятных обстоятельств, происходит «рутинизация» харизмы и последующий разрыв эмоциональных связей между кумиром и поклонниками. Утрата харизматического авторитета сопровождается такими симптомами, как коллективное возвращение к рациональности и исчезновение флера, магической притягательности лидера, желания подражать ему.
Вебер использует для описания этого процесса такие метафоры, как охлаждение или затвердевание жидкости, пробуждение от гипноза. Однако это реакция извне, а ведь и в самой харизматической личности есть нечто, что способствует подобному «остыванию». Мы уже фиксировали, что в харизме всегда чувствуется привкус «иного» – как «французскость» в дендизме д’Орсе, гендерная амбивалентность разодетых щеголей или некая чисто физическая «отмеченность».
Иностранцу или «меченому» человеку прощаются до поры до времени многие ошибки, которые непозволительны для «своих», – он может играть не по правилам, на его поведение будут смотреть сквозь пальцы и даже поощрять. При подобном исходном раскладе можно стать и лидером, и шутом: ведь всякие специфические особенности, обычно воспринимающиеся как отклонения от нормы, будут трактоваться как занятные чудачества или даже достоинства. Однако и опасность не за горами: «На этого аутсайдера возлагается задача выбраться из беспорядка, угрожающего существованию, и показать, как действовать. На бытовом языке можно сказать, что этот человек, которому нечего терять, принимает на себя риск "запятнаться", когда все другие не могут этого сделать, не повредив своему положению. Но в случае неудачи группе легче оттолкнуть его и сделать козлом отпущения, чем если бы речь шла об автохтоне (т. е. о "своем". – О.В.)»[824].
Таким образом, «иное» в денди, придающее дразнящую завлекательность его контуру, при изменении обстоятельств начинает работать как программа саморазрушения, превращая его в идеальную жертву, отчужденный объект-фетиш, подлежащий изоляции (что в случае с д’Орсе так ясновыразилосьвегодомашнемзаключении на протяжении семи лет).
Граф д'Орсе в своей мастерской. 1852 г.
Беспрепятственной объективации, безусловно, способствовала и эстетическая завершенность образа графа д’Орсе, его дендистская графическая грация – как в картинке санной прогулки или в зарисовке лорда Ламингтона. Эта предметность создавала дополнительную «упаковку» его образа, отводя ему особое место, вне обычной системы критериев. Показательно, что по отношению к нему самые разные люди использовали весьма сходные метафоры: «бабочка», «жук-долгоносик», «стрекоза», «колибри». Эти метафоры выражают яркость, маленький размер и хрупкость, что довольно парадоксально при его большом физическом росте, но абсолютно закономерно, исходя из внутреннего смысла: недолговечность, жертвенная обреченность в грубом и жестоком мире. Хрупкость пестрой бабочки – лейтмотив жизненного сюжета графа д’Орсе.
Настоятельность этого дискурса особенно заметна, если сравнить судьбу графа д’Орсе с судьбой леди Блессингтон. Ведь настоящей жертвой в их отношениях совершенно очевидно была именно она, фактически многие годы содержавшая д’Орсе своим трудом и подорвавшая свое здоровье из-за его нарциссического эгоизма. Но история выбрала своим героем не ее, а «короля всех денди» и снабдила его красивой легендой. Дендистская биография как особым образом организованный текст оказалась более убедительной и долговечной конструкцией. Если сравнивать по этому параметру д’Орсе с Браммеллом, то прежде всего становится очевидно, что мы имеем дело с разными дендистскими биографиями. История Браммелла изобилует анекдотами, остроумными словечками и образует в итоге героическое повествование о великом реформаторе моды. О графе остались менее сюжетные, но более эмоционально насыщенные, благожелательные воспоминания друзей. Появившийся в 1844 году роман Д. Миллса «Д’Орсе, или Модные безумства» был, к сожалению, сугубо бульварным по жанру. Хотя д’Орсе был при жизни знаменит не менее Браммелла, вокруг него все же не сложился дендистский фольклор. Осталась мифологическая легенда о красавце-полубоге и непередаваемая, но безотказно действующая магия его имени и харизмы.
Оба были признанными лидерами моды для своего поколения, но проповедовали разные принципы. Стиль д’Орсе во многом противоположен минимализму Браммелла. Его любовь к ярким тонам, золотым украшениям, континентальная экстравагантность не понравились бы Браммеллу. Собственно, д’Орсе и выделялся пестрой бабочкой на общем суровом фоне именно оттого, что в целом в мужском костюме 40-х годов победила браммелловская сдержанность. Его эксперименты с цветом и фасоном отразились как стилистическая тенденция позднее, в эстетическом и богемном костюме конца XIX века, но это была маргинальная линия.
Важное различие двух денди кроется в аспекте телесности. Браммелл был подчеркнуто неспортивен и недолюбливал все традиционные английские развлечения на свежем воздухе. Д’Орсе с первого взгляда поражал своим атлетизмом и был прославленным знатоком лошадей и охоты, представляя (будучи французом, – в этом кроется забавный парадокс!) классический тип английского денди-спортсмена.
Телесность Браммелла в основном находила выражение в нарциссической чистоплотности; его отношения с женщинами, очевидно, были главным образом платоническими. Эротическая репутация графа д’Орсе (при всей недоказанности фактов) настолько возбуждала умы современников, что придавала его харизме соблазнительный оттенок победительно-аморального сексуального шарма, чему, вероятно, во многом способствовал вызывающий стиль одежды. При том, что обоих денди упрекали в некоторой женственности из-за чрезмерного внимания к нарядам, Браммелл все же больше воспринимался как традиционный кавалер, а д’Орсе – как гендерно неопределенный щеголь.
Интересно, что про Браммелла не говорили «божественный» или «высшее существо», что то и дело звучало в адрес графа. Д’Орсе как будто превосходил человеческие измерения по всем критериям – высоким ростом, броскими костюмами, ярко выраженной женственностью черт и одновременно подчеркнутой мужественностью телосложения, атлетизмом и спортивностью. Ему не хватало обычной шкалы человеческих достоинств, его личные качества простирались за общепринятые границы.
Хотя д’Орсе, как и Браммелл, играл роль признанного арбитра элегантности, он не был суров в своих оценках и никому не навязывал свой личный вкус, возможно, осознавая собственную исключительность. Французская галантность всегда оставалась при нем. Д’Орсе был лишен браммелловской язвительности. Единственный известный случай, когда он довольно мягко выразил свое неодобрение, произошел в отношениях с приятелем – актером Уильямом Макреди[825]. После первого представления «Ришелье» он зашел к Макреди, и тот спросил его, какие у него пожелания. «Вам надо сутану пошире», – ответил д’Орсе[826], беззлобно намекая тем самым, что ни пьеса, ни исполнение серьезного обсуждения не заслуживают.
Браммелл, напротив, был недосягаемым перфекционистом и всех судил с высоты своего совершенства: его тонко настроенный взгляд умел не видеть несоответствующее изысканному дендистскому вкусу, и он отказывался даже называть предметы по именам, если они, как он считал, не были достойны этого названия, – достаточно вспомнить его хрестоматийную ироническую реплику «Вы это называете “фрак”?»
Наконец, главнейшее различие заключается в типе харизмы двух денди. Браммелла уважали и боялись в обществе из-за его холодности, а д’Орсе, напротив, горячо любили. Д’Орсе внушал окружающим радость и уверенность в себе приветливым обращением. В этом кроется наиболее привлекательный аспект его дендизма – все хотели подражать ему самым естественным образом, потому что он внушал желание жить лучше, красивее, раскованнее, – в его присутствии даже в самой заурядной натуре пробуждалась игра воли.
Гедонизм графа вначале включал инстинкт подражания на бессознательном уровне – импульсивно всем хотелось получать такое же наслаждение от жизни, от еды, одежды, лошадей. Он был проводником колоссальной жизненной энергии, огненной магмы чувственных радостей, активизируя пульс желания в людях, которые из-за своей флегматичности или закрытости, возраста или болезней давно забыли, что такое страсть или острое сенсорное удовольствие, азарт погони за удовольствием. Тем самым срабатывал первый, самый простой уровень харизмы – механизм «заражения», подключение к энергии коллективного чувственного бытия, вступление в полноценный контакт с реальностью.
Но этого мало – д’Орсе всем подавал надежду на осуществление желаний! Каким образом? Благодаря своей уникальной приветливости, благосклонности и легкому характеру. Как раз на этой стадии другие лидеры моды часто отпугивают своей недоступностью или язвительностью, как Браммелл, что лишь порождает в потенциальном поклоннике ощущение собственной неполноценности. Д’Орсе, наоборот, притягивал, авансом одаряя своей дружбой и тем самым внушая столь необходимую всем иллюзию, что до совершенства рукой подать, – залогом этого было теплое отношение графа, как бы отмечающее избранника. Тем самым он становился для каждого зеркалом, в котором человек видел свое лучшее «Я» и начинал успешно действовать, исходя из новообретенного самоуважения. Рядом с ним желание стать лучше казалось естественным и осуществимым – включался магический кругооборот подражания и желания, исполнения желаний из-за возросшей уверенности в себе: при незаметной помощи графа человек обретал мечту – проекцию своего идеального «Я», которая делалась реальностью. «Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком… Теперь раб – свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и “дерзкой модой”… Он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный; такими он видел во сне шествующих богов», – писал Ницше о дионисийстве[827].
В этом контексте можно по-новому понять все аффективные признания в дружбе со стороны столь разных и часто изначально недоброжелательно настроенных людей. Волшебный пароль «Мой друг – граф д’Орсе» открывал двери в мир молодых, модных, красивых и счастливых. Доброжелательность графа способствовала возвращению к легкости и радости бытия, актуализируя исходное этимологическое смысловое поле харизмы: желание – побуждение – радость. Возможно, частично секрет магнетического обаяния графа заключался в особой детскости, присущей характеру д’Орсе. В ряде случаев он вел себя как большой ребенок. Это касается и его непосредственности, и способности искренне желать, переживать и выражать свои чувства – однажды, когда леди Блессингтон выругала его за какую-то оплошность, он расплакался, как ребенок. Не полюбив с самого начала свою будущую супругу, граф не смог притворяться или заставить себя привыкнуть к ней – дети не умеют симулировать то, что они не чувствуют. Порой он действовал совсем по-мальчишески: увидев в трактире нацарапанную на окне оскорбительную надпись в свой адрес, взял апельсин и, повертев его в руке, метко швырнул в стекло.
За эту неутраченную с возрастом способность спонтанно реагировать, пренебрегая условностями, за эту заразительную веселость многие и любили его. Конечно, такая детскость могла напоминать форсированный инфантилизм – так, он предпочитал особо не вникать в финансовые проблемы, пока жизнь позволяла, и спокойно предоставлял леди Блессингтон право заботиться о своем материальном благополучии. О леди Блессингтон он, что симптоматично, не раз отзывался как о своей «дорогой матушке» – их отношения в последние десятилетия, по всей видимости, строились как между матерью и сыном.
Подобная детскость и беспечность – оборотная сторона непосредственности и умения искренно желать и радоваться осуществлению желаний. Это светлый, гедонистический лик дендизма, в принципе отличающийся от «взрослого» рационализма эпохи Регентства.
В более позднюю эпоху гедонистическая составляющая дендизма превращается в эстетизированную чувственность Оскара Уайльда. В романе «Дориан Грей» провозглашается неизбежность «нового гедонизма» как грядущей жизненной философии: «Да, прав был лорд Генри, предсказывая рождение нового гедонизма, который должен перестроить жизнь, освободив ее от сурового и нелепого пуританства, неизвестно почему возродившегося в наши дни. Конечно, гедонизм этот будет прибегать к услугам интеллекта, но никакими теориями или учениями не станет подменять многообразный опыт страстей. Цель гедонизма – именно этот опыт сам по себе, а не плоды его, горькие или сладкие. В нашей жизни не должно быть места аскетизму, умерщвляющему чувства, так же как и грубому распутству, притупляющему их. Гедонизм научит людей во всей полноте переживать каждое мгновение жизни, ибо и сама жизнь – преходящее мгновение»[828].
Уайльдовский гедонизм отличается от жизнелюбия графа д’Орсе, во-первых, своей отрефлектированностью, концептуальной законченностью. Во-вторых, он подразумевает важность любых чувственных впечатлений для «опыта страстей» независимо от их источника и морального потенциала. Для эстетического гедонизма «цветы зла» наиболее притягательны. Эти холодные оттенки спектра отсутствуют в харизме графа д’Орсе. Его гедонизм окрашен в светлые, теплые тона.
До самого конца его отличало острое желание жить на полной скорости. Как гласит легенда, в один из последних дней, болея, он слушал, как племянница играла ему на фортепьяно вальс. «Быстрее, еще быстрее!» – попросил граф. Племянница прибавила темп игры. «Быстрее, еще быстрее!» Когда она, исполнив несколько головокружительных вальсов, обернулась, граф д’Орсе был уже мертв. Бабочка выпорхнула на свободу.
Письмо графа д'Орсе Альберту Смиту (последняя страница)
Граф Робер де Монтескью: денди декаданса
Введение
В 1999–2000 годах в музее д’Орсе проходила необычная выставка: на ней демонстрировались портреты и фотографии одного человека, мало известного широкой публике. Выставка называлась «Робер де Монтескью и искусство блистать»[829]. Зрители с изумлением убедились, что имеют дело с новым культурным героем, который не только послужил моделью для портретов Уистлера, Болдини и Дусе, скульптуры Паоло Трубецкого, многочисленных фотографий Надара, но и явно пользовался особой популярностью среди современников.
Граф Робер де Монтескью-Фезенсак (1855–1921) принадлежал к древнему французскому аристократическому роду, генеалогия его семьи восходит к Меровингам и герцогам Аквитанским. Среди его предков были знаменитый полководец Блез Де Монлюк и небезызвестный Д’Артаньян, прототип героя Дюма. Современники называли Монтескью «профессором красоты», «повелителем утонченных запахов». Сочинитель, эстет и денди, он вращался в самых изысканных кругах и был известен как арбитр элегантности и покровитель искусств[830].
Монтескью обладал удивительной способностью притягивать к себе лучшие таланты эпохи. Он всегда умудрялся быть в нужном месте в нужное время, неизбежно оказываясь в центре паутины бесценных знакомств. Маргерит Юрсенар однажды назвала эти невидимые, но бесконечно значимые отношения словом «reseaux» – сети, связывающие близких по духу людей. С каждым новым знакомым Монтескью почти сразу удавалось заводить особые отношения – с одним фамильярно-доверительные, с другим – витиевато-формальные, однако для каждого он находил единственно верный тон[831]. Граф был душой любой компании. У него были преданные поклонники и обожательницы в великосветских кругах, но по-настоящему граф оживлялся среди людей искусства. Он мгновенно отличал людей одаренных и старался помочь им: сделал первые заказы на стеклянные вазы Эмилю Галле, подкидывал деньги нуждающемуся Верлену, просвещал по части костюмов молодую Сару Бернар, устроил постановку спектакля для Иды Рубинштейн и всячески пропагандировал Русские балеты в Париже…
Многие писатели использовали знакомство с графом Робером де Монтескью для создания своих героев – он послужил прототипом герцога дез Эссента в романе Гюисманса «Наоборот» (1884), месье Фока в одноименном романе Ж. Лоррена (1901) и, наконец, барона де Шарлю в романе Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (1913–1927).
Дендизм
«Холодный темперамент и страсть к совершенству сделали Робера де Монтескью одним из самых выдающихся французских денди», – отмечал его биограф Филипп Джуллиан[832].
Дендистский стиль Робера де Монтескью отличался особой декадентской элегантностью. Обладая идеальным чувством цвета, граф умел создать изысканную гамму на игре оттенков. Его любимым цветом был серый, и он без конца демонстрировал бесконечные градации серого в своем костюме: «серый фрак стального оттенка гармонично сочетался с мышино-серыми панталонами, вызывающие розовато-лиловые перчатки перекликались с жемчужно-серым жилетом, вышитым хризантемами, а сизо-серый галстук был украшен редким драгоценным камнем»[833]. Отказавшись от банальных черно-белых контрастов, он предпочел более сложную и оригинальную задачу – достичь впечатления целого через искусные сочетания полутонов.
Любовь Монтескью к серому цвету была столь велика, что он даже устроил в одном из своих загородных жилищ специальную «серую комнату», где интерьер был целиком выдержан в этой гамме. В вазах стояли редчайшие серые цветы, которые заказывались в парижском магазине.
Граф любил часто переодеваться и всегда старался, чтобы его костюм соответствовал обстоятельствам. В парижских газетах писали: «Месье де Монтескью посетил месье Эредиа. На нем был галстук самой смелой расцветки, фехтовальные перчатки и сомбреро. “Давайте поедем к де Ниттису”[834], – предложил поэт. “Я не могу нанести визит ценителю нюансов в столь ярком наряде. Мне надо переодеться в сизо-серые тона», – последовал ответ. Эредиа пришлось ждать в карете около 10 минут; затем месье де Монтескью появился в костюме опалового оттенка – по последней моде из Liberty[835]: “Теперь у меня подходящие цветовые нюансы для визита”».
Для каждого случая Монтескью специально продумывал костюм – не случайно современники так запоминали встречи с ним. Он умел по-дендистски впечатлять за считанные секунды. Эдмон де Гонкур после визита графа записал в дневнике: «Это молодой Монтескью-Фезенсак; для визита ко мне он надел штаны, сшитые из пледа какого-то шотландского клана, и даже заранее настроился ad hoc: литературный чудак, немного не в своем уме, и при этом обладающий утонченностью вымирающих аристократических родов»[836].
В своих вкусах граф Робер, однако, не был стеснен рамками эпохи. Он любил экспериментировать с имиджем и нередко изумлял поклонников, фотографируясь в исторических костюмах.
Самый ранний из таких снимков сделал знаменитый фотограф Надар – молодой Робер де Монтескью и Сара Бернар в костюмах эпохи Возрождения (для исполнения ролей в пьесе «Прохожий» Франсуа Коппе). Сара Бернар одета в наряд пажа, у обоих картинно распущены пышные волосы – Надар искусно подчеркнул андрогинность облика своих персонажей.
На другой карточке он запечатлен в образе Людовика XIV, причем тщательно подобраны не только костюм (камзол, рубашкаскружевнымжабо, короткие панталоны с бантами), но и обувь, мебель – кресло и изящный столик. Кресло, несомненно, принадлежало графу – оно не раз упоминается в мемуарах и даже фигурирует у Пруста в ключевом эпизоде, когда Марсель приходит в гости к де Шарлю: «– Садитесь в кресло Людовика Четырнадцатого, – проговорил он наконец властным тоном, в котором слышалось скорее приказание отойти от кресла, чем расположиться в нем. Я сел в кресло, которое стояло ближе ко мне. – По-вашему, это кресло Людовика Четырнадцатого?
– Сразу видно, что Вы юноша образованный! – с насмешкой в голосе воскликнул он…»[837] В ходе разговора выясняется, что Марсель перепутал кресло Людовика XIV со стулом эпохи Директории, и де Шарлю пользуется этой ошибкой, чтобы начать гневно-издевательскую филиппику, обвиняя гостя в невежестве.
Монтескью в образе Людовика XIV
Образ Людовика XIV достаточно органичен для графа Робера, поскольку тот все время разыгрывал из себя короля светского общества, а среди его знаменитых предков был и маршал Монтескью, живший как раз в эту эпоху. Искусство периода Людовика XIV Монтескью считал образцовым и коллекционировал не только мебель, но и безделушки.
Не менее интересны и другие роли графа, в которых он демонстрировал свои эстетические предпочтения, – в частности, серия восточных образов. На одном снимке граф и его секретарь Габриэль Ютурри позируют в образе восточных султанов: фото было сделано перед походом на костюмированный бал, который устраивала известная светская львица Мадлен Лемэр.
Наконец, нельзя не сказать о еще одном поразительном снимке – граф в облегающей кожаной куртке с поясом и накладными карманами, в мешковатых штанах. Вид у него здесь настолько современный, что, если не знать дат жизни Монтескью, его по костюму вполне можно было бы принять за человека второй половины XX века – например, 1970-х годов. (Правда, в таком случае несколько избыточными деталями показались бы цветы на заднем плане, статуэтка слона и настоящий живой кот на слоновьей спине, которого нежно придерживает граф – явно не желая расставаться с любимцем.) На самом деле граф сфотографировался в кожаной куртке шофера – автомобили в начале века вошли в моду, и шоферские куртки стали атрибутом спортивного шика. Монтескью чутко уловил эту тенденцию и не смог отказать себе в удовольствии примерить облик бравого водителя. Чуть позднее именно эту стилистику спортивного шика продолжил принц Уэльский, будущий Эдуард VIII, фотографируясь в образе летчика в кожаной куртке и в шлеме.
Подобные эксперименты со своим обликом – не просто причуда. Частично за ними стоит историческая традиция костюмированных балов, которые устраивались в салонах, иногда для очень узкого круга лиц. Но в этих переодеваниях и тщательно спланированных «постановочных» кадрах можно усмотреть и другую важную черту дендизма – хамелеонство[838], страсть к метаморфозам. Исторические костюмы разных эпох, так же как и вкус к ультрасовременным новинкам, обнаруживают внутреннюю свободу щеголя, его способность видеть себя во времени. Это сублимация авантюризма, одежный метемпсихоз. Чаще всего Монтескью прибегал к услугам парижского фотографа Отто, который искусно запечатлевал новые костюмы графа. Но в этих разнообразных и многочисленных снимках сказывается и нарциссическое желание денди любоваться своими отражениями, сохранить свой образ для будущего[839]. Этой же цели служили известные портреты Монтескью кисти Болдини и Уистлера, которые с успехом выставлялись на парижских Салонах, а также портрет работы Дусе, который сам граф называл «серая гончая в шубе». Виртуозное жизнетворчество Монтескью и впрямь можно расценивать как особый вид изящных искусств – «искусство блистать».
Робер де Монтескью. 1900-е годы
Япония
Ранний Монтескью отдал дань увлечению Востоком, особенно Японией, что вообще было очень характерно для Art Nouveau.Впервые его приобщила к японской культуре Жюдит Готье, дочь писателя Теофиля Готье. С ее легкой руки Монтескью стал изучать японское искусство, коллекционировать какемоно[840], японские лаковые шкатулки, керамику и фарфор. Вот типичная фотография этого периода – он стоит в саду среди цветов, рассматривая то ли орхидею, то ли бабочку; на заднем плане – гигантский зонт и бумажный фонарь символизирующие Японию. Граф даже заказал целую серию снимков в синих тонах на японские темы, что составило три тома под названием «Ego Imago».
Это увлечение японской культурой разделяли многие французские писатели и художники конца века – братья Гонкур, Пьер Лоти, Ренуар[841].
В дневнике братьев Гонкур на нескольких страницах описана обстановка знаменитого литературного «чердака», где собирались друзья и гости. Этот «мирок редчайших прелестных вещиц» был насыщен японскими предметами – на фоне красной стены висел широкий лиловый пояс XVII века, на котором среди белых глициний летят ласточки; на самшитовой этажерке выложены «чернильница из красного мрамора, называемого там “петушиным гребнем”, бронзовый листок водяной лилии, по которому ползет краб…»[842].
В то время многие шедевры японской литературы еще не были известны европейскому читателю – Монтескью не знал ни «Повести о Гэндзи» Мурасаки Сикибу, ни «Записок у изголовья» Сэй-Сенагон. Однако мода на средневековую Японию процветала благодаря декоративному искусству, известному по трехтомному изданию «Le Japon Artistique» Бинга, а в антикварном магазине того же Бинга всегда можно было купить редкие веера, статуэтки нэцкэ и чашечки из фарфора «яичная скорлупа». Японская тема нашла отражение в романе Пьера Лоти «Госпожа Хризантема» (1877), в некоторых картинах Ренуара (портрет мадам Шарпантье).
Японское влияние на Монтескью чувствуется прежде всего в его интерьерах. Свои апартаменты на улице Франклин он обставил в японском стиле, а во дворе устроил настоящий сад камней с карликовыми соснами. За садом ухаживал специально нанятый японский садовник Хата. Чаепития в саду превращались в изысканный ритуал – граф сам подавал чай гостям, рассуждая о марках японского фарфора и гравюрах Хокусая. Воздействие японской культуры сказалось и на его поэзии: в стихотворном сборнике «Летучие мыши» доминируют короткие пейзажные зарисовки в духе хайку. Реми Гурмон в «Книге масок» писал о Монтескью: «Он мыслит на японский манер – идеограммами».
Фотопортрет Монтескью в японском стиле
Монтескью сумел «заразить» Японией многих людей, с которыми он общался. Под его влиянием Эмиль Галле стал делать вазы с японскими мотивами, а Уистлер обзавелся солидной коллекцией дальневосточных вещей.
«Японский» период для графа завершился к концу 1890-х годов. К этому моменту увлечение Японией приобрело массовый характер, банкиры и кокотки накупили бамбуковой мебели и статуэток Будды. Робер де Монтескью, как истинный денди, всегда предпочитал опережать моду.
Структуры интерьера
«Интерьер – это состояние души», – любил говорить граф де Монтескью. Каждое свое жилище граф обустраивал как особое эстетическое пространство, подчиненное авторской концепции. Например, у него была комната, посвященная луне, где господствовал дух ночи. Интерьер в ней был выдержан в лазурных и серебряных тонах. Вот как описывал это помещение сам Монтескью в своих мемуарах: «Одна стена в комнате была темно-синего цвета, в затененной нише стояло кресло, обитое материей того же оттенка; противоположная стена была затянута серой тканью с рисунками камей, а стена у камина – серебристой кожей, с узором из голубых веточек; наконец, четвертая стена была покрыта бархатом очаровательного серого оттенка, который обычно называют “Стивенс”, а по-моему, его было бы точнее назвать “мышино-серым”»[843]. На полу лежал темно-серый ковер, на котором играли тени от полупрозрачной газовой материи, подвешенной напротив, что создавало иллюзию струящегося лунного света. Стены были украшены какемоно и вышивкой, в стеклянной вазе стоял пурпурный ирис.
Анализируя символику интерьера, французский культуролог Жан Бодрийяр показал, что отказ от ярких цветов составляет особый шик: «Краска… чаще всего предстает в смягченной форме “оттенков” и “нюансов”. Серый, лиловый, гранатовый, бежевый – все эти оттенки приличествуют бархату, сукну и атласу, интерьеру с изобилием тканей, занавесей, ковров, драпировок, тяжелых субстанций и “стильных” форм; мораль такого интерьера предписывает отказываться и от краски, и от пространства. Но прежде всего – от краски: она слишком зрелищна и грозит нарушить закрытость внутреннего пространства… черное, белое и серое составляют не только нулевую степень красочности, но также и парадигму социального достоинства, вытесненности желаний и морального “стэндинга”»[844]. Как видим, и в дизайне интерьера, и в одежде у Монтескью проявлялся один и тот же аристократический вкус.
Декорируя комнату, Монтескью нередко прибегал к языку аллегории: в библиотеке на фоне золотисто-зеленой кожи были изображены павлиньи перья, что должно было обозначать сто глаз знания[845]. В гостиной, стилизованной под сад, он разложил ковры травяных оттенков и на них поставил бронзовые статуэтки животных (отсюда уже рукой подать до заводных рыбок в аквариуме дез Эссента – впрочем, интерьеры этого героя Гюисманса и возникли как прямое подражание стилю Монтескью).
Почетное место в комнате графа занимали особые стеклянные витрины с галстуками в пастельных тонах и жилетами, которые служили и в качестве шкафчиков, и для декоративных целей, напоминая о дендизме графа. Сам владелец не без эстетства замечал, что такая витрина издалека напоминает глыбу мрамора с тонкими прожилками.
Некоторые из его дизайнерских находок далеко опережают свое время – так, он очень изобретательно использовал освещение, играя с объемами комнаты. Желая создать эффект радужных бликов, граф, вместо того чтобы банально использовать витражные стекла, поставил на подоконнике коллекцию разноцветных флаконов из-под духов и бокалов, преломляющих свет. Это, по его мысли, приятно возбуждало не только зрение, но также вкус и обоняние.
В другой раз он умудрился создать иллюзию движения в интерьере благодаря орнаменту из жимолости: вьющиеся линии карабкались с одной стены на другую, пульсируя в едином сквозном ритме. Танец изогнутых линий – характерная черта искусства Art Nouveau, и интерьеры Монтескью можно без всяких натяжек считать классикой этого стиля. Основной принцип такого интерьера – ставка на артистическую искусственность[846].
Одну из комнат в своем жилище граф посвятил мистике: одно время он серьезно увлекался спиритизмом и свято верил в возможность общения с умершими. В оформлении были задействованы предметы из церковной утвари, дубовая скамья для хора и даже колокол. Именно эта комната почти буквально описана в «Наоборот» Гюисманса, превратившись в кабинет дез Эссента. Потолок там затянут небесно-голубой тканью, предназначенной для церковных одеяний, подставкой для книг служит аналой – старинный кованый пюпитр, шторы сшиты из кусков епитрахили: «ее тусклое, словно закопченное, золото угасало на мертвой ржавчине шелка. Наконец, на камине, с занавеской также из стихаря роскошной флорентийской парчи, между двух византийского стиля позолоченных медных потиров из бьеврского Аббатствав-Лесах, находилась великолепная трехчастная церковная риза, преискусно сработанная»[847]. Аналогичным образом предметы церковного антуража фигурируют в спальне дез Эссента, стилизованной под монастырскую келью, где в качестве ночного столика используется старая скамеечка для молитвы и горят церковные восковые свечи. Разумеется, вся эта атрибутика выступает не столько как объект религиозных размышлений, сколько как декоративный прием, повод для эстетского созерцания. Сходный умственный настрой, по всей видимости, присутствовал в католицизме Барбе д’Оревильи.
Интерьер «Павильона муз»
Приемы
Все интерьеры Монтескью, несомненно, являлись прямой проекцией его эстетических взглядов и эрудиции. Однако концептуально обставленные помещения позволяли не только экспонировать коллекции и наборы галстуков, но и принимать гостей. В «Павильон муз» к Роберу часто заходили его приятели – Эдмон де Полиньяк и Шарль Хаас, Поль Бурже, дамы – графиня Греффюль, Сара Бернар, Жюдит Готье. Интерьер служил великолепной приманкой для знаменитостей и одновременно экспресс-тестом: по реакции гостя на обстановку, и в особенности на редкие произведения искусства, хозяин сразу мог оценить его уровень художественного вкуса.
Жилище делилось на несколько зон, различающихся по мере публичности. «Избранным» демонстрировали приватные помещения, остальным – более или менее доступные зоны, в зависимости от выказанной тонкости восприятия.
В резиденции графа в Нейи таким «испытательным» экспонатом для публики долгое время служила… ванна. У этой ванны была своя история. Секретарь графа Ютурри во время прогулок по Версалю отыскал ванну, подаренную, согласно легенде, Людовиком XIV мадам де Монтеспан. Эта огромная купель с фонтаном – фактически небольшой бассейн – была сделана из розового мрамора и весила более 10 тонн. Граф купил диковинку, и ее перевезли в Нейи, где в обязательном порядке демонстрировали посетителям. Гости сравнивали ванну с камеей, вспоминали «черные мессы» мадам де Монтеспан, а Анна де Ноай даже сложила по этому поводу сонет.
Фактически каждое жилище графа функционировало как светский салон – будь то «чердак»[848] родительского особняка в Париже, павильон в Версале или дом в Нейи. Монтескью любил устраивать роскошные приемы. Приглашения рассылались на веленевой бумаге, граф лично вникал во все детали – меню, убранство комнат и сада, развлекательную программу, фейерверк. На его вечера собирался цвет высшего общества, но круг приглашенных отнюдь не ограничивался аристократами: хозяин никогда не забывал своих друзей из литературного и художественного мира – Гюстава Моро, Поля Валери, Огюста Родена, Альфонса Доде, Марселя Пруста. Исполнялась музыка кумира Монтескью – Рихарда Вагнера[849], Малларме читал свои стихи. В «версальский» период Монтескью любил устраивать костюмированные балы, на которых дамы одевались как «пастушки» Марии-Антуанетты, а сам хозяин щеголял в костюме то Людовика XIV, то Людвига Баварского, то Платона. Когда прием завершался и основная масса гостей расходилась, граф оставлял для обеда в узком кругу своих фаворитов и обсуждал светские итоги вечера. Монтескью по праву гордился своим умением развлекать гостей – каждый его прием надолго запоминался.
В этом амплуа устроителя приемов он является наследником щеголя Нэша, знаменитого мастера церемоний из Бата, о котором мы рассказывали в начале книги. Но важно отметить, что оба денди – и Нэш, и Монтескью, – устраивая развлечения, устанавливали свои правила игры для участников, диктовали достаточно жесткий этикет и вкусовые предпочтения. Роль «арбитра элегантности» в данном случае распространяется и на светскую жизнь, создавая новое пространство общения и изящного стиля.
Последний прием уже пожилой Монтескью решил посвятить памяти Поля Верлена. Были сделаны все приготовления, но вместо ожидавшихся трехсот гостей приехали только тридцать. Как выяснилось, накануне в газете «Фигаро» некий недоброжелатель дал объявление об отмене приема.
Монтескью и Гюисманс
Писателя и денди познакомил Малларме. Они успели лишь обменяться парой учтивых фраз в шумном собрании литераторов на гонкуровском чердаке. Но хотя их встреча была недолгой, она произвела неизгладимое впечатление на начинающего автора. Гюисманс был мгновенно очарован личностью Монтескью, и Малларме пришлось отвечать на сотни вопросов о таинственном графе, после чего к сбору материалов были также подключены многочисленные светские друзья. Когда в 1884 году вышел роман «Наоборот», вся публика сразу признала, что в образе герцога Жана Флорессаса дез Эссента выведен граф Робер де Монтескью-Фезенсак. Об этом свидетельствовала не только «говорящая» фамилия героя[850], но и многочисленные совпадения биографических фактов, взглядов, вкусов. Создавая своего персонажа, Гюисманс усилил и довел до предела эстетизм Монтескью, детально описав и коллекцию художественных полотен, и обстановку его жилища, и парфюмерные эксперименты, и книжные пристрастия: Жозеф де Местр, Барбе д’Оревильи, Эдгар По, Бодлер, Вилье де Лиль-Адан, Гаспар из тьмы – выбор имен был, безусловно, не случаен[851]. Когда после смерти Монтескью на аукционе распродавали его библиотеку, в каталоге числились все упомянутые Гюисмансом книги. Павильон дез Эссента практически полностью «списан» с резиденции графа на набережной д’Орсе.
Были, конечно, и несоответствия – дез Эссент в романе представлен как мизантроп-одиночка, а граф, напротив, любил приемы и светские вечеринки, всегда умело развлекая гостей своими шутками и историями.
Самый, наверное, знаменитый эпизод романа – инкрустация панциря черепахи драгоценными камнями. На самом деле автором этой затеи была Жюдит Готье, но, по всей видимости, Монтескью реально осуществил ее. По крайней мере, в дневнике братьев Гонкур вся история связывается именно с ним: «При взгляде на неподвижные узоры ковра его охватывала печаль. Ему хотелось видеть на ковре переливающиеся краски, движущиеся отблески. Он пошел в Пале-Рояль и купил за большие деньги черепаху. И был счастлив, когда это живое пятно двигалось, поблескивая, по его ковру. Но через несколько дней сияние рогового панциря начало казаться ему тусклым. Тогда он отнес черепаху к позолотчику, и тот покрыл ее позолотой. Движущаяся позолоченная игрушка сильно его занимала, пока вдруг ему не пришла в голову мысль отдать черепаху ювелиру, чтобы тот вставил ее в оправу. Панцирь инкрустировали топазами. Он был в восторге от своей выдумки – но от инкрустации черепаха умерла»[852].
В «Наоборот» история с черепахой занимает 4-ю главу, причем Гюисманс уделяет особое внимание выбору камней, отвергая «восточную бирюзу, банальный жемчуг и кошмарные кораллы», поскольку в них любит красоваться простонародье. В итоге дез Эссент делает эстетский выбор: «Цветки и лепестки в центре букета дез Эссент решил сделать из прозрачных минералов с блеском стеклянистым, болезненным, с дрожью резкой, горячечной. Это были цейлонский кошачий глаз, цимофан и сапфирин. От них и вправду исходило какое-то таинственное, порочное свечение, словно через силу вырывавшееся из ледяных и безжалостных глубин драгоценных камней. Кошачий глаз, зеленовато-серый, с концентрическими кругами, которые то расширялись, то сужались в зависимости от освещения. Цимофан, с лазурной волной, которая где-то вдали переходит в молочную белизну. Сапфирин, фосфорной голубизны огоньки в шоколадно-коричневой гуще»[853].
Чувственные описания-каталоги – структурная черта поэтики Гюисманса, которая была усвоена его продолжателями, и в частности Оскаром Уайльдом. В «Портрете Дориана Грея» сходным образом описываются драгоценные камни, и даже есть прямые отсылки к «Наоборот» Гюисманса. Речь идет о «желтой книге», присланной в подарок Дориану лордом Генри. «Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга»[854].
Влияние «отравляющей» книги на жизнь прототипа было, напротив, достаточно мимолетным и в чем-то даже полезным. Монтескью не рассердился, а скорее иронически отнесся к своему романному двойнику. Дезэссентовский ореол лишь укрепил его репутацию эстета в художественных кругах.
Монтескью и Пруст
Марсель Пруст был представлен Монтескью в 1893 году. В то время Марсель только начинал печататься в журналах, а граф был в зените своей светской славы. Разница в возрасте между ними составляла 15 лет, и Пруст навсегда остался для графа «молодым человеком». Прусту удалось быстро завоевать благосклонность Монтескью, и вскоре он удостоился символического подарка: граф прислал ему свой фотопортрет с надписью «Je suis le souverain des choses transitoires» – «Я повелитель преходящего» (это была стихотворная строчка из его собственного сборника «Летучие мыши»).
В начале знакомства Марсель играл роль преданного поклонника, а граф – знатока великосветских нравов, эстета, снисходительно позволяющего обожать себя. Пруст старательно и вдумчиво подражал манерам Монтескью, анализируя между делом его технику общения. Их отношения строились по модели «учитель – ученик», не говоря уж о том, что Монтескью благодаря своим связям легко ввел Пруста в самые недоступные салоны (в частности, познакомил его со своей кузиной, графиней Греффюль, с которой Пруст позднее «списал» свою герцогиню Германтскую).
Главным предметом разговоров была веселая наука светской жизни, истории из жизни аристократов, да вдобавок граф лелеял иллюзию, что обучает юношу хорошему вкусу. Правда, их эстетические взгляды были весьма различны: граф обожал Уистлера, Редона и Моро, а Пруст – Рескина и импрессионистов. Они обменивались витиеватыми посланиями и подарками. Пруст писал графу:
«Дорогой господин де Монтескью, в Вас есть нечто магическое. Лишь в “Тысяче и одной ночи”… можно найти подобное очарование. А потомки будут восхищаться не только поэзией, сконденсированной в Ваших произведениях, но и той, что пронизывает вашу жизнь. Если восхищение может служить одним из видов благодарности… то повторяю, до какой степени меня заворожило, сколько феерической выдумки, прихотливой путаницы и глубокой мудрости вмешиваете Вы в свою собственную жизнь, опоэтизированную во всех своих сочленениях и разрывах… Но какой урок! И какой подарок! Поистине драгоценный дар!»[855]
Граф, со своей стороны, хранил письма Пруста и оценивал их как взыскательный учитель с точки зрения стиля. На полях одного прустовского послания он написал: «Исходя из шкалы в 20 баллов, это домашнее упражнение в эпистолярном жанре заслуживает отметки "–15"».
В письмах самого Монтескью к Прусту налицо фантастическая претенциозность и диктаторская требовательность. Граф считал болезнь Пруста воображаемой и сурово отчитывал его, если тот из-за недомогания не являлся по первому зову. Но Пруст поначалу во всем старался ему угодить. Он устраивал у себя дома поэтические чтения и в качестве почетного гостя непременно звал графа. Граф лично просматривал списки приглашенных и, если кто-то ему не нравился, вычеркивал. Однажды Пруст представил Монтескью молодого пианиста Леона Делафосса, который быстро стал графским фаворитом и долгое время пользовался его покровительством в интересах своей карьеры. Затем период благорасположения завершился, а вместе с ним и известность Делафосса как салонного музыканта. В эпопее Пруста Делафосс выведен в образе пианиста Мореля.
Тайный нерв отношений Монтескью и Пруста составляла литературная слава. Ко времени их знакомства граф уже был автором нескольких книг, а Пруст – начинающим литератором. Как верный поклонник, Марсель старательно писал суперхвалебные рецензии на каждую новую работу своего кумира, а в разделе светских хроник несколько раз обозревал званые вечера у графа. Одна из рецензий называлась «Профессор красоты» – это прозвище «прилипло» к графу. Другая, так полностью в свое время и не опубликованная, имела элегантно-ученый заголовок «О простоте месье Монтескью». Робер относился к литературным талантам Пруста так же, как к его письмам, – свысока, считая, что у Марселя «нет голоса», но изредка из вежливости говорил нечто ободрительное, на что Пруст реагировал с бурной риторической благодарностью: «То, что Вы изволили из чувства… скорее доброжелательности, нежели справедливости, назвать моим талантом, напротив, есть лишь умение должным образом стушеваться перед Вашими творениями, с уважением истолковать то, что Вы не имели времени объяснить, соблюдая при том должную уравновешенность суждений»[856].
Со временем литературная репутация графа, однако, стала клониться к закату. Сборник «Летучие мыши» не был особенно замечен критикой, представляя из себя типичную декадентскую поэзию второго ряда:
Луна-цветок, как балерина, Шалит, со звездами играя, Танцуют тени, переливаясь, И умирающая ночь насыщает тона тьмой. Луна-лгунья льстит усталому лицу: О луна! Твои игры скрывают следы времени[857].Если поначалу стихи графа и имели успех (в основном среди салонных дам), то позднее его книги уже не раскупались, и посетителям его званых вечеров в конце настоятельно предлагалось «в нагрузку» приобрести дорогостоящие стихотворные тома[858].
Когда в 1919 году Пруст получил Гонкуровскую премию за роман «Под сенью девушек в цвету», Монтескью вдруг осознал, что их роли переменились. Его раздосадовало даже не столько внезапное литературное признание Пруста, сколько сопровождающий его светский успех – на писателя вдруг посыпались приглашения на званые вечера и посольские приемы. На фоне всеобщего забвения литературных трудов самого графа это было особенно обидно.
Но самая главная коллизия состояла в том, что Пруст виртуозно использовал весь свой опыт общения с Монтескью для создания одного из самых запоминающихся персонажей своей эпопеи – барона де Шарлю. Он «наградил» этого героя и внешним сходством с Монтескью, и его дендистскими привычками, и даже дал ключи для близкого круга знакомых, назвав де Шарлю Паламедом – вторым именем Монтескью. Пруст подробно описал особенный – то гулкий, то визгливый – голос Монтескью, не забыл упомянуть коллекции костюмов и мебели. Этот персонаж выведен прежде всего как денди-эстет: «это он нарисовал желтые и черные ирисы на огромном веере, который в эту минуту раскрывала герцогиня. Она могла бы показать мне также сонатину, которую он сочинил для нее»[859]. В романе де Шарлю фигурирует как непревзойденный знаток высшего общества, который умело использует все приемы светской власти – ведет разговор, прикрывшись «дамойширмой», окидывает гостей «сосредоточенно пристальным, холодно-пронзительным взглядом», подвергает одних испытанию «слишком большой любезностью», отпускает колкости в адрес других.
Пруст смотрит на своего героя аналитически – и в то же время снисходительно, не скрывая, что использует его как антрополог – информанта. Казалось бы, автор отдавал ему должное: «И все-таки он был гораздо выше светских людей, и они сами, и то зрелище, которое они представляли, давали ему множество тем для разговора, а эти люди его не понимали. Он говорил как художник слова, но этого дара хватало лишь на то, чтобы дать почувствовать призрачное очарование светских людей»[860]. Но тут же уничижительно пояснял: «Дать почувствовать только художникам, которым он мог бы приносить пользу, какую северный олень приносит эскимосам: это драгоценное животное вырывает для них на безлюдных скалах лишаи и мох, которые сами эскимосы не могли бы обнаружить и использовать»[861]. Таким образом, превосходство де Шарлю над обычными завсегдатаями светских приемов – лишь ступенька в иерархии, высшее место в которой принадлежит романисту. И это еще достаточно мягкая формулировка авторского превосходства над героем[862].
Отдельные пассажи в тексте исполнены явной недоброжелательности – тут уже чувствуется, что Пруст попросту сводит счеты со своим бывшим покровителем и другом:
«Я посмотрел на де Шарлю. Конечно, такой великолепной головы, которую не портило даже отталкивающее выражение лица, не было ни у кого из его родных; он был похож на постаревшего Аполлона[863]; но казалось, что из его злого рта вот-вот хлынет оливкового цвета желчь…»[864]
Читая Пруста, Монтескью, вероятно, испытывал достаточно сложные чувства, узнавая свои возвышенные речи, обращенные к юному Марселю, в таких тирадах де Шарлю: «Для лучших из нас увлечение искусствами, любовь к старью, к коллекционированию, к садоводству – это эрзац, суррогат, алиби. В глубине нашей бочки мы, как Диоген, мечтаем о человеке. Мы разводим бегонии, подстригаем тисы за неимением лучшего, потому что тисы и бегонии послушны. Но мы предпочли бы тратить время на выращивание человека, если бы только мы были уверены, что он того стоит. Вот в чем дело. Вы должны хотя бы немного знать себя. Стоите Вы того или нет?»[865] Этот пафос был действительно присущ Монтескью – он и впрямь всю жизнь искал ученика, которому мог бы передать свои знания. Его секретарь Габриэль Ютурри умер в 1905 году от диабета, и граф пребывал в непрерывном поиске духовных наследников, часто рассуждая об этом, – здесь Пруст совершенно точен.
Какова же была реакция Монтескью на собственный портрет в романе? Пруст внушал Монтескью, что подлинным прототипом для де Шарлю являлся вовсе не он, а барон Доазан. Граф пытался поверить этой спасительной для его самолюбия версии, тщательно отыскивая черты расхождения между собой и образом де Шарлю. Такие несовпадения можно было сосчитать по пальцам – к примеру, герой Пруста благочестив, а граф был завзятым эзотериком; де Шарлю изображается как активный гомосексуалист, а граф в этом плане всегда держался очень скрытно, боясь огласки. Некоторые общие знакомые тоже не признавали сходства между де Шарлю и Монтескью из-за известной сцены в «Содоме и Гоморре» между Жюпьеном и де Шарлю – все говорили, что реальный Монтескью никогда не вел себя в столь откровенной манере[866]. В итоге граф и верил и не верил, не желая ссориться с Прустом, но не мог не понимать, что в глазах света он навсегда останется де Шарлю.
Сем (Жорж Гурса). Робер де Монтескью и Габриэль Ютурри
«Я болен от трех томов, обрушившихся на меня», – признавался он. Граф продолжал переписываться с Прустом, но их дружба постепенно сошла на нет. С возрастом отношения с писателем превратились для него в навязчивую идею – он запрашивал медиума на спиритических сеансах о Прусте, следил по газетам за его светскими успехами. По мере охлаждения отношений он все больше проникался сознанием, что его бывший поклонник попросту использовал его. Это было не вполне справедливо – ведь благодаря таланту Пруста Монтескью обрел-таки историко-литературное бессмертие. Возможно, он вспоминал свой первый подарок молодому Прусту – фотопортрет с надписью «Je suis le souverain des choses transitoires». Подлинным «повелителем преходящего» оказался романист, а не денди.
XII. Дендизм в Англии: «Кэнт» и «Кэмп»
Сатирические образы денди 1810-х годов
После отъезда Браммелла из Англии в 1816 году суровый минималистский стиль, который он проповедовал, постепенно смягчился, и в мужской моде появились более декоративные варианты. В отсутствие лидера моды в костюме усилилась орнаментальная тенденция: франты стали носить пышные шейные платки, уголки воротника начали торчать вверх, достигая ушей, а талию туго затягивали в корсеты. Этот стиль получил название «денди-бабочка» (butterflydandy). Общественное мнение не замедлило среагировать на эту гипертрофированную моду, и вскоре в газетах замелькали карикатуры.
Дендистский герб
Художник Джордж Крукшенк, известный своими иллюстрациями к Диккенсу, создал серию карикатур на денди, где они представлены в виде гротескных насекомых. В 1819 году Крукшенк нарисовал весьма примечательный «дендистский герб». Пояснительная надпись к гравюре гласит: «Лазоревое поле. В двух бабочках странным образом смешались черты женского и мужского пола. По центру справа – три пары корсетов (серебряного цвета), слева – баночки с румянами и бутылочка с духами. В верхнем правом углу – отстегивающаяся манишка с оборками, в левом – пышный съемный воротник. В нижней части – пара мужских кальсон, свисающих вниз и опирающихся на булавки. Сбоку денди поддерживает пара обезьян. В самом низу – орден щегольства, или собачка, подвешенная на французском поясе (игра слов – puppy – самодовольный щеголь и одновременно щенок. – О.В.). Украшение в верхней части герба – пара корсетов с подложенными толщинками, а над ними – завязанный шейный платок и стоячий воротничок. Шляпный болванчик серебряного цвета с ослиными ушами в виде крыльев. Фон – соболиный и бобровый мех»[867].
Д. Крукшенк Пара щеголей. 1819 г.
Д. Крукшенк. Дендистский герб.1819 г.
Надпись большими буквами снизу «Dandi, dando, dandum» – девиз, представляющий из себя парадигму склонения латинизированной формы существительного «dandy» в трех падежах. То есть дендистский девиз – «О себе любимом во всех формах», заповедь нарциссизма.
Выразительная гравюра Джорджа Крукшенка эмблематическим языком демонстрирует «сущность» денди. Центральная часть герба – денди-бабочка в разрезе. Бабочка, символ легкомысленного порхания, снабжена парой крыльев с роскошными оборками. Корпус бабочки «в развертке» – хранилище дендистских «секретов». Главный секрет: внутри денди живет женщина (маленькая фигурка в самом центре), которая пользуется дамскими ухищрениями для красоты – румянами, духами, корсетами, булавками. Эти средства – обманные, они создают эффект за счет внешних, «искусственных» приспособлений, как съемный воротничок или корсет с толщинками. Ниже пояса денди – мужчина, о чем недвусмысленно свидетельствует пара мужских кальсон и сапоги со шпорами (правда, расположенные таким образом, как будто денди в данный момент получает пинок). Поскольку неоклассическая мода подчеркивала мужскую стать за счет облегающих панталон, понятно, почему именно в этой зоне сосредоточены фаллические острые предметы – манекенный столбик-подставка, булавки и шпоры.
Вся фигура денди являет собой сложный манекен, идеальную вешалку для одежды и аксессуаров. На плечиках висит цепочка, на ней часы, а вершину этого сооружения венчает шляпный болванчик с цилиндром на макушке. Этот болванчик – тоже своего рода бабочка с перетянутой талией, только вместо крыльев у нее ослиные уши – традиционный шутовской атрибут. Шейный платок и уголки воротника, задранные чуть ли не до уровня глаз, – пародия на главную деталь стиля «денди-бабочка». Гипертрофированный бюст опять-таки указывает на гендерные смешения, напоминая об искусственных восковых бюстах романтических красавиц эпохи «нагой моды».
Денди поддерживают под руки два пародийных геральдических зверя – пара обезьян. Напомним, что со времен Средневековья «обезьяны (simia) символизируют людей или понятия, предметы, которые принимают вид чего-либо, чем они не являются»[868]. Обезьяна, таким образом, обозначает искусственное подражание, что совпадает с семантикой косметических и туалетных принадлежностей в центральном поле герба. Обезьяны одеты как денди и подражают ему, сам же денди, по замыслу Крукшенка, очевидно, являет собой гротескную пародию на человека, соединяя в своем теле элементы манекена, бабочки-андрогина и осла. Ослиные уши в верхней зоне герба как шутовской атрибут перекликаются с колпаками с бубенчиками обезьяньих прислужников.
В руках обезьяны держат длинные флаконы, на которых написано «Eau de cologne». Как мы помним, в то время «кельнская вода», прародитель современного одеколона, в состав которой входили розмарин и цитрусовая эссенция на виноградном спирту, была чрезвычайно популярна в Европе как среди женщин, так и мужчин[869].
Поза денди, особенно если обратить внимание на безжизненно свисающие вниз руки, наводит на мысль о весьма шатком равновесии – манекен в любую минуту готов рухнуть или распасться на составные части. Так, подставка верхнего болванчика явно неустойчива и чудом сбалансирована на закругленной поверхности, а ладони манекена вывернуты назад и почти оторвались, болтаясь на ниточке. В этом аспекте дендистский герб перекликается с другой карикатурой, выполненной годом раньше, в 1818 году, братом художника Робертом Крукшенком. Она называется «Dandy fainting or an Exquisite in fits» – «Обморок денди, или Затруднительное положение модника». На этой гравюре затянутому в тугой корсет денди становится плохо прямо в оперной ложе, и друзья пытаются привести его в чувство с помощью нюхательной соли (в аналогичных продолговатых флакончиках), предлагая расстегнуть корсет. Положение рук и вся поза сползающей вниз «fashion-victim» (жертвы моды) весьма сходны с позой денди на гербе, а обезьян в этом случае заменяют верные приятели, готовые поддержать при падении в обморок.
Помимо карикатур, денди не раз становились героями стихотворных сатир. В 1819 году в Лондоне появилась анонимная поэма «Бал денди, или Великосветская жизнь в городе». Издание сопровождалось шестнадцатью цветными гравюрами Роберта Крукшенка[870]. Текст фактически представляет из себя развернутые пояснения к картинкам. В поэме речь идет о бале для «веселых денди», который устраивают мистер Пиллблистер и его сестрица Бетси. Гости прихорашиваются перед «элегантным балом»: надевают чистые рубашки, туго шнуруют корсеты:
Mr.Pillblister and Betsy his sister, determined on giving a treat; Gay dandies they call, to supper and ball, at their home in Great Camomile Street. Mr Padum delighted, for he was invited, began to consider his dress. His shirt was not clean, nor fit to be seen, so he washed it, he could not do less. Here’s the stays from the tailor, for Mr MacNailor, «Oh Jeffery! Lace it quite tight!» «I’ll hold by the post, that no time may be lost, at the ball I’ll outshine all tonight»…[871]Мистер Боб Палмер надеется завоевать благосклонность Бетси, щегольнув новым костюмом. Но тут несчастья начинают сыпаться как из рога изобилия: сперва он наступает на ногу своей даме, затем сбивает соседний стул. Другой денди, мистер Мопстафф, обнаруживает дыру в чулке прямо перед выходом. Он в панике – теперь опоздание на светский раут обеспечено:
A hole in my stocking, Now how very shocking! Cries poor Mr.Mopstaff enraged; It is always my fate, To be so very late, When at Pillblister’s engaged[872].Третий денди, мистер Кафф[873], уронив носовой платок на балу, не может поднять его, так как тугой корсет не позволяет нагнуться. Те же корсеты мешают поужинать после танцев, и модники остаются голодными. Один из них падает в обморок на руки своей бабушке; и в довершение всех бед на обратном пути с бала карета переворачивается… Тем не менее веселая компания ждет новых приглашений: «на следующем рауте мы опять увидим этих денди», – жизнерадостно заключает рассказчик[874].
Надо сказать, что в тот период денди, разодетые по моде «бабочка», видимо, и впрямь давали повод для пародий. Нам, однако, приходится говорить об этом очень осторожно, потому что сатир и карикатур осталось гораздо больше, чем реальных документов[875]. Но, к счастью, кое-какие документальные свидетельства все же уцелели: к ним относятся дневники и альбомы.
Дендистские дневники для историков – наиболее ценный и в то же время редкий жанр. Большинство денди XIX века вели не дневники, а альбомы, в которых писали стихотворения и делали рисунки как они сами, так и все знакомые. Джордж Браммелл был владельцем такого альбома, но свои дневники он уничтожил, хотя издатели ему предлагали их опубликовать за большие деньги. Браммелл отказался, он предпочел попасть в долговую тюрьму, но не скомпрометировать своих друзей. Некоторые франты вели записи своих расходов на одежду, что теперь позволяет восстановить экономические аспекты моды[876]. Другие фиксировали скорее события светской жизни, анекдоты и мнения. Вот настоящий дневник денди[877].
Дневник денди
«Сентябрь 1818 г., суббота. Проснулся в двенадцать, с дьявольской головной болью. На будущее: не пить регентский пунш после ужина. Зеленый чай помогает бодрствовать.
Позавтракал в час. Почитал "Морнинг Пост" – самая лучшая газета из всех: всегда много юмора, хорошие новости, приятный стиль.
Вызвал портного и мастера по корсетам – заказал короткий утренний сюртук последнего парижского фасона, с воротником “а-ля гильотина”, оставляющим шею сзади открытой; пару панталон из толстого сукна с полосатой отделкой; пару камберлендских корсетов со вшитым китовым усом. Предупреждение неосторожным: последний корсет лопнул, когда я наклонился, чтобы поднять перчатку леди Б. Герцог К. был настолько вульгарен, что засмеялся и осведомился, используя морские словечки, не нужно ли мне подтянуть снасти. Шутка с бородой, позаимствованная у газетных остроумцев. Спросить: кто такой Том Браун? Не встречал его ни у Лонга, ни в Кларендоне.
Три часа. Поехал на прогулку в двуколке. Покатался по улицам Пэл-Мэл, Сент-Джеймс и Пикадилли. Вылез у Гранжа, мне сообщили, что термометр в холодном погребе показывает 80 градусов. Поразительно! Выпил три стакана пунша и один – ликера кюрасао “фантазия принца”, как его называет П.П., по-своему острослов.
От пяти до семи. Оделся для вечера. Пообедал в полвосьмого “наедине с самим собой”, как говаривал старый герцог Камберлендский, – отличный обед, в лучшем стиле Лонга, а именно: черепаховый суп, на закуску – палтус, далее – котлеты по рецепту повара из Карлтон-Хаус, следующее блюдо – молодая индейка и пирог с абрикосом. Десерт: ананас и вишневая наливка.
Выпил два стакана регентского пунша со льдом и пинту мадеры. Поехал в оперу в приподнятом настроении – но забыл, что в субботу спектакль кончается до двенадцати. На будущее: в субботу обедать в семь часов.
Р. Дайтон. Клуб денди. 1818 г.
Поужинал в Кларендоне с членами клуба денди – холодные закуски, – сыграл несколько раз в “курочку”[878] и спокойно поехал домой спать.
Воскресенье. Позавтракал в три – катался в тильбюри[879], – сделал круг по Роттен Роу, Сквиз, в Гайд-парке донельзя раздражает проклятая пыль повсюду – умеренно пообедал с П-м[880], вечером поехал в салон маркизы С-и – скучно, но благопристойно. П-м называет ее посиделки “воскресной школой”. Нота бене: П-м, который интересуется табаком и табакерками, изобрел новую смесь, которую он назвал “Веллингтон и Блюхер” в честь встречи двух героев после битвы при Ватерлоо. – Прекрасный Союз – отличная смесь – на нее никак нельзя чихать»[881].
Стоит сравнить этот занятный текст с аналогичными, но не подлинными дневниками XVIII века. В прессе того времени нередко появлялись сатирические тексты, посвященные макарони и богатым «фешенебельным» дамам. Один из самых любопытных жанров, процветавших в этой иронической рубрике английских газет, – мнимые дневники, призванные развенчать нравы и излюбленные привычки «авторов». Вот типичный текст в этом духе, напечатанный в «Зрителе» в 1712 году. Это якобы выдержки из дневника одной леди.
«Среда. С восьми до десяти: выпила две чашки шоколада в постели и потом опять уснула.
С десяти до одиннадцати: Съела кусок хлеба с маслом и выпила чашку китайского чая, прочитала “Зритель”.
С одиннадцати до часу: за туалетом, меряла новый парик. Приказала, чтобы Вени[882] причесали и помыли. Заметки: мне больше всего идет синий цвет.
С часу до половины третьего: Поехала в “Чейндж”. Купила недорого пару вееров.
До четырех. Обед. Заметки: Мистер Фрот прошел мимо в новом костюме…
С четырех до шести. Оделась, поехала нанести визит почтенной леди Блайт и ее сестре, мне сообщили, что они сегодня уехали за город.
Четверг. Послала Франка узнать, как чувствует себя леди Хектик после того, как ее обезьянка выпрыгнула в окно.
Выглядела бледно. Фонтанж уверяет меня, что мое зеркало грешит против истины.
От четырех до одиннадцати. Сидела в компании. Мнение мистера Фрота о Мильтоне. Его описание бесчинств золотой молодежи[883]. Его фантазия о подушке для булавок. Картинка на крышке его табакерки. Старшая леди Фэдл обещает мне свою парикмахершу[884], чтобы она меня подстригла»[885].
Первая мысль, которая возникает по прочтении этих двух дневников: их удивительное сходство. Несмотря на то что один отрывок – выдержка из реального дневника, а другой – из придуманного, они мало чем отличаются. Тот же прихотливо-ленивый ритм дня, заботы о себе и светская жизнь. Первый, пожалуй, более насыщен конкретными деталями, но и во втором тоже фигурируют и вполне живо выписанный мистер Фрот с его фантазиями и мнениями, и выпрыгнувшая из окна обезьянка леди Хектик… Хотя разница во времени действия составляет примерно столетие, оба текста объединяет общая атмосфера праздной богемной аристократической жизни. Ироническая интонация отрывка дамского дневника с лихвой окупается непреднамеренным юмором дендистского текста: эпизод, когда у незадачливого франта лопается корсет и он становится жертвой насмешек герцога К., говорит сам за себя. Но самое любопытное, что в обоих текстах явно смазываются гендерные особенности авторов, то есть трудно различить пол пишущего[886]. Отчасти это объясняется исходной задачей сатирического журнала XVIII века: фельетонисты старались изо всех сил продемонстрировать, что модные манеры делают мужчин похожими на женщин.
Такова была самая распространенная стратегия критики «фешенебельных» нравов, и особенно доставалось по этой части бедным макарони[887], которым ставили в упрек решительно все – и яркие тона в костюме, и любовь к безделушкам, и произношение на французский манер. За этими ироническими инвективами скрывались прозрачные намеки на гомосексуальные наклонности многих макарони.
Обе эпохи, о которых идет речь, – вторая половина 10-х годов XIX века и мода макарони XVIII века – периоды расцвета декоративного вкуса, что дает повод для сатирических упреков, которые строятся практически одинаково по тону и логике, не меняясь на протяжении веков.
В том же 1818 году, когда появилась карикатура Роберта Крукшенка, был опубликован (уже посмертно) последний роман Джейн Остен «Доводы рассудка».
Иронические портреты франтов – в принципе не редкость в произведениях Остен, но здесь она выводит на сцену пожилого щеголя баронета сэра Уолтера и, как нам кажется, переходит тонкую грань между своей фирменной иронией и прямой сатирой. «Тщеславие составляло главную черту в натуре сэра Уолтера. Тщеславился он своими качествами и положением. В молодости он был до чрезвычайности хорош собой; и в пятьдесят четыре года черты его еще сохраняли привлекательность. Редко какая красавица так печется о своей свежести, как заботится о ней сэр Уолтер; и едва ли камердинер новоиспеченного лорда может более восхищаться своим положением в обществе. Выше дара красоты ставил сэр Уолтер единственно благословение баронетства; счастливо сочетая оба эти преимущества, он и был постоянным предметом собственного искреннего поклонения»[888].
Сэр Уолтер явно не пользуется симпатией автора, и Джейн Остен прибегает к традиционной моралистической инвективе против модников – упреку в тщеславии, да еще по двойному поводу: из-за внешности и баронетства. Эти качества для нее демонстрируют типичную черту щеголя – нарциссизм.
Художник Ч. Брок, иллюстрировавший роман «Доводы рассудка», нарисовал сэра Уолтера в момент прихорашивания перед зеркалом. Это действительно ключевой момент в дендистском туалете, и, разумеется, сэр Уолтер посвящал немало времени самосозерцанию. В дальнейшем по сюжету ему, увы, пришлось несколько сократить привычные ритуалы, так как из-за недостатка средств семья вынуждена сдать фамильное имение в аренду. Новый съемщик, адмирал Крофт, обнаруживает огромные зеркала и предпринимает свои меры: «Сам-то я почти ничего не предпринимал, разве что вот приказал вынести из своей гардеробной огромные зеркала вашего батюшки. Превосходнейший человек ваш батюшка, и, должен заметить, истинный джентльмен. Однако, осмелюсь доложить, мистер Эллиот, надо полагать, редкостный для своих лет франт. Эдакая пропасть зеркал! Господи! Просто спасения не было от собственной персоны! Так что уж я прибегнул к помощи Софи, и мы живо их переселили; и я преудобно устроился с единственным зеркальцем для бритья…»[889]
Более наглядно разницу в менталитете между денди и морским адмиралом, наверное, трудно представить. Большие гардеробные зеркала и маленькое зеркальце для бритья могут послужить наглядными эмблемами двух характеров. Интересен повод для беспокойства у адмирала: «Просто спасения не было от собственной персоны!» – говорит он. Для денди же, наоборот, жизнь без зеркал непредставима, и даже при отсутствии реальных зеркал их роль исполняют взгляды окружающих. Естественный нарциссизм денди не позволяет ему довольствоваться зеркалами, дающими частичный обзор, ему обязательно нужно отражение в полный рост как условие сохранения целостного визуального образа. Маленькие зеркала требуются денди только на определенном этапе туалета для тщательной проработки деталей – так, Браммелл использовал зеркальце на манер зубоврачебного для косметических процедур.
Сатирический взгляд, как правило, содержит обобщение, благодаря которому любая индивидуальность превращается в тип. Особенно легко эта метаморфоза происходит, когда включается оптика остранения – взгляд иностранца, путешественника, чужака. Французский писатель-романтик Франсуа Рене Шатобриан получил назначение послом в Лондон в 1822 году и оставил в своих мемуарах весьма нелицеприятный портрет тогдашних английских денди.
«Денди (курсив Шатобриана. – О.В.) должен держаться победительно, непринужденно и дерзко; должен тщательно следить за своим туалетом, носить усы или бородку, подстриженную ровным полукругом, словно “мельничный жернов”[890]королевы Елизаветы или сверкающий солнечный шар; щеголяя гордым и независимым нравом, он не снимает шляпы, разваливается на диванах, протягивает длинные ноги чуть ли не в лицо дамам, которые обступают его, обмирая от восхищения; если ему случается ехать верхом, он не расстается с тростью, которую держит прямо, как свечку, и не обращает ни малейшего внимания на коня, очутившегося под ним как бы по недоразумению. Ему необходимо пребывать в совершенном здравии и иметь пять или шесть упоительных привязанностей. Иные денди-радикалы, опережающие свое время, курят трубку»[891].
При всей меткости изображенных деталей «типология» Шатобриана, разумеется, представляет из себя сатиру[892]. Дендизм в 20-е годы воспринимался французами как чисто английское явление, и во взгляде Шатобриана чувствуется традиционная насмешливая недоброжелательность (следы сходного предубеждения отчетливо ощутимы в тексте Барбе д’Оревильи о Браммелле и в трактате об элегантности Бальзака). Тем не менее в его описании можно различить противопоставление двух реально существовавших британских типов денди – «красавцев» (Beaux) и «спортсменов» (Bucks), которые к 1822 году уже эволюционировали в карикатурные образы «байронического сердца» и дерзкого оптимиста-радикала.
Антидендистские настроения в Викторианскую эпоху
В 1837 году на британский трон взошла королева Виктория. Ее царствование, длившееся вплоть до 1901 года, было отмечено индустриальным подъемом и укреплением имперской мощи Англии. Демонстрацией экономических достижений стала выставка 1850 года в Лондоне, где экспонировались все новейшие товары и машины. Однако на той же выставке произошел скандал в секторе живописи: картина Д.Э. Миллеса «Христосв доме родителей» была снята, поскольку ревнители моральных устоев сочли ее недостаточно благочестивой. Это было симптомом усиления консервативных настроений, характерных для Викторианской эпохи. Миллес принадлежал к Прерафаэлитскому Братству, исповедовавшему неоромантическую эстетику, что в 1850-е годы явно не укладывалось в каноны вкуса среднего буржуа. Аналогичным образом викторианская культура не могла принять дендизм в его первоначальном варианте, запечатленном в «модных» романах. Особенно активно вели борьбу с дендистским умонастроением два автора – Карлайль и Теккерей. Их деятельность стала, по словам Э. Мерс, «викторианской эпитафией дендизму эпохи Регентства». Томас Карлайль был воспитан на немецкой эстетике, переводил «Вильгельма Мейстера» Гете, написал «Жизнь Шиллера» и проникновенный очерк о Новалисе, большое влияние на него оказал Жан Поль Рихтер. Подражая Жан Полю, он в 30-е годы освоил цветистый стиль витиевато-иронической прозы. Именно в такой барочной манере он в 1830 году написал роман «Sartor Resartus» («Перекроенный портной»). Он рассылал его по различным издательствам и редакциям, но всюду получал отказы. Наконец роман был принят к публикации в журнале «Fraser’s magazine», где печатался выпусками в 1833–1834 годах. Главному редактору «Перекроенный портной» пришелся по душе, поскольку в журнале уже давно шла активная кампания против Бульвера-Литтона и дендистских умонастроений. И именно на этом фронте они усмотрели в Карлайле боевого союзника, простив ему стилевые излишества в германском духе.
Главный герой романа – немецкий профессор Тейфельсдрек (что в переводе означает «чертово дерьмо»), который занимается философией одежды. Этот сатирический персонаж концептуально воплощает фантом немецкой академической учености, а по своей функции в романе – удобную авторскую маску. Прикрываясь высокопарными рассуждениями от лица Тейфельсдрека, Карлайль дает язвительную критику дендизма, чему в романе целиком посвящена отдельная глава.
Для начала он дает якобы нейтральное «научное» определение: «Денди – это человек, который одевается, и в этом состоит его единственное занятие и призвание. Все его душевные и финансовые возможности посвящены этой цели: одеваться со смыслом и красиво. В то время как другие люди одеваются согласно жизненным обстоятельствам, он живет, чтобы одеваться»[893]. Дальнейшие рассуждения подчинены одной цели: описать приверженцев дендизма как особую секту со своими странными абсурдными правилами. В интерпретации Карлайля денди поклоняется «божественной идее одежды» и превращает свою внешность в «чудо из чудес». Культовый ритуал денди – поклонение самому себе[894]. У денди есть свой храм – клуб Олмакс, и свои священные книги – модные романы. Главный жрец секты – некто Пелэм: Карлайль имеет в виду героя книги Бульвера-Литтона «Пелэм» и даже приводит выдержки из первого издания этого романа.
Подоплека критики Карлайля – социальный пафос: он противопоставляет дендистским «сектантам» ирландских бедняков, которые одеты в лохмотья и ютятся в хлеву вместе со своей скотиной. Это не слишком корректный полемический ход, типичный для сторонников английского христианского социализма, – в ту пору эти идеи были популярны благодаря Чарльзу Кингсли и Ф.Д. Морису. К тому же как раз в 1831–1832 годах в Англии шла оживленная дискуссия по поводу знаменитого Билля о Реформе и общественное внимание было сконцентрировано на проблемах социального неравенства. Это достаточно очевидно, и вдобавок критическая позиция Карлайля четко мотивируется его биографическими обстоятельствами.
Карлайль вырос в шотландской крестьянской семье, юность провел в Эдинбурге, а затем Манчестере, где был свидетелем рабочих бунтов (вспомним, как Браммелл отказался ехать в Манчестер!), после чего зарабатывал на жизнь уроками в одной аристократической семье. Именно в этот период он успел приобрести стойкую антипатию к моде и образу жизни знати и четко усвоил сугубо пуританские воззрения на все, связанное с роскошью и элегантностью. Дальнейшее сотрудничество Карлайля с журналом «Fraser’s magazine» только укрепило его антидендистские взгляды.
В «Перекроенном портном» он рассказывает историю о Джордже Фоксе[895], основателе секты квакеров. Решив бороться с суетными искушениями, Фокс, будучи по профессии сапожником, сшил себе «вечный» костюм из кожи, один на все случаи жизни. Этот неснашиваемый костюм для Карлайля служит эмблемой «идеальной» одежды, хотя он проницательно предвидел, что в дальнейшем может возникнуть мода на кожаные наряды и щеголи будут заказывать «непромокаемые плащи из русской кожи» или «красные и голубые одеяния из марокканской кожи»[896]. В целом для Карлайля история Джорджа Фокса – поучительный пример, достойный подражания, так что на этом фоне причины его неприязни к дендизму ясны.
И все же даже при столь суровой идеологической позиции Карлайль шел на некоторые компромиссы, когда дело касалось его личной жизни. Его возлюбленная Джейн Уэлш отнюдь не пренебрегала модой и при знакомстве с Карлайлем сразу отметила в нем «недостаток элегантности». Строгому противнику тщеславия пришлось скрепя сердце заказать приличный костюм у портного, и после этого героического поступка Джейн согласилась стать его супругой. А позднее, когда Карлайль, будучи уже известным автором, познакомился с графом д’Орсе, он не смог устоять перед обаянием этого харизматического денди. Пламенно бороться с умозрительным противником всегда легче, чем иметь дело с конкретным человеком, – этот феномен известен под названием «Убить китайского мандарина»: абстрактная кровожадность прямо пропорциональна расстоянию, и оттого мы спокойно воспринимаем известия о преступлениях и несчастьях в отдаленных краях и переживаем, когда речь идет о событиях в нашем околотке.
Сходный разрыв между теорией и практикой наблюдался и в поведении знаменитого романиста У. Теккерея. Он с самого начала проницательно понял, что уже поздно делать литературную карьеру на устаревшей парадигме «модного» романа, и решил построить собственную репутацию, критикуя порок тщеславия. Неутомимый сатирик посвятил разоблачениям дендизма целую серию текстов: «Записки Желтоплюша» (1837), «История Пенденниса» (1848–1850), «Книга снобов» (1847). Его персонажи в утрированно-пародийном виде воспроизводят все манеры героев «модных» романов. Пенденнис, к примеру, – это Пелэм, доведенный до абсурда. Но больше всего досталось злосчастному Георгу IV, которого Теккерей вывел в совсем уж карикатурном виде.
В «Книге снобов» перед читателем проходит целая галерея снобистских характеров – военные снобы, клерикальные снобы, коммерческие снобы, университетские снобы, клубные снобы и т. д. Теккерей, разумеется, не мог обойти вниманием щеголей: «Были у нас и франты-снобы. В числе их особенно выдавались Джимми, Джессами и Джаки. Первого можно было видеть ежедневно в пять часов одетым с иголочки, с камелией в петлице, в лакированных сапогах и в свежих лайковых перчатках; второй был юным ослом, сиявшим золотыми запонками, кольцами и цепочкой; а последний ежедневно катался по Бленгеймской дороге в тонких башмаках и белых шелковых чулках. Все трое они гордились своим франтовством и считали себя диктаторами моды в университете. Каждый из них был настоящим снобом, да еще самого отвратительного сорта»[897]. При всем уважении к литературному таланту Теккерея нельзя сказать, что данная сатира блещет тонкостью или остроумием. Скорее она напоминает механическую «отработку» темы.
У. Теккерей. Иллюстрация к «Книге снобов»
Зато Теккерей по-настоящему оживлялся, когда изливал желчь по поводу Эдварда Бульвера-Литтона, непрерывно пытаясь соревноваться с ним и отчаянно завидуя его литературному успеху и репутации. Причиной этой явной антипатии, вероятно, была не только дендистская поза Бульвера-Литтона, но и разница в социальном положении: Теккерей зарабатывал на жизнь поденным журналистским трудом, а Бульвер-Литтон, будучи потомственным лордом, не раз декларировал, что пишет сугубо для развлечения, в часы досуга. Неприязнь Теккерея к Бульверу-Литтону разделяли и его коллеги из уже упоминавшегося «Fraser’s magazine», которые не упускали случая поиздеваться над прославленным автором.
У. Теккерей. Автошарж
Тем удивительнее, что при подобной антидендистской позиции Теккерей любил общаться с известными щеголями эпохи Регентства – пожилым «Пуделем» Бингом, который в свое время был другом Браммелла, литератором Генри Латтреллом, во Франции же среди его знакомых числился журналист-модник Роже де Бовуар. После шумного успеха «Ярмарки тщеславия» Теккерея стали приглашать в высшее общество, и он охотно ходил на светские обеды. Особенно ему нравилось посещать шикарные приемы леди Блессингтон. В элегантной гостиной особняка Гор-Хаус Теккерей не раз встречался с графом д’Орсе и был сразу очарован великим денди, точно так же как раньше и Карлайль.
Правда, порой у него случались промахи по части светского этикета. Как-то раз он, оседлав своего конька, стал поносить Бульвера-Литтона в присутствии его брата Генри. На следующий день Теккерею пришлось специально извиняться за этот faux pas перед леди Блессингтон. Его простили, и дружба продолжалась, причем Теккерей был одним из немногих, кто всячески поддерживал леди Блессингтон после разорения. Он присутствовал на аукционе, устроенном в ГорХаус, и стоял там, по свидетельству слуги, «со слезами на глазах». Когда граф д’Орсе жил в изгнании, Теккерей, как преданный поклонник, несколько раз навещал его. Однако эти сентиментальные отношения романист предпочитал не афишировать, оставаясь в глазах публики бескомпромиссным противником дендизма и аристократического общества.
Как объяснить этот явный парадокс? Дело ведь не сводится к субъективным факторам – допустим, личному обаянию графа д’Орсе или «фарисейству» Теккерея, который очевидным образом не смог устоять перед искушениями великосветской жизни. На самом деле глобально изменилась и вся атмосфера эпохи. Консервативные настроения в викторианском обществе породили феномен «кэнт» (cant) – особого тонкого лицемерия. Словарь Вебстера определяет «cant» как «повторение устоявшихся, банальных мнений, неискреннее использование благочестивых выражений». «Кэнт» служил залогом респектабельности и, следовательно, солидной карьеры для буржуа и нормальной репутации для светского человека. Для многих, конечно, «кэнт» был удобной социальной маской, но он реально отражал изменившуюся систему моральных табу. В середине XIX века британское общество стало более жестко относиться ко всем проявлениям «вольности» нравов и развлечениям, самые невинные удовольствия стали казаться подозрительными, секс и телесность воспринимались как источник грозных искушений.
Мода, всегда чутко реагирующая на изменение морального климата в обществе, в этот период тоже стала более консервативной. Дамские кринолины и глухие черные сюртуки воплощали тенденцию к закрытости – императив сдержанности распространялся как на одежду, так и на мир чувств. Неудивительно, что в викторианской Англии отношение к дендизму становилось все более настороженным. Если сравнивать викторианство с эпохой Регентства, то можно отметить полный упадок дендистской традиции – собственно, после графа д’Орсе (тоже не англичанина по происхождению) в Британии просто не было заметных денди, хотя бы в чем-то сопоставимых по масштабу с Браммеллом. Только ближе к концу столетия появился один денди, который сумел бросить вызов викторианскому «кэнт». Вы уже догадались, как его звали, – Оскар Уайльд.
Оскар Уайльд: денди-эстет
«Хорошо подобранная бутоньерка – единственная связь между искусством и природой»;
«Поменьше естественности – в этом первый наш долг. В чем же второй – никто еще не додумался»;
«Сделать нечто – невелика заслуга; заставить людей думать, что ты это сделал, вот это настоящий триумф»;
«Если хочешь скрасить слишком крикливый наряд, покажи слишком большую образованность. Это единственный способ»; «Преступление никогда не бывает вульгарным, но вульгарность – всегда преступление»;
«В становлении личности даже обретенное ею чувство цвета важнее обретенного понимания добра и зла»;
«Искусство – зеркало, отражающее того, кто в него смотрится, а вовсе не жизнь»;
«Всякое искусство совершенно бесполезно».
Когда Оскар Уайльд сочинял эти дерзкие афоризмы, он хотел эпатировать буржуазную публику манифестом уверенного в себе эстета. Однако неожиданно сработала «память жанра»: афоризмы опознавались читателями как знак солидной культурной традиции. Британский юмор издавна санкционировал политику легкомысленных острот на самые серьезные темы, а блестящие шутки светских эксцентриков воспринимались как необходимая риторическая приправа к церемонным ритуалам салонного общения.
Афоризмы о моде имели к тому же свой устойчивый круг ассоциаций: благодаря неумирающей легенде о Браммелле они прочно ассоциировались с дендизмом начала XIX века. Целые подборки высказываний о хорошем вкусе и искусстве одеваться на страницах модных романов и трактатов никого не удивляли. Афоризм считался подлинно дендистскимжанром благодаря своей лаконичной форме, соответствующей принципу экономии энергии (минимализма) у денди. Однако Уайльд, надо отдать ему должное, ухитрился придать дендистской афористике новый оттенок: концептуальное изящество философского парадокса. Прилежно штудируя сочинения Уолтера Патера, Джона Рескина и Россетти, он пытался перевести их рассуждения о чистом искусстве на язык «веселой мудрости», заставляющей задуматься профанов. Мигающий смысл его парадоксов настраивал на особую волну внимания – сосредоточенного и расслабленного одновременно.
Оскар Уайльд. 1892 г.
Парадокс рассчитан на контрапункт мысли, баланс неоднозначных трактовок. Но с уайльдовскими афоризмами возможность многослойных прочтений умножается бесконечно, поскольку многие максимы он вкладывает в уста своих героев, тем самым сознательно создавая дистанцию. Большинство самых цитируемых парадоксов автор «подарил» лорду Генри из романа «Портрет Дориана Грея» и лорду Горингу из «Идеального мужа». А если брать высказывания Уайльда «от первого лица», то здесь сразу видно, что его остроты и критические замечания строятся точно по тому же внутреннему принципу, что и браммелловские: демонстративное презрение щеголя к «вульгарным» вещам. О книге Киплинга «Отважные капитаны» он заметил: «Не понимаю, почему автор решил написать роман о ловле трески. Но, возможно, мне не дано это понять, поскольку я никогда не ем треску – это слишком вульгарная рыба»[898]. Вспомним объяснение Браммелла по поводу своей несостоявшейся помолвки: «Леди Мэри слишком любила капусту» или – ледяным тоном в ответ на вопрос, любит ли он горох, – «Мадам, я однажды случайно проглотил одну горошинку». И, напротив, отсутствие вульгарности для Уайльда было высочайшим комплиментом: очень характерен его краткий отзыв о новой постановке «Гамлета» Герберта Бирбома Три: «Смешно, и к тому же невульгарно»[899]. Впрочем, не исключено, что в этом форсированном презрении к вульгарности[900] скрывался глубинный страх перед собственной уязвимостью в новой культурной ситуации.
Уайльд о моде: реформа и идеал
В последние десятилетия XIX века в Англии довольно быстро менялся ментальный ландшафт: викторианский консерватизм постепенно сдавал свои позиции, и на смену ему пришло увлечение вольными нравами эпохи Регентства. Альберт Эдуард, принц Уэльский, возрождал традиции пышных аристократических обедов и загородных прогулок, разъезжая по имениям своих фаворитов. Британцы вспомнили веселого короля Георга IV и окружавших его блистательных денди во главе с Красавцем Браммеллом. Вновь вернулась мода на все французское: фривольность и утонченность континентального стиля оказались идеальным и желанным соблазном для Обри Бердслея, Макса Бирбома, Уистлера и, конечно, Оскара Уайльда. Они зачитывались романами Флобера, Золя и братьев Гонкур, преклонялись перед поэзией Теофиля Готье и Малларме.
Французское влияние и английское эстетическое движение лежат в основе европейского декаданса: знаменитая «Желтая книга», квинтэссенция декадентских настроений, вышла в 1894 году. Но еще раньше определился особый дух этого времени: конструктивное противоречие между эстетизмом и прагматикой. «Чистое искусство» столь яростно отстаивало свои права, потому что художникам уже приходилось действовать в условиях рыночной экономики, зрелого буржуазного модерна. Это-то и придавало особую нервическую заостренность афоризмам Оскара Уайльда против буржуазной вульгарности.
«Доминантной нотой эпохи выступает коммерциализация: трагическое зрелище литературы и личности в условиях открытого рынка, важный опыт продажи таланта через механизмы рекламы, публичности и шоуменства», – замечает Элен Мерс[901]. Оттого многие писатели стали вести себя подчеркнуто театрально, стараясь, чтобы пресса узнавала о каждом мало-мальски занятном жесте, остроумной шутке или непримиримом споре. Стали популярны такие жанры, как открытое «письмо редактору» газеты, обмен телеграммами, судебные иски. Громкие процессы привлекали всеобщее внимание – самым признанным скандалистом был художник Уистлер, который подавал в суд на Джона Рескина, а потом и на Оскара Уайльда.
Уайльд начинал строить свою публичную карьеру, сделав ставку на экстравагантность. Он появлялся повсюду в необычных костюмах, делал парадоксальные заявления: «главный ориентир для меня – красота китайского фарфора»[902], показательно ухаживал за известной актрисой Лили Лангтри. Он дарил ей, обыгрывая ее имя, чудесные лилии, за что немедленно попал в куплеты: там фигурировал эстет, «бредущий по Пикадилли с лилией в своей средневековой руке». Известный карикатурист Джордж ДюМорье постоянно рисовал на него карикатуры в сатирическом журнале «Punch», но Уайльд не обижался, а, напротив, добродушно подыгрывал своим обидчикам, отлично понимая, что даже шаржи способствуют его популярности.
Особо привлекала его внимание современная одежда. Позиционируя себя через моду, он слыл ее знатоком, а как раз в то время споры вокруг костюма были весьма оживленными и выплескивались на страницы национальной прессы. Мода, будучи одним из самых тонких индикаторов настроений в обществе, первая реагировала на необходимость быстрых перемен. Женщины желали заниматься спортом и кататься на велосипеде, а для этого требовалось отказаться от традиционных фасонов дамской одежды, стесняющей движения. Уайльд, конечно, не мог оставаться в стороне от этих животрепещущих тем: он активно поддерживал Dress Reform – женское движение за реформу костюма в Англии в 1880-е годы. Сторонницы «рационального» платья выступали против дамских корсетов, кринолинов, туфель на высоких каблуках и с узким носком. Они предлагали носить раздвоенные юбки – кюлоты, позволяющие вести спортивный образ жизни и, в частности, кататься на велосипеде[903].
Ж. Дю Морье. Общество взаимного восхищения (Nincompoopiana). 1880 г. Сатира на эстетические костюмы
Особый вариант реформированного костюма был разработан в артистических кругах – сначала прерафаэлиты (особенно Уильям Моррис), а затем в 70-е годы группа художников и литераторов во главе с романисткой миссис Уорд пропагандировали «aesthetic dress» – «эстетические» платья свободного покроя с широкими проймами, пышными рукавами и высокой талией, которые носились без корсетов. Эти платья отличались насыщенными цветовыми оттенками естественной гаммы – темно-зеленый, индиго, коричневый, – поскольку эстеты были против искусственных анилиновых красителей[904]. На таких платьях хорошо смотрелись украшения из янтаря.
Оскар Уайльд выступил с лекцией «Dress» («Платье») первого октября 1884 года. В лекции он развивал свои идеи по поводу современного костюма. Его главный тезис состоял в том, что одежда должна свободно ниспадать с плеч, а не с талии, что отменяет необходимость дамских корсетов. Образцом для него служили одеяния древних греков. Помимо удобства, Уайльда, конечно, привлекали в греческих хитонах и пеплосах возможность драпировать эффектные складки – излюбленный мотив живописцев.
Уайльд также поддержал идею раздвоенной юбки, отмечая, что она дает «легкость и свободу» движений. Корсеты, кринолины и прочие стесняющие тело приспособления он решительно осудил; досталось и высоким каблукам.
После лекции, отчет о которой был опубликован в газете, посыпались письма возмущенных читательниц. Они, в частности, небезосновательно замечали, что греческие одеяния слишком холодны для британского климата, на что Уайльд невозмутимо ответствовал, что можно поддевать теплое шерстяное белье (которое считалось в то время супергигиеничным согласно теории доктора Егера)[905]. Далее читательницы приводили аргументы в пользу высоких каблуков – что они спасают от грязи подол юбки. Но и тут Уайльд нашелся что сказать: носите туфли на деревянной платформе (clogs), ибо тогда телу будет обеспечен ровный подъем, без вредного наклона вперед[906]. Идеальный костюм в итоге должен был сочетать в себе два начала: «греческие принципы красоты и немецкие принципы здоровья»[907].
На практике эти идеи Оскара Уайльда нередко находили воплощение в нарядах его жены Констанс. По настоянию мужа Констанс отказалась от турнюров[908]и корсетов, традиционных в обычных нарядах модниц того времени, и предпочитала свободные струящиеся платья в эстетическом стиле из узорчатых шелков Liberty[909]. Даже обручальное кольцо Констанс было сделано по дизайну Оскара Уайльда.
Сохранились описания костюмов Констанс в уайльдовском вкусе: «На Констанс было греческое одеяние, сочетавшее в себе нежно-желтый цвет примулы и темно-зеленый цвет яблоневого листа» – это попытка воспроизвести античный образец. В другой раз ее видели в большой широкополой шляпе в стиле Гейнсборо – тут уже «налицо» теория Уайльда о том, что широкополая шляпа не только красива, но и практична, поскольку замечательно защищает от дождя и солнца. Констанс была активной сторонницей Dress Reform и выступала на собраниях общества по реформе платья. «В марте 1886 года она участвовала в собрании, посвященном теме “Рациональный костюм”, в Вестминстер-таун-холле, и когда она встала, чтобы высказаться, все увидели, что на ней кашемировые шаровары коричневого цвета и накидка, края которой были подвернуты и скреплены, образуя рукава»[910].
Мужской костюм, разумеется, тоже привлек внимание Оскара Уайльда. В этот период в журналах появились колонки по мужской моде и возможность реформ в этой сфере активно обсуждалась. Как и многих эстетов, Уайльда не устраивал современный черный костюм – он находил его невыносимо скучным и предлагал оживить за счет расширения цветовой палитры: «Свобода в выборе цвета – необходимое условие разнообразия и индивидуализма в костюме»[911]. Цвет сюртука, по его мнению, имеет «огромную психологическую ценность», поскольку сразу выдает характер и жизненные взгляды владельца. В письме к редактору газеты «Daily Telegraph» Уайльд, в нарочито утрированном тоне, предсказывал модные тенденции на будущее: «Цвет сюртука будет символическим, что явится частью замечательного символического движения в искусстве. Воображение сосредоточится на жилетах. По жилету можно будет судить, способен ли человек восхищаться поэзией. Это будет очень ценно. Перед рубашки расскажет, наделен ли он фантазией. С первого взгляда можно будет опознать зануду»[912].
Эта ироническая утопия подразумевает два аспекта: первый – творческий: свобода индивидуального самовыражения в обществе, которое благосклонно поощряет модные новации людей со вкусом. Второй аспект – торжество интерпретирующего зрения, оптимальные условия для аналитика одежды. Идеальная ситуация для денди нетолько перед зеркалом, но и на публике, автора и героя в одном лице! В 1891 году единственной возможностью для реализации взглядов Уайльда был театральный костюм: в сценических нарядах Чарльза Уиндема он усмотрел прообраз моды будущего.
В историческом прошлом, по мнению Уайльда, был редкий момент, когда мужской костюм отличался и эстетическим совершенством, и удобством: это время Карла I[913]. Мужчины тогда носили бриджи с чулками, дублеты с пышными рукавами с разрезами; кружевные отложные воротники, широкополые шляпы[914]. Так одеты английские аристократы на портретах А.Ван Дейка.
Современный мужской костюм Уайльд считал абсолютно безнадежным в плане эстетики: его безобразие особенно ярко выступает в статуях, облаченных в каменные или бронзовые сюртуки и жилеты. Но неожиданно для себя Уайльд все же нашел один положительный пример. Во время своей поездки в Америку он увидел, как одеваются рудокопы Западного побережья, и восхитился практическими достоинствами их костюма: широкополая шляпа (будто с полотен Ван Дейка), просторный плащ (сколько угодно складок!), высокие башмаки. Вывод писателя был молниеносен: «Они носят лишь то, что удобно и, следовательно, красиво»[915]. Остается только гадать, заметил ли знаменитый эстет в Америке джинсы, которые уже тогда были в ходу (благодаря предприимчивому Леви Страуссу золотодобытчики в Калифорнии их носили с 1850-х годов). Несомненно, он одобрил бы их функциональный шик.
Гардероб Уайльда
В своем гардеробе Уайльд пытался хотя бы частично осуществить предлагаемую им реформу костюма, особенно по части оживления цвета. Он предпочитал носить жилеты самых неожиданных ярких тонов и порой появлялся на публике в фиолетовом сюртуке.
Уайльд пропагандировал орнаментальные детали – богато изукрашенные позолоченные или эмалированные пуговицы, оригинальное жабо на рубашке, перстни с драгоценными камнями. Его любимым материалом был бархат серого или коричневого оттенка. Очень полезной верхней одеждой для мужчины считал широкий плащ или накидку без рукавов, позволявшую не только уберечься от непогоды, но и демонстрировать «игру света и линий» в живописных складках. Практичный темный цвет такого плаща для эстетического баланса должен был компенсироваться яркой подкладкой.
Огромное значение денди придавал аксессуарам: он обожал цветы (в особом фаворе у него были лилии и символ эстетизма – подсолнух) и нередко появлялся в обществе с цветком в петлице. В историю вошла знаменитая зеленая гвоздика – она послужила знаком, объединяющим сторонников Оскара Уайльда на премьере его драмы «Веер леди Уиндермир». Среди излюбленных аксессуаров Уайльда нельзяне упомянуть галстучные булавки с аметистом, лимонного цвета перчатки и трость с набалдашником из слоновой кости.
Помимо костюма Уайльд неизменно привлекал к себе внимание умением быть в центре компании – он сыпал афоризмами и всегда доминировал в светской беседе, нередко проявляя столь свойственную многим денди великолепную наглость. Но решающим впечатлением от Уайльда у всех знавших его людей все же была его особая личная сила, эйфорическое упоение жизнью. Вероятно, если бы другой человек, не столь сильного характера и не столь оригинального ума, попробовал носить его костюмы, он выглядел бы весьма глупо. Как вспоминает один из его современников, «в одежде Уайльда чувствовался выверенный дендизм и особая витиеватая серьезность. На нем был сюртук с черным бархатным воротником, белые перчатки, на пальце – кольцо со скарабеем зеленого цвета, в петлице – зеленая гвоздика в тон скарабею. Из жилетного кармана свисали брелоки на цепочке. Этот костюм, который на других людях казался бы маскарадным (что и происходило с последователями Уайльда), на нем сидел превосходно. Он держался в нем очень непринужденно и выглядел первым джентльменом Европы»[916].
В Лондоне известность Уайльда была столь велика, что он стал персонажем комической оперы Гилберта и Салливана «Пейшенс» («Patience»). Премьера оперы состоялась в Лондоне в 1881 году, и публика сразу опознала его в пародийном образе эстета Банторна[917]. Уайльду поневоле пришлось смириться со сценической карикатурой на себя. Но уже вскоре он понял, что такое отождествление работает на его репутацию, и даже сумел извлечь выгоду из этого. Вскоре «Пейшенс» успешно поставили в Америке, и Уайльду предложили поехать туда с циклом лекций. Контракт сулил не только хорошие заработки, но и заокеанскую славу. Согласно замыслу продюсера спектакля, «Пейшенс» должна была повысить популярность уайльдовских лекций, а лекции – повысить популярность оперы[918]. Уайльд ответил согласием и подготовил выступления по теме «Английский Ренессанс» (очерк эстетического движения в Англии) и о домашнем интерьере.
Т. Наст. О. Уайльд в эстетском костюме во время американского турне. 1882 г.
Для поездки он специально заказал подбитое мехом зеленое пальто и меховую шапку. В этом пальто Уайльд и вышел на первую встречу с репортерами, после чего его описание сразу попало во все газеты. Повсеместно цитировалась и первая шутка Уайльда при пересечении границы. «Мне нечего декларировать, кроме своего гения», – заявил он, заполняя таможенную декларацию.
В Америке Уайльд выступал в специальном «эстетском» костюме, который сам разработал[919]. Осознавая игровую зрелищность своих лекций и непременные ассоциации с «Пейшенс», он снабдил театрального костюмера детальными инструкциями: «Это должны быть красивые вещи: этакий облегающий бархатный камзол с большими украшенными цветочным узором рукавами и круглым гофрированным батистовым воротничком, выглядывающим из-под стоячего ворота. Я посылаю Вам рисунок и мерку… Любой хороший костюмер поймет, что мне надо: нечто в стиле Франциска I. Только с короткими штанами до колен вместо длинных обтягивающих рейтуз. Также достаньте мне две пары серых шелковых чулок в тон серому, мышиному бархату. Рукава должны быть если не бархатными, то плюшевыми, украшенными крупным цветочным орнаментом. Они произведут большую сенсацию… В Цинциннати были ужасно разочарованы тем, что я выступал не в коротких штанах»[920].
Бриджи Уайльда и впрямь произвели сенсацию. Продуманная театральность костюма поразила публику не меньше, чем сама лекция. Одна из слушательниц подробно записала свои впечатления: «Костюм. Темно-фиолетовый просторный пиджак и бриджи; черные чулки, низкие туфли с блестящими пряжками; пиджак подбит бледно-лиловым атласом, пышные кружева на запястьях, а также вместо галстука поверх отложного воротника; волосы длинные, с прямым пробором или зачесанные назад. Появляется в накидке, покрывающей одно плечо. Голос чистый, свободный, нефорсированный. Время от времени меняет позу, голова наклонена в сторону опорной ноги, сохраняется общее впечатление непринужденности»[921].
Наряд для лекций в первую очередь был рассчитан на то, чтобы поддержать имидж эстета и привлечь внимание публики к персоне выступающего. Подчеркнутая сценичность снимала обычные знаковые функции одежды: не читалась информация о социальном статусе – допустим, является ли оратор джентльменом. По этому костюму было трудно судить о личных качествах Уайльда, о его характере и политических взглядах, но зато можно было с уверенностью сказать две вещи: 1) человек проводит достаточно агрессивную рекламную кампанию; 2)его костюм выражает протест против «скучной» мужской одежды XIX века, напоминая о придворном костюме, хранящем в законсервированном виде черты прошлого.
«Эстетский» костюм Уайльда был настолько броским, что вскоре стал предметом подражаний. Уже в Америке денди столкнулся с пародийными двойниками: на одну из его лекций полтораста студентовпришли в коротких бриджах, чулках и с подсолнухами в петлице. Однако, увидев толпу двойников в первом ряду, Уайльд не растерялся, а, напротив, вступил с ними в диалог и начал иронизировать, так что в итоге поле битвы осталось за ним. И в других случаях, проявляя «телепатическое внимание» к настроениям слушателей, он всегда умел найти нужную интонацию для каждой аудитории – будь то шахтеры или светская публика.
Вернувшись из Америки, Уайльд поехал в Париж и там стал вновь одеваться как современный европейский щеголь. Постепенно его экстравагантный наряд «профессора эстетики» сменился более сдержанным костюмом. В 90-е годы, когда его пьесы с успехом шли на сцене, он предпочитал появляться на публике в формально-корректном костюме, оживляя ансамбль только одной деталью – тщательно составленной бутоньеркой, цветным жилетом или бирюзовыми запонками.
Но его эксперименты с одеждой дали непредвиденные результаты в другой сфере: неожиданным образом эстетский костюм получил продолжение в детской моде. В 1886 году вышло первое издание «Маленького лорда Фаунтлероя» Френсис Бернетт – романа, мгновенно ставшего классикой детской литературы. Главный герой, мальчик Седрик, носил костюм, состоящий из бархатной курточки черного или темно-синего цвета, укороченных штанов с шелковыми чулками, белой рубашки с широким кружевным «вандейковским» воротничком и шелкового пояса. На голове у Седрика красовался шикарный бархатный берет, из-под которого выбивались длинные локоны, на ногах – туфли с пряжками. Такой образ был создан художником Реджинальдом Бирчем, первым иллюстратором «Маленького лорда Фаунтлероя», и популярность его была так велика, что многие родители сразу стали одевать своих чад в таком стиле. Конечно, несчастный ребенок в костюме «маленького лорда Фаунтлероя» вряд ли был в восторге, поскольку его дразнили сверстники: на радость взрослым тетушкам, он стабильно воспринимался как изнеженный и благовоспитанный мальчик, «маменькин сынок», «mollycoddle».
Нетрудно заметить, что эстетский костюм отличался от фаунтлероевского, собственно, только наличием шейного платка. Турне Оскара Уайльда в Америку состоялось в 1882 году, а книжка Френсис Бернетт (эмигрировавшей в Америку) вышла в свет через четыре года. Во всяком случае, как считает Алисон Лури, эстетский костюм Уайльда «вероятно, повлиял на то, каким образом миссис Бернетт одевала двух своих сыновей и Седрика»[922].
Вклад Уайльда в моду не прошел незамеченным. У него было много подражателей, в его честь портные назвали особую форму воротника «Новый Оскар». Но его американское турне показало главное: английский дендизм и эстетизм можно превратить в коммерческий продукт и экспортировать в другие страны. И продуманный костюм с умелой дозой театрализации, и содержание уайльдовских лекций – программа эстетизма, культ чистой красоты – все это было логическим продолжением формализации дендизма, предпринятой французами в середине века. Но это уже был особый – декадентский – дендизм, пронизанный настроениями конца века.
Дендизм в романе «Портрет Дориана Грея»
В романе «Дориан Грей» синтезированы как минимум три литературных жанра. В первую очередь, это блестящий образец «fashionable novel» («модного романа»), начатого еще в конце 20-х годов XIX века серией Генри Коулберна. Как и полагается в «модном романе», главный герой – денди, законодатель вкусов: «Конечно, он отдавал дань и моде, которая на время может осуществить любую фантазию, добившись всеобщего ее признания, и дендизму, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия о Красоте. Его манера одеваться, те моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфере и в клубах Пэлл-Мэлла. Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества даже в случайных мелочах, которым сам Дориан не придавал никакого значения»[923]. Но Уайльд развивает старую схему романа о приключениях молодого модника, вводя пару из двух героев-денди. Первый – опытный циник (лорд Генри), второй – «золотой мальчик» (Дориан Грей). Это разделение работает и в его драмах – в «Идеальном муже» роль «старшего» отведена лорду Горингу; в «Веере леди Уиндермир» – лорду Дарлингтону. А аналоги «золотого мальчика» появляются в сказках Уайльда (молодой король, мальчик-звезда).
Помимо «модного романа», в «Портрете Дориана Грея» налицо еще две литературные традиции: черная готика в духе Эдгара По (тайна портрета) и декадентский эстетизм на французский манер. Уайльд всегда восхвалял Теофиля Готье и Малларме, но наибольшее творческое воздействие на него оказал Гюисманс.
Роман Гюисманса «Наоборот» вышел в 1884 году, а «Портрет Дориана Грея» – в 1890-м. У Гюисманса Уайльд позаимствовал прежде всего поэтику эстетского романа – барочные списки прекрасных вещей, каталоги изысканных наслаждений[924]. Герой выступает в амплуа коллекционера, ценителя тонких ощущений, и поиск редких эмоций приводит его от произведений искусства к чувственным экспериментам. Отсюда– также вытекающая из романа Гюисманса тема соблазна и искушения.
Многие читатели спрашивали Уайльда, кто автор «отравляющей» желтой книги, описанной в романе. Хотя в тексте прямо не упоминается «Наоборот» Гюисманса, описание источника достаточно прозрачно: «То был роман без сюжета, вернее – психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков…»[925] В письмах Уайльд давал разные версии. Ральфу Пэйну он ответил, что «такой книги не существует. Это целиком плод моего воображения»[926], однако другому читателю признался: «Книга в “Дориане Грее” – одна из многих мною ненаписанных книг, но она частично навеяна “Наоборот” Гюисманса… Это фантастический вариант гюисмансовского сверхреалистичного этюда на тему артистической натуры в неартистический век»[927].
«Артистическая натура» в романе разложена на три персонажа. Согласно Уайльду, «Бэзил Холлуорд – это я, каким я себя представляю; лорд Генри – это я, каким меня воображает свет; Дориан – каким я хотел бы быть, возможно, в иные времена»[928].
Прототипом Дориана Грея был вовсе не лорд Альфред Дуглас, как думают многие. Оскар Уайльд впервые повстречался с ним уже после публикации романа – в 1891 году. Это был поразительный пример «обратного» влияния искусства на жизнь, когда сильный сценарий осуществляется почти помимо воли его участников. В романе даже содержится прямое предсказание судьбы автора – художник Бэзил Холлуорд («я, каким я себя представляю») предчувствует свою гибель в результате встречи с Дорианом Греем: «Меня охватил какой-то инстинктивный страх, и я понял: передо мной человек настолько обаятельный, что, если я поддамся его обаянию, он поглотит меня всего, мою душу и даже мое искусство. Внутренний голос говорил мне, что я накануне страшного перелома в моей жизни. Я смутно предчувствовал, что судьба готовит мне необычайные радости и столь же изощренные мучения…»[929]
Художник Бэзил Холлуорд – хранитель этической традиции, уязвимый искатель любви и справедливости. Он ближе Уайльду – автору детских «андерсеновских» сказок, обреченному на фиаско в «железный» век. Показательно, что он проигрывает соревнование за Дориана более опытному денди. Но и лорд Генри – не просто эстет, изрекающий циничные сентенции. Ведь именно он выступает как проводник в мир искусства и приобщает Дориана к коллекционированию редкостей. Собирать старинные ткани его надоумил не кто иной, как лорд Генри: во время одной из первых встреч со своим любимцем он опаздывает, поскольку «присмотрел на Уордор-стрит кусок старинной парчи, и пришлось торговаться за нее добрых два часа»[930].
Лорд Генри – более авторитетная фигура и потому, что воплощает собой излюбленную уайльдовскую парадигму «критика как художника». Критик для Уайльда выступает идеальным адептом чистого искусства: «С высокой башни мысли можем мы взирать на мир. Спокойно, сосредоточенно созерцает жизнь эстетический критик, и никакая пущенная наудачу стрела не может пробить его латы. Он по крайней мере в безопасности. Он понял, как надо жить»[931].
Уайльдовский критик занят созерцанием прекрасного и совершенствованием собственного образа жизни. В итоге этот утонченный эстет, провозглашая манифест творческого гедонизма, становится для Уайльда новым денди. Этот важный сдвиг разделяет, заметим, концепции Уайльда и Бодлера. Если для Бодлера образ денди фактически приравнивался к художнику, то Уайльд переносит акценты: созерцающий и рефлектирующий критик для него имеет безусловный приоритет перед художником, занимая позицию «над битвой» и всегда сохраняя безопасную дистанцию. Как видим, дендистская забота о стиле, незаинтересованность и отстраненность от происходящего получают в декадансе новое смысловое наполнение.
Уайльдовский дендизм и кэмп
«У каждого поколения есть свои любимцы, которые лидируют в светском обществе и в то же время следуют за ним. Занимаясь главным образом тривиальными мелочами, они тем не менее являют собою людей, наделенных незаурядным талантом и характером, как Браммелл, Литтон и д’Орсе. Но Уайльд довел эту позу до предела и сделал ясным то, на что они намекали. Хорошо знавшие его понимали, что сверхэлегантный наряд – только незначительное проявление его дендизма. Он подчинил все свое существование единому образцу, формуле изящества, не лишавшей его стиль достоинства. Он всегда был на высоте, даже когда смеялся над самим собой (что он частенько делал), и даже его почерк демонстрировал сознательную красоту формы»[932].
Это типичное мнение о дендизме Оскара Уайльда, и Артур Саймонс здесь формулирует парадоксальный и интересный момент: элегантный наряд – не главное, гораздо важнее сознательное эстетическое жизнетворчество личности, интонация свободы, принцип «быть все время на высоте». Образ классического денди-эстета – изначальное и самое успешное светское амплуа Уайльда. Во многом Уайльд был продолжателем дендизма эпохи Регентства – и по стилю одежды, и по характеру острот, и по манере подавать себя. Но было в нем и нечто новое – умение смотреть на свою дендистскую маску со стороны: именно благодаря этому он смог стать автором замечательных пьес, в которых наряду с другими героями выведены и щеголи.
Денди присутствуют почти в каждой драме Уайльда и нередко являются ключевыми персонажами. В авторских ремарках Уайльд дает им предельно четкие характеристики. О лорде Горинге из «Идеального мужа» сказано: «Ему тридцать четыре года, но он всегда говорит, что ему меньше. Совершенно лишенное выражения лицо – маска благовоспитанности. Умен, но всячески это скрывает. Безукоризненный денди, он больше всего боится, как бы его не заподозрили в чувствительности. Жизнь для него игра, и он в полном ладу с миром. Ему нравится быть непонятным. Это как бы возвышает его над окружающими»[933]. Эта лапидарная «сумма» дендизма – как бы напоминание об уже известном, освоенном в литературе типе характера, но также и саркастическое авторское отстранение от своего героя.
По сюжету лорд Горинг оказывается главным вершителем судеб остальных персонажей: именно благодаря его уму разрешаются запутанные коллизии. В решающий момент, как гласит авторская ремарка, «в нем обнаруживается философ, скрытый под внешностью денди»[934]. Но если присмотреться повнимательнее к дендизму лорда Горинга, сразу зарождается подозрение, что это почти пародия. «Входит лорд Горинг. Он во фраке, с бутоньеркой в петлице, в цилиндре и белых перчатках, на плечи накинут плащ, в руках трость в стиле Людовика XVI – не упущен ни один атрибут современной моды. Видно, что он с ней теснейшим образом связан, сам ее создает и, таким образом, возвышается над нею. В истории человеческой мысли он первый философ, умеющий хорошо одеваться»[935]. Поначалу действительно кажется, что перед нами – тщательно выписанный портрет лидера моды. Но последняя фраза не позволяет зрителю принять все предыдущее за чистую монету. Интонация Уайльда здесь неподражаема, а ирония неожиданна и оттого тем более действенна.
После столь многообещающего начала следует изумительный диалог лорда Горинга со своим дворецким Фиппсом:
«Лорд Горинг. Что, принесли уже мою вторую бутоньерку, Фиппс?
Фиппс. Да, милорд. (Берет у него цилиндр, трость и плащ и подает на подносе новую бутоньерку.)
Лорд Горинг. Довольно изящная! В настоящее время, Фиппс, из всех сколько-нибудь приметных людей в Лондоне я один ношу бутоньерки.
Фиппс. Да, милорд. Я это заметил.
Лорд Горинг (вынимает старую бутоньерку из петлицы). Видите ли, Фиппс, модно то, что носишь ты сам. А немодно то, что носят другие.
Фиппс. Да, милорд.
Лорд Горинг. Так же как вульгарность – это всего просто-напросто поведение других людей.
Фиппс. Да, милорд.
Лорд Горинг. (Вдевает новую бутоньерку в петлицу). А ложь – это правда других людей.
Фиппс. Да, милорд.
Лорд Горинг. Другие – это вообще кошмарная публика. Единственное хорошее общество – это ты сам.
Фиппс. Да, милорд.
Лорд Горинг. Любовь к себе – это начало романа, который длится всю жизнь, Фиппс»[936].
Этот, по сути, монолог представляет из себя цепочку афоризмов, пародийность которых нарастает с каждой репликой. «Манифест» дендизма перед вышколенным дворецким выдержан в лучших традициях авторской самоиронии – ведь многие из этих реплик светская молва приписывала самому Уайльду. Да и даже в качестве «серьезных» парадоксов они уже звучали и варьировались в более ранних вещах – в частности, в романе «Портрет Дориана Грея» из уст лорда Генри.
Здесь мы имеем дело с особым явлением – обозначим его два главных признака. Во-первых, автор собственноручно доводит ряд близких ему идей до уровня шаржа. Во-вторых, в сниженном виде эти идеи делаются доступными для массового потребления. Кроме того, сам автор благодаря иронии сохраняет дистанцию, хотя чувствуется, что знает предмет «изнутри». Этот феномен был распознан и получил свое название только в XX веке – «кэмп».
Понятие «кэмп» (camp) ввела в широкий критический обиход американка Сьюзан Зонтаг[937]. В своей программной статье 1964 года она определила кэмп как вариант эстетизма, акцентирующий пристрастие к искусственному, преувеличенному. Кэмп для Зонтаг – особый модус «чувствительности» (sensibility), связанный с городской культурой в ее наиболее театрально-карнавальных моментах, – травестия, переодевания мужчин в женщин на гей-парадах.
Кэмп эзотеричен – он всегда рассчитан на узкий круг посвященных. Отсюда вытекает и особая театральность культуры кэмпа: умеющие носить маски и узнавать «своих» по маскам могут рассчитывать на понимание. Игры с секретностью, провокация, кокетство и готовность приоткрыть тайну понимающему – элемент кэмпового стиля. Кэмп во многом вытекает из «голубой» культуры, но шире ее по эстетическим рамкам. В кэмпе приветствуется образ андрогина во всех вариантах – «в мужественных красавцах самое прелестное – толика женственности, а в прекрасных женщинах – толика мужественности»[938]: таковы идеальные «архетипические» лица Греты Гарбо и Марлен Дитрих. Чтобы сделать эти рассуждения более конкретными, приведем примеры эстетики «кэмпа» по Зонтаг:
Живопись прерафаэлитов
Лампы Тиффани
Стиль Ар-нуво
Балет «Лебединое озеро»
Рисунки Обри Бердслея
Женская одежда 20-х годов XX века (боа из перьев; платья с бисером и бахромой)
Оперы Рихарда Штрауса
Марлен Дитрих в фильме «Дьявол – это женщина»
Бетт Дэвис в фильме «Все о Еве».
Рок-певица Джони Митчелл.
Этот список – достаточно разнородный, но все же дает повод для разговора. Видно, что кэмповая чувствительность замешена на гротеске, преувеличении, культе искусственного.
С самого начала предпринимались попытки «рассортировать» разные проявления кэмпа. Еще в 1954 году Кристофер Ишервуд в романе «Мир вечером» предложил различать «высокий» и «низкий» кэмп. На наш взгляд, это разграничение можно и сейчас применять в критике. Так, в современной российской культуре «высокий» кэмп представляет Андрей Бартенев, а «низкий» – Вадик Мамышев, когда он изображал Мэрлин Монро. И с этой точки зрения костюм Уайльда в Америке – пример «высокого» кэмпа.
Сьюзан Зонтаг, со своей стороны, выделяет наивный и серьезный полюс поэтики кэмпа. «Чистый», наивный кэмп – искренняя попытка «сделать красиво», что порой дает эффект китча – как экстравагантные наряды танцовщиц кабаре. Серьезный кэмп отягощен рефлексией, но не менее выразителен: лучшие герои Оскара Уайльда «кэмпуют» всерьез. Корифей серьезного кэмпа – безусловно, Сальвадор Дали, который, кстати, с удовольствием разыгрывал из себя денди.
Кэмп – тонкий баланс между наивностью и серьезностью, помогающий удерживать интонацию самопародии. «Быть естественным – это поза, и самая ненавистная людям поза!» – иронически сетует уайльдовский лорд Генри[939]. Зонтаг развивает этот парадокс: «Суть кэмпа – опровержение серьезности… Кэмп подразумевает новое, более тонкое и сложное отношение к серьезности. Можно говорить серьезно о фривольном и фривольно – о серьезном»[940]. Это стратегия «агрессивной самозащиты», современная модификация романтической иронии. Кэмп вводит новые принципы: искусственность как идеал; театральность. Это стихия комедии, требующая отвлеченного взгляда на вещи (трагедия, напротив, подразумевает полную вовлеченность в происходящее).
И вот в этой точке рассуждений Сьюзан Зонтаг вновь всплывает дендизм: «Отвлеченный взгляд на вещи – прерогатива элиты, а поскольку денди – суррогат аристократа XIX века в культуре, то кэмп – это современный дендизм. Кэмп – это ответ на вопрос, как быть денди в эпоху массовой культуры»[941]. В чем же заключается ответ на этот вопрос? Согласно Зонтаг, денди предыдущего поколения ценили редкости, ратовали за хороший вкус, а «знаток кэмпа открыл для себя иные источники наслаждения: это уже не латинская поэзия, редкие вина и бархатные пиджаки, а самые простые и грубые удовольствия массового порядка. Вещи не теряют в его глазах, если ими обладают другие, поскольку он научился пользоваться ими в одному ему присущей манере. Кэмп – дендизм эпохи массовой культуры – не делает различия между уникальными вещами и предметами массового производства. Кэмповый вкус снимает отвращение к репликам»[942].
Дополнительный «бонус» для любителей кэмпа состоит в том, что они, отрешившись от ограничений школьного «хорошего вкуса», обнаруживают для себя ранее не изведанные возможности «хорошего вкуса в плохом вкусе», по выражению Зонтаг. Это очень раскрепощающее открытие: в одежде, допустим, можно комбинировать vintage и дизайнерские вещи. Современный живой пример «хорошего вкуса в плохом вкусе» – Вивьен Вествуд. Именно Вествуд, смело используя элементы уличной моды и панк-стиля, потрясла каноны английской классики и по праву считается «бабушкой» британского авангарда.
В предельном случае кэмп, как считает Зонтаг, позволяет новому денди даже примириться с вульгарностью: «проявления вульгарности отвращают и утомляют традиционного денди, а знатока кэмпа – всего лишь забавляют или приводят в восхищение».
В этом пункте понятие кэмпа уже неприменимо к Оскару Уайльду, поскольку он, как мы помним, всегда высмеивал вульгарность. Его игривые афоризмы нацелены прежде всего на узкие понятия буржуазной морали и светской благопристойности. Зонтаг справедливо считает Уайльда переходной фигурой – ведь он был сторонником высокого эстетизма в искусстве. Но главное, что сделал Уайльд для развития кэмповой «чувствительности», – ощущение «эквивалентности» вещей: подчеркнуто провозглашая свой восторг по поводу голубого фарфора, дверных ручек, шейных платков и бутоньерок, он предвосхитил «демократический дух кэмпа». (В этом пафосе эстетизации жизни – добавим мы – Уайльд был не столь уж оригинален, продолжая идеологию Уильяма Морриса, прерафаэлитов и «движения искусств и ремесел».) Не случайно одна из его американских лекций была посвящена интерьеру.
Современные сторонники кэмпа, развивая уайльдовский «новый гедонизм», изыскивают для себя дополнительные источники креативности в «хорошем вкусе плохого вкуса». Это делает их свободными, позволяя им отважно и остроумно синтезировать разные стили. Кэмпист может с легкой душой отправиться на блошиный рынок и отыскать там среди хлама гравюры Гаварни, но одновременно прикупить боа из фиолетовых перьев.
Наконец, последний тезис Зонтаг: кэмп тесно связан с «голубой» культурой, хотя эти понятия не совпадают. Среди геев часто встречаются любители кэмпа, но это вовсе не означает, что геи обладают монополией на кэмп. Геям, нередко претендующим на роль «аристократии вкуса», импонирует в кэмпе декадентски-травестийная интонация, особый замес иронии и эстетизма.
Попытаемся обобщить: после Уайльда в спектре дендистской харизмы прибавляется заметный оттенок «голубизны». Если до Уайльда щеголи зачастую могли спокойно демонстрировать свое пристрастие к модным туалетам, не вызывая обывательских подозрений насчет своей сексуальной ориентации, то теперь любой денди сталвосприниматься как потенциальный гей. Декадентский дендизм приобрел ореол опасности и запретного эротического шарма.
Судебный процесс Уайльда и его беспрецедентно смелая речь о «любви без имени» превратили его роман с лордом Альфредом Дугласом в текст культуры, в живую легенду, которая вошла в историю и оказала на умы его современников не меньшее (а может, и гораздо большее) воздействие, чем «Портрет Дориана Грея». Молодые люди стали отождествлять себя с Уайльдом и его героями – в известной книге Хэвлока Эллиса[943] описано несколько историй юношей, которые осознали свою принадлежность к голубому сообществу благодаря первому публичному обсуждению этой проблематики во время процесса.
Уайльд заплатил дорогую цену за завершенность своей жизненной легенды – решив идти до конца, он не уехал из Англии, когда приговор был уже ясен и все друзья советовали ему эмигрировать. Но он счел это недостойным бегством и остался. Годы в заключении, полностью подорвавшие его здоровье и лишившие его последних иллюзий относительно Альфреда Дугласа, стали заключительной главой в этом трагическом сценарии. В своем самом сильном тексте «De profundis», написанном в тюрьме, Уайльд производит последний расчет не только с лордом Альфредом Дугласом, но и со своим дендистским прошлым: «Я поддался очарованию бессмысленной и чувственной легкости. Я развлекался тем, что изображал из себя фланера, денди, модника. Я окружил себя мелкими и низкими людьми. Растрачивать свой гений и пускать на ветер вечную юность доставляло мне странное наслаждение. Устав от пребывания на вершинах, я намеренно спустился в самые бездны в поисках новых ощущений. Перверсии в сфере страсти стали для меня тем же, что и парадокс в сфере мысли»[944]. Но замечательно, с каким блеском и грацией признается Уайльд в своих «грехах» – он остается самим собой и в период тяжелейших испытаний.
Судьба Уайльда стала страшным предостережением для других «людей лунного света». Многие англичане-геи покидали Англию, надеясь найти приют в более либеральной Франции. Однако и там мораль высшего общества тоже не отличалась особой терпимостью по отношению к голубым – недаром граф Робер де Монтескью никогда не обнародовал свои гомосексуальные наклонности, а Марсель Пруст даже в романе счел более безопасным превратить своего юношу-возлюбленного в прелестную Альбертину. В Англии же память о процессе Оскара Уайльда держалась несколько десятилетий, фактически исключив голубые темы из общественной и литературной жизни: замечательный роман Э.М. Форстера «Морис» (1912) был опубликован, согласно авторской воле, лишь после смерти писателя, в 1971 году[945].
Жизнетворчество Уайльда – предельно полная реализация того подспудного трагизма, который заложен в дендистских биографиях. Эта трагическая составляющая уже была обозначена в истории Браммелла, особенно во французский период его жизни, когда он кончил свои дни в нищете и в безумии. Она все время просвечивала в жизни Бодлера и даже внешне счастливого графа д’Орсе. «Желание красоты – это просто усиленная форма желания жизни», – писал Уайльд[946]. Позднее, увы, он сам с горечью зафиксировал, что после тюрьмы потерял joie de vivre, необходимую для писания.
Итак, в чем же специфика уайльдовского дендизма? Благодаря Оскару Уайльду европейский дендизм принял «вызов» массовой культуры, выработав эстетику кэмпа. В деятельности Уайльда происходит переход от элитарного дендизма к игривому кэмпу. Поездка Уайльда в Америку оказалась первым опытом «коммодификации» дендизма – превращения его в коммерческий товар массового спроса. Этому способствовал и костюм Уайльда в Америке – эклектичный ансамбль, рассчитанный на эпатаж, и его лекции, представляющие собой коллаж из основных идей эстетизма. Уайльд умудрился соединить формальную ясность французских трактатов о дендизме с глубиной прозрений Патера, Рескина и Россетти. Американское турне Уайльда стало первым удачным экспериментом по популяризации дендизма – но в результате дендизм в сознании публики почти уравнялся с набором расхожих поз и иронических афоризмов. Этот синтетический вариант дендизма был уже снабжен оптимальной рекламной упаковкой и готов для вхождения в массовую культуру. С легкой руки Оскара Уайльда декадентский дендизм превратился в успешный бренд: «коммодификация» дендизма завершилась.
Дендизм после Оскара Уайльда
Какова судьба дендистского стиля после Оскара Уайльда? Бархатные сюртуки и береты в глубоких фиолетовых, горчичных и синих тонах в сочетании с изящными аксессуарами превратились в эмблему художественной богемы и неоднократно «цитировались» нашими мирискусниками, а позднее Сесилом Битоном, Стивеном Теннантом и Хэролдом Эктоном. На рубеже веков образ утонченного денди-эстета, выразительно представленный Уистлером и Робером де Монтескью, продолжает развиваться в наиболее целостном виде именно в Англии.
В 1896 году выходит очерк сэра Макса Бирбома «Денди и денди». На первый взгляд – это продолжение традиции дендистских трактатов. Но, присмотревшись поближе, замечаешь, что в ткань текста внедрены микроскопические зеркала иронической рефлексии.
Денди, о котором с напускным восхищением повествует сэр Макс Бирбом, всю жизнь вел дневник своих туалетов. Каждый год он начинал новый том Journal de Toilette, и на момент знакомства с сэром Максом Бирбомом у него якобы уже накопилось 50 томов – можно сказать, целое собрание сочинений. «На первой странице красовалась подпись мистера Ле В. и двух его камердинеров. Каждая следующая страница отведена, как в дневниках, одному дню. На расчерченных листах подробно описаны фасон и ткань костюма, цвет шейного платка, какие аксессуары были выбраны. Все детали запечатлены полностью, отдельное место на странице отведено под замечания»[947]. Неизвестно, существовал ли подобный дневник на самом деле – скорее всего, это плод иронической фантазии Макса Бирбома, – но даже если это выдумка, то все равно она удачна и изобретательна: ведь альбомы с образцами тканей и описаниями ансамблей (правда, без «авторских замечаний») реально существовали в XVIII веке и доныне хранятся в музейных собраниях. Мистер Ле В. – конечно, персонаж, придуманный сэром Максом Бирбомом. Но характер обрисован настолько живо и узнаваемо, что, без сомнения, портрет был списан с натуры. Это денди-эстет, который благоговейно хранит щегольские традиции: как в свое время Браммелл, он отводит первую половину дня на ритуал туалета, во время которого принимает поклонников и визитеров. Присутствовать на его petit lever – школа хорошего вкуса и тщательного ухода за собой для восторженных учеников.
В очерке сэра Макса Бирбома дано любопытное описание, как этот щеголь структурирует свое время и пространство. Его жилище расположено на улице Сент-Джеймс – в центре клубного квартала Лондона. «В первой комнате Маэстро спит. После того как его пробудит в семь часов один из камердинеров, он переходит во вторую, где принимает ванну, моет голову и ему делают маникюр. Затем в белом шерстяном халате он выходит в третью комнату, где его уже ждет завтрак на маленьком столике, письма и газеты. Просматривая их, он неторопливо потягивает шоколад. Покуривая сигарету, размышляя о новостях и о погоде, он прислушивается к своему настроению и обдумывает предстоящий день. Наконец его настроение оформляется и подсказывает ему, какой цвет и фасон предпочтительнее на сегодня. Тогда он звонит камердинеру: “Принесите такой-то костюм, такой-то галстук, брюки должны быть только этого оттенка, а к галстуку потребуется именно эта булавка”.
Обычнокполуднюондобираетсядочетвертойкомнаты, гдеисовершается туалет. Непосвященному трудно даже представить, насколько впечатляюща эта церемония. Я вспоминаю, когда пишу, всю сцену – комнату со строгой обстановкой, стены лимонного цвета, поместительные шкафы из белого дерева, юных франтов, philomathestatoi ton neaniskon, устроившихся на длинной скамье, застывших в восхищении, а в середине, то сидя, то небрежно стоя перед большим зеркалом, священнодействует мистер Ле В., наш учитель, а сбоку ему ассистируют два камердинера. В его движениях – никакой спешки, никаких запинок, ведь костюмный план на сегодня уже определен. Это спокойный туалет, даже цветок не произрастает спокойнее»[948].
Под конец этого пассажа знаменитая фирменная ирония Бирбома, конечно, выходит на первый план: чем безудержнее панегирический тон, тем она ощутимее. Впрочем, если отвлечься от иронической интонации, перед нами очень ценное описание дендистских манер конца века. Самое главное в них – это то, как мистер Ле В. прислушивается к своему настроению, дает ему вызреть. Он ловит свое драгоценное впечатление, момент кристаллизации внутренней атмосферы. Такой метод культивировался в импрессионистической литературной критике того времени, ярче всего его выразил Анатоль Франс. С его точки зрения, критик должен внимательно прислушиваться к своим чувствам и чутко фиксировать самые мимолетные переживания во время чтения книги, а затем передать эти впечатления читателям, заразить их своими эмоциями.
Мистер Ле В. – отчасти собрат дез Эссента и Дориана Грея, недаром в его туалетной комнате декадентские лимонные обои. Но если именитые эстеты ловили нюансы эмоций при созерцании произведений искусства, то мистеру Ле В. вполне достаточно газеты, писем и оценки утренней погоды. Если дез Эссент планировал свое жилище как эстетский рай, продумывая каждую деталь, то здесь мы видим размеренный переход героя из комнаты в комнату по строгому дневному распорядку. Его «королевский» petit lever – ироническая версия браммелловских полуденных приемов.
В первые десятилетия XX века традиции дендистского эстетизма продолжает писатель Рональд Фирбенк[949]. Будучи «одним из тех людей, которые натурально искусственны и искренне парадоксальны», он обожал носить экстравагантные костюмы: собираясь с визитом, он мог надеть розово-лиловые брюки в черную полоску и шелковую шляпу, но чаще предпочитал изысканно заломленные котелки. Многие сравнивали его с бабочкой: знаковая метафора дендистского стиля и темперамента. Его излюбленными блюдами были клубника, персики, шампанское и вино «Монте Фиасконе». Чувственное совершенство было для него главным критерием: даже в библиотеке он выбирал книги по красоте переплета или «приятным пропорциям страницы»[950]. А свои собственные произведения, выдержанные в ретро тональности пряного декаданса fin de siècle, он писал на больших голубых открытках. В своем последнем письме он извинялся перед приятелем, что не может принять его в гостинице, «но не по причине болезни, а потому, что обои в его спальне так ужасны»[951]. Даже после смерти Фирбенка современники нередко вспоминали его необычный «внезапный, дребезжащий, неодолимый хохот»[952] – этот запоздавший декадент и в жизни, и в творчестве блестяще освоил кэмповую стилистику Оскара Уайльда.
Родословная «эстетов», как мы помним, восходит к английским щеголям второй половины XVIII века «макарони», увлекавшимся французской и итальянской модой и носившим самые причудливые и замысловатые наряды. Обыватели во все времена относились к мужчинам-модникам с подозрением, но эстеты конца XIX века уже выступали в невидимой броне кэмпа. Самоирония дарила им волшебную неуязвимость: не столь легко потешаться над героем, над которым уже заблаговременно посмеялся повествователь. Парадоксальным, но верным гарантом дальнейшего существования эстета в литературе XX века послужила удачно найденная кэмповая интонация – она-то и обеспечила выживаемость денди как культурного героя.
Резюме: периоды европейского дендизма XIX века
Можно выделить три основных периода развития европейского дендизма. Первый – британский дендизм первых десятилетий XIX века. Центральной фигурой здесь является, безусловно, Бо Браммелл, вплоть до его отъезда во Францию в 1816 году. Именно Браммеллу удалось создать образ денди, завершенный во всех сферах – телесности, костюма и поведения. Главная заслуга Браммелла – утверждение новой экономно-аскетической эстетики мужского костюма, ориентированной на неоклассицизм. Благодаря своему авторитету лидера моды он сумел закрепить важнейшую тенденцию «великого мужского отказа», которая стала доминирующей в первой трети XIX столетия.
Однако столь же существенно, что Браммелл изобрел особую дендистскую «риторику», превращающую его жесты и поступки в текст культуры, благо эстетика позднего романтизма полностью подготовила почву для подобного восприятия индивидуальных творческих «причуд». Его остроумные реплики и неожиданные стилевые новации автоматически претворялись в многочисленные анекдоты и легенды, образовавшие устойчивый слой городского фольклора. Эту программу жизнетворчества затем воспроизводили его поклонники и последователи. В эпоху Регентства были сформулированы основные «правила» дендистского поведения и выработаны телесно-гигиенические нормы. Британский дендизм первого периода реализовался в основном на уровне социальной практики, где демонстрировались и оттачивались стилистика внешности и костюма, владение манерами и в конечном счете весь образ жизни. Кодекс дендистского поведения, однако, был достаточно гибким, подразумевая множество скрытых игровых возможностей, позволяющих нарушать условности: розыгрыши, светские скандалы, холодная наглость, «подколки».
Литературный канон дендизма стал оформляться только в конце 20-х годов, когда была запущена серия «модных» романов издателя Генри Коулберна. Эти романы, в которых денди были главными героями, воспринимались как учебники хорошего тона и светских манер. Благодаря их сенсационному успеху денди быстро превратился уже не только в социальный, но и в литературный тип, а дендистские хронотопы – салон, клуб, бал, опера – в привычные декорации этого жанра. В «модных» романах была детально отработана система «виртуального» аристократизма – отныне амбициозные молодые люди могли претендовать на знание аристократического стиля, исходя из литературных источников.
Однако в Англии с 30-х годов XIX столетия развитие дендизма начинают блокировать консервативные настроения, которые исходят от журнала «Fraser’s magazine». Дендизм становится объектом сатиры Карлайля в его романе «Перекроенный портной» и затем в произведениях Теккерея. Викторианский пуризм обеспечивает окончательное «торможение» дендизма в Англии вплоть до 1880х годов, открывающих эпоху декаданса. Единственное отрадное исключение на этом тусклом фоне – граф д’Орсе, вызывающе блистательный денди, который умудряется благодаря своей уникальной харизме быть в эпицентре лондонской светской жизни 1830–1840-х годов (правда, этот персонаж символически скорее принадлежит французской культуре).
В 1830-е годы эстафета европейского дендизма переходит во Францию, тем самым открывая второй период. Под влиянием перевода «модных романов» и англомании во Франции зарождается свой вариант дендизма, характерные особенности которого – интеллектуализм и непосредственная связь с процессами оформления европейского общества модерна. Дендизм превращается в философию городской жизни. В нем возникают такие мотивы, как фланирование, умение быть на виду, с ходу произвести приятное впечатление. Взамен прежней британской стратегии «исключительности» (эксклюзивизм) будущие денди получают набор рациональных рецептов элегантности. Браммелловский черный фрак, изначально бывший атрибутом его личного уникального стиля, становится для среднего класса повседневным костюмом, чему способствует ширящееся производство готовой одежды. В связи с этим перестраиваются механизмы визуального восприятия: знаковые детали костюма отныне воспринимаются как главные «улики» при определении социального статуса.
В это время дендизм обретает солидную теоретическую базу в рамках особого жанра – трактата о моде. Ключевые тексты этой новой традиции – «Трактат об элегантной жизни» (1830) Бальзака, книга Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле» (1845), статья Теофиля Готье «О моде» (1858) и очерки Бодлера «Художник современной жизни» (1863). В них денди уже предстает как герой модерна со своей продуманной программой на стыке литературы и моды. Этот новый персонаж городской повседневности исследует не изведанные ранее возможности самовыражения: осваивает пространство кафе и бульвара; тренируется в костюмно-социальных метаморфозах; фланируя, отрабатывает «теорию походки»; анализирует случайных прохожих; с восхищением описывает дамские кринолины и косметику. В результате образ денди приобретает черты богемного художника, а дендистская модель поведения, изначально основанная на джентльменском кодексе, демократизируется за счет вольного артистизма парижской богемы.
Третий период развития дендизма непосредственно связан с европейским декадансом. Литературный канон дендизма продолжают романы «Наоборот» (1884) Гюисманса, «Портрет Дориана Грея» (1891) Оскара Уайльда и «Зулейка Добсон» (1911) Макса Бирбома. В этих текстах денди завершает свою эволюцию от богемного художника до утонченного эстета. Основные лейтмотивы – искусственность, лицо и маски, борьба против вульгарности и дурного вкуса. Традиции эстетического жизнетворчества блестяще продолжает писатель Габриэль д’Аннунцио. Денди-эстет активно проповедует свою идеологию (просветительские лекции Уайльда) или выступает в роли покровителя художников: Робер де Монтескью постоянно патронировал многих деятелей Art Nouveau. Эстетская поза подразумевает обостренную восприимчивость, тренировку в различных видах чувственного восприятия – отсюда вытекают увлечение экзотикой и парфюмерный дендизм: ольфакторные «хобби» героев Уайльда и Гюисманса. Утонченность вкуса, разумеется, требует новых экспериментов в моде: черный фрак уже кажется сугубо банальным и буржуазным, и денди как лидер моды делает следующий шаг, увеличивая дистанцию: выстраивает «эстетский» ансамбль на игре цветовых оттенков – таковы серые костюмы Робера де Монтескью. В этот же период появляются самые значительные живописные портреты денди (творчество Уистлера, Болдини и Сарджента). С другой стороны, продолжается модернистская тенденция предметной объективации личности, начатая еще Бодлером. Образ денди балансирует на грани идеальной эмблемы человека-вещи, предвосхищая эстетику кэмпа в творчестве Оскара Уайльда и сэра Макса Бирбома.
Габриэль д'Аннунцио. 1900 г.
Связи между искусством и жизнью становятся как никогда прозрачными и обратимыми: граф Робер де Монтескью – прототип дез Эссента в «Наоборот», а этот роман, в свою очередь, послужил одним из источников для «Портрета Дориана Грея». Книга Оскара Уайльда тоже порождает массу подражателей – образ эстета, описав полный круг, возвращается в реальность. Однако и реальность предъявляет свой счет к любителям возвышенных жизнетворческих игр – процесс Оскара Уайльда привнес в декадентский дендизм элемент риска и запретного греха. Парадоксальным образом это возвращает дендизму первоначальный протестный потенциал, напоминая о романтических эскападах и демонизме лорда Байрона. Именно на этой волне неоромантических настроений уже в XX столетии денди отождествляется с «бунтующим человеком» (формула Альбера Камю) и – шире – маргиналом, наследником богемных свобод.
Резюмируем основные характеристики «декадентского» периода:
1) дендизм полностью встраивается в процессы европейской модернизации, осваивает стратегии «агрессивной самозащиты» благодаря эстетике кэмпа;
2) гомосексуальная составляющая дендизма впервые попадает в центр внимания в связи с делом Оскара Уайльда – почти не проявленная ранее «голубая» проблематика дендизма требует своего языка в культуре;
3) в эстетике дендизма окончательно торжествует принцип искусственности, который выводит на первый план сознательное жизнетворчество.
В XX веке дендизм утрачивает цельность как единый феномен культуры, охватывающий моду, литературу и кодекс поведения. Отдельные черты дендистской эстетики, конечно, продолжают действовать – это и стилевые новации людей со вкусом (принц Уэльский), и «голубая» креативность в моде, и многочисленные варианты кэмпа, и моменты нонконформистского бунта богемных художников… Подобные элементы нетрудно найти и радостно перечислить: их много, но все равно это лишь осколки зеркала. «Правильным» денди можно было быть только в XIX столетии. Дальше по-настоящему само слово «денди» надо заключать в кавычки и пользоваться им с большой осторожностью.
XIII. Дендизм в России
Русский петиметр: профессиональные риски
Щеголь, франт, петиметр, мюскаден, денди – как только ни называли в России мужчин-модников…[953] Кажется, они существовали всегда под разными именами, но во все времена и при любом политическом режиме умели выглядеть элегантно. Одни их недолюбливали, другие ими восхищались. Присмотримся для начала к щеголям XVIII столетия.
М.И. Пыляев в своей книге «Замечательные чудаки и оригиналы» описывает знаменитого князя Куракина, щеголя екатерининского времени. «Куракин был большой педант в одежде: каждое утро, когда он просыпался, камердинер подавал ему книгу, вроде альбома, где находились образчики материй, из которых были сшиты его великолепные костюмы, и образцы платья; при каждом платье были особенная шпага, пряжки, перстень, табакерка и т. д. Однажды, играя в карты у императрицы, князь внезапно почувствовал дурноту: открывая табакерку, он увидал, что перстень, бывший у него на пальце, совсем не подходит к табакерке, а табакерка не соответствует остальному костюму. Волнение его было настолько сильным, что он с крупными картами проиграл игру; но, к счастью, никто, кроме него, не заметил ужасной небрежности камердинера»[954].
Поведение Куракина в высшей степени типично для щеголя XVIII столетия. Для него согласованность деталей костюма – первое условие душевного спокойствия и основной способ самовыражения. Он ведет себя как классический придворный, использующий моду как устойчивый семиотический код, знак своего высокого положения, богатства и умения распорядиться собственным имуществом с наибольшим эффектом. Поэтому невольная небрежность в мелочах для него равнозначна потере статуса или раздетости.
Но в этой истории любопытно и другое: тон повествователя. Ведь М.И. Пыляев, написавший об этом происшествии в 1898 году, уже классифицирует его по разряду чудачеств, рассказывая о странностях характера персонажа. Между тем подобные анекдоты вполне обычны для европейских дендистских биографий. В России же конца XIX века придворная щегольская культура уже была во многом непонятна, поскольку даже при дворе воцарились стандартные темные сюртуки и черные фраки.
Интонация Пыляева содержит неизбежную иронию, но, заметим, с оттенком почтительного восхищения. Все объясняет следующий пассаж, где о Куракине с явной симпатией сказано: «Князь Куракин за всю свою жизнь не оскорбил никого»[955]. Этот этический критерий – решающий, хотя он высказан мимоходом. Поэтому повествователь не упрекает Куракина в легкомыслии и тщеславии, чего вполне можно было бы ожидать. К этому важному моменту нам придется еще вернуться.
Роскошный костюм Куракина был бы немыслим вне контекста уже существующей костюмной традиции, начало которой в России положил Петр I. Его реформы одежды способствовали появлению нового европейского стиля повседневного и парадного платья. Надлежащие образцы костюма выставляли в городах на чучелах-манекенах, и за отказ следовать им брался денежный штраф. В 1700 году Петр издал свои знаменитые указы, повелевавшие «всех чинов людям» брить бороды, носить немецкое и венгерское платье по будням и французское – по праздникам. Эти указы распространялись на все сословия, кроме духовенства, извозчиков и пахотных крестьян.
Что же за костюм насаждался петровскими реформами? Как отмечает Т. Коршунова, в Европе подобный ансамбль «сложился при дворе Людовика XIV и состоял из кафтана (жюстокора), камзола (весты) и штанов (кюлотов)»[956]. Он был достаточно непростым по отделке, с кружевными жабо и манжетами, украшался пуговицами (которых могло быть более сотни), вышивкой золотой или серебряной нитью, галунами. В первой половине XVIII века женские и мужские костюмы шили из одинаковых тканей: парча, бархат, узорчатый шелк, а для отделки мужских кафтанов использовали блестки, канитель, цветные зеркальные стекла, вставки из фольги. «В наиболее парадных костюмах пышный растительный узор почти сплошь покрывал грудь, полы и спинку кафтана»[957]. В мужском платье были приняты яркие тона – розовый, желтый, зеленый. Это считалось нормальным, и никто не упрекал придворного щеголя XVIII столетия в излишнем пристрастии к отделке и пестроте, поскольку таков был универсальный язык моды того времени[958].
Во второй сатире Антиоха Кантемира подробно описан франт того времени Евгений, замечательно осведомленный обо всех деталях модного кроя: он
понял, что фалды должны тверды быть, не жидки, В пол-аршина глубоки и ситой подшиты, Согнув кафтан, не были б станом все покрыты; Каков рукав должен быть, где клинья уставить, Где карман и сколько грудь окружа прибавить; В лето или осенью, в зиму и весною Какую парчу подбить пристойно какою; Что приличнее нашить: сребро или злато…[959]Любитель добродетели Филарет, упрекающий нашего франта за чрезмерное мотовство, тем не менее дает ему разумные советы
как выбрать цвет и парчу и стройно Сшить кафтан по правилам щегольства и моды: Пора, место и твои рассмотрены годы, Чтоб летам сходен был цвет, чтоб тебе в образу, Нежну зелень в городе не досажал глазу, Чтоб бархат не отягчал в летню пору тела, Чтоб тафта не хвастала средь зимы смело, Но знал бы всяк свой предел, право и законы…[960]Роскошная придворная мода европейского типа привела к распространению щегольства среди русских дворян как особой культуры самовыражения через одежду. Это был пример успешной модернизации не только платья, но и образа жизни, поскольку тем самым Россия встраивалась в общеевропейские тенденции исторического развития. На протяжении XVIII столетия мода еще несколько раз менялась, и в частности мужской гардероб в 1780-е годы упростился под опосредованным влиянием английского костюма, но все эти подвижки совершались в рамках заложенного в начале века Петром «большого» европейского стиля.
В XVIII столетии модниками были в основном приближенные ко двору состоятельные аристократы, «пестрый рой молодых царедворцев, заимствовавших свой блеск от светлости престола…»[961]. Но в Екатерининскую эпоху уже появился новый тип: франт среднего достатка, подражавший (нередко в весьма карикатурной форме) придворной моде. Такие щеголи именовались на французский манер петиметрами (petit-maître). Патриархальная структура российского общества диктовала сдержанное отношение к мужским нарядам: излишнее внимание к своему туалету осуждалось как проявление суетности и тщеславия – распространенный моралистический упрек модникам. Поэтому петиметры все время находились в «зоне риска». Постоянные «профессиональные риски» русского щеголя были связаны с недоверчивым отношением к франтовству со стороны окружающих.
Одетый по всем правилам петиметр уже в 80–90-х годах XVIII века неоднократно становился объектом сатиры в сочинениях просветителей Н.И. Новикова и А.А. Майкова, Н.И. Страхова и И.А. Крылова. И.А. Крылов, знаменитый баснописец, известный как «русский Лафонтен», в журнале «Почта духов» и в повести «Ночи» активно высмеивал приверженность к французским модам молодых щеголей (одного петиметра у него зовут Припрыжкин, а другого – Вертушкин).
В памфлете «Мысли философа по моде» И.А. Крылов дает иронические наставления начинающему петиметру, «как казаться разумным, не имея ни капли разума». Для этого надо говорить обо всем понемногу, сыпать чужими цитатами, шутить о важных вещах, скрывая свое невежество, уметь хорошо играть в карты, убивать время, забыть о скромности, усвоить, что ты – «счастливый трутень», не обязанный трудиться, и так далее. Светский щеголь в подобном ироническом освещении выглядит никчемным и одиозным созданием. Примечательно, что свою атаку на петиметров Крылов в первую очередь строит на уподоблении франтов дамам и детям, то есть в первую очередь разоблачая их претензии на мужественность.
Однако Крылов вовсе не высмеивает, как можно было бы подумать, костюм петиметра. Он сосредотачивается на манере изъясняться. Речи щеголя, согласно Крылову, похожи на женские: «Есть и другой способ говорить забавно без ума, буде только язык твой гибок и проворен, как трещотка; но это трудная наука, которой только у женщин учиться можно. Старайся подражать им, старайся, чтобы в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простой рассказ – все бы это, смешанное почти вместе, пролетало мимо ушей, которые тебя слушают»[962]. Парадоксальная логика Крылова такова, что коль скоро щеголь говорит, как женщина, то он будет нравиться женщинам. Символически отказывая ему в мужественности в речевом поведении, Крылов тем самым объединяет его со слабым полом, шаржированно-уничижительно оценивая как тех, так и других[963].
Аналогичный прием используется при сопоставлении щеголя с детьми, хотя тон памфлетиста при этом внешне менее агрессивный: он как бы «прощает» своего незадачливого героя – мол, что взять с невинного дитяти! «…Вы тогда спокойно занимаетесь игрушками; вас утешают зайчики, кареты, собаки, кафтаны, женщины, нередко случаются у вас и драки; но и дети ведь дерутся за свои безделки: ваши ссоры не важнее их, и потому-то вы не более их виноваты»[964].
Обе линии – обвинения в детскости и в женственности – замыкаются в сравнении петиметра с девочкой. Крылов пишет, что франт «своими рассуждениями о важных делах был так же забавен и основателен, как маленькая девушка за куклами»[965]. Так щеголь в обрисовке Крылова лишается и столь существенного признака «настоящего» мужчины, как способность здраво рассуждать о политике и науке. Сходные мотивы инфантилизма и женственности звучат и в сатирических инвективах Новикова и Страхова против любителей наряжаться.
Увлечение европейской модой непосредственно увязывалось в российском менталитете с западнической идеологией. Поэтому, в зависимости от политической конъюнктуры в отношениях с западными странами, франты были обречены испытывать те или иные неприятности. В России, видимо, в большем масштабе, чем в других странах, были попытки регламентировать моду сверху по чисто политическим мотивам, и потому модно одетый мужчина имел большие шансы стать «fashion victim» не только в переносном, но и в самом буквальном смысле.
Так, Павел I в первые же дни своего царствования в 1796 году издал специальные указы против современного европейского платья, поскольку оно для него символизировало либеральные идеи Французской революции. Как свидетельствует Вигель, «Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапог с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами со стоячим воротником, треугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами»[966]. Пытаясь повлиять на моду полицейскими методами, Павел посылал на городские улицы специальные наряды солдат, которые срывали с людей неугодные одежды, и несчастные щеголи были вынуждены добираться домой в полураздетом виде.
Ирония ситуации состояла в том, что гонимая мода была английского происхождения и привилась во Франции еще до революции. Круглую шляпу (topper), к примеру, ввели британские сельские джентльмены вместо общепринятой треуголки, равно как и ботинки вместо туфель, фрак (изначально предназначенный для верховой езды), короткий жилет вместо длинного придворного камзола. Они отказались от кружев на манжетах и жабо и роскошной вышивки, поскольку все эти атрибуты пышной придворной жизни плохо увязывались с активным образом жизни на свежем воздухе и такими традиционными британскими развлечениями, как охота на лис[967].
Попытки идти против истории (в данном случае – против внутренней логики развития мужского костюма) всегда обречены на провал, и потому неудивительно, что после смерти Павла в 1801 году его реформы одежды сразу были стихийно отменены: «Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных»[968].
В этом описании интересны не только детали быстрого возвращения старого стиля, но и социальная география моды: во-первых, в Москве революция в одежде происходит быстрее, так как этот город дальше от власти, чем столичный Петербург, и здесь щеголи меньше боятся неприятностей. Во-вторых, наиболее чутки к последним веяниям люди состоятельные – бедняки просто не могут себе позволить быстро сменить платье, поскольку это требует немалых расходов.
Какое-то время улицы Москвы и Петербурга являли собой любопытную картину смешения разнородных стилей. Пожилые франты екатерининского времени, сохранившие верность костюмам своей молодости, теперь стали восприниматься как ряженые: «На главных улицах Петербурга попадались люди в чисто маскарадных нарядах; в первые годы царствования императора Николая I было в живых несколько людей Екатерининского века, которые ходили по улицам в звездах, в плащах и золотых камзолах с раззолоченными ключами на спине, виднелись и старые бригадиры в белоплюмажных шляпах; не мало было и таких аристократов, которые по придворной привычке при матушке-царице приходили на Невский с муфтами в руках и с красными каблуками: этот обычай считался самым аристократическим и шел со времен королей французских»[969]. Это типичный случай «законсервированной» моды, которая указывает на свое историческое происхождение: красные каблуки впервые стали носить французские щеголи первой половины XVIII века. «Раззолоченный ключ» на спине – тоже говорящая деталь: это отличительный знак придворной должности камергера, который в XVIII веке прикрепляли сзади и слева на кафтане, а в XIX веке – на фалдах мундирного фрака[970]. Белоплюмажные бригадиры тоже принадлежали ушедшей эпохе, поскольку чин бригадира был отменен в 1799 году.
«Мод воспитанник примерный»
После отмены павловских указов мужская мода стала развиваться более естественно, с обычным для России отставанием во времени, но в русле европейских тенденций[971]. Российских франтов в начале XIX века по старинке еще называли «петиметрами». На смену костюму эпохи Французской революции постепенно в 10-е годы нового столетия пришел минималистский стиль британских денди. Он подразумевал простоту контура и экономность выразительных средств, а также столь немаловажный аспект, как эротичность мужского тела в рамках так называемой «нагой моды». «Панталоны шились в обтяжку; ибо между наружными достоинствами петиметра первым считалось «avoir la jambe bien faite». При входивших же в моду длинных и широких панталонахà la marinière или à la jacobine это достоинство, конечно, гораздо менее бросалось в глаза»[972].
Костюм этого времени носит переходный характер. Он еще отличается яркостью цветов и допускает украшения, но уже очевидна тенденция к упрощению и минимализму. В воспоминаниях Ю.К.Арнольда сохранилось подробное описание гардероба щеголя 1812 года. «Главнейшими предметами мюскаденского гардероба были разные фраки, и единственно только они носили почетное название: “habits”. Сертуков, в нынешнем смысле этого слова, тогда вовсе не существовало; то, что тогда именовалось “surtout”, действительно служило для надевания “сверх всего”, следовательно, соответствовало нынешнему пальто. Фраков надлежало петиметру иметь не менее трех: один для утреннего выхода по делам или с визитами; это был “habit pour aller en ville”. Принятым для него цветом, по законам моды, считался зеленый, оттенки которого соображались преимущественно с возрастом. Людям солидным приличествовало “vert foncé de bouteille”, более молодым “vert gris”, а совсем молоденькие носили vert de pomme. К dinеr en ville нельзя было иначе явиться, как во фраке синего (indigo) или темно-лазуревого цвета (azur de naples). Для балов, а равно для траурных церемоний были обязательны фраки черного цвета; характеристическое различие между одеждами двух этих назначений состояло в материи, употребляемой для подкладки и на отвороты (лацканы): для бального костюма требовался атлас, для траурного шерстяная материя (mеrinos).
Исподнего платья (haut de chausses) было два разряда: одно подлиннее, pantalons, доходящее до щиколоток, а другое короткое, culotte, оканчивающееся на вершок ниже колен, где на обеих ногах к наружному боку застегивалось золотою или серебряною пряжкою, иногда украшенной дорогими каменьями. Culotte всегда шилось из плотного черного атласа: это считалось обязательным для балов костюмом.
Панталоны употреблялись двух родов: одни, из манчестера, носились, когда выходили просто по делам; другие из тончайшего, атласовидного черного сукна (drapà la française) употреблялись для визитов, но допускались также и при одежде обыденной»[973].
Обрисованный Арнольдом туалет петиметра мало чем отличался от костюма европейского денди этого периода. В 10-е годы в Англии и во Франции также носили цветные фраки (возможно, правда, менялось смысловое распределение оттенков цвета в зависимости от времени суток, обстоятельств и возраста щеголя). Повсюду – и в Париже, и в Лондоне, и в Петербурге – мужскими портными и сапожниками были в основном немцы. Портные часто подсказывали подходящий тип материи и фасон.
Грамотно одетый щеголь узнавался не только по хорошему фраку, но и по верно подобранным сочетаниям других деталей. Например, к черным панталонам полагалось носить узорчатые носки из черного шелка и закрытые башмаки с небольшими пряжками. А с укороченными кюлотами сочетались длинные черные шелковые чулки и более открытые башмаки с крупными металлическими пряжками.
В приведенном описании костюма обращают на себя внимание французские термины, обозначающие цвета и фасоны и указывающие на существование модного иностранного жаргона среди франтов. Для России XIX века это было в высшей степени типично, ведь многие щеголи получали модные французские журналы. Так что Пушкин[974], описывая костюм Онегина, не зря жаловался:
Но панталоны, фрак, жилет, Всех этих слов на русском нет[975].Стилистические предпочтения в моде нередко прямо перекликались с позицией того или иного автора в дискуссиях об употреблении иноязычной лексики, что активно обсуждалось в то время. Как показал О.А. Проскурин, сторонники французской моды воспринимались как проповедники «вольнодумного космополитизма», разрушительных либеральных идей и, в частности, как губители чистоты родного языка. В дискуссии «О старом и новом слоге» не раз возникала параллель «язык – одежда». Тесная связь вопросов политической свободы и моды просматривается даже в действиях институтов власти. «В каком смысле и с какой целью вы, между прочим в беседах с Бестужевым, неравнодушно желали русского платья и свободы книгопечатания?» – спрашивал следователь Грибоедова на допросе по делу декабристов[976].
Полемизируя с карамзинистами, традиционалист А.С. Шишков создает образ щеголя-литератора, носителя «модно-галантерейного сознания», для которого призыв возродить исконное русское наречие столь же абсурден, как и попытки вернуться к старинным зипунам и кафтанам[977].
Однако Шишков беспокоился, по большому счету, напрасно. Дело в том, что в костюме российского денди даже при внешнем сходстве с европейским собратом все равно имелись отличия, сразу указывающие на национальную специфику.
Во-первых, российские денди нередко старались продемонстрировать в костюме свой материальный достаток и злоупотребляли дорогими аксессуарами. «Некоторые крезы и тут умудрялись выказать свое богатство, вставляя в середину каждой шелковой пуговицы по крупному брильянту»[978]. Заметим, что подобные приемы «потребления напоказ» (conspicuous consumption) всячески осуждались английскими денди, и Джордж Браммелл, в частности, на первых этапах своей дендистской карьеры отучал принца Уэльского от вульгарного, как он считал, пристрастия к бриллиантам.
Из аналогичных престижных деталей, популярных среди российских денди, можно выделить дорогую булавку, скрепляющую гофрированное батистовое жабо, перстни на пальцах и пару часов, преимущественно от Брегета. В последнем «удвоении» заключалось весьма заметное отличие от западной моды, поскольку европейцы, как правило, довольствовались одними. Часы носили в специальных кармашках с изнанки жилета, выпускали наружу массивные золотые цепочки, а на них вешали разные затейливые брелоки из драгоценных камней, иногда с вырезанной фамильной печатью.
Во-вторых, существенная особенность, издавна отличающая отечественных модников (и модниц), заключалась в том, что они всегда слишком старались, их усилия были очевидны, и это сразу выделяло их в толпе. Одежда, и в частности ансамбль, для них – абсолют; они пытаются во что бы то ни стало подогнать все детали, особенно по цвету, и, что еще хуже, обзаведшись приличным костюмом, нередко чувствуют себя в нем скованно, боятся сделать лишнее непринужденное движение, чтобы ненароком не испортить свой туалет. В желании «перефранцузить» французов они сразу обнаруживают статус «догоняющих», в то время как истинные щеголи, напротив, могут позволить себе некоторое отступление от жестких требований моды в угоду личному вкусу и удобству, демонстрируя спокойствие и расслабленность, свободные позы и жесты.
Третье отличие стиля отечественных денди было связано с необходимостью утепляться в зимнее время. При всем желании наших щеголей походить на французов приходилось считаться с отечественным холодным климатом. Для зимних выходов шили сюртуки из плотных шерстяных тканей, поверх накидывали плащи типа альмавивы или шубы. Именно всеобщее пристрастие к мехам зимой всегда бросалось в глаза путешественникам и составляло «местную экзотику».
Теофиль Готье, посетивший Россию в 1858–1859 годах, очень точно описал уличные типы: «Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху, цена на эти пальто удивляет иностранца, и наши модники отступились бы от такой покупки. Мало того что они сделаны из тонкого сукна на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от двухсот до трехсот рублей в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него. Пальто стоимостью в тысячу не представляет собою чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь. В Санкт-Петербурге можно было бы придумать поговорку: скажи, в какой мех ты одет, и я скажу, чего ты стоишь. Встречают по шубе»[979]. Как видим, нарочитое «потребление напоказ», поразившее Готье, в данном случае органично сочетается с требованиями сурового климата.
Будучи опытным щеголем[980], Готье понимал всю важность ансамбля и, в частности, отметил разные варианты сочетания головного убора с шубой: «Если вы, отказавшись от бесполезной элегантности шляпы, наденете ватную или норковую шапку, вам больше не помешает поднятый вверх воротник, который, таким образом, окажется мехом внутрь… Пожилые денди, строгие поклонники лондонской и парижской моды, не могут согласиться с ватным картузом и делают себе шапки, у которых сзади нет бортика, а лишь спереди пришит простой козырек. Ведь нельзя и помыслить в мороз опустить воротник. Ветер надует вам в открытую шею, и вы пострадаете от ледяного лезвия, которое так же пагубно, как и прикосновение стали к шее осужденного на смертную казнь»[981]. Техника одевания шубы стимулирует Готье на маленький этюд по изучению русского телесного жеста. Французскому литератору особенно интересно, как российские щеголи ловко надевают шубу, умудряясь при этом сохранить изящество: «Они накидывают шубу, продев в рукав одну руку, и глубоко запахивают ее, кладя руку в кармашек, сделанный на передней части. Уметь носить шубу – целое искусство, этому сразу не научишься. Незаметным движением шуба вскидывается за спину, рука продевается в рукав, шуба запахивается вокруг тела, как детская пеленка»[982]. (Заметим, кстати, что сам Теофиль Готье не преминул обзавестись в России бобровой шапкой!)
Российские денди, как видим, вынуждены отказаться от широкополых шляп, мешающих поднять воротник, но все же не согласны носить некрасивый, закрытый со всех сторон ватный картуз. Это своего рода эстетический компромисс.
В целом Готье нельзя отказать в наблюдательности, причем он не просто фиксирует внешний облик, а вскрывает социальные различия, на которые указывает одежда. В начале цитированного пассажа о шубах он точно заметил: «Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху…» Оговорка подчеркивает, что военные и служащие не могли появляться в шубах – ведь на том же проспекте «прежде всего вам бросаются в глаза гвардейские офицеры в серых шинелях с указывающим на их чин погоном на плече. Почти всегда у них грудь в орденах, каска или каскетка на голове. Затем идут чиновники в длинных рединготах со складками на спине, сдвинутыми назад под затянутым поясом»[983].
Ш. Козина. Портрет П.Я. Чаадаева
Особый отпечаток на российскую мужскую моду XIX века накладывали идеологические дискуссии между славянофилами и западниками. В них продолжался, уже на новом историческом витке, спор о старом и новом слоге и о национальном мужском платье. Выбор костюма порой целиком зависел от позиции его владельца в этом старинном споре. Либералы-западники предпочитали европейский стиль, и среди них было немало последователей дендизма. Знаменитый либерал П.Я.Чаадаев отличался, по свидетельству М.И. Жихарева, «необычайным изяществом» костюма: «Одевался он, можно положительно сказать, как никто. Нельзя сказать, чтобы его одежда была дорога, напротив того, никаких драгоценностей, всего того, что люди зовут “bijou”, на нем никогда не было. Очень много я видел людей, одетых несравненно богаче, но никогда, ни после, ни прежде, не видал никого, кто был бы одет прекраснее и кто умел бы достоинством и грацией своей особы придавать значение своему платью. В этой его особенности было что-то, что, не стесняясь, можно назвать неуловимым. На нем все было безукоризненно модно, и ничто не только не напоминало модной картинки, но и отдаляло всякое об ней помышление»[984]. «Я не знаю, – писал мемуарист, – как одевались мистер Бруммель[985] (Brummell) и ему подобные, и потому воздержусь от всякого сравнения с этими исполинами всемирного дендизма и франтовства, но заключу тем, что искусство одеваться Чаадаев возвел почти на степень исторического значения»[986]. Ю.М. Лотман, комментируя эту особенность стиля Чаадаева, замечал: «Область же экстравагантности его одежды заключалась в дерзком отсутствии экстравагантности»[987].
Немало любопытства современников вызывала холодность Чаадаева в отношениях с женщинами. Некоторые авторы, например К. Ротиков[988], не затрудняя себя, впрочем, особыми доказательствами, считают, что Чаадаев был «голубым». Мы бы скорее отметили, что подобное равнодушие в сочетании с эстетическим минимализмом в одежде типично для английских денди первого поколения, начиная с Джорджа Браммелла, никогда не имевшего любовниц и проповедовавшего строгую мужественность. В данном случае пуризм проявляется и в костюме, и в эротических предпочтениях.
Европейский дендизм, который ощущали в Чаадаеве современники (среди прочих под его обаяние подпал и Пушкин), резко контрастировал со славянофильскими установками вернуться к национальному русскому платью. Хотя в рядах ревнителей отечественных традиций были свои модники, их попытки щегольства в стиле «а-ля рюс» все же казались слишком прямолинейными и искусственными, закономерно вызывая иронию окружающих. Константин Аксаков, как вспоминает И.И. Панаев, «наделал в Москве большого шуму, появляясь в смазных сапогах, красной рубахе и в мурмолке»[989]. Его пропаганда имела скорее комический эффект: «Пора сблизиться нам с нашим народом, а для этого надо сначала сбросить с себя эти глупые кургузые немецкие платья, которые разделяют нас с народом (и при этом Аксаков наклонился к земле, поднял свой сюртук и презрительно отбросил его от себя). Петр, отрывая нас от нашей национальности, заставлял нас брить бороды, мы должны теперь отпустить их, возвращаясь к ней»[990]. Забавно, что, проповедуя русское платье, Аксаков в обществе все-таки появлялся в сюртуке, хотя и проделывал с ним такие показательные номера: ведь для того, чтобы демонстративно сбросить сюртук, надо для начала его иметь.
Пылкий агитатор Аксаков даже уговаривал великосветских дам облачиться в сарафаны, на что они реагировали с недоумением. «Сбросьте это немецкое платье, – сказал он ей, – что Вам за охота носить его? Подайте пример всем нашим дамам, наденьте сарафан. Как он пойдет к Вашему прекрасному лицу!» В то время как он с жаром говорил ей это, к ней подошел тогдашний московский военный губернатор князь Щербатов. Она заметила ему, что Аксаков уговаривает ее постоянно носить сарафан. Князь Щербатов улыбнулся… «Тогда и нам надо будет нарядиться в кафтаны?» – возразил он не без иронии, взглянув на Аксакова. «Да! – сказал К. Аксаков торжественным голосом, сверкнув глазами и сжав кулак. – Скоро наступит время, когда мы все наденем кафтаны!» Князь Щербатов, при таком энтузиазме, поспешил удалиться. «Что такое у Щербатова произошло с Аксаковым?» – спросил кто-то у Чаадаева, бывшего свидетелем этой сцены. «Право, не знаю хорошенько, – отвечал Чаадаев, слегка улыбаясь, – кажется, Константин Сергеич уговаривал военного губернатора надеть сарафан… что-то вроде этого»[991]. Если учесть дендистские манеры самого Чаадаева, его легкая ироническая улыбка более чем понятна.
Неприязнь Константина Аксакова к европейскому стилю одежды была увязана с идеологическим осуждением аристократии как носительницы не только западных мод, но и западных нравов. Это проявляется даже в его мемуарах студенческих лет: «Когда мы перешли на третий курс, на первый курс вступило много молодых людей из так называемых аристократических домов; они принесли с собой всю пошлость, всю наружную благовидность, и все это бездушное приличие своей сферы, всю ее зловредную светскость. Аристократики сшили себе щегольские мундирчики и очень были ими довольны, тогда как студенты доселе старались как можно реже носить свое форменное платье… Прежде русский язык был единственным языком студентским; тут раздался в аудитории язык французский. Недаром было наше враждебное чувство; пошлая форменность, утонченная внешность завладели университетом и принесли свои гнилые плоды»[992].
В этом отрывке подчеркнут характерный расклад: студенты-западники, говорящие по-французски, предпочитают ходить в щегольских университетских мундирах, а Аксаков с друзьями придерживается партикулярного платья.
Славянофилы не зря ощущали идеологическую враждебность дендизма: дело тут не только в отношении к национальной традиции, но и в четком структурном принципе, который в нем содержится. Настоящий денди – адепт самодисциплины, он все время смотрит на себя со стороны, проверяя отточенность формы. Дендизм требовал от молодого человека выйти за рамки привычного уклада и подчинить свою жизнь особым правилам гигиены, элегантности и самоконтроля. Надо было по-настоящему захотеть стать другим. Дендистская утонченность и ориентация на европейскую моду четко отделяли западников от славянофилов.
В целом дендизм стал массовой модой среди молодых людей в России примерно с 20-х годов XIX столетия. Это была среда состоятельной дворянской молодежи из старинных семейств, и аристократизм российских денди не только придавал ему ярко выраженный сословный характер, но и давал повод для разных спекуляций по поводу дендистской мужественности.
Самая простая форма подобных подозрений – косвенный упрек в изнеженности. Вновь, как и во времена Крылова, в описаниях франтовских нарядов сквозит фантом женственности: «Молодые модники ходили зимой в белых шляпах и при самых бледных лучах солнца спешили открыть зонтики; светские кавалеры тех времен носили из трико в обтяжку брюки и гусарские с кисточками сапожки; жабо у них было пышное, шляпа горшком, на фраках – ясные золотые пуговицы, воротники в аршин. У часов висели огромные печати на цепочках, у других виднелись небольшие серьги в ушах»[993]. Элегантного франта всегда могли упрекнуть в женоподобии и заподозрить в нем гомосексуальные наклонности.
Леонид Гроссман, автор статьи «Пушкин и дендизм», вполне в духе социологической критики, столь популярной в 1920-е годы в советской России, отмечал: «Истощение старинной родословной, закат фамильного герба выражается обычно в женственной хрупкости его последних обладателей. Утончение физической организации, обострение нервной системы, повышение чувственности – вот типичные признаки последних носителей древних имен»[994]. Эти рассуждения Гроссмана относятся к герою-денди Евгению Онегину, которого Пушкин называет «мод воспитанник примерный» и сравнивает с «ветреной Венерой».
Ф.Ф. Вигель в своих «Записках» отмечал: «Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно также было найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны»[995].
Для адекватного восприятия этого высказывания Вигеля надо учитывать, что сам Филипп Филиппович Вигель был известен своим пристрастием к мужскому полу и из-за этого испытывал немало трудностей в служебной карьере[996]. В своих «Записках» он, разумеется, не мог открыто отстаивать «голубую» эстетику, и оттого его пассажи на эту тему изобилуют осторожными оговорками: «какую-то изнеженность», «не совсем почиталось стыдом», «не совсем были смешны». Ощущая противоречия, Вигель добавил в конце этого рассуждения примечательный вывод: «Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость»[997]. Так, пытаясь достичь компромисса, Вигель невольно наметил свою шкалу «мужественности»: от «женоподобия» до «мужиковатости», причем последнее качество у него, как легко понять, маркируется весьма отрицательно.
Подобное отношение открывает для нас довольно важный и в высшей степени типичный срез гендерной оценки мужского костюма в России: щеголеватость приветствуется, если она подчеркивает мужественность как устойчивую добродетель и воспринимается с подозрением либо негативно, как только возникает тень женоподобия.
В таких обстоятельствах едва ли не единственной возможностью для русского щеголя проявить себя, не уронив в общественном мнении, становится, как это ни парадоксально, ношение мундира.
Многие молодые дворяне служили в привилегированных воинских гвардейских частях – в таких элитных полках, как Семеновский или Преображенский. Военная форма издавна считалась престижной и шикарной, и в этой среде было немало модников. «Военные ходили затянутыми в корсеты; для большей сановитости штаб-офицеры приделывали себе искусственные плечи, на которых сильнее трепетали густые эполеты»[998]. Заметим, что мода на корсет у военных сохранилась даже тогда, когда корсет исчез из мужского гардероба «на гражданке».
Из всех видов форменной одежды наиболее щегольским считался военный мундир. Как пишет Л.Е. Шепелев, «отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве товарищества. Считалось, что военная форма была самой нарядной и привлекательной мужской одеждой. Все сказанное относится прежде всего к парадному мундиру, надевавшемуся в торжественных случаях и именно для этого предназначавшемуся»[999]. Российские императоры всегда появлялись на публике в парадных военных мундирах и лично регламентировали изменения в воинской форме. Существовала практика пожалования мундирами, когда ими награждались шефы – почетные командиры воинских частей или военные чины в отставке в память прежней службы.
Нарядный мундир служил предметом гордости и забот военного-франта и надевался по особым случаям: «В 1886 году бывший начальник III Отделения и шеф корпуса жандармов, а затем посол в Англии генерал-адъютант граф А.П. Шувалов был пожалован щегольским “белым мундиром” – мундиром лейб-гвардии Конного полка – потому что он начинал в нем свою службу. В ноябре того же года Шувалов “в полной парадной конногвардейской форме” присутствовал на полковом празднике Семеновского полка»[1000]. Типичным для высших военных чинов было иметь по несколько мундиров и менять их на разных приемах во дворце и праздниках. Это называлось «любезничать» мундирами.
Особый повод для этого был у военных в отставке, которые таким образом ретроспективно демонстрировали свои достижения на разных этапах карьеры. Так, князь А.И. Барятинский, бывший в 1856–1862 годах наместником императора на Кавказе, в 1876 году ведет бурную светскую жизнь: «Он рассказывает анекдоты, шутит и любезничает надеваемыми им разными мундирами. Намедни он обедал у их императорских величеств в кирасирском в честь императрицы, вчера он опять обедал, вероятно, в гусарском в честь государя, сегодня он в генерал-адъютантском по случаю дня рождения великого князя Алексея Александровича, 6-го числа он будет в кабардинском по случаю полкового праздника»[1001].
Тем не менее даже в военной среде находились поводы для упреков в вольности и женоподобии. «Мода на серьги особенно процветала у военных людей в кавалерийских полках, и трудно поверить, что гусары прежних лет, “собутыльники лихие”, все следовали этой женской моде, и не только офицеры, но и солдаты носили серьги. Первый восстал на эту моду генерал Кульнев, командир Павлоградского гусарского полка; он издал приказ, чтобы все серьги из ушей были принесены к нему. Уверяют, что известная пословица – “для милого дружка и сережка из ушка” – придумана в то время солдатами. Лет 50 тому назад не считалось странным белиться и румяниться, и иной щеголь так изукрашивал себе лицо румянами, что стыдно было глядеть на него»[1002].
Для военных денди ношение мундира порой требовало немало жертв, поскольку форма нередко «стесняла движения, в ней было трудно или даже невозможно сидеть, была маркой. Особенно много неудобств вызывали штаны. В кавалергардском полку, например, белые рейтузы из лосиной кожи надевали влажными, чтобы они идеально обтягивали фигуру. Любивший щегольски одеваться Николай I по несколько дней должен был оставаться во внутренних помещениях дворца из-за болезненных потертостей на теле от форменной одежды»[1003]. Не менее тяжкие страдания могло повлечь за собой ношение корсета.
Подчеркнем, что щегольство мундирами, очевидно, было особенно ярко выражено у российских денди. Для европейского денди ношение мундира, напротив, чаще всего означало подавление индивидуальности в одежде. Вспомним, что Браммелл, служа в 10-м драгунском полку, нарочно попросился в отставку, когда его полк должны были перевести в Манчестер, чтобы иметь возможность продолжить светскую жизнь в Лондоне. Барбе д’Оревильи по этому поводу проницательно заметил: «Говорили не без пренебрежения, что Браммелл не смог устоять перед мундиром. Это значило бы объяснять сущность денди вкусами младшего офицера. Денди, который на все накладывает печать утонченной оригинальности (слова лорда Байрона), не может не питать ненависти к мундиру»[1004].
Известным денди среди российских военных в начале 40-х годов был гвардейский офицер Константин Александрович Булгаков (1812–1865). Он умел обыгрывать свое отношение к мундиру через публичные шутки-перформансы. А.Я. Панаева вспоминает: «Булгаков в один мартовский день явился на Невский без шинели и обращал внимание всех гуляющих своим сюртуком ярко-зеленого цвета, с длинными полами. Дело в том, что вышел приказ заменить черное сукно на военных сюртуках зеленоватым и полы сделать несколько подлиннее. Булгаков первый сделал себе новую форму, но преднамеренно утрировал ее»[1005]. В данном эпизоде свой иронический протест Булгаков выразил чисто дендистским способом – на языке одежды, гиперболизируя не понравившийся ему вариант новой формы.
В терминах современного искусства поведение Булгакова можно квалифицировать как уличный перформанс, и при этом даже не очень погрешить против истины, поскольку театрализация повседневной жизни была в то время обычным явлением. Ю.М. Лотман подчеркнул огромное значение сценического кода поведения для культуры начала XIX века[1006], однако, на наш взгляд, допустимо распространить эту мысль и на более позднее время. По поводу театральных источников моды М.И. Пыляев отмечал: «В конце сороковых годов типом для наряда щеголя считался актер, игравший роли первых любовников. Теперь, я думаю, мало кто будет рабски следовать моде драматических любовников Александринского театра и завивать себе волосы “тюрбушонами” (мелкими локонами. – О.В.), но тогда, за неимениемхороших образцов, франты средней руки копировали во всем актеров. Первые любовники описанной эпохи ходили на улицу и на публичные гулянья в венгерке оливкового цвета и с красным шарфом на шее. Шиком в то время считалось только менять часто шарфы, а не платья. Молодые театралы, подражая актерам, являлись тоже на улицах в таком наряде»[1007]. Театральная жизнь, где традиционно царила большая свобода, предоставляла редкий шанс для российских франтов хоть как-то блеснуть личным вкусом в костюме.
Некоторые бытовые ситуации, как, например, прогулка, также располагали к театрализованной манере поведения. Уличное фланирование предоставляло редкие возможности для щегольства и взаимного наблюдения модников. В «Невском проспекте» рассказчик неспроста удивляется: «Создатель! Какие странные характеры встречаются до сих пор на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и, если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но, однако же, ничуть не бывало… В это благословенное время от двух до трех часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольский сюртук с лучшим бобром, другой – греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый – перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая – ножку в очаровательном башмачке, седьмый – галстух, возбуждающий удивление, осьмой – усы, повергающие в изумление»[1008]. Как это нередко бывает в гротескной поэтике Гоголя, иронический перечень пышных метонимий превращает людей в неодушевленные предметы, но здесь еще важно отметить дополнительный эффект отчуждающего зрения: выделяя на ходу главную значимую деталь, глаз фланера как будто нарочно превращает человека в рыночный продукт, в товар на «выставке». Различающий взгляд фланера устроен метонимически: опознание требует абстрагирования и сосредоточенности одновремено, и самая главная информативная деталь не случайно часто находится «с краю», в маргинальном поле – это перстень на пальце, обувь, галстук, бакенбарды.
Крайне интересно и выражение «движущаяся столица» применительно к времени – хронотоп фланирования, когда Невский проспект особо проявляет свою «столичность» в часы щегольских прогулок.
Невский проспект сохранил эту свою роль и позже. В журнале «Библиотека для чтения» писали о фланерах на Невском: «Джентльмены, львы и денди попадались на каждом шагу; как простые смертные, они выступали с тою уверенностью, с тем непринуждением, как будто прогуливались по собственным владениям. Лица их выражали беспечность и вместе с тем дышали как бы сознанием, что это было лучшее место и лучший час для прогулки»[1009]. Это самодовольство – признак светского щеголя, движущегося по раз и навсегда заведенному маршруту, причем не только в буквальном смысле, но и в переносном – он бывает в «правильных» местах, ведет знакомство с «правильными» людьми, то есть во всем ориентируется на представления о престижности своего круга.
В целом жанровые возможности для свободного самовыражения в мужской одежде были достаточно узкими – в первую очередь потому, что в России сфера регламентированной одежды была гораздо шире, чем в европейских странах. Военные, служащие, придворные не могли появляться в общественных местах в произвольных костюмах, они должны были одеваться согласно Табели о рангах, введенной Петром I в 1722 году.
Табель о рангах определяла основные сословия русского общества, титулы, чины и звания и соответствующие мундиры. Общие положения конкретизировались последующими указами: так, в 1782 году было введено форменное платье в губерниях, причем для каждой губернии был установлен особый цвет. Основной мотивировкой было «отвращение от разорительной роскоши» и «сбережение достатка» – иными словами, это был российский аналог древних и средневековых «законов против роскоши». В 1794 году была издана книга-альбом с рисунками установленных мундиров.
Иерархия к началу XIX века получалась достаточно сложная – только придворные и гражданские чины насчитывали по 14 классов каждый, а ведь, кроме того, существовали свитские звания (военно-придворные), не говоря уж о собственно военных. Мундир мог немало рассказать о владельце: «по мундиру можно было определить род службы, ведомство (или род войск) и класс чина (в военной службе)»[1010]. Были также женские мундирные платья в губерниях и при дворе. При том что обладатель мундира должен был шить его за собственный счет, это порой ложилось тяжелым бременем на плечи неимущих чиновников (вспомним шинель Акакия Акакиевича!). Военные, кому полагался казенный мундир (нижние чины и унтер-офицеры), годами оплачивали его вычетами из жалованья[1011].
Если человек ходил на службу или получал придворный титул, вольный костюм был невозможен. Любые новации вызывали подозрение в нелояльности. Пушкин, когда был представлен ко двору, при всем своем дендизме был вынужден носить камер-юнкерский мундир с галунами, который он откровенно не любил и комментировал это в письмах.
Другой модник, И.И. Панаев, тоже, случалось, попадал в двусмысленные ситуации из-за своей неприязни к мундиру, поскольку служил в государственном казначействе: «Однажды я приехал в департамент в вицмундире и в пестрых клетчатых панталонах, которые только что показались тогда в Петербурге. Я надел такие панталоны один из первых и хотел щегольнуть ими перед моим департаментом.
Эффект, произведенный моими панталонами, был свыше моего ожидания. Когда я проходил через ряд комнат в свое отделение, чиновники штатные и нештатные бросали свои занятия, улыбаясь, толкали друг друга и показывали на меня. Этого мало. Многие столоначальники и даже начальники отделения приходили в мое отделение посмотреть на меня; некоторые из них подходили ко мне и говорили: “Позвольте полюбопытствовать, что это на вас за панталоны?” – и дотрагивались до них. А один из столоначальников – юморист – заметил: “Да они, кажется, из той же самой материи, из которой кухарки делают себе передники”. Панталоны мои произвели такой шум и движение в департаменте, что В.М. Княжевич обернулся к моему столу, посмотрел на меня искоса и потом, проходя мимо меня, заметил мне, что я неприлично одеваюсь»[1012].
Слово «неприлично» в данном контексте не означает «непристойно», а скорее «неуместно для службы». Щеголь Панаев вызвал сенсацию тем, что вместо форменных брюк надел панталоны из шотландской ткани в клетку: в департаменте это было не принято. В тот момент это воспринималось как новинка. В России 30–50-х годов XIX столетия ткань «экосез» стала популярной под влиянием исторических романов Вальтера Скотта[1013]. Эксперименты Панаева с костюмом были не просто данью молодости, а знаком серьезного пристрастия – позднее он стал вести раздел моды в журнале «Наш современник» и написал вместе с А.И. Панаевой серию статей.
Неравнодушно-пристрастное отношение к моде в данном случае, помимо чисто личных склонностей, возможно, объяснялось именно регламентированностью мужского костюма. Ведь запрет стимулирует изобретательность, и разрабатываются достаточно тонкие способы, помогающие его обойти. В 1832 году вместо губернских мундиров были введены общедворянские, сохранившиеся вплоть до революции. Помещик у себя в имении мог одеваться как хотел, но если он ехал в дворянское собрание или в город по делам, ему надлежало быть одетым по форме.
Не оттого ли мужская одежда на протяжении XIX века оставалась семиотическим кодом повышенной насыщенности? Практически все русские литераторы уделяли много внимания деталям в костюмах своих персонажей. По тому, как одевался мужчина, можно было составить представление не только о его имущественном положении, но и определить, к какому социальному типу он относится.
Известный писатель И.А. Гончаров в серии очерков «Письма столичного друга к провинциальному жениху» (1840)[1014] набросал интересную классификацию модных типов в российской светской жизни. Сам Гончаров имел репутацию денди: он носил визитку, серые брюки с лампасами, прюнелевые ботинки с лакированным носком, короткую цепь для часов с замысловатыми брелоками. Прототипом адресата послужил его старший брат, которого Гончаров взялся обучать «умению жить».
«Умение жить» для автора писем – тонкая наука, подразумевающая и искусство следить за своей внешностью, и светское обращение, и определенный нравственный настрой. Первый тип модника в его системе – «франт», который уловил только самую простую сторону умения жить: способность безукоризненно одеться. «Чтобы надеть сегодня привезенные только третьего дня панталоны известного цвета с лампасами или променять свою цепочку на другую, он согласится два месяца дурно обедать. Он готов простоять целый вечер на ногах, лишь бы не сделать, сидя, складок на белом жилете; не повернет два часа головы ни направо, ни налево, чтоб не помять галстуха»[1015]. Франт одевается для собственного наслаждения, хороший костюм для него – абсолютная ценность, и высшей наградой для него служит завистливый взгляд или комплимент «такой-то всегда отлично одет». Ради этого он может пожертвовать собственным удобством и телесными нуждами. Подобное пренебрежение своим телом сразу обнаруживает несамодостаточность франта.
Лев, в отличие от франта, овладел уже всеми внешними сторонами умения жить. Костюм для него – не самоцель: «Он никогда не оглядывает своего платья, не охорашивается, не поправляет галстуха, волос; безукоризненный туалет не качество, не заслуга в нем, а необходимое условие. Он исполнен небрежной уверенности, что одет изящно, сообразно с мгновением не текущей, а рождающейся моды»[1016]. Лев уделяет равное внимание всем аспектам модной жизни: он хорошо ест, курит самые лучшие сигары, у него дома – стильная мебель. Он – лидер моды в том смысле, о котором мы говорили в начале книги: ему всегда подражают, потому что он чувствует, что будет в моде завтра. Именно лев ближе всего в классификации Гончарова западному типу денди XIX века, представленного Браммеллом и графом д’Орсе. «На льва, говорю, смотрит целое общество: замечают, на какую женщину предпочтительно падает его взгляд, и та женщина окружена общим вниманием; справляются, какой из привезенных французских романов хвалит он, и все читают его. Наконец, проникают в его домашний быт, изучают его мебель, бронзу, ковры, все мелочи, перенимают привычки, подражают его глупостям»[1017].
Парижский лев. Ил. к новелле Оноре де Бальзака «Путешествие африканского льва в Париж»
Привычки льва уникальны, и он всегда недосягаем для подражателей. В этом пространстве он обладает свободой и доверяет своим инстинктам. Для льва очень важно все время быть в центре внимания: «это блистательная, обширная претензия: не теряться ни на минуту из глаз общества, не сходить с пьедестала, на который его возвел изящный вкус»[1018]. В этом плане денди Браммелл – именно «лев», по Гончарову: вспомним, как он искусно все время поддерживал интерес к собственной персоне, как опытный ньюсмейкер.
Показательно, что Гончаров использует по отношению ко льву то же самое словечко «хамелеонство», которым Плутарх характеризовал Алкивиада. Переменчивость вкуса льва, умение приспосабливаться к различным условиям роднят его с модниками отдаленных эпох и, кстати, придают его образу нечто женское. Хотя лев во многом определяет мнение толпы, он, в свою очередь, от него зависим.
Следующий типаж в системе Гончарова, напротив, больше ориентируется на собственные потребности. Это человек хорошего тона, который также обладает тонким вкусом и разбирается в изящных мелочах, но при этом все делает не ради эффекта, а ради личного комфорта, просто потому, что ему так больше нравится. Человек хорошего тона может позволить себе разные отступления от моды: «Например, иногда подробности своего туалета он предоставляет попечению камердинера или портного, пропустит какую-нибудь моду; может курить те сигары, к которым привык, обедать, завтракать, выбирать и забирать вещи, где ему кажется хорошо, руководствуясь своим личным вкусом…»[1019]
Но самое главное, что отличает человека хорошего тона, – это врожденный такт, искусство обращаться с людьми. Он овладел, с точки зрения Гончарова, не только внешними, но и внутренними аспектами умения жить. Хороший тон заключается в умении «держать себя в людях и с людьми как должно, как следует» (курсив автора. – О.В.). «Человек хорошего тона никогда не сделает резкой, угловатой выходки, никогда не нагрубит, ни нагло, ни сентиментально ни на кого не посмотрит, и вообще ни с кем ни в каком случае, неуклюже, по-звериному не поступит. Он при встрече в первый раз с человеком не обдаст его, ни с того ни с сего, ни холодом, ни презрением, не станет и юлить перед ним; не попросит у него денег взаймы и, разумеется, не даст и своих…»[1020] Если лев порою может быть застигнут врасплох и сбросит маску учтивости, то человек хорошего тона всегда сумеет отделаться от неприятных людей тонкой и ловкой манерой, внешне соблюдая правила приличия.
Частично черты человека хорошего тона в обрисовке Гончарова совпадают с типологией дендистского характера. Прежде всего это касается императива сдержанности, запрета обнаруживать собственные переживания (вспомним хотя бы наставления князя Коразова Жюльену Сорелю). Отсюда очень распространенный упрек в бесчувственности: «Ты скажешь, что это кукла, автомат, который для приличия выбросил из душонки все ощущения, страсти…»[1021] Но Гончаров заступается за своего героя – «Нет, не выбросил: он только не делает из них спектакля, чтоб не мешать другим, не стеснять, не беспокоить никого в беспрестанных, ежеминутных столкновениях с людьми: того же хочет и ожидает от других и для себя»[1022]. Мы видим, как стоическая холодность денди превращается в толковании Гончарова в кардинальную заповедь интеллигентного поведения.
Эти правила хорошего тона, и в частности императив мужской сдержанности, были азбукой поведения русского дворянства на протяжении всего XIX века. Сошлемся на материалы О.С. Муравьевой: «Умение скрывать от посторонних глаз “мелкие досады и огорчения” считалось обязательной чертой воспитанного человека. К. Головин, вспоминая о князе Иване Михайловиче Голицыне, считавшемся “одним из лучших украшений петербургских гостиных”, пишет: “Его неутомимая любезность никогда не становилась банальной и никогда не уступала место раздражению”. Между тем все знали, что князю “было от чего раздражаться”, – жизнь его вовсе не была гладкой и беззаботной»[1023].
В данном пункте русское дворянство буквально следовало заповедям хорошего тона, разработанным в европейском светском этикете. В России были очень популярны, к примеру, письма лорда Честерфилда к сыну, в которых британский аристократ подробно разъяснял именно эти аспекты светского поведения. «Заповеди света учат нас, в частности, двум вещам, причем и та и другая необычайно важны, а природной склонности ни к той ни к другой у нас нет: это – владеть своим настроением и своими чувствами. Человек, у которого нет du monde (светскости. – О.В.), при каждом неприятном происшествии то приходит в ярость, то бывает совершенно уничтожен стыдом, в первом случае он говорит и ведет себя как сумасшедший, а во втором выглядит как дурак. Человек же, у которого есть du monde, как бы не воспринимает того, что не может или не должно его раздражать»[1024].
Однако при всем европейском лоске гончаровский человек хорошего тона может быть небезупречен в моральном отношении. Он – «герой приличий», но не «герой нравственных правил» и спокойно может, соблюдая внешние условности, пойти на обман, не отдать долг или смошенничать при игре в карты, нарушая тем самым кодекс джентльменской чести.
Ему противостоит именно в моральном плане последний типаж в классификации Гончарова – порядочный человек. В нем воплощено «тесное гармоническое сочетание наружного и внутреннего, нравственного умения жить»[1025], причем последнее доминирует. Как и человек хорошего тона, он никогда не нарушает внешних приличий, но его изящные манеры проистекают из подлинной душевной деликатности и врожденного чувства справедливости. Он не станет обманывать или как-либо еще нарушать принципы нравственного умения жить. (Здесь будет уместным вспомнить, как Пыляев оправдывал князя Куракина, говоря, что он за всю свою жизнь не оскорбил никого, – этот критерий, безусловно, остается решающим и в XIX веке.)
Гончаров признает, что его последний тип почти идеален, но тем не менее уверен: чтобы жить среди цивилизованных людей, необходимо быть порядочным человеком, «потому что избранное, изящное общество везде, на всей земле одно и то же, и в Вене, и в Париже, и в Лондоне, и в Мадриде. Оно, как орден иезуитов, вечно, несокрушимо, неистребимо, несмотря ни на какие бури и потрясения; так же, как этот орден, оно имеет свое учение, свой, не всем доступный устав и так же держится одним духом, несмотря на мелочное различие форм, одною целию всегда и везде – распространять по лицу земли великую науку – уменье жить»[1026].
Эта утопическая картина, заметим, неизменно повторяется в русской культуре как идея благородного духовного братства. Но если во времена Гончарова эта идеология еще имела сословный характер и увязывалась с аристократическим происхождением, то позднее, с укреплением среднего класса в России, подобные установки объединили более широкий круг образованных и трудолюбивых людей.
После революции, когда о дворянской идеологии и упоминать стало опасно, порядочность и цивилизованные манеры, то есть «нравственное умение жить», по Гончарову, составили кредо интеллигенции и в процессе воспитания передавались в интеллигентных семьях из поколения в поколение как жизненная философия, помогая многим людям выстоять и не потерять достоинство в самые трудные моменты. Несмотря на все испытания, которые выпадали на долю многих лучших представителей отечественной интеллигенции, они не утратили ни жизнерадостности, ни любезности обращения, ни живости ума – достаточно почитать мемуары людей, прошедших через сталинские лагеря[1027].
В системе Гончарова иерархия типов по этическому критерию описывается по восходящей. Невооруженным глазом видно, что сам он больше всего уважает порядочного человека и меньше всего – франта. Но налицо и иная любопытная градация: по мере подлинности характера и полноты умения жить. Франт все время как будто притворяется, он подражает льву, но не является им на самом деле. Лев, в свою очередь, более полно владеет умением жить, но и его можно застать в момент растерянности, когда он не всегда удачно имитирует поведение человека хорошего тона. А последний, в свою очередь, ориентируется на порядочного человека, который единственный постиг и внешние, и внутренние стороны умения жить и отличается неподдельной убедительностью этически выстроенного характера.
Интересно прорисовано и отношение к материальному достатку. Как пишет Гончаров, «беда франту и льву без денег: тогда они – ничто.
Франт и лев, лишаясь средств быть франтом и львом, обращаются в свое первобытное, природное состояние и, исчезнув с горизонта хорошего общества, теряют всякое значение»[1028]. Напротив, человек хорошего тона и порядочный человек не обязательно нуждаются в средствах, чтобы оставаться самими собой. Они и в бедности, и в неизвестности сохраняют утонченные манеры, умение общаться с людьми и – если речь идет о порядочном человеке – нравственные правила: «Они, как драгоценные алмазы, могут затеряться в пыли, не утратив своей ценности»[1029].
Очерки Гончарова по жанру представляют собой классический трактат о моде, который в европейской литературе развивали Бальзак, Барбе д’Оревильи, Бодлер и Теофиль Готье. Из этих авторов Гончарову, пожалуй, наиболее близок по духу Бальзак с его «Трактатом об элегантной жизни» (1830). Не исключено, что Гончаров в той или иной форме был знаком с этим произведением Бальзака. Во всяком случае, ключевые постулаты обоих текстов концептуально сходны – вспомним хотя бы бальзаковские определения элегантности как «изящества во всем, что находится в нас и вокруг нас»; «искусства по-умному тратить деньги» или излюбленную идею французского романиста о том, что «человек элегантный готов принять гостей в любую минуту… никакое посещение не может застать его врасплох»[1030]. Да и по стилю мышления Гончаров весьма напоминает Бальзака – оба писателя любят выстраивать системы типажей и рассуждать, опираясь на свои классификации.
Магистры элегантности Серебряного века
Рассуждая о российском дендизме, мы постоянно замечали в нем контрапункт двух тенденций: западничества и славянофильства. Европейская составляющая дендизма явно доминировала, и не только в сфере костюма. Российские щеголи разделяли многие светские привычки своих западных собратьев. Так, Гончаров, характеризуя франта, отмечает его страсть к фланированию. Его важнейшая задача – «пройти весь Невский проспект, не сбившись с усвоенной себе франтами иноходи, не вынув ни разу руки из заднего кармана пальто и не выронив из глаза искусно вставленной лорнетки»[1031].
Фланирование как особый вид городского досуга практиковалось отечественными щеголями с начала XIX века. По свидетельству М. Пыляева, «было еще Санкт-Петербургское вольное общество любителей прогулки. Предводителем гуляющих в нем числился известный в то время доктор Иван Ястребцев; церемониймейстером прогулок – граф Соллогуб; советником общества – П. Безобразов; цензором благочиния – Василий Соц и непременным секретарем – Осипов. Члены общества имели очень красивые дипломы с аллегорическими изображениями времен года во всех углах красивой голубой рамки. Лорнет, висящий на черной ленте, служил знаком отличия почетного пешехода и считался знаком отличия от других пешеходов или собственно прохожих… Надо предполагать, что общество любителей прогулки возникло или на чисто гигиенической почве, или чтобы осмеять существование тогда правила езды в экипажах. Вспомним, что в те годы (речь идет о 20-х годах XIX века. – О.В.) пешеходной прогулке придавали мещанское значение. Все, что имело чин и дворянство, должно было ездить в каретах по установленным еще императрицей Екатериной отличиям – по рангам»[1032]. При всех игровых обертонах здесь, как видим, сохраняется ритуальность и атрибутика дендистского фланирования – вплоть до непременного лорнета.
В российской среде находили отражение и такие традиции английского дендизма, как экстравагантные розыгрыши, пари. Мы уже упоминали известного светского щеголя К.А. Булгакова, который отличался особой любовью к рискованным шуткам. «Повесничеству Булгакова не было конца. Он раз при мне на музыке в Павловске держал пари с одной моей знакомой, что пройдет мимо нее под руку с великим князем[1033]; конечно, наше общество было уверено, что Булгаков проиграет, но он выиграл. Мы видели, как Булгаков подошелк великому князю и что-то ему сказал, и великий князь дозволил ему взять себя под руку. Булгаков сознался великому князю, что он до безумия влюблен в одну особу, что если великий князь удостоит его пройтись мимо этой особы, то он сделает его счастливейшим человеком»[1034]. Подобные игры и манипулирование знатными особами не могут не напомнить рискованные игры Браммелла с английскими аристократами.
В целом можно выделить два безусловных пика европеизма в русской культуре XIX века. Первый – пушкинская эпоха, совпадающая с расцветом романтизма. Второй – конец XIX – начало XX столетия, период под знаком европейского декаданса. В обоих случаях налицо усиление интереса к дендизму.
В это время происходит дальнейшее распространение щегольской культуры и, как следствие, ее разделение на массовую и элитарную. Массовости способствовали специализированные модные периодические издания, из которых выделяется журнал «Дэнди», печатавшийся в 1910 году в Москве под редакцией Р.Н. Бреннера. «Дэнди» выходил два раза в месяц и имел подзаголовок «Журнал искусства и моды». Каждый номер включал в себя два раздела: первый был посвящен беллетристике и искусствоведению; второй – мужской и дамской моде «как в области костюма, так и во всех проявлениях современной светской жизни». «Дэнди» имел все приметы периодики 10-х годов: в нем публиковались рекламы о-де-колонь, чудодейственных «пневматических бандажей», гипнотического метода воздействия на людей, новейших медицинских корсетов и т. д. Однако при этом журнал все-таки оправдывает свое название: в статьях о мужской моде обозреватель под английским псевдонимом «Джим» в дендистском духе наставляет мужчин, как следует одеваться. Статьи Джима проиллюстрированы рисунками художника Бернара Буте де Монвеля.
В серии статей «О мужской моде: что, где и как должен носить мужчина» Джим дает как общие соображения по теории костюма, так и конкретные рекомендации. Его первая статья, к примеру, посвящена особенностям современного мужского платья. Он начинает статью с анекдота, демонстрирующего тенденцию к упрощению мужской одежды в буржуазную эпоху: «Известно ли вам, почему парижане вынуждены были отказаться от штрипок, благодаря которым брюки 1830 года так красиво облегали мужскую ногу? Только потому, что биржевики не могли быстро вбегать по ступеням храма Золота, стесненные штрипками, перетягивавшими ступню»[1035].
На рауте. Илл. из журнала «Дэнди». 1910 г.
Новации энергичных биржевиков отвечали потребностям делового мужчины – старинный аристократический костюм, требовавший немало времени при облачении, в XIX веке неизбежно делался менее затейливым, но более удобным. Штрипки – одна из новаций Браммелла, позволяющая избавиться от складок на панталонах, – уже не соответствовали ускоренным ритмам новой эпохи.
Специально автор статьи оговаривает роль только одной детали мужского туалета – галстука. Именно в галстуке Джиму видится единственное продолжение былых традиций: «Принеся в жертву линии всю былую пышность своего костюма, мужчина не мог отказаться только от одного: он не мог пожертвовать галстуком. Современный галстук, а в особенности его одинокая, гордая жемчужина, как будто сконцентрировали в себе, словно крепчайший экстракт, все соки древней пышности»[1036]. Действительно, в мужской моде тех лет цвет уже давно отошел на задний план после окончательного воцарения черного и на первое место действительно вышел покрой и силуэт. Джим даже ссылается на словарь Ларусса: «Серьезный и добродетельный словарь Ларусса и тот, говоря о галстуке, делает следующее замечание: “Наука одевания вся сосредоточена в умении носить галстук”»[1037].
На галстук приходится особая символическая нагрузка: «Как микроскопический рубин, вкрапленный в черную жемчужину, галстук одухотворяет платье мужчины и оживляет строгую красоту его лица»[1038]. В этой фразе ощутимо типичное для эстетизма конца века увлечение драгоценными камнями, дыхание барокко. Именно галстук – тот «незначительный штрих», знаковая деталь, через которую умелый щеголь может выразить «частицу собственной личности». Тогда он будет соответствовать гордому титулу «современный денди». Этому персонажу Джим адресует свой итоговый совет: «Современный денди должен устремить все свое внимание на линию костюма, так как преимущественно в этой области ему дано право свободы проявления собственного вкуса и так как только линия может дать костюму изысканность и красоту»[1039].
Наиболее полно дендистская идеология в журнале была представлена даже не столько статьями Джима о мужской моде, сколько переводом программного сочинения – манифеста европейского дендизма. Начиная с первого выпуска журнал частями печатал русский перевод трактата Барбе д’Оревильи «О дендизме и Джордже Браммелле». Автор краткого журнального предисловия к трактату определял дендизм как «эстетический мистицизм» и писал, что это – «религия “гениев без портфеля”, ищущих хоть какого-нибудь источника для удовлетворения своей жгучей жажды владычества»[1040]. Поскольку журнал «Дэнди» был задуман как школа популярного дендизма, перевод Барбе смотрелся в нем очень органично. Через два года этот трактат в слегка измененной редакции перевода М. Петровского был напечатан в виде отдельной книжечки издательством «Альциона». Он был очень популярен в кругах интеллигенции и часто цитировался. Герои-денди в произведениях Барбе д’Оревильи становятся источником и моделью жизнетворчества для многих русских литераторов.
В начале века также резко повысился спрос на тексты Оскара Уайльда и Бодлера. «Возрос небывалый интерес к Оскару Уайльду, раскупили вмиг “De profundis”, “Балладу Редингской тюрьмы”, “Портрет Дориана Грея” и “Саломею” – последние два очень дорогие и роскошные издания Грифа. Потребовалось буквально рынком новое издание “Цветов зла” и все до последней строчки Бодлера»[1041]. В подготовке таких изданий были задействованы известные русские писатели и филологи[1042].
По случаю издания трактата Барбе заказали предисловие Михаилу Кузмину. Он с готовностью согласился писать о Барбе и Браммелле: тема дендизма была ему лично близка. Кузмин, как свидетельствуют мемуаристы, любил экспериментировать со своей внешностью и костюмом. В 1906 году он одевался в особое русское платье, носил вишневую поддевку и золотую парчовую рубаху навыпуск, а затем переменил стиль и с 1907 года в Петербурге прославился как европейский денди, обожавший яркие жилеты, даже снискав прозвище «русский Оскар Уайльд».
В переписке с гимназистом Русловым он тщательно создает образ денди-эстета: «Перед нами тот Кузмин, который меняет галстуки каждый день и для которого расцветка галстука (даже, скорее, галстуха) значит более, чем вся премудрость, столь ценимая Вячеславом Ивановым»[1043]. А между тем сам Вячеслав Иванов дал весьма лестный портрет М. Кузмина в стихотворении «Анахронизм»:
В румяна ль, мушки и дендизм, В поддевку ль нашего покроя, Певец и сверстник Антиноя, Ты рядишь свой анахронизм… За твой единый галлицизм Я дам своих славизмов десять; И моде всей не перевесить Твой родовой анахронизм[1044].Кузмина также неоднократно сравнивали с Браммеллом: «Кузмин – король эстетов, законодатель мод и тона. Он русский Брюммель. У него 365 жилетов. По утрам к нему собираются лицеисты, правоведы и молодые гвардейцы, чтобы присутствовать при его “petit lever”» – так поэтесса Ирина Одоевцева передавала легенды, сложившиеся вокруг Кузмина. Правда, увидев позже Кузмина в реальности, она сразу получила совершенно другое впечатление: «Под полосатыми брюками ярко-зеленые носки и стоптанные лакированные туфли… Это он – Кузмин. Принц эстетов, законодатель мод. Русский Брюммель. В помятой, закапанной визитке, в каком-то бархатном гоголевском жилете “в глазки и лапки”. Должно быть, и все остальные триста шестьдесят четыре вроде него… И вдруг я замечаю, что его глаза обведены широкими, черными, как тушь, кругами, и губы густо кроваво-красно накрашены. Мне становится не по себе. Нет, не фавн, а вурдалак… Я отворачиваюсь, чтобы не видеть его»[1045]. Разочарование Ирины Одоевцевой вполне понятно: миф о Кузмине-денди был весьма популярен в то время, потому мемуаристка частично повторяет во второй раз, но уже с очевидной иронией, свою прежнюю характеристику – такой Кузмин явно не выдерживал сравнения с Браммеллом. (Правда, нам сейчас не годится осуждать Кузмина вслед за Одоевцевой: ведь встретились они в петроградскую осень 1920 года, нищее и голодное время.)
Дендистский стиль особенно ценился в кругу деятелей «Мира искусства». Это был уже не спортивно-военный дендизм середины столетия, а скорее эстетический, декадентский. Стилистически он был вторичен[1046], ориентируясь на западную литературу конца века, того же Барбе д’Оревильи, Оскара Уайльда, Бодлера, Гюисманса. Основные оригинальные достижения здесь надо искать не в повседневном платье и поведении мирискусников, а в их художественных находках по части живописи и позднее в оформлении и костюмах «Русских балетов», что реально повлияло на европейскую культуру. Тем не менее в заключение бросим взгляд на моду «Мира искусства».
Известными щеголями в этом кругу слыли Дмитрий Философов и музыковед Альфред Нурок. Да и возглавлявший журнал С.П. Дягилев был щеголем. «Его цилиндр, безукоризненные визитки и вестоны[1047] отмечались петербуржцами не без насмешливой зависти. Он держался с фатоватой развязностью, любил порисоваться своим дендизмом, носил в манжете рубашки шелковый надушенный платок, который кокетливо вынимал, чтобы приложить к подстриженным усикам. При случае и дерзил напоказ, не считаясь à la Oscar Wilde с “предрассудками” добронравия и не скрывая необычности своих вкусов назло ханжам добродетели», – вспоминал С. Маковский[1048]. Как видно, это игра в европейский дендизм, ставшая привычной техникой самовыражения.
То же самое можно сказать о Баксте, который привлекал внимание своим дендизмом. По свидетельству И.Э. Грабаря, «он был щеголем, одет с иголочки, в лаковых ботинках, с великолепным галстуком и кокетливо засунутым в манжетку сорочки ярким лиловым платочком. Он был кокет: его движения были мягки, жесты – элегантны, речь тихая, – во всей манере держать себя было подражание светским щеголям, с их непринужденностью и деланой “английской” распущенностью»[1049].
Но даже среди модников «Мира искусства» выделялся своей элегантностью Вальтер Федорович Нувель, или «Корсар», «Петроний», как его прозвали. Он был одним из основателей «Мира искусства» и вращался в компании Дягилева, Сомова, Бенуа, а по характеру поразительно напоминал Браммелла.
В мемуарах современников о Нувеле легко угадать саркастический склад ума, правда, без дендистской холодности: «Сам Валечка Нувель был признанный “magister elegantiarum”. Но скорее его можно было назвать “потрясателем основ”, столько у него было ядовитого и сокрушительного скептицизма. Но все это выражалось в таких забавных и блестящих, порою весело-циничных выходках, и так было тонко и умно, что обезоруживало и было в нем всегда привлекательно»[1050].
Как не вспомнить, читая письмо А.Н. Бенуа о жизнерадостном Нувеле, рассуждения Барбе о том, как Браммелл разгонял скуку британских лордов: «Валичка! Да это перец, без которого все наши обеды были бы просто хламом, да не только перец или не столько перец, сколько маленькая грелка, ставящаяся под блюдо, положим, горит в нем спирт, а не смола, но все же горит, все же пламя есть, а пламя как в ночнике, так и на солнце – все же пламя, т. е. животворящее начало, свет и жар, и спичка может поджечь город, и бесконечные пространства леса и степей – и я кланяюсь перед спичкой, перед зажженной…»[1051] В этом фейерверке сравнений мелькают уже знакомые нам по книге Барбе образы огня и света.
Другие русские франты, напротив, проявляли изысканную дендистскую холодность: «Сергей Судейкин любил блистать в гостиных, где он имел репутацию человека светского, хотя и безнравственного. В его манере держаться было что-то вызывающее: как вспоминает актер А. Мгебров, Судейкин, неизменно одетый как денди, порой бывал презрителен, смотрел на людей свысока, снисходительно изрекал пустые фразы. Но он умел занять положение в обществе благодаря своему обаянию и таланту»[1052].
Яркость личного стиля всех этих персонажей несомненна, и все же, как нам представляется, основной итог российской дендистской культуры – даже не столько в таких образцах элитарного щегольства, сколько в гораздо более распространенном феномене франта среднего класса. Модные журналы, производство готового платья, популярность щегольского стиля поведения – все это привело к демократизации дендизма. Такие франты, как молодой человек на фото 1916 года, были типичны для российского общества первых десятилетий нашего века.
На снимке из семейного архива – мой дедушка по отцовской линии, Константин Борисович Вайнштейн. Он сделал эту карточку в фотоателье, на фоне декоративного задника, надев хороший костюм-тройку, захватив тросточку и не забыв про часы с цепочкой и перстень-печатку. В кончиках пальцев он небрежно держит сигару, в кармане виднеется аккуратно сложенный платок, ботинки начищены до блеска. И хотя костюм сидит не совсем идеально, весь вид и свободная поза свидетельствуют о серьезных дендистских намерениях владельца. Ясно, что для него дендистский стиль – знак самоутверждения и владения собой, продуманная жизненная программа, призванная создать образ человека со вкусом и отточенными мужественными манерами, покорителя дамских сердец.
В своих усилиях хорошо выглядеть мой дедушка был не одинок. Тысячи молодых людей среднего класса в дореволюционной России использовали код щегольской культуры, когда хотели произвести наилучшее впечатление. Для них дендизм был уже удобным, отшлифованным стереотипом мужской элегантности. В этом массовом варианте дендизма были приглушены «опасные» коннотации тщеславия, легкомысленности и женственности; напротив, акцентировалась семантика буржуазной мужественности как порядочности, ответственности, надежности и респектабельности.
К.Б. Вайнштейн в 1916 г. Фото из семейного архива
А.Н. Бенуа. Портрет С.П. Дягилева. Набросок. 1907 г.
Дендизм после революции: довоенные годы
После революции понятие «дендизм», как и можно было ожидать, утрачивает актуальность. Тяжелые условия быта сделали дендизм невозможным даже для немногих оставшихся в России щеголей. Однако само слово остается в лексиконе интеллигенции, хотя и преимущественно с ироническим оттенком. Так, имажинист Анатолий Мариенгоф раньше имел репутацию денди, и его друзья не забывали об этом даже в советское время. В своих мемуарах Мариенгоф вспоминает, как Мейерхольд подарил ему свои карточки «с надписью “Единственному денди в Республике”. У этого “денди” было четыре носовых платка и две рубашки. Правда, обе из французского шелка»[1053].
Как видим, в этом контексте слово «денди» уже почти невозможно употреблять без кавычек. Неизвестно, сколько продержались раритетные рубашки, но в другом эпизоде, ближе к концу воспоминаний, Мариенгоф уже смиренно просит знаменитого актера Василия Качалова продемонстрировать ему монокль. Качалов тогда только что вернулся в советскую Россию после заграничного турне по Европе и Америке: «– А у тебя, Вася, еще имеется монокль в жилетном кармашке? – спросил я… – Имеется, а как же! – Вставь, пожалуйста. Поучиться хочу. Противно стариковские очки на нос надевать. А уж пора. – Эх ты, денди! – И он, элегантно подбросив стеклышко, вынутое двумя пальцами из жилетного кармашка, поймал его глазом. – Блеск!»[1054]
В. Качалов
Порой мелочи вроде монокля присутствовали в гардеробе уже разоренных революцией интеллигентов как символ былой роскоши. «Анненков – единственный человек в Петербурге, носящий монокль. Он с ним никогда не расстается. Какая-то хорошенькая молодая балерина… уверяла, стыдливо опуская ресницы, что он даже спит с моноклем»[1055]. Однако владелец монокля, как замечает в своих воспоминаниях Ирина Одоевцева, выглядит весьма экстравагантно: «Он, как всегда, в валенках, в своей голубой куртке на баране и при монокле»[1056].
В начале 20-х при всеобщем обнищании сохранять приличный вид даже при самых щегольских наклонностях было довольно трудно. Это странным образом повлияло на богемную моду: «Одно из неожиданных “революционных завоеваний”: теперь в петербургском художественном мире, как в мире птиц и зверей, самцы наряднее и эффектнее самок. Не все, конечно. Блок, Лозинский, Георгий Иванов, Адамович, Добужинский, Лурье, Козлинский и другие по-прежнему стараются сохранять петербургский подтянуто-эстетический вид. Но многие студенты и актеры и художники безудержно рядятся в какие-то необычайные тулупы, зеленые охотничьи куртки, френчи, сшитые из красных бархатных портьер, и фантастические галифе. Не говоря уже о разноцветных обмотках и невероятно высоких и лохматых папахах. И где только они добывают весь этот маскарадный реквизит?»[1057] Часто вынужденная экстравагантность в костюме диктовалась элементарным отсутствием средств: «Не расстраивайтесь, Хармс сейчас носит необыкновенный жилет (жилет был красный), потому что у него нет средств на покупку обыкновенного»[1058]. Можно ли счесть красную жилетку Хармса парафразом знаменитого розового жилета Теофиля Готье? Если да, то это скорее ирония истории, каламбур поневоле.
Сходным образом Владимир Маяковский в молодости нередко использовал одежду как средство эпатажа: его знаменитая футуристическая желтая кофта была увековечена в стихотворении «Кофта фата» (1914):
Я сошью себе черные штаны Из бархата голоса моего. Желтую кофту из трех аршин заката. По Невскому мира, по лощеным полосам его, Профланирую шагом Дон-Жуана и фата[1059]…Однако история появления этой кофты не столь возвышенна. Маяковский в автобиографии «Я сам» вспоминал: «Костюмов у меня не было никогда. Были две блузы – гнуснейшего вида. Испытанный способ – украшаться галстуком. Нет денег. Взял у сестры кусок желтой ленты. Обвязался. Фурор. Значит, самое заметное и красивое в человеке – галстук. Очевидно – увеличишь галстук, увеличится и фурор. А так как размеры галстуков ограничены, я пошел на хитрость: сделал галстуковую рубашку и рубашковый галстук. Впечатление неотразимое»[1060].
Однако после революции, когда Маяковский нашел общий язык с властью, он уже резко выделялся на фоне обнищавшей интеллигенции своим франтовством. Любопытно свидетельство М.М. Бахтина, который видел Маяковского в период 1920–1921 годов: «И вот пришел человек высокого роста. Я сразу узнал, что это Маяковский: я видел его портреты, даже, может быть, я его видел уже когда-нибудь. Одет очень по-модному в то время, когда люди были одеты очень плохо. У него было пальто-клеш. Тогда это было модно. Вообще, все на нем было такое модное, новое, и чувствовалось, что он все время это чувствует, что вот, он одет как денди, как денди. Но как раз денди-то и не чувствует, как он одет. Это первый, так сказать, признак дендизма: носить одежду так, чтобы казалось, что он никакого значения ей не придает. А тут чувствовалось, что он все время переживает то, что у него и пальто-клеш, и что он одет модно, и что фигура у него такая. Одним словом, мне это очень не понравилось»[1061].
Проницательная оценка М.М. Бахтина не только фиксирует личный стиль Маяковского, но и подчеркивает неадекватность претензий на «советский» дендизм. На примере Маяковского видно, как в это время, даже если человек имел материальные возможности одеться и подходящие наклонности (вспомним хотя бы его маниакальную чистоплотность), истинный дендизм уже невозможен: как целостный стиль он принадлежал ушедшей эпохе.
Эта неизбежная коллизия со всей остротой проигрывается в известной статье Александра Блока «Русские денди», написанной 2 мая 1918 года. Ее главный герой – Валентин Стенич (подлинная фамилия – Сметанич), один из немногих интеллигентов, сохранивших «подтянуто-эстетический» стиль в трудные послереволюционные годы.
В своем очерке Блок рисует портрет Стенича-литератора, который бравирует декадентской позой, признаваясь в том, что его поколение не интересует ничего, кроме стихов, и что «все мы пустые, совершенно пустые». Впоследствии Стенич говорил, что его беседа с Блоком была не более чем удачной мистификацией: «“Все-таки мне удалось его обмануть!” – восклицал он восторженно»[1062]. На самом деле Стенич рассчитывал произвести на Блока впечатление своими стихами, а когда это не удалось, то решил хотя бы поразить его намеренно заостренным образом «буржуазного» эстета: «Все мы – наркоманы, опиисты; женщины наши – нимфоманки. Нас – меньшинство, но мы пока распоряжаемся среди молодежи; мы высмеиваем тех, кто интересуется социализмом, работой, революцией. Мы живем только стихами»[1063]. Блок, в ту пору только что написавший «Двенадцать» и мучительно пытавшийся как-то принять для себя идеологию социализма, счел эту провокацию достойным поводом для полемики и три месяца спустя после встречи с двадцатилетним «Неврастеничем» (так прозвал Стенича Маяковский) написал статью «Русские денди». В ней он подробно описал все обстоятельства общения с молодым поэтом, которого запомнил, несмотря на мимолетность той встречи. Блок с неприязнью отшатнулся от него, поскольку, очевидно, в утрированном декадентстве Стенича опознал настроения своей молодости, доведенные до абсурда. Но любопытно, что он нашел этим настроениям другое имя: не символизм, не эстетство, не декаданс, а дендизм: «Я испугался, заглянув в этот узкий и страшный колодезь… дендизма»[1064]. Блок знал о дендизме не понаслышке – соответствующая литературная традиция Серебряного века была ему близка, да и среди его друзей в 10-е годы кодекс поведения денди был весьма популярен. Недаром он тут же замечает по поводу Стенича: «За его словами была несомненная истина и какая-то своя правда»[1065]. Но внутренняя сопричастность символистским настроениям ушла, и в памяти остались теперь уже чуждые позы и манеры, от которых хотелось энергично откреститься.
В таком контексте дендизм стал для Блока эмблемой всего враждебного: «Так вот он, русский дендизм XX века! Его пожирающее пламя затеплилось когда-то от искры малой части байроновской души; во весь тревожный предшествующий век оно тлело в разных Брэммелях, вдруг вспыхивая и опаляя крылья крылатых: Эдгара По, Бодлера, Уайльда; в нем был великий соблазн – соблазн антимещанства; да, оно попалило кое-что на пустошах “филантропии”, “прогрессивности”, “гуманности” и “полезностей”; но, попалив кое-что там, оно перекинулось за недозволенную черту. У нас от “Москвича в гарольдовом плаще” оно потянулось, подсушивая корни, превращая столетние клены и дубы дворянских парков в трухлявую дряблую древесину бюрократии. Дунул ветер, и там, где торчала бюрократия, ныне – груды мусора, щепы, валежник. Но огонь не унимается, он идет дальше и начинает подсушивать корни нашей молодежи. А ведь в рабочей среде и в среде крестьянской тоже попадаются уже свои молодые денди. Это – очень тревожно. В этом есть тоже, своего рода, возмездие»[1066].
В этом пассаже обращает на себя внимание странная метафорика: дендизм уподобляется пламени, а ведь как раз в 1918 году Блок написал «Двенадцать», поэму, через которую проходит образ мирового революционного пожара:
Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем, Мировой пожар в крови, Господи, благослови!Этот «мировой пожар» не пощадил и родовую усадьбу Блока – Шахматово, где в огне погибла, среди прочего, и блоковская библиотека. Принять революцию Блоку стоило огромной внутренней борьбы, но выбор был сделан, свидетельство чему – статья «Интеллигенция и революция», написанная в том же 1918 году. Однако следы драматического напряжения ощутимы и в «Русских денди». В тексте обнаруживается знаменательная неувязка: пламя подсушивает корни «столетних кленов и дубов дворянских парков» – образ, явно окрашенный в ностальгически положительные тона вопреки революционному пафосу. Неприятная подавленная ассоциация все же прорывается…
Слишком много негативного должен был метонимически обозначить в блоковской статье дендизм. Стенич из эстетического оппонента на наших глазах с поразительной скоростью превращается в идеологического и социального врага. Искусственность интеллектуальной конструкции дает о себе знать и в перебивах тона – от возвышенно-романтического в начале («искра байроновской души», «крылья крылатых») до критически пропагандистского в конце, напоминающего инвективы в адрес «буржуазных» модников и позднее – стиляг в советских журналах.
Однако интуиция не подвела Блока, по крайней мере, в одном: Стенич в самом деле был денди. В мемуарах Николая Чуковского можно прочесть о Стениче: «С полным правом он говорил о себе словами Маяковского: “И кроме свежевымытой сорочки, сказать по совести, мне ничего не надо”. А сорочки у него всегда были чистейшие. Безошибочно, как никто, умел он выбрать себе галстук, и любой пиджак сидел на нем так, словно сшит у лучшего портного. Он был одним из элегантнейших мужчин своего времени, не затрачивая на то ни особых усилий, ни средств»[1067].
Стенич был мастером иронии и любил обыгрывать романтическую меланхолию с дендистских позиций. «Я бы покончил с собой, – говорил он, – но вот отдал в чистку белые брюки, а они будут готовы только в пятницу»[1068]. В общении с Блоком Стенич применил «фирменный» дендистский прием доведения до абсурда – фактически это был розыгрыш по всем правилам. Его язвительные остроты часто строились наподобие браммелловских шуток: «Один член Союза писателей как-то сказал при нем: “Наш брат писатель…” Стенич мгновенно к нему обернулся и воскликнул: “Как! У Вас есть братписатель?” В редакции “Литературного современника” Стенич застал как-то одну поэтессу, сидевшую над корректурой. Заглянув ей через плечо, он увидел, что она правит корректуру своего стихотворения. “Как! Даже Вас печатают в этом журнале!” – с ужасом воскликнул он на всю редакцию»[1069]. Структура таких острот держится на подчеркнутом отмежевании говорящего от «объекта»[1070]. Ирония, «эта прекраснейшая из вольностей», осталась в арсенале немногих уцелевших денди советского времени как одна из доступных форм внутренней свободы.
«Чувень, клевая лаба, четыре сакса»: стиляги в послевоенной культуре
Рассказать о стилягах, кажется, легко: они еще здесь, рядом, у них можно взять интервью. И невероятно трудно – потому что разговор пойдет не просто о моде, а скорее – о личной свободе в несвободной стране.
После Второй мировой войны советское общество некоторое время сохраняло открытость по отношению к Западу. Миллионы советских солдат вернулись домой, и в их рассказах фигурировали впечатления о европейской жизни. Люди еще носили вещи, присланные по ленд-лизу, в кинотеатрах шли трофейные фильмы. Особым успехом пользовались «Серенада солнечной долины», «Сто мужчин и одна девушка», «Облава». Модники нередко лепили свой образ с киногероев: «Был после войны такой трофейный фильм “Облава”, там был американский разведчик, заброшенный в ряды гестапо. Конечно, он был изумительно обаятельный парень, так вот моя фотография (в шляпе) – это его стиль, я с него все срисовал сразу же», – вспоминал известный ленинградский щеголь Валентин Тихоненко[1071].
В клубах и Домах культуры играли джаз, «Караван» Дюка Эллингтона был на пике популярности, молодежь активно записывалась в кружки фокстрота. Любимыми танцами были также буги-вуги, позднее – твист и шейк. Меломаны наловчились изготовлять самодельные пластинки из старых рентгеновских снимков – это называлось «музыка на ребрах». В конце 40-х годов среди любителей джаза, танцев и западных фильмов появился новый тип городского модника – стиляга. Это слово было не самоназванием, а изобретением официальной прессы. Впервые оно промелькнуло в сатирическом очерке Д. Беляева «Стиляга», напечатанном в журнале «Крокодил» в 1949 году в рубрике «Типы, уходящие в прошлое». В этом же номере была опубликована статья о безродных космополитах, отражавшая начало политической кампании против западных влияний, и с тех пор стиляг не только регулярно высмеивали в прессе, но и прорабатывали на комсомольских собраниях, а ретивые дружинники преследовали их на улицах. Тем не менее стиляги оказались типами, уходящими отнюдь не в прошлое, а скорее в будущее – они просуществовали на протяжении 50-х годов и благополучно дотянули до 60-х – правда, позднее они уже называли себя не «стиляги», а «штатники». Точно так же как и русские денди-западники XIX века, они следили за зарубежной модой и, хоть и не говорили между собой по-французски, ориентировались во всем на современную западную культуру.
Портрет первых стиляг конца 40-х частично дошел до нас благодаря сатирикам-очеркистам: «В дверях зала показался юноша. Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши.
Юноша оперся о косяк двери и каким-то на редкость развязным движением закинул правую ногу на левую, после чего обнаружились носки, которые слепили глаза, до того они были ярки…»[1072]
В этом описании интересна не только мода, но и пластика стиляги: «на редкость развязные движения» были тщательно продуманы и не случайны. Стиляги телесно оформляли себя как люди изысканные, намеренно манерные. Их новые жесты: запрокинутая назад голова, высокомерный взгляд сверху вниз на окружающих, особая «развинченная» походка – свидетельствовали о принадлежности к богеме. Сходные приемы применяли и денди XIX века, нарочито растягивая слова и вырабатывая медлительную походку. И, разумеется, пластика отчасти диктовалась костюмом: «Небывалая одежда заставляла иначе двигаться, иначе танцевать. Скорее всего, в музыке, новых ритмах и крылась потребность иначе одеться, как-то обозначить себя», – отмечает Р.М. Кирсанова[1073].
Стиляги заявляли о себе не только в моде и в музыке, но и в столь традиционном дендистском жанре, как фланирование. В каждом городе был свой «Бродвей» – центральная улица, где стиляги фланировали по вечерам. В Москве «Бродвеем» называлась улица Горького. Было хорошим тоном явиться вечером, когда уже начинались сумерки, на Бродвей и там, так сказать, совершать хил, то есть прогулку[1074]. В Ленинграде «Бродвеем» был Невский проспект, в Баку – Торговая улица.
Среди стиляг «Бродвей» сокращенно называли «Бродом»: дополнительная пикантность этой игры слов состояла в том, что русское слово «брод» (переход по дну через реку) тоже намекало на возможную опасность, необходимость поиска надежного пути поперек течения. Ведь нередко там же, на «Бродвее», происходили стычки с дружинниками. Во время прогулки по «Броду» для новых фланеров было важно не только встретиться с друзьями, но и, конечно, показать свой костюм и успеть заметить, что носят другие. На уровне одежды коммуникация могла происходить даже между незнакомыми людьми, если они чувствовали общность стиля. Как рассказывал о таких прогулках опытный модник Саша Власов, «я на ходу посылал приветствие плащу». Существовали специальные приемы как бы случайной демонстрации одежды: к примеру, сунуть руку в карман пиджака, чтобы приоткрыть подкладку плаща (фирменный плащ нередко опознавался по подкладке). Опознание марки на ходу считалось высшим пилотажем. Это была типично дендистская зрительная стратегия, санкционирующая оглядывание – как мимолетное, так и внимательное.
Отличались стиляги от обывателей и своим особым наречием. Он складывался из жаргона музыкантов в сочетании с переиначенными английскими словами. «Ходить по Невскому значило “хилять по Броду”, клеить – это было тоже из лабужского жаргона»[1075], «хеток олдовый» – старая шляпа. Для непосвященных это звучало почти как иностранный язык. «Чувень, клевая лаба, четыре сакса», – мог сказать один стиляга другому, приглашая его послушать отличный ансамбль с четырьмя саксофонами[1076].
Но у советского обывателя стиляжья любовь к джазу вызывала только страх. «Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст» – гласила популярная присказка.
В массовом сознании образ стиляги прочно закрепился в шаржированном варианте – он был даже увековечен в классическом романе «Пушкинский дом» Андрея Битова: «Это был тот самый пресловутый “стиляга” начала пятидесятых. В тех же брючках, в том самом спадающем с плеч до колен зеленом пиджаке, чуть ли не на тех же подметках, подклеенных у предприимчивого кустаря, в том же галстуке, повязанном микроскопическим узлом, в том же перстне, с тем же коком, с тою же походкой, в самом карикатурном, даже для того времени, в самом “крокодильском” виде…»[1077]
Долгое время стиляги были героями «крокодильской» сатиры, а поскольку в ту пору журнальные карикатуры рисовали и впрямь талантливые графики – Б. Пророков, Кукрыниксы, то подобные представления о стилягах оказались удивительно живучими, во многом заслонив свидетельства очевидцев и непосредственных участников. А к ним стоит прислушаться в первую очередь – и тогда начнет вырисовываться более сложный и интересный культурный ландшафт.
Сами стиляги вспоминают, что далеко не все из них ходили в карикатурном виде: «Бывали простенькие, но очень красивые костюмы, все были чисто шерстяные. В те времена хорошим материалом считалась чистая шерсть, 100-процентная, хорошего цвета. Костюмы были со вкусом, не было диких цветов, как комсомольцы писали. Были у меня плащи, шуба у меня была, английское пальто ратиновое… А эти писали – “попугайское”. Разве в Англии делают попугайское?» – говорит Валентин Тихоненко[1078]. «Я всегда любил строгую моду, и галстуков с петухами у меня никогда не было», – признается Борис Алексеев[1079].
Продвинутые модники покупали западные ткани в комиссионных магазинах и заказывали себе хорошие костюмы, благо талантливых портних было в то время немало[1080].
Среди стиляг тон задавали лидеры – авторитетами в моде считались Алексей Зубов, Леня Геллер, Алексей Козлов, Жора Фридман, Юра Надсон, Саша Бруханский, Боря Коплянский, Сергей Огородников.
В советской прессе стиляг изображали в первую очередь как детей богатых родителей, которые от безделья не знают, что делать, и увлекаются только музыкой, модными тряпками и ресторанами. Однако среди них было немало детей и из рабочих семей – знаменитый Валентин Тихоненко, один из первых ленинградских стиляг, был сыном репрессированного рабочего, во время войны подростком подорвался на мине и потерял руку, что не мешало ему потом гонять на мотоцикле и модно одеваться. Сначала помогали вещи, присланные по ленд-лизу: «я носил из подарков американских, шикарные, например, были брюки, в такую полоску туманно-серебристо-белую. Интересные были штаны», – вспоминает Валентин Тихоненко[1081].
Позднее иностранные вещи стали покупать у иностранцев – в Ленинград часто приезжали финны, которые прямо в туристическом автобусе или в гостинице могли дешево продать целые чемоданы одежды. В Москве фарцовщики работали у каждой крупной гостиницы – это называлось «утюжить» иностранцев. Некоторые стиляги сами «утюжили», иные только покупали вещи у фарцовщиков-«шептунов».
Фирменные вещи узнавались знатоками сразу: «Настоящими считались тупоносые американские солдатские ботинки, в которых и ходили по улице Горького»[1082]. Наметанный взгляд мгновенно отличал знаковые детали: «обязательная пуговичка сзади, вешалка, чтобы рубашка вешалась»[1083].
Некоторые стиляги обладали прекрасным вкусом и умели сочетать вещи не только грамотно, но и новаторски: «Я был модный человек номер один. Однажды я купил швейцарское пальто, оно мне было нужно для рекламного броска… Это было роскошное швейцарское пальто… Я ходил в американском “стетсоне”, все по цвету, пальто голубое, до колен»[1084]. Комбинация «швейцарское пальто + стетсон» нетривиальна – в сходном авангардном стиле нередко подбирали ансамбли и западные любители протестной одежды.
Первые стиляги создали, пожалуй, наиболее выразительный модный образ. Они носили начесанный и набриолиненный кок на лбу, тонкие усики-«мерзавчики». Наиболее узнаваемые вещи их гардероба – узкие брюки-дудочки, длинные двубортные пиджаки, остроносые ботинки на высокой каучуковой подошве «манная каша», яркие гавайские рубашки, галстуки с обезьянами или драконами, черные очки.
Многие из этих вещей делались ценой невероятных усилий дома – это был так называемый «самострок»: брюки шились из палаточного брезента, подошвы из микропорки заказывались у армян в мастерских по ремонту обуви, кое-что поступало из братских социалистических стран: драконьи галстуки – из Китая, гавайские рубашки – с Кубы.
Девушки-стиляги не выработали своего узнаваемого стиля, довольствуясь отдельными оригинальными акцентами в одежде. Копируя фасоны из социалистических или прибалтийских модных журналов, они носили юбки с разрезами, женские брюки, шелковые блузы с цветами, туфли с удлиненными носами. В принципе любая западная деталь туалета автоматически превращала девушку в «стилягу». Даже попытки соблюдать диету ради хорошей фигуры или увлечение косметикой уже казались чем-то подозрительным, нарушая социалистические принципы «скромности», «простоты» и «чувства меры»[1085]. Самые незначительные усилия выглядеть «не как все» вызывали жесткую идеологическую реакцию официальных ревнителей «хорошего вкуса»: «По-модному истощенно-худая, бледная, на истомленном лице ее черные глаза тонули в густой черной тени. Пышные волосы были взбиты высоко вверх. Платье – в матово-черных разводах, тоже словно вычерченных тушью… Повеяло от этой женщины, словно сошедшей с картинки западного журнала, смрадом того гниющего мира, где человек не умеет уважать человека. Нет, эта гадкая манера разрисовывать лицо не подходит нашим жизнерадостным, прямодушным, честным, хорошим женщинам!»[1086]
Женщины-стиляги подвергались тем же преследованиям, что и мужчины, вплоть до принудительной стрижки волос. «Однажды мы шли с моей женой Ниной по Невскому проспекту, и она отличалась от всех остальных пешеходов тем, что у нее была юбка с разрезами, сделанными мамой в соответствии с требованиями журнала “Польша”, и носила прическу “венчик мира”, модную тогда. А на мне был клетчатый, чешский какой-то пиджачок, купленный в комиссионном магазине рублей за 8. Этого было достаточно, чтобы дружинники нас схватили и попытались ее обрить, но, на наше счастье, поэт Юрий Голубенский, который был в этой дружине, “наш человек”, как-то заступился и нас отмазал», – рассказывал лондонский бизнесмен, в прошлом ленинградский стиляга, Александр Шлепянов[1087].
Случались, однако, моменты, когда преследования ослабевали. Кратким торжеством стиляг стал фестиваль молодежи и студентов 1957 года. На нем выступил музыкальный ансамбль «Девятка ЦДРИ», в котором играли Гаранян, Бахолдин, Рычков. Этот ансамбль стал сенсацией фестиваля и потом пользовался неслыханной популярностью. Тогда же были первые джем-сейшны с иностранными музыкантами. Были и другие «прорывы»: выставка Пикассо в 1956 году, московские показы коллекции Дома Диор в 1959 году[1088]. На какое-то время «западнические» настроения стиляг попали «в струю», но вскоре, после завершения хрущевской «оттепели», все вернулось на круги своя.
В 1960-е годы модники уже именовали себя «штатниками» и одевались совсем иначе, чем в 1950-е годы. «Мы себя так называли – «штатники». Потому что одевались по американской моде: серые широкие пиджаки[1089], основательные такие туфли, как корабли непотопляемые, плащи с верхней пуговкой… У нас было много признаков, по которым мы узнавали друг друга. Мелочи – как пуговица пришита, как заделан шов, пряжечка какая…» – говорит Бэмс, легендарный стиляга, ставший героем пьесы В. Славкина «Взрослая дочь молодого человека»[1090]. Как видим, костюм советских стиляг ощутимо менялся с годами, а кроме того, конечно, существовали различные локальные варианты[1091].
Так, в Баку процветал свой модный стиль – город-порт со времен нобелевских концессий традиционно отличался космополитизмом. К продукции местных одежных цехов настоящие знатоки относились с презрением. Во время прогулки по Торговой улице модники демонстрировали свои наряды, купленные отнюдь не в «Березках», а прямо у западных туристов. Главным критерием успеха было не отличаться от иностранцев: для этого стиляга даже вырабатывал специальный «отвлеченный» взгляд. Маргинальное положение Баку вдали от бдительного ока столичной цензуры позволяло проводить неслыханные по размаху фестивали «Золотая осень», куда съезжались отовсюду талантливые музыканты. В городе было множество вокально-инструментальных ансамблей. В 1960–1970-е годы молодые бакинцы заслушивались музыкой «The Beatles», знали наизусть песни Джимми Хендрикса. Позднее стали популярны «Led Zeppelin», «Pink Floyd», «Deep Purple». Музыкальную моду диктовали англичане и американцы, в одежде скорее доминировал элегантный итальянский стиль.
Джаз-рок-ансамбль физического факультета Бакинского университета. Эмиль Гасанов, Хикмет Хаджи-заде, Вагиф Алиев. 1976 г.
Хотя в целом одежный ансамбль советских стиляг отличался известной эклектикой (что неудивительно в наших суровых условиях), его вполне можно сравнить с другими вариантами альтернативной моды, популярной в то же время на Западе.
Очевидная параллель – костюм английских «тедди»: в начале 1950-х годов в Англии появились «teddy boys», ребята с рабочих окраин южного Лондона. Они стали носить облегающие брюки, галстуки– бабочки и удлиненные пиджаки с бархатными обшлагами, замшевые туфли на толстой подошве. Волосы надо лбом укладывались в кок, лицо обрамлялось внушительными бакенбардами. Первоначально идолом «тедди» был британский монарх Эдуард VII, имевший репутацию завзятого денди. Собственно, и название «тедди» возникло как уменьшительное от имени Эдуард. Слегка утрируя изысканный неоэдвардианский стиль, эти молодые люди с городских окраин отважно играли в джентльменов, разбавляя свой возвышенно-пародийный ансамбль американизмами – в то время был популярен фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо (1953). Так, на смену галстуку-бабочке вскоре пришел галстук-шнурок в подражание американским ковбоям, узкие брюки заменились джинсами. Этот костюм чуть позднее стал популярным среди поклонников рок-н-ролла[1092].
«Тедди» не отличались примерным поведением: могли остановить поезд, нажав на кнопку экстренной связи с машинистом, затеять драку. Их судили за хулиганство, и на одном из процессов судья обратился к ним с воспитательной речью: «Вы пытались раздобыть денег, чтобы купить смехотворные вещи – эдвардианские костюмы. Обычные люди потешаются над ними. Любители этих кричащих, дешевых и отвратительных тряпок вызывают неприязнь»[1093]. Как видно, в свое время английская буржуазная публика не была в восторге от поведения «тедди», хотя потом их стиль стал узнаваемой классикой уличной моды и в последующие десятилетия не раз возвращался вновь.
Аналогичные молодежные движения развивались в 50-е годы и на других континентах: в Австралии в центре внимания были Bodgies – предшественники современных байкеров. Они носили брюки-дудочки и черные кожаные куртки, а их подруги Widgies осветляли волосы, делали высокие начесы и щеголяли в обтягивающих юбках.
Не отставали и японские продвинутые модники Tayozoku: совсем как наши стиляги, они увлекались брюками-дудочками, гавайскими рубашками и черными очками. Провозглашая «культ солнца», Tayozoku выражали в своем костюме программную праздность, курортную расслабленность в пику трудовым будням скучного взрослого мира. Вероятно, цветистая несерьезность гавайских рубашек и галстуков с обезьянами аналогичным образом срабатывала как провокация и в советском контексте.
Более ранним предшественником стиляжьей моды был американский «zoot suit» – костюм, включающий мешковатые брюкии удлиненный пиджак с широченными лацканами. Эта карикатура на парадный ансамбль со смокингом была явным вызовом американскому мейнстриму 40-х годов; особенно полюбился «zoot suit» чернокожим модникам и мексиканцам, которые усмотрели в нем удобный способ символического протеста против белого истеблишмента[1094]. Драки, в процессе которых приверженцев стиля «зут» раздевали до белья, были не редкость. Восстания, когда в 1943 году полиция преследовала ретивых любителей «zoot suit», вошли в историю как пример борьбы меньшинств за свои права. Гротескный стиль «зут» – сужающиеся книзу огромные брюки и пиджак до колен в сочетании с сомбреро, болтающиеся и бренчащие цепочки – смотрелся особенно экстравагантно из-за ярких опереточных расцветок. Боевая попытка присвоить и пародийно переиначить нарядный смокинг удалась – так в консервативную историю мужского костюма был вписан вполне авангардный жест.
Общее, что роднит эти разные национальные варианты альтернативной молодежной моды, – сочетание высокого и низкого стиля, ирония и нонконформизм: если уж смокинг, то розовый и с сомбреро, если швейцарское пальто, то голубое и со шляпой «стетсон», если эдвардианский пиджак – то с ковбойским галстуком! Это были пробы игрового вкуса в комбинаторике, веселая война против сложившихся шаблонов.
Молодой человек в костюме «зут». 1943 г.
Неодобрительная реакция в каждой стране различалась, конечно, по степени репрессивности, но общий параметр раздражения был налицо повсюду[1095]. В этом плане нападки на советских стиляг не кажутся чем-то уникальным: альтернативно настроенную молодежь подвергали гонениям во всех странах – но с той, конечно, разницей, что в СССР стиляге могли серьезно испортить биографию, выгнав из института с волчьим билетом или арестовав за валютные операции.
В Ленинграде настоящие административные преследования стиляг начались после «установочной» статьи в газете «Смена». Модников не только отлавливали на улице, но и выгоняли из учебных заведений. Показательно, что несчастных студентов защищали те профессора, которые как ученые занимали не вполне ортодоксально-советские позиции – например, филологи-формалисты. Диссиденты в науке и в моде легко узнавали друг друга. «В университете единственный, кто выступил против этих гонений, был Борис Михайлович Эйхенбаум, знаменитый литературовед, который сказал, что стричь девушек под машинку за приверженность несколько иной моде, нежели та, которой придерживаются наши уважаемые законодатели, – это Средневековье, и наш университет не должен… И тут профессора Плоткин, Мейлах, Макогоненко стали кричать, что он идет против линии партии, и, в общем, все, что полагалось кричать в те годы, и только один старик, профессор Пропп, фольклорист, поддержал Эйхенбаума»[1096].
Как видим, в каждом конкретном случае реакция на стиляг была своего рода лакмусом, пробой на терпимость и интеллигентность.
Насколько осознанным был молодежный протест стиляг?
Разумеется, налицо было явное желание заявить о своем отличии от окружающих. «Нужно было отделиться, обособиться от общего, выражаясь хлестким словечком, жлобского окружения», – говорил Игорь Берукштис, в прошлом московский стиляга[1097]. Сейчас уже видно, что им удалось: советские стиляги – эти пижоны, фланеры и западники – виртуозно умудрялись быть свободными в самых неподходящих условиях.
Это был советский вариант альтернативной моды, по-своему возрождающей дендистские традиции, и не случайно именно среди стиляг в начале 60-х была придумана песня об отце дендизма Джордже Браммелле[1098]. В заключение приведем этот замечательный текст целиком:
А вы послушайте, ребята, бородатый анекдот: Жил на свете Жора Бреммель, знаменитый обормот. Имел он званье лорда, фраки-смокинги носил И с королем Георгом что ни день зубровку пил. Брюки узкие носил он, вроде нынешних стиляг, И как он шел по Пикадилли, то оглядывался всяк, И, глядя ему в спину, говорил простой народ: «А вот идет товарищ Бреммель, знаменитый обормот». Он имел свою карету и любил в ней ездить в свет, И он купил за тыщу фунтов леопардовый жилет, И в леопардовом жилете на банкеты он ходил, И тем жилетом на банкетах всех он дам с ума сводил. И все английские миледи в него были влюблены, И все английские милорды носили узкие штаны, А он плевал на всех миледей и милордов не любил, И только с королем Георгом что ни день зубровку пил. И вот однажды за зубровкой говорит ему король: «А что ж ты, тезка, неженатый – не найдешь невесты, что ль?» А Бреммель, хлопнув третью стопку, так сказал ему в ответ: «А как ты есть король английский, тебе открою свой секрет: Я, сказать тебе по правде, восемь лет уже влюблен В одну прекрасную миледи по фамильи Гамильтон — У ней по плечи кудри вьются и глаза как пара звезд, А ейный муж товарищ Нельсон есть мошенник и прохвост!» Тут Георг, король английский, подскочил и закричал: «Ой же Жора, друг мой Жора, что же ж раньше ты молчал? Тебе я орден дам Подвязки и три мильона фунтов в год, А того прохвоста Нельсона мы выведем в расход». В это время с Бонапартом началася вдруг война, И много крови потеряла в ней Британская страна; В Трафальгарской страшной битве синий дым столбом стоял, И был убит товарищ Нельсон, одноглазый адмирал. Он как герой национальный был в Вестминстер привезен, И убивалася несчастная миледи Гамильтон, Отпевал архиепископ, и весь народ кругом рыдал, А обормот товарищ Бреммель только ручки потирал. И вот уж к свадьбе все готово, поп звонит в колокола, И вот уж гости собрались вокруг накрытого стола, Только так уж получилося, что после похорон, Прямо в Темзе утопилася миледи Гамильтон. Тут загрустил товарищ Бреммель и покинул шумный свет, И спустил он на толкучке леопардовый жилет; В отдаленное именье он удалился почем зря И умер там от воспаленья мочевого пузыря. А король британский с горя пил зубровку за двоих, И через некоторое время получился полный псих: Его свезли в умалишенку, поместили под запор – (Хор) И вся страна палатой общин управляется с тех пор! (3 р.)XIV. Теория и практика моды
Ритмы моды: метафорика времени
Анатоль Франс как-то обмолвился, что, доведись ему воскреснуть через сто лет, он первым делом заглянул бы в дамский журнал мод, чтобы понять, что происходит в обществе. Вероятно, классик и впрямь придумал неплохой метод (если только допустить, что в будущем журналы мод не исчезнут)! Ведь только по длине дамских юбок знающий человек может судить о степени процветания экономики.
Замечено, что в эпохи индустриального подъема в моду входят мини-юбки, открытые фасоны одежды, спортивность. Женская красота предполагает здоровье, румянец, подвижность. Так было в 20-е годы, когда Коко Шанель ввела в моду загар и легкие костюмы из джерси, а Елена Рубинштейн – яркие тона в макияже, а затем в 60-е, когда благодаря Мэри Куант подол вновь стал предельно коротким. Напротив, в периоды депрессий юбки стремительно удлиняются, одежда становится закрытой, как бы защищая хозяйку от жизненных передряг. Модный типаж – болезненная изможденная дама, эффектная бледность на лице, покорность, пассивность: это 30-е и особенно 90-е годы, давшие поколение «концлагерных»[1099] моделей во главе с Кейт-Мосс.
Существует теория, что каждая эпоха имеет свой дух времени – Zeitgeist, который дает характерную узнаваемую эстетику в самых разных областях, от высокого искусства до бытовых привычек[1100]. При таком подходе увлечение геометрией в моделях одежды Варвары Степановой можно сопоставлять с конструктивизмом в живописи и графике того же периода или с минималистской архитектурой концертного зала в Стокгольме 1926 года.
В конце XIX века подобным универсализмом обладал стиль Ар Нуво: знаменитые изогнутые линии господствовали решительно во всех жанрах. Текучий силуэт платьев Поля Пуаре рифмуется с ракушечными завитками в дизайне домов Гауди и с растительными мотивами ювелирных украшений Рене Лалика. Пышные естественные изгибы женской фигуры, волнистые складки тканей становятся символом сценического искусства самой известной танцовщицы того периода Лои Фуллер. Особенно очевидно единство стиля, когда предметы одной эпохи бывают собраны вместе, причем не обязательно ретроспективно, в музее. Для современников в 1900 году Всемирная выставка в Париже демонстрировала триумф Ар Нуво во всех областях, а Лои Фуллер танцевала там в специальном павильоне со световыми эффектами.
Порой дух времени наиболее ярко воплощается в моде на какие-нибудь мелкие вещицы – как сейчас сотовые телефоны или в предыдущие декады кубик Рубика, водонепроницаемые часы, эпидемия прозрачных зонтиков в США в 1967 году. Такие «игрушки» чаще всего сигнализируют изменение стиля жизни, ассоциируются с новыми видами досуга. В конце XIX века появилась мода на велосипедные прогулки, что оказало поистине революционное воздействие на дамские моды – пришлось расстаться с корсетом, ввести раздвоенные юбки, велосипедные перчатки. Суровые ревнители нравственности отступили перед желанием женщин кататься на велосипеде! Аналогичным образом мода на семейный отдых у моря в 1920-е годы привела к реформе купальных костюмов в сторону большей открытости и удобства.
Нередко модные безделки бывают прямо связаны с техническими достижениями эпохи и демонстрируют уровень индустриального прогресса: в этом смысле японские тамагочи или электронные записные книжки аналогичны дендистской трости прошлого века с вмонтированным в рукоятку моноклем. Иногда, напротив, мода рождается в условиях жестокого дефицита – в период Второй мировой войны из-за недостатка средств кто-то додумался пустить в ход вместо тканей географические карты на полотняной основе, и с той поры ведут свою родословную подкладки курток и сумки с рисунком географических карт.
Три типа силуэта в дамских модах: платье с турнюром, прямой силуэт, юбка-колокол 1760–1930 гг. По классификации А. Янг
Однако при всей наглядной убедительности рассуждения о духе времени не всегда могут объяснить, откуда берется мода, в чем истоки того или иного стиля. Ответы на такие вопросы дает весьма популярная теория «просачивания» (в англоязычной литературе ее называют «trickle-down»). Ее авторы – социологи начала века Торстайн Веблен и чуть позднее Георг Зиммель – считали, что мода создается в высших сословиях и затем ее постепенно перенимают низшие сословия: крестьяне подражают горожанам, средний класс – аристократии. По мере того как мода «просачивается» вниз, она утрачивает свою стильность и новизну, становится массовой, вульгаризируется до неузнаваемости, и тогда высшие сословия вновь изобретают что-нибудь особенное, чтобы отличаться и не утратить социальную дистанцию. Низшие классы, приобретая модные вещи, заняты чисто символическим потреблением, чтобы повысить свой статус и поддержать престиж в глазах своего круга.
Таким образом, механизмом распространения моды оказывается, с одной стороны, желание высших сословий задавать тон и выделяться, а с другой стороны, зависть и инстинкт подражания у представителей низших классов. В итоге функция моды, по формулировке Зиммеля, – «связывать и разъединять»[1101], соответствовать норме и в то же время быть оригинальным в допустимых пределах. При этом происходит убыстрение циклов: технический прогресс способствует распространению информации о новинках, а чем быстрее меняется мода, тем дешевле должны становиться вещи, и это, в свою очередь, заставляет производителей опять начинать новый цикл, чтобы вернуть расходы.
Этот тезис Зиммеля блестяще оправдывается спустя десятилетия: на наших глазах идет ошеломляющее ускорение темпов сезонной моды, и даже трудно уследить за возрождением стилей ретро – сколько раз за последние годы случалось возвращение к 60-м!
Заметим, однако, что каждый раз ретро возрождается с некоторым смещением акцентов, многое «забывается» или намеренно вытесняется – так ведь и человеческая память работает весьма избирательно. В 1999–2000 годах вернулись вышивки на блузках и матерчатых сумках; нынешний неохиппи с удовольствием нацепит и фенечки, и индийские тряпки, но радости free love ему уже отравит страх перед спидом.
Работает ли применительно к современности теория «просачивания» в остальных аспектах? Увы, только с большими оговорками. Сейчас в обществе не столь четко выражена иерархическая структура и действует тенденция к социальному выравниванию. Соответственно мода демократизируется, и появляется ряд универсальных вещей, стирающих социальные различия: атрибуты спортивного стиля – синие джинсы, кроссовки, футболки (t-shirts). Сходными маркерами «общего» стиля при благоприятном стечении обстоятельств могут стать даже вполне экзотические штучки – украшения из бисера, рисованные татуировки, мужская серьга в ухе, возникающие изначально в узкой субкультуре. Иногда такие «нарушения» стиля закрепляются, казалось бы, вопреки всему: по всему миру многие женщины носят дома большие мужские рубашки по причине их комфортности и, возможно, подсознательно отождествляя себя с мужчиной-владельцем рубашки, что не лишено приятных ассоциаций.
Но как раз такие функции одежды – удобство, эротичность, тотемные мотивы – не принимаются в расчет авторами теории «просачивания». Для них костюм прежде всего воплощает социальную принадлежность. Кроме того, история моды, как и история искусства, помимо социальных аспектов имеет свою внутреннюю логику – логику развития эстетических форм. Об этом обычно упоминается гораздо меньше, и потому стоит сказать пару слов именно о таком ракурсе.
Классика формального подхода – теория А.Л. Крёбера и Джейн Ричардсон[1102]. Американские ученые решили подвергнуть статистической обработке изменения силуэта дамского вечернего платья. Дамские праздничные наряды оказались идеальным объектом анализа, поскольку они традиционно служили не утилитарным, а сугубо эстетическим целям, и, значит, колебания фасона в большей степени отражали «чистые» ритмы моды. Крёбер и Ричардсон анализировали всевозможные изображения дамских туалетов по шести параметрам: три горизонтальные мерки – ширина декольте, талии и подола юбки; и три вертикальные: глубина декольте, высота талии и длина юбки. При этом, конечно, они имели дело с некоторой абстракцией, поскольку неизбежно выпадали из поля зрения аксессуары, орнамент, тип ткани и все детали фасона, требующие взгляда сбоку или со спины (например, турнюры).
В 1939 году Крёбер и Ричардсон выпустили исследование, в котором были представлены поразительные графики и диаграммы. Выяснилось, что существует формальная связь между колебаниями различных пропорций и можно вывести наиболее сбалансированный фасон. Он воплощен в своего рода «идеальном» платье, которое циклически появляется в истории костюма, – это силуэт «песочные часы» с узкой талией на естественном уровне, глубоким декольте и широкой юбкой, представленный в XIX веке викторианскими кринолинами, а в XX – «New Look» Кристиана Диора. Такую модель Крёбер и Ричардсон назвали «фундаментальной» и вывели на ее примере несколько важных закономерностей: чем шире юбка, тем уже талия; чем длиннее юбка, тем больше открывается декольте.
Фундаментальная модель, как правило, господствует в мирные, стабильные исторические периоды. В эпохи катаклизмов начинаются отклонения – так, во времена Французской революции и Наполеоновской империи в моду вошли туники с завышенной талией и узкой юбкой, открывающей лодыжки. Но таким отклонениям не суждена долгая жизнь: рано или поздно вновь возвращается фундаментальная модель, воплощающая «золотое сечение» в силуэте платья.
Крёбер и Ричардсон также сделали другое интересное открытие: цикл изменения отдельно взятой мерки может составлять до 50 лет, и, достигнув предела – допустим, талия завышается до уровня груди, – она возвращается к исходной позиции. Эти параметры эволюционируют гораздо медленнее, чем обычные сезонные ритмы моды. Следовательно, существуют особые маятниковые колебания в костюме, которые подчиняются своим органическим законам.
На более протяженных отрезках времени в истории одежды можно различить глубинные сдвиги, которые определяют погоду очень надолго. Базовый силуэт классического мужского костюма в современном варианте сложился уже в начале XIX века в кругу английских денди и с тех пор менялся очень незначительно. Основные принципы эстетики мужского костюма – неброская элегантность, темные тона, улучшение любой фигуры, комфортность в носке и добротные шерстяные ткани – остаются в силе и поныне.
Аналогичный универсальный костюм для женщин смогла предложить только Коко Шанель в 20-е годы XX века, и он тоже оказался на все времена. Ею же изобретенное маленькое черное платье годится на все случаи жизни – от великосветского приема до работы в офисе. Такие вещи все обычно воспринимают как настолько удобные и само собой разумеющиеся, что возникает иллюзия, будто они существовали всегда – оттого они особенно трудны для исторического анализа и понимания.
Разные ритмы моды – от глубинных долговременных сдвигов до сезонных стилей – заставляют пишущих об этом предмете обращаться к метафорам. Мы говорим, как медики, об «эпидемиях» и «лихорадке» моды, о «заражении» стилем; любим сравнивать распространение моды с гонками, бегом, спортивными стартами. Мода как некая природная стихия связана с метафорикой волн, приливов и отливов, смены времен года.
Но самый философски существенный слой метафор – это время, новизна и смерть. Недаром великий пессимист итальянец Джакомо Леопарди еще в 1824 году написал небольшой диалог «Разговор моды со смертью», где они выступают как сестры: «Мы обе рождены бренностью»; «У нас одна природа и один обычай – непрестанно обновлять мир»[1103]. И как бы в ответ у Рильке, в пятой Дуинской элегии мелькает символический образ модистки – мадам Смерть: die Modistin, Madame Lamort.
Площади, площадь в Париже, большая арена, Где модистка, Madame Lamort, Беспокойные тропы земли, бесконечные ленты Переплетает, заново изобретая Банты, рюши, цветы и кокарды, плоды искусственной флоры, Невероятно окрашенные для дешевых Зимних шляпок судьбы[1104]…Актуализируя временную метафорику, мода творит и разрушает, пишет и стирает – забывание подразумевается как одно из главных условий игры. Не оттого ли нас не утомляет дозированная новизна циклических возвращений и каждый сезон с автоматической радостью мы ждем показа коллекций, чтобы потом разочароваться и легко забыть? Ведь техника нашей короткой памяти сама воспроизводит главную метафору моды: memento mori.
Риторика моды: дресс – код, «look», стиль
Модные журналы и книги по одежде пестрят словечками «стиль», «имидж», «look», причем сплошь и рядом они понимаются как синонимы. В объявлениях о вечерних клубах нередко мелькает некий загадочный «дресс-код», а профессионалы по истории костюма увлеченно обсуждают «look». Как разобраться в этих понятиях – в чем они совпадают по смыслу и в чем расходятся?
Начнем с таинственного «дресс-кода», который происходит от английского «dress-code» («одежный код»). На самом деле это довольно простое понятие, но по иронии судьбы в России оно пока используется в сугубо узкой сфере клубной жизни, означая тип костюма, приемлемый для посетителей данного заведения. А вот в западных книжках по моде «дресс-код» имеет более широкий смысл: это манера одеваться, принятая в социальной группе при конкретной ситуации. Одежный код подразумевает жесткую нормативность, связанную с определенными обстоятельствами места и времени. Простейший пример обязательного одежного кода – военная и гражданская форма, профессиональная одежда, прямо указывающая на род занятий человека. Нормативность одежного кода вытекает из контекста, диктующего уместность костюма. Изначально дресс-код функционален: в нем запечатлена утилитарность костюма, что особенно четко просматривается в униформе или спецодежде.
Дресс-код по своей социальной функции всегда коллективен, он связан с необходимостью быть членом группы, что существенно сужает возможность личного выбора: женщина, идущая в православный храм, не размышляет, надеть ли ей юбку или брюки, покрыть ли голову. Она автоматически выберет юбку и головной убор, поскольку таково требование к одежде прихожанок (хотя, конечно, при этом остается возможность выбора внутри данной рубрики: юбка/платье; платок/шапка и т. д.). Через дресс-код говорит традиция, диктующая ансамбль костюма и аксессуаров. Примеры современных дресс-кодов – одежда для торжественных приемов «black-tie» и «whitetie» у мужчин, деловой костюм в бизнес-кругах.
Нередко дресс-код представляет собою застывшую форму одежды, которая когда-то сложилась в определенных исторических обстоятельствах и затем была законсервирована как знак профессии или статуса – таковы мантия и шапочка в европейских университетах, восходящая к средневековым одеяниям; парики английских судей, ведущие происхождение из XVII столетия. Психологически подчинение одежному коду удобно для людей, находящих отраду в коллективизме, и воспринимается как насилие более независимыми натурами. Однако даже для индивидуалистов появиться в нормативной ситуации одетым совсем уж «не по уставу», как правило, тоже чревато душевным дискомфортом: в таком случае оптимально, если личный вкус выражает себя через мелкие знаковые детали.
Термин «look» (в буквальном переводе – «вид», «образ») – тоже очень часто используется в профессиональных разговорах об одежде и, к сожалению, не имеет нормального русского эквивалента. По сравнению с «дресс-кодом» «look» подразумевает уже несколько большую степень свободы. Это готовый одежный ансамбль, но он не столь жестко мотивирован ситуацией. Можно сказать, что «look» – это дресскод, лишенный привязки к конкретным обстоятельствам, традиция вне исходного контекста. Ковбой в джинсах и клетчатой рубашке на ранчо – это спецодежда, дресс-код. Но бизнесмен, который купил себе аналогичные вещи и вдобавок сочетает их с ковбойской шляпой и остроносыми сапожками, просто хочет казаться более мужественным, спортивным и романтичным, нежели то предполагает его профессия «белого воротничка». Соответственно смысловая зона «look» становится гораздо шире: вместо узкого буквального дресс-кода мы имеем расширенное переносное значение, допускающее разные интерпретации.
В современной культуре «look» часто подразумевает однажды найденный удачный ансамбль, который активно тиражируется индустрией моды. Таковы понятия «look» сезона, которые запускаются журналистами при обзоре коллекций прет-а-порте (например, «Барбидолл», «милитари», «экологический look», «sexy manager») и далее настойчиво предлагаются покупателям в магазинах в виде проспектов и ансамблей на манекенах. За таким «look» стоит дизайнерское решение в упрощенной форме – все уже продумано: силуэт, тип ткани, аксессуары, длина юбок, и оттого внимание клиента вынужденно сосредотачивается на поверхностных признаках – на предлагаемой комбинации цветов (допустим, бежевый с темно-красным, бутылочно-зеленый с насыщенным оранжевым) или на декоративных аппликациях на джинсах. Таким образом, выбор достаточно сужен, но все же налицо известная мера свободы внутри данного диапазона.
Далее – и это максимум свободы самовыражения – возможно варьировать «look» по ситуации и по настроению: секретарша наденет более или менее строгий костюм в офис, но с удовольствием предпочтет мини-юбку и сетчатые чулки, отправляясь вечером в клуб, чтобы произвести впечатление на кавалера.
Иногда четкий «look» вполне допускает момент игры, иронии. Таков «Annie Hall look» – мужские костюмы актрисы Дианы Китон в стиле «младшего брата» из фильма Вуди Аллена «Анни Холл». Программно ироничен «look» drаg queens – геев, переодевающихся женщинами для карнавальных шествий. Более серьезен «preppylook» добропорядочных девушек-учащихся, предпочитающих шотландские юбки с белыми блузками и удобные туфли на низком каблуке. И уж совсем сурово функционален был Utility look, разработанный дизайнерами во время Второй мировой войны с целью экономии ткани.
Для не слишком уверенного в себе любителя моды «look» – апробированный способ подобрать адекватный ансамбль: это гарантируют чужой профессиональный вкус плюс успокоительный потенциал любой стереотипной формы. И хотя «look», по сути, такая же маска, как и дресс-код, но это маска сознательно и добровольно выбранная. Итак, дресс-код – максимум несвободы, поскольку здесь все за нас решено: что носить, когда и где. «Look» менее принудителен, поскольку слабее императив внешних обстоятельств, но мы все равно не сами определяем, что с чем сочетать в ансамбле, а просто берем напрокат готовую форму.
«Стиль» (тут, к счастью, русское слово вполне соответствует английскому «stylе») предоставляет наибольшую свободу самовыражения по этой шкале в сравнении с «дресс-кодом» и «look». Стиль предполагает самостоятельный творческий подбор всего ансамбля одежды, умелое пренебрежение условностями вплоть до сознательного эпатажа, создание своих личных правил моды, которые потом, правда, могут копироваться другими. Так, денди Фред Хьюз первый придумал сочетать джинсы с костюмным пиджаком, а после него этот стиль популяризировал художник Энди Уорхол.
Стиль, безусловно, привилегия людей с уверенным индивидуальным вкусом, обладающих особым чутьем на все модное и, что очень важно, умеющих преподносить себя публике. Оптимальные создатели «стиля» – харизматические личности, лидеры моды, «лансеры» («запускающие моду»), тонко чувствующие не только эстетику одежды, но и особенности момента, общественную атмосферу. Именно на этом уровне работают настоящие денди. Такими людьми, сумевшими создать свой неповторимый стиль, были, к примеру, наш старый знакомый денди Бо Браммелл – создатель современного канона мужского костюма; Марлен Дитрих, с шиком носившая женские брюки; и, конечно, Коко Шанель с ее маленьким черным платьем.
Удачный «стиль» поддается кодификации и тогда застывает в стереотип, превращаясь в «look»: сотни женщин в Америке подражали первой леди Джеки Кеннеди, вплоть до того, что в продажу поступили куклы для девочек «Джеки». Аналогичным образом и сейчас вольные художники любят появляться на публике в джинсах с костюмным пиджаком, копируя «Энди Уорхол look». Но – и это существенный момент – когда подобный ансамбль предъявляется на уровне индивидуального стиля, попытка толкования блокируется харизматической силой личности: это стиль Энди Уорхола, вот главный смысл. А если спустя некоторое время мы видим похожий «look» на ком-то, тут все ясно: это богемный человек, который хочет, с одной стороны, внимания власти и институциональной поддержки (о чем свидетельствует костюмный пиджак), но, с другой стороны, сохраняет за собой мобильность, пространство свободы и альтернативных жестов (джинсы).
Нередко импульсом для создания собственного стиля является недовольство существующими «looks», и тогда творческий заряд питается энергией «от противного», а экспериментатор идет на намеренное нарушение существующих канонов. Но это ему удается, поскольку человек со стилем не боится быть немодным и, к примеру, смело включает в свой гардероб вещи с блошиного рынка, нарочитый «vintage». Кстати, именно этим отличается изощренный английский вкус: британские знаменитости – Кейт Мосс или Гай Ричи умеют сочетать откровенный «vintage» с дизайнерскими вещами.
Категория «стиль» подразумевает максимальную самореализацию личного вкуса в одежде и далее поддерживается личной харизмой модника. Это мы видели на примере Браммелла и графа д’Орсе. Стиль складывается как синтез одежды, тела и неуловимой дополнительной «иллюзии», возникающей как культурная инерция, «отпечаток» уже имеющейся информации, настраивающей наше восприятие. Воздействие удачного стиля осуществляется и за счет мощных коллективных культурных установок, санкционирующих тот или иной тип внешности. Такова, к примеру, гламурность образа Марлен Дитрих – след ею сыгранных ролей или неистребимая «зловещесть» облика Гитлера, даже когда кинорежиссеры пытаются представить этого деятеля в сугубо нейтральном контексте.
Итак, стиль – это продукт культурно натренированного зрения, которое снимает и обрабатывает всю информацию о человеке. Смотрите, вот некто вошел в комнату, сказал несколько слов, повернулся, протянул руку – а мы уже сразу чувствуем, насколько это сильная и насколько стильная личность, тянет к ней или нет. Это то самое «первое впечатление», которое, как правило, не обманывает. И дело здесь не столько в интуиции, сколько в том, что это впечатление фактически формируется благодаря всему нашему накопленному жизненному опыту. И результат обычно не подводит: вопреки многим известным пословицам, внешность, лицо и одежда чаще всего дают верное представление о человеке.
Бросим еще раз взгляд на уже вкратце обрисованные понятия. В нашей триаде:
1) «дресс-код»;
2) «look»;
3) «стиль» – степень традиционности и коллективизма снижается от № 1к № 3, а мера индивидуализма и нонконформизма, наоборот, возрастает. Соответственно повышается и возможность свободного выбора и самовыражения человека. С точки зрения толкователя, легче всего поддается расшифровке, конечно, «дресс-код», труднее же всего интерпретировать удачный личный «стиль».
Описанные понятия достаточно пластичны, допуская переходные случаи. Один и тот же ансамбль может прочитываться по-разному в зависимости от контекста. Вид американского студента на университетском кампусе – широкие штаны или шорты, безразмерная майка – это «дресс-код». Но тот же прикид вне кампуса уже прочитывается как более мягкий «look», сознательный выбор «молодежной» одежды. С другой стороны, мы видели, как может застывать личный «стиль», став предметом массового подражания и превращаясь в растиражированный «look» (комбинация «джинсы + костюмный пиджак»).
При удачном стечении исторических обстоятельств лидер моды может не только создать свой стиль, но и навязать его миллионам людей, и тогда личный стиль делается стилем эпохи. Это самый интересный для анализа феномен. Темный фрак денди Бо Браммелла стал каноническим, поскольку к тому моменту уже завершился «великий мужской отказ» и требовались лаконичные фасоны. Этот комфортный классический костюм существует уже третье столетие и не собирается сдавать свои позиции. Другие дендистские ансамбли, разработанные в прошлом, застыли и превратились в нормативные дресс-коды, действуя исключительно в своей узкой сфере.
Дендистские дресс-коды: «черный галстук», «белый галстук», «undress»
Дендистской моде мы обязаны дресскодами в мужской парадной одежде. На сегодняшний день в вечерних костюмах выделяются три варианта: «black tie», «white tie» и «undress». Обычно устроители приемов помечают на приглашениях желаемую форму одежды. Каждый из этих вариантов имеет свою историю.
«Вlack tie», или «черный галстук», подразумевает мужской смокинг и вечернее платье для дамы. Современный смокинг – черный однобортный пиджак с открытой грудью и с шалевым воротником и лацканами, отделанными шелком. К нему полагаются брюки с лампасами и широким шелковым поясом. Брюки шьются из той же ткани, что и пиджак. Завершают ансамбль элегантный черный галстук-бабочка, белая рубашка с приподнятыми и загнутыми уголками воротника и черные туфли-лодочки.
Современный фрак. Ил. к статье о мужской моде из журнала «Дэнди». 1910 г.
Хотя черный смокинг остается униформой для вечернего выхода вот уже больше века, в особых случаях летом допустим белый смокинг. Такие авангардные варианты можно видеть среди музыкантов или в богемной среде, там же иногда появляются и цветные смокинги, но это отклонения от канона, который достаточно консервативен.
Смокинг ведет свою родословную из Англии, где он изначально появился как «куртка для курения» – «smoking-jacket». Вариант аналогичного неформального пиджака – «dinner jacket», но куртка для курения изначально еще и шилась на теплой стеганой подкладке, поскольку в курительных и в бильярдных загородных английских домов традиционно было довольно прохладно. Первым, по некоторым источникам, придумал специальный наряд для курения премьер-министр Англии, автор модных романов и денди Бенджамин Дизраэли.
В XIX веке после обеда мужчины уединялись покурить отдельно от дам и, чтобы не ронять пепел на лацканы фрака или сюртука, надевали «куртку для курения». Покурив и обсудив насущные политические проблемы, они вновь переодевались и присоединялись к дамам. Только в конце XIX столетия скромная куртка для курения возвысилась до статуса вечерней парадной одежды благодаря американцам.
Название «смокинг» закрепилось в Европе (даже французы говорят «un smoking»), а в Америке более популярно слово «tuxedo», обозначающее все тот же смокинг (или сокращенно «tux»). Этот вариант названия возник в 1886 году, когда американский табачный магнат Гризволд Лоррилард увидел английскую «куртку для курения» во время путешествия по Британии и она ему очень пришлась по душе. Вернувшись домой, Гриззи, как его называли друзья, рискнул появиться в ней 10 октября на осеннем балу в эксклюзивном загородном клубе Таксидо в Таксидо-парке в Нью-Йорке. В первый раз он был вынужден ретироваться с позором, но его акция возымела последствия – новый фасон вечерней одежды полюбился другим модникам, которые сразу усмотрели в нем желанную альтернативу неудобному фраку и начали носить новый пиджак на вечеринки в загородных клубах. Название «таксидо», как легко догадаться, сразу было перенесено на пиджак и с тех пор закрепилось за ним в Штатах. 10 октября 1886 года стало считаться официальным «днем рождения» таксидо, и в 1986 году был пышно отпразднован его столетний юбилей.
Простота таксидо соответствовала стремлению американцев к демократичности и раскованности в одежде. Правда, ехидные противники таксидо называли его «monkey-suit» (обезьяний костюм), но ничто уже не могло остановить его победного шествия. Другая легенда гласит, что окончательно нынешний статус парадного костюма таксидо получил в Монте-Карло, когда несколько игроков были настолько увлечены игрой, что позабыли после семи вечера сменить «куртки для курения» на фраки. А в Европе первым пропагандистом смокинга как вечерней одежды стал лорд Сатерленд, а вслед за ним принц Уэльский (будущий Эдуард VIII), всячески популяризировавший неформальный стиль. В 20-е годы носили двубортный смокинг, однако во второй половине XX века окончательно закрепился однобортный. В России смокинг в качестве вечерней одежды привился в конце XIX века[1105].
Смокинг для женщин впервые разработал Ив Сен Лоран. До сих пор женский смокинг остается классикой и регулярно в обновленных вариантах появляется в коллекциях этого Дома.
«White tie», или «белый галстук», означает фрак для кавалера и бальный наряд для дамы. Фрак должен быть черного цвета, с заостренными шелковыми лацканами. У вечернего фрака нет шалевого воротника (который обязательно присутствует в дирижерском фраке). С фраком носят белый пикейный[1106] жилет на трех пуговицах, белую пикейную бабочку, белый платочек-пошет в нагрудном кармане и, по возможности, карманные часы. Это дань дендистской моде на брегеты. Лампасы на фрачных брюках более широкие, чем на брюках для смокинга. Садиться во фраке полагается не раздвигая фалды. Раньше при фраке носили белые лайковые или замшевые перчатки[1107]. Любопытные материалы по истории фрака можно найти во втором номере старинного российского журнала «Дэнди» 1910 года. Обозреватель «Дэнди» Джим приводит не совсем общепринятую версию возникновения фрака: «Это случилось в начале XVIII столетия. Для большего удобства при верховой езде кавалеристы заворачивали передние углы мундиров, пришпиливая их сзади, что ввиду яркой цветной подкладки придавало этим мундирам красивый вид, вызывавший зависть пехоты. Весьма скоро статские чиновники, стремясь в изяществе костюма подражать военным, стали носить камзолы, или сюртуки, с обрезанными передними фалдами»[1108]. В этой легенде не все достоверно, однако не будем придираться, ведь для Джима в этой статье главное – дать наставления российским модникам. Относительно российской моды на фрак Джим замечает: «У нас это платье не в таком ходу. Лишь в последние годы оно стало более популярным. Теперь его уже можно видеть в театрах, – на первых представлениях, в балете, оно стало обязательным на балах и званых обедах»[1109].
Действительно, в России фрак в качестве нарядной мужской одежды переживал взлеты и падения – общим явлением было только окончательное исчезновение цветных фраков в середине XIX века[1110]. Я.Н. Ривош отметил функциональное сходство фрака с мундиром: он считался обязательным на парадных приемах, и при фраке в особо торжественных случаях носили ордена[1111].
История показывает, что при максимальной определенности базового костюма особое значение приобретают детали. Фрак был настолько «требовательным» туалетом, что диктовал весь ансамбль, включая и верхнюю одежду, и аксессуары. «Верхней одеждой при фраке служила фрачная накидка (пелерина) из того же материала, что и фрак, с шелковыми отворотами, или пальто на скрытой застежке и тоже с шелковыми отворотами. В 1915–1916 годах появились накидки на белой атласной подкладке. При накидке и пальто носили специальные фрачные матерчатые или вязаные шарфы и кашне из белого шелка. Шарф обматывался вокруг шеи так, чтобы спереди и сзади висели концы с бахромой. На улице в руках человека, одетого во фрак, обычно была тонкая трость из черного дерева с прямым набалдашником из слоновой кости или серебра. Палки с загнутыми набалдашниками при фраке не носили»[1112].
Хотя сейчас подобная регламентация вряд ли действенна, показателен сам факт столь подробной проработки деталей в моде 10-х годов. Это связано с тем, что фрак – наиболее формальный вариант мужского парадного туалета, а торжественные ситуации типа дворцовых приемов или официальных балов обычно требуют максимальной корректности.
«Undress» – наименее строгая форма одежды. Черный цвет здесь исключается. Обычно имеется в виду клубный пиджак и серые фланелевые брюки. Стандартные правила мужской элегантности в костюме требуют, чтобы нижняя пуговица пиджака была расстегнута, а манжеты рубашки выглядывали из рукава примерно на два сантиметра. Нижний конец галстука должен касаться брючной пуговицы. Носки рекомендуется выбирать на полтона темнее брюк.
На таком приеме дамский наряд обычно подразумевает платье для коктейля, хорошо смотреться будет также традиционное «маленькое черное платье».
Костюм для денди
Дендистский костюм лег в основу как парадного варианта мужского ансамбля со смокингом («Black tie») или с фраком («White tie»), так и повседневного офисного стиля.
Современный классический костюм-тройка во многом держится на контрасте светлых и темных тонов, образуя эстетический эффект минимальными средствами. Он не рассчитан на идеальную фигуру, а, напротив, успешно маскирует недостатки комплекции, подчеркивая плечи и скрывая живот. Поэтому спортсмен часто плохо выглядит «при параде», а чиновник, ведущий сидячий образ жизни, наоборот, чувствует себя в костюме превосходно. Это удобная униформа, которая не стесняет движений, поскольку отдельные элементы свободно прилегают друг к другу и ткань нигде не морщит.
Но самое главное, что сохраняется в нем от дендистской программы, – парадоксальный эффект: элегантность не производит впечатления легкомысленности и суетности, а, наоборот, подчеркивает деловые качества и личное достоинство мужчины. Это связано с процессом постепенной демократизации мужского гардероба. Ведь изначально многие денди, включая основоположника дендизма Джорджа Браммелла, не были аристократами по рождению, а разработанная им модель устраивала самые широкие массы городских молодых людей.
Таким образом, сдержанность классического костюма оказалась оптимальной для идеологии среднего класса. Строгий покрой и естественность линий придают денди вид серьезного, честного и основательного человека, что как раз и соответствовало кодексу буржуазных добродетелей. Это своего рода незаметная рамка, выгодная оправа для личности, независимой и во мнениях, и в финансовом отношении. Кстати, знающие люди давно заметили, что при простом однотонном костюме внимание будет обращено на то, что человек говорит, на его лицо. Если брать аналогии из женской моды – после разговора с дамой в черном платье наблюдатель запомнит ее глаза, ее реплики. А после общения с красавицей в красном платье в памяти останется скорее яркий наряд, нежели его хозяйка.
Если брать эстетику формы, то современный классический костюм отличается в первую очередь хорошим кроем и благородством простой солидной ткани. Форма мужского костюма, оставаясь в принципе стабильной, все же претерпела за последние десятилетия ряд изменений. Силуэт стал мягче, более обтекаемым, костюм – удобнее и легче. Сохраняя по-прежнему ауру официальности и авторитетности, общий фасон костюма все же несколько приблизился к спортивному, свободному стилю. Пиджак стал более просторным, со струящимися мягкими линиями; брюки – более широкими за счет защипов на талии.
В целом силуэт мужского классического костюма утрачивает угловатость и жесткость, все более удаляясь от прообраза военного мундира с его утрированными плечами и утянутой талией. Но о родстве с мундиром и поныне напоминают брючный ремень и подложенные плечи.
Массивные плечи, придающие пиджаку агрессивно-властный вид, переживали несколько пиков популярности. В послевоенной Европе они всплыли на волне римского «континентального» стиля конца 50-х, затем в 60-е их стал пропагандировать Пьер Карден, и, наконец, в 80-е подложенные плечи начали прочно ассоциироваться с любым деловым пиджаком, причем эта мода распространилась и на женские ансамбли в рамках так называмого «властного стиля» («power look»).
В 90-е годы плечи пиджаков начали постепенно уменьшаться в объеме, контур плеча стал мягким и покатым, верх рукава при этом должен был быть достаточно свободным, чтобы не допустить образования складок. Эта тенденция сочеталась в конце 90-х с появлением завышенных лацканов и пиджаков на четырех пуговицах, уравновешивая и гармонизируя пропорции.
Следуя общему вектору эволюции от жесткости к мягкости, изменились и основные костюмные ткани. Если раньше лидировали толстые английские сукна, то теперь все большей популярностью пользуются более тонкие итальянские материи, а также более тонкие сорта английских. Критерий хорошего костюмного сукна прост: если ткань смята, она должна быстро расправиться и восстановить форму.
Как выбрать хороший костюм?
Современный денди, выбирая себе костюм, должен иметь в виду несколько тонкостей.
– Оптимальная длина пиджака проверяется по косточке большого пальца опущенной руки. Или же применяется старая портновская мерка, согласно которой длина пиджака составляет половину роста от воротника рубашки до пола. Полы пиджака должны закрывать бедра и брючные карманы.
– Очень важно, где находится основная пиджачная пуговица, составляющая зрительный центр силуэта: она должна быть на сантиметр-полтора ниже естественного уровня талии.
– Длина рукава пиджака должна быть такой, чтобы манжет рубашки выглядывал на 1/2 своей ширины.
– Аналогичным образом воротник рубашки сзади в идеале виден наполовину из-под воротника пиджака, не меняя своей позиции ни при каких обстоятельствах. Фред Астер, выбирая пиджак, танцевал в нем при примерке свою знаменитую чечетку и, замерев на мгновение перед зеркалом, проверял, не сдвинулся ли воротник.
– Уголки воротника рубашки не должны подниматься, даже когда ее владелец усиленно вертит головой во все стороны.
– Нижний край брюк должен спускаться до верха ботинок спереди и середины каблука сзади; нежелательно, чтобы линия брючных складок «ломалась», соприкасаясь с ботинками. В российских условиях, добавим, отвороты излишне длинных брюк быстро пачкаются.
– Рубашку из натурального хлопка следует покупать на полразмера больше требуемого, чтобы она спокойно «села» при стирке.
XV. В поисках современного денди
Мужчина моей мечты: этюды по истории тела
– Мне совсем не нравятся мускулистые самоуверенные мужчины в деловых костюмах. В первую очередь мужчина должен выглядеть аккуратно. Быть чистым. А прикид… излишне разряженные мужчины меня отталкивают.
– Милый, застенчивый мальчик с длинными волосами, в черном, но не в костюме, и уж тем более не в спортивном – вот мой идеал.
– Мне нравятся актуальные, яркие, с налетом порочности…
– Я за мужественность в одежде и некоторую небрежность. Не люблю я прилизанных и отглаженных.
– Да какая разница в чем одет! Главное, что под одеждой!
– Шарм в мужчине должен быть! Что-то такое кошачье, это чувствуешь сразу, можно сказать, подсознательно…
– Почему же непременно кошачье? Вон Депардье какой медведь, а шарма хоть отбавляй.
Эта подборка высказываний – фрагменты дискуссии об идеальном мужчине на форуме intermoda.ru. Разброс мнений, как видно, весьма велик – у каждой участницы форума свой образ «мужчины ее мечты». Вместе с тем во всех репликах есть нечто неуловимо общее, и можно с уверенностью сказать, что они принадлежат нашим современницам. Как же возникает идеал мужской красоты? Насколько канон мужской телесности связан с историческими обстоятельствами эпохи? Влияет ли мода на популярные представления о мужественности?[1113] Попробуем прогуляться по десятилетиям XX века, чтобы посмотреть, как менялись идеалы мужской красоты и кто воплощал их, а затем подробнее остановимся на современности.
История мужской красоты XX века
В начале века признанный законодатель мод – Эдуард VII, старший сын королевы Виктории. Будучи любителем дендистского стиля, он обладал поразительным умением всегда одеваться уместно – будь то прогулка на яхте или автомобиле, придворный бал или охота. Именно Эдуард VII однажды после обеда расстегнул нижнюю пуговицу жилета, и вслед за ним так стали делать все модники. В другой раз во время дождя он завернул края штанин, после чего мир узнал о новинке – брючных манжетах. «Бесстрашный аристократ», как писали о нем в журнале «Autocar», приобрел для монархических выездов автомобиль Daimler, хотя сам не водил машину. Этой марке королевская семья оставалась верна до 1960 года. Он первым из британских монархов стал совершать регулярные поездки на континент, за что получил прозвище «Дядюшка Европа». Его супруга, королева Александра, датчанка по происхождению, в свою очередь, считалась образцом для подражания у дам.
Чтобы соответствовать стандартам красоты, мужчины начинают активно ухаживать за собой. Модные мужские журналы в изобилии печатают рекламу бриолина, косметических кремов, мазей против облысения, лосьонов после бритья, наусников. Иные из предлагаемых средств просто внушают ужас: компания некоего мистера Трилети предлагала изменить форму носа с помощью особых зажимов, которые закреплялись шурупами(!) и должны были корректировать несчастный нос до нужных размеров.
Самые популярные мужские типажи в массовом сознании – шоферы (что отражает престиж недавно появившихся автомобилей), силачи-циркачи. Средний буржуа носит усы и шляпу-котелок, сюртук и длинное пальто. Это конформистская респектабельность, на фоне которой только выигрывает более элитарный тип – богемный эстет в бархатной блузе, любитель запретных наслаждений и тонкий ценитель искусства: Блок и Бальмонт в России; Обри Бердслей в Англии.
В 10-е годы самый характерный массовый мужской типаж – «Arrow соllar man», получивший свое название от рубашек фирмы Arrow[1114] c высоким съемным воротником. Накрахмаленные белые воротники создавали подчеркнуто элегантно-высокомерный вид, особенно когда они прикреплялись к полосатым рубашкам. Прародителем стиля можно считать художника Д.С. Лейендекера, нарисовавшего в 1905 году серию рекламных плакатов «Arrow соllar man» (букв. мужчина, который носит воротнички фирмы «Эрроу»), что вызвало взрыв восторга и подражаний. «Образчик мужского великолепия, – гласил текст рекламы, – томные веки, пронзительный взгляд. Благородных очертаний подбородок, невинный изгиб губ. Весь вид говорит о непоколебимом спокойствии. Но какие сила и властность скрываются за этими чистыми линиями!» Этот денди органично смотрелся рядом с женщиной, одетой в туалеты Поля Пуаре, и на вечерних приемах охотно танцевал с ней танго. Его костюм имел легкий вытянутый силуэт; укороченный пиджак без подложенных плечей, с высокой талией и удлиненными лацканами уже потеснил сюртуки. На голове гордо красовалась соломенная шляпа с лентой. В целом мужчина Arrow соllar отличался моложавостью и изяществом по сравнению с почтенным и полноватым джентльменом XIX столетия.
Но настоящий удар по консервативной эстетике внешнего облика и пуританской морали наносит реабилитация тела, языческий культ плоти в европейском декадансе. Новая раскованная чувственность вторгается в гуманитарный мир вместе с идеями Фрейда и Юнга, а в моду – с «Русскими балетами» Дягилева. В неистовом танце Нижинского, роскошных декорациях Бакста и Бенуа, в мелодиях Стравинского возникал мифологический образ молодого варварского бога, свободного и дикого. Ориентальные наряды Поля Пуаре, освобождение женского тела от корсетов подготовили почву для экзотических новаций: в 1912 году самый шик – пурпурный сюртук, а через шесть лет появляется «джазовый костюм» – брюки-дудочки и туго застегнутый пиджак. Апогей альтернативной эстетики – авангардные эксперименты Бурлюка и Ларионова, придумавших рисунки на щеке – прототип современных тату.
Первая мировая война делает героем человека в форме. Портреты мужественных летчиков заполняют газеты. Меняется и стиль: фирма «Бербери» создает свое знаменитое бежевое пальто из габардина. Военная модель – тренчкоут для британских солдат – становится настолько популярной, что носится потом и «на гражданке».
После Первой мировой войны на сцену выходит «потерянное поколение». Главные герои – разочарованные мачо, утратившиеидеалы своей юности, запрограммированные на саморазрушение. В романах Хемингуэя, Ремарка, Фитцджеральда роковые мужчины картинно пьют виски, курят сигары, попутно пленяя дамские сердца. Но имидж трагического мачо в жизни не исключал тщательный уход за собой – стрелки на белых брюках должны быть безупречно отутюжены, а пробор шикарно держится благодаря бриолину.
Среди модников безусловный авторитет – принц Уэльский, будущий Эдуард VIII, который в 1936 году отрекся от престола ради прекрасной американки миссис Уоллис Симпсон, получив сравнительно скромный титул герцога Виндзорского. Популярность принца Уэльского была столь велика, что в журнале «Men’s Wear» писали: «Средний молодой американец больше интересуется костюмами принца Уэльского, чем кого-либо еще в мире». Английскийнаследник действительно мог служить моделью для своих поклонников, поскольку отличался безупречным вкусом и любил умеренные эксперименты в одежде – ровно настолько, чтобы не показаться экстравагантным. Он представлял типаж аристократа-спортсмена. В газетах регулярно появлялись его фотографии то в костюме для верховой езды, то в авиашлеме (дань культу летчиков), то на велосипеде, то на площадке для гольфа. Именно принц Уэльский ввел в моду широкие укороченные штаны для гольфа («plus fours»), которые носились с длинными шерстяными носками до колен (отсюда и русское название «гольфы»). С легкой руки принца Уэльского получили популярность шляпыпанамы, английские кепки в мелкую клетку, свитера Fair Isle, узкий красный галстук, завязанный личным фирменным узлом «Виндзор», коричневые замшевые туфли, пиджаки на двух пуговицах и цветные носовые платки.
Принц Уэльский в костюме для гольфа. 1920 г.
Этот благородный английский стиль, освященный аристократическим авторитетом, был быстро усвоен в Америке, и вскоре вещи как бы из гардероба принца Уэльского можно было запросто увидеть на Уолл-стрит.
Джазовый период («The Age of Jazz») – первая эпоха массового культа кинозвезд: кумиров – Рудольфа Валентино и Дугласа Фербенкса узнавали в лицо, об их жизни жаждали узнать миллионы зрителей. Брак Дугласа Фербенкса и Мэри Пикфорд был излюбленным сюжетом американской прессы.
В 20-е годы на экране начинает доминировать экзотический типаж: жгучий брюнет, Восток, страсть. Самым ярким был несравненный Рудольф Валентино, покоривший публику в «Шейхе», а затем – Рамон Новарро. А Чарли Чаплин, разрабатывая свой коронный типаж «маленького человека», удачно создавал привлекательный антитезис образу супермена.
Но публике требовались герои не только на экране, но и в жизни. Американский летчик Чарльз Линдберг, совершивший первый беспосадочный полет через Атлантику в 1927 году, становится настоящим триумфатором. В моду входит спортивность, увлечение техникой, подтянутая фигура, загар.
Дуглас Фербенкс
Адольф Менжу
Мужская красота становится важным фактором общественной жизни: Франклин Делано Рузвельт побеждает на президентских выборах 1932 года во многом благодаря презентабельной внешности и умению уверенно держаться на публике. Его заразительная улыбка, гладко выбритое лицо, твердый взгляд обещают национальное возрождение после Великой депрессии, писали американские газеты. «Выглядит как атлет», – восторгались избиратели (хотя уже в то время у Рузвельта был прогрессирующий полиомиелит). И они были по-своему правы – Рузвельт поставил своеобразный рекорд, отработав три президентских срока.
Идеал физической красоты 30-х – широкие плечи, хорошая осанка, узкие бедра, сильные мышцы. Таким тренированным телом обладали Тарзан (Джонни Вайсмюллер), советский актер Сергей Столяров, спортивные персонажи с картин Александра Дейнеки. Красивое тело требует демонстрации: на море мужчины впервые осмеливаются расстаться с закрытыми купальными костюмами и выставить на всеобщее обозрение торс – раньше такое было возможно лишь на частных пляжах.
Популярный тип – блондин с гладко выбритым лицом и холодными светлыми глазами, в Германии его назовут «белокурая бестия», но в 30-е зловещие оттенки этого слова не столь четко просматриваются, хотя в цветовой гамме уже начинают доминировать коричневый цвет и хаки. Европа все еще слушает джаз и танцует свинг, а неутомимый денди Фред Астер отбивает чечетку в мюзиклах.
Фред Астер в фильме «Цилиндр». 1935 г.
Кто может считаться красавцем в военное время, как не суровый, мужественный, затянутый в форму солдат? Война отбирала знаковые вещи – короткая куртка с накладными карманами генерала Дуайта Эйзенхауэра, молнии на комбинезонах летчиков, полупальто dufflecoat маршала Монтгомери, позднее прочно вошедшее в гардероб европейских либеральных интеллектуалов. Магически притягательными казались детали облика лидеров-победителей: кепи генераладе Голля, трубка Сталина, сигара Черчилля. Вторая мировая заставила производителей косметики обратить внимание на тех, кого они долго игнорировали, – мужчин-солдат. Знаменитого визажиста Макса Фактора, работавшего раньше в Голливуде, обязали составить рецепты цветных кремов для камуфляжа. Пехота, воюющая в Северной Африке, требовала солнцезащитных кремов и помад. Танкистам были нужны средства, спасающие от ожогов. Чтобы скрыть рубцы после ранений, вчерашние солдаты прибегали к чисто женским уловкам – тональным кремам. Только в одной Америке с 1945 по 1946 год стало в два раза больше фирм, специализирующихся на производстве мужской косметики.
В Париже в то же десятилетие философскую моду задают экзистенциалисты, завсегдатаи кафе левого берега: Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Альбер Камю, Андре Мальро. Их поклонники, богемные студенты, начинают носить черные свитера – новую униформу интеллектуалов[1115], а их подруги вводят в повседневный обиход женские брюки[1116]. Жюльетт Греко с подведенными черной тушью глазами, в черном свитере, черных брюках – образец для подражания[1117]. Быть красивым в тот момент означало иметь глубокий выразительный взгляд и бледный цвет лица – совсем как у романтиков XIX века, культивировавших меланхолию и сплин.
Следующее поколение богемы – американские битники 50-х во главе с А. Гинзбергом – дополнили прикид интеллектуалов кожаными куртками, джинсами и клетчатыми рабочими рубашками, что свидетельствовало о левых политических взглядах. Другой новаторский мотив богемной моды – увлечение пестрыми этническими вещами и самодельными украшениями – уже предвещал хиппизм 60-х годов.
Можно ли выделить доминирующий модный типаж 50-х? Почти немыслимо – уж слишком разные кумиры: с одной стороны – «итальянская» красота молодого Марчелло Мастроянни, французы Жерар Филип, Ив Монтан, Жан Маре, наши звезды – Марк Бернес, Иван Переверзев, Олег Стриженов, «рабочий парень» Борис Андреев; с другой стороны – «гангстерский шик» и американские пролетарские мачо. Послевоенный мир стремительно менялся, и мода не стояла на месте.
На послевоенную эпоху выпадает кардинальная революция в мире мужской моды: появляется индустрия массового производства дешевых готовых костюмов. С 50-х годов в Америке каждый второй служащий уже носил серый фланелевый костюм, который быстро стал новой корпоративной униформой сословия «белых воротничков».
Возникновение этого стиля связывают с кампусной модой американских студентов Ivy League[1118]старинных престижных университетов Атлантического побережья. Именно они, будущие бизнесмены, впервые начали увлекаться серым, покупая свои костюмы в магазинах Brooks Brothers, J. Press, Chipp.
Их подруги-студентки одевались нарочито скромно, в их гардеробе господствовали добротные твидовые юбки, белые блузки и шерстяные кофточки, туфли на низком каблуке, светлые носки. В Англии аналогичный непритязательно-добродетельный буржуазный стиль получил название «preppy look»[1119], а во Франции «bon chick, bon genre», сокращенно «BCBG». (Заметим, что многие парижанки, поклонницы шика и шарма, и поныне весьма презирают современных девиц «BCBG», считая их безвкусными занудами.)
Но вернемся к мужским типажам. «Мужчина в сером фланелевом костюме» – назывался фильм 1956 года[1120], главную роль в котором сыграл Грегори Пек. С тех пор серая фланелевая тройка стала статусным символом успешного, уверенного в себе представителя среднего класса. Он предпочитал достаточно свободный и длинный пиджак, белую рубашку с воротничком на пуговицах (button-down), узкий галстук с диагональными полосками, оксфордские ботинки на толстой подошве, пальто из верблюжьей шерсти или черный «Честерфилд» с бархатными обшлагами, на голове красовалась неизменная серая мягкая фетровая шляпа.
В целом такой образ воспринимался как залог аккуратности, респектабельности и солидности, доминируя целое десятилетие, пока его не потеснили итальянцы. Они предложили иную, более элегантную модель, по сравнению с которой серый фланелевый костюм стал смотреться невыносимо филистерски, как знак отсутствия воображения.
В 60-е годы начинается атака на серый костюм: итальянские дизайнеры Эмилио Пуччи и Альберт Фабиани внедрили приталенный и укороченный пиджак, рассчитанный на низкорослых южан-европейцев, оживив его более яркой цветовой гаммой. От итальянцев также пошла мода на загар и черные очки, бежевую обувь.
Другая альтернатива серому костюму – демократический стиль бедного парня с рабочей окраины. В Америке это и Элвис Пресли, уже завоевавший известность во второй половине 50-х, и Марлон Брандо со своим брутальным обаянием. Расстегнутый воротник, гавайские рубашки, кожаные штаны и забойные ритмы рок-н-ролла контрастировали с открыточной красотой изнеженного андрогинного лица Элвиса Пресли, когда он умолял «не наступать на его синие замшевые туфли» («don’t step on my blue suede shoes»). А кожаные куртки с меховым воротником и тишотки мускулистого Марлона Брандо – кумира 60-х – положили начало новой стилистике «крутого мужчины», породившей позднее мощную волну молодежного увлечения черными кожаными прикидами у металлистов, рокеров и наших современных байкеров.
Г.Т. Добровольский, летчик-космонавт СССР, командир экипажа первой в мире орбитальной станции «Салют» («Союз-11», 1971 г.). На снимке: Летчик Г.Т. Добровольский на борту теплохода «Россия», 1952 г. Фото из семейного архива
В 60-е годы, когда журнал «Vogue» завел специальный раздел «Мужчины в Vogue», мужская мода получила новый импульс. Колонку обзора магазинов там вел Кристофер Гиббс, обладавший безукоризненным вкусом. Он проповедовал элитарный городской стиль в противовес массовому молодежному хиппизму.
Именно в 60-е появляются профессиональные мужчины-модели и стиль начинают задавать фотографы – «ужасная троица» (Дэвид Бейли, Теренс Донован и Брайан Даффи) из лондонского Ист-Энда диктует свои правила игры: эротика, шик, откровенные позы. Роман «креветки» («shrimp») Джейн Шримптон с Дэвидом Бейли определил ее карьеру модели.
Особый вариант дендистского шика практиковали чернокожие модники 60–70-х годов. Обладая хорошим вкусом и склонностью к одежным экспериментам, они смело носили парадные тройки, галстуки-бабочки и цилиндры в самых неожиданных жанровых сочетаниях.
Свою альтернативу канону предложили хиппи: бородатые, с длинными волосами, в джинсах и разноцветных хлопчатых рубашках, увешанные «фенечками» и бусами, они напомнили о позабытых ценностях – восточной медитации, возврате к природе, свободной любви. Возрождение «хиппового» стиля с фольклорными мотивами в современной моде (бахрома, вышивка, заплатки) – свидетельство силы этого канона.
Вслед за хиппи устремились прочь от городской культуры и отечественные романтики: бородатые туристы с гитарами, физики и лирики обожали шерстяные свитера «а-ля папа Хем» и дружно распевали про закаты, туманы и горные тропы.
Красота становится обязательным спутником успеха. Не потому ли на роль первого космонавта был выбран обаятельный Юрий Гагарин? А летчик-космонавт Г.Т. Добровольский всегда носил элегантные костюмы, отличаясь безукоризненным вкусом.
И, конечно, экранные красавцы, как их забыть: Шон Коннери, Пол Ньюмен, Жан Луи Трентиньян, Алексей Баталов, Иннокентий Смоктуновский и российский Ален Делон – Владимир Коренев из «Человека-амфибии».
При всей пестроте десятилетия ключевые мужские образы выделяются почти мгновенно: это группа «The Beatles» и президент Джон Кеннеди. Битлы, экспериментировавшие практически во всех стилях – от ранних аккуратных костюмчиков без воротников от Кардена до экстравагантного хиппизма эпохи «Сержанта Пеппера», – и любвеобильный американский президент воспринимались как символы молодости и свободы.
Знакомьтесь: советский денди 70-х. Студент-хиппарь, свободно владеющий английским, он покупает фирменную одежду только у фарцовщиков, товары из «Березки» считает ниже своего достоинства, преклоняется перед битлами и носит прическу а-ля Джимми Хендрикс. В его гардеробе – вышитая афганская дубленка, вельветовые штаны цвета deep purple, психоделическая рубашка желтого цвета и любимая белая итальянская, с накладными карманами и клапанами, куртка London fog и кожаные бордовые остроносые сапожки. Расклешенные джинсы Harvey Logan протирались на редкость эффектно, как будто были намазаны глиной. Исключение на фоне серой массы? Да, но это скорее эпатаж, а желание свободного самовыражения.
А для западных пижонов в это десятилетие открылись самые широкие возможности. Впервые на арене появляется тип обаятельного, но некрасивого в классическом смысле мужчины: французский эксцентрик Пьер Ришар, нью-йоркский комик-интеллектуал Вуди Аллен, Дастин Хоффман, Джек Николсон, Бельмондо, Челентано, из наших – Караченцов, Евстигнеев. Вдруг выяснилось, что героем может быть не только смазливый бонвиван, но и прозаический, в чем-то смешной неудачник.
Конфликт этих двух типов красоты ярче всего отразился в американском фильме «Какими мы были» («The way we were», 1973), в котором играли Роберт Редфорд и Барбра Стрейзанд. Редфорд, WASP[1121] и All American boy, представлял традиционный образ красоты и успеха, а ему противостояла левая активистка Барбра Стрейзанд со своим уникальным шармом, но далеко не идеальными чертами лица.
В 70-е развивается культ знаменитостей – в 1974 году в Штатах начинает выходить журнал «People», на страницах которого отрабатываются современные жанры рассказа об известных людях «у себя дома». Героями «People» становятся молодой Карл Лагерфельд, тогда еще не скрывавший лицо за черными очками, Мик Джаггер, Михаил Барышников и Лучано Паваротти.
Тут же появляется новый тип знаменитостей – спортсмены: английский футболист 60 – 70-х годов Джордж Бест отличался редкой красотой, его называли «пятым битлом». Бест был записным ловеласом – все женщины падали в его объятия. Мухаммед Али долгое время оставался кумиром американцев не только как боксер-тяжеловес, но и в качестве модника и новоявленного адепта ислама.
Эпоха дизайнеров и моделей: культ красоты обретает свои институты, индустрию и ритуалы. Каждая звезда выбирает своего кутюрье: Элтон Джон одевается у Версаче, Эрик Клэптон – у Джорджио Армани. В моду входит мускулистое накачанное тело – Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Ван Дамм – жрецы нового культа.
Но с канонами красоты начинает происходить нечто странное: неустанная работа над собой приводит к стандартизации внешности. Голливудские красавцы как будто сходят с одного конвейера: Кевин Костнер, Микки Рурк, Брюс Уиллис, Патрик Суэйзи, Курт Расселл, Майкл Дуглас – представляют тенденцию «обаяние без лица». Столь же похожи между собой и их партнерши – пергидрольные блондинки с силиконовым бюстом, из армии которых выделялась, пожалуй, только Шарон Стоун.
Гротескная кульминация этой линии – Майкл Джексон, превративший себя в ходячий триумф постмодернизма: человек без пола, возраста, расы, намеренно стерший все свои индивидуальные особенности ценой невероятных медицинских операций.
Медицина все активнее вторгается в сферу красоты: не только женщины, но и мужчины начинают увлекаться подтяжками лица, массажем, фирменная голливудская улыбка немыслима без услуг высокооплачиваемого дантиста. Аккуратно подстриженные чистюли яппи – новый контингент потребителей дезодорантов, кремов для бритья и лосьонов после бритья. Яппи не могут обойтись без косметических товаров, потому что иначе они проиграют в конкуренции: работодатели теперь предпочитают ухоженных и презентабельных сотрудников.
На фоне общей стандартизации явно преуспевают модельеры, сумевшие предложить отчетливый архетипический образ «настоящего мужчины», занятого реальным делом: Ральф Лорен стилизует своих клиентов под джентльменов-охотников и сельских жителей, эксплуатируя ностальгические воспоминания о славном прошлом; из этой же серии – романтика ковбойских парней Мальборо. Усталым бизнесменам хотелось хоть немного почувствовать себя героями Дикого Запада, а не конторскими клерками: в расчисленную на годы вперед прозаическую карьеру белого воротничка надо было внести ноту поэзии и риска.
Поиск идентичности – любимое занятие 90-х. Мужчины открывают ранее неведомые запретные возможности. Интенсивно-эротические образы с гомосексуальным оттенком? – Посмотрите на рекламы джинсов Кэлвина Кляйна. Черные красавцы негры? – Заработкам Эдди Мерфи завидуют белые кинозвезды. Мужчина-феминист? Каждый второй университетский преподаватель, заседающий с активными коллегами с кафедры women’s studies[1122]. Политическая корректность побуждает каждого безбоязненно выступать с позиций своей «неповторимости». Гламурное обаяние Голливуда уступает место многообразию национальных, социальных и возрастных субкультур.
Подростки наслаждаются стилем «гранж», богемные эстеты драпируются в черные асимметричные лоскутья от Йоджи Ямамото.
Фотография французского философа-постструктуралиста Жака Деррида появляется на обложке «Vogue»: мир взыскует красоты профессионально отточенной элегантной мысли. Однако интеллектуалы, поклонники Деррида, ломают голову не только над текстами мэтра, но и над деконструктивными изысками его последователей в мире моды – молодых радикалов Мартина Маржиела, Анн Демелемейстер и Дриса ван Нотена, Дирка Биккемберга.
Среди кумиров десятилетия – неожиданные лица: мужчина-мальчик Леонардо Ди Каприо; постаревший Ричард Гир, который не стесняется своих кругов под глазами и увлекается буддизмом; суровый юноша-пришелец Киану Ривз, франтоватый Брэд Питт – индивидуализм процветает.
В музыкальном мире жажду романтики воплощает новый тип – певец поп-латино. Расшитые рубашки, жгучий взгляд, «mediafriendly face» и сладкий голос – слагаемые успеха Энрике Иглесиаса и Рики Мартина. Этим дамским угодникам явно не дают покоя лавры экзотических красавцев 1920-х годов – Рамона Новарро и Рудольфа Валентино.
К концу века в моду входит гомосексуализм: обычные гетеросексуальные белые мужчины вдруг чувствуют себя в меньшинстве, зато карнавалы секс-меньшинств обретают неслыханный размах. Для гей-парадов шьются сложные изысканные костюмы: никогда еще в истории трансвеститы не умели столь технически грамотно перевоплощаться в женщин.
Калейдоскоп стилей простирается и во времени: мода обращается к прошлому, кутюрье лихорадочно перебирают ретро стили, увлеченно играя в цитаты, так же как и литературные постмодернисты Умберто Эко, Милорад Павич и Пелевин. Сегодня цитируем 70-е, завтра – 80-е и 90-е. Мультикультурализм и принцип коллажа делают возможности выбора поистине безграничными, жесткая нормативность более не актуальна.
Бобо
На рубеже XX и XXI столетий галерея мужских типов обогатилась новым приобретением: пресса заговорила о пришествии «бобо»[1123]. «Бобо» – аббревиатура от первых слогов «bourgeois-bohèmien», буржуазный – богемный. Слово придумал Дэвид Брукс, главный редактор «Уикли Стандарт», выпустивший книгу «Бобо в раю» (2000)[1124].
Классическому бобо сейчас от 30 до 50 лет, это поколение, чьи родители принадлежали к «baby-boom»[1125]. Он имеет высшее образование и успешно делает карьеру, но в то же время не чужд фрондерских, свободолюбивых настроений и превыше всего ставит развитие собственных творческих потенций. Он сторонник натурального диетического питания, ходит в спортзал и экологически сознателен, разделяет философию «New Age»[1126] и интересуется современным искусством. Бобо – утонченный консьюмерист, он украшает свой дом батиками с острова Бали и покупает только тосканское оливковое масло. Короче, это синтез хиппи и яппи, идеалиста и прагматика, новый герой нашего времени. Кумиры бобо – своевольный компьютерный магнат Билл Гейтс, мультимиллионер-эксцентрик Ричард Бренсон, французские дизайнеры братья Буруллек.
В вопросах моды бобо – индивидуалист. У него собственный стиль, и он не желает слепо следовать новейшим тенденциям, обновляя гардероб каждый сезон. Новую вещь покупает, только если она точно соответствует его вкусу.
Бобо позволяет себе роскошь быть самим собой и оттого отвергает «total look» («цельный стиль»), когда весь образ – результат работы имиджмейкера или человек одет с головы до ног от одного модельера. Он любит сочетать вещи по своему усмотрению, порой комбинируя новые дизайнерские вещи с антикварными («vintage»). А если уж обращается к дизайнеру, то все чаще предпочитает шить костюмы на заказ, по своей индивидуальной мерке. Многие модельеры учитывают ныне подобные прихоти своих клиентов и предлагают индивидуализированные варианты.
Возможно, что именно благодаря бобо дендизм вновь обретает социальную базу – и как знать, не ожидает ли нас при удачном стечении обстоятельств ренессанс дендистского стиля жизни в XXI веке?
Начало нового тысячелетия сразу подтвердило: в моде «genderbending»: смешение мужского и женского. Это вовсе не означает воцарение сурового и бесполого стиля «унисекс» – напротив, налицо новая фривольность, когда эротическое обаяние мужчины только выигрывает за счет добавки толики женственного. Новая свобода самовыражения подразумевает смягчение мужского облика: на смену атлетам и культуристам в духе Шварценеггера приходят стройные застенчивые юноши, вид которых намекает на беззащитность, ранимость в стиле «vulnerable look»[1127]. Их идеал элегантности – молодой Ив Сен Лоран начала 1970-х годов, субтильный интеллектуал-эстет с пышной шевелюрой и скепсисом во взгляде. Именно такие «беззащитные» модели, а отнюдь не супермены доминировали среди победителей последних конкурсов мужской красоты.
«Мода создает совершенно новый образ мужчины постфеминистской эры. Уже не мальчик, еще не муж. Не брат, но и не любовник. Дружок, приятель, пересмешник – вот его жизненное амплуа, его главное предназначение», – замечает обозреватель журнала «Elle» Сергей Николаевич[1128].
Современная мужская одежда существует в непрерывном эстетическом взаимодействии с телом. Андрогинный образ нового мужчины диктует особую телесность: «Тело в нынешнем сезоне должно быть мальчишески-пластичным, изящно-компактным. Оптимальный размер для мужчин – 46-й. Никаких накачанных мускулов, набыченных коротких шей. Пропорции – как на картинах Эль Греко или бердслеевских рисунках: узкие, чуть вытянутые силуэты, устремленные ввысь. Вдохновенный взор, бледность, взъерошенные, как после проливного дождя, волосы» – таково модное тело сезона «Весна-2003»[1129]. Если раньше костюм активно моделировал фигуру владельца, то сейчас он скорее просто подчеркивает ее особенности. Шелковый трикотаж облегает мускулатуру, сквозь прозрачные полурасстегнутые рубашки проглядывает грудь; пиджак надевается прямо на голое тело. Костюм шьется из мягких, тонких тканей, которые струятся вокруг тела, а не структурируют его четкими линиями. Портным приходится отказываться от своих вековых хитростей: ватных набивок, толщинок, бортовок[1130]. Их используют только мастера на Сэвил Роу, в то время как Валентино, Армани и Черрути, проповедуя смягченный силуэт с небольшими скругленными плечами, завоевывают все больше сторонников даже среди бизнесменов.
Наиболее радикальные дизайнеры – Дольче и Габбана, Донателла Версаче и не отстающий от них Кэлвин Кляйн предложили совершенно новую цветовую гамму для мужской одежды и даже для летней обуви: оранжевый, розовый, фуксия, коралловый, терракотовый. Помимо узурпации дамских расцветок, модельеры покусились и на набивные рисунки – яркие цветочные узоры буйствуют на мужских рубашках и майках, напоминая о «гавайках» 1960-х годов.
Подобные новации – не просто стилистические эксперименты и желание «взбодрить» приунывшую после событий 11 сентября публику. За ними стоит более общая тенденция – программное смешение мужского и женского, дань чему как бы нехотя отдают и более консервативные дизайнеры[1131]. «Умеренные» Фенди, Труссарди и Ферре совершают достаточно тонкий маневр, начиная понемногу использовать для своих моделей ткани, которые раньше считались «женскими». К ним относятся атлас, шифон, гипюр, китайский шелк (более легкий, чем итальянский), кружевное полотно. Рубашки и пиджаки, сшитые из таких тканей, даже при самых классических фасонах выглядят ни женственно, ни мужественно, а скорее иронически: оппозиция пола здесь снимается или, по крайней мере, переводится в игровую плоскость. Порой допускаются самые смелые гибриды: шелковая аппликация на костюмной ткани в тонкую полоску – буквальная реализация метафорических «наслоений» смысла.
Из этой же серии – заметное расширение ассортимента мужских аксессуаров опять же за счет заимствований из дамского арсенала. Отныне прогрессивный модник может смело нацепить на себя экзотические украшения – например, бусы или браслеты из цветных камешков или надеть одну серьгу в ухо – и полный вперед! Более робким предлагается довольствоваться фуляром на шее в стиле «плейбой». Женщины, напротив, смело узурпируют мужские галстуки и носят их не только на шее, но и в качестве пояса.
Косметика для настоящих мужчин
Новый андрогинный идеал красоты требует особого ухода за телом: не только гладко выбритые лица, но и депиляция торса (иначе как носить шифоновые рубашки!), педикюр – ведь в моде открытые сандалии. В супермаркетах стали открываться специальные отделы мужской косметики, где можно найти средства для искусственного автозагара, депиляции и ухода за кожей. Практически каждая уважающая себя косметическая компания запустила мужскую линию шампуней и кремов, для чего пришлось разрабатывать особый дизайн и упаковку. Подбирались строгие тона – темно-синий, стальной, черный, форме флакона придавались прямоугольные очертания. Эти эстетические маркеры мужественности опирались на давнюю культурную традицию[1132]. Дамские флаконы в стиле модерн отличались изысканными фигурными формами, были популярны растительные мотивы, текучие изогнутые линии, выпуклые рельефы – достаточно вспомнить вещи Рене Лалика.
Однако изменить дизайн упаковки было только половиной проблемы. Оставалось самое трудное – «уговорить» консервативно настроенных мужчин пользоваться новыми средствами. Образ брутального мачо нельзя было разрушить лобовой атакой, приходилось вести пропаганду исподволь. В России, где патриархальные традиции особенно сильны, мужчины долгое время считали парфюмерию и косметику сугубо дамским делом, а применение косметических средств и уход за собой – постыдной слабостью. Для внедрения новых стереотипов в сознание потребителя был использован такой рекламный прием, как «совет друга»: грубоватый, но в доску «свой» парень советует «верняк», особо не церемонясь в выражениях.
«Разные косметические средства пытаются втереться к тебе в доверие. С этими – точно не промажешь».
«Чтобы не превращать свое тело в арену боевых действий, пользуйся при мытье средствами той же линии, что и твой парфюм. Иначе вони не оберешься».
Тот же «друг» запанибрата просвещал российских мужчин относительно последних тенденций сезона: «Если стало жарковато, можешь накинуть рубашку в полоску, а когда совсем запаришься, переходи на гавайки». Перед журналистами, пишущими подобные статьи, стояла непростая задача: изложить информацию о моде, избавившись от налета «дамского» письма. Существовал и другой скрытый мотив: нужно было развеять невыносимые для российского мачо подозренияв потенциальной «голубизне» – ведь мужской интерес к моде в России нередко воспринимался как косвенный знак «голубых». Поэтому авторам приходилось периодически сдабривать текст «оправданиями» от лица простого парня: «Да, рехнуться можно. Хорошо, что тебе не надо все это понимать. Если ты не собираешься отбирать кусок пиццы с маслом у Дольче и Габбаны, то совершенно незачем постигать законы высшей стильной математики».
Заметим, что подобные проблемы с поиском интонации отчасти можно отнести за счет наследия советской эпохи. До революции в российской модной прессе обозреватели писали в спокойном и деловом ключе, без всяких стилистических ужимок. Например, в 1910 году Джим, обозреватель журнала «Дэнди», из номера в номер давал благородные наставления российским модникам: «Также обязательны твердая крахмаленая сорочка, с одной петлей, застегнутой серой жемчужиной, и белый галстук, не готовый, конечно, а завязанный в виде узкого банта. Цветок для петлицы исключительно белый. В этой области мы почти не знаем перемен; по-прежнему царят орхидеи и белая камелия. Из орхидей наиболее модный экземпляр “Imperialis”»[1133].
Иногда в нынешних мужских журналах роль «советчика» ненавязчиво передается очередному кумиру, который во всеуслышание делится своими пристрастиями в сфере косметики. Порой в амплуа «пропагандистки» выступает женщина, прилежно подбирающая подарок любимому. Западные фильмы также подсказывают неопытному потребителю, какую косметику и средства ухода используют современные мужчины. Так, в фильме «Американский психопат» по роману Брета Истона Эллиса главный герой Патрик начинает день с продолжительных гигиенических и косметических процедур, причем использует и перечисляет по названиям все свои любимые кремы, лосьоны, тоники, дезодоранты, шампуни, бальзамы, скрабы и спреи, не говоря уж о гелях для бритья.
Среди мужских косметических новинок обращают на себя внимание средства для окрашивания волос: теперь мужчинам нет нужды стыдливо пользоваться дамскими красками – есть специальные серии мужских. Бизнесмен может при желании закрасить раннюю седину (коль скоро деловой мир культивирует «расизм молодых», по выражению Ролана Барта); начинающий панк может придать волосам белокурый или фиолетовый оттенок. Лица свободных профессий все чаще отращивают волосы и вновь, как в 70-х, появляются на публике с длинными стрижками, хвостиком или волнистой гривой.
В то время как производители косметики озабочены «раскруткой» линий для мужчин, в сфере парфюмерии явно обозначилась тенденция «унисекс». По мере того как все более размываются традиционные стереотипные представления о мужественности и женственности, идет постоянный пересмотр условных границ женских и мужских ароматов. Продолжается триумфальное шествие духов унисекс: самые известные из них – Calvin Klein One (1994) и Calvin Klein Be (1996). Из унисексных ароматов популярны Bulgary Black и Energizing Fragrance (Shiseido). Иные фирмы выпускают один аромат в мужском и женском вариантах, незначительно отличающихся друг от друга, например Aqua di Gio (Armani).
В то же время многие фирмы по-прежнему делают ставку на сугубо мужские духи без малейшего намека на унисекс: таковы ароматы Higher (Dior) и Givenchy pour hommes.
Мода на обнаженное мужское тело
Невозможно понять изменение модного телесного канона, исключив параметр наготы. Мужская нагота традиционно выступала для общества как тест на терпимость. В последние годы заметно изменились культурные установки по отношению к обнаженному мужскому телу. Отбросив скромность, мужчины стали активно сниматься в костюме Адама: в 1930-е годы реклама включала только 3 % образов мужской наготы, в то время как сейчас эта цифра возросла до 35 %.
Эту тенденцию сразу почувствовали издатели роскошных календарей. Фотограф Крис Готье сделал серию снимков французских регбистов – победителей чемпионата в позах античных богов. Стоит ли говорить, что календарь с регбистами был мгновенно раскуплен. Напротив, эстетский календарь Пирелли, ранее специализировавшийся на женских эротических образах, в 2002 году предпочел одетых дам: максимум вольности – спущенный с плеча свитер или декольте вечернего платья. Знаменитый фотограф Питер Линдберг создал портреты голливудских звезд и известных женщин в туалетах от Армани. Среди его героинь – Минна Сувари («Красота по-американски»), Кьяра Чаплин и племянница президента Лорен Буш, позирующая на обложке в черном пальто.
Можно сказать, что женская нагота сейчас выходит из моды, а мужская, наоборот, входит. Так, на рекламном постере духов «Fragile» Жана-Поля Готье изображена одетая в черное платье дама, а у ее ног – целая компания обнаженных мужчин. Возможно, этой перемене вкусов немало поспособствовала культура геев, открывшая миру некогда запретный шарм мужской эротики. Мужской стриптиз перестал быть культурным табу – взять хотя бы творчество американского художника Тома оф Финланд: его рисунки, обыгрывающие контрапункт между военной формой и обнаженным мужским телом, традиционно шли по ведомству порнографии, а ныне их все чаще воспроизводят в солидных академических изданиях. Аналогичным образом раньше американские власти со скандалом закрывали вернисажи работ Роберта Мэпплторпа, поскольку на его садомазохистских фотографиях красовались нагие мужчины в весьма вызывающих позах.
Теперь же роскошные альбомы этого автора можно найти в отделах по искусству крупных книжных магазинов.
В английском фильме «Мужской стриптиз» («Full Monty», 1997) тема мужской наготы окончательно перешла в бытовой план: там по сюжету шесть героев-безработных, далеко не красавцев, решают с помощью стриптиза поправить свои финансовые дела. Сейчас по мотивам этого фильма сделан мюзикл «Ladies’ Night. Только для женщин».
Мужская нагота активно фигурирует и в рекламе духов. Совсем недавно внимание общественности привлек дизайнер Том Форд, выпустивший свои первые духи «M7» для Дома Ив Сен-Лоран. На рекламном постере обнаженный юноша сидит в непринужденной позе лицом к зрителю, демонстрируя все свои мужские достоинства. Том Форд, комментируя рекламу, сделал следующие заявления:
«Духи наносят на кожу, так зачем скрывать тело?»
«Реклама М7 очень целомудренная, это академическая нагота».
«Я хотел показать мужчину, представляющего естественный и непринужденный образ мужской красоты».
Неизвестно, поверила ли публика лукавому дизайнеру, но хорошо рассчитанная провокация, безусловно, сработала: «М7» привлек внимание потребителей прежде всего за счет скандала. Впрочем, Форд действовал в давних традициях Дома Ив Сен-Лоран: еще в 1970-е сам Ив Сен-Лоран выпустил первый мужской одеколон «Pour Hommes», для рекламы которого лично снялся в обнаженном виде. Столь же эпатажной была в свое время сенлорановская реклама женских духов «Opium» с пышнотелой Софи Даль, возлежащей в соблазнительной позе, причем из предметов туалета на героине были лишь туфли на высоких каблуках. Во многих странах этот рекламный постер переворачивали вертикально, чтобы придать образу более скромный вид: в этом ракурсе возникала иллюзия, что героиня стоит.
По сходным причинам пришлось «модерировать» сенсационный рекламный ролик мужских духов Lacoste, где герой совершает пробег в обнаженном виде, повернувшись к зрителю спиной. В зависимости от степени пуританизма в той или иной стране показывали только торс или же надевали на юношу штаны. Австралиец Ян Лолесс, снимавшийся для этой рекламы, вмиг стал звездой.
Стоит отметить одну любопытную тенденцию в рекламе духов – на многих постерах (например, Jacomo de Jacomo rouge, Lacoste parfums collector, Givenchy pour hommes) дается только мужской торс без головы. Очевидно, эстетическую ценность в глазах художников по рекламе представляет торс с красиво проработанными мышцами как метонимия классического тела. Такой прием, возможно, отсылает к безголовым античным статуям или даже к портновским манекенам: в обоих случаях перед нами – инструментальное тело, идеальный объект для взгляда. Это знак объективации мужского тела в рекламе: прерогатива рассматривания целиком принадлежит зрителю.
Бодибилдинг как техника мужской красоты
Бодибилдеры (шоу Чиппендейл)
Совершенно особый тип мужского[1134] телесного канона представлен в бодибилдинге. Тело чемпиона мира по бодибилдингу одним может показаться прекрасным, другим – безобразным, но равнодушных не будет.
Бодибилдинг – весьма влиятельная современная спортивная субкультура, успешно выработавшая свой уникальный канон телесной красоты и язык для его описания. Комментарии на состязаниях по бодибилдингу пестрят профессиональными терминами, которые вряд ли понятны непосвященным: «изометрическое позирование», «тангерный грим», «резьба пресса», «проработка дельтоид»… Фанаты награждают своих кумиров высокопарными прозвищами: «Король поз», «Султан симметрии», «Человек-гора». Атмосфера в зале накалена: публика поддерживает выкриками своих кумиров, спортсмены срывают аплодисменты, демонстрируя игру мышц.
Как всякое массовое движение, бодибилдинг имеет свою мифологию. Она складывается из спортивных легенд о чудесных средствах для быстрого обретения мыщц «кинг-сайз», о секретных системах подготовки чемпионов, о страшных последствиях нарушения тех или иных правил. Поскольку бодибилдеры и впрямь поглощают в огромных количествах вредные пищевые добавки и перед соревнованиями подсушивают мышцы, принимая мочегонные, у страшилок есть реальные основания. Некоторые спортсмены падали в обморок прямо на помосте, не выдержав обезвоживания организма.
Более специфична мифология металла: поскольку бодибилдеры работают с «железом» – гантели, штанги, тренажеры, – металл выступает как универсальный метафорический ключ. В тематических журналах то и дело мелькают выражения «железная воля», «стальная мощь мышц», «единоборство с металлом», и даже если речь идет всего лишь о пищевых добавках, это «железная гарантия».
Идеология бодибилдинга достаточно агрессивна. В ней порой явственно проступают зловещие комплексы «сверхчеловека», звучат «арийские» ноты превосходства атлетов над «слабаками»[1135]. Вот, например, что пишет Джо Уайдер, основатель известного журнала «Muscle and Fitness»: «Общество не захочет мириться с физической неполноценностью своих членов. Поскольку очевидной станет связь между слабыми мышцами, слабым характером и слабым интеллектом». Образ врага, как нетрудно догадаться, легко приспосабливается к нуждам момента: это может быть и просто нетренированный человек, и конкурент – любитель аэробики, которая пропагандирует иной идеал красоты (худощавое гибкое тело без выступающих бугристых мышц), да, впрочем, и любой «Другой», чем-либо отличающийся от бодибилдера…
Центральный объект забот бодибилдера – его тело. Тело выступает как вторая природа, которую спортсмен «возделывает», «окультуривает», лепит. Во многом эта установка порождает отчужденность от тела даже у самого «скульптора». Лидер бодибилдинга, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, признавался: «Вы не воспринимаете мышцы как часть себя. Вы смотрите на мышцу как на предмет, который должен стать немного крупнее или длиннее. Вы видите, что она даже как будто не является частью вашего тела. Это как скульптура»[1136]. На пике формы (вес бодибилдера существенно меняется в зависимости от графика соревнований) атлет нарабатывает настоящий «костюм» из мышц и, видимо, это нередко внутренне воспринимается как особая «одежда» тела. Характерное высказывание одного из спортсменов: «Чувствовал на себе форму – 110 кг отлично скроенных, прорисованных мышц».
Эстетический идеал бодибилдинга – рельефная проработка и гипертрофированное развитие всех групп мышц, что создает визуальный эффект гротескного спортивного тела. Для плавности и закругленности силуэта применяются косметические средства – масла и автозагар. Смазка создает впечатление обтекаемой, блестящей поверхности, смягчая резкие рельефы мышц и выступающие вены. Этот лоснящийся кожный скафандр облегает тело как сплошная глянцевая оболочка, создавая у зрителей парадоксальную иллюзию «одетости» бодибилдера. Впервые этот эффект одетости отметил Ролан Барт, рассуждая о наготе танцовщиц стриптиза: «нагота тоже остается нереальной, гладко-замкнутой, словно какой-то красивый отшлифованный предмет, самой своей необычностью огражденный от всякого человеческого применения»[1137]. Хотя среди адептов бодибилдинга немало как голубых, так и откровенных мачо, зрелище подобной искусственной «мужественности» носит достаточно условный характер.
В результате тело бодибилдера не воспринимается зрителем как обнаженное или тем более эротическое – скорее это тело асексуально. Однако оно равным образом далеко и от неоклассической модели гармоничной телесности в силу ярко выраженной барочности культуристской фигуры. Глаз зрителя скользит по отдельным группам мышц, оценочно фиксируя объемы и формы, что приводит к фрагментарности общего телесного образа. Это ощущение «разобранного», сегментарного тела усиливается за счет сценария соревнований – проход и демонстрация статичных поз, когда спортсмены показывают работу разных мускулов. При оценке применяются жесткие технические стандарты – «качество спины», «проработка голени», – бодибилдер по очереди экспонирует каждый сектор тела, напрягая соответствующую группу мышц.
Сегментарность тела и статичность показа смягчаются «двигательной косметикой» – перформансом или танцем. Каждый выход бодибилдера – маленький спектакль для публики: спортсмен разыгрывает определенный образ. Эти экзотические роли создают успокоительную дистанцию, дополнительно снимая риск сексуальности и напоминая зрителю, что он имеет дело со спортивным шоу. Репертуар «ролей» в этом театре ограничен, можно условно выделить три основных амплуа.
Образы животной силы. «Годзилла» – чудовище с тяжелой поступью и устрашающим оскалом; первобытный охотник (на фотографии Майк Ментцер позирует со шкурой льва); гигантская обезьяна КингКонг, которая может быть или грозной, или, наоборот, игривой. Игривая обезьяна выбегает на помост в состоянии эйфории, резвится, корчит рожи (один спортсмен так вошел в образ, что постоянно показывал язык публике).
Робот. Механизированный шаг, ритмично-автоматические движения, мина бесчувственности, замедленные жесты. Образ робота напрямую связан с мифологией металла: работая с «железом» и накачивая «стальные мышцы», спортсмен вживается в образ металлического «сверхчеловека». В этом же ключе мыслят и фанаты: «Немецкий бульдозер» – ласково кличут поклонники своего кумира-бодибилдера из Германии. Первым открыл это амплуа «железный Арни» – Арнольд Шварценеггер, сыгравший Терминатора, и вслед за ним на помосте появились бесчисленные роботы-андроиды, вдохновленные голливудскими спецэффектами.
Исполнитель стриптиза. Некоторые бодибилдеры заимствуют для своих выступлений арсенал исполнителей стриптиза – призывные жесты и завлекающие позы, откровенно кокетничая с публикой. Особенно увлекаются этими приемами атлеты из Лас-Вегаса, которые нередко для заработка выступают в казино или шоу вместе с коллегами-стриптизерами. Интересно, что, копируя технику эротического тела, бодибилдеры часто обращаются к позам женского стриптиза, отнюдь не беспокоясь за свою репутацию крутых мачо. Но даже эти приемы вовсе не прибавляют эротики зрелищу. Вновь сошлемся на Барта: «Профессиональные исполнительницы стриптиза буквально окутаны, одеты, дистанцированы – волшебной непринужденностью своих движений, холодным равнодушием умелого мастера; они надменно укрываются в своем техническом совершенстве, умение облекает их словно одежда»[1138].
Обращение к технике женского стриптиза сигнализирует, что в современной культуре весьма скудно разработан язык мужской телесности. Веками женское тело выступало как объект для мужских взоров, и репертуар жанровых стереотипов необычайно богат: достаточно вспомнить хотя бы бесчисленные варианты женской наготы в классической живописи. Лаура Малви, автор программной статьи «Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф», считает, что в кино используется традиционное «разделение труда»: женщина выступает как предмет для взгляда, мужчина – как разглядывающий. Мужскую роль наследует камера – «киноглаз», который смотрит сквозь линзу культурных клише[1139]. Продукт этого зрения – активная властность эротического взгляда, направленного на женское тело, и сюжетные шаблоны мелодраматического кинематографа. В распоряжении актрис – бесконечный ассортимент жанровых амплуа для градуирования всех оттенков соблазна, желания, кокетства или классической холодности.
Статуарная плоть бодибилдера как объект для зрительского взгляда, напротив, не укладывается в существующие каноны визуального восприятия. Его тело не самодостаточно, поскольку мужчина не чувствует за собой солидную культурную традицию, подсказывающую выбор действий и реплик в ситуации, когда на тебя смотрят. Традиция подсказывает, что мужчина-силач органично смотрится на подмостках, если он снабжен техническими средствами для демонстрации своей мощи – он может поднимать штангу или участвовать в цирковом аттракционе, допустим, ломать кирпичи или бревна – но ему требуется точка приложения сил. Другой проверенный вариант – единоборство, все виды борьбы. Даже борцы сумо смотрятся гораздо естественнее бодибилдеров, потому что зритель знает, что их внешний вид диктуется правилами этого вида спорта, и поединок вносит необходимую динамику в зрелище. Тело бодибилдера как будто воплощает эстетическую максиму «целесообразное без цели» – и оно остается «без дела». Не случайно один бодибилдер высказал свою сокровенную мечту – участвовать в чемпионате мира по борьбе без правил.
Теперь становится понятно, почему эти атлеты смотрятся «на своем месте» только в спортивном зале, среди тренажеров и штанг, но отнюдь не на соревнованиях, где они поставлены в невыгодные условия статичного показа. Этот кризис публичного самовыражения объясняет, почему столь беден ролевой репертуар бодибилдеров и отчего они вынуждены часто заимствовать жесты из арсенала женской телесности. Но заимствование это слишком бесхитростно, как, впрочем, и остальные «детские» игровые амплуа роботов и обезьян. Ведь создание удачного образа – всегда попадание в дрейф коллективных желаний: культура «визуальных удовольствий» не возникает на пустом месте.
Виртуальная красота
Реальную конкуренцию живым кумирам составляют виртуальные персонажи. Электронное пространство «всемирной паутины» оказалось идеальной средой не только для постмодернистских гипертекстов, но и для визуальных экспериментов по созданию новых героев. На сайте Ananova обитает компьютерная дива – безупречная Ананова с зелеными волосами, она читает новости обольстительным механическим голосом. У нее много поклонников, которые пишут ей письма. А приключения неутомимой Лары Крофт давно вышли за рамки компьютерных игр, став сюжетом фильма «Лара Крофт – расхитительница гробниц» (в 2003 году вышло продолжение).
Проблема красоты в виртуальном мире легко снимается с помощью компьютерной графики. Желающие могут подобрать себе любой имидж, начиная от прически и кончая фиктивной персоной собеседника в чат-руме. Парадоксальным образом этот азарт жизнетворчества напоминает удовольствие искреннего высказывания: «Я хочу, чтобы вы это знали, и мне сладостно говорить вам об этом»[1140].
Денди XXI века: от джентльмена до нового британца
Летом 2003 года в Москве работала выставка «Денди XXI века». Выставку организовал Британский Совет, кураторы – известный историк костюма Кристофер Бруард и его ученица Элис Чиколини. После Москвы выставка отправилась по маршруту Красноярск – Токио – Рим – Мадрид.
Экспозиция включала современные английские костюмы, аксессуары и фотографии, книги по истории дендизма и моды. Выставка начиналась с материалов о Браммелле и дендистском стиле XIX века и завершалась последними работами британских дизайнеров. Основная цель кураторов – рассказать о новой волне в британской мужской моде[1141] и продемонстрировать преемственность английского дендизма как культурной традиции. Денди выбран как самый удачный архетип, воплощающий жизнеспособность английской моды. Посмотрим на примере выставочных материалов, как дендистские принципы реально работают в современной моде. Напомним вкратце – дендистский стиль держится на трех китах:
1) Принцип «заметной незаметности», восходящий к знаменитой британской сдержанности («understatement»): костюм не должен привлекать внимание к владельцу, но обязан выдерживать пристальный испытующий взгляд знатока. Это трудоемкий эффект, но так создается выгодная оправа для личности, независимой как во мнениях, так и в финансовом отношении. Представленные в экспозиции костюмы портных Сэвил Роу, особенно Huntsman, отличает в первую очередь хороший крой и благородство ткани при отсутствии ярких цветов и украшений; швы не скрываются, подчеркивая конструктивные линии. Портной «строит» тело клиента за счет незаметных толщинок, солидной подкладки, системы мелких вытачек: отличительная черта Huntsman – приталенный силуэт.
2) На минималистском фоне должна присутствовать хотя бы одна знаковая деталь, будь то шикарная записная книжка Smythson, зажигалка Dunhill или модные стеклянные запонки Isabelle Starling. На неприметные мелочи ложится большая символическая нагрузка: надо быть подлинным ценителем моды, чтобы рассмотреть и прочесть скрытый знак. Иногда такая деталь может быть тайной: подкладка из цветного шелка, как на пиджаках Paul Smith, или вышивка на отвороте манжета, которая обнаружится, только если сам владелец захочет ее показать, отогнув манжет.
Символическая роль аксессуаров – тоже наследие дендизма XIX века: ведь монокль, лорнет, трость, табакерки требовали известной ловкости жестов, составляя технический арсенал денди. Манера обращения с мелочами – внешне небрежная, но профессиональная – издавна отличала джентльмена от буржуа, и для настоящего денди до сих пор аксессуары остаются сферой престижной компетентности.
3) Умелое нарушение канона, продуманная небрежность демонстрируют, что денди – отнюдь не манекен, а завзятый индивидуалист, master of the game. Он может сочетать трикотажный галстук (который обычно носят с вельветовым костюмом) с классическим пиджаком или нацепить под костюм водолазку с незаметной молнией в воротнике. Иногда денди позволяет себе ироническую игру даже с каноническим жанром white tie: брюки с фрачным поясом сочетаются со спортивным свитерком. Это вносит нюанс непредсказуемости и иронии – вполне в духе постмодерна XXI века. Вот, к примеру, на одной из фотографий на выставке мы видим Робина Датта – лондонского журналиста, пишущего о моде, непременного персонажа светской тусовки. Робин собирает старинные жилеты, и как раз для этого портрета он облачился в один из экземпляров из своей коллекции. Но пикантность ансамбля достигается за счет контрастного сочетания жилета XVIII века с пальто от Вивьенн Вествуд и кожаными брюками…
Подобные дендистские приемы в одежде, хотя и могут показаться проявлением сугубо личного вкуса, на самом деле отражают достаточно серьезные проблемы в современной моде. Глобализация модной индустрии неизбежно приводит к унификации стиля, по крайней мере в секторе городской повседневной одежды для среднего класса. Британские щеголи, отвергая диктат корпоративных брендов, отстаивают свое право на индивидуальный стиль, отсюда смешение марочных и винтажных вещей. Вместе с тем они не прочь через одежду заявить о своей принадлежности к определенному социальному или профессиональному кругу (джентльмен, богемный художник), группе по интересам (например, футбольные болельщики). Таким образом, в костюме возникает плодотворный контрапункт между общим и индивидуальным началом, причем личное нередко проявляется в форме пародии, подчеркнутой театральности или эксцентрики – сугубо в английском духе. Не случайно среди представленных на выставке фотопортретов есть один с лукаво-скромной подписью «Джо Корре, дизайнер белья». Любители моды, конечно, сразу припомнят, что Джо Корре – сын Вивьенн Вествуд и основатель эпатажно-эротической марки белья Agent Provocateur.
Аналогичный контрапункт между общим и индивидуальным, традиционным и альтернативным присутствует в дендистской идеологии. Денди создает канон и сам же его нарушает, демонстрируетшик и позволяет себе шутки с шиком: вспомним хотя бы дендистские скандалы, подколки и розыгрыши. «Протестные» жесты создают неповторимую игру личного стиля – фанаты обожали харизматичного Джимми Хендрикса не только за его музыку, но и за его эскапады на сцене и в жизни.
Шесть типов денди
С легкой руки сэра Джорджа Уолдена[1142] споры о том, кого можно назвать современным денди, продолжаются по сей день. Кураторы выставки «Денди XXI», напротив, избрали другую стратегию: абстрагироваться от отдельных личностей и попытаться обрисовать несколько реальных вариантов дендистского стиля.
Кристофер Бруард и Элис Чиколини выделили шесть типов денди, представляющих наиболее яркие модели мужской элегантности: джентльмен; богемный хокстонский денди; футбольный фанат Terrace Сasual; знаменитость; неомодернист; новый британец. В этой классификации, разумеется, есть немалая доля условности, но важен принцип: зафиксировать имеющиеся на данный момент варианты дендистского стиля. Каждый такой вариант – удачный компромисс между общим и индивидуальным в одежде, когда в костюме одновременно заявлен и «tribalism» – желание быть членом «племени», особенно свойственное молодежи, и выстраданный личный вкус. Все типы поданы в своей «родной» культурной среде – дизайнер выставки Эндрю Стаффорд умудрился создать особую атмосферу в каждом разделе.
Экспозиция начинается с классики: это, конечно же, Джентльмен, продолжающий славные традиции британской аристократии. Нынешние джентльмены, хотя и не всегда отличаются знатным происхождением, все же занимают достаточно солидное положение в обществе, что позволяет им обращаться к услугам таких мастеров классического костюма, как Генри Пул, Килгур Френч Стэнбери, Гивз энд Хокс. Во всех этих старинных фирмах костюмы до сих пор шьют вручную, швейная машинка применяется только изредка для отстрочки незначительных деталей – подкладки на карманах, к примеру.
Образцовый джентльмен сэр Иэн Маккеллан снят в момент примерки в мастерской Ричарда Андерсона. Его костюм отличается сдержанностью, но наметанный взгляд всегда отличит знаковые детали: расстегивающиеся пуговицы на рукаве, небольшой дополнительный карман на талии (для визитных карточек). Эти детали – символические следы функционального назначения костюма, ведь некоторые фирмы Сэвил Роу (Хантсмэн, Холланд энд Холланд) раньше специализировались на армейских мундирах или охотничьих костюмах. Скажем, прорезная петля на лацкане указывает, что раньше при холодной погоде лацканы пиджака было вполне допустимо отогнутьи застегнуть для тепла: на обороте для этого есть пуговица. Иной раз та же петля могла служить для более романтических целей – чтобы вдеть цветок, причем для закрепления стебля с изнанки лацкана подшивалась дополнительная нитяная петелька.
Современные джентльмены, пожалуй, редко украшают себя орхидеями, но не пренебрегают возможностью поиграть со старинными правилами. Ричард Андерсон, работая с классической полосатой тканью, располагает полоски по диагонали в духе оп-арта. Сэр Пол Смит в последних коллекциях делает подкладки из цветного шелка, которые видны только при расстегнутом пиджаке. Но все равно такие мелкие «фенечки» поднимают настроение хозяину: «А я-то знаю!» (Кстати, коллеги по партии как-то раз осудили Тони Блэра за пристрастие к рубашкам фирмы Пол Смит, сочтя это слишком легкомысленным для премьер-министра.)
Если Джентльмен нарушает канон весьма дозированно, то следующий тип – Знаменитость – уже играет в открытую. Это и неудивительно, поскольку его цель – привлечь к себе внимание. В названии Celebrity Tailor скрыт двойной смысл: клиент знаменитого портного и/или портной, обшивающий знаменитостей. Это точно отражает суть дела – удачный костюм способствует популярности обоих: недаром в дизайне этого раздела выставки использованы зеркала – символ взаимного нарциссизма.
Чемпион по Public Relations здесь, безусловно, британский дизайнер Освальд Боатенг. В мае 2002 года он устроил беспрецедентное дефиле «Индийская Одиссея»: модели шествовали вдоль Сэвил Роу под 80-метровым тентом, демонстрируя последнюю коллекцию.
Боатенг, сохраняя безупречный традиционный крой, идет на рискованные эксперименты с яркими цветами: представьте себе классический костюм… оранжевого цвета! Его костюмы выполнены в изысканно-эпатажной цветовой гамме фуксии, оранжевого и терракоты, а изнанка фрака отсвечивает декадентски-зелеными оттенками. Боатенг любит поиграть и с фактурой ткани: нагрудный карман его пиджака отделан той же шелковой материей, из которой выполнен галстук, а «рифленый» диагональный рисунок «перетекает» с рубашки на галстук. Такие приемы зрительно скрепляют ансамбль, и вдобавок Боатенг нарочно оставляет тут и там авторские знаки: фирменную фиолетовую полосочку с изнанки воротника, как бы случайно забытую наметку на плече.
Его коллеги по цеху тоже не прочь обмануть ожидания доверчивых зрителей: классический костюм в исполнении Джона Пирса при ближайшем рассмотрении оказывается сшитым из денима и вельвета. Ричард Джеймс и вовсе производит пиджаки из жаккардовой ткани, а рубашки украшает бисером – это и впрямь вещи, рассчитанные на вечерний выход, эффектный перформанс знаменитости.
Впервые подобные игры с материалами освоили британские «моды» – альтернативная молодежь 1950-х годов. Подражая стилю американских джазменов Восточного побережья и чистым линиям архитектурного модернизма, они стали предпочитать четкий структурный силуэт, «разбавляя» классику за счет авангардных материалов, – вот тогда-то и появились костюмы из джинсы, подкладки из рубашечной ткани. СовременныйНеомодернист может выбрать по настроению и спортивный ансамбль «оригами» дизайнерского дуэта Vexed Generation, и экспериментальные костюмы Аркадиуса или Burro, и смелые импровизации на тему zoot suit из первой выпускной коллекции молодой звезды британского дизайна Ханны Смолл.
Тип Неомодерниста – явный фаворит куратора выставки Кристофера Бруарда: недаром именно здесь «прописан» его маккуиновский костюм, о котором пойдет речь в конце этой главки. Среди любимых экспонатов Кристофера в этом разделе – «венецианский» портфель Bill Amberg c красной ручкой из прозрачного пластика и отделанный изнутри красной замшей: «well-crafted object of desire», как выразился профессор. Другой аксессуар для красивой жизни неомодерниста – ящик распорядителя вечера, изготовленный знаменитой фирмой Smythson of Bond Street. В этом волшебном ящике хранятся меню, список приглашенных и набор маленьких металлических яблочек с прорезями, а в яблочки (вероятно, с древа познания добра и зла для искушенных денди) вставляются карточки с именами гостей, обозначающие место за столом.
Итак, первые три стиля демонстрируют с теми или иными отклонениями варианты делового или вечернего костюма. Остальные три типа денди явно «произрастают» в сфере досуга. Тип Terrace Casual – наследник спортивных денди XIX века, которые увлекались скачками, гоняли экипажи на манер самых лихих кучеров и покровительствовали боксерам. Terrace Casual – это футбольный фанат, отсюда и название: terrace – трибуны стадиона. Соответственно оформление раздела включает зеленый пластиковый «газон», стадионные софиты и барьер для сдерживания толпы. Английские болельщики известны на весь мир своим «мягким национализмом», как деликатно сказано в каталоге, и в последние годы их патриотизм проявляется в выборе отечественных марок спортивной одежды Daks, Cordings, Aquascutum и, разумеется, Burberry. Если раньше продвинутый болельщик носил свитер Lacoste, то сейчас он предпочтет тишотку победителя Уимблдона Фреда Перри или носки с ромбиками Argyle. Непринужденный стиль Terrace Casual складывается из современных адаптаций спортивного, рыболовного и охотничьего костюма – это и впрямь одна из старейших традиций британской одежды для загородного отдыха (country). Но, как и в случае с Джентльменом, и здесь есть место для иронии. Безусловный хит в этом плане – неузнаваемопародийная куртка Barbour, которая вместо родной темно-зеленой масти изукрашена буйными набивными цветочками. (Кстати, такие дерзкие набивные рисунки на классических моделях – успешная тенденция: достаточно вспомнить серию «граффити» сумок Луи Вюиттон.)
Тип Hoxton dandy обитает не на футбольных просторах, а в прокуренных клубах в лондонском районе Хокстон. Это своего рода новый Сохо, расположенный в Ист-Энде, где сейчас сосредоточены самые модные кафе, клубы, студии дизайнеров. В клубах играют новейшую музыку и читают журналы с симпатичными названиями Sleazenation или Dazed and Confused (нотабене: на лицах моделей в этих журналах прыщики не замазаны, это лица нарочно рябые, в противовес гладким красоткам из глянцевой прессы).
В своих прикидах Хокстонский денди воплощает извечную тягу английской интеллигенции к социалистической идеологии и обыгрывает «рабоче-крестьянские» мотивы: плотные шерстяные свитера Guernsey, комбинезоны, ручная вышивка, жилеты с многочисленными карманами. Стихия физического труда выступает как метафора творческой работы; оппозиционные настроения отражаются в увлечении «милитари». Куртки шьются из пуленепробиваемых материалов, а капюшон предназначен для защиты лица от видеонаблюдения (нелегка и опасна жизнь радикала!). Настоящий авангардный стиль часто достигается, когда костюм призван сыграть «нигилистическую» роль – заявить об альтернативных или левых взглядах владельца: об этом напоминают тишотки с политическими граффити дуэта молодых дизайнеров Vexed Generation – Адама Торпа и Джо Хантера[1143]. Апофеоз функционалистских приколов – универсальный костюм – спальный мешок Griffin, в котором можно на крайний случай и вздремнуть, достаточно лишь перевернуть изделие, благо воротник и отверстия для рук расположены снизу.
Богемный Хокстонский денди – мастер нетривиальных сочетаний в костюме: он спокойно накинет бархатный шарфик на армейскую рубашку или, наоборот, к бархатному пиджаку наденет джинсы. Его увлечение Востоком, напоминая о хиппи 1960-х, не мешает ему быть поклонником Интернета и новейших технологий.
Наконец, последний тип современного денди — Новый британец – отражает космополитический характер нынешнего английского общества. Для программных иллюстраций недаром выбраны фотографии молодых мусульман: эти модники свободно комбинируют сугубо традиционные арабские одеяния с атрибутикой спортивного шика. Напольное покрытие секции изготовлено из фрагментов фанеры разных оттенков, в том числе использованы дощечки из ящиков для посылок с почтовыми надписями из разных стран, но орнамент этого «паркета» в целом образует национальный британский флаг – Union Jack.
Мысль кураторов прозрачна: Новый британец – гражданин мира, благодаря терпимости к другим национальным культурам[1144] Англия сумела обратить себе на благо собственное имперское прошлое. Плоды мультикультурной цивилизации – творчество британских дизайнеров, черпающих свое вдохновение отовсюду, и в этом же – секрет неиссякаемой креативности английской street fashion.
В этом разделе, безусловно, лидируют работы «бабушки» Вивьенн Вествуд: безразмерно широкие оксфордские брюки кричаще красного цвета, адмиральский китель из желтого атласа и нарочито китчевый люрексный джемпер с украшением в виде рыбьей чешуи из кожаных лепестков. Но и молодые дизайнеры тоже не отстают в авангардном запале: Мария Чен создала реплику костюма Елизаветинской эпохи с прорезями на пышных рукавах – сквозь шикарно-драные прорехи проглядывает полосатая рубашка, а Ноки сделал «деконструктивное» платье, обыгрывающее красно-белую эмблематику кока-колы. Однако этот символ глобализма испещрен декоративными дырками и как будто «расползается» на глазах – уж что-что, а в проамериканских настроениях Новых британцев заподозрить трудно.
Можно ли свести современный дендизм к этим шести типам? Разумеется, нет – вариантов на самом деле множество, но примечательно, что они все исходят из Англии – страны традиций, где, в частности, есть замечательная традиция нарушать традиции. Диктат здравого смысла требует для противовеса толику абсурда, отсюда и лимерики, и английская культура эксцентрики и розыгрышей. И в нынешнем британском дендизме нередко ощутим тот же тонкий налет иронии, что и в модных сатирах XIX века.
Знакомьтесь: дизайнер Марк Пауэлл
В разделе «Celebrity Tailor» внимание зрителей неизменно привлекал черный костюм Марка Пауэлла. Самые проницательные наблюдатели догадывались, что хитро скроенный пиджак – на самом деле накидка с «ложными» рукавами. Это типичный трюк Марка Пауэлла, обожающего поиграть с современными формами, заимствуя исторические детали. Вот и в этом ансамбле он дал собственный вариант накидки «альмавива» XIX столетия, снабдив ее по бокам обманными швами, чтобы создать иллюзию рукавов.
Фирма Пауэлла располагается в лондонском районе Сохо, и это говорит о многом. Портновскую традицию Сэвил Роу Марк считает слишком элитарной и консервативной, предпочитая более современный и демократичный стиль. Среди его клиентов не только знаменитости-мужчины – Джордж Клуни, Харрисон Форд, Дэвид Боуи, Мик Джаггер, Брайан Ферри, Джордж Майкл, – но и женщины: Наоми Кэмпбелл, Бьянка Джаггер.
Делая женские костюмы, Пауэлл смело нарушает патриархальный устав Сэвил Роу. Помимо этого он посягнул на другую неписаную заповедь – ручное шитье. На костюмах Марка основные швы – машинные, и только ряд деталей выполнен вручную: отделка лацканов и обметка петель. Пауэлл считает, что надо идти в ногу со временем – помимо фирменных bespoke suits у него есть линия готовых костюмов «ready to wear», правда, тоже не дешевая: цены от 1500 фунтов стерлингов.
Пауэлл начал свою карьеру в середине 1980-х годов, открыв магазин в Сохо, и сразу занял уникальную нишу в секторе люксовой одежды, заполняя вакантный промежуток между классикой и уличной модой. Его коронный прием – «разбавить» традиционный костюм историческими деталями. Он возродил ансамбль с широкими оксфордскими брюками («oxford bag» trousers) 20-х годов, а острые лацканы на его пиджаках восходят к образу гангстера в фильмах 30-х. Иронические варианты «гангстерского шика» постоянно возникают в коллекциях Пауэлла – это его любимый лейтмотив. А для дам Пауэлл нередко шьет фрачные ансамбли из твидов, умело модифицируя классический крой под женскую фигуру.
В особом фаворе у Марка Пауэлла манжеты: он первый придумал «половинный» манжет, который охватывает только половину запястья. Столь же оригинальны его «плоские» пиджачные манжеты на двух пуговицах. Кроме того, именно Марк в свое время стал экспериментировать с нетрадиционными яркими цветами в классических костюмах – сейчас этот прием подхватил и вовсю использует его молодой конкурент Освальд Боатенг.
Марк известен тем, что предлагает своим клиентам «total look» – возможность целостного стиля с головы до пят. Помимо костюмов его фирма выпускает рубашки и аксессуары, а обувь изготовляется по дизайну Пауэлла у Берлути. Клиенты Пауэлла обычно получают в качестве «бонуса» консультацию по имиджу.
Сам дизайнер, как правило, появляется на публике в собственных костюмах, с полным комплектом аксессуаров, включая часы на цепочке. Под настроение может щеголять в цилиндре. В самых неформальных ситуациях он поддевает тишотку вместо рубашки под костюмный пиджак, но джинсы никогда не носит – это программная установка. «Настоящий парадный костюм создает не только стиль, но и приподнятое настроение, а хорошо сшитый костюм – наилучший способ подчеркнуть индивидуальность» – таковы принципы Марка Пауэлла.
Костюм для куратора
Главный куратор выставки – Кристофер Бруард (Christopher Breward), сотрудник музея Виктории и Альберта, автор нескольких книг[1145]. Кристофер – настоящий лондонский денди, одевается всегда с иголочки, с истинно английским шиком.
На вернисаже в Москве Кристофер щеголял в новом костюме, который был сшит специально для выставки.
У этого серого костюма – особая история. Кураторы хотели продемонстрировать, как в современной британской культуре эксперименты молодых дизайнеров сочетаются с солидной традицией портновского искусства. Для этого был приглашен Александр Маккуин, который должен был сшить костюм в сотрудничестве с портными одной из старейших фирм Сэвил Роу – Huntsman, основанной в 1849 году. Костюмы от Huntsman отличает приталенный силуэт, акцентированная линия плеч, одна пуговица на пиджаке. Обычно использовались толстые твиды, поскольку изначально фирма специализировалась на одежде для охоты и верховой езды – правильный охотничий пиджак Huntsman должен «стоять», то есть держаться за счет суровой ткани и жесткой формы.
Однако с самого начала возникла необычная проблема: в Huntsman спросили: «Кто будет клиентом?» Дело в том, что на Сэвил Роу костюмы шьются исключительно на заказ: это и есть знаменитые «custommade» или «bespoke suit» – то есть готовых костюмов по стандартным размерам попросту не делают. Поэтому требовался конкретный клиент, каковым с радостью согласился стать Кристофер. Условия договора были таковы: костюм шьется за счет Британского Совета, Кристофер появляется в нем на вернисаже, затем костюм возвращается в экспозицию и путешествует вместе с выставкой, а после закрытия поступает в личную собственность куратора.
Выбор Александра Маккуина в качестве дизайнера может показаться странным, поскольку он специализируется на женской одежде. Однако в период ученичества Маккуин два года стажировался именно на Сэвил Роу, где и освоил азы портновского мастерства. Маккуин легко согласился на необычное предложение – сотрудничество с Huntsman предоставляло ему хороший шанс предстать перед своими почитателями в новом амплуа, да и для Huntsman вся эта затея тоже служила неплохой рекламой. Сотрудничество молодого, но уже именитого дизайнера (Маккуин несколько лет работал для Живанши) с патриархами дало интересный результат: костюм сохранил общий стиль Huntsman, но в более «мягком» варианте – приталенный силуэт, одна пуговица, однако при этом более длинный, чем обычно, пиджак и тонкая шерстяная ткань (серый материал в клетку «Принц Уэльский»). В итоге получился элегантный костюм «с изюминкой» – классический и в то же время неуловимо современный.
Потребовались три примерки, и Кристофер снимал на видео каждый этап, решив максимально воспользоваться удачным случаем проникнуть в святая святых Сэвил Роу. Антропологи называют этот вид работы «field work» – полевые исследования. Можно не сомневаться, что в будущих книгах Кристофера читатели увидят картинки – кадры с этих примерок.
В первый раз обычно очень тщательно снимают мерки и выясняют особенности фигуры заказчика. В таких случаях на Сэвил Роу всегда применяют тонкие хитрости, чтобы костюм хорошо смотрелся: подкладывают незаметные толщинки, бортовку, корректируя силуэт. В результате всех усилий костюм, сшитый на заказ, должен сам «строить» идеальное тело. Я спросила Кристофера, как он чувствует себя в новом костюме. Он ответил: «It’s like an armour» – «это как броня». Значит, этот костюм дает реальное чувство защищенности, как латы или панцирь, – тело спрятано внутри идеальнонепроницаемой оболочки, что обеспечивает чувство уверенности, владения ситуацией.
Однако насколько такое ощущение отвечает потребностям клиента? Если бы заказчиком был бизнесмен или политик, вероятно, о лучшем нельзя было бы и мечтать. Но личные вкусы Кристофера несколько иные – он любит костюмы на трех пуговицах, и ему не слишком нравится удлиненный силуэт; словом, для куратора-денди маккуиновский костюм недостаточно «незаметный» (приглушенный – «subdued») и посему в дальнейшем будет использоваться в основном для клубных выходов.
Ближе к концу вернисажа Кристофер внезапно исчез и затем появился в джинсах и в своем обычном темно-синем пиджаке в полоску, в котором я его уже не раз видела на конференциях. В этом пиджаке он и давал интервью для телевидения, объясняя, что англичане устали от засилья готовых костюмов и настал период более индивидуализированной одежды, надо только грамотно экспериментировать со стилем. Так британский дендизм оказался на руку современным модникам, поощряя небесполезное искусство – тренинг внутренней свободы.
Петли на рукаве костюма, сшитого на заказ, расположены ближе к краю рукава, а пуговицы соприкасаются между собой
Петли на рукаве обычного костюма расположены дальше от края рукава. Пуговицы не соприкасаются
Денди: исчезающий вид
Дендизм подобен закату солнца: как и гаснущее светило, он великолепен, лишен тепла и исполнен меланхолии.
Ш. БодлерКого, положа руку на сердце, можно назвать современными денди? Уж сколько всего было сказано о гордыне лансеров, харизматических бабочках, надменно-уязвимых наследниках Бо Браммелла…
Лидер моды; английский джентльмен; адепт минимализма в костюме; мастер светского общения, порой играющий на грани фола; фланер; фанат чистоты; эстет; знаток парфюмерии – каждый образ денди манил обещанием ясности. И все равно всякий раз этот вопрос застает врасплох – несмотря на свою обманчивую простоту.
Сейчас, говоря «денди», чаще всего подразумевают просто «стильного человека», или, как говорят англичане, «cool». Но что такое «стильность»? Она может выражаться и в общем облике, и в умении обставить дом, хотя наиболее устойчивым параметром для нас все-таки традиционно остается манера одеваться. Сама формулировка вопроса оказывается равнозначной вопросу: «Кто из современных известных мужчин элегантно одевается или отличается индивидуальным стилем в одежде?»
Казалось бы, надежный критерий, однако на самом деле это весьма узкий взгляд, исключающий из дендизма и кодекс поведения, и телесную гигиену, и иронию – по существу, добрую половину дендистской программы XIX столетия. Такой подход возобладал в XX веке, сделавшем одежду главным источником знаковой информации. И, наверное, для начала стоит не абстрагироваться от отдельных личностей, а внимательно взглянуть на ряды «претендентов».
Граф Бони де Кастеллане. 1923 г.
В первой половине XX века еще можно без особых натяжек указать на людей, продолжающих традицию дендизма: писатели Марсель Пруст, Рональд Фирбенк и Владимир Набоков; граф Бони де Кастеллане; принц Уэльский (будущий король Эдуард VIII). Из плеяды наших старых актеров культурный типаж денди представляли Анатолий Кторов и Павел Массальский. Из женщин – Зинаида Гиппиус, Коко Шанель, Марлен Дитрих.
Долгое время в Англии первейшим денди считался Квентин Крисп[1146] (1908–1999). Эстет, писатель, журналист, он был невероятно популярен: его восковую фигуру поместили в музей мадам Тюссо. Говорили, что при всем разнообразии занятий Квентина главное, что он создал, – это свой собственный стиль жизни, ни на кого не похожий: ироничный дендизм с сильным налетом кэмпа. Его остроумные афоризмы цитировали все, а телепрограмма «Вечер с Квентином Криспом» неизменно удерживала рекордный рейтинг.
В художественной литературе наиболее жизнеспособным оказался тип денди-эстета, наследник Оскара Уайльда. Такой персонаж представлен в образе Антони Бланша на страницах романа Ивлина Во «Возвращение в Брайдсхед» (1945): «Когда мы приступили к ракам под ньюбургским соусом, появился последний гость. “Мой милый, – протянул он. – Я не мог вырваться раньше. Я обедал со своим н-н-немыслимым н-н-наставником. Он нашел весьма странным, что я ухожу. Я сказал, что должен переодеться перед ф-ф-футболом”. Он был высок, тонок, довольно смугл, с огромными влажными глазами. Мы все носили грубошерстные костюмы и башмаки на толстой подошве, на нем был облегающий шоколадный в яркую белую полоску пиджак, замшевые туфли, большой галстук-бабочка, и, входя, он стягивал ярко-желтые замшевые перчатки; полугалл, полуянки, еще, быть может, полуеврей; личность полностью экзотическая. Это был – мне не нужно было его представлять – Антони Бланш, главный оксфордский эстет, притча во языцех от Саруэлла до Сомервилла. Мне много раз на улице показывали его, когда он вышагивал своей павлиньей поступью, мне приходилось слышать “У Джорджа” его голос, бросающий вызов условностям, и теперь, встретив его в очарованном кругу Себастьяна, я с жадностью поглощал его, точно вкусное, изысканное блюдо»[1147].
Интересно, что реальным прототипом образа Антони Бланша послужил российский художник-эмигрант Роман Тыртов, известный на Западе как Эрте. Эрте рисовал для модных журналов, сочинял театральные наряды и был эстетом до мозга костей. Он любил носить костюмы из серой ткани в тончайшую двойную красную полоску, однобортный пиджак на двух пуговицах с широкими лацканами, серый шелковый галстук с зигзагообразным вишневым узором был на тон светлее костюма, на ногах красовались оксфордские туфли. Последователей Эрте, умело продолжающих традицию эстетского стиля, можно назвать немало – это до сих пор достаточно узнаваемый богемный тип.
Но чем ближе к современности, тем проблематичнее становится ориентация по «типам». Среди денди последних десятилетий, если выбирать по весьма приблизительному параметру «cool», можно назвать имена столь разных по стилю и по занятиям людей, как фотограф Сесил Битон, драматург Ноэл Кауард, писатель Том Вулф, музыкант Эрик Клэптон, принц Чарльз, певица Ани Леннокс, Дэвид Боуи… Самыми «дендистскими» кутюрье считаются, безусловно, Армани и Черрути, но это вовсе не означает, что перечисленные знаменитости предпочитают именно эти марки…
Из модельеров репутацию денди имеют Карл Лагерфельд и Джон Гальяно. Карл Лагерфельд явно подает себя на публике как денди. Его манеры, аксессуары (веер и темные очки), недавнее резкое похудение, парадоксальные высказывания – все это выстраивает весьма структурный образ. Символично, что он стоит во главе Дома Шанель. Вообще мужчины, связанные с индустрией моды или модной прессой, довольно часто ассоциируют себя с денди.
Американский писатель-денди Том Вулф
В Америке среди модных кумиров все чаще называют два имени: Хэмиш Боулз и Андре Леон Тэлли. Чернокожий модник Андре Леон Тэлли повсеместно знаменит, он – нынешний редактор американского «Vogue», ведущий популярной рубрики Stylefax. В свое время ему покровительствовали Энди Уорхол и Диана Вриланд. Тэлли часто появляется на телеэкранах, комментируя показы мод. Обычно он произносит свои экспертные реплики, сидя в удобном кресле, в небрежно накинутом наполеоновском сюртуке с воротником в стиле Элвиса Пресли. «Неподражаемый» Тэлли то эпатирует публику своими длинными шубами от Фенди, то, напротив, демонстрирует классическую элегантность в строгом с иголочки темно-синем полосатом костюме. На показах в Милане он неизменно присутствует в первом ряду. Журналисты прозвали его «Статуя свободы» в моде от кутюр.
Хэмиш Боулз – редактор раздела «Стиль» американского «Vogue» с 1992 года, до этого работал в Harper’s and Queen, был куратором выставки о Джеки Кеннеди в Метрополитен-музее. Известен также как коллекционер старинной одежды, в его собрании вещи vintage от Шанель до Ив Сен-Лорана. Как персонаж нью-йоркской модной тусовки прославился экстравагантным стилем и пристрастием к ярким цветовым сочетаниям.
Сейчас в Англии репутацию денди имеет Стивен Кэллоуэй – искусствовед, автор книг о барокко, биографий Оскара Уайльда и Обри Бердслея. В 1998 году он курировал пользовавшуюся феноменальным успехом ретроспективную выставку Обри Бердслея в музее Виктории и Альберта. Особая страсть Кэллоуэя – мода конца XIX столетия. Будучи обладателем обширной коллекции антикварной одежды, он любит иногда появляться на публике в костюмах этого времени. Весь его облик, вплоть до ван-дейковской бородки, выдержан в духе эстета конца века. Правда, поскольку многие вещи из его бесценного собрания по-музейному хрупки, он заказывает их копии театральному костюмеру и порой для выхода в свет надевает «дубликаты». Нередко Стивена приглашают в качестве консультанта по костюмам и этикету – в этом амплуа «etiquette advisor» он выступал при съемках фильмов «Эмма», «Портрет леди», «Оскар и Люцинда». Личный стиль Стивена Кэллоуэя весь проникнут духом ретро, а это одна из классических дендистских поз – подчеркнутое отстранение от «вульгарной» современности.
Можно и дальше перечислять кандидатов на титул «современного денди», однако вдумчивый читатель, наверное, уже догадался, что количество частных примеров не помогает перейти на качественно новый уровень рассуждений. Для этого лучше поставить более общий вопрос.
Возможен ли сейчас дендизм как образ жизни?
Современные денди, если они серьезно претендуют на это «звание», должны прежде всего осознать, что подлинный дендизм – это стиль жизни. Денди – мастер, который умеет придавать завершенную форму собственной жизни. Но чтобы оценить эту форму, нужен зрелый социум, иначе ее эстетический потенциал не будет адекватно прочитан.
В XIX веке, как мы видели, дендизм изначально подразумевает определенный досуг, ведь денди – «герой праздной элегантности». Поэтому больше всего денди среди аристократов и обеспеченных джентльменов, представителей свободных творческих профессий. Дендистский образ жизни, сформировавшийся в XIX веке, – постоянная тренировка в искусстве свободного времяпрепровождения. Перечислим вкратце, о чем уже шла речь в нашей книге. Это посещение клубов, балов и салонов, оперы, фланирование по городским улицам, умение танцевать, верховая езда, карточные игры, гурманство, осведомленность в литературных и музыкальных новинках. Немаловажна и эрудиция в определенных престижных областях, в которых денди часто проявляет себя не только как знаток, но и как коллекционер: антикварная мебель и старинные восточные ковры, марки французских вин, сорта дорогих сигар, табакерки, часы.
Труден, но непременно обязателен дендистский кодекс поведения – холодная любезность и иронические выпады, принцип невозмутимости «ничему не удивляться», искусство опровергать ожидания и мгновенно производить впечатление, дозированный эпатаж, неторопливость как стиль прогулки, танца и одевания.
Наконец, нельзя забыть о дендистской телесности: безупречная гигиена, выхоленность, спортивность (что не распространяется только на изнеженных эстетов), привычная элегантность движений на светских раутах (вспомним, как герцогиня Германтская изящно берет под руку Марселя), искусство танцев и верховой езды.
Даже простой перечень этих основных аспектов дендизма уже наводит на мысль, что сейчас воспроизвести целиком весь этот комплекс невозможно – слишком изменилась наша жизнь. Прежде всего большинство современных щеголей вынуждены работать и имеют ограниченное время для изящного досуга. А на работе дендистский стиль может проявить себя главным образом через костюм – отсюда и популярное ограниченное понимание денди просто как со вкусом одетого человека.
Нынешняя постмодернистская эпоха диктует ускоренные темпы жизни и постоянное переключение ролей. Тут как раз приходит на помощь универсальное хамелеонство денди. Вряд ли разумно, – даже если вообразить, что некто поставит себе задачу быть денди абсолютно во всем, – выдерживать роль 24 часа в сутки. Скорее для современного щеголя окажется более естественным перевоплощаться в денди в отдельных жанрах, по ситуации: допустим, поиграть в денди XIX века во время вечернего выхода в смокинге или во фраке, тщательно продумав весь ансамбль (это будет как цитата из классики в постмодернистском романе), или проявить дендистскую эрудицию в коллекционировании антикварных вещиц. Другими поводами блеснуть дендистскими навыками будут дерзкое остроумие на светском приеме или авангардно-минималистский дизайн в загородном доме. Наконец, можно вспомнить и такое старинное дендистское амплуа, как «распорядитель пира», и вообразить себя новым Алкивиадом…
Виртуозное хамелеонство как будто облегчает вживание в роль, но здесь важно не растерять сознание иллюзорности полученного эффекта. Вспомним бодлеровскую сентенцию про великолепие гаснущего светила – в таком ракурсе дендизм XIX века и впрямь предстает как особый атмосферный эффект: конденсат цветного мерцания в воздухе, нежная редкостная радуга, растворяющаяся быстро и бесследно. И тогда неизбежно придется смириться с мыслью, что в условиях нынешнего меркантилизма и брутальной стандартизации денди как исторический тип обречен на исчезновение. Удержаться от этого неутешительного вывода позволяет только жизнеспособность культурного кода дендизма XIX столетия. В нем, как это ни парадоксально, уже было заложено все необходимое для воспроизводства стиля.
Технологии дендизма
В практике дендизма XIX века (включая и стиль одежды, и образ жизни, и кодекс чести) были отработаны определенные технологии, обеспечивающие бесперебойную работу дендистского стиля, даже в виде отдельных жанровых элементов. Можно назвать четыре наиболее важных технологии.
1) Дендизм возник на волне модернизации культуры, когда в обществе распались фиксированные профессиональные и социальные роли и условием успеха стала мобильность, способность адаптироваться и переключаться. Дендистский принцип хамелеонства узаконивал смену масок и облегчал путь наверх для амбициозных молодых людей (прототипов нынешних «яппи»), а стратегии эффектной саморекламы в духе графа д’Орсе до сих пор составляют основу любой грамотной кампании public relations. Внутренняя связь дендизма с обществом модерна проявляется в том, что и поныне дендизм неотделим от современной городской культуры со всеми ее институтами – кафе, рекламой, глянцевыми журналами, шоппингом.
2) Другой механизм из этой серии – умение держать дистанцию, подчеркивающую достоинство. Это базовое свойство лидера моды. Денди – маргинал, который может занять позицию в центре, но никогда не будет смешиваться с массами. В максимальной степени эта позиция выражена в кодексе виртуального аристократизма. Денди всегда умело подчеркивает свою принадлежность к элитарному меньшинству, будь то закрытый круг аристократии или художественная богема. Отсюда – холодная вежливость, которая мгновенно может обернуться иронией. Недоступность, снобизм, поэтика отказа – инструменты сохранения отчуждающей дистанции: Германты далеко не сразу пригласили юного Марселя к себе в гости, а Браммелл виртуозно «не замечал» неподходящих людей. Аналогичным образом нельзя «быстренько» подчитать Деррида, чтобы пофасонить на интеллектуальной тусовке: придется начать с Гуссерля и Хайдеггера.
Бернар Буте де Монвель Джентльмен выбирает галстук Ил. из «Gazette du bon ton». 1912 г.
С этим связана программная критика вульгарности как, во-первых, общедоступности и, во-вторых, желания произвести впечатление слишком грубыми прямыми средствами. Пристрастие к пословицам и ярким тонам в одежде (атрибут вульгарности по Честерфилду) сродни лобовой рекламе, а в наше время намного эффективнее косвенная реклама.
3) Дендизм освоил стратегию объективации личности, превращения индивидуального стиля в товар. Прежде всего эта стратегия связана с особым типом визуализации: денди умеет смотреть и умеет выдерживать чужой взгляд. Он даже специально настраивается на этот объективирующий взгляд, создавая ситуации «to be looked at» (чтобы на него смотрели) – на прогулке, на балу, в гостиной, сидя у окна клуба. Неторопливость походки и «неподвижность» лица – свидетельство владения собой и личного достоинства: дендизм – это особая телесная медитация, требующая «сбавить темп», зафиксировать позу. Тело денди под одеждой предназначено для «проникающего взгляда» и готово достойно выдержать его – для этого существуют техники гигиены и спорта. Но самое главное, конечно, демонстрация личного стиля, будь то костюм или оригинальные аксессуары. И даже не столько одежда, сколько умение непринужденно держаться в ней. У Оскара Уайльда эстетский костюм уже на полпути к эстетике кэмпа – это стиль, намеренно созданный для подражания.
4) Эстетический минимализм. Впервые заявленный английским денди Джорджем Браммеллом как принцип «заметной незаметности в одежде», минимализм оказался универсальным критерием сдержанной выразительности, когда на первый план выходит функциональная конструкция, геометрия базовой формы, лишенной декоративности. Изначально это можно сравнить с аскетическим искусством отказа и отчужденного дистанцирования в светской жизни, перенесенным в сферу эстетики. Риторический эквивалент минимализма – жанр афоризма. В культуре XX века минимализм торжествует: достаточно вспомнить черно-белую фотографию, конструктивизм в архитектуре, кубизм в живописи.
Дендистский стиль в наше время
Дендистский стиль костюма XIX века держался на трех китах:
1) принцип «заметной незаметности»;
2) знаковая деталь;
3) продуманная небрежность для контрапункта.
Эти эстетические принципы сейчас стали классикой, но и в ее пределах достаточно четко прорисованы различия. Столицей классической мужской моды остается Лондон: костюмы, сшитые на Сэвил Роу, по-прежнему актуальны для консервативно ориентированных клиентов, желающих выглядеть по-джентльменски. Костюмы Ив Сен-Лоран, Бриони и Честер Барри повсеместно предпочитают уверенные в себе элегантные бизнесмены. Интеллектуалы, обладающие «sophisticated taste», обычно выбирают бельгийцев или делают ставку на японский минимализм, выбирая вещи Йоджи Ямамото. Модные тусовщики ныне предпочитают заказывать костюмы у Эди Слимана (Диор) или у Николя Гескьера (Баленсиага). А вот фирмы Хьюго Босс и Ральф Лорен скорее ориентированы на несколько простоватый, скорее спортивный вкус менеджеров средней руки.
Отдельные приемы из арсенала денди периодически всплывают в моде нашего времени. Так, во второй половине 1980-х завоевал популярность стиль небрежных деталей. Стало модным допускать в продуманном ансамбле нарочитую ошибку: отсутствующую пуговицу на пиджаке, произвольно завязанный галстук, не согласованный по цвету платок. Мужчины начали появляться на публике с трехдневной растительностью на лице, демонстрируя налет легкой небрежности в облике.
Порой индивидуальные варианты дендистского стиля рождались из подражания героям фильмов, благо дендизм процветал на киноэкране: безупречные костюмы Марлона Брандо и Аль Пачино в «Крестном отце» вошли в историю как пример мафиозного шика, а Роберт де Ниро в фильме «Казино» продемонстрировал элегантность самого высокого полета. И, конечно, звание денди готов отстаивать с пистолетом в руке Джеймс Бонд. Знаменитый агент 007 с самого начала своих приключений появлялся на экране в костюмах и смокингах от Brioni, шелковых галстуках Ralph Lauren, носил ботинки Church и дипломат Samsonite, а в серии «Золотой глаз» парил в воздухе на летающем автомобиле Aston Martin DBS.
Разнообразие этих тенденций не позволяет говорить о современном дендизме как о едином течении. Однако не так давно на арене появился новый тип молодого человека, который на первый взгляд вызывает ассоциации с денди.
Метросексуалы: новые денди?
В 2002 году журналист Марк Симпсон обнаружил новый вид современных мужчин. Он назвал их «метросексуалами». Что же это за таинственные существа со странным названием? Первая часть термина образована от слова «метрополия»[1148], вторая указывает на особый тип ориентации столичного жителя. Классический метросексуал, по мнению Симпсона, «молодой человек с приличным доходом, живущий в столице (метрополии) или рядом, поскольку именно там расположены все лучшие магазины, клубы, спортивные центры и салоныкрасоты. Он может быть геем, гетеросексуалом или бисексуалом, но это совершенно неважно, так как его единственная сексуальная ориентация – любовь к самому себе и поиск наслаждений для себя»[1149].
Итак, метросексуал – современный модник, его характерные черты – нарциссизм, связь с городской культурой потребления и по-новому определяемая сексуальная ориентация. Именно этот набор признаков был свойственен и денди XIX века – вспомним тщеславие Браммелла и консьюмеризм графа д’Орсе, или как Барбе д’Оревильи писал о денди-андрогинах, натурах «неопределенного духовного пола».
В нынешней культуре старые разграничения «гей»/«гетеросексуал» оказываются слишком узкими для этого феномена, и в англоязычной прессе замелькали непривычные формулировки: «straight gay», «almost gay», «post-gay», – журналисты искали ключ к новому явлению. Масла в огонь подлил фильм «Секс в большом городе». Его героинь критики сразу зачислили в разряд «метросексуалок» – их зацикленность на моде, активная позиция в отношениях с кавалерами, вечная погоня за городскими удовольствиями – все это заставляло пересмотреть старые клише «женственности» и «мужественности».
Перечисляя современных метросексуалов, обычно называют имена Джастина Тимберлейка, Бена Аффлека, Брэда Питта и Хью Джекмена, но самым ярким примером остается, конечно же, английский футболист Дэвид Бекхэм, не устающий поражать своих поклонников новыми стрижками, серьгами, розовым маникюром и пристрастием к экстравагантным нарядам. Любая вещь, рекламируемая им, сразу становится волшебной приманкой, будь то темные очки Police, телефоны Vodafone или японская косметика TBC. Даже в сугубо патриархальном мире британского футбола болельщики прощают ему все «отклонения» в сторону женственности, не говоря уж о прочих «звездных» выкрутасах.
Дэвиду, кажется, позволено все: он может появиться на публике в индонезийском саронге или сняться в обнаженном виде на обложке журнала «Esquire» – фанаты только пуще приходят в восторг. «Бекс» – кумир и для женщин, и для геев, и для мужчин-«натуралов», великодушно предоставляющий всем «равные возможности для восхищения». Несмотря на свой образ идеального семьянина, Бекхэм остается универсальным объектом желания для поклонниц и поклонников. Его личный бренд оказался сильнее традиционных рамок.
Но более всего способствовали внедрению метросексуальности в массы, пожалуй, даже не отдельные знаменитости, а недавние фильмы: помимо героинь «Секса в большом городе» в этот ряд, безусловно, можно поставить Патрика из «Американского психопата», персонажей «Бойцовского клуба» и даже «Человека-паука».
В практическом плане «метросексуальность» оказалась удобным понятием прежде всего для «пользователей» – городских модников. Безоценочная нейтральность и концептуальная емкость свежей «этикетки» помогли многим мужчинам внутренне раскрепоститься, избавившисьот привычных страхов. Новоявленные «метросексуалы» признавались, к примеру, что они уже не боятся прослыть «голубыми» только потому, что хорошо разбираются в моде и средствах ухода за телом.
Настоящий метросексуал и впрямь серьезно интересуется своим имиджем, регулярно покупает новые марки кремов и шампуней, посещает салон красоты и нередко делает педикюр. Желая выглядеть моложе, многие мужчины даже соглашаются на пластические операции. Другие пекутся о фигуре, занимаясь с персональными тренерами в спортивных клубах.
Забота о внешности вознаграждается: метросексуал пользуется популярностью у дам. Его мнение высоко котируется – он разбирается в нарядах, может с первого взгляда отличить вещи из последней коллекции. С ним приятно ходить по магазинам, он может дать дельный совет при покупке, всегда заметит удачное приобретение и сделает комплимент. К тому же метросексуал обожает обсуждать покупки и новые модные городские места, делиться впечатлениями и информацией. В довершение всего он любит готовить и разбирается в основах здорового питания – настоящая находка для современных бизнес-леди, слишком занятых, чтобы простаивать у плиты.
Марк Симпсон проницательно отметил, что тип метросексуала – продукт экономического развития. Современное общество потребления нуждается в новых покупателях, и задача как производителей, так и рекламодателей – привести в магазины мужчин, привить им вкус к шоппингу. Таким образом к рыночным механизмам подключается мощный отряд потребителей. Если женщины и подростки уже давно попали в «сети» рыночной экономики, то мужчины до сих пор удерживали свои позиции. По традиции мужчина зарабатывал, а женщина тратила. В магазинах мужчина терялся, скучал, просился наружу «подышать свежим воздухом». Сплошь и рядом жены покупали не только вещи для себя и «в дом», но и выбирали дезодоранты и нижнее белье для своих супругов.
Раньше, чтобы приобрести, допустим, мужской крем по уходу за лицом «Clinique», продвинутый покупатель, мучительно краснея, должен был идти в «женский» сектор косметики. Теперь, когда многие фирмы выпускают целые линии мужских косметических средств, потенциальный клиент уверенно направляется за нужным товаром. Более того: он руководствуется рекламой и общественным мнением, а стимулом для покупки нередко служат внушенные комплексы, раньше беспокоившие только женщин, – боязнь старения, борьба с целлюлитом и полнотой. Метросексуал любит читать глянцевые журналы – «FHM», «GQ», «Maxim», «The Face», «Details», «Arena», «Esquire», причем его тренированный взгляд мгновенно считывает нужную информацию с журнальных страниц, отмечая новые тенденции в моде.
Метросексуальный взгляд, исполненный потребительского желания, уравнивает и мужчин, и женщин. Недаром одно из определенийметросексуала на сайте Wordspy гласит: «мужчина-натурал, который не подавляет в себе женственное начало».
Нынешний метросексуал – просвещенный и разборчивый потребитель: в магазинах таких называют «prosumer»[1150]. В одежде он частенько предпочитает Comme des garcons, Costume National, Paul Smith, Dsquared, Duckie Brown; в обуви – Alden, Bruno Magli, Church’s; продукты для тела фирмы Kiehl, шьет рубашки на заказ, но его интересы не сводятся к миру вещей. «Метросексуальность – это не только гель для волос, – пишет Karru, один из участников дискуссии на сайте Zephoria, – конечно, все метросексуалы разные, но, если искать нечто общее, мы – хорошо образованные, любящие свою работу профессионалы, мы ценим нюансы и детали, нас интересует все новое в жизни – в том числе продукты и вещи… Нам свойственна вдумчивость…»[1151] И впрямь, многие метросексуалы любят оперу, йогу, современный дизайн – словом, этих «вдумчивых» модников XXI века можно видеть не только в магазинах, но и в театрах, и в картинных галереях. Многие из них – продвинутые пользователи Интернета и могут часами фланировать в Сети.
Метросексуал – дитя городской культуры: в этом персонаже наиболее ярко срабатывает «городская» составляющая дендизма, связанная с обществом модерна. Это первая из перечисленных выше технологий воспроизводства дендизма, основное, что объединяет оба типа. Однако чем же отличается метросексуал от денди? На наш взгляд, метросексуал более склонен к конформизму, ему не по силам быть настоящим лидером моды. Денди как подлинный лансёр опережает общественный вкус и сам задает стиль, а метросексуал согласен следовать сложившемуся на данный момент канону. Его компромиссный нрав ориентирован на оптимальный выбор среди предлагаемого, но отнюдь не на разработку собственных норм. Метросексуальность – массовое явление, в то время как дендизм – удел одиночек. К тому же метросексуал вряд ли рискнет применять на практике дендистское искусство «нравиться не нравясь» – он слишком озабочен тем, чтобы произвести на всех приятное впечатление, в духе мопассановского «bel ami». Нонконформистский потенциал дендизма ему чужд – так что знак равенства между этими двумя типами ставить пока рано.
Кадровые резервы дендизма: женщины, интеллектуалы, аристократы
Дамы-денди
«Женщина – противоположность денди», – говорил Бодлер. Эта классическая фраза объясняется тем, что отношение к женщинам у многих денди XIX века, особенно у Бодлера, связано с образом женщины-куртизанки. Она могла быть идеальной музой, любовницей, но не денди. Противопоставление женщины и денди у Бодлера строилось через ряд контрастных понятий: «женское» ассоциировалось с «природой», «теплотой», «непосредственностью», в то время как дендизм – с «искусственностью», «холодностью», «сдержанностью». Однако на рубеже XIX–XX веков появляется новый тип женщины. Это – эмансипированная дама, которая «присваивает» себе дендистские манеры и эстетические принципы. Сара Бернар, Ромэн Брукс, Уна Троубридж, Марлен Дитрих – всех этих женщин можно без особых натяжек назвать денди, поскольку они владели культурным языком дендизма и, когда хотели, свободно использовали его для своих самореализаций. В этом случае известная способность женщин к смене ролей и жизненным перевоплощениям дополнительно опиралась на принцип дендистского хамелеонства.
С наибольшим правом среди дам претендует на роль денди Коко Шанель – потому что она не просто подавала себя как денди, но и вручила всем женщинам достояние английской мужской моды, незаметный удобный костюм, ее «маленькое черное платье» для женщин – аналог браммелловского черного фрака по экономии выразительных средств.
Интеллектуальный дендизм
А существует ли дендизм в сфере гуманитарной мысли? Если в XIX веке мы выделяли особые «дендистские» жанры – афоризм, «модный роман», краткий трактат, то в наше время, безусловно, уместно говорить об интеллектуальном дендизме как об особом стиле мышления и письма. Замечательный пример денди-интеллектуала – французский философ Жак Деррида (1930–2004), который всегда поражал своих поклонников неожиданными темами и парадоксальными трактовками. Свою книгу «Давать время» он начинает с высказывания мадам де Ментенон. «Король занимает все мое время, остальное я отдаю Сен-Сиру[1152], которому я желала бы отдавать все свое время»[1153]. Первая глава книги целиком посвящена толкованию этого странного тезиса в рамках концепции дара Марселя Мосса, после чего Деррида обращается к Бодлеру и пытается проанализировать описанный им случай, когда нищему подали милостыню фальшивыми монетами.
Тексты Деррида построены по принципу двойного сообщения – форма значит столько же, сколько и содержание. «Почтовая открытка» (1980) строится в жанре эпистол фиктивной возлюбленной и грандиозной переписки философов от Платона до Фрейда. В сочинении «Глас» (1974) текст был набран двумя колонками, в которых шли параллельные рассуждения о Гегеле и Жане Жене. Даже более традиционные по форме тексты Деррида всегда содержат каламбуры, этимологические игры и насыщены скрытыми аллюзиями. Можно сказать, что это современная эстетика «заметной незаметности»: на новичков они производят впечатление эзотерических, но доставляют удовольствие опытным читателям тонкими знаковыми деталями.
Аристократы на марше
Среди денди XX столетия часто называют монархов и членов королевской семьи: это английский король Эдуард VIII, испанский король Альфонс XII, принц Чарльз. Совсем недавно мировая пресса обсуждала случай, когда принц Чарльз продемонстрировал дендистскую невозмутимость. В Австралии во время его визита среди публики появился террорист, угрожая взрывом. Пока полиция обезвреживала террориста, принц Чарльз, не покидая своего места, хладнокровно поправлял манжеты рубашки. Личный дендизм как будто получает формальную завершенность, если он подкрепляется знатным происхождением. В русле аристократической традиции дендизм возвращается к своим культурным истокам: виртуальный аристократизм вновь становится буквальным.
Денди-аристократы не гонятся за модой: они сами воплощают ее. Они позволяют себе роскошь быть самими собой. В этом, наверное, и заключается самое главное в современном денди: индивидуализм, сопротивление массовидности и коллективности. Денди нашего времени не станет смотреть телевизор, а скорее сходит в оперу. Он по-прежнему боится скуки, но никогда не станет утомлять окружающих своей навязчивостью. И, наконец, он никогда не позволит себе пошлости и вульгарности – в этом смысле остается верным лаконичное определение Бодлера: «Денди антивульгарен». Напомним, что в свое время Джон Рескин определил вульгарность как недостаток впечатлительности. Нынешние денди, напротив, усиленно тренируют впечатлительность – «тонкую настройку», «fine tuning» в сфере чувств – отсюда внимание к деталям в одежде, гурманство, пристрастие к изысканным духам, коллекционирование редкостей. Дендизм по своей исторической функции авангарден – он призван сохранить культуру меньшинства, одиночек, которые не хотят смешиваться с толпой. Поэтому антивульгарность денди актуальна как никогда.
Так где же они, современные денди? – вправе спросить под конец утомленный читатель. Как видим, в реальности обнаружить настоящих денди не так просто. Зато в виртуальном пространстве, где у желающих куда больше возможностей структурно выстроить собственный образ, эта задача оказывается выполнимой. Любителям как теории, так и практики дендизма легко найти родственные души именно в Сети. Сейчас в Интернете есть немало сайтов для поклонников дендизма, где бесконечно уточняются определения, вывешиваются канонические тексты и обсуждаются последние новинки стиля[1154]. В Живом Журнале существует англоязычное сообщество «Refinement»[1155], посвященное элегантности. Члены этого сообщества – «денди, эстеты, фланеры и фиктивные аристократы» – с должной долей иронии предлагают на суд публики самые смелые варианты дендистского жизнетворчества.
Лорд Обри Вердслей[1156], к примеру, настойчиво и умело создает собирательный образ современного денди: его ник восходит, как легко догадаться, к Обри Бердслею, а в качестве своего портрета он выбрал изображение Робера де Монтескью. Среди его кумиров – Барбе д’Оревильи, Габриэль д’Аннунцио, Сальвадор Дали, Джон Барримор. Лорд Обри Вердслей выступает с программой «Дендизм в действии»: он – обладатель пятисот галстуков, периодически снимается в самых изысканных костюмах и размещает свои фотографии на сайте. Его «Музей дендизма» представляет виртуальную историю отдельных предметов гардероба – жилета, шляпы, туфель…
Другой активист сообщества ведет на своей домашней странице виртуальный «Альманах провинциального чудака». На страницах этого удивительного альманаха можно найти таблицы, иллюстрирующие «континуум дендизма и богемы», хитроумные схемы «гибридизации денди». Девиз хозяина – «Let’s get peculiar» (будем оригинальны), что стимулирует посетителей проявлять изобретательность – недаром среди членов сообщества «Refinement» можно найти и Невероятных щеголей (Incroyables), и поклонников Оскара Уайльда…
При изобилии ролевых ракурсов в современной культуре постмодерна изначально ясный и холодный контур денди, увы, фатально расплывается. Ведь подлинный дендизм – феномен эфемерный, выскальзывающий из сетей и словарей нашей прагматичной эпохи. Но игра продолжается, XXI первый век взыскует новых трансформаций, хотя без иронии говорить уже почти невозможно и вокруг каждого слова мерцают невидимые кавычки. Не зря же заметил в свое время Барбе д’Оревильи, что глубокие умы для темы дендизма недостаточно тонки, а тонкие натуры недостаточно глубоки.
Библиография: что почитать и посмотреть в Интернете
Источники на иностранных языках
Addison J. Selections from Addison's papers contributed to the Spectator. Oxford: Clarendon Press, 1925.
Austen J. Emma. L.: Penguin, 1985.
Baillie-Cochrane А., lord Lamington.In the days of the dandies.L.: 1890. Balzac H. Traité de la vie élégante. Presses Universitaires Blaise Pascal: CRLMC, 2000.
Barbey d’Aurevilly J. Du dandysme et de George Brummell. Un dandy d’avant les dandys // Barbey d’Aurevilly J. Oeuvres romanesques complètes. P.: Bibliothèque Pléiade, 1966. Vol. II. P. 667–733.
Beerbohm M. Dandies and dandies // The Works of Max Beerbohm.Albany, 1896.
Blanc Н. le. The Art of tying the cravat. London: 1827, 1828 // Late Georgian Costume: Mendocino, R.L. Shep, 1991. P.121–154.
Brummell G.B. Male and Female Costume. Grecian and Roman costume, British costume from the Roman invasion until 1822 and the principles of costume applied to the improved dress of the present day by Beau Brummell. Ed. Eleanor Parker. New York: Benjamin Blom publishers, 1932.
Bulwer-Lytton E. Godolphin. London, n.d.
Bulwer-Lytton E. Pelham, or adventures of a gentleman. L.: Kessinger, 1999.
Carlyle Th. Sartor Resartus. London and Glasgow, n.d.
Carlyle J.W. Count d’Orsay calls on Mrs. Carlyle // The portable Victorian reader. L.: Penguin, 1977. P. 20–22.
The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819.
Deriege F. Physiologie du lion. P.: 1841.
Disraeli B. Vivian Grey. L.: Longman’s, Green and Co., 1892.
Disraeli B. Henrietta Temple. New York: P. F. Collier, n.d.
Du Maurier G. Trilby. L.: Penguin, 1994.
Edgeworth M. Belinda. Oxford: Oxford U.P., 1994.
Egan P. Boxiana; or, Sketches of Ancient and Modern Pugilism, from the Days of the Renowned Broughton and Slack, to the Championship of Cribb. L., 1811–1813.
Egan P. Life in London, or Days and Nights of Jerry Hawthorne and his Elegant Friend Corinthian Tom, accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their Rambles and Sprees through the Metropolis. L., 1821. The Exclusives. New York: 1830, 2 vols.
Followers of fashion. Graphic satires from the Georgian period. Ed. Diana Donald. L.: Hayward gallery publishing, 2002.
Fouqué C. de la Motte. Geschichte der Moden 1785–1829. Berlin: Union, 1987.
Goede С. The Stranger in England. L., 1807.
Gronow R.H. Reminiscences of Captain Gronow being anecdotes of the camp, the court and the clubs at the close of the last war with France. L.: Smith, Elder and Co, 1862.
Hazlitt W. Essays. Selected and edited by Frank Carr. L.: Walter Scott, n.d.
Hazlitt W. Table-Talk.L., Toronto: W. Dent, 1908.
Hazlitt W. Brummelliana // Hazlitt W. The complete works: in 22 vol. New York: ed. P. Howe, 1934. Vol. 20. P. 152–154.
Jesse W. The life of George Brummell, Esq.: In 2 vol. L.: Saunders and Otley, 1844.
Lady Morgan. France en 1829–1830. P.: H.Fournier jeune, 2 vols. Late Georgian costume. Mendocino: R. L. Shep, 1991.
Life, high and low. By the author of «Fashion». L., 1819.
Montesquiou R. Les pas effacés. Mémoirs. P., 1923. Vol. 1–3.
Neckclothitania; or Tietania: being an essay on starches. By one of the cloth. L., 1818.
Newman J.H. What is a University? // Essays English and American. N.Y.: Collier, 1969.
Newman J.H. A definition of a gentleman // The portable Victorian reader / Ed. G. S. Haight. L.: Penguin, 1977. P. 464–468.
Piesse G.W.S. The Art of Perfumery, and the Methods of Obtaining the Odours of Plants. With Instructions for the Manufacture of Perfumes for the Handkerchief, Scented Powders, Odorous Vinegars, Dentifrices, Pomatums, Cosmetics, Perfumed Soap, etc. To Which is Added an Appendix on Preparing Artificial Fruit-Essences Etc. L.: 1855, Longman, Green, Roberts.
Raikes T. France since 1830. 2 vols. L., 1841.
Raisson H. Code de la toilette. Manuel complet d’élégance et d’hygiène. P., 1829.
Rilke R.M. Werke. Frankfurt am Main: Insel, 1959. Bd. 1–2.
Robert de Montesquiou et l’art de paraître. Catalogue par Philippe Thiébaut et Jean-Michel Nectoux. P., 1999.
Robinson M. Beaux and Belles of England. L.: Lightning source, 2004.
Shakespeare W. The complete works. L.; Glasgo: Collins, 1968. The Spectator. 1714. № 631. 10 December. Town and Country Magazine. 1772.
The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion.Being a treatise upon that essential and much-cultivated requisite of the present day, gentlemen's costume… also, directions in the purchase of all kinds of wearing apparel: accompanied by hints for the toilette. By a cavalry officer. L.: E.Wilson, 1830.
Wilde O. Selected letters of Oscar Wilde. Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979.
Wilde O. Interviews and recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979. Wilde O. Essays and Lectures. L.: Methuen and Co, 1913.
Wyatt J. The Taylor’s Friendly Instructor. L., 1822, 1830 // Late Georgian Costume: Mendocino, R. L. Shep, 1991. P. 1–120.
Источники на русском языке
Алексеев Б.С джазом по жизни // Макаревич В. Интервью с Борисом Алексеевым // Независимая газета. 2003. 20 июня. С.13. Арнольд Ю.К. Воспоминания. М., 1892.
Байрон Д.Г. Дневники. Письма. М.: Изд-во Академии наук, 1963.
Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1953.
Бальзак О. Физиология брака. Патология общественной жизни / Пер. В.А.Мильчиной. М.: НЛО, 1995.
Бальзак в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986.
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.: Независимая газета, 2000.
Барбе д’Орвийи Ж. Дьявольские повести. СПб.: Лениздат, 1993.
Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. М.: Наука, 1980.
Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Наука, 1970.
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986.
Блок А. Сочинения: В 1 т. М.; Л.: ОГИЗ; Гослитиздат, 1946.
Брюсов В. Литературное наследство. М.: Наука, 1976.
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. М.: Правда, 1988.
Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М.: Захаров, 2000.
Винкельман И. Избранные произведения и письма. М.: Ладомир, 1996.
Во И. Собр. соч.: В 5 т. М.: Эхо, 1996.
Вудхаус П.Г. Так держать, Дживз! Полный порядок, Дживз! СПб.: Янус, 1999.
Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: ИскусствоСПб, 2002.
Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1949.
Гонкур Э., Гонкур Ж. Дневник: В 2 т. М.: Изд-во «Худож. лит.», 1964.
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху //Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева / Под ред. Ю.Г.Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930.
Готье Т. Мадемуазель де Мопен. М.: Терра, 1997.
Готье Т. Мода как искусство // Иностранная литература. 2000. № 3.
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1990.
Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 2000.
Греч Н.И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб.,1839.
Гюисманс Ж.К. Наоборот // Наоборот: Три символистских романа. М.: Республика, 1995.
Даррелл Л. Бальтазар. СПб.: Инапресс, 1996.
Дитрих М. Азбука моей жизни. М.: Вагриус, 1997.
Добужинский М. Воспоминания. М.: Наука, 1987.
Дувакин В.В. Беседы В.В. Дувакина с М.М. Бахтиным. М.: Прогресс, 1996.
Дэнди (журнал). М., 1910.
Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981.
Замятин Е. Мы. Хаксли О. О дивный новый мир. М.: Худож. лит., 1989.
Зольгер К.В.Ф. Эрвин. М.: Искусство, 1978.
Золя Э. Нана. Бальзак О. Озорные рассказы. Калининград: Книжное издво, 1994.
Иванов В. И. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1978.
Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель (Библиотека поэта), 1956.
Конан Дойль А. Собр. соч.: В 10 т. М: Слог, 1994.
Констан Б. Адольф. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1959.
Лафайет М.М. Принцесса Клевская. М.: Росмэн, 2003.
Леопарди Д. Этика и эстетика. М.: Искусство, 1978.
Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1955.
Мерсье Л.С. Картины Парижа. М.: Прогресс-Академия, 1995. Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990.
Мок-Бикер Э. Коломбина десятых годов. Париж; СПб.: Изд-во Гржебина, 1993.
Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб.: Евразия, 1995.
Одоевцева И. На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1989.
Остен Д. Собр. соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1989.
Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988.
Панаева (Головачева) А.Я. Воспоминания. М.: Правда, 1986.
Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982.
Платон. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1970.
Плутарх. Застольные беседы. Л.: Наука, 1990.
Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1987.
По Э.А. Полное собрание рассказов. М.: Наука, 1970.
«Представь мне щеголя». Мода и костюм России в гравюре XVIII века. М.: Гос. музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 2002.
Пруст М. Письма. М.: Гласность, 2002.
Пруст М. У Германтов / Пер. Н. Любимова. М.: Худож. лит., 1980.
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978.
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук, 1990. Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. М.: Худож. лит., 1987.
Рассел Б. Автобиография / Пер. Т.Я. Казавчинской // Иностранная литература. 2000. № 12.
Рёскин Дж. Сезам и лилии / Пер. О.М. Соловьевой. М., 1901.
Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М.: Искусство, 1971. Русская проза XVIII века: В 2 т. М.; Л.: Гослитиздат, 1950.
Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989.
Северянин И. Соч.: В 5 т. СПб.: Logos, 1996.
Сен-Симон Л. Мемуары: В 2 кн. М.: Прогресс, 1991.
Сергей Дягилев и русское искусство: В 2 т. М.: Изобразительное искусство, 1982.
Смоллетт Т. Путешествие Хамфри Клинкера. М.: Худож. лит., 1972.
Сологуб Ф. Мелкий бес. М.: Олма-Пресс, 2000.
Стендаль. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001.
Стендаль. Избранные произведения. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1952.
Сю Э. Парижские тайны: В 2 т. М.: Худож. лит., 1989.
Танцы, их история и развитие. По изданию Г. Вюилье. СПб., 1902.
Теккерей В. Собр. соч.: В 10 т. СПб.: Типогр. бр. Пантелеевых, 1894–1895.
Уайльд О. Полн. собр. соч.: В 4 т. СПб.: Изд-во А. Маркс, 1912.
Уайльд О. Избранное. М.: Худож. лит., 1986.
Уайльд О. Письма. СПб.: Азбука, 2000.
Фирбенк Р. Искусственная принцесса. М: Митин журнал; Тверь: Kolonna Publications, 2004.
Форстер Э.М. Морис. М.: Глагол, 2000.
Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.: Искусство, 1973.
Хогарт У. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987.
Честертон Г.К. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984.
Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л.: Наука, 1971.
Чуковский Н.К. Литературные воспоминания. М.: Сов. писатель, 1989.
Шатобриан Ф.Р. Замогильные записки. М.: Изд-во Сабашниковых, 1995.
Шекспир У. Исторические хроники. М.: Правда, 1987.
Шекспир У. Трагедии. М.: Правда, 1983.
Шекспир У. Трагедии. Сонеты. М.: Худож. лит., 1968.
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М.: Искусство, 1983.
Критическая литература на иностранных языках
Abrams M. The Teenage Consumer. L.: Press exchange, 1959.
Alford L. The zoot suit: its history and influence // Fashion Theory. June 2004. Vol. 8. Issue 2. 225–237.
Ariès Ph., Duby G., eds. A History of private life. Vol. 4. From the fires of revolution to the great war. / M. Perrot, Editor, transl. A. Goldhammer. The Belknap press of Harvard U.P, 1990.
Batterberry M., Batterberry A. Mirror, mirror. A social history of fashion. N.Y.: Chanticleer press, 1977.
Benjamin W. Arcades project. Harvard U.P.: The Belknap press, 2002.
Bertrand A. Les curiosités esthétiques de Robert de Montesquiou. Genève: Droz, 1996.
Blanchot M. Faux pas. P.: Gallimard, 1943.
Bohmig M. Das Motiv der lebenden Statue in der deutschen und russischen Literatur der Romantik // Ricerche Slavistische. Vol. XXXIX–XL. 1992–1993. № 1., S. 429–447.
Bordo S. The Male Body: A New Look at Men in Public and in Private. N.Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2000.
Breward С. Fashioning London. Clothing and the modern Metropolis. Oxford; N.Y.: Berg, 2004.
Breward C. The hidden consumer. Masculinities, fashion and city life 1860–1914. Manchester U.P., 1999.
Breward C. The culture of Fashion: a new history of fashionable dress. Manchester U.P., 1995.
Bronfen E. Over her dead body. Manchester U.P., 1992.
Brooks D. Bobos in paradise. The new upper class and how they got there. N.Y.: Simon and Shuster, 2000.
Bullough S., Bullough B. Cross-dressing, sex and gender. U. of Pennsylvania U.P., 1993.
Campbell K. Beau Brummell. L.: Hammond & Hammond, 1948.
Carassus E. Le Mythe du dandy. P.: A. Colin, 1971.
Carré J. L’Espace du club londonien au XIX siècle // Les espaces de la civilité. Editions InterUniversitaires, 1995.
Chenoune F. A History of man’s fashion. Paris; New York: Flammarion, 1993.
Classen C., Howes D., Synnott A. Aroma. The cultural history of smell. L.: Routledge, 1994.
Coblence F. Le Dandysme, obligation d’incertitude. P.: Presses Universitaires de la France, collection «Recherches politiques», 1988.
Cole H. Beau Brummell. L.: Granada publishing, 1977.
Corbin A. The foul and the fragrant: odor and the french social imagination. Harvard U.P., 1986.
Crary J. Techniques of the observer: on vision and modernity in the XIX century. Cambridge, London: MIT Press, 1996.
Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages. L.: Routledge and Kegan Paul, 1979.
Dandies. Fashion and Finesse in Art and Literature / Ed. S. Fillin-Yeh. New York U.P., 2001.
Delbourg-Delphis M. Masculin singulier. Le dandysme et son histoire. P.: Hachette, 1985.
Derrida J. De l’hospitalité. Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre sur l’hospitalité. P.: Calmann Levy, 1997.
Derrida J. Donner le temps. I. La fausse monnaie. P.: Galilée, 1991.
Driver S. Pushkin: literature and social ideas. Columbia U.P., 1989.
Edwards T. Men in the Mirror: Men’s Fashion, Masculinity and Consumer Society. L.: Cassell, 1997.
Elias N. The civilizing process: the history of manners. New York: Pantheon, 1982.
Espagne M. Werner M. Vom «Passagen-Werk» zum «Baudelaire». Neue Handschriften zum Sptäwerk Walter Benjamins // Deutsche Vierteljahrschrift 58 (1984). P. 593–657.
Favardin P., Bouxiere L. Le dandysme. P.: La manufacture, 1988.
Feldman J. Gender on the divide. Ithaca; N.Y.: Cornell U.P., 1993.
Flügel J.C. Psychology of clothes. L.: Hogarth Press, 1930.
Fortassier R. Les écrivains français et la mode. P.: PUF, 1978.
Forty A. Objects of desire. L.: Thames and Hudson, Cameron books, 1992. Foucault M. Moi, Pierre Rivière, ayant egorgé ma mère, ma soeur et mon frère… P.: Gallimard, 1973.
Foulkes N. Last of the dandies: The scandalous life and escapades of Count d’Orsay. L.: Little Brown, 2003.
Frisby D. Fragments of Modernity: Theories of Modernity in the work of Simmel, Kracauer and Benjamin. Cambridge: Polity Press, 1985.
Fyvel T.R. The Insecure Offenders: Rebellious Youth in the Welfare State. L.: Chatto & Windus, 1961.
Gagnier R. Idylls of the Marketplace: Oscar Wilde and the Victorian Public. Stanford: Stanford University Press, 1986.
Garber M. Vested interests. L.: Penguin, 1993.
Garelick R. Rising star: dandyism, gender and performance in the fin de siècle. Princenon: Princenon U.P., 1998.
Goldstein L. (ed.). The Male Body: Features, Destinies, Exposures. University of Michigan Press, 1995.
Harvey J. Men in black. University of Chicago press, 1995.
Hollander A. Seeing through clothes. University of California press, 1993. Hollander A. Sex and suits. N.Y.: Alfred A.Knopf, 1995.
Horrocks R. Male Myths and Icons: Masculinity in Popular Culture. N.Y.: St.Martin’s press, 1995.
Johnson P. The birth of the modern. N.Y.: Harper Collins, 1992.
Jullian Ph. Prince of aesthetes: count Robert de Montesquiou. N.Y.: The Viking press, 1968.
Kempf R. Dandies. Baudelaire et compagnie. P.: Seuil, 1977.
Kroeber A.L., Richardson J. Three centuries of women’s dress fashion. University of California press, 1940.
Langlade J. Brummell, ou le prince des dandys. P.: Presses de la Renaissance, 1985.
Laver J. Costume and fashion. L.: Thames and Hudson, 1988.
Laver J. Dandies. L.: Weidenfeld & Nicolson, 1968.
Lecercle J. – H. Mallarmé et la mode. P.: Librarie Seguire, 1989.
Lemaire M. Le Dandysme de Baudelaire à Mallarmé. Montréal: Presses de l’Universitité de Montréal, 1978.
Lestringuez P. Le chevalier d’Orsay. Montrouge, 1944.
Levillain H. L’esprit dandy – de Brummell à Baudelaire. P: José Corti, 1991.
Lewenhaupt T., Lewenhaupt C. Crosscurrents: art – fashion – design. New York: Rizzoli, 1989.
Lurie A. The language of clothes. L.: Bloomsbury, 1992.
McDowell C. The man of Fashion. L.: Thames and Hudson, 1997.
McNeil P. «That doubtful gender»: macaroni dress and male sexualities // Fashion Theory. 1999. Vol. 3, issue 4. P. 411–449.
McNeil P. Macaroni Masculinities // Fashion Theory. 2000. Vol. 4, issue 4. P. 373–405.
Melville L. The Beaux of the Regency. L.: 1908, 2 vols.
Melville L. Beau Brummell. New York: G.H. Doran, 1925.
Merleau-Ponty M. Le visible et l’invisible. P.: Gallimard, Tel, 1964.
Mirzoeff N. Bodyscape: art, modernity and the ideal figure. L.: Routledge, 1995.
Moers E. The Dandy. New York: The Viking Press, 1960.
Montandon A. Sociopoétique de la promenade. Clermont-Ferrand: Presses Universitaires Blaise Pascal, 2000.
Munhall E. Whistler et Montesquiou. P.: Flammarion, New York: The Frick Collection, 1995.
Natta M. – C. La Grandeur sans convictions: essai sur le dandysme. Paris:
Editions du Félin, 1991.
Nixon S. Hard Looks: masculinities, spectatorship and contemporary consumption. UCL Press & St. Martin’s Press, 1996.
Perrot Ph. Les dessus et les dessous de la bourgeoisie. Bruxelles: Editions Complexe, 1984.
Pointon M. The case of the dirty beau: symmetry, disorder and the politics of masculinity // The body imaged / Ed. Adler K., Pointon M. Cambridge U.P., 1993. P. 175–189.
Polhemus T. Street style. L.: Thames and Hudson, 1997.
Pool D. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew. N.Y.: Touchstone, 1993.
Poovey M. «Scenes of an indelicate character»: the medical «treatment» of victorian women // The making of the modern body. California U.P., 1987. P. 137–169.
Roche D. La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVII–XVIII siècle. P.: Fayard, 1989.
Sadleir M. Blessington – d’Orsay: a masquerade. L.: Constable, 1933.
Scaraffìa, G. Le petit dictionnaire du dandy. P.: Sand, 1981.
Simone F. Le dandysme et Marcel Proust: de Brummel au Baron de Charlus. Bruxelles: Palais des académies, 1956.
Simpson M. Here come the mirror men // The Independent. 1994. November 15.
Simpson M. Male Impersonators: Men Performing Masculinity. L.: Cassell, 1994.
Sontag S. Notes on camp // Sontag S. Against Interpretation and other essays. N.Y.: Noonday, 1966.
Stafford B. Body criticism. MIT Press, 1993.
Stafford B. Artful science. MIT Press, 1994.
Stanton D. The aristocrat as art. Columbia U.P., 1980.
Steele-Perkins. Smith R. The Teds. L.: Dewi Lewis Publishing, 2002. Teignmouth Shore W. D’Orsay or the complete dandy. L., 1912.
Tester K., ed. The flaneur. L.; N.Y.: Routledge, 1994.
Timbs J. Clubs and club life in London. L.: Chatto and Windus. 1872.
Tomes N. The Gospel of germs: Men, Women and the Microbe in American Life. Harvard U.P., 1998.
Vainchtein O. La subversion de l’hospitalité et les jeux visuels dans le dandysme // Mythes et représentations de l’hospitalité / Ed. A. Montandon. Université Blaise Pascal, 1999. P. 267–281.
Vainshtein O. Fashioning women: dressmaker as cultural producer // Late Editions, issue 7. Para-sites. A casebook against cynical reason / Ed. G. Marcus. The University of Chicago Press, 2000. P. 195–225.
Vainshtein O. Female Fashion, soviet style: bodies of ideology // Russia – women – culture / Ed. H. Goscilo, B. Holmgren. Indiana: Indiana UP., 1996. P. 64–94.
Vainshtein O. Russian dandyism: Constructing a man of fashion // Russian Masculinities in history and culture / Ed. B. Evans Clements, R. Friedman and D. Healey. L.: Routledge, 2002. P. 51–76.
Vigarello G. Le propre et le sale: l’hygiene du corps depuis le Moyen Age. P.: Editions du Seuil, 1985.
Walden G. Who is a Dandy? // Barbey d’Aurevilly J. On dandyism and George Brummell (translated by George Walden). Gibson Square books, 2002.
Wedgewood А. The Athenaeum // The romantic age in Britain. The Cambridge cultural history of England / Ed. Boris Ford. Vol. 6. Cambridge U.P., 1992. P. 254–262.
Werner M. L’élaboration d’un plan: les manuscrits parisiens de Walter Benjamin: du projet des «Passages» à «Charles Baudelaire» // Walter Benjamin et Paris / Ed. H. Wismann. P.: Ed. du Cerf, 1986. P. 849–867.
White E. The flaneur: A stroll through the paradoxes of Paris. L.: Bloomsbury, 2001.
Whitehead, S.M. Men and Masculinities: Key Themes and New Directions. Cambridge: Polity, 2002.
Wilson E., Taylor L. Through the looking glass. L.: BBC Books, 1989.
Wolf J. The invisible Flaneuse: women and the literature of modernity // Theory, Culture and Society. 1985. Vol. 2. № 3. 37–46.
Woolf V. Beau Brummell //Common Reader. Second series. L.: Hogarth Press, 1935. 148–156.
Критическая литература на русском языке
Агамбен Д. Станцы. Слово и фантазм в культуре Запада / Предисл. и пер. Б. Дубина // Искусство кино. 1998. № 11. С. 141–155.
Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: НЛО, 2003. Т. 1–2.
Барт Р. Дендизм и мода / Пер. С.Н. Зенкина // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.: Изд-во Сабашниковых, 2003.
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во Сабашниковых, 1996.
Бегунова А.И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I. М.: Молодая гвардия, 2000.
Беньямин В. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996.
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л.: Лениздат, 1992.
Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995.
Вайкс А. Энциклопедия азартных игр. М.: Ефрат, 1994.
Вайнштейн О.Б. Откуда берется пыль? Семиотика чистого и грязного // Arbor Mundi. 1998. № 6. С. 153–170.
Вайнштейн О.Б. Жизнетворчество в культуре европейского романтизма // Ученые записки РГГУ. М.: Изд-во РГГУ, 1998. Вып. 2. С. 161–187.
Вайнштейн О.Б. Полные смотрят вниз: Идеология женской телесности в контексте российской моды // Художественный журнал. 1995. № 7. С. 49–53.
Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб.: Мифрил, 1994. Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988.
Геллер Л. Печоринское либертинство // Логос. 1999. № 2. С. 98 – 111.
Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. М.: Новое изд-во, 2003.
Гроссман Л. Пушкин и дэндизм // Собр. соч.: В 4 т. М., 1928. Т. 1. С. 14–45. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998.
Демиденко Ю. Русские денди // Родина. 2000. № 8. С. 111–114.
Добродомов И.Г. Двадцать лет спустя (о слове «шаматон» из «Капитанской дочки») // Статьи о Пушкине. К 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. М.: Прометей, 1999.
Зенкин С.Н. Стратегическое отступление Ролана Барта // Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 1999. С. 5–77.
Зиммель Г. Избранное: В 2 т. М.: Юрист, 1996.
Иванов С.Л. История щегольской лексики в русском языке XVIII–XX вв.: Автореф. дис… канд. филол. наук. М. 2003.
Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990.
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. М.: Изд-во РГГУ, 1998.
Кестлер А. Анатомия снобизма // Иностранная литература. 2001. № 4. С. 242–256.
Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995.
Кирсанова Р.М. Сценический костюм и русская публика в России XIX века. Калининград: Янтарный сказ; М.: Артист. Режиссер. Театр, 1997.
Кирсанова Р.М. Стиляги // Родина. 1998. № 8. С. 72–75.
Кирсанова Р.М. Человек в зеркале века // Русская галерея. 1998. № 2. С. 48–49.
Кон И.С. Мужское тело в истории культуры. М.: Слово, 2003.
Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л.: Художник РСФСР, 1970.
Котляревский Н.А. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века, ее основные этические и социальные мотивы и их отражение в художественном творчестве. СПб., 1914.
Лавджой А. Великая Цепь бытия. М.: Дом Интеллектуальной Книги, 2001.
Ливен Д. Аристократия в Европе 1815–1914. СПб.: Академический проект, 2000.
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПБ, 1994.
Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992.
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992.
Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф // Антология гендерной теории / Сост. Е. Гапова, А. Усманова. Минск: Пропилеи, 2000. С. 280–297.
Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М.: Ad Marginem,1995.
Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В 4 т. М.: Академия моды, 1996–2001.
Московичи С. Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998.
Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. СПб.: Журнал «Нева», Летний сад, 1998.
Неклюдов С.Ю. Ночной гость // Живая Старина. 1996. № 1. С. 4–8. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990.
Оноре де Бальзак. Денди и творец. Исследования и материалы. М.: Гос. музей А.С. Пушкина, 1997.
Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. Померанцев И. Стиляги // Урал. 1999. № 11.
Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.:
НЛО, 1999.
Райх В. Характероанализ. М.: Республика, 1999.
Ривош Я.Н. Время и вещи. М.: Искусство, 1990.
Розенбоом Э., Грунбах Л. Силы природы и пользование ими. СПб., 1902.
Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб.: Лига плюс, 2000.
Русанова О. Раздумья о красоте и вкусе. М.: Знание, 1962.
Русский костюм 1750–1917: В 5 вып. / Под ред. В. Рындина; Текст Е. Берман, Е. Курбатова. М.: ВТО, 1960–1972.
Сартр Ж.П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Высшая школа, 1993. С. 318–450.
Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2003.
Славкин В.И. Памятник неизвестному стиляге, М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996.
Стрэчи Л. Королева Виктория. Ростов-на Дону: Феникс, 1999.
Суслова Е.Н. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: Молодая гвардия, 2003.
Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. М.: Наука, 1993.
Успенский Б.А. Избранные труды. М.: Гнозис, 1994.
Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1989.
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1980.
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998.
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997.
Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л.: Наука, 1991.
Шервин О. Шеридан. М.: Искусство, 1978.
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1994.
Эллман Р. Оскар Уайльд. М.: Независимая газета, 2000.
Ямпольский М.Б. Наблюдатель. М.: Ad Marginem, 2000.
Справочная литература
Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов. М.: Русский язык, 1988.
Виноградов В.В. История слов. М.: 1999.
Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб.: Кольна, 1995. Т. 1.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1978.
Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995.
Толль Ф.Г. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. СПб., 1864.
Johnson S. A dictionary of the English language: In 2 vol. Heidelberg: Joseph Engelmann, 1828.
Kenyon J.P. The Wordsworth Dictionary of British History. L.: Wordsworth editions, 1994.
Larousse. Grand Dictionnaire universel du XIX siècle. P.: 1866–1879. The Merriam-Webster book of word histories. N.Y.: Merriam, 1976.
Montandon A. (ed.). Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoir-vivre. P.: Seuil, 1995.
Onions C.T. A Shakespeare Glossary.Enlarged by R.D.Eagleson. Oxford: Clarendon Press, 1986.
The new Roget’s Thesaurus in dictionary form. Rеvised by Norman Lewis. New York, 1978.
Интернет-ресурсы:
Универсальный ресурс по дендизму: /
Итальянский сайт по истории дендизма:
Сообщество «изысканность»: /
Живой журнал лорда Обри Вердслея: /
Сообщество «Наоборот»: /
Сайт Кристин Хьюз по английской культуре XIX века: /
Ресурс по мужской моде «Спроси Энди об одежде»:
Универсальный сайт по мужской моде:
Портреты Робера де Монтескью
Оскар Уайльд и его мир:
Фотографии Уайльда:
Страница Квентина Криспа: /
Виртуальный музей истории оптических приборов: /~s – herbert/momiwelcome.htm
Именной указатель
В указатель внесены исторические лица. Имена литературных персонажей и названия фирм, а также лица, упоминаемые в примечаниях, не включены.
А
Адамович Г.В.
Аддисон Дж.
Акерс, мистер
Аксаков К.С.
Алахвердов Л.
Алванли У.А., лорд
Александр I
Алексеев Б.В.
Али М.
Алкивиад
Аллен В.
Аль Пачино
Альфонс XII
Андерсон Р.
Андреас-Саломе Л.
Андреев Б.Ф.
Анна-Мария-Луиза Орлеанская («Мадемуазель»)
Анненков Ю.П.
Аполлинер Г.
Аргайл, герцог
Арлингтон, лорд
Армстронг Ч.
Арнольд Ю.К.
Астер Ф.
Аффлек Б.
Аюб М.
Б
Бабичев Н.Т.
Байрон Д.Г.
Бакст Л.С.
Бальзак О. де
Бальмонт К.Д.
Бальсан Э.
Барбе д’Оревильи Ж. – А.
Баркли, капитан
Барримор Дж.
Барримор Р., граф
Барт Р.
Бартенев А.
Барышников М.Н.
Барятинский А.И., князь
Баталов А.В.
Батлер Х.
Бахолдин К.
Бахтин М.М.
Бедфорд Д.Р., герцог
Бедфорд Ф.Р., герцог
Безобразов П.
Бейли Д.
Бекхэм Д.
Бельмондо Ж.П.
Беляев Д.
Бен, привратник
Бенуа А.Н.
Беньямин В.
Бердслей О.
Бердяев Н.А.
Берк Э.
Берлиоз Г.
Берн Э.
Бернар С.
Берн-Джонс Э., сэр
Бернес М.
Бернетт Ф.
Бернини Д.Л.
Бернхардт К.
Бертийон А.
Берукштис И.
Бессборо Г., леди
Бест Дж.
Бестужев А.А.
Биккемберг Д.
Бинг С.
Бинг Ф.Г. («Пудель»)
Бирбом М., сэр
Бирбом Три Г., сэр
Бирч Р.
Битов А.Г.
Битон С.
Блай, мистер
Блан Ш.
Бланшо М.
Блейк У.
Блессингтон М., леди
Блессингтон Ч.Д., лорд
Блок А.А.
Блоу И.
Блэр Т.
Блюхер Г.Л., фельдмаршал
Бо Э.
Боатенг О.
Бовуар Р. де
Бовуар С. де
Богословский Н.С.
Бодлер Ш.
Бодрийяр Ж.
Болдини Дж.
Болье Г.
Боровиковский В.Л.
Боровский Я.М.
Боуи Д.
Брайен Т.
Браммелл Д.Б. («Бо»)
Браммелл У. (брат Д.Б.Браммелла)
Браммелл У. (отец Д.Б.Браммелла)
Брандо М.
Браун (тетя Д.Б.Браммелла)
Браун Ф.
Бреннер Р.М.
Бренсон Р.
Брок Ч.
Броуэм Г.
Бруард К.
Брукс Д.
Брукс Р.
Бруханский А.
Брюсов В.Я.
Булгаков К.А.
Бульвер-Литтон Г.
Бульвер-Литтон Э.Д.
Бурже П.
Бурлюк Д.Д.
Буруллек Р.
Буруллек Э.
Бутон Ш. – М.
Бьюмонт Х.
Бюиссон
Бюхнер Л.
В
Вагнер Р.
Вайнштейн К.Б.
Вайсмюллер Д.
Валентино Р.
Валери П.
Ван Дамм Ж.К.
Ван Дейк А.
Ван Нотен Д.
Вандерлин Дж.
Ватье Ж. – Б.
Вашингтон Дж.
Вебер М.
Веблен Т.
Веласкес Д.Р.
Веллингтон А.У., герцог
Вельфлин Г.
Вердслей О. («лорд Обри Вердслей»)
Верлен П.
Верн Ж.
Версаче Д.
Вествуд В.
Вестминстер Г., герцог
Вестон и Мейер, портные
Вигарелло Жорж
Вигель Ф.Ф.
Виктория, королева Англии
Вильгельм III
Вильгельм IV
Вилье де Лиль-Адан О.
Винкельман И.
Виньи А. де
Вовенарг Л. К. де
Волконская З., княгиня
Волошин М. А.
Вольтер
Вордсворт У.
Ворт Ч.
Ворчестер, лорд
Вуд Дж.
Вудхаус П.
Вулф В.
Г
Габбана С.
Гаварни П.
Гагарин Ю.А.
Галле Э.
Гальтон Ф.
Гальяно Дж.
Ганская Э.
Гара П. – Ж.
Гаранян Г.А.
Гарбо Г.
Гатри (портной)
Гауди А.
Гвиччиоли Т.
Гегель Г.В.Ф.
Геде К.
Геймер М.
Гейнсборо Т.
Гейтс Б.
Геллер Л.
Гельдерлин Ф.
Георг III, король Англии
Георг IV, король Англии
Герлен Ж. – П.
Герлен П.Ф.П.
Герлен Э.
Герэн, мадам де
Гессе Г.
Гете И.
Гиббс К.
Гизо Ф.
Гилберт У.
Гильбер М.
Гинзберг А.
Гинзбург К.
Гинцбург Н.
Гиппиус З.Н.
Гир Р.
Глостерский, герцог
Гоголь Н.В.
Годфруа, редактор
Гозлан Л.
Голицын И.М.
Гомер
Гонкур Ж. де
Гонкур Э. де
Гончаров И.А.
Гораций
Горбачев М.С.
Готье Ж.
Готье Ж. – П.
Готье К.
Готье Т.
Гофман Э.Т.А.
Грабарь И.Э.
Грамон А.Л, герцог де Гиш
Грамон И., герцогиня де Гиш
Гранвиль Ж.
Грей Ч.
Грейнджер С.
Греко Ж.
Греффюль Э., графиня
Греч Н.И.
Грибоедов А.С.
Гроноу Р., капитан
Гроссман Л.П.
Гурмон Р. де
Гуссерль Э.
Гэ С.
Гюго В.
Гюисманс Ж. – К.
Д
Давид Ж. – Л.
Дагерр Ж. – Л. – М.
Д’Алансон Э.
Дали С.
Даль В.И.
Даль С.
Д’Аннунцио Г.
Дантан Ж. – П.
Дарвин Ч.
Даррелл Л.
Д’Артаньян
Д'Артуа, граф
Датт Р.
Даффи Б.
Де Голль Ш.
Де Квинси Т.
Де Ла Мотт Фуке К.
Де Ла Мотт Фуке Ф.
Де Ниро Р.
Дебретт Д.Ф.
Дега Э.
Дейнека А.
Делакруа Э.
Делафосс Л.
Делез Ж.
Делиль Ж., аббат
Делон А.
Делоне Р.
Демелемейстер А.
Демидов А., граф
Демокрит
Денев К.
Депардье Ж.
Дерби, граф
Деррида Ж.
Дерьеж Ф.
Дефо Д.
Деффан, маркиза
Джаггер Б.
Джаггер М.
Джекмен Х.
Джексон Дж. («Джентльмен Джон»)
Джексон М.
Дженкинсон Ч.
Джерси С., леди
Джерси, лорд
Джессе У., капитан
Джеффри Ф.
Джон Э.
Джонсон Б.
Джонсон С.
Джонсон, миссис
Джорджиана Девонширская, герцогиня
Ди Каприо Л.
Диана, принцесса
Дибдин Ч.
Дизраэли Б.
Дик-исчадье-ада, кучер
Диккенс Ч.
Диор К.
Дитрих М.
Добровольский Г.Т.
Добужинский М.В.
Доде А.
Дойль А.К.
Дольче Д.
Донован Т.
Доре Г.
Д’Орсе А., граф
Киноактер Раймонд Гриффит (1895–1957)
Достоевский Ф.М.
Дуглас А., лорд
Дуглас М.
Дузе Э.
Дусе Л.
Дэвидсон, портной
Дэвис Б.
Дэвис С.
Дю Кам М.
Дю Морье Дж.
Дюбарри М.Ж.
Дюма А.(отец)
Дягилев С.П.
Е
Евгения, императрица Франции
Евстигнеев Е.А.
Егер Г.
Екатерина II
Ж
Жан-Поль (Рихтер И.П.)
Жене Ж.
Живанши Ю.
Жирарден Д. де
Жирарден Э. де
Жихарев М.И.
З
Захер-Мазох Л.
Зенкин С.Н.
Зенон
Зиммель Г.
Зольгер К.В.Ф.
Золя Э.
Зонтаг С.
Зубов А.
Зюскинд П.
И
Иаков I, король Англии
Иванов В.И.
Иванов Г.В.
Иванов С.Л.
Иглесиас Э.
Иден Э.
Иероним
Иоанн-Павел II
Ишервуд К.
К
Кавендиш У., герцог Девонширский
Кальвин Ж.
Камберлендский, герцог
Камю А.
Кандинский В.В.
Каннинг Дж.
Канова А.
Кант И.
Кантемир А.Д.
Караченцов Н.П.
Карден П.
Карл I, король Англии
Карл II, король Англии
Карл X, король Франции
Карлайль Дж. (Уэлш)
Карлайль Т.
Карлайль, лорд
Каролина, принцесса Брауншвейгская
Карре Ж.
Кассини О.
Кастеллане Б., граф де
Кастильоне Б.
Катилина
Кауниц В.А., князь
Качалов В.И.
Кейпел А. («Бой»)
Кеннеди Дж.
Кеннеди Ж.
Керлео Ж.
Кингсли Ч.
Киплинг Р.
Кирсанова Р.М.
Китон Д.
Китс Дж.
Клеопатра
Клуни Дж.
Клэптон Э.
Кляйн К.
Княжевич В.М.
Козлов А.С.
Кокер Д.
Кокто Ж.
Колридж С.Т.
Комб Х.
Коннери Ш.
Констан Б.
Коплянский Б.
Коппе Ф.
Корбен А.
Корелли М.
Коренев В.Б.
Корнуэлл Б.
Корре Д.
Коршунова Т.
Костнер К.
Коулберн Г.
Крамской И.Н.
Крёбер А.Л.
Крисп К.
Кроуфорд С.
Крукшенк Дж.
Крукшенк Р.И.
Крылов И.А.
Крэри Д.
Куант М.
Кузмин М.А.
Куинсберри Д.Ш., маркиз
Кук Г.(«Кенгуру»)
Кукрыниксы
Кульнев Я.П., генерал
Куракин А.Б., князь
Кэмпбелл Н.
Л
Лагерфельд К.
Лалик Р.
Ламартин А. де
Ламингтон, лорд
Лангтри Л.
Ланкло Н. де
Ларионов М.Ф.
Ларошфуко Ф.
Латтрелл Г.
Лафатер И.К.
Лафонтен Ж.
Ле Корбюзье Ш.
Лебрен Ш.
Леду К.Н.
Лейд Дж., сэр
Лейендекер Д.С.
Леклерк
Лемэр М.
Леопарди Д.
Лермонтов М.Ю.
Ливен Д.Х., графиня
Лилль Ч.
Линдберг П.
Линдберг Ч.
Линдсей Р., сэр
Лисицкий Л.М. (Эль Лисицкий)
Лист Ф.
Листер Д.
Листер Т.Х.
Лозен, герцог (Антуан Номпар де Комон)
Лозинский М.Л.
Лойола И.
Локк Дж.
Лолесс Я.
Ломброзо Ч.
Лопухина М.
Лорен Р.
Лоррен Ж.
Лоррилард Г.
Лоти П.
Лотман Ю.М.
Лотур-Мезере С. – Ш.
Лоуренс Т., сэр
Луи-Филипп, король Франции
Лури А.
Льюис М.Г. («Монах»)
Лэм К., леди
Лэндор У.С.
Людвиг Баварский
Людовик XIV, король Франции
Людовик XV, король Франции
Людовик XVI, король Франции
М
Мадонна (Чикконе Л.)
Майкл Дж.
Майков А.А.
Майлдмей Г., сэр
Маккеллан И.
Маккензи Г.
Маккуин А.
Маклис Д.
Макмиллан Г.
Макнил П.
Маковский С.К.
Макогоненко Г.П.
Маколей Т.Б.
Макреди У.Ч.
Макферсон Дж.
Малви Л.
Малевич К.С.
Малларме С.
Мальборо, герцог
Малькольм Д., сэр
Мальро А.
Мамардашвили М.
Мамышев В.
Мандельштам О. Э.
Маннерс Р., лорд
Маннерс Ч., лорд
Маре Ж.
Маржиела М.
Мариенгоф А.Б.
Мария-Антуанетта, королева Франции
Маркс К.
Марсе А. де
Мартен-Фюжье А.
Мартин Р.
Мастроянни М.
Мачадо А.
Маяковский В.В.
Мгебров А.А.
Мейерхольд В.Э.
Мейлах Б.С.
Мельбурн У.Л., лорд
Мельников К.С.
Ментенон М., мадам де
Ментцер М.
Мериме П.
Мерло-Понти М.
Мерс Э.
Мерсье Л. – С.
Мерфи Э.
Мерцалова М.Н.
Местр Ж. де
Меттерних К.
Миллес Д.Э.
Миллс Д.
Миро Х.
Митчелл Д.
Мольер Ж.Б.
Монако, принцесса КатринаШарлотта де Грамон
Монвель Бертран Буте де
Мондриан П.
Монро М.
Монсон Ч., лорд
Монтан И.
Монтгомери, мисс
Монтгомери, мистер
Монтегю, мистер
Монтень М.
Монтескью-Фезенсак Р., граф де
Монтеспан Ф.А. де
Морган С., леди
Морелли Д.
Морис Ф.Д.
Моро Г.
Моррис У.
Московичи С.
Мосс К.
Музиль Р.
Мур Т.
Муравьева О.С.
Мурасаки Сикибу
Мэггин У.
Мэпплторп Р.
Мэри, леди
Мюссе А. де
Н
Надар П.
Надсон Ю.
Наполеон I, император Франции
Наполеон III, император Франции
Нерваль Ж. де
Нижинский В.Ф.
Николай I, российский император
Николсон Д.
Ниттис Д. де
Ницше Ф.
Ноай А., графиня
Новалис
Новарро Р.
Новиков Н.И.
Нордау М.
Норманбай К.Г., лорд
Норт Ф., лорд
Нортумберленд, герцог
Норфолк Ч., герцог
Нувель В.Ф.
Нурок А.П.
Ньюмен Дж. Г.
Ньюмен П.
Нэш Р. («Бо»)
О
Огородников С.
Одоевцева И.В.
Ожье И.
Орлеанский, герцог – см. Луи-Филипп
Ортега-и-Гассет Х.
Остен Б.
Остен Д.
Остен С.
П
Паваротти Л.
Павел I, российский император
Павич М.
Пальмерстон Г.Д., лорд
Панаев И.И.
Панаева А.Я.
Парке П.
Паркер А.
Паркер Э.
Паскаль Б.
Пастер Л.
Пастернак Б.Л.
Патер У.
Пауэлл М.
Пек Г.
Пелевин В.
Переверзев И.Ф.
Перкин У.
Перов В.Г.
Перри Ф.
Петр I, российский император
Петрарка Ф.
Петрова Е.
Пиесс С.
Пий IX, папа Римский
Пикассо П.
Пикфорд М.
Пинель
Пирс Дж.
Питершем Ч.С., лорд
Питт Б.
Питт У. Младший
Пифагор
Платон
Плоткин Л.А.
Плутарх
По Э.
Полиньяк Э. де
Поммерель
Помпадур, маркиза
Портланд У.Г., герцог
Пресли Э.
Пропп В.Я.
Пророков Б.И.
Проскурин О.А.
Пруст М.
Пуаре Д.
Пуаре П.
Пул Г.
Пуччи Э.
Пушкин А.С.
Пыляев М.И.
Пьерпойнт Г.М.
Пэйн Р.
Р
Рабле Ф.
Райд С.
Райкин А.
Райкс Т. («Аполлон»)
Райх В.
Раневская Ф.Г.
Ранк О.
Расин Ж.
Рассел Б.
Рассел К.
Ратланд Д.Г., герцог
Ратланд Э., герцогиня
Рашель
Редон О.
Редфорд Р.
Рейнольдс Б.
Рейнольдс Д.
Рекамье Ж., мадам
Ремарк Э.М.
Ремлингер П.
Ренуар П.О.
Рескин Дж.
Ривз К.
Ривош Я.Н.
Ривьер П.
Рильке Р.М.
Рихтер Ж. – П.
Ричардсон Д.
Ричи Г.
Ришар П.
Ришелье Л.Ф.
Робертсон У.
Робертсон Э.Г.
Робеспьер М.
Робинсон М.
Роден О.
Роджерс С.
Рокингем Ч., граф
Роксалл, лорд
Ронтейкс Э.
Роско В., эсквайр
Россетти Д.Г.
Росси Д.Ч.Ф.
Ротиков К.К.
Ротшильд Н.М.
Рочестер Дж.
Рубинштейн Е.
Рубинштейн И.
Рудницка Э.
Рузвельт Ф.Д.
Рурк М.
Рычков Б.
Рэггет Дж.
Рэссон О.
Сем (Жорж Гурса). Робер де Монтескью. Эскизы
С
Саймонс А.
Салливан А.
Санд Ж. (Дюпен А.)
Сарджент Д.С.
Сартр Ж. – П.
Сатерленд, лорд
Саути Р.
Сведенборг Э.
Северянин И.
Севинье М., мадам де
Сеймур Г., лорд
Селвин Дж.
Сен-Лоран И.
Сен-Симон Л.
Сент-Илер Ж.
Сент-Олдеголд, граф
Серизиа П.
Серт М.
Сефтон, лорд
Сиббер К.
Симпсон М.
Симпсон У.
Сирен М. де
Скарборо, лорд
Скеффингтон Л., сэр
Скотт В., сэр
Скотт, генерал
Скьяпарелли Э.
Славкин В.И.
Смирнова-Россетт А.О.
Смит П., сэр
Смит С.
Смит Ш.
Смоктуновский И.М.
Смолл Х.
Смоллетт Т.
Снодграсс
Сомерсет Э.Г., лорд
Сомов К.А.
Сорель Ж.
Соссюр С. де
Соц В.
Спенсер Р.
Спирс Б.
Сталин И.В.
Сталлоне С.
Сталь Ж., мадам де
Станоп Х., леди
Стантон Д.
Стаффорд Э.
Стендаль (Бейль А.)
Стенич В. О. (Сметанич В.О.)
Степанова В.Ф.
Стивенс А.
Стокдейл, издатель
Столяров С.
Стоун Ш.
Стравинский И.Ф.
Страусс Л.
Страхов Н.И.
Стрейзанд Б.
Стриженов О.А.
Стульц, портной
Стэндиш Ч.
Сувари М.
Судейкин С.Ю.
Сулье Ф.
Сурбаран Ф.
Суэйзи П.
Сэй Сенагон
Сэндвич Дж. М., граф
Сю Э.
Т
Талейран Ш.М.
Тальен Т.
Тальма Ф.Ж.
Танкервилль, леди
Твисс Х.
Теккерей У.М.
Теннант С.
Теннисон А.
Терри Д.
Тертуллиан К.С.Ф.
Тик Л.
Тикелл Р.
Тилли В.
Тимберлейк Д.
Тимбс Дж.
Тит, римский император
Тихоненко В.
Толль Ф.Г.
Томпсон, миссис
Торп А.
Тоттенхем, миссис
Трай М. дю
Требютьен Г.С.
Трейси Ф.
Трелони Э.
Трентиньян Ж.Л.
Тристан Ф.
Троллоп А.
Троубридж У., леди
Трубецкой П.
Турвиль, адмирал
Тэйлор Ф.
Тэйлор Э.
У
Уайдер Д.
Уайльд К.
Уайльд О.
Уайт С.
Уайт Ф.
Уайт Э.
Уида (де ла Раме М.Л.)
Уиллис Б.
Уилсон Х.
Уистлер Д.
Уолден Д.
Уолкер Т.
Уолпол Х.
Уорд Р.П.
Уорхол Э.
Уссе А.
Устинов П.
Уэллесли Р.К., лорд
Уэлш Д. см. Карлайль Дж.
Уэст Б.
Ф
Фабиани А.
Фактор М.
Фарина Д.М.
Феминис Д.М.
Феминис Д.П.
Фербенкс Д.
Ферри Б.
Филдинг Р.
Филип Ж.
Философов Д.В.
Финланд Т. оф
Фирбенк Р.
Фихте И.Г.
Фицджеральд С.
Фицпатрик Р., генерал
Фицхерберт М.
Флаксман Д.
Флобер Г.
Флюгель Дж. К.
Фокс Д.
Фокс Ч.Д.
Фоли, лорд
Форд Т.
Форд Х.
Форстер Э.М.
Форти А.
Фостер Е., леди
Фохт К.
Франс А.
Франциск I
Фредерик, герцог Йоркский
Фредерика, герцогиня Йоркская
Фрейд З.
Фридман Г.
Фуко М.
Фуллер Л.
Фурье Ш.
Фэдл, леди
Фюсли Г.
Х
Хаас Ш.
Хаджи-заде Х.
Хайдеггер М.
Хантер Д.
Харли Э.
Хармс Д.И.
Харрис Т.
Хектик, леди
Хемингуэй Э.
Хендрикс Д.
Хепберн О.
Херд Р., епископ
Хертфорд И., леди
Хертфорд, лорд
Хобхауз Д.К.
Хогарт У.
Хокусай Кацусига
Холланд, леди
Холландер А.
Хоппнер Д.
Хоуп Т.
Хоффман Д.
Хук Т.
Хьюз Ф.
Хьюитт Дж.
Хэзлитт У.
Хэнгер Дж.
Ц
Цвейг С.
Цезарь Г.Ю.
Цицерон М.Т.
Ч
Чаадаев П.Я.
Чаплин К.
Чаплин Ч.
Чарльз, принц Уэльский
Челентано А.
Чен М.
Черчилль У.
Честертон Г.К.
Честерфилд Ф.Д., лорд
Чиколини Э.
Чифни С., жокей
Чуковский Н.К.
Ш
Шабрэ, каретник
Шамиссо А.
Шамфор Н.С. де
Шанель Г.
Шардон Л.
Шарко Ж.М.
Шатобриан Ф. – Р.
Шварценеггер А.
Швейцер, портной
Шевалье, оптик
Шекспир У.
Шелли П. – Б.
Шепелев Л.Е.
Шеридан Р.Б.
Шеридан Т.
Шиффер К.
Шишков А.С.
Шлегель Ф.
Шлепянов А.
Шодерло де Лакло П.
Шопенгауэр А.
Шримптон Д.
Штернберг Д. фон
Штраус Р.
Шувалов А.П., граф
Щ
Щербатов А.А., князь
Э
Эган П.
Эджворт М.
Эдуард VII
Эдуард VIII (герцог Виндзорский)
Эйзенхауэр Д.
Эйхенбаум Б.М.
Эйхендорф Й.
Эккерман И.
Эко У.
Эктон Х.
Элджин Т., лорд
Элиас Н.
Эллингтон Д.
Эллис Брет Истон
Эллис Х.
Эль Греко
Эмабль, мадемуазель
Эмин Т.
Энгр Ж.Б.
Эпикур
Эредиа Ж.М. де
Эстерхази Т., принцесса
Эстли Ф.
Эффингем, лорд
Эшли Л.
Ю
Юнг К.Г.
Юрсенар М.
Ютурри Г.
Я
Ямамото Й.
Ямпольский М.Б.
Ярмут, лорд
Ярошенко Н.А.
Ястребцев И.
Указатель составлен Филиппом ДзядкоИздательство и автор выражают благодарность правообладателям, любезно предоставившим разрешение на использование визуальных материалов:
Британский совет, организатор выставки «Денди XXI века» (2003 г.)
Фотограф Найджел Шафран
Дизайнер Марк Пауэлл
Журнал «Нью-Йоркер»
Британский музей
Дж. Скараффиа
Р.Л. Шеп
Примечания
1
The Merriam – Webster book of word histories. N.Y.: Merriam, 1976. P. 89–90.
(обратно)2
См.: A lady of fashion: Barbara Johnson's album of styles and fabrics. Ed. Rothstein N. New York: Thames and Hudson, 1987.
(обратно)3
Эти слова этимологически связаны через латинский глагол «texere» – ткать, общий смысл – переплетение.
(обратно)4
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук, 1990. С. 90–91. Подробнее о Куракине см. главу о русском дендизме в нашей книге.
(обратно)5
Например, «Дружеские наставления портному»: Wyatt J.The Taylor’s Friendly Instructor. L.: 1822, 1830.
(обратно)6
Neckclothitania; or Tietania: being an essay on starches. By one of the cloth. L.: 1818. Псевдоним автора – «один из шейных платков».
(обратно)7
The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion, at the enormous saving of thirty per cent! Being a treatise upon that essential and much-cultivated requisite of the present day, gentlemen's costume. Explains and clearly defines, by a series of beautifully engraved illustrations, the most becoming assortments of colours, and style of dress and undress in all varieties; suited to different ages and complexions, so as to render the human figure most symmetrical and imposing to their eyes. Also, directions in the purchase of all kinds of wearing apparel: accompanied by hints for the toilette, containing a few valuable and original recipes; likewise, some advice to the improvement of defects in the person and carriage. Together with a dissertation on uniform in general and the selection of fine dress. By a cavalry officer. London: E.Wilson, 1830.
(обратно)8
McNeil P. Macaroni Masculinities // Fashion Theory. 2000. Vol. 4, issue 4. P. 377–378.
(обратно)9
См. /
(обратно)10
The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819.
(обратно)11
Larousse. Grand Dictionnaire universel du XIX siècle. Vol. 6. P. 63.
(обратно)12
Толль Ф.Г. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания. СПб., 1864. Т. 2. С. 21.
(обратно)13
Барт Р. Дендизм и мода // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. С.Н. Зенкина. М.: Изд-во Сабашниковых, 2003. С. 394.
(обратно)14
Walden G. Who is a Dandy?// Barbey d’Aurevilly J. On dandyism and George Brummell (translated by George Walden). Gibson Square books, 2002.
(обратно)15
Johnson S. A dictionary of the English language: In 2 vol. Heidelberg: Joseph Engelmann, 1828. Vol. 1. P. 264.
(обратно)16
Favardin P., Bouxiere L. Le dandysme. P.: La manufacture, 1988. P. 23.
(обратно)17
Я благодарю профессора И.Г. Добродомова, любезно предоставившего мне возможность ознакомиться со своими материалами по истории слова «денди» в русском языке.
(обратно)18
См. подробнее: Иванов С.Л. История щегольской лексики в русском языке XVIII–XX вв.: Автореф. дис… канд. филол. наук. М., 2003.
(обратно)19
Подробнее о слове «ферт» см.:Виноградов В.В. История слов. М.: 1999. С. 1036–1037. В.В.Виноградов отмечает, что в слове «фертик», по всей видимости, слились два значения: 1) ферт как буква русского алфавита, отсюда «держать руки в боки = фертом» и 2) немецкое слово «fertig» – «готовый», переосмысленное как уменьшительное.
(обратно)20
Согласно И.Г.Добродомову, слово «шематон» этимологически связано с областными «шеметать» и «шемотки» – вещи. См.:Добродомов И.Г. Двадцать лет спустя (о слове «шаматон» из «Капитанской дочки») // Статьи о Пушкине. К 200-летию со дня рождения А.С.Пушкина. М.: Прометей, 1999. Современная лексема, производная от этого корня, – «шмоточник».
(обратно)21
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 127.
(обратно)22
Зиммель Г. Избранное в 2 т. М.: Юрист, 1996. Т. 2: Созерцание жизни. С. 270.
(обратно)23
Стендаль. Избранные произведения. М.: Худож. лит., 1952. С. 154.
(обратно)24
Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1987. Т.1. С. 353.
(обратно)25
Остен Д. Собр. соч. М.: Худож. лит., 1989. Т. 3. С. 188.
(обратно)26
Там же. С. 189.
(обратно)27
Готье Т. Мадемуазель де Мопен. М.: Терра, 1997. С. 65–66.
(обратно)28
Бульвер-Литтон Э. Пелэм, или Приключения джентльмена. М.: Правда, 1988. С. 396.
(обратно)29
Подробнее о снобизме см.: Кестлер А. Анатомия снобизма // Иностранная литература. 2001. № 4. С. 242–256.
(обратно)30
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева / Под ред. Ю.Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. С. 43.
(обратно)31
Там же. С. 44.
(обратно)32
Пруст М. У Германтов. М.: Худож. лит., 1980. С. 485.
(обратно)33
Алкивиад (около 450–404 до н. э.) – греческий военачальник и государственный деятель.
(обратно)34
Байрон Д.Г. Дневники. Письма. М.: Изд-во Академии наук, 1963. С. 276.
(обратно)35
Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1987. Т. 1. С. 352.
(обратно)36
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.: Независимая газета. 2000. С. 179.
(обратно)37
Плутарх. Указ. соч. Т. 1. С. 352.
(обратно)38
Там же. С. 353.
(обратно)39
Там же. С. 363.
(обратно)40
Там же. С. 358.
(обратно)41
«Метэк в Афинах – не пользующийся гражданскими правами чужеземец, которому разрешено проживание в городе и который платит за это особый налог» – комментарий М.Томашевской в цитированном издании Плутарха (Т. 1. С. 573).
(обратно)42
Плутарх. Указ. соч. Т. 1. С. 355.
(обратно)43
Там же.
(обратно)44
Платон. Сочинения: В 3 т. М.: Мысль, 1970. Т. 2. С. 144.
(обратно)45
Там же. С. 144.
(обратно)46
Там же. С. 152.
(обратно)47
Там же. C. 145
(обратно)48
Плутарх. Указ. соч. Т. 1. С. 371.
(обратно)49
Там же. Это же место у Плутарха выделяет Роже Кемпф: Kempf R. Dandies. Baudelaire et Cie.P.: Editions du Seuil, 1977. P. 147–148.
(обратно)50
Плутарх. Указ. соч. Т. 1. С. 352. (Подобные приемы в ходу и сейчас – хотя вряд ли можно сравнить со львом Майка Тайсона, откусившего на ринге ухо своему сопернику Эвандеру Холлифилду.)
(обратно)51
Там же. С. 364.
(обратно)52
. Петрарка Ф. Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982. С. 329 (комментарий и перевод В.В.Бибихина). C младшим братом Герардо, который духовно был ему очень близок, Петрарка учился в Болонском университете и жил в Авиньоне после смерти отца (1326–1330).
(обратно)53
Карл II (1630–1685) – король Англии, Шотландии и Ирландии (1660–1685).
(обратно)54
От французского слова «beau» – красивый.
(обратно)55
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.: Независимая газета, 2000. С. 85.
(обратно)56
Там же. С. 87.
(обратно)57
Смоллетт Т. Путешествие Хамфри Клинкера. М.: 1972. С. 60. Благодарю Людмилу Алябьеву за данную цитату.
(обратно)58
Барбе д’Оревильи Ж. Указ. соч. С. 89.
(обратно)59
Заметим, что эта тенденция жива и поныне – наиболее элегантные мужчины больше всего ценят итальянские рубашки, предпочитая марки «Баттистони» и «Pal Zileri».
(обратно)60
Красные каблуки были придворной модой в эпоху Людовика XIV, что позднее позаимствовали английские щеголи.
(обратно)61
Подразумеваются напудренные волосы.
(обратно)62
Trolly – английское кружево с рисунком утолщенной нити или узкой тесьмы.
(обратно)63
Отрывок из журнала «Town and Country Magazine» (1772) (цит. по статье Питера Макнила: McNeil Р. That doubtful gender: macaroni dress and male sexualities // Fashion Theory. Dec. 1999. Vol. 3, issue 4. P. 432).
(обратно)64
См. каталог выставки «Последователи моды»: Donald D. Followers of fashion. Graphic satires from the Georgian period. L.: Hayward gallery publishing, 2002.
(обратно)65
Yankee Doodle came to town,/ Riding on a pony;/ He stuck a feather in his cap/ And called it macaroni. Эта песенка из сборника «Стихи матушки гусыни» была популярна во время Войны за независимость. Самое раннее упоминание этого текста относится к 1768 году. См.: Mother Goose rhymes. Moscow: Raduga publishers, 1988. P. 235, 545.
(обратно)66
Для сравнения можно вспомнить аналогичные карнавально-карикатурные версии аристократического костюма в дальнейшей истории моды – zoot suits в Америке в 1940-е годы и Teddy Boys в Англии 1950-х годов.
(обратно)67
Подробнее о «нагой моде» см. в разделе «Туника и кринолин».
(обратно)68
Записки Сезара де Соссюра цит. по: Chenoune F. A History of man’s fashion. Paris; New York: Flammarion, 1993. P. 9.
(обратно)69
Shakespeare W. Hamlet. Act I, scene 3.
(обратно)70
Шекспир У. Гамлет (Акт I, сц. 3) // Шекспир У. Трагедии / Пер. М.Лозинского. М.: Правда, 1983. С. 149.
(обратно)71
Подробнее см.: Сhristopher Breward. Fashioning London. Clothing and the modern Metropolis. Berg, 2004. P. 21–49.
(обратно)72
Pierce Egan. Life in London, or Days and Nights of Jerry Hawthorne and his Elegant Friend Corinthian Tom, accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in their Rambles and Sprees through the Metropolis (1821). Книга иллюстрирована цветными гравюрами Джорджа и Роберта Крукшенков. В Москве это уникальное издание есть в Музее редкой книги РГБ.
(обратно)73
Ibid. P. 23.
(обратно)74
Ibid. P. 43, 63.
(обратно)75
О концепции «модерна» («современности») см. подробнее главу о дендистском зрении.
(обратно)76
Подробнее см.: Котляревский Н. Мировая скорбь в конце XVIII и в начале XIX века, ее основные этические и социальные мотивы и их отражение в художественном творчестве. СПб., 1914.
(обратно)77
Стендаль. Записные книжки. М.: Вагриус, 2001. С. 63–64.
(обратно)78
«Мое воображение, мои желания, некая, основанная на фатовстве, теория успеха, в которой я даже не отдавал себе ясного отчета, восставали во мне против такой любви…» (Констан Б. Адольф. М.: Худож. лит., 1959. С. 45).
(обратно)79
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М.: Искусство, 1983. Т. 2. С. 12.
(обратно)80
Там же. Т.1. С. 282–286.
(обратно)81
Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученики в Саисе. СПб.: Евразия, 1995. С.158. Новалис во фрагментах 1798 года шел еще дальше, призывая задуматься о телесности трансцендентного: «Есть только Единый храм в мире, и это – человеческое тело. Нет ничего священней, чем этот высокий образ. Низкий поклон пред человеком есть присяга на верность этому откровению во плоти… Касаются неба, если прикасаются к человеческому телу» (Там же).
(обратно)82
Там же. С. 154.
(обратно)83
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 80.
(обратно)84
«Inexpressibles» – «невыразимые»: популярный эвфемизм в эту эпоху. Аналогичным образом панталоны именовались «unmentionables», «nether garments», «sit-down-upon».
(обратно)85
Jesse W. The life of George Brummell, Esq. London, 1844. Vol. I. P. 52–53.
(обратно)86
Озерный край (Lake district) – живописная горная местность на границе Англии и Шотландии, изобилующая озерами и водопадами. Пейзажи Озерного края неоднократно воспевали поэты-романтики Вордсворт, Колридж и Саути, которые даже получили в критике название «Озерная школа».
(обратно)87
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 118.
(обратно)88
Барбе д’Оревильи Ж. Указ. соч. С. 100.
(обратно)89
Селвин Джордж (1719–1791) – английский политик, член парламента, был знаменит как щеголь и шутник.
(обратно)90
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 84.
(обратно)91
Raikes T. France since 1830. L., 1841. Vol. II. Р. 379.
(обратно)92
Охота на лис считалась в Англии настолько важным занятием, что даже открытие зимней сессии парламента приурочивалось к завершению сезона охоты на лис. Тогда в декабре все перебирались в город, и начиналась светская жизнь. Как писали в XIX веке, «светский сезон связан с работой парламента, а работа парламента зависит от спорта. Решительно невозможно проводить парламентские заседания, пока не наступят холода и у лис не начнется сезон брачных игр». См.: Pool D. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew. N.Y.: Touchstone, 1993. P. 51.
(обратно)93
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 118.
(обратно)94
Ibid. P. 74.
(обратно)95
Ibid. P. 317.
(обратно)96
Cole H. Beau Brummell. Granada Publishing, 1977. P. 108–109.
(обратно)97
Фредерик Норт, лорд Норт (1732–1792) – премьер-министр Англии в 1770–1782 годах. Будучи тори, входил в группировку «Друзей короля» («King’s friends»), членом которой, кстати, был и Чарльз Дженкинсон. Отстаивая политику короля Георга III, желавшего сохранить колонии, он неудачно вел дела во время войны с Америкой. После военных поражений под Саратогой (1777) и Йорктауном (1781) он подавал в отставку, но король согласился отпустить его только в 1782 году, а в 1783 году с апреля по декабрь он опять занимал пост премьер-министра. Сохранились анекдоты о внешней непривлекательности дам из семейства лорда Норта. Как-то раз на званом вечере один человек спросил лорда Норта: «Что это за уродка стоит там?» Лорд Норт ответил: «Это моя жена». Торопясь сгладить свой промах, собеседник поправился: «Я имел в виду девушку рядом». – «Это моя дочь», – сказал лорд Норт. Через несколько лет эту историю уже в качестве анекдота рассказал за обедом своей соседке по столу премьер-министр Фредерик Робинсон. «Я знаю эту историю, – сказала она. – Я и есть дочь лорда Норта».
(обратно)98
В XVII–XVIII веках особенно отличались по части коррумпированности так называемые «placemen» – члены палаты общин, занимавшие места на задних скамьях. Они нередко получали должности и разные синекуры в обмен на поддержку правящего кабинета в парламенте. Это была политика практически открытого подкупа. Против подобного положения вещей была направлена серия специальных законодательных актов (Place Acts). В связи с этой ситуацией часто иронически цитировали строчку со знаменитой опечаткой из второго издания женевской Библии «Blessed are the placemakers» – «Блаженны распределяющие места» (вместо «peacemakers» – миротворцы). Уильям Браммелл, будучи классическим placemaker, мог с полным правом отнести к себе эту строчку.
(обратно)99
Итон-колледж – одна из старейших привилегированных мужских средних школ с очень высокой платой за обучение. Основной контингент учащихся – дети аристократии; многие премьер-министры Англии – выпускники Итона.
(обратно)100
Fagging – школьный обычай, когда младшие мальчики первые три года прислуживают старшим ребятам.
(обратно)101
Прозвище «Принц китов» строится на игре слов «Wales» – Уэльский и «whales» – киты. На эту тему есть стихотворение Чарльза Лэма и карикатура Джорджа Крукшенка 1812 года, где принц Уэльский изображен в виде большого ленивого кита.
(обратно)102
Мэри Робинсон (1758–1800) – романистка, поэтесса и актриса. Прославилась исполнением роли Пердиты из «Зимней сказки» Шекспира, за что получила прозвище «Пердита». В 1781 году – история с принцем Уэльским: принц оплатил тогда ее уход со сцены чеком в 20 000 фунтов, а затем аннулировал этот чек. После разрыва с принцем ее разбил паралич, и она провела остаток жизни в инвалидном кресле. Чтобы заработать на жизнь, писала романы и стихи. Сейчас ее творчество и биография часто привлекают внимание феминистской критики.
(обратно)103
В 1785 году принц Уэльский тайно обвенчался с католичкой миссис Марией Фицхерберт, которая была его морганатической супругой вплоть до 1794 года. Поскольку подобный брак был нарушением британских законов из-за католического вероисповедания Марии, Ч.Д.Фокс позднее по прямому указанию принца объявил в парламенте этот брак недействительным. Принц же, объясняясь с Марией, свалил всю вину на Фокса.
(обратно)104
Cole H. Op. cit. P. 34–35.
(обратно)105
Сaptain Gronow. Reminiscences of Captain Gronow being anecdotes of the camp, the court and the clubs at the close of the last war with France. London: Smith, Elder and Co, 1862. P. 53.
(обратно)106
Каролина вскоре начала вести во Франции весьма легкомысленный образ жизни, и появились слухи, что у нее незаконный ребенок. В 1806 году по этому поводу было назначено «Delicate investigation» – «Деликатное расследование», и английский суд оправдал ее.
(обратно)107
Kenyon J.P. The Wordsworth Dictionary of British History, 1994. P. 150.
(обратно)108
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 50; Cole H. Op. cit. P. 47.
(обратно)109
Мебель «буль» производилась в мастерских французского краснодеревщика Андре Шарля Буля (1642–1763) и его сыновей. Считается ярким проявлением барокко эпохи Людовика XIV. Отличительные черты стиля «буль» – благородство пропорций и сдержанная роскошь: богатый орнамент, обилие инкрустаций из черепахи, слоновой кости, перламутра, латуни, серебра и редких пород дерева, широкое использование бронзовых накладок.
(обратно)110
Raikes T. Op. cit. Vol. II. Р. 377.
(обратно)111
Ibid.
(обратно)112
Скроп шутя говорил о Браммелле: «He was 40 000 pounds worse than nothing».
(обратно)113
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 327–328.
(обратно)114
«The genuine property of a man of fashion gone to the continent».
(обратно)115
Подробнее см. об этом дальше, в разделе об аристократическом кодексе поведения.
(обратно)116
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 78.
(обратно)117
Разные версии этого эпизода см.: Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 6–11, и Cole H. Op. cit. P. 143–145. Мы придерживаемся версии Джессе.
(обратно)118
Beau Brummell. Male and Female Costume. Grecian and Roman costume, British costume from the Roman invasion until 1822 and the principles of costume applied to the improved dress of the present day by Beau Brummell (George Bryan Brummell). Illustrated from the manuscript, edited and with introduction by Eleanor Parker. New York: Benjamin Blom publishers, 1972; first edition: New York, 1932.
(обратно)119
Beau Brummell. Male and Female Costume… P. 126.
(обратно)120
Ibid.
(обратно)121
Ibid. P. 313.
(обратно)122
Камю А. Бунтующий человек. М.: Политиздат, 1990. С. 157.
(обратно)123
Там же.
(обратно)124
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 367–368.
(обратно)125
Ibid. Р. 368.
(обратно)126
Дело Пьера Ривьера привлекло пристальное внимание Мишеля Фуко, который детально изучил все документы по этому процессу и два года вел по нему семинар в Коллеж де Франс, а затем выпустил книгу (см.: Foucault M. Moi, Pierre Rivière, ayant egorgé ma mère, ma soeur et mon frère… Paris, 1973). Заголовок книги – первые слова Пьера Ривьера на заседании суда: «Я, Пьер Ривьер, зарезавший свою мать, сестру и брата…»
(обратно)127
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М.: Искусство, 1983
(обратно)128
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 379.
(обратно)129
Woolf V. Beau Brummell. // Common Reader. Second series. London: Hogarth Press, 1935. P. 148–156.
(обратно)130
Melville L. Beau Brummell. New York: G.H.Doran co., 1925; Campbell K. Beau Brummell. L., 1948; Moers E. The Dandy. New York: The Viking Press, 1960; Cole H. Beau Brummell. L.: Granada publishing, 1977.
(обратно)131
Барбе д’Оревильи Ж. Дендизм и Джордж Бреммель. М.: Альциона, 1912. Предисловие М. Кузмина.
(обратно)132
«Рашид подталкивал меня к сапожному ремеслу, расписывая радужные перспективы, в которых мы с ним выступали эдакими белебеевскими Бреммелями…» (Из неопубликованных мемуаров В.Б. Мириманова. Речь идет о середине 40-х, но написано это много позже, в 2000 году. Белебей – городишко, где в ссылке находилась семья В.Б.Мириманова после 1937 года. Благодарю С.Ю. Неклюдова за эту цитату.)
(обратно)133
Полный текст песни о Браммелле см. в разделе о стилягах.
(обратно)134
Подробнее об этом см. в разделе о дендистском зрении.
(обратно)135
Название в оригинале: The book of fashion; being a digest of the axioms of the celebrated Joseph Brummell.
(обратно)136
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 79.
(обратно)137
Ibid P. 80.
(обратно)138
Камю А. Указ. соч. С. 157–158.
(обратно)139
Подробнее см. раздел о дендистской гигиене.
(обратно)140
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 62.
(обратно)141
Ibid. Vol. II. P. 58.
(обратно)142
Загородная стирка в то время считалась лучшей по качеству, поскольку стирали в проточной воде. В городе, напротив, воду для стирки всегда приходилось расходовать экономно.
(обратно)143
Собирательное прозвище англичанина.
(обратно)144
Max Beerbohm. Dandies and dandies // The Works of Max Beerbohm. Albany. 1896. Ch. 1. Эссе Бирбома выложено на сайте: http:// tanaya.net/Books/twomb10/
(обратно)145
Подробнее см. в разделе «Аполлоны в двубортных сюртуках».
(обратно)146
До этого штрипки использовались в военном костюме XVIII века. Браммелл перенес этот элемент в гражданскую одежду. См.: Бегунова А.И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I. М.: Молодая гвардия, 2000.
(обратно)147
См. каталог сатирических гравюр: Donald D. Followers of fashion. Graphic satires from the Georgian period. Prints from the British Museum. Newcastle: Hayward Gallery, 2002.
(обратно)148
«Даже в конце XIX века относительно свободомыслящая графиня Уорвик полагала, что “армейских и морских офицеров, дипломатов и священнослужителей можно пригласить ко второму завтраку или обеду. Викария, в том случае, если он джентльмен, можно постоянно приглашать к воскресному обеду или ужину. Докторов или адвокатов можно приглашать на приемы в саду, но ни в коем случае – ко второму завтраку или обеду. Всякого, кто связан с искусствами, сценой, торговлей или коммерцией, вне зависимости от достигнутых на этих поприщах успехов, не следует приглашать в дом вообще”» (Ливен Д. Аристократия в Европе 1815–1914. СПб.: Академический проект, 2000. С. 169).
(обратно)149
Raikes T. Op. cit. Vol. II. Р. 370.
(обратно)150
Ibid. Р. 375.
(обратно)151
Барбе д’Оревильи Ж. Указ. соч. С. 76.
(обратно)152
Письмо леди Хестер 10 июля 1837 года. Цит. по: Campbell K. Beau Brummell. L.: Hammond, 1948. P. 96–97. Здесь нельзя не сказать, что леди Хестер Станоп была одной из самых умных и независимых женщин своего времени. Племянница Уильяма Питта-младшего, она с молодости активно участвовала в политических делах, а после путешествия по Северной Африке осталась жить в ливанских горах, одевалась в мужское платье на восточный манер, курила трубку и увлекалась астрологией. Когда однажды она получила письмо от английского консула, предупреждавшего ее об опасностях подобного образа жизни, то ответила ему лаконичной фразой: «Консулы советуют торговцам, а не знатным людям». Этот разговор с Браммеллом она вспоминала, уже живя на Востоке, и посетившего ее спустя много лет соотечественника-англичанина первым делом спросила, что сейчас делает Браммелл, даже не осведомившись о других знаменитостях.
(обратно)153
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 109–110.
(обратно)154
Ibid. P. 244–245.
(обратно)155
О лондонском сезоне см.: Pool D. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew. New Уork: Touchstone, 1993. Р. 50–54.
(обратно)156
Edgeworth M. Belinda. Oxford: Oxford U.P., 1994. P. 264.
(обратно)157
Life, high and low. L.: 1819. P. 32.
(обратно)158
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 117.
(обратно)159
Ibid. P. 371.
(обратно)160
Подробнее см.: Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
(обратно)161
Король Франции Луи Филипп (1830–1848) до коронации носил титул герцога Орлеанского.
(обратно)162
Цит. по: Мартен-Фюжье А. Указ. соч. С. 366.
(обратно)163
The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion… London: E. Wilson, 1830. P. 11
(обратно)164
Об этом см. подробнее в разделе «Дендистская телесность».
(обратно)165
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. М.: Правда, 1988. С. 364.
(обратно)166
Букв. «двойной узел» – ситуация, когда в одном сообщении одновременно содержатся противоречивые смыслы.
(обратно)167
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 154. Упоминание «зеленых полей» у Джессе – вероятно, отсылка к известному шекспировскому мотиву: предсмертный бред Фальстафа о «зеленых полях» («and ‘a babbl’d of green fields» – Shakespeare W. King Henry the Fifth // Shakespeare W. The complete works. London; Glasgo: Collins, 1968. Р. 561. Рус. пер: «И начал он бормотать все про какие-то зеленые луга» (Шекспир У. Король Генри V. Акт II, сцена 3 // Шекспир У. Исторические хроники. / Пер. Е. Бируковой. М: Правда, 1987. С. 389. Не исключено, что в тексте Джессе шекспировские «зеленые поля» выступают как общеизвестная идиома, метонимическое обозначение предсмертного бреда. Благодарю В.М. Гаспарова за эту ссылку.
(обратно)168
См. с. 443 – анализ дендистского герба.
(обратно)169
Теофиль Готье прославился тем, что надел розовый жилет на премьеру пьесы Виктора Гюго «Эрнани» в 1830 году, чтобы шокировать буржуазную публику. Во время представления состоялась стычка между сторонниками романтической экспериментальной драмы Гюго и театральными ортодоксами. Розовый жилет Готье вошел в историю как пример одежного эпатажа.
(обратно)170
К концу XVIII века камзол уже превратился в удлиненный жилет.
(обратно)171
Подробнее о шейных платках см. следующую главу.
(обратно)172
Помада использовалась для закрепления формы парика, наподобие современных гелей и лаков для волос.
(обратно)173
«The great masculine renunciation» – термин Флюгеля в оригинале. См.: Flgüel J.C. Psychology of clothes. L.: Hogarth Press, 1930.
(обратно)174
Современные историки костюма нередко признают концепцию Флюгеля несколько абстрактной и упрощенной, справедливо указывая на вариативность дресс-кодов и развитие потребления в сфере мужского платья (см.: Breward C. The hidden consumer. Masculinities, fashion and city life 1860–1914.Manchester: Manchester U.P., 1999. P. 24–25). Тем не менее концепция Флюгеля, как нам представляется, удачно суммирует ряд процессов в моде на рубеже XVIII–XIX веков.
(обратно)175
The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion… London: E.Wilson, 1830. P. 13.
(обратно)176
В 1816 году коллекцию Элджина приобрел Британский музей.
(обратно)177
Термин «неоклассицизм» имеет несколько толкований. Мы придерживаемся традиции, сложившейся в западной науке, когда термин «неоклассицизм» относится к искусству второй половины XVIII – первых десятилетий XIX века. Наиболее видные представители неоклассицизма – архитекторы Р. Смерк и Р. Адам, скульпторы А. Канова, Ж. Гудон, Б. Торвальдсен; художники Р. Менгс, Ж.О. Энгр, Ж.Л. Давид – возрождают в своем творчестве мотивы античной классики. Во Франции неоклассицизм определяет эстетику «стиля Людовика XVI» и стиля ампир. В отечественном искусствознании иногда принято именовать неоклассицизмом более поздний период – вторую волну увлечения античностью в начале XX века. См.: Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб.: Кольна, 1995. Т. 1. С. 367–373; Турчин В. Александр I и стиль неоклассицизма в России. M.: Жираф, 2001. Hollander A. Seeing through clothes.University of California press, 1993. P. 117–128.
(обратно)178
Винкельман И. Избранные произведения и письма. М.: Ладомир, 1996. С. 101.
(обратно)179
Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. СПб.: Мифрил, 1994. С. 94–95. Этот пассаж у Вёльфлина, как видно по контексту, содержит толкование и развитие идей Винкельмана.
(обратно)180
Дэнди. 1910. № 1. С. 23.
(обратно)181
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева / Под ред. Ю.Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. С. 43–44.
(обратно)182
Винкельман И. Указ. соч. С. 207.
(обратно)183
Там же. С. 102–103.
(обратно)184
Греч Н.И. Путевые письма из Англии, Германии и Франции. СПб., 1839. Ч. 1. С. 167–168. Пользуюсь случаем выразить благодарность профессору И.Г. Добродомову, обратившему мое внимание на этот материал.
(обратно)185
Прическа с небольшими завитыми локонами надо лбом и короткой стрижкой сзади.
(обратно)186
Raisson H. Code de la toilette. Manuel complet d’élégance et d’hygiène. Paris, 1829. P. 83.
(обратно)187
Мода на узкий галстук возникла в середине XIX века, шейные же платки носили еще римские легионеры. В Европе они вошли в моду в XVII веке, когда в Париже появились хорватские солдаты, для которых яркие шелковые платки были элементом военной формы.
(обратно)188
Coup d’archet – удар смычком (фр.).
(обратно)189
Jesse W. The life of George Brummell… Vol. I. P. 62.
(обратно)190
Превосходный анализ культурного смысла складок дает АннаХолландер: Hollander A. Seeing through clothes. University of California Press, 1993. P. 1–83.
(обратно)191
Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М.: Логос, 1998. С. 211.
(обратно)192
Там же. С. 212.
(обратно)193
Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. С. 94–95.
(обратно)194
Авторство Бальзака не доказано, но большинство исследователей склоняются к мнению, что этот текст был написан Бальзаком. В Англии трактат выходил двумя изданиями под псевдонимом «H. Le Blanc» (H. Le Blanc. The Art of tying the cravat. London, 1827, 1828. Переиздание в томе: Late Georgian costume. /Ed. R.L.Shep, 1991).
(обратно)195
Neckclothitania; or Tietania: being an essay on starches. By one of the cloth. L., 1818. В заглавии – непереводимая игра слов, пародирующая стиль популярных романов.
(обратно)196
Заметим, что эти названия узлов сейчас не употребляются. Из старинных названий галстучных узлов до нашего времени дошел лишь четверной («four-in-hand»).
(обратно)197
Neckclothitania… P. 21. Цвет бедра испуганной нимфы – один из оттенков розового. Об этом цвете см.: Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995. С. 35–36.
(обратно)198
Neckclothitania… P. 25.
(обратно)199
Арнольд Ю.К.Воспоминания. M., 1892. Вып. 1. С. 11.
(обратно)200
Бальзак О.Утраченные иллюзии // Собр. соч.: В 15 т. М.:Гос. изд-во «Худож. лит.», 1953. Т. 6. С. 162.
(обратно)201
В целом же машинка-каркас для шейного платка не слишком выделялась на фоне тогдашних механических приспособлений в костюме – в XIX веке мужчины пользовались складным цилиндром или «клак-треуголкой» для парадных выходов, а в женской одежде существовали такие детали, как локоны, которые могли подтягиваться на пружинках, или складные рукава, меняющие свой объем по желанию хозяйки. В середине века эта тенденция каркасной механизированной одежды окончательно победила в дамской моде, когда Чарльз Ворт придумал кринолины.
(обратно)202
Канова видел греческие скульптуры, когда те еще находились в частном владении лорда Элджина (до того, как они были выставлены в Британском музее), что произвело на него неизгладимое впечатление.
(обратно)203
Hollander A. Opt. cit. P. 6.
(обратно)204
По результатам исследований Елена Петрова делала доклад на семинаре по невербальным коммуникациям в культуре,(РГГУ, 27 февраля 1997 года). Благодарю Елену Петрову за последующее обсуждение моей гипотезы по поводу денди.
(обратно)205
Райх В. Характероанализ. М.: Республика, 1999. С. 310.
(обратно)206
Fouqué C. De la Motte. Geschichte der Moden 1785–1829. Berlin: Union. S. 41.
(обратно)207
От фр. ridicule – сетка.
(обратно)208
Fouqué C. De la Motte. Op. cit. S. 45–46.
(обратно)209
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998. С. 250–258.
(обратно)210
Букв.: страсть к познанию.
(обратно)211
Винкельман И. Избранные произведения и письма. С.106.
(обратно)212
Edgeworth M. Belinda. Oxford: Oxford U.P., 1994. P. 230–231.
(обратно)213
Вигель Ф.Ф. Воспоминания. М.: Захаров, 2000. С. 123–124.
(обратно)214
Fouqu é C. De la Motte. Op. cit. S. 41
(обратно)215
Hollander A. Sex and suits.N.Y.: Alfred A.Knopf, 1995. P. 98.
(обратно)216
См. специальные разделы в трудах Винкельмана – «О рисунке одетых греческих фигур», «О тканях одеяний», «О видах и формах одеяний» (Винкельман И. Указ. соч. С.330–355).
(обратно)217
Готический вкус – тенденция в английской культуре периода 1750–1830 годов, связанная с интересом к Средневековью. Основные проявления – мрачный готический роман (Х.Уолпол, М. Льюис, А. Радклиф), в котором фигурируют призраки, и возрождение готического стиля в архитектуре и в мебели. Напротив, эстетика Возвышенного связана с созерцанием величественных природных пейзажей и ориентирована на эмоцию просветленного восхищения. Аналитика Возвышенного наиболее подробно изложена в «Критике способности суждения» Иммануила Канта.
(обратно)218
Bohmig M. Das Motiv der lebenden Statue in der deutschen und russischen Literatur der Romantik // Ricerche Slavistische, Vol. XXXIX–XL.1992–1993. № 1. S. 429–447.
(обратно)219
Неклюдов С.Ю. Ночной гость // Живая старина. 1996. № 1. С. 4–8.
(обратно)220
Lurie A. The language of clothes. L.: Bloomsbury, 1992. P. 68–73.
(обратно)221
Готье Т. Мода как искусство // Иностранная литература. 2000. № 3. С. 311.
(обратно)222
Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 324–325.
(обратно)223
Bronfen E. Over her dead body. Manchester U.P., 1992.
(обратно)224
Poovey M. «Scenes of an indelicate character»: the medical «treatment» of victorian women // The making of the modern body. California U.P., 1987. P. 137–169.
(обратно)225
Wilson E., Taylor L. Through the looking glass. L.: BBC Books, 1989. P. 21.
(обратно)226
Perrot Ph. Les dessus et les dessous de la bourgeoisie. Bruxelles: Editions Complexe, 1984. P. 259–291.
(обратно)227
Hazlitt W. Essays. Selected and edited by Frank Carr. London: Walter Scott, n. d. P. 182–183.
(обратно)228
Retenue (фр.) – сдержанность, хладнокровие.
(обратно)229
Закавыченная цитата в тексте Хэзлитта из неизвестного автора.
(обратно)230
Hazlitt W. Op. cit. P. 183.
(обратно)231
Ibid P. 189–190.
(обратно)232
Каркас из ивовых прутьев для юбки, вариант каркасной юбки XVIII века.
(обратно)233
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. М.: Академия моды, 1996. Т. 2. С. 116.
(обратно)234
Пруст М. У Германтов / Пер. Н.Любимова. М.: Худож. лит., 1980. С. 420.
(обратно)235
Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М.: Ad Marginem,1995. С. 539.
(обратно)236
Кирсанова Р.М. Человек в зеркале века // Русская галерея. 1998. № 2. С. 49.
(обратно)237
Там же. С. 48.
(обратно)238
Пруст М. У Германтов. С. 441.
(обратно)239
Керубино – юный паж из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».
(обратно)240
Бальзак О. Златоокая девушка // Собр. соч.: В 15 т. / Пер. М.И. Казас. М.: Гос. изд-во. «Худож. лит.», 1953. Т. 7. С. 285.
(обратно)241
Johnson P. The birth of the modern.N.Y., 1992. P. 710.
(обратно)242
Конан Дойль А. Родни Стоун // Собр. соч.: В 10 т. М: Слог, 1994. Т. 8. С. 112.
(обратно)243
Помимо книжки «Life in London» Эган также написал сочинение о боксе: Egan P. Boxiana; or, Sketches of Ancient and Modern Pugilism, from the Days of the Renowned Broughton and Slack, to the Championship of Cribb. L., 1811–1813.
(обратно)244
Таттерселл (Tattersall’s) – известный аукцион чистокровных лошадей близ Гайд-парка. Основатель и первый владелец – Ричард Таттерселл (1724–1795).
(обратно)245
Goede С. The Stranger in England.1807. Цит. по: McDowell С.The man of Fashion.L.: Thames and Hudson, 1997. P. 51.
(обратно)246
Melville L. The Beaux of the Regency.L.: 1908. Vol. I. P. 204–206.
(обратно)247
Timbs J. Clubs and club life in London.L.: Chatto and Windus, 1872.
(обратно)248
Gamer M. «Timour Tartar»: John Philip Kemble and the Hippodrama. Доклад на конференции Международного общества по изучению культуры XIX века (INCS). Лондон, 2003.
(обратно)249
До сих пор во всех цирках мира сохраняется диаметр манежа 13 метров, как это было впервые сделано Филипом Эстли для конных номеров.
(обратно)250
В английской культуре этот алгоритм в полной мере исторически раскрывается в популярности социалистических идей и марксизма среди аристократии и нынешней университетской профессуры, сплошь сторонников лейбористов.
(обратно)251
Конан Дойль А. Родни Стоун // Собр. соч.: В 10 т. М: Слог, 1994. Т. 8. С.112–113.
(обратно)252
Там. же. С. 91.
(обратно)253
Помимо Ньюмаркета, с 1711 года по указу королевы Анны проводились ежегодные бега в Аскоте.
(обратно)254
Johnson P. Op. cit. P. 712.
(обратно)255
Ibid. P. 712–713.
(обратно)256
Для сравнения вспомним сходный случай, как леди Джерси не пустила герцога Веллингтонского в клуб, когда он опоздал на 7 минут. См. раздел о клубах.
(обратно)257
Подробнее о французском Жокей-клубе см.: Мартен-Фюжье А. Указ. соч. С. 344–350.
(обратно)258
Там же. С. 347.
(обратно)259
The Whole art of dress or, the road to elegance and fashion… By a cavalry officer. London: E.Wilson, 1830. P. 73.
(обратно)260
Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во Сабашниковых, 1996. С. 115.
(обратно)261
Там же. С. 116.
(обратно)262
Hazlitt W. Op. cit. P. 191.
(обратно)263
«Telegraphic» в этом контексте, конечно, не подразумевает сравнения с телеграфом, который появился в Англии позже, в 50-е годы.
(обратно)264
Hazlitt W. Op. cit. P. 192.
(обратно)265
Берн Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. Л.: Лениздат, 1992. С. 317.
(обратно)266
Там же. С. 318.
(обратно)267
Непроницаемое сердце (лат.).
(обратно)268
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 492.
(обратно)269
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 309.
(обратно)270
The Whole art of dress… by a cavalry officer. London: E.Wilson, 1830. P.94.
(обратно)271
Остен Д. Доводы рассудка // Собр. соч. М.: Худож. лит., 1989. Т. 3. С. 540.
(обратно)272
Уолт Уитмен с неодобрением отзывался о накрашенном парне с Бродвея, говоря, что он похож на куклу с ярко-красными щеками и черными подведенными бровями.
(обратно)273
Подробнее см. главу о парфюмерии.
(обратно)274
Benjamin W. Arcades project. Harvard U.P.: The Belknap press, 2002. P. 76. Вальтер Беньямин ссылается на Taxile Delord, автора Paris Viveur (Paris, 1854).
(обратно)275
Мерсье Л.С. Картины Парижа. М.: Прогресс-Академия, 1995. С. 51.
(обратно)276
Бальзак О. Блеск и нищета куртизанок // Собр. соч.: В 15 т. М.: Худож. лит., 1954. Т. 9. С. 25.
(обратно)277
Лютеция – древнее название Парижа, происходит от латинского слова «lutum» – грязь. В свое время Lutetia (Parisiorum) – главный город галльского племени паризиев на острове реки Секваны (теперешней Сены). См.: Бальзак О. Златоокая девушка // Собр. соч.: В 15 т. / Коммент. М.Н.Черневич. М.: Худож. лит., 1953. Т. 7. С. 590.
(обратно)278
Бальзак О. Указ. соч. С. 277.
(обратно)279
Вигарелло Ж. Чистое и грязное: телесная гигиена со времен Средневековья // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 1. С. 519–557.
(обратно)280
Подробнее см.: Корбен А. Миазм и нарцисс // Ароматы и запахи в культуре / Сост. О.Б. Вайнштейн. М.: Новое литературное обозрение, 2003. Т. 1. С. 322–437.
(обратно)281
Подробнее см.: Pool D. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew. New York: Touchstone, 1994. P. 201–203.
(обратно)282
Johnson P. The birth of the modern. Harper Perennial, 1991. P. 754.
(обратно)283
В античности аккуратностью выделялся не кто иной, как один из первых модников Алкивиад: «Как-то банщик, готовя баню для Алкивиада, налил воды больше обычного; спартанец спросил его: зачем столько? Лучше вылей! Уж больно много воды идет на него одного, как на какого-нибудь грязнулю». Чистоплотность Алкивиада необычна для древних греков, и особенно он должен был выделяться среди спартанцев, которые «ходили немытые, воздерживаясь по большей части как от бань, так и от того, чтобы умащать тело» (См.: Плутарх. Застольные беседы. Л.: Наука, 1990. С. 328, 331).
(обратно)284
Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. С. 204.
(обратно)285
Аналогичной маниакальной чистоплотностью отличались некоторые русские денди. Например, Пыляев повествует о необычайной аккуратности небезызвестного графа Аракчеева, репутация которого, особенно в среде либеральной интеллигенции, была нехорошей. «Государь однажды ночью прислал за ним, чтобы ехать вместе. Вскочив с постели, Аракчеев начал поспешно одеваться; на беду, когда он почти совсем был одет, камердинер по неосторожности капнул со свечи на палевые штаны. Как ни спешил Аракчеев, однако разделся, несмотря на то, что за другими штанами нужно было пробежать несколько комнат. Своим переодеванием он заставил государя прождать пять минут лишних – до такой изысканности доходило у него требование чистоты» (Пыляев М. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук, 1990. С. 109). В этом фрагменте ощутимо авторское осуждение: Аракчеев не должен был заставлять ждать монарха. Однако, с другой стороны, это может характеризовать Аракчеева как по-военному выученного павловца, не допускающего небрежности в мундире.
(обратно)286
Помимо Клеопатры, ванны из молока ослиц ежедневно принимала римская императрица Поппея, а в XVIII веке молочные ванны любил английский герцог Куинсберри.
(обратно)287
Jesse W. The life of George Brummell… Vol. II. P. 202–203.
(обратно)288
Ibid. Vol. II. P. 80.
(обратно)289
Ibid. Vol. II. P. 198–200.
(обратно)290
Ibid. Vol. II. P. 204.
(обратно)291
Фрейд уделял немалое внимание симптомам повышенной брезгливости и считал гипертрофированную аккуратность одним из признаков анального характера наряду с бережливостью и упрямством (См.: Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1989. С. 362).
(обратно)292
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентельмена. С. 384.
(обратно)293
Бальзак О. Златоокая девушка // Собр. соч.: В 15 т. М.: Худож. лит., 1953. Т. 7. С. 299.
(обратно)294
Там же. С. 300.
(обратно)295
Там же.
(обратно)296
Jesse W. Op.cit. Vol. I. P.7 0.
(обратно)297
Ibid. Vol.I I. P. 81–82.
(обратно)298
О символике париков см. статью: Pointon M. The cаse of the dirty beau: symmetry, disorder and the politics of masculinity // The body imaged. Ed. Adler K., Pointon M. Cambridge U.P., 1993. P. 175–189.
(обратно)299
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 48.
(обратно)300
Мерсье Л.С. Указ. соч. С.329–330.
(обратно)301
Pointon M. Op. cit. P. 181.
(обратно)302
Мерсье Л.С. Указ. соч. С. 330.
(обратно)303
The Spectator.10 December 1714. № 631.Цит. по: Pointon M. Ibid.P.181.
(обратно)304
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1994.С. 83–84.
(обратно)305
Там же. С. 100.
(обратно)306
Там же. С. 84.
(обратно)307
Бальзак О. Блеск и нищета куртизанок // Собр. соч.: В 15 т. М.: Худож. лит., 1954. Т.9. С. 69.
(обратно)308
Золя Э. Нана. Бальзак О. Озорные рассказы. Калининград: Кн. издво, 1994. С. 193.
(обратно)309
Там же. С. 270.
(обратно)310
Там же. С. 49.
(обратно)311
Perrot Ph. Les dessus et les dessous de la borgeoisie. Librairie Artheme Fayard, 1981. P. 228–229.
(обратно)312
Пословица про мытье: «Руки часто, ноги – редко, голову – никогда».
(обратно)313
Vigarello G. Le propre et le sale: l’hygiene du corps depuis le Moyen Age. P.: Editions du Seuil, 1985. P. 188.
(обратно)314
Фрэзер Дж. Золотая ветвь. М.: Политиздат, 1980. С. 262–263.
(обратно)315
Подробнее см.: Вайнштейн О.Б. Откуда берется пыль? Семиотика чистого и грязного // Arbor Mundi.1998. № 6. С. 153–170.
(обратно)316
Ariès Рh., Duby G. (eds.). A History of private life. Vol. 4. From the fires of revolution to the great war. M.Perrot, editor, transl. A. Goldhammer. The Belknap press of Harvard U. P. P. 494–497.
(обратно)317
Простейшие микроорганизмы ученые наблюдали и раньше, изобретатель микроскопа Левенгук начал публиковать свои зарисовки в 1673 году, однако концепции бактерий тогда еще не существовало. Подробнее см.: Tomes N. The Gospel of germs: Men, Women and the Microbe in American Life. Harvard U.P., 1998.
(обратно)318
В английском пособии по гигиене периода Первой мировой войны борьба за чистоту изображалась как военное сражение, причем микробы были одеты в форму германских солдат.
(обратно)319
Подробнее см.: Corbin A. The foul and the fragrant. Harvard U.P., 1986. P. 226–227.
(обратно)320
Forty A. Objects of desire.L.: Thames and Hudson, Cameron books, 1992. P. 159–160.
(обратно)321
Цит. по: Vigarello G. Op. cit. P. 236.
(обратно)322
Ibid. P. 237.
(обратно)323
Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 490.
(обратно)324
Ж.М. Шарко (1825–1893) – французский врач, организовал первую неврологическую клинику в госпитале Сальпетриер в Париже. Учитель Фрейда. Влияние Шарко чувствуется в романе Жоржа дю Морье, когда гипнотизер Свенгали внушает суггестивной Трильби фантасмагорическую картину пытки водой: «Посмотри, там, за рекой, стоит небольшой серый неприглядный домик. Внутри стоят в ряд восемь наклонных медных лежанок, как кровати в школьной спальной, и в один прекрасный день ты проснешься на такой лежанке… На тебе будет только маленький кожаный фартук, а над головой – маленький медный краник, и все дни и ночи напролет холодная вода будет капать, кап-кап-кап, и стекать по твоему прекрасному телу вниз по твоим прекрасным ногам, пока они не позеленеют. Твоя грязная рваная одежда будет висеть рядом, чтобы твои друзья смогли тебя узнать по ней. Но у тебя больше уже не будет друзей. Все прохожие будут смотреть на тебя сквозь большое стеклянное окно – англичане, старьевщики, живописцы и скульпторы, рабочие и солдаты, старые бабки, прачки – и говорить: “Ах, какая это была прекрасная женщина!”» (Du Maurier G. Trilby.L.: Penguin, 1994. P. 68–69). Магнетизер-гидрофоб Свенгали здесь находит опору для своего внушения в реальной практике лечебниц для умалишенных, причем эффект объективации тела удваивается благодаря возможности для любопытствующих разглядывать и комментировать китайское истязание.
(обратно)325
Vigarello G. Op. cit. P. 233.
(обратно)326
Цит. по: Perrot P. Op. cit. Р. 230.
(обратно)327
Ср. у Замятина: «Среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом…» (Замятин Е. Мы; Хаксли О. О дивный новый мир. М.: Худож. лит., 1989. С. 20).
(обратно)328
Newman J.H. What is a University? // Essays English and American. New York: Collier, 1969. Harvard classics series. P. 34.
(обратно)329
Jesse W. The life of George Brummell, esquire. London, 1844. Vol. I. P. 76.
(обратно)330
Честертон Г.К. Писатель в газете. М.: Прогресс, 1984. С. 76.
(обратно)331
Хосе Ортега-и-Гассет. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. С. 202–203.
(обратно)332
О подколках, скандалах и розыгрышах см. раздел «Нарушители конвенций».
(обратно)333
Хосе Ортега-и-Гассет. Указ. соч. С.204.
(обратно)334
Остен Д. Собр. соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 3. С. 183.
(обратно)335
Там же. С. 198.
(обратно)336
Там же. С. 184.
(обратно)337
Austen J. Emma. L.: Penguin, 1985. Р. 432.
(обратно)338
Остен Д. Там же. С. 327.
(обратно)339
Там же. С. 353.
(обратно)340
Там же. С. 33.
(обратно)341
Там же.
(обратно)342
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 148.
(обратно)343
Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: В 4 т. М., 1978. Т. 1. С. 275.
(обратно)344
The new Roget’s Thesaurus in dictionary form. Rеvised by Norman Lewis. New York, 1978. P. 475.
(обратно)345
The complete works of William Shakespeare. L.: Odhams Press, n.d. P. 1132.
(обратно)346
Шекспир В. Трагедии. Сонеты. М.: Худож. лит., 1968. С.142.Перевод Б. Пастернака в данном случае гораздо точнее перевода М. Лозинского, который дает вариант «будь прост с другими, но отнюдь не пошл». Это как раз привнесение более позднего смысла. С удовольствием отмечаю, что эти шекспировские строчки мне показал Айдын Джебраилов.
(обратно)347
Onions C.T. A Shakespeare Glossary. Enlarged by R.D.Eagleson.Oxford: Clarendon Press, 1986. P. 310.
(обратно)348
Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л.: Наука, 1971. С. 118.
(обратно)349
Там же.
(обратно)350
Там же.
(обратно)351
Там же. С. 119.
(обратно)352
Newman J.H. A definition of a gentleman // The portable Victorian reader / Ed.G.S. Haight. Penguin, 1977. P. 466.
(обратно)353
Сю Э. Парижские тайны: В 2 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. I. С. 241.
(обратно)354
Там же. С. 242–244.
(обратно)355
Hazlitt W. Table-Talk. London; Toronto: W.Dent, 1908. P. 161.
(обратно)356
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентельмена. С. 364.
(обратно)357
«На богатых, но недостаточно культурных купчихах дорогие туалеты, выписанные из лучших парижских, лондонских или венских фирм, теряли свое изящество. Происходило это и от неумения их носить, и от обилия слишком богатых украшений (бриллиантовая брошь или ожерелье в несколько нитей крупного жемчуга к обычному дневному, даже летнему платью), и от какой-нибудь детали, добавленной от себя для пущей нарядности… Заботясь только о том, чтобы превзойти окружающих роскошью и нарядностью, эти женщины выбирали самые модные и сложные фасоны, не считаясь со своей внешностью… и приказывали нашить побольше дорогой отделки – гипюра, кружева, стекляруса, бахромок и т. д. К такому платью, негармоничному по линиям, цвету, отделке, одни купчихи надевали ультрамодную обувь… другие, не желая себя стеснять, надевали прюнелевые или сафьяновые ботинки на небольшом каблучке, с резинками по бокам, или со шнуровкой, такого же фасона, какие носили работницы. Эти ботинки не мешали купчихе надеть шляпу, на тулье которой горкой возвышались украшения, и модную накидку, взять в руки яркий шелковый зонтик с оборкой и бантом, золотой лорнет (для интеллигентности) и обязательно ридикюль, большей частью бисерный…» (Русский костюм 1750–1917: В 5 т. / Под ред. В. Рындина; Текст Е. Берман, Е. Курбатова. М: ВТО, 1972. Т. 5. С. 38–39).
(обратно)358
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 304.
(обратно)359
Hazlitt W. Table-Talk. London; Toronto: W.Dent, 1908. P. 156–168.
(обратно)360
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 147.
(обратно)361
Элиас Н. О процессе цивилизации: В 2 т. М.; Сбп., 2001.
(обратно)362
Пруст М. У Германтов. М.: Худож. лит., 1980. С. 419.
(обратно)363
Рескин Дж. Сезам и лилии / Пер. О.М. Соловьевой. М., 1901. С. 47.
(обратно)364
Carré J. L’Espace du club londonien au XIX siècle // Les espaces de la civilité / Edt. InterUniversitaires, 1995. P. 41.
(обратно)365
Цит. по статье в Интернете: Kristine Hughes.White’s club.
(обратно)366
Сaptain Gronow. Reminiscences of captain Gronow, being anecdotes of the camp, the court, and the clubs, at the close of the last war with France. London, 1862. P. 76.
(обратно)367
Ibid. P. 79.
(обратно)368
Байрон. Дневники. Письма. М.: Изд-во Академии наук. Сер. Литературные памятники, 1963. С. 250–251.
(обратно)369
О русском контексте карточных игр см.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПБ, 1994. С. 136–164, статья «Карточная игра».
(обратно)370
Jesse W. The life of George Brummell… Vol. I. P. 100–101.
(обратно)371
Имеется в виду служба в Индии, бывшей в то время британской колонией.
(обратно)372
Возможно, здесь был также принципиален отказ от невольных меток на картах жирными пальцами. Ведь иначе сгодился бы и одинарный бутерброд.
(обратно)373
Вайкс А. Энциклопедия азартных игр. М.: Ефрат, 1994. С. 122.
(обратно)374
Там же. С. 121–122.
(обратно)375
Не путать с писателем Томасом Карлайлем!
(обратно)376
Jesse W. Op. cit. Vol.I.P. 168–169.
(обратно)377
Сaptain Gronow. Reminiscences… Р. 77.
(обратно)378
Байрон. Указ. соч. С.251.
(обратно)379
Подробнее об этом, и в частности, о разочаровании Джона Трелони см.: Вайнштейн О.Б. Жизнетворчество в культуре европейского романтизма // Уч. зап. РГГУ. М., 1998. Вып. 2. С. 161–187.
(обратно)380
Вайкс А. Энциклопедия азартных игр. М.: Ефрат, 1994. С. 226.
(обратно)381
Там же.
(обратно)382
Цит. по: Cole H. Beau Brummell.L.: Granada Publishing, 1977. P. 83.
(обратно)383
Цит. по: Carré J. L’Espace du club londonien au XIX siècle // Les espaces de la civilité/ Ed. InterUniversitaires, 1995. P. 49.
(обратно)384
Конан Дойль А. Собр. соч.: В 10 т. М.: Слог, 1993. Т.2. С. 444.
(обратно)385
Там же.
(обратно)386
Подробнее см. далее главу «Денди-хамелеон».
(обратно)387
Этому посвящена кн.: Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
(обратно)388
Цит. по статье: Wedgewood А. The Athenaeum // The romantic age in Britain. The Cambridge cultural history of England / Ed.by Boris Ford. Cambridge, 1992. Vol. 6. P. 260–261.
(обратно)389
Напомним, что в ту эпоху женщины, как правило, вообще не допускались в клубы. Вплоть до конца XIX века, даже если женщина состояла в литературном или в философском обществе, ей был запрещен вход в библиотеку, которая считалась местом мужского досуга. См.: A History of private life. Vol.4. From the fires of revolution to the Great war / Ed.M.Perrot. Harvard U.P., 1990. P. 64.
(обратно)390
Moers E. The dandy. New York, 1960. P.45.
(обратно)391
С 1826 г. – княгиня Ливен.
(обратно)392
Цит. по: Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 213.
(обратно)393
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. М.: Правда, 1988. С. 578.
(обратно)394
Jesse W. Op. cit. Vol.I. P. 99.
(обратно)395
Moers E. The dandy. P. 45.
(обратно)396
Цит. по: Moers E. The dandy. Р. 46.
(обратно)397
Цит. по сайту / almack’s/html.
(обратно)398
Captain Gronow. Reminiscences… P. 45.
(обратно)399
К этому прибавляется еще и полезный совет: «Не забудь протанцевать и с матерью девицы» // Танцы, их история и развитие. По изданию: Вюилье Г. СПб., 1902. С. 73–74.
(обратно)400
См.: Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 136.
(обратно)401
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 80.
(обратно)402
Bulwer-Lytton E. Godolphin. L.: Routledge. P. 85. В другом эпизоде романа будущая жена Годольфина Констанс, по светскому амплуа тоже лидер моды, устраивает у себя дома тренировочные занятия для дам, желающих освоить новейшие танцы (Р. 121).
(обратно)403
Подробнее см. главу «Дендистские прогулки, или О прелестях фланирования».
(обратно)404
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб, 1994. С. 97.
(обратно)405
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. С. 420.
(обратно)406
Мартен-Фюжье А. Указ. соч. С. 136.
(обратно)407
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 142.
(обратно)408
Ibid. P. 143.
(обратно)409
Мартен-Фюжье А. Указ. соч. С. 345.
(обратно)410
Там же. С. 352.
(обратно)411
Там же.
(обратно)412
Шумович И. Обед под портретом // М-Коллекция. 2000. № 5. С. 43.
(обратно)413
Хамелеонский характер – частая метафора в сочинениях античных философов. У Аристотеля читаем: «Ясно ведь, что, если следовать за превратностями судьбы, тогда одного и того же человека мы будем называть то счастливым, то злосчастным, представляя счастливого своего рода хамелеоном и как бы шаткой постройкой» (пер. Н.В. Брагинской) – Аристотель. Никомахова этика. Кн. I, 1100b (Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1984. Т. 4. С. 70). В комментариях указано, что «неожиданные образы хамелеона и шаткой постройки взяты из неизвестного поэта» (Там же. С. 700). См. также статью о хамелеоне в: Der kleine Pauly. Lexikon der Antike, hg. von K.Ziegler, W. Sontheimer und H. Grätner. Mnüich, 1964–1975. Bd. I. S. 1128, где перечислены все античные источники с упоминаниями хамелеона. Приношу благодарность Н.В. Брагинской, указавшей мне на эту литературу.
(обратно)414
Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1987. Т. 1. С. 371.
(обратно)415
Монтень М. Опыты. М.: Наука, 1979. Т. I. С. 156.
(обратно)416
Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л.: Наука, 1971. С. 226.
(обратно)417
Одежда традиционно воспринимается в культуре как «внешняя душа». Головной убор, в частности, нередко символизирует мнения, идеологическую позицию владельца – вспомним, как в XIX веке свободомыслящие западники предпочитали боливар, а славянофилы – мурмолки.
(обратно)418
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху //Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева / Под ред. Ю.Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. С. 43.
(обратно)419
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. 1988. С. 311–312.
(обратно)420
Весь ансамбль (фр.).
(обратно)421
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 419.
(обратно)422
Там же. С. 442.
(обратно)423
Там же. С. 565.
(обратно)424
Шатобриан Ф.Р. Замогильные записки. М.: Изд-во Сабашниковых, 1995. С. 338.
(обратно)425
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 459.
(обратно)426
Там же. С. 437.
(обратно)427
Там же.
(обратно)428
Подробнее см.: Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М.: Медиум, 1992. С. 32–76.
(обратно)429
Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика. М.: Искусство, 1983. Т. 1. С. 287.
(обратно)430
Edgeworth M. Belinda. Oxford: Oxford U.P., 1994. P. 14.
(обратно)431
Шлегель Ф. Указ. соч. С. 283.
(обратно)432
Там же.
(обратно)433
Novalis. Dichtungen und Prosa. Leipzig, 1975. S. 635 (русский перевод – см.: Новалис. Фрагменты // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980.С.97).
(обратно)434
Ibid. Leipzig, 1975. S. 493–494.
(обратно)435
Колридж С.Т. Из Литературной биографии //Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980. С. 280.
(обратно)436
Там же.
(обратно)437
Китс Д. Письмо Р.Вудхаусу. 27 октября 1818 года // Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980. С. 358; Ср.: The selected letters of John Keats. Signet: New American library, 1974. Р. 113.
(обратно)438
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 440.
(обратно)439
Там же. С. 694–695.
(обратно)440
Там же. С. 695.
(обратно)441
Там же. С. 724.
(обратно)442
Уайльд О. Избранное. М.: Худож. лит., 1986. С. 151–152.
(обратно)443
См.: Pick D. Faces of degeneration: a European disorder.Cambridge U.P., 1989. Р. 1848–1918.
(обратно)444
Подробнее см.: A History of private life. From the fires of revolution to the Great War. Vol. 4. From the fires of revolution to the Great war / Ed. M. Perrot. Harvard U.P., 1990. Р. 339–451.
(обратно)445
Подробнее см.: Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998.
(обратно)446
Стендаль. Избранные произведения. М.: Худож. лит., 1952. С. 155.
(обратно)447
Подробнее см.: Harvey J. Men in black. Chicago U.P., 1995.
(обратно)448
Барбе д'Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 72.
(обратно)449
Мерсье Л.С. Картины Парижа. М.: Прогресс-Академия, 1995. С. 307–308.
(обратно)450
Montandon A. (ed.). Dictionnaire raisonné de la politesse et du savoirvivre. P.: Seuil, 1995. P. 279, 847–855.
(обратно)451
Стрэчи Л. Королева Виктория. Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. С. 73.
(обратно)452
Цит. по: Cole H. Beau Brummell. L.; Toronto: Granada Publishing, 1977. P. 82.
(обратно)453
Подробнее об этом правиле см. в главе о Бодлере.
(обратно)454
Барбе д'Оревильи Ж. Указ. соч. С. 91.
(обратно)455
Там же. С. 75.
(обратно)456
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. С. 312.
(обратно)457
Скроп Дэвис (1783–1852) вращался в светских кругах и был фигурой очень известной. Байрон считал его самым остроумным и находчивым собеседником из всех своих знакомых и посвятил ему «Паризину» (1816). В «Разрозненных мыслях» Байрона можно найти весьма занятные истории, где Скроп Дэвис фигурирует в качестве главного действующего лица.
(обратно)458
Байрон Д.Г. Дневники. Письма. М.: Изд-во Академии наук, 1963. С. 266.
(обратно)459
Байрон называл веселых собутыльников «эфесцами» по древнегреческому городу Эфесу, жители которого славились любовью к развлечениям.
(обратно)460
Байрон. Указ. соч. С. 266–267.
(обратно)461
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 75.
(обратно)462
Там же. С. 76.
(обратно)463
О том, как денди нарушали ритуалы гостеприимства, см. подробнее нашу статью: Vainchtein O. La subversion de l’hospitalité et les jeux visuels dans le dandysme // Mythes et représentations de l’hospitalité / Ed. Alain Montandon. Université Blaise Pascal, 1999. P. 267–281.
(обратно)464
Jesse W. The life of George Brummell, esq., commonly called Beau Brummell: In 2 vol. L.: Saunders and Otley, 1844. Vol. I. P. 84–85.
(обратно)465
Ibid. P. 44.
(обратно)466
Ibid. P. 106–107.
(обратно)467
Апория – в античной философии – логическое затруднение, непреодолимое противоречие при разрешении проблемы. Особенно известны апории Зенона Элейского (V в. до н. э.).
(обратно)468
Derrida J. De l’hospitalité. P.: Calmann Levy, 1997 (Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre sur l’hospitalité). P. 73.
(обратно)469
Ibid. P. 75.
(обратно)470
Ibid.
(обратно)471
Jesse W. Op.cit.. Vol. I. P. 272.
(обратно)472
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 124–125.
(обратно)473
Точный анализ социальных аспектов дендизма см. в кн. Домны Стантон: Stanton D. The aristocrat as art. Columbia U.P., 1980.
(обратно)474
Jesse W. Op.cit.Vol. I. P. 108.
(обратно)475
Ibid. P. 102.
(обратно)476
Ibid. P. 92.
(обратно)477
Blanchot M. De l’insolence considerée comme un des beaux arts. P.: Gallimard, Faux pas, 1943. P. 349.
(обратно)478
Stanton D. Aristocrat as art. P. 163–164.
(обратно)479
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. С. 426.
(обратно)480
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 125–126.
(обратно)481
Там же. С. 126.
(обратно)482
Там же. С. 125.
(обратно)483
Bulwer-Lytton E. Godolphin. London, n.d. P. 120.
(обратно)484
Ibid. P. 80.
(обратно)485
Сю Э. Парижские тайны. М.: Худож. лит., 1989. Т. 1. С. 244.
(обратно)486
Там же. С. 242–244.
(обратно)487
В оригинале игра слов – «She was downright brass – but of the finest kind – Corinthian brass». «Corinthian brass»: букв. «коринфская латунь» – редкий и ценный сплав, но в данном контексте – «модная наглость». Здесь обыгрываются двойные значения «corinthian»: 1) коринфский; 2) «праздный гуляка, весельчак, модник» и «brass»: 1) латунь; 2) наглость (Edgeworth M. Belinda. Oxford: Oxford U.P., 1994. P. 43).
(обратно)488
Harum scarum – легкомысленный, бесшабашный, развязный. От «hare’em, scare’em» – «смути их, напугай их».
(обратно)489
Лозен Антуан Номпар де Комон (1632–1723) – граф, затем герцог, маршал Франции, галантный кавалер. Возлюбленный, затем морганатический супруг Мадемуазель.
(обратно)490
Анна-Мария-Луиза Орлеанская (1627–1693) – герцогиня де Монпансье, двоюродная сестра Людовика XIV, носила титул «Великая Мадемуазель» (Grande Mademoiselle), участница Фронды, автор «Мемуаров». Жизненная история Мадемуазель не раз привлекала внимание исследователей; среди ее биографов, между прочим, была Вита Сэквилл-Уэст.
(обратно)491
Barbey d’Aurevilly J. Un dandy d’avant les dandys // Barbey d’Aurevilly J. Oeuvres romanesques complètes. P.: Bibliothèque Pléiade, 1966. Vol. II. P.725.
(обратно)492
Подробный очерк «отказа от любви» можно найти в замечательном романе мадам де Лафайет «Принцесса Клевская».
(обратно)493
Сен-Симон Л. Мемуары: В 2 кн. М.: Прогресс, 1991. Кн. 2. С. 405.
(обратно)494
Там же. С. 406.
(обратно)495
Jesse W. The life of George Brummell, esquire. L., 1844.
(обратно)496
Успенский Б.А. Антиповедение в культуре Древней Руси // Успенский Б.А. Избранные труды. М.: Гнозис, 1994. С. 320–333.
(обратно)497
Jesse W. Op.cit.Vol.I. P. 108–109.
(обратно)498
Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. М.: Правда, 1987. Т. 1. С. 355.
(обратно)499
Об античных источниках поведения российских дворян писал Ю.М.Лотман в статье «Декабрист в повседневной жизни» (Лотман Ю.М. Избранные статьи. Таллинн, 1992. С. 307).
(обратно)500
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джоне Браммелле. С. 111–112.
(обратно)501
Плутарх. Указ. соч. С. 356.
(обратно)502
Там же. С. 357.
(обратно)503
Там же. С. 357.
(обратно)504
Jesse W. Op.cit. Vol. I. P. 115–116.
(обратно)505
Ibid. P. 114–115.
(обратно)506
Addison J. Selections from Addison's papers contributed to the Spectator / Ed.with Introduction and Notes by Thomas Arnold Oxford: Clarendon Press, 1925. Р. 290. Моя искренняя благодарность Людмиле Алябьевой, приславшей мне этот текст Аддисона.
(обратно)507
Ibid.P.290.
(обратно)508
Хогарт У. Анализ красоты. Л.: Искусство, 1987. С.187–194 (раздел «О лице»).
(обратно)509
Addison J. Op.cit. P. 288.
(обратно)510
Жан Поль. Приготовительная школа эстетики. М.: Искусство, 1981. С. 149.
(обратно)511
Зольгер К. – В. – Ф. Эрвин. М.: Искусство, 1978. С. 350.
(обратно)512
18. Addison J. Op. cit. P. 289.
(обратно)513
Jesse W. Op. cit. Vol.I. P. 113–114.
(обратно)514
Каламбур строится на двух значениях слова «private box» – частная ложа в театре и в данном контексте – гроб; «pit» – оркестровая яма и могила.
(обратно)515
Коллекционирование забавных вывесок, вероятно, знакомо некоторым читателям как классическое хобби советского времени. В кабинете моего папы много лет висела вывеска «Не ходи по стене».
(обратно)516
Здесь обыгрывается общераспространенность фамилии «Джоунз» и «Томпсон», которые в английском языке часто выступают как парные нарицательные фамилии, как в русском «Бобчинский и Добчинский» или «Иванов, Петров, Сидоров». Ср. сходное использование парных фамилий «Джонсон/Томпсон» в приводившемся анекдоте про Браммелла, когда он тоже явился на прием без приглашения. Сходство мотивов этих двух историй, включая эту пару фамилий, позволяет предположить, что здесь мы имеем дело с вариантами одной легенды, хотя сюжет с розыгрышем Хука гораздо более детален.
(обратно)517
Bank of England – Английский банк, Банк Англии – государственный центральный эмиссионный банк в Лондоне, основан в 1695 году, национализирован в 1946-м.
(обратно)518
Threadneedle Street – Треднидл-стрит, улица в Лондонском Сити, на которой находится несколько крупнейших банков, в том числе Английский банк. Отсюда разговорное прозвище Английского банка «Old lady of Threadneedle street» – старая леди с улицы Треднидл – намек на консервативность Английского банка.
(обратно)519
East India Company – Ост-Индская компания: крупная коммерческая фирма, существовавшая с 1600 по 1958 год. Активно влияла на политику британской империи в Индии в XIX веке. В Ост-Индской компании с 1792 по 1825 год работал известный эссеист Чарльз Лэм.
(обратно)520
История розыгрыша изложена по книге: Melville L. The beaux of the Regency: In 2 vol. L., 1908. Vol. 2. Р. 235–237.
(обратно)521
Мифологическое восприятие трубочиста как медиатора, посредника – «чертенка» или, наоборот, падшего ангела – общее место в английской культуре (см. стихотворение Уильяма Блейка «The chimney sweeper», известное эссе Чарльза Лэма в «Очерках Элии» и сказку Чарльза Кингсли «Водяные малыши»).
(обратно)522
Montandon A. Préface // Mythes et représentations de l’hospitalité / Ed. Alain Montandon. Université Blaise Pascal, 1999. P. 11–21.
(обратно)523
Сэр Эдвард Берн Джонс (1833–1898) – английский художник, иллюстратор, член Прерафаэлитского братства.
(обратно)524
Рассел Б. Автобиография / Пер. Т.Я.Казавчинской // Иностранная литература. 2000. № 12. С. 116.
(обратно)525
Для сравнения скажем, что во Франции традиция розыгрышей практически отсутствует и даже в языке есть только общее понятие «blague», обозначающее самые разные виды шуток. Понятия, аналогичного английскому «practical joke», не существует.
(обратно)526
Вудхаус П.Г. Так держать, Дживз! Полный порядок, Дживз! СПб.: Янус, 1999. С. 215.
(обратно)527
Там же.
(обратно)528
Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М.: Весь мир, 1997. С. 202–203.
(обратно)529
Там же. С.202.
(обратно)530
Derrida J. De l’hospitalité. P.: Calmann Levy, 1997 (Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida à répondre sur l’hospitalité). P. 73.
(обратно)531
В одном офисе сотрудники, например, не поленились и создали специальный «сайт», на котором содержались сведения, что шефа компании разыскивает полиция. После соответствующей реакции выяснилось, что «сайт» функционирует только в пределах офиса.
(обратно)532
Так, тяжелый кирпич, подложенный в чемодан друга в последний момент перед отъездом, был воспринят нормально, но когда в следующий раз подложили сухой камыш, пушинки которого зацепились за шерстяные вещи и впоследствии послужили причиной аллергии, это послужило поводом для долгой обиды.
(обратно)533
Каталог розыгрышей в российской сети: / catalog/a32/a171380.html
(обратно)534
Терентьева И. Леонид Алахвердов – мастер шутки и розыгрыша:
(обратно)535
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А.С.Полн. собр. соч.: В 10 т. Л: Наука, 1978. Т. 5. С. 17.
(обратно)536
Байрон Д.Г. Дневники. Письма. М.: Изд – во Академии наук, 1963. С. 249.
(обратно)537
Д. фон Штернберг о Марлен Дитрих // Дитрих М. Азбука моей жизни. М.: Вагриус, 1997. С. 260.
(обратно)538
См. главу о графе д’Орсе.
(обратно)539
Сaptain Gronow. Reminiscences of captain Gronow being anecdotes of the camp, the court and the clubs. L.: Smith, Elder, 1862. P. 86.
(обратно)540
Цит. по: Moers E. Op. cit. P. 37.
(обратно)541
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 104–105.
(обратно)542
Даррелл Л. Александрийский квартет. Бальтазар. СПб.: Инапресс, 1996. С. 116.
(обратно)543
Геллер Л. Печоринское либертинство // Логос. 1999. № 2. С. 107.
(обратно)544
Непонятно, псевдоним это или реальное имя.
(обратно)545
Дэнди. 1910. № 1. С. 2.
(обратно)546
Основные книги о Джорджиане: Foreman A. Georgiana, Duchess of Devonshire.Harper and Collins, 1998; Masters B. Georgiana, Duchess of Devonshire, 1981; Calder-Marshall A. The two Duchesses, 1978; Earl of Bessborough (ed.). Georgiana, Duchess of Devonshire: collected letters, 1955. Портреты Джорджианы в Интернете: ; / reynolds/1.html
(обратно)547
Джорджиана – ее двоюродная прапрабабушка.
(обратно)548
Jesse W. The life of Beau Brummell… Vol. I. P. 158.
(обратно)549
Ibid P. 160–161.
(обратно)550
Подробнее см. книгу современницы Джорджианы Мэри Робинсон: Robinson M.Beaux and Belles of England. L.: Lightning source, 2004.
(обратно)551
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 162.
(обратно)552
Шервин О. Шеридан. М.: Искусство, 1978. С. 92.
(обратно)553
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. С. 123.
(обратно)554
Шарлотта Смит (1749–1806) начинала свою литературную карьеру как поэтесса, потом перевела на английский «Манон Леско» Прево (1785); наиболее известна как автор романов «Эммелин, илиСирота в замке» (1788) и «Старое поместье» (1793).
(обратно)555
Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 37–38.
(обратно)556
См. раздел о дендистском зрении.
(обратно)557
Цит. по: Курганов Е.Я. Декадентская мадонна // Зинаида Гиппиус. Живые лица. Тбилиси: Мерани, 1991. С. 10.
(обратно)558
Там же.
(обратно)559
Одоевцева И. Указ. соч. С. 36.
(обратно)560
Эдрих М. Загадочная Коко Шанель. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1994. С. 150.
(обратно)561
Там же. С. 307.
(обратно)562
Там же. С. 79.
(обратно)563
Там же. С. 149.
(обратно)564
Подобные перекодировки – не редкость в истории костюма: устаревшие наряды консервируются за счет смены социальной среды. Так, в народном костюме испанских крестьян Хосе Ортега-и-Гассет проницательно усмотрел застывшие туалеты знати прошедших веков: «Платье арагонской крестьянки или валенсийки – это, по сути дела, наряд дамы восемнадцатого века, сработанный из грубой материи деревенским портным. Костюм ансотанки, да и вообще большинства горянок, – это обычный женский костюм конца Средневековья и Возрождения» (См.: Хосе Ортега-и-Гассет. Философия в гардеробе // Сегодня. 1995. 7 марта).
(обратно)565
Последний иронический перифраз этой традиции – «Автопортрет в однобортном костюме» (2001) английской фотохудожницы Сэм Тэйлор-Вуд. В заглавии обыгрывается словосочетание «onebreasted suit», намекающее на перенесенную операцию в связи с раком груди.
(обратно)566
Термин «модерн» в русском обиходе обычно используется для обозначения периода развития европейского искусства конца XIX – начала XX века. Но мы будем пользоваться этим термином в более широком смысле, как аналог английского термина «modernity», немецкого «Modernittä», французского «modernité». Это означает эпоху «современности», когда после завершения основных буржуазных революций в Европе начинает формироваться городская культура, главные ценности которой – Прогресс, Мода и Новизна. Впервые понятие «modernité» в таком значении стал применять Бодлер в своих очерках «Художник современной жизни» (1845). Хронология общества «модерна» исчисляется примерно с конца XVIII – начала XIX века. Теория модерна разрабатывалась Г. Зиммелем, Э. Дюркгеймом, В. Беньямином, М. Вебером, Ю. Хабермасом. Подробнее о разных концепциях модерна см.: Frisby D. Fragments of Modernity: Theories of Modernity in the work of Simmel, Kracauer and Benjamin. Cambridge: Polity Press, 1985.
(обратно)567
Jesse W. The George Brummell… Vol. I. P. 323.
(обратно)568
Это был один из старейших закрытых торийских клубов, стать членом которого можно было только по рекомендации самых влиятельных людей. Члены клуба придавали огромное значение элегантным костюмам, и в этом отношении лидерство Браммелла было бесспорным. Подробнее см. главу о клубах.
(обратно)569
Shakespeare W. Hamlet, Prince of Denmark. Act III, scene 1.
(обратно)570
The Exclusives. New York, 1830. Vol. I. P. 62–63.
(обратно)571
Merleau-Ponty М. Le visible et l’invisible. P.: Gallimard, Tel, 1964. P. 177.
(обратно)572
«La vision est palpation par le regard» (Ibid).
(обратно)573
Цит. по: Moers E. The dandy. P. 28.
(обратно)574
Эркерное окно напоминает лук своей изогнутой формой, а корень «bow» восходит к древнеанглийскому глаголу «bugan» – сгибать.
(обратно)575
Hazlitt W.Brummelliana // The complete works: In 22 vol. / Ed.P.Howe. New York, 1934. Vol. 20. P. 153.
(обратно)576
Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 53.
(обратно)577
Цит. по У. Джессе из романа «Грэнби» Т. Листера: Jesse W. Op. cit. Vol. I. P. 104.Ср. характеристику взгляда Майкрофта Холмса в рассказе «Случай с переводчиком»: «Его глаза, водянисто-серые и до странности светлые, как будто навсегда удержали тот устремленный в себя и вместе отрешенный взгляд, какой я подмечал у Шерлока только в те минуты, когда он напрягал всю силу своей мысли» (Конан Дойль А. Собр. соч.: В 10 т. М.: Слог, 1993. Т. 2. С. 444).
(обратно)578
Jesse W. Op. сit. Vol. II. P. 388–389.
(обратно)579
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентельмена. С. 593.
(обратно)580
Если воспользоваться лингвистическими аналогиями, то по функции такие смыслоемкие негативы – нулевая морфема, значимый пробел.
(обратно)581
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 399.
(обратно)582
Deriege F. Physiologie du lion.P., 1841. P. 10–11.
(обратно)583
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук, 1990. С.164.
(обратно)584
Lady Morgan. France in 1829–1830. L., 1831. P. 12–13.
(обратно)585
Одоевцева И. На берегах Сены. М.: Худож. лит., 1989. С. 37–38.
(обратно)586
Там же. С. 41.
(обратно)587
Пыляев М.И. Указ. соч. М.: Интербук, 1990. С. 211.
(обратно)588
Jesse W. Op. cit. Vol. II. P. 20: «carried an eye-glass on the top of his cane, which being constantly in proximity to his nose, had a most comical effect».
(обратно)589
Crary J. Techniques of the observer: on vision and modernity in the XIX century. Cambridge, London: MIT Press, 1996. P. 14.
(обратно)590
Камера-обскура, к примеру, фигурирует в фильме «Контракт рисовальщика» Питера Гринуэя.
(обратно)591
Crary J. Op.cit. P. 24.
(обратно)592
См. хороший сайт, где дается виртуальная экскурсия по истории оптических приборов, фотографии и кино: /~s – herbert/momiwelcome.htm
(обратно)593
Розенбоом Э., Грунбах Л. Силы природы и пользование ими. СПб., 1902. С. 371.
(обратно)594
Там же. С. 372.
(обратно)595
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1990. С. 113.
(обратно)596
Там же. С. 116.
(обратно)597
Подробнее о роли оптических приборов в культуре см. замечательные труды Барбары Стаффорд: Stafford B. Body criticism. MIT Press, 1993; Stafford B. Artful science. MIT Press, 1994.
(обратно)598
Вайнштейн О.Б. Волшебные стекла Э.Т.А.Гофмана // Литературные произведения XVIII–XX веков в историческом и культурном контексте. М.: Изд-во МГУ, 1985. С. 124–131.
(обратно)599
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 86.
(обратно)600
Так вслед за историком идей Артуром Лавджоем принято именовать устоявшийся порядок и символическую иерархию в общественном сознании (см.: Лавджой А. Великая Цепь бытия. М.: Дом Интеллектуальной Книги, 2001).
(обратно)601
Д.Уатт в 1822 году одним из первых пытался сделать таблицы соответствий между мерками различных частей тела: Wyatt J. The Taylor’s Friendly Instructor.L., 1822, 1830. P. 47–59. (Переиздание в серии Late Georgian Costume: R.L. Shep, в 1991 году.)
(обратно)602
Орас Рэссон (Horace Raisson) – автор многочисленных трудов, издатель журнала «Литературный фельетон», где в 1823 году начинал печататься молодой Бальзак. Некоторые трактаты они писали совместно.
(обратно)603
Raisson H. Code de la toilette. Manuel complet d’élégance et d’hygiène. Paris, 1829. P. 7.
(обратно)604
Ibid.P.215.
(обратно)605
Конан Дойль А. Собр. соч.: В 10 т. М.: Слог, 1993. Т. 2. С. 444–445.
(обратно)606
В литературе эту линию успешно продолжат чуть позже Эмиль Золя и братья Гонкуры.
(обратно)607
Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. М.: Новое издательство, 2003.С. 189–241.
(обратно)608
Гинзбург К. Указ. соч. С. 224.
(обратно)609
Ямпольский М. Наблюдатель. М.: Ad Marginem, 2000. С. 20.
(обратно)610
По Э.А. Человек толпы // Полн. собр. рассказов. М.: Наука, 1970. С. 281.
(обратно)611
Сеннет Р. Падение публичного человека. М.: Логос, 2003. С. 184.
(обратно)612
Искусство видеть мелочи служило важным критерием эстетического вкуса в дискуссиях XVIII века. Согласно Давиду Юму, «совершенство нашего вкуса – это умение точно схватывать мельчайшие объекты, не давая ничему ускользнуть или остаться незамеченным. Чем меньше объекты, замеченные глазом, тем тоньше и искуснее строение и комбинация его частей. Тонкость нашего физического вкуса проверяется не острыми ощущениями, но тем, ощущаем ли мы в смеси дробных частиц каждую частицу, несмотря на ее малые размеры и на то, что она находится в смешении с другими частицами» (см.: Юм Д. О норме вкуса // Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика. М.: Искусство,1973. С. 313).
(обратно)613
Эта намеченная противоположность допускает знаменательные исключения: Эдгар По, блистательно соединявший в своих рассказах аналитические выкладки и мистицизм, а также поздний Конан Дойль – создатель Шерлока Холмса на склоне лет увлекся спиритизмом.
(обратно)614
Уайльд О. Полн. собр. соч. СПб., 1912. Т. 3. С. 179–180.
(обратно)615
Рильке Р.М. Письмо Витольду Гулевичу // Рильке Р.М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М.: Искусство, 1971. С. 305.
(обратно)616
О фланировании см.: Tester K. (ed.). The flaneur. L.; New York: Routledge, 1994; Montandon A. Sociopoétique de la promenade. Presses Universitaires Blaise Pascal, Maison de la recherche, Clermont-Ferrand, 2000; White E. The flaneur: A stroll through the paradoxes of Paris. Bloomsbury, 2001.
(обратно)617
Здесь и далее цит. по: Бальзак О. Теория походки // Бальзак О. Физиология брака. Патология общественной жизни. / Пер. В.А. Мильчиной. М.: НЛО, 1995. С. 255–284.
(обратно)618
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. М.: Правда, 1988. С. 333.
(обратно)619
«Протестантская этика» капитализма, согласно Максу Веберу, предписывает неустанно работать во имя спасения души. Поэтому время, затраченное на праздные прогулки, ассоциируется с грехом и порождает в буржуазном сознании чувство вины.
(обратно)620
Hazlitt W. Essays. L.: Walter Scott, n. d. P. 192.
(обратно)621
Гозлан Л. Бальзак в домашних туфлях // Бальзак в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 261.
(обратно)622
Готье Т. Мадемуазель де Мопен. М.: Терра, 1997. С. 39–40.
(обратно)623
Там же. С. 41. Не случайно страстный фланер Бодлер экспериментировал с наркотиками и написал книгу «Искусственный рай», включив в нее собственное переложение сочинения Томаса Де Квинси «Признания английского курильщика опиума».
(обратно)624
Там же. С. 40–41.
(обратно)625
Там же. С. 41–42
(обратно)626
Сартр Ж.П. Бодлер // Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Высшая школа, 1993. С. 415.
(обратно)627
Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. М.: Медиум, 1996. С. 154.
(обратно)628
Книга Сартра о Бодлере (1946) писалась в годы немецкой оккупации Парижа, и оттого мотивы поднадзорности и чужого враждебного наблюдающего взгляда в ней прописаны особенно сильно.
(обратно)629
Сартр Ж.П. Указ. соч. С. 416.
(обратно)630
Там же. С. 418.
(обратно)631
Бенуа А. Мои воспоминания: В 5 кн. М.: Наука, 1980. Кн. 3. С. 575.
(обратно)632
Там же.
(обратно)633
О «невидимых» женщинах на прогулке см.: Wolf J. The invisible Flaneuse: women and the literature of modernity // Theory, Culture and Society. 1985. Vol. 2. № 3. Р. 37–46.
(обратно)634
«Прогулки одинокого мечтателя» Руссо – классический «фланерский» текст XVIII века. Правда, у Руссо речь идет о прогулках на природе – это топика сентиментализма, унаследованная, к примеру, английскими поэтами Озерной школы, которые многими исследователями романтизма справедливо считаются первооткрывателями туризма как особого самоценного занятия.
(обратно)635
Цит. по: Зенкин С.Н. Стратегическое отступление Ролана Барта // Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 1999. С. 40–41.
(обратно)636
Там же. С. 41.
(обратно)637
По Э.А. Полн. собр. рассказов. М.: Наука, 1970. С. 284.
(обратно)638
Там же. С. 278.
(обратно)639
Гофман Э.Т.А. Собр. соч.: В 6 т. М.: Худож. лит., 2000. Т. 6. С. 214.
(обратно)640
Там же. С. 213.
(обратно)641
Беньямин В. Указ. соч. С. 141.
(обратно)642
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 290.
(обратно)643
Не случайно эта эпоха так любит эксперименты с оптическими игрушками, люди наслаждаются зрелищами городских панорам и диорам, постоянно используют лорнеты, монокли и бинокли – подробнее см. раздел о дендистском зрении. Идеальная реализация желания переключать – изобретение пульта дистанционного управления в XX веке.
(обратно)644
Benjamin W. The Arcades Project. The Harvard Belknap U.P., 2000. P. 74 <B5a,3>.
(обратно)645
Blanc Ch. Considérations sur le vêtement des femmes. Institut de France. October 25. 1872. 12–13. (Ссылка в труде Беньямина.)
(обратно)646
По версии М. Эспаня и М.Вернера, эту книгу Беньямин изначально задумывал прежде всего как труд о Бодлере. См.: Espagne M., Werner M. Vom «Passagen-Werk» zum «Baudelaire». Neue Handschriften zum Sptäwerk Walter Benjamins // Deutsche Vierteljahrschrift 58 (1984). 593–657; Werner M. L’élaboration d’un plan: les manuscrits parisiens de Walter Benjamin du projet des «Passages» à «Charles Baudelaire» // Walter Benjamin et Paris / Ed. H. Wismann. Paris: Ed. du Cerf, 1986. S. 849–867.
(обратно)647
Беньямин В. Указ. соч. С. 154.
(обратно)648
Бодлер Ш. Цветы зла. Сонет XXXVIII (2) Пер. В.Левика.
(обратно)649
Жорис Карл Гюисманс (1848–1907) – французский писательсимволист, автор романа «Наоборот» (1884).
(обратно)650
Эдмон Рудницка – автор духов «Femme» Роша, «L’Eau d’Hermes» Гермес, «L’Eau Sauvage» Диор. См.: Roudnitska E. L’Univers du parfum // Les Odeurs.P.: Autrement, 1987 / Ed. J. Blanc-Mouchet, M. Perrot.
(обратно)651
Гюисманс Ж.К. Наоборот / Пер. Е.Л.Кассировой; Под ред. В.М.Толмачева. Здесь и далее цит. по кн.: Наоборот: три символистских романа. М.: Республика, 1995. С. 81.
(обратно)652
Сологуб Ф. Мелкий бес. М: Олма-Пресс, 2000. С. 298.
(обратно)653
Власть цветов (англ. flower power). Лозунг хиппи, призывавших преобразовать общество через братскую любовь и духовное очищение, символом которых являются цветы.
(обратно)654
Графиня Дюбарри (1743–1793) – фаворитка короля Людовика XV.
(обратно)655
Столь высокое потребление одеколона свидетельствует о высоких гигиенических стандартах императора: известно, что в военных кампаниях он возил с собой складную ванну. Правда, для любовных утех допускались исключения – из похода он писал супруге: «Жозефина, прекращай мыться. Я спешу и через 8 дней буду у твоих ног», – очевидно, запах немытого женского тела стимулировал его эротическое воображение.
(обратно)656
Одна из попыток возродить знаменитый исторический запах одеколона – новый аромат Cologne (Thierry Mugler). Интересно, что Тьерри Мюглер, возвращаясь к традициям XIX века, выпустил свой Cologne в унисексном варианте, и он так и рекламируется: for men and women.
(обратно)657
Мадам Тальен (1773–1835) – светская дама эпохи Директории.
(обратно)658
Мускус – пахучий секрет, получаемый из желез самца мускусной кабарги. В парфюмерии мускус используется в виде настоя, придает духам чувственную ноту.
(обратно)659
Серая амбра – выделения кашалота. Применяется в виде спиртового настоя в качестве «запаха морского побережья» и для фиксации композиции.
(обратно)660
Цибетин – сильно пахнущее вещество, добываемое из желез африканской куницы виверры. Используется в парфюмерных смесях.
(обратно)661
Подробнее см.: Корбен А. Миазм и нарцисс // Ароматы и запахи в культуре. М.: НЛО, 2003. Т. 1. С. 362–408.
(обратно)662
Сю. Э. Парижские тайны. М., 1989. Т. 1. С. 237.
(обратно)663
Подробнее см.: Vigarello G. Le propre et le sale. P.: Seuil, 1985. Р. 218–241.
(обратно)664
C м. официальный сайт guerlain.com.
(обратно)665
Classen C., Howes D., Synnott A. Aroma.The cultural history of smell. L.: Routledge, 1994. Р. 84.
(обратно)666
Антонио Мачадо (1875–1939) – испанский поэт и эссеист.
(обратно)667
Сведенборг Эмануэль (1688–1772) – шведский философ – мистик.
(обратно)668
Бодлер Ш. Цветы зла. / Пер. В.Левика. М.: Наука, 1970. С. 20.
(обратно)669
Подробный и проницательный анализ темы запахов в бодлеровской поэзии можно найти у Сартра (см.: Бодлер Ш. Цветы зла. Стихотворения в прозе. Дневники. Жан Поль Сартр. Бодлер. М.: Высшая школа, 1993. С. 435–442).
(обратно)670
Бодлер Ш. Цветы зла. С. 58.
(обратно)671
Недавно в серии Aqua Allegoria фирмы Герлен выпущены духи «Herba Fresca» на основе кумарина, воспроизводящие запах свежескошенного сена.
(обратно)672
Подробнее см.: Павья Ф. Чарующий мир духов. М.: Внешсигма, 1997. С. 96.
(обратно)673
Сейчас фирма Герлен принадлежит концерну LVMH, а Жан-Поль Герлен в 2001 году был вынужден уйти на пенсию.
(обратно)674
Piesse G.W.S. The Art of Perfumery, and the Methods of Obtaining the Odours of Plants.With Instructions for the Manufacture of Perfumes for the Handkerchief, Scented Powders, Odorous Vinegars, Dentifrices, Pomatums, Cosmetics, Perfumed Soap, etc.To Which is Added an Appendix on Preparing Artificial Fruit – Essences Etc.Longman, Green, Longman, and Roberts, L., 1855. Второе издание вышло в 1862 году, а французский перевод – в 1877 году под заголовком «Des odeurs, des parfums et des cosmétiques»…
(обратно)675
Тутурин Н.Н. Духи // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1893. Т. XXI. С. 250–251. Подробнее об одофоне см. также: Sagarin E. The Science and Art of Perfumery. New York, NY: McGraw-Hill, 1945. Р. 145.
(обратно)676
Lestringuez P. Le chevalier d’Orsay. Montrouge, 1944. Р. 31–32.
(обратно)677
В 1916 году фирма открывает несколько заводов и химическую лабораторию, мастерскую по созданию упаковки, типографию. В то время в «Parfums d’Оrsay» работало более 500 человек, магазины фирмы располагались в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Милане, Женеве. В 1936 году у руля фирмы становится Жак Герэн. В военные годы и после в течение 40 лет он сохранял традиции «Parfums D'Orsay». В 1955 году были выпущены известные духи «Tilleul». В 1993 году группа Marignan купила контрольный пакет акций фирмы. Подробнее см. статью Арсения Загуляева о парфюмерии д’Орсе: / show.htpl?id=1195
(обратно)678
Гюисманс Ж.К. Наоборот // Наоборот: Три символистских романа. М.: Республика, 1995. С. 78.
(обратно)679
Там же. С. 78.
(обратно)680
Там же. С. 78–79.
(обратно)681
Там же. С. 78.
(обратно)682
Стиракс – сиамская бензойная смола, которую добывают из дерева Styrax Tonkinensis в Лаосе и во Вьетнаме.
(обратно)683
Гюисманс Ж.К. Указ. соч. С. 82.
(обратно)684
Там же. С. 10.
(обратно)685
Там же.
(обратно)686
Чампак (Michelia champaca) – дерево из семейства магнолий, встречающееся в Восточной Индии. Из цветов чампака изготавливается ароматическое масло.
(обратно)687
Ховения (Hovenia dulcis) – небольшое дерево с гладкими блестящими листьями и желтыми душистыми цветами. Его также называют японское или медовое дерево, встречается в Китае, Непале, Индии и Японии, отличается редкой красотой.
(обратно)688
Уайльд О. Портрет Дориана Грея // Уайльд О. Избранное / Пер. М. Абкиной. М., 1986. С. 143.
(обратно)689
К. Фохт (1817–1895) – немецкий философ, сторонник естественно-научного материализма.
(обратно)690
Л. Бюхнер (1824–1899) – немецкий философ-позитивист, врач и естествоиспытатель.
(обратно)691
Х. Эллис (1859–1939) – английский врач и писатель, автор семитомного труда «Психология секса» (1897–1928).
(обратно)692
Макс Нордау (1849–1923) – немецкий писатель, философ, автор теории дегенерации в культуре.
(обратно)693
Иланг-иланг (cananga odorata forma genuina) – тропическое дерево, произрастающее на Мадагаскаре и на Коморских островах. В парфюмерии используется ароматическое масло, добываемое из желтых цветов иланг-иланга.
(обратно)694
Ветивер, или кус-кус, – корень растения Vetiveria zizanioides.Ветивер собирали в Восточной Индии, и он составлял основу духов «муслин». Ткань «индийский муслин» ароматизировали этим корнем.
(обратно)695
Модификации конструктивизма – минимализм и абстракционизм в искусстве. Как раз в 1921 году в России была организована «Первая рабочая группа конструктивистов», куда входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги. В Германии в 1919–1925 годах работала конструктивистская архитектурно-художественная школа Баухаус, в которой принимали участие В. Гропиус, П. Клее, Л. Мохой-Надь и другие мастера.
(обратно)696
Основатели пуризма – художники А. Озонфан и Э. Жаннере, архитектор Ле Корбюзье – в 1918 году выпустили манифест «После кубизма», в котором утверждали, что кубизм превратился в чисто декоративное искусство и на смену ему должен прийти функциональный «пластический символ», отражающий инструментальное назначение каждого предмета. Чистота («пуризм») конструкции требовала освободить форму от всех лишних деталей, превращая его в схему, тип. Некоторое влияние пуризма ощутимо в работах Ф. Леже, отражающих культ машин и техники. Наиболее полно принципы пуризма воплотились в архитектуре Ле Корбюзье.
(обратно)697
Это отмечают авторы сайта Дома Шанель в Интернете
(обратно)698
Подробнее о дендизме и французской литературе см. кн.:Fortassier R. Les écrivains français et la mode. P.: PUF, 1978. P.: PUF, 1978.
(обратно)699
Подробнее см. нашу статью: Вайнштейн О.Б. Жизнетворчество в культуре европейского романтизма //Вестник РГГУ.1998. № 2. С. 161–187.
(обратно)700
Байрон Д.Г. Дневники. Письма. М.: Изд-во Академии наук, 1963. С.249.
(обратно)701
Пушкин А.С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л: Наука, 1978. Т. 5. С. 129–130.
(обратно)702
Хтонический – связанный с землей, подземными божествами.
(обратно)703
Подробнее см. главу о клубах.
(обратно)704
Подробнее о «модных» романах см.:Moers E. The dandy.New York: The Viking press, 1960. P. 52–58.
(обратно)705
Дебретт (Debrett John Field) – первый издатель ежегодного генеалогического справочника британских знатных родов: Debrett’s peerage, baronetage, knightage and companionage. Справочник издается с 1802 года.
(обратно)706
Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентльмена. С. 579.
(обратно)707
«Дориан Грей» Оскара Уайльда (1890) – явная аллюзия на «Вивиана Грея» Дизраэли, тем более что оба произведения выдержаны в жанре романа о денди.
(обратно)708
Earl of Beaconsfield (Disraeli). Vivian Grey. London: Longman’s, Green and Co., 1892. P. 61.
(обратно)709
Трухановский В.Г. Бенджамин Дизраэли, или История одной невероятной карьеры. М.: Наука, 1993. С. 65.
(обратно)710
Бульвер-Литтон Э.Указ. соч. С. 430.
(обратно)711
Цит. по: Moers E. The dandy. P. 81.
(обратно)712
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 442–444.
(обратно)713
Там же. С. 440.
(обратно)714
Там же. С. 315.
(обратно)715
Там же. С. 284.
(обратно)716
Jesse W. The life of George Brummell… Vol. II. P. 77.
(обратно)717
См. исчерпывающее исследование Жан-Пьера Лесеркля: Lecercle J. – P. Mallarmé et la mode. P.: Librarie Seguire, 1989.
(обратно)718
Уайльд О. Избранное. М.: Худож. лит., 1986.С.148.
(обратно)719
Готье Т. Мадемуазель де Мопен. М.: Терра, 1997. С. 243.
(обратно)720
См., например: Hollander A. Seeing through clothes.Berkeley: University of California Press, 1993.
(обратно)721
Moers E. The dandy. P. 121.
(обратно)722
Raisson H. Code de la toilette. Manuel complet d’élégance et d’hygiène. P., 1829.
(обратно)723
Natta M. Préface // Honoré de Balzac. Traité de la vie élégante. Presses Universitaires Blaise Pascal: CRLMC, 2000. P. 35.
(обратно)724
Бальзак О. Трактат об элегантной жизни // Бальзак О. Физиология брака. Патология общественной жизни. М.: НЛО, 1995. С. 233.
(обратно)725
Бальзак О. Указ. соч. C. 229.
(обратно)726
«Elégance» – от латинского глагола «eligare» – «выбирать», отсюда же английский глагол «to elect».
(обратно)727
Бальзак здесь ошибается, поскольку Браммелл в 1830 году был в Кале, а затем в Кане. В трактате также дано неверное правописание имени Браммелла.
(обратно)728
Бальзак О. Указ. соч., с. 253.
(обратно)729
Там же. С. 247.
(обратно)730
Бальзак О. Указ. соч. C. 247.
(обратно)731
Lady Morgan. Paris en 1829 et 1830. Vol. I. P. 334–335. Цит. по: Natta M. Préface // Honoré de Balzac. Traité de la vie élégante. Presses Universitaires Blaise Pascal: CRLMC, 2000. P. 53.
(обратно)732
Бальзак О. Указ. соч. C. 247–248.
(обратно)733
Рекомендую желающим самим проделать это нехитрое сопоставление.
(обратно)734
«Тигр» – грум на запятках кареты, изначально носивший полосатую ливрею (словечко из светского жаргона).
(обратно)735
Бальзак О. Утраченные иллюзии // Бальзак О. Собр. соч.: В 15 т. М.: Худож. лит., 1953. Т. 6. С. 163.
(обратно)736
Бальзак О. Трактат об элегантной жизни. С. 229. Кентавр – модник, неразлучный с собственной лошадью или каретой. Тильбюри – легкий открытый экипаж, в который запрягалась одна лошадь.
(обратно)737
Бальзак О. Утраченные иллюзии. С. 162–163.
(обратно)738
Там же. С. 578–579.
(обратно)739
Бальзак О. Трактат об элегантной жизни. С. 233.
(обратно)740
Там же. С. 226.
(обратно)741
Там же.
(обратно)742
Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 365–366.
(обратно)743
Верде Э. Интимный портрет Бальзака // Бальзак в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 204–205.
(обратно)744
Г-жа де Поммерель. Воспоминания // Бальзак в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 153.
(обратно)745
Цит. по: Шолле Р. Навстречу Бальзаку // Оноре де Бальзак. Денди и творец. М.: Государственный музей А.С.Пушкина,1997. С. 27.
(обратно)746
Мейер-Пети Ю. Рисунок Грандвиля «Апофеоз Бальзака» и трость с бирюзой // Оноре де Бальзак. Денди и творец. М.: Государственный музей А. С. Пушкина, 1997. С. 142.
(обратно)747
Цит. по: Шолле Р. Указ. соч. С. 27.
(обратно)748
Название одной из главок в трактате «Физиология брака», где рассказывается, как подозрительный муж может распознать предполагаемого любовника жены по одежде и манере держаться.
(обратно)749
Бальзак О. Трактат об элегантной жизни. С. 248.
(обратно)750
Лафатер, Иоганн Каспар (1741–1801) – создатель физиогномики, науки, позволяющей определить характер человека по лицу.
(обратно)751
Жоффруа Сент-Илер, Этьенн (1772–1844) – французский зоолог. Автор теории о единстве органического мира, научный оппонентЖ. Кювье.
(обратно)752
Северянин И. Бальзак // Соч.: В 5 т. СПб.: Logos, 1996. Т. 4. С. 316.
(обратно)753
Стендаль. Избранные произведения. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1952. С. 143.
(обратно)754
Бульвер-Литтон Э. Указ. соч. С. 313.
(обратно)755
Ю.М. Лотман, приводя этот пример в своей статье о русских денди, трактует его как проявление «модной слабости» Пелэма. Однако следует заметить, что к Пелэму равным образом применима характеристика другого типа: «оскорбительная для света манера держаться, „неприличная“ развязность жестов, демонстративный шокинг», что Ю. М. Лотман считает приметами «байронического» дендизма (см.:Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб., 1994. С. 125).
(обратно)756
Стендаль. Избранные произведения. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1952. С. 157.
(обратно)757
Карельский А.В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур. М.: Изд-во РГГУ, 1998. С. 175.
(обратно)758
Стендаль. Указ. соч. С. 215.
(обратно)759
Там же. С. 215–216.
(обратно)760
Там же. С. 215.
(обратно)761
Там же. С. 152.
(обратно)762
Там же. С. 153.
(обратно)763
Там же. С. 175.
(обратно)764
Там же. С. 154.
(обратно)765
Там же.
(обратно)766
Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 303. Далее в этой главе страницы указаны по этому изданию в тексте в круглых скобках.
(обратно)767
Бабичев Н.Т., Боровский Я. М. Словарь латинских крылатых слов. М.: Русский язык, 1988. С. 497–498.
(обратно)768
Там же. С. 498.
(обратно)769
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 382.
(обратно)770
Там же. С. 398.
(обратно)771
Там же. С. 382.
(обратно)772
Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж». М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 368.
(обратно)773
Все цитаты – по изданию: Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.: Независимая газета, 2000.
(обратно)774
О предыстории и замысле книги см.:Moers E. The dandy. New York, 1960. P. 256–265.
(обратно)775
Кроме того, если уж ссылаться на ныне доступную информацию, ни Джессе, ни Барбе в то время не знали, что Браммелл в 1822 году написал солидный ученый труд – «Мужской и женский костюм» («Male and female costume»), содержащий исторический обзор костюма начиная с античности. Рукопись была обнаружена только в 1924 году, авторство Браммелла доказано.
(обратно)776
Подробнее см.: Feldman J. Gender on the divide. Ithaca, N. Y.: Cornell U. P., 1993.
(обратно)777
Эту игру слов не всегда удается передать в русском переводе: оборот «он был царем милостью грации» неадекватен французскому «qui fut le roi par la grâce de la Grâce».
(обратно)778
Знаменитое понятие «je ne sais quoi» – не поддающийся рационализации художественный эффект, «неведомо что», «чуть-чуть» – встречается в эстетике начиная с итальянского Ренессанса – у Кастильоне, Лейбница, Корнеля, в XIX веке – у Бальзака, Т.Готье, Поля де Мюссе.
(обратно)779
Тщеславие обычно толковалось как проявление суетности. Шамфор даже пытался объяснить суетность, исходя из этимологического смысла французского слова «vain» – от лат. «vanus» (пустой). В знаменитом 162-м фрагменте Паскаля «Нос Клеопатры – будь он покороче – облик земли стал бы иным» причины суетности трактуются опять же через категорию «je ne sais quoi». А у Вовенарга, к примеру, тщеславие – «ярчайшая примета посредственности» (Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. М.: Худож. лит., 1987. С. 240, 371, 420–421).
(обратно)780
Подробнее см.:Stanton D. The aristocrat as art. N.Y.: Columbia U.P., 1980. P. 54–55.
(обратно)781
Размышления и афоризмы французских моралистов XVI–XVIII веков. М.: Худож. лит., 1987. С. 444. Кстати, сравнение денди с бабочкой в XIX веке было устойчивым клише, а в 1820-е годы в Англии даже стало обозначением модного типажа «butterfly-dandy».
(обратно)782
Deriege F. Physiologie du lion. P., 1841.
(обратно)783
Например, он был уверен, что англичанам свойственен сплин из-за дурного климата, а разогнать сплин можно только горячительными напитками. Поэтому ему пришлось сделать Браммелла завзятым любителем кларета, что было явным преувеличением.
(обратно)784
Помимо стремления знаково обособиться от нуворишей, здесь, возможно, сыграло свою роль чисто британское пристрастие ко всему старому, добротному, традиционному – дань консерватизму на уровне одежды. В поношенной куртке иногда появлялся на публике английский премьер Гарольд Макмиллан.
(обратно)785
Подробнее см. раздел «Туника и кринолин».
(обратно)786
Барбе д’Орвийи Ж. Дьявольские повести. СПб.: Лениздат, 1993. С. 81.
(обратно)787
Там же. С. 135.
(обратно)788
Казимир (casimir, фр.) – плотная гладкокрашеная шерстяная ткань саржевого переплетения. Отличается от кашемира плотностью и отсутствием орнаментации. См.: Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Большая российская энциклопедия, 1995. С. 109–110.
(обратно)789
Барбе д’Орвийи Ж. Дьявольские повести. СПб.: Лениздат, 1993.
(обратно)790
Барбе д’Оревильи Ж. Дендизм и Джордж Бреммель. М.: Альциона, 1912.
(обратно)791
Барбе д’Орвильи Ж. Лики дьявола. СПб., 1908; Дьявольские маски. М., 1909; 1913.
(обратно)792
Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988. С. 41.
(обратно)793
Там же. С. 43.
(обратно)794
В 2003 году вышла новая биографическая книга о графе д’Орсе: Foulkes N. Last of the dandies: The scandalous life and escapades of Count d’Orsay. Little: Brown, 2003.
(обратно)795
Sadleir M. Blessington – d’Orsay. A masquerade. L., 1933. P. 98.
(обратно)796
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.:Независимая газета, 2000. С. 79.
(обратно)797
Там же. С. 134.
(обратно)798
В архаических культурах есть понятие, в чем-то родственное харизме – «судьба» в значении «личная доля, участь, везение, жизненная сила». Согласно А.Я. Гуревичу, у древних германцев и скандинавов, например, существует «hamingja» – «это и личная удача, и дух-охранитель отдельного человека, который может стать видимым ему в кризисный момент жизни и либо умирает вместе с ним, либо покидает его после смерти и переходит к его потомку или родичу» (См.:Гуревич А.Я. Диалектика судьбы у германцев и древних скандинавов // Понятие судьбы в контексте разных культур. М.: Наука, 1994.С.152). В таком контексте «состязание или схватка между людьми могут быть истолкованы как сопоставление их „везений“ („Боюсь, что твое везенье осилит мое невезенье“), и даже, что особенно интересно, личная удачливость мгновенно проявляется в поступках, речах и даже физическом облике героя – „по внешности Скерпхедина, одного из персонажей “Саги о Ньяле”, окружающие мгновенно узнавали, что он – неудачник“». Получается, что личная судьба создает мощное информационное поле, которое сразу считывается людьми.
(обратно)799
Цит. по: Московичи С. Машина, творящая богов. М.: Центр психологии и психотерапии, 1998. С. 190.
(обратно)800
Цит. по: Moers E. The dandy. New York, 1960. P. 155.
(обратно)801
Московичи C. Указ. соч. С. 295.
(обратно)802
Sadleir M. Op. cit. P. 36.
(обратно)803
Подобныетénage à trois кажутся редким исключением, но на самом деле история знает много примеров таких союзов: см. раздел о герцогине Джорджиане Девонширской.
(обратно)804
См.: Viel-Castle Н. Memoires de le regne de Napoleon III. P., 1883. Vol. II. P. 91; более серьезную и аргументированную точку зрения высказывает Майкл Сэдлер: Sadleir M. Op. cit. P. 45–48.
(обратно)805
Цит. по: Sadleir M. Op. cit. P. 78.
(обратно)806
Поэт ошибся относительно места: портрет Байрона граф нарисовал в Генуе.
(обратно)807
Кипсек (от keepsake – подарок на память) – салонный альманах, содержащий стихи, рассказы и советы по моде. Мода на альманахи возникла с 1825 года. Первоначально это были подарочные издания на Рождество. Кипсеки издавались в виде роскошных книг с золотым обрезом и в бархатном переплете, с многочисленными гравюрами. От тех времен осталось выражение «keepsake style» – сентиментальный стиль.
(обратно)808
Подробнее см.:Lestringuez P. Le chevalier d’Orsay. Montrouge, 1944. Р. 31–32, и раздел о парфюмерии в нашей книге.
(обратно)809
Sadleir M. Op. cit. Р. 152–153.
(обратно)810
Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или Как возник «Весь Париж» 1815–1848. М.: Изд-во Сабашниковых, 1998. С. 175.
(обратно)811
Sadleir M. Op. cit. Р. 261.
(обратно)812
Disraeli B. Henrietta Temple. A love story. New York: P.F.Collier, n. d. P. 342–343.
(обратно)813
Ibid. P. 334–335.
(обратно)814
Lestringuez P. Le chevalier d’Orsay. Montrouge, 1944. Это издание с роскошными иллюстрациями A. Delfau есть в Отделе редких книг РГБ.
(обратно)815
Заметим, что французское слово «gourmand» означает просто «любитель поесть».
(обратно)816
Carlyle J. W. Count d’Orsay calls on Mrs. Carlyle // The portable Victorian reader. Penguin, 1977. Р. 20–21.
(обратно)817
Teignmouth Shore W. D’Оrsay or the complete dandy. L., 1912. P. 96.
(обратно)818
Baillie-Cochrane А., lord Lamington. In the days of the dandies. L., 1890. P. 12.
(обратно)819
Подробнее см.: Агамбен Дж. Станцы. Слово и фантазм в культуреЗапада / Предисл. и пер. Б. Дубина // Искусство кино. 1998. № 11. С. 141–155.
(обратно)820
Цит. по: Sadleir M. Op. cit. Р. 308–309.
(обратно)821
Нельзя не отметить избирательность предметов, привлекающих внимание Джейн: в прошлый раз она запомнила реплику про бюстШелли, «проглотивший подбородок», а в этот – о посмертной маскеФокса. В обоих случаях ее занимает тема деформации лица, что указывает скорее на круг ее интересов, нежели на остроумие графа.
(обратно)822
Bulwer Lytton E.. Godolphin. L.: George Routledge and sons. P. 14–15.
(обратно)823
Московичи С. Указ. соч. С. 189.
(обратно)824
Там же. С. 295.
(обратно)825
Уильям Чарльз Макреди (1793–1873) – знаменитый драматический актер, прославившийся в ролях Ричарда III и короля Лира. В 1837–1839 годах работал в театре Ковент-Гарден. Теккерей написал сонет по поводу его ухода со сцены в 1851 году.
(обратно)826
Carlyle J. W. Op. cit. Р. 21.
(обратно)827
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 62.
(обратно)828
Уайльд О. Избранное. М.: Худож. лит., 1986. С. 140–141.
(обратно)829
Robert de Montesquiou et l’art de paraître. Catalogue par Philippe Thiébaut et Jean-Michel Nectoux. P., 1999. Буквальный перевод названия – «Искусство казаться», но мы даем четвертое значение «paraître» – блистать, – исходя из биографии нашего героя.
(обратно)830
Основные книги о Монтескью: Jullian Ph. Robert de Montesquiou, un prince 1900. P.: Perrin, 1965 (réédité en 1987). Bertrand A. Les curiosités esthétiques de Robert de Montesquiou. Genève: Droz, 1996. Chaleyssin P. Robert de Montesquiou: mécène et dandy. Bruxelles: Palais des académies, 1956. Munhall E. Whistler et Montesquiou. P.: Flammarion, New York: The Frick Collection, 1995.
(обратно)831
В англоязычных работах о Монтескью самый частый глагол, описывающий его отношения с людьми, – to infatuate – вскружить голову, очаровать, увлечь.
(обратно)832
Книга Филиппа Джуллиана – самая подробная из всех биографийМонтескью. Автор имел доступ к личным архивам и опирался на беседы с княгиней Бибеско, хорошо знавшей графа, и на другие устные свидетельства современников. Jullian Ph. Prince of Aesthetes. N. Y.: Viking, 1965. P. 42.
(обратно)833
Ibid. P. 68.
(обратно)834
Джузеппе де Ниттис (1846–1884) – итальянский художник-импрессионист, прославившийся утонченной игрой цветовых оттенков в своих полотнах.
(обратно)835
Артур Либерти (1843–1917) – владелец одноименного магазина в Лондоне, где продавались вещи по дизайнам Уильяма Морриса и культивировался стиль «Движения искусств и ремесел» и ArtNouveau. Особенно знамениты были ткани Liberty – восточные шелка с рисунком «турецкий огурец». Liberty был любимым магазином эстетов конца века.
(обратно)836
Эдмон и Жюль де Гонкур. Дневник: В 2 т. М.: Худож. лит., 1964. Т. 2. С. 306.
(обратно)837
Пруст Марсель. У Германтов. М: Худож. лит., 1980. С. 561.
(обратно)838
См. раздел о денди-хамелеоне.
(обратно)839
Портреты и фотографии Монтескью в Интернете: . htm
(обратно)840
Какемоно – японские настенные картины, выполненные на полотне, шелке или бумаге, которые свертывались в свитки.
(обратно)841
Монтескью не только «открыл» Галле, но и приобщил его к своим вкусам – любовь к Японии и Вагнеру. Сохранилось более сотни писем от Галле к Монтескью. «Мой дорогой и непогрешимый учитель», – обращался Галле к графу. Монтескью присылал Галле рисунки японских цветов и настоящие водяные лилии для эскизов. По заказам графа Галле сделал целый ряд вещей – комод, вазы, блюда.
(обратно)842
Эдмон и Жюль де Гонкур. Указ. соч. Т. 2. С. 587–599.
(обратно)843
Цит. по: Favardin P., Bouxëière L. Le dandysme. P.: La Manufacture, 1988. P. 139–140.
(обратно)844
Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. С. 25.
(обратно)845
Подразумевается стоглазый Аргус, традиционно символизировавший знание, – известны старинные изображения Аргуса-астронома, непрерывно смотрящего в окуляр телескопа. Согласно Овидию, Гера перенесла глаза Аргуса на оперение павлина, отсюда и семантика «стоглазого знания».
(обратно)846
По этой же логике Теофиль Готье, Бодлер и позднее Макс Бирбом слагали похвалы косметике.
(обратно)847
Гюисманс Ж.К. Наоборот // Наоборот: Три символистских романа. М.: Республика, 1995. С. 24–25.
(обратно)848
Сейчас художественно обставленный просторный чердак – мастерская, место богемных вечеринок – именуется «лофт» (loft), а его оформление подразумевает особый тип интерьера.
(обратно)849
К музыке Вагнера графа приобщила все та же неутомимая ЖюдитГотье. Монтескью специально ездил в Байрейт, где познакомился со своим кумиром. Культовым произведением Вагнера в концеXIX века считался «Парсифаль», особенно хор девушек-цветов в волшебном саду Клингзора. А сейчас эта сцена никогда не включается в сборники «Избранного» Вагнера: канон переменился.
(обратно)850
Floressas Des Esseintes – возможно, намек на «цветочную эссенцию», что отсылает к парфюмерным и цветочным увлечениям графа: один из его поэтических сборников назывался «Повелитель утонченных запахов» («Le Chef des Odeurs Suaves», 1893), другой – «Голубые гортензии». Но следует учесть и французское выражение «faire flores» – блистать в свете, иметь успех.
(обратно)851
Кстати, Гюисманс вернул долг благодарности и Малларме: герой перечитывает его стихотворения, заботливо переплетенные в молочно-белую японскую кожу.
(обратно)852
Эдмон и Жюль де Гонкур. Указ. соч. Т. 2. С. 305–306. Запись 1882 года.
(обратно)853
Гюисманс Ж.К. Наоборот. С. 40.
(обратно)854
Уайльд О. Портрет Дориана Грея //Уайльд О. Избранное / Пер. М. Абкиной. М., 1986. С. 136.
(обратно)855
Подарок, о котором идет речь в письме, вероятно, одна из книг графа (Пруст М. Письма. М.: Гласность, 2002. С. 73).
(обратно)856
Там же. С. 104–105.
(обратно)857
R. De Montesquiou-Fezensac. Les chauves-souris. Clairs-obscurs. P., 1892. P. 161.
(обратно)858
Эти эстетски оформленные издания, выпущенные ограниченными тиражами, сейчас являются библиографической редкостью, цены на них доходят до 2000 долларов.
(обратно)859
Пруст М. У Германтов. М.: Худож. лит., 1980. С. 384.
(обратно)860
Там же. С. 576.
(обратно)861
Там же.
(обратно)862
Для сравнения отметим, что, допустим, к Свану автор относится не в пример более сочувственно. А прототипом Свана был близкий друг Монтескью Шарль Хаас.
(обратно)863
Как видим, метафора Аполлона практически неизбежна каждый раз, когда речь идет о денди; она появляется даже в этом контексте, при описании сугубо неприятного для рассказчика зрелища.
(обратно)864
Пруст М. У Германтов. С. 563.
(обратно)865
Там же. С. 290.
(обратно)866
Прежде всего по этой причине и сам граф до конца не отождествлял себя с де Шарлю. Он всю жизнь старался избежать публичных скандалов, оставаясь холостяком и выстраивая свои отношения с молодыми людьми в благовидной форме светского покровительства – как с Леоном Делафоссом. Красавец Ютурри жил в его доме на правах личного секретаря и действительно занимался всеми техническими делами. Другие привязанности графа были мимолетны и никак не афишировались. Психоаналитики, вероятно, сразу указали бы на мощный импульс сублимации в натуре графа – не давая воли своим эротическим склонностям, Монтескью неизменно интересовался любовными похождениями других и прославился в свете как рассказчик пикантных историй. Его склонность к игре оттенков серого цвета тогда тоже можно было бы интерпретировать как следствие сублимации – сдержанность вкуса как эквивалент аскетической установки. Еще раз процитируем Бодрийяра: «черное, белое и серое составляют не только нулевую степень красочности, но также и парадигму социального достоинства, вытесненности желаний и морального “стэндинга”». Возможно, его жизни и впрямь не хватало ярких красок, открытых страстей: недаром оба романиста, сделавшие его своим героем, – и Пруст, и Гюисманс – особо акцентировали гомосексуальные черты своих персонажей, добавив «от себя» в их биографии любовные приключения. Именно своей скромной скрытностью Монтескью резко отличается от Оскара Уайльда, который пострадал, открыто отстаивая на суде свои взгляды.
(обратно)867
Имеется в виду «мех» как элемент герба наряду с металлами и цветами. Два традиционных королевских «меха» в структуре герба – горностай и беличий.
(обратно)868
Curtius E.R. European Literature and the Latin Middle Ages. L.: Routledge and Kegan Paul, 1979. P. 539.
(обратно)869
Подробнее см. раздел «Историческая ароматика» в нашей книге.
(обратно)870
The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819. Издание 1819 года, с которым можно ознакомиться в Британской библиотеке, является библиографической редкостью. На аукционеБлумсбери в 2004 году эта книга была приобретена за 400 английских фунтов.
(обратно)871
«Мистер Пиллблистер и его сестра Бетси решили устроить бал. Они зовут к себе в гости веселых денди поужинать и потанцевать. Мистер Падум в восторге, что и его пригласили на улицу БольшаяРомашка. Он начал осматривать свой костюм, рубашка не слишком чистая – не годится для выхода. Он постирал ее – сделал все, что мог. А вот корсет от портного, для мистера Макнейлора. Ах, Джеффри, затяни его потуже! Я буду держаться за ножку стола, чтобы дело шло быстрее. Зато на балу я всех превзойду» (The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819).
(обратно)872
The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819.
(обратно)873
Говорящая фамилия: cuff – манжет.
(обратно)874
The Dandies ball, or High life in the city. L.: Jonh Marshall, 1819.
(обратно)875
Аналогичная история – со стилягами советского времени, о которых мы сейчас имеем представление скорее по карикатурам из журнала «Крокодил».
(обратно)876
Об этом см. интереснейшее исследование Даниэля Роша (Roche D. La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVII–XVIII siècle. P.: Fayard, 1989).
(обратно)877
Дневник в свое время был выложен на сайте Кристин Хьюз: / Сейчас формат сайта изменен и данный текст снят.
(обратно)878
В оригинале – Chicken Hazard: азартная игра с очень низкими ставками.
(обратно)879
Тильбюри – легкий открытый двухколесный экипаж.
(обратно)880
Вероятно, имеется в виду лорд Питершем.
(обратно)881
Игра слов: «not to be sneezed at» – 1) чихать – не замечать; 2) чихать от табака.
(обратно)882
Вени (Veny) – очевидно, имя маленькой собачки или обезьянки: это были любимые домашние питомцы в аристократических домах.
(обратно)883
В оригинале «Mohocks» – так называли в начале XVIII века молодых аристократов, устраивавших хулиганские выходки на лондонских улицах.
(обратно)884
Короткая стрижка требовалась под парик.
(обратно)885
Цит. по: McNeil P. Macaroni Masculinities // Fashion Theory.Vol. 4, issue 4. P. 383. Питер МакНил, в свою очередь, цитирует по: Botsford J.B. English Society in the Eighteenth Century as influenced from oversea. New York: Macmillan, 1924. P. 274–275.
(обратно)886
Напомним, что в английском языке отсутствуют такие формальные признаки различения мужского или женского, как личные окончания глаголов в третьем лице прошедшего времени, которые в русском языке позволяют идентифицировать пол субъекта. Это порой может привести к путанице или намеренной амбивалентности, как, например, в сонетах Шекспира, где адресатом выступает то смуглая леди, то прекрасный юноша.
(обратно)887
См. об этом подробнее другую статью Питера МакНила: McNeil P. That doubtful gender: Macaroni dress and male sexualities // Fashion Theory. 1999. Vol. 3, issue 4. Р. 411–447.
(обратно)888
Остен Д. Доводы рассудка // Собр. соч.: В 3 т. М.: Худож. лит., 1989. Т. 3. С. 432.
(обратно)889
Там же. С. 540.
(обратно)890
Имеется в виду фрез – накрахмаленный кружевной воротник круглой формы, который вошел в европейскую моду с XVI века.
(обратно)891
Шатобриан Ф.Р. Замогильные записки. М.: Изд-во Сабашниковых,1995. С. 338.
(обратно)892
Есть все основания полагать, что по отношению к англичанам Шатобриан был настроен не слишком объективно – буквально на следующей странице после описания лондонских денди Шатобриан веско «обобщает»: «Все англичане безумны по натуре или по повадке» (Там же. С. 339).
(обратно)893
Carlyle Th. Sartor Resartus. London; Glasgow, n. d. P. 244.
(обратно)894
Ibid. P. 255.
(обратно)895
Джордж Фокс (1624–1691) – основатель секты квакеров, священник. Его дневник (Journal) опубликован в 1694 году.
(обратно)896
Carlyle Th. Op. cit. P. 185–189.
(обратно)897
Теккерей В. Собр. соч.: В 10 т. СПб., 1894–1895.Т. 3. С. 134. (Перевод В.А.Тимирязева).
(обратно)898
Wilde O. Interviews and recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979. Vol. 1. P. 395.
(обратно)899
Ibid. P. 394. Самый полезный, на наш взгляд, сетевой ресурс по Оскару Уайльду – электронный журнал «oscholars»: фотографии Уайльда в Интернете: / humnet/clarklib/wildphot/default.html
(обратно)900
Подробнее см.:Gagnier R. Idylls of the Marketplace: Oscar Wilde and the Victorian Public. Stanford: Stanford University Press, 1986.
(обратно)901
Moers E. The dandy. New York: The Viking press, 1960. P. 202.
(обратно)902
Имеется в виду «синее семейство» китайского фарфора.
(обратно)903
Увлекательный рассказ о реформе костюма в Англии см. в кн.:Wilson E., Taylor L. Through the Looking Glass. A History of Dress from 1860 to the present Day. BBC books, 1989. Р. 43–75.
(обратно)904
Первые анилиновые красители были невысокого качества и часто отличались некрасивыми «ядовитыми» оттенками. Например, использование анилина в ковроделии привело к невосполнимому снижению эстетического уровня ковров (не говоря уж о том, что анилин быстро выцветал на солнце, а во время стирки давал потеки).
(обратно)905
Доктор Густав Егер (1832–1917) – немецкий ученый, гигиенист и физиолог. В 1884 году опубликовал книгу «Sanitary wool system», в которой отстаивал преимущества шерстяного нижнего белья и одежды из чистой шерсти. Сторонником его идей был Бернард Шоу. Льюис Томалин перевел книгу Егера на английский и в том же 1884 году открыл в Лондоне магазин шерстяной одежды «Jaeger». Сейчас «Jaeger» – по-прежнему одна из ведущих марок в Англии, в 2001 году в фирму была приглашена дизайнер Белла Фрейд (дочь художника Люсьена Фрейда), которая пытается несколько модернизировать традиционный стиль Jaeger.
(обратно)906
Wilde O. Selected letters / Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979. P. 55–56.
(обратно)907
Ibid. P. 57.
(обратно)908
Турнюр – по определению Р.М.Кирсановой, «приспособление в виде подушечки или сборчатой накладки, располагавшееся чуть ниже талии на заднем полотнище нижней женской юбки, что помогало формировать характерный силуэт с нарочито выпуклой нижней частью тела» (Кирсанова Р.М.Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995. С. 283). Турнюры были популярны в дамских нарядах в последние декадыXIX века.
(обратно)909
О магазине Либерти см. сноску 7 на с. 438.
(обратно)910
Эллман Р.Оскар Уайльд. М.: Независимая газета, 2000. С. 295–296.
(обратно)911
Wilde O. Selected letters / Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979. P. 91.
(обратно)912
Ibid. Р. 92.
(обратно)913
Карл I (1600–1649), король Англии в 1625–1649 годах.
(обратно)914
Мнение Уайльда подтверждается современными исследователями. Согласно М.Н. Мерцаловой, именно в этот период происходит отказ от каркасных форм костюма, расширяется цветовая гамма и в одежде начинают использовать последнюю производственную новинку – эластичные ткани, обеспечивающие свободу движений. Ясность конструкции костюма «достигается графичностью силуэта, а также легкими, едва заметными переходами одного объема в другой, создающими то едва уловимое движение, которое привносит поистине чарующую привлекательность в образ дворянина» (Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов: В 3 т. М.: Академия моды, 1996. Т. 2. С. 117–118).
(обратно)915
Wilde O. Essays and Lectures.L.: Methuen and Co, 1913. P. 164.
(обратно)916
Wilde O. Interviews and recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979. Vol. 1. P. 270.
(обратно)917
Многие критики, однако, считают, что Банторн – собирательный образ, включающий в себя черты и Уистлера, и Россетти, и Суинберна, и Рескина.
(обратно)918
Эллман Р.Указ. соч. С. 183.
(обратно)919
Согласно мнению Ричарда Эллмана, такой костюм был принят в оксфордском клубе «Аполлон», членом которого Уайльд состоял в студенческие годы.
(обратно)920
Уайльд О. Письма. СПб.: Азбука, 2000. С. 67–68.
(обратно)921
Эллман Р. Указ. соч. С.197.
(обратно)922
Lurie A. The Language of clothes. L.: Bloomsbury. P. 44–45.
(обратно)923
Уайльд О. Портрет Дориана Грея // Уайльд О. Избранное. / Пер. М. Абкиной. М., 1986. С. 139–140.
(обратно)924
Сходную поэтику еще раньше разрабатывал Флобер в «Саламбо». Подробнее об этом приеме см. в разделе «Поэтика дендизма».
(обратно)925
Уайльд О. Портрет Дориана Грея. С. 136.
(обратно)926
Wilde O. Selected letters / Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979. P. 116.
(обратно)927
Ibid. Цитируется письмо к Э. Пратт 15 апреля 1892 года.
(обратно)928
Ibid.P. 116.
(обратно)929
Уайльд О. Портрет Дориана Грея. С. 30.
(обратно)930
Там же. С. 66.
(обратно)931
Уайльд О. Полн. собр. соч. СПб.: Изд-во Маркс, 1912. Т. 3. С. 249.
(обратно)932
Symonds A.J. The diner out. In: Oscar Wilde. Interviews and recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979. Vol. 1. P. 175.
(обратно)933
Уайльд О. Избранное. М., 1986. С. 450.
(обратно)934
Там же. С. 524.
(обратно)935
Там же. С. 493.
(обратно)936
Там же.
(обратно)937
Sontag S. Notes on Сamp // Sontag S. Against Interpretation and other essays. New York: Noonday, 1966. Р. 275–293.
(обратно)938
Ibid. Р. 280.
(обратно)939
Уайльд О. Избранное. М., 1986. С. 29.
(обратно)940
Sontag S. Op. cit. Р. 279.
(обратно)941
Ibid. Р. 280.
(обратно)942
Ibid. P. 281.
(обратно)943
Эллис Х. Психология секса (выходила в1897–1928 гг.).
(обратно)944
Wilde O. Selected letters / Ed. Rupert Hart-Davis. Oxford University Press, 1979. P. 194.
(обратно)945
Русское издание: Форстер Э. М. Морис. М.: Глагол, 2000.
(обратно)946
Wilde O. Interviews and recollections. Vol. 1–2. L.: Macmillan, 1979. Vol. 1. P. 41.
(обратно)947
Beerbohm M. Dandies and dandies // The Works of Max Beerbohm. Albany, 1896. Ch. 1.
(обратно)948
Ibid.
(обратно)949
Рональд Фирбенк (1886–1926) – английский писатель, денди, автор повестей «Намерения» (1916), «Каприз» (1917), «Печаль при солнечном свете» (1925). На русский язык переведены две вещиФирбенка: «О причудах кардинала Пирелли» и «Искусственная принцесса».
(обратно)950
Фирбенк Р. Искусственная принцесса. Тверь: Kolonna Publications;Митин журнал, 2004. C. 172.
(обратно)951
Там же. С. 197.
(обратно)952
Там же. С. 174.
(обратно)953
Приношу благодарность Р. М. Кирсановой за ценные советы при работе над главами о российском дендизме.
(обратно)954
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук, 1990. С. 90–91.
(обратно)955
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 91.
(обратно)956
Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII – начала XX века из собрания государственного Эрмитажа. Л.: Художник РСФСР, 1970. С. 7.
(обратно)957
Там же. С. 8–9.
(обратно)958
К примеру, характерной деталью допетровского мужского платья был козырь – высокий стоячий воротник, закрывавший шею. Это отвечало требованиям климата, но также играло и сугубо декоративную роль: «воротник русских кафтанов, который мог быть съемным, вызывал особое внимание щеголей: его украшали особенно пышно, отделывая вышивкой и шелком, жемчугом, бисером, драгоценными камнями или нарядными пуговицами» (см.: Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре. С. 133).
(обратно)959
Кантемир А. Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных // Кантемир А. Собрание стихотворений. Л.: Сов. писатель (Библиотека поэта), 1956. С. 72.
(обратно)960
Там же.
(обратно)961
Каталог выставки «Представь мне щеголя». Мода и костюм России в гравюре XVIII века. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. М., 2002. № 17.
(обратно)962
Крылов И.А. Мысли философа по моде // Русская проза XVIII века. М.; Л., 1950. Т. 2. С. 757.
(обратно)963
О понимании мужественности в XIX веке см.: Bullough S., Bullough B. Cross-dressing, sex and gender. U. of Pennsylvania, 1993.P. 174–184. О гендерных аспектах дендизма: Feldman J. Gender on the divide. Cornell U. P., 1993.
(обратно)964
Крылов И.А. Указ. соч. С. 754.
(обратно)965
Там же. С. 753.
(обратно)966
Вигель Ф.Ф. Записки. М.: Захаров, 2000. С. 51.
(обратно)967
См.: Laver J. Costume and fashion. L.: Thames and Hudson, 1985. P. 149–152.
(обратно)968
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. С. 78–79.
(обратно)969
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 163. Еще один пример консервации моды XVIII столетия: Пыляев упоминает, что даже в 30–е годы был один помещик, знаменитый тем, что «одевался по образцу инкрояблей времен первой французской революции, вечно в одном синем фраке с золотыми пуговицами» (Там же. С. 53).
(обратно)970
Подробнее см.: Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995. С. 131–132.
(обратно)971
Подробнее см. классическую статью: Лотман Ю.М. Русский дендизм // Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб.: Искусство-СПб, 1994. С. 123–136.
(обратно)972
Арнольд Ю.К. Воспоминания. 1892. Вып. 1. С. 9. Об этом контексте см. подробнее: Hollander A. Sex and suits. N. Y.: A. Knopf, 1995. P. 84–103.
(обратно)973
Арнольд Ю.К. Указ. соч. С. 9.
(обратно)974
О пушкинском дендизме см.:Driver S. Pushkin: literature and social ideas. Columbia U. P., 1989; Greenleaf M. Pushkin and Romantic Fashion: Fragment, Elegy, Orient, Irony. Stanford: Stanford University Press, 1994; Гроссман Л. Пушкин и дэндизм // Гроссман Л. Собр. соч.: В 4 т. М., 1928. Т. 1. С. 14–45.
(обратно)975
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Л.: Наука, 1978. Т. 5. С. 17.
(обратно)976
Цит. по: Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995. С. 287.
(обратно)977
Проскурин О.А. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М.: НЛО, 1999. С. 328–347.
(обратно)978
Арнольд Ю.К. Указ. соч. С. 10.
(обратно)979
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1990. С. 43–44. Заметим, что шубы в то время шились мехом внутрь, – «шубами вплоть до конца XIX века называли не всякую меховую одежду, а только крытую сверху тканью – бархатом, парчой или простой крашениной…» (Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. С. 336).
(обратно)980
Готье не случайно обращает внимание на такие мелкие детали: прославившись в юности своим красным (по другим источникам – розовым) жилетом на премьере «Эрнани», он всю жизнь оставался щеголем и неизменно следил за модами, подробно и с удовольствием живописуя в своих текстах костюмы героев. У него есть даже специальная статья «О моде», в которой он очень интересно рассуждает о взаимодействии одежды и тела. Поэтому шубы явно возбуждали его воображение, и он сочувственно вникал в проблемы зимней экипировки российских франтов.
(обратно)981
Готье Т. Путешествие в Россию. М.: Мысль, 1990. С. 68.
(обратно)982
Там же.
(обратно)983
Там же. С. 43.
(обратно)984
Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре ЯковлевичеЧаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 56–57.
(обратно)985
Мы сохраняем транскрипцию имени по первоисточнику.
(обратно)986
Жихарев М.И. Указ. соч. С. 57.
(обратно)987
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М.: Гнозис, 1992. С. 127.
(обратно)988
Ротиков К.К. Другой Петербург. СПб.: Лига плюс, 2000.С. 252–259.
(обратно)989
Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988.С. 197.
(обратно)990
Там же. С. 196–197.
(обратно)991
Там же.
(обратно)992
Аксаков К.С. Воспоминания студентства 1832–1835 годов //Русское общество 30-х годов XIX века. Люди и идеи. Мемуары современников. М.: Изд-во МГУ, 1989. С. 333.
(обратно)993
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 163–164.
(обратно)994
Гроссман Л. Собр. соч.: В 4 т. М., 1928. Т. 1. С. 29–30.
(обратно)995
Вигель Ф.Ф. Записки. М.: Захаров, 2000. С. 66. О разных вариантах «женственного» и «мужественного» облика в моде см.:Garber M. Vested interests. L.: Penguin, 1993.
(обратно)996
Штрайх С.Я. Историко-литературный очерк о Вигеле //Вигель Ф.Ф. Записки. М.: Захаров, 2000. С. 554–580.
(обратно)997
Вигель Ф.Ф.Указ. соч. С. 66.
(обратно)998
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 164.
(обратно)999
Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л.: Наука, 1991. С. 93.
(обратно)1000
Там же. С. 94.
(обратно)1001
Дневник П.А. Валуева, 1876 г. (цит. по: Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 94–95).
(обратно)1002
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 163–164.
(обратно)1003
Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 95.
(обратно)1004
Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Джордже Браммелле. М.: Независимая газета, 2000. С. 110.
(обратно)1005
Панаева А. Я. (Головачева). Воспоминания. М.: Правда, 1986.С. 94.
(обратно)1006
Лотман Ю.М. Театр и театральность в строе культуры началаXIX века // Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. Таллинн: Александра, 1992. Т. 1. С. 269–287.
(обратно)1007
Пыляев М.И. Указ. соч. С. 164.
(обратно)1008
Гоголь Н.В. Невский проспект //Гоголь Н.В.Собр. соч.: В 6 т. М.: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1949. Т. 3. С. 11.
(обратно)1009
Григорович Д.В., Свистулькин З.Библиотека для чтения. 1855.Т. 129. С. 21–22. Из материалов, любезно предоставленных мне профессором И. Г. Добродомовым.
(обратно)1010
Шепелев Л.Е. Указ. соч. С. 22.
(обратно)1011
См.: Бегунова А.И. Повседневная жизнь русского гусара в царствование Александра I. М.: Молодая гвардия, 2000.
(обратно)1012
Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Правда, 1988. С. 61.
(обратно)1013
Подробнее о ткани «экосез» см.:Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 338.
(обратно)1014
Этот текст был напечатан в сб.: Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная проза И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского,И. С. Тургенева / Под ред. Ю. Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. Фельетон «Письма столичного друга к провинциальному жениху» был напечатан под псевдонимом «А. Чельский» в журнале «Современник» в 1848 году и никогда не включался в собрания сочинений Гончарова. Ю.Г. Оксман, обратившись к архивным материалам, доказал авторство Гончарова. Источником для установления авторства послужила справка для Санкт-Петербургского цензурного комитета. Кроме того, Оксман детально проанализировал стилевые и образные аналогии между известными романами Гончарова и данным фельетоном (см.:Оксман Ю.Г.Неизвестные фельетоныГончарова // Фельетоны сороковых годов. С.15–38). Ранний вариант этой статьи был опубликован в сб.: Фельетон. Л., 1927. С. 80–93.
(обратно)1015
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная прозаИ. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, И.С.Тургенева / Под ред. Ю. Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. С. 41–42.
(обратно)1016
Там же. С. 43.
(обратно)1017
Там же. С. 43–44.
(обратно)1018
Там же. С. 44.
(обратно)1019
Там же. С. 45.
(обратно)1020
Там же. С. 47–48.
(обратно)1021
Там же. С. 48.
(обратно)1022
Там же.
(обратно)1023
Муравьева О.С. Как воспитывали русского дворянина. СПб.: Журнал «Нева», Летний сад, 1998. С. 78–79.
(обратно)1024
Честерфилд. Письма к сыну. Максимы. Характеры. Л.: Наука,1971. С. 209. Комментарий и перевод А. М. Шадрина.
(обратно)1025
Гончаров И.А. Указ. соч. С. 51.
(обратно)1026
Там же. С. 55.
(обратно)1027
См.: Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М.: РГГУ, 1998.
(обратно)1028
Гончаров И. А. Указ. соч. С. 55.
(обратно)1029
Там же. С. 56.
(обратно)1030
Бальзак О. Физиология брака. Патология общественной жизни. М.: НЛО, 1995. С. 226, 243.
(обратно)1031
Гончаров И.А. Письма столичного друга к провинциальному жениху // Фельетоны сороковых годов. Журнальная и газетная прозаИ. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева / Под ред. Ю. Г. Оксмана. М.; Л.: Academia, 1930. С. 41–42.
(обратно)1032
Пыляев М.И. Замечательные чудаки и оригиналы. М.: Интербук,1990. С. 204.
(обратно)1033
Имеется в виду великий князь Михаил Павлович.
(обратно)1034
Панаева А.Я. (Головачева). Воспоминания. М.: Правда, 1986.С. 95.
(обратно)1035
Дэнди. 1910. № 1. С. 23.
(обратно)1036
Там же.
(обратно)1037
Там же.
(обратно)1038
Там же. С. 24.
(обратно)1039
Там же.
(обратно)1040
М.Л. Предисловие к трактату Барбе д’Оревильи «О дендизме иДжордже Брюммеле» // Дэнди. 1910. № 1. С. 15.
(обратно)1041
Петровская Н.И. Из воспоминаний // Брюсов В. Литературное наследство. М.: Наука, 1976. С. 778.
(обратно)1042
Например, в 1912 году вышла «История Западной Литературы1800–1910» в 12 книгах под редакцией профессора Федора Батюшкова. Среди авторов этого уникального издания были ВячеславИванов, Сергей Соловьев, Вл. Дм. Набоков, граф Фердинанд Георгиевич Де Ла Барт, Нестор Котляревский, Зинаида Венгерова,В.М. Жирмунский.
(обратно)1043
Богомолов Н.А. Михаил Кузмин. М.: НЛО, 1995. С. 190.
(обратно)1044
Иванов В.И. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1978. С.179–180.
(обратно)1045
Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989. С. 101.
(обратно)1046
Ср. трактовку Юлии Демиденко, которая усматривает в русском дендизме Серебряного века новый взлет, «третий этап» в истории европейского дендизма (см.:Демиденко Ю. Русские денди // Родина. 2000. № 8. С. 111–114).
(обратно)1047
Пиджак из крепа, кастора или бархата, обшитый тесьмой по борту и обшлагам. Лацканы были без шелка. К вестону полагались полосатые визиточные брюки, черный или цветной двубортный жилет, обшитый тесьмой, черная или лаковая обувь (см.:Ривош Я. Время и вещи. М.: Искусство, 1990. С. 104).
(обратно)1048
Маковский С.К. Дягилев // Сергей Дягилев и русское искусство: В 2 т. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 309.
(обратно)1049
Грабарь И.Э. О Баксте // Сергей Дягилев и русское искусство. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 2. С. 290.
(обратно)1050
Добужинский М. Воспоминания. М.: Наука, 1987. С. 203.
(обратно)1051
Цит. по: Богомолов Н. А. Михаил Кузмин. С. 217.
(обратно)1052
Мок-Бикер Э. Коломбина десятых годов. Париж; СПб.: Изд-во Гржебина, 1993. С. 39.
(обратно)1053
Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век, мои друзья и подруги. Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М.: Московский рабочий, 1990. С. 121.
(обратно)1054
Там же. С. 290–291.
(обратно)1055
Одоевцева И. На берегах Невы. М.: Худож. лит., 1989. С. 240.
(обратно)1056
Там же. С. 241.
(обратно)1057
Там же.
(обратно)1058
Л.Гинзбург цитирует слова Н. Олейникова: Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб.: Искусство-СПб, 2002. С. 487.
(обратно)1059
Маяковский В.В. Кофта фата // Маяковский В.В. Полн. собр. соч.: В 13 т. М: Гос. изд-во «Худож. лит.», 1955. Т. 1. С. 59.
(обратно)1060
Маяковский В.В. Я сам.// Маяковский В.В. Указ. соч., Т. 1. С. 21.
(обратно)1061
Беседы В. В. Дувакина с М. М. Бахтиным. М.: Прогресс, 1996. С. 128. В тексте записанной беседы слова «как денди» повторяются дважды и после них стоит ремарка «усмехается».
(обратно)1062
Чуковский Н. Литературные воспоминания. М.: Сов. писатель,1989. С. 213.
(обратно)1063
Блок А. Сочинения: В 1 томе. М.; Л.: ОГИЗ; Гослитиздат, 1946.С. 466.
(обратно)1064
Там же.
(обратно)1065
Там же.
(обратно)1066
Там же.
(обратно)1067
Чуковский Н.К. Указ. соч. С. 224–225.
(обратно)1068
Там же. С. 224.
(обратно)1069
Там же.
(обратно)1070
Можно привести совершенно аналогичную по смыслу реплику капитана Джессе, который, увидев однажды в аристократическом салоне одного своего приятеля, изумился: «Как! Даже Вы здесь!» (Jesse W. The life of George Brummell, esquire. L., 1844.Vol. II. P. 52). Правда, потом Джессе замечает, что такая ироническая интерпретация этой реплики принадлежит Браммеллу, который сразу благодаря сей остроте признал Джессе «своим», – но факт остается фактом.
(обратно)1071
Гук О. Тарзан в своем отечестве //Интервью с Валентином Тихоненко.
(обратно)1072
Славкин В. Памятник неизвестному стиляге. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1996. С. 40.
(обратно)1073
Кирсанова Р. М. Стиляги // Родина. 1998. № 8. С. 72–75. Также о стилягах см.: Козлов А.С. Козел на саксе. М.: Вагриус, 1998 г., Орлова Г. Стиляги. Биография Вещи // Объять обыкновенное. Повседневность как текст по-американски и по-русски. М.: Изд-во МГУ, 2004. С. 205–218; Рот-Ай К. Кто на пьедестале, а кто в толпе? Стиляги и идея советской «молодежной культуры» в эпоху «оттепели» // Неприкосновенный запас. 2004. № 4 (36).
(обратно)1074
Померанцев И. Стиляги // Урал. 1999. № 11. С. 124. Интервью с Игорем Берукштисом.
(обратно)1075
Там же. С.126.
(обратно)1076
Возможно, денди XIX века выразился бы иначе, но суть от этого не меняется: «До сих пор вспоминаю, как искуситель Эжен Лами приглашал меня пойти на спектакль: „Пойдем, – говорил он, – дамы прелестны, наряды чудные, – пойдем в Оперу…“» («Even now I hear Eugene Lami, the tempter, calling me to splendid enclosure. “Come, says he, the ladies are beautiful and well-dressed… Come to the Opera…”») Эжен Лами (1800–1890) – французский художник и литограф, акварелист. Темы произведений Лами – придворная и светская жизнь, а также спорт. После поездок в Англию Лами, по словам А. де Мюссе, стал играть роль «поэта официального дендизма».
(обратно)1077
Битов А. Пушкинский дом. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 1999.С. 28.
(обратно)1078
Гук О. Указ. соч.
(обратно)1079
Макаревич В.С джазом по жизни. Интервью с Борисом Алексеевым // Независимая газета. 2003. 20 июня. С. 13.
(обратно)1080
Подробнее о портнихах см.:Vainshtein O. Fashioning women: dressmaker as cultural producer // Late Editions, issue 7. Para-sites. A casebook against cynical reason / Ed. George Marcus. The Univ. of Chicago Press, 2000.P.195–225.
(обратно)1081
Гук О. Указ. соч.
(обратно)1082
Макаревич В. Указ. соч. С.13.
(обратно)1083
Там же.
(обратно)1084
Гук О. Указ. соч.
(обратно)1085
Подробнее о культурных нормах женской моды в СССР см.:Vainshtein O. Female Fashion, soviet style: bodies of ideology // Russia – women – culture / H.Goscilo, B.Holmgren.Indiana, USA: Indiana UP/ 1996. P. 64–94.Фрагмент этой статьи: Вайнштейн О.Б. «Полные смотрят вниз»: Идеология женской телесности в контексте российской моды // Художественный журнал. 1995. № 7. С. 49–53.
(обратно)1086
Русанова О. Раздумья о красоте и вкусе // Знание. 1962.С.133.
(обратно)1087
Померанцев И. Стиляги // Урал. 1999. № 11. С. 126. Интервью с Александром Шлепяновым.
(обратно)1088
Огонек. 1959. № 26.21 июня.
(обратно)1089
Такие пиджаки вошли в моду после американского фильма «Мужчина в сером фланелевом костюме», в котором снимался Грегори Пек.
(обратно)1090
Славкин В. Указ. соч. С. 75.
(обратно)1091
О латышских стилягах см.: Svede M. A. Twiggy and Trotsky or what the Soviet Dandy will be wearing this next Five-year plan // Dandies. Fashion and Finesse in Art and Literature / Ed. Susan Fillin-Yeh. N.Y.U.P., 2001. P. 243–270.
(обратно)1092
Подробнее см.:Polhemus T. Street style. Thames and Hudson, 1997. P.33–37.
(обратно)1093
В оригинале это звучит куда выразительнее: «You tried to get hold of money to pay for ridiculous things like Edwardian suits.They are ridiculous in the eyes of ordinary people.They are flashy, cheap and nasty, and stamp the wearer as a particularly undesirable type» (См. подробнее: Steele-Perkins Сh., Smith R. The Teds. Dewi Lewis Publishing, 2002).
(обратно)1094
Подробнее о костюме «зут» см.:Alford L. The zoot suit: its history and influence // Fashion Theory. June 2004. Vol. 8, issue 2. Р. 225–237.
(обратно)1095
Подробнее о молодежной культуре 50-х годов см.:Abrams M. The Teenage Consumer L.: 1959; Fyvel T.R. The Insecure Offenders: Rebellious Youth in the Welfare State. L.: 1961.
(обратно)1096
Померанцев И. Стиляги // Урал. 1999. № 11.С.124. Интервью с Игорем Берукштисом (с. 126). Среди филологов имена Проппа и Эйхенбаума пользуются заслуженным авторитетом, труды этих ученых постоянно переиздаются.
(обратно)1097
Там же. Интервью с Игорем Берукштисом (с. 123).
(обратно)1098
Благодарю В.М. Гаспарова за текст. Эта песня бытовала в среде питерских стиляг в первой половине 1960-х годов. Автор неизвестен. Возможно, она возникла под влиянием американского фильма «Beau Brummell» (1954). К сожалению, данных о прокате этого фильма в СССР найти не удалось. Но не исключено, что легенда о Браммелле была известна в среде интеллигенции и по другим источникам, например по дореволюционному изданию книги Барбе д’Оревильи, или просто передавалась изустно. Привожу далее комментарий к этой песне, любезно составленный С.Ю.Неклюдовым. «Песня относится к жанровой разновидности “студенческих”, к тематической группе “литературных” (т. е. построенных на литературных, как правило, пародируемых, сюжетах). “Литературность” тут, впрочем, надо понимать весьма расширительно, поскольку рядом с текстами, действительно опирающимися на литературные произведения (большинство песен Алексея Охрименко, СергеяКристи и Владимира Шрейберга), есть тексты, фантазирующие на темы жизнеописаний известных персонажей (например, песня оЛарошфуко. – О.В.). Жанровые истоки такого рода песен мне точно неизвестны, полагаю, они довольно старые (вспомним песенки о блохе и о крысе в “Фаусте”). Вспоминаются студенческие песни“ Коперник целый век трудился…”, “Там, где Крюков канал и Фонтанка-река…” и им подобные, заведомо существовавшие еще в XIX веке (во всяком случае, первая засвидетельствована в песеннике1876 г.). Не исключено, что и традиция пародийного пересказывания истории или исторических анекдотов в стихах (например, “Бунт в Ватикане” А.К. Толстого) и прозе (“Голубая книга” М. Зощенко) могла подпитываться студенческим фольклором подобного рода. Непосредственным источником песенки о Бреммеле был, скорее всего, фильм А. Корда “Леди Гамильтон” (1941) с Вивьен Ли и Лоренсом Оливье, который появился на советских экранах после войны и пользовался тогда большой популярностью. Тема любви леди Гамильтон и Нельсона, в том числе ее драматический финал, там является центральной и представлена весьма впечатляюще. В песенке о Бреммеле она почти наверняка связана с этим фильмом».
(обратно)1099
Англ. «waif models».
(обратно)1100
Примером такого подхода является кн.:Lewenhaupt T.,Lewenhaupt C. Crosscurrents: art – fashion – design. New York, 1989.
(обратно)1101
Зиммель Г. Избранное. Т. 2: Созерцание жизни. М.: Юрист, 1996. С. 269.
(обратно)1102
Kroeber A. L., Richardson J. Three centuries of women’s dress fashion. Berkeley; Los Angeles, 1940.
(обратно)1103
Дальше Мода подробно рассказывает, как ее поклонники укорачивают себе жизнь и губят здоровье в погоне за модными штучками: «Я дырявлю когда уши, а когда и губы и ноздри и терзаю их, вдевая в дыры безделушки, или заставляю людей жечь собственную плоть, запечатлевая в ней для красоты следы раскаленных клейм…» (Леопарди Д. Этика и эстетика. М.: Искусство, 1978. С. 62–63).
(обратно)1104
Рильке Р. – М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М.: Искусство, 1971. С. 345 (пер. В. Микушевича). Ср. оригинал: Pltäze, O Platz in Paris, Unendlicher Schauplatz,Wo die Modistin, Madame LamortDie Ruhlosen Wege der Erde, endlose Bnäder,Schlingt und windet und neue aus ihnen Schleifen erfindet, Rsüchen, Blumen, Kokarden, knüstliche Frcühte —, alleUnwahr gefräbt, – frü die billigenWinterhtüe des Schicksals.Rilke. R.M. Werke. Auswahl in zwei Bnäden. Insel, 1959. Bd. I. S. 249.
(обратно)1105
Кирсанова Р.М. Костюм в русской художественной культуре. М.: Российская энциклопедия, 1995. С. 256–257.
(обратно)1106
Пике – хлопчатобумажная или шелковая ткань с рельефным рисунком в виде рубчиков, что создает эффект «стеганой» поверхности.
(обратно)1107
Официанты, которые носят фрак при работе в ресторане, надевают к нему непременно нитяные, а не лайковые перчатки.
(обратно)1108
Дэнди. 1910. № 2. С. 26.
(обратно)1109
Там же.
(обратно)1110
Подробнее см.:Кирсанова Р.М. Указ. соч. С. 298–300.
(обратно)1111
Ривош Я.Н. Время и вещи. М.: Искусство, 1990. С. 102.
(обратно)1112
Там же. С. 103.
(обратно)1113
Мужское тело и образы мужской красоты – популярная тема в гуманитарных исследованиях последних лет: Bordo S. The Male Body: A New Look at Men in Public and in Private. Farrar: Straus and Giroux, 2000.Edwards T. Men in the Mirror: Men’s Fashion, Masculinity and Consumer Society. L.: Cassell, 1997.Goldstein L. (ed.). The Male Body: Features, Destinies, Exposures.U. of Michigan Press, 1995.Horrocks R. Male Myths and Icons: Masculinity in Popular Culture. N.Y.: St. Martin’s Press, 1995.
Nixon S. Hard Looks: masculinities, spectatorship and contemporary consumption,UCL Press & St.Martin's Press. New York, 1996. Simpson M. Male Impersonators: Men Performing Masculinity. L.: Cassell, 1994.
Кон И.С. Мужское тело в истории культуры. М.: Слово, 2003.
(обратно)1114
Фирма Arrow существовала в Америке с 1820-х годов, но ее расцвет приходится на 10-е годы XX века. Воротник модели Arrow пользовался таким спросом, что перекочевал и на женские блузы. ПослеПервой мировой войны фирма выпускала 400 моделей съемных воротничков, а затем одна из первых стала делать рубашки с цельнокроеным воротником, в середине века популяризировала в то время непривычные цветные рубашки.
(обратно)1115
Вероятно, именно этот тип мужской красоты имела в виду участница форума intermoda.ru, чей идеал – «милый застенчивый мальчик с длинными волосами, в черном, но не в костюме».
(обратно)1116
Подробнее см.:Batterberry M, Batterberry A. Mirror, mirror. A social history of fashion. N.Y., 1977. Р. 353; Harvey J. Men in black. University of Chicago press, 1995. P. 248.
(обратно)1117
Подробнее см.:Polhemus T. Street style. From sidewalk to catwalk.L., 1997. P. 31.
(обратно)1118
Ivy League – частные престижные университеты в Америке, где обучаются студенты из состоятельных семей. К «Лиге плюща» относятся Браунский, Колумбийский, Гарвардский, Корнеллский, Пенсильванский, Принстонский, Йельский университеты иДартмутский колледж. Смысл названия в том, что у старинных зданий с годами стены успевают зарасти вьющимся плющом.
(обратно)1119
От «preparatory school» – частная подготовительная школа, где учатся дети до тринадцати лет.
(обратно)1120
Фильм был снят по роману С.Уилсона «Человек в сером фланелевом костюме» (1955).
(обратно)1121
WASP – сокр. от White Anglo-Saxon Protestant – белый американец англосаксонского происхождения, протестант.
(обратно)1122
Букв. «женских исследований».
(обратно)1123
В России одна из первых статей о бобо появилась в журнале «Elle»: Аликс Жиро де Л’Эн. Бобо – новая элита // Elle. 2000. № 48. С. 113–114.
(обратно)1124
Brooks D. Bobos in paradise.The new upper class and how they got there. New York: Simon and Shuster, 2000.
(обратно)1125
Поколение 50-х годов, когда наблюдалось резкое увеличение рождаемости.
(обратно)1126
New Age – букв. «Новый век», популярный вариант неомистики, адаптирующий идеи из разных сфер – например, йоги, астрологии и буддизма.
(обратно)1127
Букв. нежный, уязвимый с виду (англ.).
(обратно)1128
Статья Сергея Николаевича о тенденциях в мужской моде(Elle. 2003. № 78. Апрель. С.177).
(обратно)1129
Там же.
(обратно)1130
Бортовка – прокладка с изнанки из холста или из конского волоса.
(обратно)1131
Попова Л. За равноправие с женщинами // М – Коллекция. 2002.№ 1 (вып. 36). С. 39.
(обратно)1132
С XIX века в дизайне существовали довольно четкие отличия формы между мужскими и женскими аксессуарами. Так, в каталоге1895 года американской компании «Монтгомерри Уорд» были представлены перочинные ножи для мужчин и женщин, мальчиков и «мужские охотничьи», всего 131 вид ножей. Женские перочинные ножи имели более миниатюрные очертания, тонкую ручку из перламутра или белой кости, а мужские были более массивными, с роговыми ручками. Чемоданы для мужчин изготовлялись из свиной кожи, а для женщин – из сафьяна. Женские туалетные щетки делались с ручкой и маленьким зеркальцем на оборотной стороне, а мужские – овальной формы, без ручек и без зеркал. Женские часики были, разумеется, изящнее и с металлическим браслетом, имели арабский циферблат, а мужские – широкий кожаный ремешок и римские цифры (см.:Forty A. Objects of desire. N.Y., 1992. P. 62–66).
(обратно)1133
Дэнди. 1910. № 2. С. 27.
(обратно)1134
Бодибилдингом занимаются и женщины, однако женский бодибил динг по массовости не может сравниться с мужским. Изначально бодибилдинг был популярен среди гетеросексуальных мужчин, но с 1980-х годов, когда участились случаи спида среди гомосексуалистов, накачанное тело стало восприниматься как символ здоровья или, по крайней мере, как свидетельство «контроля» над своим физическим состоянием.
(обратно)1135
Мачистский образ бодибилдера особенно пропагандируется в журнале «Muscle and Fitness», где, чтобы снять потенциальный «голубой» контекст, периодически помещают снимки силачей в компании восхищенных дам.
(обратно)1136
Mirzoeff N. Bodyscape: art, modernity and the ideal figure. L.: Routledge, 1995. P. 93.
(обратно)1137
Барт Р. Мифологии / Пер. С. Зенкина. М.: Изд-во Сабашниковых,1996. С. 189.
(обратно)1138
Там же. С. 190.
(обратно)1139
См.: Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Пер. А. Усмановой // Антология гендерной теории / Сост. Е. Гаповой, А. Усмановой. Минск: Пропилеи, 2000. С. 280–297.
(обратно)1140
Лафайет М. М. Принцесса Клевская. М.: Росмэн, 2003. С. 236.
(обратно)1141
Новая волна в британской мужской моде – явление последних лет, до этого в 1980–1990-е годы мужская мода в Англии переживала не самые лучшие времена. Провозглашенный американскими журналистами лозунг «Cool Britannia» – «Британская элегантность» (намек на гимн Rule Britannia) быстро выдохся, и даже знаменитый агент 007 Джеймс Бонд в последних сериях фильма носил костюмы Brioni. Наиболее известные молодые дизайнеры – ДжонГальяно, Стелла Маккартни, Александр Маккуин – специализируются на женской одежде. Признаки новой волны – успешная работа молодых дизайнеров в старейших британских фирмах: КрисБейли – в Burberry, Марк Хендерсон – в Gieves and Hawkes, Карло Бранделли – в Kilgour French Stanbury.
(обратно)1142
Walden G. Who is a Dandy? // Barbey D’Aurevilly J. On dandyism and George Brummell / Тranslated by George Walden. Gibson Square books, 2002.
(обратно)1143
Адам Торп и Джо Хантер делают интересные вещи в духе уличной моды – они первыми изобрели рюкзак с диагональной лямкой через плечо, но не сумели оформить лицензию, и вскоре китайские и корейские фирмы стали в массовом порядке копировать их изобретение.
(обратно)1144
Умение с дружелюбным и просвещенным любопытством учиться у других культур – урок, извлеченный англичанами из собственной национальной истории. Если пофантазировать и представить аналогичную выставку о российских денди XXI века, то вряд ли в разделе «Новый россиянин» были бы помещены фотографии наших мусульман-кавказцев. Наше общество, отличаясь повышенным уровнем ксенофобии, в итоге платит дорогую цену за нетерпимость к «Другим» по национальному признаку. Нередко даже творческие люди из-за этого непоправимо сужают свой горизонт, упуская возможности развиваться. Напрашивается грустная гипотеза по поводу неизбежной вторичности нашей моды: провинциализм вкуса – одно из последствий ксенофобии.
(обратно)1145
Breward C. Fashioning London. Clothing and the modern metropolis.Oxford; New York: Berg, 2004. Breward C. The Hidden Consumer: Masculinities, Fashion and city life 1860–1914. Manchester U.P., 1999Breward C. The culture of Fashion: a new history of fashionable dress. Manchester U.P., 1995.
(обратно)1146
Официальный сайт Квентина Криспа: /
(обратно)1147
Во И. Возвращение в Брайдсхед. Во И. Собр. соч.: В 5 т. / Пер. И. Бернштейн // М.: Эхо, 1996. Т. 4. С. 30–31.
(обратно)1148
Метрополия – от греч. «meter» – мать и «polis» – город. В буквальном смысле этимология термина «метросексуал» дает «материнский пол». Это парадоксально перекликается с одним общеизвестным фактом: пол любого человеческого эмбриона в первые недели – женский (материнский), и лишь на втором месяце происходит дифференциация по полу благодаря Y-хромосомам, определяющим развитие мальчиков.
(обратно)1149
Simpson M. Meet the Metrosexual. Статья появилась 22 июля 2002 года на сайте Первая статья Симпсона на эту тему была опубликована еще в 1994 году (Simpson M. Here come the mirror men // The Independent. 1994. November 15). Однако слово стало популярным только в 2002 году и с тех пор постоянно входит в десятку хитов на сайте
(обратно)1150
Prosumer – professional consumer, профессиональный потребитель.
(обратно)1151
.
(обратно)1152
Сен-Сир – пансион для благородных девиц под патронажем мадам де Ментенон.
(обратно)1153
Derrida J. Donner le temps. I. La fausse monnaie. P.: Galilée, 1991.
(обратно)1154
См. отличный ресурс: / а также – сайт по мужской моде.
(обратно)1155
/
(обратно)1156
/
(обратно)
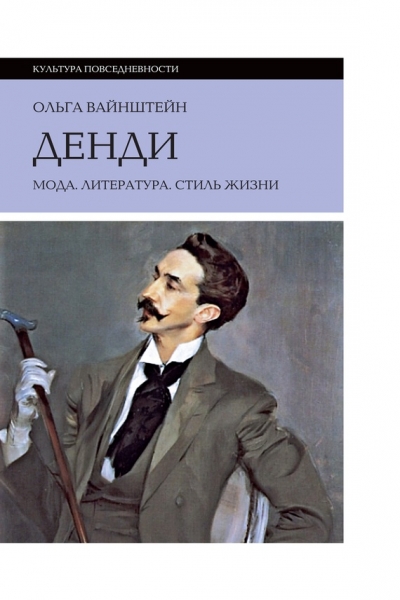






Комментарии к книге «Денди: мода, литература, стиль жизни», Ольга Борисовна Вайнштейн
Всего 0 комментариев