Инна Осиновская Поэтика моды
Моей маме Светлане Левит
© И. Осиновская, 2016
© ООО «Новое литературное обозрение», 2016
Вместо вступления
Много лет я пишу статьи про моду в журналах и газетах: про тенденции, коллекции, сезоны, показы, дизайнеров, бренды, марки, дома; про платья, юбки, шляпы, браслеты, кольца, часы, туфли, пуговицы, очки; про кремы, лаки, бороды, волосы, помады, духи; про вдохновение, эскизы, ткани, крой.
Все эти вещи, имена, идеи мелькают, кажутся сначала такими интересными, новыми, свежими, а через небольшой промежуток времени устаревают, забываются. Глянцевые страницы тускнеют, газетные желтеют. Газеты и журналы выходят, их покупают и выкидывают, оставляют мокнуть под дождем или собирать пыль на шкафу.
Мне стало жаль, что весь этот праздник моды, вся эта красота постоянно и регулярно ускользает от меня, превращается в мусор, теряется в недрах Интернета. И захотелось написать текст, в котором мои легкомысленные познания могли бы пригодиться, могли бы выстроиться в некую систему, в поле образов – и обрести вторую жизнь.
Написать еще одну историю моды, модных домов, модных эпох – это, пожалуй, не для меня. История как таковая меня пугает своей монументальностью, громадностью, величием, необратимостью, многозначностью, безнадежной недосказанностью. Мне интересны камерные форматы, интересны константы, коды поэтики, образная система – то, что, видоизменяясь, в сущности, остается стабильным.
Между тем, Ролан Барт в своем труде «Система моды», анализируя высказывания об одежде в глянцевых журналах, отмечает недостаточную поэтичность этого языка, говорит, что журнальная «мода не исполняет поэтического проекта… что коннотация здесь не отсылает к работе воображения» и «на практике в языке модного журнала для описания одежды используются стереотипные, вульгарные метафоры и обороты», формирующие банальную, то есть малоинформативную риторику (Барт 2003: 270–271).
Говоря об ассоциативных культурных образах, использующихся для того, чтобы транслировать модное содержание, Барт выделяет всего «четыре основных темы: Природа (платья-цветы, платья-облака, шляпки в цвету и т. д.); География, окультуренная под знаком экзотики (блузка в русском стиле… тона греческого лета); История… (мода 1900 года… силуэт в стиле ампир); наконец, Искусство… самая богатая из вдохновляющих тем, которая в риторике Моды отмечена полнейшим эклектизмом, – главное, чтобы референции были общеизвестными (новый силуэт Тангара, утренние платья в стиле Ватто, краски Пикассо)» (там же: 274).
Да, тут не поспоришь, все так, риторика скудна. Если ограничиться языком глянца. Но что если попробовать подступиться к теме «поэтики моды» со стороны образов и концептов, которые стоят за явлениями-понятиями, сопутствующими образному полю Моды, такими как гламур и роскошь… Или, например, взять тот же язык глянцевых журналов, смешать его с языком производителей, работающих в модной индустрии, и обнаружить парадоксальную связь будто бы случайно связанных образных полей – «еды» и «моды», – а затем выяснить, что данная связь на самом деле совсем не случайна, а заложена изначально в обеих этих составляющих человеческой жизни. Или заглянуть в область «неглянцевого» языка художественной литературы и сказок и посмотреть, откуда в современных представлениях о моде, в повседневном отношении к ней возникли те или иные архетипические модели. Иными словами, если не ограничиваться лишь «банальными» тропами языка модного журнала, то, может быть, «риторика одежды» не покажется такой пустой и скудной. И за этой «риторикой» вполне можно будет разглядеть «поэтику» – объемные образы, отсылающие нас в итоге к глубинным и таинственным смыслам человеческого бытия.
Мода в философском дискурсе
Мода давно уже обрела себе место в музее, но в интеллектуальной среде она ютится в прихожей.
Ж. Липовецкий. Империя эфемерного: мода и ее судьба в современном обществеПрезрение к «легкомысленной» моде – не что иное, как поза, причем самая легкомысленная из всех, что мне известны.
<…>
На моду постоянно клевещут, ее чернят и поносят, и потому серьезное исследование моды вынуждено все время подыскивать себе оправдания.
Э. Уилсон. Облаченные в мечты: мода и современностьМода – это пустяк, символ легкомысленности, поверхностности, праздник и развлечение. Ею живут, ее игнорируют, ею восхищаются, ее историю изучают, за ее эволюцией следят, ее практикуют или отвергают и даже презирают. «А ведь мода это – творчество человеческой посредственности, известный уровень, пошлость равенства, – и кричать о ней, бранить ее, значит признавать, что посредственность может создать что-то такое (будь то образ государственного правления или новый вид прически), о чем стоило бы пошуметь» – написал однажды Владимир Набоков (Набоков 1989: 478). И о моде, на самом деле, скорее не думают, а шумят. Иными словами, моду нечасто рассматривают как объект философского исследования. А между тем в философском дискурсе припасено место и для нее, как, впрочем, и для любого, самого, казалось бы, незначительного или повседневного феномена человеческого бытия.
Метафора времени
Вот два простых высказывания: «Это платье теперь в моде» и «Надо следовать моде». На примере этих предложений выявляются два простых значения слова «мода». В первом случае речь идет о наборе определенных свойств, носящих ситуативный, сиюминутный характер. «Теперь в моде» – значит, именно сейчас, в конкретной ситуации, в данном контексте и в определенном временном отрезке. А в высказывании – мода выступает как неизменный принцип, как догма, как закон, как императив. И обе эти ипостаси моды по-своему коррелируют с понятием времени.
Мода в первом значении связана со временем спиралевидным способом: «моды» постоянно возвращаются, каждый раз на новом уровне. Об этом очевидном круговороте пишет Георг Зиммель в работе «Мода»: «…она (мода. – И.О.) – что особенно заметно в моде на женскую одежду – все время возвращается к прежним формам, так что ее путь можно прямо сравнить с круговоротом. Как только прежняя мода несколько забыта, нет никаких причин, препятствующих тому, чтобы вновь оживить ее…» (Зиммель 1996: 289). Российский исследователь моды Александр Гофман называет время моды «прерывным» (Гофман 2004: 71), имея в виду тот же зиммелевский «круговорот», и отмечает, что феномен прерывности связан с особенностями «социальной памяти» в моде, которой свойственно «забывание» предшествующих модных стандартов при сохранении «воспоминания» о «ценностях моды». И «это позволяет участникам моды… воспринимать старые, но забытые культурные образцы в качестве „новых”» (Гофман 1992: 78). О парадоксе-трюизме старого как нового («новое – хорошо забытое старое») рассуждал и Серен Кьеркегор в своем эссе «Повторение»: «Диалектика „повторения” несложна, ведь то, что повторяется, имело место, иначе нельзя было бы и повторить, но именно то обстоятельство, что это уже было, придает повторению новизну» (Кьеркегор 1997: 62). Если применить этот афоризм к диалектике моды, выявляется безнадежная абсурдность модного процесса (впрочем, не менее безнадежная, чем диалектика самого бытия): грааль моды, ее сокровенный смысл, «новизна» – недостижимый призрак, и то, что кажется особенно свежим, особенно новым – лишь повторение того, что было настолько давно, что стерлось из памяти или же с готовностью принимается в качестве «нового» как раз потому, что является «повторением», то есть хорошо знакомым, но чуть измененным: как, например, модель очков-авиаторов, придуманная в 1930-е годы и ставшая очень модной сейчас. Но ведь спутать прототип и новинки невозможно: другие материалы, другие цвета, чуть другая форма. О том же парадоксе говорит и Маргарет Мид в своей книге «Культура и мир детства», отмечая, что за идеей моды стоит идея непрерывности культуры. «Подчеркивая модность чего-либо, хотят сказать, что ничто важное не меняется» (Мид 1988: 345). То есть новое в моде лишь оттеняет стабильность старого.
Свойство моды возвращаться наглядно иллюстрируется следующей схемой английского исследователя истории костюма Джеймса Лавера: «Один и тот же костюм будет: непристойным – за десять лет до своего времени; неприличным – за пять лет; экстравагантным – за один год; изящным – в свое время; безвкусным – один год спустя (после своего времени); отвратительным – спустя 10 лет; забавным – спустя 30 лет; причудливым – спустя 50 лет; очаровательным – спустя 70 лет; романтичным – спустя 100 лет; прекрасным – спустя 150 лет» (цит. по: Гофман 2010: 75).
Это исследование Лавер писал в начале 1940-х годов. Справедливости ради надо отметить, что с тех пор в самой «спирали моды» многое изменилось: ее форма деформировалась, спираль сплющилась и искривилась. За последние десять лет время сжалось: прошлое, настоящее и будущее моды все чаще встречаются в одной точке.
Так, некоторые тенденции переходят из сезона в сезон: например, присутствие элементов стиля casual в формальном дресс-коде (свитер с пиджаком, пуховик с костюмом, костюм с кедами и т. д.). Плиссированные юбки, розовый цвет, андрогинность женской моды (мужские ботинки с платьем, мужские сорочки с юбкой) – все это остается на пике моды на протяжении нескольких последних лет.
Кроме того, мода переживает кризис идей, кризис новизны, и в каждом сезоне дизайнеры возвращаются к тенденциям прошлых десятилетий: в парижских и миланских показах всплывают то «безвкусные 1970-е», то «гламурные 1950-е», то бонтон 1940-х – а зачастую эти декады могут сосуществовать в одном сезоне или даже в рамках одной коллекции дизайнера.
На самом деле процесс деформирования «спирали» начался еще в 1960-е годы. Французский философ Жиль Липовецкий обозначает его словом «диффузия»: «Этот феномен стал явственно заметен на уровне сезонных показов: без сомнения, в коллекциях еще можно увидеть похожие элементы, вроде ширины плеч или длины платьев, но если раньше они были императивными требованиями, то теперь стали маргинальными и факультативными; с ними теперь можно обходиться свободно, выбирая или нет в зависимости от вида одежды и вкуса дизайнера. Можно сказать, что мы оказались свидетелями мягкой диффузии сезонных тенденций, с постепенным отмиранием этого самого характерного для предыдущей фазы развития моды феномена» (Липовецкий 2012: 145). Липовецкий упоминает о феномене «императивности» моды, а точнее, об угасании этого явления: мода больше не диктует, какой должна быть длина юбки или глубина выреза, мода больше не приказывает, ее все сложнее понять, интерпретировать, формализовать.
Но несмотря на то что за последние десятилетия эта императивность неуклонно ослаблялась, она не перестает быть сущностной составляющей моды. Мода – это догма, а повторяемость отдельных мод – метафора бытия. Ведь повторение, по Кьеркегору, – «сама действительность». Кьеркегор противопоставляет повторение надежде, обращенной в будущее, и воспоминанию, направленному в прошлое. Таким образом, называя повторение самой действительностью, Кьеркегор имеет в виду, что оно обращено в настоящее, что через повторение конституируется настоящее. «Современное», являющееся синонимом модного, образуется путем актуализации прошлого в настоящем. «Современность» моды формируется не только через прошлое, но и через порыв к будущему. Ролан Барт в «Системе моды» говорит об особом времени, в котором существует мода, называя эту временную структуру ухронией («фактически мода предполагает ухронию, время, которого не существует; прошлое в ней стыдливо замалчивается, а настоящее все время „пожирается” новой Модой» (Барт 2003: 323). Развивая эту мысль, Барт также рассуждает об озабоченности моды новизной, о неомании (там же: 336). Тяга к новому – тяга к будущему, к тому, чего еще не было и пока нет. Таким образом, мода как бы зажата между прошлым и будущим, она постоянно удерживает между ними равновесие. Мода, как полагает Георг Зиммель, «есть одновременно бытие и небытие, находится всегда на водоразделе между прошлым и будущим и, пока она в расцвете, дает нам такое сильное чувство настоящего, как немногие другие явления» (Зиммель 1996: 275).
Этот мотив пребывания моды одновременно в прошедшем и будущем, по-видимому, пытался передать Пьер Карден, создав в 1998 году, накануне нового тысячелетия, «костюм XXI века», представляющий собой золотистое одеяние в стиле XVII века, украшенное электрическими огнями. Будущее (XXI век) и прошедшее (XVII век) должны были воплотиться в настоящем. Этому платью, пожалуй, не удалось удержать баланс между прошлым и будущим – прошлое перевесило. Доминирование прошлого акцентировалось еще и тем, что моделью, представившей это платье, была Майя Плисецкая. Таким образом, изделие Кардена оказалось проникнутым ностальгией и пропитанным прошлым. Вообще, как правило, попытки моды зафиксировать в настоящем прошлое и будущее выглядят эффектно, но граничат с фарсом. В этой связи можно еще вспомнить футуристичную коллекцию Alexander McQueen осень – зима 2012 года, где на подиум выходили модели в невообразимых пышных корсетных платьях в пол (абстрактное прошлое), расшитых перьями, создающими эффект трехмерности материала (будущее).
Мода является метафорой течения времени, постоянным вечным становлением. «Мода – это такая одежда, в которой главное – быстрая, непрерывная смена стилей. В каком-то смысле мода и есть перемена…» – такое определение дает профессор Лондонского колледжа моды Элизабет Уилсон (Уилсон 2012: 20). Перемена – это и есть становление. Модное «мгновение» – уже не прошлое, еще не будущее, и, чтобы остаться настоящим, моде надо все время двигаться, как жителям Зазеркалья Льюиса Кэрролла, которым «приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте». Каждый настоящий момент постоянно погружается в прошлое. Владимир Янкелевич в своей книге «Ирония» по этому поводу пишет: «Постоянно новое и постоянно ветхое, настоящее моды и современности имеет парадоксальный вид» (Jankelevitch 1985: 54) – столь же парадоксальный, пожалуй, как и перьевые платья McQueen или огненный наряд Кардена. С этим мотивом становления связан мотив бренности, обреченности и суетности моды. Как отмечает Зиммель: «Лишь тот назовет это (нечто новое и внезапно распространившееся в жизненной практике. – И.О.) модой, кто уверен в таком же быстром исчезновении нового явления, каким было его появление» (Зиммель 1996: 275). В моде слились образы мгновения и вечности: мода предстает как череда мгновений, но и как вечный круговорот, как перемена, но и как повторение.
Генезис модного
Относительно того, как обычная вещь становится модной, существует множество теорий. Георг Зиммель (Зиммель 1996) и Габриэль Тард (Тард 2011: 304) говорят о «подражании» как об основном факторе формирования модного, впрочем, не объясняя, как возникает желание подражать тому или иному объекту. Гофман предлагал понимать становление модного через три большие внутренне дифференцированные категории: 1) «производители», создающие модные стандарты и объекты; 2) «потребители», усваивающие и использующие их в своем поведении; 3) «распространители», передающие модные стандарты и объекты от производителей к потребителям (Гофман 2004: 117). Но это, к сожалению, ничего не объясняет, так как здесь описывается лишь внешняя работа механизма, как будто и так уже известно, как вещь становится модной или как производятся модные вещи. Да и то, что именно «производители» создают модные стандарты и объекты, – само по себе сомнительно. Производители (дизайнеры) «черпают идеи», «вдохновляются» окружающей их действительностью (об этом дизайнеры любят рассказывать в интервью модным журналам). Но, возвращаясь к идейному кризису моды (который начался, пожалуй, после смерти Кристиана Диора, действительно устанавливавшего стандарты «прекрасного» и «модного»), стоит отметить, что явлением последних лет стало то, что производители нарушают «иерархию», берут идеи из «уличной моды» (streetwear). То есть не производитель «воспитывает» потребителя, а наоборот. Но в конечном итоге дизайнер создает свою коллекцию, модель выходит на подиум, журналисты записывают в блокноты и планшеты «считанные» с моделей тенденции и транслируют информацию потребителю, мода спускается на «улицу», преображается в streetwear, снова возвращается к дизайнеру, и «круг» замыкается. Выходит, «круговорот» присутствует не только во «временном» дискурсе моды, но и в идейно-пространственном.
Если же пока оставить в стороне вопрос о том, кто у кого заимствует идеи и кто на самом деле является субъектом генерирования модных объектов, то остается еще один вопрос – о механизме самого процесса «считывания» и метафоричности этого процесса.
Генезис модного – это «биполярный» процесс. Модное поле раскинулось в удвоенном мире, в той самой платоновской модели мироздания, разделенной на идеи и вещи. «Мир идей» актуализирован и персонифицирован в том, что называется haute couture, «мир вещей» – в prêt-а-porter, в повседневной, практикуемой моде.
На подиумах и дефиле демонстрируются модели одежды. Они словно находятся вне времени и пространства: все эпохи и культуры в разной степени так или иначе задействованы в этих моделях: даже если конкретные тенденции из прошлого не считываются в настоящем, они присутствуют подспудно, например как отрицание или как игнорирование. Но любая новая «форма-модель» заключена в контекст вечности, в контекст прошлого и будущего. Это возвращает нас к понятию «нового» в моде. «Нового» не бывает вне контекста «старого», как и добра не бывает без зла, если следовать утверждению Блаженного Августина.
Вещи, демонстрируемые на подиуме, нарочито оторваны от действительности, ими не предполагается пользоваться в повседневной жизни. Как правило, это в меньшей степени касается показов prêt-a-porter и в большей – haute couture, впрочем, опять же в последние годы происходит смешение форматов. Нередко можно увидеть коллекции prêt-a-porter нарочитые, игровые, гипертрофированные (как многие коллекции того же McQueen или Comme des Garçons, даже Prada или последние несколько сезонов Dolce & Gabbana) и, напротив, «жизненные» коллекции haute couture – как, например, показ Chanel (осень – зима 2013). Подробнее об этом будет рассказано в главе «Гламур».
Грим и вид девушек-моделей большинства дефиле подчеркивает их потусторонность: слишком яркие или слишком темные тени (макияж smoky eyes), заостренные черты (подчеркнутые скулы), отрешенный, устремленный в никуда взгляд, всклокоченные или же, напротив, нарочито прилизанные волосы, слишком идеальная походка – так не ходят по улице, так ходят только по подиуму, отсутствие улыбки. Некоторые дизайнеры добиваются эффекта потусторонности моделей с помощью специальных трюков – «одежды» для лица, превращая моделей в диковинных существ из иного мира. Такие примеры собрала в своей статье Линор Горалик: «Katie Eary делает из позолоченного пластика закрывающий лицо шлем в форме головы непонятного зубастого зверя, Maison Martin Margiela заворачивает головы моделей вместе со шляпами в непрозрачный трикотаж…» Она также приводит в пример «головной убор со страшным, рассекающим лицо „клювом”, маску Stephen Jones из пластмассовых перьев, накидку Lutz с черной бахромой до подбородка, непроницаемые челки моделей у Moschino» (Горалик 2011).
Многозначно и понятие «модель». Это и девушка, демонстрирующая платье, и само платье. Модель – не сама вещь, а ее обобщающая идея, ее паттерн; девушка-модель есть идея девушки, платье-модель – идея платья. Вот как описывает эту идею потусторонности моделей Изабель Рабино в своей книге, посвященной Кристиану Диору: «Эти лица настраивают вас на созерцание воображаемых миров» или «Она идет такая далекая и отрешенная. <…> Лицо девушки утратило выражение, зато платья обрели выразительность, она и есть идеальное воплощение идей великого кутюрье» (Рабино 2013: 121, 119).
Переход в мир вещей из мира идей осуществляется посредством интерпретирования. С вещи haute couture считываются идеи или, говоря гуссерлевским языком, виды (философ-феноменолог Эдмунд Гуссерль применял термин «виды», вкладывая в них примерно то же значение, что и Платон в «идеи»): странное, шокирующее платье превращается в совокупность простых элементов-идей – открытой спины, прозрачности ткани, ковбойского мотива, синего цвета. Все эти характеристики потом могут воплощаться в потребляемых вещах по отдельности. Идеи становятся вещами: их можно купить в магазине, надеть, они тиражируются и распространяются. Вещь имитирует идею, но не тождественна ей – это лишь тень идеи. Каждый, по мысли Платона, сидящий в «пещере», понимает свою причастность к идее, но довольствуется тенями. Впрочем, и в этом отношении ситуация неоднозначна.
Как уже говорилось выше, не все хотят довольствоваться тенями – некоторые хотят сами быть «богами» – трендсеттерами, транслирующими идеи в «пещерный» мир вещей. Пример тому – феномен streetwear или ее аналог из 1970-х – мода хиппи. В борьбу с «двоичностью» модной парадигмы вступают и сами дизайнеры. Dolce & Gabbana на мужском показе выводят на подиум не настоящих моделей, а обычных сицилийских мальчиков – невысоких, неказистых, с «человеческой» походкой вразвалочку. Все чаще дизайнеры привлекают к показам «несовершенных» моделей – с «лишним» весом, немолодых, с неправильными чертами (см. показы Rick Owens).
Чтобы произошел переход от мира идей к миру вещей, должна быть создана ситуация игры, необходима включенность в игру, желание участвовать в моде: комментаторы должны строить определенные классификации, а потребители хотеть их принимать и воспроизводить.
Лепет и гул языка
С проблемой «считывания» идей с моделей тесно связана проблема модного словаря. Когда говорят о языке моды, о том, что мода представляет собой знаковую систему, имеют в виду моду в значении манеры одеваться. В этом смысле можно рассуждать о моде, например, XIII века или о моде полинезийских аборигенов. Этим занимается семиотика и история костюма. О моде же в собственном смысле, как о феномене современной культуры, затруднительно говорить как о знаковой системе. Мода отказывается «внятно говорить», она лепечет сразу на всех языках. Происходит это вследствие такого ее атрибутивного свойства, как тотальность или универсальность. Это ее свойство иллюстрирует отрывок из статьи искусствоведа Аркадия Ипполитова: «Мода тотальна. Нет ни одного самого отдаленного уголка планеты, который бы она не обшарила в поисках мотивов. <…> В истории культуры тоже не осталось белых пятен. <…> Перелопачены и все социальные слои. <…> Юноши в женском белье и девушки в боксерских перчатках никого не удивят – пол, так же как и возраст, тысячи раз был объектом различных модных экспериментов. От современной моды возникает ощущение разверзшейся бездны, какой-то прорвы, засасывающей века, страны, стили, манеры, индивидуальности» (Ипполитов 1998).
Отношение моды к пространствам можно сравнить с отношением средств передвижения и массовой информации к расстояниям. И первая, и последние стремятся уничтожить пространства, сжимая их и завоевывая.
Бормотанье моды призвано вследствие своей тотальности, а значит, асоциальности, аполитичности, аморальности превратить человека в тело-объект. Вступая в ситуацию моды, человек перестает принадлежать к определенной социальной группе, нации и т. д.; он становится лишь телом-вещью, играющим с модой и стремящимся вместе с ней к мгновению и вечности. Эта ситуация для некоторых дизайнеров – повод для иронии: «модный» человек превращается в вещь, в объект, а сама вещь становится субъектом. Так, в совместном проекте художника Эрвина Вурма с Hermès (2008) одежда больше не нуждается в человеке: он – всего лишь тело в двубортном пальто, в брюках и ботинках, без головы. Некоторые концептуальные дизайнеры идут еще дальше в своей ироничности и создают вещи, не только не нуждающиеся в человеке, но и ведущие самостоятельную жизнь: платье нидерландского дизайнера Анук Виппрехт курит (выпускает дым через специальные трубки), а платье Рикардо O’Насименту под названием Paparazzi Lover («Любительница папарацци») самостоятельно «общается»: «самодовольно» мигает светодиодными лампочками, когда его фотографируют. Мистическая одушевленность одежды обыгрывается и в литературе. Например, в романе Э.М. Ремарка «Жизнь взаймы» наряды героини описаны как живые существа: «Она знала, что шляпка, которая идет тебе, служит большей моральной опорой, чем целый свод законов. Она знала, что в тончайшем вечернем платье, если оно хорошо сидит, нельзя простудиться, зато легко простудиться в том платье, которое раздражает тебя. <…> Но она знала также, что в моменты тяжелых душевных переживаний платья могут стать либо добрыми друзьями, либо заклятыми врагами» (Ремарк 2007: 110).
«Лепет» моды можно понимать как одно из реальных воплощений бартовского «гула языка». Барт пишет: «…в своем утопическом состоянии (гула) язык раскрепощается… вплоть до превращения в беспредельную звуковую ткань, где теряет реальность его семантический механизм… гул языка – это смысл, позволяющий расслышать изъятость смысла… нужно, чтобы в звучащей сцене (гула языка) присутствовала эротика (в самом широком смысле слова), чтобы в ней ощущался порыв, или открытие чего-то нового…» (Барт 1994: 69). В моде есть эти свойства гула языка: отсутствие денотативности, беспредельность (тотальность), эротика, поиск нового.
Тотальность, или универсальность, моды означает не экспансивность ее, а способность вбирать. Завоевывая пространства, мода не остается в них, а создает свое собственное, которое можно назвать игровым полем. Мода является субкультурой, отрицающей чужие правила и установления и формирующей свои собственные. Об игровом элементе моды писали многие. В частности, Й. Хейзинга в «Homo ludens» или Гофман в книге «Мода и люди». Хейзинга, правда, писал не об игре в моде как таковой, а об игривом содержании отдельных мод, например моды XVII века с ее париками и бантами. Гофман, взяв за основу данное Хейзингой определение игры как свободной деятельности, проникнутой праздничным мироощущением маскарада и лишенной утилитарности, описывает моду как игру (Гофман 2004: 28–29). Свойства игры, упомянутые Гофманом, можно дополнить и другими, приводившимися Хейзингой в первой главе книги, посвященной игре как явлению культуры: игра – серьезна; это определенный мир, «иное бытие» со своим порядком и правилами; в отношении игры невозможен скептицизм, иначе она разрушается, игра «вне дизъюнкции» добра и зла, истины и лжи, мудрости и глупости (Хейзинга 1992: 182). Все это применимо и к моде.
Зиммель, а вслед за ним и другие, писал о подражании как конституирующем факторе модной «игры». Подражание в манере одеваться было во все времена, даже тогда, когда моды в ее современном значении не существовало и она была синонимична обычаю (об этом подробнее см.: Гофман 1992). В современной моде подражание тоже присутствует, но уже в новом качестве. Подражание может являться одним из правил игры моды. Оно может быть сознательным актом желающего вступить в игру, желающего оказаться в ситуации моды. Но современное общество позволяет человеку быть модным случайно, неосознанно. ХХ – XXI века – эпоха тиражирования. Человек может случайно купить модную вещь, тогда как в веке XVII это было невозможно. В современной моде подражание находится в иной плоскости, чем игра: оно может совпадать с игрой моды, а может и быть вне ее. И область, где подражание неслучайно, носит серьезно-игровой характер и одновременно, благодаря тиражированию, вроде бы случайно, своей всеобъемлющей властью включает потребителя в эту игру моды – это область гламура. О ней пойдет речь в следующей главе.
Гламур [1]
Гламур – это праздник, который всегда с другими – не с тобой.
Фредерик Бегбедер. 99 франковКаждый раз с наступлением очередного экономического кризиса становятся актуальными разговоры о смерти гламура. Философы и журналисты хоронили гламур и в 1998 году, и в 2008-м, и в 2014-м. И все-таки дискурс гламура жив и кризисы ему не помеха, а даже напротив. Ведь этот феномен общества потребления имеет мало отношения к реальности. Он представляет собой гиперреальность, некое «волшебное», симулятивное пространство, живущее по своим правилам и законам. И как раз в ситуации экономической нестабильности гламур становится одним из способов утешения: кризисы – благодатная почва для процветания гиперреальностей. Кинематограф Голливуда начал насаждать идеологию гламура, культивировать звезд (Грета Гарбо, Марлен Дитрих) в 1930-е годы, как раз в эпоху экономического кризиса. Культ dolce vita, который расцветет в 1960-е годы благодаря одноименному фильму Феллини, зарождался именно в то межвоенное время, в атмосфере экономической нестабильности, вызванной Великой депрессией, начавшейся в 1929 году.
Изначально «гламур» – это чары, магия, колдовство. Именно в таком значении использует слово «glamour» шотландский поэт середины XVIII века Аллан Рамзай. В составленном им глоссарии к собственному произведению «Благородный пастух» (The Gentle Shepherd) он так объясняет употребление этого слова: «When devils, wizards, or jugglers, deceive the sight, they are said to cast glamour over the eyes of the spectator» (Ramsay 1808: 761), что можно перевести следующим образом: «Когда демоны, колдуны и фокусники обманывают зрение, про них говорят, что они набрасывают пелену на глаза зрителя». Glamour в этом контексте выступает именно как пелена, затуманивание, одурманивание, магические чары.
Стивен Гандл, автор объемного исследования «Гламур», пишет, что это слово ввел в употребление Вальтер Скотт в 1805 году в своей поэме «Песнь последнего менестреля», чтобы «обозначить волшебную силу, благодаря которой обычные люди, дома и места казались великолепными» (Гандл 2011: 12). В XIX веке слово отчасти утрачивает магические коннотации и начинает приобретать более светский оттенок. Читаем «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте: «The glamour of inexperience is over your eyes…» – говорит главной героине мистер Рочестер (Bronte 2005: 174). В этом контексте слово «glamour» можно перевести как «дымка, пелена, обаяние, прелесть» – то есть близко к начальному значению XVIII века, но только вместо темного обаяния демонических чар подразумевается скорее эротическая привлекательность: «обаяние неискушенности в твоих глазах…». Это значение закрепляется и в начале XX века: «A woman has no glamour for a man any more» («Женщина в глазах мужчины потеряла очарование») – сокрушается героиня «Любовника леди Чаттерлей» Конни (Lawrence 1993: part 6).
В конце ХХ – начале XXI века у гламура появляется, помимо указанных, масса других смысловых и поэтических коннотаций, но общим для всех оказывается таинственный, колдовской смысл.
Тайна имени
Похоже, что этимологически слово «гламур» восходит к английскому «grammar», искаженному в шотландском произношении и превращенному в «glamour». В частности, канадский исследователь Марк Мортон в своей книге «Любовный язык» отмечает: «Самое забавное то, что „glamour” вырос из неправильного произношения „grammar”, понятия, под которым подразумевается система правил, отвечающих за то, чтобы набор слов превращался в предложения. В человеческом воображении всегда есть связь между способностью контролировать язык и совершать заклинания» (Morton 2003: 37). По-английски «совершать заклинания» будет: «cast magic spells». И Мортон развивает свою мысль, напоминая нам о том, что слово «spell», помимо группы значений, отсылающих к заклинаниям и чарам, имеет также значение «произносить по буквам».
Буквы, согласно древним учениям, в частности каббале, являются скрытым кодом, зашифрованной формулой бытия и бога. Священны буквы – священны и слова. Благодаря христианской традиции в европейское мышление впечатывается аксиома «В начале было Слово». Слово, logos – основание мира, его причина, отправная точка. Из логоса рождается мир, подчиненный строгим законам и порядку, как и слова в грамматически правильно построенном предложении. Из слов и предложений возникают тексты. А само слово «текст» происходит от латинского «textum» – ткань. Из тканей шьется одежда, которая может нести в себе модные коды. Так, «генетически» мода оказывается связана с творением мира, со священными буквами и логосом. Этимология и других «обыденных» слов подтверждает, что женственное, колдовское начало, воцарившееся в повседневности и глядящее на нас со страниц глянцевых журналов и с высоты гламурных канонов, ведет родство с языком, магией и тайной мироздания. В конце концов, «косметика» и «космос» – однокоренные слова, происходящие от древнегреческого «kosmeo» – «украшать, приводить в порядок». Как говорит главный герой рассказа французской писательницы А. Нотомб «Косметика врага», «Какой же вы невежда! Косметика – это не пудра и румяна, а наука о мировом устройстве, система нравственных законов, определяющая порядок вещей в мире» (Нотомб 2009: 81).
Относительность и симулякр
Гламур по сути своей – явление неуловимое, относительное. Ярче всего эта относительность видна в сопоставлении с родственным ему феноменом роскоши. Если роскошь вполне поддается описанию и можно, указав на вещь, определенно сказать, роскошна она или нет, то с гламурным объектом все иначе. Роскошь – константа, гламур – переменная величина. Роскошь, выражаясь словами Шопенгауэра – воля, а гламур – представление. Представление о красоте, о роскоши, о стиле.
И у разных социальных слоев оно отличается. Взять какой-нибудь простой штамп: принять ванну, наполненную шампанским, – это гламурно. Но у кого-то это будет и не шампанское вовсе, а игристое вино, а у кого-то – Crystal Louis Roederer, Dom Pérignon, Veuve Clicquot. У одного эта ванна будет находиться в спальном районе, а у другого – в пятизвездочном отеле или в собственном замке. Одна девушка наденет гламурное, по ее понятиям, розовое платье, купленное на рынке или в магазине масс-маркета, а другая – почти такое же розовое платье какого-нибудь модного дома. Но гламур создается в первую очередь для клиентов рынка, он лишь иллюзорно-недоступен, а на самом деле – открыт для потребления. «Гламурной звездой может стать каждый: двери модельных агентств открыты, а киностудии регулярно проводят пробы. Кроме того, гламур – не врожденное, а приобретенное качество», – пишет Стивен Гандл, и в другом месте: «Гламура не было до того, как он стал коммерческим товаром» (Гандл 2011: 12, 338).
Коммерческая составляющая – важная характеристика гламура. Эту идею хорошо иллюстрирует выставка «Гламур итальянской моды», которая проходила в лондонском музее Виктории и Альберта летом 2014 года. Как объяснила куратор выставки Сонет Станфилл, итальянская индустрия моды середины прошлого века сделала ставку на готовую одежду, ready-to-wear, и развивалась в пику французской высокой моде, haute couture, символом которой в то время был Кристиан Диор (Москаленко 2014). Если haute couture – традиционно воплощение роскоши (тонны тканей, ручная работа, богатая отделка, платья, существующие в единственном экземпляре), то одежда ready-to-wear или, на французский манер, prêt-a-porter – роскошь, доступная гораздо более широкому кругу людей, одежда, которая выглядит дорого, но при этом выпускается большими тиражами, проще и дешевле в производстве. Роскошь, адаптированная для масс, и есть гламур.
Гламурное вполне может быть подделкой. «Если дизайнерская сумочка вам не по карману, не мучайтесь и спокойно покупайте подделку», «Искусственный камень или настоящий – не имеет значения, главное, чтобы он ослепительно сверкал». Такие советы совершенно серьезно дают виртуальные эксперты (otvet.mail.ru/question/25644141).
Символ гламура – кристаллы Swarovski. Вещь, украшенная ими, автоматически становится гламурной – джинсы с кристаллами Swarovski, очки, сумки и пр. Но что такое эти кристаллы? Просто особым образом ограненное стекло, сопоставимое по цене с драгоценными камнями. А главное в этих кристаллах то, что они выглядят как бриллианты.
Гламур – это симулякр, симуляция роскоши, богатства, красоты. Его чары действуют на внешнее, не затрагивая внутреннее. Тыква, превращенная феей в карету, все равно останется тыквой. Но никого в гламурном дискурсе не интересует внутреннее. Точнее, это внутреннее фактически отсутствует: вещь – то, чем она является для других, не являясь таковой по сути. Золушка – персонаж-симулякр, архетип гламурной героини. «Фея… слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями» (Перро 1982: 39). По велению волшебной палочки лохмотья превращены в бальное платье, но в полночь волшебство исчезнет. Ничего этого нет на самом деле. Однако в этой сказке заложен механизм гламурной мечты.
«Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной девушке» (там же). Итак, туфельки тоже были ненастоящие, волшебные. Почему же они не превратились в лохмотья? Может быть, потому, что симулякр, если в него верить, обретает плоть, становится реальностью для «верующих». Принц не подозревал, что туфельки – результат волшебства, и они стали настоящими.
Скользящий взгляд
Да, принц был невнимателен. Он не разглядел под нарядным платьем простушку-золушку, приняв ее за принцессу. Принцы вообще невнимательны – впрочем, как и принцессы. Героиня сказки Г.Х. Андерсена «Свинопас», напротив, не узнала под нищенским обличьем королевского наследника. А все почему?
Дело в том, что оптика гламура – невнимательный взгляд, не пытающийся постичь суть вещей. Лев Рубинштейн определяет гламур как «разговор мимо ушей и взгляд мимо предмета» (Рубинштейн 2009). Но хочется уточнить: нет, это взгляд не мимо предмета, это взгляд по поверхности, скользящий и близорукий.
«Гламур – все смотрят только на тебя» – слоган из одной рекламы колготок «Гламур». «Я» находится в центре мироздания. И по поверхности этого «я» скользят восхищенные взгляды. Гламур – культ внешнего, культ оболочки, культ обложки. Причем, конечно же, обложки глянцевой. Подобно тому как у магов есть свои священные книги заклинаний, у тех, кто находится внутри гламурного дискурса, есть свои заветные письмена – глянцевые журналы. Глянцевые журналы, с глянцевой обложкой, глянцевыми страницами, презентующие глянцевую реальность. Газеты и книги печатают на матовой бумаге, ведь они, передавая информацию, передавая мысли, несут Слово. В то время как журналы, в которых картинки преобладают над словами, несут Образ. Так, гламур рождается в оппозиции Слова и Образа, матовости и глянца.
Глянцевая поверхность призвана отражать, это воплощение зеркальности, самолюбования, направленности вовне. Глянцу нужен свет, нужны чьи-то глаза, благодаря которым он реализуется именно как глянец. Глянец относителен, как то дерево, которое существует только, пока его кто-то видит, из трудов философа Джорджа Беркли. Матовость же – это обращенность внутрь, самодостаточность. И еще это взгляд, устремленный назад, в прошлое. Классический костюм, классическая книга – матовы. Вещи из прошлого, старинные украшения подернуты патиной времени, потерты, матовы. Матовость – пришелец из прошлого, символ старого. Глянцевый блеск – синоним нового, новехонького, с иголочки, или того, что пытается казаться новым (как начищенный до блеска самовар). Так оппозиция глянца и блеска приводит нас к проблематике гламура в его отношении к прошлому, настоящему и будущему – в его отношении ко времени.
Время и мечта
Гламурное должно быть сиюминутным, актуальным, модным. И не просто модным. Гламур – это мода быть модным. «Отношения между модой и гламуром сложные. Одна из постоянных черт гламура – его отождествление с модой, но не всегда ясно, какие аспекты „моды” гламурны. Последние дизайнерские коллекции, показы этих коллекций или представление этих показов в средствах массовой информации?» – рассуждает Гандл. Действительно, понятия моды и гламура необходимо развести, и сделать это можно через позиционирование этих феноменов во времени.
Сиюминутность моды достаточно условна. Хоть мода и проецирует себя в настоящем, в преходящем, на самом деле она конструируется с оглядкой на прошлое. Актуальные тенденции последнего сезона являются реминисценциями тенденций прошедших десятилетий. Такое модное сегодня черное платье в белый горошек навевает воспоминания о 1960-х годах, о героинях из фильмов Феллини. Хит сезона, узкий галстук – гость из 1950-х…
Гламур же ничего не хочет знать о прошлом – он только здесь и сейчас. Он не имеет прошедшего времени. Это вечное настоящее. Символическое воплощение гламура – кукла Барби, продукт компании Mattel, вечно молодая, вечно прекрасная с прелестным личиком и модным гардеробом, с безмятежной улыбкой и блестящими волосами. Владелицы Барби взрослеют и стареют, у них есть недостатки – морщинки, прыщики, у них могут порваться колготки, размазаться тушь, растрепаться прическа. А это все совсем не гламурно. И именно поэтому эталон гламурного субъекта – кукла, а не живая женщина. Идеальная Барби, наряду с живыми моделями, становится идеальным объектом подражания, и иногда это приводит к абсурдным, страшным результатам. Один из примеров: американка Синди Джексон сделала 55 пластических операций, чтобы приблизиться к внешности Барби. Производителей Барби часто обвиняют в том, что кукла провоцирует потребителей: растет распространение анорексии, булимии.
У Барби нет родителей, бабушек, нет мужа, детей. Как пишет Линор Горалик, «тема свадьбы в мире Барби огромна, но при этом к слову „свадьба” активно присоединяется слово „мечта” – Dream Wedding. Постоянно появляющиеся многочисленные вариации Барби в свадебных платьях – одно роскошнее другого – обязательно сопровождаются сообщением, что Барби „воображает себя невестой”. Каждая девушка мечтает о свадьбе, и Барби не исключение… Когда же наступит счастливый день?» (Горалик 2005: 26). Но Барби не выходит замуж: Кен – просто вечный друг. Нет у Барби и детей. У Барби нет всего того, что позволяет живой женщине проецировать себя во времени, чувствовать его течение. «В мире Барби нет старения… Это мир без взрослых, остров, на котором Барби оказывается „повелительницей мух”…» (там же: 20).
«В гламурном мире бабушка – если она не Коко Шанель – не водится, и поделом: не будет же бабка набрасываться на новую помаду, „неощутимую на губах и поражающую игрой переливов и отблесков”», – насмехается Татьяна Толстая (Толстая 2005: 214). Но главный минус бабушки – то, что своим видом она напоминает о старении, о недолговечности красоты и, наконец, о смерти.
В гламуре смерти нет. Ведь смерть – это в будущем или в свершившемся прошлом, а ни того, ни другого для гламура не существует. Хотя гламур и может быть описан через образы смерти. Она незримо маячит под грузом обволакивающих его смыслообразов. Исследователь Яна Бражникова пишет: «Природное тело человека – не в чести, оно выступает источником дурных запахов, выделений, нелепых случайностей, которые можно преодолеть, возвращая живому человеку неотъемлемое право – быть правильно упакованным, заживо обрести гармонию предсмертной маски. Право трупа. Мода укоренена в наиболее древней из всех культурных практик – в похоронном ритуале. <…> Гламурный человек – тот, кто „готов”. Точнее – тот, кто всегда наготове, поэтому на нем все лучшее» (Бражникова 2006).
Как видно из этого умозаключения, смерть, существующая в гламурном дискурсе, не может быть чем-то свершенным или чем-то маячащим в неопределенном будущем – это вечно длящееся настоящее, вечный порог, который не нужно переступать. Да и сам гламур на самом деле – не совсем настоящее. Он вне времени, в зазоре между настоящим и будущим. Ведь гламур – всегда мечта, мечта об идеальном. «Основное состояние гламурной женщины – эротический транс, вызванный предметами роскоши. Вы можете застать ее в мерцающей полутьме, в креслах. Она в атласном платье, приспущенном на груди, голова откинута, глаза сомкнуты, рот приоткрыт. Что это с ней? А это она мечтает о наручных часах. Причем они уже у нее на руке. Неважно, она МЕЧТАЕТ» – такой собирательный рекламный образ приводит Толстая (Толстая 2005: 217). Иными словами, гламур – это то, чего нет, даже если оно есть. Он находится не в зоне реальности, а в зоне мечты, в зоне воображения, в стадии становления, свершения. Взять те же кристаллы Swarovski: это мечта о бриллиантах; или искусственно выращенный разноцветный жемчуг Misaki – мечта о редком дорогом жемчуге. Мех не должен быть непременно соболиным или норковым – он должен выглядеть таковым, давая возможность видящему его взгляду мечтать о настоящем мехе. Гламур – это не то, что есть, а то, как должно быть. «Хочешь быть гламурной и купаться в роскоши? Будь такой, какой ты хочешь быть», – гласит телереклама мыла Duru. Суть этого посыла – будь не собой, а другой, будь образом из своей мечты, совершенством, идеалом, моделью живого субъекта.
Известная в 1940-е годы голливудская актриса Хеди Ламарр как-то сказала: «Любая девушка может быть гламурной. Надо лишь спокойно стоять и выглядеть дурой». Коннотация гламур/глупость вырастает с обратной стороны этой кукольно-модельной идеальности, этого бытия-мечты, находящегося вне будущего и прошлого. Ну конечно, кукла не только лишена внешних изъянов, она еще и символ глупости. Ведь в голове у куклы пусто («полая женщина», как называет Барби Линор Горалик). Кукла – чистая видимость, внешность, возведенная в абсолют, поверхность, за которой пустота, – ничто, хаос, смерть.
Но помимо тревожащей бездны, эта глупая кукольность гламура приводит нас к еще одной коннотации – гламур-детство. Где, как не в мире детства, нет смерти, нет планов на будущее и воспоминаний о прошлом? Где, как не там, можно мечтать и верить в чудо, верить в то, что мечты непременно сбудутся? Эстетический флер гламура словно создан избалованной девочкой, любящей все блестящее, яркое, розовое, любящей кружева и сверкающие безделушки, да и вообще любящей вещи. Страсть к обладанию вещами – одна из первых страстей, доступных ребенку. Его первые «мечты» связаны чаще всего с новыми игрушками, новыми вещами.
Вещи и люди
Итак, гламур – это мир вещей, становящихся для потребителя богами, идолами, заменяющих мораль и наполняющих мировосприятие. И правда, кто такая Барби, как не идол, наглядно напоминающий о том, что гламур изначально – магия, волшебство, чародейство.
Вещи-боги, населяющие мир гламурного человека, являются не только образцами, эталонами существования, но моделью реальности. Как, например, в книге молодой французской писательницы Кристин Орбэн «Шмотки». Героиня по имени Дарлинг видит мир, отношения с мужчинами и свою жизнь сквозь призму красивых вещей, сквозь призму платьев и юбок: «Реальность – это выбор, основа, классика, это маленькое черное платье» (Орбэн 2005: 127). В своем шкафу она хранит платья, и каждое из них – целая история: «Теперь костюм покоится в моем шкафу. Муж загасил его взглядом. <…> Костюм умер от его безразличия» (там же). Или вспомнить серию гламурных романов английской писательницы Софии Кинселлы, популяризовавшей термин «шопоголик». Для главной героини ее книг покупка вещей – настоящая магия. Приобретая, она буквально впадает в транс, переставая себя контролировать. Гламур – это вещи, подчинившие себе человеческое существование.
Это вещи, в которые вселились духи. Но также гламур представляет реальность, в которой живые люди, напротив, превратились в символы. Яркие личности – это «кумиры», «идолы», «иконы». Ведь именно так их величают в глянцевых СМИ.
Праздник
Волшебство гламура свершается в ситуации праздника. Реальность гламура – это реальность непрекращающегося торжества. В гламуре нет обыденности, скуки, нет серого цвета, тишины. Гламур заставляет реальность сверкать, переливаться, быть иной, особенной… Гламур предлагает не еду, а угощение, не показ фильма, а коктейль-party и презентацию, не одежду, а наряд и дресс-код, не хорошее настроение, а голливудскую улыбку… Особенность ситуации гламура подчеркивается гламурным словарем. Глянцевые журналы пестрят одними и теми же слащавыми эпитетами, призванными подчеркнуть особенность гламурной реальности: «эксклюзивный», «изысканный», «лимитированный»…
Главный признак праздника, карнавальной культуры – переодевание, считал Бахтин: «Одним из обязательных моментов народно-праздничного веселья было переодевание, то есть обновление одежд и своего социального образа. Другим существенным моментом было перемещение иерархического верха в низ: шута объявляли королем» (Бахтин 2010: 93).
Переодевание может пониматься в широком смысле слова, как делает вслед за Бахтиным Пелевин. Под одеждой подразумевается социальная оболочка. По его мысли, «переодевание включает в себя переезд с Каширки на Рублевку, и с Рублевки в Лондон, пересадку кожи с ягодиц на лицо, перемену пола и все такое прочее» (Пелевин 2006: 69).
Переодевание сродни волшебству: можно в мгновенье ока стать другим, обновить свой социальный статус, сменив местожительство, из «старого урода» превратиться в «молодого красавца».
Структура власти
В повседневной культуре гламур превращается в свод несложных правил, которые каждый формулирует по-своему. Согласно «инструкции по эксплуатации гламура», растиражированной в интернет-блогах, атрибутами гламурного гардероба являются, помимо прочего, «разнообразные топы на завязках… маленькое черное платье… обувь на шпильке… тонны блеска на губах… кольцо с огромным камнем».
Эти правила субъекту, находящемуся вне гламурного дискурса, кажутся ничтожными, нелепыми. Но в самом принципе игры по правилам заложена суть гламура – это двухполюсная система, построенная на строгой дихотомии добра и зла. Неважно, что в зависимости от говорящего законы и предписания гламура изменяются, главное, что гламур по своей структуре – институт власти, как, кстати, и мода. Не случайно о гламуре принято рассуждать в терминах государственности. Например, как Лев Рубинштейн: «Нынешней официальной идеологией, мне кажется, является гламур. Гламур как эрзац национальной идеи» (Рубинштейн 2009). Или как Пелевин: «Гламур можно считать идеологией, поскольку это ответ на вопрос „во имя чего все это было”» (Пелевин 2006: 68).
Чиновники этой власти, этого государства, идеологи гламура, его «диктаторы» – дизайнеры, трендсеттеры, fashion-журналисты предписывают простым смертным, что является трендом в этом сезоне, а что нелепо и немодно, объясняют, что гламурно, а что негламурно.
Ведь, подобно тому как, согласно платонической философии, блага не увидать без зла, гламура нет без нищеты, без уродства, без убогости, без антигламура. Благо – канапе с дыней и пармской ветчиной, зло – бутерброд с докторской колбасой, добро – красный автомобиль-купе с откидным верхом, зло – «жигули». Добро – летний отдых «на островах», зло – полоть грядки на даче…
Иными словами, гламур – это область эстетики, которая при этом подает себя как каноны этики, как свод предписаний, запретов и норм.
Находясь одной ногой в дискурсе эстетики, а другой – этики, гламур сам попадает в этическую ловушку. К этому феномену принято относиться именно с позиции этики, с позиции моральных оценок. В современных исследованиях практически отсутствует отстраненное отношение к гламуру как к культурологическому феномену современного общества.
Живущие во власти гламура воспринимают его как абсолютное добро, абсолютный закон. Это хорошо видно, к примеру, в исследованиях Александра Васильева. В своем эссе «Возвращение гламура» (Васильев 2009) Васильев, рассказывая о возрождении гламурной эстетики в 1990-е годы, утверждает, что вместе с ней в моду вернулись красота, изящество, женственность, стиль и, наконец, свобода выбора, то есть всевозможные эстетические и даже этические блага. «Обращаясь к прошлому, мода сегодня предоставляет женщине все же огромную свободу. Свободу выбора своего собственного элегантного стиля. И своего, ею самою выбранного гламура» (Пелевин 2006: 435).
Живущие вне гламурного поля ассоциируют гламур со злом. Дмитрий Губин в статье «Как мода стала идеологией» пишет: «Чем больше в России „бентли” с украшенным бриллиантами рулем, тем больше в России лжи. <…> А если ложь начнет отмирать, заменяясь свободой и равенством перед законом… то гламур постепенно скукожится…» (Губин 2007: 17).
Дмитрий Голынко-Вольфсон в эссе «Агрессивно-пассивный гламур», рассуждая на тему экспансии гламура в искусство, говорит о том, что идеология гламура привнесла в художественные произведения шаблонность, усредненность, безвкусицу. Он клеймит гламур, утверждая, что «это еще и мощнейший инструмент оболванивания, зомбирования и саботажа внятных сопротивленческих усилий» (Голынко-Вольфсон 2005).
Такое неравнодушное отношение к гламуру лишний раз подтверждает, что гламур – это идеология, да еще обладающая магической властью, которую, на самом деле, отбросив негативные коннотации, можно воспринимать как идеологию прекрасного, демократическое представление о красоте, об идеале.
Демократическое, потому что гламур – это видимость, мечта, симулякр реальности, для обладания которым не нужно ни много денег, ни влияния, ни власти. Гламур – не роскошь, а грезы о роскоши, доступные всем.
Важно также отметить, что гламур – это иллюзорное знание о красоте, в отличие от моды. Мода и красота далеко не всегда связаны между собой и очень часто вступают в конфликт друг с другом. Модное платье и красивое платье вовсе не синонимы. «Действительно красивое, красивое без всяких оговорок платье положило бы конец моде. <…> Таким образом, мода постоянно производит „красивое” на основании радикального отречения от красоты, на основании логической эквивалентности красивого и безобразного. Она может навязать самые эксцентричные, нефункциональные и смешные элементы как в высшей степени примечательные», – пишет Бодрийяр (Бодрийяр 2006: 93). Моде, чтобы оставаться «новой», все время надо отвергать красоту, противопоставлять красоте эпатаж, а когда эпатаж начинает восприниматься обществом как красота, моде приходится изобретать очередное «красивое» через отрицание красоты.
Гламур же – это маска моды, это попытка навязать вместо «нового» (этого идола моды) именно «красивое», красивость. А отказ от «нового», поиск абсолюта красоты в поле гламура и ведет к его штампованности, шаблонности: стремление поймать ускользающую красоту превращает ее в пародию.
Смешение кодов
В начале главы говорилось о том, что гламурный дискурс живуч и его коды неизменны. Эти коды я постаралась описать. Но справедливости ради надо отметить, что в последние годы стало происходить смещение этих кодов, их перетасовка и смешение. И фиксировать эти сдвиги можно на многих уровнях.
Например, сегодня четкого разделения на haute couture – роскошь и prêt-a-porter-гламур уже нет. Показы haute couture лишились своего пафоса – наряды в пол, расшитые жемчугом и кружевами, на производство которых уходили месяцы работы лучших мастериц, встречаются на «кутюрных» неделях все реже. «Сдаются» и главные хранители роскоши от кутюр, дома Dior и Chanel: на показе Chanel (haute couture, весна – лето 2014) на подиум выходили модели в минималистичных платьях по колено, в кедах, с нарочито небрежными прическами, а основную часть коллекции на кутюрном показе того же года от Dior составили не пышные наряды в пол с изысканной вышивкой, а комбинезоны, комплекты из простой белой майки и юбки, шерстяные платья без отделки. Роскошь слишком долго была слишком роскошной. И потребители роскоши, и производители пресытились ею, поэтому показная, видимая глазу роскошь больше не в чести, и настоящая роскошь в интерпретации XXI века – кажущаяся простота. Роскошь теперь заигрывает с уличной модой (кеды и майки), она больше не театр, не праздник, не вечерняя мода, а повседневность (укороченные платья, небрежные прически).
В то же время prêt-a-porter теперь стремится занять освободившееся место роскоши-couture. В весенне-летней коллекции 2012 года Alexander McQueen было золотое, черное с кружевным корсетом и юбкой из перьев, многослойное розовое платье с вуалью-пелериной, на головах у моделей были кружевные маски – тут и роскошь, и сказка, и театр, и карнавал, в общем, все те характеристики, что раньше отличали haute couture от prêt-a-porter. Тафта, тюль и корсеты были в коллекции того же сезона у Жан-Поля Готье, готические платья, дополненные конусообразными шляпами-генинами, – у Гарета Пью, бальные наряды из полупрозрачных тканей, украшенные тканевыми бабочками и цветами, – у Rodarte.
Ну а на свободную ступеньку гламура, которую занимала индустрия prêt-a-porter, всходит масс-маркет. Массовые бренды все активнее принимают участие в показах мод: в 2013 году недорогой бренд Incity впервые принял участие в Московской неделе моды, Tommy Hilfiger, Diesel, а также H&M теперь – постоянные участники мировых Недель. И это очень правильно с точки зрения философии гламура. Ведь именно масс-маркет, низкие цены которого позволяют стать обладателем полиэстеровых платьев, выглядящих как шелковые, и есть настоящий «гламур»: иллюзия, видимость, пыль в глаза. Но современный масс-маркет – это не только полиэстер и кожзам. Производители действительно стремятся предложить более «гламурный» товар по доступным ценам, для чего вступают в союзы со знаменитыми домами и дизайнерами и выпускают совместные коллекции-коллаборации. Первым такую моду ввел шведский масс-маркет-гигант H&M. Сегодня на его счету союзы с Карлом Лагерфельдом, Lanvin, Isabel Marant, Versace, Maison Martin Margiela и др. Японская марка Uniqlo делает совместные коллекции с Jil Sander, Ines de la Fressange и др. Adidas работает с Риком Оуэнсом и Рафом Симонсом.
Кроме коллабораций, бренды масс-маркета используют стратегию смены имиджа. Российская Sela, выпускавшая базовые вещи в спортивном стиле, в 2013 году сменила направление: в коллекциях марки появились и вечерние шифоновые юбки, и маленькие черные платья. В том же году японская марка Uniqlo, производящая недорогие кашемировые вещи, тонкие пуховики из технологичных тканей, джинсы, назначила новым дизайнером Наоки Такизаву, работавшего в свое время с Issey Miyake. И тут же в коллекциях компании возникли шелковые рубашки с цветочными принтами, разнообразные юбки и платья.
Еще одна тенденция в переосмыслении гламура – смешение гламурных кодов. Вот как это происходит в индустрии. «Гламурные» ткани: шелк, шифон, бархат – теперь служат для создания негламурных, повседневных вещей. В нулевые годы XXI века бархат вдруг вышел из моды, стал символом старомодности (а значит, больше не был частью гламурного кода). В 2013 году он неожиданно вернулся. Но в новом качестве – он стал повседневным. Из него стали делать легинсы (Topshop), полуспортивные брюки (Next), стеганые кеды (Christian Louboutin). У Emilio Pucci в осенне-зимней коллекции 2013 года был бархатный комбинезон, у Chloé – кардиган, у Givenchy – косуха. Но опять же, речь не идет о смерти гламура. Напротив, он крепнет, идет огламуривание повседневности. Тень гламура теперь на одежде на каждый день, на утилитарных вещах, на спортивной одежде.
Ведущим трендом 2014 года стал «спорт-шик». Дизайнеры массово представили в своих коллекциях нарядную одежду с элементами спортивной формы: у Sportmax – коктейльное платье в сетку, как на спортивной майке, у Yves Salomon – норковый жакет, напоминающий велосипедную куртку, у Philipp Plein – бомбер с кружевными рукавами, у Marni – вечерний костюм с пайетками, пиджак которого сшит по лекалам того же бомбера. Также в коллекции – бейсбольные козырьки в сочетании со строгими платьями. Любопытно, что спортом занялись и бренды, которые меньше всего с ним ассоциируются. Например, Vera Wang, известная благодаря свадебным нарядам, в весенне-летней коллекции вдруг показала черные платья-майки стрейч, короткие топы, напоминающие форму для занятий фитнесом. Тот же «олимпийский» дух и у Gucci (шелковые брюки со штрипками, майки из замши, которые незазорно надеть на коктейль). В коллекции Balenciaga, сделанной Александром Вангом, мало осталось от высокого стиля собственно Кристобаля Баленсиаги: ключевой образ – ансамбль из беговых шорт и майки, правда, все это с вышивкой, цветочными принтами и дополнено босоножками на шпильках.
Кстати, о шпильках, еще одном маркере гламура. В 2013 году они наконец вышли из моды. Даже те дизайнеры, которые «специализировались» именно на шпильках, обратились к созданию туфель на плоской подошве, балеток и сандалий. Обувщик Стюарт Вайцман заявил мне в интервью, что шпильки он оставляет для рекламных фотографий, а сам предпочитает flats (туфли на плоской подошве), которые пользуются наибольшим спросом. Впрочем, это опять же не говорит об умирании гламурного дискурса. Гламур сублимировался и просто-напросто распространился на спортивную обувь. Летом 2014 года на кроссовках Caovilla красовались самоцветы, выложенные в замысловатые узоры, Giuseppe Zanotti сделали золотые сникерсы на танкетке, Christian Louboutin украсили их блестками. А в июне 2015 года компания Mattel представила новую Барби: она теперь расхаживает в балетках и кроссовках, впервые за всю историю своего существования.
Терпит изменения и идеология гламура. Три «гламурных табу»: старость, лишний вес, инвалидность – больше не табу. Гламур «поработил» и эти явления человеческой жизни, они теперь тоже под его властью. Гламур больше не молчит о старости, инвалидности, лишнем весе – он резвится на этом поле.
Итак, старость прекрасна, старость гламурна. Так считает, например, российский фотограф Игорь Гавар, автор проекта «Олдушки»: он фотографирует красивых женщин в возрасте, просто останавливая их на улице. Моделей за 50 все чаще можно увидеть на модных показах (например, у Жан-Поля Готье, Рика Оуэнса). Многие бренды используют таких моделей для рекламных кампаний своих сезонных коллекций: у Lanvin – 82-летняя танцовщица Жаклин Мердок (осень – зима 2012), у American Apparel – седовласая Джеки О’Шонесси (62 года), у Bulgari – 60-летняя Изабелла Росселини (осень 2013), у Jean Paul Gaultier – 91-летняя Айрис Апфель (осень 2014).
Надежный оплот гламура, косметическая индустрия, тоже меняет концепцию. Производители кремов традиционно обещали потребителям избавление от морщин, спасение от старения, защиту кожи и прочие маловероятные, но приятные вещи, внушающие веру в вечную молодость, в то, что можно из живой женщины превратиться в гламурную куклу. Зыбкости этих обещаний посвящена книга Наоми Вульф «Миф о красоте» (Вульф 2013). Вульф утверждает, что кремы не действуют, и приводит в качестве доказательства слова производителей (например, Unilever, Shiseido) о том, что кремы, хотя и безвредны для кожи, эффект оказывают незначительный. Реклама кремов против старения с участием юных или же отретушированных в фотошопе возрастных звезд была в 1990-е нормой, но сегодня это становится неприличным. Так, в 2012 году была запрещена рекламная компания L’Oreal с участием 42-летней актрисы Рейчел Вайс, морщины которой были полностью удалены в Photoshop. И многие компании теперь привлекают моделей «за 50» для рекламы кремов anti age. Шарлотта Рэмплинг, 68 лет, рекламирует продукцию косметического бренда Nars, а Джессика Ланж, 64 года, стала лицом рекламной кампании Marc Jacobs Beauty. Да, морщины больше не скрывают, но это не значит, что культ настоящей женщины действительно пришел на смену культу гламурной куклы. И фотограф Игорь Гавар, снимающий красивых дам преклонного возраста, и производители косметики с незаретушированной рекламой «огламуривают» старость, а не принимают ее как есть. Подтверждение тому – история с рекламой средств фирмы Dove. Этот бренд в числе первых обратился к естественности и в 2007 году запустил кампанию «Настоящая красота», смысл которой был в том, чтобы показать девушек и женщин «без глянцевых прикрас». Но недавно выяснилось, что «настоящие» лица подвергались сильной ретуши – в этом журналу The New Yorker признался дизайнер Паскаль Дангин (Collins 2008). Значит, речь у Dove шла не о естественной красоте без глянца, а о создании привлекательного, глянцевого образа естественности, о создании гламурной повседневности.
Происходит и переосмысление отношения к полноте. В 2013 году в Париже впервые прошла неделя моды для полных. По всему миру открываются агентства plus size моделей. Глянцевые журналы, в частности Cosmopolitan, публикуют на обложках полных моделей. Бренды запускают линии одежды для полных (H&M, Mango и др.). А бренды, специализирующиеся на такой одежде, идут еще дальше. Например, Marina Rinaldi в 2014 году запустила линию plus size для красной дорожки. Полнота теперь рассматривается как особый тип красоты, который нуждается в своей индустрии, а не как изъян, с которым надо бороться, чтобы приблизиться к гламурным идеалам. Полнота теперь сама гламурна.
И даже инвалидность теперь включена в гламурное поле зрения. По всему миру проходят показы с участием инвалидов (в России это целый проект, который носит название Bezgraniz Couture). Люди с ограниченными возможностями становятся героями рекламных кампаний (Diesel к лету 2014 года представил кампанию, в которой вещи бренда рекламируют колясочники). И в продаже – модные аксессуары в виде изящных тростей, сапог или крыльев.
Кукла Барби, конечно, тоже участвует в этой гонке за «реальностью» женщин. Есть Барби в инвалидной коляске, беременная, Барби-бабушка с седыми волосами. В очеловечивании Барби участвует и общественность. Участницы портала Plus Size Modeling выступили с предложением к компании Mattel сделать полную Барби. Их довод: «Если у нас есть plus size модели, то почему бы не быть plus size Барби?» Да и фигура идеальной дивы-Барби теперь ближе к реальности – в 2000 году ей слегка уменьшили грудь, и у нее появился пупок.
Итак, мне кажется, правильно будет говорить о том, что в последние годы мы наблюдаем не умирание, а как раз торжество гламура, который перемешал свои традиционные коды и завоевал те области человеческого бытия, которые доселе располагались за границей территории глянцевого праздника. Старение, смерть, изъяны внешности, повседневная рутина – все это теперь подчинено гламуру. Ведь гламур – одна из сильнейших идеологий современности, сильная власть, перед которой никто и ничто не может устоять.
Роскошь
Науки и искусства ведут к пороку, роскоши и тому подобному…
Фрэнсис БэконЧто такое роскошь? Это характеристика дорогих вещей. Но очевидно, что просто дорогая вещь и вещь роскошная – не обязательно одно и то же. Есть что-то еще, что дает право предмету потребления называться именно роскошным, делает его luxurious. Жан Бодрийяр писал о роскоши как о результате монополистического производства различий. Роскошные объекты, по словам философа, больше чем объекты потребления. Они «выполняют роль знаков отличия, каковые глубоко иерархизированы» (Бодрийяр 2006: 122).
Да, роскошь действительно предмет-знак, символ статуса и высокого социального положения. Но социальный подход к анализу роскоши мало расскажет о ней самой. Я подумала, что о роскоши лучше всего поведают сами вещи, и выделила ряд постоянных характеристик, которые вкупе создают мифологию роскоши, мифологию дорогого предмета. Сразу оговорюсь, что, конечно же, в разные эпохи и у разных народов представления о роскоши различались, но решила пока не касаться этого историко-культурного аспекта, а просто посмотреть, что представляет собой роскошь сегодня, в современном европейском обществе.
Удивительная материя
В отличие от гламура, роскошь – не симулякр, не фантазия, не глянцевый блеск, под которым – пустышка. Роскошь реальна, материальна. И именно с материальности, с материи, пожалуй, и стоит начать. Роскошный материал, из которого изготавливается роскошная вещь, призван удивлять, он редок и порой странен, иногда таинственен, он поражает воображение. Роскошная вещь становится почти произведением искусства, ведь внимание к деталям, из которых эта вещь будет создана, практически граничит с безумием. Прибавить к необычности материала ручную работу, непременно сопряженную с выполнением сложных действий, – и перед нами эксклюзивная вещь из мира luxury.
Остановимся подробнее на материальных характеристиках роскоши. Очень часто речь идет о предмете, на изготовление которого было потрачено несоизмеримое его масштабам количество сырья или ингредиентов. Славится такой расточительностью ювелирное искусство. Типичный пример – браслет Chopard 2010 года, сделанный в виде плывущих рыбок. На каждой рыбешке закреплено около 60 мелких бриллиантов. Всего в украшении их использовано более двух тысяч.
Множество таких примеров можно найти в мире парфюмерии. Для начала надо сказать, что вообще флакон духов – совсем не роскошь. Даже парфюм, на этикетке которого значится имя крупного модного дома, вроде Christian Dior или Gucci, недорог, пущен в массовое производство и доступен. В этом, собственно, смысл парфюмерных линий от крупных домов: создать иллюзию доступности, иллюзию причастности рядового потребителя к высокому миру моды. Такая продукция – по сути, гламур: тень роскоши для масс.
Но и в индустрии парфюмерии имеется ниша для роскоши – это, собственно, «нишевые» парфюмерные компании, делающие так называемые селективные ароматы. Их не выпускают большими тиражами, их делают вручную, с использованием натуральных материалов, а не синтетических аналогов ароматных эссенций, при этом к изготовлению продукта прилагаются неимоверные усилия и затрачивается огромное количество материала. Так, парфюмеры селективной марки M. Micallef для некоторых ароматов используют жасминовое масло, для получения литра которого требуется 8 миллионов цветков, а на 1 килограмм масла пачули надо собрать до 50 килограммов листьев этого растения. В парфюмы M. Micallef могут входить более 200 ингредиентов, и на создание одного аромата уходят месяцы. Или дом Clive Christian – здесь похожая история: для получения одной лишь капли розового масла, входящего в аромат 1872 for Women, требуется 170 головок роз. Один флакончик Clive Christian's Imperial Majesty, украшенный бриллиантами весом в 5 карат, обойдется поклоннику роскоши более чем в 200 000 долларов за экземпляр. Для легендарного аромата Joy от Jean Patou надо собрать более 10 000 цветков жасмина и 120 роз, причем делают это только рано утром, когда на цветках еще сверкает роса, и только вручную. Рожа Дав, основатель парфюмерной марки Roja Dove, пытался объяснить мне в интервью, что подобные усилия и затраты вполне рациональны. «Да, цена за литр натуральной эссенции жасмина, которую я покупаю в Грассе, вдвое выше, чем за килограмм золота. Но покупаю я жасмин именно там просто потому, что это, на мой взгляд, лучший жасмин», – говорил он.
Еще один пример несоизмеримых с результатом усилий в производстве – сорочки компании Borrelli. Их можно узнать по особому способу пришивания пуговиц (к слову, пуговицы изготавливают исключительно из натурального перламутра): для каждой пуговицы портные делают по 200 узелков – так называемая «гусиная лапка» (pied-de-poule, это не только характерный узор, который ввела в моду Коко Шанель, но и вид стежка).
Служители роскоши зачастую используют для своей работы и роскошные инструменты. Для пошива плиссированных галстуков от Stefano Ricci берут золотую иглу. А молодой дизайнер аксессуаров Этан Кох (Ethan Koh) обрабатывает кожу для своих сумок агатом (по его словам, этот камень придает коже ни с чем не сравнимые мягкость и блеск).
Еще один признак роскоши на уровне материала – ограниченное количество, редкость. Обычная хлопковая сорочка может оправдывать свою цену, например, в 3000 долларов. Мужские рубашки Stefano Ricci шьются из хлопка, собранного на одной-единственной египетской плантации в мире. Это совсем небольшая плантация, и одного ее урожая хватает всего на 300 рубашек, поэтому поклонники марки готовы занимать очередь за этими сорочками на два года вперед. На ощупь египетский хлопок напоминает шелк. Толщина нити составляет всего 5 микронов – лишь в два раза толще человеческого волоса. Та же щепетильность присутствует у Stefano Ricci и при изготовлении крокодиловых ботинок. Для пошива одной пары таких туфель необходимо подобрать идентичную по рисунку кожу двух крокодильчиков. Эти рептилии занесены в Красную книгу, и их специально выводят для производителей кожаных изделий. На них имеется квота – их вылавливают не более тысячи в год, и вот среди тысячи надо каким-то образом отыскать двух со схожим рисунком шкуры.
Многие нишевые парфюмеры – Roja Dove, Montale, Tom Ford и др. – используют в своих ароматных композициях масло дерева агар (чаще этот компонент называют уд). Компонент считается одним из самых дорогих в парфюмерии. Его редкость, а следовательно, и роскошность заключается в том, что для того, чтобы дерево полностью созрело и из него можно было начать извлекать масло, требуется несколько веков.
Материал, из которого создают атрибуты роскоши, может быть не просто редким, а единственным в своем роде, невоспроизводимым, неповторимым. Так, корпус ручки S.T. Dupont Meteorite Pen сделан из цельного куска метеорита Гибеон, упавшего на Землю около 500 000 лет назад. Эта «неповторимость» компонентов роскошной вещи иногда требует особых усилий от производителя. Уникальный материал выращивается, ищется, создается. У Montblanc есть колье, оттенок камней в котором повторяет цвет розы, выведенной в 1956 году в честь бракосочетания Грейс Келли и Ренье III.
Необходимость ассоциации с миром природы, натуральность – также одна их характеристик роскошного предмета. Говоря о материалах, из которых создаются роскошные вещи, производители рынка luxury не устают повторять, что они натуральны: натуральный хлопок, натуральная кожа лучшего качества, самые настоящие цветки роз. Да, синтетика не может быть роскошной, это заменитель роскоши, удел гламура. Но все эти роскошные изделия – далеко не «простоватый» экологический продукт. И между стаканом парного молока или сорванного с дерева яблока и выделанной кожей для ботинок есть существенная разница. Натуральность роскоши изощренна, простота нарочита, и путь к ней непрост. Она требует множества суперпрофессиональных ручных операций, проведенных в соответствии с тайными, тщательно охраняемыми рецептами.
Итальянский обувщик Сильвано Латтанци выдерживает готовую обувь под землей, добиваясь тем самым эффекта состаривания кожи. «Я всегда думаю, как сделать что-то особенное. И однажды я обратился к методу infossamento, известному еще в четвертом веке и применявшемуся для хранения сыров и зерна. После такого „захоронения” кожа приобретает натуральный оттенок, которого невозможно добиться в лаборатории, и это делает мои ботинки действительно уникальными», – говорит Латтанци (-in-luxury/silvano-lattanzi). Обратим внимание, что Сильвано Латтанци именно «выращивает» свои ботинки, а не шьет их. Он подчеркивает, что его обувь гармонично вписывается в природный цикл.
При позиционировании вещи как роскошной производители нередко акцентируют внимание потребителей на такой характеристике, как продолжительность времени, затраченного на создание вещи. Небольшое отступление. Однажды я подглядела, как иностранец-турист покупал на Арбате написанную маслом картину, на мой взгляд, довольно безвкусную, но при этом весьма дорогую. «Почему вы купили именно эту картину, чем она вам приглянулась?» – не удержалась я. «Видите ли, это же масляная живопись. Художник, думаю, потратил много дорогой краски и не менее месяца на ее создание. И я полагаю, что соотношение затраченного времени и цены совершенно оправданно». Поразительный ответ, подумала я тогда, качество произведения искусства не измеряется количеством использованной краски и числом дней – например, акварели пишутся и за 20 минут и могут быть не менее гениальны, чем работы, написанные маслом… Или все-таки измеряется? Конечно, измеряется, если рассуждать о картине с позиции потребителя роскоши. Да, роскошная вещь быстро не делается.
Мастера обувной компании J.M. Weston удивляют своих состоятельных потребителей эксклюзивностью подошв для ботинок. Для их создания используют тончайшую шкуру пятилетних коров, которые ни в коем случае не должны иметь потомства. Их кожу ровно 49 дней вымачивают в чанах с раствором, в который входят экстракты коры каштана и экзотического дерева квебрахо. По истечении срока кожу вынимают, прокладывают слоями коры дуба и хранят так еще 10 месяцев.
Часы, месяцы, годы и прочие цифровые, процессуально-временные характеристики обязательно фигурируют в описании процесса производства luxury, и эту информацию обязательно распространяют пиар-службы, а вслед за ними журналисты. Это важно, это противопоставляет роскошную вещь машинной штамповке массового производства. В ювелирной компании Frey Wille на изготовление коллекции уходит год, а для создания одного украшения требуется до 100 этапов. В 2010 году другая ювелирная компания, Prologue, представила сет «Кобра» (серьги, кольцо и флакон для духов). Несколько месяцев, говорилось в пресс-релизе, мастера придумывали, как закрепить коричневые и белые бриллианты, чтобы кожа кобры получилась гладкой и одновременно фактурной. В 2012 году часовой бренд Girard-Perregaux представил новую линию часов Le Corbusier, посвященную архитектору Ле Корбюзье. У одной из моделей этой коллекции удивительный бетонный циферблат, на заливку, сушку и отделку которого уходит три дня. Для производства одной только сумки Lancel (модель Adjani) нужно 20 часов работы, 50 кусков кожи и 150 операций.
А Ольга Берлути, внучатая племянница основателя обувного дома Berluti Алессандро Берлути, которая вывела бренд на мировой уровень, напоминает потребителям, что «каждая пара обуви проходит через такое же количество операций, как и при строительстве собора, – 250». Обывателю вряд ли придет в голову проверять, сколько на самом деле требуется операций при создании церкви, но здесь важно обратить внимание на поистине титанические усилия, которые, по словам обувщика, нужны для пошива такой вроде бы будничной вещи, как ботинки. Туфли, сравниваемые с собором, возносятся на пьедестал, они – почти искусство.
Нельзя не упомянуть еще об одном признаке роскошной вещи – удивительности, которая выражается как в нетривиальности выбранного материала, так и в контрастном сочетании ингредиентов. Примеры находим в ювелирном производстве. Роскошь ассоциируется с золотом, бриллиантами. И это логично, ведь драгоценности – это дорого, порой очень дорого. Но золотые украшения есть практически у всех, и драгоценный металл доступно сверкает на лавках турецких и египетских рынков. Так что производитель должен еще постараться, чтобы придать блеск luxury своему продукту. Ювелир Лоренс Графф (Graff) постоянно повторяет в своих интервью, что его главная задача – найти и огранить только лучшие в мире алмазы, те, которые могут войти в историю. Ювелирный дом De Grisonogo сделал ставку на черные бриллианты, которые крайне сложны в обработке и редко встречаются в природе. Ювелир Жильбер Альбер (Gilbert Albert) сочетает в своих изделиях бриллианты, золото и платину с глубоководными кораллами, панцирями жуков скарабеев, костями динозавров, метеоритами. Дом Cartier на салоне часового искусства SIHH 2014 года представил часы, циферблат которых украшен маркетри из лепестков роз. Лепестки раскрасили в разные цвета и сложили из них сложный рисунок, изображающий попугая. На часах Harry Winston Premier Feathers 2013 года выполнена аппликация из настоящих перьев павлинов и фазанов.
Принцип сочетания несочетаемого, использования дорогого материала вместе с редким и вроде бы неуместным или, напротив, простым – один из важных принципов luxury. Поэтому меховой бренд Yves Salomon может сшить меховую жилетку, расшитую соломкой рафии, а Стюарт Вайцман (Stuart Weitzman) – сделать элегантные туфли из обыкновенной пробки: такое «неблагородное» дизайнерское решение лишь подчеркнет «ненавязчивую» роскошь. В украшениях haute joaillerie практически всегда драгоценные камни (бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды) соседствуют с полудрагоценными цаворитами, ониксом, гранатами, нефритами и т. д.
Неожиданность сочетания элементов может сделать роскошной и еду: хитроумное изобретение, золотой шоколад швейцарской компании DeLafee – конечно же, для поклонников роскоши, он сделан из бобов какао, произрастающих в Эквадоре, и покрыт хлопьями 24-каратного золота. Или «обогатить» косметику: в составе помады Guerlain Rouge G – рубиновая крошка; у La Prairie есть крем для лица Cellular Cream Platinum Rare с платиной; у Carita – крем для контура глаз Diamant de Beaute с алмазами и турмалинами; у Chanel – гоммаж Gommage microperle hydratation с жемчужной крошкой; у марки Själ – маска с кашмирскими сапфирами.
Роскошная вещь – часто вещь «с секретом». Это может быть предмет-трансформер. Например, сумка L'Angele от Lancel при желании превращается в трюмо (внутри есть зеркало с подпорками, которое ставится на крышку сумки). Кстати, у Lancel есть концепция, заявленная еще в XIX веке, когда создавались первые сумки этой французской компании, что сумка – это «мешочек с хитростями». Ювелиры Van Cleef & Arpels при участии герцогини Виндзорской изобрели ожерелье, трансформирующееся в браслет, Zip, оно представляет собой драгоценную молнию с самой настоящей застежкой. Иногда секрет никак о себе не заявляет, это скрытая, так сказать, благородная роскошь: костюмная ткань от компании Scabal соткана из шерсти с бриллиантовой крошкой. На вид – просто шерсть прекрасного качества.
Итак, роскошь – это парадоксальное сочетание натурального и искусственного, низкого и высокого, это естественность, возведенная практически в ранг искусства. Французский исследователь роскоши Жак Морабито однажды отметил, что «роскошь – это абсолютная посвященность создателя своему делу» (Morabito 2003: 126), – в таких выражениях обычно говорят о художниках и произведениях искусства. И все-таки роскошь не совсем искусство: она не скрывает, что ориентирована на потребление, в то время как произведения искусства позиционируются как обращенные в вечность объекты, не рассчитанные на то, чтобы их для чего-либо использовали. Роскошь – это «искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами» – подарок японского императора из сказки Г.Х. Андерсена «Соловей» (Андерсен 1969а: 257–267). Настоящий соловей – для бедных, а вот искусственный, конечно же, для императоров.
Овеянные легендами
Компании, производящие предметы роскоши, строят свою историю на легенде, и если ее нет, создают ее. Потребитель никогда не проверит, правда это или нет, зато наличие красивой, не обязательно правдоподобной, иногда сказочной истории убедит его в том, что он потребляет больше, чем вещь, то есть – идею, роскошь.
Наиболее распространенный тип легенды обыгрывает тему случайной находки, ставшей впоследствии фирменным знаком компании.
Так, говорят, английский обувщик Джон Лобб (John Lobb) начинал свою блистательную карьеру с того, что шил ботинки для золотоискателей и, согласно легенде, именно для них он изобрел свой знаменитый пустой каблук. Золотоискатели прятали в нем золотые слитки. Сегодня пустой каблук – знак обувного дома John Lobb.
Кто-то выращивает предметы роскоши в земле, кто-то томит их месяцами в бочках. Но в создании вещей иногда должна присутствовать и счастливая случайность, особенно если ради этой случайности пришлось потрудиться. Для создания мебельной коллекции в стиле ар-деко дизайнеру Алану Швитцеру (владельцу канадской компании William Switzer & Associates) понадобилось дерево старой выдержки, при этом очень редкое. Алан отправился путешествовать, и в итоге на другом конце света случайно наткнулся на редчайший образец дерева бубинга у одного известного специалиста по экзотическим породам. Это дерево было срублено 47 лет назад и хранилось в запасниках в Валенсии. Оно было огромного размера и имело срез удивительной красоты и невероятного диаметра (170 см). Второго такого дерева, естественно, нет в целом мире.
Иногда случайность принимает в легенде форму ошибки. Производитель ошибся, а потом понял, что нашел неповторимый способ производства. По одной из версий, «маленькое черное платье» Chanel обязано своим возникновением случайности: Габриэль Шанель собиралась в оперу в белом платье, но, испачкав его, переоделась в непраздничное черное. Появившись в театре в таком шокирующем виде, она дала жизнь новой моде. Первая модель обуви, созданная Ольгой Берлути, согласно семейному преданию, была результатом недоразумения. В 1962 году, когда Ольга только начинала постигать основы обувного искусства, в салон Berluti зашел Энди Уорхол. Ольга сняла мерки с его стоп, и Энди пообещал непременно как-нибудь вернуться за своими ботинками, но не оставил залога. Дед Ольги Торелло Берлути приказал ей выкинуть чертежи: что это за клиент, который не оставляет денег? Но Ольга ослушалась и тайком сделала для Уорхола мокасины. Правда, для модели пришлось использовать кожу с изъяном (хороший материал дед не дал бы) – по периметру верха носка шел шрам, который никак нельзя было убрать. В 1963 году Энди Уорхол вернулся в салон. Ольга показала ему туфли и пошутила, что для этой модели специально выбрала шкуру бродячей коровы, которая любила тереться о колючую проволоку, поэтому мокасины получились со шрамом. Уорхол пришел в восторг. «Я хочу, чтобы отныне мою обувь делали из шкур бродячих коров», – сказал он. Сегодня эта модель c «изъяном» стала частью коллекции Berluti.
Случайность легко интерпретировать как судьбоносную встречу, знак судьбы. Молодой человек по имени Кристиан Диор идет по улице и раздумывает, что ответить Марселю Буссаку, миллиардеру, который предлагает ему возглавить модный дом Philippe et Gaston. Диор натыкается на какой-то предмет, чуть не падает, это оказывается геометрическая фигура в форме звезды. Диор поднимает звезду и в этот момент понимает, что не должен соглашаться на предложение Буссака, а должен основать при его поддержке свой собственный модный дом.
Еще один популярный вид легенды – сказка. Конечно, ведь роскошь – это чудо, а роскошная вещь волшебна, так что жанр сказки прекрасно подходит для легенды luxury. Тринадцатилетний юноша по имени Луи Витон, будущий основатель Louis Vuitton, сбегает от злой мачехи и отправляется пешком в Париж – с этого путешествия начинается легенда Дома моды. Или вот история создания парфюмерной марки Amouage, напоминающая восточную притчу. Султан Омана Саид Хамад бин Хамуд аль бу Саид загорелся мечтой делать лучшие в мире ароматы, такие, чтобы весь свет узнал о великом арабском парфюмерном искусстве. Было это в 1983 году. Для этого он призвал легендарного французского парфюмера Ги Робера, который создал в свое время ароматы для Dior и Rochas, и сказал ему: «Твори и не отказывай себе ни в чем». Так на свет появился первый дурманящий аромат от Amouage под названием Gold, в состав которого вошли серебряный ладанник, ландыш, мирт, амбра, циветт мускус.
В историях о создании компаний, обслуживающих мир luxury, часто присутствует тема контраста, которая играет роль скромной оправы для бриллианта. Обувщик Джон Лобб был хромым. Тьерри Эрмес (Hermès) начинал свою карьеру с производства упряжи для лошадей. Постепенно сфера его деятельности расширялась, и сегодня дом Hermès – это империя роскоши, в которой есть место и ювелирным украшениям, и часам, и безупречной одежде. А «король отельеров и отельер королей» Цезарь Ритц, основатель одной из самых роскошных на сегодня гостиничных сетей Ritz, в юности мыл полы и чистил башмаки постояльцам дешевой парижской гостиницы, название которой погребено под песками времени. Шагом к успеху стала, как полагается, случайная встреча со знаменитым поваром, основателем высокой французской кухни Огюстом Эскофье, который ввел его в мир роскоши и помог создать свой гостиничный бизнес.
Нарочитая непрактичность
Роскошную вещь от просто добротной отличает ее непрактичность. В старом фильме «Верные друзья» есть такая «крылатая» фраза: «Обратите внимание на товар! И сносу нет…» «Сносу нет» – утешение для бедных. Роскошная одежда шьется из тончайших тканей, какой уж тут снос. Взять мужской костюм стоимостью от 10 000 долларов. Для его пошива берется шерсть с индексом 220S. «S» – сокращение от слова «Super». Эта буква вместе с цифрой обозначает, какой длины нить получилась из одного килограмма шерсти. Если на подкладке указана цифра 120, значит, из одного килограмма шерсти получилось 120 км нити. Чем больше цифра, тем тоньше нить и, значит, тем выше качество ткани и тем она дороже. Костюм с индексом шерсти 220S – это легкая, тончайшая ткань, на ощупь как шелк. При покупке такого костюма продавец-консультант непременно предупредит, что костюм не создан для рабочих будней, а сшит специально для особо торжественных случаев. Подоплека этого предупреждения в том, что на самом деле этот костюм легко может порваться, а локти на пиджаке быстро вытрутся. (Такие костюмы шьют Stefano Ricci, Brioni, Attolini.)
Синоним практичности – рациональность. Практичный потребитель живет исходя из расчета, из представлений о разумном соотношении цены-качества. Это магическая формула разумного потребления: лучшее возможное качество за меньшую цену. Разумный и практичный не переплатит за имя бренда или за сверхъестественные свойства материала. Роскошь же отчасти иррациональна. Здесь деньги платят не столько за вещь со всеми ее функциональными характеристиками, сколько за обладание мечтой, за причастность к dolce vita. Практичный человек – это взрослый, соизмеряющий свои возможности с желаниями, а тот, кто стремится к роскоши, – вечный ребенок. Ему неведомы запреты, он верит в чудо, верит, что все будет именно так, как он хочет, и даже лучше. Волшебный костюм, который так совершенен, что, как пишут в пресс-релизах, «напоминает вторую кожу», золотой шоколад, коктейльная трубочка из серебра (Tiffany), черный бриллиант… Конечно, мир полон чудес.
Иррациональность роскошного поведения граничит порой с чудачеством. Вечным детям полагается чудачиться. Поклонники марки Berluti могут стать членами закрытого клуба, который назван в честь романа Марселя Пруста Swann Club. Ценители роскошной обуви собираются в лучших отелях мира, чтобы пообщаться, а в конце встречи соблюсти аристократическую и нахальную традицию – полить обувь… шампанским Dom Perignon. Лишь этот драгоценный напиток достаточно хорош для обуви Berluti, считают члены клуба. Практичный человек ни за что не будет чистить ботинки шампанским. Но у роскоши другая логика. В роскоши важно соблюдение мельчайших, вроде бы ничего не значащих деталей. Еще пример: в незанятых номерах отелей Цезаря Ритца всегда горел свет. Ведь что может быть печальнее дома с черными дырами окон, считал отельер. Это неэкономное правило будет соблюдать и Эдвард Уайнер, следующий владелец сети Ritz. Даже во времена Великой депрессии все номера отеля будут светиться, зазывая новых гостей.
Несмотря на все эти примеры непрактичности, иррациональности, чудачества, в механизме роскоши заложены представления о пользе, полезности, рациональности, практичности. Просто они гипертрофированы, а гипертрофированная полезность (как натирание ботинок шампанским или включение в состав крема сапфиров) лишает вещь функциональности, превращая ее в безумство роскоши. О генезисе роскоши в XVIII–XIX веках как о своеобразной реализации представлений о полезности пишет Филипп Перро в книге «Роскошь»: «Вместо пышности, ставшей неприличной, неподобающей и политически неуместной, постепенно начнут действовать скрытые механизмы, приводящие в движение технологию полезного и приятного. Настало время совсем иной роскоши, ограниченной, практичной, рациональной, присущей техногенной цивилизации». Но, продолжает Перро, «желания, основанные на принципах полезности и целесообразности, перерастают в навязчивое стремление к практичности, доходящее до маниакальности» (Перро 2014: 157). И он приводит в подтверждение своих слов рассказ о путешественниках-англичанах, «нагруженных таким количеством разных предметов: лорнетов, моноклей и биноклей, зонтиков, тростей и палок с железными набалдашниками, пальто, трико, плащей, дорожных несессеров, утвари, книг и газет», что на их месте проще было бы остаться дома (там же). Да, роскошь маниакальна, как и денди Джордж Браммел, менявший по нескольку белоснежных шейных платков в день.
Только для вас…
Спектакль роскоши разыгрывается для одного актера. Роскошь антонимична массовой культуре, хотя сама является одним из мифов этой культуры. Массовая культура стремится обслужить как можно больше потребителей: кинотеатры-мультиплексы, заведения быстрого питания, гипермаркеты, двухэтажные самолеты, парки развлечений… Все это ориентировано на толпы. Потребитель роскоши – единственный в своем роде, точнее, один из немногих избранных. Все в сервисе и продукции luxury призвано подчеркивать индивидуальность потребителя, его эксклюзивность, его превосходство. В первом классе многих западных авиакомпаний пассажирам не только позволят выбрать себе обед из ресторанного меню, дадут дорожный набор от известного модного дома, но и поинтересуются, какой у него размер ноги и выдадут тапочки, подходящие именно ему. На некоторых рейсах восточных авиакомпаний стюардессы будут обслуживать пассажиров стоя на коленях, чтобы находиться на уровне его глаз и читать в них малейший каприз.
Роскошный образ жизни не позволяет довольствоваться товарами массового производства, пусть даже очень дорогими. Товары должны быть сделаны по индивидуальному заказу. Индивидуальный пошив обуви, одежды, изготовление эксклюзивного ювелирного изделия, неповторимый парфюм, который создадут по вашему рецепту. Если потребитель не желает делать заказ, он может приобрести уже существующий товар и добавить в него свою индивидуальность. Например, покупая часы за 20 000 долларов швейцарской компании Bovet, можно попросить поменять витую букву-логотип «B» на собственный инициал, а приобретая часы с бриллиантами на циферблате, заменить один из камней на крошечный уголек из своей собственной шахты. Производители luxury стремятся создать у потребителя иллюзию, что он не покупает товар, а самовыражается, творит, что его личность отражается в том, что он носит и чем пользуется. И личность эта совершенно уникальна. Правда, в XXI веке многие марки, не относящиеся к luxury, переняли этот стратегический маркер роскоши, чтобы создать у потребителя иллюзию приобретения эксклюзивного товара (да еще и за небольшие деньги), и тоже стали предлагать покупателям сконструировать браслет, сделав выбор из имеющихся в наличии подвесок-шармов, или «создать» туфли или сумки на основе ассортимента типов кожи.
Роскошь позволяет человеку отделиться от толпы не просто покупая то, что не предназначено для толпы, но и в физическом смысле. Личный «джет», личный корабль или яхта и даже личный вагон, который можно прикрепить к любому поезду и в котором можно поехать куда вздумается, – в основе всего этого лежит желание сбежать от масс. Ну и конечно, апофеоз роскошного одиночества – купить необитаемый остров. Но уединение роскошествующего человека – это вовсе не романтическое одиночество и не отшельничество. Luxury-потребитель знает, что он не один, что он просто избранный среди избранных.
Выше звезд
Роскошный товар не нуждается в телерекламе, ведь если, не дай бог, его начнут приобретать миллионы потребителей, он перестанет быть роскошным и перейдет в разряд ширпотреба. Роскошь – это то, о чем вы мечтаете и чего у вас нет, роскошь – это для единиц. И среди этих единиц – звезды эстрады, известные актеры, королевские особы. Стараясь повысить статус своей продукции, компании luxury не преминут сообщить, что потребителями этой продукции являются «важные люди».
Человек, носящий обувь John Lobb, знает, что в лондонском бутике компании хранятся картонные контуры самых знаменитых ступней мира за последние сто пятьдесят лет – Альфреда Хичкока, Бернарда Шоу, адмирала Нельсона, Фрэнка Синатры, Федора Шаляпина. Все эти люди шили у Джона Лобба ботинки. А среди клиентов портновского бренда Attolini – члены королевской семьи Великобритании, знаменитые актеры, такие как Аль Пачино и Кларк Гейбл. Владельцы сети отелей Ритц гордятся, что в их номерах останавливались Уинстон Черчилль, Коко Шанель. Достоинство часов швейцарской мануфактуры Breguet не только в их точности, но и в том, что их носили Бонапарт, королева Виктория и опять-таки Уинстон Черчилль. А Антонио Бандерас, Шэрон Стоун, Жерар Депардье и Николь Кидман – не только знаменитые актеры, но и верные поклонники старейшей часовой марки Van der Bauwede.
Рай на земле и скопище пороков
Итак, роскошь – это не просто шикарно и дорого. Роскошь – это магия, это феномен, имеющий устойчивые характеристики-проявления. Роскошные вещи сопровождаются изощренной сложностью материи, они овеяны легендами. Они стремятся быть нарочито непрактичными и непременно уникальными. Они призваны поднять своего владельца на звездный пьедестал и отделить его от толп, поглощающих массовую культуру.
Казалось бы, роскошные вещи воплощают собой совершенство, они идеальны, но только не в платоновском и не в христианском понимании. Они – материя, амбициозно претендующая занять место бестелесной идеи. Если есть роскошь, значит, рай находится на земле. И этот рай можно потрогать, пощупать, вкусить, вдохнуть, а самому стать немного небожителем. Производители роскоши недвусмысленно используют этот мотив рая на земле. По мнению Станисласа Де Керцизе, исполнительного директора ювелирного дома Van Cleef & Arpels, роскошь – это «частица вечности на земле»: «Мы все хотели бы быть вечными, – говорит ювелир. – Но мы смертны, и мы все жаждем, чтобы что-то осталось после нас. Для меня роскошь и есть такая возможность. Это частица вечности, потому что если у вас есть великолепные украшения или произведения искусства, они переживут вас» (-luxury-time-exclusivity-eternity).
Продолжая христианскую тему, хочется отметить одну закономерность. Святость в европейской культуре всегда предстает в бедности и лохмотьях. Святой нищ, он пренебрегает не только роскошью, но и элементарными проявлениями комфорта. Дьявол же всегда – мужчина, одетый с шиком, окруженный роскошью. Булгаковский Воланд разбрасывает перед публикой денежные купюры.
Да и Мефистофель любит порассуждать на тему роскоши:
Ну, если так, то лично для себя Построил бы роскошный замок я В красивом месте; лес, холмы и нивы В парк превратил бы пышный и красивый; Деревья там зеленою стеной Прямые бы аллеи окаймляли И для прогулок тень бы доставляли; Луга, как бархат, взор ласкали б мой; Струились бы меж скал везде каскады, Хрустальные ручьи и водопады… (Гёте 1969: 369).За эту тираду Фауст называет соблазнителя Сарданапалом (по имени ассирийского царя, прославившегося своей любовью к роскоши и изнеженностью).
Те, для кого идеал – святость, будут ждать иного лучшего мира, а соблазненные дьяволом находят рай на земле, рай по имени роскошь.
Корни такого восприятия (роскошь – зло) на самом деле лежат глубже христианской парадигмы. Еще Платон устами Сократа говорил о роскоши как о негативном явлении, причем для античного философа такое восприятие было настолько очевидным, что не требовало доказательств. Сократ утверждает, что при формировании государства надо остерегаться богатства. Ведь богатство, по словам философа, ведет к роскоши и лени (Платон 2007: 226). При этом Сократ не объясняет, почему роскошь – это плохо. Видимо это и так понятно его современникам.
Спустя века идеолог просвещения Жан-Жак Руссо вернется к теме вреда роскоши для государства и обоснует свою позицию. Руссо отметит, что она развращает одновременно и богача, и бедняка, одного – обладанием, другого – вожделением; она предает отечество изнеженности и суетному тщеславию (Руссо 1998). И для Сократа, и для Руссо роскошь – спутница пороков. Список пороков расширит Фернан Бродель, поставив роскошь в один ряд с хвастовством, кичливостью, излишеством (Бродель 1986: 6).
Еще один смысл, формирующий поэтику роскоши, – болезнь. «Голод злата, и роскошь, эта ласковая язва, по всей земле распространилась», – пишет Сенека и добавляет: – «Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного, – но только безумие избегает недорогого и общеупотребительного» (Сенека 1977: 10).
Роскошь равно безумие, язва, болезнь. Осознавая этот феномен как таковой, Сенека всячески старается отмежеваться от этого зла, подчеркивая, что его-то зараза не коснулась: «Поместите меня среди ослепительной роскоши и изысканного убранства: я не сочту себя счастливее оттого, что сижу на мягком и сотрапезники мои возлежат на пурпуре» (там же).
Эразм Роттердамский использует ту же метафору роскоши как хвори. В «Оружии христианского воина» он утверждает, что есть «движения души, которые принципиально расходятся с установлениями разума и низводят до низости скотского состояния». И среди этих движений души – роскошь, поставленная в один ряд с похотью и завистью и «подобными им хворями» (Эразм 1987: 112).
Апологетика роскоши
На фоне порицания роскоши ее апологетика выглядит не так внушительно. Мало кто всерьез пытался защитить роскошь и доказать ее связь с благом. Один из самых аргументированных примеров представляет нам писатель XVIII века Оливер Голдсмит в трактате «Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке». Роскошь – не порок, а путь к добродетелям, заявляет Голдсмит. «Философы, бичующие роскошь, не понимают, каким благом она оборачивается, – заявляет писатель. – Они, по-видимому, не разумеют, что ей мы обязаны большей частью не только наших познаний, но и добродетелей. Призывы обуздывать наши желания, довольствоваться малым и удовлетворять самые насущные телесные потребности – одно краснобайство, и не лучше ли находить радость в удовлетворении невинных и разумных желаний, нежели подавлять их? Ведь наслаждение гораздо приятнее угрюмого удовольствия» (Голдсмит 1974: 10). Таким образом, Голдсмит приписывает роскоши положительные коннотации, такие как добродетель, невинность, разумность, образование, естественность, наслаждение…
Эффективный способ избавить роскошь от поругания – отделить ее от брата-близнеца, богатства, и вывести на уровень нематериальных ценностей. Такую апологетику часто находим у самих производителей роскоши. Так, итальянский портной Стефано Риччи (Stefano Ricci), о котором упоминалось выше, моделирует свое собственное представление о роскоши, которое он обозначает как «истинная роскошь». Он пишет эссе с характерным названием Luxor. Это произведение вдохновлено путешествием собственно в Луксор, но название города приобретает дополнительный смысл благодаря сходству со словом luxury. В эссе Риччи приводит определение роскоши: «Роскошь – это стакан воды в пустыне, Роскошь – это дружба, Роскошь – это внук, Роскошь – это здоровье» (Ricci 2003: 79). И в этом определении Стефано, человек, который создает роскошь, который украшает галстуки бриллиантами и который продает костюмы, сопоставимые по цене с автомобилем, нарочито избегает ассоциаций роскоши с богатством. Нет, согласно его теории получается, что роскошь – глобальный принцип жизни (стакан воды в пустыне), роскошь – идеальные человеческие отношения (дружба), роскошь – материализованное бессмертие (внук) и, наконец, роскошь – главное условие человеческого существования (здоровье). Весь этот понятийный ряд отрицает определение роскоши как излишества, ненужного или вредного, излишества, которое не каждый может себе позволить. Роскошь полезна, насущна, моральна, роскошь – синоним жизни и блага… Бедность же, если следовать логике, – синоним смерти (без воды в пустыне умирают), одиночества (без дружбы и без внука), старости (без здоровья). Так что нищие духом вовсе не блаженны – таково искушение роскоши, попирающей идеалистичное понятие Блага и заменяющей его материалистичными благами, возведенными в ранг метафизики.
Роскошь метафизична. Она один из полюсов мироздания, лишенный негативной или позитивной окраски, – вот еще один путь для апологетики этого явления, который мы найдем у Эриха Фромма. Немецкий философ выделяет два ключевых способа человеческого существования: иметь и быть. Вся философия, вся мораль мечется между обладанием и бытием. Фромм говорит о перекосе современного ему общества в сторону «быть» как о естественном процессе, заявившем о себе с того момента, как возникла частная собственность, и ставит понятие роскоши вне морали, вне понятий добра или зла (Фромм 2000).
«Науки и искусства ведут к пороку, роскоши и тому подобному…» – писал Фрэнсис Бэкон (Бэкон 1972). А уже упоминавшийся здесь Оливер Голдсмит спустя пару веков в полемическом порыве воскликнул, что, напротив, это роскошь способствует развитию наук, так как будит тягу к познанию (Голдсмит 1974: 10). Отвлечемся от негативных или позитивных оценок и выделим главное: роскошь коррелирует с науками. Это утверждение в современном обществе приобретает новую неожиданную окраску. Науки, главным образом гуманитарные, – это действительно роскошь, и вдумываясь в то, чем являются эти науки для обычного современного человека, сталкиваешься с удивительным концептуальным совпадением. Взять хотя бы философию. Один из главных признаков роскоши, как уже отмечалось, – непрактичность. Да, философия совершенно непрактична. Она не приносит выгоды, не приносит пользы. Ею занимаются для личного удовольствия. Философия – элитное хобби, элитное, потому что для того, чтобы заниматься ею, желательно быть очень-очень богатым (либо не придавать деньгам никакого значения): философией не прокормишься, на ней не заработаешь. Занятия философией в глазах обывателя настолько же роскошно непозволительны, как уход за ботинками с помощью шампанского. Еще один признак роскоши – эксклюзивность, уникальность. Конечно, философские произведения эксклюзивны. С этим не поспоришь. Книги по философии выходят ограниченным тиражом, который сродни лимитированной серии элитного товара: часов с бриллиантами, ручки из золота, костюма ручной работы. Я говорила о редкостных, уникальных материалах, из которых создаются предметы роскоши. Что ж, материалы, с помощью которых «ткутся» сегодня труды по философии, тоже уникальны и редки. Произведения философов, на которые ссылаются современные ученые, не продаются в «книжных супермаркетах». Чтобы прочесть их, надо записаться в библиотеку, а лучше во все, а еще лучше – поездить по миру в поисках источников. Посетить архивы… А затем провести несколько месяцев в размышлениях, предвкушая, когда полученная информация отлежится, настоится, вызреет и выльется, наконец, в собственный трактат. Чем не добыча эксклюзивного материала, сопоставимая по сложности с выдерживанием в бочках коровьей кожи для производства роскошных ботинок?
Это, конечно, шутливое рассуждение, не претендующее на глубокий научный анализ, и, соглашусь, оно совершенно неуместно в эссе, посвященном роскоши. Почему? Дело в том, что я не упомянула еще об одном атрибуте роскоши – серьезности. Роскошь совершенно серьезна: все в ней неподдельно, все в ней настоящее, самое лучшее, и улыбке тут места нет.
Мода и еда
Я знаю столько рецептов, может воспользоваться этим – выпустить ветчину или ростбиф?
Кристиан ДиорГламур наивен, роскошь серьезна, а мода легкомысленна. Мода не прочь пошутить и поиронизировать, она любит играть и шокировать. Мода любит парадоксы, диссонанс, абсурд. И если говорить о моде на ее же языке игры и абсурда, почему бы не провести странное, диссонансное сопоставление, рассмотрев мотив еды в поэтике моды. Мода и еда: на первый взгляд такое сопоставление кажется странным, но это не так. В поэтическом поле моды, в ее языке присутствует множество связанных с едой образов, которые работают на разных смысловых уровнях. Даже на бытовом языковом: в английском языке слово «dress» означает и «платье», и «одеваться», и «приправлять пищу».
Во многом связь еды и моды реализуется через отрицание, отторжение. Еда, страсть к поглощению пищи, кухня – это «подсознательное» моды. Это то, что модный дискурс изгоняет из себя, помещая в глубины своего «сознания». «Эльза Скиапарелли утверждала, что одежда не должна подгоняться к человеческому телу, а, скорее, тело должно приспосабливаться к одежде», – напоминает Ларс Свендсен в своем исследовании «Философия моды» (Свендсен 2007: 113).
«Подгонка» тела под одежду сопровождается изнуряющими диетами, зачастую ведущими к анорексии. Мода создает культ диет – ограничений в пище. Поглощение пищи в больших количествах, удовольствие от еды и пребывание в поле модного – взаимоисключающие вещи. Жан Бодрийяр объясняет это взаимоотношение историко-культурными факторами: «Прежние общества имели свою ритуальную практику воздержания. <…> Однако различные институты поста и умерщвления плоти вышли из употребления как архаизмы, несовместимые с тотальным и демократическим освобождением тела» (Бодрийяр 2006: 184). В итоге в современном обществе произошла подмена в устремлении этой агрессии по отношению к телу, и «весь агрессивный враждебный импульс», больше не контролируемый и не устраняемый религиозными социальными институтами, «хлынул сегодня в само сердце универсальной заботы о теле», благодаря чему «тело становится угрожающим объектом… [который нужно] умерщвлять с „эстетическими” целями, с глазами, устремленными на тощие, бестелесные модели журнала Vogue» (там же). Иными словами, агрессия никуда не делась, и в практиках религиозных постов и в «ритуалах» модного воздержания в еде – один и тот же посыл, один и тот же импульс, смысл которого в уничижении телесности. Но, пожалуй, именно эта сегодняшняя табуированность всего, что связано с едой в мире моды, и делает образы, относящиеся к еде, такими устойчивыми составляющими поэтики моды.
Потреблению пищи в современном мире, независимо от соотнесенности с миром моды, нередко сопутствует чувство вины (Барт 2003: 199). Удовольствие от еды – это провинность, и здесь опять же заметен историко-культурный религиозный след. Чревоугодие – один из семи смертных грехов в католической традиции, один из восьми в православной.
Чувство вины также сопровождает и «потребление» одежды. «Обжора» от моды – это раздираемая угрызениями совести покупательница одежды, особа, зависимая от самого процесса покупок, ее принято, вслед за британской писательницей Софи Кинселлой, которая ввела этот термин в своем романе 2000 года, называть «шопоголиком» по аналогии с алкоголиком.
Питаясь этим чувством вины, индустрия моды разыгрывает важный козырь: соблазн. Соблазн, как подмечали и Жан Бодрийяр (Бодрийяр 2006: 173), и Жиль Липовецкий (Липовецкий 2012: 228), – механизм, с помощью которого мода «лучше продается». Там, где есть запретный плод, есть вина, а значит, есть соблазн, и там, где есть соблазн, есть желание заполучить соблазняющий объект. Модный соблазн провоцирует гиперпотребление, гиперприбыль – прибыль от продажи не самых нужных вещей. «Доставьте себе маленькую радость, купите еще одни неудобные туфли, еще одну маленькую сумку, еще одно платье, которое наденете один раз» – таков смысл модного послания, транслируемого через глянцевые журналы, рекламу и т. д. И механизм соблазнения, как вирус, продолжает действовать и после совершения покупки: соблазненный рекламой потребитель носит одежду не затем, чтобы защититься от холода или прикрыть наготу, а затем, чтобы соблазнять – и не столько в физическом смысле, он сам становится «рекламоносителем», подталкивая других к потреблению. Поэтому производители одежды и аксессуаров уровня luxury нередко прибегают к помощи знаменитостей – дарят им платья, туфли, украшения, в которых представители шоу-бизнеса появляются на публике. А глянцевые журналы делают этим вещам бесплатную рекламу, публикуя красочные обзоры нарядов с красной дорожки какого-нибудь кинофестиваля. «Обольщение и соблазнение обособились от старинного ритуала и традиции, они начали свою длинную современную карьеру, индивидуализируя, пусть и частично, знаки одежды, идеализируя и обостряя чувствительность внешнего вида. Модная одежда, являя собой динамику излишеств и преувеличений, изобилие хитрых уловок, подчеркнутой изысканности, свидетельствует о том, что мы уже оказались в современной эпохе соблазнения, в эпохе эстетики индивидуальности и чувственности», – пишет Липовецкий в книге «Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе» (Липовецкий 2012: 70).
Сходство еды и моды не ограничивается чувством греховности, сопутствующим потреблению в обоих сферах. Основанием для плодотворного сопоставления может служить большая социальная роль как пищи, так и предметов гардероба. Об этом пишет Ролан Барт в «Системе моды». Пища служит не только насыщению, а одежда – не только сокрытию наготы. И то и другое – коммуникативный знак: «Сколь бы ни была функциональна реальная одежда, она всегда содержит в себе и сигналетическое начало, поскольку любая функция является как минимум знаком себя самой; рабочая спецовка служит для труда, но одновременно и демонстрирует этот труд», а пища, продолжает Барт, «связана одновременно и с физиологической потребностью, и с некоторым семантическим статусом – еда и насыщает, и нечто значит…» (Барт 2003: 298). Так, кофе, говорит Барт в другой работе («К психосоциологии современного питания»), не просто бодрит или расслабляет – он ассоциируется «с ситуациями паузы, передышки, даже расслабления» (там же: 377). И какое-нибудь «маленькое черное платье» – это тоже «ситуация», целая система знаков и значений: оно отсылает к легендарной Коко Шанель, к означаемому «французскости», элегантности, также подразумевает торжественность повода.
Ассоциация моды с едой становится особенно очевидной, когда дело доходит до описаний. Стилистические советы в глянцевых журналах построены по принципу рецептов. Модный look (образ, вид, далее – «лук»), или общий спектр тенденций нового сезона, – это комплекс подходящих друг к другу ингредиентов, многослойный пирог. «Поэтика рецепта» тиранична. Количество ингредиентов для какого-нибудь пирога указывается в точных измерительных категориях (добавьте 25 граммов дрожжей и 250 граммов сахара), и эта точность пленяет и пугает. В стандартном рецепте все категорично, нам не объясняют, почему именно 25 граммов дрожжей и что будет, если положить 30 или 20. Но очевидно, что это будет неправильно, нехорошо, непоправимо, что это нарушит гармонию. Ролан Барт говорит, что мода тиранична, и хочется добавить, что рецептурная категоричность и недосказанность, граничащая с иррациональностью, заметна в языке моды. «Этим летом носят синее, а коричневое и бордовое уберите подальше в шкаф, каблуки-шпильки вышли из моды, замените их каблуками-рюмочкой», – пишут в каком-нибудь глянцевом журнале. Нет никаких объяснений, почему синее, почему вдруг шпильки впали в немилость и что будет, если пренебречь «рецептом-заклинанием». Впрочем, что будет, как раз ясно – выпадание из магического круга моды, непоправимая порча «модного пирога». Вещь, отвечающую тенденциям сезона, в глянцевых журналах называют must have (англ., букв. «нужно иметь»): must – это не совет, не рекомендация – это приказ, долженствование. При этом и кулинарный рецепт, и модный глянцевый императив, как капризные тираны, вдруг могут предоставлять неожиданную свободу, которая пугает еще больше. «Добавьте соли и перца по вкусу» или «к этому наряду подойдет яркий аксессуар, который придаст индивидуальный акцент всему образу». Только что нас водили за ручку, давая четкие, не терпящие сомнений и возражений указания: «наденьте синее», «возьмите 25 граммов» – и тут вдруг: «по вкусу», «яркое» (насколько яркое, какого цвета, что именно). Это призрачная свобода, ловушка, которая опять же может испортить весь «пирог». Вообще мода часто «водит за ручку», модный дискурс принимает на себя роль матери, отдавая потребителю роль ребенка, который должен учиться, слушаться, следовать совету. Изначальная функция матери – кормить и одевать, ну и утешать (еда помогает справиться со стрессом, равно как и поход по магазинам), так что языки моды и еды пересекаются и в этом поле – материнства.
Рассуждая о тенденциях, принято писать и говорить о вкусах: о смене вкусов, о вкусах, о которых «не спорят», о дурном или хорошем вкусе. Жиль Липовецкий, рассказывая о зарождении дендизма, мимоходом обращает внимание на связь становления модной индустрии и формирования культуры еды. Он пишет о феномене вкуса, который равно широко употребим в модной и в кулинарной практике: «Повышение социальной и эстетической ценности моды происходило одновременно с возрастанием общественного значения многочисленных второстепенных тем и предметов обсуждения. <…> Об этом свидетельствуют подробные описания вкусов денди и такие работы, как: „Гастрономия” Бершу (1800), „Альманах гурманов” Гримо де ла Реньера (1803), „Психология вкуса” Брийя-Саварена (1825)» (Липовецкий 2012: 99). То есть в эстетике дендизма зарождается понятие «стиль жизни» (lifestyle), в котором главные роли отводятся как раз одежде и еде. Ольга Вайнштейн, в свою очередь, описывая историю дендизма, приводит в пример античного «модника» Алкивиада, который, явившись на философский пир, описанный Платоном, вызвался быть распорядителем: «Эта роль тоже типична и для денди: „распорядитель пира”, присутствие которого необходимо для общего тонуса, остроты беседы, гастрономического удовольствия» (Вайнштейн 2006: 40). Эстетическое удовольствие от внешнего вида изысканно одетого денди прочно связывается с наслаждением едой. Часть работы fashion-редактора проходит в хождении по «пресс-дням», где представители модных брендов проводят презентации сезонных коллекций, неизменно сопровождающихся «пиром» – словно дыня с пармской ветчиной и фуа-гра с шоколадом помогают лучше оценить достоинства платьев и украшений. По крайней мере, сами дизайнеры с этим посылом не спорят. «Я решил назвать музей Silos, потому что это здание также используют для хранения еды, а она, бесспорно, очень нужна для жизни. Для меня еда так же важна, как и одежда», – признался Джорджио Армани на открытии музея в Милане, созданного в честь 40-летия его творчества (цит. по: -armani-silos-mesto-sily.html). Около 600 работ дизайнера разместилось в доме, построенном в 1950 году и изначально служившем пищевым складом компании Nestlé.
Итак, мы только что рассмотрели некоторые общие принципы, на которых строится корреляция между модой и едой, общие для двух сфер области значения. Теперь можно перейти к конкретным примерам и наглядно увидеть, как именно образы, связанные с едой, присутствуют в поле моды.
На вкус и цвет
В описании цветов одежды, наряду с растительными, цветочными образами (розовый, сиреневый, цикламеновый, васильковый и т. д.), активно применяются прилагательные, образованные от цвета сладостей, фруктов и иногда овощей: шоколадный, морковный, карамельный, лимонный и т. п. Исследовательское подразделение крупной компании, занимающейся разработкой систем стандартизации цвета, Институт цвета Pantone в своем ежегодном докладе предлагает производителям цветовую палитру (оттенки, которые будут наиболее актуальны в дизайне на ближайшие сезоны) и часто обращается именно к „продуктовой” теме». Главным цветом 2012 года, согласно Институту, был мандариновый. Модными в 2013 году «названы среди прочего нектариновый, апельсиновый, лимонный».
Что касается расцветок одежды, то опять же, наряду с цветочной классикой, дизайнеры вводят принты на тему еды. И если безобидные капкейки и те же печенья-макароны, как на майках японского бренда Uniqlo (весна – лето 2013, коллаборация с кондитерской компанией Ladurée), – это явная отсылка к ассоциативному ряду: мода – гламур – сладкое, то у некоторых модельеров можно видеть стремление нивелировать «глянцевое» восприятие моды. Наиболее экстремальный пример за последнее время – платья из весенне-летней коллекции 2011 года от американского дизайнера Джереми Скотта, в которых яркий принт на ткани имитирует фактуру сырого мяса. Еще один пример – весенне-летняя коллекция Dolce & Gabbana 2012 года. Расклешенные летние платья, строгие по крою прямые юбки, мини-комбинезоны были украшены рисунком, издалека напоминающим традиционные цветы. Но на самом деле это были лук, баклажаны, помидоры и огурцы. Говоря «огурцы», я подразумеваю не старинный индийский узор пейсли, почитаемый сегодня дизайнерами Etro (его в русском языке принято называть «огурцами»), а именно огурцы – большие, зеленые, как с рынка. В поддержку этой идеи все лето 2012 года витрины респектабельных бутиков Dolce & Gabbana были уставлены деревянными ящиками со свежими овощами. Молодая сицилийская марка Nhivuru украсила свитшоты и футболки ветками томатов и морепродуктами. А в летней мужской коллекции 2015 года дизайнеры Etro представили костюмы, разрисованные салатами и прочими блюдами в эстетике художника XVIII века Джузеппе Арчимбольдо, при этом логотип Etro был превращен в «съедобное» Eatro. Пицца и паста на рубашках и брюках заменили классические «огурцы» – пейсли. Девиз коллекции: «Мы – это то, что мы едим».
Эта же компания подхватывает, вслед за Dolce & Gabbana, тему рынка. Дизайнеры периодически выбирают местом для fashion-показа продуктовый рынок: Даниловский в Москве в 2012 году и, десятью годами ранее, главный рынок в Милане. Для дизайнеров Etro это способ продемонстрировать этнические мотивы, характерные для марки, подчеркнуть идею эклектичности моды (рынок как символ взаимодействия культур, стилей) и важность постмодернистского принципа микширования – смешения концептов, стилей через простые образы (соленья и сладости, овощи и ягоды). Рынок – как праздник, шум, взрыв красок – может символизировать моду в целом. Но в то же время рынок – способ свержения моды с пьедестала, снижения стиля, представления моды не как утонченного искусства, а как карнавала, хаоса, китча и триумфа потребления. «Мир как супермаркет», а мода – один из продуктов. С этой идеей выступил, например, Карл Лагерфельд в своей коллекции для Chanel (осень – зима 2015). Показ проходил в декорациях супермаркета, на фоне полок с консервами, овощами и колбасами. В руках модели несли сумки, сделанные в форме железных продуктовых корзинок. Та же ирония была в осенних витринах ЦУМа 2015 года, обыгрывающих идиому «модная кухня»: рядом с манекенами, наряженными в вещи из новых коллекций, дизайнеры витрин водрузили гигантские блюда со спагетти и сосисками, макеты плиты и мясорубки.
Надеть или съесть
Привычное нам возвышение моды до уровня искусства, сравнение ее с архитектурой и каким-либо другим «серьезным» ремеслом можно встретить уже в автобиографии Кристиана Диора: «Платье для меня своего рода архитектура, пусть очень недолговечная, и ее задача – воспроизводить пропорции женского тела. Портные прибегают к помощи отвеса так же часто, как каменщики», – писал Диор в своей автобиографии (Диор 2011: 214). Или у Изабель Рабино: «Платье Dior – не что иное, как чудо архитектурной композиции» (Рабино 2013: 316).
Сегодня эти мотивы активно заменяются на мотивы карнавальной вакханалии, подменяются сниженными образами, что позволяет показать моду как один из феноменов общества потребления. Одежда, как, впрочем, и другие вещи в современном мире, включая искусство, в полном соответствии с посылом Ж. Бодрийяра, сегодня, как и полвека назад, продолжает осознаваться как объект потребления. А самый простой способ описать потребление – разрушить эвфемистичность этого термина, назвать вещи своими именами: потребление – это поедание.
Дизайнеры иронически показывают эту связь. В рекламном буклете бренда мужской одежды Isaia (осень – зима 2015) – фотографии, изображающие джентльменов в идеально сидящих костюмах. Один жадно, прямо руками поедает спагетти, другой смакует артишок: в пресс-релизе поясняется, что источником вдохновения коллекции стала неаполитанская кухня.
Некоторые модельеры создают одежду из съедобных продуктов. Нашумевший пример – «мясное платье» Леди Гаги. Оно было спроектировано для певицы дизайнером одежды Франком Фернандесом и стилистом Николой Формикетти в 2010 году. В качестве материала использовались настоящие стейки, приобретенные у мясника, у которого отоваривается семья Фернандеса. К платью прилагались мясные аксессуары: шляпка, клатч и туфли.
Когда я смотрела на это платье в венском Музее современного искусства, не удержалась, чтобы не подойти ближе и не понюхать его (запаха, кстати, не было – платье обработали специальным составом). И это значит, провокация удалась. Платье из мяса, на вид похожего на лайкру, в ироническом ключе обыгрывает тему быстротечности моды при помощи «съедобного» образа. Одежда, как и еда, имеет свой срок годности и портится, если ее не употребить вовремя. В принципе мода всегда намекает на это: тенденции каждый сезон сменяются, устаревают, вещи выходят из моды, – но мясное платье выражает эту простую идею в лоб, без обиняков.
Наряд Леди Гаги дал начало «мясному» тренду в моде. Лондонский дизайнер Анна Чонг создает платья из пармской ветчины, бекона и салями. Среди работ дизайнера Эми Гудхарт – юбка из ломтей жареного огузка, напоминающих цветочные лепестки, а «на закуску» – шапки и сумки из хлеба. Некоторые дизайнеры развивают овощную тему: Миа Гизандер «сшила» платье из капусты, а модельер Уэсли Нолт прославился платьем из листьев артишока.
Но конечно, более распространенный и менее шокирующий материал для изготовления съедобной одежды – сладости и фрукты, а не мясо или овощи. Иными словами, большинство дизайнеров отдают предпочтение сладкому, а не соленому или пресному. Это логично: соленая или пресная пища, как правило, – признак повседневности, это необходимая составляющая ежедневного рациона. Сладости же – это «маленький праздник», это избыточность, это своего рода роскошь. Их едят не для утоления голода, а для удовольствия. Модная одежда от обычной отличается так же, как сладкое от соленого. Модная юбка или модные туфли, в отличие от обычных, не маркированных как «модные» юбок и туфель, как уже писалось выше, не суть вещи первой необходимости, это такой же праздник, такая же избыточность, как и сладости.
И даже «любительница мяса» Эми Гудхарт не пренебрегает десертом: среди ее работ есть также брюки, на изготовление которых ушло 72 вафли.
В 2009 году хозяйка блога La Prochaine Fois Кэти представила свою линию ювелирных украшений из сушеных фруктов: кольца, декорированные дольками сушеных слив, яблок, груш, киви, апельсинов. «Я использую различные техники, позволяющие этим украшениям носиться более чем два дня. Но я не слишком задумываюсь о сохранности. Мне приятно именно создавать такие вещи, и если они будут храниться долго – хорошо, а если нет – ну и ладно. Большинство вещей, которыми мы дорожим, имеют сентиментальное значение, но когда это значение уходит, пусть уйдет и вещь», – пишет в своем блоге laprochainefois.blogspot.ru Кэти. Мимолетность, однодневность, легкомысленность моды демонстрируется и на шоколадной ярмарке Salon du Chocolat. Она впервые прошла в 1995 году в Париже и сегодня устраивается ежегодно во многих странах мира – Испании, США, Японии, Китае, Египте, Италии, России. Это самая крупная выставка шоколада, по масштабу вроде швейцарской выставки Baselworld для часовщиков. И наряду с лучшими сортами шоколада, самыми яркими работами кондитеров, представляющих конфеты ручной работы, здесь можно увидеть модное дефиле – Chocolate Fashion Show. На нем зрители могут увидеть вечерние платья, сделанные из шоколада: кружева, шелка, сверкающая отделка, вышивка, пышные юбки, корсеты – все это съедобно. И все это на один раз, на один час.
От кулинарии к культу
Одежда из съедобных продуктов – это модная провокация. И в то же время это художественная провокация: подобные вещи претендуют на то, чтобы называться предметом искусства, арт-объектом. Шоколадное платье, сумка из мяса, брюки из вафель – это вещи не утилитарные, созданные не для рационального, а для эмоционального потребления, как и картина.
Но есть и более простой способ связать еду и моду: производство фешен-объектов, в итоге как раз предназначенных для буквального потребления – поедания. Речь идет, в первую очередь, о десертах в виде вещей. В лондонском отеле Berkeley в меню кафе есть пирожные в виде сумок, туфель, платьев, сделанные по мотивам последних коллекций известных дизайнеров вроде Stella McCartney, Valentino, Miu Miu, Jil Sander и др. Эта сладкая коллекция называется Prêt-à-Portea. Здесь присутствует игра слов: термин «prêt-a-porter» соединили с «tea» (чай). Ассортимент обновляется каждые полгода, как и модные тенденции. Подают эти «аксессуары» на соответствующей посуде – фарфоровом сервизе Paul Smith в фирменную полоску.
Многие кондитерские берутся за производство фешен-тортов на заказ, как, например, компания Cake Boutique. Там можно заказать трехъярусный торт Louis Vuitton, состоящий из сладких «коробок» с логотипами LV, торт Burberry – «шкатулку» в клетку. Или торты-сумки – Gucci, Hermès (модель Birkin), Chanel. Все они – в натуральную величину, украшены разноцветным кремом, имитирующим фактуру дорогой лаковой или матовой кожи.
«Цвета сезона» тоже едят или пьют. Летом 2013 года аппетитные цвета Pantone, о которых упоминалось выше, получили буквальное воплощение в проекте американского графического дизайнера Дженнифер Сбранти. Она создала цветовую гамму коктейлей на основе весенней палитры Pantone, снабдив красивые картинки рецептами от разных кулинарных блогеров. Например, нектариновому цвету соответствует коктейль Shaken Nectarine Cocktail, состоящий из водки и свежего нектарина, а лимонному – Meyer Lemon Sour, тоже на основе водки с добавлением лимонного сока, яичного белка, апельсиновых корок.
В Интернете растет количество блогов и сайтов, посвященных изготовлению и фотографированию «модных» десертов. Хозяйка сайта Cake Fashionista («Тортовая модница») Лоретта, дизайнер сладостей, пишет: «Я помешана на тортах, а так как я училась на графического дизайнера, то могу привнести мою любовь к дизайну, моде и искусству в мою любовь к сладостям». И выставляет на сайте образцы работ: сумки из шоколада, имитирующего телячью кожу, торт в виде ботинок и т. д. Другой блог, , десертами не ограничивается. Его автор Анна Маркони выбирает подиумные «луки» с недель мод и готовит блюда (супы, спагетти, коктейли, пирожные) в сходной цветовой гамме: рядом с фотографией блюда она ставит фотографию модели на подиуме. Когда арт-объект готов, он съедается. «Мне захотелось в этом проекте соединить два непересекающихся мира, моду и еду», – пишет автор.
В том же ряду – неожиданного «пересечения» мира моды и кухни – стоит и красочная книга, написанная Кристианом Диором, «La Cuisine Cousu-Main», которая вышла в 1972 году и была переиздана в 2013 году. В ней собраны любимые рецепты кутюрье: все они – примеры haute cuisine (устрицы в шерри, куропатки в шампанском Dom Perignon и т. д.). Книга проиллюстрирована фешен-художником Рене Груо.
Важно, что фешен-блюда фотографируют или рисуют и таким образом увековечивают. Из милой прихоти хозяйки или из кулинарного изыска повара они превращаются в арт-объекты. В отличие от мясного платья Леди Гаги, которое снижает пафос, витающий вокруг мира моды, сфотографированные пирожные, напротив, становятся актом преклонения перед ней. Поедание тортиков-сумок или устриц Dior сродни жертвоприношению божку Моды.
Формальный подход
Еще один способ репрезентации мотива еды в моде – создание вещей, имитирующих продукты, но не съедобных, а вполне себе функциональных. Одной из первых ввела в мир моды приземленные образы еды и возвела их в ранг искусства Эльза Скиапарелли, итальянский модельер 1930-х годов. Под влиянием сюрреализма и дружбы с Сальвадором Дали Скиапарелли создала знаменитое платье-омара (белое длинное платье простого классического кроя с нарисованными на нем объемным, словно трехмерным гигантским омаром и листьями петрушки), шляпку-отбивную, сумку в виде яблока.
Подобные вещи попадаются периодически во многих коллекциях последних лет. Один из недавних примеров – сумки американского дизайнера Нэнси Гонсалес (Nancy Gonzalez) из плетеной крокодиловой кожи в виде яблок и ананасов и клатч-груша или клатч в виде мятого пакетика из-под чипсов из муара на золотой цепочке от британского дизайнера Ани Хиндмарч (Anya Hindmarch), круглый клатч французской марки Olympia le Tan в виде банки черной икры, сумочка американской художницы Кэтлин Дастин в форме гигантского семечка или (не слишком, впрочем, «съедобная») сумка в виде мухомора от итальянской компании Braccialini. А хулиганская марка Rodnik band, помимо платья с сырными принтами или колье-яичницы, имеет в своем арсенале «сладкую» сумку в форме арбузной дольки.
Фрукты и овощи – постоянная тема и в ювелирном искусстве. Одним из первых этот мотив в ювелирное искусство ввел дом Cartier. Запатентованная технология компании – драгоценные камни, ограненные в форме фруктов, стиль tutti frutti. Это можно назвать геммологическим эвфемизмом. Ведь ставшая классической огранка бриллианта в 57 граней, изобретенная в начале ХХ века математиком Марселем Толковски, – это претензия ювелирного ремесла на искусство, эта огранка подчеркивает абстрактность красоты камня. А камень, обточенный в виде фрукта, словно говорит: я не драгоценный камень, я не дорогая серьезная материя, я фрукт, просто фрукт, игрушка, забава.
Той же цели служат и украшения в виде фруктов. У тех же Cartier в одной из последних коллекций Sortilege de Cartier – коктейльные кольца с крупными камнями, изображающими цитрусовые: турмалины выступают в роли апельсинов, хризобериллы имитируют лаймы, а розовые сапфиры – грейпфруты. Из камней искусно сделаны дольки с помощью бриллиантовых дорожек и лакового покрытия.
У De Grisogono есть ювелирная линия Fruits, в которой представлены кольцо-апельсин, где желтый цвет обыгран редкими в природе желтыми сапфирами, арбузы с изумрудной коркой, мякотью из розовых сапфиров и косточками из черных бриллиантов, подвеска в виде надкусанного яблока, усеянного рубинами. Подобные кулоны и сережки в виде яблок с корешком из белого золота, листьями из зеленых топазов есть в коллекции Tentazione от Pasquale Bruni. Другие продукты редко вдохновляют ювелиров, но исключения встречаются – Chopard, например, сделали сережки в виде креветок.
Ювелирное искусство, как и мода, как и еда, «вытекает из берегов» своей функциональности: высокое ювелирное искусство (haute joaillerie) – это больше чем украшения; высокая мода (haute couture) – больше чем платья, высокая кухня (haute cuisine) – больше чем пища. И в то же время и мода, и ювелирное искусство драматически признаются в том, что они – просто предметы потребления, как и съедобные продукты. В украшениях и аксессуарах в виде яблок и апельсинов эти два посыла присутствуют одновременно. Это игра в кошки-мышки, завуалирование смысла: нефункциональная с точки зрения моды форма (фруктов, овощей и т. д.), с одной стороны, возвышает функциональную вещь, абстрагирует ее от своей функции, а с другой стороны, сама тема еды, служащая вдохновением для дизайнеров-художников, принижает модную вещь, подчеркивает ее «легковесность», точно так же как и в случае с одеждой, изготовленной из продуктов. О «легковесности» как моды, так и еды не раз говорит Барт: о моде – «Мода, несмотря на свой престиж, все время чувствует себя слишком легковесной» (Барт 2003: 301), о еде – «Даже исследователю пища как предмет занятий внушает чувство легковесности» (там же: 367).
Попробовать аромат
Духи неосязаемы, бестелесны, к тому же их бытие зыбко (они улетучиваются), их сущность изменчива (на коже разных людей аромат, как известно, раскрывается по-разному). Духи нематериальны в том смысле, что запах нельзя потрогать. Платье воспринимается на уровне осязания (мягкость ткани), зрения (изящество кроя), может быть, слуха (шуршание юбки), сумка в дополнение к фактурности, форме, звуку молнии или замка имеет запах дорогой кожи, то есть обонятельное впечатление дополняет общее впечатление от нее, но духи – это исключительно обоняние, рождающее эмоцию.
И в то же время духи обладают скрытой материальностью: аромат получается в результате перегонки совершенно реальных компонентов (растений, цветов, фруктов и т. д). Эта их реальность всегда подчеркивается модной индустрией, но не буквально, не через раскрытие потребителю технологий производства, а через образы, ассоциации. Тут можно вспомнить знаменитый ответ Мэрилин Монро на вопрос: «Что вы надеваете на ночь?» Вместо ожидаемого описания эротичной ночной рубашки она отвечала: «Несколько капель Chanel No. 5». Эти несколько капель оказываются гораздо эротичнее и материальнее любого наряда. Реклама духов не ограничивается красочной картиной флакона, но «разворачивает перед нами соблазнительный ряд образов красоты, богатства, экзотики, любви и мощной сексуальности», пишут К. Классен, Д. Хоувз и А. Синнотт (Классен 2003: 431).
Материальность духов также вскрывается, конечно, и с помощью кулинарной темы. «Попробуйте этот аромат», – говорят в парфюмерном бутике. Конечно, его надо «пробовать», ведь он бывает вкусным, сладким, горьким, с кислинкой, сочным, пряным, пикантным. А парфюмер, сидя в лаборатории, с наслаждением смешивает ингредиенты в нужных пропорциях, подобно повару, орудующему на своей кухне.
На пути к «материальности» духов, в особенности современных духов, есть свои препоны. Ведь современная парфюмерная композиция, следующая традициям, заложенным Полем Пуаре и парфюмером Эрнестом Бо, работавшим с Коко Шанель, – это в принципе абстракция. Компонентов в композиции аромата (ноты тонка, апельсина, пачулей) может быть несколько десятков. Например, в Chanel No. 5 около 80 составляющих. Эти составляющие могут вычленить и узнать только профессиональные «носы», для рядового же потребителя современный поликомпонентный аромат – абстрактное впечатление. Он может быть с какой-то одной более явственной нотой или «аккордом» (к какой группе относится парфюм: цитрусовой или фужерной, – могут определить не только профессионалы, но и продвинутые потребители).
Однако современная так называемая нишевая, или селективная, парфюмерия как раз стремится уйти от абстракции. Ее девиз – натуральность компонентов. Это химия закодирована, натуральность же конкретна, понятна, близка. Кстати, в случае с пищей это тоже работает: вредные E-компоненты (консерванты, ароматизаторы), входящие в большинство готовых продуктов, противопоставлены натуральным «понятным» добавкам вроде соды, сахара, уксуса.
Многие парфюмеры, причисляющие себя к нишевым, раскрывают карты, выделяя в парфюмерной композиции какую-то одну, порой оригинальную, нетипичную для классической парфюмерии ноту, часто связанную с едой или напитками. Как, например, французская компания La Liquoristerie de Provence, которая, производя духи, специализируется на запахах ликеров и абсента. Ее самый известный аромат называется Absolument Absinthe, и его базовая нота – абсент. А духи L'Eau de Circe, сделанные парфюмером Пьером Гийомом из Parfumerie Generale, пахнут свежими персиками.
Американская компания Fargginay выпустила аромат Bacon Cologne с запахом бекона (в состав композиции также входит множество других сложных нот – мандарина, грейпфрута, бергамота, лимона и т. д.). Собственно, никаких других духов эта компания до сих пор не выпустила. Fargginay возникла именно благодаря бекону и посвящена бекону: бекон напоминает о доме, о детстве, о позитивных моментах жизни – рассказывается на сайте компании fargginay.com, – это аромат богов. Эфирные масла, не связанные с запахом мяса, возникли в композиции не случайно: согласно «легенде» бренда, он назван в честь мясника, жившего в начале ХХ века в Париже и придумавшего необычный рецепт бекона, в который в качестве приправ входили всякие необычные эфирные масла.
Надежда Никольская в своей работе «Парфюмерия. Химия и общество» приводит еще один пример использования «несладкой» кулинарной приправы в парфюмерии. Духами со «сладкими» приправами вроде корицы или ванили никого не удивить – они традиционно входят во многие ароматы). А вот композиция трав под названием «букет гарни», которую французские повара добавляют в супы и другие горячие блюда, – непривычный ингредиент для парфюмеров. Несколько лет назад парфюмерный концерн Quest предложил использовать этот «букет», состоящий из петрушки, лаврового листа и укропа, при создании как мужских, так и женских духов (Никольская 2003: 517).
Есть компании, делающие моноароматы, как марка Demeter Fragrance Library. Среди ее продукции – парфюмы с запахом рождественского пирога, ванильного торта, ириски, клубничного мороженого, попкорна, шоколадного торта. Demeter делает не только сладкие запахи – есть ароматы с запахом помидора, ржаного хлеба. Также в «библиотеку ароматов» входят и запахи алкогольных коктейлей.
Парфюмерными отдушками с «вкусными» запахами пользуются и производители обуви. Например, у английского бренда классической мужской обуви John Lobb калоши имеют аромат ванили. Также существует отдельная компания, которая специализируется именно на ароматной обуви: пластиковые туфли бразильского бренда Melissa Plastic Dreams имеют запах клубники и шоколада. Создавать ботинки с запахом сыра, мяса или петрушки пока никто, насколько мне известно, не решился.
Потребление подразумевает разные уровни обладания вещью. Сумки носят в руках или на плече, платье надевают на себя – таким образом, обладание платьем более «реально», платье ближе к телу, оно покрывает тело «второй кожей». «Вторая кожа» – распространенный в рекламе мужских костюмов образ. Желая подчеркнуть, что костюм хорошо сшит, производители говорят о том, что он будет сидеть как вторая кожа. Между тем, чем меньше степень материальности вещи, чем призрачнее возможность обладать ею, чем недоступнее вещь, тем она желаннее. Так возникают it bags (культовые сумки) вроде Hermès Birkin, за которыми надо стоять в очереди по несколько лет.
Возвращаясь к духам, обладание ими иллюзорно, минимально – они не надеты на тело как платье, их нельзя носить в руках как сумку и нельзя съесть как пирожное. Но они наделены не просто материальностью, не просто желанностью – они наделены соблазнительной съедобностью. Это коварный соблазн, ведь ароматные композиции не предназначены для употребления внутрь. Это табу. Впрочем, табу всегда кто-нибудь да нарушит. Так, Никольская упоминает фирму Smell THIS, которая выпустила линейку туалетной воды «под картавым названием „Flagrance”, пригодную не только для нанесения на тело, но и для употребления внутрь… „Ломтик дыни”, „Малиновый чай”, „Пина колада”» (Никольская 2003: 517).
В литературе эта съедобность тоже обыгрывалась не раз. Достаточно вспомнить «Москву – Петушки» В. Ерофеева и описанный там «благовонный» коктейль «Слеза комсомолки»: «Даже сам рецепт „Cлезы” благовонен. А от готового коктейля, от его пахучести, можно на минуту лишиться чувств и сознания. Я, например, – лишался.
Лаванда – 15 г
Вербена – 15 г
Лесная вода – 30 г
Лак для ногтей – 2 г
Зубной эликсир – 150 г
Лимонад – 150 г
Приготовленную таким образом смесь надо двадцать минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повиликой. Это неверно и преступно» (Ерофеев 1990: 45). Сколько эстетства в этом описании! Такому эстетству могут позавидовать сотрудники пиар-служб парфюмерных компаний, составляющие свои сладкие рекламные тексты.
Идея материальности духов доводится до абсурда в романе Патрика Зюскинда «Парфюмер». Главный герой, парфюмер Гренуй, получает эфирные масла из тел и волос девушек, уничтожая материальность существования людей ради совершенной материальности ароматов.
В итоге Гренуй создает идеальные духи, душится ими, и его съедает восхищенная толпа: «Каждый хотел коснуться его, каждый хотел урвать от него кусок, перышко, крылышко, искорку его волшебного огня. Они сорвали с него одежду, волосы, кожу с тела, они ощипали, разодрали его, они вонзили свои когти и зубы в его плоть, накинувшись на него, как гиены» (Зюскинд 2013: 302). Самая простая форма обладания, идеальная форма обладания – включить желанную плоть, вожделенную материальность в свою материальность, сделать желанный объект частью себя – на время (секс) или навсегда (поедание). О поедании как реализации потребности в любви неожиданно читаем и в биографии Кристиана Диора. Изабель Рабино рассказывает, что у модельера была слабость – шоколад: «У него на столе всегда можно увидеть шоколадные конфеты, и не одну-две, а целую коробку. Диор – один из тех гурманов, над которыми матушка природа сыграла злую шутку: он толстеет от всего». Далее Рабино оправдывает гурманство и лишний вес: «Это потребность любить и быть любимым. Ведь его так долго не замечали» (Рабино 2013: 168).
Модная идеология подразумевает культивирование вещей – возведение сумок, туфель, платьев, цветов, тканей в культ, их превращение в вожделенные объекты. Мода творит из «невинных», простых, повседневных вещей богов. Или объекты вожделения. Которыми хочется завладеть, которыми хочется обладать. Вот почему в модном поэтическом поле так прочно укоренились образы еды. Ведь поедание – идеальное потребление, абсолютное потребление и абсолютное обладание.
Но есть у этой связи моды и еды и мифологические, архаичные корни. Одежда и еда тесно коррелируют на ритуальном уровне. Об этом подробно пишет Ольга Фрейденберг в своей книге «Поэтика сюжета и жанра»: «Понятна стабильная связь между едой и занавешиванием, предметом еды и тканью: здесь сливается космогонический образ с производительным, и божество хлеба или плода появляется в покровах и завесах, подобно невесте» (Фрейденберг 1997: 200). Фрейденберг пишет о том, что даже простой стол, за которым едят, «осмысляется в образах высоты-неба», что еда сопровождает ритуалы рождения и смерти, что покойников в рамках мифологического образа «трапезы мертвых» изображают едящими и пьющими. Она упоминает про образы «обедающей» богини преисподней Гекаты, говорит про связь еды и жертвоприношения или про дуальность стола и могильной плиты. И отдельно Фрейденберг рассуждает о роли «тканевых метафор». Ткани, пологи – это одежда для стола, не просто утилитарная вещь или украшение, а часть священнодействия. Скатерть священна: «Стол, в особом обряде, омывают, подобно живому существу, одевают в сорочку и в верхнее платье…», «Одежда стола, одежда хлеба и вина (покровцы), одежда священнослужителей, завесы и пологи – различные „метафоры из ткани” одного и того же образа смерти-воскресенья» (там же: 184–186).
Быстро поели
На неделе моды в Милане, где демонстрировались коллекции осень – зима 2015 года, Джереми Скотт, креативный директор Moschino, посвятил показ знаменитой сети фастфуда McDonalds. Модели выходили на подиум с сумочками в виде красочных коробок с «хиппи мил», в красных свитерах с крупной желтой буквой «М». Коллекция иронична: модное потребление сродни быстрому дешевому потреблению фастфуда.
Мода перенимает у еды и обозначения типов или темпов потребления. Так, по аналогии с fast food в язык моды вводится понятие fast fashion. Считается, что первой стратегию fast fashion стала применять марка Zara. Сегодня ее воплощают в жизнь множество других брендов, ведущие – H&M и Topshop. Речь идет о дешевой, но при этом отвечающей последним модным тенденциям одежде. Бренды масс-маркета адаптируют для широкого потребителя актуальные тенденции с мировых подиумов, где свои коллекции демонстрируют дома моды. При этом коллекции в магазинах, исповедующих fast fashion, обновляются не два раза в год, как в prêt-a-porter, а гораздо чаще, иногда ежемесячно. Быстрая мода, как и быстрая еда, подразумевает сиюминутное потребление и быстрое изготовление. Вещи не покупаются на годы, а носятся сезон, потом выбрасываются, сменяются другими, обесцениваются. Регулярные распродажи, позволяющие приобретать залежалую одежду по низким ценам, также способствуют этому обесцениванию. Кстати, в пику fast fashion некоторые бренды, относящие себя к классу luxury, никогда не устраивают распродаж (например, Stefano Ricci, Chanel, Dior).
Опять же в пику fast fashion появляется такой термин, как slow fashion (и, кстати, slow food, антипод fast food, тоже одно из веяний последних лет). Среди основоположников концепции slow fashion – шведский онлайн концепт-бутик Slowfashion house (slowfashionhouse.com). Его открыла дизайнер Ригетта Клинт в 2008 году. И хотя в названии присутствует слово «fashion», речь не только о моде. Сегодня здесь, как и в обычном универсаме, можно купить все: начиная от зубной щетки и скатерти и заканчивая косметикой, одеждой, шоколадом. Эти вещи продвигают идею ручного труда и сделаны из натуральных продуктов и материалов: кресла, сплетенные из ротанга, щетка для чистки кухни из волокна мексиканской агавы, незамысловатые по крою хлопковые платья с перламутровыми пуговицами, браслеты, которые делают саамские женщины на севере Швеции. Вещи slow fashion равнодушны к подиумным трендам, носить одежду, согласно философии slow fashion, надо до тех пор, пока она не порвется. Впрочем, если она износится, ее можно заштопать. Главная идея slow fashion – отказ от гиперпотребления, отречение от культа моды.
Но так как slow fashion – все-таки стратегия продаж, она не перестает, как и fast fashion, быть стратегией потребления. Это философия, которая все равно учит потреблять, только по-другому – не так часто, не ради обладания новыми вещами и новыми тенденциями, а медленно, вдумчиво. Она превращает покупателей в «гурманов».
Все это очень хорошо, но новое веяние быстро переняли и приверженцы fast fashion. В моду вошли экологичность и натуральность. Даже H&M, один из основных сегодня приверженцев fast fashion, практикует такой подход. Летом 2013 года была запущена кампания garment collecting: все желающие могли приносить в магазины любые старые вещи, которые пошли на переработку и последующее производство новых вещей. Кампания проходила под девизом «Не дайте моде превратиться в мусор».
Кроме того, на волне осуждения принципов fast fashion и гиперпотребления в последние годы выросла популярность винтажной одежды. По всему миру открываются винтажные магазины, а знаменитости и светские дамы подчеркивают, что на них платья из старых и очень старых коллекций. Как и одежда slow fashion, винтажные вещи – это консервы, не портящиеся годами. Но консервы, хотя долговечны, не перестают от этого быть продуктами, то есть объектами, предназначенными для потребления, поглощения и поедания. В конечном-то счете.
Поэтика вещей: шкаф
К себе приковывал он взгляды постоянно, Он заставлял мечтать о тайнах, спящих в нем, За дверцей черною, что заперта ключом. А. Рембо. Подарки сирот к Новому годуОкружающие нас вещи не исчерпываются функциональностью. Им присущи свои мифы, своя поэтика. Форма и назначение одного и того же предмета сильно варьируются, что не позволяет дать ему четкое определение. Но если определение невозможно – возможно описание, основывающееся на сопутствующих вещам образах и представлениях. Каждая, даже самая обыденная на первый взгляд вещь, к примеру, предметы интерьера, обладает своей поэтикой, а вместе эти вещи, возможно, образуют новое образное поле. Об этой поэтичности, лиричности вещей пишет Михаил Эпштейн в книге «Постмодерн в русской литературе»: «Наряду с материальной, исторической, художественной ценностью, присущей немногим вещам, каждая вещь, даже самая ничтожная, может обладать личностной, или лирической, ценностью. <…> Мир артикулируется, „выговаривается” в вещах – не случайно само слово „вещь” этимологически родственно „вести” и первоначально значило „сказанное, произнесенное” (ср. однокоренное латинское „vox” – „голос”)». Эпштейн считает, что изучение повседневных вещей не вмещается в рамки искусствознания или товароведения, а нуждается в собственном поле исследования, которое он предлагает называть реалогией (от латинского «res» – вещь) или по-русски «вещеведением» (Эпштейн 2005: 270–298). На мой взгляд, «реалогия» может строиться на основе поэтического образа вещи, который вбирает в себя и художественную литературу, и мифы, и сказки, и повседневные, как исторические, так и современные, практики обращения с вещами
Рассмотрим под этим углом зрения самую повседневную и необходимую деталь интерьера – шкаф. Громоздкий, массивный, из тяжелого дерева, со скрипучими дверями и витыми ножками; изящный, современный, сверкающий зеркалами, хромированными ручками и встроенными лампочками… Шкаф – непременный обитатель любого жилища, хранитель семейных тайн и дорогих сердцу вещей, ненужного хлама и домашнего уюта. Ну и конечно, шкаф – вместилище «шмоток», вместилище модного дискурса. Какие смыслообразы, мифологемы и метафоры таятся за его дверями?
Хранитель
Шкаф – пожалуй, единственный предмет мебели, который вошел в речевой обиход как метафора человеческой личности. Ни с кроватью, ни со столом, ни со стулом или креслом никому не придет в голову сравнивать человека. Другое дело шкаф. «Вон какой шкаф вымахал» – говорят о рослом человеке. Да и косвенно различные поговорки свидетельствуют о том, что шкаф – это образ человека, его души или разума. Когда мы слышим поговорку «все по полочкам разложить», перед мысленным взором рождается образ шкафа с аккуратными рядами вещей, служащими метафорой памяти:
Тут медальоны вы найдете и портреты, Прядь белую волос и прядь другого цвета, Одежду детскую, засохшие цветы… (Рембо 1982: 43).Рембо перечисляет не просто случайные предметы, хранящиеся в шкафу, но символы воспоминаний. Медальоны, детская одежда, которую уже никто не носит, пряди волос – это ненужные вещи, это хлам, который не выбрасывают, потому что эти предметы – хранители прошлого.
Данный мотив развивает А.П. Чехов в монологе Гаева из пьесы «Вишневый сад». Чеховский «многоуважаемый шкаф» – очеловеченный предмет мебели, символический идеолог старого мира, хранитель ценностей, свидетель прошлого, учитель: «Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания…» (Чехов 1978: 206–208).
Таким образом, главная функция шкафа – защищать дом от нежелательного вторжения современности, напоминать хозяевам о прошлом, не давать порвать со своими корнями.
А между тем современность, безусловно, наложила свой отпечаток на образ шкафа-хранителя, хотя на первый взгляд кажется, что в современной литературе мы имеем дело все с тем же шкафом – метафорой памяти. Образ шкафа как хранителя прошлого весьма популярен у писателей эпохи общества потребления: «Я разложил свои воспоминания по полочкам, как в шкафу. Им теперь отсюда никуда не деться», – говорит герой Ф. Бегбедера во «Французском романе» (Бегбедер 2010: 42). Полки – вместилища для воспоминаний, а сами воспоминания – это вещи, но только не обязательно символические, как у Рембо, а вполне полезные; это вещи, которыми пользуются, которые покупают, – платья, костюмы, туфли. В романе Кристин Орбэн «Шмотки» каждая «шмотка» – воспоминание: о встрече с мужчиной, о важном событии в жизни, о вкусном ужине или приятном вечере. «Я сохраняю все шмотки, сопровождавшие меня в определенные моменты жизни, это дарует мне право пересматривать их, сидя на полу в моей гардеробной под кровом плечиков и воспоминаний» (Орбэн 2005: 21). Таким образом, в мире, который Уэльбек сравнивает с супермаркетом, в обществе потребления плечики приравниваются к воспоминаниям, превращая последние в еще один объект потребления (Уэльбек 2004). Наряду с воспоминаниями и прочие ценности, так или иначе связанные с понятием времени, также становятся предметом покупки, на чем активно спекулируют рекламные описания различных брендов: приобретая швейцарские часы, человек заодно превращается во владельца вечности, а разгуливая в итальянском костюме ручной работы, он попутно является хранителем лучших портновских традиций, которые он бережно хранит в своем шкафу на вешалке.
Диалектика на полке
Шкаф – не просто вместилище воспоминаний, но вместилище, где воспоминания упорядочены. На эту упорядоченность обращает внимание Г. Башляр в «Поэтике пространства»: «В шкафу находится средоточие порядка, благодаря чему весь дом защищен от безграничного хаоса» (Башляр 2004: 82). Шкаф – это космос в миниатюре, где вещи-планеты четко закреплены на своих полках-орбитах. Шкаф, в котором вещи разбросаны как попало, обнажает хрупкость бытия. Хаос в шкафу – сродни концу света.
Шкаф, как и мироздание, сложен по своей структуре. Стол и кровать – это четыре ножки и горизонтальная плоскость. Шкаф же – коробка с полками, ящиками, ячейками, дверями, замочками, ручками, зеркалами, вешалками, крючками… Он буквально перегружен деталями.
Рассуждая о диалектике единого и многого, А.Ф. Лосев в «Философии имени» выбирает в качестве примера именно шкаф. Конечно, он мог бы выбрать любую другую вещь, любой другой предмет мебели, но выбрал шкаф, который в данном случае не просто facon de parler, а концепт: «…один и тот же шкаф и един и множествен, один и тот же шкаф есть и целое и части, один и тот же шкаф есть целое, не содержащееся в отдельных частях (ибо каждая часть не есть целое) и в то же время только в них и содержащееся (ибо не может же шкаф находиться сам вне себя)» (Лосев 1990: 15). Лосев спорит с классическими метафизиками, доказывает, что единое может быть одновременно и многим, так как является целым. Шкаф здесь выступает как метафора бытия, как модель мироздания, которое и едино и множественно.
Клозет и келья
Шкаф – субъект немногословный, скрытный. В отличие от кровати или стола, которые являют нам голые плоскости, требующие прикрытия (скатертью или простыней), шкаф – сооружение с дверьми, к которым еще надо подобрать ключ и которые надо открыть. Чтобы увидеть за ними особый тайный мир.
К себе приковывал он взгляды постоянно, // Он заставлял мечтать о тайнах, спящих в нем, // За дверцей черною, что заперта ключом, – писал А. Рембо (Рембо 1982: 43).
Прояснить скрытые смыслы шкафа поможет его знаменитый английский «родственник» – closet. В русском языке это слово укрепилось как один из многочисленных эвфемизмов туалетной комнаты – «клозета» (от англ. water closet). Однако в современном английском основное значение closet – именно шкаф. Но и это значение возникло не сразу. В XIV веке под closet понимали келью, монашескую комнату, – маленькое закрытое помещение. Келья – комната для размышлений и молитв, комната уединения, где человек остается один на один с собой и мыслями о тайнах бытия. Келья – свидетель добровольного изгнания человека из суетного мира, добровольного стремления быть одному, изолировавшись от других людей. Келья – место, где человек спрятан от соблазнов мирской жизни. Клозет в русском значении взял от кельи такие признаки, как запертость, уединенность, скрытость. То, что человек делает за закрытыми дверями клозета, не предназначено для посторонних глаз – это тайна с привкусом стыдливости. Клозет – девальвированная келья, место, где высокие духовные тайны подменены физиологическими. Впрочем, в современной европейской культуре клозет отчасти остается «одухотворенным» местом. Ведь клозет – это еще и «комната размышлений» (распространенный эвфемизм) и «комната отдыха», в которой часто лежат книги и в которой люди нередко любят задержаться, чтобы заодно и подумать.
Шкаф-closet унаследовал от кельи и клозета скрытность, бережно охраняемую тайну. В шкафу прячут «скелеты» (тайны, о которых не следует знать посторонним), постыдные тайны. Чтобы быть точным, надо отметить, что в шкафу хранятся скорее не тайны, а секреты – отсюда и одно из воплощений шкафа – «секретер». О разнице между тайной и секретом писал Голосовкер в своем исследовании «Достоевский и Кант»: «[смысл] у слова „тайна” – обычно противоположный смыслу слова „секрет”, т. е. положительный, глубокий, утверждающий смысл, то время как в слове „секрет” как будто таится нечто негативное, предостерегающее, нечто подмигивающее, интригующее и злокозненное» (Голосовкер 2010: 325).
Детские миры
Являясь символом мироздания, тайным миром, шкаф и сам оказывается проводником в иной мир. Двери, как правило, являются пороговым символом, соединяющим разные пространства, разные миры. Шкаф-портал мы найдем в детских сказках, в фэнтези, например в приключениях Гарри Поттера, в которых фигурирует «исчезающий шкаф» (vanishing cabinet) (Роулинг 2003: 10), являющийся по сути волшебным коридором, дорогой в магические пространства.
У К.С. Льюиса девочка Люси находит большой платяной шкаф, залезает внутрь и видит, «что за первым рядом шуб висит второй», за которым оказывается вовсе не стенка, а лес. «Она оглянулась через плечо: позади между темными стволами деревьев видна была раскрытая дверца шкафа и сквозь нее – комната, из которой она попала сюда. Там, за шкафом, по-прежнему был день. „Я всегда смогу вернуться, если что-нибудь пойдет не так”, – подумала Люси и двинулась вперед» (Льюис 2006: 101). За дверцами шкафа таится волшебство. Этот мир особенный, со своими законами, немного пугающий, темный, но манящий.
Как и герои Льюиса, герои Джона Краули в романе «Маленький, большой» (Краули 2004) тоже из шкафа попадают в лес. Этот навязчивый образ леса не случаен. Что такое лес относительно шкафа? Это прошлое шкафа, это деревья, которые послужили материалом для него. Шкаф был лесом в прошлой жизни, чтобы стать шкафом, дереву пришлось умереть…
Таким образом, получается, что, попадая из шкафа в лес, герои попадают в «мир иной», в царство смерти. Для своей сумрачной жизни после смерти именно шкаф чаще всего выбирают и привидения из кинострашилок для детей (например, в фильмах «Полтергейст» (1982), «Монстры» (1993)). Также привидения живут в шкафах, нарисованных в комиксах: «Bloom County», «Opus the Penguin».
В гробу видели…
В поэтике шкафа отчетливо присутствует образ смерти, который раскрывается не только через иные миры, находящиеся за его дверями, но и через облик, через его структуру. Шкаф часто выступает как метафора гроба. Как, например, у Г.Г. Маркеса в «Палой листве»: «От маминой головы исходит жаркий, тяжелый запах шкафа, запах прелого дерева, который снова напоминает мне о тесноте гроба. У меня спирает дыхание. Шкаф пахнет мертвым „прелым” деревом» (Маркес 2001: 7).
Символ зловещего секрета, постыдной тайны, которую человек тщательно скрывает от других, – скелет в шкафу. Ну конечно, скелет, где ему еще и быть, как не в шкафу, так напоминающем гроб.
В шкафу-гробу, скрывающем зловещие «скелеты», живет и Родион Раскольников Ф.М. Достоевского. Причем образ смерти нагнетается в романе постепенно. В начале книги Достоевский приводит сравнение, что каморка Раскольникова «похожа на шкаф или на сундук» (Достоевский 1957: 5). Федор Михайлович возвращается к этому образу несколько раз. Кому в тексте кажется, что квартира похожа на шкаф? Это точка зрения сначала писателя-рассказчика, а позже и самого Раскольникова: «Но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все это вот уже более месяца, и он пошел куда глаза глядят» (там же: 58). Образ «гроба» появляется в романе благодаря постороннему взгляду – так видит жилище сына мать Раскольникова: «Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб, – сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание, – я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик» (там же: 240).
Итак, шкаф оказывается сложной структурой, в которой можно наблюдать сосуществование различных поэтических смыслообразов, которые раскрываются на двух основных уровнях – психологическом (шкаф как метафора памяти, мышления) и метафизическом (шкаф как образ космоса, хаоса и мироздания, бытия и небытия). А ключ, отпирающий эти смыслы, живущие в поэтическом поле, глубоко укоренен в культуре, показывающей себя в первую очередь в литературных и философских произведениях.
Поэтика сказки: пряхи и башмачники[2]
Будь что будет – все равно. Парки дряхлые, прядите Жизни спутанные нити, Ты шуми, веретено. Все наскучило давно Трем богиням, вещим пряхам: Было прахом, будет прахом, – Ты шуми, веретено. Д. Мережковский. Парки Картину раз высматривал сапожник И в обуви ошибку указал; Взяв тотчас кисть, исправился художник. Вот, подбочась, сапожник продолжал: «Мне кажется, лицо немного криво… А эта грудь не слишком ли нага?»… Тут Апеллес прервал нетерпеливо: «Суди, дружок, не свыше сапога!» А.С. Пушкин. СапожникСлуги натянули узкие и тяжелые башмаки на королеву.
Затем старая карга дала ей ужасное веретено, колющее пальцы до крови, и спутанный клубок паутины.
Ш. Перро. Зеленая змеяЕще одна любимая дизайнерами область для вдохновения – сказки. Сказочные образы, сказочные мотивы, сказочные персонажи нередко становятся темой работ модных домов. Так, в 2012 году накануне Рождества в витринах лондонского Harrods стояли десять манекенов в платьях принцесс из мультфильмов Диснея: спящая красавица от Elie Saab, Бэлла из «Красавицы и Чудовища» от Valentino, Золушка от Versace, Белоснежка от Oscar De La Renta и др. Вообще, Золушка, Алиса в Стране чудес, заколдованная принцесса – постоянные поводы для вдохновения дизайнеров. Некоторые ищут в сказках идеи для фигуративных принтов и форм. Украшения со сказочными фигурками можно время от времени встретить у многих ювелиров – Chopard, Van Cleef & Arpels, Faberge, Frey Wille. В 2014 году у часового дома Van Cleef & Arpels появилась коллекция Peau d’Ane по мотивам сказки «Ослиная шкура». В зимней коллекции Etro 2012 года были сумки, на которых изображались Царевна-лягушка, Братец кролик, Лис и герои из «Алисы в Стране чудес». Коллекция осень – зима 2015 года Dolce & Gabbana практически полностью посвящена сказочным символам: золотые ключики, белые лебеди, совы, царевны-лягушки украшают платья, плащи и костюмы.
Отдельное увлечение дизайнеров – «сказочная» обувь. В 1989 году ювелирный дом Harry Winston представил копию красных туфель Дороти в честь пятидесятилетия фильма «Волшебник страны Оз». В туфли было инкрустировано около 5000 рубинов, а на закрепление драгоценных камней ушло два месяца. В 2003 году американский обувщик Стюарт Вайцман выпускает красные босоножки с 642 рубинами по мотивам этого же фильма. Спустя десять лет английский дизайнер Николас Кирквуд и канадский обувщик Джером Руссо создают коллекции обуви, вдохновленные новым фильмом студии Walt Disney «Оз: великий и ужасный». Героиней современных обувщиков становится также Золушка. В 2012 году модельер Марк Джейкобс разрабатывает дизайн золушкиных туфелек – лодочек с округлым мысом из полимера, имитирующего хрусталь. Кристиан Лубутен в том же году создает лимитированную коллекцию туфель по мотивам диснеевского мультфильма про Золушку и декорирует их кристаллами и кружевом. «Сказочность», «волшебство» хорошо продаются. Гораздо лучше, чем сами туфли. Поэтому построение прочных ассоциативных связей обувной продукции со сказочностью, магией, волшебством, наряду с другими концептами (например, престижности, индивидуальности, уникальности), стимулирует продажи: потребителю дарят сказку, а не продают новые туфли или платье.
Но и сами сказки не оставляют в стороне «мир моды». Правда, если для дизайнеров сказка – подходящий элемент «мудборда» (то есть коллажа, который служит для отражения настроения и тематики будущей коллекции), часто романтизированный объект вдохновения, составляющая концепции коллекции – в общем нечто положительное и продуктивное, то для старинного рассказчика волшебной истории тот, кто одевает, обувает, наряжает, – фигура, мягко говоря, неоднозначная.
Портные – плуты, обманщики, хвастуны. Башмачники – проныры, чужестранцы и оборванцы. Ну а если в повествовании появляются пряхи, прялки, прядение, кудель, веретена, иглы, то, как говорится, жди беды: образы, связанные с изготовлением ткани, почти всегда несут в себе негативные или зловещие смыслы.
Пряхи и прялки
Смерть и судьба
В русской народной сказке «Гуси-лебеди» Баба-яга прядет кудель и, уходя топить баню, чтобы потом девочку «зажарить и съесть», приказывает ей сесть за прялку. Девочка прядет в ожидании своей смерти. В «Спящей красавице» старая колдунья предсказывает новорожденной принцессе смерть от укола веретеном. Дальше, как известно, король приказывает уничтожить в королевстве все веретена, но это не помогает – подросшая принцесса встретит старуху с веретеном, захочет узнать, что это за вещь, уколет палец и замертво упадет на каменный пол комнаты. В обеих сказках веретена оказываются предвестниками смерти. Да и сама ткань смертоносна, как в «Белом льне», где мать получает предсказание, что ее дочь умрет от льна, и предсказание сбывается – дочь прядет, волосок льна попадает под ноготь, она падает без чувств и оживет, только когда эту ворсинку вынут (Белый лен 2012: 51–60). Похожий сюжет и в сказке итальянского писателя XVII века Джамбатисты Базиле «Солнце, Луна и Талия», где принцесса Талия засыпает вечным сном, уколовшись льняным волокном.
Мотив смерти присутствует также в шутливой форме и в сказке братьев Гримм «Ленивая пряха». Нерадивая жена, не желающая прясть, придумывает для мужа предлог, чтобы отсрочить ненавистное занятие, и посылает его в лес за деревом для нового мотовила (палки, на которую наматывают пряжу). А сама бежит вслед за мужем, прячется в кустах и, когда он собирается срубить дерево, кричит: «Кто дерево для мотовила рубит – умрет, а кто мотает – тот себя погубит» (Гримм 1957: 515). Она проделывает этот фокус трижды, пока муж, наконец, не оставляет идею с мотовилом.
К мотивам опасности, дурного предзнаменования, смерти присоединяется мотив судьбоносности. Так, в сказке Андерсена «Дикие лебеди» братья принцессы Эльзы превращаются в лебедей, и, как объясняет героине фея, чтобы снять заклятье, девушка должна нарвать крапивы на кладбищах и сплести из нее рубашки для братьев – тогда они опять станут людьми. «Но помни, что с той минуты, как ты начнешь работу, и до тех пор, пока не окончишь, пусть даже она растянется на годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, как смертоносный кинжал пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь и смерть будут в твоих руках», – добавляет фея (Андерсен 1969а: 88–110). Здесь образы смерти в связи с изготовлением полотна присутствуют подспудно (упоминается кладбище, слово сравнивается со смертоносным кинжалом). Прядение несет уже не смерть, а спасение, и на первое место выходят именно смыслы «судьбоносности» (жизнь и смерть в руках прядущей Эльзы). Ту же «судьбоносность» можно проследить и в упомянутой «Спящей красавице». В первых редакциях сказки Шарля Перро и братьев Гримм («Шиповничек»), в отличие от некоторых других вариантов, принцесса, отправившись гулять по замку, встречает не злую, замыслившую погубить ее колдунью, а простую старушку, прилежно прядущую пряжу (Гримм 1957: 215), старушку, «которая давным-давно не выходила из своей каморки и слыхом не слыхивала о старой колдунье, зловещем предсказании и королевском указе» (Перро 1936: 14). Здесь важно, что старушка несведуща, приносит несчастье ненамеренно и является лишь исполнителем, «орудием» судьбы.
Мотивы судьбы и смерти сплетены в образе прядения и в гомеровской Одиссее. Пенелопа, стараясь избежать свадьбы с одним из многочисленных сватающихся к ней женихов (то есть желая изменить судьбу), говорит, что должна соткать погребальный саван для отца Одиссея Лаэрта:
Вот что, мои женихи молодые, ведь умер супруг мой, Не торопите со свадьбой меня, подождите, покамест Савана я не сотку, – пропадет моя иначе пряжа! — Знатному старцу Лаэрту на случай, коль гибельный жребий Скорбь доставляющей смерти нежданно его здесь постигнет (Гомер 1986: 14).Днем Пенелопа ткет, а ночью распускает ткань, таким образом пытаясь отсрочить неизбежное, пытаясь стать хозяйкой судьбы:
Ткань большую свою весь день я ткала непрерывно, Ночью же, факелы возле поставив, опять распускала (там же).Распуская пряжу, она как бы отодвигает смерть (Лаэрта) и свадьбу (свою) – два ключевых события человеческой судьбы, два ключевых момента «перехода» – смены статуса, места проживания, сопровождаемых множеством ритуалов.
Кстати, ту же связь прядения и судьбоносного «перехода» можно найти и у Пушкина в «Сказке о царе Салтане». С одной стороны, сцену с тремя девицами под окном, что «пряли поздно вечерком», можно воспринимать как бытовую зарисовку: девицы пряли, болтали – чем еще заниматься девицам. Но в тот момент, когда они пряли, судьба всех троих резко переменилась. Осознанно или нет, Пушкин в этом зачине снова репродуцирует сказочно-мифологическую связь прядения с судьбоносностью.
Если действительно обратиться к мифам, то становится понятно, почему в сказках невинное шитье, беспечное прядение и ткачество всегда сопровождаются вызовами судьбы и почти всегда сопряжены с образами смерти. «Три старухи, одна с другой схожи, // У дороги сидят, // И прядут, и сурово глядят… // Все такие противные рожи!» – высмеивал Генрих Гейне богинь судьбы (Гейне 1904: 87, 88). Эти богини судьбы – одновременно и богини смерти, и все они пряхи. Греческая мойра Клофо или ее «сестра», римская парка Нона, прядут нить жизни, греческая «пряха» Лахесис и римская Децима наматывают нить жизни на веретено, а богини Атропос и Морта перерезают эту нить и являются провозвестницами смерти.
Судьба и смерть – и в руках Афины, богини мудрости и справедливой войны. Афина – с одной стороны, женский аналог воинственного Зевса, а с другой – полноценная «женская богиня, которая ведает плодородием, а также «всегда рассматривается в контексте художественного ремесла, искусства, мастерства. Она помогает ткачихам и рукодельницам» (Лосев 1980: 126) и ткет сама. Дело ее рук – например, плащ, вытканный для героя Ясона (там же: 128). И именно Афина превращает ткачиху Арахну в паука, не потерпев, что в своем искусстве простая смертная спорит с ней. «В мысли пришла ей судьба меонийки Арахны. Богиня // Слышала, что уступить ей славы в прядильном искусстве // Та не хотела…» (Овидий 1977: книга VI). Ткачество – удел богинь и наказание смертных.
Интересно, что славянская богиня-мать Мокошь (Макошь, Макоша, Макеша), по некоторым версиям исследователей, – тоже пряха. Так, В. Иванов и В. Топоров считают, что имя Мокоши происходит от индоевропейского «mokos» – прядение и что типологически Мокошь близка к греческим мойрам (Иванов, Топоров 1982: 175–187). Эта интерпретация подтверждается и в художественных источниках. Взять, например, произведение русского писателя-стилиста рубежа XIX–XX веков Алексея Ремизова «К Морю-Океану»: «На прибойном сыром берегу вещая Мокуша, охраняя молнийный огонь, щелкала всю ночь веретеном, пряла горящую нить из священных огней» (Ремизов 1909: 48, 49).
Образы мифологических прях перекочевали во многие сказки. Метафорически у Пушкина те «три девицы» – переосмысленный образ «трех прях», прекрасных парок или зловещих нарний. Прямо-таки «портретное» сходство с богинями судьбы можно найти в «Трех пряхах» братьев Гримм. Главную героиню, которая не любит прясть, берет себе на службу королева и дает ей задание переработать весь хлопок, который есть во дворце. Девушка встречает трех женщин, которые и делают за нее всю работу. Нигде в сказке не говорится, что они ведьмы или феи. Их называют пряхами, женщинами или старухами. На их «сверхчеловечность», причастность к потустороннему миру указывают их физиологические особенности: «…и была у одной из них ступня широкая, а у другой такая толстая нижняя губа, что прямо вся к подбородку свисала, а у третьей был широкий большой палец» (Гримм 1957: 69–70). Подобными внешними уродствами снабжает богинь судьбы старший современник братьев Гримм, живописец Гойя, в своей картине «Парки». Там у одной из старух-парок оттопырена губа, у другой – скрюченные опухшие пальцы.
Отсылками к мифологическому образному полю пронизана и «Спящая красавица». Состояние, в которое впадает Спящая красавица, уколовшись веретеном, – полусон-полусмерть (слишком долгий, вековой сон, слишком «живая» смерть): «Трудно описать словами, как хороша была спящая принцесса. Она нисколько не побледнела. Щеки у нее оставались розовыми, а губы красными, точно кораллы») (Перро 1936: 14). Это «мерцание» сна-смерти – древнее мерцание мифологических смыслов: согласно Гесиоду, Гипнос, бог сна, – сын богини ночи Нюкте и брат Танатоса, бога смерти. («Там же имеют дома сыновья многосумрачной Ночи, Сон со Смертью – ужасные боги» (Гесиод 1963: 720).) И обоим божествам сестрами приходятся пряхи-мойры. В LIX Орфическом гимне, посвященном мойрам, они названы «чадами любимыми Ночи» (Нюкте): «О беспредельные Мойры, о чада любимые Ночи! // Вам, о имущие много имен, я молюсь, о жилицы // Области мрачного моря, где теплые волны ночные» (Гесиод 1963: 407). История Спящей красавицы – переосмысленный миф, в логику которого укладываются и зловещая фея-предсказательница (воплощение Клофы, прядущей нить судьбы), и встреча принцессы со старухой с веретеном (пряха Лахетис) и ее последующее погружение в сон-смерть (Гипнос-Танатос). В полной версии сказки Перро, помимо злой колдуньи и старушки с веретеном, фигурирует и третья зловещая женщина – мать принца, людоедка (Перро 1936: 19). Ее можно соотнести и с богиней ночи Нюкте (людоедка приказывает убить детей Принца и Спящей красавицы, которых зовут «Утренняя заря» и «Ясный день», то есть людоедка противопоставляется детям именно через дихотомию ночь – день, мрак – свет), и с третьей, самой зловещей мойрой, Атропос, обрубающей нить жизни.
Наказание и страдание
Хорошие (положительные) или просто главные (нейтральные) героини сказок стараются избегать занятия прядением. А если и прядут вроде бы добровольно, как Эльза в «Диких лебедях», то это в большинстве случаев служит им наказанием или испытанием. Для удовольствия «хорошие» герои почти никогда не прядут. Они бегут прядения как смерти (как мы видели выше, в мифах эта образная пара смерть – прядение соединяется напрямую: богини-пряхи – вестницы смерти).
Девушку из «Трех прях» просит работать сначала мать, потом королева, и в сказке постоянно подчеркивается, что она терпеть не может прясть, при этом «рассказчик» не упрекает и не наказывает героиню за лень. Героиня «Ленивой пряхи» тоже никак не осуждается автором-рассказчиком, напротив, читатель с усмешкой следит, как она обманывает мужа, чтобы привести сказку к благополучному финалу, к избавлению от прядения («Мне надо отлучиться по делу, а ты вставай да за пряжей присмотри; она лежит в котле и вываривается. За ней надо вовремя присмотреть, ты поглядывай повнимательней, а то, когда запоет петух, а ты не досмотришь, обратится пряжа в паклю. Подошел муж к котлу, глянул в него и, к ужасу своему, увидел в нем один лишь сплошной комок пакли. Промолчал бедный муж, ничего не сказал и подумал, что он прозевал, видно, и сам виноват») (Гримм 1957: 516).
Прядение описывается в сказках как самая тяжелая, самая нежелательная работа. Показательно, что в «Василисе Прекрасной» мачеха раздает задания дочерям, и именно нелюбимой падчерице Василисе достается прядение («Мачеха раздала всем трем девушкам вечерние работы: одну заставила кружева плести, другую чулки вязать, а Василису прясть») (Афанасьев 1984а: 127–132).
Если «хорошая» героиня и прядет, то делает это не просто, не по доброй воле, и испытывает физическое страдание. Прядение оставляет метки на теле. Эльза искалывает себе руки крапивой. Девушка из «Госпожи Метелицы», которую заставляет прясть мачеха, стирает руки до крови («Бедная девушка должна была каждый день сидеть на улице у колодца и прясть пряжу, да так много, что от работы у нее кровь выступала на пальцах») (Гримм 1957: 113). Иногда страдания или увечья показаны в перспективе, как в «Трех пряхах» – в разговоре жениха с ведьмами-пряхами:
И он подошел к той, у которой была широкая ступня, и спрашивает:
– Отчего это у тебя такая широкая ступня?
– От работы на прялке, – ответила она, – от работы на прялке.
Потом подходит жених ко второй и спрашивает:
– Отчего это у тебя губа такая отвисшая?
– Оттого, что лен смачивала, – ответила она, – оттого, что лен смачивала!
Спросил он третью:
– Отчего у тебя палец такой широкий?
– Оттого, что нитки сучила, – ответила она, – оттого, что нитки сучила! (Гримм 1957: 70).
У последней сказки счастливый конец, который, помимо свадьбы, обозначен немаловажной деталью: принц, увидев уродства трех прях, говорит своей молодой жене, что больше не позволит ей прясть. («„С этой поры никогда моя милая невеста не должна к прялке и близко подходить”. Так избавилась она от ненавистной ей пряжи» (там же).
Не только в этой сказке, но и во многих других присутствует мотив освобождения или ограждения от «страдания-наказания». Освобождение, подобное тому, что описано в «Трех пряхах», дублируется и в «Ленивой пряхе» («С той поры никогда уже больше он [муж ленивой пряхи] не заговаривал ни о прядеве, ни о пряже») (Афанасьев 1984а: 120, 121). Примеры ограждения находим в «Спящей красавице» (король приказывает сжечь веретена) и в сказке «Гуси-лебеди» (мышь берется прясть за девочку, чтобы та убежала). В Крошечке-Хаврошечке (за девочку ткет и прядет корова). У Пушкина, где выбранная царем в жены девица больше никогда не прядет. Да и в «Царевне-лягушке», где чудесный ковер ткет не Василиса Прекрасная, а ее помощницы, «мамки-няньки» (Афанасьев 1984б: 260–267).
На границе миров
Помощники у героев в основном не простые – это пограничные персонажи между миром живых и миром мертвых. Уродливые пряхи из «Трех прях» – метафорическое воплощение богинь судьбы и смерти. Корова Хаврошечки – умершая мать: в частности, Веселовский относит сказку про Крошечку-Хаврошечку к разновидности тотемических сюжетов – «покойная мать является чудесной помощницей дочки в виде бурой коровы» (Веселовский 2011: 523). Куколка в «Василисе Прекрасной», которая помогает героине сладить с мачехой и Бабой-ягой, а также мастерит для Василисы веретено, на котором потом будет соткана тончайшая, невиданная ткань, – подарок умершей матери, собственно, символ умершей матери. А мышь («Гуси-лебеди») – одно из воплощений Бабы-яги. О связи Бабы-яги и мыши и их взаимозаменимости в сказочных сюжетах и ритуалах подробно писал А. Потебня: в частности, он обращал внимание на то, что некоторые славянские и немецкие имена Яги указывают на мышь, а у разных славянских народов молочные зубы дети «дарят» то мыши, то Бабе-яге (Ежи-Бабе у чехов, мыши в Хорватии (Потебня 2000).
В мифологическом образе Бабы-яги прослеживается и связь с прядением, о чем также пишет Потебня, приводя в пример ее немецкие аналоги, Гольду и Берхту, в обязанности которых входит надзирать за пряхами, одаривать прилежных и наказывать ленивых работниц (там же: 158–160).
Становится понятно, почему в сказке «Гуси-лебеди» Баба-яга просит героиню прясть, дает ей кудель, и почему именно с прядением связано зловещее предсказание злой феи (тоже аналог Бабы-яги) в «Спящей красавице»: Баба-яга и ее «духовные» сестры – пряхи.
В сказке «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» эта связь прядения с Бабой-ягой прослеживается на нескольких уровнях. Марья-царевна, жена стрелка Андрея, прядет ковер, «какого в целом свете не видывали» (Сказки 2005: 22) – с этого ковра начинаются злоключения стрелка: он попадает на тот свет и в царство Кота-баюна. Потом Марья-царевна дает мужу клубок, и эта «нить Ариадны» приводит его к Бабе-яге, которая встречает его, прядя кудель. Позже выясняется, что рукодельница Марья-царевна – дочь Бабы-яги. Кроме того, интересно, что у Бабы-яги есть помощница – «лягушка-скакушка». Дружеские отношения лягушки и Бабы-яги наводят на мысль, что и Царевна-лягушка из другой сказки, ткавшая роскошный ковер, – тоже товарка Бабы-яги. Сказочных девушек роднит еще и то, что они обе – обортни (Марья-царевна – горлица).
Герои, ведающие прядением, а также помощники нерадивых прях существуют на границе миров, а само прядение – это занятие, открывающее двери в потусторонний мир, в мир мертвецов и колдунов, в мир предков и вечности. И логично, что один из главных сказочных персонажей, являющихся символом загробного мира, Кощей Бессмертный тоже по-своему связан с прядением. По одной из распространенных сказочно-сюжетных версий, его смерть – в игле (игла в яйце, яйцо в утке, утка в зайце, заяц в ларце и т. д.). «Считается, что многочисленные загадки про иголку и нитку выявляют связь иглы с идеей движения, контакта с „иным миром”. Таким образом, атрибуты смерти Кощея – это не просто случайный набор… Все они имеют важное культурно-мифологическое значение, связаны с символикой смерти, одним из образов которой называют иногда Кощея», – в частности, отмечает в своем исследовании Н. Кротова (2005).
Сказочный условно-загробный мир имеет свою особую структуру. «Условно-загробный», потому что в сказках напрямую никогда он таковым не называется; просто практически любой выход героя из дома – путь в поле, а затем в лес является дорогой к миру предков. «Сказочный лес, с одной стороны, отражает воспоминание о лесе как о месте, где производился обряд, с другой стороны – как о входе в царство мертвых», – пишет В. Пропп (Пропп 1998: 146–158).
Иногда входом в царство мертвых служит не просто некая местность, а «порталы» – проходы со своими пограничными героями – стражами. Эти порталы служат, благодаря героям-медиаторам (тем, кто попадает в царство мертвых, а потом возвращается оттуда) связующим звеном между двумя мирами. Один из часто встречающихся порталов – колодец, а один из главных его стражей – Баба-яга. «Яга постепенно выясняется перед нами как охранительница входа в тридесятое царство и вместе с тем как существо, связанное с животным миром и с миром мертвых», – отмечает В. Пропп (там же: 165). Потебня развивает эту мысль, указывая на связь Яги с колодцем: Яга и ее вариативные сестры из сказок разных народов воруют или даруют детей, используя для этой цели колодец, иногда указывают героям волшебный источник (живую-мертвую воду в колодце и т. д.) (Потебня 2000: 157, 158). А Гольда, которую Потебня соотносит с «личностью» Бабы-яги, владеет колодцем, в котором обитают души нерожденных и умерших (там же: 158).
Яга тождественна Пятнице – продолжает Потебня – значит, и родственна Мокоши (там же: 256). О тождестве Мокоши и Пятницы находим у Иванова и Топорова, которые говорят, что в православии роль Мокоши взяла на себя святая Параскева Пятница (Иванов, Топоров 1982: 344). Кроме того, Топоров и Иванов двояко рассматривают этимологию имени Мокоши – помимо «mokos», «прядение», о чем упоминалось выше, второе значение этого слова – «мокнуть». И оба этих значения сопряжены в обряде, посвященном «преемнице» Мокоши – Параскеве Пятнице. Обряд «мокрида» состоял в бросании пряжи или кудели в колодец (там же). Пряжа (пряха), а также колодец (вода) сопряжены с обрядами и мифологическими образами жизни и смерти, рождения и гибели. Итак, круг образов замкнулся: загробный мир – Яга (Пятница, Мокошь) – колодец – пряжа – пряха – жизнь – смерть.
В этом контексте интересно рассмотреть сказку «Госпожа Метелица». Героиня сказки роняет в колодец веретено и прыгает вслед за ним: «И вот случилось однажды, что все веретено залилось кровью. Тогда девушка нагнулась к колодцу, чтобы его обмыть, но веретено выскочило у нее из рук и упало в воду» (Гримм 1957: 113). Дальше героиня попадает в волшебную страну, в которой правит госпожа Метелица. Или, расшифровывая сказочный язык, попадает через колодец-портал в загробный мир, где ее встречает страж (Метелица).
Госпожа Метелица – вроде бы совсем не Баба-яга, а строгая, добрая старушка-фея. Но это только на первый взгляд. Метелица укладывается в поэтическое поле Бабы-яги. Первое, что выдает эту связь, – зубы: «у старухи зубы большие-пребольшие, и напал на девушку страх» (там же). Сама Яга тоже часто изображается с гипертрофированными зубами, которые она точит: «на печи, на девятом кирпичи, лежит Баба-яга костяная нога, нос в потолок врос… сама зубы точит» («Царевна-лягушка») (Афанасьев 1984б: 263). Ну и, опять же, на мысль о тесной связи Метелицы и Бабы-яги наводит колодец, находящийся в ведении обоих персонажей, а веретено в «Метелице» или кудель в сказке «Гуси-лебеди» подчеркивают их причастность к прядению.
Основное занятие госпожи Метелицы – творить зиму («Только смотри, стели как следует мне постель и старательно взбивай перину, чтобы перья взлетали, и будет тогда во всем свете идти снег») (Гримм 1957: 114). Но и в этом аспекте мы снова наталкиваемся на «родственную» связь госпожи Метелицы с Ягой. Последняя тоже ведает зимой: «Вероятно тождество Яги и Мары-Марены, образа смерти и зимы», – пишет Потебня и приводит среди прочего в пример сюжет одной словацкой сказки, где «Стрига Яга и сама дрожит от холоду и морозом превращает в камень богатыря» (Потебня 2000: 184). У Бабы-яги, Марены и Метелицы, таким образом, обнаруживаются еще «сестрицы» – Снежная королева Андерсена, повелевающая зимой и снегами и живущая в загробном царстве («Наконец порешили, что он (Кай. – И.О.) умер, утонул в реке» (Андерсен 1969а: 296), а он оказался в „чертогах” Снежной королевы»), и Ледяная дева из скандинавского фольклора – символ зимы и смерти.
Модные дизайнеры тоже «ведают» зимой, а также другими сезонами, стоят на границе двух миров (реального и воображаемого – существующего и моделируемого). Мотивы волшебства, инобытия, превращения в современном мире сопровождают восприятие образа Кутюрье – того, кто работает с тканью, преображает тело, создает из хаоса и хаотичности материи и материала особый мир, мир моды. И эти мотивы сопровождают «кутюрье» неслучайно – в основе представлений оказываются мифические и сказочные проекции.
Обувь и обувщики
Беден и стар, стар и беден
Фигура башмачника в сказочной литературе имеет свои образные константы. Башмачник, как правило, беден или стар или и беден, и стар одновременно, как в «Чудесной башмачнице» Федерико Гарсия Лорки (это, конечно, не сказка, а «простой фарс», как Лорка сам говорил про эту пьесу, комедия на бытовую тему, но в ней заложены все сказочные коды поэтики образа башмачника). Башмачник Гарсии Лорки «смотрит в зеркальце и считает морщины на лице. Одна, две, три, четыре… тысяча» (Лорка 1975: 333). Бедность Башмачника Гарсии Лорки никак не раскрывается с финансовой точки зрения – он бедный в значении «несчастный»: «Весь день галантный кавалер // ведет с хозяйкою беседу, // меж тем как бедный старый Муж // над кожей трудится усердно» (там же: 356). Бедность материальная описывается в «Маруфе-башмачнике». Маруф говорит, что «по ремеслу он башмачник», и добавляет, что «бедняк», а его профессия – «ставить заплатки на старые сапоги» (Маруф 1986: 588). Беден также и герой из сказки братьев Гримм «Домовые»: «Жил-был сапожник, да не по своей вине так обеднел, что остался у него напоследок всего только кожи кусок на пару башмаков» (Гримм 1957: 176).
Отчасти причина бедности и несчастий – плохая жена. Жена-ведьма – постоянный мотив историй про башмачников. Героиня «Чудесной башмачницы» Гарсии Лорки – гипертрофированно плохая жена. Соседка обзывает ее «ведьмой», она скандальная, взбалмошная, неверная и окружена кавалерами: «Моя жена… меня не любит, только и знает, что переговариваться с мужчинами через окно») (Лорка 1975: 337). А вот как описывается жена Маруфа-башмачника: «У него была жена по имени Фатима, а по прозванию ведьма, и прозвали ее так потому, что она была нечестивая злодейка, бесстыдница и смутьянка. И она властвовала над своим мужем, и каждый день ругала его и проклинала тысячу раз; а он страшился ее злобы и боялся ее вреда» (Маруф 1986: 580). Жена фигурирует и у братьев Гримм в сказке «Домовые». Она подается безоценочно – просто жена. Но ведь именно она решает сшить гномам одежду, после чего те перестают помогать башмачнику, то есть приносит неприятности своими действиями, разрушает волшебство.
У жены-ведьмы есть важная функция: она провоцирует героя-башмачника к бегству, и из-за нее он отправляется в большое путешествие. От жены сбегает герой «Чудесной башмачницы» («Башмачник: Ну да, конечно, теперь в городе только и разговору будет что обо мне, да о ней, да о парнях! Разрази гром мою сестру, упокой, господи, ее душу! Нет, уж лучше уйти, а то все будут на меня пальцем показывать. (Быстро уходит, оставив дверь открытой») (Лорка 1975: 337). Спасается бегством и Маруф-башмачник: «Куда я убегу от этой распутницы? И стена вдруг расступилась, и к нему вышло из стены существо высокого роста, от вида которого волосы вставали дыбом на теле… И тогда Маруф рассказал ему обо всем, что случилось у него с женой, и дух спросил: „Хочешь, я доставлю тебя в страну, куда твоя жена не найдет к тебе дороги?” И он купил на четыре полушки хлеба и на полушку сыра, убегая от Фатимы, и было это во время зимы, после полудня» (Маруф 1986: 584–585).
Шут и плут
В историях про башмачников герой всегда возвращается из путешествия преображенным, измененным. Связь путешествия, обуви и преображения отмечает Хилари Дэвидсон в своем исследовании «Секс и грех. Магия красных туфелек» (Дэвидсон 2013: 220). В «Маруфе-башмачнике» Маруф становится королем, в «Чудесной башмачнице» – шутом: «Входит Башмачник в костюме Петрушки. В руках у него рожок, за спиной свернутая в трубочку лубочная картинка». Башмачник теперь читает стихи, поет, шутит – веселит соседей» (Лорка 1975: 352).
Что это за преображающее путешествие? Почему путешествие преображает, меняет человека? Дело в том, что путешествие – это метафорическая смерть: «Одна из первых основ композиции сказки, а именно странствование, отражает собой представления о странствовании души в загробном мире», – пишет Пропп (Пропп 1928: 117). Жена-ведьма оказывается невольной проводницей башмачника в путешествии, которое выступает образом царства мертвых. А башмачник, как и пряха, – персонаж-посредник между двумя мирами, а значит, и немного волшебник, тот, кто привносит в реальность элементы тайны и таинства. В связи с этим вспоминается притча про святого Марка и сапожника. Когда святой Марк приезжает в Александрию, у него рвется сандалия, и он отдает обувь в починку сапожнику, сидящему у ворот города. Далее сапожник ранит руку, а святой Марк его исцеляет. Таким образом, именно сапожник раскрывает способности целителя святого Марка, показывает ему возможность волшебства, а тот в свою очередь становится покровителем башмачников.
Мотив путешествия в связи с башмачником завязан на метафоре иного мира, как и в других сказках. Вообще, путешествие в волшебных сказках, собственно, как и волшебство, чаще всего начинается там, где наиболее логичным исходом была бы смерть, – в момент, когда сказка должна была бы закончиться: падение героини из «Госпожи Метелицы» в колодец, полет Элли в доме, унесенном ураганом («Волшебник Изумрудного города»), поход падчерицы за подснежниками в ночной зимний лес («Двенадцать месяцев») – все эти сюжетные ходы, которые в реальной жизни привели бы к смерти, приводят к путешествию (герой странствует или оказывается в необычном месте) и дают старт волшебству.
Путешествие либо возвышает (превращает башмачника в короля, падчерицу в принцессу, девочку в волшебницу), либо принижает (башмачник становится шутом, нерадивая дочь – чудовищем, облитым сажей или изрыгающим при каждом слове жаб изо рта). Однако верх – это тот же низ, только преображенный. А шут – тот же король, только в искаженном свете, это король-перевертыш, и более того, это король, на котором – тень загробного мира. «Шут и дурак – метаморфоза царя и бога, находящихся в преисподней, в смерти (ср. аналогичный момент метаморфозы бога и царя в раба, преступника и шута в римских сатурналиях и в христианских страстях Бога)», – пишет Бахтин (Бахтин 2012: 414).
Остановимся подробнее на связке «башмачник – шут», которая в литературе прописана все-таки более подробно, чем связка «башмачник-король». И начнем с репутации башмачника. В Средневековье и в эпоху Ренессанса репутация эта была так себе – башмачник и плут были синонимами. Так, итальянский писатель XVI века, Томмазо Гарцони в книге «Вселенская ярмарка человеческих профессий», посвященной ремеслам и ремесленникам, описывает сапожников как мошенников и лжецов и добавляет, что «обувщики вобрали в себя все худшее, что только может быть в торгашах» (цит. по: Муцциарелли 2013: 58). А фольклорист Варвара Добровольская в своем исследовании «Лапоть с лаптем, а сапог с сапогом» рассказывает об отношении к сапожникам на Руси: «Сапожники считаются крайне опасными людьми, встреча с которыми предвещает неприятности. <…> Изменение в жизни предвещают и сны, в которых фигурирует сапожник. Так, увиденный во сне, он сулит неприятности, смену работы и начальства… <…> Вероятно, такая негативная семантика этой профессии связана с приписываемыми ее представителям бедностью и пьянством, которые часто объясняют легендой о проклятии сапожника Христом: Вот ты говоришь, почему сапожников не любят. Они бедняки и пьяницы. А все почему, а потому, что когда Христа на распятье вели, один сапожник ему под ноги плюнул, и вот Христос его и проклял» (Добровольская 2013).
Дурная репутация и у портных. Андерсен в «Новом платье короля» иначе как «обманщиками» их не называет (это определение повторяется в сказке 14 раз). В сказке «Храбрый портняжка» братьев Гримм герой – плут, веселый обманщик, обманывающий великана. И еще в одной сказке братьев Гримм «Великан и портной» портного называют «большим хвастуном и бахвалом, но плохим мастером» (Гримм 1957: 639).
Плут – тот, кто потешается над другими, а шут – кто потешается над другими, позволяя другим потешаться над собой. Сказочный башмачник – шут, предмет насмешек, как в Маруфе-башмачнике: «И все засмеялись, и люди собрались вокруг Маруфа. И Маруф стал знаменит в этом городе, и некоторые люди верили ему, а некоторые не верили и смеялись над ним». Но он же и плут: «И он рассказал ей всю историю с начала до конца, и царевна засмеялась и сказала: „Ты искусен в ремесле лжи и плутовства”» (Маруф 1986: 585–586).
Древнегреческий бог Гермес, обладатель таларий, крылатых сандалий, покровитель путешественников и торговцев, посредник между двумя мирами, – тоже плут: «Гермес – это Плут, но еще и вестник – бог перепутий и в конечном счете проводник душ в загробный мир и обратно», – пишет Джозеф Л. Хендерсон (Хендерсон 2013: 127). Плутовство, шутовство башмачника, плутовство Гермеса коренятся в связи с сандалиями, в связи с обувью. Обувь – то, что надевают на ноги, символ, так сказать, «материально-телесного низа». Ноги топчут грязь, ступают по земле. Но ноги же и возносят, поднимают субъекта в горы или в небо, особенно если на них крылатые сандалии. А еще они могут быть наверху, но уже в другом, в шутовском, карнавальном, перевернутом мире, в мире, где все вверх дном, вверх тормашками. Поэтому в отношении поэтики башмачника существует эта двойственность – шут и бог, плут и царь, грешник и святой. Католический святой Криспин, покровитель башмачников, помогал бедным, шил для них обувь. Но кожу для башмаков крал у богатых. Добро и зло переплелись в этом действии, которое даже обрело свое имя нарицательное: «криспинады» – это благодеяния, оказываемые одним за счет других.
Об амбивалентности образа башмачника говорит и современный итальянский философ Серджио Дживоне в своем эссе «Сократ и обувщик», которое было написано для каталога выставки «The Amazing Shoemaker: Fairy Tales and Legends about Shoes and Shoemakers», проходившей в музее Сальваторе Феррагамо во Флоренции в 2013–2014 годах и посвященной образу башмачника в сказках и легендах. Дживоне анализирует небольшую сценку из сатирического трактата XV века «Мом, или О государе», принадлежащего Леону Баттиста Альберти и рассказывающего о том, как Сократ встречается с обувщиком и беседует о знании, об искусстве, о критериях истины. Дживоне пишет, что Альберти «ставит Сократа и сапожника друг против друга: величайшего философа и скромнейшего из ремесленников. И оказывается, что сократовская свобода не больше, чем свобода сапожника» (Givone 2013: 320). Иными словами, знание философа не больше знания сапожника, верх и низ не противопоставлены друг другу, а неразличимы, как в средневековом карнавале. Философ в античном обществе – это, действительно, «верх». Платон предлагал, чтобы именно философы стояли во главе государства. А сапожник – действительно, «низ». Иллюстрация к этому – римская пословица, которую приписывают художнику Апеллесу: «Да не судит башмачник выше обуви».
Диалог из Мома, который анализирует Дживоне, перекликается с диалогами Платона «Теэтет» и «Алкивиад», где Сократ постоянно приводит в пример сапожника, на его примере рассказывая об относительности истинного знания и зыбкости понятия добродетели. В Алкивиаде есть такой пассаж: «Сократ. Следовательно, сапожник разумен в деле изготовления обуви? // Алкивиад. Несомненно. // Сократ. Значит, и добродетелен в этом? // Алкивиад. Да. // Сократ. Ну а в деле изготовления плащей разве не будет он неразумным? // Алкивиад. Будет. // Сократ. И, значит, порочным в этом? // Алкивиад. Да. // Сократ. Согласно этому рассуждению, один и тот же человек оказывается и добродетельным и порочным?» (Платон 1986: 204). Добродетель и порок, верх и низ, плут и царь, рай и ад, жизнь и смерть, философствующий «сапожник» – это иллюстрация принципа амбивалентности, а точнее, иллюстрация принципа мироустройства, организации человеческой натуры. Сапожник оказывается моделью Человека вообще.
Но вернемся к Альберти. По сути, сценка из «Мома» забавна. Альберти проделывает такой фокус: извлекает умозрительного сапожника из диалогов Платона и делает его героем пьесы. То есть он персонифицирует доводы Сократа и заставляет философа спорить со своими собственными утверждениями, со своими собственными умственными химерами, с помощью которых он привык выбивать у собеседников почву из-под ног, заводить их в тупик, приводить собеседников к выводу об относительности знания. Это как если бы стол как умозрительная фигура, выбранный лектором в качестве примера, чтобы пояснить некоторую мысль («вот возьмем этот стол…»), вдруг заговорил и заспорил. Альберти как бы ставит Сократа на место, снимая его с философского пьедестала, и позволяет Сапожнику «судить выше обуви».
Впрочем, в наши дни башмачник, как и портной, не просто лишен шутовских и уничижительных коннотаций. Он – король и бог. Из одной «глянцевой» статьи в другую повторяются одни и те же характеристики современных «башмачников». Эти похвалы представляют собой штампы и настолько растиражированы, что кажется нецелесообразным указывать каждый раз источник, из которого они взяты, – это все равно что, цитируя мифологический текст, пытаться найти его автора. Если просто набрать имена обувщиков в любой поисковой онлайн-системе, эти эпитеты, лишенные авторства, посыплются, как из рога изобилия. Маноло Бланика (Manolo Blahnik) в глянцевых текстах называют «королем шпилек», «мэтром», «маэстро», «человеком-легендой», «иконой стиля». Так, в глянцевом образе Бланика сплелись королевское могущество, абсолютное мастерство, божественное начало (легенда, икона). Кристиан Лабутен (Christian Louboutin) делит с Блаником должность «короля шпилек», а его главное «изобретение», красную подошву, называют «культовой» (и опять мы слышим религиозные коннотации). Сальваторе Феррагамо (Salvatore Ferragamo) был «колдуном», Роже Вивье (Roger Vivier) – «волшебником», «обувным Фрагонаром», а его обувь – «туфлями Фаберже». «Волшебство» заставляет смотреть на обувщика как на сверхчеловека, на божество. А ассоциации с Фрагонаром и Фаберже возводят ремесло башмачника в ранг высокого искусства. Современные обувщики не делают туфли. Они представляют ежесезонные «творения», они – «создатели» коллекций. В модной иерархии башмачники теперь находятся на самом верху, в метафорической небесной сфере – это «звездные» дизайнеры, создающие божественные творения.
По реке забвения
Если путешествие – метафора смерти, то и сама обувь – часто встречающийся атрибут мифологического перехода в царство Аида. Вспомним эпизод с башмачками в «Снежной королеве». Герда, отправляясь на поиски Кая, «дарит» реке свои новые башмачки, а затем садится в лодку и плывет. Башмачки следуют за ней. Лодка, река, путешествие – собственно метафоры отправления в царство Аида по реке забвения. («И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на сушу. <…> Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению. <…> Герда сидела смирно, в одних чулках; башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее» (Андерсен 1969а: 289–319).
Башмачки помогают перемещаться в потусторонний мир и, наоборот, из потустороннего мира в мир людей. Как пишет Сью Бланделл в статье, посвященной символике обуви в культуре Древней Греции, «в поэмах Гомера небожители то и дело „привязывали прекрасные сандалии к своим стопам” прежде чем спуститься с горы Олимп, чтобы принять участие в запутанных земных делах» (Бланделл 2013: 30). И тут же Бланделл говорит про обратный переход из мира живых в мир мертвых: «Древние греки воспринимали смерть как путешествие в подземное царство, что естественно подразумевало необходимость пересечь границу. И конечно же, нужна была соответствующая обувь» (там же: 34).
Обувь знаменует и буквальную, материальную связь со смертью, была символом, который использовался в ритуальных обрядах, продолжает Бланделл: «в VI веке до н. э. В некоторых регионах Греции в могилу усопшему клали терракотовые сосуды в форме обутых в сандалии ног» (там же). А историк Дмитрий Осипов рассказывает о том, что при раскопках некрополей разных российских городов находили особую погребальную обувь: «Все найденные в погребениях туфли принадлежали к типу так называемой мягкой конструкции: сшитые из очень тонкой кожи, они не имели никакого приспособления для крепления к ноге» (Осипов 2007).
Сами ноги, согласно некоторым верованиям, тоже связывают человека с миром мертвых: «В религиях древних индоевропейцев стопа воспринималась как особый орган тела, в котором обитала душа. В представлениях славян она помещалась в особой „навьей” косточке. Отсюда же в славянской мифологии и значение слова „навь” – душа покойного. Отголоски этих верований сохранились в известной поговорке: „душа ушла в пятки”» (там же).
Подарок мертвеца
Характерно, что обувь в сказках – частый подарок главному герою. И получает ее герой тоже с того света. В «Золушке» братьев Гримм хрустальные туфельки – подарок умершей матери: «Когда дома никого не осталось, пошла Золушка на могилу к своей матери под ореховое деревцо и кликнула:
Ты качнися-отряхнися, деревцо,
Кинься златом-серебром ты мне в лицо.
И сбросила ей птица золотое и серебряное платье, шитые шелком да серебром туфельки (Гримм 1957: 105). В татарской народной сказке «Башмаки» джигит также получает обувь в подарок от умирающего отца.
В «Волшебнике Изумрудного города» Волкова Тотошка приносит Элли башмачки, принадлежавшие погибшей волшебнице Гингеме: «Войдя в пещеру, я увидел много смешных и странных вещей, но больше всего мне понравились стоящие у входа башмаки», «в них заключена волшебная сила, потому что Гингема надевала их только в самых важных случаях» (Волков 2012: 25, 26). И в американской оригинальной версии Дороти, прежде чем отправиться в путь, надевает «серебряные башмаки Злой Волшебницы Востока». Здесь присутствует двойной мотив – смерти и колдовства (с одной стороны, башмаки достались героине от умершего, с другой стороны, этот умерший – волшебница). Да, «потусторонние» существа нередко выступают в качестве дарителей башмаков или помощников в их обретении, как у Гоголя в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», где черт помогает кузнецу Вакуле раздобыть золотые черевички для Оксаны.
Башмаки, которые герои получают с того света, оказываются для них своего рода «нитью Ариадны», проводниками по дороге жизни: приводят Золушку к принцу, Элли-Дороти к волшебнику, джигита из татарской сказки – к хану и ханской дочке, принося ему богатство и власть.
И напротив, повседневная обувь, башмаки, полученные обыденным путем (купленные у обувщика или просто такие, про происхождение которых в сказке ничего не говорится), стремятся в преисподнюю, показывают дорогу к смерти (башмаки Инге из сказки Андерсена «Девочка, наступившая на хлеб» отправляют девочку в ад).
Также обыденные башмаки могут становиться орудием убийства. Мари из Щелкунчика расправляется с Мышиным королем при помощи своей туфельки: она «сняла с левой ноги туфельку и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей, прямо в их короля. В тот же миг все словно прахом рассыпалось» (Гофман 1978: 32).
Башмаки зачастую становятся в сказках не просто орудием убийства, а инструментом возмездия, наказания. Инге попадает в ад в наказание за дурной характер и за то, что наступила на хлеб, и башмаки заставляют девочку «погружаться все глубже и глубже в землю», прямо к «болотнице в пивоварню» (Андерсен 1969б: 116–124). (Болотница – хранительница болот, аналог Бабы-яги, но с другой «областью влияния» – болотом вместо леса. – И.О.). В наказание болотница превращает Инге в истукана.
Это важный момент – роль башмаков здесь вывернута наизнанку: вместо ходьбы – вечное бездвижье. То же и в «Приказчиковых подошвах» Бажова, где хозяйка Медной горы сначала предупреждает героя: «Эй, подошвы береги!», не желая, чтобы он совался в ее владения, а потом, когда он ослушался, в наказание превращает его в истукана (в малахитовый камень).
Другая крайность – башмаки, заставляющие ноги постоянно двигаться, осуществляющие наказание, предназначенные для вечной пляски, для пляски смерти. У братьев Гримм в «Снегурочке» башмаки – и орудие возмездия, и орудие пыток. В конце сказки злая королева умирает следующим образом: «но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, их принесли, держа щипцами, и поставили перед нею. И она должна была ступить в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала мертвая, наземь» (Гримм 1957: 238).
Раскаленные докрасна (в другом варианте – просто красные) башмаки, наказание, танец и смерть – составляющие одного страшного и повторяющегося в сказках образа. Гордая и тщеславная девочка по имени Карен из сказки Андерсена «Красные башмачки» получает предсказание ангела, которое естественно сбывается: «Ты будешь плясать, – сказал он, – плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь, как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!» (Андерсен 1969а: 328–334). Кстати, Герда из Снежной Королевы плывет по реке забвения именно в красных башмаках (девочка не выполняет наказание, однако эта тема здесь косвенно присутствует – ведь Герда едет спасать наказанного Кая). Или вспомним детский стишок-страшилку Генриха Гофмана про непослушную девочку, которая зажигала спички: «Осталась только горстка пепла, // А в ней два красных башмачка. // Душа для жизни не окрепла // И вмиг ушла на облака» (цит. по: Брайсон 2014: 603).
Теме символизма красных башмачков в сказках, в фильмах, в массовой культуре посвящено исследование Хилари Дэвидсон «Секс и грех. Магия красных туфелек». Отдельно Дэвидсон останавливается на символике красного: «Красный – это не только цвет одеяний католических иерархов, – пишет она, – но и цвет кварталов красных фонарей, цвет блудницы и дьявола. Двойственность между любовью и войной, магией и религией, благородством и плебейством порождает разные векторы напряжения при использовании этого цвета» (Дэвидсон 2013: 216).
Смысл этой связки «красное – башмаки – смерть» можно прояснить на мифологическом материале. Так, древнегреческий поэт Пиндар в одном из своих пеанов называет богиню Гекату «обутою в красное» (Пиндар, Пеан 2, 3С). Геката – богиня лунного света, богиня преисподней, покровительница ведьм и колдовства, богиня перекрестков. Так что все эти красные, раскаленные туфли из сказок – аналог красных сандалий Гекаты, отбирающих жизни, погружающих в вечную ночь.
Посредники на перекрестках
Иногда Геката изображалась трехглавой: смысл этой размноженности в том, что Геката – именно богиня перекрестков, богиня-посредница между небом, землей и подземным миром. Еще одно божество-посредник – Гермес. Он тоже способен был перемещаться между тремя мирами: летал к Зевсу, ходил по земле, спускался в преисподнюю. Его таларии, правда, не красные, как у Гекаты, а сверкающие золотые, но, очевидно, тоже связанные с темой огня.
Гермес, в отличие от темной Гекаты, напрямую не ассоциируется со смертью – если не считать того, что он посредник между миром живых и миром мертвых. Гермес играет со смертью, он знает смерть, знает подземный мир, но выворачивает смерть наизнанку. Золотые сандалии отсылают не к огню подземного царства и раскаленных докрасна башмаков, а к огню солнца, к высокой, небесной сфере.
Да и торговля, которой занимается и которой покровительствует Гермес, – тоже ведь «смерть наизнанку». Торговля – обмен вещей на знаки, обмен осязаемого на абстрактное, или обмен бытия на небытие. И Бодрийяр, и Барт подчеркивают, что деньги – это знак, абстракция. Бодрийяр называет деньги симулякром (собственно парафраз «ничто») (Бодрийяр 2006: 389), а Барт развивает эту мысль, акцентируя внимание на небытийственности денег (Барт 2001: 61). Особенность знака, пишет он, в том, что знак не имеет происхождения: «Перейти от признака к знаку – значит разрушить последний (или исходный) рубеж – идею происхождения, основания, устоев; это значит включиться в процесс бесконечной игры эквивалентностей и репрезентаций – процесс, который ничто не способно ни задержать, ни остановить, ни направить, ни освятить» (там же: 61–62). А Ольга Фрейденберг, рассказывая о зарождении торговли в родовом обществе и торговле как обмене, подчеркивает, что изначальный смысл обмена – в сменяемости жизни и смерти: «Этот образ обмена, означавший смену неба преисподней, дал возникновение весам и жребиям. Зевс взвешивает на золотых (то есть солнечных небесных) весах судьбы, доли смерти и жизни» (Фрейденберг 1998: 94).
Гермес и Геката – посредники между мирами. Ну а обувь – это, в первую очередь, инструмент, «транспортное средство», позволяющее быстро перемещаться в пространстве, погружаясь в разные миры. Так, сапоги-скороходы помогают сказочным героям путешествовать между мирами живых и мертвых. Вариацию сапог-скороходов, кстати, находим в сказке Андерсена «Калоши счастья»: феи приносят волшебные калоши, которые помогают любому, кто их наденет, перемещаться в пространстве и во времени. Важно, что калошами у Андерсена ведают две феи – фея Счастья и фея Печали. И в конце сказки калоши забирает с собой именно фея Печали, сказочный вариант богини, ведающей смертью.
Все в лохмотьях
В сказке про «Стоптанные башмачки» братьев Гримм каждый вечер у двенадцати принцесс новые туфельки, в которых они спускаются в подземелье, садятся в лодки и плывут по реке на другой берег, где стоит замок. Всю ночь принцессы танцуют с двенадцатью принцами в подземном замке, а под утро возвращаются домой в стоптанных туфельках. В этой сказке каноническое описание путешествия в мир мертвых: есть и подземелье (символ преисподней), и переправа через реку. Есть и отголосок образа «танца смерти» – танцы до упаду с «подземными», заколдованными принцами в новых башмаках: «Так протанцевали они там до трех часов утра, и вот все туфельки истоптались от танцев, и пришлось им оставить свои пляски» (Гримм 1957: 533).
Здесь интересен мотив отношения «старого» и «нового» (которого я уже немного касалась в главе, посвященной поэтике роскоши). Принцессы надевают новые туфли, спускаются в них в подземный мир, пляшут и возвращаются с рассветом домой в старых, истоптанных туфлях. Обувая новые туфли, герои сказок рискуют оказаться на том свете, как девочка Инге, наступившая на хлеб и провалившаяся под землю к Болотице-Яге, в своем «самом лучшем платье» и «новых башмаках» (Андерсен 1969б: 116–124). Новые туфли связывают героев с мертвецами, чертями, волшебством. Старые – с реальностью, с миром живых. Новизна, начищенность до блеска, лакированность, чистота в отношении к обуви (и к одежде) – опасный маркер в сказках. Новое соблазняет, новое несет зло. Старое хранит традиции, устои, старое благодатно. Характерно, что подозрительное отношение к «новому» перенесется в современном мире на восприятие моды. Мода – погоня за новым, производство и потребление новизны, и в бытовом сознании именно из-за этого мода – почти грех. Ее обвиняют в легкомысленности, она манит, соблазняет и опустошает. Добродетель никогда не гонится за модой, никогда не гонится за новым.
Положительные герои в сказках плохо одеты, они ходят в обносках, в платьях и рубахах с дырками и, конечно, в старых деревянных башмаках (как Элли в «Волшебнике Изумрудного города», которая мечтает в начале книги, чтобы волшебник подарил ей новые туфельки, как Золушка и другие герои-«запечники», как именовал их Пропп). А у отрицательных героев все новое, блестящее, чистое, красивое – как у сестриц Золушки, как у Воланда, который ходит «в черном костюме и лакированных туфлях». Сказочные злодеи наряжены, литературный злодей, как правило, денди. Звездный мальчик Оскара Уайльда – обладатель золотого плаща. Он «на всех прочих детей в селении… смотрел сверху вниз, потому что… говорил он, все они низкого происхождения, в то время как он знатного рода, ибо происходит от Звезды» (Уайльд 1961: 366). Символична его встреча с матерью: она предстает перед ним нищенкой в лохмотьях («Одежда ее была в лохмотьях, босые ноги, израненные об острые камни дороги, все в крови, словом, была она в самом бедственном состоянии») (там же: 367), и он насмехается над ней, кидает в нее камни. Но когда Звездный мальчик идет искать свою мать, чтобы попросить у нее прощения, он сам превращается в нищего.
Лохмотья приводят героев на правильный путь. А обновки – на ложный, как в «Снежной королеве»: «Надену-ка я свои новые красные башмачки. – Кай ни разу еще не видал их, – сказала Герда однажды утром, – да пойду к реке спросить про него» (Андерсен 1969а: 289–319). Герда отправляется на поиски Кая в новых красных башмачках, и они приводят ее к старушке в шляпе с цветами – колдунье, которая насылает на Герду забвение. А в чертоги Снежной королевы Герда входит босиком, как мученица, как праведница. Ложь и новизна – главный мотив и в другой сказке Андерсена, «Новое платье короля». Автор наказывает короля за любовь к новизне и к моде, наказывает позором за то, что король «страсть как любил наряды и обновки и все свои деньги на них тратил. И к солдатам своим выходил, и в театр выезжал либо в лес на прогулку не иначе как затем, чтобы только в новом наряде щегольнуть. На каждый час дня был у него особый камзол, и как про королей говорят: „Король в совете”, так про него всегда говорили: „Король в гардеробной”» (там же: 110–115). Голый – значит, честный, невинный; нарядный – порочный. «Голая правда» противостоит лживым «прикрасам». Обнаженность – символ жизни, а нарядность отражает причастность к потустороннему: голыми рождаются, а умирают наряженными («Свершив омовение усопшего, его затем переодевали в специальную „одежду мертвых”, которая должна быть новой, не соприкасавшейся с живым телом» (Осипов 2007).
Новое оборачивается вечными муками, новое вселяет ужас, как в литовской сказке «Башмаки Эгле». Муж-оборотень дает Эгле железные башмаки. И говорит, что, когда она их сносит, он отпустит ее домой к отцу с матерью. И вот «надела Эгле железные башмаки. С утра до вечера ходит по острым камням, на скалы взбирается, а на железной подошве хоть бы царапина! Нянюшка смотрит на нее и головой качает: – Зря себя, доченька, мучишь. Сто лет проживешь – сто лет башмаки целы будут» (цит. по: Рыжакова 2009: 51). Железные башмаки Эгле – башмаки, которые нельзя сносить, нельзя стоптать – метафора вечно нового, вечных мук. Но Эгле находит способ избавиться от «новизны» – предает обувь огню («Кузнец перекалил железо в горне – стало оно ломкое да хрупкое, что стекло. В один час износила Эгле башмаки»). Зловещее «новое» проходит очищение огнем и становится «старым», простым, обычным, перестает быть потусторонним. Волшебство исчезает.
А вообще, было ли волшебство – волшебство в значении превращения, изменения сущности предмета или его вида? «Магия обуви», «волшебные туфельки» – эти словосочетания так привычно звучат, но насколько они, на самом деле, корректны, насколько отражают суть сказочной поэтики обуви? «Магия – само это слово, кажется, обещает нам целый мир таинственных и неожиданных возможностей! – иронизировал антрополог Бронислав Малиновский. – Само сочетание этих звуков – „магия”, кажется, в любом из нас будит некие скрытые душевные силы, какую-то мерцающую надежду на чудо» (Малиновский 1998: 71). Но в магии все прозаично – она, продолжает Малиновский, как и научный опыт, нужна для достижения конкретных целей – обряд должен приносить ощутимый результат. Магия «всегда заключается в убеждении в способности человека достигать некоторых определенных результатов посредством определенных заклинаний и обрядов» (там же: 88–89).
Так какое же место занимает сказочная обувь в магическом дискурсе, каково ее магическое действие и «магично» ли оно по своей сути? Допустим, обувь – типичный магический инструмент, предмет, с помощью которого осуществляется магический акт. Магический предмет-орудие меняет характеристики объекта: был живой – стал мертвый, был молодой – стал старый, был красивый – стал урод. Но обувь – не волшебная еда, меняющая внешний вид, как волшебные плоды, от которых вырастают носы, или как плоды, оборачивающие жизнь смертью (яблоко колдуньи, подаренное Белоснежке). Также, в отличие от шапки или плаща-невидимки, обувь не делает объект невидимым, а в отличие от скатерти-самобранки, на которой по желанию появляются заморские яства, она не превращает ничто в что-то (скатерть-самобранка и шапка/плащ-невидимка – очевидно магические предметы, орудующие с сущим и не‐сущим.
Наиболее часто встречающаяся функция сказочной обуви – ускорение. Это значит лишь то, что сапоги-скороходы только усиливают изначальную способность носителя (убыстряют движение или помогают перенестись из одного места в другое), но они не дают новой способности и не изменяются сами. Сапоги-скороходы не имеют качественного воздействия на субъекта, а ограничены количественным: был медленным – стал быстрым. Это помощь, а не магия, о чем, кстати, неоднократно говорит Пропп, ставя волшебную обувь в один ряд с волшебным конем, – взаимозаменяемыми функциональными «героями» сказок (Пропп 1998: 162). На первый взгляд, у ковра-самолета схожая функция с волшебной обувью (перемещение в пространстве). Однако ковер не просто помогает перемещаться, а видоизменяется сам, претерпевает метаморфозу, превращаясь из ковра в «само‐лет», – это превращение и есть волшебство и магия.
В сказке Шарля Перро Мальчик-с-пальчик крадет у спящего людоеда семимильные сапоги, но они не играют специальной роли в приключениях героя – успеха и богатства Мальчик-с-пальчик добивается самостоятельно: «когда Мальчик-с-пальчик надел семимильные сапоги, он отправился ко двору, где и явился к королю» (Перро 1936: 83). О волшебной природе обуви «Кота в сапогах» можно было бы говорить, если бы Кот, надев их, превратился в другое существо или, например, стал умнее/глупее/хитрее. Но он остается тем же пронырливым котом, тем же героем-плутом. Не ясна и магическая функция волшебных туфелек из «Волшебника Изумрудного города»: «Это очень хорошо, что ты надела башмачки злой Гингемы. Кажется, в них заключена волшебная сила. Но какая это сила, мы не знаем» (Волков 2012: 26). В конце истории волшебница Стелла говорит, что серебряные башмачки обладают «многими» чудесными свойствами, но называет лишь одно из них: переносить по желанию в любое место – опять мы здесь видим в обуви роль помощника, но не более.
Отсутствие волшебства в обуви наглядней всего обнаруживается в хрустальных туфельках Золушки. Фея-крестная превратила тыкву в карету, крысу – в кучера, затем дотронулась до Золушки волшебной палочкой – «И в тот же миг ее платье обратилось в прекрасное платье, расшитое золотом и серебром», – а затем «дала ей пару хрустальных туфелек» (Перро 1936: 54). Таким образом, лишь туфельки во всей этой волшебной сцене лишены магии, они – не результат превращения, волшебная палочка тут ни при чем. И так как туфли не волшебные, а «реальные», настоящие, они после полуночи остаются такими же, как и были, в отличие от кареты, платья, кучера. «Ничего у нее не осталось от всего ее великолепия, кроме одной маленькой туфельки» (там же: 57).
Если обувь – не магический предмет, не волшебная вещь, то что же она такое? Как говорится, по одежке встречают, то есть одежка отвечает за внешнее, за вид, за поверхностное восприятие. А вот по обуви – узнают. Принцу понадобится туфелька, чтобы найти и узнать Золушку из тысяч принцесс. Сапоги Кота в сапогах – не что иное, как признак этого Кота, позволяющий его идентифицировать, узнать. Сапоги – часть имени Кота, символическая часть его самого. В качующем сюжете про «мальчика с сапожок» сапожок – тоже лишь часть имени, метафорическое обозначение небольшого роста героя. Также нельзя не заметить, что обувь, которой завладевают герои, всегда приходится им впору, становится второй кожей. В «Волшебнике страны Оз» туфельки злой волшебницы оказываются впору Дороти, «словно сделаны специально для нее», то же и в Золушке и в Мальчике-с-пальчик – «сапоги были ужасно большие и страшно широкие», но пришлись мальчику «впору, будто на заказ сшиты» (там же: 82). Что же, получается, что обувь – инструмент самоидентификации, символическое продолжение субъекта, практически часть тела или души, метафора сущности субъекта, метафора личности. И никакой магии… ну почти никакой.
* * *
И все же, подводя итоги, стоит сказать, что магия моды существует – как мы видим, она прослеживается в ее образной системе, в ее поэтике. И одну из ведущих ролей здесь играет сказочно-мифологическая составляющая, которая невидимо для общества потребления присутствует во всем, что связано с модой. За материальностью и чувственностью, за многообразием фасонов и тканей, за погоней за новизной, именуемой сезонными тенденциями, просвечивают сказочно-мифологические образы смерти и отзвуки древних обрядов. Обыденность ткани отсылает к вселяющим ужас мойрам, ведающим судьбой и смертью, а повседневность красивых туфель – к странствию в мире теней.
Приложение
В Приложении – мои интервью с известными деятелями и экспертами мира моды, опубликованные за последние несколько лет в разных изданиях. Все эти люди помогали мне сформировать собственную картину «мира моды» и, сами того не зная, помогли написать книгу. Здесь я отобрала те интервью, которые мне особенно запомнились, в которых были сказаны важные вещи о глобальных тенденциях, о философии моды и роскоши. Я расположила эти тексты здесь не по хронологии, а по смыслу, попыталась сделать своего рода интертекст, в котором мои собеседники виртуально беседуют друг с другом на разные темы, например…
О красоте
Кристина фон Браун, культуролог.
Ведомости. Пятница. 2012. № 36 (318)
О том, как менялись стандарты красоты и какие механизмы в разные эпохи формировали эти стандарты, рассказала профессор Университета Гумбольдта Кристина фон Браун. Она приезжала в Москву, чтобы принять участие в дискуссии в лектории Политехнического музея.
– Существуют ли сегодня четкие стандарты женской красоты, как это было в Античности (золотое сечение) или, например, в 1990-е годы, когда развивался модельный бизнес (пресловутые 90–60–90)?
– Нет, сегодня нельзя говорить об идеале красоты на языке цифр. Современная красота – это многообразие ролей, которые могут примерять на себя женщины. Они могут играть в «беби-долл», в «вамп», в «леди» и т. д. и т. п. И каждый из этих образов по-своему отражает современные представления о красоте.
– А если говорить о мужских стандартах?
– Я бы выделила два ключевых образа: «волк-одиночка» и «банкир». В первом случае речь идет о животной красоте, брутальной. А во втором – о цивилизованном теле, «закованном» в костюм.
– Зависят ли представления о красоте, например о женской, от типа общества?
– Да, напрямую. Так, в эпоху тоталитарных обществ было особое представление о красоте и, на удивление, примерно одинаковое во всех странах с таким режимом. Это здоровая, спортивная, крепкая женщина-мать. Идеалы красоты выстраивались так же, как и государственные системы, на основе диктатуры.
– Но в современных демократических обществах тоже присутствует диктатура – диктатура медиа, маркетинга. Да и язык модной прессы предельно властен – «в этом сезоне все будут носить ботфорты», «надо забыть о мини-юбках».
– Совершенно верно, сегодня красоту диктует маркетинг, медиатехнологии. Но это «приятный» диктат – во главе его стоит принцип «удовольствия», на котором и строится все общество потребления. А в тоталитарных обществах это принцип целесообразности, пользы, функциональности.
– Каким Вы видите будущее красоты?
– Двигателем изменений станет генетика. Уже сейчас технологии искусственного оплодотворения позволяют «сформировать» ребенка по желанному образцу. С развитием генетики у человечества будет расти желание подчинить себе красоту – детально конструировать внешность человека. Мы будем сами производить красоту по своему желанию.
– Пока же наиболее распространена корректировка природных процессов, например пластическая хирургия.
– К сожалению, да. И мне непонятно, зачем это нужно – подвергать свое лицо жестокому вмешательству, делать из него маску. Но я надеюсь, что молодость не всегда будет синонимом красоты. Ведь это и было не всегда.
Верушка (Вера Готлиб фон Лендорф), модель.
Ведомости. Как потратить. 2013. № 14 (131)
Грубые ботинки, повязка на голове, низкий голос. Гибкая и стройная, с томным и одновременно любопытным и пронизывающим взглядом, почти без макияжа. В тонких длинных пальцах дымится сигарета. «Это хорошие сигареты, экологичные, без химикатов», – говорит немецкая графиня Вера Готлиб фон Лендорф, или Верушка. Первая супермодель, покорившая в 1960-е годы Нью-Йорк и весь мир. Блондинка ростом метр девяносто, она совершила переворот в модельном бизнесе – задала высокую (и в прямом смысле слова) планку стандартов красоты, изменила принцип работы фотографа с моделью: модель – не «вешалка для тряпок», а равноправный соавтор, не пассивная муза, а творческая личность. Ее снимали лучшие фотографы мира, такие как Хельмут Ньютон и Ричард Аведон. Она работала с Антониони и Сальвадором Дали. Закончив карьеру модели в 1970-е, продолжила заниматься фотографией в качестве модели, стилиста, автора проектов. Сегодня ей 73 года и она полна сил и планов на будущее.
– Времени не хватает реализовать все задумки. Мое новое увлечение – мини-фильмы. По сути это фотографии в движении, с помощью которых я хочу донести до зрителя свои мысли.
– И что за мысли, о чем же фильмы?
– Например, о старении, о возрасте. Мы живем в эпоху глобального anti age. Все эти надписи на кремах: anti age, anti age. Рекламные фотографии, на которых модели пропагандируют…
– …вечную молодость.
– Нет, даже не вечную молодость, а именно отсутствие возраста, восстание против возраста. А я – за возраст, я ничего не имею против старения, иными словами, против приятия себя. В одном из мини-фильмов на мне – пластырь, неловко спрятанный под волосами. Он создает иллюзию подтяжки лица (этот способ «подтяжки» придумала когда-то Марлен Дитрих – в ее эпоху пластические операции еще не практиковались). Вместо моих глаз и губ – размалеванные глаза и «ботоксные» губы, вырезанные из глянцевого журнала. И я начинаю перед зеркалом сдирать с себя эти чужеродные элементы. Сдираю и кричу: «Верните мне мое лицо! Это не мое! Где мое лицо! Отдайте мое лицо!»
– То есть Вы не видите ничего положительного в достижениях современной косметологии. А как же возможность продлить молодость?
– Зачем ее продлевать? Нет в этом смысла. Женщина с пластическими операциями не становится моложе на самом деле: ее выдадут выражение глаз, манера себя вести. Видно, что молодость ненастоящая и женщина тоже, что все в ней сделано, поддельно. Это смешно. И страшно. Люди превращаются в монстров. Женщины Индии, эти старые женщины, испещренные морщинами, вот они – прекрасны, величественны. В каждом возрасте есть своя красота. Вообще, основная проблема современного культа красоты – страх быть собой. И это касается не только возраста, но и внешности в принципе. Ну зачем, например, моя подруга Карла Бруни сделала себе нос? Разве это ее украсило? Несмотря на все разговоры про индивидуальный подход в моде, в одежде, люди боятся индивидуальности.
– Эта же унифицированность и в модельном бизнесе?
– О да, фотосессия современной модели – это же вообще полная фикция. Модель может быть без макияжа, с немытой головой, да хоть с короткими ногами – всю красоту потом сделает фотошоп. Если же говорить о стандартах красоты, сегодня замкнулся цикл моды: новые тенденции – лишь перемалывание старых, тех, что были в 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е годы. Это касается и одежды, и внешности. Ну судите сами. В 1960-е годы, когда я появилась со своими прямыми длинными волосами, худобой и ростом, я была в диковинку. И что же сегодня? На модном пьедестале – все тот же высокий рост, длинные прямые волосы, худоба. Ничего нового.
– Расскажите, пожалуйста, о своих фотосессиях. С кем из фотографов было приятнее всего работать?
– Самый-самый был Аведон. С ним было интересно, очень интересно. Он совершенно не дистанцировался от меня, от модели, мы творили вместе. Он не отходил от меня ни на шаг, мы придумывали образы, он даже помогал краситься. На мой взгляд, это идеальный механизм работы модели и фотографа. Полная сопричастность происходящему.
– А о чем тогда Ваши собственные работы, где Вы официально выступаете не только в качестве модели, но и в качестве автора? Я имею в виду серию «Автопортреты», которую Вы привозили в Москву на фестиваль «Мода и стиль в фотографии».
– Эти работы – об одиночестве, обо мне, о ликах города, образах моего любимого Нью-Йорка. Но конечно, в первую очередь это автобиография, рассказ или даже, скорее, резюме моей жизни – самые важные ее моменты, акценты. Взять, например, фотографию «Катюша», где я стою рядом с небоскребом-утюгом в простеньком платьице, задрав голову. Именно такой я приехала в Нью-Йорк завоевывать мир, без денег, без опыта. Подошла к дверям старого респектабельного отеля Taft, и портье спросил меня: «Девушка, я могу вам помочь?» А я сказала: «Хочу работать моделью, куда мне податься?» «Вы бы накрасились для начала», – был ответ. На всю жизнь запомнила это. Да, большинство «автопортретов» касается прошлого, но иногда мне удавалось и предвидеть будущее. На одном снимке я в шутку изображаю будущего президента Америки. Он чернокожий. Фотография была сделана за 12 лет до прихода Обамы. Когда я работала над тем снимком, я спрашивала знакомых: «Вы можете себе представить, что президентом США станет афроамериканец?» Никто такого представить не мог.
– Что в Вашем мировоззрении символизируют фотографии, где Вы предстаете в образе животных – зебры, собаки, паука?
– Собственно, мое сострадание к животным. Мне их очень жалко. Их используют для опытов, чтобы создавать какие-то новые косметические средства, их пускают на шубы, мучают в зоопарках. Мы будто за что-то мстим им.
– Слышала, у Вас дома живет несколько кошек.
– Да, когда я жила в Нью-Йорке, у меня было действительно много кошек, может, штук двадцать. Все соседи знали об этой моей слабости и постоянно подкидывали мне новых. Кого-то я оставляла себе, для кого-то находила другой дом. Несколько лет назад я перебралась в Берлин и семь кошек все-таки прихватила с собой. Видели бы вы, какой фурор я произвела в аэропорту. Кстати, по поводу Берлина. Это забавно: я немка, а никогда не жила в Германии. Ну если не считать моего детства в Кенигсберге.
– Почему Вы не поехали в Германию раньше?
– Если бы я жила в Германии, то не стала бы тем, кем я стала. Ведь в этой стране не слишком любили свободу, хулиганство, там нельзя было нарушать правила, выделяться. А вот Нью-Йорк в 1960-е годы был создан как раз для этого – для бесшабашности и экспериментов.
– Знаю, что Вы всегда увлекались живописью. А сейчас?
– В молодости моей страстью были камни. Я их постоянно рисовала. В путешествия всегда брала камни, носила их в сумочке. Они завораживали меня, камень – это особое мироздание, а лежащие рядом – они как планеты, как модель Вселенной. Сейчас я не рисую камни, я вообще не рисую в традиционном понимании. Я создаю картины пеплом. Вот что меня завораживает теперь. Пепел… Мне почему-то видится, что это сожженные солнцем крылья Икара, опаленная мечта. И мне кажется, это так возвышенно, так красиво.
– Что же, был Сизиф – стал Икар?
– Точно! Так оно и есть. Это вы хорошо подметили.
Патрик Демаршелье, фотограф.
Ведомости. Пятница. 2013. № 8 (340)
В рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии» в Манеже проходит выставка Патрика Демаршелье, одного из самых известных мастеров современности. Основой экспозиции стали снимки из недавно вышедшей книги «Dior Couture. Patrick Demarchelier», а также последние работы фотографа, сделанные для Dior. Патрик Демаршелье посетил Москву, чтобы встретиться с посетителями, и рассказал о своем творчестве.
– Что особенно запомнилось во время работы над фотографиями с выставки?
– Очень интересной получилась съемка в Нью-Йорке в десятиградусный мороз. Погода была почти как сейчас в Москве. И мне пришла в голову идея сделать серию «ледяных» снимков. Модели позировали в стеклянных кубах. Получились такие статичные куклы в прозрачных коробках.
– Но ведь статичность не Ваш конек, Вы – мастер случайного кадра. Как Вы добиваетесь эффекта случайности в таком «постановочном» деле, как фешен-фотография?
– Работа модели – позировать. А мне интересно подлавливать их, когда они не думают о том, что работают, и превращаются в легкомысленных детей. Для этого я должен заставить их забыть о моем присутствии, о наличии камеры. В частности, на выставке можно увидеть фотографии, которые я сделал в саду музея Родена сразу после шоу Dior Haute Couture в 2010 году. Модели гуляли, смеялись, и мне удалось сделать не фешен-съемку в классическом смысле, а снять вечеринку в саду. Мне еще нравится ловить момент, когда стилист, делающий макияж, на секунду отвлечется от работы и отойдет, а модель еще не готова – получаются самые живые кадры. Однажды, уже в конце долгой фотосессии, я решил сделать кадр с ребенком, моим сыном. Спрятал его под пальто, и, когда он внезапно вылез, модель засмеялась. Спустя много лет именно этот кадр увидела принцесса Диана и доверила мне стать ее первым «небританским» фотографом.
– Мы живем в мире «фотошопа» и «цифры», как эти новшества влияют на искусство фотографии?
– Да никак принципиально не влияют. «Цифра», «фотошоп» – это лишь новые полезные инструменты. Я, конечно, в основном снимаю на «цифру», хотя иногда использую и пленочную камеру. И, должен сказать, я рад, что сегодня благодаря всяким гаджетам любой человек может почувствовать себя фотографом или моделью.
– А Вы пользуетесь «Фейсбуком», «Инстаграмом»?
– Нет, но ведь это ни о чем не говорит.
– Вы много времени проводите среди моделей, много их снимаете. Не хочется все бросить и начать снимать что-то совершенно другое?
– Нет, ведь у меня есть отдушина – люблю снимать дикую природу, животных – у них, кстати, немало общего с персонажами мира моды (смеется). А самая любимая модель – это моя собака, такса Пуфи. Она уже десять лет парализована, передвигается с помощью специальной тележки. Но она самая живая из моих моделей. Всегда смотрит на меня с обожанием, никогда не принимает искусственных поз, красива и естественна. Несколько лет назад в Le Petit Palais была выставка моих работ. И среди них почетное место занимала огромная фотография Пуфи – главной героини экспозиции. По крайней мере, для меня.
О стиле, искусстве и техниках
Стюарт Вайцман, обувщик.
Ведомости. Пятница. 2014. № 19 (398)
Он делает туфли на каждый день, из пробки и винила, или для красной дорожки, с бриллиантами и рубинами. Стюарт Вайцман, глава компании Stuart Weitzman, приехал в Москву, чтобы найти место для нового магазина.
– Подыскали уже место?
– Пока хожу-смотрю. Больше всего меня привлекает улица со сложным названием – а, Stoleshnikov! Еще мне понравилось во «Временах года». Главное, мне хочется иметь не корнер, а отдельный магазин. Думаю, таких магазинов будет не меньше десяти. Я понял, что здесь меня любят больше, чем даже в Америке. Вообще вы, москвички, молодцы: быстро учитесь моде. В 1990-е годы в Россию хлынули вещи, и вы любили все блестящее и с лейблами. Сейчас ваши вкусы стали более сложными.
– И мы, как и другие европейские женщины, охладели к каблукам. Вас это не расстраивает?
– Напротив, радует. 73 процента своей прибыли я делаю на туфлях на плоской подошве. Да, в рекламе в глянцевых журналах вы увидите совсем другие мои модели, но это просто реклама, не имеющая отношения к реальной жизни. Вы перестали одеваться для мужчин. Вы теперь одеваетесь для подруг. А подруги одобряют естественность, а не сексуальность. И это здорово: когда я вижу женщину в туфлях на плоской подошве, я знаю, она честная – не хочет казаться выше, лучше, чем она есть. А вспомните Одри Хепберн в «Завтраке у Тиффани» – она была без каблуков, и это вовсе не мешало ей считаться эталоном элегантности. Удобство, должен сказать, отлично уживается с элегантностью. А гламур как раз ее антоним.
– Но Вы же сами делаете туфли за миллион долларов с бриллиантами.
– Во-первых, такие туфли делаются в единичном экземпляре для звезд и принцесс. Но главное здесь другое. Мне любопытно работать с нетипичными для обуви материалами. Каждый раз приходится, по сути, осваивать новую профессию, выкручиваться. Взять те же ювелирные туфли: камни не просто клеятся на кожу, как кристаллы Сваровски – им нужны сложные крепежи, как в ювелирных украшениях. Или посмотрите на пробковые туфли. Попробуй сделай из пробки не танкетку, а туфлю целиком. Это кажется невозможным – пробка крошится. Но я нашел способ: мы срезаем тонкий слой пробки и крепим его на ткань. Теперь так многие стали делать, но идея моя. Жаль, не запатентовал.
– Вы закончили школу бизнеса в Пенсильвании. Почему переметнулись в дизайн?
– Я всегда любил рисовать. Мне было все равно что. И так получилось, что стал рисовать красивые туфли.
– Но почему именно туфли?
– В юности у меня был друг. Его отец делал обувь. И однажды друг сказал: «Ты клево рисуешь, может, сделаешь эскиз туфель, покажешь отцу?» Ну я и нарисовал. Обувщик мрачно посмотрел на эскиз. «Ты это сам? Скопировал?» – «Сам». Он поднял рисунок, посмотрел его на свет. И порвал в клочья. А затем дал новый лист и сказал: «Давай рисуй то же самое». Я нарисовал. И получил за это 20 долларов. Громадные деньги, как мне показалось, за то, что не стоило мне труда. А спустя время увидел свои туфли в витрине. Это было ужасно приятно. И я захотел заниматься обувью. Кстати, я сам сейчас периодически провожу этот «рваный» тест. И вот из двадцати человек за это время его прошли лишь пять. Остальные срисовывают, пытаются продать чужое мастерство.
Кристиан Лубутен, обувщик.
Ведомости. Пятница. 2012. № 37 (319)
По случаю открытия в Санкт-Петербурге первого бутика Christian Louboutin Россию навестил основатель бренда, Кристиан Лубутен. Он рассказал об эволюции обувной индустрии, о своем творчестве и о бренде, который в этом году отмечает 20-летие.
– Недавно завершилось судебное разбирательство по поводу авторского права на использование красной подошвы. Вы довольны результатом?
– Да, американское правосудие признало, что никто, кроме Christian Louboutin, не может использовать красную подошву на обуви другого цвета, но если сами туфли красные, то подошва тоже может быть красной. Я ожидал, что именно так и будет.
– Как Вам работается в условиях расцвета fast fashion и глобализации моды?
– Трудно, но работать можно. И на самом деле этот суд «красной подошвы» стал показательным явлением для индустрии. Я ведь защищал не только себя, но в итоге и другие небольшие компании, которые все еще держатся и не хотят стать частью крупного холдинга. Мне кажется, это очень обидно – открывать свое дело и знать, что тебя поглотит большая компания. Куда приятнее работать на себя и делать при этом узнаваемые во всем мире вещи.
– Что изменилось в обувной индустрии за последние 20 лет?
– Если говорить, например, о туфлях на каблуке, то сегодня этот каблук стал выше, дизайн обуви – экстравагантнее, чем 10–15 лет назад. Сегодня я с недоумением смотрю на свою первую коллекцию. Каблук, что я делал тогда, казался убийственно высоким, но сегодня это средняя высота – какие-то жалкие восемь с половиной сантиметров. Каблук вырос за эти годы примерно в два раза – вот так изменилась мода. И еще: если раньше я делал туфли, чтобы наряжать женщин, то сегодня я делаю обувь, которая их «раздевает».
– Что Вы имеете в виду?
– 20 лет назад обувь служила нарядным аксессуаром. Сегодня, создавая туфли, дизайнер думает о том, как они смогут изменить форму ноги – удлинить ее, сделать более красивым подъем. Дизайн стал анатомичнее, что ли. Я прочувствовал это, когда делал обувь для танцовщиц парижского кабаре Crazy Horse. Я много фантазировал, какой ей быть. Но когда я увидел, как при энергичных движениях девушек туфли просто слетают, понял, что здесь одним дизайном не обойдешься. Обувь должна быть продолжением ноги, а не отдельным, пусть красивым, предметом.
– Значит ли это, что Вы стараетесь сделать туфли не только красивыми, но и удобными?
– Вовсе и не значит. Когда я рисую эскиз, то не думаю об удобстве. Это не значит, что я против комфорта, уже в процессе производства, конечно, мы думаем о том, чтобы колодка была максимально удобной. Но, положа руку на сердце, либо высокий каблук, либо удобство.
– Ваша юбилейная выставка прошла в Лондоне и в скором времени приедет в Москву.
– Да, и это вполне логично, ведь я делаю обувь для женщин, а Россия – женская страна. Мне кажется, у всех стран есть пол. Вот Англия – это мужская страна, там и юмор мужской, и стиль одежды. А Россия или, скажем, Бразилия – страны женского менталитета. Ну, по крайней мере, я так это воспринимаю, на интуитивном уровне.
– У Вас недавно открылся первый магазин в Индии. Сейчас многие бренды устремились в эту страну, а некоторые, Hermès например, даже делают специальные коллекции для индийских женщин.
– У меня тоже будут туфли, нарядные, золотые, которые будут продаваться только там и которые смогут отлично дополнить сари. Вообще, создавая коллекцию и переходя от эскизов к прототипам (а их обычно более 140), я думаю над тем, для какого города какие модели подойдут. Так, в Париже будут более сдержанные туфли, более классические, в Москве – более изощренные по дизайну.
– Вы увлекаетесь садоводством. Есть ли у Вас и в этой области свои ноу-хау вроде красной подошвы?
– Очень горжусь своим французским садом из розовых кустов. Но это сад на современный лад. Я сделал над ним второй уровень: колонны серо-голубого цвета (он кажется мне необыкновенно красивым) обвивают глицинии. Я посадил их десять лет назад, сегодня они разрослись. Не знаю, можно ли это считать изобретением, но я такого сочетания ни у кого не видел.
Фридрих Вилле, президент компании Freywille.
Ведомости. Пятница. 2014. № 22 (401)
Австрийская компания Freywille создала новую коллекцию «Посвящение Клоду Моне», которая пока продается только в бутике на Кузнецком Мосту. Браслеты, кольца, часы, расписанные эмалью по мотивам картин французского художника, привез в Россию лично доктор Фридрих Вилле, президент компании.
– У Вас ведь уже есть коллекция, посвященная Моне. Зачем понадобилось делать новую? Падают продажи?
– Напротив, это одна из самых коммерчески успешных линий. Но ей уже 20 лет. Мы решили, что пришло время для рестайлинга, и изменили концепцию дизайна. Попробовали с помощью эмали передать импрессионистские мазки, плавные переходы. Это было сложно – ведь эмаль не такой послушный материал, как масляные краски, но методом проб и ошибок мы добились нужного эффекта.
– Под каждую коллекцию у Вас отдельные технологии?
– Решения отдельных задач разные, а сама технология, в общем, одна. В производстве украшения от 80 до 100 этапов. На поверхность изделия эмаль наносится слой за слоем и обжигается в печи при температуре 800 градусов. И пока один слой не застыл, нельзя переходить к следующему. На самом деле, технология в Европе принципиально не менялась со Средневековья. В XVIII веке стал широко применяться метод перегородчатой эмали – это когда из золотых нитей создаются ячейки, в которые заливается глазурь. Основой для изделий служила медь – хрупкий материал. Мы же наряду с золотом используем сталь. (Берет браслет и с размаху швыряет его об пол.) Не бойтесь, ничего с ним не случится.
– Пользуетесь ли Вы современными методами при моделировании украшений?
– Честно говоря, терпеть не могу все эти 3D-программы, заменившие ювелирам живые эскизы. У нас – бумага, акварельные краски, человеческие руки. Причем женские руки. Дизайнеры в компании – только женщины.
– Почему?
– Так исторически сложилось. И потом, Симоне сподручнее работать с женщинами (Симона Грюнбергер-Вилле, жена Фридриха Вилле, креативный директор Freywille. – Пятница.).
– Слышала, что иногда на изготовление коллекции у Вас может уйти до двух лет.
– Да, и половина этого времени тратится на придумывание концепции. Каждый раз мы проводим искусствоведческое исследование. Вот, например, когда мы делали украшения, посвященные России, «Русская страсть», мы связывались с вашими музеями, с архивами, читали художественную и историческую литературу. К моменту запуска коллекции я был готов написать трактат о русской культуре.
– Как Вам удалось убедить покупателя приобретать эмалевые украшения по цене бриллиантов?
– Моя стратегия в том, чтобы предлагать и продавать людям не ювелирные изделия, чья основная ценность в количестве карат и весе золота, а произведение искусства – ювелирные картины. И, кстати, среди самых лояльных наших покупателей – вы, русские. Я обратил внимание, что для русских искусство – настоящий культ.
– Сегодня, чтобы поднять продажи, многие компании вступают в коллаборации. Как Вы смотрите на такую стратегию?
– Мы многие годы работали с Hermès, делали для них эмалевые браслеты. Но недавно наши пути, увы, разошлись. Так что мы теперь сами по себе. И хватит с меня коллабораций.
Сильвио Денц, президент Lalique.
Ведомости. Пятница. 2012. № 11 (293)
Аудиосистема и духи, вазы и украшения, шкафы и винные бутылки – все это сегодня делает компания Lalique. О новой жизни бренда, основанного в 1885 году, рассказал президент Lalique Сильвио Денц, который приезжал на прошлой неделе в Москву на официальное открытие флагманского бутика.
– Вы коллекционировали произведения ювелира, художника по стеклу, Рене Лалика. Что именно?
– Флаконы. Они вдохновляли меня на создание духов (я много лет занимался парфюмерией). Я отдал их в музей Лалика, который мы открыли прошлым летом в Эльзасе. Но поставил условие, чтобы мои 200 пузырьков выставлялись в отдельной секции, вместе. Ведь это не просто хрустальные емкости для духов – это в первую очередь летопись и жизни Рене Лалика, и искусства ар-деко.
– Как Вы искали эти флаконы?
– Знаете «правило трех D»: death, debts, divorce (смерть, долги, развод. – Прим. ред.)? Это три причины, по которым люди расстаются с хорошими коллекциями. И мне удалось скупить на аукционах три самые серьезные коллекции флаконов у людей, которые, увы, столкнулись с этими проблемами и бедами.
– Многие ждали, что Вы, возглавив Lalique, первым делом будете возрождать все, что связано с парфюмерией. Этого не произошло. Почему?
– Мы создаем и ароматы. Последний – в прошлом году, мужской Homage à L’Homme, он продается в хрустальном флаконе, повторяющем скульптуру, которую Лалик сделал в 1929 году для интерьера поезда «Восточный экспресс». Сейчас работаем над новым ароматом, который появится в октябре. И должен сказать, ни одна формула, ни один флакон не пойдут в производство, пока я лично все не проверю.
– Но все равно складывается впечатление, что духи для марки сегодня не главное.
– Я приобрел компанию в 2008 году, в кризис, она уже много лет была убыточной, и за два года мне удалось сделать ее прибыльной. В прошлом году мы открыли 17 магазинов по всему миру, в этом планируем еще семь. Главное для меня – сделать компанию коммерчески успешной. И в то же время развить то, что было заложено Лаликом. Рене Лалик, в частности, делал люстры. Мы решили пойти дальше, и теперь под маркой Lalique выпускается еще и мебель в стиле ар-деко, с хрустальными вставками. А недавно ко мне пришел Жан-Мишель Жарр (давний поклонник творчества Лалика) и предложил сделать акустическую систему. Сначала мне это показалось безумием, но в итоге получилось здорово – с точки зрения звука колонки изготовлены на высшем уровне, и вместе с тем это еще и хрустальная скульптура. Ее делали вручную более десяти мастеров.
– Вы владеете замками Saint-Emilion – винный бизнес и Lalique как-то связаны?
– Для вина Château Péby Faugères 2009 года мы сделали бутылку с барельефом с черной птицей и виноградом по произведению Лалика 1928 года. Вино сделано из сорта мерло, и, кстати, «merle» по-французски – дрозд, черная птица.
– На последней выставке Baselworld Вы показали первую коллекцию haute joaillerie. К ее созданию Вы привлекли Анн Кадзуро, дизайнера Boucheron. Почему именно ее?
– Я два года искал человека для ювелирного направления. Нужен был тот, кто сумеет бережно отнестись к наследию Лалика (ведь в наших архивах более 4000 эскизов, многие из которых так и не воплотились) и сможет адаптировать его произведения для современных вкусов. Тот, кто сделает такое колье, что люди, увидев его, скажут: «Да, это Лалик». И в то же время будут готовы купить его и носить. Анн справилась с этой задачей – значит, я не ошибся в выборе. Вообще для меня важно не только работать с наследием Лалика, но и делать ультрасовременные вещи. Вот, недавно подписали контракт с Захой Хадид – будем создавать украшения для интерьера.
– Помимо прочего, Лалик делал «маскоты» – фигурки на капот автомобиля. Собираетесь ли Вы работать в этом направлении?
– Мы уже изготовили «маскоты» для «Bentley», «Maybach». Моя мечта – сделать дизайн автомобиля под маркой Lalique.
– А не лучше для бизнеса сосредоточиться на чем-то одном?
– Да, конечно, я бизнесмен. Но мне хочется создавать что-то, приносящее удовольствие для всех пяти чувств: ароматы – для обоняния, музыкальные системы – для слуха, мебель – для осязания, хрусталь – для любования, вино – для вкуса.
Роже Дав, парфюмер.
Ведомости. Пятница. 2011. № 18 (250)
Роже Дав занимается парфюмерией более 30 лет (из них 20 – в Guerlain). Но свой бутик под брендом Roja Parfums он открыл в лондонском Harrods лишь этим летом. «Я самый старый из новых парфюмеров», – шутит Дав. А на прошлой неделе корнер селективной парфюмерии Роже Дава появился и в Москве.
– Как Вы угадываете, что хочет получить человек, заказывающий аромат? Как «снимаете мерки»?
– Если вы думаете, что я веду с ним психологическую беседу, спрашиваю о его любимой музыке и пристрастиях в еде, то ошибаетесь. Я предлагаю ему «парфюмерный оргáн» (набор масел) и прошу «слушать» один запах за другим. И записываю в блокноте все, что клиент говорит по поводу каждого масла. Даже если это просто «м-м-м» или «гм». В итоге у меня складывается четкая картина его предпочтений. Причем я никогда не говорю «вот сейчас вы будете нюхать эссенцию розы» – это может все испортить: включаются рассудок, память, ассоциации, и впечатление от запаха будет не чистым.
– Куда движется современная парфюмерная индустрия? Победит ли масс-маркет или у каждого будет индивидуальный аромат?
– Индивидуального у каждого не будет. Это слишком дорого. Например, мой bespoke-парфюм (то есть заказанный мне. – Прим. ред.) стоит 25 тысяч фунтов. Но, действительно, люди устали от плодов глобализации, от того, что ароматы похожи один на другой. Согласитесь, это же скандал, если дамы окажутся рядом в одинаковых платьях, а носить на себе одинаковые или похожие духи, по мне, почти такой же конфуз. Люди устали от охоты за брендами и новинками. Я вижу, что сейчас богатые потребители готовы заплатить за одежду и парфюм чуть больше, чем раньше, но при этом дольше ими пользоваться. Поэтому в ближайшие годы спрос на продукцию маленьких парфюмерных компаний будет расти.
– В чем особенность селективной парфюмерии?
– В том, что ею занимаются именно парфюмеры, то есть люди, которые соблазняют людей не рекламой, а смешанными вручную ароматами. Я не шью платья, не делаю браслеты, не собираю кухонные гарнитуры, я – парфюмер. Как в «добрендовые» времена. Поль Пуаре, первый кутюрье, который выпустил аромат, был убежден, что ни одна женщина не будет покупать духи, сделанные ее портным, и парфюмера она выбирает гораздо тщательнее, чем модельера. Именно поэтому Пуаре выпускал духи не под своим именем, а зарегистрировал для них отдельный бренд («Розина»). Коко Шанель тоже не верила, что ее духи будут покупать, и сначала не продавала их, а дарила своим клиенткам в нагрузку к платью.
– Отчего же все изменилось?
– Заслуга рекламных технологий. И, кстати, самая удачная в истории рекламная кампания у Chanel No. 5. Это ведь единственный в мире аромат, который остается модным в течение 90 лет. А ведь был создан, когда, возможно, еще не родилась ваша бабушка.
– Селективная парфюмерия дороже обычной. Это такой ход – мол, дорого, значит, хорошо?
– Дело в том, что такие духи делаются небольшим тиражом и ингредиенты используются недешевые. Например, цена за литр натуральной эссенции жасмина, которую я покупаю в Грассе, вдвое выше, чем за килограмм золота. И покупаю я жасмин именно там потому, что это, на мой взгляд, лучший жасмин. Еще пример компонента, который дороже золота, – масло дерева уд, которому для полного созревания требуется несколько веков. На востоке его аромат используют с незапамятных времен, а для западного носа он непривычен. И поэтому я был поражен, что через неделю после открытия моего бутика в Harrods аромат Aoud (на основе этого масла) стал самым продаваемым. Не ожидал.
– Почему Вы решили открыть свой бутик в Москве?
– Все это стечение обстоятельств. Но вообще, в молодости я пару лет учил русский язык – собирался заниматься медициной в России. И я подумал, что Москва – удачный, символичный старт для выхода на зарубежный рынок, к тому же мне всегда ужасно хотелось здесь побывать.
– И чем же пахнет в Москве?
– Бензином. Да, увы, лишь бензином.
Филипп Трейси, шляпных дел мастер.
Ведомости. Пятница. 2012. № 50 (332)
Шляпы Philip Treacy носят голливудские актрисы и члены английской королевской семьи. Во время своего приезда в Москву дизайнер Филип Трейси рассказал о том, какой должна быть современная шляпа.
– Становится ли это снова модным – носить шляпы?
– В том-то и дело, что нет. Во времена Кристиана Диора, в 1950-е годы, дамы носили головные уборы, и это было символом статуса, аристократичности. В 1960-е годы на первое место вышли прически. Все эти утрированно очерченные каре вытеснили шляпы, отказ от головного убора был протестом против благовоспитанного общества, против прошлого поколения. Сегодня шляпы тоже не носят. И именно поэтому их стоит носить.
– Что Вы имеете в виду?
– Модная шляпа сегодня – это вызов. Она – нефункциональный аксессуар. Она не защищает от холода и солнца. Но если она есть на голове, она должна быть запоминающейся, необычной, дикой.
– Ваши шляпы как раз такие: модели-«фасцинаторы» в виде птичьих клеток, кораблей, перчаток, деревьев, «порхающих» бабочек. А обычные шляпы Вы не делаете?
– Делаю, хотя это не слишком афишируется. Я очень хорошо отношусь к строгим головным уборам. И сам ношу именно их. Но идя на интервью, я нарочно не надел шляпу. Это было бы слишком претенциозно – шляпник в шляпе, я бы чувствовал себя странно.
– Почему на Ваших шляпах нет названия бренда?
– Концепция в том, чтобы сделанные мной модели узнавались без всякого логотипа. Потому что логотип убивает роскошь. Посмотрите вокруг: сегодня марки, относящие себя к люксовым, на самом деле мало чем отличаются от растиражированного «Макдоналдса». Вообще мир моды сильно коммерциализирован.
– Но Вы же сами участвуете в коммерческих проектах. Взять, к примеру, Ваше сотрудничество с компанией Baileys, для которой Вы разработали дизайн бутылки и придумали фиолетовую заколку-тиару.
– Это не совсем так. Во-первых, Baileys – ирландский ликер, а я сам ирландец. Во-вторых, это классика жанра: классическая форма бутылки, классический вкус. А я уж точно совсем не классический дизайнер. И для меня эта работа была вызовом, возможностью поиграть с классикой, сделать ее свежей, забавной.
– С какими материалами Вы работаете?
– Больше всего люблю перья. Мне нравится «рисовать» перьями, выстраивать коллажи, мозаики, создавать трехмерность. Вообще в шляпах меня привлекает именно трехмерность. Нет другого аксессуара, который был бы столь же архитектурным, объемным. Туфли облегают ногу, сумка слишком функциональна. А шляпа – практически самостоятельная личность.
– Самостоятельной, например, стала «рогатая» шляпка принцессы Беатрис. У шляпки этой есть даже страничка в «Фейсбуке». А когда Вы поняли, что шляпы – Ваше призвание?
– Еще в колледже (Дублинский Национальный колледж искусств и дизайна. – Пятница.). Как-то я на рынке купил простенькую соломенную шляпу и сделал из нее что-то вроде головного убора, в которых ходят матадоры. Я показал эту вещь своему учителю. И он у меня ее купил. Отличный результат, подумал я.
– Как Вы придумываете новую модель для конкретного человека – смотрите на овал лица, цвет глаз, возраст?
– Я думаю о ситуации, для которой шляпа предназначена. Шляпу сегодня зачастую надевают один раз, ради особого момента. Как правило, радостного, хотя для похорон я тоже делаю шляпы. Потом я думаю о характере, психологии клиента. Мне надо несколько часов с ним пообщаться, задавая вопросы, совсем не касающиеся головных уборов. Ну и конечно, я думаю о внешности человека. Шляпа, как бы это пафосно ни звучало, должна красить лицо и одновременно быть продолжением души.
– В Вашем послужном списке – сотрудничество с домами моды Chanel, Givenchy, Armani. Не приходится ли Вам идти на компромиссы с собственным стилем?
– Скорее наоборот. Скучно иметь дело все время только с самим собой. А каждый раз, разрабатывая головные уборы для других домов, я решаю интересные стилистические задачки, веду диалог с историей и философией другого бренда. Это очень весело.
Лаура Лусуарди, креативный директор Max Mara.
Ведомости. Как потратить. 2013. № 14 (131)
Лаура Лусуарди более 50 лет работает в Max Mara. О том, как поменялась мода за эти десятилетия, а также о том, что общего между Россией и итальянским брендом, она рассказала во время своего визита в Москву.
– Что привело Вас в свое время в Max Mara и, главное, что заставило остаться работать на одном месте так долго?
– Мой отец продавал ткани, держал маленький магазинчик в Реджио-Эмилия, а Акиллле Марамотти, основатель Max Mara, как известно, родом оттуда же. Я росла среди тканей – отец научил меня их понимать и любить. Мало что доставляло мне такое же удовольствие, как трогать гладкий шелк, мягкую шерсть… С самого детства я решила, что, когда вырасту, буду тоже заниматься тканями, модой. В 18 лет пришла к Акилле Марамотти наниматься на работу. Сначала выполняла мелкие поручения, приносила кофе, отвечала на звонки. И постепенно срослась с Домом – я взрослела в нем, развивалась, делала успехи, мне поручали все более и более ответственные задачи. И скоро уже не представляла себе жизнь без Max Mara.
– Вы приехали в Москву, в частности, чтобы провести закрытое trunk-show в Петровском пассаже и лично подобрать комплекты для показа. Насколько это сегодня распространенная практика, когда креативный директор сам подбирает одежду для клиентских шоу?
– Определенно, в этом можно видеть современный тренд. Это своего рода противостояние глобализации, обезличенности модной индустрии. Мне здесь важно даже не то, что я сама собираю вещи для показа, а то, что я могу лично пообщаться с покупателями, с теми, кому нравятся наши изделия. Ну и мне всегда интересно посмотреть, как одежда Max Mara смотрится на женщинах в разных странах. Приятно видеть, что москвички, одетые в Max Mara, выглядят как жительницы Милана или Парижа.
– Насколько я знаю, у Вас обширная культурная программа в Москве – посещение Большого театра, Исторического музея, современных культурных кластеров, блошиных рынков. Вы приехали сюда в том числе и за идеями для новой коллекции?
– Не буду скрывать, отчасти так оно и есть. Самый важный пункт в программе для меня – это Большой театр. Я в восторге от балета, и от российского особенно. Мне кажется, у вас действительно одна из лучших балетных школ в мире. И коллекция весна – лето 2014 года во многом посвящена балету. Но не пафосной красоте, не блеску, который мы видим на сцене, а закулисью – простой элегантности, грации, хрупкости балерины, которая готовится к выступлению. Я была за кулисами Большого театра и была в его мастерских, видела, как ведется работа над костюмами. Это очень красиво само по себе, настоящая магия.
– Россия часто становится вдохновением для Max Mara. У Вас была коллекция, посвященная доктору Живаго, была матрешка в пальто Max Mara, было пальто, посвященное Анне Карениной. Список можно продолжать. Откуда такое особое отношение?
– К вашей стране у меня, правда, особые чувства. Здесь меня привлекают не просто какие-то отдельные элементы культуры, эстетики, не просто искусство или литература (хотя и это тоже, конечно). Россия сама по себе – уникальный феномен. Ее история – это несколько историй, сплетенных в одну, и каждая из них – отдельный мир: царская Россия, советская Россия, современная. Такое чувство, что вы все время начинаете с чистого листа, но в то же время между этими «историями» – эпохами есть преемственность. И эта особенность, на мой взгляд, характеризует философию моды в целом и философию Max Mara в частности. Никому не интересно покупать коллекции «исторических» вещей, чья идея основана только на прошлом, но также мало кого привлекает футуризм в чистом виде. Идеальная новая вещь – это вещь, в которой читаются и прошлое, и настоящее, и будущее.
– Нет ли у Вас в планах какой-то специальной коллекции, посвященной России?
– Мы выпустили пальто, посвященное 120-летию ГУМа. Это, конечно же, наша «икона» – модель 101801, классическое camel coat (пальто песочно-бежевого цвета. – Прим. ред.). С поясом и с особой этикеткой, на которой изображен ГУМ.
– Какое влияние на Ваше творчество оказывают другие страны, другие культуры?
– Я часто ищу вдохновение, подпитываюсь идеями национальной одежды разных стран. Среди любимых вещей – платья Древнего Китая, такие лаконичные и нарядные в то же время, витиеватые индийские украшения. Одно из них сейчас на мне – сережки в виде черепах. Современность тоже не оставляю без внимания. Например, эстетика немецкой архитектуры Баухауса воплощена в осенне-зимней коллекции Max Mara. И не случайно: сдержанность цвета, геометричность форм, чистота линий, функциональность – все это есть и в Баухаусе, и у Max Mara. Моде недостаточно нести красоту – она не должна мешать женщине, сковывать ее, требовать жертвы. Мода должна быть полезной, удобной.
– Почему именно пальто 101801 стало визитной карточкой бренда, Вашей «иконой»? Что для Вас значит эта модель, что в ней такого особенного?
– Во-первых, тут и история Дома – именно с пальто началась компания Max Mara. Сама модель 101801, которая появилась в 1981 году, остается наиболее продаваемой у нас на протяжении десятилетий. Все в Max Mara строится вокруг пальто: платья, туфли, сумки заставляют пальто играть по-новому. Во-вторых, это пальто вне времени, оно было актуально и в 1980-е, и сегодня, оно заставляет каждую женщину, которая надевает его, найти свой стиль «внутри» пальто. Интересно, что, когда наша компания начиналась, наш потребитель был другим, не таким, как сейчас. Акилле Марамотти говорил когда-то, что делает пальто для жены доктора и жены адвоката. Сегодня мы делаем вещи для женщин-докторов, женщин-адвокатов, для современных, самостоятельных, самодостаточных женщин, но, удивительно, базовый стиль Max Mara от этого не меняется.
– Мир меняется стремительно. Интернет-продажи, социальные сети, торжество масс-маркета – как Вы сегодня себя ощущаете в этой новой реальности?
– Конечно, мне приходится принимать эту реальность. Я беру от нее то, что удобно. Не расстаюсь с айпадом, понимаю важность Интернета как источника информации. Но есть, безусловно, и пределы этого. Не думаю, что мы будем активно продавать вещи через Интернет. Также не вижу смысла, например, в коллаборациях с массовыми брендами, которые сейчас стали очень популярны. Мне это неинтересно.
– Max Mara постоянно сотрудничает с разными дизайнерами: Карлом Лагерфельдом, Доменико Дольче и Стефано Габбаной и др. С кем бы еще Вам было интересно поработать?
– Мы все время в поиске новых людей, новых идей. Сегодня меня очень привлекают молодые лондонские дизайнеры, их оригинальное видение, кажущаяся простота, виртуозность кроя.
О мужской моде
Умберто Ангелони, портной.
Ведомости. Пятница. 2010. № 43 (226)
Основатель мужской марки Uman Умберто Ангелони приехал в Москву открывать корнер в ЦУМе. Он рассказал, за что любит синий цвет и почему современная размерная сетка устарела.
– Вы более 15 лет проработали в Brioni, были там исполнительным директором. Почему ушли?
– Я считал, что марку пора продавать. Что она переросла концепцию «семейной компании» и что ей следует выходить на новый, коммерческий уровень, стать частью крупной корпорации, например. Но члены семьи не были со мной согласны. И тогда я продал свою долю акций и ушел – чтобы основать собственный бренд.
– Ниша классического мужского костюма заполнена. Вы предлагаете нечто новое?
– Я отказался от привычной размерной сетки. Вы знаете, что усредненные размеры придумали во время Второй мировой, когда надо было производить одежду для миллионов солдат? Но мы живем в другом мире. Я воспользовался исследованием компании Alvanon, которая отсканировала и перевела в 3D-изображения 3,5 тысячи человек; учитывались также их возраст, социальное положение, происхождение. Затем запросил параметры мужчин, живущих в Милане, Париже, Лондоне, спортивных, обеспеченных, в возрасте около сорока. И составил размерную сетку, в которой так и значится: Uman-01, Uman-02 и т. д. Когда человек приходит в мой магазин, с него снимают пару мерок (груди, талии) и выдают костюм, который сидит, будто сшит на заказ.
– Ну а крой? Все что можно, уже изобретено.
– Я взял от портновских традиций то, что было практически утеряно в угоду увеличения производства. Так, у современных пиджаков передняя вытачка от груди к карману прямая – так делать быстрее и дешевле. У моих костюмов эта вытачка изогнута – она позволяет пиджаку облегать фигуру.
– А почему все Ваши вещи синие?
– Это мой любимый цвет. Синий благодаря Пикассо, Матиссу, а также Малларме, Гёте и прочим стал цветом интеллектуальным. К тому же это самый износостойкий цвет, и еще у него 20 тысяч оттенков – больше, чем у любого другого.
– У Вас вещи ручной работы из качественных тканей, но цены относительно невысоки (1,5–3 тысячи евро за костюм). На чем-то экономите или демпингуете?
– Мы не даем рекламы – рассчитываем только на сарафанное радио. Кроме того, не открываем бутиков – только корнеры. У меня план – открыть по одному корнеру в крупных городах мира, их будет около тридцати. Москва стала шестой по счету в этом списке.
– А кто был Вашим первым покупателем?
– Мой друг по имени Кофи Аннан (Генеральный секретарь ООН (1997–2006). – И.О.). Он как-то пришел ко мне и спросил: «Ну и чем ты теперь занимаешься?» Я показал. Ему понравилось, и он купил костюм.
– Вы выдаете покупателям книги. Что это за книги и зачем они человеку, пришедшему за пиджаком?
– Кризис изменил культуру потребления. Люди больше не хотят переплачивать за салфетки с надписью именитого бренда. Они хотят, чтобы им объяснили, за что они платят. И я объясняю. Главная книга называется «Лексикон». Я сам ее написал и излагаю в ней философию моего бренда, рассказываю, что значит быть денди. Помимо этого, к пиджакам прилагаются и другие книги. Так, к смокингу положено эссе «С наступлением ночи» британского журналиста, писателя Ника Фулкеса. Подзаголовок к книге: «Ночь – время, когда мужчина ужасно себя ведет и прекрасно выглядит».
– Российским авторам не думаете предложить написать эссе про какой-нибудь костюм?
– Думаю. А вы бы согласились сделать это для меня?
Джанлука Исайя, внук основателя компании Isaia.
Ведомости. Как потратить. 2014. № 16 (149)
В Петровском пассаже открылся первый монобрендовый бутик неаполитанского бренда мужского костюма Isaia. В честь этого события в Москву приезжал Джанлука Исайя, внук основателя компании и нынешний ее глава. Он рассказал, что будут носить мужчины через пару сезонов, как издалека отличить хороший костюм от плохого и что общего между роскошью и хулиганством.
– Костюмы Isaia продаются в России уже много лет. Почему решили обзавестись монобрендовым бутиком в такое неоднозначное время? Затяжной экономический кризис, политические трудности не пугают?
– Я доверяю нашим российским партнерам, которые предложили открыть магазин именно сейчас. И думаю, это правильно: если начинаешь дело в тяжелое время, потом будет только проще – это настоящее испытание на прочность. Вообще, мне кажется, у России и Италии много общего, есть какая-то духовная близость. Например, и про нас, и про вас во всем мире сочиняют всякие негативные мифы. У нас мафия, у вас мафия. И, знаете, мы должны держаться вместе, как это принято у друзей или в семье.
– Кстати, о семье. Через несколько лет Isaia будет отмечать 100-летний юбилей, и он до сих пор остается семейным брендом. Нет ли соблазна стать частью большого холдинга?
– Нет, об этом мы не думаем. Но надо понимать, современная «семейная» компания совсем не то, что сто лет назад, и тактика ведения бизнеса изменилась. Сейчас на очереди уже четвертое поколение Исайа, и наша задача сделать из наследников настоящих менеджеров. Они должны учиться, получить опыт управления в других компаниях, да, они должны стать профессионалами. И лишь тогда они смогут войти в топ-менеджмент фирмы. Так что быть одной крови мало для того, чтобы руководить современной семейной компанией. Но конечно, у семейного дела есть свои неизменные особенности, от которых никуда не денешься: непросто порой найти гармонию между семейными и деловыми отношениями, особенно когда речь идет о принятии решений. Ведь нам приходится больше считаться друг с другом, чем в обычной компании с наемными работниками.
– А как Вы учились, какими были Ваши первые шаги в Isaia?
– Когда мне было 15 лет, я отправился в Лондон и устроился в магазин мужской одежды. Работа у меня была не слишком интеллектуальная, в основном я складывал рубашки и развешивал костюмы. Но для меня все равно это был важный шаг, это было первое настоящее соприкосновение с миром мужской моды, первое погружение в среду.
Потом поступил в университет (Milan’s Bocconi University), а параллельно начал практиковаться у одного из менеджеров Isaia, у нашего представителя в регионе Венето. Практика состояла в том, что я таскал за ним повсюду чемоданы с одеждой. Ну и, само собой, внимательно слушал все, что он говорит, учился, впитывал.
Следующим этапом была поездка в США, работа в старейшем и очень уважаемом магазине Louis Boston. Там я познакомился и подружился с американским рынком, который сегодня является для нас важнейшим.
– Символ Вашего бренда, Ваш логотип – коралловая веточка. Знаю, коралл еще и своеобразный символ Неаполя, и знак удачи, и мифологический образ. Ну а кто и когда придумал этот логотип?
– Дело было так. В 2005 году мы решили превратить наше ателье по пошиву мужского костюма в бренд, решили оживить бизнес. В то время у Isaia была такая обычная черная этикетка, и когда я надевал пиджак, эта этикетка заставляла меня чувствовать себя таким старым, таким скучным. Я долго носился с идеей поменять хотя бы цвет этикетки, хотел перекрасить ее в голубой. (Очень люблю остров Капри, а там есть Голубой грот, который навел меня на такую мысль.) А потом один друг привез мне из Торре-дель-Греко кусочек коралла. Я подвесил коралл на цепочку и стал носить как талисман. Как-то я заболел, прихватило спину. Ко мне пришел массажист, я снял подвеску и бросил ее на стол. От коралла откололся кусочек. Я ужасно расстроился, но друг сказал мне, что так и надо, что он разбился, чтобы помочь мне выздороветь. А я понял, что именно коралл должен стать символом нашего бренда, символом нашего будущего успеха. Сегодня тот разбитый коралл, с которого все началось, хранится в нашем бутике в Милане.
– Да, составляющая любого бренда класса luxury – это легенда, и для Вас это коралловая веточка. Но, мне кажется, сегодня роскошь обогатилась еще одним качеством – иронией.
– Да, это правда. Важно быть самоироничным, быть немножко хулиганом. Так, наша коллекция осень – зима 2015 года посвящена неаполитанской кухне. И на фото из нашего рекламного буклета джентльмены в прекрасных костюмах едят руками спагетти.
– А как Вам собственно неаполитанская кухня? Что особенно любите?
– Неаполитанская кухня – интересный феномен. Там множество всяких традиций переплелось. Ведь Неаполь был под византийцами, под французами, испанцы и арабы тоже внесли свой вклад в историю и культуру Неаполя и, конечно, в его кухню. А самые интересные блюда рождаются в тяжелые времена. Возьмите неаполитанскую пасту: туда добавляют и картофель, и горошек, всего понемножку. Такие блюда, конечно, возникают от бедности, когда берутся остатки продуктов и все смешивается.
– Сами готовите?
– Обожаю. Мое коронное блюдо – эскалоп из телятины с лимоном. Очень просто. Но простые блюда гораздо сложнее готовить, чем изощренные.
– В моде то же самое. Сшить обычный костюм, но так, чтобы он сидел, в чем-то сложнее, чем изготовить задрапированное платье косого кроя. И вот, по поводу кроя. Классические пиджаки Isaia – приталенные, с высокой проймой. Насколько такие модели хорошо сидят на не очень стройных мужчинах, или Ваш клиент – только спортивный, подтянутый?
– Вот здесь вы не правы. Есть распространенное заблуждение, что чем полнее мужчина, тем ниже должна быть пройма рукава. А на самом деле наоборот: чем она выше, тем лучше костюм будет сидеть. А проверить, хорош ли костюм, помогает «трамвайный» тест, как я его называю. Когда мужчина поднимает руку, чтобы взяться за поручень, костюм должен остаться на месте, он не собирается в складки, не съезжает на бок. И среди прочего именно высокая пройма за это в ответе.
– Как сегодня изменился костюм? Как эволюционировал классический крой?
– Сегодня носят брюки с плоской передней частью – без защипов. Изменилась сорочка. Она стала более спортивной, приталенной. И открою секрет, через пару лет в моду снова войдет двойной воротничок. Пуговиц на пиджаке сегодня две, все популярнее именно такая модель. Вернулся двубортный пиджак, но теперь он короче и облегает фигуру, а не висит мешком.
– Участвует ли Isaia в гонке мужских люксовых брендов за тонкими тканями, в этом негласном соревновании? Когда один выпускает шерсть Super 180, а другой Super 250?
– Мы участвуем, да, но, если честно, самая красивая ткань – не значит самая тонкая. Мне нравятся плотные материалы, уютные, может, ворсистые. Они лучше всего смотрятся. Хотя, конечно, у нас есть очень дорогая линия тканей (от Super 150 и выше) – Shiameria. У этого неаполитанского слова два значения. Так в XVIII веке называли сюртук, который носили аристократы. Второе значение – «страстная ночь»: те же аристократы, когда не хотели, чтобы романтической ночью их беспокоили слуги, вешали на дверь сюртук. Мы выбрали это слово именно, чтобы подчеркнуть ее роскошность и связать ее с образом женщины. Женщинам же тоже нужен не просто мужчина, им нужен мужчина, который может дать им красивую жизнь, дать им роскошь.
– К вопросу о женщинах. Не хотите запустить для них отдельную линию, как многие Ваши коллеги?
– У нас есть бижутерия, которую покупают и мужчины, и женщины, есть единичные вещи, женский смокинг, например. Но отдельную линию – нет. Мы традиционный мужской бренд. И не собираемся это менять.
– Но время меняется, идете ли Вы ему навстречу в каких-то вопросах? Применяете ли современные технологии?
– Одно из новшеств – мы хотим перевести наших портных, которые работают на индивидуальных заказах su mesura, на айпады. Портные будут снимать мерки и заносить их в айпад, а не в блокнот. Для этого мы разрабатываем специальное приложение. Да, мы компания c твердыми принципами и богатыми традициями, но компания современная, идем в ногу со временем и иногда его опережаем.
О русской моде
Вячеслав Зайцев.
Ведомости. Как потратить. 2013. № 10 (127)
В 2013 году российский модельер Вячеслав Зайцев отмечает юбилей – 75 лет. «Не рифмованный я человек» – так он отзывается сам о себе. Однако его жизненный и творческий путь доказывает обратное.
Он выходит из лифта своего Дома моды (11-этажное здание на проспекте Мира) и направляется ко мне с сияющей улыбкой. На нем розовый пиджак, оливковые брюки, красные кеды – и выглядит все это вместе удивительно гармонично. То же самое можно сказать и о его любимом детище: Вячеславу Зайцеву удалось построить не просто Дом моды, а целую империю, в которой есть и Лаборатория моды, и Театр моды, и появившаяся недавно Школа для девочек. Дважды в год Зайцев демонстрирует новые коллекции на Неделе моды Mercedes-Benz, активно участвует в работе ателье, занимается общественно-полезными вещами вроде разработки школьной или медицинской формы. А уж всех его званий и наград не перечислить: заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», почетный гражданин Парижа и прочая, и прочая.
– Сделайте девочке кофе. Ну классический, по моему рецепту. Я вообще готовить с детства люблю, но без выпендрежа, простую пищу, то, что сам ем: солянка там, каша, картошка жареная.
– Не думали книгу рецептов выпустить?
– Да нет. Я не готовлю по строгим рецептам. Все интуиция. Беру хорошие, свежие продукты и ваяю. Главное – не пересолить. Я и коллекции создаю так же. Бывает, нарисуешь эскиз, а начинаешь его воплощать – и ткань ведет за собой, уводит в другую сторону. Собственно, в этом смысл «муляжного метода», когда вещь делается прямо на манекене – ткань подкалывается, где надо, драпируется, подхватывается, и рождается платье, без всяких выкроек.
– Муляжный метод – Ваше ноу-хау?
– Я просто вернул его к жизни, возродил, в моей Лаборатории моды есть целый курс, посвященный ему. Но на самом деле это классика, еще Надежда Ламанова его использовала. Да и Коко Шанель.
– У Вас в Доме моды работает около ста человек (мастеров, швей, вышивальщиц). Вы могли бы сегодня просто руководить, давать ценные указания и не принимать участия непосредственно в производстве…
– Вы правы, я же президент собственного Дома и должен именно руководить, да и вся административная работа, хозяйственная часть на мне. Честно, все это мне не близко, я мало что понимаю в управлении. Люблю творить, вот настоящее удовольствие. Ужасно жалко, что мало времени сегодня остается на это.
– Чтобы все успевать, Вы, наверное, очень рано встаете?
– Встаю-то я в шесть. Но на работу приезжаю не раньше десяти. Живу в 70 км от Москвы, в усадьбе. Земля, сосны вековые, дубы, воздух, река, глушь полная. Очень там хорошо, отдыхаю душой.
– Подходящая атмосфера, чтобы книги или стихи писать…
– Стихи я писал одно время. Когда мне было тяжело, когда нужно было душу излить. Причем до этого никогда ни строчки не написал и не читал стихов. Не рифмованный я человек. А тут вдруг раз – и целую серию выдал. Сегодня же все стабильно, все хорошо, может, скучно немного. Не пишется почти.
– Что это был за тяжелый период?
– 1978 год. Умерла мама. А я тогда решился уйти из Дома моделей на Кузнецком Мосту (ОДМО. – Прим. ред.), где проработал почти 15 лет. Надоело. То, что мы там делали, было не для людей, это был какой-то параллельный мир. То, что мы придумывали, не доходило до потребителя. Мне захотелось сделать свое дело, сделать что-то значимое, настоящее. Я ушел и остался ни с чем. Пришлось начинать все с нуля.
– И уже через три года у Вас был свой Дом моды.
– Но настоящая независимость пришла в 1996 году, когда я уволил худсовет, администрацию. Много там было пустых людей, которые только и мечтали о том, чтобы одеться у меня на халяву. И тогда я стал президентом Дома. И конечно, я рад, что мне удалось выжить в кризисы, не потерять независимость, не продаться никому.
– Возвращаясь в прошлое: в 1960-е годы у Вас была некоторая независимость, Вы работали на экспериментальной швейной фабрике Моссовнархоза, возглавляли экспериментальную группу в Доме моделей на Кузнецком. Тяжело было? Или хрущевская оттепель тогда еще чувствовалась?
– Ох, все было очень сложно. В 1963 году я сделал коллекцию цветных телогреек, валенок и юбок. И началась травля – худсовет сказал, что я устроил цирк. Такие тогда были арбитры моды. Коллеги, которых я считал друзьями, отвернулись от меня. И тогда меня спас магазин «Светлана», был такой на Кузнецком Мосту. Я стал делать для него одежду. Регулярно приезжал туда, с манекенщицей и с уборщицей. Уборщица была очень хорошая, умная женщина, она выполняла роль стилиста, костюмера. Она была одной из немногих, кто поддержал меня тогда.
– А та самая коллекция цветных телогреек разве не привлекла к Вам внимание Запада? Ведь именно тогда появились публикации о Вас в Vogue, Paris Match, а Вас стали называть «красным Диором».
– Да-да. На самом деле, хотя то время было очень сложным, именно тот период я вспоминаю чаще всего. Всплывают яркие картинки-воспоминания… Вот мы живем в комнате в коммуналке, у меня трехлетний сын Егор. Журналист из Paris Match приехал делать обо мне репортаж, и в комнате так тесно, что ему пришлось влезть на холодильник, чтобы снимать. А вот мы фотографируемся с Ги Лярошем и Пьером Карденом. Знаковое для меня фото!
Или вспоминается моя первая встреча с Пьером Карденом, который узнал обо мне из статьи в Paris Match. Она состоялась в 1965 году, в гостинице «Украина». Помню, с Пьером была его стилист. Мы все вместе зашли в лифт, и на меня пахнуло какими-то волшебными духами, пахнуло Парижем, а на женщине были белые сапоги, белое платье Андре Куррежа… Это было так прекрасно.
– Ваша последняя коллекция называется «Ностальгия». По какому периоду эта ностальгия?
– По 1990-м годам. Эта ностальгия ведь сейчас не только у меня. Девяностые сегодня в моде, очень популярны. А сделана коллекция по архивным эскизам, многие из которых никогда не были реализованы. В то время они могли бы оказаться непонятыми, а сегодня я, конечно, подкорректировал их, осовременил, но те годы в нарядах читаются. Вообще, сколько себя помню, я много работал в стол, у меня грандиозный архив неисполненных эскизов сохранился. Не только из 1990-х, но и из 1960-х, 1980-х годов.
– Вы продолжаете рисовать эскизы от руки или используете современные технологии, например 3D-моделирование?
– Только от руки, ну что вы, только от руки. Но современные технологии меня тоже иногда захватывают. Последнее увлечение – фотоживопись. Я фотографирую цветы, размещаю их в компьютерной программе, колдую над ними, а потом вывожу на печать в огромных картинных форматах – полюбуйтесь, эта картина на стене сделана именно таким образом. Вот думаю использовать этот метод для создания принтов на тканях.
– Помимо фотоживописи, Вы ведь увлекаетесь и обычной живописью. Многие Ваши картины – в частных коллекциях, несколько работ входят в собрание Третьяковской галереи. Что такого Вам дает живопись, чего не дает мода?
– Все просто. Для чего мода? Чтобы делать людей счастливыми, нести радость цвета, красоту форм. А живопись для меня – это спасение, психоанализ. Я могу выплеснуть на полотно любую свою эмоцию. Делаешь линию, ведешь ее, а она сама тебя ведет, как ткань, потом заполняешь цветом… Помню свою персональную выставку в Сан-Франциско. Все тогда сложилось совершенно случайно. Я поехал в Америку, Серж Сорокко, муж моей бывшей модели, предложил сделать выставку. И дал мне на подготовку 25 дней. Я каждый день писал картины с утра до вечера и сделал 50 работ. Когда их повесили, я обомлел, не ожидал – неужели это я все это великолепие сделал!
– Вы регулярно участвуете в телешоу. Вам нравится работа на телевидении?
– Мне это действительно интересно. Если вспомнить «Модный приговор», там все было по-настоящему, никакой игры. И я чувствовал, что выполняю действительно важную миссию. Я так радовался, когда герои передач перевоплощались, плакал вместе с ними от восторга. Ушел с проекта, потому что мне тяжело говорить – после инсульта возникли проблемы с голосом, не могу говорить громко. Я стал чувствовать себя не так уверенно. А я этого не люблю. Если я что-то делаю, то должен делать на все сто.
– Если говорить о важных миссиях, школьная форма, которую Вы разработали для российских учеников, это тоже искренне? Вам действительно близка идея, что дети должны выглядеть одинаково?
– Я, конечно, не люблю, когда все под одну гребенку. И я сам всю жизнь плыл против течения. Но что касается школьной формы, во-первых, форменная одежда на детях может быть очень эстетичной, красивой. Плюс форма дисциплинирует и вселяет в человека чувство спокойствия, причастности. Но конечно, она не должна быть однообразной, это должен быть гардероб с набором удобных практичных и красивых вещей. Свой вариант я придумал очень быстро, как-то само собой получилось. В понедельник был на трикотажном комбинате в Уфе, говорю им: слушайте, ребята, сделайте-ка мне кардиганчики, пуловеры такие в английском стиле. Показал им эскизы. И в среду уже была готова коллекция. Трикотаж – это самое то для детей: не сковывает движения, не мнется.
– К слову, о детях. Довольны ли Вы, что сын Егор пошел по Вашим стопам, стал дизайнером?
– Это получилось само собой. Он очень талантливый человек, тонко чувствует время, тенденции. Он долго работал со мной в Доме моды. Потом начал создавать самостоятельные проекты – такие архитектурные перформансы, очень сложные, оторванные от жизни. И, кстати, он пришел к этому раньше, чем Джон Гальяно. Я посоветовал попробовать делать что-то более «носибельное», приземленное, он попробовал, получилось, и это все идет на ура.
– А современные российские дизайнеры, что Вы думаете о них?
– Ну что мне думать, ведь очень-очень многие из них мои ученики, и я не могу не радоваться их успехам, талантам.
– Почему в Москве целых две недели моды? Парижу одной вполне хватает.
– Ну, их просто делают две конкурирующие организации, которые не могут между собой договориться. И та и другая неделя довольно хорошо развиваются, много интересного там происходит. Почему я на Российской неделе моды Mercedes Benz? Ну ведь на Неделе моды в Москве (бывшая Volvo Fashion Week) правит Валя (Валентин Юдашкин. – Прим. ред.), мой друг, мой ученик.
– Признайтесь, за всю Вашу карьеру был ли хоть раз соблазн уехать куда-нибудь, например в Париж, в Лондон? И завоевывать мир моды там?
– Предложения были, да. Соблазна не было. Хоть здесь и тяжело бывало временами, был и абсурд, и травля, и непонимание. Но уехать никогда не хотел. Я нужен здесь, в России. И Россия мне нужна.
Валентин Юдашкин.
Fashion Collection [3] . 2008. № 55
Этот год – юбилейный для Валентина Юдашкина. Ровно 20 лет исполнилось его Дому моды и 45 – ему самому. Казалось бы, можно с чистым сердцем почивать на лаврах и пожинать плоды успеха. Но для дизайнера 2008 год – начало нового отсчета, новых свершений и открытий. О планах на будущее Юдашкин рассказал в рубрике «Мастерская».
– Темные однотонные стены, мебель ампир, элементы барочных фресок, минималистские светильники в духе хай-тек. Ваша мастерская – это удивительное, казалось бы, странное смешение эпох, стилей, но такое при этом гармоничное. В чем секрет?
– Мне кажется, главное, чтобы стиль помещения был живым, теплым. И если дизайн выполнен с любовью, никакого противоречия не возникнет. Посмотрите, как органично соседствуют старинные гравюры с современными фотографиями, со стеклянными элементами хай-тек…
– Вы упомянули о «тепле» в интерьере… Но ведь хай-тек – это холод, стерильность…
– Если это умный хай-тек, обогащенный историзмом, то он вовсе не холоден. Хай-тек в чистом виде сегодня неактуален. Нет больше стеклянно-металлического, лабораторного бездушного пространства. Современный хай-тек пронизан человечностью. В этот стиль добавилось влияние 1960–1970-х годов, привнесших с собой буйство цвета, элементы поп-арта, душевность, живую энергетику.
А вообще, если говорить об интерьере нынешней моей мастерской, то могу сказать, что это, так сказать, стиль ребрендинга! Мы готовимся к переезду.
– А куда? И что изменится?
– О-о, это удивительное место и удивительный проект. Представьте себе – Вознесенский переулок, здание XVIII века… А отдельные помещения даже относятся к веку XVII. В этом доме родился Сумароков, жил Баратынский, гостил Чайковский… Пять лет мы реставрировали здание, воссоздавали его историческую красоту. И сейчас хотим наполнить его стены новой жизнью, современными идеями, которые будут органично соседствовать со стариной. Хотим создать вкусный коктейль из истории и сегодняшнего дня, эдакий насыщенный фьюжен. Из Милана и Парижа, из антикварных домов Европы сейчас едет изысканная мебель, ведутся последние приготовления. А «инаугурация» нового concept-store, новой мастерской, думаю, состоится в декабре.
Еще один сумасшедший проект будет воплощен в следующем году на Кутузовском проспекте, напротив нашей нынешней мастерской. Это «дом моды» в прямом смысле слова – бутики, рестораны, гостиничные номера самого высокого уровня… «Космические» стены из стекла и уникальные старинные, живые вещи в интерьерах. Живые, потому что в них – жизнь разных эпох, культур, в них можно прочесть историю моды…
– Помимо живого и теплого интерьера, что еще Вам важно в творческом пространстве?
– Порядок! Все эти истории про творческий беспорядок – не для меня. Я точно должен знать, где у меня что находится, чтобы не тратить лишнее время и силы на поиски. Взять хотя бы мою коллекцию книг. Здесь все как в серьезной библиотеке. На отдельной полке книги по ар-деко, специальное пространство для японского или африканского искусства… Все четко структурировано.
– И в самой моде Вы тоже любите структуру? Как можно заметить по Вашей юбилейной выставке «Тайны haute couture»…
– Совершенно верно. Этот проект, который помогли мне создать Анна Бек и Андрей Шаров, – попытка вычислить скрытый код моды вообще и всего моего творчества. Попытка систематизировать и свести тридцать моих коллекций, в которых представлено более полутора тысяч костюмов, к четким образам. Например, «Жизнь-карнавал» – это экзотические модели и буйство красок, «Эдем» – флористические мотивы…
Эта выставка мне очень дорога. Там представлены вещи, в которые вложено столько любви, тепла человеческих рук, кропотливого труда. Зрители, наблюдающие дефиле на подиуме, не могут так почувствовать это волшебство, таинство работы художника, как на камерном пространстве выставочного зала.
– Вы представляете на этой выставке своеобразное резюме своего творчества… Не возникает ли желания вернуться к некоторым идеям, возродить их на новом уровне?
– Оглядываясь назад, понимаешь, что в прошлом было много идей, заявленных, но не доведенных до конца, не доработанных… И задаешься вопросом: почему не развил, не раскрыл их полностью… Но с другой стороны, обращение к прошлому – это другая профессия, историка, искусствоведа. Если же ты занимаешься модой, ты должен быть здесь и сейчас, должен быть в настоящем, устремляясь в будущее. Поэтому я смотрю на свои ранние работы как на музейные экспонаты, а не как на материал для творчества.
– И все-таки «Юдашкин» – это бренд, а значит, ему присущи постоянство, узнаваемость…
– Да, я добился того, что если по улице идет женщина в моем платье, окружающие понимают, что это платье «от Юдашкина»… И это постоянство внутри меня, как стержень. Сильного художника не бросает из течения в течение, он неподвластен изменениям моды, он живет в царстве собственного стиля.
Я пережил увлечение минимализмом (который привнесли в моду бельгийские дизайнеры), японским конструктивизмом, английской сложностью… И остался собой. Как бы ни менялись мои коллекции от сезона к сезону, всегда остается некая постоянная величина.
– Расшифруйте эту величину!
– Во-первых, это точность и сложность конструктивной формы. Во-вторых, женственный силуэт, в котором подчеркнута анатомия фигуры. Ну и самый главный признак – то, что можно назвать русским шиком.
– Когда Вы начинали, 20 лет назад, Россия была закрыта для новомодных течений, находилась в визуальном вакууме… Где Вы черпали тогда вдохновение, искали красоту?
– В книгах, в музеях, в обрывках фильмов… Искал вдохновение в запечатленном прошлом европейской и российской культуры.
– Сегодня, в эпоху информационного бума, когда выбор так велик, не стало ли сложнее придумывать что-то свое?
– Стало интереснее. Очень часто идеи приходят мне в путешествиях, когда я отдыхаю и улетаю душой и телом от повседневности. Но я не могу сказать, что идея рождается «вдруг». Она копится, зреет, крепнет и в один прекрасный день принимает четкие очертания. Процесс создания коллекции – это как плетение бус. Медленно набираешь бусинки одну за одной, видишь, как что-то вырисовывается, а потом нить рвется, и приходится нанизывать заново. У меня часто бывает, что я делаю коллекцию и на определенном этапе понимаю, что она меня больше не трогает, не волнует. Тогда останавливаю работу и начинаю с белого листа. Ищу новые «бусины».
– Что вдохновило Вас в создании новой весенне-летней коллекции, которую Вы недавно продемонстрировали в Милане?
– Это сложный микс, в котором слились мотивы, взятые из пейзажей русских художников-передвижников, чуть ностальгическая, щемящая музыка Свиридова, летящие силуэты 1990-х… Главная тема – русская природа, образы полевых колосьев, венков, цветов. По колористике общий дух коллекции – нежное туманное утро русской деревни…
Каждый сезон я стараюсь найти какой-то основной лейтмотив, главную идею. Например, осень – зима – это модерн (который прослеживается в плавности силуэта, в мягкости тканей), сплетенный с неоготикой 1990-х годов, которую можно найти в жесткости цвета.
– Почему Вы объединили две столь непохожих концепции – неоготику и модерн?
– Я хотел показать, что женщина может оставаться женственной, даже живя под жестким давлением геометрии городского ритма. А еще мне было очень интересно раскрыть, каким богатым может быть черный цвет, сколько в нем оттенков, полутонов, как он оживает в сочетании с серебристо-серым… Это как темное небо, на котором зажглись яркие звезды…
– Создание коллекции – длительный процесс со своими этапами, трудностями. Что в этом процессе самое приятное, а что самое сложное?
– Самое приятное и одновременно сложное – это собственно создание, работа, которой живешь долгие месяцы. Самое страшное – это начало, когда только придумываешь идею. И наконец, самое простое – демонстрация коллекции. Здесь уже ничего не изменить, все готово, все пережито. Хотя, конечно, перед показом я всегда волнуюсь, как в первый раз. И это нормально для художника. Недавно я говорил по телефону с Пьером Карденом. Ему сейчас 85 лет, и он рассказывал, что до сих пор волнуется перед своим очередным показом. Нельзя выходить к людям пустым, нельзя не переживать, нельзя смотреть на зрителя свысока. Иначе пропадет все волшебство.
Денис Симачев.
Fashion Collection [4] . 2008. № 57
Принты под хохлому и гжель, эпатажные слоганы на майках, ностальгические образы, навеянные советской эстетикой и культурой… Денис Симачев – enfant terrible российской моды, баловень французских fashion-критиков. И его узнаваемый стиль, вписывающийся в каноны постмодернистского искусства, никого не может оставить равнодушным.
Мастерская Дениса Симачева находится в одном из павильонов бывшего завода АРМА. В XIX веке предприятие производило газ, с помощью которого освещали центр столицы. Сегодня АРМА – одно из самых творческих мест Москвы. Многие дизайнеры, художники, музыканты выбирают его урбанистическую атмосферу для своих студий, мастерских, галерей.
Открываю тяжелую железную дверь и попадаю в гулкий темный коридор, главное украшение которого – автомобиль в чехле, расписанном под хохлому. Значит, я не ошиблась и это действительно мастерская Симачева. Сама студия – своего рода музей, но при этом наполненный жизнью, художественным беспорядком, забавными артефактами, в которых читается оригинальное мировоззрение хозяина. Чего стоит рояль салатового цвета, стоящий на боку и служащий стеной в одном из помещений, или свадебная казахская юрта, в которой Симачев обустроил небольшую зону отдыха с телевизором и мягкими меховыми топчанами… Пожалуй, идеальное место для интервью.
– О Вас ходят слухи, что Вы не любите давать интервью и в начале своей карьеры вообще не подпускали к себе журналистов…
– Это правда. В последние годы я осознал, что интервью нужны и важны для моего дела, для бизнеса. Но, честно говоря, общаюсь с представителями СМИ без особого энтузиазма. И дело тут не в том, что я мизантроп. Никакой особой ненависти к журналистам не питаю. Просто это не для меня: не люблю быть публичным, не люблю узнаваемости. И на вечеринках, в компаниях я чаще молчу… Пусть за меня говорят мои вещи, мои коллекции или музыка, которую я создаю за диджейским пультом.
– Я знаю, у Вас масса увлечений. Помимо диджейства, это еще и мотогонки, и серфинг, и сноуборд… Какое место все эти занятия занимают в Вашей жизни и в какой нише находится мода?
– Не могу сказать, что важнее… Мне важно все, и это логично. Ведь я создаю и продаю не одежду, а стиль жизни. Приобретая вещи из моих коллекций, люди признают сопричастность к моему образу существования. Если им нравится моя марка, значит, у них, скорее всего, схожие ценности, они примерно так же, как и я, проводят время, ходят в те же места, любят ту же еду, те же напитки, смеются над теми же шутками…
– Значит, Вы могли бы описать точный портрет свой целевой аудитории…
– О нет, это очень сложно… Это совершенно разные люди. Их возраст находится в амплитуде от 16 до 60. Что их объединяет? – смелость быть собой, чувство юмора, желание двигаться в будущее, а не стоять на месте, ну и обеспеченность, конечно.
– Denis Simachev – уникальный для России бренд. Ведь Вас знают и любят не только у нас, но и на Западе. В чем секрет такого успеха?
– Я вас поправлю. В России меня любят меньше, чем за рубежом. Для большинства наших соотечественников я – все еще, выражаясь словами Канта, «вещь в себе» – хулиган, эпатажная личность. А на Западе критики и публика ценят мою оригинальность, иронию в духе Энди Уорхола, легкую считываемость стиля. Ведь там актуальна мода на русское, и мое обращение к хохломским мотивам, к советским образам весьма востребовано.
– Откуда такая любовь к Советскому Союзу? Это коммерческий ход или что-то личное?
– И то и другое. Но конечно, в первую очередь, Советский Союз – это мое детство, становление. Это мои розовые очки, мое прошлое, оставившее в душе серьезный след. И все мои коллекции – это интерпретация того опыта, переосмысление личных образов, воспоминаний. Философия весенне-летней коллекции – это тоже размышления о прошлом и будущем нашей страны. Мне кажется, что мы живем в эпоху, когда на новом витке происходит возвращение в бурные 1990-е. Последние годы были отрезком стабильности, стерильности. Но все мы устали от этой глянцевой жизни, и, мне кажется, пора вернуться на землю, почувствовать материальность нашего существования, почувствовать некую неустроенность, неспокойствие.
– Тем более что неустроенность – двигатель творчества… Вы согласны?
– Для меня – да. Я, например, не могу творить за границей. Там все слишком чисто, слишком стерильно. За рубежом я делаю бизнес, общаюсь с деловыми партнерами, занимаюсь договорами. А какие-то новые идеи, образы приходят мне в голову только на родине. Причем в неожиданных местах и ситуациях. Назовем это ситуациями перехода, движения. Часто идеи посещают меня, когда я куда-то иду или, например, еду в машине.
– Кстати, о машинах. Правда, что у Вас ГАЗ-3102? Не слишком гламурный выбор для законодателя моды…
– Это моя рабочая машина. На ней очень удобно передвигаться по городу, теряться в толпе. Вообще я люблю автомобили, мотоциклы. Занимаюсь их тюнингом, стайлингом. Превращаю их в fashion-объекты. А по поводу гламура – я очень надеюсь, что не имею к нему никакого отношения. Пусть гламурный мир создают глянцевые журналы, а я, пожалуй, буду заниматься своим делом.
Литература
Андерсен 1969а – Андерсен Г.Х. Сказки и истории. В 2 т. Т. 1. Л., 1969.
Андерсен 1969б – Андерсен Г.Х. Сказки и истории. В 2 т. Т. 2. Л., 1969.
Афанасьев 1984а – Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 1. М., 1984.
Афанасьев 1984б – Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 2. М., 1984.
Афанасьев 1984в – Народные русские сказки А.Н. Афанасьева. В 3 т. Т. 3. М., 1984.
Барт 1994 – Барт Р. Гул Языка // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
Барт 2001 – Барт Р. S/Z. М., 2001.
Барт 2003 – Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
Бахтин 2010 – Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса // Собрание сочинений. В 7 т. Т. 4. М., 2010.
Бахтин 2012 – Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе // Собрание сочинений. В 7 т. Т. 3. М., 2012.
Башляр 2004 – Башляр Г. Избранное. Поэтика пространства. М., 2004.
Бегбедер 2010 – Бегбедер Ф. Французский роман. М., 2010.
Белый лен 2012 – Белый лен. Восточная сказка // Семь Белоснежек. Старинные сказки Европы. М., 2012.
Бланделл 2013 – Бланделл С. «Под их сияющими стопами». Сандалии и прочая обувь античной Греции // Обувь: от сандалий до кроссовок. М., 2013.
Бодрийяр 2006 – Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М., 2006.
Брайсон 2014 – Брайсон Б. Краткая история быта и частной жизни. М., 2014.
Бражникова 2006 – Бражникова Я. Закат гламура. 18.12.2006. .
Бродель 1986 – Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. В 3 т. М., 1986.
Бэкон 1972 – Бэкон Ф. Великое восстановление наук. Новый Органон // Бэкон Ф. Соч. В 2 т. Т. 2. М., 1972.
Васильев 2009 – Васильев А. Возвращение гламура // Этюды о моде и стиле. М., 2009.
Вайнштейн 2006 – Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2006.
Веселовский 2011 – Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Избранное. Историческая поэтика. М., 2011.
Волков 2012 – Волков А. Волшебник Изумрудного города. М., 2012.
Вульф 2013 – Вульф Н. Миф о красоте. Стереотипы против женщин. М., 2013.
Гандл 2011 – Гандл С. Гламур. М., 2011.
Гейне 1904 – Гейне Г. Полное собрание сочинений. Т. 6. СПб., 1904.
Гесиод 1963 – Гесиод. О происхождении богов (Теогония) // Эллинские поэты серии «Библиотека античной литературы». 1963.
Гёте 1969 – Гёте И.В. Фауст / Пер. Н. Холодковский. М., 1969.
Голдсмит 1974 – Голдсмит О. Гражданин мира, или Письма китайского философа, проживающего в Лондоне, своим друзьям на Востоке. М., 1974.
Голосовкер 2010 – Голосовкер Я.Э. Достоевский и Кант // Голосовкер Я.Э. Избранное. Логика мифа. М., 2010.
Голынко-Вольфсон 2005 – Голынко-Вольфсон Д. Агрессивно-пассивный гламур // Художественный журнал. 2005. № 12.
Гомер 1986 – Гомер. Илиада. Одиссея. М., 1986.
Горалик 2005 – Горалик Л. Полая женщина: мир Барби изнутри и снаружи. М., 2005.
Горалик 2011 – Горалик Л. Ведомости. 18.03.2011. № 10 (242). old.vedomosti.ru/friday/article/2011/03/18/16968.
Гофман 1978 – Гофман Э. – Т. – А. Щелкунчик и мышиный король. М., 1978.
Гофман 1992 – Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж. 1992.
Гофман 1994 – Гофман А.Б. Мода и люди. М., 1994.
Гофман 2004 – Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. СПб., 2004.
Гримм 1957 – Братья Гримм. Сказки. М., 1957.
Губин 2007 – Губин Д. Как мода стала идеологией // Огонек. 2007. № 12. С. 17.
Диор 2011 – Диор К. Диор о Dior. Автобиография. М., 2011.
Добровольская 2013 – Добровольская В. Лапоть с лаптем, а сапог с сапогом: запреты и предписания, связанные с изготовлением обуви в Северной и Центральной России // Антропологический форум. 2010. № 13. Online. С. 75–95. anthropologie.kunstkamera.ru/files/pdf/013online/13_online_dobrovolskaya.pdf.
Достоевский 1957 – Достоевский Ф.М. Преступление и наказание // Достоевский Ф.М. Собр. соч. В 10 т. М., 1957.
Дэвидсон 2013 – Дэвидсон Х. Секс и грех. Магия красных туфелек // Обувь: от сандалий до кроссовок. М., 2013.
Ерофеев 1990 – Ерофеев В. Москва – Петушки. М., 1990.
Зиммель 1996 – Зиммель Г. Мода // Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. М., 1996.
Зюскинд 2013 – Зюскинд П. Парфюмер. М., 2013.
Иванов, Топоров 1982 – Иванов В.В., Топоров В.Н. К реконструкции Мокоши как женского персонажа в славянской версии основного мифа // Балто-славянские исследования. М., 1982.
Ипполитов 1998 – Ипполитов А. Мода – красавица и чудовище. По поводу выставки «Тенденции в фотографии моды» в Манеже // Русский телеграф. 18.04.1998. modernlib.ru/books/ippolitov_arkadiy/esse_19942008.
Классен 2003 – Классен К., Доувз Д., Синнотт А. Aroma. Аромат товара: Коммерциализация запаха // Ароматы и запахи в культуре. М., 2003.
Краули 2004 – Краули Дж. Маленький, большой. М., 2004.
Кристева 2004 – Кристева Ю. Смысл и мода // Избранные труды. Разрушение поэтики. М., 2004.
Кьеркегор 1997 – Кьеркегор С. Повторение. М., 1997.
Липовецкий 2012 – Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе. М., 2012.
Лорка 1975 – Лорка Ф. – Г. Избранные произведения. В 2 т. М., 1975.
Лосев 1980 – Лосев А.Ф. Мифы народов мира: Энциклопедия в 2 т. Т. 1. М., 1980.
Лосев 1990 – Лосев А.Ф. Философия имени // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
Льюис 2006 – Льюис К.С. Лев, Колдунья и Платяной шкаф // Льюис К.С. Хроники Нарнии. М., 2006.
Малиновский 1998 – Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
Маркес 2001 – Маркес Г.Г. Палая листва. М., 2001.
Маруф 1986 – Маруф-Башмачник // Избранные сказки, рассказы и повести из «Тысячи и одной ночи». М., 1986.
Мид 1988 – Мид М. Культура и мир детства. Избранные произведения. М., 1988.
Москаленко 2014 – Москаленко К. С пикника на бал // Ведомости. Пятница. 11.04.2014. old.vedomosti.ru/friday/article/2014/04/11/38161.
Муцциарелли 2013 – Муцциарелли М.Дж. Роскошество обуви. Традиция изготовления и потребительского отношения к обуви в средневековой Италии // Обувь: от сандалий до кроссовок. М., 2013.
Набоков 1989 – Набоков В.В. Письмо в Россию // Облако, озеро, башня. М., 1989.
Никольская 2003 – Никольская Н. Парфюмерия. Химия и общество // Ароматы и запахи в культуре. М., 2003.
Нотомб 2009 – Нотомб А. Косметика врага. М., 2009.
Овидий 1977 – Публий Овидий Назон. Метаморфозы. М., 1977.
Орбэн 2005 – Орбэн К. Шмотки. М., 2005.
Осипов 2007 – Осипов Д. Обувь, которую не носили // Наука и жизнь. 2007. № 8.
Пелевин 2006 – Пелевин В. Empire V. М., 2006.
Перро 1982 – Перро Ш. Золушка, или Хрустальная туфелька // Литературные сказки зарубежных писателей. М., 1982.
Перро 1936 – Перро Ш. Сказки. М.; Л., 1936.
Перро 2014 – Перро Ф. Роскошь. СПб., 2014.
Платон 1986 – Платон. Диалоги. М., 1986.
Платон 2007 – Платон. Государство // Сочинения в четырех томах. Т. 3. Ч. 1. СПб., 2007.
Потебня 2000 – Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. М., 2000.
Пропп 1928 – Пропп В. Морфология сказки. Л., 1928.
Пропп 1998 – Пропп В.Я. Исторические корни Волшебной Сказки. М., 1998.
Рабино 2013 – Рабино И. Кристиан Диор. Многоликий гений. М., 2013.
Ремарк 2007 – Ремарк Э.М. Жизнь взаймы. М., 2007.
Рембо 1982 – Рембо А. Шкаф // Рембо А. Стихи. М.: 1982.
Ремизов 1909 – Ремизов А. к Морю-Океану // Северное сияние. 1909. № 4.
Роулинг 2003 – Роулинг К. Гарри Поттер и тайная комната. М., 2003.
Рубинштейн 2009 – Рубинштейн Л. Семечки гламурные // Грани. 02.09.2009. -n.ru/view/113813.html.
Руссо 1998 – Руссо Ж. – Ж. Об Общественном договоре. Трактаты. М., 1998.
Рыжакова 2009 – Рыжакова С.И. Эгле королева ужей: о способах интерпретации одного сказочного сюжета в литовской культуре // Миф о фольклорных традициях и культуре Новейшего времени. М., 2009.
Свендсен 2007 – Свендсен Л. Философия моды. М., 2007.
Сенека 2000 – Сенека. О блаженной жизни // Сенека Луций Аней. Философские трактаты. СПб., 2000.
Сенека 1977 – Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо V. М., 1977.
Сказки 1987 – Сказки народов мира. М., 1987.
Сказки 2005 – Любимые русские сказки. М., 2002.
Тард 2011 – Тард Г. Законы подражания. М., 2011.
Толстая 2005 – Толстая Т. Я планов наших люблю гламурье // День. 2005.
Уайльд 1961 – Уайльд О. Собрание сочинений: в 2 т. М., 1961.
Уилсон 2012 – Уилсон Э. Облаченные в мечты. М., 2012.
Уэльбек 2004 – Уэльбек М. Мир как супермаркет. М., 2004.
Фрейденберг 1997 – Фрейденберг О. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
Фрейденберг 1998 – Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М., 1998.
Фромм 2000 – Фромм Э. Иметь или быть. М., 2000.
Хайдеггер 1994 – Хайдеггер М. Вещь // Время и бытие. М., 1994.
Хейзинга 1992 – Хейзинга Й. Homo Ludens. М., 1992.
Хендерсон 2013 – Хендерсон Дж. Л. Древние мифы и современный человек // Человек и его символы. М., 2013.
Чехов 1978 – Чехов А.П. Вишневый сад // Чехов А.П. Соч. В 18 т. Т. 13: Пьесы (1895–1904). М., 1978.
Эпштейн 2005 – Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе. М., 2005.
Эразм 1987 – Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина // Философия произведения. М., 1987.
Bronte 2005 – Bronte Ch. Jane Eyre. London, 2005.
Collins 2008 – Collins L. Pixel Perfect // The New Yorker. -perfect.
Givone 2013 – Givone S. Socrates and the Shoemaker // The Amazing shoemaker. Catalogue. Milan, 2013.
Jankelevitch 1985 – Jankelevitch V. L’Ironie. Paris, 1985.
Kinsella 2005 – Kinsella S. The Secret Dreamworld of shopaholic. London, 2005.
Lawrence 1993 – Lawrence D.H. Lady Chatterley’s lover. Cambrige, 1993. ebooks.adelaide.edu.au/l/lawrence/dh/l41l/chapter6.html.
Morabito 2003 – Morabito J. Le guide du luxe. Paris, 2003.
Morton 2003 – Morton M.S. The Lover’s Tongue: A Merry Romp Through the Language of Love and Sex. London, 2003.
Ramsay 1808 – Ramsay A. The Gentle Shepherd. Edinburgh, 1808.
Ricci 2003 – Ricci S. Luxor. Firenze, 2003.
Примечания
1
Глава была частично опубликована: Осиновская И.А. Скромное обаяние гламура / Культурология: дайджест. 2010. № 1. С. 88–99.
(обратно)2
Глава была опубликована: Осиновская И. Поэтика сказки: прялки, пряжа, пряхи // Теория моды: одежда, тело, культура. 2014. № 33. С. 59–72.
(обратно)3
Fashion Collection – российский журнал о моде, издается с 2003 года, главный редактор – Марина Дэмченко.
(обратно)4
Fashion Collection – российский журнал о моде, издается с 2003 года, главный редактор – Марина Дэмченко.
(обратно)





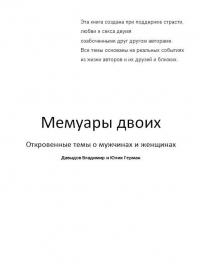


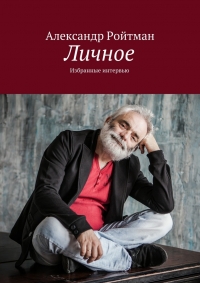


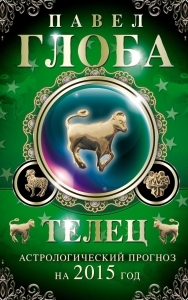
Комментарии к книге «Поэтика моды», Инна Александровна Осиновская
Всего 0 комментариев