Сергей Мильшин Бой под Уманью
В конце июля 1941 года на стыке Кировоградской и Черкасской областей, в окружении оказалось около 130 тысяч бойцов Красной Армии. Корпус не складывал оружия и прорывался с боями. Тылы окруженных войск прикрывал отдельный батальон пограничников. 500 человек против мотопехотного полка немецких войск! Сил почти не оставалось, патроны на исходе… И они пошли в штыковую атаку! А впереди по команде «фас» бежал их последний резерв — полторы сотни голодных, измученных отступлением пограничных овчарок…
Конец июля 1941 года на Украине выдался жарким. Помню покрытые соляными разводами гимнастерки солдат, падающих прямо на пыльную дорогу около плетня, распаренные лица с серыми потеками на висках, усталые глаза людей и болтающиеся языки исхудавших овчарок. Наше небольшое село Легедзино под Уманью в то время оказалось на пути отступающих советских войск. В доме Витьки — моего друга на несколько дней разместился штаб стрелкового корпуса. Прикрывать штаб выпало батальону особого назначения Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры, которым командовал майор Родион Филиппов.
Они были не первые, что вошли в Легедзино, но стали последними — следом двигались немцы.
Поздним утром 30 июля у околицы села по высохшей до каменной твердости дороге застучали сотни тяжелых подошв. Усталые мужские голоса неровным гулом повисли над крайними улицами, зацепились за ветки тонких ракит и старых лип. В беленых хатах приглушенно захлопали двери — сельчане осторожно выглядывали из-за плетней. Генка — шустрый паренек с белесыми бровями и выгоревшим до прозрачности ежиком волос такого же цвета, по малости лет не ведающий сомнений, распахнул калитку безбоязно. Сотни бойцов с зелеными петлицами, скидывая на ходу вещмешки и скатки, разбредались по лугу. Некоторые плюхались прямо в пыль у заборов, подпирая спинами плетеные стенки — там хоть какая-то тень. Устроившись на задней точке, они скидывали сапоги, с наслаждением вытягивая натруженные ноги. Последними в колонне двигались две «сорокапятки» на конской тяге. Остановив коней, усталые бойцы присели на лафеты и достали кисеты.
У многих бойцов, словно приклеенные, рядом с ногой с трудом переставляли избитые лапы овчарки на поводках. Они безразлично раскачивали мордами, а хвосты болтались палками. Казалось, животные так измучились, что дай им мяса, не сделают и лишнего шага. Ветерок трепал заросли крапивы у заборов, щурились на солнце, выбирающееся из-за соломенных крыш, соседки, невесело разглядывая потрепанное воинство, а мальчонка, как завороженный, не отрывал глаз от солдат. Ох, уж эти зеленые фуражки — мечта всех довоенных мальчишек! А винтовки, небрежно заброшенные за плечо — кто из пацанов не хотел бы иметь знаменитую трехлинейку? Неслышно приблизившаяся мать заставила его вздрогнуть.
— Зново идуть.
Генка словно очнулся. Задрав голову, прикрыл глаза от ослепившего солнца:
— И куды воны идуть?
— Та видступають.
— А куды видступають? Та фашистив треба ж быты?
Мать грустно улыбнулась, ладонь пригладила взъерошенный хохолок на затылке:
— Та, напевно, подали вид нимцив.
Завидев мать и сына у калитки, к ним направился тонкий, как вытянувшийся клен, сержант. У его ноги вышагивала понурая овчарка с глубоким шрамом на морде, а на гимнастерке поблескивала медаль «За отвагу». Генка широкими глазами уставился на медаль. «Вот бы мне такую!»
Парень улыбнулся. Серое лицо, покрытое паутинкой усталости, разгладилось:
— День добрый, хозяюшка.
Мама невольно улыбнулась в ответ:
— Здравствуй, хлопец.
— А где у вас тут воды можно отыскать? Попить и вообще.
Мать поправила платок и, слегка смущаясь, вытянула руку:
— Там, в низини колодец е недалеко, Генка, покажешь?
— А то ж, — он выбрался за калитку, по-взрослому нахмурился. — Айда, чи шо?
Мать и сержант одновременно хмыкнули, Генка не понял, что их рассмешило, но на всякий случай тоже улыбнулся.
— Погодь, — остановила мать. — Видра визьмы, там однэ, а вас вон, скилько…
Пока они жадно пили, поили собак, плескались у колодца, Генка гибким полозом вертелся вокруг. Солдаты беззлобно подтрунивали, обещая взять с собой. Хоть умишком и понимал, что шуткуют, но где-то на краешке сознания дрожала мечта, а вдруг и, правда, заберут. А там, на войне, с отцом встретится…
Крутился, крутился, возьми и спроси:
— Дядечки, а вы далэко идете? Мамка гутарит, шо тикаете? А мы як же?
И сам испугался того, что сказал. Пограничники нахмурились, смолкли разговоры, будто прозвучала неловкость. Сержант плеснул на лицо, проморгался. Генка обеспокоено завертел головой, даже слеза навернулась — ну, теперь точно не возьмут.
Опираясь на винтовку, сержант присел перед собакой, развалившейся в тени колодца, рука легла на горячий собачий лоб. Овчарка благодарно дернула покалеченным носом.
— Как тебе сказать, парень… Тебя как звать-то?
— Генкой.
— А меня Владимиром. Тут такое дело… Генка. Давит немец. Думаешь, не бьемся? Бьемся, и еще как. Пока не получается. Но это не надолго. Соберет товарищ Сталин армию в кулак, да как двинет фашистам. А чтобы, значит, силу сберечь, мы и отходим, — он снял фуражку, и Генка заметил крупные капли воды, блестящие на висках. Покрутил в руках и снова надел. — Понятно?
Генка важно кивнул. Сам командир с ним вон как уважительно говорит, Витька обзавидуется.
Неподалеку остановились командиры. Генка разглядел «шпалы» на петлицах: две — майорские и одну — капитанскую. Высокий майор сорвал широкий лист лопуха, и, поставив ногу на пенек старой вишни, с силой, насколько позволял «материал», начал натирать запыленные, словно выкрашенные в серый цвет, сапоги. Низенький пожилой капитан с лысиной во всю голову вытащил из кармана мятый-перемятый платок и тщательно вытер потные ладони. Майор критически оглядел чуть посвежевшие голенища:
— Надо в штаб сходить, может, подскажут насчет еды чего.
— Собаки скоро падать начнут.
— Тебе собак жалко?! А людей не жалко?
— Ладно, — миролюбиво оборвал капитан, — все голодные, все устали, за вошь-копейка.
Майор напялил фуражку на затылок. Обернувшись, заметил Генку, который осторожно гладил равнодушную овчарку.
— Парень, ты местный?
— Знамо, местный, — Генка выпрямился и прищурил глаз.
— Где у вас тут штаб, знаешь?
Он вытянул палец в сторону улицы, убегающей в глубь села:
— Тамочки.
— Покажешь, куда идти?
Генка активно закивал, а ноги уже уносили наперед. Майор окликнул Кузнецова. Из толпы, белея незагорелым торсом, выбрался знакомый сержант.
— Выставить охранение и окопаться. Окопы по обе стороны дороги в полный профиль. И это… в порядок себя приведите, сапоги, там, почистите, не в лесу, чай, стоим.
Сержант вяло приложил руку к черному козырьку. Пунктик своего командира, с курсантских времен не признающего «помятого» вида бойцов, а особенно грязной обуви в части знали все и принимали, как должное.
— Ну, веди, Сусанин, — майор скинул фуражку и обмахнулся ею.
Мальчишка гордый до невозможности доверием командиров зашагал впереди, пытаясь маршировать. Офицеры хмыкнули и молча двинулись следом.
Прошагали метров двести, когда из проулка вылетел на всех парусах чернявый, как цыганенок, Витька. Чуть не сбив друга, тут же пристроился сбоку. Вдвоем маршировать гораздо интересней. На ходу Генка объяснил куда направляются, и любопытный Витька еще раз оглянулся. Майор подмигнул ему. Солнце палило немилосердно, гуси, развалившиеся на дороге, шипели и норовили ущипнуть, но мальчишки плевали на мелкие неприятности. Стайка детворы, выскочившая на пути, остановилась, завистливо поглядывая на Генку с Витькой. Те еще выше задрали носы. Выглядывающие из дворов парни подбадривали:
— Ливой, ливой! Давай, хлопцы, наяривай.
Перед штабом запарившиеся, но довольные мальчики перешли на обычный шаг.
— Ось вин, — Генка кивнул в сторону саманной хаты с ситцевыми занавесками на окнах.
Во дворе у крылечка расхаживал рыжий боец с винтовкой за плечом и с разломанным подсолнухом, устроенном на сгибе руки. Рядом приткнулась к хате телега, на ней виднелась труба миномета и «тарелка» от него, в сторонке на веревке покачивалось пересохшее исподнее. В сарае еще один боец укладывал документы в большую корзину.
Командиры кивнули мальчишкам. Взглянув на офицеров и, похоже, узнав, рыжий боец посторонился и уважительно вытянулся. Хлипкое крылечко задрожало под весом пограничников.
Витька, опершись руками на покачнувшийся забор, задумался, как бы на правах хозяина подойти поближе и подслушать о чем гутарят. Боец замер у телеги, вышелушивая подсолнух. Генка, засунув руки в карманы, привалился к плетню спиной, он приготовился ждать. Лениво тявкала соседняя дворняга, гремела где-то неподалеку котелками соседка. На дороге показалась баба Маня, тянувшая на веревке козу.
Углядев мальчишек, повисших на заборе, остановилась:
— Вы чего тут забор подпираете?
— Командиров привели, в штаб, — не поворачивая головы, сообщил Витька.
— Пограничников, — уточнил Генка.
— А шо им там?
— Бойцы голодные, — Генка собрал морщинки на лбу. — Покормить треба.
Баба Маня закачала головой:
— Боже ж мий. И в мене нема чим попотчевати, а от Варьки молока, як вид козла…
— Ниче, баб Мань, не переживай. Небось, отыщут чего…
— Витька, иде твоя мамка, дома? — баба Маня потянула козу за собой.
— Неа, убёгла куда-то, — буркнул он.
Проводив спину бабки взглядами, мальчишки переглянулись.
— Может, послухаем чего там? — не выдержал Витька.
Генка с сомнением оглянулся. Окошки в избе распахнуты, оттуда доносятся приглушенные голоса, но ничего не разобрать. Значит, надо подходить, а не хочется — уж больно рыжий на них подозрительно косится. Генка уже собрался отказаться, но тут дверь распахнулась, и на улицу выскочили командиры. Они решительно прошагали мимо, хлопнула сердито калитка за спинами, и они остановились, размышляя.
— Ну, — спросил капитан, — чего делать будем?
Майор вдруг оглянулся, и его высокая тень закрыла пацанам солнце:
— Хорошо, что вы еще здесь, не знаете, в сельсовете есть кто?
Генка оттолкнулся от изгороди:
— Вчерась председатель Иван Никифорович был.
— Проводите нас?
— Отчего не проводить? — Витька выскочил вперед и уже задрал босую ногу, усыпанную цыпками, поджидая друга и готовясь маршировать. Генка встал рядом.
Всю дорогу командиры хмурились и не разговаривали, мальчишки, почувствовав их настроение, тоже помалкивали. На высоком крыльце сельсовета, вытянув шею, командиров поджидал сам Никифорович. Приблизившись, мальчишки шмыгнули за угол — они побаивались грозного председателя. Оттуда выглянули их любопытные мордочки.
— Здоровеньки булы, — Иван Никифорович подкрутил седой ус, изучающее разглядывая гостей.
Командиры решительно поднялись на крыльцо. Высокий офицер козырнул:
— Майор Филиппов, командир Коломыйского пограничного батальона.
Второй командир вытянул из кармана платок, вытер мягкую ладонь и протянул руку:
— Капитан Новиков, начальник школы служебного собаководства.
— А я председатель, значит, сельсовета, Иван Никифорович Забега.
Высокий майор поправил ремень винтовки:
— Бойцы у нас голодные. Надо бы покормить.
Председатель кинул взгляд по пустой улице. Пожевал губами:
— А кормить мне вас нечем.
— Как нечем? — щеки майора моментально пошли пятнами. — Ты понимаешь, что говоришь? Штаб корпуса еще не эвакуировался, больше сотни тысяч бойцов сейчас из окружения выходят, если мы немцев здесь не задержим, окружат, как пить дать. А у меня батальон голодный.
— И собаки тоже, — поддакнул капитан.
Майор кинул на него свирепый взгляд, но промолчал.
— Зря шумите, — председатель спокойно достал из кармана кисет, пальцы ловко засновали, готовя самокрутку. — У меня, правда, нечем вас кормить. Сколько ртов? — как бы невзначай поинтересовался он.
— Пятьсот пограничников!
— Нечем. Разве что… — он неспешно облизал край газетки и завернул цигарку.
Командиры напряженно ждали. — Разве что, картохи по огородам молодой подкопать. Яичек поспрошать. Думаю, бабы не откажут.
Майор повеселел:
— Ну вот, а говорил нечем.
— Слышь, Никифорыч, — капитан подтянул сползающий ремень и перестегнул его на одно отверстие. — А у меня овчарки, 150 голов. Служебные, обученные. Порода, за вошь-копейка. Их бы тоже покормить, а?
Председатель выпустил струйку дыма:
— Отчего не покормить? Есть одна идейка, — он заметил мальчишеские мордочки, выглядывающие из-за угла. — А ну, кыш отсюда!
Мальчишки сыпанули, послышался глухой топот босых пяток.
— Так что за идейка? — капитан встряхнул влажный платок.
— Можно меня сварить, — повернулся к нему председатель. — Хотя, для полторы сотни глоток — это на один чих.
Майор сплюнул:
— Угомонись ты со своими овчарками. Тут людям жрать нечего.
— Не со своими, а с нашими, Родион. Это же порода! Потерять легко, восстановить сложно.
— Порода, порода! А у меня пятьсот бойцов некормлены и немец на пятках. — Майор почесал около носа. — А может, все-таки на подножный корм их? Авось, проживут? В штабе ведь тоже так думают, а, Тимофей?
Капитан засопел, толстые пальцы втиснулись под ремень:
— Как это выпустить, за вошь-копейка? Ты что городишь? Это же… преступление.
Майор отшатнулся, рука резанула воздух:
— Делай, что хочешь, овчарки — твоя головная боль, — он первым спустился с крыльца и уже внизу оглянулся:
— Слышь, отец, у тебя, чем сапоги почистить, нет случайно?
Тот что-то прикинул в уме:
— Ну, разве что деготь, подойдет?
— Годится.
Новиков тяжело сбежал с крыльца, солнечная улица запылила под сапогами молчаливых командиров.
Генка с Витькой, не сговариваясь, рванули напрямки через огороды. Картофельная ботва цеплялась за ноги, огуречные плети хрустели под набитыми пятками, мальчишки шпарили, не замечая препятствий. На полпути Витька вспомнил, что мамка обещала принести чего-то поесть. До окраины Генка добрался один.
Околица преобразилась. На лугу в стороны от шляха, теряющегося за деревьями, тянулась извилистая линия свежевыкопанной земли, за ней скрытые по грудь, кое-где еще махали саперными лопатками бойцы в расхристанных, пропотевших гимнастерках. По эту сторону окопов, привязанные к кольям, сидели и лежали худые овчарки.
— Ну як, провив? — мать с чугунком вчерашней картошки вышла на крыльцо.
— Ага. Мам, а я схож на пограничника? — он сдвинул картуз и выпятил пузо.
— Схожий, — поглядывая под ноги, она спустилась с крыльца. — Отнеси сержанту, хлопцы со вчерашнего не емши.
— Давай, — мальчишка выхватил чугунок, калитка мигом хлопнула за спиной.
Мать укоризненно качнула головой: «Ну, пострел!»
Командиры устроились под толстой липой, разглядывая разложенную на траве карту. Генка нарочно прошагал мимо медленно, очень уж хотелось услышать, о чем они совещаются:
— Понятно, что отсюда пойдут, — капитан ткнул в карту пальцем.
— Может, пулемет на ту горку затащить?
— А сколько у нас лент?
— Да… — майор почесал затылок, — пара осталась — почти ничего.
— И у бойцов по пять патронов…
— У «сорокапяток» шесть осколочных и десяток бронебойных…
— Задачу поставили, а чем выполнять, х…р его знает!
— Может, овчарок используем…
— Это как?
В этот момент Генку заметил майор:
— Чего-то хотел?
Он показал чугунок:
— Вот, картоху будете?
Тот кивнул в сторону окопов:
— Бойцам отнеси.
Генка не стал уговаривать, глаза уже выискивали в толпе Володю. Было в нем что-то притягательное. Генка подумал, что и матери он тоже приглянулся, хотя она и замужем за его отцом.
Сержант отыскался около готового окопа. Он гребнем вычесывал шерсть жмурящейся от удовольствия овчарки. Рядом худой паренек с прозрачным пушком на щеках обмывал водой побитые лапы крупного кобеля. Он тихо приговаривал: «Потерпи, Дунайка, счас полегчает». Собака шумно дышала, а на мальчишку не обратила внимания. Генка молчком протянул чугунок. Разглядев, что в нем, пограничники резво подскочили.
Тени от листьев гуляли по вымытым лицам бойцов — они расселись кружком под ракитами, и ветер раскачивал хрупкие верхушки деревьев. Чугунок установили в центр. Вторым кругом за ними расселись овчарки. Они поглядывали голодными глазами на еду, хвосты прибивали траву, но собаки не двигались. Сержант оглянулся к командирам:
— Присоединяйтесь.
Майор Филиппов махнул рукой:
— Ешьте сами, сейчас еще чего-нибудь подвезут.
Сержант первым нащупал картошину. Бойцы, блестя глазами, тоже потянули руки. Пара секунд — и посудина опустела. Кузнецов достал перочинный ножик, и картофелина развалилась на две части. Дора не отрывала от нее глаз. Генка про себя удивлялся: если бы он не ел целый день — слопал тут же, а сержант… протянул половину собаке:
— На, подруга, чем богаты…
Собака вильнула хвостом, и язык аккуратно смахнул еду с ладошки. Генка оглянулся: худой паренек протягивал картошку кобелю, который, показалось, лениво тянулся носом к угощению, остальные бойцы тоже кормили неторопливых овчарок.
— Надо ж, — Генка стянул картуз, — голодни, а по ним и не скажешь.
— У них вежливость в крови. Порода! — сержант закинул в рот другую половинку.
— А у тебэ, случайно, нема другой фуражки, — Генка поднял наивные глаза.
Сержант невесело хмыкнул:
— Другой нет, но я тебе эту подарю, после боя. А пока на, держи, — на мозолистой тонкой ладони поблескивал настоящий складишок.
— Ух, ты, — задохнулся Генка, — тэ мени?
— А то кому же? Бери, пока дают, — светлые глаза грустно блеснули.
Генка несмело потянулся к ножичку: «Вот теперь Витька точно обзавидуется».
Уже взрослым Генка вспоминал тот его взгляд и пытался угадать, знал ли сержант, что не выйдет из боя? И решил, что знал. Потому и хотел оставить о себе добрую память у случайного мальчишки. Спустя десятилетия Генка понял, что у него получилось.
Подгоняя упирающуюся козу, к командирам приблизилась баба Маня. Чего это она? Генка не утерпел и, кинув ножик в карман, скользнул туда.
— Голодные, небось? — склонив голову набок, она разглядывала потрескавшиеся губы пограничников.
— Есть маленько, — командиры поднялись, одергивая гимнастерки. — Ваш Никифорович обещал картохи подкинуть. Так что вроде не пропадем.
Баба Маня погладила козу по загривку:
— Ось, забирайтэ, — она подтолкнула скотину вперед. — Молока от нее все одно нема, а вам сгодится. Чого там одна картоха? Какое-никакое, а мясо.
Командиры переглянулись.
— Ну, спасибо, мать, — майор окликнул бойца и снова повернулся к ней. — А как же ты?
— Вам нужнее.
Майор кивнул пограничнику:
— Забирай, сваришь.
Боец кивнул, тонкий прутик хлестнул по облезлому боку.
Баба Маня, проводив животину горестным взглядом, устало побрела назад. Навстречу ей в конце улицы вывернула телега, рядом, поддерживая вожжи, шагал Никифорович.
Капитан поднял виноватый взгляд на командира:
— Может, хоть по кусочку собакам, а?
— И не думай.
Витька, узнавший все, что хотел, умотал обратно к бойцам. Сержанта он нашел под собственным плетнем в окружении бойцов. Одни, поглаживая собак, лениво курили, другие спали, подложив под головы скатки. В разнобой высились вычищенные сапоги, на голенищах и заборе сушились портянки с серыми разводами. Пахло горячим разнотравьем и немытыми ногами. Паренек с пушком на щеках, вытягиваясь на цыпочки, обрывал вишню-дичку у плетня. Мальчишки ее не трогали — мелкие ягоды кислили. Парень после каждой порции морщился, но продолжал наминать. Широкогрудый боец в распахнутой гимнастерке пошевелил запарившимися пальцами ног и окликнул паренька:
— Леха, как ты можешь их есть, кислятина же?
Тот обернулся и, улыбнувшись, молчком кинул в рот еще пару ягод.
— Смотри, Миронов, обдристишься, — заметил кто-то.
Бойцы хмыкнули, но парень и на это раз промолчал.
Генка молчком уселся рядом, глаза уставились на медаль сержанта. Тот заметил:
— Что, интересно?
— Ага, — закивал тот. — Це тоби за подвиг?
Сержант покосился на медаль:
— Мы с Дорой нарушителя задержали. С тех пор и шрам у нее. Если честно, это ее награда, — он кинул руки за голову и, закрыв глаза, улегся на траву.
Генка, не решившись его тронуть, потянулся к Дунаю. Горячая шерсть на загривке кобеля под ладонью слегка потрескивала, он переступил лапами и лизнул мальчишку в нос. Тот, вытираясь, быстро отстранился. Бойцы засмеялись.
Сержант не спал. Память вытянула следы на мокром песке. С них все и началось. Дора сразу взяла след, который потянулся через лес к дороге. Сообщить на заставу уже не успевали — нарушитель явно спешил. Бежали, как могли быстро, не береглись, и потому встречные выстрелы раздались внезапно. Ивана-напарника сразу насмерть, а он успел упасть и спустить Дору. Враг ударил собаку ножом, кровь заливала морду, но она не разжимала зубов. Запыхавшийся сержант с разбегу сиганул на врага, тот и охнуть не успел. Потом оказалось — диверсант. Он вздохнул: «Кажется, как давно это было, словно не со мной. Уже месяц война. Разве такой ее представляли? Сотни убитых, кровавые мозоли, разбитые машины на обочинах… Неделю отступали, а теперь вот бой, может, уже скоро. А жить хочется, хотя бы для матери. Я у нее один, как и этот забавный Генка», — он улыбнулся уже во сне.
Неожиданно в стороне рыкнула собака, вторая ответила — и два молодых кобеля сцепились в драке. Подскочили крайние бойцы, но Дора — быстрее. Словно коричневая молния сверкнула в воздухе. Зубы впились в плечо одного из кобелей, и он отскочил, скалясь. Незаметное движение морды, и второй, отбегая, жалобно, по-щенячьи, заскулил.
— Голодные, вот и злые! — сержант уже стоял рядом.
Подбежали и другие хозяева. На собачьих загривках медленно оседала вздыбившаяся шерсть. Сержант, щурясь после короткого сна, стукнул ладошкой по ноге, и овчарка послушно присела рядом.
И тут, словно плеткой по ушам, стеганул крик со шляха: «Немцы!» Головы разом повернулись. От леска, пригибаясь и сжимая в руке винтовку, бежал солдат:
— Немцы, товарищ командир, немцы!
Издалека долетело протяжное «дрррр». И еще раз — громче. Майор выскочил на бруствер:
— По местам!
Пограничники, хватая сапоги и портянки, пулеметной очередью сыпанули на позиции. Капитан кинулся к подъезжающей телеге с картошкой:
— Никифорыч, разворачивайся, гони отсюда.
Председатель сельсовета, торопясь, тряхнул вожжами:
— Что, так и не перекусите?
— Потом, отец, потом, после боя, — и уже тише добавил. — Если живы будем.
Из-за телеги вынырнул запыхавшийся Витька. Увидев друга, рванул к нему.
— Вы еще здесь? — капитан заметил мальчишек. — Бегом домой! И чтоб из хаты ни ногой. Понятно, за вошь — копейка? — Не дожидаясь ответа, он неожиданно легко запрыгал к позициям: — Овчарок с собой, в окопы!
Команда оказалась лишней, бойцы уже отвязывали поводки.
Отбежав за плетень, Витька поймал друга за руку:
— Давай на горку, оттуда це видно.
— Давай, — в этот момент Генка забыл и про ножик, которым хотел похвалиться, и про мать, которая, конечно, будет переживать за него.
Мальчишки дернули в узкий проулок с такой скоростью, что рубахи вздулись пузырями. И только упали в душистый клевер, как из-за дальних деревьев на шляхе выбрались мотоциклы. Они тарахтели, словно маленькие трактора. За ними показались зеленые грузовики с высокими тентами.
— Идуть, гады! — Генка почувствовал, как дрожит Витькина рука.
И вдруг понял, что и самого бьет мелкая дрожь. Он знал, это не страх, нет, скорее возбуждение, какое случается перед дракой. Под колесом первого грузовика поднялся земляной фонтан — «сорокапятка». Передок вильнул, и машина неторопливо завалилась.
— Наши бьють, наши! — Витька подскочил на колени, но друг пихнул его:
— Лягай, фашисты побачат.
Тот, не отрывая глаз от шляха, прижался к траве.
Колонна замерла, из кузовов прыгали крохотные фигурки немцев. Их было много, очень много, наверное, больше тысячи. Выставив карабины, они разбегались в разные стороны. Наши палили редко, похоже, берегли пули. Одна за другой разорвались среди машин еще несколько снарядов, осколки застучали по железу, немцы валились гроздьями. Но остальные продолжали бежать. Мотоциклы резко остановились, и из люлек по окопам ударили пулеметы. Мальчишки увидели, как взметнулись фонтанчики земли над бруствером, забарабанили пули по щиту пушки и как бойцы пригнулись за ней. Застрекотал в ответ наш пулемет, и фрицы попадали в траву. Но быстро смолк. Из леска ударили немецкие орудия, и в ушах засвербело. Генка потряс головой — не помогло. Загудели на разные голоса снаряды, разрывами заволокло траншеи, грязные туманные облака потянулись по полю. Мальчишки невольно втянули головы. Позади в деревне заполыхали несколько хат — черные дымы поднялись к небу.
Обстрел продолжался долго, не менее получаса. Дождавшись, когда последний разрыв выкинет ошметки черной земли из холмика у окопа, подскочил немецкий офицер, размахивая пистолетом. Он что-то кричал, поднимая солдат. Немцы снова побежали. Редкие выстрелы не причиняли большого вреда наступающим. Они почувствовали, что сопротивление ослабло, и атака ускорилась. До мальчишек долетели крики: «Рус, сдавайся». Генка уже мог разглядеть ближайших немцев, вплоть до выражения лиц, по которым бежали струйки пота. Они хмурились и поджимали губы. Вскоре перестали ухать винтовки. Лишь немецкие карабины продолжали бить на ходу. Мальчишки переглянулись:
— Невже, патроны кинчилысь? — от ужаса у Генки свело живот.
На бруствер выскочил майор Филиппов, даже с высоты угадывался его бешенный взгляд. Оглянувшись, он махнул рукой, бесполезная винтовка полетела в сторону, командир выхватил пистолет. За ним, натягивая под горло ремешки фуражек, выскакивали бойцы.
На холмике задержались капитан и сержант. Они что-то кричали. В руке капитана флажком метался платок. И вдруг мальчишки приподнялись, забыв от удивления осторожность: из траншеи выпрыгивали овчарки. Генка только сейчас разобрал, что сержант, не переставая, командовал «Фас». Первая собака, не колеблясь, бросилась вперед. Генка узнал ее:
— Дора! Это Дора.
Следом, забыв про больные лапы, набирал скорость Дунай. Несколько собак разгонялись за ними. Тут же рванули еще, и еще. Над лугом разлетелось грозное «Ура!» Вместе с пограничниками летела в бой, словно вырвавшаяся из-под земли, неудержимая, как запорожская сабля, светло-коричневая лава.
Генка прижал к губам ладошку. Витька поднял голову, а рот остался открытым.
Собаки, обогнав бойцов, за несколько секунд достигли линии атаки. Коричневые ручейки растекались по лугу, погребая под собой испуганных немцев. Генка старался не терять из глаз Дору. Кажется, получалось. Чудом увернувшись от встречной пули, овчарка бросилась на грудь здоровому немцу. Он заорал и повалился. Она рванула горло и отскочила — и второй немец промазал. И тут же поплатился: овчарка, крутанувшись, вцепилась в руку, а подоспевший сержант сбил его штыком. Рассвирепевшие от голода и крови собаки рвали фашистов, как манекены на учениях. Немцы уже бежали. Некоторые выставляли карабины перед собой, забывая выстрелить. Крики боли, предсмертные вопли, яростная ругань захлестнули израненное поле. Гремели выстрелы, крутились колеса перевернувшихся мотоциклов. Овчарки, коротко рыча, выгрызали человеческие глотки, крепкие зубы дробили кисти, лапы с разбега били в спины убегающих фашистов, во все стороны летели ошметки одежды, кожи, брызги крови.
Пограничники добивали упавших фашистов, распаляясь матерками, кидались на уцелевших. Трое бойцов рывком перевернули немецкий мотоцикл, один вскочил за руль, второй прыгнул в люльку, пулеметная очередь ударила в спины бегущим фашистам. Ободренные их примером, к мотоциклам кинулись другие бойцы. Наступление захлебнулось.
И тут из-за дальних деревьев выполз тяжелый танк. Словно изумленный увиденным, он замер на пару секунд, и вдруг резкий шлейф дыма, вырвавшийся из выхлопной трубы, толкнул бронированного монстра вперед. За ним появились еще два огромных танка. Они рыкали, поворачивая гусеницами, задранные дула качались на разбитой полевке, машины расходились веером. Густые полосы черного дыма тянулись от них, клубясь и смешиваясь с пыльными кружевами. Танки казались неуклюжими, как майские жуки, но оттого выглядели еще страшнее. Шлях заволокли пыль и дым, а из гаревого облака выворачивали все новые и новые машины. Генка досчитал до десяти, когда майор, срывая голос, заорал на весь луг:
— Вперед, в атаку!
Бойцы с новой силой рванули за собаками, которые уже прыгали вокруг танков, пытаясь достать заскочивших на броню немцев. Те поджимали ноги и отстреливали овчарок. Какой-то кобель, Генке показалось, Дунай, умудрился заскочить на броню. Не ожидавший этого немец заслонился рукой и вдруг заорал — овчарка рванула локоть. Тут же на броне, разметав тела собаки и человека, вспух разрыв — ударила наша пушка. Задымившаяся машина замерла, опустив дуло, из люка начали выпрыгивать немцы.
Танки остановились, башни завертелись, выцеливая пограничников и «сорокопятки». Полетели к небу комья земли, выбитые снарядами. Застрочили «зингерами» пулеметы. Пограничники падали один за другим. Тяжелая пуля молотком тукнула капитана в голову, и он завалился, неловко, бочком, роняя пистолет. Зеленая фуражка покатилась к ногам набегавшего немца. Он уже занес сапог, чтобы пнуть ее, но наскочившая овчарка вцепилась в ногу. Немец замахнулся карабином, собака рванула, и он грохнулся на спину. Майор, расстреляв патроны, на бегу подхватил чью-то винтовку и с разбега засадил штык в живот вопившему врагу. На следующем шаге пулеметные пули разорвали ему грудь. Майора откинуло, словно ударило бревном. Сержант летел по полю, стараясь не отставать от Доры. Вдвоем они положили уже трех немцев, и Володя решил, что овчарка — его берегиня. Мысленно он пообещал, если выживет, сам с голоду загнется, но ее покормит. На его глазах сбило майора. Володя кинулся к нему, но развороченная грудь командира не оставила ему шанса. Сержант поймал взглядом Дору, грызущую загривок лежащего на животе немца, руки крепче сжали мокрую от пота ладоней винтовку и… небо перевернулось… Он не услышал, как истерично завизжали осколки, не увидел оседающего фонтана земли и как Дора, выпустив затихшего фрица, подняла окровавленную морду, отыскивая нового врага.
Генка не заметил, как уселся на траве. Сопли хлюпали в носу. Витька зажал рот и неловко отполз в сторону. Там его и вывернуло.
— Так воны де… — голос матери застал врасплох.
Мальчишки испуганно оглянулись.
— Я с ниг сбилась. Бегом до хаты. Войны им захотилось! — мать выглядывала из-за куста.
Не дожидаясь, когда она приблизится, мальчишки рванули вниз.
Дома мама наградила подзатыльником:
— Марш в погреб. И тильки спробуй ще сквозануть.
Сама спустилась следом, захлопнувшаяся крышка погрузила в полную темноту. Пахло сухой плесенью и погнившей картошкой. Генка тихо всхлипывал, мать прижала его голову к горячему боку:
— Ничого, ничого, як-нэбудь…
Танки стреляли еще часа два, потом замолчали, а карабины, хоть и реже, палили до самого вечера. Генка не заметил, как закрылись глаза. Засыпая, и чувствуя слабеющий голос, спросил:
— А наш батько тоже сейчас фашистив бье?
Она вздохнула, тонкая рука бездумно мяла передник:
— Бье, напевное.
Он представил, как отец на лихом коне летит за драпающими немцами и рубит, рубит…
Только ночью, когда затихли выстрелы, они с оглядкой выбрались из погреба. В окна светила неполная луна, опасная тишина зависла над пустынной улицей. Медленно, чтобы не скрипеть кроватями, легли.
Под утро Генка то ли забылся, то ли и не спал, но слабый скулеж за дверью поднял на ноги, словно выстрел. Мама уже сидела, свесив ноги, упрятанные в длинной белой рубахе.
— Ты слышал?
— Кто-то стонет.
Она кинулась к двери.
На крыльце лежала овчарка.
— Дунай, — узнал Генка.
Кобель попытался подняться, но лапы подогнулись, и он заскулил.
— В сарай его, быстро, — мама решительно подхватила кобеля под задние лапы.
Генка взялся под передние.
Уже рассвело, когда тяжелый сапог распахнул дверь. Немец заскочил в горницу, рука, перехваченная грязным бинтом, направила винтовку на мать и Генку. Мальчишка зажмурился, но мать не отвела глаз от прыгающего дула. Настороженный взгляд стремительно окинул стены, лавки, молодую женщину и мальчишку, застывших на лавке. Не заметив ничего подозрительного, он быстро убрался. На улице кричали, изредка слышались выстрелы, как потом оказалось, немцы расстреляли всех собак, даже привязанных, тарахтели мотоциклы… Они еще долго сидели без движения, обнявшись.
На следующий день жителей согнали к сельсовету. Перед входом покачивалось на ветру тело Никифоровича. Мать сжала побледневшие щеки ладошками, но толпа стон не удержала. Генка с Витькой мрачно поглядывали на суетившихся врагов, оба в этот момент поклялись отомстить фашистам. Немец в высокой фуражке прокричал, что так будет с каждым, кто «помогайт» старой власти. Никто его и не слушал, невольные взгляды замерли на покойном председателе. Потом баб покрепче и подростков отделили от толпы и погнали хоронить пограничников.
Там, где недавно тянулась узкая ниточка траншей, поле покрылось воронками и пластами вывернутой земли. Семь обгоревших танков грозными памятниками торчали на зеленом когда-то лугу. Кругом до самого леска коченели на горячем ветру мертвые пограничники, своих немцы уже унесли. Между людьми коричневыми пятнами густели тела собак. Кто-то из женщин глухо застонал:
— Мамочка, вси полегли.
От ужаса к горлу подкатывала тошнота. Сначала на месте развороченных окопов копали огромную яму, а потом затягивали в нее солдат и собак. Генка старался не плакать, но слезы наворачивались сами. Чтобы земля не сыпалась на глаза, стягивали с мертвых бойцов сапоги и как саваном накрывали лица портянками. Еще встречались живые овчарки. Они скалились и пытались ползти, защищая мертвых хозяев. Немцы пристреливали их издалека.
В этот самый страшный для него день войны Генка отыскал на поле тело сержанта. Он лежал на боку, крепко обняв винтовку. Темное, подсохшее пятно на животе выглядело ненастоящим, нарисованным. С трудом удерживая комок в горле, он срезал вместе с куском ткани медаль и, быстро оглянувшись, прикопал землей фуражку.
Удивительно, но тогда, не сговариваясь, почти все мальчишки села припрятали по фуражке с зеленой тульей. И уже через несколько дней на макушках ребят зеленели головные уборы. Потом мальчишки долго, почти до самого освобождения, гордо шествовали в них, будто всем селом записались в пограничники. Немцы, иногда навещавшие Легедзино, не обращали на подростков внимания. Может, не считали нужным.
Дунай протянул еще неделю. Его похоронили на задах огорода ночью.
В эти же дни недалеко от села на немецкий тележный обоз с продуктами напали собаки. Они подкараулили его в первых сумерках и атаковали так молниеносно, что полицаи не успели выстрелить. Растерзанный обоз нашли утром. Потом собаки еще несколько раз нападали на людей, причем, только на немцев или полицаев. В селе пошли слухи, что это выжившие овчарки, а главной у них собака со шрамом на морде.
Еще через месяц к селу подошел карательный отряд. Растянувшись в цепочку, немцы потянулись через луг к дальним деревьям. Вскоре из леса донеслись первые выстрелы. Больше собаки не появлялись.
9 мая 2003 года на окраине села, где бойцы приняли последний бой, появился памятник, посвящённый погибшим пограничникам и их служебным собакам. На нем надпись: «Остановись и поклонись, здесь в июле 1941 года поднялись в последнюю атаку на врага бойцы Отдельной Коломыйской пограничной комендатуры. 500 пограничников и 150 служебных собак полегли смертью храбрых в том бою, они остались навечно верными присяге и родной земле».
Я с Витькой — теперь Виктором Ивановичем, майором пограничных войск в отставке — частенько навещаем обелиск. Присев на лавочку, вспоминаем ту последнюю атаку. И командиров, и сержанта Володю, и овчарок Дуная и Дору. Складишок затерялся еще во время войны, пропали с годами и те фуражки, но одну вещь я сохранил.
Уложив рядом затертые, теперь уже свои, пограничные уборы и серую от времени медаль «За отвагу» сержанта Кузнецова, не чёкаясь, мы поднимаем стаканы:
— Ну, товарищ сержант, — говорит Виктор Иванович, долгим взглядом, словно заново изучая обелиск. — За пограничников!
На этом месте я поднимаюсь:
— И за их служебных овчарок, товарищ майор.
— Пусть земля им будет пухом! — встает и Виктор Иванович.
— Пусть будет.




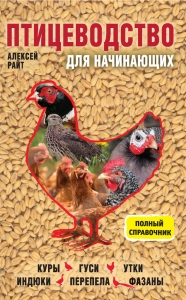
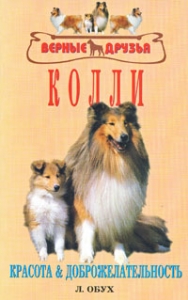

Комментарии к книге «Бой под Уманью», Сергей Геннадьевич Мильшин
Всего 0 комментариев