Борис Рябинин Рассказы о верном друге
ПИОНЕРСКИЙ ПОДАРОК
Началось все со случайного разговора.
— Ах, какая жалость! — сказала за обедом мама. — Атильда-то ведь околела! Такая хорошая была собака!…
Мама всегда сообщает новости за обедом. Витя перестал есть и весь обратился в слух.
— А что с ней произошло? — спросил отец, отрываясь от газеты, которую по обыкновению читал за столом, и поправил очки на близоруких глазах.
— Никто точно ничего не знает. Кто говорит, что костью подавилась, а кто — что съела какую-то отраву… Жалко собаку!
Витя очень живо представил себе веселую, резвую собаку, часто проходившую у них под окном со своим хозяином, папиным сотрудником. Ух, и собака! Все прохожие заглядывались на нее. Умная. Все команды знала! Скажут ей: «Сидеть!» — и она сядет. Скомандуют: «Рядом!» — и она идет рядом, как пришитая… А какая большая! Если встанет на задние лапы, то передние свободно положит Вите на голову… Неужели Атильда околела?
— У нее, кажется, недавно щенки родились? — снова осведомился отец, переворачивая газету.
— Ой, и не говори! — воскликнула мать. — Третий день пошел… Совсем крошки! Не знают, что с ними делать. Несмышленыши, есть сами не умеют… пищат… Смотреть на них — одни слезы! — И она сокрушенно махнула рукой.
Витя торопливо докончил обед и побежал к соседям.
Да, Атильды уже не было. Ее унесли еще утром. А на ее месте, в углу, где она так любила нежиться, остались семеро беспомощных, слепеньких щенят.
Маленькие, несчастные, больше похожие на черно-бурых мышат, чем на щенков восточноевропейской овчарки, копошились они в осиротевшем гнезде, неуклюже тыкались незрячими курносыми мордочками и жалобно пищали. Несоразмерно огромные рты их широко раскрывались, как будто щенки старались возможно больше глотнуть воздуха. Так дышит рыба, вытащенная из воды.
Щенки были голодны. Их пытались кормить. Поставив перед ними блюдечко слегка подогретого молока, окунали в него мордочки малышей, но щенки вырывались, чихали и принимались кричать громче прежнего. Лакать они еще не умели.
Попробовали поить их из соски. Но не помогла и соска. Глупыши с остервенением выталкивали ее изо рта, заливаясь молоком. Белые капли текли по черным мордочкам, размазывались по крошечным усам, но в рот не попадало ничего.
Мокрые, со слипшейся от молока шерсткой, щенята выглядели беспомощными и жалкими.
Витя ушел от соседей опечаленный и притихший.
Судьбой щенков интересовался весь дом. Соседки, встречаясь в подъезде, сочувственно справлялись друг у друга:
— Ну, что? Живы еще?
— Живы… Да долго ли протянут!…
— Так и не едят?
— Так и не едят…
На следующий день отчаянный щенячий писк начал стихать. Малыши гибли без матери. Один за другим они расползались по подстилке и застывали неподвижными черными комочками. Их убивал голод.
Еще через сутки остался в живых только один. Это был самый крупный из семерых, и потому жизнь в нем держалась крепче, чем в остальных. Он все еще ползал по опустевшему гнезду, ища мать, и уже не пищал, а только чуть слышно поскрипывал. Пользоваться бутылочкой или плошкой с молоком он так же упорно отказывался.
Вите было очень, очень жаль щенят. Он, кажется, готов был отдать что угодно, только бы крошечные собачки остались живы. По нескольку раз на дню прибегал он к соседям, чтобы с грустью убедиться, что щенков становится меньше и меньше. Около последнего он просидел на полу целый вечер, а потом выпросил его себе. Щенка положили в старую муфту, и Витя отнес его к себе домой. Мальчугана не покидала надежда спасти хотя бы одного.
Дома с жалобным мяуканьем бегала кошка. Тяжелые, полные молока сосцы почти волочились по полу. У кошки недавно родились котята, их утопили, и несчастная серенькая мать от горя не находила себе места. Она разыскивала исчезнувших детей по всем углам, никому не давая покоя своими воплями.
Витиному отцу пришла мысль подложить щенка к кошке. Чтобы она приняла его за котенка, щенка натерли кошачьим молоком, выдавленным из сосцов, и в отсутствие Мурки положили к ней в гнездо.
Вернулась Мурка. Она сразу почуяла, что в гнезде кто-то есть. Бросилась туда и… взъерошенная, отскочила. Потом стала осторожно принюхиваться. Видимо, она была в недоумении. Пахло и котятами, и собакой… Что бы это могло значить?
Фыркая, как будто она ждала какой-то неприятности, кошка мало-помалу вошла в гнездо, быстрым, грациозным прикосновением лапки перевернула щенка и стала его нюхать.
Щенок запищал. Почувствовав теплоту кошкиного тела, подполз под Мурку и, неумело тычась, стал искать сосцы. Кошка снова отпрыгнула, однако уже не столь поспешно, как в первый раз. Малыш подполз опять. Мурка напружинилась, приготовилась бежать — и вдруг тронула сироту своим шершавым языком. Раздалось громкое мурлыканье, и вслед за тем аппетитное чмоканье возвестило, что щенок, наконец, нашел то, чего искал.
Не выдержало материнское сердце! Если этот странный черный малыш и обладал почему-то сильным запахом собаки, то по всем ухваткам он так напоминал ее котят… С минуту Мурка стояла точно оцепенелая, боясь вспугнуть приемыша, затем осторожно легла. Он прижался к ней плотнее, чмоканье стало более громким и частым. Он сосал и сосал, раздуваясь, как пузырь, а она со сладостным мурлыканьем продолжала лизать его, отчего он вскоре сделался влажным, будто после купанья.
Насосавшись досыта, щенок отвалился от своей вновь приобретенной матери и сейчас же уснул. Кошка тщательно вылизала его всего от макушки до кончика тоненького, как веревочка, хвостика; она долго лежала неподвижно, видимо все еще опасаясь потревожить его сон, затем неслышно выбралась из гнезда и, успокоенная, забыв о своем недавнем горе, отправилась лакать молоко.
За происходившим наблюдала вся Витина семья. И когда стало совершенно очевидно, что усыновление состоялось, Витин папа сказал:
— Ну, живет теперь твой пес! — И ласково потрепал сынишку по взлохмаченной голове.
* * *
Муркино молоко пошло щенку впрок. Насасывался он до того, что с трудом передвигался, и обязательно после этого засыпал крепким сном. С каждым днем он делался бойчее, крупнее и толще. Стал вылезать из гнезда и, когда Мурки почему-либо долго не было, громко и нахально вопил, требуя пищи. Через две недели он прозрел. Темные, подернутые первое время сивой пленочкой глаза с большим любопытством смотрели на окружающий мир. В гнездо он приходил только спать да есть; остальное время ползал по квартире, забирался во все щели, попадался всем под ноги и в общем невероятно мешался.
Мурка и щенок теперь подолгу играли друг с другом. Подскочив к приемышу, кошка ловко опрокидывала его лапой и тотчас отскакивала прочь, а он, поднявшись, неуклюжий, но настойчивый, наступал на нее. Обоим это доставляло величайшее удовольствие.
Не то началось, когда у маленького овчаренка прорезались зубы. Мурке приходилось плохо. Щенок становился сильней день ото дня, он безжалостно царапал кошку когтями, колол острыми, как иголочки, клыками. В довершение неприятностей не стало хватать молока, и щенок терзал и грыз приемную мать без всякого снисхождения, требуя своего. Иногда он так вцеплялся в нее, что она с душераздирающим мяуканьем спешила убраться от своего мучителя.
Витя научился подкармливать малыша из резиновой соски. Став старше, щенок очень скоро освоился с нею. Упираясь передними лапами в горлышко бутылки, он с упоением тянул из нее и не отрывался до тех пор, пока не высасывал содержимое до дна.
Как-то раз во время кормежки он так усердно причмокнул, что соска соскочила с горлышка и исчезла у него во рту. Проглотил ненасытный обжора!
За четвероногим проказником стали наблюдать. Ждали, что ему станет плохо. Ничего подобного! Шалун был веселешенек: колобком катался по комнате, рычал и лаял на воображаемого противника, схватил упавшую со стола бумажку и с азартом изорвал ее в мелкие клочки.
Прошел день. На семейном совете решили дать «больному» столовую ложку касторового масла. Малыш проглотил касторку с наслаждением, как самое вкусное лакомстве, и после старательно вылизал ложку до блеска.
Наутро соску нашли в углу. Из черной она превратилась в белую.
Скоро щенок приучился лакать молоко из блюдечка, есть жидкую манную кашу. Постепенно привыкал он и к твердой пище.
Рост зубов у щенят всегда сопровождается сильным зудом, и в такой период они обычно все грызут и рвут. Пришлось попрятать от малыша туфли, калоши, ботинки, снять на время даже скатерть с обеденного стола, а то маленький хулиган, вцепившись зубами и повиснув всей тяжестью, грозил в один прекрасный день порвать ее. Он с удовольствием грыз морковку, сухари, а иногда с таким ожесточением принимался трудиться над деревянной баклушкой, которую Витя нарочно давал ему, что от нее только щепки летели. Мурку он больше уже не сосал. Игры, правда, между ними еще продолжались, но скоро пришел конец и им. Щенок не умел рассчитывать свои быстро прибывавшие силенки и так впивался в Мурку зубами, что она стала бегать от него.
— Ты что буянишь-то? — говорил в таких случаях Витин отец малышу. — Вот буян!
Постепенно это прозвище сделалось кличкой щенка. Он быстро привык к ней.
— Буян! — кричал Витя, и щенок, забавно забрасывая задние лапы, как будто они стремились опередить передние, бежал к своему молодому хозяину. Прибежав, садился перед мальчиком и, не мигая, смотрел ему в лицо своими карими смышлеными глазками, словно спрашивал: «Зачем звал?»
— Ну? Где опять напроказничал, рассказывай! — разговаривал иной раз мальчик с четвероногим дружком. А щенок молчит, умильно смотрит и старается поставить настороже полувисячие ушки, точно пытается понять, что ему говорят.
Витя нарадоваться не мог, глядя на своего питомца. Из крошечного неказистого создания тот на глазах превращался в собаку. Тупая короткая мордочка стала удлиняться, плотно прижатые к голове ушки оттопырились, хотя еще и не походили на треугольные стоячие уши восточноевропейской овчарки. Подлинней стал и хвостик. А темно-бурый, почти черный цвет шерсти как-то незаметно изменился на более светлый.
Было приятно отмечать, как с каждой неделей меняется выражение щенячьей мордочки, появляется какая-то осмысленность во всех движениях, поступках, по-другому смотрят глаза, в которых начинает пробуждаться ум.
Мама говорила, что когда Витя уходит в школу, Буян часами сидит у окна и тоскует, ожидая хозяина. Утром он ходил около кровати мальчика и с нетерпением ждал, когда тот проснется, а если Витя спал слишком долго, принимался стаскивать с него одеяло. А раз, когда в каникулы Витя на несколько дней отлучился из дому, Буян был скучный и ничего не ел.
Витя готовил уроки, когда прибежал соседский мальчик и крикнул в окно:
— Виктор, спасай своего Буяна!
Витя опрометью выскочил во двор, а оттуда на улицу. Перед воротами стояла легковая автомашина, какие-то люди, захлопнув дверцу, усаживались в ней, а на переднем сиденье рядом с шофером стоял на задних лапах Буян, царапал стекло кабины и жалобно скулил.
«Украсть хотят. Понравился им Буян…» — пронеслось в мозгу мальчика. Подбежав к автомобилю, он принялся что есть сил барабанить в дверцу, громко крича:
— Отпустите собаку! Это моя собака! Неизвестные люди засмеялись, открыли кабину и выпустили Буяна, а один из похитителей, смуглый высокий мужчина, сказал:
— Получай свою собаку. Да, смотри, в другой раз без себя ее бегать не отпускай. А то не видать тебе ее, как своих ушей!
С этого дня Витя перестал выпускать Буяна на улицу одного, а всегда гулял с ним сам.
Буян рос резвым и сильным. Играть он был готов с утра до позднего вечера. Набегается, нарезвится на улице вволю, придет домой — опять топчется между людьми, заглядывает всем в глаза: не поиграют ли? Из-за этого ему часто приходилось терпеть разные мелкие неприятности — то прищемят хвост, то отдавят лапу. Особенно часто наступал ему на лапы близорукий отец Вити. Буян взвизгнет на весь дом и отскочит с таким видом, как будто ему грозила смертельная опасность.
— Не ходи босиком! — скажет невозмутимо отец.
А Буян опять весел и готов играть.
Наигравшись, набегавшись за день, Буян продолжал заниматься тем же и во сне. Спит, а у самого дергаются ноги, ходят мускулы под кожей, мелко-мелко дрожат веки. Порой даже начнет тоненько тявкать.
— Ну, побежал! — говорил в такие моменты отец.
— Папа, неужели он видит сны? — спрашивал Витя, с удивлением прислушиваясь к сонному подвыванию щенка.
— А почему бы и нет? Ты же их видишь!
— Ну, то я…
— Ты не согласен? А что такое сон? Ты задумывался? Сон — отражение действительности. Впечатления дня тревожат его ночью, и в этом смысле разница между тобой и Буяном небольшая…
— А что он видит? — поразмыслив, спрашивал Витя.
— Это уж ты спроси у него. Вероятно, гонится за чужой собакой…
К полугоду Буян ничем не напоминал того горемыку, какого Витя принес в старой муфте. У него встали уши. Теперь он удивительно походил на большого и красивого породистого пса, которого однажды Витя видел на выставке собак.
* * *
Однажды в школу, где учился Витя, пришел высокий загорелый мужчина в военном. На общем собрании учащихся, происходившем в большом зале, он отрекомендовался представителем клуба служебного собаководства и спросил, кто из ребят хочет стать членом этого клуба.
Школьники молчали. Тогда военный спросил:
— Кто из вас, ребята, любит животных? Подняли руки все. Военный улыбнулся.
— А у кого есть дома свои четвероногие друзья?
Опять подняли руки многие. Почти у всех были дома кошки или котята. У нескольких ребят во дворе жили дворняжки. И только у Вити оказался свой собственный щенок, да не простой, а породистый (так говорили Вите соседи, хозяева Атильды).
Гость вытащил покрасневшего Витю на середину сцены и спросил:
— А кто еще хочет воспитывать породистого щенка? Желающих нашлось немало.
— Тогда надо вам организовать кружок юных Друзей обороны, потому что овчарка — это служебная собака, а служебные собаки необходимы нашей стране и в мирном быту, и для обороны.
— Дядя… — начал было Витя, когда собрание кончилось и военный спустился со сцены. Мальчик поперхнулся, но тотчас же продолжал уверенно: — А я вас знаю!
— Откуда же?
— А вы хотели у меня собаку увезти, — смело ответил Витя.
— Ого! — засмеялся военный. — Теперь и я, кажется, припоминаю тебя. Возможно, что и хотел. Только не для того, чтоб украсть, а как раз наоборот. Тебе же на пользу.
— Как это? — удивился Витя.
— А вот так. Чтобы в другой раз не отпускал собаку беспризорной. Собачников знаешь, которые по улицам ездят и всех бродячих собак ловят и в ящик сажают? Видал, конечно. А если бы они твою собаку поймали? Это было бы похуже. Вот чтобы этого не случилось, я и хотел подобрать твоего щенка. А у меня в клубе он уж никуда не делся бы. Через денек-другой он вернулся бы к тебе, а для тебя была бы хорошая наука…
— А куда они их потом девают? — спросил Витя, думая о собачниках, разъезжающих по городу. Ему не раз приходилось наблюдать, как они ловко ловили собак проволочными петлями-удавками, привязанными к длинным палкам. Раз — и готово! А собак всегда жалко-жалко…
— Куда девают? Подождут немного, и если хозяин не явится выкупить животное — значит, считай, конец. Получше — продадут, и не узнаешь куда, а которые похуже — на веревку…
Только теперь Витя понял, какой опасности подвергался его Буян. Он отошел от военного пристыженный.
После этого Витя стал аккуратно посещать кружок юных собаководов. Вместе с ним там занималось много мальчиков и девочек. Лекции в кружке читал тот самый военный, который приходил к ним в школу. Он оказался начальником клуба служебного собаководства.
Постепенно Витя узнавал, как широко применяется служебная собака. В военном деле это и связист, и разведчик, и санитар, и часовой. В мирном быту — пастух, сторож, сельский почтальон. И не только овчарки, но и доги, доберман-пинчеры, эрдель-терьеры, лайки — все они служебные собаки, в разведении которых заинтересовано государство. Многому научился в кружке Витя. К весенним каникулам он уже знал, как воспитывать и дрессировать щенка.
К тому времени Буян значительно подрос. У него появились злобность, чуткость и недоверчивость. Он уже не ласкался к кому попало, а, наоборот, если в квартиру заходил чужой человек, бросался на него, задорно лаял, не на шутку грозясь укусить. Незнакомые люди пугались его, и щенка приходилось либо брать на поводок, либо отсылать в другую комнату, где он еще долго продолжал лаять и бросаться на дверь.
С первыми теплыми днями началась для Буяна регулярная учеба на дрессировочной площадке. Недрачливый и спокойный по природе, он быстро освоился с площадкой, с шумом и гамом многочисленного собачьего сборища. И мальчик, и собака ходили на занятия с удовольствием. Оба приучались к дисциплине и выдержке.
Буян проявлял поразительные успехи в дрессировке. Стоило ему показать два-три раза, и он уже запоминал прием, знал, чего от него требуют. Вскоре он умел по команде садиться, вставать, ложиться, переползать с одного места на другое, ходить рядом, строго с левой стороны от хозяина, приносить поноску-апорт[1].
Большого успеха добился Витя в развитии выдержки у собаки. Он мог положить Буяну на нос кусочек мяса, приказать «Фу!» — что означает «нельзя, не трогать», — и пес терпеливо сидел, не шевелясь и почти не дыша, до тех пор, пока не раздавалась вторая команда — «Возьми!» Тогда Буян молниеносно, как фокусник, подбрасывал мясо вверх, ловил его в воздухе и проглатывал.
Постепенно пес усваивал все более сложные приемы.
Заканчивалось и его физическое формирование. Он превратился в крупную, хорошо и правильно сложенную восточноевропейскую овчарку, цветом и ростом очень похожую на волка.
Некогда нелепо оттопыренные ушки теперь всегда стояли торчком, острые, как стрелки. Когда они двигались, это означало, что Буян прислушивается. В такие моменты лоб собаки наморщивался, на нем появлялись забавные поперечные складки, как будто Буян о чем-то старательно думал.
Изменился весь щенок. Маленький тоненький прутик превратился в длинный пушистый хвост, челюсти украсились мощными белыми клыками, способными разгрызть и раздробить любую кость.
Хвост был как бы барометром настроения Буяна. Когда пес резвился, играл — хвост отчаянно мотался из стороны в сторону. Когда Буян настраивался на драчливый лад — хвост задорно вскидывался кверху, вроде победного стяга. Когда же пес чувствовал себя неуверенно, трусил или знал, что он в чем-то провинился, — хвост опускался книзу и прятался между задними ногами под брюхом.
Как по хвосту можно всегда судить о настроении собаки, так по кончику ее носа, мочке, хозяин может безошибочно определить состояние ее здоровья. Если нос холодный и влажный, все хорошо. Если же сделался вдруг сухим и горячим, значит, псу нездоровится.
Как-то раз, возвратившись домой, с площадки, Витя заметил, что Буян скучный. От корма он отказался, ушел в свой угол и лег. Утром он не встал. Черный сухой нос его растрескался, бока запали. Пес тяжело дышал и нервно вздрагивал. Поставленную ему чашку с пищей он даже не понюхал. Лакнул раза два воды, которую подал ему Витя, и опять свернулся клубком, засунув морду в пах.
На следующее утро он лежал врастяжку на боку. Все тело его содрогалось от конвульсий. Дергались лапы, хвост, уши. Мелко-мелко дрожали и подмигивали веки, обнажая белки глаз. Появился насморк. Буян чихал, фыркал, тер нос лапами.
Внезапно он вскочил. Изо рта текла слюна. Натыкаясь на мебель, принялся кружиться по комнате, визгливо лаял и причмокивал губами, как будто что-то жевал. Витю он точно не замечал, не слышал обращенных к нему слов. Затем вдруг остановился, постоял, качаясь, как пьяный, и грохнулся на пол.
С помощью отца Витя перенес своего друга на подстилку. Пес был без чувств.
Вызвали ветеринарного врача. После недолгого осмотра тот сразу же определил:
— Нервная чума.
Витя испугался. Чума — страшный бич щенков и молодых собак, а нервная форма чумы — особенно опасна.
— А она не заразна? — осторожно спросила мама.
— Для людей, вы хотите сказать? — усмехнулся доктор. — Что вы, ничуть! Это же особая чума, собачья, и опасна она только для собак. Даже на кошек не переходит.
Витя полными слез глазами умоляюще смотрел на доктора; папа, размышляя о чем-то, озабоченно хмурил брови.
— Как же быть? — спросил он. — Неужели так и погибнет собака?
— Надо немедленно принимать меры, — сказал врач. — Придется дать пенициллин… — Он присел на краешек стула, быстро набросал на узенькой полоске бумаги с печатью несколько слов по-латыни и протянул Вите: — Беги в аптеку. Да живой ногой!…
Началось лечение. По указанию врача Витя промыл Буяну раствором борной кислоты нос и глаза. Затем доктор сделал Буяну укол пенициллина. Витя напряженно следил, как прозрачная желтоватая жидкость медленно уходила из шприца, переливаясь под кожу собаки.
Уколы делали несколько раз в сутки, через определенные промежутки времени.
— Это, брат, такое лекарство… мертвого поднимет! — успокоительно говорил доктор, но это мало утешало мальчика. Буян по-прежнему был в очень тяжелом положении.
С трудом за сутки Витя выпаивал Буяну полстакана молока. Давал ежедневно порцию белых сухариков. Пес брал пищу очень неохотно, но все же понемногу ел. Хорошо, что Буян был вынослив и упитан. Это давало надежду, что он сумеет побороть болезнь.
Выздоровление затянулось почти на месяц. Однако крепкий организм все же выдержал испытание. Пенициллин спас собаку.
Но еще долго у Буяна оставалось легкое подергивание конечностей, иногда он вдруг начинал быстро-быстро мигать глазами. Потом, со временем, прошло и это.
* * *
— Где мои очки? Витя, ты не видел мои очки?
— Нет, папа.
— Странно… Куда я их мог задевать?
— Буян, ищи очки! — командует Витя. — Очки! Очки! Понимаешь: очки…
Буян бестолково закружился по комнате, заглядывая за шкафы, стулья. Что такое очки? Кажется, это тот предмет, который старший хозяин часто держит в руках, протирает платком, потом зачем-то пристраивает к лицу, а когда теряет (а это с ним бывает частенько), то делается сразу беспомощным, как ребенок…
— Да вот же очки, папа! Буян нашел их!…
— Кто их положил туда?
— Да уж, конечно, ты сам, — ворчит мама.
А Буян? Он чувствует себя героем. Он гордо носит свой пышный хвост, выступает важно и снова готов услужить, только кликните его…
Уже не первый раз Буян находит затерявшиеся предметы. Чутье у него изумительное, а в доме он знает каждую вещь.
Он может отыскать потерянное не только дома. Не далее как вчера произошел такой случай.
Отец, как всегда, утром отправился на работу, но через несколько минут неожиданно вернулся обратно и с озабоченным видом принялся рыться в ящике письменного стола.
— Что случилось? — спросила мама. — Ты что-нибудь забыл?
— Пропуск… Я, кажется, потерял пропуск на завод… — неуверенно произнес отец.
— Этого еще не хватало! Где ты его мог потерять?
— Не имею понятия… Возможно, что он дома…
— Ты вечно что-нибудь теряешь! — И мать тоже принимается за поиски. Но пропуска нет как нет.
— А может быть, ты потерял его дорогой?
— Может быть…
— Да ты хоть помнишь, — сердится мать, — брал ты его с собой или нет?
— Да, брал. Вероятно, брал… Нет, конечно, брал! Ведь он же всегда у меня в кармашке…
— А когда ты заметил, что его нет? — продолжает допытываться мама, отлично знающая все недостатки папы.
— Я дошел до проходной, хотел показать его вахтеру и…
— Совершенно ясно. Ты обронил его дорогой. Там и надо искать, пока его кто-нибудь не подобрал.
— Буян! — кричит Витя. — Пойдем искать пропуск! Буян только того и ждет. Ага, куда-то идти, что-то искать… Превосходно! Опережая всех, он мчится к двери, возвращается с возбужденным видом назад, снова бросается к порогу… Теперь его не удержать ничем! Вчетвером они отправляются на поиски. Впереди Буян, за ним — Витя, затем — мать и, наконец, замыкая шествие, — виновник всего, отец. Далеко идти не пришлось. Пропуск — маленькая красненькая книжечка — лежал в канаве в десяти шагах от ворот. Нашел его, конечно, Буян. Пока люди шарили глазами по тротуару, Буян, уткнув нос в землю, быстро побежал-побежал, сделал небольшой зигзаг, сунулся в канаву, и — пожалуйста! — находка в его зубах. Знакомый запах безошибочно указал ему, что именно здесь лежит потерянная вещь.
— И зачем тебя сюда занесло? — недоумевала мать.
— Я, видимо, снял очки… Да, теперь припоминаю! Я стал протирать очки, оступился, он и выпал!…
Много разговаривать было некогда. Взглянув на часы, отец сразу заторопился: он еще мог поспеть к началу работы.
Потерять пропуск — неприятность. Ведь папа работает на оборонном предприятии. Папа отличный инженер, но рассеянный — жуть!
После этого случая популярность Буяна в семье возросла еще больше. Его и так любили; теперь он день ото дня доказывал, что заслуживает не только любовь, но и уважение.
Витя задавал себе вопрос: какую специальность определить для Буяна? Ведь каждая настоящая собака должна иметь какую-то определенную специальность, вроде того как ее имеют люди. Рабочие качества Буяна не подлежали никакому сомнению, но они могли быть использованы по-разному. Он был в меру злобен, даже ласков — значит, его можно пустить и по санитарной, и по всякой службе; однако в нужные моменты он проявлял такую недоверчивость и смелость, которые заставляли предполагать, что он будет хорошо служить и как караульный пес. Попробуй разберись, что лучше, особенно если тебе все кажется интересным…
Витя обратился к начальнику клуба, с которым теперь советовался во всех случаях, когда дело касалось Буяна. Сергей Александрович — так звали начальника — не был «настоящим» военным; он только донашивал военную форму, привыкнув к ней в армии, в которой служил несколько лет назад. Однако зеленая гимнастерка, туго перетянутая ремнем, и брюки галифе вызывали у юных собаководов дополнительную долю уважения и почтительности к этому человеку.
И с ребятами он умел ладить: для него они были не дети, а прежде всего товарищи по работе, друзья.
Выслушав мальчика, Сергей Александрович сказал:
— Я тебе советую не торопиться. Раз ты еще сам не решил, что тебя больше интересует, — не спеши. Собака молодая, подождет. А пока займись дополнительной дрессировкой по караульной службе. Это такое дело, которое всегда пригодится…
И Витя стал обучать своего дружка охранять вещи, защищать хозяина, задерживать, конвоировать, не допускать чужого человека к тому месту, куда запрещено подходить. Сказали «Охраняй!» — значит, охраняй…
* * *
Сергей Александрович как в руку положил, сказав, что «это» может всегда пригодиться.
…Витя с Буяном возвращался с площадки. С наступлением осени дни сделались заметно короче, быстро смеркалось, вечера стали темные, беззвездные. Площадка находилась в центре города, на берегу реки, а Витя с родителями жил на окраине, в заводском районе; занятия кончались поздно, и он часто приходил домой в сумерках.
На этот раз он задержался дольше обычного и возвращался совсем в потемках, когда уже зажигались уличные фонари. На окраине улицы были пустынны, и, чтобы дать собаке возможность порезвиться, Витя спустил Буяна с поводка. Обрадовавшись свободе, пес принялся бегать, фыркая, разнюхивать что-то в зелени газона; порой он убегал из освещенного пространства, тогда Витя подзывал его к себе.
Внезапно до слуха мальчика донесся слабый звон, как будто разбилось что-то стеклянное. Один из фонарей впереди потух.
Витя остановился и замер. «Кто-то разбил плафон», — мелькнула догадка. Сердце у него заколотилось сильно-сильно.
Полушепотом мальчик подозвал собаку:
— Ко мне, Буян!
Послышался шорох, из-за кустов акаций выпрыгнул Буян и сел у ног своего юного хозяина.
Витя прислушался. Звон больше не повторялся; ровная цепочка белых светящихся шаров уходила в темноту, лишь в одном месте чернел провал — там, где погас фонарь.
Эти фонари были поставлены недавно, всего несколько месяцев назад. От начала до конца все происходило на глазах Вити. Каждый раз, направляясь на площадку и обратно, он с интересом отмечал про себя происшедшие изменения: сегодня выкопали глубокие квадратные ямы; завтра вместо ям появились прочные бетонные основания-площадки; потом привезли чугунные трубы-столбы; спустя еще немного времени Витя обнаружил, что столбы уже поставлены, на них висели монтеры, натягивали провода, ввинчивали лампочки, навешивали большие молочно-белые шары… О своих наблюдениях Витя торжественно докладывал дома, и успехи городского благоустройства обсуждались за обедом всей семьей так же, как обсуждались отметки Вити. Фонари зажглись в канун выборов в Верховный Совет СССР; и с этого вечера всякий раз, идя по улице, Витя любовался ими.
Но вот несколько дней назад он заметил, что один из белых шаров пробит, по-видимому камнем, пущенным с земли, и не светится. Витя с негодованием подумал о том неизвестном мальчишке (он был уверен, что это мог сделать только какой-нибудь мальчишка), который занимается таким озорным делом. Наверное, показывает свою удаль, а не думает о том, что наносит ущерб городу и позорит себя, и не только себя, а всех ребят. Витя постоянно помнил о разбитом плафоне, а сейчас почти на его глазах разбили второй плафон.
Решение созрело мгновенно. Скомандовав Буяну «Рядом!», Витя бросился туда, где потух фонарь. Буян рысцой бежал рядом.
Но они опоздали. Под потухшим фонарем никого не оказалось (дожидаться, что ли, их будут!); только на земле валялись осколки вдребезги разбившегося при падении стекла — доказательство преступления.
Витя постоял и услышал в переулке удалявшиеся мальчишеские голоса. Все так же с Буяном, прыгающим у левой ноги, юный ревнитель уличного порядка устремился в погоню.
Подростков было трое. Так и есть: кто же еще будет заниматься таким озорством, как не мальчишки, у которых вечно зудятся руки запустить во что-нибудь камнем! Витя догнал их в середине квартала, в самом безлюдном месте, и требовательно спросил:
— Это вы разбили фонарь?
Подростки остановились. Один — рослый крепыш, — засунув руки в карманы штанов и широко расставив ноги, окинул Витю, который был ниже его ростом, презрительным взглядом и вызывающе сказал:
— А хоть бы и так, тебе что?
— Зачем вы это сделали?
— Тебя не спросились!
— Пойдемте в милицию, — отчеканил Витя.
— Чего?! — искренне изумился подросток.
— А вот и «чего»! Сами не пойдете, вас силой приведут.
— Это кто же? Уж не ты ли?
— А хоть бы я!
— Пошли, — быстро сказал второй подросток, с тревогой следивший за развитием этого разговора. — Брось, Петька, спорить! Не связывайся! Пошли!
Он, вероятно, боялся, как бы на подмогу Вите не подошел кто-нибудь взрослый; того же опасался и третий. Увлекая за собой Петьку, они торопливо зашагали прочь. Но Витя не дал им уйти.
— Я вам последний раз говорю: пойдемте в милицию! — сказал он, нагоняя их. В тоне его голоса появилась легкая угроза.
— Да отстань ты! Прилип… пластырь!
Петька резко развернулся и сделал движение, как бы собираясь ударить Витю, но в ту же секунду вынужден был с испугом откинуться назад. Сердито рявкнув, Буян рванулся и, прежде чем Витя успел остановить его, впился острыми зубами в ногу Петьки. Петька охнул и, схватившись за икру, сел на землю. Двое других, бросив приятеля на произвол судьбы, пустились наутек.
Оторвав Буяна от Петькиной ноги, Витя хотел было пустить его за остальными (пусть задержит!), но, вспомнив, что тот может сильно искусать, раздумал. Одного задержал — и ладно. Надо будет — через него узнают и других.
— Вставай! — приказал он Петьке.
— Ты его держи, — плаксиво заговорил Петька, боязливо оглядываясь на Буяна. Он поднялся и, прихрамывая, нехотя побрел за Витей.
— Будешь знать теперь, как хулиганить! — назидательно сказал Витя, когда они прошли уже квартал и Петька, таким образом, имел время подумать о последствиях своего поступка. — В другой раз не захочешь…
Витя наслаждался своей победой и нарочно шел неторопливым шагом, с трудом удерживая около себя Буяна, который продолжал тянуться мордой к Петьке.
Петька хмуро молчал. От его самоуверенно-вызывающего вида не осталось и следа. Ногу палило, точно огнем, но эта боль была ничто по сравнению с теми душевными муками, которые испытывал Петька, начиная думать о том, что ему предстоит, когда о его «подвигах» узнают в училище и дома. Родителям, конечно, принесут штраф, а в училище проработают на собрании… Только бы не исключили! Представив себе все это, Петька даже застонал. Чтоб он еще стал швыряться в эти белые шары, показывая свое молодечество, — да пропади они пропадом!… Ему смертельно хотелось улизнуть, чтобы избежать наказания, но улизнуть было невозможно, и он продолжал угрюмо следовать за Витей, больше всего в эту минуту опасаясь Буяна.
* * *
Однако кем же будет Буян? Санитаром или разведчиком? Неподкупным часовым на охране какого-нибудь государственного имущества или смелым связистом? Витя все еще не решил. Ему очень хотелось сделать из Буяна ищейку (у него такое чутье, и к чужим он недоверчив!); но это самый сложный вид дрессировки, и Сергей Александрович сказал, что пройти эту дрессировку можно только в условиях специальной школы-питомника розыскных собак.
Уже шла зима. Витя часто ходил с Буяном за город на лыжах. Обоим эти прогулки доставляли много радости. Скрипит снег под лыжами, крепкий бодрый морозец румянит лицо. Встречные люди трут рукавицами носы, а нашим друзьям и мороз нипочем. Оба закалились на частых прогулках. Выйдя за город, они спускались к реке. С вершины высокого пригорка Витя стремглав скатывался вниз. Свистит ветер в ушах, позади с лаем догоняет Буян. На твердом насте на середине реки он не проваливается, и вот тут-то и начинается настоящая потеха.
Витя снимает лыжи, и приятели принимаются бегать взапуски; наст отлично выдерживает обоих. Потом Буян ухватывается за лыжную палку и тянет ее в одну сторону, Витя — в другую. Наконец, оба запыхавшиеся, возбужденные, они идут к противоположному берегу и углубляются в лесную чащу.
Красиво в лесу в морозный ясный день! Деревья стоят строгие, величественные, одетые в искристый пушистый иней — куржак. Тронь его, и он осыплется холодными колючими иголками, мгновенно тающими на руке. Тишина вокруг — удивительная. Будто все уснуло в лесу. Каждый шорох, каждый звук слышен.
Пролетит сорока низко над вершинами деревьев, помахивая черно-пегими острыми крыльями, — Буян долго следит за ней, задрав голову вверх. А вот тут была белка: у ствола на снегу раскрошена шишка…
— Ау! — крикнет Витя. И кто-то словно откликнется в таинственной сумеречной чаще.
Витя припоминает: вот здесь, у края большого луга, в начале зимы клуб устроил общественный показ работы дрессированных служебных собак. Было много народу, главным образом молодежи. Вите особенно запомнилась отличная работа одной собаки-санитара.
На ослепительно белой снеговой поляне показалась собака. Подпрыгивая время от времени, как заяц, на всех четырех лапах, чтобы лучше видеть, она быстро пересекла открытое пространство и скрылась в зарослях кустарника. Затем показалась опять. Бег ее замедлился. Она не просто бежала, она искала. А кусты мешали ей видеть. Ее движения сделались порывистыми, суетливыми. Однако в них не чувствовалось растерянности животного, потерявшего хозяина. Нет, это был поиск, тщательный, хорошо натренированный, в результате которого не оставалось ни одного необследованного кустика.
Затем она потерялась из поля зрения. Ни один звук не выдавал ее местопребывания. Кое-кто из зрителей подумал: ну, убежала совсем, — и высказал это вслух. Теперь ищи ветра в поле!
Но через четверть часа собака вновь появилась на поляне. Бег ее опять изменился. Она уже не задерживалась, чтобы подпрыгнуть и осмотреться по сторонам, не нюхала землю и воздух, а широкими плавными скачками спешила напрямик в обратном направлении. Верно, она отказалась от своих поисков?… Нет! Просто она выполнила первую часть дела и теперь старалась поскорее довершить остальное. Кожаная палочка-бринзель, недавно болтавшаяся у нее под шеей, сейчас была крепко зажата в пасти. Это значило: она нашла. Кого? Белая повязка с красным крестом, надетая на животном, красноречиво свидетельствовала: найден раненый. И ему нужно оказать немедленную помощь.
Спустя минуту собака вновь бежала к раненому. Но теперь она была на поводке: вместе с нею бежали санитары-мужчины с носилками в руках. Тяжелораненый, получив своевременную медицинскую помощь, будет спасен. Герой, сражавшийся за Родину, не умрет…
Но вот и поляна осталась позади. Кругом сосны да ели с тяжелыми подушками снега на протянутых лапах-ветвях. Чуть задень их… Ой, упало прямо за шиворот! Холодные струйки потекли по спине, но тотчас и пропали — высохли от горячего тела.
Кто-то серый, пушистый и легкий, как мотылек, бесшумно перепорхнул вдруг в вышине с одного дерева на другое. Белка! Вот она, проказница! Витя погнался за нею — нет, не поймать, а просто хоть увидеть еще раз; он смотрел вверх и бежал; загнутый носок лыжи ушел глубоко под корягу, ноги мгновенно заплелись, тело потеряло равновесие — трах! — и Витя полетел носом в снег.
Снег набился за воротник, в глаза, в уши; да снег что, не беда; хуже — другое.
Стал подниматься — и сразу почувствовал резкую боль в ноге; хотел шагнуть — и чуть не закричал. Боль была столь пронзительна, что он едва не потерял сознание.
Витя ощупал ногу. Она не давала ни двигаться, ни шевелиться. Хорошо, если только вывихнута, не сломана.
Вот тебе и белка! В другой раз не будешь глазеть по сторонам и пялить глаза в небо, коль ходишь по земле…
Что же, однако, делать? До дому несколько километров, а он не может ступить и шагу…
Витя опустился на лыжи, чтобы хоть как-то утишить боль в ноге.
— Что будем делать-то, а, Буйка?
Буян кружился вокруг хозяина, с веселой мордой, махая хвостом. Глупый, не понимает, что случилось. Домой теперь не попадешь!
— А в лесу, Буйка, оставаться тоже нельзя, — рассуждал вслух мальчик. — Замерзнем.
Буяну надоело ждать, пока поднимется хозяин: он схватил зубами за веревочку одну из лыж и стал дергать к себе, заигрывая с Витей, как бы приглашая его: «Чего сидишь? Вставай!…»
А что, если… Нет, снег глубокий, будет проваливаться, у Буяна не хватит сил. Но ведь попытка не пытка — отчего не попробовать. Все равно другого выхода нет.
С минуту Витя раздумывал, затем осторожно приподнялся. Буян перестал дергать лыжу и с ожиданием следил за ним.
Решено. Витя ляжет на лыжи, а Буян пускай тащит, как на салазках. Но лыжи надо чем-то связать и сделать упряжь, чтобы Буян мог везти. Не зубами же дергать: так далеко не уедешь.
Витя был хладнокровный и сообразительный мальчик; другой бы растерялся, распустил бы, чего доброго, нюни с перепугу, а он — нет. Он снял с себя кушак, потом стянул ременный пояс, поддерживающий брюки. Можно пустить в дело и носовой платок. Платком он связал загнутые концы лыж, чтобы не расползались в разные стороны, а из кушака и ремня смастерил что-то вроде шлейки, которую на дрессировочной площадке надевали на караульных собак вместо ошейника, чтобы не очень врезалось в тело. Пришлось, однако, прицепить и к ошейнику — надежнее. После этого Витя лег на лыжи, сдвинул их под собой, крепко ухватился руками за эти самодельные постромки и приказал:
— Буян, вперед! — И добавил больше для себя, чем для собаки: — Поехали!
Буян поднатужился, попробовал дернуть в один бок, в другой, потом, понукаемый хозяином, потянул прямо туда, куда смотрели заостренные носки лыж, — и Витя почувствовал, что сдвинулся с места, лыжи со скрипом поползли по снегу.
Везти было тяжело, но Буян старался изо всех сил. Медленно-медленно, оставляя за собой в снегу широкую борозду, они двигались к выходу из леса. Несколько раз Буян останавливался. Витя давал ему передохнуть, затем снова кричал:
— Буян, вперед! Вперед!
Начало смеркаться — зимний день короток, — а до дому еще далеко. Там, наверное, беспокоятся, хватились Вити. Давно должен был бы вернуться с прогулки, а его все нет, и Буяна тоже нет…
Буяну жарко. Он высунул язык, дышит часто и громко, ошейник врезался ему в шею, стесняя дыхание, и все-таки Буян тянет, тянет, увязая в снегу, весь напрягаясь, тянет сколько есть у него сил…
Вот, наконец, выбрались из леса… Пересекли поляну… Витя уже устал лежать и устал смотреть, как надрывается Буян. Так бы и вскочил и помог собаке… А впереди еще река и крутой подъем на тот берег. Осилит ли его Буян?
Стало уже совсем темно и… немного страшно. Витя так напрягал зрение, всматриваясь в темноту, что даже стало больно глазам. Какие-то движущиеся огоньки замелькали впереди — один, другой, третий. Нет, это не огни города и не фары автомашины. Да и какая может быть автомашина на снегу, в стороне от дороги? Огоньки разбрелись в разные стороны, потом собрались вместе, приближаются… Да это же ищут его, Витю. Ну, конечно!
Папа с фонарем в руке; с ним еще двое незнакомых мужчин, тоже вооруженных фонарями. Папа ждал-ждал и отправился на поиски. Они идут по лыжному следу, проложенному Витей на переднем пути. Буян услышал голоса, рванулся вперед, Витя выпустил из руки постромки, и пес, разразившись радостным лаем, бросился навстречу старшему хозяину. Через полчаса все были дома.
Да, вот так прогулка!… Отличились оба. Витю — сразу в постель; мама так встревожилась, что даже забыла его пробрать; на подвихнутую ногу наложили согревающий компресс, укутали ее в мамину шаль. Ничего, пройдет! На молодом теле все быстро заживает! Зато Буян — герой сегодня. Впрочем, в первые минуты было не до него: все внимание — на Витю, а про Буяна забыли, он пошел и лег в своем уголке, положив голову на передние лапы и наблюдая за тем, как взрослые хлопотали около мальчика. Зато потом, когда все волнения улеглись, уж его и ласкали, и печеньем пичкали, и называли всякими уменьшительными именами. А мама так прямо заявила, что другой такой собаки — во всем свете ищи, не сыщешь!
После этого приключения Витя несколько недель не расставался с мыслью, что сделает из Буяна санитарную собаку. Пусть Буян принесет пользу, когда случится война и надо будет спасать тяжелораненых на поле боя.
Но спустя некоторое время ему рассказали, что существуют собаки, натренированные для охраны зеленых насаждений, скверов. Эта специальность четвероногих помощников человека показалась мальчику настолько неожиданной и занятной, что временно он забыл про все остальные. Представляете, как здорово: вы идете по скверу или парку, хотите сорвать веточку, но только потянулись за нею — из-за дерева немедленно появляется грозная собачья морда и раздается предупреждающее рычание, которое напоминает вам: нельзя! Цветы и деревья посажены не для того, чтобы их рвать и ломать.
Вите очень живо рисовалось, как Буян будет нести такую службу. Уж он не позволит сорвать ни одного цветка. Небось, проученный им Петька не забыл про историю с фонарями. Прохожие будут удивляться: чья такая умная собака? А другие станут говорить: да это же нашего соседа, пионера Вити, разве вы не знаете?… Но вот как-то в середине зимы на общем собрании юных друзей обороны начальник клуба зачитал сообщение о том, как одесская пионерка Таня Баранова вырастила восточноевропейскую овчарку Гильду, выдрессировала ее и затем написала письмо в Москву с просьбой принять Гильду в Советскую Армию. Теперь Гильда вместе с бойцами-пограничниками стережет границы нашего государства и уже задержала несколько диверсантов-нарушителей.
— Таня поступила как настоящий пионер-ленинец и советский патриот! — закончил рассказ Сергей Александрович, внимательно оглядывая аудиторию.
Слова эти крепко запали в голову Вите. Он думал о них дома; в школе часто ловил себя на том, что старается представить себе, какая она, Таня Баранова, хорошо ли учится, как решилась отдать Гильду.
«Молодец Таня Баранова! — рассуждал про себя мальчик. — Правильно сделала. Надо всем так…»
Но при одной мысли о том, что нужно будет расстаться с Буяном, у него больно сжималось сердце.
Вечерами, перед сном, Витя подолгу ласкал Буяна и разговаривал с ним. Овчарка клала тяжелую голову на край постели и, зажмурив глаза, замирала, прислушиваясь к негромкому голосу мальчика и прикосновению его рук, щекотавших у нее за ушами.
— На границу пойдешь, а, Буйка? — спрашивал Витя, прижимаясь лицом к голове собаки, и, чувствуя, как сразу подступают слезы, поспешно отвечал себе: нет; невозможно. Даже Мурка, наверное, станет скучать без Буяна…
Приближался День Советской Армии. Весь народ готовился встретить его какими-нибудь достижениями, а Витя все еще не знал, как ему поступить.
Но вот однажды, с жадностью читая книгу о доблестных защитниках Родины — саперах, танкистах, артиллеристах, разведчиках, он наткнулся на рассказ о пограничной собаке, погибшей вместе с проводником при отражении бандитского нападения из-за рубежа. С этого времени образ погибшей собаки стал постоянно преследовать его. Почему-то в воображении он сливался с Буяном, Гильдой, и Витя не знал, где Буян, где Гильда, а где эта неизвестная собака. И вот тогда-то наконец определилась судьба Буяна.
Однако, прежде чем решиться окончательно, надо было посоветоваться с родными. Витя поделился своими думами с матерью. Он ждал, что она станет возражать (Буяна так любили все!), и приготовился доказывать ей, как это важно и необходимо, чтобы все пионеры поддерживали свою армию, но вместо этого она неожиданно привлекла сынишку к себе и ласково провела рукой по его голове.
— Мальчик мой дорогой! — сказала мама. — Ты растешь настоящим патриотом, и это очень, очень радует меня в тебе. Твой дедушка погиб от рук колчаковцев, а отец был ранен, защищая Советскую власть под Ленинградом. Буян принадлежит тебе, ты его вырастил, ты с ним занимался, ты волен и распоряжаться им… Делай так, как подсказывает тебе твое сердце. Подумай, не будешь ли раскаиваться потом. Посоветуйся с папой…
Папа ответил вопросом на вопрос:
— А жалеть не станешь? Сделать недолго… — И испытующе посмотрел сквозь очки на мальчика.
— Если все будут жалеть… — медленно произнес Витя и не договорил.
— Правильно. Я вижу, ты не напрасно носишь этот красный галстук. Поступай как найдешь нужным. Хотя, конечно, Буяна жалко…
Заручившись согласием родных, Витя переговорил с начальником клуба. Сергей Александрович одобрил намерение мальчика и объяснил, как следовало написать заявление на имя совета клуба, но Витя, подумав, решил, что напишет по другому адресу.
Последний разговор произошел с пионервожатым. В отряде знали про Буяна и всегда интересовались его успехами. Вожатый внимательно выслушал Витю и после сказал:
— Ты хочешь сделать правильно. Ты не забыл, почему пионер при салюте держит руку над головой? Потому, что он общественное всегда ставит выше личного. И очень хорошо, что ты поступаешь именно так. Я сообщу о твоем поступке совету дружины, и мы вынесем тебе благодарность…
— Не надо! — растерянно воскликнул Витя. — Я ведь не ради этого…
Вечером Витя сел писать письмо. Он долго думал, писал, зачеркивал, брал новый чистый листок бумаги. Ему хотелось написать много-много, чтобы выразить все свои чувства и мысли, но он подумал о том, что он пионер и мужчина, и написал всего несколько строк:
«Уважаемый товарищ министр! Я вырастил собаку овчарку. Прошу, чтобы ее взяли на границу. Пусть она помогает славным пограничникам охранять нашу страну от врагов».
Потом подумал и добавил: «Извините за беспокойство. Вы ведь очень заняты, я знаю». — И ниже поставил свою подпись и адрес.
Письмо он вложил в конверт, а на конверте написал:
«Москва, Министерство обороны СССР. Товарищу министру».
Утром, по дороге в школу, он опустил письмо в почтовый ящик и стал ждать ответа.
Ждать пришлось не очень долго. Дней через десять в дверь квартиры постучал рослый человек в шинели и в фуражке с зеленым околышем. Увидев его, Витя замер: пограничник!
Откозыряв, посетитель сказал, что он из погранотряда (это слово заставило быстрее забиться сердце мальчика) и прислан за тем, чтобы осмотреть собаку. Он проверил у Буяна зубы, ноги, рост и написал в акте: «Собака по кличке Буян, породы восточноевропейская овчарка, хорошей упитанности. Активная, смелая. Годна для службы на границе».
* * *
Накануне Дня Советской Армии Витю предупредили в клубе, что завтра пионеры будут передавать собак пограничникам. Вечером отец ушел, на торжественное заседание в театр, мама стряпала на кухне, а Витя уединился в своем уголке, где обычно готовил уроки.
Ему было и грустно и радостно. Завтра Буян уедет далеко-далеко, и, может быть, Витя больше никогда не увидит его. Да, да, вероятно, не увидит, надо быть готовым к этому. Буян может погибнуть в схватке с врагом, а если даже и будет жить долго, все равно никогда не вернется в родной город.
Минула ночь. Все утро Витя был молчалив и задумчив. Отец и мать обменивались понимающими взглядами, но ни о чем не спрашивали сына. В половине двенадцатого Витя надел на своего друга ошейник, прицепил Буяна к поводку и в последний раз повел.
На одной из площадей города собралось много народу. Лаяли собаки, которых удерживали за поводки пионеры — юные друзья обороны. Отдельной плотной группой стояли пограничники.
Ровно в двенадцать начальник клуба открыл коротенький митинг. Он сказал, для чего они собрались сегодня, упомянул о значении и задачах служебного собаководства. Все это время пионеры и пограничники молча стояли двумя шеренгами, одна против другой, на расстоянии нескольких шагов. Витя стоял как раз напротив того высокого пограничника, который приходил к ним домой, и неотступно думал о Буяне. Он находил облегчение только в том, что не он один передает свою собаку пограничникам.
Буян, конечно, не мог знать, что все это значит, но инстинкт подсказывал ему, что происходит что-то важное, и нервничал. Он то тесней приваливался к Вите, то порывался прыгать на него, то давал лапу, хотя ее никто не просил. Витя осторожно дергал поводок, старался незаметно успокоить собаку, а у самого сжималось сердце и комок подступал к горлу.
Раздалась команда. Пионеры подтянулись, пограничники сделали три шага вперед. Поводок Буяна очутился в руке пограничника, знакомого Вити. Витя сделал шаг назад, а новый владелец собаки стал на его место.
Церемония кончилась. Витя плохо видел, как уводили Буяна, как верный друг все оглядывался назад, а его вожатый осторожно подтаскивал упирающуюся овчарку вслед за собой. Увидев, что Витя уходит в противоположную сторону, пес попытался вырваться, но тщетно: проводник крепко держал поводок. И словно понимая, что сопротивление бесполезно, собака повесила голову и, тихонько повизгивая, повлеклась за новым хозяином. Мелькнул в последний раз пушистый хвост, и Буян скрылся из глаз.
Обратно Витя шел вместе с начальником клуба. Сергей Александрович старался отвлечь его от грустных мыслей.
— Вырастишь другую собаку. Дадим тебе хорошего щенка, бесплатно, — говорил начальник, но Витя слушал плохо.
— А куда его повели? — совсем невпопад спросил он.
— В питомник…
Мгновенно пронеслась мысль: можно сбегать туда, ночью увести Буяна… Питомник против рынка, Витя это знает: когда терялся Буян, он там получал его. Можно наведаться еще раз, только уже без записки начальника и когда будет потемнее. Вот будет рад Буян! Витя очень живо представил себе эту сцену и тут же отверг: нет, не годится! Что это он — совсем стал ненормальный?!
Едва дождавшись своего переулка, Витя торопливо попрощался с Сергеем Александровичем и почти бегом поспешил домой.
Дома было пусто. Мама предусмотрительно убрала подстилку Буяна. На ее месте стоял стул. Витя отказался от ужина, быстро разделся, юркнул под одеяло и тут дал волю душившим его рыданиям.
Прости-прощай, Буян! Больше никогда Витя не пойдет с Буяном в лес, не увидит его радостных прыжков…
Но вскоре в душе мальчика поднялось какое-то новое для него чувство, чувство гордости и удовлетворения от сознания, что он сделал что-то очень хорошее и очень важное, и это чувство становилось все сильнее. Он перестал плакать и подумал о том, что, наверное, Буяну будет совсем неплохо там, куда повезет его пограничник, что собаку будут любить, как любил ее сам Витя. Потом он начал мечтать, какие подвиги совершит Буян на границе, и это окончательно утешило его. С тем, в слезах, но успокоенный, крепко обняв подушку руками, он и уснул.
ЗАЩИТНИКИ РОДНЫХ РУБЕЖЕЙ
Тяжелые капли дождя барабанят в окна заставы. В печной трубе тоскливо завывает ветер. Сильные порывы его сотрясают порой деревянное здание. На дворе — холодная дальневосточная осень.
Но в помещении для личного состава тепло и уютно. В красном уголке собрались свободные от службы пограничники. Читают газеты, привезенные утром на этот далекий пост, где советские люди день и ночь несут неусыпную вахту. Застава стоит в стороне от дорог, и газеты приходят сразу толстой недельной пачкой…
Правда, есть радио, оно регулярно сообщает все новости, все, что случилось в необъятной советской стране и за ее рубежами. Радио слушают жадно, с превеликим вниманием. И тем не менее какое наслаждение взять свежую (свежую, конечно, относительно) московскую газету, развернуть ее, услышать шелест ее листов.
Газеты читают вслух. Каждая статья вызывает оживленный обмен мнений. Особенно волнуют сообщения об успехах земляков в труде. Ведь на заставе есть и уральцы, и сибиряки, и волжане; можно встретить среди них колхозника и сталевара, тракториста и прославленного охотника-промысловика… А вот еще статья: пограничники на среднеазиатской границе задержали нарушителей, остатки басмаческих банд, которые иногда все еще пытаются прорваться из-за кордона. А вернее даже не остатки, а просто новых бандитов, потомков недобитков, которым в свое время крепко попало, и не раз…
Статья выслушивается с напряженным вниманием.
Чтец умолк. Секунда молчания. Каждый так ясно представляет эту картину: ночь, два пограничника и собака, нарушители, крадущиеся в непроглядной тьме…
Да, картина знакомая! Для того они, пограничники, и стоят здесь, на рубежах советской земли, чтобы неприступной живой стеной сдерживать разных наемных убийц: шпионов, диверсантов, налетчиков, поджигателей, которых засылают к нам правители кое-каких капиталистических государств.
— А у нас? Помните, как Корд задержал? — вспоминает кто-то. — Под тракториста-то маскировался… Тоже знатно получилось!
— От собаки не замаскируешься…
Однако этот случай знают не все. На заставе есть молодые, недавно прибывшие бойцы. Среди них — коренастый здоровяк Василий Пронин, вожатый сторожевой собаки Буяна. Пронин еще не изведал, на личном опыте, как собака может в трудный час подсобить бойцу, и все, что касается четвероногих помощников пограничников, сильно интересует его. Он просит рассказать о Корде.
— Да что тут рассказывать? — с нарочитой небрежностью, которая только еще больше возбуждает любопытство необстрелянных новичков, роняет плечистый, могучего роста и сложения, старшина Метелицын. В нескольких скупых словах он сообщает о том, как Корд задержал нарушителя, который уже перебрался через границу в самом глухом месте, однако далеко не ушел — собака напала на его след и помогла выловить врага.
Если послушать старшину Метелицына, так все в общем-то получилось несложно и просто: ну, пошли, ну, нашли, ну, задержали… О чем еще говорить? Об опасностях и испытаниях, подстерегающих пограничника каждодневно? Так без них не бывает.
По привычке всех сильных людей Метелицын склонен преуменьшать трудности. Да и к чему много распространяться? Нескромно…
Но все равно, рассказ нравится Пронину, да и не только ему одному. Чего недостает в беседе, то дорисовывает воображение.
— Ловко… вот ловко-то! — восклицает Василий, а сам думает: «Да всякая ли собака сумеет сделать так? Эх, кабы мой Буян…»
Он не успевает решить, что должен сделать Буян, как появляется дежурный и громко объявляет:
— Товарищи, в наряд!… Старшина Метелицын, с собакой в дозор!
Великан Метелицын вскакивает, привычным движением заправляя на ходу гимнастерку за ремень, идет в угол, где висят шинели, затем — к пирамиде с оружием и скрывается за дверью. Вслед за ним покидают помещение и другие.
Василий думает: «Не мне. Стало быть, еще ждать».
Первое боевое задание… Его всегда с волнением и затаенной тревогой ждет молодой солдат.
Под дождем
Шум дождя заглушает тяжелое дыхание Метелицына и его собаки. Сколько времени они уже бегут? Может быть, двадцать, а может быть, и тридцать километров осталось позади. Только вышли на свой участок, и сразу натолкнулись на свежий след. Послав второго пограничника, шедшего вместе с ним, сообщить о находке на заставу, сам Метелицын вместе с Кордом пустился в преследование.
Враг, вероятно, надеялся, что дождь поможет ему проскользнуть незамеченным, вода смоет следы. Но от Корда не скроешься… Пригнув голову, собака бежит по невидимым отпечаткам ног нарушителя. Сзади, крепко ухватившись за конец длинного прочного поводка, поспевает старшина Метелицын, инструктор службы собак, опытный пограничник-сверхсрочник.
Нарушители — а их было несколько — оказались хитрые да изворотливые. Путаными петлями переплетались следы: вот они выходят из леса на поляну, пересекают болотце, вновь поворачивают в сторону от границы, но ненадолго: ведь ясно, что не граница интересует их… Еще петля — и следы исчезли, дождь растворил их. Корд поднял голову и насторожил треугольные уши. Влажная мочка носа жадно втягивала насыщенный сыростью воздух. Там, где терялись следы на земле, собака пользовалась «верховым чутьем».
Корд — ветеран. Уже пятый год он на границе. Это громадный угрюмый пес, недоверчивый и злобный, нечувствительный ни к проливному таежному дождю, ни к переменам температуры. Перенесенные испытания выработали характер собаки, закалили ее. Много схваток с врагами пережил Корд, немало захватывающего мог бы поведать, если бы умел говорить. Светлые пятна седых волос указывали те места, где под мохнатой шубой скрывались рубцы от старых ран.
С первых дней своего появления на заставе Корд сделался любимцем всего погранотряда. Здесь любят и уважают смелых, мужественных людей, не отступающих перед опасностью; такие же требования предъявляют и к собаке — помощнику бойца. А Корд оказался именно таким. И хотя овчарка не признавала ничьей ласки, кроме ласки своего вожатого, каждый боец при случае обязательно старался оказать ей знаки своего расположения.
Злобы Корд был непомерной. Подозрительность, с какой он относился ко всему чужому, вошла среди пограничников в поговорку. Чутье и слух выделяли его даже среди других хороших овчарок. Все это вместе с большим опытом работы по следу, приобретенным за время службы на границе, по праву делало Корда лучшей собакой на заставе.
Четыре с лишним года они неразлучны, Метелицын и Корд. Только одного Метелицына признает Корд, только ему одному повинуется, о нем об одном тоскует, когда того нет поблизости. Пес был привязан к старшине, и старшина — к нему, к Корду. Недаром, когда вышел срок действительной службы в армии, Метелицын остался на сверхсрочную. Жаль было оставить товарищей, этот небольшой крепко срубленный дом на вершине холма, с подсобными помещениями для животных с утрамбованной площадкой для спортивных занятий, с высокой мачтой радиоантенны, на которую во время перелета садятся певчие пташки. Не последнее место в раздумье, охватившем тогда пограничника, принадлежало и Корду… Легко ли расставаться с верным другом, когда столько испытаний пережито вместе? Жизнь на границе сурова, опасности подстерегают на каждом шагу, но, может быть, именно поэтому так дорога эта пядь советской земли, которую народ доверил охранять тебе.
Родная земля! Каждый представлял ее по-своему. Для Метелицына — это любезная его сердцу тайга; он с ружьем за спиной на лыжах неторопливо пробирается по глухомани; впереди, увязая в снегу, поспешает шустрая лайка — они идут на медведя. Для Пронина — это прежде всего завод: льется металл, рассыпая огненные снопы, мчится через прокатные валы раскаленная добела болванка, чтоб через малое время превратиться в готовый рельс, балку. Но все равно — какой бы она ни была, твоя земля, на которой ты родился, вырос, где живут твои отец, мать, твоя милая, — нет на свете ничего дороже ее… Охраняй, боец, эту землю, береги ее пуще глаза!
И вот опять они, Метелицын и его четвероногий напарник Корд, спешат по следам, чтобы задержать, обезвредить врагов своего государства. Не уйти врагам, не уйти!
А вокруг — тайга, дремучие дебри, куда, быть может, даже не всякий зверь заходит.
Неприветливо в тайге, когда льет осенний затяжной дождь. Не поют птицы, не качают приветливо головками цветы; кругом слышится лишь шорох падающих капель и однообразный шум струй да шуршат под ногой опавшие листья…
Лес расступается, открыв большую поляну. Здесь, теряясь в непроходимой топи, прихотливо извиваясь в густой болотной траве, протекал ручей. Корд направился к воде. Хитрят враги, думают сбить собаку со следа — да выйдет ли?
— След, Корд! Ищи!
Пограничник спустил овчарку на всю длину поводка. Описав на месте круг, пес прыгнул в высокие заросли камыша и осоки, скрывавшие всю береговую линию. Отфыркиваясь от попадавших в ноздри капель воды, он повозился там, как будто ловил кого-то, затем через минуту выскочил на берег, по брюхо облепленный жирной болотной грязью, и опять устремился в глубь чащи.
Старшина едва поспевал за собакой. Ага, что это чернеет там, на склоне сопки? Тихо, Корд, нет ли там людей? Но Корд продолжает безостановочно тянуть вперед и лишь ненадолго задерживается около того предмета, который возбудил подозрение у Метелицына. Это шалаш. В нем кучка еще теплой золы и углей. «Они были здесь недавно, — делает заключение старшина. — Очень хорошо. Значит, не могли уйти далеко».
— След, Корд, след!
Корд и так не терял понапрасну ни одной секунды. Он беспокойно забегал вокруг шалаша, затем повернул к кустарнику. Опять через заросли и болота он ведет Метелицына за нарушителями.
Дождь не унимался. Метелицын промок до нитки. Тяжелой стала шинель, вода хлюпала в сапогах. С Корда лились целые потоки. Пес тряс головой, плотно прижимая уши, чтобы вода не заливалась в них.
Равномерный, убаюкивающий шум падающей воды заглушил все звуки. Не слышно даже шелеста осенней листвы под ногами. Листья намокли и плотным рыжим слоем устлали землю.
В глубине леса вдруг глухо ударил выстрел. Пограничник мгновенно упал, заставив прижаться к земле и собаку, и с удивительной для его громадной фигуры ловкостью и проворством, сжимая в руке винтовку, пополз к ближайшему кедру, чтобы укрыться за его толстым стволом. В него стреляли. Пули звонко дзинькали о стволы деревьев, срывали с ветвей последние пожелтевшие листочки и хвою, зарывались в пахнущий прелью листвяной ковер на земле.
С минуту старшина отлеживался у корней, стараясь по звуку определить, откуда стреляют. Затем осторожно, неслышными и как бы даже неуловимыми движениями выдвинул винтовку вперед, прицелился. Выстрел, другой, третий… В лесной чаще трудно поймать на мушку человека. Тем не менее Метелицын заметил: за кочкой прятался один из врагов.
Корд лежал рядом с пограничником, тесно прижавшись к нему, и, свесив длинный дергающийся язык, от которого шел пар, прерывисто и часто дышал.
Левой рукой, не выпуская из правой винтовки, Метелицын отстегнул поводок и тихо приказал:
— Ползи!…
Корд, подтягиваясь на передних лапах и подбирая под себя задние, быстро пополз в сторону и исчез в кустах.
Вот он уже недалеко от того места, где прячется один из незваных пришельцев… Метелицын ждал и не столько слухом, зрением, сколько каким-то шестым чувством напряженно ловил момент, когда собаку можно будет поднять в прыжке.
Бандиты никак не ожидали нападения сзади. Они видели, что пограничник один, подмога к нему не могла подоспеть так скоро. Конечно, нарушители могли предполагать и несомненно считались с тем, что по их следу будет пущена собака. О советской пограничной охране они были немало наслышаны еще в школе диверсантов. Однако кому придет в голову, что четвероногое может действовать, как заправский боец, по всем правилам тактики… А Корд, незамеченный и оттого еще более страшный, продолжал ползти…
— Фасс! — раздалась команда.
Прыжок! Белые, крепкие, как из железа, зубы впились в руку нарушителя, заставив выпустить оружие. Тот вскочил, замахнулся свободной рукой на собаку. Грянул выстрел старшины. Мертвый враг упал.
В ответ с новой силой затрещали выстрелы. Целились в овчарку. Но она в два прыжка уже скрылась в зарослях.
Метелицын, меняя позицию, отполз к другому дереву. Он двигался совершенно неслышно, неприметно для противника. Да и могло ли быть иначе? А как, к примеру, подобраться к токующему глухарю? Нужна сноровка… Этой сноровкой Метелицын владел в совершенстве. Недаром считается, что охотники — лучшие разведчики и стрелки. Переползая, старшина успел заметить в кустах человека в куртке, который, согнувшись, перебегал на другое место, — и наповал уложил его. Это был второй. Но сколько их, старшина не знал.
Его обветренное и мужественное лицо было деловито, сосредоточенно. Момент, конечно, такой, что зевать нельзя. Но старшина ко всему происходившему относился так, как будто выполнял какую-то очередную работу, выполнял добросовестно, не нервничая и не торопясь. Опытный и обстрелянный воин, за долгий срок службы на границе он привык к постоянному ощущению опасности, к тому, что в любую минуту могла случиться вот такая погоня, перестрелка, внезапное ранение или даже смерть. И потому, как все, что входит в жизнь и труд, это не страшило его. Он надеялся на свою ловкость и сметливость, на свою огромную физическую силу, которая могла пригодиться, если дойдет до рукопашной. Он либо один управится с врагами, либо удержит их на месте, пока подоспеют товарищи. Старшина был готов на подвиг, вовсе не думая о нем. Он опасался только одного, как бы его не обошли сзади. Но на этот случай мог пригодиться Корд. Корд не допустит.
А Корд? Он даже не рычал в такие мгновенья. Он знал, что рычать нельзя, пока не пришло время обнаружить себя, — к этому приучили его длительной тренировкой. Где-то в темных тайниках его мозга жила постоянная страсть к охоте и преследованию, издревле присущая собаке. Эта страсть путем дрессировки подавлялась в одном направлении и развивалась в другом. Нельзя было заниматься охотой на зверей и птиц, которых множество на границе, — можно и нужно преследовать, ловить человека-врага.
Эту обязанность Корд знал и всегда готов был ее выполнить.
Кроме того, инстинкт подсказывал: опасность близко. Эта опасность грозила ему, Корду, и — что было еще более важно для собаки — грозила его другу-человеку, старшине Метелицыну. А этого человека Корд стал бы защищать до последнего вздоха.
Весь наполненный яростной злобой и ненавистью к неизвестным, прячущимся в кустах, Корд выжидал удобного момента для нового нападения. К тому же стремился и Метелицын.
Щелкнув затвором и потянувшись рукой к подсумку, пограничник обнаружил, что патроны кончаются. Эка, надо же! Только этого не хватало… Неприятный холодок пробежал по спине. Но старшина сейчас же подавил чувство внезапно возникшей острой тревоги и неуверенности и, умело маскируясь, припадая к земле всем своим крупным телом, осторожно пополз к убитому нарушителю.
Выстрелы участились, однако густые заросли и неровности почвы помогли старшине. Маузер убитого очутился в руках пограничника. Укрывшись за пнем, Метелицын снова стал стрелять, расчетливо расходуя каждый патрон. Из-за кустов донесся крик боли. Еще одна пуля достигла цели.
Все это время Корд незаметно шнырял в чаще.
Вопль ужаса и звериное рычание собаки возвестили, что пес настиг новую жертву. Стрельба прекратилась.
Метелицын слегка приподнялся. Тихо… В зарослях заливисто залаял Корд. Пограничник, на всякий случай пригнувшись, подбежал к собаке. На земле валялись гаечные ключи, «лапы», применяемые для развинчивания рельсов, связка других инструментов. Диверсанты шли с заданием разрушить железную дорогу и произвести крушение. Побросав все, последний оставшийся в живых исчез в чаще.
Корд с пограничником снова кинулись по следам. Теперь преследование велось в обратном направлении, ибо следы вели к границе. Нарушитель, видимо, уже не надеялся осуществить свои планы и думал лишь об одном: как спастись бегством.
Вот и граница — неширокая полноводная река. Преследуемый находился уже на середине водного пространства, за которым начиналась чужая земля. Размашисто загребая руками, он плыл к противоположному берегу.
Встав на одно колено, прямо с ходу, не переводя духа, Метелицыи вскинул оружие, но выстрелить не успел. Его опередил Корд. Гигантским прыжком овчарка перелетела через прибрежные камыши, стремительно доплыла до беглеца и схватила его за одежду.
Завязалась борьба. В воду погружались то голова человека, то морда собаки. Каждый тянул в свою сторону. Овчарка впилась в руку врага. Тот дико закричал:
— А-а-а!…
Крик оборвался: диверсант захлебнулся и пошел ко дну.
Корд воспользовался этим. Не выпуская добычи, он направился к берегу. Он плыл тяжело, то погружаясь, то выныривая: ноша тянула его. Вот, наконец, и берег.
Нарушитель был жив, хотя сильно нахлебался воды. К вечеру Метелицын доставил его на заставу.
Когда об этом происшествии стало известно личному составу погранпоста, Василий Пронин снова вздохнул потихоньку: «Ведь вот же есть какие люди! Опять Метелицын с Кордом отличились! А когда мы с тобой, Буянко?»
Овчарка, как будто понимая чувства вожатого, сочувственно виляла хвостом. Буян тоже успел крепко привязаться к молодому пограничнику, на которого после первого хозяина — пионера Вити — перенес всю свою любовь.
В тумане
Шли дни. Дни складывались в недели, недели — в месяцы. Прибавлялось выучки и знаний у бойца-первогодка Пронина. Он исправно ходил в дозор, верой и правдой служил Родине. Сперва его посылали с более опытными товарищами, потом стали давать самостоятельные задания.
Он учился у старшины Метелицына. С Метелицына брали пример все молодые бойцы. Старшина охотно делился своими навыками пограничной службы, подолгу объяснял, как следует делать то, другое, а потом снисходительно-покровительственно, но ничуть не обидно для собеседника добавлял обычно: «А ты как думал?»
Пронин перенимал его приемы, старался так же примечать каждую мелочь. Не простое это было дело. Сибиряк Метелицын был прирожденным охотником: он с детства дышал воздухом тайги. Пронин же вырос в городе, до призыва в армию работал на крупном металлургическом заводе. Ему лесная наука давалась труднее. А без такой науки пограничнику не служить. В лесу он должен чувствовать себя как дома.
Поднялись птицы и кружатся над опушкой. Почему они поднялись? Кто их всполошил? Может быть, злой человек — враг пришел из-за рубежа и прячется в чаще. Будь начеку.
Сердится белка на дереве, квохчет, как наседка. При тихой погоде ее слышно метров за двести. Почему она сердится? Бывает, что она ворчит так на человека.
Пошел в наряд — не забудь прихватить компас. Но и без компаса знай: растения тянутся к югу, с севера их больше сечет ветер, мхи и лишайники больше растут с подветренной стороны. Потерял компас — умей ориентироваться по приметам.
Будь всегда предельно наблюдателен, придирчиво, пытливо вникай в каждую, даже в самую неприметную, деталь; искусство следопыта изучи лучше, чем владели им индейцы во времена Фенимора Купера. Главное на границе — бдительность.
Большая наука, всего не перескажешь. Нужно изучать ее долго и терпеливо. И только когда узнаешь все тонкости, только тогда можешь сказать с полным правом: я — пограничник!
А что касается всего прочего, что положено советскому бойцу: стрелять метко из винтовок и личного оружия, бить из пулемета, из автомата, уметь бросить гранату, знать назубок устав, — нечего и говорить. Должен знать досконально.
И Пронин учился всему этому.
Учился и Буян — по-своему, конечно.
Пионер Витя, в далеком советском городе вырастивший собаку и подаривший ее для пограничной службы, пожалуй, и не узнал бы теперь своего питомца. Живя зиму и лето в неотапливаемом помещении для сторожевых и розыскных собак, часами бывая на морозе в дозоре, часто вынужденный подолгу лежать на снегу, Буян оброс длинной густой шерстью, которая изменила его формы, сделала крупнее, могутнее, грубее. Что тренировки мальчика — детская забава! Вот когда пришла настоящая суровая школа. Однако необходимо сказать и в защиту Вити: не будь его тренировок, не получился бы из Буяна полноценный пограничный пес. Хорошую, крепкую воспитал Витя собаку, и за это Пронин не раз был благодарен ему.
Когда Пронин еще только прибыл на заставу, старшина Метелицын, вручая ему собаку, сказал:
— Береги ее. Это твое лучшее оружие. И об опасности предупредит, и в трудную минуту поможет. И всегда на взводе. Как ружье, готовое выстрелить!
Метелицын сам когда-то принял собаку от Вити. Ведь это он был на квартире у мальчика и осматривал овчарку, определяя ее пригодность для пограничной службы; и он же потом доставил ее на заставу.
Глядя на собаку, Пронин частенько повторял слова старшины:
— Всегда на взводе… Ну, хорошо!
* * *
С наступлением зимы охранять границу стало труднее. Река замерзла, покрылась толстым льдом и перестала служить препятствием для нарушителей. Жестокие морозы с туманами и слепящие глаза снежные метели порой закрывали границу сплошной белой завесой. В такие дни застава жила особенно напряженной жизнью.
Враг мог обрушиться каждую минуту. Он мог совершить нападение на заставу или же, невидимый в тумане, проскользнуть через рубеж и раствориться в огромной советской стране, чтобы вредить, шпионить, выведывая государственные тайны.
С удвоенным вниманием прислушивались к каждому шороху пограничники, сжимая в крепких руках винтовки. А мохнатые часовые, насторожив уши, чутко нюхали густой и осязаемый белесый воздух.
Местность вокруг заставы была низкая, болотистая. От этого туманы держались месяцами. Днем было как в сумерках, ночью весь мир будто окунался в чернила.
В такую-то погоду Пронин вдвоем с товарищем и неизменным Буяном вышел в очередной дозор. Теплые шапки-ушанки и бараньи тулупы, надетые поверх полушубков, надежно защищали пограничников от сорокаградусного мороза. Буяна грела его шуба.
С каким-то особым чувством ответственности за порученное дело заступил сегодня Пронин на свой боевой пост на границе: накануне его приняли в комсомол.
Второй пограничник направился по ответвлению тропинки, а Пронин, придерживая Буяна за поводок, медленно шел вдоль рубежа, зорко поглядывая по сторонам. День клонился к вечеру, туман заметно густел, застывая колючим инеем на лице.
Едва заметная дорожка, протоптанная пограничниками, спускалась в низину. Этот участок границы издавна считался у них самым безопасным. Низина была заболочена. Болото не замерзало даже в самые лютые морозы. Нарушителю тут было не пройти.
Василий ускорил шаги. В своем громадном тулупе до пят он казался необычно большим и неуклюжим; издали его можно было принять за медведя. Лицо от постоянного растирания рукавицей стало ярко-бурачного цвета, а брови и ресницы обросли инеем, отчего он мог сойти и за елочного деда.
Кажется, сегодня опять будет все благополучно… Ну что ж, оно и лучше. Значит, крепко заперта советская граница на замок для всяких нежелательных гостей.
«Порядок, Буянко!» — хотел сказать вслух Василий, но, вспомнив, что на границе каждый звук может привести к неожиданным последствиям, только молча потрепал собаку по шее.
Буян вильнул хвостом, но головы не повернул: он усиленно нюхал снег. Потом поднял нос кверху и стал втягивать ноздрями воздух.
Внезапно пес обнаружил признаки волнения. Взъерошилась шерсть на загривке и вдоль хребта, уши плотно прижались к затылку, как будто собака была готова броситься на кого-то, морда приняла свирепое выражение. Рванувшись в сторону, Буян потянул вожатого за собой. Они сошли с тропинки в болото.
Почва под ногами стала зыбкой, хотя толстый слой снега покрывал болото. Василий провалился раз… провалился два… Под ногами чмокнуло. Вытащив ногу из снега, он увидел, что валенок вымазан в густой черной жиже. Дальше идти невозможно: начиналась топь.
Но Буян продолжал рваться вперед. Василий, ступая с оглядкой, продвинулся еще на несколько шагов. Валенки были измазаны уже до половины. За голенища набился снег, он медленно таял и холодными неприятными струйками стекал к ступням.
Вот и Буян провалился по брюхо. Он тоже перемазался. Вскочив на кочку, пес задержался на ней на минуту. Василий мало-помалу подтянулся к нему.
Наклонившись, он увидел на снегу какие-то странные следы. Они цепочкой тянулись с той стороны рубежа и уходили в глубь болота. Широкие, круглые, они напоминали следы рыси. Но рысь оставляет после себя небольшие овальные лунки; эти же были совершенно плоские, глубокие и очень больших размеров. Можно было подумать, что тут прошел слон.
Василий размышлял, удерживая собаку около себя.
Это, конечно, не зверь: следы слишком большие. Значит, человек?… Он нарушил границу и проник на советскую территорию.
Гулко застучало сердце. Вслед за тем, постаравшись овладеть собой, Василий ощутил ту удивительную ясность чувств, какая бывает у мужественного и отважного человека в решительную минуту. Как ловить нарушителя? Следы терялись в непроходимой топи.
Василий попытался спокойно обдумать создавшееся положение. Затем, притянув бешено рвущуюся собаку, выбрался на тропинку. Смеркалось, и он, пока не стемнело совсем, спешил захватить нарушителя. Он и сейчас едва различал кусты в нескольких шагах от себя.
Скинув тулуп, чтобы было легче, Василий бегом бросился по кромке болота в том направлении, куда уходили следы. Буян вприпрыжку бежал рядом.
Внезапно из тумана выросла человеческая фигура. Василий не успел свернуть в сторону, и они чуть не столкнулись с разбегу. В руке у неизвестного мелькнул револьвер.
В то же мгновение в воздух беззвучно взвился Буян. Поводок от сильного рывка вылетел из рук Василия. Буян ударил неизвестного в грудь, как таран, и сбил с ног. Человек и собака, сцепившись, покатились наземь. Револьвер выпал и провалился в сугроб.
Оттащив собаку, Василий направил на задержанного винтовку и приказал встать.
В этот момент в стороне метнулась какая-то тень. Грянул выстрел. Василий тихо охнул и, схватившись рукой за бок, стал оседать на снег. Усилием воли он заставил себя приподняться и, превозмогая быстро разливающуюся слабость, не давая опомниться задержанному, связал ему ремнем руки за спиной. Только теперь он заметил на ногах у того какие-то нескладные приспособления, отдаленно напоминавшие круглые канадские лыжи. Эти приспособления и помешали нарушителю бежать в ту минуту, когда пограничник оказался ранен.
Тем временем Буян, увязая в снегу и волоча поводок, выскользнувший из рук Василия, бросился за убегающей тенью и исчез, растворился в тумане.
Прошло несколько минут, в течение которых Василий успел еще туже стянуть руки задержанного и рассмотреть его лицо, насколько позволяло слабое освещение. Это был уже немолодой человек с острым хищным профилем. Глубоко запавшие глаза с ненавистью смотрели на пограничника. Даже сумрак не мог скрыть это выражение. Испустив вполголоса ругательство на незнакомом Василию языке, он попытался порвать путы, но, убедившись, что это бесполезно, затих и только сверлил пограничника злобным взглядом, казалось подстерегая каждое его движение и словно втайне ожидая чего-то.
В тумане коротко — будто обломился сухой сучок — щелкнул револьверный выстрел. Заглушая проклятия человека, залилась бешеным лаем собака. Затем все стихло.
Через минуту послышался хруст снега. Из мглы медленно вышли человек и за ним — собака. Угрожающе поварчивая, Буян конвоировал задержанного. Тот хромал и зажимал рукой рваную рану на плече.
Сняв с Буяна поводок, Василий связал второго пойманного.
Рана нестерпимо болела. Василий прижимал ее локтем, надеясь этим уменьшить кровотечение. Гимнастерка взмокла, горячие ручейки сбегали по бедру и голени в валенок. От потери крови у Пронина мутилось в глазах и кружилась голова.
«Сколько же еще человек скрывается на болоте? — соображал Василий. — Сумеет ли справиться с ними Буян? Не застрелили бы его, гады!» За Буяна он тревожился больше всего.
«Какую штуку удумали — болотные ходули! А? На что хотели поймать! Не разберутся, мол…» Затем мысли перекинулись на другое: услышали или нет выстрелы на заставе?
Василий прикидывал, сколько еще сможет выдержать. Пожалуй, долго не продержаться: бок одеревенел и левая рука плохо слушалась. Мороз уже начал заползать под полушубок, в валенках лед, и в глазах будто темнее… А два врага, переглядываясь, с тайным злорадством следили за ним.
Слабость увеличивалась. Не в силах бороться с нею, Василий опустился на снег, широко раскинув ноги, чтобы не повалиться совсем, не выпуская однако винтовки из окоченевших рук.
Донесся топот нескольких пар ног. Свои или чужие?
Из последних сил Василий вскинул винтовку. В глазах заходили оранжевые круги.
Свои!
Товарищи окружили Пронина, осторожно приподняли его. Злорадное выражение во взорах задержанных погасло.
— Вася! Вася! — тормошил Метелицын раненого, не давая ему впасть на морозе в забытье, пока прибывший вместе с нарядом лейтенант быстро отдавал приказания.
Метелицын, услышав сигнал тревоги, первым бросился на помощь. Только сейчас, увидев Пронина беспомощным, истекающим кровью, он почувствовал по-настоящему, как тот дорог ему, насколько они успели сдружиться за последние месяцы.
Опять послышался хруст снега. Буян тащил за руку очередного нарушителя. Прокушенную правую руку задержанный зажимал под мышкой.
Сколько же их, однако? Пограничники вслед за овчаркой спустились к болоту, но топь не пустила дальше, и Буян опять ушел один.
Вскоре раздались крики, рычанье, треск ломающихся веток. Через заиндевелый кустарник овчарка конвоировала еще одного. Она обезоруживала их тем, что внезапно набрасывалась из тумана и прокусывала правую руку, а если противник пробовал защищаться левой, то и левую. «Брать» за руку, тем самым сразу лишая врага способности к сопротивлению, были обучены все пограничные собаки.
Пока Буян производил очередной обыск местности, пограничники тоже не сидели без дела. Рассыпавшись, они оцепили низину, прислушиваясь к звукам, время от времени долетавшим к ним из тумана, точно из-за опущенного занавеса. Теперь мимо них не прошмыгнула бы незамеченной и мышь. Лай Буяна раздавался то в одном, то в другом конце болота. Трясину нарушители одолели, но в тумане растеряли друг друга, и теперь собака поодиночке вылавливала их.
После седьмого обнаруженного на болоте нарушителя Буян больше не пошел.
— Все, что ли? — недоумевали пограничники, которым уже начинало казаться, что вся эта процедура с уходом собаки и приводом нарушителей по одному может продолжаться до бесконечности.
— Ищи! Фасс! — делая слабое движение головой в сторону болота, приказывал Пронин, которого поддерживали под руки двое товарищей.
Но Буян сел перед хозяином и, умильно заглядывая в лицо, вилял хвостом, решительно отказываясь продолжать поиски.
— Выходит, все, — сказал Метелицын. — Собака не ошибется. Однако лишняя проверочка никогда не мешает…
Посоветовавшись с лейтенантом, он приказал:
— А ну-ка, попробуем испытать трофеи! Становись на подпорки!
Пограничники прицепили к ногам то, что еще недавно служило врагам и что старшина назвал подпорками, и, позвав за собой собаку, перекликаясь между собой, тщательно обследовали всю низину.
Но нет, больше не обнаружилось никого. Собака не обманывала.
— Тогда пошли! — распорядился лейтенант.
Из двух винтовок и тулупа пограничники быстро соорудили подобие носилок, на которые положили раненого Пронина. Двое взялись за импровизированные носилки, третий понес его ружье.
Услышав слово «пошли», овчарка, только что севшая около своего вожатого, вскочила и приготовилась конвоировать.
— Дьявол! — прошипел по-русски один из задержанных.
Схватка у горячего ключа
В пять часов утра очередной дозор вышел в обход. На сопках и в ложбинах лежал глубокий снег, над головой, на черном небе ярко мерцали крупные звезды. Пограничники осторожно, чтобы не наткнуться в темноте на деревья, пробирались по густой чаще, раздвигая ветки. Они пересекали хребты и пологие возвышенности, поднимались на сопки, спускались в пади.
Наша разведка доносила, что где-то в районе Горячего ключа систематически нарушается государственная граница. Все попытки обнаружить нарушителя до сих пор ни к чему не привели. Злоумышленник был неуловим.
Через кордон передавались шпионские донесения. Надо было этому помешать. Это был вопрос чести для пограничников. Но на сей раз враг придумал такую хитрую уловку, что поставил в тупик даже самых искушенных часовых границы.
Может быть, враги имеют на нашей территории своего резидента — тайного агента, который использует почтовых голубей? Такие случаи бывали. Или где-нибудь у них спрятан тайный радиопередатчик?
Пограничники получили строжайший наказ следить за перелетом птиц через границу. Но ни один голубь не появлялся над рубежом. Не слышалось в эфире и позывных чужой радиостанции.
А нарушения границы продолжались.
Наиболее подозрительным считался участок у Горячего ключа — глухое, дикое и самое удаленное от погранпоста место. Только дурной медведь-шатун мог забрести туда в зимнее время. До жилья далеко; лишь под осень приезжали иногда пограничники, косили вымахавшую в человеческий рост густую траву в логу да ставили высокие стога сена, которые оставались до весны.
Охрана участка у Горячего ключа поручалась самым опытным пограничникам. С некоторых пор эту почетную обязанность несли старшина Иван Метелицын и недавно произведенный в младшие сержанты Василий Пронин.
Недели три назад Пронин вернулся из госпиталя и вступил в строй. В эту ночь он с товарищами совершал очередной обход участка. Две группы пограничников двигались друг другу навстречу. С одной стороны шла группа Метелицына с Кордом, с другой — Пронин со вторым пограничником-подчаском и Буяном.
У Горячего ключа они сошлись. Результат тот же, что вчера, что несколько дней назад: ничего подозрительного не обнаружено. Они лишь заметили след волка, пересекший границу и уже припорошенный снежком, и — все. Конечно, и о волке будет упомянуто в очередном донесении, однако волки не были редкостью в это время года и не они интересовали пограничников.
Природа вокруг дышала суровостью. Черной стеной стоял лес. Из мрака смутно выступали огромные и мрачные силуэты старых сосен и елей. Они протягивали длинные узловатые лапы ветвей, на которых лежали пушистые охапки снега. Ветви образовали почти сплошной свод над головой и укрыли глубокую лощину, по дну которой струился Горячий ключ, не покрывавшийся льдом даже в самые суровые морозы. От него поднимался пар. Растекаясь по лощине, пар придавал всем окружающим предметам какую-то призрачность очертаний, как будто и этот молчаливый лес, и эта речка, текущая в обледенелых изломанных берегах, вот-вот поднимутся вверх и растают, как мираж.
В ночной тишине слышалось лишь мелодичное журчание воды да порой с сухим шуршанием осыпался снег с ветвей.
Переговорив вполголоса, пограничники уже собирались разойтись, когда обе собаки одновременно начали проявлять признаки беспокойства. Они рыли снег и, натягивая поводки, громко втягивали ноздрями воздух. Снег был свежий, выпавший лишь накануне; на нем еще нельзя было найти ни одного, следа мелких зверей и птиц; он прикрыл и все старые следы, оставленные обитателями леса. Но не будут собаки беспокоиться зря. Пограничники внимательно осмотрели местность, и при свете карманных фонариков им удалось обнаружить под свежей порошей два слабых отпечатка человеческой ноги. Странно: следы были обращены носками в разные стороны. Можно подумать, что это разные следы и идут они в противоположных направлениях.
Пограничники посоветовались. Метелицын, как старший, предложил поступить так: двоим подняться вверх по лощине, куда указывал носок одного следа, двум другим — направиться в обратную сторону.
Так и сделали. Предполагая, что нарушитель прошел в глубину советской территории и, стало быть, это направление более важное, Метелицын взял его себе. Пронин с товарищем и Буяном пошли к границе.
Сначала они двигались спокойным быстрым шагом, чутко прислушиваясь к ночным шорохам и другим лесным звукам. Буян, казалось, забыл о найденном запахе и лишь время от времени нюхал по привычке снег.
Но вот Пронин почувствовал, что поводок натянулся сильнее — овчарка тянула вожатого за собой. Она не лаяла, лаять ей не полагалось, а только громко учащенно дышала и рвалась вперед. Отпустив поводок на всю длину, Пронин ускорил шаг, затем побежал. Второй пограничник бежал за ним.
Так пробежали они около километра. Внезапно Буян остановился и, тревожно фыркая, закружился на одном месте. Пограничники засветили фонарики. Снег был сильно истоптан, дальше, расходясь в разные стороны, тянулись две цепочки следов. Одну несомненно оставили человеческие ноги, другая… была следом волка, видимо того самого, который час или два назад пересек границу.
— Вот так задача! — сказал Пронин, изучая следы. Он мешкал недолго.
— Вперед! — И они побежали по человеческим следам. Им пришлось бежать далеко. Буян остановился. Шерсть на нем встала дыбом, в глотке заклокотало сдавленное рычание. По опушке леса кралась человеческая тень.
— Стой!
Щелкнул затвор. Человек оглянулся и, как ужаленный, отскочил за деревья. Убежать он не успел.
Пронин спустил собаку с поводка: «Фасс!» В несколько прыжков она достигла леса и с ходу вскочила убегавшему на спину. От ужаса тот дико закричал и выхватил из-за пазухи нож. Пес опередил, перенеся хватку на кисть руки. Нож выпал, неизвестный скорчился от острой боли. Подоспели пограничники и связали его.
Но что сделалось с Буяном? Напрасно хозяин командовал ему: «Фу!» — собака не слушалась. Она садилась и тотчас вскакивала, снова принималась обнюхивать задержанного.
И вдруг… Сделав широкий круг по поляне, Буян пустился прочь.
— Ко мне! Буян! Ко мне! — взывал Пронин. Тщетно! Собака птицей мелькнула за деревьями и растаяла в предрассветной синеве.
Это было так непохоже на послушного, дисциплинированного Буяна. Только какой-то очень сильный раздражитель мог заставить его отказаться повиноваться.
— Доставить задержанного на заставу! — крикнул Пронин товарищу, а сам побежал за овчаркой.
Но разве может человек поспеть за собакой! Уже через несколько минут Пронин понял, что догнать Буяна он не в состоянии. Тем не менее он настойчиво продолжал погоню, время от времени выкрикивая:
— Буян! Ко мне! Ко мне!
Сколько уже продолжалось это соревнование в скорости: час или два? Он не мог сказать, ибо потерял ощущение времени. Капельки пота, выступившие на лбу из-под шапки, застилали глаза и солеными ручейками набегали на рот. Рубаха и гимнастерка намокли и прилипли к телу.
Сперва он сбросил тулуп, потом — полушубок, но ему все было жарко. К утру мороз усилился, однако пограничник не замечал его.
Стало светать — ночь кончилась. Померкли звезды в вышине, темный полог неба поголубел и окрасился на востоке розовыми отсветами. На снегу появились искристые синеватые тени.
Пронин устал. Он бежал уже несколько часов по глубокому снегу, ныряя в пади, взбираясь на косогоры. Грудь его высоко вздымалась, прерывистое дыхание со свистом и хрипом вырывалось из широко раскрытого рта. Он шатался, винтовка казалась ему непомерно тяжелой; проваливаясь, он с усилием вытаскивал ноги из глубоких колдобин. Но в мозгу сверлило одно: «Догнать! Если не догнать, собака может погибнуть, ей не управиться одной…»
Внезапно Пронин остановился. Взгляд его упал под ноги, и при бледном свете нарождающегося дня он увидел, что бежит по следу не одного только Буяна. Перед ним на снегу явственно виднелись отпечатки лап двух собак. Один след был размеренный, спокойный — собака шла на рыси, второй — торопливый, неровный, видимо след Буяна, спешившего догнать первую собаку.
Пронин отер рукавом пот с лица. Отбросив со лба прилипшие волосы, побежал дальше. Неожиданное открытие словно придало ему силы. Буян гнался за собакой! Вот почему пес так долго обнюхивал нарушителя и, не слушая подзыва вожатого, бросился к лесу. Только его острое чутье могло открыть присутствие необыкновенного диверсанта. Теперь многое становилось понятным.
Пронин бежал из последних сил. Валенки мешали ему. Он сел, быстро стащил их с ног и побежал дальше в одних толстых шерстяных носках.
На бегу он старался привести в систему все события сегодняшней ночи. Совершенно ясно: тот след, который они обнаружили, когда обходили участок в первый раз, был следом не волка, а собаки, и эта собака пришла из-за рубежа. В лощине (там, где был сильно истоптан снег) ее ждал человек, пришедший с верховьев Горячего ключа, — вражеский агент, укрывающийся где-то на советской территории. Дальше они некоторое время двигались вместе. Человек, по-видимому, вложил в портдепешник[2] собаки шпионское донесение, и после этого они расстались. Собака побежала в сторону границы, а шпион хотел вернуться обратно… Тут его и схватили.
Все ясно. Вот чем объяснялась неуловимость нарушителя границы. Шпионы использовали для своих гнусных целей собаку. Человек не пересекал пограничного рубежа и даже не приближался к запретной черте, а собака переходила незамеченной, и ее след, запорошенный снегом, мог быть легко принят за волчий.
Стало быть, она опять несла за границу разведывательные данные. Тем важнее изловить ее сейчас, немедленно.
Вот и граница. На заснеженной поляне полосатый пограничный знак с гербом Советского Союза. У столба журчит в полынье незамерзающая речка. Здесь Горячий ключ уходил на территорию соседней страны.
Но что это?… Под столбом, у кромки льда, что-то чернеет, слабо шевелится… Снег кругом измят, истоптан, забрызган кровью. На снегу два тела. Два врага сплелись в смертельном объятии — Буян и другая овчарка, еще более крупная и мощная, чем он. Буян еще борется, но, видно, силы неравны.
Буян настиг чужую собаку у самого пограничного знака. Громадный черный пес с толстыми конечностями и массивной угловатой головой, размеры которой выдавали чудовищную силу его челюстей, неторопливо приближался к месту, где обычно переправлялся через речку и уходил на свою сторону. Он не впервые совершал этот путь, хорошо изучил его и выполнял свою обязанность обстоятельно и равнодушно, как ремесленник выполняет ежедневную надоевшую и скучную работу.
Еще минута, и он оказался бы за пределами досягаемости. И тут Буян, нагнав, атаковал его. Буян намеревался, сбив врага с ног, впиться клыками ему в горло и задушить. Но недооценил силу и опытность противника.
В то мгновение, когда Буян, как вихрь, налетел на черного, тот вдруг преобразился, точно электрическая искра пробежала по нему. В какую-то долю секунды, с быстротой и увертливостью, которые трудно было предполагать в нем по его виду, он успел отскочить в сторону; Буян ударил в пустоту, а чужая собака, обернувшись, в свою очередь сама напала на него. И вот тогда началась та страшная схватка у Горячего ключа, которую потом долго вспоминали на заставе.
На стороне Буяна были ловкость, быстрота и подвижность молодости; черный пес превосходил его грубой силой, знанием приемов борьбы, несокрушимым упорством и выдержкой старого бойца. Борьба была жестокой и долгой. Буян нанес врагу множество ран, но черный выждал подходящий момент и беспощадные челюсти сомкнулись на плече пограничной собаки.
Напрасно Буян старался сбросить врага. Он волочил его по земле, метался и рвался — все было тщетно. Черный висел на нем. Черный обладал весом дога и мертвой хваткой бульдога, и Буян начал уставать. А черный с неумолимой последовательностью и упрямством, как делают все бульдоги, медленно жевал и постепенно подбирался к горлу противника.
Да, это был опытный и хладнокровный убийца. Он не торопился, не старался ускорить развязку, он предпочитал действовать наверняка, будучи уверен, что жертва не уйдет от него.
Силы Буяна стали убывать. Он начал понимать, что ему не вырваться из этих тисков.
Ах, пионер Витя! Если бы ты видел сейчас своего друга… Как больно сжалось бы твое сердце при виде бедственного положения, в каком оказался твой любимец! Смерть уже стояла над ним. Лишь один человек мог сейчас спасти Буяна. И он действительно появился.
Пронин сразу понял, что грозит Буяну. Это заставило его напрячь остатки сил, чтобы поскорее прийти на помощь овчарке. Не разбирая дороги, в потемневшей от пота гимнастерке, почти босой, он бежал напрямик по склону холма, полого спускавшегося к речке. Он был уже недалеко…
И вдруг что-то затрещало под ногами. Пронин почувствовал, что тело его теряет опору, куда-то валится… Это была старая медвежья яма. Со страшной силой Пронин ударился боком о что-то твердое — тем самым боком, который три месяца назад пробила пуля диверсанта, — жгучая боль пронизала его всего, и, вскрикнув, он потерял сознание.
* * *
Пока разыгрывались эти события, Метелицын также успел уйти довольно далеко. Время от времени он с помощью Корда находил следы, говорившие о том, что краем лощины недавно прошел человек, и вначале чувствовал себя вполне уверенно.
Но потом уверенность постепенно стала оставлять старшину. Осветив фонариком очередной отпечаток человеческой ноги, к которому подвел его Корд, он долго обследовал снег, став на колени и что-то медленно соображая, и чем дольше это делал, тем больше хмурилось его лицо.
Странное дело: почему след больше вдавлен не в носке, а в пятке? Размышляя над этой загадкой, Метелицын прошел еще с полкилометра, потом остановился и хлопнул себя по лбу.
— Мы не в ту сторону идем! — заявил он товарищу. — Почему не в ту? — изумился тот.
— Видишь след? — повел Метелицын лучиком фонарика у себя под ногами. — А ну, шагни… Где больше вдавлено — в носке? А здесь почему наоборот? Мы идем не за ним, а от него…
Второй пограничник все еще не понимал. Метелицын пояснил:
— У него на ногах были надеты колодки. Понял? Чтобы сбить нас с толку. А ты как думал! Надо идти обратно.
И он уверенно зашагал назад.
Теперь Метелицын не тратил времени на отыскивание и разглядывание следов, а торопился как можно быстрее прийти к тому месту, где они расстались с группой Пронина.
Немного не доходя до этого пункта они встретились с пограничником, который вел на заставу задержанного. Коротко отрапортовав старшине, что произошло, конвойный, получив разрешение выполнять приказ Пронина, двинулся дальше, а Метелицын с Кордом и вторым номером направились по следам Пронина и Буяна.
Неожиданно Метелицын обернулся и крикнул:
— Стой! Задержанного обыскали? Нашли что-нибудь?
— Нашли. Оружие и вот это… — И пограничник показал какие-то странные приспособления, наподобие подошв, с каблуком и тесемками для привязывания.
— Видишь? — сказал Метелицын своему спутнику, очень довольный, что его догадка получила вещественное подтверждение, и они поспешили вперед.
Метелицын торопился. Какая-то неясная тревога с каждым шагом все больше охватывала его. Почему убежал Буян? Собака сделала это неспроста.
Он так вышагивал своими длинными ногами, что его товарищ стал отставать. Однако Метелицын не сбавлял хода и не останавливался. Он все ждал, что вот-вот за сугробами раздадутся собачий лай, человеческие голоса или, на худой случай (он был готов и к этому), звуки близкой перестрелки и через минуту он увидит своего друга Пронина. Но время шло, Метелицын уже успел отмерять немалое расстояние, а никто не появлялся, царила тишина.
Что-то зачернело впереди на снегу. Метелицын ускорил шаг. Это был тулуп. Корд обнюхал его и поднял вопросительный взгляд на старшину. Еще дальше Метелицын нашел полушубок. Эти находки окончательно встревожили его.
Рядом, то пропадая за деревьями, то вновь приближаясь, негромко журчал в заснеженных берегах Горячий ключ. Путь Буяна и Пронина пролегал параллельно его течению. Это навело Метелицына на новую мысль.
Почему он идет вдоль речки, не делая попыток переправиться через нее и поскорее выйти к границе? Ведь совершенно очевидно, что преследуемый заинтересован в этом.
И тут Метелицын сделал то открытие, которое так взволновало Пронина. Впереди бежала не одна собака, а две. Буян гнался за четвероногим нарушителем!
Это открытие и обрадовало и обеспокоило его. Обрадовало — потому что он теперь твердо знал, кто водил их за нос (все-таки было немалым облегчением узнать, что не человек так ловко проскакивал мимо сторожевых постов); обеспокоило — как бы чужой собаке и на этот раз опять не удалось безнаказанно ускользнуть за рубеж.
Однако это не объясняло, почему собака предпочитала делать громадный крюк, вместо того чтобы — это казалось более естественным — поскорей убраться восвояси. Метелицын стал раздумывать над этим и, наконец, пришел к такому выводу. Противоположный берег был крут и малодоступен; там тянулись скалы и такие заросли, сквозь которые не смог бы продраться и медведь. Кроме того, чтобы попасть туда, надо входить в воду, а в такой мороз купанье едва ли могло быть приятно собаке. Стало быть, она искала переправу. Метелицын нарисовал себе довольно ясную картину происходящего. Так постепенно распутывались загадки этой необычайной ночи.
Прослеживая в памяти береговую линию противоположной стороны, Метелицын дошел мысленно до пограничного знака и сказал себе: «Она бежит туда. Там удобное место, она может беспрепятственно переправиться на тот берег; и там, на той стороне, где-нибудь ждут ее».
Имелись все основания так думать. У пограничного столба речка сильно сужалась, русло ее загромождено камнями, и там собака действительно могла переправиться, не замочив лап.
Это очень важная догадка, ибо можно было не бежать, петляя, вдоль речки, следуя всем ее изгибам, а направиться прямиком. Метелицын был настолько уверен в правильности своих выводов, что так и сделал. Он знал потаенную тропинку, которой пользовались пограничники, обследуя этот участок. Свернув со следов, он двинулся по кратчайшему пути.
Метелицын надеялся поспеть к погранзнаку раньше собаки и отрезать ей путь. Он намного сократил себе дорогу и выиграл время.
Уже совсем рассвело. Метелицын уверенно шел, ориентируясь по известным только ему одному приметам и порой ускоряя шаг до бега. Он поднялся на поросшую редким леском возвышенность, и его глазам открылась широкая долина и полосатый погранзнак, казавшийся издали не толще спички. Что-то темнело около него. Метелицын что есть духу побежал под уклон, не отрываясь напряженным взглядом от этого предмета у самой воды.
Внезапно он понял: это две собаки. Затем до него донесся голос Пронина, который пришел в себя после падения и звал на помощь. Сам он не мог вылезти из ямы. Стенки ее обледенели, а глубина значительно превышала его рост.
Схватку у ключа заметили пограничники соседнего участка и также спешили к столбу. Какие-то подозрительные личности показались из-за бугра в отдалении на сопредельной стороне.
Корд яростно рвался с поводка. Метелицын на бегу отстегнул карабин и пустил собаку. Овчарка пулей полетела вниз по откосу.
Буян уже почти не сопротивлялся. Начиналась агония. Он задыхался, глаза его вышли из орбит, язык вылез из пасти. Он лежал на боку, бессильно дергая лапами и порой вздрагивая всем телом. Черный убийца душил его, придавив всей своей тяжестью.
И тут на взгорье у леса, где начинался спуск к реке, показалась быстро передвигающаяся точка. Она росла, увеличивалась в объеме с каждой секундой, превращаясь в собаку. Это был Корд, великолепный розыскной пес, мрачный отшельник, еще не проигравший на своем веку ни одной битвы. Он бежал бесшумно, легкими и стремительными прыжками неся по воздуху свое сильное мускулистое тело. Будто молния пересек он открытое пространство и с ходу вонзил клыки в шею вражеской собаки. Рывок был настолько силен, что черного подбросило, как электрическим током. Челюсти его разжались, и он перестал душить Буяна.
А Корд уже снова возник над ним, как олицетворенное возмездие. Корд повернулся так резко, что проехался на лапах несколько метров и когти оставили на льду глубокие борозды. Черный не успел ни убежать, ни приготовиться к защите. Он только показал свои желтые клыки, как Корд вновь ударил его со всею силой, на какую был способен. Черный взлетел на воздух и, разбрызгивая воду, тяжело плюхнулся в русло Гремячего ключа.
И все было кончено. Когда подоспевшие пограничники вытащили черную собаку из воды, она уже расставалась с жизнью. Корд переломил ей хребет.
Так окончилась схватка у Гремячего ключа и так была раскрыта подлая уловка наших врагов, использовавших в своих преступных замыслах верного друга человека — собаку.
Читателя, конечно, интересует: а как же Буян? Читатель хочет знать о судьбе своего героя. Неужели чужая собака нанесла Буяну смертельные раны, от которых он уже не смог оправиться?…
Не тревожьтесь, друзья. Буян остался жив. Раны его закрылись, и он еще долго нес службу на границе.
Хочется сказать в заключение:
— Мой дорогой читатель! Где бы ты ни жил и сколько бы лет от роду тебе ни было, помни: в ту минуту, когда ты читаешь эту книгу, тысячи отважных сыновей Родины, героев-пограничников несут бессменную вахту на рубежах советской страны. Они несут ее днем и ночью, осенью и зимой, в жару и лютый холод, в знойных горах Памира и в ледяном Заполярье, на Камчатке, на Сахалине, на Курильских островах, на островах Ледовитого океана, у берегов Черного моря. Они несут ее всегда. И в этом тяжелом, но благородном и героическом деле им самоотверженно помогают наши верные друзья — розыскные и сторожевые собаки.
НА КРАЮ БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ
Утро на зимовке
Утро было ясное. Молодой радист Николай Локотков, которого за хороший нрав и постоянную готовность помочь товарищу на зимовке все называли ласково Локотком, проснулся рано и, повернувшись на другой бок, хотел понежиться немного в постели (все-таки воскресенье, отдых от трудов!), но настойчивое царапанье и легкое поскуливание за дверью заставили его подняться.
— Повелитель блох… Уже!
Громко топая по полу босыми пятками, Локотков подбежал к двери и впустил большую белую лайку.
— Пожалуйте, камрад Муш!
Лизнув радиста в руку, пес сразу же направился в угол к фанерному ящику из-под консервов, втиснутому между рацией и этажеркой для книг, но злая, оскаленная морда, выглянувшая оттуда, и угрожающее рычание заставили его попятиться назад. Сев, Муш принял позу терпеливого ожидания, не отрывая взгляда от ящика.
В ящике, под матерью, лежало с полдюжины слепых щенят.
— Что, получили? Так и надо. Не лезьте, куда вас не просят!
Локотков включил радио. Комната наполнилась боем часов со Спасской башни, затем, покрывая атмосферные разряды, далекий голос диктора отчетливо произнес: «Говорит Москва. Начинаем наши передачи. Сегодня двадцать второе июня тысяча девятьсот сорок первого года, двадцать четвертый год Великой Октябрьской революции…»
— Ну что ж. Стало быть, вставай, поднимайся, рабочий народ…
Локотков потянулся так, что хрустнуло в плечах. Поеживаясь (в помещении было довольно свежо), он посидел на кровати, пока слышалась музыка, предшествующая утренней гимнастике, затем, упруго вскочив, принялся делать зарядку. Муш продолжал сидеть на своем наблюдательном пункте, время от времени косясь на человека.
Муш представлял собой великолепный экземпляр настоящей полярной лайки, белый, как песец, с пышным туго закрученным на спину хвостом, с густой шубой, спасавшей от самых жестоких морозов. На этом пышном опушении выделялись три черных точки: блестящая мочка носа и два живых умных глаза, с большим пониманием глядевших на мир. Под стать была и вторая лайка, Мушта, целиком занятая сейчас своим семейством. Собак привезли с первой сменой зимовщиков, и с тех пор они безотлучно находились здесь, — не столько ради какой-либо определенной цели, сколько просто для того, чтобы скрасить своим присутствием однообразную жизнь людей.
— Ать-два, ать-два! Вдо-ох, выдох… вдо-ох, выдох… Я знаю: вы явились проверить, как почивали ваша супруга и детки? Вот цена дружбы! Вилянием хвоста вы декларировали мне преданность до гробовой доски, но все это была ложь, сплошное лицемерие. С того момента, как вы обзавелись потомством, я существую для вас лишь постольку-поскольку… Не так ли, мой дорогой Вертихвост?
Радист говорил и одновременно выполнял наклоны туловища, повороты, сгибался и разгибался, выбрасывал руки и ставил ноги на ширину плеч. Мускулистый, стройный, в одних трусах, он мог бы служить моделью для скульптора. Белизна кожи выдавала, что тело уже давно не видело настоящего, жаркого солнца.
— А теперь водные процедуры… пойдемте, гражданин Кабыздох! Хотя, виноват, сначала нужно освежить красоту… Сегодня мы должны быть при полном параде!
Он быстро развел полный стаканчик мыльной пены и принялся за бритье, ловко подпирая языком то одну, то другую щеку и умудряясь напевать:
Широка страна моя родная…Затем он протер лицо одеколоном, полюбовался на свое отражение в зеркале и скомандовал:
— А теперь за мной, господин Муш!
С сожалением оглянувшись в последний раз на ящик, где укрывалась его дорогая Мушта с детьми, Муш с готовностью последовал за радистом, уже спускавшимся по лестнице к выходу.
Локотков любил животных, придумывал им забавные прозвища, постоянно был готов возиться с ними. Поэтому он и Мушту с ее ящиком еще задолго до того, как появиться щенкам, «передислоцировал» к себе в радиорубку. Он уже выучил Муша носить очередные метеосводки к начальнику, а раз даже заставил пса пробежаться до рыбачьего поселка на побережье.
Локотков зимовал уже второй срок. Кроме него, здесь было еще трое: начальник зимовки Стуков, метеоролог Терпигорев и пожилой усач повар Бучма.
Стуков родился на Урале, в поселке Верх-Исетского завода, и принадлежал к одной из старинных рабочих династий. Бучма был с Украины, Терпигорев — из Ленинграда. Волжанин Локотков среди них был самый молодой и веселый.
В полосатой тельняшке и бушлате Локотков выглядел завзятым моряком — как когда-то на родном Балтийском флоте, службу на котором Николай окончил старшиной первой статьи. От флотской службы осталась привычка и окатывать себя холодной водой по утрам и вставать до побудки.
Раньше радиста поднимался лишь кок. Об этом свидетельствовал дымок, завивавшийся из трубы «камбуза» — кухни. Амвросий Кузьмич посулил приготовить сегодня роскошный завтрак и еще более роскошный обед. Стуков и Терпигорев еще не показывались — наверное, брились, приводили себя в порядок после трудовой недели.
— А ведь хорошо, честное моряцкое, хорошо! День-то сегодня какой, а? Молчишь, не знаешь… Эх ты, песья твоя жизнь! — продолжал разговаривать Локотков с собакой. — Ну что ты в самом деле можешь понимать? В школу ты не ходил, азбуку Морзе не изучал… Темнота, серость? Пожрать да блох повыкусывать…
Должно быть, Муш тоже понимал юмор, потому что морда его выражала полнейшее благодушие и даже порой смеялась, собираясь в мелкие складочки. Муш любил веселого радиста ответной любовью животного, чувствующего человеческое расположение, повсюду сопровождал Локоткова, а беседовать подобным образом они могли часами.
Запрокинувшись так, что обнесло голову, Локотков уставился в бездонную синеву небесного свода, потом обвел взглядом горизонт.
Зимовка с метео- и радиостанцией стояла на высоком каменистом взгорье. Позади, если встать спиной к югу, расстилалась тундра, прямо, внизу — бескрайняя, сверкающая под солнцем равнина Ледовитого океана. Хмурое, враждебное в осенние штормы, немое, закрытое льдами — зимой, море выглядело иным в разгаре полярного лета, хотя и сейчас сохранялась особая, северная прозрачность высокого неба и свинцовая холодность воды. Однообразный шум прибоя почти не долетал досюда, и только молочно-белая полоса вдоль изломанной кромки берега напоминала об извечной борьбе воды и суши.
Локотков любовался этой картиной недолго.
Раз выходной, пока не готов завтрак, мы можем позволить себе маленькую прогулку… Шагай, Мушья душа! — и он по едва заметной тропинке между камнями направился туда, откуда доносился неумолчный птичий грай. Муш рысцой потрусил сзади.
Гром с ясного неба
Птичий базар в окрестностях зимовья — поселение шумной и хлопотливой обитательницы Севера гаги — был местом, куда частенько наведывались четыре отшельника, заброшенные на этот далекий, неприветливый клочок советской земли.
Вздыбленные черные скалы поднимались здесь отвесно из морской пучины. На скалах гнездились большие красноклювые птицы. Внизу бились холодные серо-свинцовые волны, накатывая одна за другой и разбиваясь в пену; вверху стоял незатихающий тысячеголосый гомон. Тучи крылатых созданий носились в воздухе, еще больше было их на камнях. Они ютились во всех расщелинах и углублениях, лепились на шершавых карнизах над головокружительной кручей, бродили и у воды в проеме между утесов, где образовалась небольшая отмель и волны натащили много плавника, и на плоской, обдуваемой всеми ветрами, вознесенной над океаном гранитной площадке. В криках птиц было что-то и тревожащее и успокаивающее одновременно. Под этот грай зимовщики жили все лето. Пугливые по природе, гаги давно привыкли к соседству людей и занимались своими делами так же, как, вероятно, и тогда, когда не было никого, кроме них.
Это место напоминало Локоткову заповедник Семи Островов близ Мурманска, где ему довелось побывать однажды. Так же, как там, здесь шумели птицы, мириады птиц; так же строили гнезда из мелких хворостинок, сухой травы или просто в ямке среди камней; так же, как на Семи Островах, люди старались не вспугивать крылатых жителей. Это понимал даже Муш, и, обычно гонявшийся за любой земной тварью — бегающей, ползающей, плавающей, — в районе птичьего базара он становился сдержан и лишь молча поводил носом по сторонам.
Гага — дикая северная утка — ценная промысловая птица; пух ее давно приобрел мировую славу. И Локотков, как любитель всякой живности и рачительный хозяин, втайне мечтал превратить когда-нибудь здешнюю колонию в образцовую гагачью ферму в естественных условиях, как, он слышал, делают в Дании, Норвегии. После профессии радиста его, пожалуй, больше всего влекла деятельность орнитолога, знатока крылатых существ, от которых, говорят, произошел и сам человек (недаром Локотков по сию пору совершал полеты во сне!). А еще, вероятно, он мог бы стать начальником какого-нибудь питомника или заведующим промысловой базой.
Птичий базар — ни с чем не сравнимое зрелище, во все времена привлекавшее всех путешественников и естествоиспытателей, и Локотков, не будь работы, проводил бы здесь целые дни. Развлечений на зимовке не густо; а когда спустится долгая полярная ночь — сиди да слушай вой пурги… И потому, как только начинался весенний прилет и оттаивала тундра, начинались и постоянные посещения базара. Сидя на камнях в свободные от дежурства часы, Локотков подолгу наблюдал за возней гаг. Муш заменял ему собеседника.
Крупные бело-черные самцы и буро-коричневые, с пестринами самки копошились у самых ног, подходили и заглядывали в лицо человеку, словно спрашивая, что ему здесь надо, о чем он думает, а у него от этого теплело на сердце. Порывистый, стремительный, неспособный минуты просидеть спокойно, Локотков становился тут другим: пропадала резкость движений, появлялась женственная мягкость — свойство людей, испытывающих подлинное наслаждение от соприкосновения с живой природой.
Взгляд упал на гнездо, находившееся несколько в стороне от других. Пустое, оно выглядело брошенным. Вчерашний норд выдул уже из него часть пуха, который самка-гага выщипала у себя, чтобы согреть птенцов. Отдельными пушинками играл ветер около гнезда.
— Опять Фомка-разбойник набедокурил, — проворчал Локотков, покачав головой.
Фомкой-разбойником он назвал крупную хищную чайку-поморника, любительницу до чужих яиц и неоперившихся птенцов.
Дальше он заметил еще одно разоренное гнездо, а затем, осматриваясь по сторонам, увидел птенца гаги, пытавшегося спуститься со скал к морю. Вспугнутый крылатым разбойником, видимо, раньше положенного срока, непривычный к твердой почве, малыш едва переставлял свои перепончатые лапки. Рядом неуклюже ковыляла мать. Неутомимая в плавании и нырянии, гага очень неловка на земле.
Вот, запнувшись, она ткнулась грудкой вперед и едва не сорвалась вниз. Птенец испуганно закричал.
— Эх вы, друзья! — воскликнул Локотков. — Придется заняться вами. Не так ли, месье Муш?
Муш, соглашаясь, повилял хвостом.
Очевидно, радисту не впервой доводилось помогать птицам, так как в камнях у него оказалась запрятана корзина. При его приближении малыш попытался отбежать. Муш бросился за ним, но не тронул, а только понюхал его. Тот отнесся к этому совершенно равнодушно. Локотков положил его в корзину.
После он увидел еще несколько птенцов, которым уже пора было начинать самостоятельную жизнь, и присоединил их к первому. Корзина наполнилась. Со всех сторон его окружили взрослые гаги-матери, впрочем не проявлявшие признаков враждебности ни к нему, ни к собаке, а лишь вперевалку доверчиво следовавшие за ними. Пес шел за хозяином, косясь на птиц. В этой необычной компании Локотков по дорожке, которой пользовались птицы при спуске к воде, отнес живой груз на отмель и там выпустил.
— Ну, плывите, граждане-товарищи, — напутствовал он их, бережно выкладывая одного за другим на песок.
Птенцы поспешили к воде, матери последовали за ними, накатил голубой шипящий вал — и все закачались на его гребне.
— Э-э, да мы с тобой славно поработали, — проговорил Локотков, посмотрев на часы. — Достопочтенный Амвросий Кузьмич, вероятно, уже приготовил завтрак — пальчики оближешь — и ждет нас к столу, А наш уважаемый товарищ Терпигорев уже снял показания с приборов… Поспешим же на праздничный пир, дружище Дайпоесть!
Однако он еще полюбовался на то, как большие и маленькие гаги, опрокидываясь, будто заводные, и показывая куцые хвосты, ловко ныряли за рыбками и мелкими ракушками. Некоторые в один миг оказались далеко за линией прибоя. У птенцов силенок было еще недостаточно: это было видно по тому, как они тщетно старались грести назад. Уставших заботливые мамаши брали себе на спину и плыли к берегу.
— Итак, детишек мы приспособили к делу, — резюмировал Локотков. — Через недельку надо будет проверить. Сегодня мы имеем двадцать второе июня. Запомним…
Он не договорил. Гулкий раскат вдруг всколыхнул воздух, многократно прокатившись эхом между скалистых стен. Муш от неожиданности залаял. Вспугнутые птицы сорвались с мест своего обычного обитания и закружились низко, почти закрывая небо, едва не задевая Локоткова. Пространство над головой наполнилось свистом и шелестом крыльев, пронзительными гагачьими криками.
Рвануло еще раз. Крики птиц сделались громче, тревожнее.
— Что это? Гром с ясного неба? Салют наций? Похоже, что стреляли на море. Но убедиться не было возможности: архипелаг скалистых глыб, торчавших из воды, мешал обзору.
С минуту Локотков прислушивался, стараясь уразуметь непонятное явление, затем бегом бросился вверх по склону. Муш, скользя по камням, едва поспевал за радистом.
Без объявления войны
Каковы же были ужас, изумление, негодование и в первый момент растерянность Локоткова, когда он увидел, что здание их зимовки разбито, разрушено, крыша с радиорубкой снесена начисто, мачта с антенной свалилась, из окон вырывались дым и пламя.
Да, стреляли из пушки и стреляли по зимовке. Кому понадобилось это ничем не оправданное варварство?
Он бросил взгляд в сторону моря, и все стало ясно. Недалеко от берега виднелся сигарообразный предмет с башенкой — всплывшая субмарина. На ней, около наведенной на берег пушки, суетились букашки-люди. Ветер донес звук удара, и в тот же миг еще один снаряд разорвался на холме перед зимовьем.
Спасать, спасать что еще можно!
Но спасать что-либо было уже поздно. Здание было охвачено огнем со всех четырех углов. Трещало пожираемое пламенем дерево. Черный траурным султан дыма поднялся над зимовкой. Это разбойничье нападение было совершено столь неожиданно, что никто ничего не успел сделать. Изменить положение не смогла бы даже пожарная команда, если бы она каким-либо чудом вдруг очутилась здесь.
Локотков услышал крик и бросился на зов. В стороне на голой земле лежал в своем поварском колпаке и белом переднике богатырский Бучма. Тучный, с румяной гладкой физиономией, каким и подобает быть повару, Бучма сейчас был без кровинки в лице и, очевидно, едва удерживался, чтобы не застонать. Одна штанина на нем была взрезана и завернута и оттуда лилась кровь. Худой, длинный метеоролог Терпигорев, обладавший медицинскими познаниями и исполнявший на зимовке обязанности врача, перетянув ногу жгутом, бинтовал рану. Начальник зимовки Стуков стоял рядом и в бинокль (единственное, что он успел захватить, выбегая из рушащегося дома) озабоченно всматривался в ту сторону, откуда летели снаряды.
Первым же выстрелом мишень была накрыта точно в середину. Снаряд, пробив крышу, разорвался в «кают-компании», как называли зимовщики свою столовую, когда повар Бучма направлялся туда с кофейником и блюдом свежих пышек в руках. Вторым попаданием была сорвана антенна и разбита рация. Мгновенно начался пожар. Стуков и Терпигорев едва успели выскочить сами и вытащить раненого Бучму.
В темном четырехугольнике дверей горящего дома, откуда непрерывно исторгались густые сизые клубы (сорванная взрывом дверь висела на одной петле), мелькнуло белое пятно. Мушта со щенком в зубах одна пыталась бороться с огненной стихией. Положив щенка к ногам Локоткова, она хотела вернуться за другим, но радист, поймав ее за ошейник, удержал силой. Вряд ли она спасла бы еще хоть одного, но зато могла погибнуть сама.
Мушта визжала и рвалась туда, где заживо горели ее дети. Ее жалобные стенания проникали в самую душу.
Но вот почерневшие обугленные стены зашатались и рассыпались, взметнув столб искр и чадящих головней. Нестерпимо пыхнуло жаром. Запах гари распространился вокруг.
Локотков, как-то враз ощутивший тяжесть этой потери, отвернувшись, украдкой смахнул слезу. Он переживал гибель зимовки, как смерть близкого человека. Подозрительно блестели глаза у остальных.
Обстрел между тем продолжался с каким-то тупым методическим постоянством, хотя цель была достигнута — зимовка перестала существовать. Снаряды ложились то в центре пожарища, то рядом, расшвыривая пепел и угли. Общее внимание теперь целиком приковалось к подводной лодке, стоявшей все так же в надводном положении в заливе. Полярники рассматривали ее, обмениваясь короткими замечаниями.
— Очевидно, рейдер…
— Чей?!
— Чей! Попроси, чтоб доложился!
И как бы в ответ на это на носу лодки заполоскался флаг. Стуков навел бинокль и явственно различил черную, похожую на жирного насосавшегося паука, свастику. Впрочем, этот зловещий символ разглядели все и невооруженным глазом.
— Немцы!
— Фашисты!
— М-да… — мрачно проронил Стуков и повел взглядом по лицам товарищей. У всех в глазах читался один вопрос: что это — разбой, пиратский набег или преднамеренное, обдуманное и одобренное заранее действие?
— Провокация…
— Хорошо, если не хуже…
— А что — хуже?
Стуков ничего не ответил, но все вдруг почувствовали: что-то грозное и неотвратимое вошло в их жизнь.
— Неужели война?!
— Как же так: без объявления, ни с того ни с сего…
— А ты думаешь, они тебе визитную карточку пришлют?
— У них и с того и с сего… На Польшу, на Данию, на Норвегию напали — предупредили?
— У них все так: сначала бомбят, потом послов шлют!…
И все-таки не верилось, что это и в самом деле начало войны. С чего? Почему? Кому это нужно? Ведь еще полчаса назад все было так спокойно и мирно. Бучма стряпал, Терпигорев составлял очередную метеосводку, Стуков набрасывал телеграмму жене (у нее завтра день рождения), Локотков возился с гагами…
Как все мгновенно переменилось. Всплывший из морских глубин, подобравшийся, как вор, враг вероломно нарушил привычное течение жизни, нанес удар. Подобно гнезду гаги, обворованному злым поморником, разоренной оказалась вся зимовка.
Надо немедленно сообщить о случившемся на Большую землю. Предупредить. В Москве утро начинается позже; может быть, там спят и ничего не подозревают… Да, да, сообщить не мешкая!
Но как? Рации больше нет.
И если до этой минуты они ощущали лишь трагизм несчастья, обрушившегося на них четверых, то теперь вдруг почувствовали свою ответственность перед тем большим-большим, неохватно огромным и прекрасным, что для всех звалось одинаково — Родиной, а для них имело и еще одно название: Большая земля.
Здесь они как на острове: сзади тундра, впереди — море, студеное, непокорное, с шумными птичьими базарами на берегах, с редко-редко — на сотни, тысячи километров! — разбросанным человеческим жильем. Как начнутся туманы, пойдет бесконечный тяжелый гул штурмующего моря, треск льда — никуда и носа не высунешь. И все же они никогда не чувствовали себя оторванными от страны, забытыми. Нет, нет! Совсем наоборот. В самом деле, скоро уже три года, как жил здесь Локотков, и он еще ни разу не испытал того тягостного, выматывающего чувства одиночества, на которое жаловались все полярные путешественники и зимовщики прошлого.
И ежесуточно, аккуратно, при любом состоянии атмосферы, независимо от времени года, температуры, солнечных излучений, всюду куда нужно поступали метеорологические сводки, чтобы, имея прогнозы, безбоязненно плыли пароходы по северным беспокойным водам, летели самолеты, чтобы моряки, земледельцы, летчики, люди самых разнообразных профессий знали наперед, чего им завтра ждать от природы. Арктика — «кухня погоды» — давала точные сведения.
А как радовались зимовщики, когда в разгаре полярного лета далеко на горизонте появлялись сначала судовые дымки, а потом и сами суда. С вершины гагачьего камня друзья подолгу провожали их взглядами. Это шли по Великому Северному морскому пути, открытому русскими мореплавателями, торговые корабли под флагами разных наций. Их проводили через льды советские ледоколы. И в этом тоже была доля труда четверых товарищей.
Они здесь, на краю Большой земли, — форпост Родины. Они первыми встречают циклон, идущий с полюса на материк, первым пришлось им познакомиться и с коварством и жестокостью врага…
Неужели же, все-таки, война? Не хотелось верить. Они должны были бы знать что-нибудь из утреннего радио… А сгоревшая зимовка?
Враги уничтожили рацию, связывавшую зимовщиков с внешним миром. Есть, правда, моторный бот, пришвартованный внизу, на отмели. За час на нем можно доплыть до рыбацкого поселка… Как только прошмыгнуть мимо подлодки? Немцы стерегли выход из залива. Долго ли они будут торчать тут? Локотков, прищурившись и лихорадочно прикидывая различные варианты, уже видел себя за рулем бота…
И, как бы подслушав эти мысли, немцы перенесли огонь ниже, на бот. Один выстрел, второй — и, разнесенный на куски, бот перестал существовать.
— Вот гады, чумы на них нет, — выразительно произнес лежащий Бучма. Под голову ему подложили бушлат Локоткова, и, раненному, ему тоже были видны и вся бухта, и вражеское судно. — Юхим, — превозмогая боль, обратился он к Стукову, — ты начальник, действуй. Чуешь?…
«Спокойно, товарищи!…»
Полярники — народ стойкий, дисциплинированный, и в трудную минуту они меньше всего думают о себе. Именно такими предстали в эти решающие часы наши четверо героев. Они не помышляли о том, что, может быть, следующим выстрелом из пиратской пушки сами будут убиты или искалечены; не думали, что остались без крова, без запасов провизии, что погибло все их личное имущество и они остались лишь с тем, что было на них (да, собственно, что об этом было думать?). Главное — выполнить свой долг.
— Спокойно, товарищи, — промолвил Стуков. — Война или не война, нам гадать нечего. Факт нападения и нарушения наших территориальных вод налицо. Надо решать, как поступить. Первым делом, я считаю, поставить в известность своих. Рации у нас нет. По морю тоже нельзя. Остается — по сухопутью. Так? На случай высадки десанта с рейдера — приготовиться укрыться. Среди скал за гагачьим базаром они нас не найдут. И море рукой подать. Подоспеют наши — сразу увидим…
Выходец из рабочей семьи, Стуков и сюда, на Крайний Север, принес деловитость и практическую сметку, а хладнокровию, выдержке его мог позавидовать любой.
— Слышь, Локоток, — коротко обратился он к радисту, — надо что-то делать.
— Я готов, Ефим Корнеич.
То обстоятельство, что начальник зимовки заговорил об этом с ним, Локотков расценил как желание поручить ответственную миссию именно ему, Локотку, и не ошибся.
— Мне отлучаться неможно, — пояснил Стуков. — Бучма — сам видишь… Терпигореву тоже, пожалуй, лучше остаться. А ты сейчас вроде как не у дел, и ноги у тебя молодые. Выходит, тебе…
— Я готов, — повторил Николай, вытягиваясь по-военному. Обычная болтливость его пропала, сейчас он был собран и решителен.
— О чем докладывать, я думаю, можно не напоминать?
— Не надо, Ефим Корнеич. Знаю сам. Разрешите Муша взять с собой?
— Для компании? Бери. За нас не беспокойся, в случае чего за себя постоим!…
— Если что, Мушту и щенка поберегите…
— Знаем, знаем, добрая твоя душа!
— С дороги не сбейся, Микола, — напутствовал Бучма. Смертельная бледность его прошла, но он был слаб настолько, что едва мог пошевелить рукой. Помимо того, что он был ранен в ногу, его сильно ушибло падавшим бревном, однако он тоже хотел принять участие в выработке плана действий и снабдить посыльного своими советами. — С солнцем сверяйся — не собьешься. Бушлат возьми. Да лучше под ноги гляди! Ваш брат, хлопцы, голову больше кверху держат…
Тундра под ногами
Путь был через тундру.
Собственно, ничего особо сложного или опасного в этом Локотков не видел. Важно было поскорее добежать — и все.
Он так и сделал: припустил с такой скоростью, что Муш вынужден был поспевать за ним вприскочку. Бескрайняя, ровная, пышная в своем летнем убранстве, благоухающая зеленая тундра стелилась под ногами.
Тундра! Она протянулась на тысячи километров, природным нехоженым, неезженым предпольем прикрыв северные окраины советской страны. По ней текут к океану самые могучие реки, по ней проносятся ураганы. Тундра — это северный пояс нашей земли. Суров и дик пейзаж Заполярья. Но всегда ли он таков?
Приходилось ли вам видеть тундру, когда она, пробудившись от долгой зимней спячки, расцветает всеми цветами? Тундра — это не только снег и стужа, пронизывающий ветер и сиреневая полярная ночь, сполохи в небе и угрюмость, дикость, с бедной чахлой растительностью, с пустынным горизонтом… Тундра бывает и совсем другой, хотя такой почему-то никогда не описывают ее.
Летняя тундра — красавица, а для разного мелкого зверья и птицы — просто рай. В тундре летуют многие пернатые. Оттаявшая, она дает им и обильную пищу и материал для постройки гнезд.
В короткие теплые месяцы набирается соками все живущее в тундре. Солнце ходит по кругу над головой и не заходит, лишь чуть склонится к краю земли да пожелтеет слегка к полуночи. День тянется, тянется, и нет ему конца…
— Скорей! Скорей! — стучало в мозгу у Локоткова, и он еще и еще прибавлял шагу, напрягая мускулы до предела.
А вокруг было так хорошо! Цвели желтые полярные маки и северная синюха. Нога ступала по мягким пружинящим ягельникам. Андромеда раскидывала свои восковые листья. В пестром ковре трав проглядывали седой проломник, копеечник и крестовник. Крошечный лютик соседствовал с зубровкой. Тут же росла камнеломка, скромная, незаметная, но способная сокрушить гордые скалы. Вероятно, это она помогла тундре стать тундрой, в союзе со временем раздробив каменистые возвышенности, бывшие здесь некогда, и принизив, сгладив ландшафт. Широколистный иван-чай выделялся фиолетовыми цветками. Наклонившись и разобрав руками, можно было найти черешчатые прикорневые продолговато-овальные листочки: ложечную траву, или арктический «хрен, — драгоценное растение Севера, сохранившее жизнь не одному полярному путешественнику, способное цвести даже в морозы.
И ничто не напоминало о войне. Дикой казалась мысль, что только что на беззащитную зимовку обрушился истребительный шквал артиллерийского огня и дыхание смерти пронеслось вдруг над тундрой…
Зачем война, когда так прекрасна жизнь?
— Скорей, скорей!…
Большая земля! Она и вправду большая. Достаточно попасть в тундру, чтобы сразу наполниться этим ощущением беспредельности, почувствовать особый, волнующий аромат пространства, о котором еще Гумбольдт сказал, что оно может давать чувственное наслаждение.
Но сейчас Локоткову было не до этих умствований. Он торопился, он думал только об одном: сообщить, предупредить, скорей, скорей! Ему казалось, что сейчас во всем мире только он да Муш, да тундра вокруг, и все человеческие судьбы зависят от быстроты его ног…
Это была не первая его с Мушем прогулка в тундру. Но сегодняшняя не походила на предыдущие. Мушу не удавалось даже задержаться и обнюхать землю, чтоб найти след лемминга, юркой полярной мыши, или напасть на местопребывание куропатки, насмешливый хохот которой доносился то с одной стороны, то с другой. Птицы, казалось, тоже понимали, что сегодня Мушу не до них, и поддразнивали его.
Хозяин спешил — спешил и пес. Так уж устроена собака, что душевное состояние человека немедленно передается и ей, точно электризуя ее… А может быть, в ушах Муша еще звучали жалобные вопли Мушты, оплакивавшей своих несчастных щенят. Ведь Муш тоже любил их (родительский инстинкт говорил в нем!); недаром каждое утро являлся в комнату радиста и часами просиживал перед ящиком с дорогим семейством, терпеливо снося разные женские капризы Мушты. Возможно даже, ему нравилось, когда она, ляская зубами, не подпускала его к малышам, как бы говоря: «Ты мужлан, ты груб, неловок, можешь повредить им… Отстань! Куда ты лезешь?!»
Право, это выглядело именно так и очень напоминало супружеские отношения.
А что почувствовал Муш, увидав раненого Бучму, того самого Бучму, что так часто угощал его сладкой телячьей костью или другим лакомством из запасов, которыми до нападения гитлеровцев были в изобилии снабжены зимовщики? Никто из людей не побывал в собачьей шкуре, и, как знать, может быть, у собак много общего с тем, что испытывают и они, высшие творения природы…
Словом, не умея говорить, Муш тем не менее полностью разделял чувства и настроения Локоткова, которого считал своим хозяином, и старался ни на вершок не отставать от него.
Озабоченный Локотков перестал вести даже свой обычный диалог с собакой, который нравился обоим. Ведь разговор тоже требует энергии. А Локотков стремился как можно быстрее сократить расстояние между зимовкой и рыбацким поселком, куда держал путь, пересекая тундру по прямой. И он не очень даже смотрел себе под ноги, считая, что травянисто-мшистая дорога достаточно ровна…
Он забыл, что тундра может быть и коварной. Эх, надо было ему повнимательнее прислушаться к наставлениям Бучмы!…
Травяная западенка
Он вспомнил о них, когда уже было поздно…
Тундра — не асфальт, не поле с васильками. В тундре есть болотца, кочки, скрытые травяным покровом неровности и колдобины, в летнюю пору истинные ловушки для неосторожных ног. В одну из них и угодил Локотков.
Одна нога вдруг провалилась, точно пойманная капканом, другая, занесенная для шага, описала в воздухе полукруг, и Локотков, взмахнув беспомощно руками, рухнул, чуть не подмяв под себя Муша. Пес едва успел отскочить.
— Ой… ох! — только и смог вымолвить Локотков, попытавшись высвободить ногу.
Кое-как, потихоньку-потихоньку, он ее вытащил, попробовал встать и, ойкнув еще раз, снова опустился наземь. Дело ясное: он ее вывихнул. Надо же!
А оставалось уже совсем немного. Вон там, за невысокой плоской возвышенностью, снова открылось бы море с поселком на берегу, затем небольшой спуск с крутогора, и он у цели. Дохромать — не получится: даже приступить не дает. Хоть ползи на четвереньках! Но и тогда дергающая боль заставляла останавливаться после каждого движения. Кричать? Бесполезно. Кто услышит? Хотя тундра здесь и подходила близко к морю, но рыбаки мало интересовались ею: морошка еще не поспела — значит, нету еще и сборщиков.
Локотков осторожно ощупал ногу: «Н-да, чепе».
Эту ногу Локотков подвихнул когда-то еще в детстве, неловко спрыгнув с яблони; с тех пор она не раз подводила его. А травяная западенка так ловко ухватила ее, будто песца, прихлопнутого двумя зубатыми железяками, после чего остается одно из двух: либо отгрызай лапу и уходи на трех, либо отдайся охотнику.
Посидев, чтобы дать утихнуть острой боли, и сделав несколько бесполезных попыток продолжать путь, Локотков расстроенно уставился Мушу в глаза.
— Не могу, понимаешь, Повелитель блох, не могу, дружище! Подломали ходовой механизм… Вот какая история! Что будем делать, а?
Муш вильнул хвостом и вопросительно смотрел на хозяина. Он явно тоже был в затруднении.
Сидя в траве, одну ногу подогнув под подбородок, а другую — пострадавшую — вытянув, Локотков напряженно думал, а перед глазами была уже не зимовка, не товарищи, а рыбацкий поселок, целое побережье, все море. Ведь если рейдер не погнушался их зимовкой, логично ожидать, что он не оставит без внимания и другие советские объекты — на берегу или в открытом море. Его появления никто не ждет, а хуже всего — внезапность.
Сейчас он, Локотков, отвечал за судьбу многих и многих, и потому перед его мысленным взором разворачивались привычные картины мирной трудовой жизни побережья.
Он прямо-таки видел крепкие бревенчатые избы поморского селения, деловитую суету сборов. Нынче — время лова. Рыбаки в тяжеленных и высоченных сапогах-бахилах, в широкополых зюйдвестках, в непромокаемых плащах грузят на карбасы сети, запасы продовольствия — обычное ловецкое имущество. Наступает час прилива, и по «живой воде» караван отчаливает на промысел. Женщины и дети стоят на берегу, машут, а карбасы быстро тают в синей прозрачной дымке. Долго длится лов — не день и не два, многое может случиться за этот срок в водах океана. Против пушки рейдера рыбачьи флотилии безоружны, одного выстрела достаточно, чтобы потопить карбас вместе с людьми и добытым уловом. Не останется и следов. Разве только прибой выкинет потом к берегу обломки, на которых прочтут названия судов.
Да это еще не самое большое несчастье и самая большая потеря. Советские «пахари моря» — траулеры, плавучие базы советских сельдяных промыслов, бороздят воды Северной Атлантики. Это — крупная добыча для морского разбойника. Такую он может не только потопить, но и попытаться привести в свой порт. Сколько семей осиротеет враз, потеряв своих кормильцев… Нет, нет, нельзя допустить этого!
Но что делать, что?
Локотков в бессильной ярости кусал себе губы. Он пробовал ползти, но, взмокнув, будто после бани, вскоре вынужден был растянуться на спине. Грудь ходила ходуном, в глазах мелькали какие-то черные мухи.
Эх, крылья бы ему!… Почему в сновидениях он мог парить, как вон тот ястреб, что кружит в вышине, высматривая добычу, а когда надо — прикован к земле, точно цепями? Немощен человек…
Локотков притих и лежал, набираясь сил. Муш ткнулся влажным носом и лизнул в щеку. И Муш понимал, что случилось что-то неприятное, не выделывал веселых прыжков и курбетов, как бывало прежде, когда они на досуге вдвоем странствовали по тундре.
В траве прошмыгнул крошка-лемминг, потом, осмелев, высунулся наполовину и повел подвижным остреньким носиком, блеснув глазками-бисеринками, как бы осведомившись: что вы тут делаете? Муш не удостоил его даже взглядом — все внимание на хозяина.
— Эх, пес! — сказал с горечью Локотков. — Мне бы твои ноги…
«Муш… вперед, Муш!…»
Сказав так, Локотков вдруг осекся и уставился глазами на собаку, точно впервые увидев ее.
Отчего бы не попробовать… Великолепная мысль! Таскал же Муш метеорологические сводки Стукову, когда Локоткову было лень самому нести их. И в армии, говорят, есть собаки-связисты…
Да! Но как заставить Муша понять, что от него требуют?
Впрочем, тут Локотков не проявил поспешности, которая раз уже так подвела его, а действовал последовательно. Прежде всего написал записку на листике из блокнота, затем, пошарив в карманах и не найдя ни бечевки, ни чего-либо, что могло бы заменить ее, выдернул несколько ниток из подкладки бушлата и, обвернув записку вокруг ошейника Муша, накрепко примотал ее.
Для собаки главное — рефлекс. Локотков не изучал теорию дрессировки и поступал скорее по наитию, чем в результате сознательного обдумывания, но способ, избранный им, был правилен. Об этом свидетельствовал блеск глаз Муша и какое-то новое выражение, появившееся в них, а также трепетание всего его тела. Раз привязывают к ошейнику — значит, надо бежать, нести. Это Муш уже знал. Но в какую сторону? Кому? Вот в этом и была вся задача.
Ощутив послание на шее, Муш заюлил, завертелся на месте, нетерпеливо спрашивая: а что он должен сделать после этого? Локотков придержал его, как бы настораживая к вниманию, потом, взмахнув рукой туда, куда они направлялись, выразительно сказал:
— Муш… вперед! Муш! Понял?…
Муш не понял. Он остался около Локоткова. Радист замахал на него руками, закричал:
— Пошел, пошел! Марш!
И — не добился ничего. Муш опять шевельнул хвостом, виновато понурился и — опять уставился в глаза Локоткову. «Не понимаю, — казалось, говорил он. — Повтори еще раз».
Вот история! Ну зачем природа дала собаке инстинкт, но не снабдила человеческим разумом? Все было бы проще…
Но Локотков не отказался от своего замысла. Ничего другого, собственно, ему не оставалось.
Достаточно, чтобы лайка появилась в поселке. Там ее знают, об остальном можно не заботиться…
Он так гнал от себя собаку, что Муш, наконец, отбежал от него на несколько шагов и остановился в замешательстве. Опять остановился! И, кроме того, пес направился не в ту сторону — возвращался на зимовку, а требовалось как раз наоборот. Тогда Локотков, подобрав сухую хворостину, отшвырнул ее с силой, насколько это можно было сделать в полулежачем положении. Муш тотчас устремился за нею, оказавшись теперь с другого бока от Локоткова. Застыв над хворостиной, пес вопросительно посмотрел на хозяина. Приносить брошенные предметы он не был обучен, но ведь не зря же хозяин бросал…
Что происходило в мозгу Муша? Совершенно очевидно, что он силился понять человека.
Локотков метнул камень. Другой. Третий. И раз от раза дальше и дальше. Он показывал: туда, туда надо бежать. Пойми!
Протяжный басистый рев разнесся вдруг над тундрой. К причалу в поселке, видимо, подходил рыболовный сейнер. Муш встрепенулся и замер, навострив уши, весь устремленный на этот звук.
— Пошел, пошел! Марш! — кричал Локотков.
Муш повел ушами еще, помедлил и, оглядываясь, побежал на гудок. Муш слышал его раньше, когда они с Локотковым бывали в поселке. Несколько раз Муш останавливался, но крики радиста вновь и вновь подстегивали его.
Постепенно Муш становился все меньше и меньше. Взбежав на пригорок, с которого открывался вид на море, он остановился на минуту в нерешительности, поглядел назад, потом вперед, потом опять назад, охваченный двумя противоречивыми желаниями, и затем, как бы решившись на что-то, пустился во всю прыть по спуску к поселку…
Побережье насторожилось
Остается сказать немного.
Всем известны события, которые последовали за этим безоблачным историческим утром 22 июня 1941 года. Здесь, на Севере, в районе зимовки четырех товарищей, они начались даже несколько раньше, чем в других местах.
Муш доставил послание Локоткова. И в тот же час о появлении фашистской подводной лодки в территориальных водах и на путях движения рыболовецких караванов стало известно всем, всем. Тревожная радиоморзянка полетела по эфиру, оповещая о коварных замыслах врага. Карбасы и рыболовные траулеры поспешно возвращались в гавани. Побережье насторожилось.
К терпящим бедствие зимовщикам немедленно была выслана помощь. На розыски рейдера вышли катера-охотники пограничной охраны, эскадрильи боевых самолетов. Они отвечали ударом на удар. Пытавшегося укрыться в морской лазури хищника сопровождали взрывы глубинных бомб. Так сюда пришла война…
ПТ-342 (МАЛЫШ)
1
Глубокая, суровая осень 1941 года. В те дни на полях Подмосковья происходило величайшее сражение — битва за Москву.
Короткий ноябрьский день погас. К ночи вновь поднялась злая холодная поземка. Резкие порывы ветра сотрясали оголенные ветви кустов и деревьев, с протяжным завыванием проносились по широкому заснеженному пространству, завивая быстро бегущие белые струйки, отчего казалось, что все поле дымится, как после пожара, и занося снегом трупы убитых гитлеровцев, остовы искореженных и сожженных немецких танков. С сухим шуршанием в окоп сыпалась колючая снежная крупа.
Вечером, когда наступило недолгое затишье и солдаты получили наконец передышку для еды и сна, рядовой Миронов, большой охотник до разных новостей и слухов, сказал, обращаясь к своему соседу, молчаливому и замкнутому бронебойщику Двинянинову:
— Слыхал? В тридцатую роту собак привели. Сказывают, и нам тоже скоро дадут…
Тимофей Двинянинов — солдат старшего возраста, человек положительный и солидный, с крепким крестьянским умом и неторопливыми движениями, которые, однако, в нужную минуту сочетались у него с большой быстротой действий, — отозвался не сразу. По свойственной ему привычке он сначала попытался мысленно прикинуть, какую практическую ценность могло иметь сообщенное Мироновым известие, для чего нужны собаки в окопах, и лишь после этого безразлично, даже как бы нехотя, низким басом, слегка охрипшим от постоянного пребывания на морозе, осведомился:
— На что они тут понадобились?
— Танки, слышь, взрывать будут.
— Это как же? Гранатами что ли? — заинтересовался молоденький боец, сидевший со своим котелком в двух шагах от них.
— Вот этого не знаю, а врать не хочу. Так, бают, обучены.
Двинянинов не спеша дочерпал из котелка до дна, обтер усы и, спрятав ложку в мешок, принялся скручивать махорочную папироску.
«Тут люди воюют, а он о собаках…» — равнодушно подумал он, ощущая в себе тяжелую усталость, какая бывает после боя.
Пятый месяц идет война. Пятый месяц… Двинянинов уже потерял счет дням, проведенным под огнем противника, ежеминутно встречаясь со смертью. Не унимаются фрицы, не прекращается ожесточенное сражение. Только ночью немного и передохнешь. Но и ночью непрерывно вспыхивают по горизонту орудийные зарницы, далекий тяжкий гул сотрясает стенки окопов.
Опять целый день лезли танки. За танками бежала орущая, пьяная пехота. Ее косили из винтовок, пулеметов, расшвыривали и рвали в клочья взрывами гранат. Бой продолжался от рассвета до потемок.
Двинянинов сидел в своем тесном, выдвинутом вперед окопчике и ждал, когда танки подойдут ближе, чтобы вернее пробить броню. Вокруг шла стрельба, рвались снаряды и мины, а он сидел и ждал, и это бездействие ожидания было тягостнее всего.
Потом начала гулко хлопать и его бронебойка. И с этой минуты все звуки боя перестали существовать для Двинянинова. Он только успевал следить за собственными попаданиями, а что делалось позади, справа, слева от него, он не знал.
Первая пуля, посланная им, угадала в покатый выступ лобовой брони и не пробила, а только чиркнула по ней, выбив желтую искру. Он стал целиться старательнее прежнего, принуждая себя не торопиться и не думать о том, что могут убить. Танк, обходя воронку, вырытую снарядом, начал разворачиваться. Двинянинов отчетливо увидел черные с желтой каемкой кресты на его броне, большую жирную свастику, похожую на сплетение змей, и тут ему удалось угостить непрошеного пришельца несколькими, одно за другим, удачными попаданиями. Сначала он повредил ходовую часть, потом пробил бак с горючим. Громыхающее, плюющееся огнем и железом чудовище окуталось густым черным дымом и остановилось. Мотор заглох. Танкисты стали выскакивать из люков и падали, сраженные насмерть.
Но пока Двинянинов возился с этим танком, из-за кустарника, росшего по краям пригорка, неожиданно выдвинулся другой. Он был очень близко и шел прямо на вспышки двиняниновской бронебойки с явным намерением раздавить бронебойщика в его окопчике.
Двинянинов поспешно перенес прицел на него, но тотчас понял, что поздно. «Не успеть», — вспыхнуло в сознании. И действительно, времени оставалось ровно столько, чтобы только лечь врастяжку на дне окопа, тесно прижавшись к глинистой стенке и притиснув к себе ружье. Пронеслась тревожная мысль: край окопа обвален близким разрывом мины — неужели не выдержит?…
Страшно лязгая и скрежеща гусеницами, танк навалился на окоп. Обдало запахом бензина и отработанных газов; окоп наполнился удушливым синим дымом, потемнело и стало трудно дышать. Несколько капель какой-то жидкости упало за ворот, почудилось, что кровь; оказалось — масло для смазки.
Внезапно снова сделалось светло: танк перевалил через окоп и пополз дальше. Грунт был мерзлый, и это спасло бронебойщика.
Чувствуя, как бешено колотится сердце, Двинянинов вскочил и схватился за гранаты. Его опередили. Другие бойцы забросали уползающую гадину в хвост бутылками с зажигательной смесью. Синие язычки побежали по броне, танк загорелся и вскоре весь был объят пламенем. Пехоту, следовавшую за танками, отсекли ружейно-пулеметным огнем и частью истребили, частью заставили залечь.
Наконец, бой закончился. Уцелевшие гитлеровцы отошли на исходные рубежи. Наступила тишина, прерываемая лишь одиночными выстрелами.
С наступлением темноты немцы стали бросать осветительные ракеты. Ракеты взвивались в вышину, прочерчивая по темному небу огненный след, и медленно снижались, заливая землю неживым тревожащим светом, отчего свод над головой казался еще чернее, а земля — затаившейся, притихшей, скрывающей смертельную угрозу…
Настало время короткого, чуткого отдыха. Обладая крепкими нервами и завидным здоровьем, Двинянинов обычно засыпал сразу же, как выдавалась подходящая минута; но сегодня не спалось.
Запахнувшись в теплый полушубок, Двинянинов полусидел-полулежал в глубокой нише, вырытой в земле, готовый по первому сигналу тревоги вскочить и припасть к прикладу своего тяжелого, напоминающего старинную фузею, ружья. При колеблющемся свете ракет лицо его, сосредоточенно-суровое, будто высеченное из желтоватого камня, с крепко сжатым ртом и нахмуренными бровями, то с необычайной резкостью возникало из мрака, то вновь пропадало во тьме.
Двинянинов все еще остро переживал тот страшный момент, когда танк своим железным брюхом наехал на окоп и его гусеницы пролязгали над самой головой. Трудно забыть ощущение полной беспомощности и мгновенно охватившего отчуждения — как будто ты уже перестал жить! — которое пришлось изведать в ту минуту…
«Что уж тут собакой сделаешь? Ежели пушка — другое дело…» — рассуждал он, мысленно обращаясь к Миронову.
Ему вспомнилось, как они, сибиряки и уральцы, прибыли сюда. Эшелон разгрузился в предместье столицы; солдат посадили на грузовики и повезли через Москву. Тимофей видел Москву не в первый раз. Незадолго до войны он ездил на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Тогда Москва была оживленной, шумной, залитой светом тысяч электрических огней. Теперь он увидел ее совсем другой — суровой, нахмуренной, под снегом, без обычного веселого оживления на площадях и улицах. На окраинах рыли противотанковые рвы, устанавливали заграждения и надолбы на случай, если гитлеровским танкам все же удастся прорваться к городу. Витрины магазинов были забиты досками, заложены мешками с песком. По улицам непрерывно шли войска. Тракторы тянули тяжелые длинноствольные пушки, громыхали танки.
Все говорило о грозной опасности, нависшей над столицей. Это настроение передалось и вновь прибывшему пополнению. Бойцы притихли, не стало слышно обычных солдатских шуток, сознание важной ответственности легло на солдатские сердца.
Было утро седьмого ноября. На Красной площади напротив Кремля, вопреки хвастливым утверждениям гитлеровского командования, что Москва вот-вот будет взята, что она уже почти взята, выстраивались войска для парада. Ровно в десять затрубили горнисты, шеренги выровнялись, замерли…
А с парада — сразу в бой…
2
Слух, сообщенный Мироновым, подтвердился. На переднем крае действительно появились собаки, предназначенные для борьбы с неприятельскими танками.
Снова был бой. Снова, как вчера, как уже много дней подряд, гитлеровцы двинули вперед танки, позади побежала пехота. И вот в самый напряженный момент, когда танки были близко, от окопов вдруг отделились два движущихся пятна и устремились навстречу громыхающим чудовищам. Двинянинов, поймав их взглядом из своего окопчика, не сразу сообразил, что это собаки, а поняв, невольно на какое-то время забыл обо всем остальном, настолько непривычно-неожиданно было зрелище неравного поединка.
У него захватило дух при мысли, что животные отваживаются вступать в единоборство с танком. Глаза, не отрываясь, следили за двумя существами, которые, вероятно, даже не сознавали, что они делают, и спешили навстречу верной гибели. На спине у каждой собаки было что-то привязано.
Одна вскоре ткнулась в снег и осталась лежать, но другая продолжала бежать быстрой, торопливой рысью. Вот она уже в мертвом пространстве, где ее не могут задеть пули танкового пулемета, вот — под самым танком…
Внезапно сноп огня вылетел из-под гусениц танка; грозная железная громадина подскочила, потом грузно осела и стала разваливаться на составные части. Далеко в сторону откатилось колесо-каток, порванная гусеница, извиваясь, точно змея, пролетела по воздуху и распласталась на снегу; силой взрыва сорвало башню — движущаяся крепость и люди, сидевшие в ней, перестали существовать.
После боя только и было разговоров, что об этом событии. Еще никто никогда не видел, чтобы собака могла уничтожить танк. А тут это произошло у всех на глазах. И как быстро получилось: раз — и нет танка! Гитлеровцам, наверное, и в голову не могло прийти, что в образе этой животины сама смерть движется на них… Сожалели об одном: вместе с танком погибла и собака.
А под вечер того же дня собаки появились в расположении роты Двинянинова.
Его вызвали к командиру. Он пробирался по длинному извилистому ходу сообщения и вдруг прямо перед собой увидел некрупную черно-пегую мохнатую собаку. Дружелюбно озираясь на сидевших в укрытиях бойцов, она неторопливо бежала по узкому проходу. Позади, удерживая ее за поводок, шел молодой незнакомый боец; за ним следовали еще одна собака и второй вожатый.
Двинянинов посторонился и пропустил их. Солдаты провожали животных веселыми шутками; у каждого при виде собак, столь неожиданно очутившихся вместе с ними в окопе, невольно появлялась улыбка.
В блиндаже отделенный командир предупредил бронебойщика:
— К нам собак прислали, танки взрывать… Видел, наверно? Так ты не подстрели случаем… — И добавил, улыбнувшись: — Тебе, значит, помощники…
Для собак (всего их было четыре: еще две прибыли на следующее утро) отвели отдельную землянку позади линий окопов, куда вел ход сообщения; там они и поселились со своими вожатыми — молодыми общительными парнями — в ожидании своего часа.
Случилось так, что вслед за их прибытием на фронте установилось затишье, гитлеровцы прекратили атаки, и бойцы шутили, показывая на землянку, откуда порой доносился собачий лай:
— Уж не их ли испугались?
Собаки внесли неожиданное разнообразие в жизнь переднего края. К землянке началось настоящее паломничество. Шли и несли гостинцы: кто кусок сала, кто выловленную из ротного котла жирную мозговую кость, кто вскрытую банку консервов… С появлением этих четвероногих товарищей что-то неуловимо мирное, домашнее, о чем всегда тоскует душа солдата, вошло в суровый фронтовой быт. Хоть и не понимает собака человеческую речь, а все равно приятно сказать ей ласковое слово, посидеть подле нее, выкурить цигарку-другую и, запустив пальцы в мягкую собачью шерсть, ощущая тепло живого тела, унестись мыслями далеко-далеко, туда, где ждет солдата семья, а на дворе лает такой же вот Шарик или Жучка…
Это рождало и новую тоску и новую ненависть: тоску по дому, ненависть — к врагу, к Гитлеру и гитлеровцам, ко всем, кто лишает человека законного счастья, хочет разорить землю.
Именно такие чувства испытал Двинянинов, побывав в землянке собак-противотанкистов. Он сделался там частым гостем. Собаки были незлобивы, охотно принимали ласку и угощение. Добродушие как-то странно не вязалось с их опасной профессией. Особенно полюбилась Двинянинову одна — та самая, которую он увидел первой: черно-пегая, в меру рослая, с живыми умными глазами и миролюбивым, приветливым нравом. Ее звали Малыш.
Это была самая обыкновенная шавка, каких тысячи бегают по улицам городов, пока не попадут в ящик к ловцам бродячих собак, — маленькая попрошайка, живущая подаянием, незаметная и ничтожная, но обладающая тем на редкость незлобивым и безответным характером, который свойствен дворняжкам. Пушистый хвост калачом, лисья мордочка и полустоячие уши говорили о том, что она состоит в родстве с лайкой; с тем же успехом в ней можно было обнаружить крови овчарки и других собак.
Еще каких-нибудь три-четыре месяца назад Малыш рылся на помойках в отбросах, дрался с другими такими же бродяжками… Война потребовала большого количества собак, она же призвала на службу дворняжек, являвшихся париями[3] собачьего мира. Оказалось, что многих из них, обладающих достаточным ростом и силой, можно успешно использовать в боевой обстановке.
Вначале за свой добрый нрав Малыш попал в подразделение собак, предназначенных для дрессировки по санитарной службе. Однако очень скоро выяснилось, что он неспособен к длительному поиску на местности, которым, как известно, сопровождается работа собаки-санитара. Зато он мог бежать за куском еды хоть несколько километров, не пугаясь грохота выстрелов, ловко преодолевая все препятствия и проявляя изумительные энергию, настойчивость. И это решило его судьбу. Малыш сделался противотанковой собакой.
В самый трудный период войны, когда противник рвался в глубь советской страны, наши кинологи[4] предложили применить для борьбы с вражескими танками обученных собак. Это были собаки-самоубийцы. Взрывая танк грузом взрывчатки, которую она несла на спине, собака убивала и себя. Щадя породистых животных, в подразделения противотанкистов направляли полукровных или совсем беспородных собак.
Закономерным концом дворняжек считается смерть под забором или петля кошкодава. Теперь им предстояла почетная смерть.
Их обреченность изменила отношение к ним. Если в прошлой бесправной жизни дворняжки не были избалованы заботой человека, то отныне они получали тот же паек, что и породистые животные, стали пользоваться тем же уходом.
Конечно, жаль посылать животное на верную смерть — даже дворняжку; но собаки помогали сохранить жизнь советскому воину.
Именно благодарное восхищение перед безгласным подвигом четвероногих героев прежде всего и заставляло бойцов почаще заглядывать в землянку с животными, угощать их от всей полноты сердца.
— Кушай-ко… — добродушно, со своим характерным уральским выговором на о, басил Двинянинов, кладя перед Малышом гостинец.
— Ты ее, дядя, не перекорми, а то она на танк не побежит, — серьезно говорил молоденький сержант, проводник Малыша.
— А что она голодная-то на него пойдет, — так же серьезно возражал бронебойщик, внимательно следя за уничтожавшей лакомство собакой, словно желая знать и ее мнение. Сам же он рассуждал обыкновенно, по-солдатски: на сытый желудок — и воевать веселее!
Шершавыми пальцами он касался металлической бляшки на ошейнике. На ней было выштамповано: «ПТ-342», что следовало понимать так: противотанковая триста сорок вторая. С тем же успехом она могла быть «сто пятая» или «триста сорок седьмая» — это не меняло сути дела. Суть заключалась в этих двух буквах — «ПТ». Так же, как «ЧП» на военном языке обозначало нечто из ряда вон выходящее — чрезвычайное происшествие, так и буквы «ПТ» говорили о неслыханном доселе предназначении собаки.
Большой интерес возбудили эти четвероногие «ПТ» у весельчака и балагура Миронова. Никто не донимал так бесконечными расспросами вожатых, как Миронов.
— А против броневика можно ее пустить? — спрашивал он, и на его круглом, слегка тронутом рябинами, румяном лице возникало выражение детского любопытства и ожидания.
— Если научить — можно.
— А против пушки? — не унимался Миронов.
— И против пушки можно. Только к ней подойти будет труднее…
Миронов умолкал, но ненадолго.
— А учить долго надо? — хмуря белесые брови, точно решая трудную арифметическую задачу, через минуту справлялся он.
— Это какая собака…
Двинянинов не принимал участия в этих разговорах. Молча он покуривал папиросу-самокрутку, сдержанная полуулыбка освещала его мужественное лицо, а мысли в такую минуту уносились далеко от фронта, на уральскую реку Вишеру.
Суровый и замкнутый с виду, Тимофей Двинянинов обладал доброй и мягкой душой. Человек глубоко мирный по всем устремлениям, он тосковал по мирной жизни, мирной работе.
Дома, на Вишере, у него жена, красавица дочь на выданье, сынишка двенадцати лет. Старший сын, призванный в действующую армию, как и отец, сражался где-то на фронте; Тимофей время от времени получал от него весточки по полевой почте. Дома имелась хорошая двустволка, купленная несколько лет назад в магазине охотсоюза в Чердыни; дома, наконец, ждала лайка Белка, отличная зверовая собака, которую только кликни, и она побежит за тобой в тайгу. Белку-то и напоминал Тимофею безродный черно-пегий Малыш.
Правда, Белка вся белая, лишь около ушей серые пятнышки, и вообще она чистокровная промысловая лайка, заполучить которую стремится всякий мало-мальски уважающий себя охотник; а Малыш всего только походил на лайку, но то, чего ему недоставало до настоящей лайки, дополняло воображение Тимофея. От Малыша его мысли тянулись к крепкой пятистенной избе на крутом яру над быстрой порожистой Вишерой, к знакомой до каждого бревнышка лесной деревеньке, где все от мала до велика — Двиняниновы…
Ой, и хороша же ты, Родина, хорош родной могучий край — Урал! Тимофей смотрел на Малыша, но видел камень Говорливый[5], украшение Вишеры, о котором позаботилась мать-природа; слышал отдаленный гром артиллерии, а ему чудилась гроза в горах…
Прошло несколько дней, и между ним и Малышом установилась тесная дружба. Малыш еще издали чуял приближение бронебойщика и встречал его радостным повизгиванием.
У Тимофея были причины любить собак. Собака спасла ему жизнь.
Однажды зимой, в погоне за росомахой, хитрым, увертливым зверем, который нередко уводит охотника за много километров от дома, Тимофей зашел на лыжах далеко в тайгу; зимний день короток — решил заночевать у нодьи[6]. Белка была с ним.
Ночью поднялся сильный ветер. Бурей свалило громадную сухостойную ель. Тяжелое дерево упало прямо на охотника и придавило его, как могильной плитой.
Сколько ни бился Тимофей, не мог освободиться. Одна нога была сломана, он потерял много крови. Пропадать в тайге!…
Вот тут-то Белка и показала свой ум. Она долго крутилась около беспомощного хозяина, скребла когтями мерзлую землю, пытаясь помочь ему, с жалобным повизгиванием лизала его в лицо. Понимала, что попал в беду… Но что может сделать собака, если бессилен человек? Оказалось — может…
Инстинкт подсказал ей, как следует поступить. Оставив свои бесплодные попытки, она пустилась прочь от лежащего. Сперва Тимофей решил, что она зачуяла дичь и по своей ловчей привычке не удержалась от преследования. Ведь собаку надо гнать, чтобы она ушла от хозяина (да и то не всегда прогонишь!), а тут — убежала сама. Лайка долго не возвращалась; не слышалось и ее характерного позыва-лая, которым она обычно давала знать, что нашла добычу… Куда она? Тимофей ума не мог приложить, что сделалось с его четвероногой охотницей.
Прошел час, прошло два — Белка не появлялась. И вдруг, когда он уже готов был подумать, что она покинула его, послышались людские голоса, поскрипывание снега под лыжами, звонкий собачий лай — к нему спешила помощь. Оказалось, Белка направилась прямехонько домой, подняла там тревогу и привела людей на выручку. Спасла хозяина!
И вот теперь, в землянке, поглаживая мягкую собачью шерсть, Двинянинов вспоминал и это памятное событие, и многое другое. Перед глазами возникала таинственно молчащая и такая понятная ему зимняя тайга; вот он берет ружье, надевает лыжи и уходит на промысел; ровный прямой след ложится позади, Белка то умчится вперед, то возвратится к хозяину; легко и привольно дышит грудь…
— Э-эх, Малыш, — исторгая глубинный вздох, раздумчиво говорил Двинянинов, — пошли бы мы с тобой в урман[7]… И Белка, само собой, с нами… Охота там у нас знатная!…
Он умолкал, поскольку не привык говорить много, а Малыш смотрел в глаза человеку добрыми, сочувствующими глазами, лизал руку — словно понимал.
— Э, дядя, совсем расчувствуешь собаку, — замечал вожатый, почему-то с первого дня называвший Двинянинова не иначе, как дядя. Вероятно, сказывалась разница возрастов.
— А тебе уж не жалко ли?
— Не жалко, а непорядок, — отвечал вожатый с подчеркнутой строгостью; впрочем, строгость оставалась только на словах.
Малыш ластился то к одному, то к другому, выпрашивая подачку или ласку, и, ощутив прикосновение дружеской руки, блаженно замирал… Где ему знать, что никакого урмана ему не видать, что люди давно произнесли над ним свой приговор.
3
Недолгое томительное затишье взорвалось новым яростным натиском гитлеровцев. Передышка требовалась противнику для того, чтобы перегруппировать свои силы и подтянуть свежие резервы.
Сначала немцы решили прощупать советскую оборону. Видимо, с этой целью послали они десяток танков, которые, появившись от далекого, черневшего на горизонте леса, медленно приближались рассыпным строем, время от времени останавливаясь и стреляя, поводя короткими злыми рылами пушек, точно нюхая воздух.
В окопах был дан приказ: до поры не стрелять, подпустить ближе, чтобы поразить вернее.
С напряженным ожиданием бойцы следили за приближением бронированного неприятеля. Пора бы уж открывать огонь… Но лейтенант молчит и с закаменевшим лицом не отрывается взглядом от медленно надвигающегося врага…
Придет день — и, перемолотая, словно жерновами, под ударами советских войск, жестокая, грозящая всему миру сила немецко-фашистских полчищ захиреет, обратится вспять и рассыплется прахом. Но прежде нужно было отбить бешеный натиск первых тяжелых месяцев войны — стоять и выстоять: стоять и сегодня, и завтра… стоять день за днем, невзирая ни на какие испытания, уничтожая танк за танком, одного захватчика за другим.
Танки ближе, ближе… Поглощенные видом наступающего противника, бойцы не заметили, как в окопах появились собаки. Их привели вожатые по ходу сообщения. Они были в боевой готовности, каждая с небольшим тючком на спине.
Внезапно все увидели их. Четыре собаки, раскинувшись веером на снегу, мчались навстречу головным танкам. Двинянинов сразу узнал черно-пегого Малыша, и сердце его сжалось.
— Смотри, смотри! — переговаривались в окопах.
Немецкие танкисты тоже заметили животных и открыли по ним ураганный огонь. Но трудно попасть из танка в такую небольшую и подвижную мишень…
Собаки пересекли уже половину пространства. Еще десять-двенадцать секунд, полминуты — и… Но что это? Танки один за другим быстро разворачиваются; их пушки уже не смотрят вперед, а обращены назад; они прибавляют ходу… Они уходят! Уходят!
Это было так неожиданно и непонятно: танки — эти грозные самодвижущиеся крепости, вооруженные пушками и пулеметами, — испугались собак! Есть от чего прийти в изумление[8].
Кто-то не выдержал и крикнул:
— Ура-а! — И крик этот подхватила сотня голосов. Громкий и страшный для врага, клич этот разнесся над окопами и словно подстегнул убегающие танки, заставив их увеличить скорость.
Раздался резкий переливчатый свист — приказ собакам вернуться. Двинянинов с блеском радости в глазах следил за тем, как Малыш достиг окопа и, целый, невредимый, бодро помахивая пушистым хвостом, спрыгнул вниз, за ним попрыгали в окоп остальные.
— Дела! — обсуждали вечером солдаты дневное событие. — Испугались собак, а? Чудеса! Вот так вояки, здорово пятки смазали!
Очевидцы удивительного поединка, они, как дети, восхищались поведением собак и смаковали подробности позора фашистских молодчиков. Трусость одних прибавляла стойкости и мужества другим. Ближе как бы становилась и желанная победа, словно недавний эпизод и в самом деле имел невесть какое значение.
Бывает ведь так: кажется, ничего не изменилось, а веселей на душе, меньше гнетут постылые заботы.
— Ну, живем, Малыш? — говорил Двинянинов. Малыш… Даже сама кличка говорила о чем-то очень малом и слабом; да собака рядом с человеком и вправду всегда слабейшее существо; и вот — нате вам! — укротила танк… Недаром она носила на ошейнике этот шифр — «ПТ-342»!
Минутами казалось, что всякая опасность миновала, больше ничто не грозит Малышу, и Двинянинов был счастлив: право, ведь это было бы так заслуженно… По-видимому, что-то вроде этого испытывали и вожатые, потому что старались всячески обласкать собак. В действительности все случившееся было для Малыша и его трех товарок всего лишь небольшой отсрочкой.
На следующий день на советские позиции обрушился ливень огня и металла. После артподготовки гитлеровцы снова пошли в атаку. На этот раз двинулось, наверное, не меньше сотни танков; за ними, пригибаясь, бежала пехота.
Словно черная туча саранчи высыпала из дальнего леса. По наступающим открыла огонь противотанковая батарея, скрытая в кустарнике. Вспыхнул один танк, другой, третий… Но остальные движутся, осыпая позиции защитников Москвы градом термитных и осколочных снарядов. Их поддерживают из глубины немецкого расположения орудия крупного калибра и тяжелые минометы.
Горячий, смертельный бой закипел по всей линии обороны. С привычным самообладанием Двинянинов ждал, когда сможет вступить в дело и его бронебойка — «золотое ружье», как прозвали ее солдаты.
Танки приближались, бешено стреляя. Уже отчетливо видны черные кресты — эмблема фашистского насилия над миром, короткие рыльца пушек непрерывно исторгали желтые язычки пламени.
Два танка двигались прямо на Двинянинова. Приложившись, он стал стрелять, тщательно метясь, как на полигоне. Пули забарабанили по броне машины; ему удалось поджечь ее. Но только он хотел перенести огонь на второй танк, как сильный разрыв мины на минуту оглушил, засыпал землей. Когда Двинянинов очнулся и протер глаза, вторая вражеская машина была уже недалеко от него, а бронебойка лежала разбитая, изуродованная.
Двинянинов тревожно оглянулся. И вдруг увидел: вожатый готовит Малыша к атаке на танки. Подняв собаку на бруствер окопа, он что-то скомандовал ей; что именно, Двинянинов не расслышал из-за грохота выстрелов, да это и не имело значения. Три другие «ПТ» уже стлались по земле в стремлении скорей достичь цели, ловко обходя воронки и рытвины, под свист пуль и грохот разрывов бесстрашно лавируя на этом поле смерти.
Два столба пламени взметнулись одновременно, два взрыва потрясли воздух — два вражеских танка перестали существовать, подорванные четвероногими защитниками рубежа. Третья собака была убита шальным попаданием. Однако и мертвую уцелевшие танки тщательно обходили, ибо и мертвая она была опасна им.
Все это автоматически отметила зрительная память Двинянинова, как и то, что Малыш был еще жив и продолжал бежать. Малыш избрал себе танк, двигавшийся не в первом эшелоне, и его черно-пегая прыгающая фигурка, становившаяся по мере удаления меньше и меньше, все еще виднелась на снегу, засыпаемом осколками снарядов и мин, быстро сближаясь с целью.
Но что это? Малыш остановился, сделал несколько неуверенных шагов в одну сторону, в другую — и недвижным комочком застыл на ничьей земле. Лежит. Убит? Ранен? А танки приближаются, они уже совсем близко… Проклятые!
Внезапно над полуразрушенным бруствером поднялась невысокая коренастая фигура в солдатском полушубке и шапке-ушанке. Занеся руку над головой, Миронов кричал, его голос потонул в шуме боя, и скорее сердцем, чем слухом, Двинянинов уловил: «Бей гадов!» Мелькнуло искаженное в крике лицо товарища. В следующий миг Миронов перепрыгнул бруствер и со связкой гранат в высоко поднятой руке метнулся навстречу танкам.
Он пробежал половину расстояния, необходимого для броска, когда злая пуля клюнула его — и он упал. И тогда Двинянинов — он сам не помнил, как это произошло, — полный неутомимого яростного стремления отомстить за товарища, тоже очутился в поле и быстро пополз с тяжелой противотанковой гранатой в каждой руке. Ближний танк двигался прямо на него. Но Двинянинов, хотя и не находился теперь под защитой окопа, не боялся его. Пусть смерть — зато не пройдут фашистские танки! Он сам бросится под ближний из них, чтобы взрывом гранат взметнуть врагов на воздух!
Он не успел привести свой замысел в исполнение. Черная точка на снегу ожила. Малыш тоже полз, на несколько десятков метров впереди. Раненый, истекающий кровью, с оторванной челюстью, на месте которой дергался горячий красный язык, он стремился исполнить приказ. И прежде чем Двинянинов успел понять это, Малыш исчез из поля зрения, слившись с танком…
Тяжкий раскат рванул воздух. На этот раз он показался Двинянинову особенно сильным. Внутри словно что-то оборвалось…
Нет, никогда врагу не бывать в Москве! Схватив винтовку, выпавшую из рук раненого товарища, Двинянинов принялся с ожесточением стрелять по мечущимся среди горящих танков грязно-зеленым фигуркам.
Бой закончился полным поражением гитлеровцев. Еще одна атака фашистов сорвалась, еще один выигранный день приблизил советский народ к победе. Санитары унесли Миронова и других раненых. Снова наступило короткое затишье.
В узкий прорез бруствера Двинянинов долго смотрел на то место, где чернели остатки танка, взорванного Малышом, как бы ожидая, что, может быть, вот-вот там зашевелится что-то живое, выберется из-под бесформенного нагромождения обломков почерневшего обгорелого металла, отряхнется и побежит назад к окопу… Но — нет, ничего этого не было и не могло быть. Только синеватый дымок продолжал виться и тянуться к небу над могилой маленькой безвестной дворняжки «ПТ-342» — скромного друга советского бойца.
ТРУС
Как часто иногда какая-нибудь случайность, на первый взгляд мелочь, пустяк, может причинить непоправимый вред, оставив тяжелый след на всю жизнь…
Приходилось ли вам слышать, чтобы лист железа, подхваченный ветром, мог оказаться поистине роковым, превратив еще вчера здоровое существо в урода, повлиять на формирование всей психики?
Трус… Что может быть постыднее этого прозвища!
Правда, тот, кто носил эту позорную кличку, не был человеком. Это была всего лишь собака, в конце концов, по мнению многих, презренное, ничтожное существо. Но ведь трусость одинаково отвратительна и в людях, и в животных.
Как он стал трусом?
Все началось в тот трижды неудачный день, когда он, веселый и беззаботный, как все щенки, не помышлявший ни о каких бедах, отправился вместе с хозяином на прогулку. Никому и в голову не могло прийти тогда, что из этого может получиться что-нибудь плохое; а вышло…
Что такое творится со щенком? Поскучнел, перестал интересоваться пищей, забивается в угол. От каждого шороха его начинает трясти нервная дрожь. Нос горячий и сухой, шерсть взъерошилась, хвост поджат под брюхом. На подзыв не подходит, лакомство не берет. А хочешь вывести во двор — упирается, делается сам не свой, прячется в испуге под кровать…
Решили посоветоваться с врачом-ветеринаром. Доктор спросил:
— Его не били?
Нет, его не били. Напротив, все баловали его: он был такой живой, веселый щенок — общая гордость. Думали: всегда будет таким резвым, энергичным, смелым…
Стали припоминать, что же все-таки могло случиться с ним. И, наконец, припомнили.
Несколько дней назад, когда шли по улице, возвращаясь с прогулки, поднялся сильный ветер, началась гроза. Всякое животное нервничает в грозу; а тут к этому испытанию еще прибавился слепой случай. Что-то вдруг загремело над головой, слетело с крыши, будто гигантская птица, и накрыло щенка.
Лист железа, сорванный с крыши. Он не причинил никакого физического увечья. Но он на всю жизнь вселил в мозг собаки темный ужас, и вот с этим ужасом она жила теперь постоянно.
Достаточно было слабого звука, неосторожного движения, передвинутого по полу стула, чтобы этот гремящий железным громом темный ужас мгновенно поднимался в ней; и тогда она разом выходила из повиновения, теряла всякую способность нормально слышать, чувствовать, реагировать на окружающее.
Бесполезно было в такие минуты успокаивать щенка, поглаживая или разговаривая с ним тихим голосом, как делают всегда, когда хотят подбодрить животное. Он не воспринимал ничего, в глазах мелькало дикое выражение. Спрятаться, спрятаться, куда-нибудь укрыться с головой от преследующего неотступно невыразимого страха — вот единственное, что владело им; и щенок, не понимая никаких увещеваний, как безумный, весь трясясь, лез под стулья, между ногами людей, забивался за круглую голландскую печь, в самый тихий и укромный угол — только бы дальше, как можно дальше…
Щенку было около полугода, когда нервное потрясение остановило его развитие. Он весь перелинял, перестал расти; шерсть с него сползала клочьями. Чего можно было ожидать в дальнейшем, если он инвалид уже сейчас? Врач посоветовал избавиться от него.
Но куда девать его? На живодерню? Жалко… Щенка продали.
Так началось его путешествие по разным хозяевам, путешествие, полное бесконечных мытарств и унижений.
Частая смена владельцев — и для нормального, здорового животного одно из самых больших зол, как правило дурно отражающееся на всем развитии организма, калечащее психику. Что же можно сказать о забитом, несчастном, больном существе, для которого и в обычных условиях жизнь — нелегкое бремя? Лучше, может быть, действительно было сразу кончить с ним, «усыпив», как предлагал сердобольный доктор: всего дела — один укол… Вышло иначе.
Новый хозяин был неплохой человек. Садовод-мичуринец, уже в преклонных годах, он радел о своих яблочках, полакомиться которыми были не прочь соседские ребятишки, и в этих соображениях приобрел щенка, прельстившись его дешевизной. Условия жизни здесь были вполне сносными: большой двор и сад, по которым пес мог бегать без помех круглые сутки, домик-на окраине, где нет уличного шума, и, возможно, если бы дать время, бедняга в значительной степени вернул бы себе утраченные качества здоровой собаки. Он начал вновь расти, постепенно побеждая свой недуг.
Но беда была в том, что садовод хотел как можно скорее сделать из него «настоящего» сторожа. Не желая ждать, когда тот войдет в силу, окрепнет, достигнет нужного возраста, хозяин сада вскоре посадил щенка на цепь, привязанную к длинной проволоке, натянутой вдоль забора, и этим погубил все.
Шум катящегося ролика над головой, напоминая отдаленную грозу и все, что было связано с нею, приводил несчастного пса в такой ужас, что он начинал метаться на блоке, не помня себя, до тех пор, пока не падал в изнеможении наземь. После этого он заползал в дыру под крыльцом, и уже ничем нельзя было его вызвать оттуда.
Его продали снова.
Худшее пришло со следующим хозяином.
Этот был барышник, во всем видевший только корысть, только средство нажиться. Он и в собаке искал лишь возможность для обогащения. Что для него собака? Вещь, которую можно выгодно купить-продать. С таким намерением он взял ее.
С этого времени жизнь собаки стала адом.
Очередной владелец решил учить ее по-своему: битьем. К этому средству, следует заметить, нередко, увы, прибегают и хорошие люди, забывая, что еще никогда палка не послужила доброму делу… С утра до ночи теперь на щенка сыпались удары плетью, бранные слова; он получал пинки, от которых потом у него долго ныло в животе, нередко оставался голодным, ибо барышник всегда считает, что кормить собаку досыта не к чему, и держит ее впроголодь.
Изрыгая площадную ругань, жестокий и алчный хозяин, свирепевший тем сильнее, чем больше убеждался, что пес не годится для продажи, что много за него не возьмешь, избивал его, испытывая при этом какое-то зверское наслаждение.
Он ненавидел собаку, ненавидел за то, что она труслива, за то, что ему не получить от нее большого барыша. Сколько уже собак, приобретенных по дешевке, он удачно сбыл с рук, извлекая из этого занятия доход; случалось ему и красть их, подделывать родословные, чтобы потом взять подороже, — не брезгал ничем. Он и с новым псом собирался проделать то же самое и теперь считал себя обманутым. А для того, кто привык обжуливать других, оказаться обманутым самому — наивысшая обида.
— У, проклятая! Убью!… — рычал он, замахиваясь, чтобы сорвать на животном свой гнев.
Но он был слишком жаден, чтобы убить, иначе жизнь собаки была бы давно окончена. Убить — значит понести убыток, произвести невозместимый расход. Торгашеская натура восставала против этого.
— Трус ты, трус… зачем ты живешь? — часто повторял он, желая унизить собаку.
От этих неласковых, сказанных низким недружелюбным голосом слов пес прятался под скамью, а потом подползал на брюхе к своему мучителю, пытался положить голову к нему на колени (так уж устроена собака, что даже к тому, кто истязает ее, она тянется за лаской), но тот грубо отталкивал его.
Трус… Его так часто называли трусом, что в конце концов это бранное слово сделалось кличкой. Разумеется, пес не понимал, что это значит, но чувствовал интонацию, с какой оно произносилось, и каждый раз, слыша этот короткий, резкий, подобно пощечине, звук — «трус», вздрагивал, как от удара хлыстом.
Для чего живет такая собака? Кому она нужна?
Но Трус продолжал жить.
Случалось, хозяин выгонял его из дома, зная, что пес никуда не убежит. Ведь такому забитому созданию даже свобода не принесет радости. К чему она ему? Чтоб умереть с голоду?
Как-то Трус лежал у ворот, уткнув нос в щелочку, и жалобно скулил, моля, чтоб его впустили, когда шедший мимо мужчина заинтересовался собакой. Он уже не в первый раз видел ее подвывающей у подворотни. Живя по соседству, он, бывало, слышал и ее болезненный визг, когда на нее обрушивалось неистовство хозяина.
Не боясь, что животное может укусить, мужчина подошел к воротам и постучал. Боязливо ощерясь, Трус все же зарычал на незнакомца и постарался забиться дальше в подворотню. Бедняга, он все-таки охранял этот дом…
На стук долго не открывали. Наконец, в приоткрывшейся калитке показалось хмурое, недовольное лицо.
— Не стучите, гражданин. Не глухие, слышим.
— А если слышите, зачем заставляете собаку выть?
— А вам какое дело? Не ваша собака. — И говоривший поддал ей пинком под брюхо в тот момент, когда несчастная торопилась прошмыгнуть мимо него во двор. Взвизгнув, она отлетела от него. — Надоела, сдохнуть не может…
— Не бейте! Вы изувечите ее!
— Уж не вас ли я должен спрашиваться? — насмешливо осклабился хозяин Труса. — Хочу и буду бить! — И, ухватив пса за ошейник, он занес руку для удара.
Ударить он не успел. Неожиданный заступник Труса поймал его руку и, крепко сжав, удержал ее. Взгляды их скрестились.
— Вам, собственно, что надо?
— Я хочу, чтобы вы перестали истязать животное.
— Заведите себе собственную собаку да и распоряжайтесь ею!
— Тогда я покупаю ее у вас.
Пожалуй, незнакомец и сам не ожидал, как это слетело у него с языка. Еще минуту назад он вовсе не собирался приобретать этого пса. Просто он хотел помочь ему, защитить от побоев, но, поняв, что слова ничего не могут изменить, в какое-то мгновение твердо решил любой ценой вырвать четвероногое из рук его мучителя.
— Сколько вы за нее хотите?
В глазах барышника мелькнул алчный огонек, однако он потушил его, спрятав под маской напускного равнодушия.
— Непродажная…
Но незнакомец уже понял, с кем имеет дело. Не ожидая, пока хозяин Труса назначит цену, он достал из кармана бумажник, отсчитал несколько крупных купюр и протянул их.
— Я думаю, хватит?
Оценивающим взглядом тот быстро скользнул по пачке денег, помедлил немного «для приличия» и взял.
— Берите…
Вот уж никак не ожидал, что найдется чудак, который так много даст за испорченную собаку! Теперь, когда деньги находились в его руках и он пересчитал их, противно мусля пальцы после каждой бумажки, торгаш не скрывал удовлетворения совершенной сделкой.
Однако нового обладателя Труса нимало не беспокоило это. Сняв с себя кожаный пояс, мужчина обвил им шею собаки и, легонько подергивая, ласково позвал:
— Ну, пойдем, пойдем, дружок… Не бойся…
И пес, словно понимая, что и на этот раз его участь решена помимо его воли, покорно поплелся за незнакомцем.
* * *
Конечно, судьба собаки — само по себе слишком незначительное явление в общем водовороте жизни; и, может быть, о ней не стоило бы и рассказывать так подробно, если бы она не переплелась тесно с другими, более важными событиями.
Осенью городок, в котором жили Трус и его хозяин, оказался захвачен войсками врага, начавшего войну против мирной советской страны.
Дела людей недоступны пониманию животных; и смысл происходящего, естественно оставался вне круга представлений Труса, обретшего, наконец, после всех испытаний и потрясений тихую спокойную жизнь в доме, где его никто не обижал, хотя случившаяся перемена вскоре почувствовалась и им.
Ему было уже полтора года, и, как-никак, он превратился в довольно рослую овчарку того типичного для этой породы зонарно-серого или, как принято говорить, «волчьего» окраса, с темным ремнем по спине, который так ценится многими любителями.
Его первые хозяева не узнали бы теперь щенка, от которого под влиянием докторских указок отказались столь поспешно, ибо с возрастом у овчарок меняется не только раскраска псовины, но даже цвет глаз, не говоря уж о формах тела.
Пребывание в заботливых, внимательных руках, хороший уход не излечили его совсем. Он по-прежнему мог вдруг неожиданно испугаться чего-либо, боялся теней, когда в доме зажигали керосиновую лампу или свечу.
А с тех пор как в город пришли немцы, другого освещения не было, и пес все вечера проводил, отлеживаясь под кроватью.
Не стало молока, мяса; вместо хлеба — черная землистая черствятина, которую теперь получали жители, дерущая горло, как комок сухой глины. Только картошки пока еще хватало, но картошка как раз не тот продукт, который любят собаки.
Во всем доме жили теперь только Трус и его хозяин. Все остальные незадолго до прихода немцев уехали далеко на восток, в глубокий тыл. Уехали и многие другие. Городок обезлюдел. Лишь стук кованых сапог да порой резкая чужая речь слышались на улицах.
Жили в одной комнате; и Трусу, если бы он был способен на обобщения, могло показаться, что отныне вся жизнь сосредоточилась в этих четырех стенах. Сюда хозяин перетащил кровать. Здесь он спал, готовил себе пищу, принимал посетителей. В остальных комнатах было холодно, неуютно.
Хозяин задержался, эвакуируя завод. Последние эшелоны с машинами уходили под вражескими бомбами. Спасая оборудование, чтоб оно не попало к врагу, он отстал от поезда. Так случилось, что инженер, один из руководителей заводского коллектива, остался в городе.
Иногда украдкой его навещали рабочие из числа немногих, не уехавших вместе с предприятием. При свете коптилки, занавесив окна, они вели тихие разговоры, а Трус лежал под кроватью и думал свою собачью думу, не понимая, почему с некоторых пор хозяин совсем перестал гулять с ним, редко выходит на улицу, и то больше поздно вечером или ночью, никогда не угостит ничем сладеньким.
Раньше, когда к хозяевам приходил кто-нибудь, на столе сейчас же появлялся никелированный кофейник с горячим душистым кофе, вырастала горка вкусных ватрушек, аппетитно уложенных на красивом блюде, дом наполнялся ароматом еды и веселыми оживленными голосами… Теперь и говорили только вполголоса, часто прерывая тихую беседу и прислушиваясь, а вкусная еда исчезла совсем.
Хозяин Труса, как истинный советский патриот, не привыкший складывать оружие перед врагом, не сидел сложа руки. Под его руководством было организовано несколько актов саботажа в железнодорожном депо и на заводе, где немцы пытались ремонтировать свои танки. Он же с группой товарищей закопал в землю электромоторы, оставшиеся невывезенными в дни эвакуации. Оккупанты хотели отправить моторы и другое машинное оборудование в свой фатерланд; вместо него в Германию уехали ящики с битым кирпичом.
Квартира инженера была центром, куда стягивались все нити этой тайной работы, проводившейся за спиной у захватчиков.
Был поздний вечер. Инженер недавно вернулся со свидания со своими единомышленниками, на котором было решено провести новую диверсию против гитлеровцев. Истопив печь обломками старой мебели, он испек в горячей золе несколько картофелин и теперь, сидя на низком стульчике перед раскрытой дверцей, подсаливал их, медленно ел, задумчиво глядя на рдеющие угли и чутко прислушиваясь к шорохам извне: он ждал к себе товарища.
Света не зажигал, чтобы не навлечь подозрение и не нарушить приказа гитлеровской комендатуры, предписывавшей всем жителям рано гасить огни и ложиться спать. Тот, кто не спал в такой час, сидел в темноте. Тихо потрескивая, угли отбрасывали кроваво-красный отблеск, освещая худое, озабоченно спокойное лицо инженера.
Трус лежал под кроватью, высунув голову из-под свисающего края одеяла, и, не мигая, следил взглядом за хозяином.
Внезапно Трус, покинув свое убежище, вскочил и глухо заворчал. Шерсть на нем встала дыбом, как у всех очень пугливых и чутких собак. Инженер, перестав жевать, замер. В ту же минуту на дверь снаружи посыпались удары.
Нет, это не товарищ. Стук иной… Мгновение инженер колебался, вслушиваясь и быстро соображая, как поступить, затем, все такой же сосредоточенный и строгий, лишь слегка побледневший, направился к двери.
— Сейчас открою! — крикнул он и, сняв цепочку, отодвинул запор.
Дверь распахнулась. Белый луч карманного фонарика ослепил, заставив зажмуриться. Два человека ворвались в квартиру, два револьверных дула уставились на инженера.
— Руки вверх! Не шевелиться!
В немецкой форме, а говорит по-русски без акцента, как будто всю жизнь прожил здесь, в Советском Союзе… Подняв руки, инженер ждал, что будет дальше, готовый ко всему. Добра от такого ночного визита, он знал, не будет.
Продолжая все так же слепить фонарем, пришедшие потребовали, чтобы инженер провел их к себе и зажег свет.
Черные тени от зажженной коптилки побежали по стенам, спрятавшийся под кровать Трус забился дальше в угол. В довершение всего начиналась непогода. Тоскливо завыл ветер в трубе, порывы его сотрясали ставни, гремели листами железа на крыше, словно кто-то пробегал там, топая сапогами. Все эти звуки, пляска теней наполняли сердце Труса безотчетным страхом.
«Однако кто же этот человек, так хорошо говорящий по-русски?» — думал между тем его хозяин. О, Трус узнал ночного гостя куда быстрее, и это вызвало у собаки такой трепет, от которого все тело животного затряслось в неудержимой зябкой дрожи.
При неверном, мигающем свете коптилки узнал его наконец и инженер и тоже содрогнулся.
Мелкая, продажная душонка, человек без совести и чести, барышник надел ненавистный каждому истинному советскому гражданину костюм полицая, став приспешником заклятого врага.
Когда-то мучил животных — теперь выдавал своих бывших сограждан. Это по его наущению вырубили прекрасный фруктовый сад у старика-мичуринца, отдавшего более полувека выращиванию плодовых деревьев. По доносу этого предателя пало подозрение на инженера.
Они пришли, чтобы дознаться, где моторы. А не дознаются здесь — уведут с собой. Впрочем, уведут в том и другом случае…
Инженеру все стало ясно, как только он увидел лицо этого негодяя. Но они все равно ничего не выведают. Нет, нет! Ничего.
Очевидно, в эту ночь здесь должно было произойти что-то ужасное. Инженер ощутил это всем своим существом, но решимость его не уменьшилась, а выросла еще больше.
— Где закопаны моторы? Кто твои сообщники?
Продолжавшие рдеть угли навели врагов на жестокую мысль. Он отказывается отвечать на вопросы? Ну что ж, он еще заговорит. В средствах они не стеснялись.
Выхватив щипцами из печи уголь покрупнее и помахав им в воздухе, чтобы он разгорелся жарче, отвратительно гримасничая, бывший русский поднес его к лицу инженера.
— Будешь говорить?
И снова взгляды их скрестились, как тогда, когда инженер откупил у него собаку.
На бледных губах допрашиваемого проступила насмешливая улыбка. Он презирал этого выродка в гитлеровском мундире, а тот в свою очередь ненавидел инженера, как всякий дурной человек с низкими помыслами ненавидит того, кто лучше, чище, возвышеннее его.
— В последний раз спрашиваю: где зарыл моторы? Отвечай!
Какой противный хриплый голос. Наверное, осип от водки. Вон как несет перегаром.
— Отвечай! Отвечай!
Инженер сделал легкое движение рукой, чтобы защититься от жара, испускаемого углем. Гитлеровец понял это по-своему и, размахнувшись, ударил его. Инженер пошатнулся, и в этот момент на сцену выступил четвертый, до сего времени ничем не напоминавший о себе, участник этой ночной драмы — Трус.
Хозяин, его любимый хозяин в опасности. Пес понял это с первого мгновенья, как эти двое появились в их доме. Инстинкт подсказал ему. А инстинкт еще никогда не обманывал собаку.
Но что он мог сделать, он — Трус? Недаром он носил эту кличку. Другой на его месте залаял бы, загрохотал, пустил в ход клыки, принялся бы рвать врагов. Да другой просто не дал бы им войти сюда, пока сам не пал бы мертвым у порога.
А Трус, вздрагивая от каждого слова, сказанного барышником, втягивая в себя его ненавистный запах, лишь тесней прижимался к стене, стараясь отодвинуться от этого запаха и голоса как можно дальше, дальше, только бы не слышать, не ощущать… Он снова пришел, этот жестокий человек, чтобы мучить его, и пес трепетал, трепетал, как осиновый листик в бурю.
Но когда раздался звук удара и инженер застонал слегка, что-то вдруг случилось с Трусом. Извечная преданность человеку, привычка… нет, даже не привычка, а желание, необоримая страсть защищать его, всосанная с молоком матери, мощно заговорила в нем. Она победила страх, и, высунувшись из-под кровати, пес, что было мочи зарычав на весь дом, чтобы подбодрить себя и заглушить собственную трусость, впился зубами в ногу предателя.
Испуганный не столько болью, сколько внезапностью, тот, закричав, рванулся и упал, а инженер в ту же секунду, точно ожидавший такого оборота событий, схватил стул и со страшной силой опустил его на голову второго гитлеровца. Падая, немец ударился виском об угол печи и больше не поднялся. После этого инженер бросился на предателя, все еще удерживаемого за ногу живым капканом. Мигалка потухла, не рдели больше и угли, в темноте слышались лишь тяжелое дыхание борющихся да рычание собаки.
Через минуту все было кончено. Поднявшись с пола и отдышавшись, инженер некоторое время прислушивался, затем, как бы только сейчас осознав, что, кроме него, в комнате находится еще одно живое существо, негромко произнес усталым после борьбы и пережитого нервного напряжения голосом:
— Спасибо, друг.
В ответ пес молча помахал в темноте хвостом.
Странное дело, но, казалось, теперь это был совсем другой пес, куда более смелый, переставший бояться многих страхов. Он уже не пугался стука ставня и, вылезши из своего логова под кроватью, безбоязненно обнюхивал неподвижные тела, лежавшие на полу. Он обрел свою силу.
Не зажигая огня, инженер быстро обыскал мертвых врагов и забрал их оружие. Пес в это время стоял рядом и дышал у него над ухом.
— А теперь надо поскорее уходить. Верно? — продолжал вполголоса разговаривать с собакой инженер, уже снова спокойный и уверенный, как всегда.
По привычке он завинтил печь, чтобы не случилось пожара, и только тогда направился к двери. Трус следовал за ним.
Впрочем — почему Трус? Зачем эта оскорбительная кличка? Теперь он был верный Друг, выручивший хозяина в трудную минуту!
…Через час они были уже далеко от города и, подстегиваемые ветром, быстро шли по дороге к лесу. Они уходили к партизанам.
О ЧЕМ НЕ ГОВОРИЛОСЬ В СВОДКЕ
Тот, кому в годы Великой Отечественной войны довелось сражаться на Северо-Западе, не забыл, конечно, «полоцкий рукав», в течение довольно продолжительного времени неизменно упоминавшийся во всех штабных сводках. «Полоцкий рукав» был бельмом на глазу у нашего командования, руководившего этим участком фронта.
— Что за «полоцкий рукав»? — спросит читатель, которому в ту пору было всего несколько лет от роду.
Терпение, не все сразу. Прежде — о географии того района, где развернется действие нашего рассказа.
Если мы взглянем на карту нашего отечества, то в северо-западном углу ее, пониже Ленинграда и левее старого русского озера Ильмень, там, где близко сходятся границы пяти советских республик — Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и РСФСР, мы увидим много зеленой краски. Здесь густые леса и непроходимые топи, в которых тонет не то что человек, даже лесной житель — волк. Эти дебри хорошо послужили советским партизанам в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Именно из этих лесов зимой 1941—1942 годов вышли в лютую стужу и метель двести колхозных подвод, сумевших под носом у гитлеровцев проскользнуть через линию фронта и доставить в осажденный Ленинград продукты питания.
В этих местах уже после войны была построена мощная межколхозная гидроэлектростанция «Дружба народов», питающая электрической энергией окружающие сельхозартели — белорусские, литовские и латвийские. Воздвигнутая силами колхозников-строителей трех братских республик, она явилась как бы символом единения советских людей, входящих в дружную семью социалистических наций.
Но это радостное событие, как мы уже сказали, произошло значительно позднее. Должно было совершиться много исторически важных деяний, чтобы эта сельская ГЭС могла подняться над водами озера Дрисвяты и зажечь в окрестных деревнях и селах лампочку Ильича; а в то время, к которому относится наш рассказ, дружба народов Советского Союза проявлялась прежде всего в том, что они совместными, скрепленными кровью усилиями били зарвавшегося врага, изгоняя его с родной советской земли.
Вот в этих-то местах, после того как немецко-фашистское нашествие было остановлено и враг под напором советских армий вынужден был попятиться, и произошло то, о чем вы узнаете дальше.
Однако не будем долго испытывать терпение читателя: что же все-таки за «полоцкий рукав»?
Все нарастающая сила ударов советских войск заставила гитлеровцев перейти к обороне. Они не чувствовали себя уверенными и в тылу: леса кишели партизанами. Тем не менее гитлеровское командование упорно цеплялось за каждую возможность удержаться, закрепиться, сковать нашу активность и сохранить плацдармы для своего нового, так и не состоявшегося, наступления.
В этом обширном районе, издавна служившем историческим полем битвы между народами нашей страны, отстаивавшими свою независимость, и захватчиками, приходившими с запада, где не раз бесславно оканчивались попытки чужеземных завоевателей захватить искони славянские поля и нивы, линия советско-германского фронта была особенно причудливо изломанной. Она то врезалась в расположение противника, то слегка выравнивалась, отходила к востоку, с тем чтобы уже через километр-два снова сделать резкий поворот… Для всякого мало-мальски сведущего в вопросах военной стратегии человека одного взгляда на карту было достаточно, чтобы безошибочно определить, что все эти клинья и клинышки были нацелены на запад и не сегодня-завтра могли послужить исходными рубежами для решительного броска наших войск; и только в одном месте длинная узкая полоса захваченной врагами земли вторгалась глубоко в освобожденную территорию, тая в себе постоянную угрозу. Это и был «полоцкий рукав».
Полоска земли имела огромное значение. По ней проходила железная дорога, по которой неприятель подбрасывал свежие резервы, боеприпасы, технику. Неоднократные попытки с нашей стороны перервать коммуникацию, срезать «рукав» оканчивались неудачей. Гитлеровцы сильно укрепились, вгрызлись в землю, понастроили дотов и дзотов[9].
Был дан приказ партизанам взорвать дорогу. Не удалось. Дорога тщательно охранялась. Немцы вырубили вдоль нее широкую полосу леса, так что подобраться к ней незамеченным было совершенно немыслимым делом: через каждые сто метров стоял часовой, через каждый километр — сооружена огневая точка.
«Полоцкий рукав», несмотря на все усилия ликвидировать его, продолжал служить противнику, и существование его являлось серьезной помехой для выполнения планов советского командования.
В один из дней в штабе партизанского соединения, действовавшего в тылу у немцев, в районе «полоцкого рукава», была получена радиограмма с Большой земли: принять ночью самолет.
В глухую полночь, когда можно ориентироваться только по звездам, на просторной лесной поляне партизаны зажгли, как было условлено, три костра и стали с нетерпением ждать вестника с «Большой земли» — с родной советской земли, не оскверненной пятой оккупанта, с Москвой в центре, с заводами и фабриками, работающими на оборону, с глубоким, недосягаемым для врага тылом. Большой землей (по примеру полярников, зимующих где-нибудь на островах Ледовитого океана, в отрыве от материка) называли свою гордость Родину, мать Родину, не подпавшую под фашистское владычество, те советские люди, кому довелось в военные годы оказаться в тылу врага, на временно оккупированных им территориях.
Наконец, ветер донес с востока слабое жужжание. Звук приближался, постепенно превращаясь в рокот мотора. Летел У-2, маленький учебный самолет-биплан, незаменимый там, где нет оборудованных посадочных площадок и где нужно пролететь скрытно от врага, прижимаясь к земле. Вот он, невидимый в черноте осенней ночи, уже где-то над головой… Партизаны беспокоились, как бы в такой кромешной тьме летчик не разбил самолет.
Машина, нацеливаясь на посадку, пролетела низко над лесом, едва не коснувшись вершин деревьев, вернулась назад, сделала круг, рокот мотора внезапно стих, и биплан быстро пошел на снижение. В тишине было слышно, как свистел ветер в растяжках крыльев, как колеса коснулись земли. Самолет подскочил раз, два, прокатился сотню метров по траве и затих, остановившись как раз в назначенном месте, между двух костров.
Партизаны, радостно взволнованные, бежали к нему. Но каково было их удивление, когда первой из самолета спрыгнула наземь… собака. Попрыгав около машины, чтобы размяться после долгого сидения в тесной кабине, и совершенно не обращая внимания на окружающих, она села. Вслед за нею на землю спустился молодой подтянутый солдат с автоматом на шее. Одной рукой он придерживал автомат, в другой был зажат конец длинного поводка. Затем появились еще одна собака и еще один боец, ее вожатый. Наметанным глазом найдя среди встретивших того, в ком он сразу признал командира, спустившийся первым, невысокий, коренастый, удерживая собаку за поводок около себя и вытягиваясь в струнку, четко отрапортовал:
— Сержант Стручков со служебной собакой Динкой и рядовой Майборода с собакой Курай прибыли в ваше распоряжение!
— Со счастливым прибытием! — приветствовал их командир партизанского отряда, поочередно крепко пожимая обоим руки.
Точно так же он поздоровался с летчиком, который уже был знаком ему по прежним прилетам. Вокруг толпились партизаны. Тревожно-красный свет костров освещал их суровые мужественные лица, совсем юные и заросшие бородами, улыбавшиеся в эту минуту; поблескивало оружие, с которым народные мстители не расставались даже во время сна; слышались радостные возгласы. Позади, за спинами людей, зубчатой черной стеной, затаившийся и мрачный, стоял лес.
Прибывших повели в командирскую землянку, в глубь леса. Собаки степенно шли рядом со своими вожатыми, повинуясь их малейшему знаку. В землянке, укрытой в дремучей чаще, при свете крохотной электрической лампочки, зажигавшейся от автомобильного аккумулятора, Стручков вручил командиру партизанского отряда пакет под пятью сургучными печатями.
Тем временем партизаны, оставшиеся на охране самолета, продолжали с интересом обсуждать событие, показавшееся многим удивительным: им прислали собак — для чего? Караулить партизанский штаб? Но для этой цели они могли давно завести не одну деревенскую дворнягу! И если не сделали этого, то лишь потому, что лесные воины избегали держать собак в лагере: нечаянным лаем неразумная животина могла выдать врагу их местонахождение.
Они не выказали большого восторга при появлении четвероногих, столь неожиданно прибывших к ним по воздуху. «Еще лаять начнут — один только грех! Не скажешь ведь им: молчи, а то немцы услышат!… Хотя, видать, собаки не простые…» — рассуждали партизаны. И опять возвращались к интригующему вопросу: для чего все-таки прислали собак?
Эта ночь надолго запомнилась сержанту Алексею Стручкову и его молчаливому товарищу Андрею Майбороде: они летели через фронт под обстрелом зениток врага, в сплошной завесе из огненных разрывов; самолет швыряло туда и сюда, потом в крыльях и фюзеляже было обнаружено множество пробоин. К счастью, легонький самолетик, носивший у немцев кличку «русс-фанер», выдержал это испытание. Больше всего два товарища тревожились за собак, впервые совершавших такое путешествие. Однако обе отлично перенесли его.
Самолет в ту же ночь, захватив с собой двух тяжелораненых партизан, улетел обратно, а Стручков и Майборода со своими четвероногими остались.
Отряд народных мстителей, куда они прибыли, состоял из людей самых различных национальностей. В нем были русские, белорусы, латыши, литовцы, евреи, был даже один азербайджанец, перед самой войной приехавший в эти края по торговым делам в командировку да и застрявший здесь. Неутомимый и предприимчивый, всегда в отличном расположении духа, всегда готовый петь, плясать, смеяться и шутить, вообще — парень хоть куда, он в короткий срок сделался в отряде необходимейшим разведчиком и связным. Спаянный нерушимой дружбой, отряд был грозой оккупантов. Он контролировал обширный населенный район, куда немцы не отваживались даже сунуть носа. И в глубине лесов по-прежнему продолжали существовать колхозы, проводились колхозные собрания, свято соблюдался Устав сельскохозяйственной артели. Артельно слушали по радио сводки с фронта, артельно сеяли и собирали хлеб, а потом переправляли его в лес, к партизанам…
Как братьев приняли в отряде и посланцев Большой земли, представителей героической Советской Армии — разбитного, подбористого Стручкова и несколько медлительного, невозмутимого, но страшного в рукопашной схватке, каким и подобало быть истинному потомку запорожских казаков, Майбороду. Только на собак продолжали коситься. Уж очень необычно было их присутствие у партизан.
Отношение переменилось после того, как Стручков и Майборода продемонстрировали перед партизанами выучку животных, заставив их по команде ложиться, вставать, переползать с одного места на другое, исполнять различные приказания. Обе собаки были превосходно выдрессированы и повиновались малейшему знаку.
Особенно четко работал Курай — рослый, сильный, добродушного нрава пес. Все команды он выполнял с поразительной точностью. Зато Динка — некрупная овчарка волчьей окраски, более резвая по темпераменту — превосходила его быстротой.
— Эк, забодай тебя комар… Как в цирке! — восклицал, глядя на собак, один из старейших по возрасту партизан-белорус, крепкий, кряжистый старик с длинной бородой, к которому в отряде относились с величайшей почтительностью.
— А все-таки беспокойство с ними, — говорил он через полчаса, обращаясь к Майбороде. — При нашем таком положении остерегайся всего. Услышит что-нибудь в лесу, зашумит — ну, и пропала твоя голова!
— Та она ж умная, понапрасну брехать не будет… Зачем ей брехать? Пищу ей дадут, от противника оборонят… — растягивая слова, с улыбкой отвечал Май-борода. — Не будет брехать. Вот зробим дело, ще побачишь…
— Животная есть животная, — стоял на своем старик. — Ты ей не разобъяснишь, чего можно делать, а чего нельзя… Иной человек и то не все понимает!
— А почему не объяснишь? — вмешался в спор сержант Стручков. — Можно и объяснить. Скажем, к примеру, взорвать у немцев дорогу — она взорвет…
— Шутишь!
— Нисколько…
Никто на первых порах не принимал всерьез этих разговоров, а меж тем именно в этом и заключалась цель прибытия двух бойцов собаководческого подразделения с обученными животными. Собаки должны были сделать то, чего не смогли выполнить партизаны: взорвать железную дорогу, по которой немцы подвозили подкрепление к фронту. Задание было связано с ликвидацией «полоцкого рукава» в целом, и выполнения его с нетерпением ждали в штабе фронта.
Легко сказать — взорвать… Именно при попытке подобраться с запасом взрывчатки к полотну дороги были тяжело ранены те два партизана, которых пришлось отправить на излечение в госпиталь на Большую землю. И это была уже не первая потеря, понесенная партизанами в районе «полоцкого рукава». Более того. Каждая подобная попытка грозила серьезными осложнениями всему отряду, так как, напав на след отряда, гитлеровцы уже не оставят его в покое. Действовать нужно крайне осторожно и только наверняка.
Эту мысль внушал Стручкову и Майбороде командир отряда, отправляя их в разведку. В качестве проводника вызвался идти старый белорус, любивший к месту и не к месту повторять «забодай тебя комар», что могло обозначать у него и похвалу и порицание, радость и огорчение.
Ананий Каллистратович Марайко-Маралевич — так звали седобородого партизана — знал эти леса, как свою хату, спаленную гитлеровцами. В молодости он в течение многих лет был проводником в отряде лесоустроителей, потом долгое время служил лесообъездчиком. Он изучил здесь каждую тропинку, ему было знакомо каждое деревцо.
Сопровождающими были низенький, черный, как жук, азербайджанец с длинным именем Гуссейн оглы Магомет ага Сафаралиев, «пророк Магомет», как прозвали его партизанские остряки, или коротко Гуссейн, и светловолосый, с курчавой русой бородкой и ясными голубыми глазами, стройный молодой колхозник литовской сельхозартели имени Адама Мицкевича Альгердас Лауретенас, которого все называли попросту — Алик.
Если веселый, живой, как ртуть, Гуссейн мог трещать без умолку все двадцать четыре часа в сутки, то из Алика Лауретенаса невозможно было выжать и слова. Про него знали, что мать и отец его погибли от рук гитлеровцев, невесту угнали на каторгу в Германию. Неутешный в своей скорби, с детским простодушием человека, только вступающего в жизнь, Алик дал себе обещание: не брить бороды, пока не вернется его Мария или пока случай не поможет ему вызволить из беды советского человека. Он напоминал силача-литвина Лонгина Подпипенду из романа Сенкевича «Огнем и мечом», давшего торжественный обет не жениться до тех пор, пока не срубит одним ударом меча три вражьих головы. И сила у него была такая же.
Русский, украинец, азербайджанец, литовец и белорус — четверо молодых и один старый — такова была группа, которой поручалось произвести подрыв железной дороги в тылу у немцев, без чего советское командование не могло приступить к осуществлению более широких замыслов.
Они вышли после захода солнца, когда стемнело, и шли всю ночь до рассвета, старик Маралевич — впереди, остальные, гуськом, — за ним. Собаки в разведке не участвовали.
Ночью партизаны в лесу хозяева. Можно было даже не остерегаться особенно: ночью в лес фриц не ходит — боится. Но едва начало светать, поведение проводника резко изменилось: он прислушивался к каждому шороху, вглядывался испытующе в каждый кустик и шел совершенно неслышной легкой походкой, так не сообразовавшейся с его возрастом. Его примеру старались следовать остальные.
Уже совсем посветлело. Розовые полосы протянулись на востоке, лес уже не стоял сплошной темной массой, а разделился на отдельные группы кустов, деревьев.
Впереди обозначился просвет. Маралевич опустился на колени, махнул рукой, предлагая и другим поступить так же, и пополз сначала на четвереньках, затем — все больше прижимаясь к земле.
Место было сырое, низменное, и пока они добрались до кромки леса, все вымокли до нитки. Руки, ноги были в жидкой липкой грязи и болотной тине, облеплены травой и пожелтевшими листьями. Но именно здесь и можно было надеяться с наибольшими шансами на успех подобраться скрытно к объекту их разведки.
Вот и конец леса… Они залегли. Дальше начиналось вырубленное пространство. Там и сям поблескивали оконца воды, пахло болотной гнилью. Вместо леса — частокол высоких пней, лежащие в беспорядке — стволы берез и ольх, медленно засасываемые трясиной, уже начавшие покрываться плесенью. Настоящий лесной завал, какой устраивали в старину на путях движения неприятеля! А за ним — дорога: ровная аккуратная насыпь, тускло поблескивают две нитки рельсов, будто клавиши — шпалы, а по ним, словно заведенный манекен, методично, размеренно шагает часовой в глубокой, как ведро, каске, с ружьем наперевес. Пятьдесят шагов в одну сторону, пятьдесят — в другую. Встретился с соседним часовым, повернулся — разошлись; встретился с другим, в противоположном конце своего участка, опять поворот кругом — опять разошлись. И так — без перерыва.
— Н-да… — шепотом протянул Стручков, слегка прищуренными, острыми, как у рыси, глазами провожая каждый шаг часового. — Стерегут, гады, крепко. Чуют беду…
Теперь все руководство разведкой переходило в его руки. Старик Маралевич сделал свое — довел; с этого момента Стручков и Майборода должны были сами наметить для себя план будущих действий с учетом особенностей того оружия, которое собирались пустить в ход. Дело партизан — помогать им.
Издали донеслось пыхтение паровоза — шел поезд. Разведчики дождались его. Это был товарный состав: два десятка наглухо закрытых вагонов с часовыми на тормозных площадках — вероятно, боеприпасы. Стручков засек время и постарался определить скорость движения поезда. Для успеха будущей операции это имело немаловажное значение.
Поезд скрылся за поворотом, а они еще долго прислушивались к его постепенно затихавшему шуму.
— Пошли? — тронул Стручкова за плечо старый партизан.
Долго оставаться здесь было небезопасно. Сержант, соглашаясь, кивнул. Он уже успел изучить местность, запомнил ее, как способны запоминать только разведчики и топографы.
Тем же порядком — сначала на животе, потом на четвереньках и в заключение поднявшись в полный рост — разведчики выбрались из опасного места и двинулись в обратный путь. Шли не останавливаясь, торопясь уйти дальше. Стручков был молчалив: мысленно он набрасывал план предстоящей операции,
— Ну, пророк Магомет, что ты насчет этого скажешь? — проговорил он наконец, когда отошли на порядочное расстояние. Стручкову нравилась сметливость и общительность Гуссейна, и между ними уже успели завязаться дружеские отношения.
Тот покрутил головой.
— Ай трудно будет, товарищ сержант! Что тут собакой сделаешь, не понимаю! Не понимаю!
— Пророк, а не знаешь! — насмешливо сказал Стручков, сохраняя серьезное выражение лица.
— Зробим — поймешь, — резонно заметил Майборода.
Они ускорили шаг, чтобы успеть вернуться засветло: так наказывал командир отряда.
— Эх, шашлыка бы теперь, а? Неплохо? — говорил в тот же вечер Гуссейн, отдыхая после тяжелого перехода, только что опустошив котелок жирных щей и уписав полкаравая хлеба. Был тот час, когда все в партизанском лагере настраивались на мирный лад. В воздухе носился запах ужина, чуть слышно шелестели засыхающей листвой деревья. Мир и покой.
— Краще галушек нема во всем свити, — возразил Майборода, аппетит которого не уступал гастрономическим наклонностям азербайджанца. Желтый лист тихо опустился сверху прямо на ржаной кусок, зажатый в руке Майбороды; тот осторожно снял его.
— А! Галушки, галушки… — сразу закипятился Гуссейн. В вопросах кулинарии он чувствовал себя знатоком и мог спорить до бесконечности. — Шашлык! Харчо! Это хорошо! Приезжай к нам в Баку, угощу — пальчики оближешь! Приезжай, пожалуйста!
— Ребята, когда кончится война, поедем все в гости к Гуссейну, — предложил кто-то из молодых партизан.
— Пожалуйста, приезжай! Всех зову! И тебя, и тебя… Дорогим гостем будешь! Прошу!
— Вот побьем фрица и приедем. Все приедем.
— Пробовал я харчо, когда ездил перед войной на Кавказ отдыхать. Путевку мне дали, — задумчиво произнес Стручков, а мысленно все был там, где, как маятник, ходил немецкий часовой. — Ну… кушанье! Палит, как огнем!
— Ай хорошо! Здоровый будешь! Перец полезный! Ай-яй!
— Вот пойдешь на диверсию — дадут тебе германцы харчо! Подсыплют перцу — вспотеешь! — добродушно заметил Марайко-Маралевич. Сидя на своем излюбленном месте на березовом пне, с большой обкуренной глиняной трубкой в руках, он с интересом прислушивался к разговорам молодежи, а в голове шли свои думы.
«Где-то мои сынки?» — думал старик. Три сына его были в армии и сражались на фронте против гитлеровских захватчиков, четвертый — инженер — в первые месяцы войны эвакуировался с заводом в глубокий тыл, на Урал. Ананий Каллистратович гордился сыновьями, но никогда не вспоминал о них вслух, как почти никогда не рассказывал о поистине легендарном походе через топи и леса, через линию огня с обозом продуктов для блокированного, но борющегося, отбивающего все наскоки врага города-героя Ленинграда.
Ведь это он, старик Маралевич, вел тогда обоз. Помирать будет — не забудет разрумяненные с мороза лица возчиков и счастливые, исхудалые — ленинградцев, когда они, наконец, пересекли фронт и выбрались к своим. С каким чувством они проехали тогда по заснеженному Невскому… Ведь каждый центнер зерна, каждый килограмм крупы, сала — это была спасенная жизнь! Да, старик Маралевич не отставал от сынов, есть еще порох в пороховницах!… И, слушая молодых, порой вставляя слово-два, Ананий Каллистратович будто и сам молодел душой.
Только Алик не принимал участия в общей беседе. Сидел, слушал, иногда улыбался печальной улыбкой и — молчал.
— Не кручинься, Алик, — говорил ему Стручков. — Что случилось, того не вернешь. Держи голову выше, больше злости будет. Пойдем на операцию — отомстим за твоих!
Но прошло около недели, прежде чем они смогли отправиться на выполнение боевого задания. Командир отряда ждал агентурных данных: с ближней узловой станции должны были сообщить, когда пойдет большегрузный воинский эшелон немцев. Бить так уж бить, чтобы было чувствительнее!
Наконец, однажды под вечер в лагерь прискакал на взмыленной лошади паренек из села и, спрыгнув наземь, бегом направился к командирской землянке. Через несколько минут туда позвали Стручкова и старика Маралевича, а еще через четверть часа маленький отряд — снова впятером, как и в первый раз, — находился уже на марше. Теперь с людьми были и собаки.
Снова Ананий Каллистратович — боевой, заслуженный проводник — вел товарищей только одному ему известными тропами. На большак не выходили. Всяких случайных встреч — будь это даже свой брат-поселянин — тщательно избегали.
И вот опять на рассвете они — на заветном месте. На собаках — петельные намордники[10]: чтобы не залаяли часом, зачуяв чужого. В пути грузом их не обременяли, чтобы больше сохранилось сил для рывка, когда даст команду вожатый; теперь же — надели на спины небольшие вьючки. Во вьючках — взрывчатка, в количестве достаточном, чтобы не только подорвать полотно дороги, но поднять на воздух паровоз и вообще произвести серьезное разрушение.
Роковой момент близился. По плану, выработанному Стручковым, первым спускали Курая. Если его убьют или он почему-либо не выполнит приказа, пойдет Динка.
Они лежали и ждали — два человека и две собаки, составлявших в этот момент одно целое. Перед ними в нескольких десятках метров маячил на насыпи часовой, ходивший все так же размеренно, однообразно, как будто это был все тот же солдат, которого они видели неделю назад. Позади, в сотне метров, лежал в траве Гуссейн; еще дальше, в полукилометре, ждали взрыва старик Маралевич и Алик.
Но поезд все не шел, и нужно было ждать, считая томительно долгие минуты, слагавшиеся в часы. Собакам надоело лежать неподвижно, они порывались встать, приходилось успокаивать их. Неужели агентурная разведка дала ошибочные сведения? И тут вдали послышался шум приближавшегося поезда.
Вот когда напряглись все нервы. Стручков следил по часам за каждой секундой, стараясь определить тот миг, когда следует пустить собаку, чтобы она сбросила свой груз прямо под колеса паровоза, а у самого стучало в мозгу: как бы не ошибиться! Надо было правильно рассчитать быстроту движения поезда и скорость бега собаки. От этого зависело все.
Поезд уже близко. Пора!
Поводок отстегнут, намордник сброшен.
— Вперед, Курай! Вперед!
Курай мгновенно рванулся вперед. Секунда — и он уже на открытом пространстве. Немец не видел его — смотрел в сторону поезда. Очень хорошо, пускай дольше смотрит. А поезд длинный, не меньше полусотни вагонов: наверное, и груз, и живая сила.
Но почему медлит Курай? Это завал леса мешает ему быстро пересечь открытую зону. Громадные стволы и торчащие во все стороны сучья преграждали ему путь. Он прыгнул на один ствол и, поскользнувшись на его осклизлой поверхности, сорвался, больно ударился о что-то, но тотчас же сделал новый прыжок и продолжал свой бег. Он достиг насыпи, он устремился по ней вверх… Но — поздно. Поздно! Поезд уже гремел над его головой. Стручков ошибся: поезд шел быстрее и достиг намеченного сержантом пункта раньше, чем тот предполагал. Только на какие-то две-три секунды, но они решили исход. Не зная, что ему делать теперь, Курай беспомощно топтался на бровке насыпи, а в метре от него, постукивая на стыках рельсов, быстро катились колеса вагонов.
Часовой увидел собаку. Он не понял, что означает ее появление здесь, но все же сразу вскинул винтовку, прицелился. Выстрел… и в то же мгновение — свисток: вожатый призывал овчарку назад. К счастью, немец промазал; Курай повернулся и стремглав полетел вниз по откосу. Вслед ему захлопали выстрелы, но с тем же результатом. Часовой, видать, не был снайпером. Вот Курай уже у леса, вот он мелькнул еще раз желтовато-серым пятном и исчез за деревьями.
Стручкова и Майбороды уже не было на прежнем месте: подобно Кураю, они поспешили прочь отсюда, как только увидели, что гитлеровец заметил собаку и их присутствие обнаружено. Курай обнюхал след и вскоре нагнал их.
Обратно возвращались мрачные. Задание провалено, диверсия не удалась. А хуже того, что немцы теперь примут дополнительные меры предосторожности, сызнова к ним здесь не подойдешь — услышат. Не поможет и четвероногий диверсант.
— Эк, забодай тебя… Не вышло! — сокрушенно повторял дорогой Ананий Каллистратович. — И как сперва-то все гладко шло… Самую малость, значит, только и не подгадали? Обидно!
Сейчас он не говорил уже, что от собак одно беспокойство, и досадовал, что все сорвалось из-за пустяка. Остальные хмуро молчали. Притих на время даже неугомонный и неунывающий Гуссейн. Собаки, словно понимая, что случилось что-то неладное, трусили рядом с вожатыми, поджимая уши и опустив хвосты.
На другой день в партизанском штабе состоялся генеральный совет. Решали: что делать. Приказ командования должен быть выполнен, но — как?
Пока в землянке продолжался этот совет, на поляне у костра, где варились ароматные партизанские щи, происходило другое совещание. Заводилой там был Гуссейн.
— Я предлагаю, — горячился Гуссейн, — послать меня, тебя, тебя… — тыкал он пальцем в окружающих. — Послать, чтоб взорвали, хоть ценой жизни! А чего бояться? Я смерти не боюсь! Я советский человек, я защищаю Родину, свой дом — я ее не боюсь! Пускай она меня боится! Правильно я говорю?
— Правильно! — поддержал его хор голосов. Партизанская молодежь жадно внимала словам пылкого азербайджанца. Ни для кого уже не было секретом, зачем ходила группа Маралевича с собаками, и каждый остро переживал неудачу.
Подал голос даже Алик Лауретенас, застенчивый, но отважный юноша. Он тоже готов был идти на подвиг и смерть. Вызвались и другие. Недостатка в смельчаках не ощущалось.
— Пойдешь ты, пойду я, пойдем все!… — продолжал ратовать Гуссейн. Смуглое лицо его покрылось пятнами румянца, черные, яркие, как маслины, глаза сверкали. — Неужели не выполним приказа командования? Выполним! Обязательно выполним!
Однако всем идти не пришлось. Из землянки вышли командир, комиссар и другие, принимавшие участие в совете. Командир выслушал Гуссейна и сказал окружавшим его партизанам:
— Спасибо, товарищи! Но умереть дело нехитрое. Надо жить! Если все умрем, кто врага прогонит? Штаб уже принял решение.
Ананий Каллистратович предложил на совете такой план. Пытаться еще раз взорвать дорогу у болота — бесполезно. Незачем соваться и вблизи от этого места. Немцы начеку. Но незачем и совсем отказываться от идеи использовать для этого собак: убедившись самолично, как они могут действовать, он настолько уверовал в их способности, что и слышать не хотел поставить на них крест, не испробовав до конца. Надо повторить попытку на другом участке, скажем километров за восемьдесят-сто, и в таком пункте, где гитлеровцы меньше всего ожидают нападения. Таким пунктом может быть только мост. Правда, там трудные подходы — вода, топь, густые заросли камыша. Но камыш может даже оказаться полезным: легче маскироваться, а плавать собака умеет… (После того, что он уже видел, старик не сомневался, что она сумеет сделать и все остальное). Правда и то, что гитлеровцы построили около моста укрепленный блокгауз и держат там целый гарнизон, но как раз многочисленность врага может притупить у него бдительность.
План приняли.
Оставался еще такой вопрос: когда пойдет новый эшелон немцев. Но это затруднение сразу же разрешил комиссар, сказавший:
— На фронте идут напряженные бои. Не сегодня-завтра начнется решительное наступление наших войск. Так что немцы будут подбрасывать подкрепления к фронту непрерывно. Ждать не будем, надо сразу выступать.
За двое суток группа подрывников проделала пешим порядком по лесным тропам около восьмидесяти километров. Ананий Каллистратович сумел значительно укоротить дорогу тем, что вел напрямик. Если бы придерживаться более проторенных путей, вышло бы все сто.
У всех ныли ноги, когда заканчивали этот переход, нелегкий даже по хорошей дороге. И только седовласый партизан, казалось, не испытывал никакой усталости.
На последнем привале, не доходя до моста несколько километров, группа разделилась. Стручков с Динкой и стариком Маралевичем, Гуссейном и Аликом направились прямо к мосту; Майборода с Кураем, в сопровождении трех других партизан, пошли дальше.
Задумали для верности так: если не взорвет Динка, попытку на следующем перегоне должен повторить Курай.
Река… Переправившись вплавь на другой берег, Стручков с Аликом и Гуссейном разведали местность, затем возвратились к ожидавшему их Ананию Каллистратовичу, вместе с которым оставалась и Динка, и сообща разработали подробный план действий. Маралевич и Алик остаются на этом берегу. Гуссейн сопровождает Стручкова. В случае неудачи — мало ли что может выйти! — Маралевич и Алик сумеют обо всем сообщить в отряд. Кроме того, переправа вплавь через реку была старику просто не под силу.
— Ни пуха ни пера, сынки! — по-охотничьи напутствовал Ананий Каллистратович.
Камыши, действительно, позволили очень близко подобраться к мосту. В густых зарослях их, где сновало много водоплавающей дичи, нашелся небольшой сухой островок — тут и залегли Стручков и Гуссейн. Отсюда был хорошо виден мост и крыша блокгауза, приткнувшегося к насыпи. Около полосатой будки неподвижно, как истукан, торчал часовой. Другой часовой, подобно заводной кукле, ходил по насыпи взад-вперед.
На глазах у наших смельчаков произошла смена часовых: протопал наряд солдат с тощим, как палка, офицером впереди, ветер донес чужие слова команды. Прошла дрезина с немцами-железнодорожниками и — опять тишина, однообразие ожидания, нарушаемое лишь кряканьем утки в камышах да пением какой-то птахи над головой.
Близость дичи, сновавшей у самого носа, раздражающие запахи, носившиеся вокруг, действовали на Динку. Приученная к выдержке и повиновению, она все же начинала беспокоиться — ожидание надоело ей. Вставала, топталась на месте, натягивала поводок, напряженно вбирая носом воздух и настораживая уши, вопросительно смотрела на Стручкова, как бы спрашивала: «Скоро ли уж?…» Ее томила жажда, но Стручков опасался снимать намордник и только слегка растянул его, чтобы она могла высунуть язык.
— Терпи, дорогая, — шептал собаке Гуссейн, лежавший со Стручковым голова к голове, и делал строгое лицо, как будто овчарка могла понять его. Динка доверительно махала хвостом и, облизнувшись, снова принималась дышать громко и часто.
А день, как нарочно, выдался удушливо-жаркий, знойный — один из тех превосходных дней, какие бывают иногда в конце сентября. Стояла золотая осень. Багрецом оделись кусты рябины, трепетали по ветру нежно-желтые листочки осин, будто осыпанные золотом красовались нарядные белоствольные березы — лесные невесты. Воздух был светел, прозрачен, напоен теплом и солнцем.
Не хотелось в такой день думать о войне, о разрушениях, о возможной смерти, которая ежеминутно подстерегает солдата. Мысли Гуссейна тянулись к горячему Азербайджану, к синей глади Каспия, к которой он привык с детства; думы Стручкова, вперемежку с предположениями о том, как развернутся предстоящие события, — к родному Поволжью. Обоих далеко от здешних мест ждали дорогие, близкие люди. Тревожатся, небось: жив ли? не убит ли? не ранен ли?
— Э-эх, и. хорошо сейчас дома, — проговорил нараспев вполголоса гурман Гуссейн. — Виноград поспел… — Он выразительно почмокал губами. Стручков скосил на него глаза, затем снова продолжал наблюдать за дорогой. — Кишмиш, сабза… А инжир! Инжир кушал?
Он замолчал, потому что товарищ не поддержал его.
Больше всего на свете Гуссейн любил свой Азербайджан. Но, как истый патриот советской Родины, он готов был сражаться за нее где угодно и, если бы потребовалось, без колебаний сложил бы свою голову среди этих болот и лесов.
«А на севере, небось, уже метет пурга, — пронеслось в мыслях у Стручкова. — И везде идет война…»
Солнце перешло зенит, а они все лежали и ждали. Гуссейн помолчал-помолчал и опять завел свое:
— У нас в Баку…
— Погоди, — прервал его Стручков. Его тонкий слух уловил что-то похожее на отдаленный гудок паровоза.
Точно. Паровоз. Но, увы, без вагонов. Взрывать не имеет смысла. Гуссейн даже скрипнул зубами от злости, сделав гримасу. Стручков, прищурившись, соображал.
Паровоз шел туда, откуда они ожидали воинский эшелон. Это навело на догадку: вероятно, там есть в нем нужда, раз его перегоняют порожняком, — ждет большегрузный состав, который поведут два локомотива. И действительно, спустя два часа с той стороны, где скрылся паровоз, послышался нарастающий шум движения поезда.
Дальше события развивались убыстряющимся темпом.
Главное было: не ошибиться в расчете, как в прошлый раз. Проверив вьючок на спине собаки, Стручков привстал на одно колено и, не высовываясь из хорошо скрывавших его зарослей, быстро мерил взглядом то расстояние от моста до поезда, которое сокращалось с каждой секундой, то — от себя до моста, одновременно успевая сверяться с часами на руке. Гуссейн держал собаку.
— Пускай!
Гуссейн сдернул намордник и отстегнул карабин, но еще какую-то долю времени продолжал за ошейник удерживать Динку, которая рвалась из его рук.
— Вперед, Динка!
Собака зашлепала по воде, скрылась в камышах, некоторое время было слышно, как она продиралась сквозь заросли, потом все стихло. Поплыла. Только чуть колебались вершинки тростника, указывая путь движения овчарки; затем не стало и этого.
Успеет ли? Как бы не случилось того же, что неделю назад с Кураем. Но и пустить преждевременно — тоже провал.
Поезд приближался на большой скорости — два паровоза, сцепленных вместе, и длинный хвост платформ и вагонов. Пушки, танки, укрытые под брезентами; в одних вагонах солдаты, в других, закрытых наглухо, боеприпасы.
Голова поезда достигла моста… Спешат, спешат гитлеровские вояки, даже на мосту не сбавляют хода. Видно, худо дела на фронте. Это автоматически отметил про себя сержант.
Но Динка, Динка!
И тут они увидели Динку. Легкая и стремительная, она мчалась упругими прыжками, заложив уши и раскрыв пасть, жадно вбиравшую свежий воздух. Она даже не отряхнулась, как делают все собаки, выйдя из воды, и путь ее был отмечен сырой капельной дорожкой. Гитлеровец с ружьем, занятый созерцанием приближающегося поезда, не сразу заметил ее. Не сбавляя скорости бега, она поднялась по крутому высокому откосу насыпи… Поезд уже почти весь втянулся на мост, только несколько последних вагонов оставались за крайней его опорой, а головной локомотив, шумно выпуская пары, приближался к этому берегу. Часовой около полосатой будки обернулся — собака уже стояла между рельсов. Железное, шумно вздыхающее чудище мчалось прямо на нее. Издали донесся заливистый свист. Овчарка огляделась (как понимала!), сделала резкое движение головой, точно рвала что-то, — вьючок свалился со спины. Было видно, как побежал синеватый дымок бикфордова шнура. Солдат-часовой секунду медлил, туго соображая, стрелять ли в собаку или броситься к сброшенному ею грузу, затем вскинул винтовку к плечу. Овчарка метнулась прочь. В тот же миг тяжелая, неудержимо стремящаяся навстречу своей гибели лоснящаяся туша паровоза накрыла собой то, что лежало между рельсов.
Выстрела часового не услышал никто, ибо он потонул в грохоте взрыва.
Будто разверзлась земля и пронесся огненный шквал. Стручков и Гуссейн со своего наблюдательного пункта видели, как внезапно подпрыгнул передний паровоз. Столб огня вырвался у него из-под колес. Громадная машина повалилась набок и рухнула под откос, увлекая за собой второй паровоз и вагоны. Громоздясь друг на друга и разламываясь на части, как будто они были сделаны из картона, посыпались вниз платформы с пушками и танками. Испуганные, мечущиеся человечки выскакивали из вагонов и тоже катились вниз, мешаясь с обломками дерева и металла.
Грянул новый взрыв: взлетел на воздух вагон с боеприпасами. Ферма моста обрушилась в реку, а вместе с нею и все то, что было на ней, что еще уцелело от этого страшного разрушительного катаклизма…
А Динка?
Воздушной волной ее сбило с ног, швырнуло, как мячик, она пролетела по воздуху добрых пятнадцать метров и упала в воду, в те самые камыши, сквозь которые каких-нибудь полторы-две минуты назад продиралась сюда. Она погрузилась глубоко в воду но вода тотчас вытолкнула ее на поверхность, и Динка, немного оглушенная падением, но не потерявшая ориентировки, потрясши головой, чтобы освободиться от залившейся в уши воды, поплыла.
Она плыла, усиленно работая лапами, выставив кверху черный кончик носа, а вокруг нее падали, всплескивая и окатывая ее брызгами, куски железа, тлеющие обломки дерева. К счастью, ни один не задел ее, хотя вода вокруг так и кипела.
Наконец Динка добралась до островка. Но вожатого и его помощника не сказалось там. Тогда Динка пустилась вдогонку за ними, нюхая следы, и вскоре настигла Стручкова и Гуссейна в лесу.
Они спешили. Дорога была каждая секунда. Погоня уже за спиной. Уже звонко щелкали о стволы деревьев пули, отбивая кусочки коры, взвизгивая тоненько, как рассерженные осы. Гитлеровцы, высыпавшие из блокгауза, с которого взрывом сорвало крышу, стремились отомстить за подрыв моста и уничтожение эшелона.
Стручков и Гуссейн ускорили шаг, потом побежали. Динка вприпрыжку бежала впереди. Вероятно, она принимала это за игру: кто быстрее — она или люди?
Уже недалеко было место переправы через реку, за которой их с нетерпением ждали старик Маралевич и Алик Лауретенас.
Между деревьями блеснуло зеркало воды. И в эту минуту ранило Стручкова. Он упал, затем попытался подняться, с усилием встал на одно колено, на другое, хотел идти — и не мог, повалился вновь.
— Оставь меня… беги… — прохрипел он Гуссейну.
— Как оставь! Зачем оставь! Кто я тебе: не друг? не товарищ? не советский партизан? Ай-яй-яй, не знал, что ты так плохо думаешь обо мне! Чтобы Гуссейн бросил своего брата?! Как можешь так говорить?! Давай, давай, дорогой, мы еще повоюем!…
Гуссейн сыпал словами, а время не терял даром. Он взвалил сержанта себе на спину и побежал, сгибаясь под тяжестью ноши, став от этого еще более приземистым, как бы на ходу врастая в землю.
— Ай, какой тяжелый! Я думал, ты легче! Что ты кушаешь? Наверное, мяса много кушаешь? Потому и кости тяжелые… Да ничего, ничего! Лежи, дорогой, лежи, пожалуйста! Не беспокойся! Не смотри, что Гуссейн мал, у Гуссейна силы хватит!
Дыхание Гуссейна сделалось резким и прерывистым, лицо и шея побагровели, но он не сдавался, не терял самообладания и ухитрялся работать языком даже в эти минуты смертельной опасности, подбадривая тем самым и себя и товарища.
— Слушай… пророк Магомет… — пытался сказать Стручков. — Оставь… я тебе приказываю… зачем пропадать обоим?
«Пророк Магомет» продолжал делать свое.
Так, не снимая ноши, он добежал до реки и погрузился в воду. Почти до середины реки он шел. Дальше начиналась глубина — Гуссейн поплыл. Он был хорошим пловцом (недаром вырос на Каспии!), но тяжелый сержант давил, тянул его на дно.
Хорошо, что прохлада воды вернула раненому силы, он отделился от своего спасителя и тоже поплыл, загребая саженками, сначала медленно, через силу, потом постепенно учащая взмахи.
До берега оставалось метров десять, не больше, когда позади из леса высыпали преследователи. Стрельба сразу сделалась частой и более прицельной. Пули барабанили по воде спереди, сзади, рядом с головами плывущих. Будто падал свинцовый дождь. Гуссейн вскрикнул и погрузился до макушки, вода вокруг него окрасилась кровью. Теперь настал черед Стручкова спасать товарища. Сержант удержал тонущего, схватив его за ворот гимнастерки, затем, поднырнув, положил его на себя. Но у него не хватало силы, чтобы плыть и поддерживать того на поверхности. Динка беспокойно кружилась около них, перебирая лапами. Стручков ухватился за хвост собаки; она сразу направилась к берегу. Она тянула, как буксир; свободной рукой Стручков греб, а Гуссейн лежал у него на спине, крепко охватив руками мускулистую шею сержанта. Вот и берег. Донесся возглас:
— Эк, комар тебя… Попало обоим!
Из прибрежных кустов ивняка выбежал Алик Лауретенас и, схватив Гуссейна в охапку, потащил в их спасительную сень. Ананий Каллистратович помог выйти из воды хромающему Стручкову.
Надо было немедленно уходить. Алик вскинул Гуссейна на свою широкую спину. Этот скромный литовский юноша был истинным сыном Геркулеса[11], и он легко понес сухого, жилистого Гуссейна.
Гуссейн, перевесившись и покачиваясь в такт шагам юного богатыря, бормотал в полузабытьи:
— Вези, ишак, вези, дорогой! Спасай друга, бороду сбреешь!… Вези, кунак будешь, брат мой…
Стручков шел, тяжело опираясь на плечо старика Маралевича, припадая на раненую ногу. Морщась от боли, он старался не отставать от широкого шага Алика Лауретенаса. Ананий Каллистратович подбодрял его:
— Держись, сынок! Да ты опирайся на меня покрепче, сдюжу…
Динка бежала впереди, узнавая старые следы. Выстрелы позади становились глуше, отдаленнее…
* * *
Наш рассказ не будет доведен до конца, если мы не скажем о том, что получилось из всего этого.
При взрыве моста и крушении поезда погибло около тысячи гитлеровцев. Дорога надолго вышла из строя, движение по ней было парализовано. Вскоре был ликвидирован и весь «полоцкий рукав».
Однако эти события повлекли за собой другие.
Фашистам все же удалось напасть на след отряда народных мстителей, осуществившего вызывающе дерзкую диверсию. Они преследовали партизан с ожесточением и настойчивостью, говорившими, что на этот раз враги не отступятся, пока не добьются своего.
Нависла угроза уничтожения отряда. Кольцо окружения сжималось. Оставался лишь узкий проход, по которому, пока ещё было не поздно, пока оставалось время, требовалось вывести людей.
На совещании партизанских командиров решили: под покровом ночи (благо осенние ночи темны и длинны), с соблюдением самой строгой скрытности, чтоб ни одно немецкое ухо, ни один вражеский глаз не заметили передвижения, вырваться из петли.
И тут возник вопрос: как быть с собаками? Вопрос серьезный, ибо от него, быть может, зависел успех всей операции, судьба отряда. В самом деле: двигаться нужно в полнейшей, абсолютнейшей тишине, чтоб и сучок не хрустнул под ногой, никто не чихнул, не кашлянул. Проскользнуть надо под самым носом у противника. А если вдруг какая-нибудь собака заворчит, учуяв чужих, или того хуже — залает? Пропало все!
Правда, существует петельный намордник, стягивающий морду собаки, не давая ей лаять. Но сколько может находиться собака в таком наморднике: час, два? Меж тем неизвестно было, какое время могло понадобиться, чтобы покинуть опасную зону: может быть, одна ночь, а может быть, и несколько суток. Немцы повсюду выставили сильные заслоны, сторожившие каждое движение лесных воинов.
После некоторых колебаний; взвесив все за и против, партизанский штаб, скрепя сердце, предложил уничтожить собак.
Стручков и Майборода решительно воспротивились этому.
Как? Уничтожить своих друзей, своих испытанных помощников, с которыми они привыкли делить последний кусок хлеба, сослуживших уже такую службу! Собственными руками умертвить их?! Да у кого хватило бы духу сделать это?
Но штаб стоял на своем: безопасность людей важнее. И тогда Стручков и Майборода, заручившись по радио согласием своего командования, отделились от отряда. Они отважились на риск: наперекор всем препятствиям и кажущейся неосуществимости подобного предприятия (два человека и две собаки против целой армии немецко-фашистских солдат, гестаповцев, жандармов и полицаев!) из неближнего вражеского тыла пробиться к своим — перейти фронт и вернуться в свою часть.
Славный старикан Ананий Каллистратович Марайко-Маралевич, успевший привязаться к обоим вожатым, как к родным, вывел их на едва приметную в лесной глуши тропинку, еще раз подробно объяснил, какого направления лучше держаться, обнял поочередно каждого и, пожелав свое обычное «Ни пуха ни пера вам, сыночки!», зашагал в одну сторону, а они с собаками — в другую.
Это был тяжелый поход, через чащи, болотные топи, в незнакомой местности, поход, полный смертельной опасности и лишений. Две недели два товарища бродили по лесам, питаясь чем придется, преследуемые по пятам гитлеровскими ищейками, среди сонма врагов, которых становилось тем больше, чем ближе была цель.
И они не только убегали от погони, хоронились в густых кущах. Они и сами наносили чувствительные удары, вредили оккупантам, вызволяли из беды советских людей. Их мужество помогло отряду партизан, который благополучно вышел из окружения.
Раньше говорили: «Один в поле не воин…» А если двое? И не в поле, а в лесу? Да еще две собаки в придачу?
Два и две…
Впрочем, это — уже новый большой и, заметим, не вымышленный рассказ, ибо все, что здесь описано, так или почти так происходило в действительности.
ДВА И ДВЕ (ЧЕРЕЗ ФРОНТ)
Скорей, скорей!…
Тяжелое дыхание людей смешивалось с всплесками гнилой стоячей воды, с треском лежалого валежника под ногами. Собаки, высунув языки, шлепали по воде, порой погружаясь по брюхо. Стручков, шатаясь от усталости, ухватился за высокий березовый пень с расщепленной молнией верхушкой и, чертыхнувшись, обрушился вместе с ним в болото: в руках остались одни гнилушки.
Ногу жгло. Сапоги у обоих были полны черной вонючей жижи. Главное — скорей уйти на безопасное расстояние, чтоб затерялись следы. В воде запахи не сохраняются — не найдут и с ищейками. И Стручков, шедший головным, нарочно выбирал где было мокрее.
А как все вышло?
Уже пятые сутки пробирались они на восток, к линии фронта. Давно остался позади отряд народных мстителей, с жизнью, бытом, боевыми делами, волнениями и тревогами которого они так сроднились. Как будто и не было никогда седовласого и неутомимого старика Марайко-Маралевича, словно выкованного из железа партизанского проводника, который вывел их на едва заметную тропинку. Лишь запах осенней прели сопровождал их все эти дни.
— На большак выходить нельзя, — сказал Стручков.
Это же наказывал, прощаясь, и старина Маралевич.
Небось, взрыв моста и остановка движения на железной дороге разворошили весь фашистский муравейник. Недаром отряду пришлось спешно сниматься с места и уходить в глубь лесов.
Да, одно дело — благие намерения (их всегда бывает много!); другое дело — реальная обстановка.
Как-то уж так устроен тот кусочек мозга, который управляет способностью ориентировки, что человек, идя в темноте или по лесу, обязательно сбивается с прямой на кривую, а то и делает полный круг. Шли без компаса, ориентируясь главным образом по звездам, по местоположению луны, солнца и по разным земным предметам. Компас Стручков разбил во время переправы через реку после подрыва моста, а лишнего у партизан не оказалось. И вот (как тут не закружиться среди этих бесконечно чередующихся чертовых болот, похожих одно на другое, как блюдечки из одного сервиза!) на третий день пути они неожиданно услыхали впереди рокот автомобильного мотора… Даже не поверили себе вначале. Дорога. Сверились с картой. Вроде бы дорога должна быть совсем в стороне, километрах в пяти-шести, не меньше, а она — рядом, протяни руку!
— Дела, — проговорил Стручков.
— Выходит, крюку дали?
Товарищ вопросительно смотрел на него.
— Надо определиться.
Майборода с собаками остался за холмиком в кустах, а Стручков, тщательно маскируясь, подобрался поближе на шум, раздвинул ветви, выглянул и окаменел: по шоссе медленно двигалась вереница изможденных людей с конвоирами по бокам. Женщины, подростки обоего пола, немолодые мужчины… Замыкая эту скорбную процессию, шел толстый охранник с крупной черной овчаркой на поводке. Еще одна овчарка виднелась в голове колонны.
Угоняют! Эта мысль ожгла, как молния.
Из-за поворота вынесся большой штабной автомобиль, эскортируемый бронетранспортером с немецкими солдатами, каски которых светились над бортами, как спелые тыквы на бахче. Толстый охранник что-то грозно выкрикнул. Его крик повторили другие конвойные, и, подгоняемая бранью и ударами прикладов, колонна стала тесниться к краю кювета. Машины пронеслись, едва не смяв пожилую женщину, обнимавшую худенькую, болезненного вида девушку. Затем печальное шествие возобновилось.
Стручков оцепенело смотрел на это. Шум моторов давно уже стих в отдалении, а несчастные, которых насильно отрывали от родных очагов, все еще тащились обреченно у него на виду, тяжело переставляя ноги.
«Угоняют!» — стучало в мозгу Стручкова.
Он вернулся к Майбороде и сообщил об увиденном.
После этого оба они пробрались к дороге, стянув собакам морды петельными намордниками, чтоб не выдали нечаянным лаем.
— На каторгу гонят, каты, в Германию. Прощай, батьковщина…
Как можно стерпеть такое?
Колонна была сравнительно небольшая, и конвойных было немного. Один спереди, один сзади да по трое по бокам. А их двое здоровых бойцов с автоматами да две собаки. И еще на их стороне неожиданность, внезапность. В военном деле — всегда важный козырь. «Может, нападем? Освободим?» — эта мысль одновременно родилась у обоих.
В одном месте лес почти вплотную подступал к дороге. Тут и решили устроить засаду. Только бы не появились не вовремя автомашины с гитлеровцами. Они часто сновали здесь между ближними тылами и фронтом.
Стручков — хороший тактик — быстро наметил, как действовать.
— Ты стреляешь в переднего, я — в заднего. Собак спускаем обеих враз по команде «Фасс!» Ты кричи: «Бей гадов!» Там услышат, не грудные младенцы, догадаются, что надо делать. Опять же страху больше. А дальше — глядя по обстановке… Главное, чтоб ни один не ушел! После уж не зевай…
Они разделились, и каждый занял удобную позицию. Собаки были уже без намордников, тоже наизготовке.
Колонна медленно втянулась в узкую горловину, перехваченную лесом. Конвойные заозирались, нюхом почуяв опасность. В этот момент заговорил автомат Стручкова. Ему ответил автомат Майбороды. Толстый охранник, замыкавший колонну, упал. Собака его в испуге шарахнулась, петля поводка, надетая на руку немца, затянулась, тело от рывка перевернулось через голову и кулем свалилось в канаву. Овчарка, скуля, рвалась прочь, но мертвый крепко держал ее, дергаясь при каждом толчке.
Майборода тоже подстрелил своего и, пустив Курая: «Фасс!», заорал что есть мочи:
— Бей гадов! Круши! Ура-а!…
Колонна смешалась, в охране на какую-то долю времени возникло замешательство. Стручкову, тоже спустившему Динку, удалось свалить еще одного охранника. Другой, увидев приближающуюся к нему крупными прыжками незнакомую овчарку, наставил было автомат на нее, но выстрел Стручкова успокоил и его. Динка, проворная и стремительная, с ходу прыгнула на третьего, и они, сцепившись, покатились наземь. Обе овчарки — и Динка, и Курай — отлично знали форму гитлеровцев и безотказно «работали» на нее.
Свалка мгновенно сделалась общей. Угоняемые, услышав выстрелы и крики «Бей гадов!», сразу сообразили, что к ним неожиданно пришло спасение, и набросились на трех уцелевших конвоиров. Те, отстреливаясь, кинулись к лесу. Одного догнали и убили, второго подкосила пуля, и только третьему удалось достичь ближних кустов. Но там на него внезапно напал и подмял под себя Курай. Как и все овчарки, он отлично ориентировался в драке, успевая следить буквально за всем и враз переключаясь именно на того, кто в данный момент наиболее опасен или спешит убежать.
Рослый, добродушного нрава, Курай, разъярясь, делался неузнаваем. Он таранил врага всей тяжестью своего тела, а его клыки могли свободно перекусить руку.
Все было кончено в какие-нибудь полторы-две минуты. Несколькими выстрелами добили злобно рычащих и визжащих конвойных овчарок. Но дело тем не закончилось. Случилось то, чего опасался Стручков: издали вновь донеслось тарахтение моторов.
Задерживаться нельзя было ни секунды. А как же те, кого они освободили, мирные советские люди — женщины с измученными лицами, невинные девчата, которых ждет страшная участь, если их не защитить? Они же не успеют скрыться. Стало быть, снова неволя, снова дальняя тяжелая дорога и в завершение — для тех, кто выживет, — изнурительный непосильный труд под окрики надсмотрщиков, позорная кабала где-нибудь на военном заводе в фашистской Германии или на ферме у какого-нибудь сытого тупого помещика. Выходит, только поманила свобода, махнула крылом над головами да и была такова, не далась в руки… Ради чего старались?
И тогда Стручков, перекинувшись с Майбородой, принял решение: биться, так биться до конца!
— Быстро к лесу! Рассыпайся, да живей! Кто посильнее, помогай слабым! Разговоры — потом!
Толпа на дороге сразу распалась, перехлестнула через кюветы и, разливаясь, как разливается вода, прорвавшая запруду, устремилась под защиту леса. Как на экране кино, мелькнула девушка, тащившая за руку через рытвину пожилого мужчину, затем все внимание Стручкова приковалось к дороге.
Он как в воду глядел: там показались две тяжелые армейские автофуры с грузом и охраной. Десятка полтора фрицев! Исчезнуть до их появления не удалось; да, кроме того, трупы охранников все равно бы выдали происшедшее. Стручков и Майборода залегли и первыми обстреляли машины. Грузовики остановились. Немецкие солдаты посыпались вниз, открыли ответную стрельбу.
Тонко запели пули.
— Прикрывай женщин! — командовал Стручков, стараясь перекричать трескотню перестрелки. — Отходи к лесу!
Обстрелянный боец, прошедший суровую фронтовую школу немыслимо тяжких первых месяцев войны, он в такие минуты становился особенно распорядительным, действовал четко, испытывая необычайный прилив душевных сил и упрямую до дерзости решимость драться. Казалось, уже не он сам, а кто-то другой за него руководил его поступками и подсказывал, что нужно делать. Безбровое (брови давно выцвели на солнце), заросшее недельной щетиной, лицо его пылало, пилотка сбилась на затылок, в руках были зажаты гранаты.
Двумя взрывами гранат он задержал перебежку гитлеровцев.
Внезапно он обнаружил рядом с собой еще несколько стрелков. Часть освобожденных вооружилась автоматами убитых конвойных и тоже приняла участие в этой яростной внезапно разгоревшейся неравной схватке. Перестрелка сразу сделалась более частой.
— Спасибо за подмогу, — успел бросить Стручков.
— Вам спасибо за выручку!
Признаться, они никак не думали, что их освободителей всего двое. Такой шум подняли! И напали так смело!
Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та!
Стручков стрелял короткими расчетливыми очередями.
Пожалуй, они бы даже выиграли этот бой, да, знать, не судьба. Сквозь грохот выстрелов Стручков уловил ровный нарастающий гул. Это уже не могли быть два грузовика. Шла моторизованная колонна, не иначе. Надо было уходить, пока не поздно.
— Как народ? — крикнул он усатому мужчине с впалыми щеками, старательно целившемуся рядом с ним.
— Разбежались все до единого, — отозвался тот. На дороге, действительно, не видно было ни одного человека. Пуста была и опушка, по которой недавно рассыпались освобожденные, не успевшие еще даже порадоваться своему освобождению.
— Куда бежать знают? — Были бы ноги!
— Уходите и вы! Уходи, отец! Мы их задержим! — прокричал сержант, дополняя слова энергичным кивком головы. — Приказываю! — добавил он, видя, что усач колеблется.
Ближние заросли укрыли последнего из недавних пленников.
— А теперь ходу! Андрей!
Майборода вел огонь, лежа за бугром. Они вместе отползли, в кустах поднялись и побежали. Собаки скакали рядом.
Колонна уже показалась на шоссе. Впереди броневик и позади броневик, в середине длинная цепочка грузовиков с мотопехотой. Гитлеровцы подтягивали резервные части.
Выучка у фрицев, надо сказать, была на высоте. Увидев, что тут происходит, не доезжая двух неподвижно стоящих грузовиков, они остановились; раздалась команда офицеров и — врагов стало вдесятеро больше. Броневики выдвинулись вперед, повели рыльцами пушек. Одна вспышка пламени… другая… В лесу загрохотали разрывы снарядов.
К счастью, гитлеровцы били наугад. Гудела, стонала земля, ломая сучья, валились подрезанные деревья, тяжелый рокот катился по лесу. Задыхаясь от быстрого бега, Стручков и Майборода со своими четвероногими спутниками спешили уйти из зоны обстрела.
Все освобожденные растворились в густой чаще, в этом бесконечном переплетении ветвей, зарослей березы и ольхи, нагромождениях бурелома. Они снова остались одни: два человека, две собаки.
Обстрел постепенно прекратился, вместо этого с порывом ветра опять долетел однообразный вибрирующий звук — по шоссе подтягивались новые подкрепления к фронту. Стручков даже выругался: пару бы хороших мин сейчас на дорогу…
Опасность еще не миновала, но сержант уже почему-то успокоился. Майборода тревожился: не отрядили бы немцы погоню. Вдруг вздумают прочесать лес. Стручков уверенно возразил:
— Не пойдут. Они же по своему маршруту ехали, не на прогулку. У них первое дело — инструкция, приказ. Без этого никуда. Прикажет начальство — будут искать.
— Як считаешь: спаслись наши? — спросил Майборода.
— Если и. поймают, так не всех.
Нет, они не жалели, что ввязались в эту историю, отклонившись от своей цели. Наоборот. Помочь своим — счастье. Для того и Красная Армия, чтоб защищать мирное население.
Плохо было лишь то, что не удалось установить координаты. Этак опять будешь ходить, ходить, да и придешь не туда, куда надо.
Почва стала зыбкой, под ногами опять захлюпало. Под зеленым растительным покровом скрывались мочажины с темной ледяной водой. То один, то другой проваливались и, вытягивая ноги, чувствовали, как их тянет вниз, в зловещую, неведомую глубину. Надо было выбираться из этого предательского места.
Только теперь, ощутив внезапно боль, Стручков обнаружил, что осколком задело ногу, распороло сапог. Сгоряча-то и не заметил. Пришлось сделать остановку.
— Лес русским издревле служил, — философствовал Стручков, выливая воду из сапога. — Еще против татар. В лесу человек как иголка в стогу сена. Пойди найди его!
Стручков забинтовал рану, перемотал портянки. Приступил, прислушиваясь к тому, как нога отзовется на это.
— Худо? — озабоченно осведомился Майборода.
— Ничего, идти могу. Бывает хуже. Посидим только маленько. Перекур требуется, для поднятия духа…
Сели. Свернули по цигарке.
— Куда идти теперь? Сбились…
— Земля круглая, дойдем.
— Круглая, да препон много. Треба компас особый, чтобы угрозу отводил и дорогу указывать способен был… Проплутаешь тут!
— Дойдем. Про Дарвина знаешь?
— Учил в школе.
— Ну вот. Он на корабле плавал вокруг света. Три года находился в плавании…
— Трошки побольше, чем мы с тобой…
— Сказал!
Кругом — лес; быть может, опасность за каждым деревом! Прислушайся — и услышишь, как громыхают вражеские войска на дороге, а тут сидят двое и беседуют… О чем? Скажи кому-нибудь, ни за что не поверит. О Дарвине!
Собаки, сидя рядом, чутко настораживали уши, нюхали воздух.
Побеседовали — отвлеклись, хотя и слух, и зрение, и даже обоняние были постоянно начеку. Можно двигаться дальше.
— Пошли?
— Пошли.
Снова — чвак… чвак… Ноги будто врастают в землю, тянет их земля в себя… Ну и места!
Стручков вначале слегка прихрамывал, потом размялся — шел, как обычно. Вот ведь везет: давно ли оправился после пулевого ранения, полученного на операции с мостом, — опять зацепило.
— А здорово мы их саданули, — вдруг захохотал Стручков. — Тот, толстый-то, даже через голову переметнулся!… Еще Суворов говорил: воюй не числом, а уменьем!
— А що ты нащот того… як его?… Дарвина… рассказать собирался? — спросил Майборода.
— Он одну историю записал. На Тасмании дело было. Англичане владели тем островом, решили выселить всех тасманийцев… Народ был такой. Теперь повымер. Колонизаторы постарались. Ну вот. Стали они весь остров прочесывать… вроде как гитлеровцы эти леса… Ну вот. А у тасманийцев — собаки. Ночью они и вывели своих хозяев сквозь заграждения, так что ни один Джон Буль не слыхал. Утром те хватились — никого! А не будь собак, что бы было?
— Як мы с тобой… Чвак, чвак… чвак, чвак…
Лес все глуше. Уж ни тропинки, ни признака человеческой близости. Какой-то первозданный дремучий хаос кругом. Тишина стоит… Только вороны каркают.
Тяжело. Собаки до ушей в грязи. Вымотались из сил и люди и животные. Скоро ли конец этому проклятому болоту?
Наконец выбрались на сухое место. Сразу повеселели все четверо. И вдруг… что это? Собаки заволновались. Динка глухо зарычала, Курай ощетинился. Два друга тревожно насторожились. «Тише!» — подал знак Стручков.
За деревьями явственно раздался хруст валежника, какое-то неясное движение, топот…
— Му-ууу! — разнеслось внезапно по лесу.
Стадо!!!
Стручков и Майборода переглядывались, молчаливо советуясь. Новая неожиданная опасность? Или это «мирное» стадо? Приходилось остерегаться даже коров. Но кто может пасти их в такой глухомани? Куда ни подайся, на десятки километров ни одного населенного пункта. Дичь, чаща, гиблые топи.
— Му-ууу! — раздалось опять, совсем близко.
Потрескивание валежника стало слышнее, затем донесся тяжелый вздох — так вздыхают только коровы, — хруст травы, отрываемой от корня… Стручков и Май-борода затаились за нагромождением бурелома, взъерошенные овчарки, повинуясь властным рукам вожатых, прижимавшим их к земле, тоже оставались на месте, готовые вскочить и ринуться на врага по малейшему жесту.
Похрустывая скудной осенней травой, срывая веточки с деревьев, коровы медленно прошествовали мимо затаившихся. Одна, громадная красно-пегая красавица, зафыркав и выставив рога, вероятно учуяв собак, пошла на них, и тотчас сзади донесся окрик:
— Красуля! Куда?
Голос был молодой, девичий. Красуля покрутила рогами, помедлила и пошла за остальными. Следом появилась девушка. В сапогах, в кожухе, платье порвано — видно, цеплялось за сучья; на голове платок (сползая назад, он открывал светло-русые пряди), за спиной котомка странницы, на согнутой руке — ведро-подойник. Помахивая хворостиной, которой она подгоняла отстающих, девушка прошла в нескольких метрах от разведчиков.
Майборода и Стручков продолжали ждать. Больше никого.
— Одна…
— Никак одна…
— Як ее сюда занесло?
— От фашистов скрывается, — осенила Стручкова догадка.
Они подождали еще. Нет, никого. Одна на все стадо. А стадо немаленькое, голов тридцать, а то больше.
— Ты держи Динку, — приказал Стручков, — а я пойду разведаю.
Ой как переменилась она в лице, увидав вдруг за своей спитой выходящего из леса вооруженного человека. Метнулась было в одну сторону, в другую, и — замерла на месте.
— Да ты не бойся, — сказал Стручков, держа руку на ложе; автомата и чутко прислушиваясь к тому, что делается вокруг. — Ты чья? Кто есть еще?
Девушка молчала. Казалось, она утратила всякую способность понимать. Только жили огромные голубые глаза на посеревшем от испуга заветренном лице с нежной ямочкой на гладком юном подбородке.
— Чья скотина, спрашиваю, — повторил Стручков, уже начиная улыбаться. — Колхозная, что ль?
Молчок. Но взгляд стал другим, хотя и продолжал беспокойно ощупывать сержанта, как бы начиная узнавать и боясь ошибиться.
— Ты что — глухонемая? — Угу.
— «Угу», — передразнил Стручков. — Плохо притворяешься. А Красулю кто звал? Да не бойся, говорю, — поспешил он успокоить ее. — Свои мы, советские. Аль не видишь?
Глаза пастушки расширились еще раз, когда она увидела Майбороду с двумя собаками, а затем, удостоверившись наконец, что перед нею и вправду свои, она тотчас преобразилась: просияла, расцвела, сделавшись еще более юной и миловидной, несмотря на порванное платье и уродовавшие ее тяжелые грязные сапоги.
— Наши… родненькие…
Плач и всхлипывание перемежались с улыбками и радостными восклицаниями. Она не владела собой.
— Неужто самые настоящие? Живые?
— Нет, с того свету. На побывку явились.
— Ой, миленькие!
Пришлось дать ей выплакаться. После начался разговор.
Да, она пасет в лесу колхозное стадо. Одна. Вот уж второй месяц одна. А была не одна. С дедом. Как немцы стали наступать на деревню, так они со стадом и подались в лес. Так правление приказало. А что было дальше, она и знать не знает. Уж лето кончилось, да и осень на исходе, а она с коровами все в лесу. С дедусем хоть было веселее, все-таки двое — не один.
— А где дедок-то? — справился Стручков.
— Пошел пропитание промышлять да и сгинул. Уж больше месяца. Схватили его, наверно. Он бы вернулся.
— Чем же ты живешь?
Лишь сейчас они заметили, какая она худая. Ноги как тычинки (на чем сапоги держатся, неизвестно!). Синие жилки на висках, под глазами круги. Оттого и глаза такие большие.
— Грибы собирала, ягоды. Молоко пью. Орехи вот еще, — ткнула она в свой мешок.
— А коровы?
— А коровы — что? Коровам легче: у ник корм есть, — повела она рукой вокруг себя. — Какой ни на есть, а все корм.
— Да, коровам легче…
— Сколько страху натерпелась, — призналась девушка. — Теперь обвыкла уж. Руки только донимают.
Руки у нее были большие, распухшие, кожа на сгибах пальцев загрубела и потрескалась.
— От дойки это, — пояснила она, внезапно застыдившись при мысли, что они могут подумать, что это у нее какая-нибудь болезнь.
— Доишь? Всех?!
— А как же, — строго подняла она свои голубые, как, майское небо, очи на Стручкова. — Пропадут не доясь-то!
— Что верно, то верно…
— А молоко куда? — поинтересовался Майборода.
— А прямо на землю и дою… Коров бы сохранить!
— Как тебя волки не съели?
— Волки в это время года сытые, не трогают…
— Весело життя, — заметил Майборода.
— Коровий робинзон, — резюмировал Стручков.
Посовещавшись, они решили сделать короткую остановку. Навихляли ноги, по кочкарнику да по чащобе, будь здоров! Как заправские дояры, они помогли Малаше тщательно продоить всех коров. Молока напились досыта и сами, и собаки. Обе овчарки налакались до того, что раздулись.
Малаша с аппетитом поела солдатских сухарей, размачивая их в парном молоке, причмокивая и облизывая губы. Больше есть пока ничего не стала, хотя два друга щедро предлагали поделиться с нею своими запасами: после голодовки-то как бы чего не вышло! Совершенно забывая о собственном подвиге, она простодушно восхищалась мужеством и настойчивостью Майбороды и Стручкова, из такой дальней дали через вражеские кордоны бесстрашно пробиравшихся к своим. Только никак не могла взять в толк, почему они с собаками.
Она упивалась звуками родной речи после долгого вынужденного молчания и весь вечер у костра рассказывала о своем колхозе, о подругах, о том, как жили до войны. Говорила и не могла наговориться. А когда умолкала ненадолго, в чуткой ночной тиши слышалось потрескивание сучьев на огне да мирно пережевывали жвачку лежащие коровы.
— Как же с ней быть дальше? — переговаривались, когда девушка уснула, лежа на охапке сухих листьев, Стручков и Майборода. — Неужто опять ее одну оставлять?
— А что ж, ты ее с коровами с собой потащишь? — А без коров?
— Не бросит она их. Столько мыкалась — и бросить?
— Крепкая дивчина…
Утром стали прощаться. Бросить стадо, и вправду, Малаша отказалась наотрез. Разведчики оставили ей несколько банок консервов, сухарей, соли, пару коробок спичек и обещали довести о встрече с нею до сведения командования, которое, конечно, снесется по радио с партизанским штабом, а там уж партизаны вызволят ее из сиротливого одиночества.
В глазах Малаши стояли слезы, губы вздрагивали, но она была тверда в своем решении. Такой, мужественной и решительной, слабой и сильной одновременно, с блистающими жемчужинками на ресницах, она и осталась у обоих в памяти.
Знакомство с Малашей оказалось очень кстати. Малаша превосходно знала свой район (настоящая лесовичка!). Она рассказала, какого направления следует держаться, чтобы избежать встреч с немцами. Особо предупредила о большом торфяном болоте, которое должно попасться на пути.
— Вы его стороной обойдите, стороной, — наказывала она. — Вы его сразу зачуете: дымом пахнет. А если уж доведется идти напрямик, так по торфянику-то идите возле кустов, возле кустов, там тверже, не провалитесь…
Сколько раз потом они с благодарностью вспоминали ее!
Шагать все время лесом, чащобой, без дорог, без тропинок, да еще по заболоченной местности, было изнурительно даже для таких крепких и выносливых людей, какими были Стручков и Майборода. Кроме того, можно было опять сбиться с взятого направления. Поэтому приходилось все же держаться проезжих дорог. Чтобы не попасться на глаза оккупантам и их соглядатаям, приходилось днем скрываться, а идти только ночью.
Начались дожди, затем резко похолодало — зима была не за горами. Майборода вздыхал по своей ридной Украине (там еще тепло!), но, вспоминая, что большая часть Украины занята неприятелем, суровей сдвигал густые черные брови.
Земля была разорена, редкие деревушки, куда иногда подворачивали два товарища, лежали пепелищами. Всюду хозяйничал враг.
Вместо села, где они хотели пополнить запасы провизии и раздобыть пищи для собак, торчали лишь обгорелые закопченные печи да кучи головней. Накопав картошки в огородах, они двинулись дальше, когда в развалинах вдруг кто-то шевельнулся, выпрыгнул на дорогу и побежал за ними. Кошка! Майборода бросил ей кусочек шпика. Она с жадностью проглотила его, затем подошла и, не обращая внимания на собак, стала с мурлыканьем тереться о ноги сержанта и его товарища. Погладив ее, они пошли — она последовала за ними. Они уже отошли с полкилометра от села, а она, мяукая, все бежала за ними, потом остановилась, растерянно смотря на уходящих людей, и потрусила назад.
На молчаливую тяжелую драму наткнулись они в избушке полесовщика, заброшенной на полуостровке, слегка приподнятой над окружающей низменной местностью.
Избушка выглядела необитаемой; а погода стояла промозглая, Стручков и Майборода вымокли, прозябли, тянуло к жилью — обсушиться, согреться у печурки; решили завернуть, приняв все необходимые меры предосторожности на случай нечаянной встречи.
На стук в дверь никто не отозвался — ни человек, ни дворовая жучка. Вошли и окаменели. В чистой светелке не было ни души; на столе стояла бутылочка с соской на горлышке, в которой, очевидно, было молоко; в люльке лежал мертвый младенец.
— Вот що зробылы, каты, — горько сказал Майборода. — За що сгубилы дитё?
— Им что большой, что маленький, — сумрачно заметил Стручков. — Не жалеют ни скотину, ни человека. Мать родную убьют, только прикажи…
— То верно…
Кто и когда погубил полесовщика и его жену, сами ли они ушли да больше и не вернулись, задержанные неизвестными, но, совершенно ясно, невеселыми обстоятельствами, оставив на произвол судьбы хозяйство и ребенка, или увели их силой недобрые люди — про то знали лишь старые раскидистые ветлы с грачиными гнездами, обступившие низенькую избушку и тесный дворик.
Друзья вырыли яму под самой большой из ветел и похоронили малютку. На коре ствола ножом вырезали дату. Постояли, держа пилотки в руках. Накрапывал дождь.
— Здеся дитё сгибло от голоду, а там Малаша не знает, куда молоко девать, — проговорил Майборода,
Стручков сумрачно смотрел на могильный холмик.
Вот тут-то, после этих молчаливых, опрыснутых мелким осенним дождичком-севунцом похорон вдруг и овладело ими острое желание — яростное, неизбывное желание — всячески противодействовать, мешать, вредить захватчикам, где только можно и чем можно. Не только укрываться, не только пробираться к своим, но и нападать.
— Что прятаться-то, как крысы. Надо бить их, — сказал Стручков. В его голосе была холодная решимость.
Не сговариваясь, они рассудили: будет больше пользы, если они не только вернутся целыми сами, но еще кое-что сделают по пути, например принесут разведывательные сведения. По сути они уже давно разведчики — как отделились от партизан.
Случай шел навстречу.
По всем расчетам, они были уже недалеко от линии фронта. Об этом, в частности, свидетельствовало участившееся движение немецких машин на дорогах. Временами по ночам с востока доносился отдаленный гром артиллерийской канонады.
Иногда, выглядывая из кустов, они подолгу следили за дорогой, считали немецкие танки, артиллерию, грузовики с пехотой.
Шел уже двенадцатый день пути. Все четверо сильно отощали, как-никак ели не досыта, а все время на ногах, знай шагай да шагай. По прямой они давно были бы дома, в своей части. Да где тут думать о прямой, когда приходилось петлять, подобно лисице, заметающей свои следы.
Требовалось пересечь шоссе. Неподалеку послышался шум мотора и стих. Стручков сделал разведку, затем поманил за собой Майбороду.
На обочине дороги стоял черный открытый автомобиль с откинутым верхом. На заднем сиденье, неподвижные, как манекены, возвышались два вооруженных солдата в касках — личная охрана; шофер, тощий белобрысый парень с хрящеватым носом, возился с колесом — спустила шина; в нескольких метрах, на пне, распахнув широкий офицерский плащ, сидел жилистый седоватый майор войск СС и курил. На переносье поблескивало пенсне. Рядом, на другом пеньке, лежал раскрытый золоченый портсигар.
Разведчикам показалось, что они уже видели такой автомобиль, а может — похожий. И этот был без эскорта. Хотя, несомненно, в нем ехала важная птица.
Дорога была пустынна, лишь эти четверо у «оппель-капитана».
— Вишь расселся, индюк! Растопырился, як у себя в халупе…
— Неплохой язык…
— А як его добыть?
— Добыть-то не задача. Ты скажи: как доставить?
Как это обычно бывало у Стручкова, ответ на все возникшие вопросы пришел сейчас же, немедленно.
— Будем брать, — шепнул он Майбороде.
План сержанта, как всегда, был прост и смел, хотя осуществить его было не так-то легко. Майор находился на открытом месте — незамеченным не подберешься (поэтому и восседал так важно!). И не будь собак, Стручков не отважился бы привести задуманное в исполнение.
Надо было взять майора так, чтобы он и пикнуть не успел.
Майор сидел боком к канаве. Невдалеке шоссе загибалось, исчезая из поля зрения фашистов. Стручков краем леса, с Динкой на поводке, бесшумно перебежал туда. Отсюда до канавы было рукой подать.
— Динка! — шепотом позвал сержант, чтобы насторожить собаку.
Динка, вздрагивая от нетерпения, облизнувшись, глянула в глаза хозяину, как бы говоря: «Понимаю, все понимаю и выполню. Не беспокойся!», — и снова все внимание туда, где сидел немец.
— Ползи!
Не требовалось даже взмаха руки: умное животное само знало, что ему делать.
Ползти на животе Динка могла хоть километр. Невысокая, поникшая под осенними дождями трава и кочки хорошо маскировали ее. Вот она уже в канаве, а там ее и вовсе не видно.
Стручков вернулся на прежнее место. Ждал. Как тогда, когда посылал резвуху Динку с грузом взрывчатки к железнодорожному мосту, взвешивая каждое мгновенье. Так же ждал и Майборода, пославший своего тяжеловесного Курая с другой стороны. Две собаки, невидимые для гитлеровцев, ползли по канаве друг другу навстречу, чтобы соединиться где-то около автомобиля. Солдаты по-прежнему сидели, как истуканы. Шофер, накачивая шину, продолжал отбивать поясные поклоны. Майор курил, пуская колечки дыма.
Пора. Оба пса должны быть в заданной точке. Тянуть нельзя.
— Фасс!
И в ту же секунду — короткая очередь из автомата, Точнее, две очереди, слившиеся в одну.
Прицел короткий, цель ясная.
Оба солдата вскочили, как по команде, и — рухнули, словно подкошенные. Один ничком, ткнувшись грудью в спинку переднего сиденья; другой, наоборот, весь запрокинувшись назад, в нелепой и неестественной позе. Майор привстал, выронив папиросу, и отшатнулся; правая рука потянулась было привычно к пистолету, но в тот же миг на ней сомкнулись зубы Динки, словно откуда-то из преисподней внезапно возникшей перед ним. Пытаясь защитить лицо, эсэсовец поднял обе руки; от толчка пенсне слетело с носа, Динка встала на него лапой и раздавила. Шофер, выпрямившись, обернулся. И тотчас на него налетел Курай.
— Тихо, герр официр! Если будете шуметь, пеняйте на себя! — сказал Стручков, почти уперев дуло автомата в живот эсэсовца, пока Майборода быстро скручивал руки майора за спиной. Парабеллум гитлеровца перекочевал в бездонный карман сержанта. Обе овчарки в это время стояли над шофером, который лежал на земле с таким выражением лица, как будто увидел живых чертей или самого сатану.
— А ну — быстро! Шнелль! — показал Стручков на колесо.
В несколько секунд колесо было поставлено на место, домкрат снят и спрятан под сиденье. Шофер, вытягиваясь в струнку и продолжая опасливо коситься на собак, раболепно ждал дальнейших распоряжений.
— Садись!
Жест был достаточно выразителен — шофер занял место за баранкой автомобиля. Безмолвствующий бледный майор, повинуясь указаниям Стручкова, сел рядом, где сидел и прежде. Майн готт, кто бы мог предугадать, что может получиться из этого!
Заднее сиденье уже было освобождено от трупов. Натянуть на себя каски, кителя и маскировочные халаты убитых, нацепить их оружие (свое припрятали рядышком) было делом одной минуты; и два бравых эсэсовца — «личная охрана»! — снова явились на свет.
Тесный мундир почти лопался на могучей спине Майбороды, зато Стручкову был как по мерке. Пожалуй, самый придирчивый глаз не отличит их теперь от настоящих эсэсовцев. Хотя, как сказать…
— Вот только видик у нас, — провел Стручков рукой по своей заросшей физиономии. — Навряд ли такие в охране ездят…
Иногда какая-нибудь ничтожная мелочь может погубить все дело.
Стручков раздумывал недолго.
— А ну, заворачивай в лес! По-русски понимаешь? Водитель вопросительно взглянул на майора.
— Ага, он понимает. Отлично. Как говорится, зер гут. Переведите, господин майор, мое приказание.
Майор что-то хрипло сказал шоферу.
— Ну вот и прекрасно. Значит, договорились.
Машина медленно перевалила через канаву и остановилась, хорошо скрытая деревьями. С дороги не увидят, если нелегкая понесет кого-нибудь. Стручков велел выключить мотор.
Он не ошибся: в багажнике оказался добротный офицерский чемодан из натуральной кожи, а в нем полный бритвенный набор: стаканчики, помазок, душистое мыло в порошке, блистающая свежим никелем безопасная бритва, зеркало. Стручков окончательно развеселился.
— Прихорошимся, — подмигнул он шоферу, намыливая обе щеки (в термосе нашелся горячий чай: ничего, для такого случая сойдет для бритья и чай!). — А вы, герр официр, не желаете?
Майор не удостоил его даже взглядом.
Майборода держал на мушке обоих немцев. Потом они поменялись — Майборода брился, а Стручков следил за пленными. Собаки тоже не спускали с них горящих глаз.
— Побреешься — вроде и жизнь лучше… Зря не хотите составить компанию, господин майор!
Чем острее становилось положение, тем хладнокровнее и насмешливее делался Стручков. Майборода знал эту черту характера своего старшого и принимал все как должное.
Первая половина дела была выполнена удачно: языка взяли, даже двух. И — без шума. Оставалось самое трудное — благополучно добраться до расположения своих войск. Но на сей счет у Стручкова уже тоже был готов план. Недаром он пощадил шофера. Динку они запихали под ноги к майору и водителю, приказав ей: «Охраняй!» (одно движение — и она пустит в ход зубы), Курай поместился между Стручковым и Майбородой на заднем сиденье. Все выглядело вполне прилично: гитлеровским чинам нравились четвероногие телохранители. Они даже в общественных местах — в ресторанах, в кафе — любили появляться в сопровождении выдрессированных овчарок, возможно копируя этим грозных владык далекого прошлого, тщась походить на великих.
Инструкция Стручкова майору и водителю гласила: нигде не останавливаться, ни с кем не разговаривать. За малейшее нарушение этого приказа, тем более за попытку сопротивления — пуля.
Теперь он не шутил. Два автомата, неотступно смотревшие своими круглыми черными глазками в спины пленных, совершенно недвусмысленно подтверждали серьезность его намерений.
— Предупреждаю, господин майор: никаких вольностей. Делать только то, что прикажу я. Зер гут?
— Гут, — хрипло отозвался майор.
В этом был страшный риск. Но в этом был и свой трезвый расчет и своя выгода: в компании с эсэсовским майором, на его «оппеле», с его же шофером, они быстрехонько и по кратчайшему пути перенесутся вместе с псами к передовой. Майор будет служить ширмой и пропуском, а дальше… дальше, как всегда, Стручков полагался на свою смекалистость и удачу.
Отчаянные парни! Ах, майн готт, как он мог допустить непростительную оплошность — выйти из машины!… Близоруко щурясь, майор всматривался в гладкую ленту шоссе, стараясь измыслить, как ему перехитрить этих двух русских. Внешне не потерявший самообладания и германского достоинства (майор недаром прошел старую прусскую школу!), он был полон смятения. На шофера он не смотрел, то ли из чувства неловкости перед подчиненным, то ли из опасения, что насмешливый советский сержант исполнит свою угрозу.
Со стороны все выглядело нормально, и шестицилиндровый «оппель» быстро накручивал километр за километром.
Сверху снова сочилось, видимость была плохая, но Стручков считал, что так даже лучше: меньше разглядят. Главное — нигде не задерживаться. Ничтожная остановка могла грозить гибелью.
Первая заминка получилась на железнодорожном переезде. Проходил длинный воинский эшелон, и перед шлагбаумом скопилось много армейских машин. Какой-то капитан, приблизившись, откозырял и обратился к майору с вопросом по-немецки. У Стручкова остановилось сердце, палец лег на спусковой крючок. Но майор смотрел прямо перед собой, как глухой. Капитан пожал плечами и отошел.
Наконец прогромыхал хвост поезда. Шлагбаум подняли. Пронесло!
Однако чем ближе к фронту, тем задержки становились чаще. Наши войска готовились к наступлению, и советская авиация обрабатывала ближние немецкие тылы, бомбила скопления вражеских войск на подъездных путях, выводила из строя коммуникации. В одном месте «оппелю» пришлось делать длинный объезд: горела разбомбленная автомобильная колонна. Взрывались автоцистерны с бензином и грузовики с боеприпасами. Огромные клубы пламени, вспухая вдруг и разливаясь, взлетали высоко в небо, источая жар и гарь.
Краснозвездные самолеты дважды показывались в отдалении. Приходилось опасаться, как бы не попасть в такую же кашу и не оказаться мишенью для своих. Погибнуть от своих — обидно.
Знали бы наши летчики, кто сейчас ехал под ними на черном «оппеле», с какой надеждой и страхом взирали на них четыре глаза!
Стручков считал минуты и секунды.
Объезд сильно задержал их. Несколько раз они застревали в грязи, и когда, наконец, снова выбрались на шоссе, Стручкова уже не оставляла уверенность, что что-нибудь обязательно случится.
Предчувствие не обмануло его, хотя все произошло совсем не так, как он ожидал.
Впереди показалась длинная, нелепая фигура. Это был старик. Высокий, худой, оборванный, босиком и без шапки, с всклокоченными седыми волосами, он шел навстречу по самой середине шоссе, ежеминутно рискуя быть задавленным, словно не замечая ничего вокруг себя, что-то бормоча и размахивая костлявыми руками.
Вероятно, он лишился рассудка и не сознавал, что делает.
Сзади его быстро нагоняла грузовая машина. В кабине сидели два солдата интендантской службы, еще несколько солдат находились наверху, в кузове.
Конечно, они могли объехать его — дорога была достаточно широка. Но шофер направил машину прямо на несчастного. Удар! Тело старика взлетело и грохнулось поперек шоссе, преградив путь «оппелю». Грузовик пронесся, мелькнули хохочущие рожи солдат. Негодяи и убийцы, они еще радовались содеянному злодейству.
— Стой! Хальт! — закричал Стручков шоферу.
Он не мог проехать мимо этого горемычного, не убедившись, нельзя ли тому чем-нибудь помочь. Ему вдруг представилось, что это дед Малаши. А если и не Малаши? Все равно чей-нибудь дед…
Машина затормозила перед самым распростертым телом. И тут случилось непредвиденное.
Майор что-то отрывисто и требовательно бросил вполголоса водителю. Мотор внезапно заглох, шофер, не проявлявший до этого никаких признаков непокорства, рванул дверцу и кубарем скатился на землю. Курай прыгнул за ним, но тот, увернувшись от его клыков, юркнул под машину и, лежа на спине, так ловко отбивался ногами в грубых солдатских ботинках с толстенной подошвой, что пес никак не мог ухватиться за него. Защищаясь, шофер громко призывал на помощь, вереща, как зарезанный. Майор тоже сделал движение, как бы собираясь последовать за ним, но его припечатал к месту предупреждающий рык Динки. Стручков и Май-борода вскочили.
— Ах ты, гнида! — рявкнул сержант, шаря стволом автомата под днищем «оппеля». — Не укокошили тебя сразу, так еще орешь!
Майор, главный виновник этих событий, зыркал глазами, вертел головой, но Майборода сзади и Динка спереди зорко сторожили его. Старик не подавал признаков жизни. Он был убит наповал.
Пронзительные крики шофера донеслись до грузовика, который, затормозив, теперь быстро приближался задним ходом.
Стручков мгновенно оценил ситуацию.
— Ваше благородие, шнелль! Дальше придется топать пешком, — скомандовал он, соскакивая наземь и распахивая дверцу перед майором. — Ком! Идти!
— А он? — кивнул Майборода на шофера.
— Черт с ним, теперь все равно!
— Курай, ко мне! — позвал Майборода, в сердцах пнув ботинком шофера, отчего тот завопил еще громче.
— Вас ист лёс? Что случилось? — кричали с грузовика.
Вместо ответа Стручков и Майборода выпустили по грузовику несколько автоматных очередей и забросали его гранатами, затем, подгоняя майора, бросились прочь от шоссе.
В сотне метров начинался перелесок. Он укрыл их.
— Что, не вышло, ваше благородие? — с издевкой произнес Стручков, когда они удалились на порядочное расстояние.
Но он торжествовал рано.
Вскоре сзади послышался собачий лай. Неужели погоня? Быстро, быстро. Очевидно, теперь у гитлеровцев имелась инструкция, и они действовали без промедления.
Стручков и Майборода не знали, что их уже давно ищут. Право, они не были столь высокого мнения о себе и не предполагали, что ими и их мохнатыми товарищами могут заинтересоваться всерьез. А дело обстояло именно так.
Уже первая операция — подрыв моста — привлекла к ним пристальное внимание германских штабистов. Уж слишком чувствителен был удар и необычен способ, каким его нанесли! Потом о собаках-диверсантах, действующих в тылу немецких войск, некоторое время не было слышно ничего. И вдруг новое происшествие — схватка на шоссе…
Один из конвойных — тот, которому довелось померяться силами с Динкой, — остался жив (откатившись в канаву, он притворился мертвым, и это спасло его); и он рассказал о таинственных лесных воителях с четвероногими помощниками, напавших на транспорт с угоняемым мирным населением. Страх живописал все это в самых необычайных красках, преувеличивая до фантастических размеров. И уже не два бойца с двумя собаками, а целая диверсионная часть с полчищем натренированных животных гуляла по тылам германской армии, сея ужас и панику. И уже по всему этому участку фронта выстукивали полевые телеграфные аппараты, работали рации, кричали телефонные трубки: найти, задержать, истребить, захватить живыми или мертвыми — ликвидировать немедленно.
Между прочим, это оказалось очень на руку знакомому нам отряду партизан. Именно активные действия двух наших героев сбили с толку карателей, заставив отказаться от преследования отряда, и направили их помыслы по другому руслу. Тем самым была отведена гроза от народных мстителей, которые с испытанным проводником Ананием Каллистратовичем Марайко-Маралевичем во главе уходили в это время все дальше в глубь лесов в противоположном направлении.
Хватились и майора. О странном поведении его случайно обмолвился капитан, встретившийся у переезда. Он видел собаку, сидевшую сзади. И к тому моменту, когда разыгрался эпизод с грузовиком, сбившим старика, по следам двух смельчаков уже мчалась специальная карательная группа с ищейками. Не ведая и не желая того, Стручков и Майборода навлекли на себя большие силы противника и теперь оказались в огненном кольце, вырваться из которого могло им помочь только чудо.
Лай приближался. Он слышался сразу с нескольких сторон. В бесцветных жестких глазах майора читалось открытое злорадство. Доннерветтер, что еще придумают эти советские головорезы, оказавшись лицом к лицу со всей германской машиной устрашения и подавления всякого духа бунтарства и свободолюбия?
Ветер донес запах дыма. Где-то горел торф. Стручков и Майборода с пленником, конвоируемым двумя собаками, ускоренным шагом, переходившим порой на бег, пересекли лесистый участок и поднялись на холм. Открылась обширная заболоченная низина, поросшая редкими приземистыми кустиками. Легкий сизый туман стлался по ней, там и сям курились синеватые дымки.
Это было то самое горящее торфяное болото, о котором предупреждала Малаша.
Девушка наказывала обойти его. Идти прямо — смертельный риск. Под слоем мха и корней трав огонь. Как рассказывала Малаша, болото горело уже много лет. Дожди загоняли пламя внутрь торфяника, но погасить совсем не могли. Это было что-то вроде вечного пожара, бушующего в некоторых каменноугольных шахтах.
Обойти — безопаснее. Но есть ли сейчас время для этого? И как бы в ответ лай раздался совсем близко. На опушку выскользнула большая черная овчарка. Стручков поднял автомат, но дым ел глаза — и впервые сержант промазал. Овчарка прыгнула ему на грудь. Полетели клочья одежды. Оторвав собаку от себя, он ударил ее ножом, затем прикончил выстрелом в упор.
Следом появилась вторая овчарка, такая же черная и страшная, как и первая. С нею схватился Курай, и две собаки злобным рычащим клубком покатились по земле.
Воровато оглянувшись, майор вдруг метнулся в сторону и, виляя, как заяц, побежал назад, к лесу. Но он сделал не больше десяти шагов. Динка, внимание которой на какое-то время было отвлечено дракой Курая с чужой овчаркой, в три прыжка догнала беглеца и повалила. Схваченный трусливо завопил.
— Не уйдешь, — севшим голосом сказал Стручков, стряхивая капли крови с пораненной ладони. — А придется худо нам, отправишься туда вместе с нами. — И он выразительно показал на автомат.
Удар прикладом положил конец схватке Курая с черной овчаркой.
Между деревьев уже мелькали преследователи. Выбора не оставалось.
— Айда! — скомандовал Стручков, и они побежали по болоту.
Эта равнина вовсе не была такой ровной, какой казалась с холма. Почва под ногами тряслась и вздрагивала, местами она была теплой; и собаки, подушечки лап которых не были защищены обувью, все время принюхивались к земле.
Они успели отдалиться метров на двести, когда сзади раздались крики, требовавшие остановиться. Затем прожужжало несколько пуль. На склон холма высыпало не меньше взвода гитлеровцев. У трех или четырех со сворок бешено рвались собаки. Первых двух они спустили с поводков, рассчитывая, что те сумеют догнать и задержать преследуемых, и — поплатились за это.
Майор, которого подгоняли клыки Динки, вдруг нелепо подпрыгнул и ткнулся носом в землю. Ну надо же! Шальная пуля зацепила его. Сейчас невозможно было установить, насколько серьезно ранение; может быть, оно было пустяшным, но майор стонал и отказывался идти дальше, показывая на кровь, выступившую на бриджах.
— Тикай! — закричал Майборода, оборачиваясь и стреляя из автомата. Преследователи были уже не больше чем в сотне шагов. Уже слышалось надсадное громкое дыхание овчарок.
— Дура! А тебя кто спасать будет? Волоки майора! Я прикрываю!
Нет, этот сверхъестественно упрямый Стручков не отступал от своего даже сейчас!
Дюжий Майборода подхватил майора, как куль с мякиной, перебросил его себе на плечо головой назад и побежал.
Бесстрашный украинец готов был грудью закрыть товарища, но — приказ есть приказ. Он повиновался.
— Держись кустов! — крикнул ему вдогонку сержант.
Он подпустил врагов чуть ли не вплотную и затем, с колена, срезал из автомата четверых. Быстро бросил взгляд через плечо. Ага, Майборода, несмотря на тяжелую ношу, был уже довольно далеко.
Кто-то коснулся Стручкова. Динка, голубушка! Она осталась около хозяина, чтобы защищать его. Жертвовать собой ради человека — извечная потребность собаки. Об этом напоминали ей бесчисленные поколения предков, взращенных, воспитанных человеком, защищавших его в роковую минуту. Чувствовала ли, понимала ли она, что происходит, какая участь грозит и ей и ее другу сержанту? Инстинкт еще никогда не обманывал собаку.
Тра-та-та-та-та-та!
Теперь Стручков уже не берег патроны. Все равно один конец. Он заставил преследователей залечь и тогда побежал сам. Пуля сорвала пилотку, другая, расплющившись о ствол автомата и расплавившись, обожгла брызгами свинца. Автомат был испорчен. Стручков бросил его и выхватил парабеллум, отнятый у майора.
Чок! Чок!
Он и из парабеллума умел стрелять не хуже, чем из автомата. Это опять остановило гитлеровцев. Задержался и Стручков, заметив, что Майборода, опустив с плеча груз, дал себе короткую передышку. Тяжелый немец! Хорошо, что кустарник и неровности почвы помогали маскироваться.
Неожиданно лай собак и крики «хальт!» раздались сбоку. Вторая группа преследователей бежала наперерез. Десятка полтора гитлеровцев с двумя собаками бежали по открытому чистому пространству, где не росло ни единого кустика. С какой-то ужасающей отчетливостью Стручков увидел всю эту картину до мельчайших подробностей. Вплоть до пуговиц на мундирах. И эти черные оскаленные морды… все черные, как одна… Гитлеровцы специально подбирали черных собак для полицейской службы — вероятно, для вящего устрашения… вроде баскервилльской собаки у Конан-Дойля!
«Теперь амба, конец. Не вырваться», — запоздало пронеслось где-то в закоулках мозга.
Парабеллум был уже пуст.
Динка рвалась в последний бой. Стручков удерживал ее. Тихо, милая. Умрем вместе. Вместе спасались, вместе и сейчас… Стручков сжимал в руке гранату — последнее, что осталось. Другие были израсходованы раньше. Он взорвет и себя, и Динку, и врагов, когда те окружат их…
И тут ближний из гитлеровцев, взмахнув руками, исчез из глаз. Его не стало, а вместо него вверх взлетел столб огня, искр и едкого, синего дыма. Он провалился, точно земля разверзлась под ним, и, увлекаемая за поводок, туда же последовала и собака. Еще один из преследователей, зашатавшись, разделил участь первого. Затем почва стала обваливаться и под всеми остальными, бежавшими довольно кучно. Несколько секунд — и там, где были они, зияла разверзшаяся окутанная дымом, жаркая пасть, дышавшая языками пламени. Снопы искр взлетали и гасли… Торфяник поглотил всех.
Это было настолько страшно и неожиданно, что те, кто уцелел, оцепенели, а затем, забыв о преследовании, о Стручкове и Майбороде с пленным майором, бросились бежать назад.
Стручков, перебегая от куста к кусту, догнал Май-бороду. Так вот почему Малаша наказывала держаться кустов! Около кустов почва действительно была крепче, надежнее и выдерживала тяжесть человека, не было этих огненных ловушек… Малаша спасла их!
Майор больше не пытался сопротивляться и, хромая, пошел сам. Под двойной тяжестью почва, пожалуй, могла провалиться скорей, а такая перспектива никак не улыбалась майору.
— Альзо? Итак? — ехидно спросил Стручков.
Однако когда они, наконец, выбрались из болота, отдых потребовался всем троим. Они сели. Немец угрюмо молчал. Он опять находился между двух четвероногих стражей, ловивших каждое его движение. Даже руки не подними! Впрочем, руки у него по-прежнему оставались связанными.
Майборода отирал пот. Лицо его постепенно прояснялось.
Низкий, стелющийся рокот заставил всех оглянуться. Из перелеска с голыми, облетевшими ветвями, по порыжевшему скату, покрытому прошлогодней стерней, спускались советские танки. Время от времени останавливаясь и стреляя, они обтекали болото с двух сторон.
— Приехали. Нах хаузе. Зер гут! — подмигнул Стручков майору.
Немец отвернулся.
ЕГО ГЛАЗА
Темно, всегда темно… Можете ли вы, чьи глаза видят, понять мучительное состояние человека, лишившегося драгоценного дара — зрения, человека, обреченного постоянно быть в темноте, постоянно напрягать слух, осязание, чтобы этим хоть в какой-то мере возместить невозместимое? Ночь, отныне и до конца дней — всегда ночь… Для всех других утро сменяется вечером, за ночью приходит день; восходит солнце, и его лучам радуется все живущее; когда спрячется оно, на небе поднимется луна, зажгутся звезды, в домах и на улицах вспыхнут электрические лампочки; для всех одни цветы — красные, другие — белые, фиолетовые, желтые, трава — зеленая, а небо — голубое…
Небо! Какую силу, какую радость бытия испытывал он, когда взмывал на стремительной по-шмелиному жужжащей среброкрылой машине в голубой бескрайний простор, когда, будто ласточка, кувыркался там, слившись с самолетом воедино, ощущая его, как живое, трепетное существо, послушное малейшему повороту штурвала; вероятно, такое же чувство вело Икара, сына Дедала, когда он, презрев опасность, устремился на крыльях к солнцу и, обожженный, упал на камни [12]…
Только тот, кто сам летал, сам стремился в поднебесную высь, может понять эту радость парения!
Небо… Никогда-никогда больше он не увидит его… Какое там! О небе ли думать ему, слепому инвалиду, когда даже передвижение по земле представляется сейчас нелегким делом.
Инвалид! Слепой! Конечно, всякий, увидев, как ты растерянно остановился на перекрестке, протянет тебе руку и поможет перейти на другую сторону улицы; ноне больнее ли от этого ему, бывшему летчику-истребителю? Лишнее напоминание о беспомощности…
Лучше уж — не ходить, не показываться на людях, чтобы не ведать того горького чувства, какое охватило его вчера, когда какая-то сердобольная старушка помогла ему добраться до дому… Старушка самостоятельнее, чем он, тридцатилетний мужчина!
Лучше — сидеть. Он и сидит, точно прирос к легкому плетеному креслу; даже не шевелится лишний раз, чтобы не скрипело. Ему кажется, что это скрипит его тело, отяжелевшее, потерявшее гибкость.
Но никуда не скроешься от воспоминаний. Бесконечной чередой, мучительные и гордые, проносятся они в мозгу, будоража кровь, и самое яркое среди них — когда случилось это, непоправимое…
Они поднялись, как всегда, по сигналу тревоги с полевого аэродрома, укрытого зеленью берез и осин. Он шел ведущим.
Бой был тяжелым. Большая группа бомбардировщиков противника шла бомбить город и важный узел дорог. Их прикрывали «мессершмитты». После, как только в небе показались советские истребители, на подмогу фашистским асам явились еще и «хейнкели».
Это был один из тех последних крупных воздушных боев минувшей войны, когда гитлеровская люфтваффе еще пыталась вернуть утраченное превосходство в воздухе. С той и другой стороны — большое количество машин, с той и другой стороны — упорное желание добиться победы. Воздушное сражение разгорелось сразу на нескольких высотах — «этажеркой», как говорят летчики.
Как сокол прянуть из-за облака на врага, молниеносным ударом разметать строй машин неприятеля, не давая ему опомниться, бить, бить, бить — было излюбленным приемом старшего лейтенанта Дмитрия Алексеевича Трубицына. Под стать командиру были и летчики ею звена.
Они налетели — и все завертелось в дьявольской карусели. «Юнкерс», которого Трубицын избрал себе мишенью, тотчас задымил и отвернул в сторону. Оставляя за собой густой черный шлейф дыма, он устремился к земле и, ударившись о нее, взорвался.
А Трубицын уже клевал другого, то взмывая почти по вертикали в поднебесье, то снова пикируя на цель. Пока его звено расправлялось с бомбардировщиками, другие краснозвездные машины атаковали самолеты конвоя, не позволяя им прийти на помощь «юнкерсам».
И тут, в самый разгар боя, Трубицын увидел, что довольно многочисленная группа «юнкерсов», отколовшись от остальных, хочет ускользнуть незамеченной. Он сразу разгадал их маневр: избежав схватки, слегка отклониться от заданного курса, а затем снова лечь на него. «А-а, хитрят, гады! Думают — обманут!…» Крикнув по радио соседу, чтобы тот принял командование, Трубицын бросился в погоню за «юнкерсами» и скоро догнал их.
Они огрызались из пушек и пулеметов, а он кружил и кружил над ними, угощая их свинцовыми гостинцами то справа, то слева, выжимая из своего «яка» предельную скорость и увертливость. Наконец ему удалось зайти одному в хвост. Поймав его в перекрестие прицела, Трубицын нажал на спуск, но выстрелов не последовало: кончились боеприпасы.
В это мгновение, прошитый пулеметной очередью, вспыхнул его самолет. На базу не вернуться. А враг упорно старался пробиться на восток.
И тогда холодная, непреклонная ярость зажглась в нем. «Выброшусь на парашюте», — мелькнула мысль; но, казалось, то подумал не он, а кто-то другой. Сам же Трубицын был полон одним: атаковать, не пустить дальше, сбить хотя бы еще одного! Нет боеприпасов, но есть — таран; повторить подвиг Талалихина и Гастелло!…
«Врешь, фашист, все равно больше не летать тебе! Не уйдешь!» — твердил он с мстительной ненавистью, решая в эти стремительно летящие мгновенья не только судьбу противника, но и собственную; а руки уже делали свое дело — направили самолет прямо в широкую бледно-зеленую тушу ближайшего «юнкерса». Как-то внезапно она приблизилась, выросла до чудовищно огромных размеров, заслонив собой горизонт, небо, все, все… Удар! От сотрясения Трубицын едва не потерял сознание. В уши ворвался отвратительный скрежет, с каким винт вспарывал начиненное бомбами брюхо «юнкерса», страшный треск ломающихся лонжеронов. Истребитель не взорвался только потому, что бак был тоже почти пуст. «Юнкерс» рассыпался на части. Мелькнуло искаженное от ужаса лицо немца-пилота; дрыгнули в черном проломе худые длинные ноги, обутые в летные унты, должно быть штурмана или стрелка-радиста; красное полотнище развернулось вдруг перед глазами, струя пламени ударила в лицо, обожгла, едва не заставив закричать от нестерпимой боли; и затем все провалилось куда-то.
Как он выкинулся из кабины, как ему удалось отделиться от падавшего в смертельном штопоре самолета, раскрыть парашют и приземлиться — не сохранилось в памяти.
Будто в полусне, когда к нему возвращалось сознание, он слышал скрип телеги, толчки от ухабов, негромкие голоса людей; затем — покойное покачивание и постукивание вагона санитарного поезда, госпиталь… Его подобрали колхозники. У него были повреждены ноги и опалено лицо. Ноги, в общем, скоро будут совсем в порядке, он уже и сейчас может довольно сносно ступать на них; а вот глаза… С лица долго не снимали повязки; а когда, наконец, длинная раскрученная лента марли свалилась, он не увидел света дня — лишь какое-то тусклое мерцание, в котором не различить ни одного предмета.
Нет, он не Икар. Что Икар: красивая сказка! Икар поступил просто безрассудно, не имея никакой нужды рисковать; можно сказать, что это был первый в истории летного дела воздушный лихач; предупреждали — не послушался, ну и поплатился поделом. Урок всем: в воздухе дисциплина прежде всего. Перед старшим лейтенантом Трубицыным стояла святая задача — не пропустить стервятников к городу, не дать бомбить кварталы мирных домов, избежать жертв среди гражданского населения. Он и сделал это. И в сознании содеянного он находит утешение для себя. За это грудь его украсили Золотая звезда Героя и боевые ордена — награда за храбрость; за это ему почет и уважение, хотя он больше и не сражается с врагами Родины, не парит в синем небе, даже не обучает новичков, как делают многие старые пилоты.
Его подвиг не забыт. И все же так тяжко сознавать, что он слеп. Он же летчик, летчик, надо понять это! Его стихия — высота, полет! И вот он, любивший всегда быстроту, стремительность, вынужден теперь передвигаться маленькими шажками, точно учась ходить впервые, ощупывая себе дорогу палкой…
* * *
Он сидит на веранде; солнечные зайчики играют на полу, пробившись сквозь густую листву вьющихся растений, которыми опутана веранда; порой они сверкнут на синих очках сидящего; но все равно слепой не видит их — лишь ощущает их ласковое прикосновение, когда теплый луч упадет на лицо, руки. Мать ушла на работу; а за тонкой дощатой перегородкой слышны оживленные голоса, идет привычным порядком жизнь.
По голосам летчик узнает, кто говорит. Вот тоненький, нежный, иногда торопливо не договаривающий окончания фраз и слов — это Таля, младшая дочка соседей, которую он помнит еще совсем малышкой. Очень занятная была девчушка: все танцевала перед зеркалом или самоваром — танцует и смотрится. Потом она стала ходить в садик. Говорят, танцевала и там — несомненно, призвание у девочки. Сядет обедать — сейчас же начинаются ахи, восклицания: «Какой потрясающий суп!» Или — о ком-нибудь, кто ей понравился: «Потрясающая красавица!» Любит обо всем говорить в превосходной степени, вызывая у окружающих улыбки.
Помнится, как они познакомились: она сама сделала первый шаг, хотя еще не знала, что он живет рядом с ними. Встретившись во дворе, она внимательно-любопытно посмотрела на него, потом вдруг сделала быстренько вежливый поклон с приседанием и сказала:
— Извините, пожалуйста. Вы в каком доме живете? В двухэтажном?
Он ответил, улыбаясь:
— В двухэтажном.
— Нет, верно? А на каком этаже?
— На первом.
— А почему на первом? — Она была явно разочарована. — Если бы вы жили во втором, я бы к вам пришла.
Всех-то влечет высота, каждому, даже будь он ребенок, хочется окинуть взором мир с вышины, чтоб увидеть шире, дальше…
Кажется, давно ли это было; и вот она уже учится в школе, ходит в балетный класс (добилась-таки своего!), а он, «дядя Дима», — слепец, и ничто уже не может помочь ему…
Все соседи переживали его горе, когда он вернулся из госпиталя калекой. Никто, правда, не говорил об этом вслух, но он чувствовал по многим и многим деталям. А девочки так прямо не отлипали от него, ходили, как за своим. Мать уйдет на работу, а ему понадобится что-либо, только подай голос — бросят любое занятие, прибегут и сделают все, что ни попроси. Хорошие девочки, душевные.
Вероятно, прошло месяца полтора или два, как его привезли домой, — однажды слышит осторожный стук в дверь, будто поскреблась мышь. «Кто там? Можно». Входят Таля и с ней еще одна девочка, подружка по школе. Таля важно объяснила:
— Мы тимуровки, мы будем помогать вам. Хотите, дядя Дима, я почитаю вам книгу? Когда я устану, будет читать она.
— Почитай, — согласился летчик.
Они уселись напротив него. Таля раскрыла книгу и принялась за чтение, старательно делая остановки на всех запятых и точках. Но он, погруженный в свои невеселые думы, почти не слышал ее; потом внезапно встрепенулся: что они читают ему? Ах да, это же «Как закалялась сталь». Летчик горько усмехнулся: хотят поднять его политико-моральное состояние!
Чтение продолжалось с полчаса, затем он устало сказал:
— Идите, девочки. Вам ведь надо учить уроки…
Разговоры об уроках он слышит каждый день. Пожалуй, даже сам может сказать, что надо учить сегодня, о чем могут спросить в школе завтра, что задали по русскому или английскому. Кажется, сегодня на очереди география. Пришел со службы отец-инженер; Таля поверяет ему свои знания.
— Горы Карпаты… — звенит ее голосок. — Чуть-чуть они наши, а больше заграничные. Уральские горы, они горы длинные-предлинные, но… ну, не высокие! Не такие, как Альпы!
«А с самолета горы совсем не выглядят высокими», — думает летчик. И мнится ему, что поднимись он опять высоко-высоко, отпали бы его беды, перестала бы болеть душа.
Таля тем временем продолжает:
— Прикаспийская низменность. Она очень низкая и потому окрашена в темный-темный зеленый цвет…
Слышен быстрый топот каблуков, взбегающих по лестнице, и затем деловито-уверенно: «Добрый день!» — пришла Лара.
О, эта совсем другая, недаром прозвали профессором. Примерная ученица (круглые пятерки!); садясь заниматься, надевает большие круглые очки; обожает математические науки (готовит себя в ученые!). Аспирантура при каком-либо научно-исследовательском институте — на данном этапе ее идеал.
Они и наружно очень разные. Мысленно летчик рисует себе их портреты: он же хорошо знает девочек. Таля — точная копия отца — шатенка с мягкими вьющимися волосами, с пухлыми, алыми, как бутон розы, губками. Таля — дитя военного времени: родилась и росла в самую трудную пору. У нее плохие зубки (уже приходилось обращаться к врачу), слабое здоровье. У Лары, наоборот, зубы, как сахар; она — блондинка, в мать, с легкими веснушками на чуть вздернутом носике, рот всегда плотно сжат, выражение лица сосредоточенное.
Таля целый день поет, тараторит; у Лары не выжмешь лишнего слова. Лара — аккуратистка, Тале постоянно достается от нее. Вот и сейчас: только успела поздороваться — и уже началось.
— Ты опять мою ручку взяла! Отдай! Таля не отдает, пряча ручку за спиной:
— Я показывать ею буду. Я ее не поломаю!
— Отдай, знаю я тебя!
— Оставь, — вмешивается отец. — Никуда не денется твоя ручка.
— Да-а, не денется… — ворчит Лара, смиряясь, однако, перед волей родителя.
Таля с новым воодушевлением принимается за повторение заученного:
— Туранская низменность. Она маленькая, но все-таки большая. Один километр туда и один километр сюда…
— Сколько, сколько? — переспрашивает отец.
— Ах, одна тысяча километров, я ошиблась!
— То-то. А то эдак получается, как от нас до вокзала.
— Теперь про что рассказать?
— Алтайские горы забыла.
— Алтайские горы… — бойко начинает Таля и спотыкается. — Я не знаю, высокие они или нет, но очень красивые. Ты сам рассказывал. Склоны покрыты лесами… Что тебе еще нужно?
— Все спешишь, все спешишь, — качает головой отец. — Ты бы хоть у Лары немного позаимствовала прилежания…
— Она зубрит, а я не люблю!
— И вовсе я не зубрю! — с негодованием опровергает Лара. — Поменьше бы в зеркало смотрелась!
— А вот и буду! А вот и буду! Не укажешь!
— Перестаньте…
Таля, показав украдкой язык сестре, умолкает; Лара, дернув плечиком, уходит в свою комнату, чтобы без помех заняться уроками.
Летчик очень живо представляет себе все происходящее.
С некоторых пор все эти препирательства, болтовня девочек приобрели для него какой-то новый смысл; слушая их, он испытывает почти отцовское чувство. И у него есть определенные права на них. Да, да! Вот потому он и ослеп, чтоб защитить их детство. За то он и воевал, не щадил себя, чтобы они были веселы, жизнерадостны, и, сидя за стенкой, оставаясь чужим для них, он тем не менее участвует во всех их пререканиях и распрях.
Раньше, когда он еще видел, подобные сценки нередко случались и в его присутствии, и он мог бы повторить в лицах, как Таля высовывает насмешливо острый кончик розового язычка, а Лара, сделав пренебрежительную гримаску, удаляется, полная собственного несокрушимого достоинства, ясно говоря своим видом: что с ней связываться!… Смешные девчонки!
Но вот что интересно: прежде такие размолвки нередко перерастали в ссору, после чего сестры подолгу дулись одна на другую; последнее время все оканчивается более мирно. Не щенок ли этому причиной? У них же появилась общая собственность: беспокойное существо на четырех лапах, с коротеньким хвостиком и нелепой кличкой Типтоп. «Движимое имущество», как говорит отец девочек.
Действительно — движимое! Движется по квартире без конца, суется всем под ноги, прыжки, игры — с утра до ночи; кот Потап не знает, куда спрятаться от озорника. Зато девчонки от него без ума: водят щенка на прогулку, даже установили очередь, кому когда с ним идти; визжат от восторга, если он принесет палочку или щепку; обе записались в кружок собаководов и теперь аккуратно посещают его.
Особенно увлекается щенком Таля. Она и кличку ему придумала. Она же первая повадилась ежедневно приходить к слепому летчику и непременно приводить с собой мохнатого воспитанника.
Придя со щенком впервые, она тотчас подсунула его слепому:
— Дядя Дима, посмотрите, какой он хороший… И растерянно прикусила язычок. «Посмотрите» — ай, какая она неосторожная, не зря Лара пробирает ее каждый день! Думать надо, что говоришь!
Летчик, может быть, и не заметил этой оговорки (и лучше, если не заметил!), потому что сразу принялся ощупывать щенка. Он все еще не привык к этому занятию — знакомиться с предметами и даже с живыми существами главным образом посредством рук, осторожно обследуя их пальцами, — стеснялся своей неловкости и весь напрягался в такой момент, нервничая и боясь показаться жалким, несчастным.
Он положил руку на голову собаки, провел по шее и спине… Какая жесткая шерсть… Как прутья! Курчавая, как у овечки, и жесткая… Хвостик — будто кочерыжка и непрерывно дергается туда-сюда… очевидно, ради приятного знакомства! Рука снова вернулась на голову, перешла на морду, тронула холодный и влажный кончик носа, попыталась почесать под нижней челюстью и — опять удивление: борода! Бородатый пес! Везде шерсть сравнительно небольшая, а тут, под челюстью, висит пучком, длинная и волнистая… настоящая борода! И усы тоже есть… Занятная скотинка!
— Какой он породы?
— Это эрдель-терьер! — с гордостью объявила Таля. — Он знаете какой, дядя Дима? Он где хотите дорогу найдет! Нигде не заблудится! Сам дорогу найдет и еще человеку покажет!
— Уж будто! — сдержанно усмехнулся летчик.
— Ну вот, вы не верите, а я вам правду говорю! Какой вы! Почему вы мне не верите? — В ее голосе зазвучала обида.
— Да верю, верю… отчего ж… — поспешил он успокоить ее. — А какой масти твой пес?
— Сверху он черный, а снизу рыжий, — с готовностью принялась описывать собаку Таля. — Чепрачный, одним словом. Так нам в кружке объяснили. У него очень развит ориентировочный инстинкт…
Смотри, уже какие мудреные слова знает: «ориентировочный инстинкт», «чепрачный»… А тот, о ком шла речь, тем временем успел облизать летчику сначала одну руку, потом добрался до другой… Общительный собакевич! Слепому приятна эта ласка.
Вот с того раза Таля ежедневно приходит к нему со своим четвероногим дружком и значительно говорит:
— Вы должны его любить, дядя Дима…
— Да я его и так люблю, девочка!…
Но Таля, не слушая, продолжает со сдержанным волнением в голоске, волнением, которого не замечает летчик:
— Он очень, очень хороший, добрый, вы должны его любить, и он вас тоже будет любить…
* * *
Идет время. Подрастает Типтоп. Сегодня за стенкой учат физику.
— Ну, давай, Потапка, будем уроки учить! Сказано коту, но предназначается матери, которая частенько поварчивает, что младшая дочь слишком много времени посвящает животным — кошке и собаке. Шелест бумаги. Раскрыт учебник.
— Закон Архимеда. Тело, погруженное в жидкость…
Таля читает, покачивая в такт головой, точно отвешивая поклоны, и взмахивая правой рукой, как будто врубает каждое слово в воздух. Потап сидит на столе рядом с книгой и моет лапу. Он большой, рыжий, пушистый. И такой же рыжий, только счерна, Типтоп. Растянувшись у ног девочки, пес лениво чешет у себя за ухом. Набегался, напрыгался, можно и полежать.
Их веранда — точное повторение той, на которой сидит летчик. Так же затянута плющом, так же пробиваются лучи солнца сквозь зеленую сетку листвы и ветвей. Чивикнула птичка на дереве; Потап сейчас же перестал мыться и насторожился, хищно щуря зеленые глаза. Таля легонько шлепнула его: «Не смей трогать птичек!» — и опять за свое: «Тело, погруженное…»
Летчик думает: «А ну, попробую я — забыл или не забыл? Тело, погруженное в жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вода в объеме…» Не забыл.
А если закон Паскаля? Шевеля беззвучно губами, летчик без запинки повторяет физический закон, заученный с детства.
Физику он помнит. Нуте-ка, а если что-нибудь посложнее, сопротивление материалов например? Он напрягает память, стараясь поймать себя на каком-нибудь трудном вопросе, но память работает безотказно… Смотрите-ка, ведь не забыл, хотя прошло столько лет!
Он был студентом, ушел на фронт добровольцем, а летать научился еще до армии — в спортивном аэроклубе. И сейчас ловит себя на мысли, что вот куда, пожалуй, он тоже вернулся бы с радостью: в институт. Милые институтские стены! Актовый зал, куда они, первокурсники, входили с трепетным чувством; актовый зал, где окончившие получали в торжественной обстановке дипломы… И летчик надолго погружается в воспоминания, вызывая перед собой картины студенческой жизни, образы товарищей, профессоров. Что еще остается ему делать? Оттого и дни тянутся так медленно — лишь сиди да думай, думай да вспоминай… Кажется, затормозилась вся жизнь!
За стенкой снова начинается возня: Типтоп, передохнувший немного, опять наскакивает на Потапа, спустившегося на пол. Кот хотел проверить, высоко ли сидит птичка; да едва спрыгнул со стола, сам подвергся нападению. Типтоп рычит и лает, а Потап, небось, шипит, распушился весь, хвост трубой…
— Да ну вас! — кричит Таля. — Опять из-за вас тройку получу!
Подпрыгивая и гоняясь за котом, Типтоп громко топочет лапами. Действительно Типтоп, размышляет летчик. Пишется, наверное, через тире: сначала «тип», потом черточка и «топ». Тип-топ. Хотя ведь это кличка, так что, возможно, и вместе… Не забыть бы родной язык, не разучиться грамотно писать.
А славная собака. Прежде летчик как-то не особенно приглядывался к четвероногим; и уж, конечна, меньше всего интересовали они его на фронте. Летчику, да еще истребителю, при всем желании не захватить с собой в кабину ничего лишнего. Но он знавал танкистов, которые брали в машину собачку — «на счастье». Ему вспоминается один, который после тяжелого ранения и увечья не пал духом, а пошел учиться, чтобы приобрести гражданскую специальность, быть полезным человеком…
Институт не выходит из ума. Все-таки сталь закалялась не зря. Нет, не зря. Надо попытаться…
Решение принято. Несколько дней он испытывал подъем духа, даже начинал насвистывать, что служило признаком хорошего настроения. Но такое состояние продержалось лишь до первого выхода. Он ходил в институт, расположенный в противоположном конце города. Приняли его там приветливо, подбодрили, обещали всяческую поддержку. Его боевые награды, звезда Героя всякому внушали уважение. Да и без них он, вероятно, не остался бы в обиде. Но путь туда и обратно… Это постукивание палочкой, чтобы не оступиться, скованность всех членов, напряженно-пугливое настораживание при переходе через улицу: не идет ли автомашина, не попасть бы под трамвай… Ужасно, ужасно!
Он был совершенно убит, чувствовал себя изнеможенным, точно глубокий старик. Неужели так будет всегда? Да стоит ли жить после этого? Да ну ее, такую жизнь…
Жалко мать. Сын для нее — единственная отрада. И так переживает старуха… переживает, но вида не показывает, — вот у кого надо учиться стойкости! Предлагал ей бросить работу, его пенсии хватит на обоих, — не соглашается. Привыкла. Должность у нее скромная, скромнее некуда: уборщица (техничка, как говорят теперь!), а вот нате, тоже нравится, не может без привычного труда.
Как же жить без труда молодому? Невозможно…
— Дядя Дима, вы не спите? Можно к вам?
«А если бы спал? Все равно уже проснулся бы…» — ворчливо подумал он. Да, становится уже ворчуном, брюзгой.
Пришли девочки. Вот опять: сколько их? Он слышит, что не одна и не две, но — сколько? Постепенно, по голосам, подсчитал — четверо. Таля, Лара и две их подруги.
Две незнакомые девочки-старшеклассницы с любопытством, выражавшим одновременно и глубокое сострадание, разглядывали сидящего рослого человека, одетого в форму летчика, но без погон. Он не снимал ее даже дома: ведь она последнее, что еще соединяло его с прежней жизнью. Она придавала ему мужественный вид; и если бы не синие очки, скрывавшие глаза, то он и впрямь мог сойти за летчика, приехавшего из армии на побывку. Но стоило этому крупному молодому мужчине подняться, и он оказывался таким странно беспомощным: неуверенная походка, протянутая и словно что-то ловящая в воздухе рука… Все это так не вязалось с его наружностью!
— Что скажете, девочки?
Неловкое молчание сломалось. Лара выступила вперед и заговорила первая, время от времени ища взглядом поддержки у остальных:
— Ваша мама сказала нам, что вы поступаете в институт. Можно, мы будем помогать вам?
— Это каким же образом?
— Очень просто. Вам же нужно будет много изучать, мы будем приходить к вам и читать вслух учебники.
— Много же вам придется читать!
По тону его голоса нельзя понять: рад он, понравилось ему предложение девочек, или недоволен; и это подстегнуло Лару выпалить единым духом все, что она припасла для этого разговора:
— Это ничего, дядя Дима, ничего! Пусть вас это не смущает! Нас же четверо! Леля, Ксеня, Таля и я… мы сговорились, что вместе будем помогать вам. Каждая станет читать по часу в день. Это же четыре часа! А нам совсем не трудно, честное слово… Вы не возражаете, дядя Дима? А потом мы вам достанем… есть такие книги… — Она чуть не сказала «для слепых», но вовремя остановила себя. — По ним пальцами водишь, а там шишечки, и получаются слова… Нам сказали, что и учебники такие тоже есть… Мы будем шефствовать над вами… хорошо, дядя Дима? — И опять оглянулась на подруг, как бы спрашивая: все ли и так ли она сказала.
Он молчал. Молчал потому, что не знал, что ответить. Пожалуй, он впервые слышит, чтобы Лара произнесла такую длинную речь. Значит, и в самом деле очень хотят помочь ему. Слепой безмолвствует, потому что забота добровольных помощниц растрогала его.
Раздумье летчика они приняли за отказ. Пожимая плечами, Лара советуется глазами с подругами: как его убедить? Смотрите, какой гордый… А они думали, что он согласится сразу же.
Зазвенел голосок Тали:
— Это же совсем мало-премало, дядя Дима, по часу в день! Нет, верно! Мы хоть лучше научимся читать, а то мама всегда говорит, что я читаю без знаков препинания…
— Это ты так читаешь! А другие читают не так! — немедленно раздается возражение Лары, самолюбие которой не терпит никакой хулы.
— Ну и пусть! Ну и пусть! Как умею, так и читаю! — Девочки, перестаньте! — пытается остановить их одна из подруг, делая страшные глаза. — Не спорьте хоть здесь-то!
На лице слепого появляется улыбка. Сейчас он забыл про свой тяжелый поход в город. Они отвлекли его от грустных мыслей.
— А родители не забранятся? Вы с ними говорили?
— Нет, нет, дядя Дима, не беспокойтесь! Что вы! Конечно, говорили!…
— Ну что же, коли вам так хочется… — медленно произносит он. — Чур, потом на меня не пенять, не я заставил, сами захотели…
— Конечно, сами! Конечно, сами, дядя Дима! Что вы! Кто это будет пенять? — И Лара оглядывается, ища ту негодницу, которая осмелится подвести их в таком важном деле.
— Ну хорошо, хорошо…
А это еще кто? Кто-то бесцеремонно толкает слепого в бок, затем летчик ощущает горячее дыхание на своей щеке, влажное прикосновение… Типтоп! И он тоже тут! Типтоша… Летчик треплет собаку по голове, царапает за ушами, похлопывает по курчавой спине. Любишь ласку, приятель? Ну что ж, получай, получай. Совсем стал взрослый пес, не видали, когда вырос!
Переглядываясь, девочки уходят довольные, торопясь одна за другой бесшумно шмыгнуть в дверь, без стука, без скрипа закрыть ее за собой. Ведь это еще не все. Ведь он еще не все знает…
* * *
— Ляжь! Говорят тебе: ляжь! Встань только! Попробуй!
Это Таля дрессирует Типтопа.
— Я что тебе сказала? Только встань! Только встань! Вот я тебе дам — узнаешь, как не слушаться! Сказала, ляжь! Ты потрясающе глупый, Типтоп!
— Во-первых, не ляжь, а ляг. А во-вторых, так собаке не говорят, пора бы знать, — ядовито поправляет появившаяся Лара. — Ходишь, ходишь в кружок, а толку… А это что у тебя?
В руках у Тали голик.
— Он меня не слушается…
— Нечего сказать, хорошо же вы знаете русский язык, — слышится возмущенный голос матери, до ушей которой донесся весь этот диалог. Мать девочек — учительница, и коверканье родного языка в ее глазах — величайшее преступление. — И где только набрались таких слов: «ляжь»… Типтоп сделает правильно, если не будет слушаться вас. Нужно сказать «ложись» или «лежать»… как там у вас по собаководческим правилам?
— Лежать, — без тени смущения отзывается Таля. Ей все нипочем. Зато Лара сконфужена: «профессор», отличница — и вдруг тоже не знала, как скомандовать собаке!
— Я ведь говорила, что «лежать»… — пытается она поправиться после времени.
— Когда говорила? Когда говорила? Мама, не верь ей, ничего она не говорила! Ага, ага, попалась!
Девочки теперь каждый день поочередно занимаются дрессировкой Типтопа. У них даже график составлен, висит на стене рядом с расписанием уроков. С утра теперь раздается (Таля ходит в школу во вторую смену):
— Держи! Возьми палку в рот! Пока не возьмешь — не отпущу! Я кому сказала?
Скажем прямо: дрессировщика хорошего из нее не получится. И потому успехов у Типтопа пока что почти никаких. Только и научился что лапу давать, и то лишь тогда, когда захочет выклянчить лакомый кусочек, а так, даром, не заставишь, хоть убей.
Все пошло по-другому, когда за дело взялась Лара.
— Дай апорт! — командует Таля.
— Да не «дай апорт», а просто «дай», — поправляет Лара. — «Апорт», по-твоему, что значит?
— Возьми.
— А у тебя что получается? Дай возьми… поняла?
— Поняла.
И в кружке, в клубе служебного собаководства, так же говорили. Но вот у Ларки как-то все держится в голове, а у Тали — вылетает.
Сегодня у сестер состоялся генеральный совет. Если Типтопа учить только дома, многому не научишь. А они должны обучить его очень сложным вещам. Завтра воскресенье, они свободны от уроков, и обе отправляются на дрессировочную площадку.
…Шум, гам, собачий лай, вой… Вероятно, такой вы представляли себе дрессировочную площадку? Вот и ошиблись. Таля думала так же и тоже ошиблась. Для того и дрессировочная площадка, чтобы приучить собак не грызться без толку, не бросаться друг на друга и на всех прохожих без разбора, а вести себя достойно, как и пристало породистой собаке.
Оказывается, совсем не так просто: взял и сказал — и собака все поняла и сделала. Хочешь научить собаку — прежде научись сам. Да; дело не в том, чтобы знать в точности все команды и не кричать вместо «лежать» — «ляг» или еще что-нибудь в этом роде. Чтоб научить чему-либо полезному собаку, нужно раньше поработать над собой: не махать попусту руками, не кричать, не суетиться, не путать животное бесконечными возгласами и разговорами — словом, строже к себе, товарищ дрессировщик, строже! Тогда и дрессировка быстро пойдет на лад.
Легко сказать: не махать руками, не суетиться, — а если у вас от рождения вечный зуд в ногах, руки сами делают то, о чем не думает голова, а язык так и торопится, точно пулемет, выпалить все слова, какие знаешь?
В общем, занятия на площадке проходили приблизительно в таком порядке: то, что говорил клубный инструктор-дрессировщик, запоминалось основательно Ларой, Лара «дрессировала» Талю, и только после этого доходил черед Типтопа.
Польза была самая несомненная не только для собаки, но в первую очередь для самих девочек; а когда они твердо усвоили главную заповедь дрессировки — быть требовательными прежде всего к себе, — тогда это начало быстро сказываться и на их рыжем дружке Типтопе.
— Потрясающе интересно! — возвратившись с площадки, каждый раз восторженно провозглашала теперь Таля.
Интересно отметить: Таля и уроки стала готовить более аккуратно. Раньше — все тетрадки разбросаны: как заниматься, так искать; теперь все сложено стопкой в углу на столике. Перестала загибать уголки в учебниках, а закладывает ленточкой.
Отец и мать предупредили: «Если будешь небрежно относиться к урокам, запретим заниматься с Типтопом». И что вы думаете? Стала учиться на одни четверки. С пятерками еще не получается; но уверяет, что непременно будут и пятерки.
А в воскресенье с утра — на дрессировочную площадку. У кого воскресенье — отдых, а у них, у Лары с Талей, — работа. Типтоп уже привык, ждет. Сам подставляет шею под ошейник, затем пулей из дверей, на улице его берут на поводок, и все трое важно шествуют в другой конец города.
Чему это учат Типтопа? Кто не знает, ни за что не поймет. На морду надели какую-то кожаную штуку, мешающую нормально видеть. Ходишь и натыкаешься на все предметы; а бегать — уж и не вздумай. Поневоле научишься осторожности при ходьбе, будешь размеривать каждый шаг. Сперва Типтоп пытался сбросить эту помеху, потом смирился.
Сняли ее — так впрягли в какие-то оглобли, которые задевают за стены строений, за деревья и кусты. Чтобы они не толкали тебя всякий раз, приходится выдерживать расстояние между собой и ими…
Трудная наука для собаки. Трудная, а ничего не поделаешь, приходится осиливать, раз заставляют.
Зато выполнишь, как требуется, — получаешь лакомый кусочек: мясцо или сахар. Типтоп — ам! — и готов выполнять еще.
— А ты знаешь, папа, — сказала как-то Таля отцу, — Типтоп различает красный и зеленый цвет…
— Что он у вас, в шоферы готовится? — пошутил отец.
— Вы там, чего доброго, скоро его и разговаривать научите, — заметила мать. — Смотрите только, учите правильно…
— Ну, разговаривать он никогда не научится, — возразила Лара, — а понимать может многое.
Лара считает себя уже без пяти минут специалисткой по служебному собаководству и настоящей активисткой ДОСААФ — Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту. Оттого у нее и такой авторитетный тон. А уж спорить с ней лучше не связываться. Так посмотрит презрительно, так подожмет губы, что поневоле замолчишь.
«Вот зазнайка!» — думает иногда про нее Таля, но при случае сама не прочь похвалиться, какая умная у нее сестра.
— Интересно, много ли у вас там таких азартных?
— Много, много, папочка! — с жаром отвечает Таля. — Там и мальчики занимаются!
— Да ну-у? — с притворным изумлением протянул отец. — И все делают то же самое, что и вы?
— Ну да!
— И вовсе не все то же самое, — поправляет Лара. — Мальчишки больше увлекаются стрелковым спортом, мотоциклетным.
Ну да, конечно, Лара же не признает мальчишек. Она считает, что от них только шум, драки, сплошное беспокойство, что от них не жди чуткого отношения… Лара умалчивает, что успехом дрессировки Типтопа горячо интересуются не только девочки, но и вся мужская половина их школы и кружка. Всех волнует участь слепого дяди Димы, а также то, насколько удастся сестрам осуществить свой замысел. Какой замысел? Пожалуй, пока мы умолчим о нем. Ведь неизвестно, в самом деле, как еще получится у девочек, хотя труда они не жалеют и желания сделать все хорошо хоть отбавляй.
У них даже много новых слов появилось в лексиконе: «условный рефлекс», «отработать», «внешний раздражитель», «среда» (не день — среда, а то, что окружает нас: и воздух, и люди, и природа…). Когда в школе по программе проходили теорию Павлова (правда, пока проходила ее только старшеклассница Лара), никто не проявлял к ней особого интереса; как начали заниматься в кружке, только тот и разговор: рефлексы, рефлексы…
— А как ты считаешь, — лукаво спрашивает Талю отец, — прибирать тетрадки — это не относится к числу условных рефлексов?…
Типтопу тоже прививают нужные рефлексы.
* * *
— Дядя Дима! Дядя Дима! Рассудительную, всегда выдержанную Лару нельзя узнать. Она так возбуждена, обрадована… — Что случилось, девочка?
— Дядя Дима! Я вам принесла… я вам принесла… — Она торопливо развертывает что-то, шурша бумагой, и кладет перед летчиком на стол. — Это такой прибор… он придуман специально для… — Лара чуть заметно запинается, однако вовремя находит нужные слова: — …для тех, у кого повреждено зрение.
— Что же это за прибор?
— Он позволяет чертить!
— Чертить?
— Да.
— А ну-ка дай…
Чертить… неужели? О, если бы это действительно оказалось так! Подготовка к экзаменам уже началась: ежедневно девочки, сменяя одна другую, читают ему учебники, помогая осваивать науки, которые необходимо знать для поступления в институт. Память у него отличная, запоминает он все хорошо. Но ведь будущему инженеру необходимо владеть рейсфедером и чертежным карандашом, — кто сможет помочь ему в этом?
А ну-ка, про что она толкует?
Плоская коробочка… похоже на готовальню… Руки слепого быстро исследуют ее. Внутри — набор инструментов: планшет, пластинка… кажется, из целлулоида… Как этим пользоваться?
Лара торопливо объясняет:
— У нас в классе у одного мальчика папа преподает в школе для слепых детей… — Сейчас она решилась произнести это слово — «слепых», поскольку в данный момент оно не относилось прямо к дяде Диме. — И он… папа этого мальчика… сконструировал прибор. У кого еще сохранился хотя бы один процент зрения… ну, хотя бы совсем-совсем немного!… тот может с помощью этого прибора вычертить любой чертеж… Понимаете, дядя Дима? Он… этот мальчик… знает про вас… мы говорили ему, что вы собираетесь учиться в строительном институте… и он принес нам такой прибор… для вас… вот!
Кажется, Лара переменила свое мнение о мальчиках.
— Как им пользоваться? — нетерпеливо спрашивает летчик.
— Тут только надо электрическую лампочку… сейчас… — Оказывается, у нее с собой и лампочка с длинным шнуром и штепсельной вилкой на конце. Лара втыкает вилку в розетку на стене, разматывая шнур, чтобы подтянуть к столу. — Видите, дядя Дима?
Свет лампочки, если поднести близко к глазам, он видит — будто тусклое маслянистое пятно; но чертеж, линии… как это может быть?
— Вот видите, дядя Дима, — продолжает Лара, забывая в увлечении своей ролью, что обращается к слепцу. — Вот видите… Планшет — он прозрачный. А на пластинке — мастика. Она не пачкает, не бойтесь! Проведите по ней рейсфедером… А теперь я подсвечу снизу лампочкой… видите? Ну! Видите?
— Вижу!!! — вдруг вскричал летчик. — Вижу! Погоди, девочка, не торопи… Дай всмотреться!…
Он боялся поверить себе, боялся ошибиться. Вот эта линия, что он нанес на пластинку; она рельефная — можно ощутить пальцем. И ее же он видит… да, да, видит! Некая светящаяся черта возникла у него в мозгу… неужели это она? Похоже, как будто на циферблате светящихся часов…
А если он проведет еще одну черту, перекрещивающуюся с первой? Видит! Получился угол… А если еще одну? Треугольник… Видит!!!
— Откуда ты взяла это, девочка?
— Да я же рассказывала вам: папа одного мальчика… — Да, да, помню! Не повторяй! Слушай, ведь это же великое изобретение! И как просто! Все гениальное — просто! Теперь я могу чертить! Неужели могу? Хочешь, я нарисую самолет, истребитель, на котором я летал?
И он действительно начертил контур самолета, распластавшего в полете свои крылья.
— Нет, лучше это… — И медленно, еще неуверенно, но все же довольно точно, он нарисовал — именно нарисовал — угловатые прямоугольные буквы, сложившиеся в слово «П-Р-О-Е-К-Т».
Проект! Вот с чего начнется его новая — вторая! — жизнь.
Лара, раскрасневшись от удовольствия, блестящими глазами следила за его рукой, водившей по волшебной пластинке. Кажется, так бы и повела сама, помогла… Сюда, сюда, дядя Дима! вот так! еще одна черточка!… Вот и получилось! Ведь, правда, получилось?
Внезапно спохватилась: где эта ветрогонка Талька? Сейчас как раз бы подходящий момент сказать все! Ведь так и условились… Вечно опаздывает. Учи, учи ее — все без толку! Опять, наверное, заслушалась радио у кого-нибудь под окном! Как услышит музыку — не оторвешь. Стоит, наверно, и приплясывает… балерина!
В сущности, Лара даже горда, что ее сестричка станет со временем балериной; но как же не поворчать? На то и старшая сестра! Тем более, сегодня такой день… И, заслышав наконец быстрые легкие шаги в саду, грозно-нетерпеливо окликнула:
— Виталина! Тебя сколько можно ждать?!
Таля явилась запыхавшаяся. Она бежала чуть не всю дорогу — зря сердится Лариса. Типтоп вприпрыжку спешил рядом с нею.
— Здравствуйте, дядя Дима.
— Здравствуй, Таля.
— Дядя Дима, — сказала Лара. — Мы вам еще один подарок приготовили…
— Подарок? Какой подарок? — отозвался слепой, не вникая в смысл ее слов и с детским увлечением продолжая чиркать по пластинке. Так приятно было это делать: чертить, стирать и чертить вновь и видеть, как линии то появляются, то исчезают…
— А вот…
Таля подвела к нему Типтопа. А причем тут Тип-топ? Летчик машинально провел рукой по спине собаки; рука наткнулась на какой-то предмет. Будто дуга на шее у лошади, только в миниатюре.
— Что это?
— Шлейка. Возьмитесь за нее.
Он взялся за шлейку, похожую на дужку от ведра, но стоящую торчком и потому более удобную для схватывания, обтянутую кожей, чтоб не холодило руку. Вот из-за этой штуковины и задержалась Таля. Пришлось заказывать ее специально мастеру; а ему все некогда да некогда… еле выходили!
— А теперь идите.
Летчик не сразу понял, чего хотят от него девочки.
— Почему — идите?
— Типтоп поведет вас.
— Куда поведет?
— Куда хотите. Хотите — он найдет вам дверь.
— Ну, дверь я и без него найду, — с горечью усмехнулся летчик.
— Тогда он поведет вас по улице…
— По улице?…
На лице летчика сначала отразилось недоумение, затем мучительное раздумье. Поведет по улице… Тип-топ поведет… Что значит это?
— Что ты хочешь этим сказать? — пробормотал слепой, обращая свое смятение к старшей, к Ларе, но, как все слепые, почти не поворачивая головы, только вслушиваясь.
— Он собака-поводырь, — опережая сестру, отчеканила Таля. — Мы его выучили. Теперь он всегда будет водить вас.
— Всегда? Как же всегда? — Слепой понимал и не понимал. — Это же ваша собака…
— Он ваш! — хором воскликнули сестры. — Мы и взяли его для вас!
И они наперебой принялись рассказывать ему, спеша выложить столь долго и тщательно скрываемую тайну: как сговорились между собой вырастить и выучить для дяди Димы собаку-поводыря, как ради этого записались в кружок юных собаководов и взяли маленького эрдельчика; и родители одобрили их намерение… Летчик слушал с возрастающим волнением.
— Вы?… для меня?
Пот выступил у него на лбу. Вынул платок — отер; стал засовывать в карман и уронил. Типтоп сейчас же поднял платок и ткнул носом в колени. Девочки немедленно подсказали:
— Вы скажите: «дай».
— Дай.
Отдал… Ах ты, умница!
— Ну, пойдем…
Пошли. Дверь была закрыта, Типтоп поскреб ее лапой. Спустились по лестнице, прошлись по двору. Тип-топ держал себя совсем как разумное существо: именно вел, а не просто шагал рядом. Перед спуском с лестницы он остановился; огибая угол дома, соблюл расстояние, чтоб нельзя было наткнуться.
С каждым шагом летчик ощущал все большую опору в шлейке, которую сжимала его левая рука. Казалось, шлейка была живая: на ходу мерно покачивалась, когда надо остановиться — толкала руку назад, когда двинуться вперед — тянула за собой.
Завернули и тем же порядком обратно. Девочки с напряженными лицами безмолвно следовали позади.
— А теперь что?
Дядя Дима все еще не мог опомниться от неожиданности и беспомощно поводил вокруг себя незрячими глазами в очках.
Они подскочили враз обе:
— А теперь пойдем гулять! На улицу! На улицу, дядя Дима!
— Да, да, на улицу, — заторопился он, но, почувствовав внезапную дрожь в ногах, вынужден был опуститься в кресло.
— Мы только переоденемся. Мы сейчас! — сказала Лара.
— Сегодня же воскресенье, праздник! — добавила Таля.
И они испарились, давая тем самым ему перевести дух; лишь дробный перестук двух пар башмаков разнесся по дому. Следом ринулся и Типтоп: пес еще не знал, что отныне у него другой хозяин.
Пускай. Летчик проводил его с улыбкой. Пускай. Не сразу. Привыкнет постепенно. Небось, еще скучать будет. Хотя — живут рядом, так что мало-помалу все обойдется.
Тип-топ, тип-топ… Слепой всячески любовно смаковал эти два слога, прислушиваясь к топанью собачьих лап за перегородкой. Даже сделал движение пальцами по столу: тип-топ, тип-топ, переставляя их как ножки циркуля. Вот так сюрприз ожидал его сегодня, вот так сюрприз!… Слабость в ногах проходила, и его уже самого неудержимо тянуло на улицу.
Все шло по плану, намеченному девочками. Сперва, в виде пробы, небольшая практика по двору; после — более дальняя и сложная прогулка, в город. Одновременно это испытание и для Типтопа. Одно дело — ходить с девочками, только изображающими, что они нуждаются в помощи поводыря, и совсем другое — с настоящим слепым, в гуще городского движения, среди шума и толкотни. Сказать откровенно, обе ожидали этого дня с тревожным нетерпением, и сейчас у обеих беспокойно колотилось сердце. Ведь это экзамен и для них: как они справились с дрессировкой собаки… Вспомнить — смех один, как было вначале; а сколько ссорились, пока пришли к полному единодушию! Настоящее воспитание характера — и для них, и для пса… Ну, держись, Типтоп, покажи, на что ты способен! Да, смотри, не подведи, мохнатый поводырь!
— Мы готовы! — донеслось из-за стенки.
Слепой встал, застегнул пуговицы кителя, пробежав по ним пальцами сверху донизу, надел фуражку и громко позвал:
— Типтоп, ко мне!
Улица.
Они идут двумя группами: впереди летчик, правой рукой опираясь на палку, левой сжимая подергивающуюся шлейку, которую деловито несет на себе Типтоп, позади — девочки в ярких праздничных платьях, будто два цветка, постепенно отставая чуть-чуть, чтобы не отвлекать Типтопа, не мешать ему выполнять свои обязанности.
Очутившись среди людского потока, слепой вновь ощутил растерянность, близкую к боязни, которая тяжким грузом давила его, как только он оказывался среди уличной толкотни и шума. Но он заставил себя не волноваться. Спокойно, спокойно. Он же не один, теперь с ним есть надежный друг, который ведет его. И стоило только внушить себе эту мысль, нервное напряжение сразу стало ослабевать, высохли взмокшие ладони, рука уже не так стискивала шлейку. Ох, и тяжело учиться ходить заново!
Перекресток. Равномерное покачивание шлейки прекратилось, она толкнула руку — слепой остановился. Он уже начинает привыкать к этому безмолвному и незаметному со стороны разговору, и ноги сами немедля исполняют диктуемое шлейкой. Скоро выработается полный автоматизм, что и требуется для ходьбы вдвоем.
Стоят. Мимо несется поток автомобилей, слышится шуршанье шин по асфальту, короткие взвизги тормозов. Пес терпеливо ждет, поводя носом вправо-влево. Можно подумать, что он понимает красный сигнал светофора или взмахи руки постового милиционера. А почему бы и не знать? Конечно, знает. Он все знает, что положено собаке-поводырю.
Шлейка дрогнула, потянула вперед. Путь свободен. Вместе с толпою они переходят улицу. Девочки сзади подталкивают друг друга локтями. Хорошо, хорошо, Типтоп! Молодец, рыженький!
— Дядя Дима! — догоняя, окликает Лара. — Поедемте на трамвае!
В самом деле, улица уже не проблема. На улице Типтоп ориентируется превосходно. Сам отвернет, чтобы не столкнуться с встречными пешеходами, сам остановится, когда надо. Ведет так искусно, что не оступишься, не нужна и «третья нога» — палка.
Они садятся в трамвай: Типтоп со своим спутником с передней площадки, девочки — с задней. Впрыгнув в вагон, Типтоп сразу подводит слепого к одной из скамеек. Она занята, сидит какой-то паренек; Типтоп бесцеремонно толкает его носом: освободи! Паренек с недоумением посмотрел на собаку, потом поднял взгляд выше, понял и тотчас уступил место. Летчик сел.
Девочки и здесь держатся в отдалении. Пусть Типтоп делает все самостоятельно.
А куда они едут? Слепой молчит, не спрашивает; ни звука, разумеется, не издает и Типтоп. Взоры всех пассажиров устремлены на него; многие доброжелательно улыбаются. Типтоп невозмутим. Сел и сидит рядышком у ног хозяина, карие глаза умно поблескивают, передние мохнатые лапы составлены вместе, как два карандашика.
— Остановка Парк культуры! Следующая — институт! — слышен голос кондукторши.
Значит, они едут в направлении института. Приятно. Типтоп вскочил и потыкался носом, давая понять, что пора продвигаться к двери. Слепой принял это за случайность: просто, наверное, надоело сидеть собаке. Он не знал, что девочки специально тренировали собаку по этому маршруту.
У института вышли, походили по скверу. Приятно, приятно. С лица слепого не сходила улыбка. Потом тем же порядком: он с Типтопом с передней площадки, Таля и Лара с задней — сели в другой трамвай, идущий в обратном направлении.
Трамвай шел до дому. Пожалуй, на сегодня хватит. Летчик немного устал. Он чувствовал себя вполне удовлетворенным.
— Садовая! — возглашает кондукторша. Их остановка, выходить.
Типтоп вскакивает, подставляя шлейку своему хозяину, ждет, когда тот возьмется за нее, и уверенно направляется к выходу. Все расступаются, пропуская их вперед.
Милый, дорогой пес, он знает все! Понимает даже остановки. Вот уж истинно, только не говорит!
— Потрясающе… правда? — шепнула Таля сестре. Та молча кивнула головой.
Вот и знакомая калитка, откуда начался их сегодняшний поход. Слепой замедлил шаг, остановился, принуждая сделать то же и Типтопа, который потянул было уже в калитку.
Подошли сияющие девочки. Экзамен выдержан. Спасибо, Типтопушка, спасибо, дорогая собачка!
— Ну как, дядя Дима, вы довольны?
Доволен ли он? Наивный вопрос… Он счастлив, счастлив безмерно, — впервые после стольких дней страдания и неверия в собственные силы и возможности. Вот кто будет отныне его неразлучным другом, его глазами: Типтоп.
Волнение с минуту не давало ему говорить. И вдруг он подхватил собаку на руки, сгреб в охапку обеих девочек и, прижав к себе, закружился с ними, приговаривая:
— Милые вы мои, хорошие!… Да что же это, а? Неужели и вправду?… Вот спасибо-то вам, вот спасибо!…
Прохожие с удивлением смотрели на эту сцену. Конечно, никто не понимал причины столь бурного веселья, но каждый догадывался: случилось что-то хорошее, радостное.
* * *
…Может быть, вам приходилось встречать на улице мужчину с Золотой звездой на груди, в полувоенном костюме, какой носят многие служившие в армии, не желая и в гражданской жизни расставаться с полюбившейся им формой, которой гордится каждый советский человек. Прямой, строгий, он идет уверенно, с высоко поднятой головой; и если бы не густые дымчатые очки, закрывающие глаза, да характерная неподвижность в лице, вы, пожалуй, и не догадались бы, что перед вами слепой. В одной руке он несет сверток чертежей, другая держится за металлическую шлейку-дужку рыжей короткохвостой курчавой собаки, деловито семенящей рядом. Они очень уверенно пересекают улицу, выдерживая все правила уличного движения, забираются в подошедший трамвай. Маршрут их большей частью один и тот же: до строительного института и обратно.
Если бы вам удалось заглянуть в чертежи, вы прочитали бы там два слова, которые сказали бы вам все: «Дипломный проект».
Вчерашний летчик-истребитель, кавалер многих орденов и завтрашний инженер-архитектор Дмитрий Алексеевич Трубицын успешно оканчивает институт. Недалек день, когда по его проекту построят красивое здание. Он снова идет в высоту!
ВСТРЕЧА НА ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
Эта встреча произошла в тот яркий июньский день, когда на Красной площади в столице великого Советского Союза происходил парад Победы.
Солнце сияло над Москвой, блистали рубиновые звезды на кремлевских башнях, червонным золотом горели луковицы старинных куполов, как бы напоминая о бессмертной славе многих поколений. Под звуки оркестров, под ликующие клики народа стройными рядами проходи ли войска мимо Ленинского Мавзолея, приветствуя руководителей Коммунистической партии и Советского правительства, находившихся на трибуне.
Все в этот день было наполнено радостью Победы, счастьем жизни, мира, восторжествовавшими над ужасами войны. Какой-то особенно нарядной, праздничной выглядела в этот день Москва. Праздничный вид был у всех людей. Гордость за свою страну, за свой народ светилась у всех в глазах, была написана на лицах.
Наивысшим моментом торжества явился тот, когда затянутые в полную парадную форму советские гвардейцы стали бросать к подножию Мавзолея знамена разгромленных гитлеровских армий. Перед тем их пронесли по площади, волоча по камням мостовой; и вот с глухим стуком они бесславно падали одно на другое, а над ними гордо проплывали в головах колонн алые советские стяги.
Сколько жертв было принесено, чтобы наступил этот миг. Сколько испытаний осталось позади. Наконец он пришел, этот сияющий День Победы! Никогда черным силам фашизма и войны не сломить жизнеутверждающую мощь советской страны; всякий, кто посмеет посягнуть на мир и труд народа, строящего свободную, счастливую жизнь, жизнь в коммунизме, сам падет, сраженный насмерть.
Такие чувства волновали каждого, кто находился в эти часы на Красной площади; об этом думал каждый советский патриот. Эти чувства и мысли отражались и на лице моложавого, но уже седого полковника, стоявшего на краю одной из трибун для гостей. Два ряда боевых орденов и медалей украшали его грудь. Он держал на руках русоголового мальчика и высоко поднимал его, чтобы тот лучше мог разглядеть проходящие войска.
Мерно промаршировала «царица полей» — пехота, в стальных касках, с винтовками наперевес, с примкнутыми штыками; прошли автоматчики; раскачиваясь, в бескозырках с развевающимися ленточками, прошагали моряки-краснофлотцы — все, как на подбор, молодец к молодцу; на легких тачанках, под цоканье копыт, пронеслись пулеметчики; кони, выгнувшей, мотали головами, гривы летели по ветру. Впереди еще было долгое шествие танков, артиллерии, моторизованных стрелковых частей…
И вдруг седой полковник заволновался. Он и прежде едва удерживался на месте от возбуждения. Но тут его глаза расширились, он, не отрываясь, смотрел в дальний конец площади, откуда, из-за Исторического музея, двумя потоками вливались войска. Там показалась новая колонна; она приближалась. Шла техническая часть: у каждого бойца за спиной была винтовка, а слева у ноги бежала собака.
Сотни собак со своими вожатыми запрудили площадь.
Верные помощники бойцов, они тоже вышли в этот день на парад Победы.
Скромные, незаметные, семенили они рядом со своими проводниками, не глядя по сторонам, помня лишь о команде «Рядом!», о которой напоминали им легкие подергивания поводков. Под рукоплескания зрителей они прошли мимо трибун и уже удалялись, а седой полковник с блаженной улыбкой все еще смотрел им вслед.
— Это она! Клянусь, это она! Я узнал бы ее из тысячи! — вырвалось у него.
— Кто, папа? — осведомился мальчик.
— Собака. Заметил, которая бежала с краю, недалеко от нас? Такая рыженькая, мохнатая, хвост крючком…
Нет, разумеется, мальчуган не обратил внимания на нее. Собак было слишком много, чтобы его взгляд мог задержаться на какой-либо одной; и они все радовали его. Полковник же никак не мог успокоиться.
— Конечно, это она! — продолжал он говорить сам с собой. — У той было одно ухо испорчено, это я отлично помню. И у этой тоже одно ухо не стоит…
— А кто она? — спросил сын, продолжая следить за площадью. Выражение безграничного восторга не сходило с лица мальчика, он был как зачарованный.
— Разве ты забыл? Я же рассказывал тебе…
— Это которая… — Мальчик сразу заинтересовался и уставился своими бойкими, живыми глазенками на отца. — Я все помню, папа. Так это она?!
— Думаю, что она. Я непременно должен увидеть ее еще раз!
Под вечер того же дня, вскоре после парада, полковник вместе с сыном уже был в гвардейской воинской части, в которую входило собаководческое подразделение, принявшее участие в торжественном марше на Красной площади. Немного смущаясь необычностью своей просьбы, он объяснил командиру части, что привело их сюда… Он описал приметы лайки.
— А, это, по-видимому, Думка, — сказал молодой, подтянутый майор, выслушав посетителя.
— Думка? — переспросил полковник, с удовольствием повторяя эту кличку, словно то было имя близкого существа.
— Да. Одна из лучших наших санитарных собак.
— Она была в…? — И полковник назвал населенный пункт на западе страны, близ которого в минувшей войне разыгралось одно из кровопролитнейших сражений.
— Да, вся наша часть была там.
— Тогда это она!
— Почему вы интересуетесь ею? Хотя, пожалуй, я догадываюсь. Вероятно, не вы один хотели бы видеть ее… Это наша героиня!
Разговор был прерван появлением высокого молодцеватого сержанта, явившегося по приказанию командира. Настоящий гвардеец, он и откозырял с той особой четкостью, которая невольно заставляла любоваться им. Золотая звезда Героя Советского Союза свидетельствовала о его воинской доблести.
— Приведите Думку, — распорядился майор. Через минуту Думка стояла перед полковником. «Героиня» оказалась небольшой рыженькой лаечкой с косматым хвостом, загнутым на спину; одно ухо у нее было прострелено когда-то и ссохлось, а другое стояло весело и задорно. Вообще вид у нее был самый приветливый. Она помахала хвостом полковнику, как будто старому знакомому, когда он стал гладить ее; однако сделала это независимо и оставаясь у ноги вожатого.
— Вот она, наша Думка, — сказал майор. — Собака накормлена? — спросил он проводника.
— Так точно, — отчеканил тот.
— Думка, Думка, — повторял полковник, поглаживая собаку и похлопывая ее по мягкой пушистой спине. — Так вот ты какая! Спасибо тебе, голубушка! Вы знаете, — обратился он к майору, — так и хочется чем-то ее отблагодарить!…
— Ну чем же? Знаков отличия для собак пока еще не придумали… Не заграница[13]! Угостите ее ветчиной, если хотите! — рассмеялся офицер.
Полковник только того и ждал. Словно по волшебству, явились ветчина и кусок жирной полтавской колбасы; оказывается, полковник уже давно держал их наготове в кармане, завернутыми в бумагу, и теперь с видимым удовольствием принялся скармливать собаке.
— Смотри, Славик, — говорил он сыну, — вот она… Да ты погладь ее, не бойся!…
— Она ласковая, не укусит, — успокоительно заметил сержант. — Санитарные все такие, им злобными быть нельзя, работа не такая…
— Если бы не она, Славик, — продолжал объяснять полковник, — пожалуй, я сейчас не был бы с вами… Давно в Советской Армии? — обратился он к сержанту.
— С сорок первого года, — четко ответил гвардеец, вытягиваясь, хотя и до того стоял прямой и стройный, вызывая своей выправкой и вообще бравой внешностью тайную зависть Славика.
— Понятно. А Золотую звезду за что получили?
— За форсирование Днепра.
— Вместе с ней? — кивнул полковник на Думку, которой в эту минуту Славик скармливал остатки колбасы. Мальчик сидел перед собакой на корточках и держал колбасу зажатой в кулак, а Думка, жмурясь от удовольствия и наклоняя голову то на один, то на другой бок, отгрызала кусочек за кусочком.
— Так точно. С ней.
— Вплавь, небось?
— Вплавь. И под огнем. Когда плацдарм брали у Киева. Горячо было. Немец шпарит из пулеметов, бьет из тяжелых минометов по перевозочным средствам — не подступиться! А на том берегу уже наши раненые скопились. Ну, мы и пустились вплавь. Я, значит, саженками, а она рядом со мной. И ничего, доплыли…
— А теперь вы должны рассказать, при каких обстоятельствах познакомились с нашей Думкой, — произнес майор, когда сержант замолчал.
— Просим, товарищ гвардии полковник, — вежливо проговорил сержант. — Уж ежели дело касается Думки, то тут и для меня большой интерес…
— Расскажи! Расскажи, папа! Я тоже хочу слышать! — принялся просить сын.
— Обстоятельства вам известные… — сказал полковник после некоторого раздумья, в течение которого картины пережитого с необычайной яркостью пронеслись у него перед глазами. — Обстоятельства такие, что не дай бог никому их испытать…
* * *
— Вы, конечно, помните, — начал он, — какие бои шли в том районе. Моему полку там тоже пришлось встретиться с превосходящими силами противника. Это был первый период войны, и противник имел временное преимущество. Страшно вспомнить, как тогда все сложилось для нас…
Моя часть попала в окружение. Вырывались с боем, оружие не складывали. Я шел с последней группой бойцов. И вот когда почти все мои люди вышли из окружения, прорвав кольцо врага, я был ранен. Вот эта нашивка — за то ранение…
Вы знаете, какие там места. Топи, чащоба… Артиллерийский снаряд скосил моего ординарца, несколько бойцов. Один осколок тяжело ранил меня в голову, другой пробил грудь. Помню всплеск воды, вспышку пламени, меня ожгло, словно раскаленным железом, — что было дальше, не сохранилось в памяти…
Очнулся от холода. Я лежал в болоте, наполовину погрузившись в тинистую зеленую воду. Руки, ноги онемели, грудь была точно налита чем-то тяжелым и горячим, в голове — тупая, ноющая боль. Я почти не мог шевелиться, мне стоило большого труда перевалиться на бок и, подтягиваясь на руках, выбраться на бугорок, где было относительно суше.
Положение было незавидное. Помощи в ближайшее время ждать неоткуда, я потерял много крови и почти не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Каждое движение причиняло жестокую боль, от которой темнело в глазах.
В тот момент я не знал, что наши части перешли в контрнаступление и фронт быстро откатывается на запад…
Впрочем, даже если бы я и знал, что лежу на освобожденной территории, все равно у меня было мало надежды на спасение, так как наступающие войска быстро уходят вперед, а я лежал в стороне от главного движения. Кто найдет меня в болоте? А если и найдут, не будет ли слишком поздно? Сколько я могу продержаться, пока не погибну от холода и потери крови? Такие вопросы я задавал себе.
Одежда на мне превратилась в ледяную негнущуюся корку, она давила меня; порой я впадал в забытье, и тогда мне мерещилось, что я закрыт в тесном холодном гробу…
Рядом лежали мои товарищи… мертвые… И я тоже казался себе мертвецом… уже отрешенным от жизни…
Временами, когда прояснялось сознание, ко мне приходили воспоминания, такие яркие, точно все было вчера. То я видел себя на гражданской войне, которую всю прошел рядовым красноармейцем, то — день, когда меня принимали в партию. Вспомнились Славик, семья… И такая злость меня взяла! Неужели, думаю, так и подыхать в этом болоте? Ну, нет! Помереть-то всякий дурак сумеет! А я еще поживу, я еще увижу, как наши войска войдут в Берлин, — так говорил я себе. И тогда, стиснув зубы, я полз, подтягивался на руках, впадал в забытье, снова полз…
Сколько прошло времени, я не знаю. Помню только, что окончательно выбился из сил; помню, пытался кричать в надежде, что меня услышат, но вместо крика получалось только хрипение, которое не услышать и в нескольких шагах.
И вот в один из моментов, когда я начинал бредить наяву, я почувствовал прикосновение к лицу чего-то теплого и влажного. Я открыл глаза и у самого своего лица увидел острую, похожую на лисью, морду с блестящей черной мочкой носа. Два глаза внимательно смотрели на меня, как бы спрашивая: «Ну, как дела, приятель? Ты еще жив?…» Я ощутил дыхание зверя.
Сознаюсь, в первый момент я испугался. Мне представилось, что это волк или кто-нибудь из родственного ему племени. Поверьте, ох и жутко в подобном положении оказаться нос к носу с одним из обитателей леса… Потянулся рукой к пистолету, но кобура обледенела, сделалась твердой, как дерево, и не поддавалась моим усилиям. От моего движения волк должен был отскочить назад либо наброситься на меня, — этот же зверь продолжал миролюбиво стоять на месте. И только тут я увидел, что это вовсе не хищник…
Рыженькая ласковая собачка стояла около меня; ласковая — потому что она лизала мое лицо. Мне бросилось в глаза, что одно ухо у нее стояло торчком, как у всех лаек, а другое было сморщенное и ссохшееся, точно его сжали в каких-то тисках.
Вы себе представить не можете, как я обрадовался ей!
Хотите верьте, хотите — нет, но я чувствовал себя на положении первобытного человека, одинокого и беспомощного, окруженного беспощадной и равнодушной, даже более того — враждебной стихией природы, разделить с которым его одиночество пришло единственное живое существо — собака. Право же, мне казалось, что в эти часы я перенесся на тысячи лет назад и вернулся к тому первозданному состоянию, в каком пребывали наши предки… Когда ты лежишь вот так, беззащитный, как новорожденный младенец, чего не перечувствуешь!
— Откуда ты взялась? — сказал я ей.
Я решил, что она потерялась и ищет, к кому приблудиться.
В то время много таких бездомных тварей бродило в поисках пищи в полосе военных действий: деревня сожжена, хозяева убиты или убежали…
В ответ на мои слова собака повиляла хвостом, повернулась ко мне боком — и тут я понял, что ошибся. На спине у нее была надета небольшая сумка с красным крестом, а под шеей болтался какой-то кожаный предмет, вроде палочки.
«Санитарная. Отстала от своих, как и я…» — пронеслось у меня. Я все еще не понимал истинного значения ее появления.
— Что же мы с тобой будем делать, а, Жучка, или как там тебя?
Мне было приятно говорить с нею, хотя она и не понимала меня. Все-таки кто-то живой около тебя.
Между тем, собака легла рядом со мной. Ощупав ее сумку, я обнаружил в ней фляжку. Вытащив ее, приложил ко рту и — закашлялся. В фляжке был спирт. Он опалил мне рот и гортань, как огнем, однако, сделав несколько глотков, я сразу почувствовал, что жизнь возвращается ко мне[14].
Собака, казалось, только того и ждала, чтобы я попользовался ее ношей. Вскочив, она подхватила в зубы болтавшийся у нее под шеей предмет и со всех ног бросилась прочь.
— Куда? — закричал я настолько громко, насколько мог, но она даже не обернулась на мой крик.
Я вновь остался один. Теперь мне стало еще более тоскливо и одиноко, чем было до ее появления.
Спирт согрел меня, но ненадолго. Вскоре я почувствовал, что опять замерзаю. Мысли мои все время возвращались к собаке. Почему-то мне думалось, что она еще вернется.
Сознание снова стало мутиться. Начинало темнеть. По низине медленно полз туман, заволакивая все вокруг.
Собака не возвращалась…
Но — что это мелькнуло у леса? Последним проблеском сознания я уловил две тени — два человека бежали с носилками в руках. Впереди, нюхая землю, прыгала на длинной привязи собака. Она обследовала всех мертвецов, быстро перебегая от одного к другому, затем направилась ко мне…
«Санитары…» — подумал я.
Все дальнейшее провалилось, как в колодец. Очнулся уже в госпитале, в глубоком тылу. Пришел в себя и сразу вспомнил своего четвероногого спасителя — рыжую шустренькую лаечку. Вспомнил и захотел ее видеть. Где она? Жива ли? Наверное, ушла с войсками дальше, спасать других тяжелораненых…
Я поминал о ней всю войну. Каждый раз, когда мне приходилось видеть собаку, в памяти обязательно вставал этот скромный труженик войны, помогающий спасению жизней наших воинов.
И вот сегодня, совершенно случайно, я встретил ее на параде Победы…
Полковник умолк, ласково глядя на Думку. Молчали и остальные. Думка, которой наскучило сидеть, легла у ног вожатого и свернулась клубочком, уткнув нос в кудлатый хвост. Сержант, сидя на стуле и слегка склоняясь к собаке, перебирал пальцами у нее за ушами.
Молчание нарушил Славик.
— А для чего она брала палочку в рот? — спросил он.
— Чтобы показать санитарам, что она нашла раненого, — ответил майор. — Это называется бринзель.
— И она привела их к папе?
— И она их привела. На ее счету сто сорок спасенных жизней. Дважды ранена, потеряла ухо на фронте…
— Мы тогда не одного товарища гвардии полковника подобрали, — скромно заметил сержант.
Полковник бросил на него взгляд, говоривший о многом, но ничего не сказал, продолжая задумчиво молчать и все с тем же выражением смотреть на Думку. Но видел он сейчас уже не ее и не тот черный лес, где осенью сорок первого года лежал среди холодного вечернего тумана и испарений болотной гнили, а Берлин, поверженный и капитулирующий гитлеровский Берлин, куда он недавно входил со своим полком, входил как победитель…
МСТИТЕЛЬ
1
Известно, что когда соберутся несколько любителей собак, разговоров не оберешься. А нас было четверо, и все закоренелые собачники: мой старый товарищ, Сергей Александрович, много лет руководивший клубом служебного собаководства (там, в клубе, когда-то мы и познакомились и стали друзьями), полковник в отставке — один из старейших членов нашего клуба, еще один любитель, бухгалтер по профессии, и я.
Все мы хорошо знали друг друга, но не встречались давно, так как прошедшая война разметала людей, и только вот теперь, когда, наконец, буря пронеслась и страна вернулась к мирной жизни, мы собрались, чтобы отвести душу в дружеской беседе. Поговорить у нас было о чем.
Сергей Александрович был все таким же, каким я знавал его в былые времена: оживленным, смуглолицым, с громким голосом, силе которого мы не раз дивились, когда он раздавал призы на ринге, с прежней юношеской подвижностью и ловкостью худощавой подтянутой фигуры. Лишь пробивающаяся в черных волосах седина напоминала о том, что все мы стали значительно старше. На правой половине груди его была нашита золотая полосочка, свидетельствующая о перенесенном тяжелом ранении, — память о великой битве на Волге; на левой — приколоты орден боевого Красного Знамени и ряд медалей, в том числе за оборону Москвы, за взятие Будапешта, за взятие Вены. Еще больше орденских ленточек — так, что от них рябило в глазах — было на груди полковника.
Сугубо штатский человек, как и я, никогда не служивший в армии, четвертый участник нашей встречи, бухгалтер, в присутствии людей военных, бывалых всегда держался в тени; однако он был близок к армии хотя бы уже по одному тому, что, как активист клуба, в военные годы вырастил и сдал для Советской Армии несколько молодых собак. О том, что он был связан с нею более тесными узами, нам суждено было узнать лишь в этот вечер.
Я очень хорошо помню, как, благообразный и серьезный, в своем неизменном теплом бобриковом пальто, с остриженной ежиком седой головой, накрытой поношенной черной шляпой, приходил он в клуб, ведя очередную собаку на добротном ременном поводке. Там уже знали о цели его посещения. Он вручал собаку, расписывался аккуратным каллиграфическим почерком в толстой канцелярской книге, в которой регистрировался «приход» и «расход» собак, подтверждая своей подписью, что он добровольно и безвозмездно передает собаку государству, затем, держа шляпу в руке, сдержанно выслушивал благодарность и, потрепав в последний раз жалобно повизгивающую питомицу, уходил, постукивая тростью.
Таких добровольных поставщиков в те годы насчитывались сотни, но бухгалтер выделялся даже среди многих. Казалось, он видел в этом какой-то особый, известный только ему, смысл…
В клубе он слыл чудаком. Говорили, что перед войной он пережил какую-то тяжелую семейную драму, после чего сделался замкнутым, ушел в себя. Малоразговорчивый и сдержанный, он оставался верен себе и в этот вечер: больше слушал, ограничиваясь только отрывочными, всегда сказанными к месту, репликами.
Говорил главным образом Сергей Александрович. Почти на протяжении всей войны он командовал собаководческими подразделениями, и это придавало в наших глазах его рассказам особый интерес.
В самое тяжелое время, когда гитлеровские полчища были под Москвой, ему довелось участвовать в эвакуации из Подмосковья центральной школы-питомника военно-служебных собак. Транспорт был занят более важными перевозками, и почти четыреста километров собаки шли «своим ходом», на поводках у вожатых. Этого тяжелого перехода не выдержал старик Риппер, отец моей Снукки, в прошлом победитель многих выставок, одна из знаменитейших наших собак, вошедшая в историю советского собаководства. В пути старый заслуженный пес отказался идти дальше, и молодой лейтенант, не знавший редкостной биографии собаки, приказал пристрелить ее.
Конечно, жаль беднягу Риппера, но что поделаешь: время было суровое, не до излишних нежностей.
Истинными героями в эти трудные дни показали себя вожатые: каждый вел от трех до пяти собак, а некоторые, кроме того, еще тащили щенков. Они хотели во что бы то ни стало спасти свою школу, не дать погибнуть ни одному ценному животному, сохранить государственное имущество, и они действительно сохранили его. Эту решимость не могли поколебать ни ранние морозы, ни постоянная опасность налетов вражеских самолетов (в тот период они господствовали в воздухе, рыская над ближним и дальним тылом), ни другие трудности и испытания пути. Каждый понимал, что эвакуация временна, как временны все неудачи, пройдет немного дней и школа вновь заживет прежней жизнью. И они не ошиблись. Вскоре школа вернулась на обжитое место и продолжала готовить резервы обученных собак и кадры вожатых для фронта. Впрочем, она не переставала готовить их и находясь в эвакуации.
С Риппера наши мысли незаметно перешли к тому, какие бедствия принесла с собой война и какую ненависть к врагу породила она. И тут кто-то неожиданно затронул вопрос: а способны ли проявлять ненависть собаки?
2
Не следует понимать нас превратно. Мы не собирались смешивать разумные действия человека с безотчетными проявлениями чисто биологической активности животного и отождествлять свои собственные чувства и переживания с ощущениями собаки, но все-таки: могут ли собаки ненавидеть? Всем известно, какой привязанностью платит собака за дружбу и ласку. Способна ли она на такие же сильные чувства, но совсем противоположного свойства?
Вопрос возбудил общий интерес, и начавшая было утрачивать остроту беседа вновь оживилась.
— Я считаю, — сказал Сергей Александрович, — что собаки всегда помнят причиненную им обиду и способны жестоко отплатить за зло. Они очень хорошо умеют отличать друзей от врагов, и в этом смысле их нервный аппарат не оставляет желать ничего лучшего. На фронте, например, я неоднократно имел возможность убедиться, что наши собаки превосходно разбирались, где свои, а где чужие. Один вид гитлеровского солдата в его голубовато-зеленой шинели вызывал у них приступ бешеной ярости…
— Ну, это самый обыкновенный рефлекс, — возразил полковник, вынимая изо рта трубку, которую он посасывал весь вечер.
— Да, конечно, — кивнул головой Сергей Александрович. — Но в данном случае интересно то, что никто не учил их реагировать специально на форму противника.
— И тем не менее это очень просто объяснимо, — снова сказал полковник. — Часто встречаясь с этой формой при таких обстоятельствах, которые не вызывают у собаки приятных ощущений, она быстро привыкает и реагировать на нее определенным образом.
Начальник клуба, соглашаясь, снова кивнул, а мы с бухгалтером, несколько задетые категоричностью тона полковника, который, как нам показалось, начисто отрицал возможность проявления ненависти у собаки, принялись горячо доказывать ему, что он ошибается и что собака может быть и злопамятной и мстительной.
В подтверждение этого каждый из нас припомнил какой-нибудь случай из собственной собаководческой практики. Полковник слушал, не перебивая, чуть склонив свою крутолобую, начинающую лысеть голову с тщательно расчесанным пробором, невозмутимо вставляя в паузах: «рефлекс» или «инстинкт».
Наконец мы замолчали и выжидающе уставились на него. Он неторопливо выколотил трубку и неожиданно для нас заявил:
— Ну, уж если зашла речь о ненависти у собак… — он говорил медленно, раздельно, отчего слова приобретали особую убедительность и вескость, — …то должен вам заметить, что могу поделиться с вами более необыкновенным случаем. Вы не будете возражать, если я займу ваше внимание?
Нет, мы не возражали, и полковник продолжал:
— Лично я глубоко убежден, что собака способна питать ненависть, и очень сильную ненависть. Ведь даже легкая неприязнь иной раз ведет к ненависти, а как часто каждый из нас замечал симпатию или антипатию своего пса к тому или иному человеку! Более того, я думаю, что собаке знакомы многие чувства, которые присущи нам, людям, например: ревность, тоска… Ведь факт, что собака очень тяжело переносит разлуку с любимым хозяином и даже может погибнуть от тоски. Вспомните верного Фрама, который остался на могиле Седова и погиб там. Сорок тысяч лет живет собака около человека — сорок тысяч лет! Она уже не может жить без человека, настолько близки ей стали его привычки, его уклад жизни. Она научилась понимать наши желания. И нет ничего необыкновенного в том, что она за это время приобрела, по выражению Горького, и нечто от человеческой души. Один ученый высказал такую мысль: поскольку у собаки есть все те органы чувств, какими располагаем мы: относительно большой по весу головной мозг, состоящий из двух полушарий, с большим количеством извилин в их коре, сильно разветвленная нервная система и так далее, — естественно предположить, что у нее должны быть и зачатки самих чувств. Павлов называет собаку самым приближенным к человеку животным. Энгельс в «Диалектике природы», говоря о собаке и лошади, прямо указывает, что «имеется немало случаев, когда они свою неспособность говорить ощущают теперь как недостаток». Кто учит собаку ходить на цыпочках, когда вы спите? Или: почему, когда у вас дурное расположение духа, вы невеселы, чем-то озабочены или удручены, нервничает и собака? Особо возбудимые из них в такой момент даже ищут, куда бы спрятаться, хотя им не грозит никакая неприятность, мечутся по квартире, не находя себе места… Признаюсь вам: я тоже иногда не прочь пофилософствовать об уме собаки. Что поделаешь, уж очень хороший подарок преподнесла нам природа в лице этого животного! Недаром наш великий соотечественник Иван Петрович Павлов из всех представителей животного мира выделял именно собаку. Помните сочиненную им надпись на памятнике в Колтушах: «Собака, благодаря ее давнему расположению к человеку, ее догадливости и послушанию, служит, даже с заметной радостью, многие годы, а иногда и всю свою, жизнь, экспериментатору»? Заметьте, что конец этой фразы очень близко касается нас. Ведь мы с вами тоже экспериментаторы, ибо мы, советские кинологи, постоянно ищем все новые возможности и способы применения собаки. Павлов первый из ученых поставил ей памятник; не те ханжеские монументы, какие ставятся скучающими барыньками своим умершим Мими или Фифи на собачьих кладбищах буржуазного Лондона или Парижа, — а памятник Собаке как другу и помощнику человека-труженика. Иван Петрович любил и ценил ее за ее понятливость, за ее преданность, за ее готовность всегда и везде следовать за человеком, слиться с его желаниями, полностью отдаться ему во власть. Он наказывал нам никогда не мучить собаку без нужды, заботиться о ней…
Огласив единым духом этот панегирик в честь собаки, произнесенный, впрочем, в обычной для полковника сдержанной и убедительной манере, он помолчал и продолжал:
— Теперь скажите мне: великий естествоиспытатель столько раз причинял боль своим подопытным животным, и все же, несмотря на это, они продолжали оставаться его друзьями. Почему? Потому что природа дала собаке могучий инстинкт, который помогает ей безошибочно отличать друга от недруга, распознавать опасность, иногда даже предчувствовать беду. Не случайно собаку никогда не удается обмануть фальшивой лаской: она всегда распознает обман… Павлов научно объяснил все побуждения собаки. Он доказал, что в основе всего лежит рефлекс, но отнюдь не обдуманные действия. Умаляет ли это достоинства наших животных? Нисколько. Просто это позволяет нам лучше понять их, глубже проникнуть в их внутренний мир, мир нервной деятельности, увереннее руководить их поступками. Таким образом, и ненависть у собаки, как я представляю ее себе, — это реакция на какой-то очень сильный раздражитель. Реакция эта может быть очень прочной и ярко выраженной, и тут возможны действительно поразительные случаи. Об одном из них, свидетелем и в какой-то мере участником которого оказался я сам, я и хочу рассказать вам…
После паузы, в течение которой ни один из слушателей не проронил ни слова, полковник задумчиво произнес:
— Выше всего я ценю преданность, верность. О преданности и верности будет идти речь и в моем рассказе, хотя главная движущая пружина в нем — ненависть…
3
— Начало этой истории относится еще к предвоенным годам, а конец… Впрочем, не буду забегать вперед.
Накануне Великой Отечественной войны я служил в пограничных частях и жил с семьей на границе. Наш участок считался одним из самых неспокойных. Это были годы бешеной подготовки капиталистическими державами войны против нас; и они старались как можно больше заслать к нам разведчиков, вредителей, убийц… Словом, работы нам, пограничникам, хватало…
У нас на заставе служил молодой паренек, очень хороший, превосходно воспитанный юноша, начитанный и культурный, вожатый розыскной собаки. Когда его призвали в армию, он сам попросился направить его в школу вожатых служебных собак, окончил ее с превосходными показателями и после этого вместе с собакой приехал к нам.
Собака у него была из породы овчарок, молодая, хорошо натренированная и привязанная к нему необычайно. У него было природное уменье обращаться с животными, навсегда привязывая их к себе.
Да это и вполне понятно. Характер у него мягкий, приветливый и в то же время в нужные моменты достаточно настойчивый, даже упорный. Собаке он отдавал все свое свободное время. Можно без преувеличения сказать, что когда они находились на посту, в секрете, то представляли из себя как бы одно целое. Он понимал ее даже по малейшему изменению поведения, по движению ушей, а она слушалась его с одного взгляда. Да…
И вот этого парня, превосходного пограничника и исполнительного, смелого бойца, убили.
Произошло это так.
На нашем участке границу перешла крупная банда. Завязалась перестрелка. Ему и еще одному бойцу выпало принять на себя первый натиск. Они оказали бандитам достойный прием. Несмотря на то что нарушителей было много, а их только двое, они сумели задержать противника до подхода подкрепления.
Когда мы прибыли на место происшествия, то застали следующую картину: второй пограничник был цел и невредим, со стороны нарушителей было убито трое, наши потери — один человек, вожатый Старостин…
4
Легкий возглас прервал в этом месте речь полковника.
— Как вы сказали: Старостин?
— Да, — подтвердил полковник, — Старостин.
— А имя?
— Афанасий.
Лицо бухгалтера внезапно покрылось смертельной бледностью. Он схватился рукой за сердце и, казалось, упал бы, если бы не откинулся на спинку кресла. Мы с тревогой и недоумением смотрели на него.
Старостин — фамилия бухгалтера. Но какое это могло иметь значение? Мало ли однофамильцев на свете.
— Что с вами, Василий Степанович? — осведомился Сергей Александрович. — Вы нездоровы?
— Нет, ничего… уже ничего, благодарю вас, — отвечал тот. Голос его звучал глухо, незнакомо. — Нет, право, ничего; продолжайте, прошу вас, — повторил он через минуту уже своим обычным тоном, видимо овладев собой. — Что-то немного с сердцем, но уже прошло… Продолжайте, пожалуйста, это очень интересно… то, что вы рассказываете. Так вы говорите, что он… этот убитый юноша… вел себя героически?
— О да! — подтвердил полковник. — Так, как и надлежит вести себя советскому воину. Но, может быть, лучше отложить мой рассказ до другого раза? Вы все еще бледны…
— Нет, нет, — решительно запротестовал бухгалтер. — Мне уже хорошо. Не нужно откладывать. Извините, что я, не желая того, прервал вас… Больше этого не случится.
Он действительно, казалось, успокоился и дослушал начатую историю до конца, не прерывая больше рассказчика.
5
— Да, так наши потери были, — повторил полковник, — один человек — Афанасий Старостин. Он расстрелял все патроны и был убит в рукопашном бою, пистолетным выстрелом в упор. Около него лежала тяжело раненная собака. Она защищала вожатого и получила два огнестрельных ранения.
Мы все чрезвычайно переживали гибель Афанасия Старостина. И очень тосковал по нему его пес — Верный. Он вскоре поправился от ранений, и его передали другому бойцу, но из этого ничего не вышло. Во-первых, пес плохо слушался его; во-вторых, дойдя до того места, где был убит его друг, он начинал выть.
Да! Я чуть не забыл одну важную подробность. Рядом с телом убитого Старостина мы нашли два человеческих пальца. Вероятно, это были пальцы человека, который застрелил Старостина. Их откусила собака.
Она набросилась на него и своими острыми зубами начисто отхватила их, как бритвой.
Собаку пытались использовать на другом участке, но она стала очень возбудимой, часто срывалась лаем, потеряв, таким образом, одно из важнейших качеств пограничной собаки. Кроме того, с нею случилась и другая беда. Одна из ран была нанесена в голову, пуля повредила какой-то нерв, связанный с органами слуха, и пес стал быстро глохнуть. Для службы на границе он больше не годился, и я взял Верного к себе.
Он жил у меня в семье, привязался ко всем моим близким, выделяя, однако, меня. У собак всегда так: кто-нибудь обязательно должен быть главным.
Верный перенес на меня всю свою ласку и привязанность, которые прежде предназначались Афанасию Старостину. Однако, я думаю, что в глубине его сердца все эти годы продолжал жить образ его прежнего друга и повелителя.
Вскоре началась Великая Отечественная война.
Всю войну я провел на фронте, на переднем крае. В течение трех с лишним лет мне удалось два или три раза ненадолго побывать дома. За эти годы Верный сделался совсем глухим. Исчезли прежние живость, резвость, поседела морда. Тем не менее, пес был еще крепок и силен, в нужные моменты — злобен.
Оттого что он оглох, он не стал беспомощным. По мере того как пропадал слух, у него обострялись другие органы чувств. У него было поразительное чутье и совершенно необыкновенная… интуиция, что ли. Он понимал движение губ; вы могли прошептать команду — и он тотчас исполнял ваше приказание, я бы сказал, даже быстрее, нежели делал это раньше, когда был вполне здоров. Порой казалось, что он воспринимает какие-то невидимые токи, настолько он был понятлив при своем столь серьезном физическом недостатке.
Будучи абсолютно глухим, он продолжал сторожить дом! Я не знаю, как это получалось, но он всегда заблаговременно предупреждал лаем о приближении постороннего человека к дверям дома; то ли через землю он ощущал его шаги, то ли еще как, только это факт.
Время от времени я встречал где-нибудь на участке боевых действий наших надежных друзей — четвероногих связистов, санитаров, подносчиков боеприпасов, минеров, которые, наравне с другим фронтовым другом человека — лошадью, несли все тяготы войны, помогая советским людям защищать свое отечество, — и каждый раз вспоминал своего глухого пса.
Вам известно, что по разнообразию и массовости применения собак в боевых условиях мы превзошли в этой войне всех.
Собаки были в армиях всех воюющих держав. В британской, например, они имелись даже в составе специальных отрядов — коммандос, совершавших рейды на атлантическое побережье, тщательно охранявшееся немцами. Собаки доберманы были обучены бросаться на дот, чтобы закрыть амбразуру, откуда велся огонь. Были и другие новинки в применении собаки. И все же мы с уверенностью можем сказать, что наше собаководство оказалось наиболее подготовленным. Это признается не только нами.
Американцы, например, издали вскоре после окончания второй мировой войны толстую книжищу, в которой, не стесняясь в выражениях, расписывают подвиги своих служебных собак на европейском и азиатском фронтах; однако и они в конце ее вынуждены признать, что русские показали образец, оставив далеко позади и врагов, и союзников. Там, в частности, приводятся некоторые сведения и об использовании собак англичанами.
Забавная книжица! В ней вы можете встретить такой эпизод, как вручение ордена собаке, отличившейся при разгроме экспедиционного корпуса Роммеля в Северной Африке. Они ведь вручают собакам боевые ордена и даже присваивают им воинские звания! По этому поводу сами авторы вынуждены иронически заметить, что случается такое положение, когда собака обгоняет в производстве своего вожатого: она, скажем, уже сержант, а он все еще рядовой и, стало быть, должен стоять перед нею навытяжку!…
Да, так на вручение ордена этой собаке пожаловал «сам» мистер Черчилль, а вручал награду генерал Александер. Вот какая честь привалила собаке! Интересно отметить, что это была лайка, лайка по кличке Хуска, потомок одной из тех, которых гордые сыны Альбиона украли у нас в девятнадцатом году во время интервенции на Севере… Репортер описал всю церемонию с полной серьезностью. А в заключение содержится приписка, что собака не посмотрела на высокие чины присутствующих и укусила Александера за ногу…
Ну, мы не кричим так о своих успехах в области служебного собаководства — в частности, об успехах использования собаки в деле защиты социалистического отечества, — однако у нас есть чему поучиться. И то, что я порой наблюдал на фронте, могло бы служить живым подтверждением этого.
Мы первые применили противотанковую собаку, и это сохранило жизнь многим советским людям. Мы с необычайным эффектом использовали собак, обладающих острым чутьем, для поиска мин; сколько жизней мы этим сберегли, сколько саперов не сделалось калеками.
6
Мне везло: в течение почти всей войны я не был даже ни разу ранен, хотя приходилось бывать в очень опасных местах. И только под самый конец, весной сорок пятого, меня сильно контузило. Месяц я провалялся в госпитале. Рано утром третьего мая мне позвонил по телефону генерал, справился о здоровье, а затем ошарашил:
— Берлин взяли!
Я так и привскочил. Мы в госпитале еще не знали.
— Через час лечу туда, — сообщил генерал. — Могу взять с собой. Хочешь?
Хочу ли я?! Я уже одевался. Через несколько минут подошла машина, а через час мы были уже в воздухе и летели на запад.
Мы опустились на аэродроме, заваленном обломками немецких самолетов, в пригороде Берлина, и на штабном газике помчались в один из районов германской столицы.
Многодневное сражение за Берлин закончилось. Повсюду дымились развалины, по улицам под конвоем наших автоматчиков брели толпы небритых, оборванных, потерявших всякий человеческий вид пленных. Картина, надо сказать, была потрясающая.
Много мыслей пробудил у меня вид этой поверженной, разгромленной и плененной вражеской столицы. Не скрою: я торжествовал. Не мы хотели войны. Возмездие настигло гитлеровскую грабительскую армию, гитлеровское разбойничье государство. Я смотрел на руины зданий, на засыпанные осколками стекла, битым кирпичом, исковерканным железом улицы, на брошенное берлинскими фольксштурмистами оружие, на похилившиеся, омертвевшие под ударами наших пушек немецкие «фердинанды» и «тигры» — на весь этот хаос, столь выразительно говоривший о полном военном поражении некогда грозной Германии, и думал: вот что ждет всякого, кто вздумает затронуть нас!
Война — как бумеранг, возвращается к тому, кто ее начал, и поражает его. Кажется, у китайцев есть поговорка: «Война подобна огню — не погасишь вовремя, сожжет и поджигателя»… Немцы лишь пожинали то, что посеяли сами.
— Отныне все пойдет по-иному… — вырвалось у меня.
— Да, но еще нужно выкорчевать корни фашизма…
Генерал был прав. Еще оставались на свободе разные эсэсовские молодчики и гестаповцы, которые, переодевшись в гражданское платье, с подложными документами, спешили спрятаться, как крысы по щелям.
Я хорошо знаю немецкий язык. До войны я перечитал много кинологической литературы на немецком языке и очень хорошо представлял и местоположение многих питомников полицейских и военных собак в Германии, и каким поголовьем они располагают. Нам с генералом не терпелось узнать, что уцелело от этого страшного погрома.
Мы приехали в питомник полицейских собак, один из крупнейших из числа известных мне. Ворота питомника были взломаны, все помещения раскрыты настежь, кругом ни души.
С большим трудом нашли одного человека из обслуживающего персонала. Он оказался чехом и потому не убежал с остальными. Спрятавшись, он ожидал прихода наших людей.
Он повел нас по питомнику. Страшное зрелище открылось нам. Горы трупов — трупов собак… Чех рассказал: в канун дня капитуляции Берлина, когда советские снаряды уже рвались неподалеку, в питомник приехали три эсэсовских начальника. Они прошли внутрь двора и приказали выводить собак. К ним подводили собак, а они в упор расстреливали их одну за другой из пистолетов. В течение получаса они нагромоздили гору тел: четыреста собак.
Чех рассказывал об этом, плача от ужаса и негодования. Я и генерал стояли ошеломленные. Мы много навидались ужасов в этой войне, но бессмысленность этого уничтожения потрясла и нас.
Я сказал «бессмысленность»… Так ли? Потом, когда я глубже вдумался в смысл и значение увиденного, я понял, что это отнюдь не проявление слепого отчаяния. Нет, это было хладнокровное, обдуманное злодейство — продолжение тотальной войны, но только уже на своей, немецкой территории. Собака — ценность; гитлеровцы понимали это и стремились напакостить и здесь. И кроме того, они, по-видимому, не рассчитывали на возвращение.
В памяти у меня возник внезапно июнь сорок первого года: Белоруссия, пылающая под фашистскими бомбами, рев немецких самолетов — первые дни войны. Тяжелые дни. Гитлеровские воздушные пираты сбросили бомбы на питомник служебных собак. Они бомбили все — даже собак… Загорелись деревянные домики, выгула… Надо было видеть, как наши бойцы, рискуя жизнью, выносили из горящих щенятников маленьких, слепых щенков, прижимая их к груди и стараясь защитить от падающих головней…
Вспомните, как колхозники угоняли скот от врага. Они гнали его через леса, болота, переходили линию фронта; спасая общественное добро, нередко гибли сами… Какой контраст представляло это с тем, что мы увидели в берлинском питомнике!… Нет, звери были не те, что лежали перед нами недвижные на земле; звери — уничтожавшие их, одетые в черные эсэсовские мундиры.
— Особенно старался один, беспалый, — продолжал говорить чех. — Он один уложил их столько, сколько двое других вместе. И стрелял-то с каким-то дьявольским наслаждением, даже улыбался.
— Беспалый? — машинально переспросил я.
— Да, я заметил, что у него на правой руке не хватало двух пальцев… вот этих… и он стрелял левой.
Тогда я не обратил внимания на эту деталь.
7
Вскоре меня назначили военным комендантом одного из небольших городков Бранденбургской провинции. Я перевез туда свою семью; вместе со всеми приехал и Верный. Прошло несколько месяцев.
Как-то вместе с Верным я возвращался из комендатуры на квартиру. Он часто сопровождал меня, ходил всегда рядом, без поводка. Он стал сильно сдавать за последнее время: ему уже давно перевалило за десять лет, а для собаки это большой возраст. Он много спал, седина с морды переползла и на другие части тела. В глазах появилась характерная синева. Только чутье по-прежнему оставалось таким же острым.
Как жаль видеть постарение близкого существа, особенно — эти катарактные, выцветшие глаза… Иногда я невольно провожу параллель. Все, конечно, замечали: когда щенок впервые откроет глаза, они у него словно подернуты синеватой пленочкой. И у старой собаки тоже синева… Не есть ли это появление синевы — признак близкого перехода материи снова в ту форму, какой она была до появления этого существа на свет? Но это — так, попутно…
Верный всегда служил образцом повиновения. Но что-то сделалось с ним в тот день. Он словно чуял свою судьбу…
Милый, ласковый Верный. Я, должно быть, никогда не перестану вспоминать его… Думал ли я тогда, что наступает конец нашей долголетней дружбе! Я даже рассердился и прикрикнул на него: он шел очень неровно, то забегал вперед, то отставал, какая-то нервозность овладела им.
— Да что с тобой, старик? — подумал я вслух, делая жест, чтобы заставить его выравняться со мной.
Внезапно я заметил, что он весь дрожит. Он напряженно нюхал попеременно то воздух, то асфальт тротуара и трясся, как в ознобе. Уж не заболел ли он? Я хотел пощупать у него нос, рукой показал, что надо сесть, и… удивился еще больше: впервые он не послушался меня.
— Верный, что с тобой? — громко сказал я и остолбенел: Верный услышал меня, услышал и обернулся.
Я помню это совершенно точно: он не мог видеть движение моих губ, так как стоял ко мне затылком, и однако он понял меня. Я запомнил и другое — его глаза. В них было то самое выражение, какое я видел когда-то у него на границе в день гибели вожатого Старостина. Выражение боли, страшной невысказанной злобы и еще чего-то, что я затрудняюсь передать словами. Шерсть на нем встала дыбом, а хвост запрятался где-то под брюхом. Я еще никогда не видел его в таком возбужденном состоянии.
А главное — к нему неожиданно вернулся слух. Говорят, что животное чувствует приближение своего конца. Это находит свое выражение даже в физиологических отклонениях. У сук в последние годы жизни родится один-единственный щенок, необычайно крупный и толстый, и нередко уродливый. Некоторые животные делаются подавленными, впадают в угнетенное состояние; другие, наоборот, приходят в неописуемое возбуждение. На почве этого нервного подъема могут произойти самые неожиданные явления. Что-то вроде этого, по-видимому, произошло и с моим Верным.
Внезапно, опустив голову к земле, он пустился прочь от меня.
— Верный, куда ты? Ко мне! Ко мне! — закричал я. Но он больше не оборачивался — либо опять перестал слышать, либо не хотел повиноваться.
Я пробовал бежать за ним, но скоро отстал. Верный скрылся. В большой тревоге я вернулся домой.
Прошло часа два. Верный не шел у меня из ума. Где он? Что с ним? Мои домашние высказывали самые разные предположения: что он взбесился или еще что-нибудь в этом роде. Я только молча отмахивался от них рукой. Какой-то внутренний голос говорил мне, что тут произошло что-то более серьезное.
И вот на исходе третьего часа зазвонил телефон. Голос моего дежурного сообщал мне, что на одной из улиц в центре города произошло необычайное происшествие: невесть откуда взявшаяся одичавшая собака, похожая на волка, напала на проходившего неизвестного гражданина и стала его терзать…
— Что?! — закричал я. — Какая собака? Опишите мне ее!…
— А ваш Верный дома? — осторожно спросил дежурный офицер.
— Верного нет дома! — кричал я в сильном возбуждении.
— Там было двое наших бойцов, — продолжал докладывать дежурный, — они говорят, что она похожа на Верного…
— Человек жив?
— Кончается.
— А собака?
— Собака еще жива…
Он продолжал говорить еще что-то, но я, не дослушав его, уже звонил в гараж и вызывал машину.
Через несколько минут я был на этой самой штрассе, которую назвал мой дежурный. Лужа крови на асфальте, которую еще не успели затереть дворники, указывала место, где все это произошло. Человека внесли в дом. За минуту до моего приезда он испустил дух.
Это был уже немолодой светловолосый мужчина высокого роста, одетый в обычный штатский костюм, с выражением жестокости в лице, которое не смогла смягчить даже смерть. Овчарка почти вырвала ему горло. Он не прожил и четверти часа. Здесь же находился и Верный, но в каком виде!
У неизвестного оказался револьвер, и он, обороняясь, выпустил в собаку всю обойму. Раны были смертельны, но Верный еще жил. Я опустился перед ним на колени. Он узнал меня и слегка дернул хвостом — хотел, видимо, поприветствовать меня, да уже не смог, не хватило сил. Пузырьки крови вздувались у него в уголках пасти, и вместе с этими пузырьками вылетало глухое клокотанье; оно словно застряло у него в горле.
Он смотрел куда-то мимо меня. Я проследил за его взглядом и понял: его глаза остановились в одной точке — на умерщвленном им человеке. И сколько ненависти было в этом взгляде!
Близость убитого не давала успокоиться собаке.
— Унесите его! — распорядился я, показав на мертвеца.
Двое бойцов подошли к нему и взялись один за голову, другой за ноги. От толчка правая рука его соскользнула и упала вниз, глухо стукнувшись о пол. Я глянул на нее — и невольно вздрогнул: на руке покойника не хватало двух пальцев.
Сколько чувств, мыслей вспыхнуло мгновенно при виде этой беспалой руки. Внезапно я вспомнил далекую картину, заслоненную в последние годы грозными событиями войны, — вспомнил так, как будто это было только вчера: мертвый Афанасий Старостин на окровавленном примятом снегу, раненная, истекающая кровью овчарка и два желтых человеческих пальца… Вспомнил — и понял все. Так вот кто лежал передо мной! Возмездие настигло убийцу молодого бойца.
Вот чем объяснялось странное поведение собаки. Верный узнал своего врага, узнал по следам, обнаруженным на асфальте. Восемь лет хранил он в памяти запах этого человека, ненавидел его и — дождался своего часа.
— Личность установили? — спросил я.
— Почти, — многозначительно ответил мой помощник, прибывший сюда незадолго до меня, и подал мне документы.
Беглого взгляда было достаточно, чтобы понять многое. Тут были: билет члена нацистской партии, регистрационная карточка агента гестапо…
— Носил с собой?! — удивился я. — Видно, крепко сидел в нем фашистский дух!
— Было зашито в подкладку…
— Крупная птица! — невольно вырвалось у меня.
— Да, кажется, крупная, — согласился помощник. — Он, видимо, хотел пробраться в англо-американскую зону. Там пригрели бы его…
Мертвеца унесли, и Верный успокоился. Взгляд его начал мутнеть, выражение ненависти пропало. Через всю его жизнь прошла эта ненависть, начавшись на далекой восточной границе Советского Союза и окончившись на мостовой немецкого городка в сердце Германии. В последний раз лизнул он меня языком, вздохнул глубоко, вытянулся — и нашего Верного не стало…
Я не склонен к символическим обобщениям, но, право, в ту минуту я увидел в гибели эсэсовца под зубами моей собаки нечто большее: хитрость и коварство всегда уступают преданности и верности, добро побеждает зло.
Вот, собственно, и все… Можно, впрочем, добавить: дальнейшее следствие установило, что этот эсэсовец, расстреливавший с садистской жестокостью ни в чем не повинных собак и нашедший свой конец под клыками моей овчарки, был в прошлом крупным диверсантом-разведчиком, опасным и непримиримым врагом, всю свою жизнь боровшимся против нашей страны. Он не ушел от расплаты.
8
Теперь, когда рассказ был кончен, наши взоры снова обратились к Василию Степановичу. Он сидел, опустив голову, казалось погруженный в глубокую задумчивость, и лишь время от времени большим клетчатым платком проводил по лбу и вискам.
Только тут догадка осенила нас. Это совпадение фамилии, драма, пережитая им перед войной, и даже собаки, которых он выращивал для службы в армии, — все вдруг предстало в своем истинном свете. Его волнение и эта чудаковатость, которую приписывали ему и которая в действительности была не чем иным, как выражением больших человеческих чувств, чувств патриота и отца…
Да, отца. Он подтвердил это — на вопрос, кем приходился ему погибший Афанасий Старостин, ответив нам коротко, с той простотой, которая стоит многих слов:
— Это был мой сын.
СЛЕДЫ НА АСФАЛЬТЕ
Если бы асфальт умел говорить, он смог бы поведать немало интересного.
А рассказать, право, есть о чем. За день сколько ног пройдет по нему! Чьи эти ноги? Куда они несли своих владельцев? Где были ближайшие час-полтора и где могут оказаться вскоре? Что произошло за это время там или тут и что может произойти…
Следы — зеркало жизни большого города, и, если бы они все достаточно прочно запечатлевались на асфальте, сколько любопытнейших историй могли бы мы узнать, изучая их!
Сыплет первый осенний снежок, прикрывая все вокруг, словно пудрой, и на этой свежей пороше отчетливо заметен каждый штрих.
Смотрите! Вот прошла мать с ребенком: отпечатки подошв женской обуви на высоком каблуке и рядом в два раза меньшие, частые-пречастые. Так, кажется, и слышно, как оставившие их крохотные и еще не очень уверенные ноги топочут по панели: топ-топ, топ-топ… Мать сделала два шага, он — десять. Карапуз, видимо, шаловливый и тянет в сторону: видите, пробежал по каменному поребрику, окаймляющему газон, даже ступил на самый газон, после чего был дернут за руку и занял место рядом с родительницей.
А вот здесь ребята-пионеры хотели перебежать дорогу, когда мимо неслась лавина автомобилей; постовой засвистел, погрозил им пальцем, и они, смеясь, вернулись на тротуар.
А вот влюбленный ждал свою милую; ого, сколько он топтался здесь! Свидание, конечно, было назначено на углу около кино. Но девушка, очевидно, запаздывала (они часто так делают, из женского ли лукавства или из каких других побуждений; прийти первой — еще скажут: торопилась!), бедняге пришлось померзнуть…
А это чьи следы?… О, блюститель законности и общественного порядка — милиционер, наверное, сразу нахмурился бы, узнав, кому они принадлежат, и немедля устремился бы в погоню, а кое-кто из домашних хозяек, проведав, что за личность была тут, подхватили бы испуганно кошелки и, озираясь, зашушукались с соседками…
Если уметь читать эту немую летопись городской жизни, при достаточной доле воображения можно составить довольно полную картину событий текущих суток.
Следы, следы…
Но беда в том, что они очень не прочны. На особенно людных улицах их уже размесили в кашу. Повеяло теплом — все потекло; просох асфальт — и вовсе не осталось и признака.
Однако они существуют.
Вы скажете мне, что ничего не видно: асфальт и асфальт… Да, как будто действительно так, но только — как будто…
Помните, был такой кинофильм — «Человек-невидимка», и в нем эпизод: на чистом заснеженном поле вдруг появляются следы, один, другой… цепочка отпечатков с ясными очертаниями босой ступни. Убегающего от преследования невидимку и впрямь не приметить, а следы впечатываются — он идет на ваших глазах.
У нас с вами наоборот: видно идущих, но не видно следов, оставляемых ими. И все же эти следы есть. И есть возможность «увидеть» их, даже тогда, когда асфальт идеально чист, возможность, недоступная человеческой природе, но которую тем не менее человек научился очень хорошо использовать… И это — не химия, не микроскоп (да и они могут помочь не всегда).
Кто же или что же тогда? Что это за волшебное око?
1
Звонок.
Ночью в большом каменном здании с двумя молочно-матовыми фонарями-шарами у подъезда звонит телефон.
Дежурный в милицейской форме, с покрасневшими веками (тянет ко сну, предутренние часы — всегда самые тяжелые), снимает трубку.
Разговор непродолжителен и чем-то сердит дежурного. Пропало сонное выражение глаз.
— Что? — кричит он. — Перестаньте хулиганить, или я призову вас к порядку!… Не хулиганите? Да что я, маленький?!
Он раздраженно опускает трубку на рычаг. И почти тотчас снова поднимает ее: телефон звонит опять.
— Да. Дежурный отделения милиции слушает. Да… Что? Он сам только что звонил мне… так это правда?! Занятно… Есть. Есть! Да, конечно, немедленно примем меры! Спасибо!
Любопытный случай в истории уголовных происшествий: сам правонарушитель сообщает, чтобы пришли его арестовать! Как тут не усомнишься в первый момент! Да и сейчас, хотя уже получено подтверждение, дежурный все еще не уверен, что тут нет подвоха. Бывает ведь, что находятся охотники подшутить по телефону, даже ночью. Ночью еще «интереснее»!
Тем не менее мешкать не полагается. Противоречит практике раскрытия уголовных преступлений. Даже если есть сильное сомнение — удостоверься сам, чтоб потом не краснеть и не ругать себя задним числом за оплошность.
События в эту ночь разыгрались у центрального универмага и в самом универмаге. Сторож — этакий довольно дряхлый старичишка, вооруженный ружьем, из которого он, наверное, и стрелять-то толком не умел, — похаживая вдоль длинного ряда зеркальных витрин, за которыми виднелись отрезы шелка, дамские туфли самых разнообразных фасонов, алюминиевая посуда и прочие выставленные для обозрения и заманивания покупателей товары, вдруг услышал, что внутри здания лает собака. Остановившись, он прислушался. Лай быстро перемещался из одного конца магазина в другой. На собак, запертых в помещении, признаться, сторож полагался больше, чем на самого себя, и потому их лай не мог не всполошить его. Перекинув ружье из-за спины на руки, он поспешил к тому концу здания, куда, судя по лаю, передвигались четвероногие караульные.
У главного входа он остановился, опешив: в пространстве между внутренней и наружной стеклянными дверями стоял человек и звонил по телефону-автомату. За внутренней дверью, скаля полувершковые клыки, с лаем и рычанием бесновался громадный злобный пес. Бросаясь на преграду, он грозил разбить стекло.
Вышло все так: два вора проникли в магазин по пожарной лестнице, потом, через чердак, спустились вниз, и там на них напали собаки. Спасаясь, одна из чердачных «птичек», не помня себя от страха, кинулась к вестибюлю и успела укрыться за дверью.
Укрылась — попалась. Изнутри стерегла собака, снаружи — сторож с винтовкой. Вор оказался в западне. И тогда, поняв безнадежность своего положения, больше всего, очевидно, опасаясь в эту минуту, как бы овчарка все-таки не проникла к нему, он решил не тянуть и сам позвонил по таксофону, набрав «ноль два» — милицию, благо телефон висел тут же, в вестибюле.
В свою очередь сторож тоже должен был что-то предпринять. Отлучиться с поста он не решался, вполне обоснованно опасаясь, как бы «птичка» не выпорхнула: сломает стекло — и поминай как звали… На его удачу мимо шла компания молодежи, возвращавшаяся с вечеринки. По просьбе старика молодые люди сбегали до ближайшей телефонной будки и позвонили куда следовало. Это был второй звонок в милицию.
Через несколько минут на место происшествия прибыли оперативные работники: молодой полноватый майор милиции и пожилой, желчного вида, капитан. Сторож, как полагается старому служаке, бодро отрапортовал о случившемся, не преминув упомянуть, что не смыкал глаз всю ночь, потому и углядел преступника. Молодежь, которую разбирало любопытство, не расходилась.
Всех занимал вид находившегося в вестибюле и как бы нарочно выставленного на посмешище вора, пойманного таким необычным способом. Выглядел он довольно нагловато. Первый испуг его прошел, выбора не оставалось, и он стоял в подчеркнуто-небрежной позе, с выражением безучастного ожидания на лице, привалившись плечом к стенке, подвернув одну ногу и засунув руки в карманы брюк.
«Ну, и попался, ну, и что? Нам не привыкать…» — казалось, хотел сказать он.
Поскольку злоумышленник не предпринимал каких-либо враждебных действий, успокоилась и собака и лишь время от времени, опираясь передними лапами на дверь, показывала из-за двойных стекол свою страшную, усаженную желтоватыми зубами, пасть.
— Полюбуйтесь: образчик отживающей человеческой породы… Под стеклом и в клетке, как в музее! — заметил насмешливо майор, подойдя поближе и добродушно-иронически в упор разглядывая нежданный «улов».
— Ну, еще хватает их… пробурчал капитан видимо менее товарища расположенный к философским обобщениям.
Пока вызывали директора магазина, чтобы в его присутствии снять пломбы с замков и войти в помещение, майор и капитан отправились проверить, не обнаружится ли что-нибудь дополнительно. Пройдя вдоль всего здания и завернув за угол, у стены, противоположной главному входу, они наткнулись на мертвую собаку.
Она лежала на панели среди осколков разбитой витрины, еще теплая, но бездыханная. В зубах был зажат клочок материи.
Сторож-то, видно, был еще и глуховат, поскольку не слышал звона разбитого стекла. Правда, здание длинное, можно и не услышать.
Выходит — второй ушел. Это меняло все дело. Лицо майора сразу сделалось сосредоточенно-строгим. Быстро переговорив с капитаном, он наметил план дальнейших действий, после чего один торопливо побежал к машине, а другой остался у тела собаки.
Через четверть часа фырканье мотора возвестило, что прибыли еще два участника расследования, главные герои нашего рассказа: ищейка — черный, лоснящийся, с длинной узкой мордой доберман-пинчер Каро и ее проводник — моложавый, спортивного склада лейтенант милиции Лукашин.
На панели все оставалось так, как было найдено вначале. Майор не позволил тронуть здесь ничего. Вместе с Лукашиным и капитаном они внимательно обследовали убитую овчарку.
Свет витрины, падавший на нее, позволил сделать это без особых затруднений. Только рассматривая рану и стараясь понять, чем было убито животное, они засветили карманные фонарики.
Бедный пес. Он был еще неопытен, не знал приемов борьбы — лишь недавно вышел из щенячьего возраста; бросившись на врага, он ляскнул зубами, ухватив за низ штанины, а тот в это время наотмашь угостил его каким-то твердым предметом по чувствительному месту за ухом. Собака погибла от мгновенного кровоизлияния в мозг.
Раздвинув шерсть, они осмотрели, куда пришелся удар. Совсем ничтожная ранка, две-три глубоких ссадины, расположенных по дуге, как будто их сделали зазубренной подковой, кровоподтек, — даже странно, что от этого могло погибнуть такое сильное и физически крепкое животное. Знал, куда бил! Вытекло всего несколько капель крови. Слегка сыпавшийся сверху снежок уже успел припорошить их.
Лукашин осторожно извлек из зубов убитой клочок материи. Судорога смерти свела челюсти, и пришлось прибегнуть к помощи ножа, чтобы разжать их и преодолеть последнюю хватку собаки. Дал понюхать Каро.
Лейтенант не терял минуты. В таких делах быстрота — первое условие успеха; нужно действовать проворно, пока запах преступника не успел выветриться, затеряться среди множества других запахов, которыми испечатан городской асфальт.
Вот та возможность «увидеть» следы даже тогда, когда асфальт выглядит абсолютно чистым: специально обученная собака-ищейка. Ее тонкое чутье — драгоценное оружие, с помощью которого любой человек может сделаться следопытом и по невидимой нити безошибочно отыскать того, кто хочет скрыться от преследования, чтобы избежать наказания. Собака приведет к нему.
— Каро, нюхай! След!
И они устремились по следу: Каро — впереди, держа нос опущенным к асфальту, Лукашин — за ним, удерживая туго натянутый поводок. Позади поспевал капитан, многократный спутник Лукашина по прежним сыскным делам.
2
Собака вела уверенно, не занюхиваясь нигде, словно по шнурку: след был свежий. Только бы не оборвался! Квартал, другой, третий… Редкие запоздалые прохожие с недоумением смотрели на двух человек в милицейской форме, которые, едва успевая переводить дух, бежали за черной, гладкой, как угорь, бесхвостой собакой. Некоторые, догадываясь, что кроется за этим, останавливались и провожали их заинтересованными взглядами.
Через полчаса Каро и его спутники были уже далеко от того места, где начался след, а доберман, казалось, и не собирался прекращать преследование. Но вот с улицы он завернул во двор большого коммунального дома, быстро-быстро пробежался по дну этого темного каменного колодца со смутно видневшимися в темноте рядами окон-глазниц и остановился у подножия узкой пожарной лестницы, уходившей вдоль стены вертикально вверх, через все этажи, до самой крыши. Встав передними лапами на нижнюю ступеньку, пес отрывисто пролаял, подняв морду и оглядываясь на проводника.
— Что ж он, по лестнице ушел? Интересно… — вполголоса произнес Лукашин, не то обращаясь к собаке, не то рассуждая сам с собой.
В ответ на эти слова пес подергал шишечкой на том месте, где у других собак бывает хвост.
Закинув голову, Лукашин пристально всматривался в темноту над собой. Туда же глядел и капитан. Обоим хотелось разглядеть конец лестницы, но он терялся во мраке.
— Полезешь?
— Выходит… — привычно-деловито обменивались они скупыми замечаниями.
— А я пойду покараулю у подъезда… Лукашин кивком выразил свое согласие.
— Н-да, акробатика, высший класс… — Взявшись рукой за железную поперечину лестницы, Лукашин с силой потряс ее, проверяя, крепка ли она. — Ничего не поделаешь, голубчик. Придется лезть…
«Голубчик» относилось к собаке. Лукашин часто таким образом разговаривал с Каро, когда оставался с ним вдвоем.
Они начали подъем.
Вы никогда не видели, как собака может лазать по пожарной лестнице? И, надеюсь, вам ясна разница между обыкновенной лестницей и пожарной? По обычной любой из нас ходит уверенно вверх и вниз, не держась за перила. Пожарная — это нечто вроде спортивной «шведской стенки», на которой практикуются спортсмены, укрепляя свои мышцы: уперлась торчком прямо под самый карниз, вместо ступеней — толстые железные прутья, да к тому же довольно далеко отстоящие один от другого, перил — никаких. Не всякий человек насмелится взобраться по ней; а что касается собаки…
Собака — лазает, но, конечно, тоже не всякая: только прошедшая большую выучку, специально натренированная, привыкшая не останавливаться в погоне за злоумышленником ни перед какими препятствиями. Каро принадлежал к их числу.
Доберман — виртуоз лазания. Доберманий предок Треф стяжал славу лучшей собаки-ищейки своего времени именно артистическими способностями выделывать головоломные трюки и неутомимостью преследования[15].
От собаки уголовного розыска нет спасения нигде. Каро являлся живым подтверждением этого.
На крышу так на крышу… И Каро, повинуясь приказу: «Лестница, лестница! Вперед!», а еще, быть может, больше инстинкту преследования, лезет, цепляясь передними лапами, как крючками, а задними подталкивая себя выше, выше. Черное гладкое тело растянулось в усилии и, казалось, сделалось еще более эластичным, припав к жестким холодным перекладинам. Сорвешься — не соберешь костей.
Проводник поднимался на одну ступеньку ниже, рукой страхуя четвероногого акробата, на случай, если задние лапы Каро вдруг соскользнут и пес повиснет в воздухе.
Подъем происходил не быстро, но и не медленно. Миновали первый этаж, второй… На высоте четвертого Каро неожиданно задержался, повиснув между небом и землей, и, просунув голову между двумя прутьями, шевеля подвижными ноздрями, стал тянуться к окну, отстоявшему от лестницы на расстоянии каких-нибудь семидесяти-восьмидесяти сантиметров. Смелый человек вполне мог здесь перебраться на подоконник, а оттуда, открыв окно, проникнуть в квартиру.
Вероятность подобной версии ничуть не удивила Лукашина. Он привык к самым необычайным хитросплетениям, на которые пускались преступники, чтобы сбить со следа или достигнуть цели. Удивило другое: что именно преследуемый ими мог сделать это. Знать, опытный и хладнокровный жулик, если, едва не «засыпавшись» на одном «деле», тотчас же решил переключиться на другое. Сорвалось в одном месте — направился сюда… Не в свою же квартиру он хотел пробраться таким путем!
Повиснув на лестнице рядом с Каро, Лукашин осмотрел окно. В створках виднелась щелочка — это усилило подозрение.
Спускались дольше, чем поднимались. Шагать вниз по такой лестнице собака не может; пришлось спускать ее на себе, обхватив одной рукой, другой хватаясь за перекладины и медленно сползая вниз. Без физкультуры подобный фортель не проделаешь. Каро вел себя спокойно: для него — не впервой!
Заприметив хорошенько окно, Лукашин, оказавшись на земле, снова прицепил собаку к поводку и, выйдя со двора, повернул к одному из подъездов, над которым тускло горела электрическая лампочка. Навстречу из ниши в стене выступила темная фигура.
— Ну, что?
Вместо ответа Лукашин молча повел головой, приглашая капитана последовать за собой.
Каро, когда они сошли со следа, покидая двор, заволновался и потянул назад, но у подъезда внезапно перестал оглядываться и, уткнув нос в землю, явно намеревался двинуться прочь отсюда, по всей видимости найдя знакомый запах. Это могло обозначать только одно: преследуемый уже покинул дом. В окно вошел, из дверей вышел… Ну, ловкий парень: смотри, какие номера откалывает! Неужели он успел опередить их?
Однако, прежде чем продолжить погоню, требовалось проверить это предположение, побывав в квартире, через которую, очевидно, проследовал вор. Не для развлечения же забирался он туда!
Отсчитав нужное число этажей, Лукашин и капитан остановились на лестничной площадке.
— Кажется, здесь…
Дверь притворена неплотно. Потянули — открылась. Собака первой очутилась в квартире. Темно. Тишина. Только тикают часы в гостиной. Хозяева — спят… если живые. (При подобных обстоятельствах можно предполагать все, что угодно.)
Прислушались. Нет, живые: из соседней комнаты доносилось сонное посапывание. Интересно: унеси хоть всех… вот спят!
Рука нащупала выключатель на стене. Щелчок. Вспыхнул яркий свет, заливая из-под розового шелкового абажура над круглым столом зажиточное убранство комнаты. Как будто все на месте… Не успел или помешали?
Из кухни появилась заспанная домработница и, увидев черную, блестящую собаку с пружинистыми неслышными движениями и двух мужчин в милицейской форме, вытаращила глаза и дико взвизгнула.
Доберман мгновенно взъерошился и залаял баритоном. Капитан въедливо сказал, обращаясь к домработнице:
— Что кричать? Кричать надо было раньше… Она непонимающе хлопала глазами.
На шум из спальни появились всклокоченный, растерянный мужчина в нижней сорочке и полосатых пижамных брюках, в шлепанцах на босу ногу; за ним выглядывала его жена, полная, рыхлая женщина в пестром халатике, со встрепанными со сна распущенными волосами, готовая тоже кричать с перепугу. Вообще пробуждение, от которого можно тут же грохнуться в обморок…
Последним показался из двери напротив мальчик лет двенадцати в трусиках и голубой майке. Он единственный из жильцов квартиры не выглядел испуганным, а просто не понимал, что происходит.
Каро нервно нюхал всех по очереди, но вид был не угрожающий. Совершенно очевидно, что того, кого он искал, среди них не было.
Капитан сказал:
— Крепко же вы спите…
Хозяин квартиры недоумевающе спросил:
— А как вы вошли?
— Когда дверь отперта, войти нетрудно.
— Как отперта? Почему отперта?
Возмущенные взоры хозяина и хозяйки обратились на домработницу. Ну, сейчас будет разнос!…
Капитан отвел бурю, объяснив, почему могла оказаться открытой дверь и что вообще привело их сюда. По рангу старшего говорил он. Едва дослушав его, домработница метнулась в прихожую и тотчас вернулась с заломленными от волнения руками:
— Шубу унесли!
Тут и без объяснений все стало яснее ясного. Исчезла шуба с воротником из выдры. И шапки тоже нет. Тоже из выдры. Хозяева заметались, проверяя, не обнаружится ли еще какая пропажа.
— Говорите спасибо, что он еще вас не прикончил… как ту собаку! — заметил капитан.
— Какую собаку? Почему — как собаку? О собаке ли речь, когда украдена тысячная вещь!
Не тратя лишних слов, ночные гости тем временем быстро обследовали квартиру. Да, окно оставалось не запертым на защелку (все-таки домработницу есть за что ругать, да одну ли ее?); вор не преминул этим воспользоваться. И, очевидно, он давно присматривался к этому окошку, раз шел так уверенно, как к себе домой. Подоконник, стол, на которые он опирался рукой, неслышно перекидывая свое тело в комнату, пол и ковер, по которым ступали его ноги, дверной косяк, который он задел, когда снимал с вешалки шубу, — все это еще хранило его запах, все неопровержимо свидетельствовало о его недавнем пребывании, не говоря об исчезновении вещей.
Каро, порывистый, нервно вздрагивавший от нетерпеливого возбуждения (не собака — огонь!), с упруго сокращавшимися желваками мускулов под атласистой шкурой, жадно вбирал в себя молекулы этого запаха, вызывая любопытство мальчика, смотревшего только на собаку. Но самого виновника всего этого ночного переполоха, увы, не было. Ушел. И ушел-то совсем недавно, всего, быть может, каких-нибудь пятнадцать-двадцать минут назад. Ловко, ловко… Оделся и ушел. Очевидно, ничего не унес больше только потому, что ночь уже кончалась, а с узлом его могли задержать на любом перекрестке.
Весь осмотр вместе с разговором занял меньше трех минут. Больше здесь делать было нечего, и, оставив капитана оформлять протокол, Лукашин с Каро снова бросился в погоню.
Но теперь она продолжалась совсем недолго. Каро довел до ближайшей трамвайной остановки и беспокойно закружился, тщетно нюхая припорошенные снегом асфальт и мостовую. След обрывался. По-видимому, преследуемый уехал на дежурном трамвае.
Все-таки обделал дельце. Обделал и скрылся. Можно сказать, на пятки наступали, а — улизнул. Видать, стреляный воробей и не теряется ни в какой обстановке… Лукашин, подавляя разочарование, продолжал отмечать сильные стороны своего неизвестного противника. С такими бы способностями да в цирке выступать — давно был бы в почете человек!
Спустя несколько часов Лукашин рассматривал вещь, найденную при обыске задержанного в магазине. Небольшая, но тяжелая, откованная из стали; похожа на подкову, с несколькими острыми шипами по выпуклому краю. Должно быть, такой же была убита собака.
Лукашин долго задумчиво вертел ее в руках. Удобная вещица… для бандитов. Всегда с собой и, в случае чего, подозрений не вызывает. Не револьвер, не нож. Вероятно, собственной конструкции. Придумал же, мерзавец, такое. Кто тот, второй, таскающий с собой такой же инструмент? И где он может быть сейчас?…
Выдать соучастника задержанный отказался.
3
Лукашину вспоминается начало его работы на поприще охраны общественного порядка и сохранения законности.
Вместе с Каро он ехал в поезде, только что получив назначение после окончания школы проводников розыскных собак. В активе — еще ни одного расследованного преступления, бороться с которыми отныне его обязанность и долг. Все — впереди!
На какой-то крупной станции сошел на перрон: захотелось выпить бутылку лимонада. У киоска было много народу. Когда выпил и полез в карман, чтобы расплатиться, оказалось, что у него срезали часы. Расстроенный (часы были дареные: за успешное окончание школы), вернулся в вагон; и тут, при виде Каро, вдруг мелькнула мысль, в первый момент показавшаяся нелепой. В следующий момент он уже приводил ее в исполнение. Торопливо бросив несколько слов соседям по купе, он отвязал собаку и выбежал с нею из вагона. Дав понюхать кармашек и оставшийся кончик ремешка, к которым прикасались чужие пальцы, подвел Каро к киоску с прохладительными напитками и настойчиво приказал: «Нюхай! След!»
Каро нашел след карманника. Он повел хозяина по перрону, завернул к буфетной стойке в здании вокзала, попетлял туда-сюда, снова вышел на перрон и затем направился прямиком куда-то в сторону от железнодорожных путей.
В ложке, метрах в двухстах от станции, сидел под березой молодой парень, по наружности которого никак нельзя было предположить, что он может заниматься воровским промыслом, и любовался на свою добычу — часы, разглядывая красивый вензель и надпись, выгравированные на внутренней стороне крышки.
Он чувствовал себя настолько в безопасности, появление Каро и его проводника было так неожиданно, возмездие за содеянное настигло так быстро, что он не попытался ни убежать, ни оказать сопротивление.
Лукашину запомнилось его лицо: с маленькой родинкой пониже левой щеки, испуганное и нахальное, кривившееся в нервической усмешке, вызывающее и жалкое одновременно: дескать, не боюсь я вас, хотя блеск глаз выдавал обратное. Все они любят бравировать!
Под конвоем добермана Лукашин отвел парня на станцию и сдал дежурному оперуполномоченному. Поезд еще продолжал стоять.
Позднее Лукашину стали известны некоторые подробности из биографии задержанного. Оказался — из хорошей семьи, сын профессора. Вот поди угадай! Любвеобильная маменька немало давала сынку «на карманные расходы». Однако молодому бездельнику показалось и этого мало — решил «подработать». На допросе, на вопрос, для чего украл часы, он ответил с развязной ухмылкой: «Для пробы».
Каро помог разоблачить этого типа. С этого случая Лукашин проникся уважением к своему четвероногому товарищу и гордится им.
Сколько нужно вложить труда в собаку, чтобы получился вот такой Каро! Розыскная служба — самая сложная из всех собачьих профессий и требует большой дрессировки.
Сначала собаку учат находить вещь. Дадут понюхать, скажем, платок, потом спрячут в кучу других предметов и приказывают найти. Станет находить вещь — приучают делать «выборку» человека. Опять дадут понюхать что-нибудь, подведут к группе людей и требуют: укажи человека, которому принадлежит вещь.
Рассказывать — быстро; учить — куда медленнее. Раз за разом, ступенька за ступенькой осваивает сообразительное, послушное животное трудную науку, пока не научится даже по самому слабому запаху безошибочно отыскивать того, кто оставил его.
Восточноевропейская овчарка — тоже хорошая ищейка — ищет обстоятельно, деловито; доберман — нервен, возбудим, реагирует каждой жилкой! Подгонять его не требуется, скорей, наоборот, надо иной раз сдерживать.
А до чего старательный! Помнится, когда в первый раз на дрессировочной площадке влез по лестнице, Лукашин возьми да неосторожно махни рукой. Каро принял это за жест команды и в тот же миг спрыгнул оттуда. Покарябал нос. Хорошо — не покалечился!
Лукашин сам дрессировал Каро, учась в школе. Учился и дрессировал. Но всегда, когда обучаешь собаку сам, немного сомневаешься: а будет ли она работать так, как хотелось бы?
Каро доказал, что все сомнения излишни. И теперь Лукашин считает, что если Каро не найдет — значит, никто не найдет!
Со временем, когда в их послужном списке числилось уже несколько раскрытых дел, Лукашин, раздумывая о труде работников уголовного розыска, понял (об этом говорили и в школе, но тогда это была «теория», «абстрактность»), что главное даже не в том, что они возвращают похищенные вещи их законным владельцам. Неизмеримо важнее, что они борются с большим социальным злом.
4
Шуба с выдрой найдена в соседнем городе, изъята у продававшего ее гражданина и возвращена по принадлежности. Она уже была продана-перепродана неизвестно в которые по счету руки, и задержанный с нею резонно заявил, что не имеет к хищению никакого отношения. За недостатком улик — если не считать за вину, что он приторговывал на рынке, — его пришлось отпустить.
5
Три месяца грабитель не напоминал о себе. Можно было даже предположить, что он уехал куда-нибудь, чтобы замести следы. Хотя, заметим попутно, и в других городах его стали бы искать не менее усердно, чем там, где он совершил кражу.
Но вот — напомнил, как бы давая тем самым знать, что поединок, начавшийся между ним и Лукашиным. продолжается, что он не подавал признаков жизни, просто выдерживая некоторый срок.
По «почерку» — это несомненно он. Опять фигурирует пожарная лестница и, кроме того, еще одна деталь, уже совсем не оставляющая никаких сомнений.
Ночью по пожарной лестнице неизвестный проник в квартиру на третьем этаже. Открыл окно и влез. Опять был расчет на крепкий сон и невнимание к запорам. Но не учел одного — в квартире оказалась собака: сеттер-лаверак. Собака, правда, старая, уже глуховатая и с плохим чутьем. Потому, надо полагать, и услышала вора только тогда, когда он уже заявился в квартиру. Тем не менее, отважно вступила с ним в борьбу. Она напугала его, подняв шум. Отшвырнув ее ударом по голове, он распахнул выходную дверь, стремглав сбежал по лестнице вниз и был таков.
Собаку отходили. Характерные признаки ранения: кровоподтек и ссадины, расположенные по полукружью. Бесспорно то же орудие, которым была убита овчарка, охранявшая магазин.
6
«Специалист по пожарным лестницам», как уже успел мысленно прозвать неизвестного Лукашин, правонарушитель, орудующий в полночный час, подобно душегубу-разбойнику из классического романа прошлого, с кистенем в руке, — кто он?
Ответить на этот вопрос нелегко.
Не забудем, что действие происходит в большом, шумном городе с десятками фабрик и заводов, с населением, количество которого выражается шестизначной цифрой. Посмотрите, какой поток захлестывает его улицы, когда все спешат на работу! И вот где-то среди этой массы людей, один на сто тысяч, бродит человек-хищник, человек — враг человеческого общества.
Кто он?
Живет ли он здесь давно или приехал откуда-нибудь? Молод или стар? Хотя последнее отпадает, если учитывать ловкость, с какой ночной посетитель коммунальных квартир взбирается по любой лестнице, на любой этаж; но, судя по приемам, — «со стажем».
Может быть, он вышел по амнистии из мест заключения, где отбывал наказание за прошлые проступки. Ведь амнистия благодетельна для тех, кто оказался на скользкой дорожке по недомыслию, случайно и хочет исправиться. Для рецидивиста она — только выигрыш в азартной игре, нежданная возможность продолжать темные дела.
Поди поймай его! Трудная задача.
Лукашин часто пытается нарисовать себе его портрет, путем догадок и цепи умозаключений стараясь уяснить некоторые особенности его поведения, по куску материи представить, во что он может быть одет; прикидывает так и сяк, чтобы лучше, вернее суметь отличить того, по чьим следам они гоняются вот уже несколько месяцев.
Теплым весенним вечером, когда улицы и бульвары заполнены нарядно одетыми мужчинами и женщинами, Лукашину нравится пройтись по городу, раствориться в толпе, по привычке, которая стала второй натурой, незаметно приглядываясь к встречным прохожим, изучая их. Ему доставляет наслаждение сознавать, что и от его, Алексея Лукашина, усилий зависит, чтобы людям здесь жилось хорошо, спокойно, счастливо. Многих из них он знает в лицо. Как бы ни был велик город, всегда, когда долго живешь в нем, начинаешь многих узнавать в лицо, не будучи знакомым с ними. Лукашина так и тянет при встрече остановиться и сказать, приложив руку к козырьку фуражки: «Здравствуйте! Вы не знаете меня? А я вас знаю…»
У него вообще очень развита память на лица. Особенность профессии, ничего не поделаешь. Но как распознать среди многих и многих того, кто ничего не создал и не желает создавать, но тоже ходит тут же, сидит в кафе, гуляет?…
Нельзя подозревать каждого. Нет, нет! Так недолго стать мизантропом, человеконенавистником, который сам никого не любит и его никто не любит. А Лукашин любит людей. Именно заботой о них продиктовано существование его специальности.
Иной гражданин, никогда не помышлявший держать собаку для охраны собственной квартиры, даже и не подозревает, что, независимо от его воли и желания, вне поля его зрения, такая собака существует: стоит кому-либо посягнуть на его добро — она тотчас объявится, вместе с проводником устремится по следу похитителя.
Собака-ищейка — грозный противник правонарушителя. И, зная это, опытный жулик идет на тысячи ухищрений, стараясь всячески запутать, сбить ее со следа, использует транспорт: трамвай, троллейбус, автомобиль. Была бы возможность, полетел бы по воздуху; только бы не оставлять на асфальте запах своих подошв!
Так продолжается поединок, начавшийся однажды темной осенней ночью у разбитой магазинной витрины и еще теплого трупа собаки. Кто кого? Кто хитрее, лучше умеет учитывать ситуацию, кто дальновиднее? На одной стороне право и честь; на другой — изворотливость преступника, извращенный ум, порождаемый порочным образом жизни. Эта изворотливость, которую можно сравнить со скользкостью ужа, помогает неизвестному оставаться неуловимым, выходить сухим из самых рискованных положений. Ловок, не сразу упрячешь его за решетку!
…А попался он, как иногда случается, на ерунде.
7
Любитель спорта, Лукашин в свободные часы часто посещал стадион «Динамо». Он сам состоял членом этого спортивного общества и не пропускал ни одного интересного состязания.
Он выходил со стадиона после только что окончившихся легкоатлетических соревнований, когда в толпе, хлынувшей с трибун, заметил высокого молодого мужчину в кепке и открытой рубашке-безрукавке, который шел, поигрывая цепочкой, навернутой на кулак левой руки. Что-то в его облике показалось Лукашину знакомым. Где он уже встречал это самоуверенно-вызывающее выражение на довольно интересном, но потасканном лице с эгоистически поджатым ртом, этот холодный, развязный блеск голубых глаз? Лукашин нарочно ускорил шаги, чтобы забежать вперед и взглянуть на незнакомца еще раз; но поток болельщиков, оживленных, жестикулирующих, еще продолжавших с жаром обсуждать перипетии прошедших соревнований, внезапно прорвавшийся из бокового прохода, оттеснил его.
Возможно, все на том и кончилось бы, если бы за воротами стадиона Лукашин вновь не увидел незнакомца. Продолжая все так же небрежно поигрывать цепочкой, тот направлялся к группе автомашин, стоявших на асфальтированной площадке. Остановившись около приземистого бежевого «москвича», почти невидного за широким ЗИЛом, он быстро огляделся, затем рванул ручку — и через несколько секунд, стрельнув облачкам синего газа, «москвич» уже исчезал за ближайшим поворотом. Лукашин проводил машину взглядом. Глаза скользнули по номеру, и в мозгу автоматически отпечаталось: «СВ 47-37».
Возможно, и это не вызвало бы подозрений Лукашина, если бы еще несколькими секундами позднее до него не донеслось:
— Вот тебе и раз! Где же она?!
На месте недавней стоянки «москвича» стояла компания молодежи — девушка и два юноши — и удивленно озиралась по сторонам.
— Эсве сорок семь тридцать семь? Бежевая? «Москвич»? — приблизившись, быстро спросил Лукашин.
— Да. А вы откуда знаете? — подозрительно уставился на него один из юношей.
— На ней только что уехали…
— Как уехали?! Это же моя машина!
Может быть, им знаком уехавший на машине? Лукашин подробно обрисовал его. Нет, они его не знают.
Дело начинало принимать интересный оборот.
Лукашин вернулся домой с неотвязной мыслью: где он видел этого человека? В том, что видел, он не сомневался; но… Эх, память, память! Хоть Лукашин и не мог пожаловаться на нее, но сегодня она отказывалась служить ему. Вот бывает так: где-то видел лицо, а где — никак не можешь вспомнить!
Оставалось следить за судьбой «москвича» по телефону. Часа через два дежурный милиции, к которому звонил Лукашин, сообщил ему, что машина СВ 47-37, бежевая, типа «москвич», найдена брошенной в переулке на противоположном конце города. Машина в полной исправности, все части целы.
Обычное хулиганство. Расследование уже не представляло особого интереса. Тем не менее мучимый желанием выяснить, кто — человек, захотевший прокатиться на чужом автомобиле, Лукашин не удержался и на дежурной «победе», захватив с собой Каро, съездил и осмотрел «москвича». Но тщетно! Неизвестный не оставил никаких следов, не забыл никакого предмета, вообще — ничего, за что можно было бы ухватиться, чтобы попытаться установить его личность.
Прошло недели две, когда точно такой же случай повторился снова. Опять на стадионе и опять — «москвич». Машина нашлась в тот же день. Угнавший ее, как и в первом случае, остался безнаказанным.
Шло время, а угоны «москвичей» продолжались, повторяясь с аккуратной периодичностью через две-три недели. И каждый раз это случалось где-нибудь неподалеку от стадиона. Кто-то явно развлекался, играя на нервах владельцев индивидуальных машин, завсегдатаев стадиона, заставляя то одного, то другого из них пережить несколько неприятных часов, после чего, как правило, машина находилась.
Лукашин решил во что бы то ни стало выследить охотника ездить на даровом бензине и наказать «шутника». Ему это было легче сделать, чем кому-либо: он один видел его. Кроме того, Лукашин никак не мог отделаться от ощущения, что знает этого человека.
Отправляясь на стадион, он захватывал теперь с собой Каро. Будучи там своим человеком, он оставлял Каро в служебной раздевалке, а сам шел на трибуны. Словно какой-то внутренний голос подсказывал ему, что Каро еще сыграет свою роль.
Он прихватывал собаку и тогда, когда приходил сюда позаниматься на кольцах и на брусьях — любимые виды упражнений, которыми он увлекался с детства. Хозяин кувыркается на параллельных брусьях, а Каро сидит в уголке и терпеливо поглядывает на него. Поскольку все привыкли к тому, что Каро повсюду сопровождает его, это не вызывало расспросов и освобождало Лукашина от надобности придумывать что-то, чтобы объяснить визиты добермана на стадион.
Собственно говоря, бороться с автомобилистами, ездящими без водительских прав и на не принадлежащих им машинах, — совсем не его обязанность. Для этого есть ОРУД[16], автоинспекция. Но его, как говорится, заело. Он хочет поймать этого человека. И он добьется своего. Не сегодня, так завтра. Любитель прокатиться на даровщинку все равно никуда не уйдет от него. Любит поездить на чужих машинах? Хочется покрутить баранку? Отлично. Пускай ездит. Съездил раз, съездил два, а там, глядишь, понравилось, потерял чувство меры и — готов, сцапали голубчика. Так всегда бывает.
Метод, избранный Лукашиным, был очень прост: когда заканчивались состязания — выйти чуточку пораньше, встать в сторонке, так, чтобы и к себе не привлекать внимания и самому всех было видно, и пропустить всю публику мимо себя. Каро в это время находился где-нибудь неподалеку.
И вот настал день, когда Лукашин снова увидел того, кого ждал. Уже знакомой неторопливой походкой, походкой этакого ферта, очень удовлетворенного собой, и опять поматывая цепочкой, навернутой на кулак, тот вышел со стадиона с первой группой зрителей, едва прозвучал финальный свисток судьи на поле, и направился… К машинам, сгрудившимся на своем обычном месте на асфальтовой площадке? Как бы не так! Он вовсе не был настолько безрассуден, чтобы без конца повторять один и тот же прием, действуя напрямик, как поступают одни глупцы. Он прошел мимо машин, даже не удостоив их взглядом. Лукашин был разочарован. Может быть, неизвестный совсем не собирается сегодня похищать автомобиль? Это было бы ударом для Лукашина, ибо накрыть нужно с поличным, а так — что толку? Одного свидетельства мало, нужны вещественные доказательства.
Лукашин напряженно следил за незнакомцем, решив, что бы ни было, не выпускать его из виду. Он чувствовал, как в нем поднимается то самое волнение, какое он испытывал всякий раз, когда нападал с Каро на свежий след.
Незнакомец перешел улицу, остановился. Лукашин тоже замер на месте, сделав вид, что рассматривает афишу с бегущим футболистом на ней. Незнакомец постоял и пошел дальше. Чуть обождав, Лукашин двинулся в том же направлении. Он был не в форме, а в обычном гражданском платье, какое бывает в это время года на большинстве мужчин: в легкой, в полоску, полотняной рубашке, в брюках навыпуск, без головного убора; и это облегчало ему его задачу.
Незнакомец повернул за угол. И Лукашин повернул за угол. Эге, вот оно в чем дело: здесь тоже стояло несколько машин. Вероятно, незнакомец заранее взял их на заметку; возможно, заприметил и хозяина какой-либо из них, чтобы в самый неподходящий момент ненароком не столкнуться с ним нос к носу. Лукашин поспешил смешаться с толпой, и сделал это не зря.
Быстро осмотревшись (знакомое движение!), тот, с цепочкой, шагнул к одной из машин. Секунда — и он уже сидит за рулем. Тоненько запел стартер; мотор заработал. И в эту минуту, точно из-под земли, рядом выросла невысокая фигура с непокрытой головой и русыми вьющимися волосами. Решительным движением распахнув дверцу, Лукашин требовательно произнес:
— Это же не ваша машина! Кто вам разрешил садиться в нее?
У того не дрогнул ни один мускул в лице.
— А вам это откуда известно?
«Смелый мерзавец! — отметил про себя Лукашин. — Самообладание совершенно исключительное…»
— Предъявите ваши права.
— А кто вы такой, чтобы требовать у меня права? Лукашин полез рукой в карман, чтобы достать служебное удостоверение; одновременно шарил взглядом, ища милиционера в форме.
Этого промедления было достаточно неизвестному.
Рука с цепочкой протянулась, чтобы захлопнуть дверцу, однако не успела сделать это. Ребром ладони Лукашин резко ударил по ней. Она разжалась, и то, что постоянно находилось в ней, звякнув, упало на асфальт.
Молниеносно оба нагнулись, чтобы поднять, один — сидя, из машины, другой — стоя. Лукашин оказался проворней. Он схватил этот небольшой, но тяжелый предмет с прикрученной к нему цепочкой. Совсем близко от своего лица он увидел лицо незнакомца, и в этот миг они одновременно узнали друг друга. Лукашин понял это по глазам.
Все дальнейшее походило на кино. Мотор взревел, «москвич» рванулся вперед; Лукашин едва успел отскочить, чтобы не оказаться сбитым с ног и задавленным. Задержать автомобиль он уже не мог. Наконец-то увидев милиционера, дежурившего около стадиона, Лукашин крикнул ему, чтобы тот остановил для него какую-нибудь машину.
Но милиционера опередил какой-то гражданин в штатском, явившийся невольным свидетелем всего происходящего, — владелец индивидуальной машины, у которого любопытство смешивалось в эту минуту с естественным возмущением действиями вора. Кто-кто, а они, любители-автомобилисты, больше всех страдали вот от таких субчиков.
— Садитесь в мою! — крикнул он Лукашину, с готовностью распахивая дверцу и жестом зазывая к себе.
— Сейчас! — отозвался тот и бросился за Каро. Когда он появился вновь с прыгающей около него собакой, «москвич» уже скрылся в конце улицы. Но уже стояла наготове машина с работающим мотором, водитель сидел, положив руки на руль. Лукашин вскочил в нее; Каро прыгнул за ним. Шофер дал газ. Машина понеслась.
8
В эти минуты, когда машина, подпрыгивая на неровностях мостовой, словно ошалев, на полной скорости мчалась по улицам города, вызывая яростное возмущение и гнев постовых милиционеров, грозивших и свистевших ей вслед, Лукашин старался связать воедино события не только последних месяцев, но и значительно более давние, казалось совсем не имевшие отношения к сегодняшнему.
Он ловил одного, а, выходит, накрыл неожиданно сразу двух… в одном лице. Вот удача так удача!
Впрочем, если вдуматься, в этом была своя закономерность.
Кто этот, с позволения сказать, человек, сидевший сейчас за рулем «москвича», «любитель спорта», как окрестил его теперь Лукашин? Тип с разложившейся моралью. Ему все равно: красть, убивать — лишь бы не работать, не жить той жизнью, какой живут все честные люди. Лазал по чужим квартирам — почему бы не поездить на чужих машинах? Заманчиво! Тунеядца всегда влечет чужое. Сдерживающих начал нет, чувство порядочности, чести отсутствует. Значит — сделал и это.
К тому же он ничем особенно не рисковал, пока эта штука не выдала его (Лукашин с удовлетворением взвесил ее на руке: улика!). Машин он не похищал — стало быть, кражу не припишешь. Только ездил на них. Обзавелся для этого набором отмычек; а иногда и сам хозяин забудет ключ в машине. С болельщиками это случается особенно часто: опаздывает, торопится, только подъехал — слышит, уже свистят на поле; выскочил из машины — и забыл про все на свете… А неизвестный этим пользовался.
Да и без ключа опытный автомобильный вор действует не хуже, чем с ключом. Поездил — бросил. Это было озорство, бравировка: посмотрите, какой я смелый да ловкий! Где вам до меня! Ну, вот теперь пусть и платится за свою удаль. Самоуверенный негодяй, он считал, что ему все будет сходить с рук… Шалишь! Сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать! До нас сказано.
Лукашин еще раз осмотрел предмет, который держал в руке, затем опустил его в карман. Знакомая, знакомая штучка… Она основательно послужила своему владельцу, оттого он никогда и не расставался с нею; но она же и погубила его. Он забыл, что точно такая же имелась у задержанного в магазине.
Но теперь он понимал, что события обернулись против него, и гнал очертя голову, стремясь уйти от погони, рискуя где-нибудь на повороте разбиться вдребезги.
Лукашин торопил своего добровольного помощника, тот «жал на всю железку». Но и «москвич» выжимал всю скорость, на какую был способен. Лукашин даже восхитился: смотри, хорошо ходит малолитражка, хоть остряки и прозвали ее «правом на ремонт»!
Сначала они вообще потеряли ее из вида; пришлось даже остановиться на перекрестке и справиться у постового, не проходила ли тут такая-то автомашина. Потом она внезапно мелькнула впереди. Ее задержал перекрестный поток транспорта, проскочить который она не успела, и расстояние между ними сократилось.
Очевидно, преступник надеялся, начиная эту автомобильную гонку, что успеет скрыться раньше, чем Лукашин сядет в машину, и — ошибся. А не выйдет так — затеряется в уличном движении. Это был второй просчет. Они не потеряли его.
Куда он гонит? Ответ был получен вскоре. Началась окраина, лабиринт узеньких переулков и извилистых улочек, многие из которых оканчивались тупиками, в рытвинах и кочках, никак не рассчитанных на быструю езду. А он мчался все с той же скоростью, не обращая внимания на толчки, на жалобный скрип машины, которую бросало из стороны в сторону, качаясь и болтаясь в ней, несколько раз сильно ударившись головой о верх кузова… Как еще не пробил его!
Поворот, другой… Машина сползла двумя колесами в канаву, залитую водой, забуксовала и остановилась, мотор заглох.
Когда подъехали преследователи, в машине никого не оказалось. Пусто. Утек!
Утек? Ну, это еще как сказать. А Каро на что?
Лукашин извлек из кармана отобранный предмет, ткнул под нос Каро. На нем еще должен сохраниться прежний запах.
Чутко задвигались нервные, вздрагивающие ноздри.
— Нюхай, Каро! След!
Каро поднял глаза на хозяина, затем сунулся в кабину, обнюхал подножку, землю около нее, перепрыгнул канаву и — пошел.
Давай, голубчик, давай! Помнишь убитую овчарку на панели? Пришел час расплаты!
Место было нежилое. Вокруг тянулись какие-то длинные обветшалые заборы, из-за которых выглядывали крыши приземистых покосившихся строений: складов, старых гаражей. Все это предназначалось в ближайшем будущем на снос; вместо них должны были вырасти новые, благоустроенные дома, жилые кварталы, где не найдется места, чтобы укрываться всякой нечисти.
Давай, Каро! Давай!
Пробежав вдоль забора метров пятьдесят, Каро задержался ненадолго (здесь преследуемый перелез через забор), затем присел, собрав тело в тугой комок, и одним прыжком перемахнул через двухметровую преграду. Поводок лопнул; конец его остался в руке Лукашина; и когда Лукашин, отбив ногой доску, пролез в пролом, Каро, волоча по земле обрывок ремня, уже был далеко, устремившись за беглецом своим характерным взлягивающим галопом.
Уйти далеко преступник не успел. Лай Каро сказал ему, что преследователи близко, вот-вот настигнут его. Он заметался, как зверь в ловушке, все еще надеясь среди этого нагромождения построек замести следы, сбить собаку и людей с толку.
Внезапно Лукашин увидел его: вор бежал по крыше. И тотчас почти вплотную за ним показался Каро — доберман тоже успел взобраться по крутому откосу дощатого настила. Дальше был разрыв между двумя строениями, поперек которого лежало толстое бревно. Преследуемый пробежал по нему, не останавливаясь. Каро, замедлив бег, тоже двинулся по этому буму[17].
В один миг Лукашин понял опасность, грозящую доберману: когда пес достигнет противоположного конца бревна, враг спихнет его.
Каро! Друг, товарищ!… Лукашин, кажется, скорее дал бы отрубить себе правую руку, нежели допустить, чтобы что-нибудь случилось с Каро. Выхватив револьвер, он крикнул:
— Стой! Стрелять буду! Но было уже поздно.
Каро достиг конца бревна. И в тот же миг пинком под низ шеи, нанесенным со страшной силой носком ботинка, преследуемый сбросил собаку вниз, а сам спрыгнул по другую сторону строения. Каро, пытаясь защититься, злобно щелкнул челюстями, но зубы скользнули по твердой подошве ботинка. Перевернувшись в воздухе, доберман тяжело грохнулся наземь.
Лукашин подбежал к нему:
— Каро! Голубчик! Неужели разбился?…
И — какое счастье! — Каро поднялся, слегка пошатываясь, отряхнулся и вновь бросился в погоню за врагом.
Удачно, удачно. Обычно большие собаки падают неловко и нередко расшибаются насмерть.
Попытка вывести из строя Каро была последним отчаянным шансом преследуемого. Дальше, собственно, бежать было некуда. За строениями начинался обширный заболоченный пустырь. И когда Лукашин с Каро прибежали сюда, они сразу увидели своего противника на открытом пространстве. Погружаясь по колено, тот брел по болоту с искаженным от страха лицом. Руки его тряслись, а рот вместе с хриплым дыханием, брызгами слюны изрыгал гнусные ругательства, словно они могли что-то изменить.
Каро не медлил. Захлюпала вода. Вот он, столкнувший его с крыши! Никуда не ушел! И Каро тут же сполна рассчитался с ним.
Каро кажется легким, изящество сложения и черный окрас скрадывают его силу; а прыгнет на грудь — ударит, как чугунный. Настигнутый дико закричал. Так ему, Каро! В болоте, в черной вонючей жиже — тут ему и конец! Однако — хватит, не увлекайся чересчур, недолго прикончить и совсем. Фу! Веди сюда!
И вот он стоит, жалкий, мокрый, весь в болотной гнили, трясущийся от страха, не смея шевельнуть ни рукой ни ногой перед своим грозным четвероногим противником. Старый знакомец: вот и родинка на нижней части щеки, и чуб так же свешивается… Одного урока ему оказалось мало. Поимка с чужими часами в руках ничему не научила — стал профессионалом-грабителем!… «Изобрел» орудие нападения, наловчился, скрываясь от преследования, отлично лазить по пожарным лестницам… Хищник, волк — его и травят, как волка. Точнее — затравили. Отбегал.
А ведь мог стать полезным членом общества.
Медленно переставляя ноги, он побрел, повинуясь приказу Лукашина, оставляя за собой на земле сырые грязные следы.
Все! Больше этих следов не будет на асфальте.
СТЕПНАЯ БЫЛЬ
1
Степь… От края и до края, насколько хватает глаз, ровный зеленый ковер: ковыль, житняк, кошачья лапка… Запах чабреца и пение жаворонка; солнце будто остановилось в зените — печет. Можно идти и день, и два — вокруг будет все та же картина: пылающий, нестерпимо яркий шар над головой, медовый травяной аромат, посвистывание сусликов да порой крик стрепета. С шумным хлопаньем крыльев взлетит из травы и брызнет испуганно в разные стороны стая серых куропаток или чутких, осторожных дроф; пронесутся вдали, стремительные и легкие, точно тени, зачуявшие хищника степные антилопы — сайгаки; проплывет, высматривая добычу, беркут в синеве; и снова лишь стрекотанье кузнечиков да льется, льется с вышины песня невидимого крылатого певца. На сотни километров — степь, степь и степь…
Жарко дышит степь. Дрожит даль, горячие воздушные струи восходят от нагретой земли; и в этом колеблющемся, призрачном мареве кажется, что и сама степь бежит, течет куда-то.
К осени побурела, выгорела степь. Ветер гонит, развевает семенники трав; размахивает, трясет седыми космами ковыль. А кто это перемещается толчками невдалеке: то рванется вперед, то словно замрет в нерешительности? Э, да это перекати-поле! Чуть налетел порыв ветра — несется вскачь по степи, рассыпая семена; переменился ветер — покатилось обратно…
А что движется вон там, на горизонте, неторопливо разливаясь по равнине желтовато-серой шевелящейся массой? То идет-бредет овечья отара: сотни, тысячи круторогих важных баранов и овец-маток, пугливых глупых ярок, молодняка. Пришло время перегонять стада на зимние пастбища.
Размеренно шагает за отарой загорелый чабан, с длинной палкой-ярлыгой в руках, с помощью которой (крючком на ее конце) он ловит овец, в черной, развевающейся по ветру, будто орлиные крылья, бурке и мохнатой папахе. С боков отару охраняют громадные свирепые собаки овчарки. Косматая шерсть их свалялась в войлок, на каждой надет железный ошейник с острыми вершковыми шипами: если вздумает схватить за шею волк — поранит пасть и отпустит. Собаки бдительно несут свою службу. Не подходи близко ни чужой недобрый человек, ни серый вор — волк. Разорвут!
Ночью в степи горят костры, дремлют, завернувшись в бурки, чабаны у огонька. Чу! Кто-то шевельнулся в траве или ветер донес чей-то запах — и уже мчатся с лаем в темноту овчарки.
Где много стад, там всегда много и волков. Понятно: серому хищнику легче пропитаться. Днем волк отлеживается где-нибудь в бурьяне, а как стемнеет, поднимается и выходит на охоту. Умеет волк подкрадываться так, что не раздастся даже слабого шороха. Да только собаку овчарку не обманешь. Она слышит там, где человек не слышит ничего, не скажут уши — скажет нос и все равно еще издали зачует приближение смертельного врага.
Предки этих собак могли бы рассказать не только о схватках с волками. Их выносливость, отвага и крепость челюстей испытаны в войнах, которые на протяжении тысячелетий вели народы Кавказа, отстаивая свою независимость. Не раз мохнатым защитникам аулов довелось помериться силами и с римскими легионерами, и с воинами монгольских завоевателей. Из горных теснин с ходом времени эти сильные и преданные животные спустились в долины, из долин пришли жить в степь. И теперь на просторах нашей Родины пасут колхозные и совхозные стада — сберегают государству драгоценное руно.
Такую же многовековую историю насчитывает и тонкорунное овцеводство. Издревле богатство многих стран определялось числом овечьих стад. Овцеводство было развито в древней Греции и Египте, в государствах Передней Азии: Финикии, Ассирии, Персии. Тысячи лет назад возник миф о золотом руне. И всегда, как бы далеко в глубь веков мы ни заглянули, рядом с овцами находились охранявшие их собаки, друзья и помощники человека, владельца стад.
…Медленно движется отара. Овца идет и кормится — подгонять ее не нужно. Но следить требуется непрерывно.
У овцы свои причуды. Понаблюдайте, как она идет. Солнце у нее всегда за хвостом, а впереди — тень. Дневное светило проделало какую-то часть пути по небосводу — и овца изменила направление своего движения ровно настолько, чтобы тень по-прежнему бежала впереди. Стадный инстинкт берет свое и здесь — овца следует за собственной тенью. Если предоставить полную свободу, сделает за день почти полный круг и придет к тому же месту, откуда отправилась с утра.
Подул ветер в лоб — сейчас же повернется на сто восемьдесят градусов и пошла назад: ни за что не пойдет против ветра.
Ни у одного домашнего животного так не развит стадный инстинкт, как у овцы: куда одна, туда все. Это и хорошо и плохо. Хорошо потому, что позволяет легче управлять тысячеголовым стадом. Плохо — ибо, если напали на отару волки, перережут всех до единой.
Нужно до тонкости изучить все особенности поведения овцы, примениться к ним. Как в старину искусный кормчий заставлял парусное судно плыть и по ветру, и наперекор ему, минуя подводные препятствия, так и чабан ведет отару, прибегая ко всяческим ухищрениям, выработанным долголетним опытом, стараясь принудить стадо быть послушным его воле.
С приближением зимы начинается большая передвижка мериносовых и каракульских стад. По степи пролегли отгонные тропы. Они ведут на Черные земли.
Черные земли — это огромная впадина площадью в несколько миллионов гектаров между Азовским и Каспийским морями, в правобережной части обширной Прикаспийской низменности. С юга она защищена Кавказским хребтом, с севера ее прикрывает Волжская возвышенность. Холодные ветры не залетают сюда. Зато постоянно дующий с Каспия южный ветер — моряна — приносит на Черные земли много тепла.
Когда-то, в далекую от нас эпоху, эти места заливал Каспий. От его нашествий остались лишь маленькие соленые озерца. Было время, когда по этим древним естественным путям двигались войска восточных «покорителей мира». По ним прошли полчища Дария[18], шедшего войной на скифов. Описание этого похода оставил нам древнегреческий историк Геродот. Позднее тут побывали легионы Траяна[19]. И до сих пор возвышается на просторе южнорусской степи так называемый Траянов вал. Орды кочевников, пытавшихся закрепиться по берегам Понта Эвксинского[20], проносились на мохноногих быстрых конях. Человеческие волны, подобно волнам морским, перекатывались по степи, звучала чужая речь, клинок высекал из клинка искру. Ныне на смену историческим потрясениям пришли на эту неоглядную ширь ежегодные приливы и отливы бесценных тонкорунных стад.
Издавна Черные земли пользуются славой лучших зимних пастбищ. На Черных землях почти не бывает зимы, редко-редко выпадает снег. Потому и прозвали их Черными. Как раз когда выгоревшая и оголившаяся степь перестает кормить травоядных животных, здесь, на Черных землях, вырастает свежая зелень и до весны стада обеспечены питательным, вкусным подножным кормом.
Полупустынная прежде, эта местность в наше время меняется год от года. Строятся постоянные теплые загоны — кошары для скота, жилье для людей. Появился даже свой районный центр — Красный Камышанник. Создаются запасы кормов на случай внезапной бескормицы, если вдруг после оттепели ударят морозы и разразится гололедица, степь сделается бестравной. Хоть редко, да бывает такое… В степные поселки проводят электричество, радио. Туда, где нет селений, тракторы притаскивают чабанские вагончики.
На Черных землях организованы машинно-животноводческие станции. Ежегодно колхозам отпускаются большие средства на строительство кошар, рытье колодцев.
И вот, когда приспела пора отгонов, со всех сторон к Черным землям потянулись бесчисленные стада. Ежегодно на Черных землях зимует несколько миллионов голов скота. Идут со Ставропольщины и из Ростовской области, от Астрахани и Волгограда. Преодолевая перевалы Кавказа, по горным дорогам и тропам двигаются отары из Грузии и Дагестана. С ними — верные сторожа, кавказские овчарки, на лошадях и автомашинах все необходимое, передвижные ларьки для торговли. Блеют овцы, покрикивают гуртовщики, облако пыли стоит над степью… ну, ни дать ни взять, сцены из времен великого переселения народов! Некоторые караваны проходят по триста-четыреста километров. Основные трассы перегонов не меняются в течение десятилетий. Приходят и располагаются, как хозяева, на тех пустошах, куда пригоняли стада на зимовку еще деды и прадеды.
Идут зимовать на Черные земли, сбившись во внушительные стада, и антилопы-сайгаки, охота на которых воспрещена советским законом. Жадными глазами следят издали за овечьими отарами, следуя за ними по пятам, стаи голодных волков. Чабан — смотри в оба!
Чабан должен быть всегда начеку. Степной покой обманчив. Появилось на горизонте темное облачко, не успел оглянуться — завыл ветер, полетели снежные хлопья, в один миг белая мгла затянула все вокруг. Природа нет-нет да и преподнесет неприятный сюрприз…
А если овцы в поле? Попробуй-ка собери их!
Нет ничего опаснее в степи внезапной метели с десятибалльным ветром. Не метель — ураган, со страшной силой и яростью сметающий все на своем пути. И если не успел чабан вовремя загнать отару на баз или в кошару, не миновать беды.
2
Было начало марта.
В то утро, как обычно, Амуртай Султаналиев выгнал отару из кошары. Рассыпавшись по степи, овцы медленно подвигались все дальше и дальше, щипля сочно хрустевшую у них на зубах траву. Старшему чабану помогал подпасок Темиркул. Три собаки овчарки — Арслан, Заур и Босар — сопровождали отару.
Наверное, вы не раз читали в газетах про Амуртая Султаналиева. Ведь это он выходил по сто семьдесят пять ягнят от каждых ста маток и стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Еще бы! Такому результату могли позавидовать даже самые опытные чабаны-овцеводы. А какой настриг шерсти с его отары! Ого! Приезжайте убедиться сами, когда родной колхоз Амуртая сдает это пушистое, почти невесомое руно государству. Упакованное в тюки, его кладут сначала на весы, потом — на автомашину, и грузовики один за другим мчат высоченные возы шерсти на приемные пункты.
Шестнадцать сантиметров длина каждой волосинки. И нежна та волосинка, как цыплячий пух, а крепче железной проволочки такой же толщины. Вот какое руно выращивает Амуртай! Каждый баран, каждая овца — настоящий золотой клад, такой клад, который прирастает год от года, ибо до самой старости тонкорунный баран единожды, а то и дважды в году дает отличную шерсть, а овца, кроме того, приносит еще и ягнят.
По всей стране, наверное, ребята-школьники таскают теплые варежки и свитеры, связанные из шерсти амуртаевых овец, а модницы прибавляют себе красоты и изящества ловко облегающими фигуру нарядными гарусными кофтами и платьями!
Два ордена и три медали носит Амуртай, не снимая их даже на степных кочевках. Бредут овцы, покачивая головами, шагает Амуртай, и в такт шагам чуть слышно позванивают медали на его груди. Для чего они ему в степи? Кто видит там? Да когда же чабану носить их: ведь всю жизнь, и зиму и лето, он на кочевках, всю жизнь около овечьих стад. Заглянет на пастбище заезжий товарищ — пусть поглядит, сколько у старика Амуртая наград, как ценят его труд. Если нет никого — приятно самому.
Амуртай не высок, но коренаст. Бородка узенькая, седая. Лицо задубело на ветру и на солнце, а в кривоватых ногах скрыта такая выносливость, что может позавидовать иная лошадь. «Эге-гей! Кис-са-а! Кур-ча-га!» — крикнет он резким, пронзительным, как у степного сокола, голосом, взмахнув ярлыгой, засвищет каким-то особенным образом, и овчарки с лаем устремятся вперед, забегая в голову отары, чтобы повернуть ее куда приказывает чабан.
Медленно, не спеша подвигается отара. Куда ей спешить? Тут кругом и стол и дом. Хрустит трава на зубах, постукивают о землю копытца. В копытцах этих постоянная угроза для степи. Особенно у колодцев, где тысячи следов смешались в кашу, нужно постоянно следить, чтобы овцы не разбили дернину. Опесчанится степь — перестанет кормить овец. Потом закрепи-ка ее снова с помощью посева дикорастущих трав — сколько нужно труда!…
В том и искусство чабана, чтоб и овца была сыта, и пастбище сохранялось в наилучшем виде, служило бы долгие годы.
Кажется, совсем как черепаха ползет отара по степи, а уже далеко позади осталась кошара. Спустились в балочку, поднялись на противоположный отлогий склон ее — и вовсе затерялись на приволье. Степь да небо, небо да степь, лишь они неразлучны с чабаном.
Посмотреть издали — будто серую кошму набросили на степь, и переползает та кошма с места на место, то разорвется на несколько частей, то вновь соединится. Буровато-серые комки вдруг отделятся от нее, подскакивая, точно мячики, мигом облетят, охватывая отару, как петлей, и — готово: все овцы сбились в плотную массу.
В овцеводческих районах настоящих пастушьих собак никто не обучает пастьбе скота, но они сами, руководствуясь извечным инстинктом, перенимая необходимые навыки друг у друга, молодые — у старых, щенята — у матери, превосходно справляются со своими обязанностями. И если им уделяют хоть ничтожное внимание, главное — не забывают кормить, то нет сторожей более надежных, чем они.
Юркие воздушные ручейки побежали над поверхностью земли, завиваясь и шевеля траву. Сизое снизу и белое с боков, влажное, низкое облако закрыло солнце, быстро затягивая небо.
— Кис-са-а! Кеть, кеть, кеть! — закричал чабан.
Собаки мгновенно сорвались с места и, опережая одна другую, в тяжеловатом, но податливом галопе понеслись вокруг отары, принуждая ее завернуться, слегка попугивая для острастки грозным оскалом зубов тех из овечек, которые недостаточно быстро исполняли маневр перестройки стада.
А воздушные ручейки уже превратились в маленькие смерчи. Они уже не завиваются безобидно, а с тоненьким протяжным завыванием проносятся над землей. Трава клонится от них; старые, с тяжелыми крутыми рогами, бараны, поворачивая головы, беспокойно нюхают воздух. Потянуло сыростью и холодом.
Без промедления Амуртай повел отару назад, к кошаре. Но буря, нарастая с каждой минутой, действовала проворнее его.
Да, это была буря, снежная буря, иначе ее не назовешь. Разом стемнело, воздух сделался упругим, уплотнился и несся теперь с ровным гулом по всему пространству степи. Повалил снег.
Минут пять или десять Амуртаю с Темиркулом с помощью собак удавалось вести отару по направлению к дому. Но когда овцы, вторично перейдя балку, снова оказались на незащищенном месте, в грудь им ударил ветер такой силы, что все вдруг смешалось. Десятка полтора овец откололось от общей массы животных. Темнркул бросился за ними, и больше Амуртай не видел до конца метели ни его, ни этих овец. Остальные ударились бежать, все больше уклоняясь по ветру, и Амуртаю пришлось теперь думать лишь об одном: как не дать рассыпаться отаре.
В белой крутящейся мгле утонула степь. Уж на что Амуртай мастер определяться на местности, но и он сейчас не смог бы сказать, куда они идут, ибо и небо скрылось за летящей завесой снегопада.
Случилось самое страшное: овцы пошли по ветру. Теперь никто не остановит их. Циклон воздвиг непреодолимую преграду между ними и кошарой, и не было никакой возможности повернуть обезумевших животных вспять. Будут бежать, пока не упадут, выбившись из сил.
Овцы сделались игрушкой в руках стихии. Она гнала их, как сухие осенние листья, злобно подвывая и словно насмехаясь над беспомощностью чабана.
Главное — да, собственно, и единственное в создавшемся положении — не дать овцам рассеяться по степи, где они станут легкой добычей волков, держать, как говорят чабаны, все стадо в куче. Амуртаю припомнилось, как однажды, в дни его молодости, он в такую же вот свирепую вьюгу двое суток, не смыкая глаз, держал отару в куче, и ведь не дал пропасть ни одной ярке. А сколько раз разводил костры и с дедовым охотничьим ружьем наизготовку под вой метели всю ночь напролет оборонял овчарню от волков. Все бывало… Если потребуется, он будет двое суток идти и теперь. Эге, старый Амуртай еще поборется, еще посмотрим, чья возьмет!
Погас день, спустилась тьма. Снег валил все гуще, мокрый, тяжелый, залепляя глаза. Ветер сбивал с ног, от него спирало дыхание. Овцы шли плотной массой, прижимаясь тесно бок к боку. Амуртай почти не различал их и скорее не зрением или слухом, а каким-то шестым чувством, подобно своим четвероногим помощникам, руководившимся чутьем, ухитрялся угадывать отстающих, чтобы подогнать, не дать отбиться. Собак он тоже не видел. Лишь их хриплое бреханье порой долетало до него из метели.
Амуртай привык всю жизнь обходиться без часов, всегда, однако, точно определяя время, и теперь прикидывал: много ли остается до рассвета, не утихнет ли с восходом солнца буря.
Наконец забрезжил новый день. Но что это был за рассвет! Тусклый, вялый, он разливался по степи будто сквозь промасленную бумагу или пленку из бычьего пузыря. Когда-то, во времена детства Амуртая, такая пленка заменяла стекло в юрте его отца.
Но все же теперь Амуртай хоть стал видеть овец — облепленные снегом еле движущиеся шары, над которыми клубился пар.
Сам он, вероятно, выглядел не лучше этих овец, но о себе не думал. Хватило бы сил у животных. Многие начинали проявлять признаки усталости, и ему все чаще приходилось подгонять их.
Шли уже вторые сутки, а ветер не унимался. Разбушевалась непогода! Амуртай устал, шел, тяжело опираясь на ярлыгу. Но решимость спасти отару, спасти во что бы то ни стало, не оставляла его.
Несколько овец упали и упорно не желали вставать. Он поднял их, поставил на ноги, толкнул вперед — они побежали снова.
Из снежного вихря выглянула оскаленная собачья морда. Арслан — вожак своры — проверял, тут ли чабан, не отстал ли, не лежит ли на снегу. Из пасти собаки свисал длинный дергающийся розовый язык, толчками вылетали облачка пара: овчарке было жарко.
Снова начало темнеть. Снегопад не уменьшался. Стало быть, еще одна ночь в степи, в неравном поединке с расходившейся метелью…
Амуртай уже не шел, а тащился, с трудом переставляя ноги, не раз падал лицом в снег. Усилием воли заставлял себя подниматься, хотя, кажется, так и остался бы лежать неподвижно. Что могло быть слаще этого: полежать, забыться, распустить все мускулы.
Амуртай с ног до головы был залеплен снегом, остались только дырочки у глаз и рта.
Мелькали обрывки мыслей: ищут ли его и Темиркула? Конечно, ищут. Должны. Самому ему, видимо, не найти дороги назад, пока не кончится метель. Ветер как будто бы стал чуточку спадать: уж не так валил с ног. Это вдохнуло в Амуртая новые силы. На некоторое время он даже перестал спотыкаться.
Наступила вторая ночь. Амуртай шел, как ему казалось, в центре отары, ощущая, как овцы доверчиво трутся боками о его колени, толкают лбами сзади. Амуртай отчетливо представлял себе каждую из них, хотя опять не видел ничего, кроме кружащейся плотной завесы, сливающейся с ночным мраком, сквозь которую его несли уже не столько собственные ноги, сколько подталкивавший в спину ветер.
На глаз постороннего — все они одинаковы, как колосья в поле; но чабан различает любую из овец, и не только по продетой в ухо железной бляшке с выбитым на ней номером. Сколько бессонных ночей провел он около них в период окота. Слабых ягнят согревал на своей груди. Сто семьдесят пять ягнят от ста маток — сколько труда, заботы, душевных волнений скрыто за этими цифрами! И сейчас, в пору этого тяжкого неожиданного испытания, он тревожился о них, как тревожился, выпуская в первый раз молодняк на пастбище. Ему рисовались красавцы-бараны, великолепные представители своей породы, которые должны были этим летом поехать на выставку в Москву, матки, давшие наилучший приплод. Ведь вся его отара — животные класса элита, лучше, ценнее которых не бывает. Гордись, чабан, таким стадом!
Но долго ли они еще смогут выдержать?
На сотни километров тянется суровая Черноземельская степь. Можно плутать по ней, пока не лишишься последних остатков сил. Однако, если вдуматься, пожалуй, даже в этом происшествии содержалась оценка его работы: другие, более слабые овцы, наверное, давно бы уже отказались идти, легли бы все как одна, и застыли беспомощными неподвижными бугорками… и — прости-прощай, отара! А эти все продолжали бежать, теснясь и толкаясь вокруг чабана.
Блеяние овец и свист ветра, окрики, которыми Амуртай старался подбодрить животных, разговоры, которые мысленно вел сам с собой, — все это перепуталось в его голове в один клубок. В желудке ощущались болезненные спазмы от голода. Чтобы заглушить их, Амуртай время от времени глотал снег. Хотелось спать, и порой, задремывая на ходу, он терял ощущение, где он, что происходит вокруг. Почему-то давно не слышно было лая овчарок.
Затеплилось новое утро. И тут, словно по какому-то волшебству, буран разом окончился. Все тише, тише ветер, прекратился снегопад. Вот уже последние снежинки кружатся в воздухе, плавно снижаясь наземь. Выяснело, порозовело небо. И перед чабаном и остановившейся отарой открылась беспредельная, ослепительно-белая, ровная, как скатерть, заснеженная равнина. Потянуло теплым ветром, на востоке все ярче разгоралась заря.
Но где же овцы? Половины отары как не бывало. Нет и собак. И те и другие отделились ночью и под покровом темноты ушли незамеченными в другую сторону.
Вот несчастье! Вот тяжкий стыд на седую голову Амуртая! За много лет ни одной овцы волк не унес из его отары. Не пропало ни одного ягненка. Сколько родилось — всегда все налицо. По Амуртаю равнялись, Амуртаю завидовали. Люди приезжали издалека, чтобы поучиться его опыту. Пропало все! Пропало колхозное богатство! Пропала его чабанская честь! Стыд, стыд… Что теперь будут люди говорить о нем? Амуртай Султаналиев? А-а, это тот, у которого… О, горе ему, возгордившемуся под старость лет Амуртаю Султаналиеву!…
Отчаяние Амуртая не имело пределов. Кажется, скажи ему не ворочаться из степи никогда — не вернулся бы. Окаменев на месте, весь во власти охватившего его чувства непоправимости случившегося, напряженно шарил он глазами по горизонту, щурился, очищал их от снега негнущимися, окоченевшими пальцами и смотрел, смотрел… Несколько раз издал свой чабанский клич-призыв, по которому обычно овчарки немедленно сбегались к нему. Стоял и прислушивался, не взлают ли где-нибудь в ответ собаки, и снова всматривался вдаль.
Увидел: к нему спешили несколько верховых, со вчерашнего дня высланных в степь на поиски пропавшего чабана и его отары. От них он узнал, что Темиркул со своей группой овец добрался до кошары соседнего колхоза и там переждал метель.
Проглотив, почти не жуя, кусок сыра и хлебную лепешку, Амуртай сел на лошадь. Скорей! Скорей! Теперь, после метели, выйдут на охоту волки. Скорей отыскать отбившихся овец, пока они не пропали для колхоза совсем!
Но все было напрасно. Ушла метель — вместе с метелью ушли и овцы. Все следы покрыл снег.
Двое суток Амуртай метался на лошади по степи, но так и не нашел отару, а когда, на третьи сутки, прискакал в Красный Камышанник и, шатаясь, вошел в кабинет первого секретаря районного комитета партии, вид его был страшен. Борода превратилась в сосульку. Он весь обморозился. Но физическая боль была ничто в сравнении с душевной болью, которая терзала чабана.
Совесть его была чиста: он сделал все, что мог. Но что проку? Потерять пол-отары… Четыреста с лишним голов скота! Лишиться выставочных животных! Остановившись посредине комнаты, Амуртай потряс руками с растопыренными пальцами, потом, захватив ими лицо, опустился на стул и с минуту сидел, горестно раскачиваясь из стороны в сторону, издавая глухие стоны. После, отняв руки от лица, встал со сдвинутыми сурово бровями, с каменно-непреклонным выражением подошел к столу и, сняв с груди ордена и медали, молча положил их перед секретарем.
3
Минули март и апрель. Наступил май.
В один из дней по степной дороге, ведущей на Черные земли, быстро катил легковой автомобиль. В автомобиле сидело двое пассажиров. Один был местный товарищ, секретарь Черноземельского райкома партии, другой — представитель центра, работник открывающейся Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
День был яркий, напоенный теплом и солнцем, и красота цветущей степи вызывала поминутные восторги приезжего. И в самом деле, невозможно было не радоваться этой благодати: благоухающему степному разнотравью, пышно покрывшему землю, этому необозримому простору под голубым шатром неба, вызывавшему в поэтической душе чувство безмерного восхищения.
Внезапно внимание людей привлекло серовато-бурое пятно, двигавшееся в отдалении, выделяясь на зеленом фене степи. То почти скрываясь в высокой траве, то появляясь, оно приближалось к ним. Неожиданно на дорогу выпрыгнул заяц и, едва касаясь земли, заложив длинные уши, громадными стремительными прыжками понесся впереди машины. Вслед за ним на дороге появилась большая мохнатая собака и, не обращая ни малейшего внимания на автомобиль, пустилась в погоню за зайцем. Ее-то прежде всего и заметили проезжие.
Необычное состязание в скорости между зайцем, собакой и автомобилем продолжалось, однако, недолго. Косой, улучив момент, когда, казалось, собака должна была вот-вот схватить его, сделал головоломный прыжок в сторону и исчез в траве так же неожиданно, как и появился. Собака, слыша за собой пыхтенье мотора, замешкалась на какое-то мгновенье, и это оказалось спасительным для зайца.
Секунду собака колебалась, продолжать ли ей преследование или отказаться от него, потом, как бы поняв, что все равно момент уже упущен и зайчишку не догнать, отряхнувшись, пропустила машину и неторопливо потрусила куда-то в степь.
Это была рослая кавказская овчарка, того так называемого степного типа — с длинным корпусом, мощными членами, говорившими о ее силе, и умеренно длинной шерстью, — который характерен для здешних мест. Бросалась в глаза неимоверная худоба собаки. Шерсть на ней висела клочьями, а выступающие ребра, казалось, готовы были проткнуть шкуру.
Эта встреча, особенно же истощенный вид животного, представлявший разительный контраст с окружающей щедрой природой, дали новое направление мыслям проезжающих.
— Какой великолепный пес и в каком запущенном состоянии, — осуждающе произнес москвич. — Можно подумать, что его не кормили целый месяц.
Он нахмурился, окружающее весеннее великолепие перестало его радовать так, как прежде. Привыкнув видеть всегда выхоленных сельскохозяйственных животных, которых он, разъезжая по стране, отбирал для выставки, он был как-то неприятно поражен, увидев ценного, по всем признакам, но беспризорного представителя одного из тех четвероногих, которые давно с успехом используются человеком. Используются, но… На память пришли другие встречи, похожие па нынешнюю, а также разговоры, которые ему доводилось слышать от товарищей по работе, готовивших павильон «Собаководство». В эту самую минуту с громким звуком, подобным выстрелу, лопнула нагретая солнцем и быстрым движением автомобильная камера. Машина резко затормозила и остановилась. Пассажиры вышли из нее, и, пока шофер менял колесо, между ними завязался такой разговор:
— Один из тяжелейших пороков… — раздумчиво проговорил представитель выставки, мысленно все еще видя перед собой голодного пса, — да, да, именно пороков!… это, на мой взгляд, совершенно неоправданное подчас пренебрежение к тем возможностям, которыми мы обладаем. Есть еще у нас такая свинская черта! Вот возьмите: собака. Что такое собака? Существо, которое не обязательно кормить, за которым не обязательно ходить, не обязательно заботиться о нем. Так, к сожалению, еще считают многие. А между тем… Я отбрасываю всякие там сентиментальности насчет того, что собака — друг, и все прочее такое. Возьмем чисто хозяйственную сторону вопроса. Вам известна статистика волкобоя?
— Да… в общем, — отозвался его спутник.
— В общем? А вот разрешите сообщить вам кое-что в частном. В Советском Союзе насчитывается сто тысяч волков… Насчитывали до войны. Сейчас их больше. В военные годы охота на них почти прекратилась, они имели обильные корма в прифронтовой полосе, а потом широко разошлись по всей стране. Волку, как вам, вероятно, известно, ничего не стоит пробежать за ночь сто, сто пятьдесят километров. Представляете, какое опустошение производят они в нашем животноводстве?
— У нас в одном совхозе из полутораста голов овец и коз сто были зарезаны сразу… — вставил секретарь райкома.
— И вот, заметьте: все случаи волкобоя происходят, как правило, там, где нет собак.
— Пожалуй… — Секретарь с возрастающим интересом прислушивался к речам москвича.
— И, как правило, совсем не гибнет скот от хищников в тех колхозах и совхозах, в которых уделяется внимание собакам. Если б это делали все! К сожалению… Еще нередко встречаешь руководителей, которые любят экономить на мелочах, не понимая, что из-за этого теряют большое. В некоторых колхозах совсем не предусматривают средств на кормежку собак.
— Чем же они живут?
— Ловят молодых зайцев, сусликов…
— Безобразие!
— Я, конечно, не говорю, что везде так. У грузин, например, когда отары перекочевывают на Черные земли, разрешено резать овец на корм собакам. И это правильно. Если собаку плохо кормить, она потеряет все свои ценные качества. Посмотрите на этого пса: ведь превосходный волкодав. А в каком виде?
— Да у нас здесь, по моим наблюдениям, насчет этого более или менее благополучно, — не совсем уверенно возразил секретарь райкома. — Я не знаю, откуда она взялась…
— Одна хорошая овчарка заменит трех чабанов, — продолжал защитник собачьего племени, как мысленно в шутку уже успел назвать его собеседник. — Овцеводам следовало бы помнить об этом… Ну, кой в чем виноват и наш брат, зоотехники и ветеринары, специалисты животноводства. Тоже иногда не видят или не хотят видеть дальше своего носа. Приезжаю как-то в один колхоз. Смотрю — превосходный пес. Болеет: фиброма на шее. Покусали волки. Лежит, и никто не хочет оказать ему медицинскую помощь. А есть свой ветеринар. Спрашиваю его: «Почему не поможете собаке? Всего и дела — ткнуть скальпелем…» Он только плечами пожал: дескать, нашел о ком заботиться! Все-таки мне удалось убедить его заняться собакой…
Разговор в том же роде продолжался некоторое время и после того, как дорожный ремонт закончился и путники снова сели в машину. К концу его секретарь вынул из кармана блокнот и автоматическую ручку и, несмотря на тряску, что-то записал.
— Включу в повестку одного из ближайших заседаний бюро…
Дорога делала плавный поворот, огибая балку. Подъехав ближе, путники увидели, что на дне балки пасется большая отара овец. Отара как отара; и они, наверное, проехали бы мимо, не обратив на нее особого внимания, если бы к машине не бросились три собаки овчарки, в одной из которых они без труда узнали четвероногого охотника, недавно гнавшегося за зайцем. Пока они чинились на дороге, он успел вернуться к охраняемой им отаре.
Без всяких сомнений, это был он, большелобый, ростом с доброго теленка, с невидными в массе густой шерсти короткими ушами, с темно-бурой окраской на спине и более светлой на лапах, брюхе и груди. Но сейчас поведение собаки резко изменилось. Если при первой встрече она не выказала никакой враждебности, точнее, проявила полное безразличие к ним, то теперь, увидев их поблизости от отары, превратилась в лютого зверя. Она первой атаковала машину, а за нею устремились две других.
Шофер прибавил газу. В открытом поле с собаками овчарками шутки плохи! Они уже были около машины. Вожак прыгнул. Оскаленная морда с желтовато-белыми клыками устрашающей величины пронеслась около самого лица москвича, не дотянувшись, быть может, каких-нибудь десять сантиметров. Челюсти лязгнули подобно захлопнувшемуся капкану, с железным стуком. Отшатнувшись, москвич схватил палку, лежавшую рядом с ним в машине, но подскочившая другая собака, таких же размеров, что и первая, тотчас вырвала ее у него из рук и переломила, как сухой прут.
Некоторое время собаки преследовали машину, причем то одна, то другая оскаленная морда появлялась над ее бортами. Наконец они отстали, но еще долго продолжали лаять вслед машине.
На поднятый шум обязательно должны были появиться чабаны, но около отары не виднелось ни одного человека.
— Странно, чья это отара?… — недоуменно сказал секретарь райкома, когда между автомобилем и свирепыми преследователями легло достаточно внушительное расстояние. Он приказал шоферу остановиться и, глядя из-под руки, приподнявшись на сиденье, внимательно всматривался назад. — Уж не…
Догадка, внезапно осенившая его, была настолько неожиданна и неправдоподобна, что он не сразу решился высказать ее вслух. Но чьи же еще могли быть эти овцы, без людей, в таком месте, где, по его соображениям, в это время года не должно быть ни одной овцы? Разом припомнился во всех подробностях случай, о котором говорили по всей степи: случай с исчезновением отары Амуртая Султаналиева. Неужели это она?!
Он рассказал об этом происшествии московскому гостю. Упомянул, сколько пересудов вызвало оно. Несчастье с Амуртаевой отарой взбудоражило все становища. Овец тогда искали по всей степи. Потом наступила оттепель, разлились реки, поиски прекратились. Да и сколько времени овцы могут одни блуждать по степи? Давно съедены волками…
Рассказал и о том потрясении, какое пережил из-за этого Амуртай Султаналиев. Лучший чабан, и надо же было, чтобы случилось именно с ним! Переживал весь район.
— К Герою собирались представлять, утвержден участником выставки, а тут такая неприятность!… — говорил секретарь, и с каждой фразой в голосе его нарастало сдерживаемое волнение: уж очень обидно было за Амуртая, даже и теперь, когда прошло почти два с половиной месяца. — Сам от орденов отказался! У меня в сейфе хранятся. Пробовали вернуть — не берет. Недостоин, говорит… — И снова, с надеждой: — Уж не его ли это овцы?
— Вы думаете, что столько времени…
— Да кто ж знает… а вдруг?! Знаете что: завернем к Амуртаю? Это будет лишний час езды. Не возражаете?
Через час они были у становища Амуртая. И здесь их встретил злобный собачий лай. Амуртай уже успел обзавестись полугодовалыми щенками после того, как в памятную мартовскую метель потерял прежних овчарок. Старик не мог обходиться без собак.
Узнав, зачем пожаловал к нему товарищ партийный секретарь, старик страшно заволновался и хотел сейчас, же садиться на коня, но секретарь остановил его, показав на машину. Нетерпение уже владело всеми. Оставив стадо на попечении Темиркула, долговязого, жилистого паренька, они тотчас выехали. Амуртай овладел собой и сидел рядом с шофером невозмутимо-строгий, поставив ярлыгу между колен, не поворачивая головы.
Отара успела перебраться на другое место. Но опять, как и в первый раз, навстречу угрожающе вылетели три собаки с темно-бурым вожаком впереди. Увидев их, Амуртай весь затрясся, от сдержанности его не осталось и следа, глаза горели, сухие губы вздрагивали. Не успев сойти с машины, он закричал пронзительно:
— Арслан! Арслан!
Вожак на секунду замер, остановившись, как вкопанный, напружиненный, точно струна, затем с радостным визгом бросился к старику. И так странно было видеть, что это свирепое, неприступное животное может скулить и визжать, ласкаясь, будто маленький щенок!
Продолжалось, однако, это не долее минуты. Огладив Арслана, старик крикнул на овчарок, чтобы они не трогали чужих, и побежал к отаре. Какие могли быть сомнения? Конечно, это его овцы! Живые, здоровые, в хорошем теле, как будто над ними и не пронеслось никакой беды! Около матерей весело прыгали и резвились ягнята. Собаки сумели сберечь не только взрослых овец, но даже приплод!
Около двух с половиной месяцев верные сторожа без участия человека оберегали колхозное добро, не позволив волкам похитить ни одной овцы. Голодали, ели мышей, сусликов — что удавалось добыть, но не бросили отару, хотя для собак не составило бы особого труда найти дорогу обратно, к дому. Сколько им довелось за это время выдержать схваток с волками, сколько нападений на отару отразить, о том знали только они да волки.
Это казалось невероятным. Три собаки сохранили четыреста овец… нет, не четыреста, теперь, с молодняком, их было, наверное, уже не менее пятисот. Восстановлена честь старого Амуртая Султаналиева. Собаки сослужили ему верную службу. Отплатили сторицей! Ведь кто, как не он, заботился всегда, чтоб собаки получили вовремя кусок мяса. Хоть просты и суровы законы степи, не очень щедр чабан на ласку, но тем более дорога она!
Пока старик ходил среди отары, что-то бормоча себе под нос, москвич, не отрываясь, пристально следил за Арсланом, не отстававшим от чабана ни на шаг, и когда Амуртай, удовлетворенный осмотром, вернулся к ним, спросил его, указывая на собаку:
— Можно потрогать? Тот покачал головой.
— Не нужно. Он кушать будет.
— Его волки кусали?
— Ага. Кусали, кусали.
— Он болел?
— Ага, болел, болел. Сильно больной был. Думал — не выживет. Товарищ доктор операцию делал.
— А ну-ка, попридержи!
Опустившись на корточки, москвич быстро обследовал пальцами шею собаки, которую чабан держал за голову, затем, поднявшись и отряхая пыль с брюк, сказал, обращаясь к своему спутнику:
— Помните, я говорил вам про волкодава с фибромой? Это он… Вот не думал, что встретимся!
После этого, помедлив, москвич достал из кармана маленькую складную рулетку и обмерил Арслана.
— Вот что. Я думаю, он вполне заслужил того, чтобы его показать на выставке. И работой, и экстерьером. Подготовьте все необходимые документы. И, конечно, надо подкормить.
Амуртай согласно закивал головой.
— Очень хорошо, — сказал секретарь. — Все будет сделано. А вопрос на бюро я все-таки поставлю… Ну, бывай здоров! — стал он прощаться с чабаном, пожимая его жилистую жесткую руку, и добавил, уже садясь в машину: — Да приезжай за орденами! Долго им лежать у меня? Я за тебя их носить не стану!
Машина тронулась. Амуртай долго стоял на дороге с поднятой рукой, слегка помахивая ею, затем, перебросив ярлыгу из одной руки в другую, кликнул собак и медленно погнал отару к становищу.
На душе у чабана было светло, празднично.
…Вот какие истории случаются в степи.
НОВОСЕЛЫ
1
Солнце пекло немилосердно, и собаке, бежавшей по пыльной дороге, вероятно, было нестерпимо жарко. Язык вывалился из пасти и свесился на сторону, бока ходили ходуном.
Это была рослая рыжая псина — рыжая-рыжая, как огонь, косматая и вислоухая, с хвостом как помело и добрым взглядом умных, чуть грустных глаз, который, казалось, говорил: «Я никого не обижу, только меня не троньте…» Если не быть слишком требовательными, то она была даже красива, той красотой животного, которое совмещает в себе признаки многих пород, а потому и нравится многим. Любитель сеттеров, возможно, усмотрел бы в ней голову и окрас сеттера, поклонники чего-либо иного нашли бы другие привлекающие их признаки. Словом, это была типичная «дворня», «надворный советник», как выражаются некоторые острословы, — одно из тех умных и преданных созданий, которые и дом сторожат, и за ребятами ходят, как привязанные, поражая своей сообразительностью.
Таких дворняг можно еще частенько встретить в деревне; но в городах они стали уже редкостью: крупному бездомному животному труднее прокормиться, да и ловцы бродячих уличных собак не оставят в покое, пока не заарканят железной петлей.
Собака бежала, по-видимому, уже давно. Об этом говорили и ее запавшие бока, и весь ее пропыленный вид. И в самом деле, она была в пути уже третьи сутки, не давая себе передышки даже ночью. Лишь время от времени спускалась к ручью, тихо журчавшему под мостиком, или подворачивала к болотцу, лежавшему неподалеку, и, полакав воды (кажется, не налакаться досыта никогда!), выбиралась опять на дорогу и, перейдя на мелкую размеренную рысь, спешила вперед — все туда, туда, откуда по утрам всходило солнце.
Позади синели невысокие пологие хребты — Уральские горы. К ночи они тонули во мраке, а с рассветом возникали вновь. А там, куда стремилась собака, расстилалось безбрежное море ковыля. Ни тучки над горизонтом, ни деревца, дающего спасительную тень.
По сторонам неслось посвистывание сусликов. Хитрая степная лиса-огневка, махнув пушистой «трубой» с белым кончиком, перебежала дорогу, озираясь с любопытством, вероятно решив, что по дороге бежит тоже лиса: цвет был совершенно одинаков. Собака пустилась было за патрикеевной, да вспомнив, видно, что у нее другие дела, поважнее, вернулась на прежний курс.
— Ребя, гляди, собака! — послышался детский голос. Ватага ребятишек ловила в поле сусликов.
— Бей ее! Она, наверно, бешеная! — крикнул один босоногий сорванец, ища, чем бы запустить в животное.
К счастью, под рукой у жестокосердного мальчишки не оказалось ни палки, ни камня.
— Сам ты бешеный! — возразил другой, с более доброй душой, белоголовый и вихрастый, бывший, по-видимому, вожаком. — Не трожь! Может, она от хозяина отстала!
Он поманил пса куском хлеба, но тот, как ни был голоден, не пошел на подачку, даже не замедлил шага.
Куда спешил четвероногий путешественник, или, точнее сказать, как мы убедимся позднее, четвероногий переселенец?
Говорят, кошка больше привыкает к месту. Собака всегда следует за человеком.
2
В поселке целинников, недавно выросшем в необжитой южноуральской степи, встречали очередную партию новоселов.
За много километров виднелась на степном просторе центральная усадьба совхоза, будто прикрытая высоким синим куполом неба. Все здесь было новое, едва-едва успевшее родиться на свет, начиная с притягательного, еще мало кому известного, названия «Комсомольский». В центре, на площади, красовался чистенький деревянный сборный дом под шифером — контора. Там все время хлопали двери, входили и выходили люди, постоянно дежурил у крыльца проворный и неутомимый газик, мечта всякого сельского шофера. Внимание наблюдательного приезжего, конечно, привлекла бы и длинная жердь на крыше, исполнявшая по совместительству обязанности шеста для скворечника и мачты радиоантенны, — сочетание, которому немало подивился бы всякий городской скворец.
Впрочем, это здание было единственным, и на нем сходство с обычным населенным пунктом кончалось. Вокруг раскинулся палаточный городок — целые улицы, проспекты палаток.
Совхоз «Комсомольский» только начинал жить. Это была его первая весна. Непрерывным потоком поступали тракторы; бороны, сеялки и другая техника, с помошью которой армия новоселов собиралась покорять целину. Прибывали и люди.
Когда на дороге поднялось облако пыли и донеслось тарахтение моторов, на улицах поселка возникли суета и оживление.
Встречать молодых добровольцев вышел сам директор совхоза, пожилой тучный мужчина с серебряными прядями в смоляных волосах и обвислыми запорожскими усами, в которых тоже начинала пробиваться седина, с типично украинской фамилией Задависвечка.
Гремел доморощенный оркестр — две дудилки и барабан. Полоскались на ветру алые, еще не успевшие отгореть на солнце, стяги. Красными флажками были украшены и радиаторы грузовиков.
Прибывшие — парни, девушки, в большинстве комсомолки и комсомольцы, — быстро сгружались с автомашин. В воздухе летали чемоданы, баулы, самодельные сундучки, кошелки. Раздавались возгласы:
— Паша, подай мое!
— Не растряси книги, Нюра!
— Кто взял мой рюкзак? Где рюкзак?
— Ребята, шевелись живей! Копаетесь тут…
— Хлеб да соль, хлопци, хлеб да соль! — повторял гулким басом директор, и его полное бурачного цвета лицо (таким его сделали степные ветры) выражало неподдельные приветливость и радушие.
— Ем да свой! — отозвался высокий худощавый юноша, соскакивая с машины наземь и разминая затекшие члены. — Разрешите представиться: Александр Векшегонов, комсорг колонны. По прежней жизни моторист, теперь буду — тракторист…
Свободное, но без развязности обращение, фасонистая кепка в пупырышках и легкий светлый плащ, переброшенный через плечо, невольно привлекали внимание к Векшегонову.
— Какой синпантичный! — с придыханием пропела низенькая круглолицая толстушка, вместе с подругой — серьезной, сдержанной девушкой — с живым интересом следившая за происходящим. Девушки прибыли раньше и уже считали себя старожилами.
— Ой уж, — скептически отозвалась подруга.
— Тебе, Нила, никто никогда не нравится… Хоть бы поглядел в нашу сторону! Право, слово, синпантичный… — И говорившая принялась охорашиваться, как молодая курочка.
Нила лишь неопределенно пожала плечами.
— Как доехали, орлы? — выспрашивал тем временем новоселов Задависвечка, лоснящееся, добродушное лицо которого сразу расположило к нему окружающих.
— Ехали хорошо, без остановок. Только мостик один продавили, пришлось заночевать в поле.
— В поле? У костерка? Это добре. Стало быть, уже начали привыкать… Добре, добре!
Последние «добре» относились уже непосредственно к самим приезжим и выражали оценку директора. Хорошие хлопцы приехали, крепкие, какие надо!
После ужина за длинными дощатыми столами, поставленными прямо под открытым небом, вновь прибывших повели в их временное жилье, в палаточный городок (временное потому, что ведь будут же когда-нибудь и настоящие дома, как у всех людей!).
Палатки были большие. Целое общежитие, а не палатка.
— Ну, давайте знакомиться, ребята. Вместе будем жить. Лизурчик Григорий.
— Александр Векшегонов.
— Проничев Степан.
— Чуркин Коля…
— Курим?
— Сенкью, как говорят англичане. Благодарствую. Еще не приучен. Предпочитаю кашу. Да у нас тут и запрещено, в палатках-то…
— У него тут повариха есть, Надейкой зовут… Надя, значит… Он к ней наладился, за кашей…
— Ха-ха-ха!…
Весело. А отчего весело, пожалуй, и не сказать. Молодость. У каждого, конечно, думы в голове, а хмельная, нерастраченная бодрость играет, вера в свои силы и в жизнь рвется наружу.
Стемнело. Яркие-яркие и такие близкие звезды высыпали на темном небе. Повеяло прохладой. В поселке зажглись электрические огни. Передвижная электростанция уже давала ток.
Донеслись звуки гармоники. Они приближались. И вдруг звонкий девичий голос задорно пропел за пологом палатки:
На Урале я была, Золото копала. Если б не было любви…Последние слова потонули во взрыве смеха.
— Это Надейка, честное пионерское! — встрепенулся Лизурчик. — Она! — И он сделал было попытку улизнуть из палатки, но несколько рук удержало его.
— Сиди. Никуда не денется твоя Надейка!
— Да он опять каши захотел! Пустите его, братцы! Помрет человек, что будем делать?
— К ночи много есть вредно…
Постепенно шум и смех затихали, лагерь погружался в сон.
Ночь пролетела, как будто ее и не было вовсе. Только приложился ухом к подушке и… утро. Подъем.
У Векшегонова пробуждение вышло несколько необычным. Он еще спал, когда что-то влажное, горячее прикоснулось к лицу. Открыл глаза и у самого своего носа обнаружил рыжую собачью морду. Пес лизнул еще и, увидев, что спящий проснулся, обрадованно завилял хвостом, заюлил.
— Фитя!!! Ты?!
Его возглас пробудил остальных.
— Ты откуда взялся, Фитька? — тормошил Александр рыжего пса, а тот, кажется, готов был вылезть из шкуры: так был рад встрече.
— Что — твоя собака? — спрашивали товарищи.
— Моя… Да откуда взялась, не пойму. Я ее дома оставил…
— Стало быть, прибегла…
— Какой породы?
— Ищейка… Блох ищет!
— А ты не смейся. Хозяина нашла, самолично, без посторонней помощи. За триста километров прибежала.
— Факт! Точно по спидометру: триста сорок четыре…
— Он давно у нас живет, — стал объяснять Александр, продолжая ласкать Фитю. — Привык ко мне. Я, когда уезжал, велел его запереть. А он, видно, вырвался…
— Как он дорогу нашел? Триста километров!
— Собака, она, брат, знаешь… не то, что ты… Ты только и уразумел: от кухни да сюда…
— Нет, верно, ребята, как она нашла?
— Тебя бы заставить — конечно, не нашел бы…
— Куда его теперь? — озабоченно спросил Александр.
— Пускай с нами живет, — предложил Лизурчик. — Что — жалко? Побудку будет делать. Берем на довольствие? Олл райт?
— Кашу караулить.
— Точно!
— Надо ему постель сделать, чтобы он свое место знал, — вставил практичный Николай Чуркин.
— Он у меня под койкой будет спать, — сказал Александр.
— Ну, вот и порядок!
3
Трых-трых-трых-трых-трых-трых… — монотонно рокочет трактор, постреливая сизым дымком, ровно и сильно сотрясаясь своим железным корпусом, отчего кажется, что трясется вся земля.
Фитя сидит рядом с хозяином, за рычагами управления, свесив концы лап и задремывая порой. Он уже привык и к тряске, и к выхлопам газа. Клонит ко сну.
Сперва Фитя ходил за трактором. Да скоро надоело.
Гоны в степи длинные. И пока трактор доползет до конца и вернется назад, пройдет целая вечность.
Вместе с собакой по борозде ходили важные толстоклювые грачи. Поглядывая на Фитю, они клевали жирных дождевых червей. Ловко ловили и, подбросив на воздух, глотали мышей-полевок. Фитю они не трогали, занятые делом. И Фитя тоже не трогал их, только косился.
Грачи прилетали и улетали, а Фитя оставался. За трактором стлался шлейф из пыли, и к вечеру Фитя из рыжего становился серым, чихал и кашлял: нос и глотка были забиты пылью.
Скоро ему это наскучило. Трактор все равно вернется к тому же месту, только проложит лишнюю борозду. Фитя ложился и ждал. Поднимался лишь когда машина проходила совсем рядом, едва не задев лемехами плугов.
— Когда-нибудь задавим тебя, рыжий, — сказал как-то Лизурчик. Гриша Лизурчик был прицепщиком у Векшегонова. — Задавим и землей завалим, чтобы вороны не растащили. Вечная тебе память! Пес-то был какой: рыжий, красный, никому не опасный…
Неизвестно, понял ли эти слова Фитя или природная сообразительность подсказала ему, что и вправду может выйти что-нибудь неприятное, но с этого времени он стал отходить в сторонку. Кому хочется, чтобы его давили!
Когда делали последний гон, перед концом смены, Александр брал своего рыжего приятеля к себе в кабинку (чтоб потом не искать, не звать его). Это так понравилось Фите, что он почти совсем перестал вылезать из кабины.
Вообще Фитя быстрехонько акклиматизировался на целине так, как будто весь свой собачий век жил тут. Пожалуй, он даже превзошел в этом отношении кой-кого из новоселов-людей, набивших себе много шишек с непривычки к сельскому труду.
Иногда наезжал Задависвечка. Директор почти все время мотался по полям на своем газике, проверяя, как идет подъем целины, выполнят ли план, данный правительством.
— Целинники-былинники, здорово! — еще издали кричал он рокочущим басом. — Как живете-можете? Как работенка? Не треба ли чего?
Вынув скомканный темный платок, которым можно было свободно повязать голову, он, отдуваясь, вытирал лоб, шею.
Беседа длилась пять, десять минут, затем Задависвечка, записав все претензии и просьбы комсомольцев, снова запихивал свое грузное потное тело в узкое душное пространство рядом с шофером.
— Ну, бывайте, хлопци!
— Счастливо, Амфилогий Павлыч.
— Гуд бай… Покелева!
Гриша Лизурчик — веселый малый. К месту и не к месту вставляет английские слова. Надо же показать свою ученость: два года в кружке на заводе осваивал английский. Читать-писать толком не научился, зато «гуд бай», «сенкью» — пожалуйста!
Гриша черен, как негр, только сверкают белки да зубы. Вечером отмоется, а назавтра опять прокоптится, родная мать не узнает. Прицепщик, одно слово. Вся пыль и гарь — на него.
Но это нимало не печалит Гришу. Гораздо большую озабоченность его вызывает, если задержится стряпуха Надейка, «разъездной нарпит» целинщиков, или «кафе-ресторан на овсяной тяге», как прозвали ее совхозные остряки. Впрочем, Надейка аккуратна и опаздывает редко. Едва солнце перевалит зенит, разбитная девушка уж тут как тут со своими термосами и хлебным ящиком, увязанными и укрытыми чистой белой простыней.
— Моя Надейка не подведет, — говорит обычно Лизурчик, завидев знакомую повозку.
— Твоя, твоя… Когда она стала твоей? — пробует охладить его пыл Александр.
— А вот соберем урожай, и женюсь на ней.
— Еще как она за тебя пойдет!
— За меня-то? С поцелуйчиком!
— Обедать, ударники! — возглашает Надя, быстро распаковывая свой воз. Чашки, ложки, поварешки, алюминиевые тарелки и кружки — все это у нее в образцовом порядке, уложено так, что не стучит, не бренчит, принайтовлено, как оснастка на корабле.
Борщ, рагу из баранины, компот из сухофруктов… Ох и вкусно все это в поле! Только подавай!
— Кому кофе со сгущенным молоком, поднимите руки!
— А там что у тебя, в пестерюхе? — спрашивает Лизурчик, кивая на вместительную плетенку.
— Да там у меня… сама стряпала, из картошки… да вышли задавленники. Вы не будете их есть…
— Ничего, давай задавленников… Олл райт!
— А к нам киномеханик приехал. Будут кино казать, — сообщает Надя. — Синпантичный!
— Не синпантичный, а симпатичный, — поправляет Александр.
— Это все равно, — встряхивает стрижеными волосами Надя.
Вместе с Надейкой бригады объезжает и ее подруга Нила. Нила — учетчица. Эта — совсем другая. Строга, взыскательна, неулыбчива. Вопрос — ответ, записала и поехала дальше.
Александр уже давно поглядывает на эту статную златокосую девицу. Нравится, факт. Даже сердце начинает биться сильнее, когда она появляется на стане. Да как к ней подступиться, как сказать самому первое слово? Хоть комсорг и не робкого десятка, а все же в делах любви храбры только те, кто не испытал настоящего чувства.
Пробовал как-то пошутить — она так отбрила, в другой раз не захочешь. Горда, бережет девичью честь.
Ей бы каким-нибудь сложным агрегатом управлять, лететь в космическом корабле на Луну, побеждать пространство и время, а не заниматься регистрацией выработки тракторных бригад. Не о ней ли залихватски горланит Надейка, сидя в телеге и потряхивая вожжами:
Как за тракторным рулем Сидит девка королем, На словах задириста, Больно бригадириста!— Но, но, Рыжуха! Шевели ногами! Сама-то сыта, так не спешишь!
Ну, завей горе веревочкой эта Надейка! Совсем-совсем не то, что Нила. Подруги, а такие разные… Везет Лизурчику!
4
Как-то вышло само собой, что Фитя среди многих других стал отличать Нилу. Он не прочь приласкаться и к Надейке Потылициной, и вообще при случае ластится к кому угодно, не собака, а ласкуха; но Нила Макушина — на особицу.
Если правда, что собака угадывает желания своего хозяина, то и здесь, выходит, она попала в самую точку. Александр делает вид, что ничего не замечает, но это ясно уже не только ему одному: появилась Нила — Фитька не отойдет от нее. Как прилип.
А еще говорят: собака чувствует хорошего человека…
Поведение Фити и подтолкнуло Александра, будто невзначай, как-то предложить Ниле:
— А интересно: пойдет он за тобой?
Если пойдет — значит, что-то появится между ними, протянется какая-то невидимая ниточка.
Фитя — пошел. Какое «пошел»… побежал! Приманила его Нила. И с этого дня он встречал и провожал ее. Бежал навстречу, еще завидев издали. С трактора-то хорошо видно, не то, что с земли. Засуетится, заскулит, спрыгнул — и понесся… И провожать — как непременная обязанность. Раз допровожался до того, что добежал до стана соседней бригады. Подзаправился там, чем угостили, и тогда — обратно. Нила уж стала его гонять от себя: еще потеряется.
— Куда он денется, — заметил Александр, узнав о ее опасениях. — Разве что к поварихам заглянет, на кухню…
Тем самым Александр как бы санкционировал и дальнейшие отлучки Фити.
И вдруг Фитя и вправду потерялся. Вечером вернулись с работы, а он покрутился-покрутился под ногами и исчез. Явился лишь наутро, прибежав прямо на поле.
— Где ты пропадал? — допытывался Александр. Пес, припадая к ногам Векшегонова и колотя оземь своим косматым помелом с застрявшими в нем колючками репейника, униженно вымаливал прощение. И в самом деле, позор: бросил хозяина! Дома, в родном заводском поселке, не остался жить без него, а здесь — бросил. Бывает же! Спустя несколько дней выяснилось, что пес ночевал в палатке у девчат, то есть, попросту сказать, у Нилы. Они затормошили его, заласкали, принялись пичкать лакомствами — печеньем и леденцами, вот он и задержался…
А вскоре вышло так, что сама Нила не появилась в обычный час на поле. Бригадир сообщил: заболела… Ступила на гвоздь, нога распухла, фельдшер предписал покой и дал освобождение от работы. Прекратились даже и краткие свидания около трактора.
На следующий день на стан приехала новая учетчица, заменившая Нилу на время болезни. Она попросила сведения о выработке.
— Давно отправлены, — заявил Векшегонов.
— Отправлены? С кем? Александр усмехнулся.
— Фитька понес, — объяснил Лизурчик. — Понятно? О-кей?
Учетчица хлопала глазами. Пришлось растолковать ей, что пес уже давно отлично изучил дорогу к центральной усадьбе. Вот его и отправили. Сводку привязали к ошейнику.
— Дак что — теперь, выходит, к вам можно не заезжать?
— Видно будет…
Друзья умолчали, что Векшегонов, посылая пса, внушал ему:
— Нила, Нила. Понимаешь, Нила…
И Фитя, действительно, явился к Ниле. Она лежала в палатке и скучала; на ноге был компресс. На табуретке стояли разные примочки. Неожиданно послышалось знакомое царапание когтями, полог, заменявший дверь, колыхнулся, и Фитя предстал собственной персоной с сияющей, всегда приветливой и добродушной мордой.
С этого дня он сделался «штатным» и носил сводку ежедневно. Он доставлял ее Ниле, а Нила отправляла в контору.
Развертывая бумажку, Нила каждый раз ждала: не будет ли там чего-либо, не имеющего отношения к делам тракторной бригады. И однажды дождалась. В записке, как обычно, четкой цифрой была указана выполненная вспашка, а пониже мелко и не так разборчиво приписано: «Нила, когда поправишься и кончим посевную, пойдем вместе смотреть кино?»
Прочитав это, Нила засмеялась, потом, вскочив, схватила Фитькину голову и поцеловала. После этого она перечитала послание подряд несколько раз и сказала:
— Вишь чего захотел! Пускай подождет…
Фитя, как всегда, умильно дергал хвостом. Не мог же он сказать ей, что из-за этой записки едва не лишился сегодня жизни.
…Он трусил по грунтовой дорожке, не глядя по сторонам, как человек, идущий с определенной целью. Издали все еще доносилось постепенно замиравшее стрекотание трактора, откуда-то с вышины, из лазури неба, лилась бесконечная песня жаворонка. Тихо шелестели травы еще не тронутой полосы. Трещали кузнечики.
Природа действует на животное возбуждающе, одновременно умиротворяя и как бы баюкая его. И Фитя испытывал именно такое состояние: с одной стороны, ему хотелось, взбрыкнув, подобно вертопраху-щенку, окунуться в окружающую благодать, пошнырить носом в траве, половить всяких зверушек, с другой, — во всем теле была разлита какая-то истома, какая-то лень, а привычка к повиновению и извечное желание служить заставляли его преодолевать всяческие посторонние отвлечения и спешить туда, куда несли ноги.
Жить для человека, угождать человеку — суть собаки. Это так же неистребимо в ней, так же закономерно, как то, что Луна следует за Землей, что после зимы приходит лето, после ночи — день. И в этом смысле было что ни на есть самым естественным делом то, что Фитя последовал за Векшегоновым на целину, что он сразу же прижился здесь, как будто и родился среди этих просторов. Ведь для собаки дом — там, где ее хозяин.
Нет, конечно, Фитя не был способен размышлять об этом (да и к чему это ему?), и он исполнял все прихоти Александра потому, что таково было его предназначение в жизни. Но все же, если бы Фитя был человеком, мы бы сказали, что он задумался, когда вдруг до него донеслось самое неприятное, что только могло быть: волчий запах. Фитя мгновенно остановился и замер.
Волк стоял на дорожке, вполоборота к нему, ощетинясь и оскалив желтые клыки. Глаза его горели зловещим фосфорическим блеском. С языка падала пена.
По природе Фитя был не драчлив; пожалуй, за свою жизнь он ни разу не укусил никого. Да дворняжке и не положено быть кусучей, хотя находятся такие дуры-шавки, которые злятся на весь белый свет. От таких прохожий успевай уносить ноги и береги штаны.
Положение было безвыходное, и Фите оставалось только одно — как можно дороже продать свою жизнь. И он тоже ощетинился грозно, тоже оскалил клыки.
Триста с лишним километров пробежал он в погоне за хозяином, следуя за автомобильными колеями, и не потерялся. Случались у него и другие переделки. Но сегодня, кажется, пришел его смертный час.
Волк почему-то не нападал. Фитя тоже не нападал. Где уж там! Тело его тряслось от страха.
Волк был сытый. Кроме того, от этого рыжего пса так несло бензином и смазкой, что серый невольно усомнился: нет ли поблизости человека? А с человеком он не хотел встречаться.
И не сносить бы Фите головы, если бы не этот запах…
Вспугнутый круглосуточным шумом тракторов, пробудивших степь от вековечной дремы, волк уходил на новые места. Он не стал задерживаться из-за какой-то паршивой дворняги, к тому же насквозь провонявшей этим ненавистным запахом человеческой близости. Хрипло рыкнув для острастки и поведя вокруг себя горящим взором, волк вдруг сделал легкий бесшумный прыжок в сторону и сразу затерялся в высокой траве. Фитя остался один. Подождав, не вернется ли его враг, Фитя закрыл пасть, облизнулся, встряхнулся с силой, как бы сбрасывая с себя страшное оцепенение, и все той же неспешной податливой трусцой засеменил дальше.
…А никто из людей и не догадывался, какой участи избежал он сегодня. Таков удел собаки — все хранить в себе.
5
Дни летели в труде. И все больше, больше жирных перевернутых пластов ложилось за лемехами плугов, чернела степь.
Бригада Векшегонова заканчивала взмет и боронование своего участка. У комсомольцев было отличное настроение.
Еще бы! Кажется, давно ли они, облачившись в ватные телогрейки, комбинезоны, кирзовые сапоги, впервые вышли в поле. Оглянулись, и дух захватило: вот она, целина, ни конца ей, ни края… Да где ее осилить, такую?
Глаза боятся, руки делают.
И ночью двигались в степи огоньки, рокотали тракторы.
Южноуральская степь, горячая, суховейная, переходящая в бескрайние просторы Казахстана, покорно стлалась под гусеницами мощных тракторов, переворачивалась тяжелыми глыбами чернозема, рассыпалась под зубьями борон на мелкие ровные комышки…
Завершался один этап — вспашка, близился другой — сев.
Накануне в тракторных отрядах на летучих митингах зачитывали обращение ЦК ВЛКСМ. Центральный комитет комсомола призывал удвоить усилия, страна ждала от своей молодежи героических дел.
— Не подведем, — говорили комсомольцы. — Уральцы не подкачают!
Уроженцы Урала — и Векшегонов, и его ветреный неунывающий приятель Лизурчик, и другие, приехавшие вместе с ними, — и здесь продолжали считать себя уральцами. А уральцы, известно, народ боевитый. Кто не слыхал про это!
Они кончали полосу, когда приехал Задависвечка. По круглому лицу директора катился пот. От радиатора газика валил пар.
— Беда, хлопци! — заговорил толстяк, еще не успев вылезть из машины. — Без ножа зарезали!
— Что случилось, Амфилогий Павлыч? Кто зарезал? У нас — вот…
Дизель Векшегонова в это время, закончив последний гон, сделал крутой разворот и остановился с выключенным мотором.
— У вас-то «вот», а там… Выручайте, хлопци! На пятом участке трактор стал. Застопорил — и ни с места…
— Это кто же так отличился? Уж не Степан ли?
— Он. Степка.
— Да они же только что из ремонта!
— Вот-вот, потому и встали. Хлопци, выручайте! У вас — конец, а там еще на целую смену… А завтра же рапортовать хотели!
— Вот тебе и «выражаем твердую уверенность», — съязвил Лизурчик, вспоминая слова из обращения.
Дело было ясное: надо ехать, выручать.
— Спихотехника! — ворчал Лизурчик, проковыривая нос и уши, в которые залезли копоть и грязь. — В мастерской залатали так-сяк, спихнули, а отдуваться за них — мы? Сенкью вери мач, мистеры-твистеры! Очень вам признательны! Мирово! Из кареты истории вывалишься с таким ремонтом!
Насчет кареты истории Лизурчик слышал однажды на митинге.
— Байстрюки, — тряся головой, поддакивал Задависвечка.
— Поехали, — не тратя лишних слов сказал Векшегонов.
Отцепив тракторный агрегат, он стал заводить мотор. Фитя по обыкновению вертелся тут же.
— Ну, бывайте, орлы! Знал, что не подведете! Спасибо!
Газик помчался прямо по свежей пахоте, подпрыгивая на неровностях почвы так, как будто кто-то встряхивал его.
Лизурчик, продолжая ворчать и браниться, забрался в кабину рядом с Александром. Фитя уже сидел там. Он потеснился.
— Ничего, сиди, — положил на него руку Лизурчик, разговаривая, как с человеком. — Ты теперь безработный…
Совхоз недавно получил передвижные радиостанции «урожай», которыми оснастили все бригады, и Фитя уже не исполнял больше обязанности добровольного рассыльного.
День погас, спускались сумерки. Вдали погромыхивало, полнеба озаряли вспышки молнии. Надвигалась гроза. Начало быстро темнеть.
Пришлось включить фары. Трактор шел напрямик, переваливаясь в бороздах, оставляя за собой широкий рубчатый след. В лучах света плясали ночные бабочки и мошки, затем они исчезли; вместо них полетели крупные капли, над головой что-то оглушительно раскололось, ослепив зеленой вспышкой, и хлынул дождь.
— Балку надо успеть перейти! — озабоченно прокричал Лизурчик.
Векшегонов молча кивнул.
Хлестнуло, как из ведра. Шум падающей воды был так силен, что друзья почти перестали слышать рокотанье трактора. По земле заструились грязные потоки.
Когда они добрались до балки, по дну ее уже мчалась мутная река. Трактор спустился, стал осторожно, как слон, щупающий брод, входить в воду. Склоны балки были отлоги, но дно глинисто. Машина сразу начала пробуксовывать, сползая от собственной тяжести.
— Глубоко?… — полувопросительно-полуутверждающе сказал Гриша.
Векшегонов, стиснув губы, смотрел вперед.
— Сядем, Саш… а?
Он только успел проговорить это — машина, действительно, стала.
— Давай назад, ну их к черту! Еще придется самих вытаскивать!…
Поздно! Трактор уже крепко сидел «на мели».
Как быстро размякла, напиталась влагой земля!… Она цепко держала свою жертву, не помогали и широкие гусеницы-лапы.
— Давай назад! — кричал Лизурчик. Можно было подумать, что он командовал, а Векшегонов исполнял его приказания.
Мощный С-80 содрогался в тянущем усилии; наконец вырвал свое многотонное тело из засасывающего его грунта и, скрежеща, с ревом мотора, задним ходом выбрался на пригорок.
— Чуть не сели, — комментировал Гриша.
— А другой переправы нет? — спросил Александр.
— Сам знаешь…
— Придется ждать. Вода схлынет, переправимся, где будет суше.
Векшегонов заглушил мотор, чтоб зря не жечь горючее.
Но ждать было не в характере Лизурчика. Он нетерпеливо ерзал на месте, несколько раз высовывался, заглядывая на небо, которое было черным-черно, затем решительно махнул рукой:
— Я пойду…
— Куда? — изумился Александр.
— Ты оставайся, а я пойду. Может, помогу там… Я этому сундуку Степахе сколько раз говорил, что надо научиться самому чинить свое хозяйство! Обстановочка как на фронте, а они гайку сами завинтить боятся… Вери гуд?
Лизурчик был хорошим слесарем, до приезда на целину работал в инструментальном цехе по пятому разряду. Его слесарные познания не раз послужили друзьям: мелкую неисправность в тракторе всегда устраняли сами. Потому и простоев не было.
— Промокнешь…
— Не сахарный!
Александр знал: если Лизурчик что-нибудь решил — не удержишь.
Нахлобучив глубже кепку, Лизурчик слез с трактора и, с гаечным ключом за голенищем, побрел по воде. Александр молча следил за его удаляющейся фигурой. На средине балки вода достигла колен Лизурчика, затем поднялась выше; раз или два она едва не сбила его с ног; взмахнув руками, он пошатнулся, но сохранил равновесие. Наконец, с трудом вытягивая сапоги из глины, он выбрался на противоположный склон, помахал на прощание товарищу и исчез за завесой дождя.
Гроза не унималась. Разряды молний чередовались почти непрерывно, выхватывая из сгустившегося сумрака окружающие предметы. Трактор стоял в этом пляшущем сиянии, как призрак, то возникая, то вновь пропадая. Ливень стучал по крыше кабины, по капоту.
Александр сидел и думал, что, пожалуй, зря они не попытались поискать переправы в другом месте. В конце концов эта мысль заставила его тоже выйти из машины (он промок насквозь в ту же секунду) и направиться к холму с одинокой березой, размахивавшей ветвями и качавшейся под ударами дождя и ветра. Может, с холма видно, не светлеет ли на востоке, скоро ли утихнет непогода. Фитя, приподнявшись, не спускал глаз с хозяина.
Внезапно страшный удар грома потряс небо и землю, огненный зигзаг, сорвавшись с вышины, прорезал уплотненный, насыщенный испарениями и озоном воздух и воткнулся в вершину холма. Векшегонов рухнул как подкошенный.
Фитя заскулил, спрыгнул наземь и, болтая головой, побежал к лежащему. Векшегонов не подавал признаков жизни. Фитя, забыв про дождь, подтыкал хозяина то с одной, то с другой стороны, лизал его лицо, визжал и скулил, но тот оставался недвижим.
Исчерпав все свои возможности и не добившись ничего, Фитя, продолжая встряхивать головой (в уши заливалась вода), сел около распростертого тела, вскочил, снова сел — и вдруг, словно приняв какое-то решение, со всею быстротой, на какую были способны его ноги, устремился прочь от этого места…
6
Нила и Надейка, сидя вдвоем в палатке, читали книгу. Вернее, читала вслух Нила, а Надейка слушала и время от времени перебивала чтение восклицаниями.
В будущем совхоз «Комсомольский» предполагал производить не только зерно, но и молоко и мясо; и девушки по вечерам заранее готовились к занятиям на курсах животноводов. Надя собиралась сделаться птичницей. Нилу интересовал крупный рогатый скот.
За полотняными стенами палатки бушевала гроза, по намокшим и отвисшим полостям сочились ручейки, в углу капало.
— Ну и гроза, мамочки! — восклицала Надейка уже наверное в сотый раз. — Ой, боюсь! Страсти какие!
— Не мешай. Слушай, — не отрываясь от книги, ровным голосом останавливала ее Нила.
— «Главная особенность животноводства, — внятно и назидательно читала она, — состоит в том, что сельскохозяйственные животные функционируют попеременно: как средства труда (орудия производства), как предметы труда и как предметы потребления… Так, например, корова, приносящая теленка и дающая молоко, является средством труда; поставленная на откорм перед выбраковкой сухостойная корова представляет собой предмет труда; забитая в хозяйстве корова есть предмет потребления; выращиваемый молодняк есть предмет труда, а выбракованный сверхремонтный молодняк — предмет потребления, так как внутрихозяйственный забой — весьма простая операция, не требующая специального оборудования или особой квалификации работника»… Ты что-нибудь поняла?
— Да кто это так написал-то?
— Профессор какой-то…
— Сразу видно, что профессор. Мудрено шибко… Ой, боюсь!
Щели в палатке снова озарились зелено-синим светом, прокатился новый раскат. Затем дождь как будто начал стихать.
— Пишут, пишут, — с сердцем, но все так же, не повышая голоса, сказала Нила, — а для кого пишут, сами не знают!
— Для нас пишут, неученых…
— А теперь ты ученая стала?
— А, наверное, им больше платят, чем нам, — без всякой последовательности заметила Надя. — Ой, мамочки, да скоро ли это кончится? Вот накатило!…
— А помнишь, как волки выли? — сказала Нила, откладывая книгу. Читать дальше было все равно невозможно. Раскаты грома заглушали ее голос. Да и непонятно.
На минуту подруги погрузились в воспоминания. Они приехали с первой партией, когда не только ни одного домика не было — даже колышка еще нигде не забили. Жили в вагончиках: Зима еще лютовала, стенки внутри вагончика покрывались серебристым куржаком, за оконцами шуршала сухим, колючим снегом метель. К утру смерзалась обувь, приходилось класть ее под подушку…
По ночам в степи выли волки (недаром прозвали эту степь волчьей!). Иногда они подходили совсем близко и задавали такой концерт, что от страха у девушек начинали шевелиться волосы на голове… Жуть!
У входа кто-то поскребся. Надейка громко вскрикнула. Ей представилось, что сейчас высунется волчья морда.
Это был Фитя. Мокрый, страшный, весь обляпанный грязью.
Отряхнувшись так, что брызги разлетелись во все стороны, он направился к Ниле.
— Ты откуда это, Фитя? — всплеснули руками девушки.
Фитя тыкался мордой в колени Нилы, потом шлепнул грязной лапой по платью. Легонько отводя его от себя, Нила недоумевала:
— Да что с тобой, Фитька! А где ребята? Векшегонов? Гриша?
Фитя, словно одержимый, продолжал толкать ее. Он повизгивал и все как бы старался что-то втолковать ей. Видя, что его усилия не достигают цели, она не понимает его, он вдруг схватил зубами за край платья и потянул за собой.
— Фитька! Да ты что — спятил? Отпустись! Нашел время играть!
Внезапно Нила поняла, что это неспроста, пес никогда не вел еще себя так странно. От возбуждения он весь вздрагивал, точно наэлектризованный, глаза молили о чем-то, и он продолжал звать ее: то отбежит, то вернется.
Догадка явилась немедленно.
— С Сашей что-нибудь случилось? — Впервые она назвала Векшегонова Сашей.
— Или с Гришей? — в тон ей, с испугом добавила Надейка.
Девушки переглянулись, глаза у обеих округлились. Не сговариваясь и не тратя больше времени на разговоры, они схватились за косынки, накинули брезентовые куртки.
— Бежим к директору!
В конторе горел свет, у крыльца стоял забрызганный грязью газик. Они заглянули в окно: Задависвечка, в окружении подчиненных — бухгалтера, счетовода, плановика — колдовал что-то над разложенными ведомостями. Предводительствуемые Фитей, несколько раз даже пролаявшим от нетерпения, девушки метнулись к дверям…
7
Минули весна и лето, а за ними — осень. Пронеслись знойные суховеи, бич земледельцев. Океан пшеницы сменился рекой золотого зерна. Богатым урожаем отблагодарила целина за труд новоселов.
В поселке Комсомольском справляли сразу две свадьбы: Александра Векшегонова с Нилой Макушиной и Гриши Лизурчика с Надей Потылициной. Свадьбы игрались в один день и час.
Поселок преобразился неузнаваемо. Выстроились ряды индивидуальных домиков, во дворах кудахтали куры, мычали коровы. Около конторы красовалась большая клумба, напротив выросло новое большое здание — клуб. За ним махал крыльями ветряк.
Два смежных дома были отданы молодоженам. Их соединял общий палисад, а над крышей одного был поднят точно такой же шест, что и над совхозной конторой: комбинация скворечни с радиоантенной-метелочкой. Лизурчику нравились такие «технические новинки».
На семейных торжествах гулял весь совхоз во главе с высшим начальством — директором Задависвечкой. Гурьбой переходили то в один дом, то в другой. Еще не были сложены печи, а ударили первые холода. Семь дней, плясали в нетопленых квартирах.
Старинная уральская «Синтетюриха», которую певали еще прадеды новоселов, звучала на целине не менее задорно и весело, чем где-нибудь в кержацком селении, в Уральских горах.
Синтетюриха телегу продала, На телегу балалайку завела, Позвала она Ванюшку, Подала балалаюшку, Балалаюшка наигрывает, Синтетюриха наплясывает…«Синтетюриху» сменяли частушки под уральский перепляс.
Мы с миленком целовались,— чеканил звонкий, как серебро, голос Нади, покрывая свадебный гомон и топот ног. —
От утра и до утра, А картошку убирали Из Москвы профессора!…— Бывает… — гудел Задависвечка.
Я отчаянной родилась И отчаянной умру. Если голову отломят, Я корчагу привяжу…Как всегда, частушки у Надейки были самые зазвонистые.
Как у нас на целине Травка шелковистая…Не всем, конечно, эта травка пришлась по вкусу. Не секрет: кое-кто из приехавших вначале на целину струсил, удрал. Не беда, справились без них. Пусть будет хуже им. А нам — хорошо! И новоселы так били каблуками в пол, что половицы трещали.
Фитя, конечно, был здесь же, с людьми. Кто бы решился прогнать его во двор после всего того, что он сделал! Он тоже выглядел по-праздничному. Все лето он щеголял в репье и колючках. Нила выбрала их; там, где не могла отодрать, выстригла вместе с шерстью. После этого Фитьку вымыли, расчесали. Стал чистый, блестящий. Налопался он всяких яств так, что еле дышал.
Глядя на собаку, светившийся, будто начищенный самовар, Задависвечка вспоминал, как темным весенним грозовым вечером прибежали к нему всполошенные девушки, как потом вчетвером (Фитька был пятым) помчались на подпрыгивающем газике сквозь бурю и дождь… Ведь если бы не Фитька…
Тогда все и решилось. В такой момент, когда ее любимому грозила гибель, Нила не смогла сдержать своих чувств. Фитя не только спас хозяина, но и устроил его счастье.
Очевидно, помнили об этом и другие. Ибо в первый же день празднества, после того как выпили за обе супружеские четы, прокричали, как положено, «горько» и смущенный Александр обнял зардевшуюся Нилу, неугомонный Лизурчик попросил минуточку внимания. Подвинув к себе блюдо с жареной гусятиной, он выбрал кусок послаще и пожирнее и угостил им Фитю; затем, пока тот хрустел косточкой, потрепал его по загривку, поднял бокал с вином и провозгласил:
— За Фитьку. Мировой парень! О-кей!
СМОККИ, КРЫСИНАЯ СМЕРТЬ
Историю Смокки, губительницы, крыс, я хотел бы начать с напоминания о том, какой вред причиняют эти отвратительные хвостатые создания, обитающие в подвалах жилых зданий, в складских помещениях, в магазинах — всюду, где селится человек.
Мне рассказывали: в одном колхозе, где не занимались уничтожением грызунов, амбарные вредители за зиму съели и испортили столько отборного зерна, что к весне колхозники остались без семян для посева,…
Удивляться не приходится. В этом случае я всегда вспоминаю рассказ одного агронома (вы, вероятно, тоже читали о нем), который, желая очистить колхозное зернохранилище от прожорливых нахлебников, проделал следующий весьма показательный опыт.
К амбару подогнали автомашину-трехтонку. Все щели в амбаре заделали, а от машины протянули шланг, по которому отработанные газы поступали в помещение. Около часу машина накачивала газ в зернохранилище. А потом там было найдено три тысячи дохлых крыс.
Три тысячи! Если предположить, что каждая съест за год всего килограмм зерна (а она съест больше), то получается, что все вместе они сожрали бы ни много ни мало — три тонны зерна!
Три тонны только в одном амбаре!
Всякий раз, когда я слышу подобные истории, мне приходит на ум, что мы еще очень неполно используем возможности собаководства, ибо наши четвероногие помощники могли бы и здесь принести немалую пользу, а перед моим мысленным взором возникает на редкость невзрачное, но чрезвычайно своеобразное и занятное существо, с которым я встретился однажды на квартире моего старинного товарища и друга Александра Павловича Мазорина.
Надеюсь, вам уже знакомо это имя. Каждый истый любитель-собаковод знает Мазорина и гордится хотя бы отдаленным знакомством с ним. Общая увлеченность собаководством когда-то сблизила нас. И вот уже на протяжении более чем четверти века мы оставались добрыми друзьями и коллегами… если признать меня тоже за кинолога.
По паспорту Александр Павлович — житель Москвы; но ежегодно вы можете видеть его в Ленинграде, Харькове, Киеве, Тбилиси, Свердловске и других городах, где устраиваются выставки служебных собак. Он — эксперт-кинолог всесоюзной категории, и, право, я не встречал другого человека, который так же хорошо знал бы по памяти происхождение сколько-нибудь заметной собаки и вообще умел бы так понимать и ценить их.
Александр Павлович — постоянный поставщик увлекательных «собачьих» историй, которые, ручаюсь вам, даже если вы закоренелый противник собак, будут выслушаны вами с большим вниманием. Из его запаса наблюдений почерпнуты многие сюжеты, коими потом, слегка обработав их литературно, я делился с читателями.
Оставаясь долгое время убежденным холостяком, Александр Павлович и жизнь вел типично холостяцкую, деля свои привязанности между друзьями-людьми и друзьями-животными.
Должен признать, что дружба с Александром Павловичем чрезвычайно расширила мой кругозор, приобщив к той культуре собаководства, которая дается лишь многими годами упорного труда и постоянным изучением теории.
Большинству собаководов свойственна живость ума и игра воображения. Мягкий, с добрым сердцем, романтик по натуре, Мазорин привлекал меня также и теплым юморком, и своей неизменной доброжелательностью ко всему живущему — людям, животным, в чем я вижу величайшую добродетель человека.
Это Александру Павловичу принадлежит афоризм: «Нет плохих собак — есть плохие хозяева», который следует помнить каждому любителю и который я повторяю теперь везде, где можно.
Сам Александр Павлович, однако, сообразно своему вкусу, долгое время слыл неисправимым доберманистом — держал только доберман-пинчеров, и непременно коричневых. Его Бенно-первый, шоколадный красавец благородных кровей и могучего сложения, вне всяких сомнений, мог бы завоевать титул всесоюзного победителя своей породы, если бы хозяин экспонировал его на выставках. Немногим уступал своему предку и Бенно-второй, тоже коричневый и тоже красавец, способный стать украшением любого ринга[21].
Но вот однажды, приехав к своему другу, я с удивлением обнаружил у него прелюбопытную животинку, курчавую и покорную, как овечка, ростом, быть может, чуть больше недельного ягненка, с бородатой уморительной физиономией и куцым хвостиком в виде кочерыжки, которая в зависимости от настроения ее владелицы то торчала упрямо вверх, то пряталась в длинной жесткой шерсти.
— Это наша Смокки! — отвечая на мой молчаливый вопрос, с гордостью сказал Александр Павлович.
Вот так собака! Невозможно было не поражаться ею, хотя бы уже по одному тому, что она не обратила на меня ни малейшего внимания. Даже головы не повернула, когда я вошел.
— Э-э, знали бы вы, какой я привел ее! — заметил Александр Павлович, видя, что я с недоверием рассматриваю его приобретение. Пошлепав рукой, он пригласил собаку вспрыгнуть к нему на колени, что она и сделала незамедлительно, и ласково потрепал ее.
Мне была известна слабость Мазорина — подбирать всяких опаршивевших животин, птиц со сломанными крыльями, черепах, ужей и тащить всех домой. Раз у него долго жила больная галка, которую кто-то швырнул ему в форточку; он выпустил ее, когда она поправилась и стала летать. Вообще я убежден, что только очень хорошие люди способны на это. Но все же он иногда поражал меня.
Бенно, выхоленный, весь лоснящийся, словно наполированный, и рядом — какая-то замухрышка Смокки, вся в завитках, как баран?! Признаться, глядя на нее, я не разделял восторгов хозяина.
Тогда Александр Павлович сообщил мне некоторые факты из биографии собаки, и они оказались настолько интересными, что я, в свою очередь, хочу поведать о всех злоключениях и похождениях Смокки своим читателям.
До сего времени у нас в этой книге шел разговор исключительно о служебных собаках, в большинстве громадных, обладающих злобой и силой, один вид которых способен испугать кого угодно.
Пусть рассказ о малютке Смокки явится некоторым исключением, хотя вообще я считаю, что фокстерьер-крысолов вполне заслуживает быть причисленным к рангу служебных. Принято же относить к их числу кавказских овчарок и вообще пастушьих собак, которые борются с серым хищником — волком; а чем хуже фокстерьер, истребляющий другую серую нечисть — крыс? Это ведь не охота в прямом смысле слова, когда взял ружье, кликнул собаку и отправился в лес; а именно служба, такая же служба охраны общественного и личного добра, как и всякая другая.
Я надеюсь, история маленькой Смокки убедит вас в этом. Передаю ее так, как слышал сам, и от первого лица.
* * *
…Появление Смокки в нашем доме не вызвало энтузиазма.
— Кого ты привел?
Всплеснув руками, мать возмущенно переводила взгляд то на меня, то на собаку.
Представьте себе существо невыразимо грязное, кудлатое, с шерстью неопределенного цвета, свалявшейся в войлок и висевшей клочьями, росшей столь буйно, что под нею с трудом можно было рассмотреть два карих, печально смотревших глаза. Только черная пуговка носа выделялась на этом фоне, лучше всяких слов говорившем о безотрадной жизни животного.
Понурив голову и опустив коротенький хвост, Смокки стояла посреди комнаты, широко расставив грязные лапы с изломанными когтями, не проявляя никакого интереса к окружающему.
— Ну и красавица! Где ты взял ее? Она же больная!… — ахала и охала мать, осматривая собаку со всех сторон.
В комнату вошла сестра.
— Это что за урод?
— Это не урод, а фокстерьер…
— Для чего ты привел ее? — последовал второй неумолимый вопрос.
Сказать откровенно, вот о том, как могут встретить собаку мои домашние, я совсем и не подумал, решив взять Смокки.
Попробовал схитрить.
— Знакомые попросили меня, чтобы она пожила у нас…
— А ты уж и рад стараться! А как же Бенношка? Впустили Бенно, который уже давно скребся за дверью, требуя, чтобы ему тоже доставили возможность посмотреть на «красавицу».
Горделиво напружиненный и настороженный, не выказывая, однако, признаков враждебности, он принялся обнюхивать незнакомку с головы до ног — обычная у собак манера знакомиться.
Смокки немного оживилась. Глаза заблестели, хвостик поднялся; задрав кудлатую мордочку, она ткнулась ею в морду Бенно. Рядом с доберманом она выглядела совсем крошкой, а его холеный вид только еще больше подчеркивал ее безобразие.
Но оживления хватило ненадолго. Глаза потухли, хвостик-коротышка вернулся в прежнее положение. Смокки сделалась снова печально-безразличной ко всему.
Судьба Смокки действительно была нелегкая и могла вызвать сочувствие. Первая хозяйка фокстерьера не любила собаку. Переезжая в другой город, она бросила Смокки на произвол судьбы, и с этого в жизни маленького обездоленного существа началась длительная полоса невзгод и лишений.
Некоторое время Смокки жила среди кошек у старой девы, сошедшей позже с ума; потом — у домашней работницы своих бывших хозяев, из жалости подобравшей собаку. Потом попала к швейцару, потом — к дворнику. Она получала пинки, ее выгоняли на улицу, много дней и ночей она провела, жалобно подвывая на пороге дома.
Смокки отощала, курчавая шерсть ее свалялась, покрылась грязью, из белой превратилась в серую с желтыми, как будто подпаленными, пятнами. Пораженные конъюнктивитом глаза стали слезиться.
Брезгливые люди морщились при виде Смокки. Она выглядела хуже самой последней дворняжки.
Так кочевала она из квартиры в квартиру, нигде не задерживаясь подолгу. Легко лишиться крова — не скоро его найдешь. Так уж устроено в мире, что люди не очень склонны считаться с животными.
Я случайно увидел ее и с первого взгляда понял, что передо мной чистейший фокстерьер, превосходных экстерьерных данных, только чрезвычайно запущенный.
Как можно не заинтересоваться участью такой собаки?
У последних хозяев ее я осведомился лишь о кличке; все остальное было ясно и так. Отдали мне ее охотно.
Прием, оказанный ей у меня дома, конечно, не мог не обескуражить меня, особенно учитывая, что я целый день на работе и за собакой должны приглядывать сестра и мать. Но я решил не сдаваться.
«Собака себя еще покажет», — думал я.
Однако пока что она показывала себя совсем не так, как этого хотелось мне.
Унылая и равнодушная, простояла она минут пятнадцать.
Вдруг висячие ушки ее дернулись и насторожились. Обрубленный кучерявый хвостик вновь прыгнул вверх и больше уже не опускался. Мгновение Смокки прислушивалась, затем с прытью, какой от нее никто не ожидал, бросилась в угол, где стоял шкаф с посудой.
Между шкафом и стеной была узкая щель. Смокки с трудом втиснулась туда, выставив наружу свою кочерыжку, и замерла.
— Что это она?… — недоумевали женщины.
— Крыс почуяла!
Я торжествовал: наконец-то хоть какое-то проявление жизни в этом забитом существе! Но признаться, что Смокки останется у нас насовсем, так и не решился.
Бенно уселся против шкафа и, глядя на Смоккин обрубок, стал ждать, что будет дальше. В комнате стало тихо.
Мать и сестра ушли по своим делам. Я тоже скоро вышел из комнаты. На какое-то время о Смоккином присутствии просто позабыли. Прошло часа полтора или два.
И вдруг тишину нарушил отчаянный писк. Я выглянул поспешно в дверь. Хвост Смокки судорожно дернулся, и она, как вытолкнутая пружиной, выпрыгнула на середину комнаты задом наперед. В пасти у нее болталась мертвая крыса.
Доберман залился истошным лаем. Подскочив к Смокки, он принялся тревожно обнюхивать крысу и капельки крови на полу. Как истинно служебный пес, Бенно прежде никогда не интересовался охотой и потому выглядел сейчас даже растерянным.
Зато Смокки была просто великолепна. Подбросив добычу в воздух, она с ловкостью циркового жонглера поймала ее, а затем, отшвырнув от себя, равнодушно удалилась.
Крыс было много в нашем доме. Мы не могли выжить их никакими средствами. В большом старом здании с подвалом, где хранится всякая рухлядь, с бесчисленными темными углами и закоулками избавиться от них очень трудно. Нередко эти нахальные создания шмыгали в темном коридоре под ногами, пугая жильцов. Замечено, что в отдельные годы крыс бывает особенно много. Потом они куда-то исчезают. У нас они, кажется, не переводились никогда. Но вот появилась Смокки — и все изменилось. Крысам не стало житья.
Смокки ловила их повсюду. Целыми часами высиживала она неподвижно где-нибудь в углу у крысиной лазейки. Однако излюбленным местом для охоты долгое время оставалась щель за шкафом.
Вернувшись домой со службы, я заставал всегда одну и ту же картину: из-за шкафа торчит куцый, задранный кверху хвост фокстерьера, а перед ним на полу в выжидательной позе сидит Бенно. Такая молчаливая сцена могла продолжаться целый день. Кончалась она обыкновенно одним: Смокки ловила очередную жертву.
Иногда крыса пыталась спастись бегством. Смокки кидалась за нею. В ловлю ввязывался доберман. В доме начинался настоящий тарарам. С грохотом летели стулья, с этажерки валились книги; случалось, со стола падала и разбивалась посуда. Но крыса неизменно оказывалась в острых зубах Смокки.
Ловила их Смокки одним и тем же исключительно точным приемом, и притом молча, без единого звука.
Молниеносным прыжком набрасывалась она на добычу, без промедления, не зная промаха, хватала крысу за шею — и для той все было кончено.
Охота не прекращалась круглые сутки. Среди ночи мы просыпались от страшного грохота. Опять рушилось что-то в углу, затем раздавался короткий предсмертный писк. «Ага, еще одна». И можно было спокойно засыпать до утра.
Кончилось это полным изгнанием крыс из нашего дома. Тщетно дежурила Смокки за шкафом и в коридоре. Крысы не появлялись. Поняв, что отныне каждую из них в любую минуту здесь подкарауливает смерть, они всей стаей переселились в другое место.
Наступил перерыв в охотничьих подвигах Смокки! Обитатели дома хвалили собаку, не могли нахвалиться.
Вот тебе и Смокки, вот тебе и грязнушка! Теперь мне и заикнуться никто не дал бы, чтоб отдать Смокки в другие руки. Мои мать и сестра не чаяли в ней души.
Однажды мать, беря посуду из буфета, оставила нижнюю дверку открытой. Смокки в тот же миг оказалась в шкафу. Что случилось? Оказалось — заскреблась мышь. Полетели черепки: Смокки, расшвыривая тарелки и чашки, лезла в самый угол. С трудом вытащили ее обратно. Маленькое, упругое тельце ее было, как стальное.
Смокки начала заметно поправляться. Она округлилась, налилась мускулами, совсем другой стала шерсть, перестали гноиться глаза.
В первый же день, как она поселилась у нас, я вымыл ее теплой водой с мылом. И тогда она явилась в своем настоящем виде, превратившись из серо-желтой в белую. Лишь голова и хвост были пепельно-серыми, отчего, по-видимому, она получила кличку «Смокки». В переводе на русский это значит: «пепельная». Лишние, непомерно длинные, свалявшиеся космы я выщипал[22], после тщательно расчесал всю частым гребнем, и бывшая замарашка стала элегантным, с курчавой бородой и усами, жесткошерстным фокстерьером. Теперь каждый мало-мальски понимающий толк в фоксах любовался, глядя на нее.
Изменился и нрав собаки. У нее появились живость, желание поласкаться. Она даже научилась нежиться. Когда топилась печь, Смокки садилась перед открытой дверцей и, жмурясь, смотрела прямо на жарко пылавшие дрова. Время от времени она сладко потягивалась, потом, когда жар становился непереносим, повертывалась к огню спиной и, порой выгибая ее, могла сидеть так бесконечно.
На улице Смокки была необыкновенно резва. Вислые ушки всегда приподняты, всегда настороже, обрубленный хвостик торчит кверху, подергиваясь, как заводной, иногда от возбуждения начинает дрожать. Вся напружиненная, задыхаясь от стесняющего ее ошейника, Смокки азартно тащит хозяина за собой. Я едва удерживаю в руках поводок — с такой силой тянет его Смокки.
Но вот прогулка окончена. И Смокки притихла. Куда девался ее темперамент! Дома она была фокстерьером лишь наполовину, ибо в каждом фоксике сидит настоящий чертенок, толкающий на новые и новые шалости; ртуть, а не собака! Смокки же в квартире делалась совершенно неузнаваемой: тихая, покорная.
Очевидно, прошлые невзгоды все же отложили свой след. Может быть, именно дома ей попадало больше всего за малейшее проявление ее натуры, поэтому в помещении она никогда не играла, не развилась. И ни я, ни Бенно ничем не могли увлечь ее. Так, попрыгает немного на меня, когда я приду домой, подергает хвостиком, выражая свою радость, и — все.
Мы с Бенно затеем возню, а она смотрит на нас внимательно, следит с интересом за всем, поблескивая из-под мохнатых, «насупленных» бровей живыми умными глазками, но чтоб сама поиграла — ни-ни! Не заставишь ни за что. В этом отношении она представляла редкое исключение, не походя ни на одного знакомого мне фокстерьера.
Она преображалась, зачуяв крыс, враз превращаясь вся во внимание и слух, готовая в любую секунду к прыжку и хватке.
Со временем выяснилось, что не только крыс она умеет ловить так мастерски.
Как-то отправились мы на прогулку. По обыкновению я вел Смокки на поводке, Бенно бежал впереди.
Мы шли мимо забора. Внезапно Смокки немного отстала, поводок натянулся. Я оглянулся — вижу: она уже до половины скрылась в дыре под забором. Хвост возбужденно подергивается, задние лапы роют землю, стараясь протиснуть туловище еще дальше.
Я потянул Смокки за поводок — и остолбенел. Она медленно вытащила голову из отверстия… В пасти висела мертвая кошка.
Видимо, бедная киска сидела по ту сторону дыры; Смокки учуяла ее и беззвучно сомкнула на ней свои не знающие промаха клыки.
Прошло несколько дней — новая жертва охотничьего искусства Смокки. Опять на прогулке. Шли мирно, никого не собирались задевать. Откуда ни возьмись с карниза ближнего дома, точно камень, свалился большой серый кот. Со свирепым шипением, задрав трубой распушенный хвост, он вскочил на спину Бенно.
Мгновением позднее прыгнула Смокки. Она буквально сняла кота со спины добермана. Изогнувшись змеей, кот впился когтями и зубами в мордочку Смокки. Но она ловко стряхнула его с себя, хотя сама была немногим больше кота, не давая ему опомниться, тут же атаковала его и… Бедный кот! Что я еще могу сказать? Наверное, он никак не думал, нападая на добермана, что все так быстро и так трагически кончится для него.
Смокки «брала» кошек тем же самым приемом, каким она ловила крыс и на который способны только фокстерьеры.
Это была какая-то напасть. Я вовсе не желал зла кошкам; но они, как нарочно, сами набегали на нас. Уже в нескольких соседских квартирах недосчитывались своих любимиц. Узнай там, кто виновник гибели их мурлышек, не сдобровать бы моей Смокки. Не помогли бы и ее прежние заслуги в борьбе с крысами. Поневоле я вспоминал остроумные рассуждения Джерома Джерома о неисправимой греховности фоксов. Да уж, действительно. В собачий рай им не попасть!
Когда на счету Смокки числилось шестнадцать загубленных кошачьих жизней (Шестнадцать! Вы только представьте! Право же, повторяю, я никак не желал этого, но все мои попытки предотвратить несчастья разбивались о Смоккину дьявольскую ловкость и собственную неосмотрительность ее жертв), хозяева наконец дознались, в чем дело, и пошли жаловаться на меня и Смокки в домоуправление. Там ответили:
— Шестнадцать? Когда она задушит двадцать, придите и скажите нам: мы выдадим ей премию за борьбу с безнадзорностью кошек…
От себя добавлю: конечно, можно фокса приучить не бросаться на других животных. Но Смокки я взял уже взрослой — отсюда ее «неисправимость» (переучивать всегда труднее, чем учить).
Все фоксы невероятные драчуны и забияки. Не отстала в этом отношении и моя Смокки. С Бенно у них установилась дружба с первого дня. Что же касается других собак…
Раз из соседнего двора выскочила овчарка и бросилась на Бенно. Доберман мог бы и сам за себя постоять, но просто не успел это сделать: его опередила Смокки. Подскочив на всех четырех лапах, она впилась овчарке прямо в нос!
Испугавшись за Смокки — много ли такой козявке надо! — я, оторвав ее от овчарки, поспешно подхватил на руки. Не тут-то было! Смокки вырвалась и злей прежнего, с неукротимой отвагой и энергией, как всегда молчком, еще раз повторила ту же операцию с носом овчарки. Не ожидавший такого наскока бедный пес взвыл от боли (нос — самое чувствительное место у собак) и, поджав хвост, пустился наутек, преследуемый Бенно. Бенно даже не довелось помериться с ним силами. Аи да козявка! Муха испугала слона!
Это маленькое существо отличалось неудержимой храбростью, и позднее я имел возможность еще не раз убедиться в ее бесстрашии.
Известно, что фоксы могут самоотверженно защищать хозяина и способны обратить в бегство несравнимо сильнейшего противника. Глядя на Смокки, я частенько раздумывал над тем, что такая собачка могла бы с успехом быть использована для службы связи, в кавалерии например. Портативная: можно сделать удобную клетку-корзинку, приторочить к седлу — и марш-марш, поехали. Пустили с донесением — она несется, как пуля; убить трудно, поймать еще труднее. А повстречался враг — ого, она сумеет постоять за себя! Наша Смокки наглядно демонстрировала это.
В боевом задоре она начинает вся дрожать, мелко-мелко трясутся лапы… Точно так же дрожат лапы от возбуждения у эрделей.
А дома, дома… Ну, кто бы мог подумать, глядя на нее дома, что эта тихоня может проделывать такие штуки?
Куда исчезли пыл и жар. Голова опущена, хвост тоже. Как два тряпичных лоскутка, обвисли ушки. Неуклюже подходит она к столу и терпеливо ждет, не перепадет ли лакомый кусочек.
Терпению у Смокки могла поучиться любая собака.
Моя сестра, в то время студентка института, готовила дипломный проект, просиживая над ним дни и ночи. Смокки усаживалась рядышком на стуле и, глубокомысленно уставясь на бумаги, способна была сидеть так целыми часами. Иногда глаза ее смыкались, и она начинала дремать, но со стула не уходила.
— Смокки! — окликнет ее сестра.
Смокки встрепенется, поспешно раскрыв глаза, и как ни в чем не бывало опять примется внимательно смотреть на чертежи.
Приближалась весна. В окнах выставили зимние рамы. И вот, с наступлением теплых дней, Смокки стала вести себя как-то странно. Внезапно начинала ерзать на стуле, вскакивала на лапы, тянулась мордочкой к чертежам, даже повизгивала от волнения.
— Что с тобой, Смокки? — отрываясь от работы, с недоумением спрашивала сестра.
Собака немного успокаивалась, опять чинно усаживалась на стуле, но — ненадолго. Через некоторое время все повторялось сначала. Раз Смокки так увлеклась, что даже положила лапу на чертеж, за что немедленно была изгнана с позором.
Несколько дней сестра не позволяла ей водвориться на заветное место. Потом сменила гнев на милость.
Прошел день или два, и вдруг однажды Смокки, точно ее ужалила пчела, сорвалась со стула и прыгнула прямо на чертежи. Бумаги полетели на пол, флакон с тушью повалился набок, неплотно заткнутая пробка выскочила из горлышка, и только по счастливой случайности черное жирное пятно не расползлось по проекту… Сестра испуганно вскочила, не понимая, что это значит.
Смокки же… азартно ловила муху! Оказывается, она уже давно с напряженным вниманием следила за этими крохотными шустро бегающими по чертежу созданиями, обуреваемая желанием схватить их; а мы-то не догадывались, что с нею! Пришлепнув муху лапой, Смокки аппетитно слизнула ее языком и, удовлетворенная, спрыгнула со стола.
Наконец, дипломный проект был закончен и благополучно защищен, сестра окончила институт, получив звание инженера-архитектора. По этому случаю состоялось семейное торжество. Собрались родственники и друзья. За беседой вспомнили о проделках Смокки, о том, как она «помогала» работать над проектом. Подруги смеялись и весело подшучивали над сестрой:
— Это же не ты выполнила проект: Смокки думала за тебя. Она и от мух его спасала! Это Смокки — дипломантка!
* * *
Как-то у себя на службе я разговорился с председателем подшефного колхоза. Каким-то образом речь зашла о Смокки. Я рассказал о ее крысоловных подвигах.
Председатель слушал меня с живейшим интересом, а когда я замолчал, сказал:
— Дай ты нам хоть на недельку эту самую… Смокку! Заели нас проклятые хомяки. Сколь убытку от них терпим — не сосчитать.
Он просил так настойчиво, что я согласился.
В ближайший выходной день я отвез Смокки в колхоз, наказав беречь ее пуще глаз и особенно следить, чтобы ей не попадались кошки. Собаку закрыли в хлебном амбаре, почти свободном в эту пору от зерна, а несколько деревенских ребятишек остались на всякий случай дежурить около дверей.
Ровно через неделю, в следующее воскресенье, я снова поехал в колхоз, захватив с собой ради разминки добермана.
Председатель встретил меня смущенно. С минуту он мямлил что-то неопределенное, а потом, наконец, признался, что Смокки потерялась. Ищут, но найти не могут.
Из дальнейшего разговора выяснилось следующее.
Наутро — после того, как я уехал, оставив Смокки, — открыв амбар, колхозники обнаружили в нем десятка полтора задушенных и валявшихся в разных углах крыс. Это была работа Смокки. Сама она сидела у норы, сделанной крысами в полу амбара, и караулила очередную добычу. Она была так увлечена своим занятием, что даже отказалась поесть, только полакала молока, вместительную плошку с которым поставили для нее около порога.
Поперек Смоккиного носа красовалась глубокая свежая царапина — напоминание о той битве, которая, видимо, происходила тут ночью. Все-таки какому-то «хомяку» удалось цапнуть неуязвимую Смокки, прежде чем она прикончила его, — редкий случай, ибо фокстерьер необыкновенно проворен и увертлив, и жесткая курчавая шерсть хорошо защищает его. В остальном вид у нее был самый боевой. Она дружелюбно помахала хвостиком пришедшим проведать ее людям и снова удалилась в темную глубину амбара.
Председатель — с моих слов — так растрезвонил о необыкновенной способности Смокки уничтожать «хомяков», что результатов этого эксперимента с любопытством ждала вся деревня, и когда все подтвердилось, немедля было решено: как только Смокки закончит очистку одного амбара, перевести ее в другой.
Смокки провела в первом амбаре двое суток, удавив за это время не менее трех десятков крыс. Столько же во втором и третьем. Таким образом, меньше чем за неделю она основательно почистила от хищников все основные зернохранилища артели.
И все было бы хорошо, как вдруг накануне выходного дня на колхозной птицеферме была обнаружена пропажа нескольких кур. По всем признакам птичник посетила лиса. Возле стены остался небольшой лаз, через который она проникла в помещение, на земле валялись перья и виднелись следы крови.
Припомнив все то, что я рассказывал о Смоккиных злодеяниях над кошками, председатель решил испытать способности Смокки на лисе. Лисий подкоп зарыли и поместили фокстерьера в курятник.
Правда, не обошлось и тут без греха. Сразу же с порога Смокки так резво бросилась в гущу птицы, что прежде чем ее успели остановить, она уже придушила двух несушек.
Однако председатель вполне резонно рассудил, что это еще не дорогая цена за лису. Кур перевели в соседнее помещение, и Смокки осталась в одиночестве. По расчетам председателя, рыжая патрикеевна должна была явиться ночью за очередной добычей, и тут-то ее и накроет Смокки.
Но наутро курятник, где закрыли собаку, оказался пуст. Подкоп был разрыт, Смокки исчезла. В тревоге председатель разослал ребятишек повсюду искать беглянку, но ее и след простыл.
Вместе с председателем и Бенно я отправился на место происшествия. Я надеялся, что Бенно, так кстати захваченный мною с собой, поможет в розысках, и не ошибся.
Учуяв в курятнике знакомый запах Смокки, доберман-пинчер заволновался, забегал, напряженно обнюхивая стенку и особенно подкоп. Я вывел его к наружной стороне лазейки. Тыча рукой в разрытую землю, настойчиво повторял:
— Смокки, Смокки… ищи!
Бенно закружился на месте, затем, не отрывая носа от земли, быстро побежал от птичника к лесу. Я и председатель, сопровождаемые несколькими любопытствующими, едва поспевали за ним.
Доберман привел нас к оврагу, скрытому в лесной чаще. Обрывистые склоны его поросли молоденькими сосенками и пихтами, вокруг шумел густой сосновый бор.
Под узловатыми, извившимися, будто змеи, корнями столетней сосны Бенно отыскал узкую нору, уходившую под землю. При виде ее спутники обрадованно разъяснили мне, что это вход в лисье логово.
Значит, Смокки преследовала дерзкую похитительницу по пятам! Теперь в этом можно было не сомневаться. Но где же она, наша бесценная неустрашимая Смокки? Не нашел ли свой конец маленький увлекающийся фокстерьер в борьбе с хитрым и значительно более крупным и сильным хищником? Лиса — не крыса и не кошка… Правда, фокстерьеров применяют для охоты на лисиц, но в этом случае они чаще действуют не в одиночку, а целой сворой. И, кроме того, как норную собаку[23] я еще совсем не знал свою Смокки.
— Надо найти другие выходы из норы, — распорядился председатель. — А у этой разложить костер. От дыма лиса вылезет наружу.
После недолгих поисков среди корней молодой пихты, действительно, нашли еще одну лазейку, почти невидную под скрывающим ее хворостом. Расположившись кругом, колхозники развели огонь. Скоро темное отверстие затянуло едким сизым дымом.
В норе кто-то завозился. Послышалось яростное фырканье, потом чиханье и из-под корней появилась… кудлатая мордочка Смокки!
Выглядела она уморительно. От глинистой почвы она из белой превратилась в рыжую; вокруг глаз, ноздрей, губ налипли комочки сырой земли. Залепленный глиной язык висел, как грязная тряпка. Бока учащенно вздымались.
Но главное, что она была жива, живехонька! Увидев меня и Бенно, она радостно попрыгала вокруг нас, затем, по своему обыкновению быстро успокоившись, села с умильным видом, как бы спрашивая: «А ну, что прикажете делать дальше?»
Что дальше? И тут кто-то вспомнил: а где же лиса? Из норы больше никто не появился.
— Надо разрыть! — сказал председатель. — Доконать! А то от нее все равно житья не будет. Раз повадилась ходить за курами, не отстанет, пока всех не перетаскает. На другое место переселится, а за курятиной — жди, придет.
Сбегали за лопатами. Нора оказалась очень глубокой. Извилины ее уходили далеко под корни деревьев. У землекопов по лицам катился пот; они рыли, сменяя друг друга.
Наконец, тесный длинный лаз расширился. В конце его, перед самым логовом, лежала задушенная огневка. Своим телом она закрывала четырех, тоже мертвых, лисят. Смокки справилась со всеми пятерыми.
С трофеем в виде пяти лисьих шкурок мы возвращались обратно. Ну, Смокки — отличилась! Все разговоры вертелись около нее. Конечно, вспомнили опять про передушенных ею крыс.
— Сколь вреда от них терпим! — сокрушенно заметил один из пожилых колхозников, почти из слова в слово повторяя однажды высказанную мне жалобу председателя. — Отрава их не берет. Зачем им отраву брать, когда вокруг еды — ешь не хочу, зерна горы…
— Кажинный год, скажи, как семена с осени в закрома засыпать, так процент «на крыс» высчитывать, — заметил другой. — Ровно подать какую платим…
— А зачем терпеть? Почему бы вам не завести парочку-другую таких? — показал я на Смокки. — Они бы управились. Щенков я помог бы вам достать. От той же Смокки…
— От нее? — сказал первый колхозник, уважительно взглянув на семенившую рядом со мной Смокки. — Не плохо бы. Настоящая крысья смерть!… Как скажешь, председатель?
Председатель ответил, почесав в затылке:
— Надо подумать…
Боюсь, что он думает до сих пор.
С вечерним поездом я с Бенно и Смокки вернулся домой.
* * *
На этом кончается рассказ про маленькую отважную Смокки, Крысиную Смерть, слышанный мною от Александра Павловича Мазорина.
С тех пор прошло много лет.
Но и по сей день мне слышится этот укоризненный вопрос: «А почему бы вам не завести парочку-другую таких?»
И в самом деле: почему?
До каких пор можно безропотно мириться с ущербом и откармливать стаи жирных ненасытных серых разбойниц, хозяйничающих в наших хлебных амбарах, складах?
Чего проще: обзавестись бы каждому колхозу семейкой собак-крысоловок, наподобие Смокки. Ведь держит же охотник собаку для своих нужд. Что мешает сделать это артели? Сколько народного добра сберегла бы пара таких небольших ловких собачат! А?
БЕННО И БИАНКА. ИСТОРИЯ ДВУХ ДОБЕРМАНОВ
Как-то я обратил внимание на отчетливый белый шрам на левой кисти Александра Павловича Мазорина. Когда он повернул руку, оказалось, что точно такая же метка есть у него и на ладони. Не требовалось быть особым знатоком, чтобы понять, что эти следы оставили чьи-то зубы.
— Кто это вас так? — спросил я его.
— Это? — Александр Павлович помедлил, проведя двумя пальцами по рубцу. — Смешно сказать, но с этого началась одна из самых сильных привязанностей в моей жизни…
— Почему смешно?
— Для многих, кто не привык иметь дело с собаками и близко не знает их, кажется смешным проявлять какие-то чувства к ним…
— Разве вы стыдитесь этого?
— Я — нет…
Так, из напоминания о шраме, возникла наша очередная беседа, и так родился этот рассказ, посвященный еще одному четвероногому герою, доберман-пинчеру Бенно, и его подруге — Бианке. Не тому Бенно, о котором читатель знает из истории маленькой Смокки, а его предшественнику, Бенно-первому, с которого как собаковод когда-то начинал Александр Павлович. Именно с этих двух доберманов, а главным образом с Бенно, он и прослыл доберманистом высшего класса.
Говорят, что у каждого собаколюба бывает только одна собака. Это — в том смысле, что сколько бы их ни прошло через его руки, только воспитанию одной он отдастся со всем пылом, на какой способен, только для одной не пожалеет ни времени, ни сил, чтобы сделать из нее настоящего друга (старая собаководческая поговорка гласит: сколько вы вложите в собаку, столько она и отдаст вам!), и только одна будет служить ему так, что он никогда не забудет ее, а все следующие явятся лишь слабой копией первой… Если основываться на примере с Бенно, то, пожалуй, с этим можно согласиться.
Впрочем, только ли один Бенно — доказательство этого?
Таким же неповторимым был для меня дог Джери. Вероятно, такую «единственную» собаку мог бы назвать любой «собачник». Во всяком случае, что касается Александра Павловича, то и спустя много лет после гибели Бенно в доме Мазориных слышалось: Бенно, Бенно…
Но — предоставим слово самому Александру Павловичу.
Бенно приехал
— Получайте вашу собачку! — не без ехидства сказал проводник и посторонился, пропуская меня в вагон.
Легко сказать «получайте»! Пес меня не знает, я его — тоже. Из присланных документов мне было известно его происхождение, год и месяц рождения, какими наградами отмечены родители. В графе «примечания» было особо подчеркнуто: «злобный». Вот и все мое знакомство с ним.
Но вас, возможно, интересует, каким образом и откуда он приехал ко мне в багажном вагоне?
В те времена, к которым относится наш рассказ, а было это еще до войны, собак можно было выписывать по почте, как книгу, например, или другую вещь. Вы переводили деньги — вам присылали собаку, снабдив ее питанием на всю дорогу, а дальше уж было дело вашего Опыта, находчивости и инициативы.
Доберманы тогда входили в моду. (Ведь на собак тоже бывает мода! Точно так же потом пришла популярность к овчарке.) У нас их было еще мало.
Так случилось, что первый мой породистый пес приехал ко мне из-за границы. Я выписал его из Германии. Как известно, доберман-пинчер был выведен именно там. Долгое время немцы были монополистами этой породы.
Вытащив из кармана заранее припасенный кусок колбасы, я шагнул в темное нутро вагона.
Вокруг громоздились горы багажа. Вверху решетчатым четырехугольником маячило окно. Наверное, подумалось мне, совсем не весело ехать вот так, в полном одиночестве, наглухо запечатанным в четырех стенах, прислушиваясь к стуку колес, даже если ты всего лишь собака… За пять суток, небось, одичал пес!
В углу послышался шорох. Ага, вот она, клетка: Чуть поблескивали металлические прутья, которыми была забрана лицевая сторона клетки. Когда глаза немного привыкли к слабому освещению, я различил за ними смутные очертания собаки. Будучи темной окраски, она почти сливалась с окружающим полумраком. Только фосфорически светились два зеленых глаза.
При моем приближении пес угрожающе зарычал и метнулся в сторону, но, ограниченный тесным пространством, вынужден был встретить опасность лицом к лицу. Опасностью для него, очевидно, представлялось в эту минуту мое вторжение. Впрочем, как мне стало ясно позднее, он был совсем не трус…
Пошарив, я ощупью нашел запор и стал осторожно открывать узенькую, затянутую проволочной сеткой, дверцу. Приговаривая: «Хорошо, хорошо…» (как будто пес мог понимать меня!), я совал через прутья колбасу. Раздражающий запах ее, по моим расчетам, должен был умилостивить животное. Но я еще плохо знал доберманов.
Дверца открылась со скрипом.
— Ну, иди ко мне… Иди, не бойся… — повторял я как можно ласковее. Я знал: собаки реагируют на интонацию.
Но пес только плотнее прижимался к задней стенке, продолжая при каждом моем движении и звуках моего голоса издавать глухое, не предвещавшее ничего доброго, рычание.
— Его, брат, колбасой не купишь! — проговорил за моей спиной проводник. — Пробовали — не берет, бросается… Ох и лют! Злющий и недоверчивый… За всю дорогу куска ни у кого не взял!
Для служебной собаки это лучшая характеристика, но сейчас она не радовала меня.
Я попробовал отойти от клетки, оставив дверцу открытой. Нет, не выходит все равно. И в самом деле, видно, одичал. Придется действовать смелее. Не съест же он меня!
Подойдя к клетке вплотную, я решительно, но без излишней резкости (резкость, порывистость всегда вызывают ответную реакцию), просунул внутрь руку и потянулся к собаке, чтобы взять за ошейник, надетый на ней.
В тот же миг пес, сделав молниеносный выпад, впился зубами в кисть. Он не отскочил сразу же, как делают все доберманы, а, не отпуская меня, злобно морщил свою длинную, узкую морду.
Я едва не вскрикнул от боли. Быстрые горячие струйки потекли по пальцам. Однако усилием воли я сдержался и не вырвал руку.
Более того. Как будто ничего не случилось, продолжая все так же ласково разговаривать с собакой, я сунул туда и вторую руку, ткнув колбасой прямо в морду добермана. Затем, положив колбасу перед ним, смело погладил его, неторопливо проведя по морде, по лбу, задержался на затылке и легонько поскреб за ушами.
Чего скрывать, сам я в это время думал: «Ну, как примется обрабатывать… останусь без обеих рук!…».
Но этого не произошло.
Чего-чего, но такого обращения пес никак не ожидал. Он приготовился к бою и, прояви я хоть чуточку враждебности, вероятно, стал бы драться не на жизнь, а на смерть. Еще хуже получилось бы, если бы я проявил малодушие, испугался его клыков. Все вышло по-другому, и он опешил.
Это был решающий, переломный момент, и я его выиграл!
Медленно, неохотно разжались челюсти, выпуская мою ладонь из тисков. Пес попятился и сжался, точно ожидая удара или приготовясь к прыжку. Угрожающее рычание продолжало глухо клокотать у него в горле, как бы предупреждая меня, что нового прикосновения он не потерпит ни под каким видом.
Я оставил это предупреждение без внимания и пораненной рукой вторично погладил собаку по загривку. Пес сделал быстрое хватательное движение, я почувствовал нажим его зубов, и все же нового укуса не последовало. Словно передумав, он отвернул оскаленную морду в другую сторону, весь напряженный, нервно двигая ноздрями. Казалось, он был в затруднении: «Да что мне с ним делать… вот навязался!»
Он понюхал лежавшую на полу колбасу, но есть так и не стал. Я тем временем нащупал на его шее металлическую цепочку-ошейник и, крепко ухватившись за нее, потянул к себе.
Пес медленно вышел из клетки, все еще недоверчиво косясь на меня, но больше не повторяя попыток укусить. Прицепив поводок, я вывел четвероногого затворника из его заточения.
— Да он искусал вас! — ахнул проводник, увидав мою окровавленную руку.
Я замотал кисть платком. Ладонь была прокушена насквозь, и руку от боли ломило до плеча, но я был горд одержанной победой.
Только теперь я смог полюбоваться на свое живое приобретение, на существо, которому суждено было надолго занять место в моем сердце, став поистине полноправным членом нашей семьи и хозяином в моем доме.
Это был крупный коричневый доберман-пинчер, породный, на высоких, стройных ногах. На упруго изогнутой шее была посажена аккуратная остромордая голова с небольшими, всегда стоящими настороже, острыми ушами. Широкая, развитая грудь и подтянутый живот говорили о ловкости и силе. Хотя пес и отощал в дороге, объявив добровольную голодовку, мускулы округло играли под кожей. Чрезвычайно короткая, плотно лежащая шерсть лоснилась на солнце несмотря на то, что собаку не выгуливали и не вычесывали пять суток.
Казалось, тело добермана было отлито по форме, как отливают из бронзы изящные скульптурные украшения и статуэтки, — настолько оно было пропорциональным. Коричневый цвет покрывал его ровно, без единого пятнышка. Все было коричневое: уши, влажный кончик носа, даже когти и кожистые подушечки на концах лап.
Пес был красавец! Его можно было сравнить со скаковой лошадью в миниатюре: та же элегантность, та же горделивая поступь… Можно представить мой восторг, когда я рассмотрел его. Не жаль за такое приобретение поплатиться и прокушенной рукой!
Мне нравился даже металлический ошейник, плотно охватывавший шею собаки, без которого, вероятно, стало бы чего-то не хватать. Он очень гармонировал с общим видом животного. На никелированной пластинке, прикрепленной к нему, было выгравировано: Бенно.
Я храню этот ошейник до сих пор…
Бенно дома
— А что дальше? — нетерпеливо спросил я, как только Александр Павлович ненадолго замолчал.
— А дальше началось то, что испытывает всякий собаковод, когда он приводит в дом четвероногого друга. Началась та беспокойная и радостная пора, когда вы учите собаку и учитесь сами, с каждым днем открывая в своем питомце все новые достоинства.
Бенно быстро завоевал симпатию всех моих близких. Сперва он понравился красотой. Но очень скоро его полюбили за ум.
Чем больше осваивался доберман-пинчер на новом месте, тем больше проявлял сообразительности.
Уже спустя немного дней он стал знать всех домашних по именам. Бывало, мать в мое отсутствие спросит: «А где Шура?» — пес сейчас же начнет бегать по квартире, жалобно повизгивая, потом примется скрести лапой дверь, как бы желая сказать этим: «Ушел он. Ушел вот через эту дверь…».
Когда я приходил домой, Бенно, вскакивая на стул или просто подпрыгнув, стаскивал с моей головы фуражку и относил ее в прихожую. Свою радость он выражал также тем, что, поставив мне на плечи передние лапы и вытянувшись во весь рост, старался лизнуть меня в лицо — в нос, в губы, во что придется…
Точно так же он помогал мне одеваться: я надеваю шинель, а он уже подает в зубах фуражку. Мне не надо было ни за чем нагибаться — пес сделает это быстрее меня.
Его привязанность ко мне была поистине чем-то всепоглощающим, безграничным. Без меня он, казалось, не жил, а лишь томился в ожидании: скоро ли, скоро ли вернется его любимый хозяин, его бог, его повелитель… Началось с покуса — кончилось дружбой на всю жизнь. И какой дружбой!
Любую мою вещь он отличал мгновенно. Помню такой случай.
Из Ленинграда, где она гостила у родственников, вернулась моя сестра. С Бенно тогда она еще не была знакома. Вошла во двор, а Бенно как раз был там. Бросился к ней — сейчас разорвет! В страхе она поставила чемодан на землю, стоит ни жива ни мертва. И вдруг пес радостно задергал обрубком хвоста и принялся обнюхивать чемодан. Все объяснялось очень просто: сестра ездила с моим чемоданом, и Бенно тотчас узнал его.
Характерным было присущее ему от природы достоинство — типичная черта многих правильно выращенных породистых собак. Я никогда руки не поднял на него. Но раз — не помню уж, чем он рассердил меня, — шлепнул его по заду. Совсем не больно. И что вы думаете? Пес разобиделся на меня. Зову — не подходит, даю пищу — не ест, отворачивается. А дала моя мать — взял…
Другой характерной его чертой была услужливость. Он научился помогать моей матери носить дрова со двора. Мать накладывала их в дровянике в корзинку; Бенно, прибежав, схватывал корзинку в зубы и тащил домой. В кухне мотнет головой — дрова вывалятся, он бежит за новой охапкой.
Однако он очень скоро сообразил, что ходить через дверь — более длинный путь: приходилось огибать изгородь, которой был обнесен маленький садик, отделявший дровяник от дома. В изгороди имелась калитка, и пес выбрал дорожку напрямик. Он шмыгал в калитку и, если кухонное окно оказывалось открытым, прыгал с ношей в него. Учтя это, мать стала нарочно открывать окно.
Лично я усматриваю в этом зачатки каких-то разумных действий собаки. Рефлекс рефлексом, но…
Ведь еще никто не проник под череп собаки, когда там происходят важные процессы, зрительно не проследил их. И я думаю, что новой науке — зоопсихологии предстоит еще сделать много открытий.
Сколько поразительных историй приходится слышать об инстинкте собаки! Мне не забыть случая с моим товарищем, погибшим при автомобильной катастрофе. У него был годовалый пес боксер. Сразу же, как скончался хозяин, пес стал выть. Потом, пока были на кладбище, он дома все изорвал, перепортил — как будто в приступе какого-то безысходного отчаяния. Стянул со стола скатерть, выпустил пух из подушек. Отказался есть. Через пять дней подох.
Мне думается, случись что со мной, Бенно вел бы себя так же. Не сомневаюсь, что он околел бы от тоски.
Инстинкт собак — поразительный инструмент. Помню, как однажды Бенно всю ночь протяжно выл. Успокоить его ничем не могли. Наутро выяснилось, что в соседней квартире умер больной.
Бенно не терпел, когда кто-нибудь плакал. Если кто-либо расплачется в его присутствии, вскакивал с места и принимался тыкаться в колени мордой. Потом начнет искать обидчика.
Как-то раз к матери пришла знакомая, у которой случилось большое горе. Рассказывая, она заплакала.
Бенно немедля оказался около нее. Потыкался, потыкался мордой — не помогает; забегал по квартире, словно пытаясь выяснить: кто ее обидел? Но так как, кроме двух женщин, никого не было, то пес вполне логично решил, что виновница плача — хозяйка. Подбежал к ней и, взяв пастью ее руку, легонько сжал челюсти, как бы предупреждая: «Это ты сделала? Перестань, а то будет плохо…»
Успокоился он только тогда, когда его увели на улицу.
В другой раз похожий эпизод повторился с моей матерью. Она получила неприятное известие по почте. Женщины, известно, чуть что — в слезы. Дома она была одна. Бенно долго старался успокоить ее, подтыкивая носом и всячески стараясь привлечь к себе внимание; потом, убедившись в бесплодности своих усилий, неслышно выскользнул из комнаты, ударом лапы распахнул дверь, явился в соседнюю квартиру и, схватив за руку соседку — приятельницу моей матери, потащил за собой. Привел, ткнулся мордой в колени плачущей и недвусмысленно посмотрел на приведенную: утешай, дескать, видишь, у меня не получается!
Случай с настройщиком
Однажды к нам пришел настройщик фортепиано.
— Собачка не укусит? — опасливо осведомился он, увидев Бенно и застыв у порога.
— Нет, нет, не беспокойтесь! — поспешила успокоить его моя мать. — Он не тронет, проходите, пожалуйста!
«Собачка» важно подошла, внимательно обнюхала полы пальто и ноги вошедшего, обследовала небольшой коричневый саквояжик, который тот держал в руке, и затем, очевидно не найдя ничего подозрительного, ушла на свое место и легла.
Настройщик облегченно перевел дух: он до смерти боялся собак.
Повесив пальто и шляпу, он прошел в комнату. Поставив саквояжик на краешек стола, открыл крышку пианино, отнял переднюю стенку и, тыча пальцем в клавиши, стал проверять звук.
Это был пожилой коротенький человечек с пышной гривой седых волос и румяным носом картошкой, всю жизнь возившийся с музыкальными инструментами. Погрузившись в привычное занятие, он скоро забыл про собаку, которая больше ничем не напоминала о себе, как будто ее и не существовало. Перед раскрытым пианино он поставил три стула. На один сел сам; на другой, справа, разложил различные приспособления для настройки, извлеченные из саквояжа; на левом лежал носовой платок — у настройщика был сильный насморк.
Бенно, лежа в своем углу с полузакрытыми глазами, казалось, дремал. Меня дома не было — я находился на службе.
Взглянув на часы, мать рассудила: пожалуй, можно успеть сбегать на рынок. Настройщик, видимо, провозится долго, а ей требовалось закупить кое-что к обеду.
Накинув шаль и надев на руку хозяйственную сумку, она отправилась за покупками.
В ближайшем магазине она не нашла того, что ей было нужно. Пришлось пойти в следующий. Потом, как всегда бывает, купив одно, вспомнила, что еще надо и другое…
Короче — спохватилась она лишь при виде больших круглых часов на фонарном столбе. Стрелки клонились книзу; а когда мать отправлялась в свой поход, они смотрели вверх. Прошло не меньше двух часов, как она ушла из дому. Чего доброго, настройщик уже закончил работу и ждет ее. Она поспешно направилась обратно.
Еще в коридоре ее поразила тишина. Когда она уходила, даже с улицы слышалось монотонное: бамм… бамм… Сейчас же было тихо, как будто в квартире — ни души.
Открыла дверь, вошла. И тотчас же услышала дрожащий, медленно растягивающий слова голос:
— Ра-ди бога… убе-ерите вашу собаку… Три часа си-ижу, го-ло-вы не м-о-огу повернуть…
Мать шагнула в комнату и остановилась в изумлении.
Настройщик все так же сидел на среднем стуле перед пианино, но сидел как-то странно, словно истукан, с руками неподвижно простертыми над клавиатурой, боясь сделать даже самое слабое движение. А слева от него, на стуле, на платке, сидел Бенно, тоже неподвижный, как изваяние, носом почти касаясь лица настройщика, не сводя с него глаз. Эта картина была настолько неожиданна и необычна, что мать застыла на месте, а настройщик тем временем продолжал тянуть свое, не поворачивая головы:
— Умоляю ва-ас… Не могу высморкаться… Опомнившись, мать приказала собаке:
— На место, Бенно!
Пес спрыгнул со стула и ушел в угол. Теперь он считал свою миссию законченной.
Несколько секунд, точно одеревенев, настройщик продолжал еще сидеть перед пианино, затем принялся трясущимися руками собирать свои инструменты. Но прежде он схватился за платок… Не забудем, что его мучил сильнейший насморк. Не будь насморка, может быть, и переживание было бы не столь сильным…
— Не укусил он вас? — заботливо справлялась мать, чувствуя себя виновницей случившегося.
— Вы только ушли, — рассказывал пострадавший, — как он сейчас же пришел, вспрыгнул на стул и запретил мне шевелиться. Да, да, не двинь ни рукой, ни ногой; чуть шелохнусь — начинает так рычать, что я думал: пробил мой последний час… А тут еще, как на беду, проклятый насморк, свербит в носу, чихать хочется — никакого терпения. А чихни — и конец…
Заканчивать работу настройщик не стал. Не слушая извинений хозяйки, он сложил инструменты, оделся, боязливо оглядываясь на лежащего Бенно, и ушел, не попрощавшись.
На испытаниях
Почти целое лето я посвятил дрессировке Бенно.
Заниматься с ним было одно удовольствие. Право, если бы все люди проявляли такое же прилежание, было бы совсем не плохо… Бывало, позанимавшись накануне, я на следующий день хочу повторить вчерашнее — а он уже знает, знает и готов выполнять безотказно хоть сколько раз. Я уж не говорю о приемах общего курса. Бенно безупречно выполнял защиту хозяина, охранял вещи, превосходно работал на задержание и конвоирование, — словом, сделался настоящей служебной собакой.
Любопытно заметить, что, как я понял позднее, он был уже дрессирован — на немецкий лад, в питомнике, откуда я его выписал. Но «ключ» дрессировки не был сообщен мне, наши команды, естественно, не сходились с немецкими, и мне пришлось заново переучивать его. Однако, может быть, поэтому он и схватывал все так быстро.
Мне хотелось бы сказать несколько слов об особенностях добермана как рабочей собаки.
Мы часто говорим о типе нервной деятельности и забываем о характере. А это тоже имеет громадное значение для правильного контакта с собакой.
Известно, что доберман чрезвычайно возбудим; многих любителей это даже отпугивает. Но надо ли, действительно, бояться этого? Совсем нет. Надо учитывать эту возбудимость и правильно управлять ею. И надо знать характер своего пса.
Доберман упрям. При дрессировке необходимо что-то переломить, а потом — пойдет, пойдет, как заводной. Но бойтесь, бойтесь в чем-нибудь перегнуть палку, переусердствовать. Недолго сломить и натуру — тогда все пропало. Обратно не вернешь.
Добермана сравнивают с хорошей скрипкой, на которой играет чуткий, опытный мастер. Доберман нервен и горяч — отсюда его поразительная восприимчивость. Нельзя на эту нервозность жать. Если не впасть в эту ошибку, то можно добиться от него таких результатов, что сам будешь изумляться.
Доберман страшно самолюбив. Каждую минуту он готов на подвиг ради хозяина, сделает немыслимое, если вы пожелаете. Но только не сорвите. «Тормоз» у него действует совсем не так, как у других собак. Дурной контакт — и все пропало.
Мне кажется, я избежал этих подводных камней.
В конце лета состоялись большие испытания служебных собак, в которых участвовал и мой Бенно.
Ну, надо ли говорить, как волнуется каждый любитель перед испытаниями? Я не составлял исключения.
Испытания проходили на полигоне за городом, при большом стечении народа. На обширном лугу веревкой была обнесена просторная площадка; внутри находились собаки, за веревкой толпилась публика. Я вижу это перед собой, как сейчас.
Помню жеребьевку перед началом. Мужчины курят — руки дрожат. На столе у судейской коллегии — оценочные листы, дипломы и жетоны первой, второй и третьей степени. Кому-то они достанутся?
Одним из первых выступал Бенно.
Демонстрировался прием «охрана вещей». Я привязал Бенно к крепко вбитому в землю колу, перед ним положил свой рюкзак. Приказав: «Охраняй!» — отошел в сторону.
Пригласили из публики желающего отнять у собаки рюкзак.
Вышел паренек с длинным прутом в руках. Выставив его перед собой, подобно тому, как тореадор выставляет шпагу перед быком, он стал осторожно красться к собаке.
Сердце у меня учащенно билось. Я не беспокоился за выучку добермана: в Бенно я был уверен, недаром дрессировал сам. Но все же одно дело дрессировочная площадка, и совсем другое — работа в присутствии большого количества зрителей, в незнакомой обстановке, где собаку могут ожидать разные случайности.
Парень был уже недалеко от добермана. Бенно, сначала не обращавший на него внимания и тревожно искавший глазами в толпе меня, повернулся и стал смотреть на подходившего, словно стараясь по виду его определить, что он за человек, что ему нужно. Время от времени пес вопросительно поглядывал в мою сторону, как бы советуясь, как поступить.
Меня так и подмывало крикнуть ему: «Охраняй! Охраняй, Бенно! Ну же!» — но по условиям испытаний это было запрещено.
Доберман залаял, не проявляя, однако, особой активности и свирепости, продолжая все оглядываться на меня. Тем не менее, этого оказалось достаточным, чтобы парень в нерешительности остановился. Затем, приблизившись к собаке еще на два или три шага, он принялся вертеть вицей перед ее носом.
Пес сразу обозлился. Подавшись вперед, насколько позволяла короткая привязь, с оскаленными клыками, он в один миг выхватил прут из рук добровольного «дразнилы», перекусил пополам и бросил наземь. Парень — как видно, не очень смелого десятка — испуганно попятился, потом, потоптавшись растерянно на месте, махнул рукой и ушел обратно в толпу. Бенно, видя, что больше опасности не предвидится, лег около рюкзака, вытянув передние лапы и зорко поглядывая вокруг себя. Все окончилось настолько быстро и мирно, что среди зрителей послышались смешки.
Но я, в общем, был удовлетворен. Пес не подвел, хотя проверялся в присутствии такой массы людей в первый раз.
Следующей в порядке жеребьевки шла рослая, на редкость злобная овчарка черно-бурой масти, по кличке Бен.
Бенно и Бен… Мне показалось, что в этом созвучии есть какая-то взаимосвязь. И вышло, действительно, так, что эти две собаки привлекли к себе в этот день наибольшее внимание.
Бен, успевший уже до этого охрипнуть от лая, как только его привязали к приколу, словно осатанел. Он буквально исходил слюной от злобы. Перед ним положили чемодан, и через минуту тот весь покрылся хлопьями пены, вылетавшей из пасти собаки вместе с лаем и рычанием. Разбрызгивая ее вокруг себя, пес яростно бросался во все стороны, натягивая привязь с такой силой, что она, казалось, вот-вот не выдержит и оборвется. Он то вскакивал передними лапами на чемодан, то принимался с азартом рыть землю, отбрасывая ее так, что она летела далеко назад.
— Вот это караульщик! — донеслось до меня. — Никого не подпустит. Лучше не связываться!
Право, в сравнении с этим чертом Беном мой Бенно выглядел миролюбивым ягненком.
Опять пригласили желающего испытать собаку, а заодно — и свою храбрость.
Вокруг выжидательно притихли. Охотника не находилось. В публике начали перешептываться. Вожатый Бена с победоносной улыбкой озирался по сторонам.
— Ну, так как: есть желающие? — вновь громко выкрикнул дежурный по испытаниям.
И тут желающий нашелся.
Из толпы вышел высокий черный цыган с бородой, в красной рубахе, подпоясанной тесьмой с кистями, в порыжевших плисовых шароварах. Не спеша, под направленными на него взглядами сотен глаз, он перелез через веревку, посмотрел вправо, влево, как бы приглашая всех присутствующих в свидетели своей храбрости, и неторопливой походкой, но твердо и уверенно направился прямо к Бену.
Все замерли. В собаке никто не сомневался. Что-то будет делать цыган, коль скоро вызвался на такой опыт? Зрелище обещало быть интересным.
Овчарка перестала лаять и, опираясь передними лапами на чемодан, словно заявляя этим, что она его ни за что не отдаст, уставилась на подходившего человека. Шерсть на загривке и хребте у нее поднялась дыбом, а хвост… хвост почему-то, наоборот, стал клониться вниз.
Расстояние между цыганом и собакой быстро сокращалось. Бен снял лапы с чемодана, захлопнул пасть и предостерегающе зарычал.
Цыган был в пяти шагах…
И тут произошло то, чего никто не ожидал.
Не останавливаясь, не ускоряя и не замедляя шага, чернобородый внезапно громко скомандовал:
— Пшел вон!
И Бен, славный караульный пес Бен, еще минуту назад казавшийся всем олицетворением надежности и злобности, облизнулся и действительно удалился «вон». Поджав хвост, он спрятался за прикол, стараясь держаться подальше от цыгана, трусливо косясь на него, а тот спокойно подошел, наклонился над чемоданом…
Публика ахнула. Что публика! Ахнули все мы, дрессировщики и специалисты собаководства. Лицо вожатого Бена залила краска. Затем из красного оно стало белым. Он рванулся, чтобы подбодрить собаку, хотя, как я уже говорил, это категорически запрещалось, но было поздно: цыган уже шел к нему, неся чемодан в руках.
— Что же это? — пораженный не менее остальных, Обратился к хозяину Бена председатель жюри, он же начальник испытаний.
— Да я ему «фу» скомандовал… — пробормотал тот, не зная, чем оправдаться.
— То есть, как это «фу»?
— Вижу, что он так смело подходит, — мотнул головой вожатый на цыгана, — побоялся, как бы собака его не покалечила, ну и скомандовал тихонько — «фу»…
Тот услышал это объяснение и немедленно потребовал:
— Давай снова!
— Повторить! — приказал начальник.
Снова положили чемодан около овчарки. Бен уже не имел того боевого вида, как вначале, но хозяин подбодрил его, огладив взъерошенные бока, и пес опять залился бешеным лаем.
Чернобородый ждал, отойдя к веревке, насмешливо поглядывая на все эти приготовления.
— Можно приступать, товарищ начальник? — спросил он, когда хозяин отошел от Бена.
— Можно!
И все повторилось сначала.
Опять цыган смело направился к собаке, без излишней торопливости, но не проявляя и каких-либо колебаний. Опять, подойдя на пять шагов, властным низким голосом приказал: «Пшёл вон!» И опять Бен, позорно поджав хвост, уступил без сопротивления.
— Смелостью берет! Чисто психологическое явление, — во всеуслышание заявил председатель жюри, когда чемодан вторично оказался в руках цыгана. — А вы плохо отработали собаку! — сердито бросил он в сторону владельца злополучного Бена, который не знал, куда деваться от стыда.
Смущены были все мы. Ведь испытания — не просто проверка рабочих качеств собак: одновременно это и общественный показ, чтоб все могли видеть, как хорошо служит собака. А тут такая неудача… Вокруг слышались оживленные пересуды. Действительно конфуз!
— Снять с испытаний! — распорядился председатель жюри.
«Снять с испытаний» — позор!
Мне даже стало жаль хозяина Бена: он был, как побитый.
Виновник случившегося — цыган, поглаживая бороду, улыбался, с видом победителя поглядывая на нас.
— А хочешь, я твою собаку отвяжу и приведу сюда? — вдруг предложил он мне.
Разговоры прекратились, все вопросительно смотрели на меня.
Я забыл сказать, что Бенно все еще оставался привязанным у своего прикола в противоположном от Бена конце площадки. Лежа у рюкзака, он спокойно поглядывал на происходящее, не подозревая, что ход событий коснется и его.
Испытать Бенно на цыгане? Сердце во мне екнуло. Я мог отказаться: ведь Бенно уже прошел испытания, но не приведет ли мой отказ к еще большему торжеству этого чернобрового и черноокого храбреца, уже и так сильно уронившего наш престиж?… Согласиться? А что, если я с Бенно произойдет такое же «психологическое явление», какое мы только что наблюдали у Бена и которое едва ли могло служить оправданием для караульной собаки? Приятного мало. Дрессировал, дрессировал, и вот первый же встречный… Но и отказаться — нет, нельзя. Скажут: боится, не надеется на собаку.
Я колебался. А цыган, видимо, был крепко уверен в своей власти над собаками, коли предлагал ни больше ни меньше, как отвязать и привести добермана. И откуда он только взялся? Ну нахал!…
Напряжение ожидания разрядил вопрос председателя жюри.
— Порвет? — сказал он тоном предупреждения, в упор глядя на цыгана, как бы желая снять с себя возможные последствия, а может быть, и избежать еще одной проверки с участием этого наглеца, чтобы не случилось нового провала.
— Не порвет, — отозвался тот. — Не таких видали! Его самоуверенный тон и вызывающие манеры решили дело.
— Давай! — распорядился начальник, даже не ожидая моего согласия. Он жаждал реванша.
Всем нам хотелось проучить этого зазнайку в широченных франтовских шароварах и сапогах гармошкой, чтобы восстановить попранную честь наших питомцев. Не сорвалось бы! Не знаю — чем, но уже тогда он чем-то пробудил антипатию к себе.
Цыган повернулся и наискось направился через поле к доберману. Стало так тихо, что слышно было, как звякнула цепочка, когда встал Бенно. Пес заметил идущего к нему через открытое пространство человека и теперь внимательно всматривался в него, вытягивая морду и нюхая воздух. Я не дышал…
Со средины поля цыган ускорил шаг. Когда же оставалось метров двадцать, он пригнул голову и побежал.
Бенно попятился, слегка оседая на задних лапах… Вздох пронесся над толпой. Я, кусая сжатую в кулак руку, едва удерживался, чтобы не броситься на помощь своему другу.
Цыган был уже в нескольких шагах от собаки. Вот он уже на длину поводка от нее.
В следующее мгновение доберман прыгнул. Даже на расстоянии было слышно, как сшиблись человек и собака; казалось должны были поломаться кости, с такой силой выбросил вперед свое тело Бенно. Его зубы впились в грудь цыгана. Вырвав весь перед рубахи, доберман сорвался и шлепнулся наземь и тут же, мгновенно собрав мускулы в комок, прыгнул вновь. Чернобородый дико закричал и, закрывая руками грудь и живот, повалился на колени.
Оказывается, Бенно пятился, приседая на лапах, готовясь к прыжку… А я-то уж подумал невесть что!
Не помня себя, я кинулся бежать через поле, крича: «Фу! Фу, Бенно!» За мной бежали председатель и члены жюри.
Цыган поднялся. Он был бледен. Зажимая покусанные места руками, покачал головой и, с уважением глядя на Бенно, проговорил:
— Хорошая у тебя собака! Первая собака, которая меня не испугалась! Молодец!
Меня поздравляли, мне жали руки.
Но что же, все-таки, произошло? Почему сдрейфил Бен, в серьезной отработке которого никто из нас не сомневался? И почему то же самое не повторилось с моим Бенно?
Методика дрессировки тогда еще не была разработана так хорошо, как сейчас. Лишь много позднее я понял, в чем была ошибка вожатого Бена. Он учил собаку реагировать на человека, который крадется или, наоборот, приближаясь, шумит, стучит, машет руками или каким-нибудь предметом — вообще ведет себя подозрительно. И не предусмотрел, как бороться с злоумышленником, идущим на собаку спокойно, смело, уверенно. И когда встретился такой противник, пес спасовал. Он был не подготовлен к этому.
Этой ошибки не сделал я, занимаясь с Бенно. И Бенно с честью выдержал трудный экзамен.
Почетный жетон — премия первой степени за лучшую дрессированную собаку, который я привесил в тот день к ошейнику Бенно, напоминает мне о том, как дальновиден должен быть воспитатель собак. Именно благодаря тому, что я не допустил просчета в «мелочах», и был посрамлен любитель сильных ощущений — цыган.
Мне тогда и в голову не могло прийти, что вскоре нам с Бенно предстоит встретиться с этим типом еще раз.
Ночной совет
Мы жили в тихом переулке, в старом, доживавшем свой век доме с изолированным двором и неторопливым укладом, напоминавшим прежнюю мещанскую Москву. Держа собак, я умышленно в течение долгого времени не менялся квартирой. В больших коммунальных домах с ними всегда труднее. Что поделаешь? Как говорится, любовь требует жертв! Собачники поймут меня.
В то лето сестра с матерью уехали гостить к родственникам в Ленинград. Мы с Бенно оставались в квартире одни.
Работа отнимала у меня много времени. Обычно я возвращался домой поздно и, наскоро приготовив ужин и накормив собаку, заваливался спать. От переутомления иной раз мучила бессонница.
И вот как-то раз, когда я, достаточно наперевертывавшись с боку на бок, наконец-то задремал, меня вдруг разбудил свет, мелькнувший в спальне. Бенно вскочил и глухо заворчал, но лаять не стал. Он был приучен не лаять попусту.
Сперва я решил, что все это мне показалось в полудреме. Но через минуту белый луч снова заиграл на стене. Кто-то через окно и занавеску светил фонариком в комнату.
Вскочив, я бросился к окну и успел заметить, как от дома отделилась темная фигура и, перейдя улицу, исчезла за углом.
«Хулиганы, — решил я. — Нашли чем развлекаться…»
Можно было выйти и попробовать спустить собаку, но мне не хотелось одеваться.
Представьте мое возмущение, когда все это в точности повторилось на следующую ночь. Опять я только что заснул, и опять кто-то побаловался за окошком фонариком. Надо сказать, ничего приятного в этом не было. Среди ночи — и вдруг какое-то таинственное сияние, то вспыхивая, то угасая, начинает бродить по окружающим предметам, точно выискивая что-то. Я представляю: если бы на моем месте была женщина — испугалась бы до полусмерти!
Однако и на этот раз я поленился выследить голубчика.
Две или три ночи прошли спокойно, а затем глухое ворчание Бенно и яркий электрический лучик, шаривший по комнате, заставили меня вновь подняться ото сна. После этого я твердо сказал себе: если повторится еще — обязательно встану и с помощью собаки накажу голубчика!
А назавтра все это завершилось самым неожиданным образом.
Не помню уж, что меня привело домой в тот день раньше обычного. Весьма довольный предстоящим свободным вечером, я устроил внеочередную получасовую прогулку Бенно, затем, водворив его обратно на кухню, через которую был вход в квартиру, сбегал до ближайшего книжного магазина, где мне надо было купить какой-то справочник, сделал еще какие-то срочные дела, вернулся, насвистывая, открыл ключом дверь, вошел и обомлел.
На узлах в гостиной сидели смирнехонько два смуглых молодчика, а перед ними, с оскаленной мордой, — Бенно. Позади него на полу валялся нож, которым, очевидно, пытался обороняться один из непрошеных гостей.
Лицо старшего из них показалось мне знакомым… Да это же цыган, с которым мы встречались на полигоне! Сейчас он был одет по-другому, потому сразу я и не узнал его.
Вот тут-то и открылась тайна загадочных ночных иллюминаций.
Оказалось, нашу квартиру с некоторых пор взяла на заметку шайка домовых воров. Дом стоял, как я уже говорил, в тихом малолюдном переулке. Днем почти все жильцы находились на работе, общий вход оставался открытым — проникнуть в помещение было не трудно.
Оставалось проверить: нет ли в квартире собаки, которая могла бы поднять шум и сорвать кражу.
Для этой цели они выбрали довольно оригинальный метод: прощупать с помощью фонарика ночью, когда все спят. Любая собака, конечно, подняла бы при этом тревогу, любая — но не Бенно, приученный, как уже вы знаете, не лаять зря. Это ввело их в заблуждение.
По роковому стечению обстоятельств, они пробрались в помещение как раз тогда, когда я с Бенно уходил на прогулку. Услышав, что я возвращаюсь, они поспешно замкнули дверь и укрылись в дальней комнате. Я впустил Бенно и ушел, а десятью секундами позднее в квартире разыгралась форменная баталия.
Учуяв чужой запах, пес сразу бросился в комнаты…
Надо вообразить ужас воров, когда вдруг открылась дверь и на них вышел Бенно. Конечно, чернобородый сразу узнал его. Правда, на этот раз цыган был вооружен; но и нож оказался бесполезен против Бенно, обладавшего классической молниеносной хваткой. После короткой отчаянной потасовки цыган вместе со своим сообщником вынуждены были сесть на узлы, которые они успели навязать, и под охраной добермана, не спускавшего с них горящих глаз, терпеливо ждать, когда кто-нибудь придет и заберет их.
При обыске в милиции у чернобородого был найден и фонарик, с помощью которого он проверял крепость моих нервов и чуткость Бенно.
Вторая встреча «знатока собачьей психологии» с Бенно окончилась для него еще плачевнее: у него были прокушены обе руки!
Бенно и Бианка
Годом позднее в моем доме появилась вторая собака, тоже доберман — Бианка.
Долго рассказывать, как она попала к нам. Скажу одно: собаки часто теряют хозяев. А я — вы же знаете — не могу пройти равнодушно мимо беспризорного животного…
Обе собаки необыкновенно сдружились. Если я уходил куда-нибудь с Бенно, Бианка не находила себе места — выла, скулила, царапала дверь до тех пор, пока мы не возвращались. Если же мы отсутствовали долго, забивалась под диван и впадала в меланхолию. Не притрагивалась к пище, ничем не интересовалась, даже не шевелилась часами, лишь нервно вздрагивала при всяком стуке.
А такие разлуки одно время случались довольно часто. Хорошо отработанных караульных собак тогда не хватало, и по просьбе клуба служебного собаководства я на известный срок согласился использовать Бенно на охране одного из промышленных объектов. Каждый вечер за Бенно приходил человек, а утром приводил обратно. Быстро привыкнув к этому, Бенно уходил и приходил, как человек — на работу и с работы.
Какая была радость, когда собаки вновь оказывались вместе! С притворной злостью они наскакивали друг на друга, опрокидывались на спину, прыгали чуть не до потолка! Потом, повинуясь моему окрику, успокоившись, чинно расходились по местам. Бенно отсыпался до очередного дежурства, а Бианка сидела поблизости и как бы охраняла его покой.
А что творилось, когда мы втроем отправлялись на прогулку!
По каким-то только им известным признакам собаки узнавали об этом раньше, чем я успевал произнести:
— Ну, пошли на улицу, друзья!
Пока я одевался, они суетились, сновали около меня, как челноки в ткацком станке. Тут уж не удержишь ничем!
Но вот мы на улице. Задиру Бенно я, во избежание неприятностей, обычно брал на поводок и только в соседнем запущенном саду спускал побегать свободно. Начиналась игра.
Трудно приходится собакам в большом городе. Даже на малооживленных улицах нужно каждую минуту остерегаться автомобиля. Я приучил собак повиноваться специальной команде. Стоило мне крикнуть: «Машина!» — и они мгновенно бросали резвиться и стремглав бежали ко мне. Затем, стоя около меня, они послушно ждали, когда я снова разрешу им бегать.
Бенно, по примеру всех самцов, не упускал случая подраться при встрече с чужой собакой. Бианка немедленно оказывалась тут же. Если Бенно приходилось туго, она тоже ввязывалась в драку, чтобы помочь приятелю. Если верх брал Бенно, отходила в сторону и, делая вид, что поглощена обнюхиванием булыжника на мостовой или кустика травы в канаве, лишь косила на дерущихся глазом.
Впрочем, такое развлечение выпадало собакам не часто. Я не позволял Бенно драться. Каждое такое сражение оставляло на тонкой шкуре добермана заметные следы, портившие его красоту. И, кроме того, вообще — для чего давать собакам драться? Собаки должны вести себя в обществе друг друга, как подобает почтенным, хорошо воспитанным особам… Слыхали, как в Голландии: доги провожают детей в школу, потом встречают их после уроков, ждут, если те почему-либо задерживаются, — и никогда никаких неприятностей!
Иногда я привязывал Бенно во дворе. Угостишь Бианку чем-нибудь сладеньким — она сейчас же исчезнет; потом явится, умильно подсядет и выпрашивает снова. Я проследил за нею: оказывается, она уносила лакомство своему привязанному приятелю, во двор. Как будто ему не давали самому!
Вы знаете, что собаки любят припрятывать съестное на черный день, хотя сами потом забывают, где и что закопали.
Как-то Бенно занемог — вывихнул лапу, что ли, — и вынужден был в течение недели вылеживать на своей подстилке в углу. Бианка, как нежная сиделка, конечно, почти не отходила от него. Сбегает ненадолго по своим делам во двор — и опять к Бенно.
Раз смотрим — что за кости лежат перед подстилкой Бенно: какие-то черные, грязные, все в земле. Что же вы думаете: Бианка извлекла их из своего тайника во дворе (когда прятала, никто не видал!) и решила предложить своему болящему другу…
Любопытно, что разница в характерах моих друзей проявлялась в любой мелочи. Вздумай прикрикнуть на Бенно — он просто послушается, и только. А Бианка обязательно прикинется такой несчастной, такой жалкой, точно ее побили. Невольно подзовешь и приласкаешь. «Женщина!» — иногда в шутку говорила моя мать.
А если, скажем, поранили лапы и нужно смазать йодом? Бенно звука не издаст, принимает все как должное. Бианка же поднимет визг на весь дом, как будто с нею делают невесть что!…
Очень смешно, помню, было, когда я обучал Бенно буксировке лыжника. Я всегда был сторонником того, что собаку надо закалять, приучать к холоду, пусть она даже такая гладкошерстная, как доберман. Бенно отлично буксировал лыжника в паре с другим псом. А Бианка в это время исходит лаем у забора. Тоже хочет! Можно сказать, умоляет. «Хочу, хочу! Возьмите и меня!»
Впрягли — потянула, потом: братцы мои, тяжело! Встала, лыжи наехали на нее. Тогда попробовала бежать, но постромки не натягиваются… Лентяйка и плутовка! Уж она не переработает, не надорвет силенки! Пусть работает другой!
В конце концов, ее отстегнули. Она отбежала в сторону, встала за елку — только кончик носа видно — и смотрит: что делается?
Жеманница Бианка даже лаяла как-то не так, как Бенно: каким-то визгливым, капризным сопрано. Обожала конфеты. Стоило появиться на столе коробке с леденцами — не отойдет, пока не выпросит. Бенно же на них — никакого внимания.
Бианка и в чашке с пищей прежде выберет все лакомые кусочки, а потом предоставит доедать остальное Бенно. Бывало, дадут лакомство ему — она отберет и съест, а после придет, в утешение полижет его в нос, свернется рядышком, как кошка, и уснет.
Нередко она вообще занимала его подстилку, как свою. Разляжется, а он — как хочешь!
Бенно никогда не сердился, не обижал ее.
Смерть Бенно и Бианки
Меня всегда интересовало: как крепко животные могут дружить между собой и как они переносят потерю, если одного из них внезапно не станет?
Ответ на этот вопрос дали мне Бенно и Бианка.
Они жили вместе уже около девяти лет. За это время у них не было ни одной ссоры, ни одной, переводя на человеческие отношения, размолвки. Мир да любовь!
С годами собаки начали стареть. Спокойнее, медлительнее в движениях сделался Бенно. Поседела морда. На атласистой коричневой шкуре словно проблескивали искорки — седина.
Бианка была на три года старше Бенно. И признаки старости у нее были еще заметнее. Она стала лысеть и плохо видеть. Много спала. На прогулку выйдет — сразу озябнет, сгорбится.
Так тяжело было отмечать это постепенно усиливавшееся одряхление. Но ничего не изменишь: всякому существу — свой срок жизни.
Несчастный случай ускорил наступление неизбежного конца.
Как-то, возвратясь со службы, я выпустил собак во двор. Почему-то в этот день Бенно был особенно резв и подвижен, точно во времена своей молодости. Двухметровыми прыжками он принялся носиться по двору, будто хотел насладиться в последний раз силой, свободой, ощущением жизни… Калитка оказалась открытой. Бенно пулей, не слушая моего оклика, вылетел за ограду. Мимо в этот момент полным ходом мчался автомобиль. И доберман с разбега головой ударился в борт.
Видно, недаром я всегда опасался автомобилей. Недаром об этой опасности, постоянно грозящей в городских условиях нашим четвероногим друзьям, часто напоминал молодым собаководам. Другим — напоминал; а сам — не уберег!
Крылом машины Бенно отбросило на тротуар. Я подбежал к нему — он не шевелился. Подхватив на руки, я отнес его домой, положил на кушетку. Мать притащила нашатырный спирт; стали приводить его в чувство. Все было тщетно. Вернуть к жизни его не удалось.
У него произошло кровоизлияние в мозг; шок — и смерть наступила почти мгновенно.
Занятые Бенно, мы не обратили внимания на то, что происходило в это время с Бианкой. Вся дрожа, какой-то неуверенной, разбитой походкой она приблизилась к кушетке, обнюхала обмякшее, неподвижное тело Бенно и вдруг повалилась.
Только спустя несколько минут мы заметили, что она лежит на полу, не шевелясь, никак не реагируя на окружающее. Бросились к ней — оказалось, мертва и она.
Бианка умерла от разрыва сердца.
Пусть вас не удивляет это: собаки нередко погибают от разрыва сердца — под влиянием сильного волнения, испуга… И вообще нервная организация их очень схожа с нашей; не случайно ученые любят использовать для опытов именно собак…
Так, в один день, я лишился их обоих…
Помните чудесный рассказ Куприна «Барбос и Жулька»? Перечитывая его, я всегда вспоминаю Бенно и Бианку. Жили дружно — и окончили свое существование в один и тот же час…
Александр Павлович помолчал и добавил: — Еще когда Бианка была жива, я заказал для нее точно такой же ошейник, какой был у Бенно. Теперь оба они висят у меня в кабинете на стене. Это все, что сохранилось от Бенно и Бианки. Да остался вот этот шрам, заинтересовавший вас. С него началась не только дружба с Бенно, но и вообще моя любовь к собакам…
БРЫКИ-БРЫКИ. СОБАКА, КОТОРАЯ ГОВОРИЛА «МАМА»
Каждое утро я вижу, как мимо моих окон проходят двое: седой, благообразного вида мужчина и крупный, красивой золотистой масти боксер. Мужчине — давно за шестьдесят; стара, очевидно, и собака. Они ходят на прогулку всегда в один и тот же час. Мужчина идет не спеша, постукивая тростью; пес ковыляет рядом, волоча заднюю изуродованную ногу. Несколько глубоких полузаросших шерстью рубцов, перекрещиваясь, отчетливо выделяются на атласистой шкуре.
Меня заинтересовала эта пара. Собаки-моя страсть. Мы познакомились. Виктор Андреевич, владелец боксера, оказался вежлив, воспитан чрезвычайно — типичный старый интеллигент с головы до пят. Нет, он не одинок: есть жена, Марта Аникьевна, в прошлом педагог, как и муж. Они получили новую квартиру в нашем районе; оттого я и не видел их раньше.
Меня интересовали рубцы и увечье животного.
Выяснилось, что пес покалечен весьма основательно. Надо было видеть, каков он был тогда, когда кожа на нем висела лоскутьями! Сломано было несколько ребер, ключица. Лапа тоже сломана; чтобы она срослась, в кость вставлен металлический штырь. Делали сложную операцию, чтобы его спасти… Где это его так?
«Хотите знать? Что ж, пожалуй, извольте…»
…Сына убили в белофинскую. Двое стариков остались сиротливо коротать век. Нет, конечно, есть много друзей, знакомых, заботливых и чутких людей; но, что ни говори, родной человек — это родной человек, никто не заменит его.
Жили-вековали, пенсии хватало, чтоб не нуждаться. Когда утихла боль, стали позволять себе даже кой-какие развлечения — кино, цирк, например… Да, и цирк. Сын любил цирк. Его радовали мужество, сила. Цирк лишний раз напоминал старикам о нем, о сыне. Именно с цирка и надо начинать эту незамысловатую историю.
Раз шли — увидели афишу: аттракцион «Собаки-футболисты». Сходим — посмотрим? Было очень смешно наблюдать, как с полдесятка прыгучих короткомордых псов, как ошалелые, взлягивая лапами, гонялись за легким воздушным шаром, стараясь загнать его в ворота, где привязанный крепким ремнем «вратарь», сдавленно хрипя и брызгая от злости слюной, старался отразить все попытки четвероногих форвардов. Женщина в бархатном малиновом платье с позументами кокетливо командовала: «Алле, гоп! Алле, гоп!» — а они прямо-таки вылезали из кожи. Прыжок — и от толчка носом шар взвивался вверх, еще прыжок — и он, под оглушительные смех и хлопки зрителей, наконец, в сетке. Потом — свисток рефери, противники поменялись воротами — все как в настоящем футболе… Впрочем, что рассказывать долго — вы сами, конечно, не раз видели это зрелище!
Виктор Андреевич и Марта Аникьевна получили тогда большое удовольствие. А выходя с представления, увидели объявление, написанное от руки: «Отдаются щенки-боксеры. Справиться за кулисами». Переглянулись и, прочтя молчаливое одобрение в глазах друг друга, направились к служебному входу.
В артистической уборной, где пахло псами и помадой для лица, их приняла дрессировщица. В обыденной жизни, в домашнем полинялом халатике, она выглядела совсем не такой, как на арене. Куда более будничной, даже немного вульгарной, особенно — эти подведенные брови, неестественно яркие губы и пудра, сыпавшаяся с носа. Этому впечатлению способствовало и то, что она курила. Зато псы… Вблизи они были просто изумительны.
Хозяйка кликнула зверей, находившихся в клетушке за стенкой.
— Вот это Баккара, мамаша, — отрекомендовала она, вынимая папиросу изо рта. — Баккара, малюточка, подойди сюда!
Баккара, налитая, упитанная, топала, как человек. Покосив белком, она не соизволила приблизиться. Отвисшие соски подтверждали, что «малюточка» — мать щенков.
— А это — отец… Дон-Мордан. Дон-Мордан, покажитесь! Не правда ли, красивая кличка? Я сама придумала ее. От слова «морда»…
Дон-Мордан важно обошел вокруг посетителей, придирчиво обнюхал колени Виктора Андреевича и удалился. Даже не верилось, что он недавно с такой яростью защищал футбольные ворота… Вот это они и есть, четвероногие артисты?!
По первому взгляду можно было думать, что псы должны заживо съесть всякого, кто отважится заглянуть сюда. В действительности они оказались миролюбивы, воспитаны. Привыкнув к людскому постоянно сменявшемуся обществу, даже не очень интересовались посторонними. В сочетании с их мощью и какой-то совсем не собачьей уверенностью, которая так и сквозила во всем их поведении, это еще более располагало к ним.
— А теперь я покажу крошек, — тем временем продолжала дрессировщица, как видно без памяти влюбленная в своих питомцев. — Они очень уютные, такие дуси! Посмотрите…
Щенки копошились в гнезде под столом, на котором стояло зеркало-трельяжик и в беспорядке были разложены разные гримировальные принадлежности. Хозяйка извлекла одного и показала, повертывая на руках, как, любуясь, повертывают младенца.
Щенок был толстый, гладкий и позволял делать с собой что угодно. Кожа на нем висела складочками, глаза были затянуты каким-то сиреневым туманцем. Точно так же выглядел другой, не отличить. Все они были совершенно одинаковы, будто наштампованы, как гайки.
— Какие чудные, — восхитилась Марта Аникьевна, женщина добрая и чувствительная.
— Прелесть, — подтвердил Виктор Андреевич.
— Возьмем?
— Какой разговор! Я — как ты…
— Одну минуточку, — сказала собачья хозяйка. — Поскольку это очень хорошие щенки и я отдаю их совершенно бесплатно, лишь бы в хорошие руки, я хотела бы знать, к кому они попадут…
Она с удовлетворением восприняла сообщение, что у супругов отдельная квартирка, сад, прожиточный минимум достаточный, чтобы прокормиться всем. Обсуждали так, как будто речь шла об усыновлении ребенка, не меньше.
— А любить вы его будете? Вы извините, что я вхожу во все подробности, но, знаете, иначе нельзя. Если нет страсти, лучше не брать. Это же будет такой друг, такой друг, — тараторила она. — Как человек! Я им жизнью обязана… Шерри-Бренди! Шерри-Бренди!… Шерка! — На этот оклик явилась еще одна боксериха, медлительная и грузная. — Она спасла меня! Как? Очень просто. Мы шли весной… А она у меня уже пенсионерка, старая, ходит трух-трух, трух-трух. Ну вот, идем, вдруг она рванулась в сторону, меня потянула за собой… Я чуть не упала! И в ту же секунду грохнулась обледенелая глыба снега с крыши. Как раз бы на меня… Говорят, собаки предчувствуют землетрясения и перед опасностью тянут хозяев из помещений… А сон у вас хороший? Кто страдает бессонницей, заводи боксера: такой уютный храп по ночам… У них изогнута носовая перегородка. С двух месяцев уже храпят!… Да! На каком этаже вы живете? А то я знаю случай: годовичок перепрыгнул перила балкона и упал с четвертого этажа… У вас — первый? Чудесно…
Право, и смешно и трогательно.
Как назвать щенка… Целая проблема!
Когда нужно, как раз не подберешь клички по вкусу. Следовало посоветоваться с владелицей боксерного выводка: уж она-то наверняка знает их уйму.
Апаш… По-французски — «хулиган», «бандит». Причем же тут милый маленький песик? Не годится. Жуир. Звучно, но как-то легкомысленно. Биг-Бен. Биг-Радж. Битт-Бой… Вот это уже неплохо. По Грину — «Битт-Бой, приносящий счастье». Может быть, малыш тоже принесет счастье? Правда, в документе, который вручила новым владельцам щенка его прежняя хозяйка, он назван (по происхождению) торжественно и совсем как немец-дворянин: «Грим фон Клаугдорф». Родовит, ничего не скажешь. Впрочем, циркачке-дрессировщице высокий титул ничуть не помешал звать боксика непочтительно Гришкой. Но так — уж слишком простецки… В общем, Битт-Бой лучше всего.
Итак, «крестины» состоялись. Битт-Бой, да?
А Приносящий Счастье молчит и таращит на окружающих свои глазенки, которые и впрямь никак не назовешь глупыми.
Есть ли более занятное существо? Ну дала же природа такой философский вид… Он — как старый мудрец: сидит и смотрит, глубокомысленно, терпеливо, снисходительно. Мордастый, четырехугольный, лапы толстенные. Уши висят, брыли спущены, физиономия вся в старческих морщинах (кожи у него явно «на вырост»!), затылочный бугор выпирает, голова домиком, глаза прямо-таки человечьи. Сидит и думает, и, кажется, сейчас что-то скажет, к примеру: «Зачем я явился на свет? Чего хорошего? Поневоле сморщишься…»
Настоящий маленький львенок не львенок — в общем, что-то от большого могучего зверя. Гладкий, тяжелый, «обтекаемый».
Очень, очень серьезная личность.
«Тюфяк» — называла его подруга Марты Аникьевны, скептически настроенная к их увлечению собаководством. «Байбак!» — умилялся Виктор Андреевич, снимая щенка с весов: пятинедельный, тот тянул четыре килограмма с лишком.
В два месяца щенку купировали, то есть подрезали, уши и хвост. Отросли, длиннее сделались лапы. Как-то враз преобразившись внешне, он начал заметно меняться и в другом. Сделался живее, шумнее. Появилось упрямство. Лезет; скажешь: «Отстань!» — он будет стоять и смотреть, всем своим видом выражая: «А я хочу поласкаться, поиграть!…» В конце концов махнешь рукой и сделаешь по его. Поставит на своем.
Появилось этакое озорство, что ли. Сидит против вас, смотрит, не мигая; вдруг что-то не понравилось — метнется, как кобра, изгрызет, исслюнявит руки. Просто напасть какая-то!
— Он еще маленький, глупенький, он еще осознает, — успокаивала мужа добрая Марта Аникьевна.
И вправду: после четырех месяцев «осознал».
Уже в этом возрасте у него появилась тенденция хватать за запястье, хотя его никто не учил этому. Сказывался «фон Клаугдорф»: все его предки были полицейскими собаками.
Его «важное происхождение» вскоре напомнило о себе и по-другому… Звонок — почта. Виктор Андреевич растерянно вертел в руках извещение, врученное под расписку…
— Ты знаешь, Марта, нас вызывают в секцию…
— В какую еще там секцию? Я никаких секций не знаю.
— В секцию боксеристов. Требуют показать Битт-Боя…
Оказалось, цирковая дрессировщица — бывшая хозяйка Битт-Боя — позаботилась, дала куда следует сведения о всех щенках, и там уже взяли их на учет.
Раз вызывают — надо идти.
Виктор Андреевич нацепил галстук-бабочку, облачился в чесучовый старомодный пиджак, который всегда надевал в торжественных случаях, взял шляпу, трость, Битт-Боя на поводок и отправился.
Поверите ли, ничего подобного он не представлял себе прежде!
Публика в секции была самая пестрая, подходили новые посетители — пионеры, домохозяйки, солидные мужчины, но тон задавали три дамы-боксеристки. Одна, пожилая, председательствовала; другая, помоложе, видимо, была ее помощницей; третья вела запись. К ним приводили щенят и взрослых боксеров. Они их требовательно осматривали, измеряли рост, пропорции тела, глядели в зубы.
— Клык окрайка клык! — провозглашала специалистка по зубам, заглянув в пасть очередному подопечному, после чего тот, облизнувшись, принимался учащенно дышать, дергая языком и оглядываясь на своего владельца, точно спрашивая: «Для чего это делается?» Секретарша в это время что-то помечала в тетради.
— Прикус на пределе!
— Клык окрайка клык! Просто заклинание какое-то!
— Вы чем кормите свою собаку?
— Как чем? Что сам ем, то и даю.
Дамы переглянулись. «Какой ужас!» — читалось в их взглядах.
— Вы даете глицерофосфат?
Виктор Андреевич растерянно пожал плечами.
— А как вы его везли сюда?
— На трамвае…
— Как можно боксу на трамвае? У него будет пневмония! — с возмущением авторитетно заявила одна из заседавших.
Виктор Андреевич смущенно притих и смотрел, слушал, широко раскрыв от удивления глаза. Пневмония, глицерофосфат…
Боксеристы — какие-то тронутые люди. Возятся со своими боксерами, как с детьми; на щенках подгузнички, как на малых ребятах. Считают, что лучше их собак нет на свете, все остальные породы — ничто, плебеи, мразь. И все — на полном серьезе.
Смешной народ! Они могли часами обсуждать малейшие изменения в поведении своих любимцев, линии их кровей до двадцать пятого колена включительно, наперечет знали всех этих фон дер Клаугдорфов, фон Эйгельштейнов, Венус фон Фогельсбергов, Шерри фон Таубенсхойльдов… Тьфу ты, язык сломаешь!
Виктор Андреевич, почувствовавший себя вначале полнейшим невеждой в этой компании, постепенно успокоился, убедившись, что тут, видимо, было так заведено — о животных говорить, как о людях…
Впрочем, мало кто обращал внимание на странности боксеристок; важнее было то, что здесь действительно до тонкостей разбирались в боксерах; а ведь каждое занятие требует углубленных знаний. И за всеми чудачествами, в общем-то, скрывалось много дельного.
Получив тысячу наставлений, предупреждений, замечаний, Виктор Андреевич ушел домой взопревший. Крепко-накрепко запомнил: вторник — «боксериный день». Каждый вторник — пожалуйте сюда за советом, помощью, кому что требуется.
— Не забудьте, что собаку надо дрессировать! — напутствовали его на прощание.
Право, ну кто мог думать, что с этим Битт-Боем будет столько возни! Ведь образина. Морда четырехугольная, лицевые кости дегенеративно укорочены, головастый, всегда сопит (все боксеры сопуны, опять же из-за деформированной носовой полости). Недаром мальчишки на улице бегут следом: «У, бульдожка, бульдожка!» Пальцем нос вдавят и показывают — дразнят. А мил, мил, уже прилип к сердцу.
— У него мертвая схватка, — важно объясняет кто-нибудь из добровольной шумной свиты.
— Не схватка, а хватка, — поправляет Виктор Андреевич.
— Я знаю, — кричит другой, — у него смертельный укус!
Навьюченный до последней степени, Виктор Андреевич шествует на площадку — учить Битт-Боя. В инструкции сказано: нужно иметь поводок двухметровый, поводок десятиметровый, ошейник простой и ошейник строгий, намордник петельный, намордник глухой и так далее и тому подобное. Все это Виктор Андреевич напялил на себя и на собаку. Побрякивающую цепь обмотал вокруг пояса. Невысокий, сухонький, с этими атрибутами завзятого собаковода он представляет довольно-таки комичное зрелище. Устал невозможно. А еще надо заниматься.
Занятия. Инструктор командует «направо» — Виктор Андреевич неловко поворачивается налево.
— Направо! — повторяет инструктор. — Ах, направо? Пожалуйста…
— Что вы к каждому слову прибавляете «пожалуйста»?
— Простите, простите. Пожалуйста, не буду… Инструктор молодой, недавно демобилизованный из армии, для него все эти приемы — азбука.
— Кру-угом!
— Одну минуточку… — Потоптавшись, Виктор Андреевич делает поворот через правое плечо, один из всей шеренги и позже всех. — Ах, кажется, не так!… — И он раскручивается в обратную сторону.
— Простите, пожалуйста…
На лице инструктора мученическое выражение. «И для чего только создали этих интеллигентов!» — готов он произнести вслух.
Зато куда успешнее проходит то же самое у Битт-Боя. Правда, ему также приходится повторять одно и то же по нескольку раз; однако если уж он что запомнил — то запомнил.
Но — озорной, беда!
Он отлично пользовался слабостями хозяина. Идут в строю, внезапно Битт-Бой передними лапами охватывает ноги Виктора Андреевича. Бедняга валится наземь. После, поднимаясь, бормочет:
— Извините, пожалуйста, мы сейчас…
Или — подпрыгнет и ударит всеми четырьмя лапами в грудь. Конечно, Виктор Андреевич опять с ног долой. Надо бы взгреть Битт-Боя за эти штучки как следует, а у Виктора Андреевича не поднимается рука. За всю жизнь не причинил никому ни одной неприятности.
Иногда Битт-Бой идет рядом без поводка; выражение умнейшее, образец повиновения и добропорядочности.
И вдруг — прыг в сторону, на морде восторг: «Поймай меня!» Взбрыкнет как раз тогда, когда не ждешь. Типично боксерское.
Впрочем, учеба не прошла бесследно и для Виктора Андреевича. Тоже усвоил кое-что. Например, ведет бокса. Плут увидел впереди столбик; в глазах мгновенно пронеслось: рвануть туда! А Виктор Андреевич уже начеку, строгий взгляд на воспитанника. И тот сразу обмяк, языком зашлепал, пытаясь виновато лизнуть руку: извини, мол!
Никто ничего не заметил, а эти двое поговорили между собой.
Постепенно открывались все новые черты характера боксера. Повадился лазать под забор, на территорию соседней дачи. А там хозяева — садоводы, розы прикопаны. Пес мял, ломал. Посыпались жалобы.
— Вы его вытяните чем-нибудь, когда увидите. Только не сильно, — скрепя сердце, дал разрешение Виктор Андреевич.
Соседка «вытянула» однажды пса метлой по спине. После этого он перестал ходить туда, но и соседку запомнил навсегда. Как услышит ее голос — рычит, беснуется.
Раз во дворе поднялся сильный шум, крик. Оказалось, соседка зачем-то сунулась в калитку (думала, Битт-Бой на прогулке), а он молчком хвать ее за руку. Уцепился и держит. Кое-как заставили отпустить. Разжимать пришлось.
Вот уж истинно: памятлив и злопамятен.
Правду сказать, особа неприятная, вечная скандалистка. Оскорблений, брани было потом — кое-как урегулировали конфликт. Зато и она с тех пор больше не совалась к боксеру.
Самолюбив — необычайно. Ударишь по морде — обязательно огрызнется. Шлепнешь по заду — воспринимает, как наказание.
Взял манеру: надоест заниматься — набросится на хозяина, зубами делает перехваты на плече, правда не сильно, так, чтобы не прокусить, но — ощутимо. Скажут ему: «Ну, хватит, пошли домой» — тотчас отпустит и направится с площадки.
Уравновешен. Выдержка великолепная. И в то же время — темперамент, впору хоть доберман-пинчеру.
Возьмется драться — ну, держись! Противника сшибает плечом, грудью и лапами. При прыжке на человека тоже бьет одновременно всеми четырьмя лапами, как при прыжке на барьер. Брык — и готово: сбить кого-либо с ног ничего не стоит. Как-то сбил ради озорства случайную «тетю» (правда, «тетя» была легкая, сухонькая). Сбил парня-футболиста. Не устоит даже сильный мужчина.
Прыгуч — поразительно. Барьер в два метра — пустяк, семечки. Как-то положили лакомство на дерево, на высоте двух с половиной метров над землей. Пес преспокойненько вспрыгнул, съел и так же расчетливо-неторопливо соскочил обратно.
— Этого вашего брыкуна никакая загородка не удержит, — говорила немолодая дворничиха, соседка с другой стороны. — Давеча мету улицу, а ему, видите ли, метлой захотелось поиграть. Через забор шасть и уцепился… Я к себе тяну, он — к себе… Насилу отбила! Поиграл — и домой, опять через забор. Ему что? Брык — сюда, брык — туда. Как в цирке! Брык-брык…
Брык-Брык… забавно! А может, Брыки-Брыки? Звучит неплохо.
А какая прелесть — дома. Сама непосредственность! Дали ему студень. А он принес и шлеп хозяйке на колени. Испортил Марте Аникьевне новое платье. Но разве можно наказывать его за это: лучший порыв души, поделился лакомством!
Марта Аникьевна стала ему укоризненно выговаривать за это, а он… Да вы же еще не знаете, на что способен боксер!
Ученые мужи утверждают, что тут дело тоже в укороченных челюстных костях. Так или не так, судить трудно, но факт остается фактом (все, кто держал боксеров, подтверждают это), что боксер способен выговаривать некоторые слова. Да, да! Или хотя бы по крайней мере одно. И это слово он произнес в тот вечер, когда провинился перед Мартой Аникьевной.
Вытряхнув студень из подола в чашку пса, она что-то говорила ему, а он, по интонации ее голоса поняв, что проштрафился, заюлил, зашлепал языком и вдруг из его пасти совершенно явственно прозвучало: «Мам-ма!».
Вначале Марта Аникьевна подумала, что ослышалась, что постоянная тоска по сыну привела к тому, что она случайное сочетание звуков приняла за нечто членораздельное, но когда Битт-Бой повторил это еще раз, а потом еще, она схватилась за сердце и в полной растерянности опустилась на стул. Пес обрадованно подскочил к ней…
— А я как села на стул, — рассказывала потом Марта Аникьевна, — так подняться мне никаких сил. Собака, и вдруг говорит «мама»… Может, показалось, уж и не знаю… Да о том ли речь! Сынок стоит перед глазами. Голос его слышу: «Мама, мама, мама…» С тех пор, как погиб, никто не называл меня так. Чуть рассудка не лишилась…
Позднее она узнала, что многие боксеристы специально учат своих четвероногих любимцев выговаривать это слово.
«Интеллектуальный пес», — сказала про него подруга Марты Аникьевны, не менее ее потрясенная его способностями.
Вот когда он по-настоящему вошел в сердце. Отныне и навсегда в нем стало нравиться все. И то, что он такой лизуха и слюнявка. И что отхрапывает по ночам на всю квартиру. Как-то зашла знакомая вечерком, сидели-беседовали, внезапно она прислушалась и спросила:
— Кто это у вас храпит?
Храпел, надо сказать, как пьяный мужик.
— Гришка…
— Гришка?!.
— Ну… Брыки-Брыки. Битт-Бой…
Гришка, Брыки-Брыки, Битт-Бой… Спутаешься тут!
Но, право, ему и Гришка, пожалуй, идет: такой сорванец… именно — Гришка! И как-то еще ближе, проще, по-нашему.
А сколько изящества во всех движениях! Упруг, мускулист, идет — как танцует. Порода — во всех повадках.
Правда, с его «мам-ма» не обошлось и без курьезов.
Виктор Андреевич ночь не спал, ворочался: завтра собачка сдает экзамен — предстояли испытания по дрессировке. Наутро бокса поставили на охрану. Ему командуют: «Фасс!», а он пошлепал языком — и вдруг: «Мам-ма!…»
Однако прошло немного времени — и Брыки-Брыки так работал на окарауливании, как будто старый сторожевой пес.
Конечно, он только собака… И все же порой нельзя без какой-то душевной неловкости смотреть ему прямо в глаза. Кажется, что в них присутствует мысль, есть что-то от человека. Недаром все знающие эту породу утверждают, что ни одна собака, ни одно животное вообще не очеловечиваются так, как боксер. Эта короткомордость, делающая его похожим на обезьяну, и взгляд, как бы желающий что-то сообщить вам… Право, они заставляли задуматься даже менее наблюдательного человека. Только подержав боксера, понимаешь, почему случайное уродство (ведь когда-то собаки с укороченной челюстью и курносой мордой были случайным явлением, отклонением от правил) люди сделали породой, прихоть природы возвели в достоинство.
Выяснилось, например, что ему нравится автомобиль, любит кататься. Но не в том суть. Интересно вот что: во время езды смотрит в ветровое стекло и, если что-то проехали, сейчас же оборачивается, чтобы бросить взгляд через заднее окно, — знает, что может увидеть там. Стало быть — тоже зачатки каких-то разумных действий?
Рафинирование породы достигло в боксере, пожалуй, наивысшего совершенства, работа селекционера здесь наиболее ярко выражена.
Именно все это и делает боксеристов фанатиками, теряющими подчас чувство меры и юмора (правда, заметим попутно, без фанатизма, одержимости, пожалуй, не создашь ничего достойного внимания и удивления!). Отсюда рождается и какое-то особое отношение, почтение, что ли, к боксеру. И когда однажды в секции Виктора Андреевича спросили, доволен ли он питомцем, Виктор Андреевич помолчал и ответил:
— Было бы лучше, если бы он был меньше человеком и больше собакой…
Да, взял за сердце, взял.
На удивительном четвероногом, ставшем поистине членом семьи двух престарелых пенсионеров, сосредоточилась теперь вся их привязанность, которую они прежде дарили сыну. Все-таки живое существо, которое может приласкаться, ответить теплом на тепло. И даже если бы он не совершил то, что совершил, все равно он дороже дорогого, с ним они не расстались бы ни за что.
До этого жили, в общем, довольно уединенно; теперь стали чаще выходить из дому, встречаться с людьми. Но без собаки — никуда.
И когда поехали на отдых по путевке, тоже взяли Брыки-Брыки с собой.
Брыки-Брыки (будем называть его так, ибо это больше всего подходит к нему) на лоне природы раскрылся еще полнее.
Оказалось — умеет нырять. Может нырнуть за костью, за камнем. За лодкой плывет хоть пять километров, «стилем кроль». Выставит нос, сопит, отдувается и плывет, энергично работая лапами.
Там, на лоне природы, поджидали и самые серьезные испытания…
Раз повстречались с лосем. Он зашел на территорию Дома отдыха. Марта Аникьевна и Виктор Андреевич зовут питомца — не идет. Глядь, а лось и собака кружатся на лужайке. Красавец сохатый — громадный, рога тяжелые! — старался либо боднуть, либо ударить передними ногами и все поворачивался корпусом к Брыки-Брыки, а тот с упрямством и сноровкой, достойными его породы, пригнув голову и отвесив брыли, сопя, старался зайти сзади, чтоб вспрыгнуть противнику на загривок.
Смел, смел. Настоящий бойцовый пес. Дает себя знать кровь булленбейцеров, применявшихся в старину в Германии и некоторых других странах для травли быка. И ухватки те же.
Их разогнали. Лось, оглядываясь и не очень пугаясь присутствия людей, неторопливой отмашью пустился к лесу. А пес еще долго сердито сопел и пыхтел, порываясь преследовать.
Хуже вышло знакомство с коровами. В стаде оказался бык. Он первый заметил собаку и, видимо приняв за волка, пошел на нее. Брыки-Брыки лучше бы отступить. Он — тоже в бой. Отваги — через край. Сам напал на быка (опять сказались предки-быкодавы!). Коровы со всех сторон зажали бокса. Виктор Андреевич, свидетель этой сцены, перепугался: пропал пес! Но Брыки-Брыки своим обычным приемом вспрыгнул на спину одной рогатой противницы, потом — другой, да так, по спинам, невредимый, и вырвался из кольца.
А вскоре произошла и та, роковая встреча, памятная на всю жизнь…
День был чудесный. Солнце грело, от земли исходил одуряющий аромат, бабочки перепархивали с цветка на цветок. Незаметно Виктор Андреевич и Марта Аникьевна забрели в глубь леса. Брыки-Брыки по обыкновению бежал впереди, принюхиваясь к встречным предметам, порой почти скрываясь в гущине трав.
Марта Аникьевна отстала, собирая ромашки. Виктор Андреевич увидел подберезовик, нагнулся, чтоб его сломить, и в тот же миг что-то тяжелое, мохнатое совершенно бесшумно внезапно обрушилось на него, свалив, подмяв под себя.
Это была рысь. Затаившись на суку, она уже давно следила за жертвой, выжидая, когда та приблизится на доступное для прыжка расстояние. Виктор Андреевич не успел ни закричать, ни защититься. Он чувствовал лишь, как зверь терзает, давит его всей тяжестью. Острые когти расцарапали лицо, проникли под одежду[24].
Но это продолжалось, быть может, лишь секунду-две, а может, и какие-то доли секунды — время перестало существовать. Раздалось яростное рычание, рысь зашипела, как шипят в драке все кошки, но только во много раз сильнее, и оставила Виктора Андреевича, атакованная Брыки-Брыки.
Собака и зверь сплелись в один клубок. Если рысь старалась как можно больше шуметь, чтоб испугать противника, подбодряя тем себя, то боксер действовал совершенно безмолвно. Вот когда в полной мере проявилась его знаменитая хватка, которую, очевидно, не случайно назвали мертвой и которая напоминала о себе еще тогда, когда он держал соседку за руку. Сейчас Брыки-Брыки впился в шею рыси. Она таскала его за собой, старалась сбросить, но он висел на ней, как капкан. Если бы даже хотел, он все равно не смог бы разжать сейчас челюсти. Но, конечна, не инстинктивная привычка к крепкой хватке, свойственная короткомордым собакам, а извечная преданность человеку привела его в такое состояние. Человек взрастил собаку — теперь она боролась за человека.
Виктор Андреевич поднялся. Лицо его было залито кровью, рубашка порвана, ноги подламывались. Он хотел кого-нибудь крикнуть, позвать на помощь хотя бы Марту Аникьевну, но голос пропал. Страх, необоримый, подлый страх охватил его, сжал тисками грудь. Бежать, спасаться! Успеть отвести от себя гибель, пока доблестный Брыки-Брыки мужественно сражается с врагом. И, шатаясь из стороны в сторону, как пьяный, хватаясь за кусты и ветви деревьев, чтобы не упасть, Виктор Андреевич поспешил прочь от этого места… Скорей, скорей, пока рысь снова не набросится на него!
Недаром он всегда считался сугубо штатским человеком; даже на мирных занятиях в строю не умел повернуться как нужно, в жизни не обидел и мухи. А тут такая передряга… И более храбрый мог растеряться и спасовать.
Он остановился, услышав испуганный возглас жены:
— Что с тобой?! В каком ты виде! Что там за шум? Побледневшая Марта Аникьевна бросилась к мужу и замерла, с полуслова поняв, что произошло.
— Пойдем скорее… — сказал Виктор Андреевич.
— А как же он?
— Он все равно погиб… Слышишь, он даже не лает…
— Нет, нет, мы не имеем права его бросать! Как ты можешь так говорить? Мы должны что-то сделать для него…
Виктор Андреевич обрел, наконец, мужество. Близость Марты Аникьевны немного успокоила его. Но он еще медлил, не зная, что предпринять, напряженно прислушиваясь.
Шум схватки прекратился. Стало тихо. И вдруг они услышали жалобное повизгивание. Израненный, полуослепший, Брыки-Брыки — их любимый Брыки-Брыки, говоривший «мам-ма», Брыки-Брыки, приносящий счастье, — полз на животе. Он полз, оставляя за собой кровавую полосу. Задние лапы волочились, он полз лишь на передних. Он одержал победу, придушил рысь, но какой ценой!…
Старики кинулись к нему. Трясущимися руками Виктор Андреевич стал ощупывать израненное животное.
— Как мы его понесем?…
— Сними макинтош…
Расстелив макинтош, они положили на него Брыки-Брыки, а он еще благодарно лизнул их; затем, взявшись с двух сторон за концы, осторожно приподняли и понесли.
Но он был тяжелый, а они от всего пережитого совсем лишились сил. Тогда они опустили ношу на землю и потащили волоком, один — за один конец подстилки, другая — за другой, стараясь выбирать дорогу поровнее, а Брыки-Брыки, все еще тихонько поскуливая и вздрагивая, как в ознобе, постепенно затихал…
ПОСЛЕ ШТОРМА
— Будет шторм! Такими словами встретили нас знакомые на пляже. Мы с Александром Павловичем отдыхали на Южном побережье Крыма.
Действительно, на флагштоке, где обычно болтался указатель погоды, вывесили предупредительный сигнал. На берегу валялось множество медуз, выброшенных морем. Красивые и почти прозрачные в воде, похожие на ритмично пульсирующий колокол, на суше они выглядели совсем иными. Умирая, они синели и превращались в бесформенные комки слизи. Медузы выплывают, говорят, тоже к шторму.
Сентябрь на Черноморье красочен и великолепен. Щедроты юга — они и в ласке жаркого солнца, точно не желающего признавать, что впереди зима, и в неге словно вздыхающего украдкой моря, и в яркой пестроте, в ароматах, в многолюдье фруктового базара. Направляясь на пляж, мы обязательно заглядывали туда. Помимо чисто практической цели — захватить с собой фруктов (чтоб хватило на весь день лежания на песке!), это — и эстетическое зрелище. Кто из отдыхающих не любовался им!
Право! Вспомните: спелые персики так и манят румянцем своих пушистых щек; раскусишь — и словно мед источает их нежная мякоть; будто изморозь покрыла гроздья иссиня-черного винограда с терпким запахом и вкусом и благозвучным названием «изабелла»; аккуратными пирамидками разложены яблоки всех сортов, гранаты, груши… Говор покупателей, зазывные выкрики продавцов… Тут же пьют мацони — кислое молоко; тут же пробуют из бочек хванчкару — отличное привозное грузинское вино, за которым знатоки специально ездят в Батуми, не уступающее знаменитым разливам Массандры; тут же щелкают орехи… Все это своеобразно свое, южное!
Вот там, на базаре, мы и встретили Мишку, сеттера-полукровку с мягкими обвислыми ушами и добрым, грустным взглядом умных карих глаз. Он шатался там в поисках пищи — объедков бутербродов, головок копченой ставриды и кефали. Добрые торговцы мясом подкидывали ему и вырубленную косточку и мясную крошку.
Мишка не имел хозяина и жил подаянием да тем, что удавалось промыслить самому. Нам говорили, что на заре он обходит все веранды своего района, обшариваег ведра с отбросами — тем и существует. Удивительно, что его не забирали ловцы бродячих уличных животных. То ли он пользовался их снисходительным покровительством (хотя снисхождения от этих людей вряд ли можно ждать собаке!), то ли за долгий срок своей безнадзорной, бездомной жизни научился избегать опасности, по каким-то лишь ему ведомым признакам заранее определяя ее приближение.
Мы с Александром Павловичем, конечно, не могли пройти мимо него, не угостив кусочком лакомства. И с этого дня, встретив на базаре, он каждое утро провожал нас до пляжа.
О прошлом собаки нам рассказал потертый ошейник, сохранившийся на ее шее. Когда кто-то из нас повернул его, на нем оказалась ржавая жестяная бляшка. С трудом можно было разобрать: МРС — и номер. Вот эти три буквы — МРС — и сказали все.
МРС — миннорозыскная служба. Мишка был минером, ветераном войны. Как он попал сюда? А как многие собаки, прошедшие со своими вожатыми боевой путь по фронтам, вернулись после окончания войны в глубокий тыл? Когда началась демобилизация, она коснулась не только людей, но и животных.
Но, увы, кое-кто из этих собак попал в случайные руки, кое-кто по истечении какого-то времени оказался вообще без хозяев. Фортуна изменчива!
Вероятно, к числу таких неудачников относился и Мишка. Он напоминал мне собак, которых я наблюдал в южных и западных районах страны вскоре после освобождения их от неприятельских войск. К приходу очередного пассажирского поезда эти собаки — крупные кавказские, южнорусские овчарки и их помеси — выстраивались вдоль перрона и умоляющими, голодными глазами смотрели на окна вагонов. Проезжающие бросали им куски хлеба, проводники выносили разные остатки. Эти четвероногие нищие были живым свидетельством бедствий войны. Таким же живым напоминанием о войне был и Мишка.
Он дошел с нами до ворот пляжа и, получив, как всегда, вознаграждение, еще долго провожал нас глазами. Мы уже спустились по лестнице вниз, а Мишка, опустив голову и хвост, точно в глубокой задумчивости, все еще стоял и смотрел нам вслед. Потом, когда укладываясь на лежаке, я бросил взгляд вверх, его уже не было видно. На пляж он не заходил — запрещалось, и он знал это.
Появление Мишки вызывало каждый раз прилив воспоминаний у Александра Павловича.
Минувшая фронтовая жизнь вставала перед глазами. Разве может забыться то время, когда Александр Павлович тоже был минером, точнее, командиром специального подразделения МРС… впрочем, вы уже должны знать об этом! Именно в эти часы, лежа под палящими лучами полуденного крымского солнца, закрывшись газетой, чтоб не напекло голову, я и услышал впервые о том, как овчарка Нерка нашла мину на землянке командующего армией Западного фронта, как был разминирован в срочном порядке с помощью собак аэродром под Воронежем, как поражались саперы, когда собаки проверяли их и обязательно находили что-нибудь упущенное ими…
— А что было на Карельском перешейке, когда финны сдавали нам свои укрепления и минные поля! — с увлечением вспоминал Александр Павлович. — Они предъявили свои схемы расположения минных полей, а мы — свои, и наши как будто были точной копией их схем… Сколько они своих людей потеряли, разминируя то, что закладывали сами. А мы с собаками, без единой жертвы, прощупали все в несколько раз быстрее… Вот вам и Шарики да Бобики! Рекордсмен Дик, родом из Ленинграда, отыскал двенадцать тысяч мин. Сколько их на счету у Мишки? Кто скажет…
— Будет шторм, — повторил наш сосед, тучный бритоголовый мужчина с облупленной спиной и наклейкой из бумаги на носу, поглядывая на белые завитки барашков, появившиеся на гребнях волн. Зеркальной гладкости воды уже как не бывало; море с каждой минутой становилось шумнее, все дальше и дальше оплескивая побережье. Оно накатывало с шипением и бульканьем, потом, как бы угасая, убегало назад и снова устремлялось вперед, на штурм суши…
— Ну что ж, шторм так шторм, — философски отозвался Александр Павлович. — Быть у моря и не видеть шторма… я считаю, что тогда не стоило и приезжать сюда!
Шторм бушевал всю ночь. Перед сном мы с Мазориным прошлись по набережной. В море не виднелось ни одного огонька. Воздух был насыщен йодистыми испарениями. Лицо, руки, одежда скоро становились влажными, на губах был привкус соли.
Следующий день был сырым, туманным, и мы не пошли на пляж. Бездельничали дома: я — на постели, с книжкой в руках, Александр Павлович писал письма, потом тоже взялся за чтение. В обычное время не успеваешь проглядывать всего и потому, когда представится возможность, с жадностью накидываешься на журналы, книги.
Наступившее новое утро не принесло изменений. В это время года у Крымского побережья еще не бывает затяжных штормов, длительного ненастья, но все же могут выдаться два-три тусклых дня.
Мы подождали часов до двенадцати, а потом не удержались и надумали вылезти из своей берлоги.
Куда? Ну куда же еще, как не к морю! Ноги сами несут к нему.
С деревьев капало; влага, казалось, проникала во все поры тела. Пляж был пустынен, хотя море уже начинало успокаиваться. Лишь редкие парочки бродили в отдалении.
Мы решили спуститься к воде. Ворота были приоткрыты, дежурная — поскольку купанье еще не возобновилось — отсутствовала. Вместо нее нас ожидал у входа… Мишка!
Где он скрывался, когда не был занят поисками пропитания, в какой норе отлеживался после беготни по городу?
Очевидно, не встретившись с нами в обычный час на базаре, он отправился искать нас здесь.
— Что, соскучился? — ласково потрепал его Александр Павлович. — Ах ты, рыжий!…
Он обернулся вопросительно ко мне:
— Возьмем его с собой? Сегодня никого нет, можно… И Мишка как будто понимал, что раз пляж пуст — можно последовать за нами: не заставил себя просить. Он явно был счастлив находиться около нас. Никто не гонит, не обижает — это ли не высшая радость для бродячей собаки!
Я плохой пловец. Но Александр Павлович — совсем мне не ровня. Он не удержался от искушения и, благо надзор отсутствовал, все-таки, как он выражался, окунулся разок. Я, пока Мазорин купался, сидел около его одежды, а Мишка бродил по отмели, разнюхивая в песке крохотных моллюсков и рачков. Привычка к отыскиванию пищи говорила в нем, по-видимому, даже здесь.
— Александр Павлович!… Товарищ гвардии майор!… — донеслось вдруг сверху, когда Мазорин, отряхнувшись, как утка, заканчивал одеваться.
Протягивая руки к Мазорину, к нам спешил какой-то незнакомый мне мужчина средних лет.
— Александр Павлович!
— Жарков?!
— Он самый…
Они крепко, по-мужски, обнялись и расцеловались.
— Однополчанин, — представил мне его Александр Павлович. — Вместе воевали…
— Жарков, Семен Петрович, — отрекомендовался тот, козыряя по-военному. — Находился под командой товарища гвардии майора…
— Подполковника, — поправил Александр Павлович. — Времени-то сколько прошло? Можно прибавить звездочку…
— …виноват, подполковника! По гражданской одежде не видно, сам не догадался!
— Как здесь оказался?
— Как и вы: приехал отдыхать!
— Бывший вожатый, старшина взвода, — пояснил мне Мазорин.
— Сколько мы с Александром Павловичем солдатских щей из одного котла выхлебали!…
— А сколько обучили собак? Нашли мин? Не сосчитать!
— Точно: что верно, то верно… А это что, ваша? — показал Жарков на Мишку, который, словно заинтересовавшись этим обменом дружескими восклицаниями, подошел и прислушивался к разговору, предварительно обнюхав бывшего старшину.
— Да вот, приблудился к нам… Хозяина нет…
— Видать, смирен?
Жесткой рабочей рукой Жарков провел по голове собаки, похлопал по боку. Пес несмело вильнул хвостом.
— Будешь смирным, когда заступиться некому… Мы пошли к выходу с пляжа, продолжая говорить про Мишку.
— Взять себе не могу: два кобеля — будут драться, — сказал Александр Павлович, как бы оправдываясь перед сеттером.
Он уже не первый раз заговаривал о том, чтобы как-то пристроить Мишку. Жалко: заслуженный пес — а не при месте! Взял бы сам, но после Альфа, своей предыдущей собаки, привезенной с фронта и околевшей от старости, Мазорин уже успел вырастить нового пса — Фая… Два самца — действительно станут грызться. Я уверен, что, если бы не это обстоятельство, Мишка давно уже был бы подобран Мазориным и получил права гражданства в его доме!
Точно в таком же положении находился и я: у меня дома тоже была овчарка и тоже мужского пола.
— А где он? — хватился Александр Павлович.
За разговором мы не заметили, как Мишка отстал.
— Да вон он…
— Что он там застрял?
— Видали — расселся?!
Мишка и в самом деле эдак основательно, как отдыхающий курортник, в полном одиночестве сидел недалеко от того места, где недавно были мы с Мазориным.
— Должно быть, не налюбовался морем! — пошутил я.
— Мишка! Мишка!
Мишка оглянулся, виновато-просительно (как бы говоря: «Не могу я…») подергал хвостом и продолжал сидеть, как пень.
— Пошли, догонит…
Мы поднялись по ступеням и с балюстрады, окаймлявшей с этой стороны приморский парк, выходивший к пляжу, снова оглянулись на Мишку.
— Сидит! Что он там — присох?
— Слушайте, это неспроста! — вдруг сказал Александр Павлович. Он стал серьезен, брови хмурились. — Пошли назад…
Мы вернулись к спуску с лестницы.
— Все сидит… — пробормотал Александр Павлович, не отрывая взгляда от собаки. — Что бы это значило?
Внезапно выражение лица, его изменилось.
— Мина!!! Понял!!! Ах ты, мой дорогой!… Он же бывший минер, эмэрэс! И как я сразу не сообразил!?
Мина? Мы оцепенели при этом слове, коротком и страшном по своему значению, как выстрел в упор.
Да полно, не ошибается ли Александр Павлович? Откуда здесь быть мине? Война окончилась уже сколько лет назад… Но тут же зловещий смысл сделанного открытия вдруг встал перед каждым из нас.
Войны формально нет давно, это верно; но сколько еще после ее окончания пришлось потрудиться минерам, отыскивая распиханные там и сям вражеские взрывающиеся ловушки? Ведь Крым был оккупирован немцами. Отступая, они везде, где успевали, расставляли их. Только стремительное наступление наших войск спасло от разрушения и гибели великолепные дворцы-здравницы Южного побережья, его бесценные сокровища зодчества и ваяния. Потом наши саперы прощупали каждый метр советской земли, они очищали от мин и побережье, и парки, и пляжи… но вероятность какого-то пропуска, пусть самого ничтожного, остается…
— Мишка! Дорогой! Неужели ты…
Мишка ответил нам легким повизгиванием, не сходя, однако, с места, точно прикованный к нему. Мы были уже около собаки.
— Что будем делать? — спросил Александр Павлович.
— Надо поставить в известность администрацию парка и пляжа, — сказал я.
— Вы оставайтесь здесь, — предложил Александр Павлович, — и ни шагу в сторону! А я побегу, сообщу… Да смотрите, чтобы никто сюда ни ногой!
Предупреждение было совсем не напрасно. На балюстраде уже появились любопытные, вероятно заинтересовавшись, что это мы колдуем около собаки. Кое-кто направился к нам. И погода быстро разъяснивалась — вот-вот нахлынут купальщики.
— Подождите, Александр Павлович, — потирая лоб, проговорил Жарков. — Я, думаю, еще не дисквалифицировался, учить меня этому делу не требуется. Сколько я их добыл за четыре года… — И он стал засучивать рукава рубашки.
Александр Павлович не возражал.
— Помню, помню, — только проговорил он.
— Отойдите на всякий случай, — предупредил Жарков.
Мы закрыли ворота пляжа. Я получил задание караулить там; Мазорин, презирая опасность, остался около бывшего старшины. Рисковать, так всем! Кроме того, могла понадобиться его помощь.
Жарков распластался на песке, как рыба, и перочинным ножом стал осторожно подкапывать около ног Мишки, Секунды текли как годы. Казалось, это ожидание не кончится никогда…
— Есть? — спросил Мазорин.
— Есть, товарищ гвардии подполковник.
Они сами не заметили, как перешли на военный язык, лаконичный и четкий, со свойственными ему мужественными интонациями. Можно было подумать, что вернулось время, когда на обоих была армейская походная форма и погоны на плечах.
Протекло еще несколько бесконечно тягостных минут ожидания — и вот на песок легла круглая, как коробка из-под киноленты, обросшая ржавчиной, мина. Жарков разрядил ее, и она уже не представляла больше опасности.
Мишка вскочил и, кажется, был готов выполнять все, что ему прикажут. И для него вернулась его прежняя жизнь.
— Одна? А может, есть еще?
— Надо проверить…
— Мишка! Мины! Ищи!
И Мишка, ведя за собой старшину, проделал на пляже поиск по всем правилам минорозыскного искусства. Было поразительно наблюдать, как преобразился сеттер. От унылости, вялости, какой-то пришибленности не осталось и следа!
Больше не нашли. Мина была одна. Очевидно, какой-нибудь фриц, убегая, ткнул ее в песок. Потом ее замыло волнами, вот она и лежала столько лет. Взрыватель был поставлен так, что не срабатывал от тяжести одного человека. А может быть, она не взорвалась до сих пор потому, что была глубоко. Минувший шторм почти обнажил ее, но не настолько, чтобы ее могли заметить сразу. И стало быть… Кто-то — и, наверное, не один — был обязан Мишке жизнью.
— Я ведь тоже собирался здесь искупаться, — признался Жарков, когда все было кончено.
Он каким-то новым взглядом окинул Мишку, который, заглядывая нам в глаза, жался у наших ног, притянул его к себе и громко чмокнул в голову.
— Беру, — заявил он.
— Кого? Мишку? — словно усомнившись, не ослышался ли, спросил Мазорин с радостно сверкнувшими глазами.
— Кого же еще!
И, поверьте, этот момент был не менее волнующим, чем благополучное разоружение мины!
Не знаю, что думали в этот момент другие, но, вероятно, то же, что и я.
Все-таки удивительное существо собака! Бездомный, брошенный, Мишка продолжал служить людям…
За верную службу он и обрел снова и дом и хозяина!
ДОЧЬ МИРТЫ
1
Дизель-электроход «Россия» возвращался в Одессу из очередного рейса.
Ослепительно-белый от верхушек мачт до ватерлинии, щедро заливаемый лучами полуденного солнца, красавец-корабль (флагман советского торгового флота на Черном море) плыл по бирюзовой глади, отражаясь в ее зеркальной поверхности, легко и свободно рассекая острой грудью воду.
Море нежилось под горячим южным солнцем. Еще вчера оно было неспокойно. Громадные волны, как движущиеся горы, накатывали одна на другую, качали корабль, разбиваясь в пену о его высокие борта, захлестывали брызгами стекла иллюминаторов. Он то взбирался на высокий водяной холм, переливавшийся под ним, то вдруг словно проваливался между двух зыбких свинцово-серых стен, где среди водяной пыли вспыхивала и гасла радуга. Чайки кружились и кричали, и резкие голоса их смешивались с шумом разбушевавшейся стихии. А сегодня с утра все стихло, и будто и не было вчерашнего волнения — море заштилело, лениво плескалось за кормой.
Свободным и легким сделался полет наших крылатых спутников — чаек, этих беспокойных и хлопотливых жительниц моря, неотступно сопровождавших «Россию» почти с момента выхода ее из Батуми. Сейчас они уже не метались над волнами, не перекликались между собой, тревожимые налетевшей бурей, а беззвучно парили позади дизель-электрохода, неутомимые, с поджатыми к брюшку лапками, зорко поводя головками. Стаи дельфинов играли на просторе. Их черные, лоснящиеся, заостренные к хвосту тела, будто вытолкнутые из глубины неведомой силой, внезапно взлетали над гладью вод, делали в воздухе изящный пируэт и, точно веретено, мгновенно погружались, исчезая из глаз. В отдалении медленно проплывали берега. Легкий бриз[25] освежал лица пассажиров. Впереди, прямо по курсу, уже маячили в легкой дымке белые строения Одессы.
Был последний день апреля. Я сидел на верхней палубе, любовался раскрывающейся панорамой, не в силах оторваться от этого яркого синего неба и синей воды, сливавшихся на горизонте, и вдыхал полной грудью насыщенный запахами моря свежий ветер, когда с носа судна донесся выкрик вахтенного матроса:
— Человек за бортом!
Тот, кто бывал на море, знает, какое впечатление производят эти три слова. Человек за бортом — что это: один из немногих, спасшихся от гибели после кораблекрушения? жертва ли собственной неосторожности, купальщик, самонадеянно заплывший далеко и унесенный волнами в открытое море? а может быть, такой же, как вы и я, пассажир, упавший в бурную ночь за борт и оставшийся незамеченным?… Можно предполагать многое.
Именно такие предположения высказывали пассажиры, столпившись на борту и стараясь разглядеть едва заметную точку, черневшую в море. Опустели шезлонги; даже купальщики покинули бассейн, где нагретая солнцем вода доставляла несказанное удовольствие любителям плавания. «Россия» замедлила ход, перестав вздрагивать в ритм ударов ее железного сердца; стали спускать шлюпку.
К общему удивлению, шлюпка, не проплыв и половины расстояния, сделала плавный разворот и повернула назад, а черная точка на воде стала быстро удаляться, направляясь в сторону берега.
Вскоре всех облетело известие:
— Это не человек, а собака!
Собака в открытом море? Откуда она взялась там? И потом — коль скоро уж спустили шлюпку, то почему бы не спасти и собаку?
— А она не хочет! — объявил один из матросов, из числа плававших на шлюпке.
— Как не хочет? — поинтересовался я.
— А так. Мы к ней, а она — от нас! Поплыла к берегу.
— Что же она делает в воде?
— А кто ее знает… Купается!
Хорошенькое «купается» — в нескольких-то километрах от берега! Для меня это было что-то новое.
Морское путешествие, при всей его привлекательности, всегда несколько однообразно; поэтому неожиданное происшествие развлекло всех. Давно уже не осталось на воде и признака четвероногого пловца, а пассажиры все еще обсуждали, каким образом в море могла оказаться собака.
Но вот дома Одессы как-то сразу приблизились, отчетливо рисуясь на фоне зелени садов; уступами поднималась знаменитая одесская лестница, увековеченная в фильме «Броненосец Потемкин». Все ближе лес мачт, скопление пароходов в порту, наклоненные стрелы кранов. Где-то звонко начали отбивать склянки, и сейчас же, далеко разносясь по воде, со всех сторон откликнулись судовые колокола, отбивающие рынду[26]. «Россия» вошла в гавань и, дав задний ход, чтобы застопорить движение, стала швартоваться у стенки. Вода на большом протяжении, взвихренная могучими винтами, закипела, сбилась в пену, окрасилась мутью, поднятой со дна. Полетели на берег тонкие стальные тросы, вытягивая за собой толстенные пеньковые канаты-швартовы. На палубе началась суета, всегда предшествующая высадке пассажиров, заиграла музыка, с какой возвращающийся из дальнего плавания корабль обычно приваливает к причалу, какое-то необъяснимое волнение поднялось в душе. Собака была забыта.
2
На пляже Аркадии — одном из излюбленных мест отдыха одесситов — как везде на пляжах Одессы, было по обыкновению оживленно, людно. Ленивый плеск прибоя, яркий блеск солнца, отраженный водой, живописные группы отдыхающих под красно-белыми парусиновыми грибами, тихий шелест мимоз — все это создавало характерную картину южного взморья, где природа так щедро расточает свои дары человеку. Купальный сезон на Черноморском побережье еще не начался, однако небывало ранняя весна и чудная погода уже успели привлечь массу отдыхающих. Я медленно подвигался вдоль берега, высматривая для себя подходящее местечко, когда детский голосок, звонко скомандовавший: «Мирта, апорт!» — заставил меня остановиться и посмотреть в ту сторону, откуда донесся этот оклик.
У воды стояла девочка лет тринадцати-четырнадцати в купальном костюме и соломенной шляпке, тоненькая, изящная, от головы до пят покрытая ровным сильным загаром, будто отлитая из бронзы, и, подбирая у ног камешки, швыряла их в море, а там, то исчезая, то появляясь на поверхности, виднелась голова собаки. Когда очередной камешек, описав крутую траекторию, булькал в воду, собака мгновенно ныряла за ним и — как это ни было поразительно — успевала схватить его прежде, чем он достигал дна. Вынырнув, пес встряхивал головой, и камень вылетал из пасти. Девочка восторженно хлопала в ладоши, вознаграждая этим собаку за ее труд, затем снова приказывала: «Мирта, апорт!» — и бросала камешек, заставляя верное животное на две-три секунды вновь погрузиться с головой.
Эта игра заинтересовала меня. Я подошел поближе. Кучка любопытных окружала девочку, каждый раз встречая вынырнувшую собаку громкими возгласами одобрения; другие следили за необычным развлечением, растянувшись на песке. Мое внимание привлекла молодая женщина в легком шелковом платье с темно-пунцовыми цветами, сидевшая в глубоком плетеном кресле под тентом, с красивым и, как мне показалось, чуть грустным лицом; на коленях у нее лежала раскрытая книга, а глаза были устремлены на девочку, и ласковая материнская улыбка освещала это лицо с ранними морщинками у рта и глаз.
— Хватит, доченька: Мирта уже устала, — сказала она.
— Ой, мамочка, Мирта никогда не устанет плавать! — откликнулась бронзовая русалочка, но все же послушалась матери и позвала собаку из воды.
Шепот восхищения пронесся среди отдыхающих, когда собака подплыла к берегу и вышла на песок. Не часто видишь таких гигантских собак; я невольно залюбовался ею. Черная от кончика носа до кончика хвоста, с длинной волнистой шерстью, образующей живописные начесы на лапах и под животом, с пушистым хвостом и свисающими ушами, — такова была четвероногая пловчиха, привлекшая общее внимание. Она, несомненно, принадлежала к столь редкой у нас породе собак-водолазов, родиной которых является далекий остров Ньюфаундленд, отчего и собак этих обычно принято называть ньюфаундлендами. Не уступая в размерах сенбернару, который, как известно, относится к числу самых крупных в мире собак, а, может быть, даже превосходя его, но, в отличие от него, подвижная, с живым, резвым темпераментом и быстрыми ловкими движениями, Мирта сочетала в себе силу и ловкость, устрашающий вид и редкое добродушие нрава, которое проглядывало во всех ее повадках. Отряхнувшись, она подбежала к старшей хозяйке и растянулась у ее ног, а девочка опустилась рядом и, обхватив собаку за шею, погрузила руки в ее влажную густую и мягкую шерсть.
Я вспомнил про собаку, виденную накануне в море, и рассказал об этом владелице ньюфаундленда, в заключение спросив, не могла ли это быть Мирта.
— Да, да, это была Мирта, — с живостью подтвердила мать девочки. — Мы видели, когда шла «Россия». Мы живем неподалеку отсюда, на даче, у берега моря, а сегодня приехали в город, чтобы посмотреть на праздник… Мирта часто делает так: уплывет, и нет ее — иногда и час, и два. Это у нее как ежедневное занятие гимнастикой. Она не может жить без этого.
— А вы не боитесь, что она может утонуть?
— Мирта? Утонуть? Что вы! — рассмеялась молодая женщина.
Она сказала это таким тоном, точно речь шла не о собаке, а о каком-то неизвестном мне существе, на которое не распространялись обычные законы тяготения, которому не страшны никакие стихии.
— Ну, а если вдруг шторм? — не унимался я.
— В шторм? — Она не ответила, задумавшись, и я решил, что заставил ее поколебаться в своей уверенности; в действительности, как я понял позднее, напоминание о шторме всегда вызывало в памяти моей собеседницы одну картину, заставлявшую ее на время выключиться из разговора.
Вместо матери ответила дочь.
— Вы не знаете нашу Мирту! — с гордостью и нежностью заявила девочка, которую я уже назвал мысленно сильфидой. Легкость и хрупкость ее фигурки особенно подчеркивалась близостью могучих форм животного, удивительно гармонируя с внешним обликом этого мохнатого стража и няньки одновременно. Преданность светилась в глазах собаки. Вместе они составляли весьма примечательную группу, просившуюся на полотно художника.
Так я познакомился с Надеждой Андреевной Доброницкой, ее дочерью Верой-Мариной и их верным спутником Миртой, «голубушкой Миртой», как часто называла собаку Надежда Андреевна, вкладывая в эти два слова не только ласку, но и чувство огромной благодарности вечному другу человека — собаке. Итак, мне стала известна их необыкновенная и трогательная история, которую я хочу поведать здесь своим читателям.
Вера-Марина… Странно. Откуда это? У нас не приняты двойные имена. Я не удержался и спросил об этом. Мой вопрос и явился поводом к рассказу Надежды Андреевны.
Вскоре мы встретились еще раз, на бульваре в парке имени Шевченко, когда над Одессой спустился бархатный южный вечер. Как и все, мы пришли сюда полюбоваться на салют кораблей, на фейерверк, на праздничное гулянье, которым ежегодно ознаменовывалось здесь Первое мая. Цвели каштаны и белая акация, наполняя воздух тонким, нежным ароматом. Над улицами, площадями, над аллеями парков и скверов плыл гомон нарядной, по-южному экспансивной, оживленной толпы, разносились звуки оркестров. Прекрасный город сиял огнями иллюминации. На рейде и в гавани стояли празднично расцвеченные суда.
Вера-Марина шла, обхватив своей тоненькой ручкой руку матери, доверчиво прижимаясь к ней, как всегда делают очень ласковые и влюбленные в своих родителей дети. Другой рукой она придерживала за поводок Мирту, послушно выступавшую рядом. С высоты Приморского бульвара, от старой крепости, открывалась панорама ночной Одессы. Слева — дуга порта, прямо — рейд и корабли; за ними на другой стороне бухты чуть мерцали огни Лузановки. Правее — начинался необъятный простор моря. У двух каменных шаров, обрамлявших спуск к воде, мы сошли по ступеням вниз и сели на скамью. Собака легла на гранитных плитах набережной и стала смотреть в море.
Здесь было не так многолюдно, больше веяло прохладой. Волны с ровным и сильным всплеском набегали на берег, и это безостановочное ритмическое движение, приходившее откуда-то из темноты, как бы напоминало о вечности жизни.
Внезапно рейд на мгновение осветился, словно заревом пожара. Ударил пушечный салют, громыхнули военные корабли, стоявшие на якорях. Прочерчивая в темном небе огненный след, полетели вверх ракеты и рассыпались в вышине красными, желтыми, синими, зелеными огнями. Собака вскочила и залаяла; затем, успокоившись, снова легла.
Громыхнуло еще; и опять полетели в небо каскады разноцветных трепещущих огней, многократно отраженных водами залива. Гул и гомон толпы усилились, напоминая шум морского прибоя.
— Как красиво… — чуть слышно проронила Надежда Андреевна. — Каждый раз, когда я вижу это, слышу залпы орудий, — призналась она, — мне хочется плакать… Нет, нет, не поймите меня превратно; это сложное чувство, тут и радость ощущения, что ты живешь, гордость за свою страну, за свой народ, тут одновременно и затаенная тоска о прошлом, пережитое…
Опять ударили пушки.
— Я нарочно всякий раз приезжаю сюда, чтобы услышать эти звуки орудийной пальбы, они так много говорят мне… Так много! Для меня эти залпы — и скорбь по тому, что никогда не вернется, и надежда, что другим, быть может, не придется испытать то, что пришлось пережить мне…
Она умолкла, но ненадолго. Прикоснувшись к тому, что хранилось у нее в душе, она уже не могла не говорить дальше. Вместе с громом салюта нахлынули воспоминания. Подозвав собаку, Надежда Андреевна одной рукой привлекла к себе девочку, крепко обняв ее за плечи, пальцы другой перебирали за ушами Мирты, однако Надежда Андреевна вряд ли даже замечала это.
3
— Я дочь моряка и жена моряка, — так начала она свой рассказ. — Я родилась и выросла на море, море было моей колыбелью, с морем связаны и самые сильные впечатления моей жизни.
Мой муж был капитаном дальнего плавания. Мы жили в Одессе, куда был приписан его корабль.
Однажды муж привез из очередной заграничной поездки крупного черного щенка. Он сказал, что отдал за него большие деньги и что, по повериям моряков тех мест, откуда он вывез щенка, эти собаки приносят морякам счастье. Прошел год, и щенок вырос в громадную красивую собаку, которая сделалась настоящим другом нашего дома. Когда муж уходил в плавание, Мирта помогала мне коротать ожидание, скрашивая часы досуга; когда он возвращался, я брала ее с собой, и мы вместе шли встречать корабль… Я не суеверна, но Мирте действительно суждено было сыграть важную роль в моей судьбе.
Наша квартира находилась недалеко от порта. Шум портовой жизни днем и ночью вливался в раскрытые окна; он стал как бы составной частью моей жизни, без него я не представляла себя. Ритм этой жизни был ритмом и моего собственного бытия. Тем тяжелее мне пришлось, когда я лишилась этого… Я на слух, по гудку, могла безошибочно, не хуже любого лоцманского помощника, определить, какой пароход швартуется в гавани. Вот это — медленный, тягучий бас, долго набирающий звук, прежде чем разнестись в полную силу, — «Украина»; она и в порт всегда входила как-то медленно, осторожно, точно ощупью; а вот — «Грузия»… А то — прошел буксир, завыла сирена военного катера… Я знала их все наперечет, помнила расписание каждого, по ним следила за временем, обязательно связывая это с очередным приездом или отъездом мужа. В те дни, когда он был на берегу, он часто брал машину, и мы ехали куда-нибудь подальше, на Большой Фонтан или Лонжерон, причем муж обязательно захватывал с собой Мирту. Купаясь, он играл с нею, забавляясь сам и давая ей возможность поплавать. Муж придумал и эту забаву — заставлять собаку нырять за камешками.
Мы жили счастливо. У меня родилась дочь — Вера. Муж боготворил меня и нашу малютку… Может быть, это звучит тривиально: «боготворил», — но, право же, я не найду другого слова, которое более полно могло бы выразить то, что я хочу сказать. Мне казалось, что нет женщины на свете счастливее меня.
Но случилась война, вслед за тем началась оборона Одессы.
Теплоход мужа сделался военным транспортом. Теперь он уже не ходил с пассажирами и грузами в далекие заморские страны, а доставлял в осажденный город боеприпасы, продукты питания. Обратным рейсом они вывозили на Большую землю раненых. Однажды он ушел и больше не вернулся… Мне говорили, что они подорвались на мине.
Тогда я как-то плохо сознавала, что муж погиб, что я больше никогда, никогда не увижусь с ним. Мне казалось, что вот-вот донесется с моря знакомый гудок, я увижу на рейде его теплоход; вот он сам садится в шлюпку и едет ко мне…
Я работала медицинской сестрой в госпитале, проводя в нем круглые сутки напролет; здесь же со мною была и моя малютка.
Тяжелое было время. Снаряды и бомбы рвались на улицах, смерть витала над городом, ежечасно унося новые и новые жертвы. Бомбами были разрушены целые кварталы домов, разбито кафе Фанкони, излюбленное место моряков всех наций, приходивших на своих судах в одесский порт. Мы с мужем часто бывали в этом кафе…
Особенно сильно пострадал рабочий район Пересыпь. Были взорваны дамбы, море поглотило парки Лузановки, Куяльника. Жители со скарбом на спине, с грудными ребятами спасались в различных временных убежищах, другие нашли себе пристанище в катакомбах[27], которые потом, в период оккупации, сделались главным местопребыванием партизан.
Нелегко вспоминать все это. Но и не вспоминать — нельзя. Когда оглядываешься назад, даже не верится, что все это пришлось пережить нам, что все это — было…
Приближались к концу героические дни обороны. В штабе был получен приказ — эвакуировать город.
Помню зарево пожарищ, охватившее полнеба. Помню скупые слезы мужчин, оставлявших рубежи, на которых они стояли насмерть. Помню надрывный вой немецких самолетов, беспрерывно пикировавших на порт, на позиции защитников города, уходивших последними, залпы морской артиллерии, от которых в домах лопались стекла и осыпалась штукатурка. Не забыть это никогда.
Именно с тех пор рев пушек для меня — не просто голос «бога войны», не только сила и мощь страны, выдержавшей все испытания, а, прежде всего, вся глубина человеческих чувств и переживаний…
Бывают чувства, которые остаются на всю жизнь. К ним я отношу все, что связано в моей памяти с обороной Одессы.
Нас, семьи командного состава, эвакуировали в первую очередь. Но я оставалась почти до конца, до полной эвакуации госпиталя.
Наконец, пришла и моя очередь. Уходили последние транспорты.
С ребенком на руках я пришла в порт. Мирта, конечно, с нами. Был теплый вечер, такой же, как сейчас, с моря тянул свежий ветер. В порту — тьма, наполненная движением людей, тихим бряцанием оружия… С того дня как началась война, там не зажигалось ни одного огонька. Только мелькнет и тотчас погаснет лучик карманного фонарика. Под прикрытием темноты грузились и уходили суда, спеша под покровом ночи пересечь опасную зону, уйти как можно дальше.
В длинной веренице людей, направлявшихся на погрузку, дохожу до трапа, ведущего на борт транспорта, и тут — остановка:
— Гражданка, с собакой нельзя!
Молодой боец морской пехоты в бушлате и бескозырке, с автоматом, стоявший у трапа, преградил мне дорогу.
Что делать? Бросить Мирту? Это было выше моих сил. Ее так любил муж; и она была привязана ко всем нам.
Я стала просить бойца, чтобы он разрешил мне подняться с собакой на корабль. Он отказал наотрез. Потом наклонился, вглядываясь мне в лицо, — вдруг слышу: «Надежда Андреевна!…» Оказался моряк из экипажа моего мужа. Он лежал, раненый, в госпитале, когда теплоход мужа отправился в свой последний рейс; благодаря этому остался жив. Он узнал меня и пропустил с собакой — не смог отказать вдове своего бывшего капитана.
Так мы простились с нашей солнечной красавицей Одессой…
4
В рассказе Надежды Андреевны наступила короткая пауза.
Невдалеке, оставляя за собой на поверхности моря длинный волнистый след, прошел полный народа, ярко освещенный катер-трамвай, возвращавшийся из Аркадии. На минуту он отвлек нас, а его праздничный вид напомнил мне недавнее путешествие на «России».
Воображение нарисовало, как плывет под черным пологом южного неба, отражаясь в воде, залитая огнями громада дизель-электрохода. Далеко по морю разносится музыка. На шлюпочной палубе, под желтыми, как апельсины, фонариками, танцуют пары. В бассейне, облицованном глазурованными зелеными плитками, отчего и все в нем выглядит изумрудно-зеленым, волшебным, скользят, как тени, купальщики. Вода освещена изнутри, она точно фосфоресцирует; и кажется, что и тела людей тоже фосфоресцируют, словно диковинные рыбы в глубине океана. А вокруг — теплая, ласковая темнота. Море пустынно. Лишь изредка замерцает и пропадет вдали огонек рыбацкой шаланды, утонули во мраке берега, а может быть, они вообще сейчас так далеко, что их не увидишь и при ярком свете дня? И мнится, будто во всем мире сейчас только этот пароход — один между небом и водой… Феерическая картина!
— Правда, красиво? — с женской непоследовательностью проговорила Надежда Андреевна, провожая взглядом уплывающий трамвай, и тут же, возвращаясь к нити своего рассказа, поспешно добавила: — Нет, не таким было наше плавание…
Представьте черный, до отказа набитый ранеными солдатами, моряками, детьми, женщинами пароход, без огней, без опознавательных знаков, плывущий куда-то в кромешную тьму, вспомните тревожную обстановку того момента — и вы хоть в малой степени поймете те чувства, с какими мы покидали Одессу.
Мы вышли при попутном ветре и при слабом волнении на воде; однако с каждым часом ветер крепчал.
Ночью в море разыгрался свирепый шторм. Перегруженный транспорт валяло, как щепку, он тяжело ложился с одного борта на другой, отбивая поклоны буре. За стенами каюты, куда вместе со мной, Миртой и ребенком был втиснут еще добрый десяток пассажиров, стояли оглушительные гул и грохот, от которых, казалось, лопнут барабанные перепонки, от непрерывных ударов волн содрогался корпус корабля. Тем, кто находился на палубе, было приказано держаться друг за друга, чтобы их не смыло.
Мы надеялись, что немцы оставят нас в такую ночь в покое. Но случилось как раз наоборот.
Перед рассветом, когда шторм, как будто, начал немного стихать, на нас напали фашистские бомбардировщики. Сбросив осветительные бомбы на парашютах, они принялись один за другим пикировать на корабль.
Разгорелся тяжелый и неравный бой. Пароход отбивался крупнокалиберными зенитными пулеметами, стрелковым оружием, а самолеты снова и снова заходили для атаки, ложились на крыло и обрушивали на цель свой бомбовый груз.
Нашим зенитчикам удалось сбить два стервятника. Пылающими факелами они упали в море. Но силы были слишком неравны.
Фугасная бомба угодила в самую середину корабля.
Помню взрыв, потрясший все судно. Полетели палубные надстройки. Начался пожар. Был подан сигнал: всем покинуть корабль.
Прижимая к себе дочурку, я выбежала на палубу. Мирта, не отставая ни на шаг, следовала за мной. Момент был ужасный. Транспорт быстро погружался. Ярость обреченного корабля, который все еще продолжал отбиваться от врагов, мешалась с воплями женщин, выкриками команды, с ревом пламени, треском ломающихся переборок. Летели в воду спасательные круги, за ними прыгали люди. Огонь пожирал то, что еще уцелело от взрыва. Стали спускать шлюпки, но одна оказалась изрешечена пулями и пошла ко дну, едва коснувшись воды, другая, переполненная людьми, была разбита прямым попаданием бомбы.
В эти страшные мгновенья я думала лишь об одном: как спасти мою крошку, мое дитя — Веру. Каждая мать хорошо поймет меня: когда у тебя на руках находится беспомощное существо, жизнь которому дала ты, и ему грозит опасность, все мысли — только о нем, только о том, как отвратить от него беду; о себе не помнишь.
Какой-то боец со скаткой шинели и в каске подал мне пробковый пояс. Я успела обвернуть им ребенка, который, ничего не понимая, испуганно тянул ко мне ручонки, когда новый, еще более сильный взрыв потряс корабль.
Волна горячего воздуха смела меня с палубы и выбросила в море, вырвав из моих рук ребенка, а подхвативший шквал сразу же отнес далеко от парохода. Смутно помню, как я боролась с волнами, как кричала и звала мою Веру. Вокруг меня носились на обломках дерева, барахтались тонущие люди; над головой, расстреливая беззащитных, все еще завывали самолеты; а вдалеке догорал на воде гигантский костер… Потом в памяти — полный провал.
Сознание вернулось ко мне много дней спустя, в госпитале, на Большой земле. Меня и некоторых других подобрала наша подводная лодка. Но Веры среди спасенных не было…
5
Голос Надежды Андреевны внезапно прервался. Зябко поведя плечами, она умолкла, а я, под впечатлением ее слов, явственно представил себе тяжелый гул ночного штормующего моря. С громом, все в белой пене, катятся вал за валом. Ни звезд на небе, ни огонька на воде; только этот грозный беспрерывный гул… И где-то среди этой разбушевавшейся стихии, которой, кажется, нет ни конца, ни края, в кромешной тьме — ребенок, беспомощное крохотное живое существо, оторванное от матери, едва начавшее жить и уже обреченное на преждевременную гибель…
Надежда Андреевна провела рукой по волосам дочери, которая еще теснее прижалась к матери, и, успокоившись, продолжала:
— Прошло несколько лет. Кончилась война. Мы победили. Снова вернулись мирные дни, мирная жизнь, но для меня это была уже совсем другая жизнь, ибо я потеряла всех, кого любила: мужа, дочь. Даже собаку.
Медленно, как после тяжелой болезни, оправлялась я от пережитых потрясений, с душой, окаменевшей от горя. Я не была одинока, нет. Друзья заботились обо мне. Здоровье мое пошатнулось; ежегодно меня направляли на курорт, давали бесплатно путевку.
Как-то раз я отдыхала в Крыму, близ Евпатории. Стояла чудесная солнечная погода. А мне в такие дни делалось особенно грустно. Отделившись от компании, я пошла побродить одна.
Не заметив, забрела далеко. Дорога пролегала мимо небольшого рыбацкого поселка. Мне захотелось пить, и я направилась к крайнему домику, где были развешаны сети. У калитки, ведшей внутрь дворика, греясь на солнцепеке, лежала большая черная собака. Я взглянула на нее и задрожала: это была Мирта.
Да, да, наша Мирта, живая, невредимая, только несколько постаревшая, с сильной сединой на морде. Она сразу узнала меня, мой голос, бросилась ко мне, принялась ласкаться, лизать, прыгать на меня. Я как была, так и опустилась перед нею на колени, обнимая ее и плача от радости и волнения. При виде ее все чувства вновь всколыхнулись во мне, прежняя жизнь воскресла перед глазами.
— Мирта, голубушка, — повторяла я. — Ты ли это? Как ты здесь очутилась? Может быть, ты что-нибудь знаешь и про мою малютку, мою крошечную дочку Веру?
Собака не могла ответить мне, только продолжала радостно вилять хвостом, на котором тоже кой-где появились серебристые крапины — метка времени.
Я зашла в дом, познакомилась с хозяевами — женщиной и мужчиной — и спросила, давно ли живет у них эта собака, где и при каких обстоятельствах они взяли ее.
Они переглянулись, очевидно не понимая нервозности, которая звучала в моих словах, в тоне моего голоса, затем хозяин — высокий, крепкий пожилой рыбак — рассказал следующее.
Однажды ночью, во время шторма — это было еще на первом году войны — они услышали звуки стрельбы. Сквозь завывание ветра и удары волн о берег ясно слышались трескотня пулеметов, гулкие взрывы бомб. Далеко в море шел бой.
Потом на горизонте занялось зарево — горел корабль. Пролетели немецкие самолеты — рыбак определил их по звуку. Вскоре зарево потухло: шторм довершил то, что начали самолеты.
Рыбак и рыбачка долго стояли на берегу, всматриваясь в темноту, ожидая, не выбросит ли море кого-нибудь, кому понадобится их помощь. Но не было никого. Только водяные валы с грохотом обрушивали свою ярость на прибрежную полосу суши.
Рано утром рыбак снова был на берегу. Он знал: иногда пройдет много часов, прежде чем море расстанется со своей добычей.
Он не ошибся. Что-то чернело у кромки берегового прибоя. Волнение начало стихать, но отдельные волны еще докатывались до этого непонятного предмета, окатывая его пеной и брызгами.
Рыбаку показалось, что это — человек. Но, спустившись к воде, он понял, что ошибся: это была громадная черная собака, бессильно распростершаяся на песке, а перед нею лежал какой-то странный сверток, из которого слышался детский плач.
Собака была измучена, но бросилась на рыбака, защищая спасенное ею дитя. Потом инстинкт подсказал ей, что это друг, и она позволила ему взять ребенка — девочку, спеленатую спасательным поясом.
Более полувека прожил молчаливый, суровый рыбак на берегу моря, он видел и штормы и гибнущие корабли, не раз сам смотрел разъяренной стихии в глаза, не раз море прибивало к берегу страшные находки — последствия бурь и кораблекрушений; но еще никогда не бывало, чтобы оно выбросило из пучины вод живую собаку с живым крошечным ребенком…
С чудесно спасенным дитятей на руках рыбак вернулся в свою хижину. Вслед за ним пришла жить в дом и собака.
Это были добрые люди, настоящие советские труженики, и они удочерили девочку, найдя в этом счастье, счастье тихой трудовой семьи, не имевшей до этого детей. Они назвали ее Марысей, Мариной, что значит — Морская…
Вы понимаете мое состояние, когда я услышала, что вместе с собакой был ребенок, маленькая девочка… Ведь это же была моя дочь, моя Вера!
— Где же она? — почти закричала я, бросаясь к ним и тормоша то одного, то другого. Слезы ручьем лились из моих глаз, а сердце подсказывало, что сейчас я увижу мою кровиночку.
— Она в школе, скоро придет, — сказал рыбак. Мое волнение передалось и ему и его жене.
Он едва успел проговорить это, как в комнату вошла девочка в опрятном, аккуратном платьице и переднике, с ученической сумкой в руках, — синеглазая блондиночка с косичками, в которые были заплетены алые ленты. Так это — Вера?! Как она выросла! Она уже стала ходить в школу! И тем не менее я сразу узнала ее. Эти синие-синие, как васильки, глаза, эти русые волосы могли принадлежать только ей, моей дочери. Они так живо напомнили мне покойного мужа, ее отца… Остановившись у порога, она с любопытством разглядывала незнакомую женщину, недоумевая, почему Мирта ласкается ко мне.
— Вера!…
Я протягивала к ней руки, а она не двигалась с места и удивленно смотрела на меня.
— Меня зовут Марина, тетя.
Марина! Ну конечно, она была тогда так мала, что даже не помнила своего первого имени. Вера-Марина…
Плача от счастья, я рассказала свою историю. Прослезился и старый рыбак. Громко сморкалась в фартук и вытирала покрасневшие глаза его жена. Только девочка все еще не понимала, кто эта тетя, которая так целует и ласкает ее, прижимает к себе, орошая слезами. Потом поняла и она…
6
Надежда Андреевна кончила рассказывать. Мы долго молчали.
Взошла луна и посеребрила длинную дорожку от далекой и высокой черты горизонта до берега; вечерняя свежесть разлилась в воздухе. Наступил тот час, когда природа с особой силой говорит человеческой душе. Голоса людей, шорохи шагов на бульваре сделались тише, словно отдалились; слышнее стал тихий ропот моря. Море вело свой бесконечный разговор. Оно будто вздыхало о чем-то или шептало волшебную сказку-быль, подобную той, какую я услышал сейчас. Может быть, оно хотело рассказать о еще не открытых тайнах, хранимых в глубине его вод, а может быть, о том, как много-много тысяч лет назад человек привел в свой дом из первобытной чащи дикого зверя, стал заботиться о нем, превратил его в союзника и друга и как благодарный зверь сторицей отплатил человеку за его труд и ласку, служа бескорыстно и преданно — на суше, в море… Ведь даже море могло быть тронуто тем, что я узнал в этот вечер!…
— Поди побегай! — нарушив молчание, ласково сказала Надежда Андреевна дочери, разжимая объятия и слегка подтолкнув ее вперед.
Девочка оставила скамью и, легкая, как мотылек, вприпрыжку побежала к воде, с тихим всплеском набегавшей на берег. Мирта немедленно вскочила и последовала за ней.
— Так это она? — произнес я, с уважением провожая взглядом собаку. — Настоящая няньки!
— Нет, — качнула головой Надежда Андреевна. — Это другая, дочь Мирты. Тоже Мирта. И тоже такая же преданная, такая же водолюбивая.
— А где же та?
— Увы, природа обделила собаку, верного друга человека, отпустив ей слишком короткий срок жизни. Той Мирты давно уже нет в живых. Но мы всегда будем помнить ее… Скоро мы поедем в Крым, к нашим бабушке и дедушке. Благодаря Мирте я не только вернула себе свою дочь, но приобрела и новых близких людей. Ведь не могла же я отнять у них Веру совсем? Через нее мы породнились навсегда…
Надежда Андреевна продолжала говорить еще что-то, но я уже плохо слышал ее. Перед моим мысленным взором возникла картина известного художника, которую однажды я видел в художественной галерее: бурное море, с затянутым тучами горизонтом, в воздухе реют чайки, а на переднем плане, на камнях — только что вышедшая из воды громадная красивая собака; она еще не успела отдышаться после трудной борьбы с волнами, тяжело ходят ее бока, с высунутого языка стекает вода, а на передних вытянутых лапах лежит спасенный ею ребенок, — картина, носящая символическое название:
«Достойный член человеческого общества».
* * *
Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой адрес, профессию и возраст.
Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.
Все материалы направляйте по адресу: Пермь, ул. К. Маркса, 30, Пермское книжное издательство.
Примечания
1
«Апорт!» — команда, означающая «принеси», «держи»; отсюда и тот предмет, который носит в зубах собака, принято называть апортом.
(обратно)2
Маленькая сумочка на ошейнике собаки, куда вкладывается донесение.
(обратно)3
Пария — бесправное, отверженное, всеми гонимое существо.
(обратно)4
Кинолог — специалист по собаководству (от греческого кино — собака.)
(обратно)5
«Камнями» на Урале называют береговые скалы-утесы. Говорливый получил свое прозвище за способность многократно отражать звук.
(обратно)6
Нодья — охотничий костер, употребляемый охотниками Урала и Сибири. Состоит из двух бревен, положенных одно на другое (для этой цели обычно срубают сухостойное дерево), огонь разводится в середине, между бревнами. Удобен тем, что может гореть всю ночь, давая много тепла и не требуя присмотра.
(обратно)7
Урман (по-уральски) — лес, тайга.
(обратно)8
Случаи, когда немецкие танки при виде выпущенных на них собак-противотанкистов отказывались от атаки и поворачивали обратно, неоднократно отмечались на ряде участков боевых действий в дни Великой Отечественной войны.
(обратно)9
Дот — долговременная огневая точка, сооружаемая из железа и бетона. Дзот — дерево-земляная огневая точка.
(обратно)10
Петельный намордник стягивает пасть и не дает собаке лаять.
(обратно)11
Геркулес — мифический герой, наделенный необыкновенной силой.
(обратно)12
Дедал и сын его Икар — герои древнегреческого мифа, первые из людей, научившиеся летать на крыльях, сделанных Дедалом из перьев, скрепленных воском. На этих крыльях они улетели с острова Крит, где содержались в плену царем Миносом. Икар, не послушав предупреждения отца, поднялся слишком высоко к солнцу; солнце растопило воск, и Икар упал.
(обратно)13
В некоторых иностранных армиях отличившихся собак награждают теми же знаками отличия, что и людей.
(обратно)14
По последнему положению, изданному после Великой Отечественной войны, санитарная собака не ложится около раненого, а, найдя его, сразу же спешит сообщить об этом санитарам, дабы помощь пришла как можно быстрее.
(обратно)15
Треф — знаменитая розыскная собака, лет пятьдесят назад завоевавшая в России широкую известность. Подвигам Трефа уделяли много внимания газеты и журналы, из Петербурга и Москвы его возили «на гастроли» в другие города. Треф принадлежал к породе доберман-пинчеров.
(обратно)16
ОРУД — отдел регулирования уличного движения (при милиции)
(обратно)17
Бум — горизонтально положенное бревно, одно из приспособлений для дрессировки служебной собаки. Хождению по буму собака обучается наравне с преодолением барьера, лестницы.
(обратно)18
Дарий (Дарий I Гистасп) — древнеперсидский царь (жил около двух с половиной тысяч лет назад), совершивший большие завоевания. В его царствование Персия (нынешний Иран) достигла наивысшего могущества. Поход Дария против скифов Причерноморья, однако, не увенчался успехом из-за сильного сопротивления местных племен, и войско персов вынуждено было отступить.
(обратно)19
Траян — древнеримский император, живший в начале нашей эры.
(обратно)20
Понт Эвксинский — древнее название Черного моря.
(обратно)21
Ринг-место, где производится экспертиза собак на выставке (обычно обнесенный веревкой круг).
(обратно)22
Жесткошерстные фокстерьеры, так же как и эрдельтерьеры, не линяют, а их выщипывают два раза в году, оставляя усы и бороду на морде и мохнатые ноги. В промежутках между щипками они обычно сильно обрастают и превращаются в кудлатых овечек; именно такой и предстала передо мной Смокки, когда я впервые увидел ее.
(обратно)23
Норная собака — применяемая для охоты на зверей, укрывающихся в норах. Собака залезает туда и либо выгоняет зверя, либо душит его. К норным относятся такса, фокстерьер.
(обратно)24
Читатели, особенно из числа охотников, могут упрекнуть меня в неправдоподобии: принято считать, что рысь не отваживается нападать первая на человека. Тем не менее, случай нападения этой большой кошки на человека и единоборства боксера с рысью действительно происходил на Карельском перешейке, в дачной местности под Ленинградом. Я ничего не преувеличил.
(обратно)25
Бриз — береговой ветер, дующий днем с моря на сушу, а ночью — наоборот.
(обратно)26
Бить рынду — значит звонить на судне в колокол, отмечая полдень.
(обратно)27
Катакомбы — подземные выработки, оставшиеся после выемки камня-ракушника, из которого построены здания Одессы. Бесконечные галереи одесских катакомб тянутся под землей на многие десятки (даже сотни) километров и образуют сложный лабиринт, в котором легко заплутается незнакомый с ними человек.
(обратно)


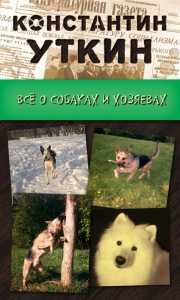

Комментарии к книге «Рассказы о верном друге», Борис Степанович Рябинин
Всего 0 комментариев